Марк Поповский,
«Мы — там и здесь» (Разговоры с российскими эмигрантами в Америке)
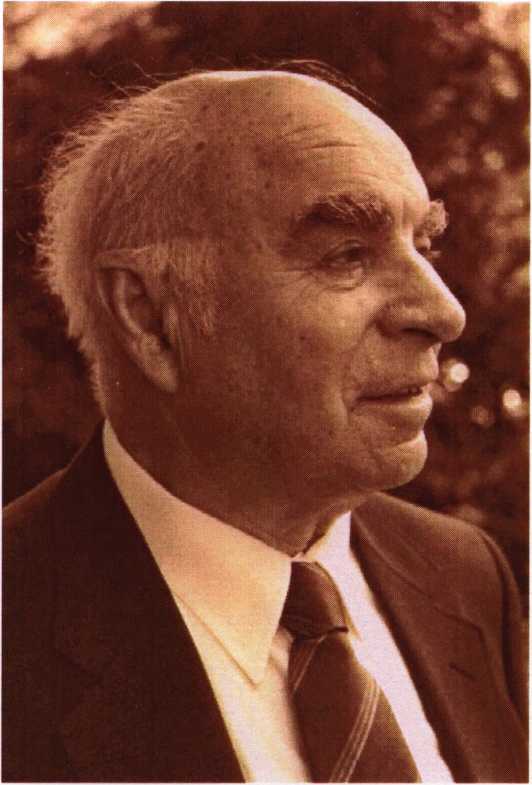 Марк Поповский
Фото Мих. Щедринского
Марк Поповский
Фото Мих. Щедринского

Обложка Юрия Тарлера (гравюра «Ленинград — Нью-Йорк». Тушь, перо).
ОТ ИЗДАТЕЛЯ
Книга известного литератора-документалиста Марка Поповского "МЫ — ТАМ И ЗДЕСЬ " (Разговоры с российскими эмигрантами в Америке) посвящена нам с вами, то есть тем, кто в разное время, по разным причинам, покинули страну своего рождения и обрели в Америке "вторую родину". За двадцать с лишним лет пребывания в США автор опросил более двухсот своих земляков, допытываясь с какими проблемами они здесь столкнулись. Эти откровенные беседы были сначала собраны в трехтомник "НА ДРУГОЙ СТОРОНЕ ПЛАНЕТЫ" (изд. "Побережье", 1993–1997). Сборник "МЫ — ТАМ И ЗДЕСЬ" продолжает исследование самых глубинных деталей эмигрантской жизни. Автор старается выяснить что здесь порадовало и что разочаровало собеседника, удалась ли его карьера и, если нет, то почему; как выглядит в эмиграции семья, любовь, интимные отношения. В большинстве очерков автор сохраняет имена своих собеседников, но порой сфера жизни героя оказывается слишком личной и тогда имена заменяются псевдонимами. Но не часто. Ценность книги не только в огромных, собранных Поповским подлинных материалах, но и в той спокойной объективности, с которой повествуется о радостях и печалях нашего бытия.
Игорь Михалевич-Каплан
I. В АМЕРИКУ С ИДЕЯМИ
1. Энергия упорства (Александр Калина)
На первый взгляд событие это может показаться ничем не примечательным. В четверг четвёртого февраля 1993 года американская компания, занимающаяся производством электроэнергии, подписала договор с неким изобретателем на покупку у него лицензии. Иными словами, компания приобрела исключительное право впредь пользоваться той идеей, которую обнаружил, открыл, исследовал, разработал этот человек. В Америке, с её постоянно обновляющейся технологией, такой покупкой, вроде, никого не удивишь. Всевозможные изобретения находят здесь покупателей. Но в этом случае произошло нечто не совсем обычное. Томаса Альву Эдисона, великого американского изобретателя, помните? Ну да, того самого, что на рубеже XIX и XX столетий сделал сотни изобретений и среди прочего одарил нас с вами электрической лампочкой? Так вот, компанию, о которой идёт речь, основал без малого столетие назад этот самый Т.А. Эдисон. Сегодня "Дженерал Электрик" — гигант, не имеющий себе равных. Компания эта захватила две трети мирового энергетического рынка. Если верить советской энциклопедии, то "Дженерал Электрик" владеет 224 заводами в Соединённых Штатах и 110 в 24-х других странах. Ежегодный чистый доход этой компании достигает шести миллиардов долларов и превышает государственный годовой доход нынешней России.
Но "Дженерал Электрик" не только строит и эксплуатирует электростанции и производит энергетическую технику. В своих исследовательских лабораториях, где работают наиболее яркие и талантливые специалисты и учёные, разрабатывается самая передовая технология, новейшая аппаратура. "Дженерал Электрик” продаёт новинки техники. За сто лет своего существования компания эта никогда не покупала чужие изобретения, своих достаточно. А вот купила. Журнал "Форбс", солидное американское издание, специализирующийся на проблемах финансов и предпринимательства, в апрельском номере за 1993 год посвятила этой сделке большую статью. Среди прочего, корреспондент Джеймс Норман сообщил, что хотя условия, на которых "Дженерал Электрик" приобрела 4 февраля лицензию на замечательное изобретение, секретны, но кое-что установить ему удалось. Даже в том случае, если изобретатель, передавший компании свою идею, получит 1 % от тех доходов, что принесёт компании его изобретение, то и в этом случае гонорар его составит, вероятно, сто миллионов долларов. Корреспондент считает, однако, что получит изобретатель значительно больше. Сделка, как видим, более чем серьёзная. Но с какого бока, почему вдруг эта финансовая операция заинтересовала меня? Да потому что упомянутый выше изобретатель — наш соотечественник, российский эмигрант и, более того, уроженец Одессы! Этот изобретатель недавно побывал у меня дома. Состоялась трёхчасовая беседа, о которой я собираюсь рассказать.
Здравствуй, Америка!
Его зовут Александр Калина. Свою фамилию он произносит с ударением на среднем слоге. Невысок, плотен. Седая шевелюра подстрижена по-американски, как у сенаторов и конгрессменов. Добротный костюм и туфли от Белли, равно как и дорогой со вкусом подобранный галстук, свидетельствуют, что их владелец уже четко определился в обществе, где надо выглядеть только так, а не иначе. За две недели до подписания договора с "Дженерал Электрик" ему исполнилось шестьдесят. Но никаких знаков стариковства я в нём не заметил. За завтраком он развивал мысль о том, что для поддержания физических и духовных сил необходимо ежедневно употреблять хорошее французское вино, ибо по статистике французы, которые жрут что ни попало, тем не менее в среднем живут на четыре года дольше, чем американцы, увлечённые своими диетами. Голос у Калины громкий, речь быстрая. Жестикуляция стремительная. Он легко переходит от темы к теме, походя рассыпая анекдоты, смешные истории из своей жизни, острые словечки. И курит, курит без конца. Я уверен, что признал бы в нём земляка, даже если бы он не сказал о своём одесском происхождении, о том, что окончил тамошний Холодильный институт.
В Америку он с женой Ирой и маленьким Мариком приехали два десятка лет назад. Оказались в Хьюстоне (Техас). Журналисты американские, которые в связи с необычной сделкой заинтересовались этим "русским", привели в одной из статей о нём эпизод многолетней давности. Сотрудники местной еврейской организации, опекавшие новоприезжих, спросили у супругов Калина, в чём они нуждаются, есть ли у них постельное бельё, не нужны ли им одежда или обувь. "Более всего мне необходим сейчас патентный адвокат", — заявил глава семьи. "Да, — подтверждает полтора десятилетия спустя доктор Калина. — У меня в Советском Союзе оставалось 90 авторских свидетельств на изобретения, и я думал только о том, как мне продлить в Америке свою деятельность изобретателя." Однако молодой адвокат Алан Гордон, который по просьбе еврейских организаций на добровольных началах согласился выслушать объяснения новоприезжего, весьма скептически отнёсся к его дикому акценту и идеям относительно экономии электроэнергии в масштабах страны. Времена однако переменились. "Сегодня Алан Гордон — мой лучший друг, — комментирует Калина. — Условия нашего договора с "Дженерал Электрик" в значительной степени были определены рекомендациями этого замечательного адвоката".
Покидая свою родину, кандидат наук Александр Исаевич Калина оставлял там вполне уважаемое и солидное положение. Он руководил отделом в научно-исследовательском институте, являлся членом Учёного Совета Министерства газовой промышленности и даже советником Госплана. Успех карьеры был опять-таки построен на его многочисленных научноизобретательских идеях. То были предложения абсолютно оригинальные, а главное, сулившие стране гигантские выгоды. Вот лишь одна из его находок тех лет.
В конце 60-х годов на крайнем Севере СССР на полуострове Таймыр были обнаружены большие залежи природного газа. Возникла идея торговать этим газом с Европой. Но как его транспортировать? Проектов было предложено множество, но все они оказались очень дорогими. Чтобы перекачать 300 миллиардов кубометров газа с берегов Ледовитого океана в Европу, надо было провести десять ниток труб на многие тысячи километров. Стоимость такой постройки должна была составить никак не менее 30–40 миллиардов золотых рублей.
Калина не имел к этим проектам никакого отношения, но он, ради собственного интереса, засел за расчёты и предложил проект, который стоил в два раза дешевле. Вместо десяти линий трубопроводов он предложил обойтись двумя. Идея Калины сводилась к тому, чтобы транспортировать газ не в жидком и не в газообразном состоянии, а в виде снеговой массы, которая известна специалистам как гидрат — соединение газа с водой. В форме гидрата газ имеет объём в пять раз меньший, чем в виде жидкости. Не остановившись на этом, Александр сделал и второе не менее важное изобретение: предложил посылать с Севера на Юг специальные капсулы с гидратом газа. Капсулы эти в его проекте должны были мчаться по трубам со скоростью 70–80 километров в час. Вскоре затем Совет министров издал постановление об открытии специального института, где надлежало разработать капсульный газопровод по идее Калины. Институт создали, но самого изобретателя в институт не пригласили. Понадобилась упорная борьба, чтобы творец идеи стал, наконец, руководителем одного из отделов института.
Эта и несколько других подобных историй подтолкнули Александра Калину к эмиграции. Ему не дали защитить докторскую диссертацию. В институте, где она лежала многие месяцы, снова и снова откладывали защиту, хотя отзывы ведущих специалистов были в высшей степени положительными. Знакомый профессор порекомендовал: "Забери свою докторскую, её там растащат по кускам. Тебе всё равно защититься не дадут. Сверху есть по этому поводу специальная "секретная команда". Хотя изобретение метода переброски газа и изобретение специального трубопровода принадлежало Калине, в выданном ему Авторском свидетельстве он обнаружил пять фамилий различных начальников. "Я был полезным евреем, — говорит Александр, — и как таковому мне кое-что разрешали и кое-что давали. Но я оставался зависимым от каждого мало-мальски высокопоставленного чиновника. Чинушам этим ничего не стоило оборвать мою карьеру в любой миг, как только я стану для них не нужен. Я явственно ощущал тот предел, тот потолок, выше которого партийные чиновники меня не пустят. Я не хотел, чтобы и мой сын прожил там такую же зависимую жизнь…”
Но одно дело — хлопнуть дверью и гордо удалиться из страны, где ты не получил того, что заслуживаешь, а другое — открыть дверь в новую жизнь. Александр Калина честно признаётся, что привёз с собой в эмиграцию набор стандартных советских представлений и полное непонимание жизни западной. "Я знал, что я умелый и грамотный изобретатель, и считал, что этого вполне достаточно для успеха". Поначалу ему действительно удалось продать некоторые свои прошлые изобретения, хотя богачом это его не сделало, знаменитостью тоже." Я ехал в Америку убеждённый, что буду там заниматься только чистой наукой и изобретательством, — вспоминает Калина. — Я был также убеждён, что без труда найду ЕГО, некоего предпринимателя, который с радостью возьмётся торговать моими научно-техническими идеями. Этот некий возьмёт на себя все заботы финансового порядка и, в благодарность, отвалит мне солидную долю, чтобы я смог, ни о чём не беспокоясь, заниматься благородным творчеством."
В Америке Александр действительно нашёл американцев, готовых представлять его интересы на изобретательском рынке, но люди эти, обещавшие продавать и внедрять его идеи, то и дело подводили. В какой-то момент, на шаг отступив от своих советских представлений, Калина основал собственную изобретательскую фирму, в которой стал одновременно и президентом и единственным сотрудником с символической зарплатой в один доллар в год. Компания под названием "Экзерджи" предлагала своим клиентам изобрести всё, что они хотят, при единственном условии, что заказчик ясно понимает, что именно он хочет получить. Под крышей малютки "Экзерджи" Александр продолжал творить всё новые и новые изобретения в основном в области добычи нефти и использования геотермальных вод. Но очередной экономический спад подорвал у техасских нефтяных королей желание покупать такого рода идеи, и изобретатель оказался на грани краха. В какой-то момент возник вопрос, чем завтра кормить семью и на какие деньги учить сына. И тогда учёный и изобретатель Александр Калина понял: надо осваивать новую сферу знания — бизнес.
Бизнесменами не рождаются
Беседуя с Александром, я заметил, что он человек благодарный. С нежностью вспоминает своих профессоров из одесского института. А об одном из них, Якове Захаровиче Казавчинском, сказал: "Вот человек, который сделал из меня учёного." Видимо, так оно и было. Преподаватели уже на втором курсе оценили способности студента Калины и принялись тренировать его: заставили сдать три отнюдь не студенческих экзамена по термодинамике. Среди прочего они требовали, чтобы этот способный парень прочитывал и запоминал никак не меньше 65 страниц научного текста в час и проделывал не менее десяти операций на счётной линейке в минуту. По сути его учили делать науку и, похоже, те уроки пошли студенту впрок.
С таким же добрым чувством говорит Калина и об американском учёном Майроне Трайбусе. Капитальный труд выдающегося исследователя в области термодинамики Александр осилил ещё в Одессе. С тех пор он мечтал повидать этого яркого мыслителя, чьи научные идеи оказали немалое влияние на его собственные искания. Их встреча вскоре после того, как Калина добрался до Соединённых Штатов, состоялась в Бостоне и запомнилась приезжему двумя обстоятельствами. Чрезвычайно занятый профессор Массачусетского Технологического института поначалу согласился принять русского коллегу для беседы на двадцать минут, а проговорили они три часа. В той же беседе американец дал толчок изобретательской мысли российского учёного. Он посоветовал приезжему заняться повышением производительности паровых котлов, тех, что работают на электростанциях. Так было положено начало поисков, которые ныне завершились возникновением нового научного понятия — "Цикл Калины” и договором с "Дженерал Электрик".
Уже 130 лет паровые котлы, как источник энергии, работают неизменно. Вода в них проходит один и тот же рабочий цикл. Её нагревают, испаряют, нагревают пар, который приводит в движение турбину, то есть производит работу. После этого пар охлаждают, конденсируют, превращают в воду, и всё начинается сначала. Разумеется, сегодняшние паровые установки не похожи на те, что существовали сто с лишним лет назад. Они подверглись многим усовершенствованиям, сделаны из других, более совершенных материалов и снабжены множеством дополнительных полезных устройств. Но каждое усовершенствование в лучшем случае поднимало производительность котлов на полпроцента, сегодняшние паровые установки не похожи на те, что существовали сто с лишним лет назад. Они подверглись многим усовершенствованиям, сделаны из других, более совершенных материалов и снабжены множеством дополнительных полезных устройств.
То, что придумал Калина, не было похоже ни на одно из прошлых усовершенствований. Ибо он взялся изменить не металлические части котлов, а поведение "рабочего тела”, каковым в прежних котлах являлась вода. Калина заменил воду водно-аммиачной смесью и заставил это новое "рабочее тело" трудиться по-новому, меняясь в разных частях системы. В результате удалось резко поднять коэффициент полезного действия (КПД) паровых машин, то есть получить от тех же котлов значительно больше энергии, не увеличивая количества топлива. Достигалось это тем, что по программе, заданной изобретателем, состав водно-аммиачной смеси в недрах паровой машины менялся и благодаря этому сокращались потери во всех частях установки. Для электростанций, работающих на угле, нефти, газе получаемая выгода различна, но, в среднем, благодаря открытию Александра Калины, энергетические возможности паровых машин возрастают от 15 до 50 процентов.
Надо ли объяснять, что в наш век, когда мировая цивилизация по сути зиждется на электрической энергии, цена электричества, его наличие или недостаток, загрязнение среды, неизбежно возникающее из-за работы тысяч электростанций мира, — проблемы первостатейной важности. Поднять на 25 процентов производительность электростанций и при этом оставить несожжённой каждую четвертую тонну нефти, угля, газа — да ведь это подарок человечеству, которому и цены нет!
Да, так считал и Александр Калина, когда в 1983 году в журнале Американского общества энергетиков опубликовал свою первую статью на эту тему. В ответ, однако, последовало зубодробительное письмо в редакцию одного из ведущих американских специалистов. Александр ответил ему на страницах того же журнала как мог более корректно, но нападки на его идею продолжались. Лишь три года спустя удалось несколько изменить мнение американцев об открытии русского учёного. Помог опять-таки Майрон Трейбус. Он собрал семинар самых крупных знатоков термодинамики, и там, после многих часов разъяснения, эти высоколобые уразумели, наконец, что такое "Цикл Калины". Термином этим стали с того времени называть процесс, в котором "рабочее тело" меняет свой состав и поведение в различных местах паровой установки. Но и после семинара 1986 года практики-энергетики не признали открытие доктора Калины реальным. Правда, статьи противников стали звучать несколько иначе. Да, теоретически, "циклы Калины" — вещь достоверная, но прикладное использование их — нереально. Циклы эти — дело чисто теоретическое.
Калина тем не менее сделал попытку продать своё изобретение. Начал объезжать электрические компании. В ответ на объяснения учёного бизнесмены пожимали плечами. "Вы предлагаете нам вложить миллионы долларов в постройку электростанций нового типа, но на каком основании? Только потому, что ваши расчёты правильны? Но, если вы верите в свою непогрешимость, то достаньте 10–12 миллионов и постройте экспериментальную электростанцию, работа которой докажет вашу правоту".
Владельцы электростанций были по-своему правы. Научные расчёты надо доказать на практике. Но при этом возникал замкнутый круг: как и где скромному эмигранту добыть эти миллионы? "Я кинулся к финансистам, — вспоминает Александр. — Но наши встречи напоминали разговор глухих. Я объяснял им, насколько мои циклы повышают КПД, а они спрашивали, каков будет возврат на вложенный ими капитал. Я почувствовал себя загнанным в ловушку. Оставалось одно — учиться бизнесу".
Так начался новый "цикл Калины" — круговой, по всему свету объезд бизнесменов и финансистов Израиля, Швейцарии, Австралии, Италии. На этом новом этапе Александр уже попытался представить своим собеседникам подсчёты будущих выгод, которые получат податели денег, когда экспериментальная электростанция будет построена и удастся продать саму идею "Циклов". Всё звучало вроде бы убедительно, но, увы, отказ следовал за отказом. У бизнесменов существовала, надо полагать, своя неведомая изобретателю система доказательств.
И тем не менее цепочка знакомств, возникшая на финансовых верхах, в конце концов привела Калину к людям, которые уверовали в него. Точнее, они уверовали в то, что лицензионные платежи, которые изобретатель получит, продав своё изобретение, всё-таки покроют их вклад в постройку опытной электростанции. Первым уверовавшим оказался австралийский предприниматель и учёный Рональд Вайс. За ним последовал швейцарский миллиардер, один из пяти самых богатых людей планеты, Шмитхайне. Электростанцию стали возводить в Конога Парке, неподалёку от Лос-Анжелеса осенью 1990 года, закончили летом 1991 года. На строительство и исследования было затрачено в общей сложности 23 миллиона долларов. Строительство, как и добывание денег, потребовало от изобретателя множества новых знаний и навыков. Роль предпринимателя приходилось совмещать с деятельностью технолога и строителя, из продавца идей становиться покупателем энергетической техники. Но настал день — 10 декабря 1992 года, когда свершилось: электростанция заработала, подтвердив теоретические расчёты своего хозяина. "Но не менее важным следствием того, что она заработала, — говорит Калина, — является то, что я действительно стал, наконец, бизнесменом".
На ринге
Они с женой и сыном живут уже несколько лет в Сан-Франциско. Крохотная компания "Экзерджи Инк." обрела международную известность, а научный термин "Цикл Калины" прочно вошёл в учебники термодинамики. На научных конференциях постоянно читаются доклады на эту тему. Одна из таких конференций проходила в Чикаго в апреле 1993 г. Александр приехал ко мне в Нью-Йорк после того, как прослушал там шесть докладов, развивающих его идеи. Он продолжает изобретать.
По последним сведениям, которые представил его адвокат, изобретения доктора Калины общим числом 362 запатентованы в нескольких странах мира. Всё вроде в порядке. В совете директоров компании "Экзерджи" теперь заседает старый друг и доброжелатель Калины профессор Трайбус. Он оставил преподавание в университете и полностью переключился на поддержку "циклических" идей. И тем не менее из двух десятков лет эмиграции именно последние оказались самыми тяжёлыми для изобретателя-бизнесмена.
Да, электростанция была построена. Практическую состоятельность "Цикла Калины" никто больше не опровергал, но и продать эти идеи не удавалось. Министерство энергетики Соединённых Штатов не предложило изобретателю ни цента, хотя внедрение его идей в масштабах страны могло бы принести ни много ни мало 6 миллиардов долларов в год только на экономии топлива для электростанций. Долгое время не рисковали начать перестройку своих электростанций и частные энергетические компании. Несколько большую активность проявили японцы и немцы, но и они не предлагали учёному немедленно подписать соглашение. Компания "Экзерджи" все эти годы испытывала непрерывный денежный голод. Всё новых и новых расходов требовала электростанция в Конога Парке. Надо платить жалование сотрудникам компании, а средств нет. "Я продолжал мотаться в поисках денег по всей Америке, — говорит Калина. — Со мной разговаривали уже значительно более любезно, чем раньше, но……”
Александр высказывает интересное соображение о судьбе любого крупного инженерно-технического изобретения. Чем серьёзнее предлагаемая идея, тем она наносит большие разрушения предшествующей промышленности. Поэтому огромное число людей не желает и слушать о подобных новинках. Более всего не хотят коренной перестройки производства предприниматели. Они вложили немало денег в изготовление какого-то товара и боятся перемен. Это ведь означает новые затраты. Ещё более упорствуют их служащие, специалисты, мастера и знатоки старых форм производства. Они не без основания считают, что с приходом новой техники их знания станут никому не нужными. Эти люди зубами и когтями цепляются за старое и люто ненавидят носителей новых идей. Их нетрудно понять…. Но можно понять и изобретателя, носителя нового. Он думает не только о своём собственном триумфе, но и о тех выгодах, которые получит в результате всё общество.
Пока Калина носился по Америке в надежде обольстить своими "циклами" какую-нибудь занятую производством электричества компанию, самая мощная из них, ничего не обещая изобретателю, тем не менее вела изучение идеи "циклов”. Руководство "Дженерал Электрик" поручило своим сотрудникам — строителям, технологам, финансистам исследовать все возможные аспекты этого изобретения. Для окончательного решения этому неповоротливому гиганту понадобилось целых два года, 24 месяца. Но и после того, как Калина услышал от них: "Да, мы покупаем ваше изобретение", прошёл целый год, прежде чем договор был подписан.
"Это был мучительный год, — рассказывает изобретатель. — Они хотели, чтобы я продал моё детище по максимально низкой цене. Но я знал подлинную цену "циклам" и не уступал. Переговоры носили жёсткий, тяжёлый характер. Те люди давили на меня, намекали, что могут и раздумать, изыскивали всё новые и новые "слабые места" в моей идее. Я опровергал их подозрения, игнорировал выпады. Но в какой-то момент и я психологически сорвался. Выразил чиновникам компании-покупательницы свою обиду. В их глазах я очевидно был похож в этот момент на мальчишку, который случайно забрался на боксёрский ринг и неожиданно для себя получил удар в нос. На моё возмущение они, хотя и иносказательно, но вполне ясно объяснили, что у того, кто оказывается на ринге, много шансов получить по морде. Такое уж это место. Тогда я стал в боксёрскую стойку и принялся отбиваться как умел. У меня не было ни опыта, ни знаний, как вести такое сражение. Но было упрямство. И уверенность в том, что я прав. Они не всегда понимали, почему я так упорен и почему не иду на компромисс".
А между тем всё было очень просто. Изобретатель вложил десять лет труда в дело, которое, как он хорошо знал, представляет огромную ценность. Было обидно поддаться давлению и получить за свой труд недостойную оплату. Конечно, Александр не исключал и провала переговоров, мало ли какой трюк пожелает выкинуть руководство международного класса компании. Не исключал он и провала своей компании, её банкротства. Но вместе с тем он был убеждён и в другом: что бы ни случилось, он начнёт своё дело сначала….
В эти роковые дни американские друзья не покинули его. Профессор Майрон Трайбус, чтобы помочь выплатить очередную зарплату сотрудникам "Экзерджи" — секретаршам, компьютерщикам, инженерам — предложил перезаложить свой дом. Воздержался временно от причитающегося ему гонорара и адвокат фирмы Алан Гордон. Безденежье тем временем подпёрло Калину под самое горло. Речь шла уже о долге в полтора миллиона долларов! Буквально один шаг отделял меня от полного банкротства, — признаётся доктор Калина. — Договор с "Дженерал Электрик" пришёл буквально за минуту до нашего краха".
Соглашение 4 февраля принесло доктору Калине и его партнёрам не только долгожданные деньги. Для мира промышленников сам факт этого договора означал, что Калина теперь совсем не тот, что несколько дней назад. Теперь его научно-изобретательскую репутацию подпирала мощь "Дженерал Электрик". Сегодня уже десятки фирм и компаний готовы начать переговоры с малышкой "Экзерджи".
…Наша беседа приближалась к концу. Через час доктора Калину ждали на деловом обеде где-то в центре Нью-Йорка. Но я попытался задать ему ещё несколько вопросов, так сказать, личного характера.
— Договор с "Дженерал Электрик" и вытекающие из него последствия переводят вас в иной, более высокий социальный слой. Как вы считаете изменится при этом образ вашей жизни? Ожидаете ли вы, что у вас теперь появятся новые друзья, новые занятия, иные вкусы, развлечения?
— Принципиальных перемен не ожидаю. Конечно, новых деловых контактов не избежать. Но я намерен нанять новых двух хороших бизнес-менеджеров, чтобы они приняли на себя заботы о бизнесе и сохранили мне время для творчества. У меня уже есть новые идеи, наклёвываются новые изобретения. В личной жизни я тоже не намерен что-либо менять коренным образом. На моё свободное время законно претендуют моя жена и сын. Они по-прежнему моя главная любовь в этом мире.
Есть у Александра круг близких друзей, русских и американцев. Он не намерен расставаться с ними, особенно с друзьями детства и юности. Бизнес, конечно, урвет какое-то время, но даже бизнесу Калина не намерен уступать часы, которые привык проводить за книгой. "Стивенсон и Шекспир по-английски — это такая радость!" Он всегда любил и по сей день любит вкусно поесть и знает толк в ресторанной и домашней кулинарии. Одно из любимых его занятий — готовить для друзей жареную утку по собственному рецепту. Политические и социальные симпатии члена Республиканской партии Калины скорее всего тоже не изменятся в ближайшие годы….
И вдруг я заметил, что этот шикарно одетый и со вкусом подстриженный господин устал. Очень устал. И, очевидно, не только от трёхчасового интервью, но и от всей той жестокой и упорной борьбы, которую вёл годами. "Еду с женой и друзьями в Париж, — устало выдохнул он. — Первый раз могу себе позволить такое. Хочу отключиться от дел на две недели. Но не знаю — удастся ли…. Мозг, его деловая часть, может начать работать независимо от моего желания, от присутствия свободы и наличия денег. Мы, изобретатели — народ неуправляемый…".
2. Человек с собственным мнением (Арон Каценелинбойген)
Встретились в Нью-Йорке два друга-эмигранта, люди почтенного возраста — учёный и литератор. Встречаться удаётся им не слишком часто: учёный профессорствует, литератор-публицист пишет статьи, активно печатается. Да и живут они в разных городах. Но вот, слава Богу, встретились. Отобедали, поговорили о жёнах, детях, внуках. А затем, как это ведётся в эмигрантских застольях, заговорили о… Догадались? Правильно! Заговорили о они о прошлом и будущем России. А немного погодя перешли на другую столь же волнующую тему. Какую? Догадайтесь…. Совершенно верно! Заговорили они об истоках и сущности антисемитизма.
Тут я должен остановиться и открыть нашим уважаемым читателям маленький секрет: два вышеназванных собеседника — это я, Марк Поповский, и Арон Каценелинбойген из Пенсильванского университета в Филадельфии. Ту беседу я, с разрешения Арона, записал. Мысли этого нестандартного человека могут, как мне кажется, заинтересовать нашего читателя. Но сначала коротко о моём друге.
Учёный-экономист, Арон Каценелинбойген из числа вундеркиндов: в 14 лет окончил десятилетку, в 18 получил диплом Государственного экономического института. Хотя год на дворе стоял печально памятный 1946-й, одарённого юношу с труднопроизносимой фамилией в аспирантуру всё-таки приняли. Но затем пошли годы ещё более мрачные. Диссертацию на степень кандидата наук Арон писал трижды. Две диссертации завалили. Одобрена была только третья. И тем не менее к началу 70-х Каценелинбойген уже доктор экономических наук и возглавил Отдел сложных систем в высокопочтенном научном учреждении — Центральном экономико-математическом институте Академии Наук СССР. Одновременно читал он лекции в Московском Университете. Но продвинуть свои экономические идеи ему на родине так и не удалось.
Сейчас бывший советский экономист обучает американских бизнесменов и особо одаренных американских студентов. В эмиграции у него вышло десять книг. Казалось бы, чего ещё желать? Вершина! Но Каценелинбойген — не просто специалист в какой-то области науки. Его творческие интересы фантастически разнообразны. Наряду с лекциями по экономике он читает курс эстетики, теорию красоты. Более того, он считает экономику и эстетику сферами знания весьма близкими. Одна из его книг так и называется "Эстетический метод в экономике" (1990). Из-под пера профессора Каценелинбойгена вышел также труд, в котором автор анализирует Тору (Пятикнижие Моисеево). Затем в печать пошла книга, в которой учёный-экономист выдвинул оригинальную теорию происхождения… рака. Медики и биологи, которым он излагал свою точку зрения на биологическую суть этого человеческого страдания, не нашли в его рассуждениях никаких логических и фактологических ошибок.
Я не назвал здесь и малой доли интересов моего друга. Но и того, что здесь перечислено, достаточно, чтобы понять: Арон Каценелинбойген — один из тех, кем эмиграция наша может с полным основанием гордиться. Не сомневаюсь, что гордиться этим блистательным современником в свой черёд будет и наша родина. Но лишь тогда, когда там научатся уважать и ценить
личность.
Вернёмся, однако, к нашей с Ароном беседе на тему:
Дела российские.
Марк Поповский: Мне кажется, дорогой Арон, что предсказать судьбу России в недалёком, да и в далёком будущем в общем не так-то и трудно. Страна эта веками сохраняла одно и то же политическое лицо. В ней столетиями поддерживался авторитарный режим, имперская политика и государственная идеологичность. К этим вечным своим ценностям Россия непременно постарается вернуться.
Арон Каценелинбойген: Вы правы, перечисленные вами принципы вот уже семьсот лет сопровождают историю страны. Ленин и Сталин мало в чём уклонились от политики Ивана Четвёртого (Грозного) или Петра Первого.
М.П.: И Ленин тоже? Он ведь как будто более всего помышлял о мировой революции.
А.К.: Помышлял, но с одним условием, что революция эта пойдёт под эгидой России. Слабость Временного правительства привела к расколу страны. Даже Калужская губерния в 1918 году заявила о своей независимости. Но к 1922 году Красная армия захватила все территории, пытавшиеся обрести независимость, включая Украину, Кавказские и среднеазиатские республики. Империя восстановилась.
М.П.: Но ведь Ленин воздержался от захвата западных территорий: Прибалтики, Бессарабии, Финляндии.
А.К.: Правильно, но и в этом таились имперские планы Ильича. Ленин после революции и успехов в гражданской войне, вкусив власть лидера России и Коминтерна, всё более дорожил целостностью родной империи и её расширением. Возможно, он уступил западные территории России, дабы прикрыть планы России способствовать в будущем революциям на Западе. Сталин, который провозгласил возможность "победы социализма в одной, отдельно взятой стране", ещё в большей мере обнажил ленинские замыслы. Затем он начал их осуществлять, доведя Россию до ранее невиданной по территории и мощи державы и мечтая даже стать императором мира. Так наши вожди вернулись к царским традициям.
Надо, однако, отметить: не все российские правители видели себя на троне одинаково. Для сохранения идеального имперского режима в разное время использовались то жёсткие, то гибкие методы. Иван Грозный, Петр Первый и Сталин — носители жёстких приёмов управления, Александр Второй и Николай Второй ориентировались на политическую гибкость. При последнем императоре возникла Дума, появилась многопартийность, ослабела цензура, открылись границы. Я вижу в Горбачеве вариант типа Николая Второго. Он тоже попытался сохранить империю гибкими методами. Но такие приёмы, с которых Горбачев начал своё правление, как правило, к сохранению страны не ведут. Гибкость при таких целях, как правило, ведёт к анархии, а анархия в нашей стране заканчивается тем, что всё возвращается на традиционно жестокий путь. Так что предсказание ваше достоверно. Но не исключено, что новые свежие идеи выведут страну на какой-то новый путь. Правда, пока таких идей я не вижу…
М.П.: Российская ситуация сегодня отражает, как мне кажется, всеобщую всенародную жажду "сильной руки". Таково естественное желание общества, уставшего от нищеты, всеобщей уголовщины и безответственности властей. Народ России в прошлом всегда почтительно относился к "строгому хозяину". Теперь они видят в "хозяине” надежду на лучшую жизнь и довольно настойчиво добиваются осуществления этой надежды. Свобода личности — не наш российский идеал.
А.К.: Да. неуважение к личности, к интеллигенту, желание иметь над головой "настоящего хозяина" — традиционно для отечества. Большинство граждан действительно настроено ныне на имперский режим. Но не станем забывать, что во всяком обществе, а в Российском особенно, есть, пусть и небольшая, но активная и независимо мыслящая творческая часть. Именно от неё, от этой части интеллигенции, я ожидаю новых идей. Правда, уже дважды, в марте 1917-го и в конце 80-х и начале 90-х годов XX столетия эта категория дорывалась до власти, но новых идей с собой так и не принесла. Более того, появление таких людей в "коридорах власти" бросало страну в состояние анархии. Беда опять-таки в традиционном для России непонимании ценности нестандартных идей, что в свою очередь связано с непониманием личности.
В России преобладают два взгляда на человека: или ты эгоист и преследуешь только шкурные интересы, или ты коллективист и готов служить целому. Коллективист в народных глазах выглядит значительно более привлекательным. Это значит, что он "за народ”, "за нас". Отсюда и "жизнь за Родину" и так называемый "советский патриотизм". А между тем личность в её лучшем варианте — человек, преследующий свои интересы, но одновременно принимающий во внимание и интересы других. Этого в России никогда не понимали, к голосу такого рода личностей не прислушивались. Тем не менее я не теряю оптимизма в отношении будущего России. Моя надежда зиждется на том, что всё-таки найдутся
личности, которые не окажутся рабами масс, которые выдвинут новые идеи, новые методы, дающие выход из сегодняшнего российского капкана.
М.П.: Вот вы всё говорите о новых идеях. Но я что-то не припоминаю в истории минувшего столетия, чтобы какая-то свежая социальная идея враз повернула бы к лучшему судьбу государства и жизнь народа. Шовинистические лозунги фашистов и болтовню большевиков о "прекрасном будущем" я бы новыми идеями не называл.
А.К.: И тем не менее такие случаи известны. Вспомним американскую депрессию 1929–1933 годов. Вывел страну из этого тяжелейшего экономического кризиса Президент Франклин Рузвельт. Успех пришёл после того, как Президент прислушался к идеям английского экономиста Джона Мейнарда Кейнса. В те годы в мире существовало лишь два ведущих политико-экономических принципа: либо государство держит в руках все рычаги управления экономикой (СССР, Германия, Италия), или государство полностью исключает своё участие в делах промышленности, бизнеса, рынка (США). Кейнс предложил меру вмешательства государства в экономику страны, но без крайностей. Он показал, как можно сохранять рынок и демократию и в то же время укреплять экономику страны с помощью государственного контроля. Рузвельт поверил в эту теорию, осуществил её, и депрессию удалось победить. В Англии Кейнса считали фантазёром и мечтателем. И только успех Рузвельта в борьбе с депрессией выдвинул этого человека в ряды высокоуважаемых личностей своей эпохи. Во время Второй мировой войны этот экономист стал ближайшим советником Уинстона Черчилля.
Горбачев, человек нерешительный и даже пугливый, а затем и решительный Ельцин привели страну к анархии, а анархия неизбежно подвигает к власти всё более правые силы. Хорошо, если в будущем хозяевами окажутся умеренно правые. Но в будущем, как мне видится, на верха власти прорвутся крайне правые силы, которые в конце концов вернут страну к новому сталинизму. Я бы предпочел власть правых умеренных, вроде ГКЧП. Они по крайней мере, затеяв переворот, не допустили кровопролития.
М.П.: То, что Горбачев не умен как политический деятель, видно невооружённым глазом. Но в чём вам видится основная ошибка, допущенная им в начале своего правления?
А.К.: Вскоре после того, как Горбачев пришёл к власти, я опубликовал в эмигрантском сборнике "Внутренние противоречия" № 19 за 1987 год свою оценку создавшегося положения. Я писал, в частности, что в течение 70 лет главной и основной экономической и политической идеей страны оставалась военная гегемония. Но что взамен? Начинать переход к демократическому обществу и при этом сохранять на шее народа военную нагрузку невозможно. За Западом мы со своим вооружением всё равно не поспеем. Остаётся одно: расстаться с военной машиной. Если Горбачев не сделает этого, писал я тогда, то он провалит всю идею перехода России к демократии.
Горбачев, как я и предсказал, на решительные шаги не пошёл. Он попытался действовать гибкими осторожными методами: взялся изменять политико-экономическую систему, при этом не отказываясь от имперской мощи. Если бы, оставаясь твёрдым в политическом отношении лидером, он за 5–6 лет попытался перестроить военную экономику страны и за её счёт накормить народ, то, вероятно, вошёл бы в историю, как выдающаяся политическая фигура. Но он не рискнул резко изменить хозяйство страны, целиком направленное на войну. Отсюда, возможно, и его провал. Установку на то, чтобы в будущем сохранять военный потенциал, планируют и другие, малые и большие, сегодняшние вожди. Если завтра к власти придут Зюганов и ему подобные, они тоже не откажутся от идеи сохранения военной мощи. Более того, они уже сейчас планируют восстановление экономики, организовав производство оружия на продажу. Уже известно, кому пойдёт это оружие: Китаю и Ираку. Экономисты-коммунисты уже подсчитывают, сколько миллионов долларов обретёт при этом страна, но я убеждён: ничего хорошего этот путь народу российскому не принесёт.
Евреи и все остальные.
Марк Поповский: Дорогой Арон, человек с такой фамилией, как ваша, очевидно, частенько сталкивался в России с недоброжелательством коренных жителей страны.
Арон Каценелинбойген: Ещё как часто! Униженным и обиженным я бывал с самого раннего детства. Меня оскорбляла хозяйка квартиры, которую мы снимали в Москве, дети во дворе и школе. После войны меня демонстративно не допустили учиться в Московском университете. Я уже рассказывал вам, что диссертацию мне пришлось писать трижды. Две из них были в 1949 и 1955 годах отвергнуты явно из-за национальной принадлежности диссертанта. Вспоминается и другой эпизод. Директор научно-исследовательского института, в котором я позднее служил, прочитав мою статью, сказал: "Давай-ка я лучше подпишу эту статью своей фамилией, вам всё равно тут ходу не дадут…”. Можно бы было рассказать не одну, а десяток подобных историй, но всё это не сделало меня врагом России или русских людей.
М.П.: И тем не менее вы эмигрировали, покинули Советский союз, оставили достаточно почтенную должность заведующего отделом в академическом институте.
А. К.: Позвольте уточнить: я уезжал не из Советского союза и даже не от политической системы. Я эмигрировал из России, уехал потому, что понял (хотя и с большим опозданием), что с этой страной я не совместим. Система ценностей у меня другая.
М.П.: Несовместим? За те десять лет, что мы с вами знакомы, я много раз имел возможность убедиться: Арон — человек поразительно доброжелательный. Вы легко находите общий язык с самыми различными людьми от американских студентов до нашей эмигрантской публики всех сортов. Что вы имеете в виду, говоря о своей несовместимости?
А.К.: Это не только моя личная проблема. Она всплывает вновь и вновь вот уже несколько тысяч лет. Да и сегодня мы ежедневно слышим об этнической несовместимости, переходящей во враждебность. Сербы и хорваты, армяне и азербайджанцы, чёрные и белые в Америке…. Ну и конечно постоянные конфликты евреев с коренными жителями то одной, то другой страны.
Есть несколько точек зрения на такого рода конфликты. Патриот говорит: "Я уважаю свою нацию, но уважаю и все другие нации." Националист держится несколько иного взгляда: "Я считаю свою нацию лучшей среди других". Шовинист же убеждён, что нация, к которой он принадлежит, самая
лучшая из лучших, а коли так, то остальные должны ей подчиняться. В частности, считают шовинисты, народам не следует смешиваться. Нацию свою надлежит держать в генетической чистоте, иначе она будет разрушаться, терять свои лучшие традиции, духовные качества. Шовинистические взгляды отдельных граждан подхватывают подчас правительства, которые в ряде государств становятся на защиту "чистоты этноса". Власти в таких государствах предпринимают акции, направленные на то, чтобы уберечь свой народ от того, что они зовут "смешением и разрушением". На этой основе и возникает несовместимость коренных жителей страны с чужаками. Такими чужаками довольно часто становятся евреи.
Несовместимость — штука тонкая и далеко не всегда предсказуемая. К примеру, живут на территории России четыре народа: татары, немцы, русские и евреи. Татары, те самые, что когда-то терзали и грабили Русь, сегодня, как правило, не вызывают у русских людей сколько-нибудь серьёзного раздражения, Немцы — тоже народ, наносивший России немало болезненных ударов. Они были главным врагом страны в двух мировых войнах. В XVII–XVIII столетиях именно немцы окружали трон российских царей, повсеместно командовали и помыкали коренными русскими. Но и немцы сегодня в России не вызывают подсознательного раздражения. Более того, когда недавно в Москве демонстрировали фильм, атакующий Жириновского как еврея, генерал с тремя звёздами на погонах, коренной русак попытался защитить Владимира Вульфовича. "Оставьте его в покое, — закричал генерал, — да его отец же из немцев!" Получалось, что Жириновский-немец — свой, а Жириновский-еврей — совсем наоборот. Что стоит за ненавистью аборигенов к нашему народу? Откуда она, эта злоба, которая восходит аж ко временам Древнего Египта? Очевидно, народ еврейский в чём-то несовместим с другими народами.
М.П.: Но в чём корень несовместимости?
А.К.: О корнях я скажу позже. А пока хочу обратить внимание на нашу национальную непонятливость. Евреям, очевидно, давно уже следовало осознать самый факт своей несовместимости с окружающими народами и стремиться к тому, чтобы как-то смягчать взаимную недоброжелательность. Следовало бы как-то сближаться с народами, которые нас окружают, и, по мере сил, растворяться в них. Это один путь. Но есть и путь номер два: уходить и замыкаться в собственном гетто, в своей черте оседлости, в своём национальном государстве. Если не делать этого, то опасность над нашими головами будет нарастать и может (как это уже бывало не раз) привести к кровопролитию.
А теперь о корнях антисемитизма. У каждого народа есть та сфера его жизни, в которой как бы формируется генетический код нации, складывается её лицо, её душа, её культура. Я говорю о таких областях, как политика, искусство, наука, армия, правительство. Когда человек другой национальности вторгается в эти области, он вызывает у аборигенов особенно острое чувство несовместимости. В людях другого этноса с непривычными особенностями поведения, характера коренные граждане видят опасность для себя. Им представляется, что чужаки непременно разрушат их культуру, их привычный образ жизни. Здравый смысл должен был бы подсказать нам, инородцам, не делать то, что вызывает антипатию окружающих. Но эта здравая вроде бы мысль нам, евреям, в голову не приходит.
Интересно, что меньше всего антисемитизм проявлял себя в прошлом на Ближнем Востоке. Живя в тамошних мусульманских государствах, евреи не делали попыток прорваться в армейские офицеры или в мир политики. Чаще всего они кормили себя ремеслом или в крайнем случае становились врачами. Я не призываю никого из своих соотечественников оставаться на уровне сапожников и портных. Я лишь показываю механику зарождения и развития антисемитизма. Либералы твердят: "Все люди в любой стране должны оставаться на равном положении, иметь равные права. Карьера любого гражданина должна зависеть лишь от его талантов и количества пользы, которую он способен принести обществу". Мысль эта несомненно благородна, но увы, она не работает, не прививается даже в самых цивилизованных странах. Примерно такие же идеи высказывали в предреволюционные годы большевики. А чем кончилось? Карл Радек когда-то пустил в ход злую, но вполне справедливую шутку": "Что общего между Сталиным и Моисеем? Моисей вывел евреев из Египта, а Сталин из Политбюро". Так оно и было. Вождь номер два уже в 1924 году увидел, что именно евреи, используя свою энергию, способности и семейственность, начинают быстро заполнять основные сферы государственной жизни от армии до науки, от правительственных должностей до ведущего положения в искусстве. Вождь принял соответствующие меры…. Можно напомнить, что и общеполитические установки евреев-большевиков были иными, чем у этнических русских. Троцкий, Зиновьев, Каменев призывали к перманентной мировой революции. Если Россия при этом и пострадает — ничего страшного, победа пролетариата в мировом масштабе важнее. Русские люди: Бухарин, Рыков, Томский, Угланов держались прямо противоположной позиции. Вот каковы они, истоки несовместимости. Если еврей это понимает, то ему следует подумать о переезде из страны наиболее активной несовместимости (Россия, Германия, Польша, Венгрия) в государство, где население по традиции более терпимо относится к иноземцам. Это Соединённые Штаты, Англия, Канада, Австралия. А ещё лучше — в Израиль.
М.П.: Понятие антисемитизм, ненависть ко всем евреям вообще, как мне кажется, возникло сравнительно недавно. В средние века и даже в XVII–XVIII столетиях неприемлемым для европейских народов была не национальная принадлежность, а еврейская религия. Испанский король в 1492 году изгнал из страны лишь тех евреев, которые не пожелали принять крещение. Евреи-христиане его вполне устраивали.
А.К.: Абсолютно верно. Понятие антисемитизм в его нынешнем виде сформулировалось в конце XVIII-ro, начале XIX-го столетия, когда евреи в Германии стали одеваться по-немецки, заговорили на немецком языке, когда в их среде начался массовый переход в христианство. Протестантизм приняли даже дети выдающегося философа XVIII-ro века еврея Мозеса Мендельсона. Именно тогда, на рубеже ХIХ-го столетия, возник антисемитизм по крови. В качестве врага стали осмыслять не человека другой веры, а человека другой расы. Возникла новая философия: евреи — зло по своей национальности, по своей биологической сущности.
Какие же конкретные черты еврейства вызывали и вызывают ощущение несовместимости у других народов? Одно из самых важных — негативное отношение евреев к власти. Основная масса европейских евреев живёт в странах (Германия, Россия, Польша, Венгрия), где у народов традиционно принято высокое почтение к власти. Для русских царь всегда был "батюшкой", "защитником", "благодетелем". Высокий авторитет центральная власть сохраняла и у немцев. Неудивительно, что русские видели в евреях врагов самодержавия, а Гитлер называл их "бродильным ферментом". Правда, одновременно в Европе XIX–XX веков крепла либеральная точка зрения на то, что евреи в любой стране должны пользоваться всеми теми же правами и возможностями, что и коренные жители. Но в каждодневном быту народов эта благородная точка зрения не прививалась. Значительно естественнее для простого человека, особенно если он не богат и не успешлив, видеть в еврее опасного конкурента. А интеллектуалы, принадлежащие к основной национальности страны, мысленно добавляют к этой простонародной оценке ещё одну: евреи склонны к разрушению нашего этноса, смешение с ними ведёт к гибели моей нации.
М.П.: Итак, подведём итоги….
А. К.: Мне остаётся только повторить то, о чём мы уже говорили. Раздражаться, возмущаться по поводу того или иного антисемитского эпизода — бессмысленно. Злоба, исходящая от окружающих, следствие того, что они видят твою несовместимость с ними, а ты продолжаешь лезть вперёд и выше, претендуя на учёные степени, публикацию своих книг, на высокие должности и признание твоих талантов. Ты хочешь навязать обществу свои гуманные принципы, призываешь окружающих тебя людей не видеть в тебе чужой этнос и просто чужака? В отношениях с людьми коренной национальности ты исходишь из того, что все они гуманны? Не морочь себе голову: люди различны. А в целом история идёт не туда, куда ты её призываешь двигаться. Антисемитизм — болезнь неизлечимая. Именно поэтому я уехал из России. Я понял, что несовместим с этой страной. Понял далеко не сразу. О чём сожалею.
3. С Америкой на равных (Грегори Тительман)
Зашёл я на днях в книжный магазин на Пятой авеню и стал рассматривать новинки. Привлек внимание толстый том, выпущенный, по словам продавца, всего лишь несколько дней назад. На обложке значилось, что книгу опубликовало крупнейшее издательство Соединённых Штатов
Рендом Хауз. Название в переводе звучало как «Наиболее распространенные пословицы и поговорки (Popular Proverbs & Sayings)». Том содержал более пятисот страниц и, как опять же значилось на обложке, содержал 1500 пословиц и поговорок, которые сопровождали десять тысяч цитат из различных книг, газет, речей, где вся эта народная мудрость была использована. Я рискнул 25 долларами и потащил том домой. О покупке не пожалел. В книге не просто были собраны американские пословицы и поговорки (таких сборников я немало повидал и прежде). Передо мной лежала настоящая энциклопедия, раскрывающая, когда и где данная пословица возникла, в каком литературном произведении она впервые появилась, кто из исторических лиц её использовал и т. д. и т. п.
Раскрыв книгу наугад, я натолкнулся на текст, который звучал так: "Win this one for the Gipper", хотя мой английский далёк от совершенства, но я уразумел, что выражением этим кто-то призывает кого-то победить "ради Гиппера”. Но кто он, этот Гиппер? И почему ради него надо кого-то побеждать? Читая дальше, я уже через минуту разобрался, что представляет собой это широко известное и часто употребляемое американской публикой выражение. Джордж Гиппер, один из лучших в стране футболистов, входил в 20-е годы в состав Нотрдамской футбольной команды. С ним что-то случилось, и этот горячо любимый коллегами и зрителями футболист умер, не дожив до 25 лет. Умирал он на глазах тренера команды Кнута Рокне. Незадолго до кончины Гиппер произнёс: "Рок, если когда-нибудь дела нашей команды окажутся не блестящими, а может быть, даже совсем плохими, то попроси ребят, чтобы они вышли в поле и выиграли матч ради меня." Тренер уважил просьбу умирающего. Он рассказал команде о его последней просьбе и в тот же день нотрдамские футболисты разгромили команду армейских футболистов с неслыханным счётом 6:12. Так возникло и пошло гулять по стране выражение "Выиграйте это ради Гиппера".
Но на этом история выражения "Win this one for the Gipper” не завершилась. В 1940 году на экраны Соединённых Штатов вышел фильм "Кнут Рокне — стопроцентный американец". Фразу "Выиграйте это ради Гиппера” произнёс по ходу действия фильма киноактёр Рональд Рейган. А ещё сорок лет спустя тот же Рейган, борясь за пост Президента США, использовал в своей избирательной речи ту же фразу: "Выиграйте это ради Гиппера". На этот раз он уже имел ввиду не покойного футболиста, а самого себя. Как мы знаем, американский народ воспринял этот приказ весьма положительно.
Листая книгу "Popular Proverbs & Sayings", всё дальше и дальше, я подумал, что над составлением такого гиганта работала очевидно целая команда и не один год. И вдруг увидел на обложке набранное мелким шрифтом имя автора: Gregory Titelman. Я был изумлён: Гриша? Ну да, это был тот самый Гриша, Грегори (как он просил себя называть) Тительман, который едва ли не двадцать лет уже преподаёт английский язык российским эмигрантам в той части Манхеттена, что зовётся Вашингтон Хайтс. Я и сам когда-то, по приезде в Америку, ходил на его уроки. По мнению студентов, учителем он был хорошим, хотя и несколько излишне требовательным. Кое-кого, помнится, раздражало, что Грегори не говорил по-русски не только на уроке, но не переходил на родную речь даже на переменах. Считал, что так лучше для нас. Но уроки уроками, а как же этот российский эмигрант, приехавший с нами почти в одно время, сумел осилить столь гигантский труд, вгрызся в такие глубины английского языка, американской культуры, литературы, истории? И, наконец, как он, иностранец, сумел убедить издателей знаменитого Рендом Хауз опубликовать свой труд?
Найти Грегори в нашем районе оказалось не сложно: почти все живущие тут россияне в те или иные годы были его учениками. И вот мы сидим в моём кабинете и Грегори рассказывает.
Родился давненько, 72 года назад. Юность совпала с "Великой отечественной". Воевал под Киевом, под Москвой, под Ленинградом. После войны окончил Военный институт иностранных языков. Следующие четверть века преподавал в Суворовском училище, в институтах, в средней школе. Преподавание — его любимое занятие. Киевское начальство мастерство Грегори оценило. Человеку с не слишком благозвучной фамилией Тительман присвоили звание "Отличник народного просвещения республики". Но "Заслуженного учителя" всё-таки не дали. Обидно. На вопрос, почему он покинул родину, Грегори ответил несколько расплывчато: "Я считаю, что евреям там не место". Где именно на планете Земля находится наиболее подходящее место для евреев, он тоже не сказал. Лично для себя он эту проблему разрешил наилучшим образом: подался в Соединённые Штаты.
Прибыв в Нью-Йорк в 1977-м, Грегори почти сразу получил место учителя школы для российских эмигрантов. Здесь и преподаёт уже более двух десятков лет. Конечно, за это время можно было бы получить американский диплом адвоката или осилить какую-нибудь другую хорошо оплачиваемую службу, но в Америке, как и дома в России, преподавание остаётся его любимым делом. Грегори охотно перечисляет свои профессиональные радости и гордости. В классе, где он преподаёт, самая высокая посещаемость, люди дорожат знаниями, которые могут получить от него. Пять лет назад он выпустил свой первый учебник "Английский для начинающих". Непрерывно возрастающее с тех пор число покупателей этой книги показывает: учебник людям понравился, хотя цена его с шестью кассетами не так-то мала — 75 долларов. Вторая изданная им книга называется "Английский без слёз”. За этими двумя последовали "Американские идиомы" и "Как сдать экзамен на американское гражданство". Не без гордости сообщает Тительман и о том, что уже два года даёт уроки языка по русскому радио. Его голос соотечественники слышат в трёх временных поясах от Нью-Йорка до Сан Франциско. Его учениками являются теперь сотни и тысячи соотечественников, для которых освоение языка — проблема номер один. Радиоуроки публика воспринимает явно положительно. Об этом, в частности, свидетельствуют письма слушателей. Грегори выложил передо мной пачку такого рода посланий. "Благодаря вашим урокам я поверила наконец, что смогу преодолеть самый мучительный для меня из всех барьеров эмиграции — барьер языковый," — пишет Галина Черносова из Бруклина (Нью-Йорк). Владимир Курко из Калифорнии выражает свои чувства к учителю с ещё большей страстью: "Благодарю Бога за то, что вы есть, за то, что Он дал вам такую мудрость в обучении людей иностранному языку"…. Подобные письма поступают в адрес талантливого телепреподавателя со всех концов страны.
Я слушаю Грегори Тительмана, читаю адресованные ему похвалы, радуюсь за него, но, говоря откровенно, меня он занимает сегодня не столько как учитель, сколько как автор уникальной книги-энциклопедии. Один умный человек заметил: "Пословицы — мудрость народа." Добавлю: мудрость того народа, который их породил. Эта мудрость вбирает в себя всю историю народа, его прошлое и настоящее, его культуру, литературу, искусство, внутрисемейные и внутригосударственные отношения. Мне всё-таки трудно понять, как иностранец, более полувека проживший вдали от Америки и прибывший сюда сильно не молодым, смог разобраться во всех интимных деталях жизни чужого народа?
"Я задумал труд об американских пословицах и поговорках вскоре после приезда в Америку, — рассказывает Грегори. — Хотел познакомить наших соотечественников с одним из важных элементов здешнего языка. Но умные люди объяснили: русские покупать такую книгу не станут. Тогда я принялся за английский вариант. Откровенно говоря, я не верил, что этот словарь увидит свет при моей жизни, да ещё в американском издании. Мне был интересен сам процесс: сидеть над книгами и жёлтым карандашом помечать соответствующие словосочетания, перенося их сначала в карточки, а потом в компьютер."
На собирание материала и написание тома у Грегори ушло шестнадцать лет. За это время он перечитал, по его словам, сотни книг, многие из которых никогда прежде не переводились в России. Начал с классического романа Маргарет Митчел "Унесённые ветром", проштудировал Артура Миллера, Юджина О'Нила, Синклера, Хемингуэя. Одновременно все эти годы читал "Нью-Йорк Таймс" и листал наиболее шумные бестселлеры. Пережил в эти годы серьёзное потрясение: в какой-то момент нажал в компьютере не ту кнопку и стёр весь накопленный за полтора десятка лет текст. Спас положение американец, муж дочери. Большую часть текста он как-то восстановил, но полторы сотни страниц пропали безвозвратно.
В этом месте нашей беседы я не удержался от провокационного вопроса. Если человек годами читает книги исключительно ради того, чтобы извлечь из них определённые словосочетания, то едва ли ему удаётся всерьёз погрузиться в сюжет произведения, в психологические переживания того или иного героя. Для него книга, любая книга, превращается всего лишь в источник использованных автором пословиц и поговорок. Не так ли? "Увы, это действительно так, — признался Грегори. — Та гигантская работа, которую я вложил в будущую книгу, требовала от меня немалых жертв. Поверхностное чтение — одна из них".
Но обнаружить очередную пословицу и поговорку — только половина дела. Самое трудное — установить происхождение её, её варианты, историю, так сказать, её жизни в разговорном языке американцев. Вот, например, в Америке каждый гражданин знает фразу "In God we trust" — "В Бога мы верим". Да и как не знать, если эта фраза звучит в тексте государственного гимна, обозначена на денежных купюрах и монетах. Впервые произнёс и написал эту фразу Френсис Скотт Кей в 1814 году. С 1956 года фраза эта стала официальным государственным девизом. При всём уважении к национальной святыне словосочетание это американцы то и дело обыгрывают в публичных шутках и рекламе. Так в 1993 году, гуляя по трентонскому базару, Тительман прочитал на одной из лавок такой вариант: "In God we trust, all other pay cash”. ("В Бога мы веруем, но тем не менее деньги на бочку").
Иногда найти автора выражения, которое вошло в народный разговорный обиход, бывает крайне трудно. Грегори Тительман приводит в своей книге фразу, наиболее часто цитируемую в Америке XX столетия: "Не спрашивайте, что страна должна сделать для вас; лучше задайтесь вопросом, что вы должны сделать для своей страны". Большинство людей скажут, что эти слова принадлежат Президенту Джону Кеннеди. Да, он их произносил и неоднократно. Но загляните в словарь, составленный Грегори Тительманом, и вы узнаете, что Джон Кеннеди использовал фразу, которую до него пустил в ход 29-й Президент США Уоррен Хардинг в 1916 году. Но и Хардинг не сам придумал эти слова, их написал для его очередной речи мало кому ведомый секретарь. А ещё раньше, за 75 лет до президентства Кеннеди, это выражение использовал в своём публичном выступлении судья Верховного суда Вендел Холмс. Президент Ричард Никсон в инавгурационной речи также подхватил эту мысль, придав ей несколько иную форму: "Пусть каждый задаст себе вопрос: что я смогу сделать для самого себя, а не что правительство сделает для меня". Во время своей избирательной кампании подхватила эти слова и Джеральдина Ферраро, претендовавшая на пост вице-президента. Использовала она их, обращаясь прежде всего к женщинам-избирательницам.
"Как видите, — говорит Тительман, — пословицы, поговорки и так называемые крылатые выражения, как правило, не собственность одного человека. Становясь популярными, они обретают многих "родителей”, сыскать которых очень нелегко. Но именно в упорном распутывании этого клубка — главная ценность моего словаря. Ничего подобного до меня в Америке никто ещё не сделал”. Ценна и другая особенность словаря. "Из десяти тысяч цитат, которые я привёл, многие относятся к 80-м — 90-м годам XX столетия. Они собраны из недавних газет, журналов, телевизионных передач и таким образом дают более свежую картину использования этих словосочетаний на сегодняшний день.
Грегори не без удовольствия "хватает за руку" тех чистокровных американцев, которые, по его мнению, пользуются своими национальными пословицами, поговорками и крылатыми выражениями, не всегда зная их происхождение и правильное использование. Когда в 1993 году весьма эрудированный журнал "People” использовал в одном из заголовков фразу "Друг в нужде — подлинный друг", россиянин Тительман смог указать американцам — автору и редактору, — что они процитировали поэта XVIII века Вильяма Купера, точнее: фразу из его стихотворения, написанного в 1782 году. А ещё раньше, в 1275 году, выражение это появилось в сборнике европейских пословиц.
Тительмана особенно интересует процесс возникновения тех ходячих выражений, которые появляются прямо на глазах публики и тут же подхватываются ею. Процесс этот почти непрерывен. Например, исполняет Фрэнк Синатра новую песню "Нью-Йорк, Нью-Йорк" (1977 г.), в которой звучит фраза: "If I can make it there (in NY), I will make it anywhere". И вот уже фраза эта стала одним из элементов американской языковой культуры: "Если ты сможешь преуспеть в Нью-Йорке, то сможешь преуспеть повсюду". Точно так же ходячим выражением стала фраза, взятая Вальтером Мондейлом из рекламы гамбургеров и использованная в диалоге со своим политическим противником Гари Хартом. Желая показать, что в речах Харта нет новых идей, Мондейл бросил ему вопрос-шутку: "Where is the beef?" ("А где же мясо?”). Грегори успешно вылавливает все эти шуточки, выпады, перевертыши, превращающиеся в элементы каждодневной, ежеминутной массовой речи современной Америки.
— А как же вам удалось прорваться на издательские вершины? В здешние издательства с улицы не войдёшь, это я по своему опыту знаю.
— Я и не надеялся на успех, тем более внимание такого издательства как Рендом Хауз. Большинство моих друзей
и родственников сохраняли по этому поводу скептицизм даже после того, как книга пошла в производство. Всё произошло по чисто американской системе счастливых случайностей. Моя ученица, работавшая в кабинете врача, рассказала о рукописи пациенту своего доктора, литературному агенту. Тот ответил коротко: не интересуюсь. Она тем не менее попросила у агента номер его телефона. Я позвонил по этому номеру, объяснил, чем занимаюсь, и услышал ту же фразу: меня это не интересует. Но потом агент что-то сообразил и попросил прислать ему заявку, излагающую сущность книги. Ещё немного погодя он попросил прислать ему три главы. Прочитав эти главы, литературный агент явно сменил тон. В начале 1995 года он показал рукопись в издательстве, и со мной заключили договор. В лицо меня при этом никто из редакторов не видел. О том, что я "русский", в Рендом Хауз узнали, когда выпуск книги уже шёл полным ходом. Издатели не скрыли при этом своего удивления, если не сказать изумления. Ну, что ж, причин для удивления было достаточно: после Владимира Набокова и Иосифа Бродского я был первым автором, рожденным в России, который представил американским издателям произведение, написанное собственной рукой по-английски. А главное, они уразумели: автор взглянул на американские пословицы и поговорки глазами американца.
Не знаю, действительно ли Грегори Тительман всего лишь третий в этом списке. Но, как бы там ни было, его сегодня опубликовали не только в Соединённых Штатах, но и в Канаде, а в дальнейшем книга его будет распространяться по всем континентам, за исключением африканского. Причина, побудившая хозяев Рендом Хауз израсходоваться на это шикарное пятисотстраничное издание, может быть только одна: такого словаря до сих пор в Америке ещё не бывало.
Напоследок я спросил Грегори, не собирается ли он в отставку. Ведь возраст-то уже пенсионный. Тительман ответил вполне в духе своего главного произведения: "В Америке есть такая пословица: "The opera is not over until the fat lady sings” ("Нельзя считать оперу законченной, пока не пропела толстая дама"). Так вот, моя "толстая дама" ещё только выходит на сцену". Догадываюсь, что Грегори Тительман имеет в виду свою сегодняшнюю работу. Речь идёт о новом толстом американском словаре, который он готовит сейчас к печати.
P.S. В Издательстве "Random House" нам сообщили: с момента выхода в свет словаря, составленного Грегори Тительманом, было продано свыше 10,000 экземпляров. Книга расходилась как внутри страны, так и за рубежом, и в том числе в Австралии. В 2000 году выйдет новое расширенное издание словаря объёмом в 512 страниц. В переводе на русский книга будет названа "Широкоупотребительные пословицы и поговорки Америки".
4. Светлое настоящее доктора Букринского
Провожал я как-то в нью-йоркском аэропорту московскую гостью. Поскольку посадка предстояла на самолёт компании Аэрофлот, вокруг звучала в основном русская речь. В очереди на оформление билетов рядом с нами стояли две группы русскоязычных. В одной толковали о ценах на товары, о пограничных пошлинах, о том, что в Россию следует ввозить, а что нет. В другой группе, состоявшей, как мне показалось, из учёных или медиков, обсуждали проблемы СПИДа. Называли страны, наиболее пораженные этой страшной болезнью, число инфицированных на разных континентах. Среди прочего обсуждали, есть ли народы, более или менее предрасположенные к этой заразе. В Америке, насколько я расслышал, сейчас около миллиона инфицированных, а в Африке их уже 15 миллионов. Очевидно, это не случайно… И тут кто-то пошутил: "А нас, евреев, СПИД вообще не берёт. От этой болезни мы не страдаем." Учёная публика вежливо посмеялась в ответ. Но в тот же момент в разговор вмешался кто-то из группы "торгующих”. Громкий басовитый голос с явной издёвкой произнёс: "А знаете, почему евреи СПИДом не болеют? Всё очень просто: их, евреев, никто не любит." Шуточка была явно антисемитская, но забавная, так что захохотали обе группы сразу. Не знаю, как бы развернулся дальнейший диалог, но "торговцев" попросили пройти к стойке, где оформляют билеты. Они быстренько ретировались и назревавшая было схватка не состоялась.
Эпизод в аэропорту вспомнился мне, когда я брал интервью у наших эмигрантов-биологов, работающих в американских научных центрах. Из тех бесед я узнал, что зараженных СПИДом среди нашего брата российских эмигрантов в Америке действительно нет. А вот учёные с интересными идеями и открытиями по части лечения СПИД есть. И таких тут немало.
В те же дни я прочитал в американском журнале "Science" немаловажное сообщение: "Генная терапия при иммунодефиците человека становится реальностью. В Берлине, на Всемирной конференции по СПИДу Михаил Букринский из ньюйоркского Picower Institute for Medical Research доложил о своей работе, которая является серьёзным шагом, приближающим медицину к лечению СПИДа. Согласимся, что сегодня, когда на планете Земля вирус СПИДа уже проник в кровь 21 миллиона человек и 85 % из них обречены на смерть, если не будет найдено эффективное лекарство, сообщение "Science" не может не вызвать живого интереса. Я загорелся. Принялся искать этого Михаила Букринского, бывшего москвича, а ныне американского гражданина и профессора. Его институт оказался неподалёку от Нью-Йорка. Мы встретились, и профессор рассказал немало интересного.
…В прошлом возраст 33 года считался вершиной, так сказать, центром человеческой жизни. Именно в таком возрасте биолог Букринский с женой и двумя маленькими детьми прибыл в Америку. К этому времени он уже защитил диссертацию и твёрдо решил посвятить себя борьбе со СПИДом. Увлечённость молодого человека биологией очевидно в известной степени определялась его родственными связями: мать, отец и отчим Букринского — учёные в близкой области, а мать даже специализировалась по СПИДу.
Сегодня Михаилу — 45 лет. Выехал из России семь лет назад, когда ему было 33. Причина? "Хотел заниматься СПИДом, имел кое-какие идеи. Но для исследований нужны лаборатория, реактивы, сотрудники. Всего этого не хватало. Безнадёжность…". — "Но разве российское начальство не понимало, что СПИД — чума XX столетия — серьёзнейшая опасность, которой надо противопоставить столь же серьёзные усилия учёных?" Михаил смотрит на меня, человека покинувшего Советский союз два десятка лет назад, с сочувствием. Дескать, ничего ты не помнишь, старик. Я действительно кое-что подзабыл за эти годы. А случилось вот что. Когда в 1985 году СПИД вспыхнул в Соединённых Штатах, официальная точка зрения московских властей сводилась к тому, что эта зараза сугубо капиталистическая. В СССР для распространения СПИДа условий нет, ибо у нас нет ни проституток, ни гомосексуалистов, ни наркоманов. Так что советский народ в безопасности. Позднее от этой откровенно пропагандистской болтовни пришлось отказаться. В России появилось несколько крупных лабораторий, занятых этой проблемой. Но Михаил дожидаться не стал и выехал в Соединённые Штаты.
Учёная степень, молодость и знание английского помогли новоприезжему довольно быстро войти в научный американский круг. Его приняли в университетскую лабораторию, где изучался механизм заражения человеческих клеток вирусом СПИДа. Правда, университет в штате Небраска принадлежал не к самым выдающимся научным центрам страны. Да и развивать привезённые из России научные идеи новопришельцу не позволили: у шефа лаборатории были свои собственные взгляды и убеждения. Но именно в Небраске Букринский постиг организационные основы американской науки. Главными рабочими лошадками тут служили такие, как он, молодые, только что защитившие диссертацию, исследователи, как их тут звали, "пост-доки". "Русский", однако, не капризничал, работал старательно и через год его перевели в инструкторы, а ещё через год он уже поднялся на уровень профессорский, стал ассистентом профессора.
На этом этапе научная молодёжь делает первую попытку стать во главе собственной независимой лаборатории. Разослав сотню резюме, Михаил получил приглашение в тот самый институт неподалёку от Нью-Йорка, где и работает сегодня. Основал этот научный центр пять лет назад богатый человек, не пожалевший на развитие медицинских исследований ста миллионов долларов. Так что новый заведующий Лабораторией молекулярных механизмов Букринский никаких трудностей сегодня с помещением, реактивами и сотрудниками не испытывает. В идеях недостатка тоже нет.
Основатель института считает, что те сто учёных, которым он предоставил идеальные условия для работы, конечно, могут заниматься чем угодно и в том числе мудрёными фундаментальными исследованиями, но в конечном счёте от них ждут вполне практических результатов. А прежде всего — лекарств от различных болезней и в том числе от СПИДа. В том же направлении устремляет свою лабораторию и доктор Букринский. Его идея внешне выглядит довольно просто. Известно, что вирусы СПИДа, как и другие вирусы-убийцы, сами размножаться не способны. Для размножения им необходимо воспользоваться клеточными элементами того самого человеческого организма, который они в конечном счёте убьют. В частности, вирус СПИДа, чтобы размножиться, должен пробраться в ядро клетки. Идея, с которой Михаил начал работать в своей лаборатории, сводится к тому, чтобы найти препарат, который не впускал бы вирус в ядро человеческих клеток и тем самым не давал бы убийце размножаться. По сути речь шла о лекарстве, которое, оказавшись в крови зараженного пациента, блокировало бы вирус, не позволяло ему поражать новые и новые клетки и в конце концов привело бы к истреблению этого микробандита.
За первые же полтора года исследований Михаилу и его коллеге-химику удалось найти несколько таких блокирующих вирус препаратов. Но в лекарстве, как известно, важно не только его лечебное действие, но и безвредность, безопасность для больного. Такую проверку на нетоксичность сотрудники лаборатории тоже провели, но пока лишь на мышах. Так что препарат имеется, он не ядовит, но использовать его как лекарство можно будет лишь после предварительной проверки на людях. Переход препарата в клинику пока задержался ещё по одной причине: государственная организация, ведающая безопасностью продуктов питания и лекарств, потребовала, чтобы учёные провели проверку не только на мышах, но и на более крупных животных, на собаках, например. Надо показать, насколько быстро препарат усваивается, как скоро выводится из организма. Так что учёному и его сотрудникам, прежде чем передавать свою находку медикам, предстоит серия "собачьих" экспериментов. Михаил, однако, не сомневается — препарат, который сегодня значится лишь под номером, в ближайшие месяцы обретёт название как лекарство и станет опорой современной медицины в борьбе со СПИДом. Как заметил во время недавней научной конференции один специалист: "Окончательное решение будет найдено не завтра, но каждое завтра приближает к нему".
Доктор Букринский, однако, не зациклен лишь на одной научной идее. В борьбе со СПИДом у него есть и другие задумки. Описанный выше вариант лекарства призван служить как бы помощником организма в его борьбе с вирусом. Но учёный ищет также возможность укрепить, усилить иммунную систему самого больного. В частности, ему удалось обнаружить очень маленькие белки, производимые клетками иммунной системы. Назначение этих "крох” — сзывать, притягивать, продвигать ведающие иммунитетом клетки в то место, куда внедрился вирус СПИДа. Действуя сообща, массой, эти молекулы способны подавлять вирус-убийцу. "Мы пока не имеем конкретного химического средства, которое практически активизировало бы этот механизм, — говорит Букринский, — но теоретически мы его серьёзно изучили и надеемся в свой черёд дать медикам кое-какие рекомендации и в этом направлении".
— Вы довольны своей жизнью в Америке?
— Доволен, не жалуюсь. Но искусство делать науку в этой стране совсем иное, чем на нашей родине.
— В чём же главное отличие?
— Основной упор здесь делается на конечный продукт. Это может быть лекарство, статья в уважаемом журнале или грант. У нас на Руси главным достижением считалась новая, оригинальная идея. А кто, когда и как её реализует — считалось делом второстепенным. Здесь же наибольшего уважения добивается тот, кто осуществил идею, превратил её в изобретение, открытие, что-то, за что можно получить патент. "Осуществители", а не "идееносители" — центральные фигуры американской науки.
— А вы к какой категории себя причисляете?
— Поначалу я гордился своими идеями, но здесь, в Америке, я постоянно учусь мастерству, с помощью которого смогу реализовать свои задумки.
Похоже, что Михаил Букринский уже многому научился, живя в Соединённых Штатах. Лаборатория его получила три правительственных гранта, обеспечивающих работу учёного на ближайшие пять лет. В Америке, как сказано выше, число грантов и количество опубликованных статей — важнейший показатель научного преуспевания. С научными статьями у нашего соотечественника тоже всё в порядке. За последний год две из них опубликованы в Докладах Академии наук США, одна — в широкочитаемом журнале "Nature”. Предстоят и другие публикации. Разумеется, не все коллеги соглашаются с научными выводами, о которых Букринский сообщает в статьях и докладах на международных конференциях, но он — оптимист и труженик — повторяет свои эксперименты снова и снова и считает, что направление, по которому движется его научный коллектив, абсолютно достоверно.
Мы снова коснулись американского образа жизни моего собеседника. "Да, — признаётся Михаил, — конечно, жить в собственном доме, в пятнадцати минутах ходьбы от работы, приятно. В семье всё в порядке: дети с няней, жена работает в соседней лаборатории. Чего ещё желать! Но ритм нашей деловой жизни во много раз более напряжён, чем это было в Москве. Непривычна и принятая здесь система человеческих отношений. Американские коллеги, как правило, более закрыты, чем российские. Они боятся проговориться о своих идеях, научных исканиях. Говорят лишь о том, что уже давно ими завершено и описано. За пределами лаборатории та же вежливая скованность. О таких дружеских связях, какие были дома, здесь и помыслить невозможно. Да и времени нет дружить по-российски."
Несколько раз уже Михаил ездил в Москву. Там остались близкие души, там ему всё родное, всё интересно, понятно. Но жить, увы, там трудно, а для учёного и вовсе невозможно. Свои планы на будущее мой собеседник связывает с институтом, в котором работает, с проблемой СПИДа. Потребуется ещё немало лет, прежде чем "чума XX века” отступит, — считает он. "В России мы думали, что у нас впереди светлое будущее, — говорит доктор Букринский, — а здесь у нас светлое настоящее. Остаётся только работать…".
5. Свет в конце тоннеля (Доктор Членов)
Среди моих друзей и знакомых немало поклонников последнего из здравствующих ныне вождей СССР. Они уверены: человечество будет вечно благодарить Михаила Сергеевича Горбачева за перемены, произошедшие на территории бывшего Советского Союза. У меня, однако, отношение к этому человеку принципиально иное. Оставляя в стороне его политические трюки, я никогда не забываю поступок Горбачева, который иначе как подлым не назовешь. Десять лет назад, 26 апреля 1986 года, на Чернобыльской атомной станции произошла авария. Авария, которую точнее было бы именовать катастрофой, привела к радиоактивному выбросу в атмосферу, который покрыл территорию в 145 тысяч квадратных километров (площадь, равную по размерам Бельгии и Австрии вместе взятым) с населением в 7 миллионов. Пострадали в тот день от "мирного советского атома", в основном, Белоруссия и Украина, но в той или иной степени Чернобыльская катастрофа принесла серьёзные беды жителям ещё шестнадцати европейских государств. Последствием её был, в частности, резкий рост смертности на облучённой территории, и прежде всего — смертности детской. На Украине и в Белоруссии она подскочила за эти годы в десять раз. Горбачев, в ту пору первое лицо государства, счёл возможным скрыть ужасную правду о произошедшей катастрофе от граждан СССР и всего мира. Он распорядился, чтобы советские газеты, радио
и телевидение ничего не сообщали о чернобыльских событиях. И в том числе о гибели 32-х работников АЭС в первые же часы после взрыва. Не предупрежденные о возникшей опасности, сотни тысяч граждан Киева, Минска и других городов вышли на первомайскую демонстрацию, а второго мая выехали за город, где на зараженных полянках и пляжах облучились ещё больше. Сегодня большинство тех несчастных уже в могиле. Но не забудем и другое: благодаря распоряжению Горбачева миллионы людей получили в те дни "заряд", который разрушает их тело по сей день и будет убивать их ещё немало дней. Политиканское распоряжение тогдашнего генсека войдёт в историю как одно из наиболее подлых предательств, какое глава государства когда-либо совершал по отношению к своему народу.
Но Бог с ним, с Горбачевым, с этим политиканом вчерашнего дня. Взрыв в Чернобыле имел и другие последствия. Руководители западных стран впервые задумались о необходимости совместных действий, направленных на предотвращение в будущем подобных катастроф. А учёных это трагическое событие побудило искать спасительные лекарства против облучения. К десятой годовщине Чернобыльской катастрофы такой препарат разработан, испытан на людях и на сегодня уже производится, хотя не в тех количествах, которые необходимы. Несколько дней назад мне довелось выслушать историю создания этого, может быть, самого важного для XX столетия лекарства. Моим собеседником оказался доктор химических наук Михаил Членов, российский учёный, ныне переселившийся в Соединённые Штаты. Вот что я от него услыхал.
Вопрос о том, как уберечь человеческий организм от радиоактивного облучения, возник перед учёными полвека назад, тотчас после того как американцы сбросили на японский город Хиросиму свою первую атомную бомбу. Очень скоро выяснилось, что расщепленный атом далеко не так легко управляем, как представлялось физикам, основоположникам нового метода получения энергии. Чернобыльская катастрофа по масштабам загрязнения среды оказалась раз в сто страшнее бомбового удара по Хиросиме. А взрыв на сверхсекретном предприятии "Маяк" под Челябинском (1959), где производили радиоактивный плутоний для атомных бомб, по своим печальным последствиям в 30 раз превышал Чернобыльскую катастрофу.
Московский химик Михаил Членов обратился к исследованию роковых взаимоотношений между радиоактивным излучением и клетками человеческого тела вскоре после окончания биофака. Его кандидатская диссертация была посвящена именно этой теме: как радиация разрушает биологически важные молекулы организма и, в частности, молекулы сахара. Чисто научный интерес был подстёгнут и обстоятельствами личного порядка: родственники его жены, киевляне, оказались среди тех, кто первого мая 1986 года вышли на демонстрацию, а второго мая, ничего не зная о страшном взрыве, отправились погулять в район Чернобыля. В результате, один из членов семьи, маленькая девочка, годами потом страдала от тяжёлых болезней. Личное переживание, связанное с семейной драмой, обострилось ещё больше, когда, работая над препаратом, Михаил Членов побывал в Белоруссии и увидел десятки и сотни облученных детей.
…Пока человечество жило в эпоху пороха, динамита, нитроглицерина, тринитротолуола и других взрывчатых веществ, для окружающих опасным оставался лишь сам момент взрыва. Если он не задел вас — слава Богу, считайте себя счастливцем и старайтесь, чтобы вас миновал и следующий взрыв. В эпоху расщепленного атома взрывы оказались куда более страшными, и беречься от них стало во много раз труднее. Взрыв атомной бомбы, как оказалось, опасен не только сиюминутными разрушениями и убийствами, но и бедами, которые он обрушивает на людей через недели, месяцы, годы. Выброшенное при взрыве в атмосферу радиоактивное облако несёт в себе множество губительных для человека веществ: радиоактивный йод, цезий, стронций, свинец. Вещества эти оседают со временем на луга и поля, их в свой черёд поедают коровы и овцы, а затем, с молоком и мясом поглощают люди. Так вся эта нечисть попадает в наши органы, ткани, клетки. Вот тут-то и наступает наиболее страшная для людей часть атомного
взрыва. Радиоактивные элементы начинают бомбить нас изнутри. Накопляясь в щитовидной железе, радиоактивный йод вытесняет йод природный, естественный. Ещё более агрессивны цезий и стронций, особенно последний. Он оседает в организме надолго, входит в кости, вытесняет из них кальций и тем самым лишает наши кости необходимой прочности. Продолжая разрушительную работу, радиоактивный стронций может через 15–20 лет вызвать у своей жертвы и саркому. Так что, как видим, в эпоху расщепленного атома взрыв превращается в бедствие многолетнее. Внутренняя многолетняя радиоактивная "бомбардировка" превращает жизнь облученного в чёрный, беспросветный туннель. В этой жуткой трубе ничто не предсказуемо: ни болезни, длящиеся годами, ни ранняя смерть. Медицина до недавнего времени не имела средств, с помощью которых можно было бы изгнать из тела облученного всех этих медленно действующих убийц.
Никакой надежды на излечение, никакого просвета в конце чёрного туннеля у таких пациентов не было.
Нельзя сказать, чтобы учёные не пытались искать препараты такого рода. В частности, на одной научной конференции Михаил Членов услыхал лекцию об удивительной активности морских водорослей (в том числе типа "морской капусты”). Они, оказывается, очищают моря и океаны, втягивая в себя радиоактивные элементы, в том числе стронций. В нескольких лабораториях делались попытки использовать эти качества водорослей для создания соответствующих лекарств, но все экспериментаторы сходились на том, что полученные препараты слишком слабы, малоактивны.
Михаила Членова, однако, идея эта увлекла. Был 1988-й год. Он возглавлял лабораторию в институте биотехнологии в Москве. Группе коллег — химиков и биохимиков — он изложил следующую задачу. Надо обработать сахара морских водорослей по принципу, до которого пока ещё не додумались учёные Европы и Америки. Извлечённые из водорослей и должным образом обработанные полисахариды, будучи введены в организм, зараженный радиоактивными элементами, станут связывать и вытеснять их. Заведующий лабораторией призвал коллег добиться, чтобы полученные препараты действовали строго избирательно: связывали в организме вредоносный радиоактивный стронций и ни в коем случае не трогали при этом нормальный кальций, от которого, в частности, зависит прочность костей. Будущий препарат должен выводить из организма облученного радий, но не затрагивать железо, входящее в состав гемоглобина.
Одним словом, будущий препарат должен связывать и выводить из тела пациента только губительные радиоактивные тяжёлые металлы, но ни в коем случае не затрагивать элементы естественные и необходимые для нормальной жизни.
Разумеется, доктор наук Михаил Членов пользовался для разъяснения предстоящих исследований куда более серьёзным научным языком. Но в конечном счёте задача сводилась к тому, чтобы из веществ, заложенных в морских водорослях, выделить активно действующий и безвредный препарат, спасительный для миллионов жертв облучения.
— И вам удалось создать такое лекарство?
— Да, мы — я и мои коллеги — его в конце концов получили.
— Сколько же времени ушло на поиски?
— Шесть лет. Мы завершили бы эту работу вдвое быстрее, если бы не тот ералаш, что царит во всех сферах жизни бывшего Советского Союза.
Чисто научное решение проблемы — новый метод обработки полисахаридов океанских водорослей — сотрудникам лаборатории удалось найти сравнительно скоро. Испытание препарата на животных тоже оказалось не столь уж длительным. Уже через год Михаил Членов и его коллеги убедились: в их руках — активно действующее средство, которое необходимо как можно скорее передать для испытания на людях. В том, что препарат абсолютно безопасен, учёным было ясно с самого начала, но доказать эту истину так называемому Фармакологическому комитету, ведающему проверкой новых лекарств, не удавалось годами. Даже тот факт, что морскую капусту люди употребляют в пищу уже столетиями, чиновников от медицины ни в чём не убедил. Они настаивали на новых и новых экспериментах, доказывающих безопасность препарата. Бесконечные проверки требовали времени, а главное — средств. Между тем институт стремительно нищал, средств не было не только на технику и химикаты, но и просто на зарплату. Из 1200 сотрудников более тысячи покинули свои рабочие места. Да и в коллективе Михаила Членова, состоявшем поначалу из одиннадцати человек, осталось всего четверо. Кто-то, чтобы прокормиться, принялся перепродавать полученные из-за границы лекарства, а кто и просто взялся торговать курами, выращенными на даче.
Завлаб попытался добыть хотя бы самые насущные средства для завершения опытов. Бросился к власть имущим. Добрался до Верховного совета. Объяснил должностным лицам, насколько важен препарат, над которым идёт работа. В ответ — ноль внимания. Хотя не совсем ноль. Одна высокопоставленная дама, от которой зависело выделение средств, подошла к просителю и сказала, что её родственникам, живущим на Украине, необходим тот препарат, которым занимается товарищ Членов. Она даже готова заплатить за одну лечебную порцию наличными. Заведующий лабораторией торговать лекарством не стал. Помчался в Белоруссию. Попытался объяснить минским вождям, что их республика серьёзно нуждается в предупредительном лечении облученных детей, да и взрослых. Без этого через несколько лет в республике можно ожидать массовые заболевания молодёжи саркомой и другими формами рака. В Минске на призыв учёного тоже не откликнулись.
Положение в институте становилось между тем всё более невыносимым.
Свою весеннюю зарплату за 1993 год сотрудники получили только осенью. Да и какие то были деньги! Месячный "доход" заведующего лабораторией не превышал 30–50 долларов. Умные люди советовали: откажитесь от создания лекарства, объявите, что созданный вами препарат есть не что иное, как пищевая добавка, средство, которое можно добавлять в хлеб и другие продукты. Для "добавки" разрешение Фармкомитета не обязательно. Но Членов на такой трюк не согласился. Хотел передать врачам препарат действительно благодетельный для облученных, лекарство, пользу которого можно четко определить и измерить. Сегодня в специальной литературе уже есть такие цифры. Когда лекарство, созданное по методике Михаила Членова, проверили на детях Белоруссии, оказалось: после курса лечения количество стронция в моче маленьких страдальцев упало в девять раз.
Разрешение на проверку нового препарата на людях последовало лишь в начале 1994 года. Уже за год до того семья Членовых — отец, мать, дочь и сын — на семейном совете решили выезжать из страны. Семья буквально обнищала, в доме не хватало самого насущного. Подали бумаги в ОВИР, но глава семьи и после того ни на день не прекратил работу с препаратом. То, что новое лекарство активно выводит из организма стронций и цезий, было уже установлено. Но Михаилу не терпелось дознаться, помогает ли препарат освобождать организм также от свинца. Металл этот российские граждане в переизбытке получают на многих производствах, немало его и в воздухе столичных улиц. Работа затянулась. В лаборатории осталось всего лишь два сотрудника, так что завлабу приходилось работать за пятерых. Среди домашних его «воркоголизм» вызывал всё большее раздражение. Надо было готовиться к отъезду, а глава семьи был весь захвачен информацией, поступающей с разных концов страны. Врачи сообщали о несомненной активности и благодетельности испытуемого препарата. Медики подтверждали: после курса лечения количество тяжёлых металлов в организме обследуемых резко снижалось.
Другая проблема, также терзавшая учёного почти до последнего дня в России, состояла в том, кто же, когда же и где же начнёт производить новое лекарство. Единственное в стране предприятие в Архангельске, поставляющее продукты из морских водорослей, от изготовления лекарства отказалось. Тогда Михаил Членов совершил ещё один рывок. Он узнал, что в Москву всего на одни сутки прилетел представитель американской фармацевтической компании КЕЛКО и добился свидания с боссом. Познакомившись с выводами врачей, американец согласился произвести для начала несколько тонн препарата и дал москвичам, хотя и не слишком большие, но насущно необходимые деньги для завершения исследований. В дальнейшем по договору, заключённому между московским институтом и заокеанской компанией, американцы получили все технологические данные, необходимые для производства. Россияне передали им и свой патент на лекарство, получившее название АЛЬГИСОРБ (от латинского "альги" — водоросли и "сорб", сорбция — поглощение).
Весна 1995 года была напряжённым временем для моего собеседника: 29 апреля он подписал окончательные документы с американской стороной, а в мае, после трёх лет ожидания, семья Членовых выехала в Соединённые Штаты в качестве беженцев. По отношению ко многим из наших соотечественников слово "беженец" звучит подчас довольно странно. Но Михаил Членов действительно бежал из страны, где хотел жить, где хотел работать, из страны, которую имел чем одарить. Но — оказался ненужным. Пришлось бежать….
Здесь, в Америке, он продолжает внимательно следить за тем, что происходит с его альгисорбом. В апреле нынешнего года, к десятилетию Чернобыльской катастрофы, американское правительство передало Украине дорогой подарок: из Вашингтона в Киев было отправлено четыре тонны альгисорба. Вице-президент компании, производящей лекарство, в связи с этим выезжал на Украину. Но кто, где и как будет распространять препарат, кто его получит в первую очередь, пока неизвестно. Непонятно и другое: лекарства этого России, Украине и Белоруссии нужно много, десятки тонн. А кто будет платить западным компаниям за его производство? С другой стороны, отказываясь покупать препарат, республики бывшего СССР могут накликать на свой народ серьёзную беду. Если не начать в ближайшее время массовое предупредительное лечение, можно ожидать в следующем уже десятилетии всё возрастающую волну саркомы и других столь же страшных болезней. Простой люд пока ещё не представляет отдалённых последствий Чернобыля. Но медики уже уразумели: из того чёрного туннеля, куда взрыв десятилетней давности загнал сотни тысяч людей, есть лишь один единственный просвет — массовый, продолжающийся годами, приём препаратов типа альгисорб.
…Мой собеседник не может пожаловаться: его собственная карьера в Америке складывается неплохо. Несмотря на его солидный возраст — 56 лет, — американская компания предоставила ему вполне достойное место, связанное с его прошлыми научными заслугами. Всё вроде в порядке. Но мысли о том, как помочь людям, оставшимся на другой стороне планеты, как снабдить их спасительным лекарством, не оставляют доктора химических наук Членова. Он подсчитал: пока на Украину завезли лекарство, которого хватит на 30 тысяч человек. А ведь нужно оно миллионам….
Прощаясь, мы снова вспомнили о горбачевском предательстве. "А знаете, он ведь не всех предал, — с улыбкой заметил Михаил. — Кое-кого он всё-таки пожалел". Оказывается, в том страшном году родственники Михаила жили в Киеве. Напротив был дом, населённый сотрудниками украинского ЦК. Второго мая, собираясь выезжать с детьми за город, родственники вышли на балкон и с удивлением увидели, что жители соседнего дома спешно загружают грузовики вещами, и в том числе мебелью. Было ясно, что едут они не на прогулку. Но куда же? Как выяснилось позднее, высокопоставленную знать, по указанию из Москвы, вывозили в безопасные районы, подальше от места взрыва. Так что утаивал Михаил Сергеевич Горбачев чернобыльский секрет не от всех. Своих людей он заботой не оставил….
II. ПРОБЛЕМЫ? СКОЛЬКО УГОДНО
1. Учёный за рулём
Среди бесчисленных проблем нашей эмиграции
эта ранит наиболее остро и болезненно: как сохранить в Америке тот социальный статус, за который мы с таким трудом боролись на родине. Конечно, можно посмеяться, слыша в сотый раз: "А вы знаете
к е м я был там?" Но тот, кто был
т а м известным писателем, крупным администратором или учёным, не может не переживать перемены, которые обрушились на него, едва он пересек океан. Именно учёные занимали меня более всего, когда я жил на родине. В течение тридцати лет они оставались героями моих книг, журнальных и газетных очерков. Это не было случайностью. Мы жили в стране, где физик, математик, не говоря уж об атомщиках и творцах космических ракет, живо привлекали внимание публики. Не оставляло своим вниманием общество и знаменитых медиков и агрономов. Десятки и сотни тысяч граждан целью своей жизни ставили обрести учёную степень, а в идеале добраться до академических вершин. Крушение российской науки привело к массовому бегству наших кандидатов и докторов. Сегодня в американской газете уже можно прочитать: "Каждый десятый физик в Америке — русский". Многие соотечественники действительно сделали неплохую карьеру в Соединённых Штатах. Но, увы, не все….
Недавно в моей ньюйоркской квартире собралось несколько именно таких учёных, кому продолжить свою карьеру в Штатах не удалось. Чаще всего препятствием служит возраст, люди эти пустились в эмиграцию в пятьдесят лет и позже. Не получив доступа к американским лабораториям, они восприняли свой провал как трагедию. Куда идти? Чем кормиться? Как заполнить жизнь? Садиться за баранку, подаваться в шофёры? Но ведь это позор, унижение, потеря своего лица…. Нашлись среди моих гостей люди и более уравновешенные, которые восприняли подобную ситуацию не столь драматично. А почему, собственно не попробовать свои силы в других профессиях, тем более, что различных профессий в Америке в два раза больше, чем в бывшем Советском Союзе. Для того, кто захочет освоить, например, профессию таксиста или лимузинщика, пятьдесят не такой уже поздний возраст.
Между оптимистами (меньшинство) и пессимистами (большинство) возникли бурные дебаты. Главный спорный вопрос звучал примерно так: позорит ли "баранка" водителя. Я не стал присоединяться ни к тем, ни к другим, реагировал по-журналистски: попросил двух в прошлом кандидатов наук, ныне работающих шофёрами, рассказать, что они думают о своей теперешней профессии. Унижены? Оскорблены? Или их нынешний социальный статус содержит и положительные стороны? О своей шофёрско-ньюйоркской жизни рассказали кандидат технических наук Юрий Франц и кандидат наук экономических Константин Сливин. Послушаем информацию, так сказать, из первоисточника. Слово Константину Сливину. Возраст 54, женат, двое детей. В Америке девятый год.
Константин невысок, худощав, аккуратно одет. Со знакомыми деликатен, даже любезен. Говорят, он хороший отец и заботливый муж. Как у многих одесситов крови в нём намешаны всякие и разные: русские, французские, греческие, еврейские. По паспорту — русский. Мой собеседник эмоционален, даже горяч, но умеет держать язык за зубами. Вытянуть из него подробности его нынешнего американского бытия и прошлой советской жизни было не просто. В нём постоянно проступал российский страшок: лучше промолчать, а то как бы чего не вышло. Только через час после начала беседы удалось, наконец, раскачать его, и тогда он буквально выдохнул: "Ну и что ж, что я таксист? Я не рожден для этой работы! Я ненавижу эту профессию!"
Разговоры о том, какой работой Константину следует заняться в этом мире начались в семье Сливиных ещё тогда, когда Костя едва закончил седьмой класс. Папа инженер-строитель предупреждал сына, чтобы тот ни в коем случае не наследовал его профессию. Где стройка, там непременно взятки, кражи, продажа строительных материалов на сторону. Строителей постоянно сажают. Дядя, брат отца, по специальности врач, тоже не советовал племяннику следовать по своей стезе. У врачей зарплата низкая и приработать негде. В конце концов, сменив несколько учебных заведений, Константин получил диплом инженера-литейщика.
Но в душе юный одессит постоянно вынашивал проекты иного рода. Его интересовало любое дело, где можно заработать приличные деньги. На одесском пляже счастливый случай свёл молодого инженера-выпускника с украинским дядькой, председателем колхоза. Дядька, опытный деляга, завёл у себя в колхозе весьма выгодную индустрию — полтора десятка цехов, производивших товары на продажу, от перчаток до линолеума. Константину он предложил создать цех, производящий вилки и ложки.
"На той работе честно и по закону ничего не делалось, — рассказывает Константин. — Дефицитный кокс можно было добыть лишь за взятки, подходящий по качеству алюминий приобретали тоже в обход закона. Каждый начальник цеха должен был ежемесячно вручать председателю колхоза три сотни. Молодой литейщик, разумеется, не оставлял в обиде и самого себя. Приглашал на работу только таких работяг, которые, получая двести рублей, соглашались расписаться за триста. "Отношения
с председателем колхоза были у меня самые дружественные, — вспоминает Константин. — С главным снабженцем — тоже, так что эти боссы собирались даже протолкнуть меня в депутаты районного света. Им такой депутат не помешал бы…”.
Я поинтересовался, как мой собеседник сегодня оценивает то всеобщее воровство и беззаконие, в которое его втянула "колхозная" служба. Константин ответил, что не видит в этом ничего ненормального. Стремление человека заработать — желание вполне естественное. Коммунистические же власти душили эту здоровую тенденцию своих граждан. "Коммунисты хотели оставить нас, простых людей, нищими, чтобы им было легче командовать нами”. Колхозная эпопея завершилась для Константина благополучно. К тому времени, когда власти начали громить подобные производства и арестовывать деревенских бизнесменов, он успел покинуть колхоз и уехать в Москву. Юная москвичка, его жена, ждала первого ребёнка. Заработанных в колхозе денег хватило на покупку трёхкомнатной квартиры.
К тезису о том, что обман и кража в условиях советского режима не есть зло, Константин возвращался в течение нашей беседы многократно. Он даже выразил сожаление, что Господь не наградил его более могучим талантом в этой области. Когда позднее, на другой службе, проворовался его прямой подчинённый, он предпринял попытку на заседании суда выгородить воришку. Опять же из политических, как он теперь объясняет, побуждений. Но не только из политических. Тот сотрудник по службе ведал гаражом и Константин всегда мог взять у него для личных нужд "Жигули” или "Волгу".
На пороге своего тридцатилетия, живя в столице, Константин Сливин сделал ещё один рывок к материальному благополучию. Его в эту пору потянуло от техники к экономике. Он пошёл в аспирантуру и вскоре стал кандидатом экономических наук. Учёная степень обеспечила ему в одном из московских институтов весьма солидную должность — заведующего сектором экономического прогнозирования. То был пик, высшая точка в советской жизни Константина Сливина. О периоде этом вспоминает он с явной гордостью. Кандидатскую диссертацию написал за два месяца. В тридцать три года стал членом Учёного совета института и заместителем председателя профсоюза. Последняя должность давала доступ ко всем выделяемым институту материальным благам. Да и зарплата — 280 рублей в месяц в те годы считалась неплохой.
Но очень скоро знаток экономического прогнозирования, прогнозируя будущее своей семьи, совершил серьёзную ошибку. Он подал бумаги на эмиграцию. Последовал ответ:
с точки зрения советских государственных интересов выпускать учёного-экономиста за рубеж — нерационально. Прогнозист тут же потерял свою сверхблагополучную работу и, как отказник, на несколько лет повис в абсолютно непредсказуемом пространстве.
Выручал Константина в эти годы его несомненный талант по части нарушения государственных законов. Он рассказывает: "Чтобы прокормиться, я спекулировал, собирал яблоки и помидоры в колхозах и продавал их на Черёмушкинском рынке, писал студентам работы по экономике. Разумеется, не даром. Спекулировал радиоаппаратурой, вступал в контакты с иностранцами и кое-что доставал для них. Покупал в Москве икру и вёз её продавать в Одессу. Меня несколько раз задерживала милиция, но удавалось вывернуться, до суда дело не дошло." Этот монолог мой темпераментный собеседник завершил опять-таки выводом политическим: нарушать законы страны социализма отнюдь не зазорно. Их (законы) надо было нарушать ещё более злостно, ещё активнее. Она (наша страна) того стоит…
Начало американской жизни сопровождалось у семьи Сливиных, как и у многих из нас, нелёгкими переживаниями. У Константина возник конфликт с матерью и сестрой. Они протестовали против его решения идти в таксисты. И не столько из-за престижа, сколько из страха: таксистов в Нью-Йорке постоянно грабят и убивают. Константин тем не менее настоял на своём. "У меня не было другого выхода, — вспоминает он. — Предлагать себя в Соединённых Штатах в качестве учёного-экономиста было абсурдно. Сунулся на курсы компьютерщиков — не понравилось, да и языка не хватало. Сидеть же на шее Америки я не собирался, тем более, что семья наша росла: через три недели после приезда в Нью-Йорк родился второй сын." Позанимавшись несколько недель языком, Константин неплохо сдал экзамены на право вождения. Но чтобы занять место в жёлтой машине, предстояло ещё приобрести так называемый медальон, "игрушку" ценой в 135 тысяч долларов. Деньги давал банк при условии, что новоприезжий выплатит полученную сумму с процентами в течение десяти лет. Так что не прошло и четырёх месяцев, как Константин сел за руль и его жёлтая машина влилась в уличные потоки "столицы мира”.
Решительность и принципиальность, проявленные собеседником в первые дни эмиграции, мне были симпатичны. Особенно, когда я думаю о тех сотнях и тысячах вполне трудоспособных соотечественников, которые годами сидят здесь на государственном пособии. "Я привёз с собой романтические проамериканские чувства, — признаётся Константин. — Живя в СССР, я идеализировал Америку, как и многие из нас. Вблизи порядки здешние оказались более жестокими и менее справедливыми. И тем не менее сидеть на шее у приютившей нас страны я не собирался."
Америку Сливин любит и поныне, а вот картина таксистской жизни, которую он нарисовал, заставила меня ужаснуться. Главная проблема — взаимоотношения с пассажирами. За день в машине бывает до сорока человек. "Уже открывая дверцы такси, пассажир полон ненависти к водителю, — утверждает Константин. — Причина? Он не хочет расставаться со своими деньгами и заранее подозревает меня в обмане. Белокожие пассажиры ещё умеют скрывать свои недобрые чувства, но чернокожие делают всё, чтобы напакостить таксисту: включают на полную мощность музыку, которую я не люблю, указывают, где и как я должен вести машину, где ускорить, где замедлить ход, в каком ряду ехать, кого обгонять. Чёрные преднамеренно замусоривают заднее сидение машины, а подчас и просто убегают, не заплатив за проезд.”
Мой собеседник-таксист снова и снова повторяет, что чувствует себя в своей профессии беспомощным, ничтожным. Каждый пассажир может обхамить его, плюнуть ему в рожу, заявить, что водитель — вор и обманщик. Задаю прямой вопрос: "Подвергались ли Вы когда-нибудь личным оскорблениям со стороны пассажиров?" Нет, такого случая Константин не помнит, но твёрдо знает, что среди пассажиров сколько угодно подонков, готовых унизить его. Стоит им только пожаловаться на него полицейскому и тот непременно оштрафует таксиста. Особенно, если пожалуется чёрный.
Константин признаётся: он старается не сажать в машину негров и южноамериканцев. Это нарушение закона, но, проезжая по улице, где "голосуют" чернокожие, он делает вид, что призывы остановиться к нему отношения не имеют. В аэропорту такой трюк не проходит, если попытаешься уклониться и не взять на борт чернокожего, диспетчер немедля вызывает полицейского.
— Так вы что же, расист?
— Не скрою, в каком-то смысле, да. Не могу преодолеть в себе это чувство. Когда за спиной у меня сидит негр, то вся поездка превращается в тяжёлое нервное испытание. Белые тоже иногда подозревают водителей такси в обмане, но чёрные почти без исключения считают нас ворами и обманщиками.
— Но ведь это же вздор, — не удержался я. — Вы, вероятно, никого и никогда не обманываете, не так ли?
— Всё не так просто. Сначала, в первые месяцы, я действительно старался не нарушать здешних законов, но потом увидел, что моя честность абсурдна. Теперь я постоянно везу пассажиров в аэропорт Кеннеди наиболее длинным путём, убеждая их при этом, что избранный мною маршрут самый короткий и удобный. Поездка такого рода обходится пассажиру в 5–6 лишних долларов. Конечно, никогда не хочется обманывать порядочного человека, с которым по дороге ведёшь вроде бы дружелюбную беседу. Но дурю и таких. У меня нет выбора. Я не стал христианином, и для меня сегодня такого рода трюки — кусок хлеба, от которого я отказываться не собираюсь. Между прочим, таксисты арабы и пакистанцы обставляют своих пассажиров ещё круче, но я их не порицаю.
Столь же решительно урывает Константин и свои чаевые. Сначала он стеснялся просить сумму сверх той, что обозначена на счётчике, но сегодня делает это легко. А тех, кто не даёт, или даёт мало, считает своими личными врагами. Среди тех, с кем водителю приходится беседовать в машине, есть, конечно, и достойные люди. Случается, что россиянин-таксист даже упоминает свою полученную на родине учёную степень. Бывало, что растроганные пассажиры даже оставляли ему телефоны университетов и компаний, где он мог бы сыскать для себя более достойную работу. Но и такие встречи не переубеждают моего собеседника в том, что его работа — сплошное унижение. Он с удовольствием вспоминает тот номер журнала "MONEY" ("Деньги"), где приводилась статистика, как ньюйоркцы оценивают социальный уровень тех или иных профессий. Таксист в том списке стоял на предпоследнем месте. Ниже значились лишь уборщики мусора. Продолжая твердить об отвращении к своей профессии, мой собеседник договорился до того, что ему стыдно отвозить маленького сына в школу на своей жёлтой машине; не хочет, чтобы учителя знали, что у ребёнка папа таксист.
Ежедневное 12-14-часовое сидение за баранкой полностью исключает для Константина возможность бывать в театрах, на концертах и даже в гостях. Но одно приятное занятие в служебные часы он для себя всё-таки оставил. В ожидании пассажиров, стоя возле гостиниц или на перекрёстках, он постоянно читает книги, журналы и газеты. Его любимая тема — экономика Америки, любимый журнал — MONEY. Каких-либо практических целей таксист-читатель в связи с такого рода самопросвещением не ставит, но и по радио и по телевидению предпочитает прежде всего экономические передачи. Старая российская школа в душе кандидата экономических наук что-то всё-таки оставила.
…Я не вместил в этот очерк и половины тех сердитых эпитетов, которыми мой земляк наградил свою профессию и самого себя, как таксиста. "Мне стыдно того, чем я занимаюсь", — сказал он в заключение. "Вы имеете ввиду обман пассажиров?" — спросил я. "О, это мелочи! Позорна, унизительна сама профессия. Человек за баранкой — неизбежно деградирующая личность." Я поблагодарил Константина за откровенность и спросил, нет ли у него каких-либо пожеланий по поводу будущего очерка о нём. "Только одно, — последовал ответ, — замените моё имя и фамилию.” Я не стал спорить. Заменил.
2. Глазами врача…
Моими собеседниками в последние недели чаще всего оказывались врачи. Я побеседовал с двумя хирургами, терапевтом, специалистом по сердечно-сосудистым заболеваниям, с зубным врачом и даже педиатром. Нет, нет, я не обращался к ним с жалобами. Со здоровьем у меня всё в порядке. Я искал медиков, в прошлом российских, а ныне американских, чтобы услышать их мнение о профессиональных проблемах, которые возникали у них ТАМ и продолжают беспокоить ЗДЕСЬ. Я спрашивал, как их учили на родине, легко ли было подтвердить свой диплом в Штатах. Хотелось также узнать, как ведут себя на приёме американцы и россияне. Были и другие вопросы, опять-таки не относящиеся к лекарствам и методам лечения, но открывающие каждодневные служебные ситуации человека в белом халате. Удалось сыскать шесть добрых людей, согласных потратить время на беседу с журналистом. Передо мной прошли врачи, прожившие в Соединённых штатах от пяти до двадцати лет, мужчины, женщины, молодые и не очень. Люди попались разные, но при всём том группа эта четко делилась на две категории. Часть врачей говорила о тяготах жизни резко, с раздражением, другие вспоминали профессиональные трудности снисходительно и даже с дружелюбной улыбкой. Эти два четко выявленные характера побудили меня записать наши беседы как разговор не с шестью, а с ДВУМЯ медиками: С Доктором А (оптимистом) и Доктором Б (скептиком). Вот как выглядел этот диалог.
Марк Поповский: Вы получили высшее медицинское образование в бывшем Советском союзе. Как вы считаете, хорошо ли готовили врачей у нас на родине?
Доктор Б. (скептик): До конца понять, как нас учили, удалось лишь добравшись до Америки и сравнив здешнее образование с тамошним. Разумеется, были в каждом институте хорошие и слабые преподаватели. Но окончательная подготовленность выпускника мединститута зависела не только от одарённости лекторов, но и от качества институтских учебников. Их не переиздавали порой по двадцать лет. Теперь я вижу, насколько содержание этих учебников отставало от уровня мировой науки. Это не было случайностью. Даже самые талантливые медики и биологи СССР были лишены свободного контакта со своими западными коллегами, они не знали, чем дышит их наука сегодня. В конце шестидесятых — начале семидесятых нам в институте не преподавали такие науки, как генетика, иммунология и ряд других. Их к этому времени вроде бы уже поносить перестали, но и преподавать не начали. Зато не менее трети нашего учебного времени транжирилось на постижение марксизма-ленинизма и другой политической болтовни.
Доктор А: Вынужден перебить вас, коллега, и напомнить: всё-таки у нас дома учебники были бесплатными, а здешние безумно дороги….
Доктор Б: Потому-то они ничего и не стоили, что не стоили ничего. Поскольку вы вернули нас к вопросу об учебниках, то напомню: в Америке медицинские учебники
с обновленным текстом переиздаются каждые три-четыре года. При этом здешний студент получает каждый раз 200–300 страниц свежего текста, отражающего новейшие достижения науки.
Другая беда советского медицинского образования состояла в том, что нас готовили "ко всему и ни к чему определённому". Помню речь одного из моих профессоров, произнесённую незадолго до выпускного вечера. Среди прочего он сказал: "Вы выходите из нашего института людьми широкого кругозора. Когда же на работе займетесь конкретной специальностью, такой, например, как пульмонология или инфекционные болезни, старшие товарищи вас подтянут и сделают мастерами в избранной вами области." Приехав в Америку, я увидел: здесь студент-медик начинает изучать терапию, хирургию, клинические дисциплины уже на третьем году. А на четвёртом году он снова повторяет эти курсы на ещё более высоком уровне. Институт окончен, но американского выпускника после этого не посылают заниматься целительством в глухую деревенскую больницу, как это делалось у нас. Его заставляют ещё три года заниматься клинической практикой под наблюдением опытных специалистов. И только после трёхгодичной резидентуры американский медик вправе считать себя полноправным и полновесным врачом.
Доктор А: Но ведь и у нас есть подобие резидентуры — ординатура…
Доктор Б: Общеизвестно, что попасть в ординатуру имели возможность не более 25 процентов выпускников. Избранные. Да и обучение тамошнее даёт юным медикам во много раз меньше практического опыта, чем то, что получают выпускники резидентуры. Не станем забывать: принятый в резидентуру молодой американский врач работает по 70–80 часов в неделю при четырёх круглосуточных дежурствах. Я спросил недавно здешнего медика, через какие годы проходил высший пик его обучения, когда он получил наиболее серьёзный заряд врачебного опыта. Он ответил: "В резидентуре."
Конечно, медицинские институты в нашей стране были по качеству обучения разные. Московский и ленинградский готовили специалистов более высокого класса. А, например, Одесский медицинский институт в последние годы славился лишь своей блатной системой приёма. Чтобы стать студентом, там требовалось иметь в качестве родственника директора завода, обкомовца или на крайний случай председателя колхоза. Неудивительно, что, набирая такого рода случайных студентов, местные мединституты выпускали немало столь же случайных врачей.
Доктор А: Неужели, живя дома, вы никогда не встречали хорошо образованных и умелых медиков?
Доктор Б: Разумеется, встречал. Но я говорю не об исключениях, а о правилах. Вот лишь один конкретный пример: в оставленной нами стране было сто тысяч акушеров-гинекологов. Но, как установило специальное обследование, только каждый третий из них владел мастерством хирургического удаления матки. И вот результат: смертность среди женщин, подвергшихся такой, в общем-то немудрёной операции, чаще всего оказывалась следствием не остановленного вовремя кровотечения. Так оборачивается безграмотность медика для пациента…
Марк Поповский: Переменим тему. Расскажите, пожалуйста, какова судьба врачей-эмигрантов, пытающихся пробиться в доктора американские.
Доктор А (оптимист): Судьба не простая и не лёгкая. В возрасте после пятидесяти нашему брату лезть в американские врачи дело вообще безнадёжное. Обидно, но таковы здешние традиции. В России врач и в шестьдесят и в семьдесят, порой, остаётся вполне уважаемым медиком. Но изображать нас какими-то недоучками по сравнению с американскими коллегами — несправедливо, более того, абсурдно. Уже более двух тысяч наших соотечественников сдали американские медицинские экзамены и либо проходят резидентуру, либо уже приступили к самостоятельному приёму больных. Случайность? Не думаю…
Доктор Б: Я вижу, дорогой коллега, что вам никак не удаётся расстаться с тем идеальным обликом врача, на котором нас воспитала сначала отечественная классическая литература (доктор Дымов и другие), а затем и советская пропаганда. Самоотверженный, равнодушный к материальным благам, весь погруженный в стремление помочь своим пациентам врач — весьма редкая фигура, как среди американцев, так и среди наших соотечественников с медицинским дипломом. Большая часть тех, кто, обдирая кожу, пытается прорваться через американские медицинские барьеры, руководствуется вполне рациональной идеей о будущей хорошей и очень хорошей жизни. Я спросил как-то одного американского видного и преуспевающего медика, бросит ли он свою профессию, если ему предложат на сто тысяч большую зарплату за перетаскивание трупов в анатомичке. "А почему бы и нет? — ответил этот высокочтимый в медицинском мире врач. — В нашей стране любой мой коллега принял бы такое вполне разумное решение." Уверен, что подобный ответ дала бы и немалая часть русских врачей, освоивших нравы мира капитализма. Конечно, среди наших медиков, много лет проработавших на родине, найдутся люди, любящие своё дело и не согласных расставаться со своей профессией, но процент таких "чеховских" докторов весьма невелик.
Марк Поповский: За двадцать лет жизни в Америке я немало повидал врачей как первого, так и второго упомянутого здесь типа. Каких больше — решать не берусь, но догадываюсь: в тот момент, когда наш земляк-врач принимает коренное решение, касающееся его профессии, деньги играют решающую роль. А что вы можете рассказать об отношениях между русскими медиками и врачами американскими? Не возникает ли между ними и нами конфликтов на почве, так сказать, конкуренции?
Доктор Б: Нет, конкурентов они в нас не видят. Сфера влияния между ними и нами поделена достаточно четко: они обслуживают, в основном, своих соотечественников, а мы — своих, русских. Конкуренции не возникает ещё и потому, что для успешно практикующего американца медики, прибывающие из Эквадора, России, с Филиппинских островов или республики Бангладеш — суть одно и то же. Американцы не считают Россию цивилизованной страной. В этом, в частности, их убеждает наш, как правило, скверный английский. Врачи-беженцы бегут, не запасшись самым элементарным знанием языка той страны, в которую бегут. Влияет на отношение к нам и тот шум, который поднят американской прессой по поводу "русской мафии". Среди американцев возникло в последнее время даже недоверие к врачам с русской фамилией. Впрочем, американцы подчас и к своим врачам относятся без лишнего почтения. Вспомним хотя бы широко ходящую среди здешней публики поговорку: "Доктор опаснее адвоката (лоера). Лоер только грабит, а доктор ещё и убивает."
Доктор А: Некоторые из перечисленных аргументов, вероятно, справедливы. Наш английский действительно раздражает американцев. Антирусская кампания, развязанная в последние годы в прессе, тоже сказывается на отношении к нам коренных жителей страны… И тем не менее в клиниках и госпиталях, где, завершив резидентуру, оседают русские, американцы вскоре начинают замечать, что мы, как правило, ответственны, работаем добросовестно и в общем-то нетребовательны. В клинике, где я работаю, несколько раз возникали ситуации, показывающие русских с нехудшей стороны. Например, американский доктор, отдежуривший полагающиеся ему часы, ни на минуту задерживаться на работе не желает, даже если в нём есть серьёзная нужда. Наши в подобных случаях не упрямятся, прав своих не качают. Вспоминается и такой эпизод: после одного обильного снегопада ни один американский врач в госпиталь на работу не приехал. Добрался до служебного кабинета, хотя и не без труда, только один врач, русский. Американцы были явно удивлены. В специально выпущенном номере госпитальной газеты нашему земляку буквально пелись дифирамбы. Подобные случаи, показывающие, что понятие "я должен” развито у прибывших из России сильнее, чем у коренных жителей, мне пришлось наблюдать неоднократно.
Марк Поповский: О врачах поговорили. Благодарю. А какие впечатления возникают у наших медиков во время приёма больных? Чем отличается поведение американского пациента от поведения россиянина?
Доктор А (оптимист): Догадываюсь, что сейчас мои уважаемые коллеги начнут катить бочку на дурно воспитанных россиян и превозносить неизменно любезных и корректных пациентов американских.
Доктор Б (скептик): Обобщай, не обобщай, но вот уже седьмой год я изо дня в день наблюдаю у себя в кабинете один и тот же тип российского иммигранта. Его главная черта — недоверие. Эти люди требуют от врача всё новых и новых исследований, проверок, благо платить за всё это из своего кармана этим, в основном, пожилым людям не приходится. Но главное для них — прорваться к какому-нибудь профессору познаменитей. Они не говорят мне в лицо: "Доктор, я вам не доверяю." Но всякий раз, когда я направляю их на консультации к хорошо мне известному, опытному специалисту, они, возвращаясь, заявляют: "Уролог ваш ничего не соображает". Им не достаточно "второго мнения”, они жаждут третьего, пятого, десятого.
Когда я осматриваю всех этих 75-80-летних старичков и старушек, проживших в Соединённых Штатах десять и более лет, я вижу, насколько здоровее, моложе и свежее выглядят эти люди по сравнению с их сверстниками в России. Российская публика получает здесь такую медицинскую помощь, какая им на родине и не снилась. Сотни людей, которые там бы давно ослепли, здесь сохранили своё зрение, они дожили до "среднеамериканского возраста" благодаря здешним электростимуляторам, байпасам, уникальным протезам. К сожалению, многие наши пациенты не задумываются о том, сколько всякого рода благ они получили от здешней медицины. Всё время сомневаются в вашей грамотности и чего-то требуют, требуют….
Доктор А: Вы считаете, что так ведут себя все без исключения россияне?
Доктор Б: Не все, конечно. Интеллигентный человек и на приёме у врача ведёт себя достойно. Но я, извините, принимаю больных в Бруклине… На американцев пожаловаться не могу. Они в массе своей склонны доверять врачу и не склонны рассказывать во время приёма подробности своих конфликтов с тёщей. Но и среди них есть категория, которую я мысленно именую "академиками". Начитавшись в газетах или наслушавшись по телевидению о каких-то всеисцеляющих лекарствах, они просят прописать им именно это средство. Но, говоря с американцем, мне легче объяснить ему, где кончается наука и где начинается реклама. Коренные жители страны внимательнее выслушивают поставленный медиком диагноз, в то время как наши соотечественники, едва войдя в кабинет, торопятся сообщить" "А гипертония у меня советская, а диабет уже американский…"
Марк Поповский: Наверное, есть и другие, более серьёзные различия в поведении американского и российского пациента?
Доктор Б: Американский пациент верит в хирургическое лечение, он охотно принимает предложение об операции. Русских, особенно пожилых, уговорить на операцию крайне трудно. От них слышишь ответ: "Я уже стар, дайте мне спокойно дожить остаток моих лет." Реакция на приближение смерти у нас и у них тоже очень различны. Американцы, люди, как правило, верующие, к приближению кончины относятся, как правило, спокойно, для них это нечто естественное. Русские свою болезнь и перспективу гибели воспринимают трагически. Разговаривать с ними врачу на эту тему крайне сложно.
Доктор А: Да, наши пожилые иммигранты на приёме у врача подчас действительно излишне многословны, нетерпеливы, раздражительны. Но мы должны понимать их чувства: чужая страна, чужой язык, туманное будущее. Я им сочувствую. В разговорах с больным стараюсь его успокоить, подать надежду. Это тоже долг врача.
Марк Поповский: И в заключение: что вы наблюдаете у себя на приёмах за последние четыре-пять лет? Меняется ли характер новоприбывающих пациентов?
Доктор Б: В среде интеллектуальной публики перемен особых нет. "Рядовые советские граждане" меняться тоже не спешат. Зато всё чаще за последние годы демонстрируют себя так называемые "новые русские". Это действительно нечто новенькое. Они с гордостью сообщают мне, какие сложные и дорогие исследования медики проделали им в Швейцарии и Франции, как их охотно принимают в Кремлёвской больнице (бывшее четвёртое зшравление). Разговор ведут примерно такой" "Доктор, мне всё равно, возьмёшь ли ты с меня 50 долларов за визит или сто или двести. Я плачу столько, сколько ты скажешь, немедля,
наличными. Но, когда я прихожу, я хочу, чтобы меня принимали безо всякой очереди. Ждать мне некогда…" Как отнестись к такому нуворишу? В нашей приёмной мы таким господам особых прав не предоставляем. Пришёл — жди своей очереди. Как реагируют другие коллеги — не знаю. Кое-кто возможно и уступает….
Р.S. (Пост Скриптум):
Я пересказал далеко не всё из того, что слышал от своих знакомых ньюйоркских врачей. Возможно, некоторые высказывания медиков о своих коллегах и пациентах покажутся нашим читателям излишне резкими. А может быть, и наоборот, откровенные высказывания людей в белых халатах заставят нас по-новому взглянуть на самого себя, пребывающего в роли пациента. Ведь каждому из нас рано или поздно суждено оказаться под острым взглядом врача. Всегда ли мы выглядим при этом достаточно достойно?
3. Ради детей!…
За последние месяцы мне несколько раз довелось столкнуться с вечной человеческой проблемой "Отцы и дети". Вопрос о конфликте между поколениями, разное видение мира у юных и зрелых поднимался в русской литературе неоднократно, до и после Тургенева. Но я столкнулся с этой ситуацией в не совсем обычном варианте — эмигрантском. Началось с того, что, отдыхая минувшим летом в горах неподалёку от Нью-Йорка, наша семья встретилась с юношей лет 18. Он приехал на курорт с дедушкой. О родителях не вспоминал и, похоже, не поддерживал с ними никакого контакта. Юноша (назовем его Борисом) явно страдал от одиночества, но не умел сойтись с отдыхавшими там же ровесниками. Мы с женой уделили ему внимание, и он прибился к нашей пожилой семье. Мы стали вместе гулять, беседовать. Оказалось, что Борис начитан, хорошо знает мировую философскую литературу. Но ни пошутить, ни поболтать о чём-нибудь весёлом он совершенно не способен. У этого выпускника последнего класса средней школы, как выяснилось, и девушки-то знакомой не было. Он с грустью рассказывал, что на родине осталось у него много любимых друзей, но дружить с американскими ребятами от за три года эмиграции так и не научился, Медики прописали ему какое-то лекарство против депрессии, но таблетки не действуют. Молодой человек этот и сейчас звонит нам, мы с ним изредка встречаемся, но, как и летом, он остаётся скованным, замкнутым, одиноким. В разговорах с горечью вспоминает Россию, как страну, в которой чувствовал себя совершенно нормально. Америка ему чужда, и как прорвать барьер одиночества, он абсолютно не понимает…
Судьба другого юного россиянина, которому расставание с родиной принесло еще более печальные последствия, открылась мне из письма, опубликованного два года назад в "Новом русском слове". Олега Пинского привезли в Америку в семнадцать лет. Это было в 1981 году. "Вы не поверите, — пишет Олег, — но ехать в США я совсем не хотел. Жалко было бросать дедушку и многочисленных друзей. Я был против отъезда в непонятную мне страну. Но мама и отчим много месяцев уговаривали меня, и я поддался на уговоры". В эмиграции мама и отчим принялись стремительно устраивать свою заокеанскую жизнь, совершенно не интересуясь сыном. Олег же, не разбираясь в американских делах, ввязался в компанию, которая незаконно перевозила из Мексики в США наркотики и оружие. Преступников схватили и недавние американские "приятели" заложили русского подростка, выдали его властям за главаря и идеолога банды. Противодействовать лживым показаниям американцев Олег не сумел и получил 39 лет тюрьмы. Вот уже 15 лет сидит он за решёткой.
Я написал ему в Калифорнийскую тюрьму и в ответном письме он поделился своими переживаниями. В частности, писал о мучительной ностальгии по тем московским улицам, где прошли его детство и юность. "Старый Арбат, Гоголевский бульвар, переулок Аксакова…. Когда я думаю о них, сердце у меня изнывает по родине…". В том многостраничном пришедшем из тюрьмы письме снова и снова всплывают подробности прошлой жизни автора: бытовые детали прошлых лет, фамилии известных в прошлом людей искусства и науки, с которыми соприкасались родители Олега. Каждое такое упоминание мой новый знакомец явно воспринимает как болевой укол.
Читая письма молодого заключённого (теперь уже и не такого молодого, очевидно, сегодня ему 34 года), я задумался над часто упоминаемым в эмигрантской среде тезисом: дескать, молодёжь переносит расставание с родиной значительно легче, чем люди зрелого возраста, а тем более старики. В 15–19 лет наши дети якобы врастают в жизнь чужой страны с меньшим напряжением, нежели их родители. Я поговорил по этому поводу с психологом, работающим с детьми эмигрантов и, увы, услышал от него то, о чём подозревал и прежде: молодым эмиграция даётся порой не легче, а тяжелей, чем нам, старикам. Переживания такого рода знакомы как еврейской, так и этнически русской молодёжи. Пример тому семья Ф., о которой и пойдёт наш рассказ.
Супруги Антонина и Петр Ф. Со своим тогда ещё 19-летним сыном Мишей поселились в нашем доме 5 лет назад. При первом знакомстве, которое произошло в подвале возле стиральной машины, высокая изящная Антонина расположила нас к себе. Она выразила уверенность, что в Америке они с мужем инженером найдут всё, о чём мечтали дома: хорошую работу, хорошие деньги и возможность выучить сына, сделать его серьёзным специалистом. Меня, врождённого оптимиста, такой взгляд новоприезжих даже растрогал. Мы с женой, прожившие в Америке уже два десятка лет, пригласили Антонину, не стесняясь, заходить к нам в случае нужды. Она ответила, что общение со старожилами для их семьи чрезвычайно важно. И действительно, не прошло и двух дней, как вся семья Ф. явилась, как они сказали, за консультацией. Нам особенно понравился их сын Миша: красивый в родителей, стеснительный, молчаливый юноша. Да и Петр, рослый, с доброжелательным взглядом русак, нас не оттолкнул. Уже после получасовой беседы стало ясно, что роль капитана на семейном корабле принадлежит женщине. Сам по себе этот факт, на мой взгляд, ничего, ни дурного, ни хорошего не означает. И такие семьи бывают счастливыми.
Супруги, не скрывая, поведали, что вызвала их в Штаты приятельница-еврейка, но дальше им самим надо решать, как зацепиться за эту страну. В бывшем Советском Союзе они нарочно перебрались из Воронежа в одну из Среднеазиатских республик. Это, как им объяснили, необходимо, чтобы, добравшись до США, можно было жаловаться на национальные преследования и притеснения со стороны местных жителей. Откровенно говоря, трюки, которые затеяла Антонина, мне пришлись не по душе, но сама она ничего недостойного в своём "проекте" не видела. Даже бросила мимоходом фразу: "Вам-то, евреям, хорошо, а нам, русским, чтобы американцы нас обратно не выпроводили, надо всё время что-то сочинять, придумывать." Мужчины в тот вечер в основном молчали. Только уходя, уже в коридоре, муж не слишком громко заметил, что покидать страну своего рождения он не хотел, да и сын-школьник упрямился. Но мама настояла. Продолжение этой темы последовало месяца два спустя, когда в центре Манхеттена на Бродвее я лицом к лицу встретился с Мишей. Юноша раздавал прохожим рекламные листки. Такой работой зарабатывают себе на хлеб многие новоприезжие россияне и я, шутя, поздравил парня с первой американской службой. Он не улыбнулся, а наоборот, помрачнел. С отвращением потряс пачкой рекламных листков и фыркнул, явно обращая своё раздражение к родителям: "Ради этого попёрли за океан?" Миша был серьёзно расстроен. Я пригласил его зайти к нам в ближайшее воскресенье, но он с ещё большим раздражением махнул ненавистными листками. Оказывается, по воскресеньям мать таскает семью в церковь. "Вы — верующие?" — поинтересовался я. Выяснилось, что независимо от религии, Михаил Бога чтит, но ему противно, когда люди врут Господу. В частности, мать ходит в церковь только потому, что, как прихожанке, ей обещали помочь стать американской гражданкой. Пастор или священник якобы готов ей как-то помочь.
Грустный разговор на бродвейском углу получил вскоре своё продолжение. Зашла к нам за советом Антонина. Адвокат посоветовал ей не подавать бумаги властям с жалобой на национальные преследования. "Лучший результат даст жалоба на преследование за веру. Надо заявить, что вы были в России баптистами или членами церкви адвентистов седьмого дня и вас за это преследовали." Баптистскую церковь Антонина для своей семьи уже нашла, но что говорит в своих проповедях тамошний поп, она понимает плохо. Да и мужики её, Петр и Михаил, во всех этих делах не разбираются. А ведь в ближайшее время семье предстоит серьёзная борьба за права человека. Она уже и бумаги соответствующие готовит.
Консультировать семью Ф. по религиозным проблемам я отказался, но Антонина не обиделась и даже пригласила нас с женой на новоселье. Сказала, что получила из России свои деньги и намерена обставить квартиру новой мебелью. Это она и зовёт "новосельем".
То "новоселье" запомнилось мне, как один из самых печальных вечеров моей эмигрантской жизни. Вновь купленная мебель оказалась более, чем шикарной: белый шёлк и позолоченное дерево. Ни одна знакомая мне российская семья подобным образом жилище своё не обставляла. Но не мебель меня расстроила. Вечер отравила жуткая ссора сына с матерью. Михаил сидел за столом, насупившись, лишь изредка сердито подшучивал над "деревяшками", которыми мама заставила весь дом. Антонина отвечала ему резко, неумно, и спор превратился в самый настоящий скандал. Михаил вспомнил, сколько бед принесла ему дорогая мамочка вообще и этой её эмиграцией в частности. "Я там жил как нормальный человек…. Там все порядочные люди остались, а здесь… на черта мне твоя мебель…". Муж пытался угомонить расходившуюся семью, но его никто не слушал. Из разрозненных выкриков приглашенные гости узнали о давнем конфликте родителей и сына. Оказывается, в России, отслужив в армии, Михаил хотел жениться на своей подружке школьных лет. Но мать воспротивилась. Она не только отказалась поселить молодых в своей квартире, но распространила среди родных и общих знакомых слухи, что пока Михаил служил, невеста вела себя как настоящая проститутка. Все эти наговоры оказались ложными, но брак не состоялся…
Мы покинули "новоселье" с тяжёлым сердцем. Та свара, как мы узнали позднее, действительно переросла в семейную войну. Антонина переехала в другой дальний район Нью-Йорка и перестала появляться в нашем доме. "Да мы, собственно, давно уже не муж и жена, — стыдливо признался Петр при очередной нашей встрече. — Поддерживаем видимость отношений только для того, чтобы получить семейное "право жительства." Сын остался жить с отцом, хотя, по словам Петра, нормальной его жизнь не назовешь: работу и учение забросил, сидит целый день один у телевизора и никакого общения ни с кем не желает. Перестал ходить и в церковь. Заявил родителям, что они лгуны, ни во что не веруют и церковь нужна им только для того, чтобы обманывать американские власти.
Более полугода затем я ничего не слышал о семье Ф. Ни Миша, ни его отец мне как-то не встречались. И вдруг новая информация. Сосед по дому, знакомый с семьей Ф., сообщил при встрече, что Миша в больнице. Психиатрической. Отправили его туда родители, вызвавшие карету скорой помощи. Супруги (если их можно так назвать) долгие месяцы ожидали суда, который должен был принять решение об их будущем. Бумаг всякого рода насобирала Антонина достаточно, адвоката взяла умелого, но судья снова и снова откладывал дату разбирательства. Нервы за эти месяцы у всех, разумеется, поднапряглись. Но вот, наконец, окончательная дата определена. Родители собрались в квартире Петра, вызвали Мишу из его комнаты и стали объяснять ситуацию: на суд идти вместе, только в этом случае все члены семьи получат гринкарты, то есть право на жительство в Америке. Миша упёрся: "На суд не пойду, а если и пойду, то заявлю публично — родители лгуны, все их документы и аргументы — сплошное враньё." Сам же Миша собирается вернуться в Россию, Америка ему не нужна. Антонину и Петра монолог сына привёл в ужас. Они пытались убедить сына и так и этак, но убедились в своей беспомощности. "Ты — сумасшедший, — заявила мать, — а с сумасшедшим пускай возятся врачи." Она вызвала по телефону скорую помощь, и санитары, завернув парню руки за спину, увезли его в госпиталь.
Рассказавший мне эту историю сосед, человек интеллигентный и неравнодушный, уже навестил Мишу в госпитале. "Мы беседовали с ним целый час, но, хотя я и не медик, но ставить юноше диагноз "псих", не стал бы. Он просто презирает своих не чистых на руку родителей и собирается поработать, заработать на билет и вернуться на родину, о которой тоскует."
На сегодня история семьи Ф. всё ещё не завершена. Супруги убедили судью в своей правоте и стали владельцами "зелёной карты". Они не сомневаются, что в свой черёд станут полными гражданами Соединённых Штатов, и все их мечтания об американском процветании сбудутся. Михаил в число членов семьи не включен. У него нет никаких прав на пребывание в этой стране. Что произойдёт раньше: депортируют его или он уедет сам — сказать трудно. Живут они по-прежнему с отцом. Петр жалеет сына, кормит его, платит за квартиру. Но никаких сколько-нибудь серьёзных разговоров между представителями двух поколений не возникает. Мать время от времени навещает мужчин, но сын видеть её не желает, накрепко запирается в своей комнате.
Время от времени знакомые семьи Ф. по работе или по церковному приходу спрашивают родителей о здоровье сына. Петр и Антонина, как правило, отделываются неопределённым пожатием плеч. Дескать, скорее всего, мальчик нездоров. Не зря же его время от времени вызывают в госпиталь на проверку.
…Среди многочисленных банальных формул, переполняющих эмигрантский разговорный язык, одна повторяется особенно часто. Наши папы и мамы обожают повторять, что выехали они в Америку (в Израиль, в Германию) единственно ради своих детей. Но, порасспросив молодёжь, убеждаешься: очень многие подростки уезжать из страны родного языка, близких друзей и симпатичных пейзажей не хотели. Да их, как правило, и не спрашивали. Логика действовала одна и та же: "Что же он понимает, этот щенок? Ему же хотят только хорошего…”. А в результате — тяжёлая, годами не заживающая травма. Одни из наших детей не осознают её и пытаются как-то заживить, другие годами носят её в сердце, не понимая, отчего в этой великолепной Америке им так некомфортно. Так что не станем хвалиться своей родительской мудростью. Не зря сказал один мудрец: "Советы старых людей подобны подчас зимнему солнцу: светят, но не греют."
4. Искусство заглядывать в душу
В журналистской молодости своей я особенно охотно писал о медиках. Воспевал мастерство хирургов, талант фармакологов, открывающих новые лекарства, мужество эпидемиологов, победоносно воюющих со смертельными инфекциями. Но, насколько мне помнится, среди людей в белых халатах в 50-е и 60-е годы понятие психолог полностью отсутствовало. Никто из медиков, с которыми я общался, не называл себя также ПСИХОТЕРАПЕВТОМ. Услыхав где-то это слово, я спросил знакомого врача, что оно означает. Доктор отделался ядовитой шуточкой: "Психотерапевт — это тот выпускник мединститута, который так и не успел за пять лет прослушать курс терапии."
Всерьёз с понятием "психотерапевт" столкнулись мы лишь в эмиграции. Добравшись до Америки, с удивлением обнаружили: профессия эта пользуется тут всеобщим уважением. В поисках доброго совета американская публика валит к психотерапевтам на приём, открывает им самые интимные подробности своей личной и семейной жизни. Заинтересовала эта профессия и новоприезжих соотечественников. Беседы с психотерапевтами оказались полезными для пожилых эмигрантов, с трудом приспосабливающихся к заграничному образу жизни. За рекомендациями к психотерапевтам стали обращаться и те российские родители, которые потеряли внутренний контакт со своими детьми-подростками. Постепенно среди новоприезжих стали появляться и русскоязычные психотерапевты. Более того, наши специалисты значительно продвинули эту область знания. Сейчас число русскоязычных психотерапевтов исчисляется в Америке уже не десятками, а сотнями. Хорошо это или плохо, судить не берусь. Но доподлинно известно: коренные американцы ходят ныне на приём к нашим психотерапевтам, доверяя им не в меньшей степени, чем своим соотечественникам. А на днях получил я от одного из таких "мастеров душевноведения" только что опубликованную книгу с несколько непривычным названием "Искусство терапии и терапия искусства". Русскоязычный автор представил на рассмотрение американцев новые идеи и приёмы психотерапии. О книге той, об её авторе Анне Крайн и пойдёт наш разговор.
Вести об Анне Крайн стали доходить до меня ещё лет пять-шесть назад. В случайных разговорах я несколько раз слышал об умной, а главное, удивительно доброй женщине-психологе. Одна родительская пара с благодарностью вспоминала, как Анна собрала группу трудных подростков и увлекла их рисованием. Юные художники после этого стали заметно лучше вести себя в школе и дома. Другая категория подопечных Анны Крайн, российские старички и старушки, тоже говорят о ней с симпатией. Будучи сотрудницей организации, помогающей пожилым людям, она по собственной инициативе принялась разыскивать пожилых людей, которые месяцами, а то и годами не выходят из дому. В основе поведения таких людей лежит психологическая поломка, страх перед непривычной заграничной жизнью. Некоторые из них оставлены своими взрослыми детьми, другим кажется, что сыновья и дочери недостаточно к ним внимательны. Анна Крайн и её группа разыскала в Нью-Йорке более шестисот таких "замкнувшихся". Навещая их, члены её группы разъясняли напуганным соотечественникам, где, в каких организациях те могут найти помощь, поддержку, помогали и практически, переводя на русский письма от американских властей.
Общение с такими стариками давалось психологам нелегко. Особенно после того, как были опубликованы новые законы о сдаче экзаменов на гражданство. Наши пожилые земляки увидели в этих законах личную обиду, желание властей погубить их, не знающих ни языка, ни истории США. "Вот пускай у меня всё отнимут, и я выброшусь в окно”, — кричали они Анне и её сотрудникам. Но Крайн снова и снова навещала эту категорию пожилых и во многих случаях замкнутые "размыкались".
Случалось ей, опять-таки благодаря своему беспредельному терпению и знанию семейной терапии (есть у психологов и такое искусство), восстанавливать контакты между пожилыми родителями и их взрослыми детьми. В одном случае ей удалось примирить 92-летнего папу с 65-летним сыном. Семь лет до этого эти двое не виделись и даже не разговаривали друг с другом по телефону. Много и других трогательных историй услыхал я об Анне Крайн, прежде чем состоялась наша встреча.
Комплименты, высказанные по её адресу, Анна восприняла с иронической улыбкой. "Мне просто повезло в Америке, — говорит она, — вот уже восемь лет я занимаюсь своим любимым делом. А коли дело любимое, то и стараешься…"
Ленинградка Крайн окончила Финансово-экономический институт, как социолог производственного коллектива. Специалистов таких в тот год насчитывалось всего 25 человек на всю страну, и они мало кому были нужны. Но Анна обнаружила в своей профессии сферу, где она действительно могла быть полезной людям. Речь шла о стареющих деятелях искусства. Что происходит со всеми этими танцорами, актёрами, балетмейстерами и оркестрантами, когда по возрасту они вынуждены уйти на пенсию и таким образом теряют возможность продолжать любимое дело? Люди в общем-то не очень старые, они поступают на работу завхозами, приёмщиками в ателье, и, разумеется, чувствуют себя при этом более чем неудовлетворёнными. В своей диссертации юный социолог призвала современников к уважению личности, а тем более личности с большим культурным опытом. Она не ограничилась призывами. Окончив институт, Анна создала группу социологической помощи таким людям. Её исследования подсказывали: идеальным решением судьбы вчерашних танцоров и музыкантов было бы приобщение их к культуртрегерству. Этих людей следует привлечь к распространению культуры и искусства среди широкой публики, и особенно среди молодёжи.
Уважение к личности…. О смысле этого понятия Анна задумалась, ещё будучи школьницей. Она с нежностью вспоминает свою семью, где её никогда не ругали, не оскорбляли. Несмотря на весьма скромные материальные средства, врач-мама и инженер-папа ни в чём не отказывали детям. Семья из четырёх человек жила в двухкомнатной "хрущёбе" и тем не менее детям не запрещалось приводить домой своих школьных друзей. Подружки Анны удивлялись: прежде, чем войти в комнату дочери-школьницы, папа осторожно стучал в дверь. И так во всём.
Принцип уважения личности, независимо от возраста, пола и общественного положения Анна Крайн и сегодня считает главным элементом в своих отношениях с окружающими, и в том числе с пациентами, которые обращаются к ней как к психотерапевту. Частный приём открыла она ещё несколько лет назад. Принимает в Бруклине и у себя дома в городке Парамус (Нью Джерси). Я спросил, почему в русских газетах не видно её объявлений. "Среди моих пациентов немало и русскоязычных и американцев, — ответила она. — Рекламу же не даю, потому что рекламы моих коллег, которые я вижу, мне решительно не нравятся. Психотерапевты пишут: "Приходите, мы решим все ваши проблемы". Всех проблем я разрешить не могу. Да это и вообще невозможно. Когда продумаю более точную формулу своих возможностей, помещу в газету рекламу. А пока побывавшие на приёме люди передают мой адрес и телефон другим, другие — третьим. Недостатка в пациентах не чувствую.
Передо мной только что вышедшая из печати книга Анны Крайн. Издание это необычно во многих отношениях. Добрую треть места на страницах занимают детские цветные картинки. Необычен для эмигрантских изданий и твёрдый коленкоровый переплёт. Мои коллеги-литераторы чаще всего выпускают свои сочинения в дешёвых мягких обложках. Но особенно необычно прозвучал для меня заголовок этого научного труда "The Art Therapy and the Therapy of Art". Я бы перевёл его как "Мастерство лечения и лечение искусством". Заголовок этот как бы подхватывает мысль древнегреческого философа Гиппократа о том, что медицина (лечение) — не есть наука, это искусство, личное мастерство каждого отдельного медика. "То, что вы держите в руках — первая книга из задуманного мною пятитомника, — говорит Анна. — Издать все пять сразу не смогла, но не теряю надежды познакомить читателей с многочисленными проблемами, которые открылись мне, как психотерапевту." Не случаен, оказывается, и прочный переплёт. По словам автора, её труд предназначен для людей, которые пытаются разобраться с собственными психологическими сложностями. Им предстоит годами снова и снова заглядывать на эти страницы. Книга окажется своеобразным "душевным справочником", рассчитанным на годы. "Я нарочно сделала её такой прочной, чтобы она служила нашим читателям как можно дольше", — комментирует Анна.
Итак, что же перед нами: научный труд, справочник или альбом малолетних художников? "И то, и другое, и третье", — отвечает Анна. Когда ко мне, как к психотерапевту приводят ребёнка, не способного словами объяснить свои эмоции, я даю ему краски, бумагу и прошу нарисовать что-нибудь. Рисунок в таких случаях позволяет многое понять в психологическом состоянии маленького пациента. Рисунки ребёнка, особенно если наблюдать за его творчеством неделями и месяцами, позволяют во всех деталях выявить историю "душевного расстройства", то есть поставить диагноз, а затем, опять-таки с помощью искусства, преодолеть душевные нелады. Первая глава книги содержит семь таких новелл, являющихся одновременно и историями болезни. Вот вкратце одна из них.
Бабушка и мама привели на приём восьмилетнего Дэниэла. (Реальное имя мальчика заменено псевдонимом). Мальчика мучают страхи. Он боится, когда в комнату входят незнакомые люди, когда к нему приближается собака или кошка. Страх возникает даже тогда, когда за столом к нему придвигают тарелку с супом или, играя, катят в его сторону шарик. Страхи начались с трёх лет. Думали пройдёт — не проходит. Папа мальчика идти с психотерапевту не пожелал. Он в эти "игры" не верит. Лечила Анна Дэниэла целый год и вылечила. Их встречи неизменно сопровождались рисованием. Анна очень скоро заметила: в рисунках ребёнка постоянно присутствует движение, что-то в них катилось, вертелось, двигалось. Психотерапевт стала приучать малыша к зрелищу катящихся шариков, к движению кресла на колесиках. И страх прошёл. Недоверчивый папа поблагодарить специалиста всё-таки зашёл. В разговоре, как о совершенно случайном эпизоде, вспомнил: когда малышу было два года, они гуляли вдвоём по парку. Подошли к большой деревянной катушке, на которую электрики наматывают кабель. И вдруг от порыва ветра катушка сдвинулась и покатилась прямо на мальчика. Дэниэл упал, и катушка проехала, не задев его. Малыш даже не заплакал. Дома папа не стал рассказывать про этот эпизод. Мелочь, пустяк. А между тем, именно эта громадная, накатившаяся на ребёнка катушка и стала, судя по всему, источником его страхов. Психотерапевт поняла суть и происхождение болезни, рассматривая рисунки Дэниэла. Пять его рисунков, приведённых в книге, подтверждают: даже не зная конкретного факта, вызвавшего потрясение, психотерапевт может поставить правильный диагноз и оздоровить психику пациента. Метод лечения с помощью искусства так и зовётся — арт терапия.
В следующей главе на примере 20 детских рисунков автор показывает, как эти картинки обнажают корни четырёх наиболее распространённых душевных расстройств. Вот так рисует тот, кто страдает от депрессии. А вот так — жертвы повышенной возбудимости. Листаю страницы и вижу "произведения" тех, кто перенёс серьёзную личную драму, и тех, кто плохо привыкает к условиям эмигрантской жизни. "Я надеюсь, что, знакомясь с рисунками детей, родители и школьные учителя, прочитавшие нашу книгу, уловят, в какую сторону клонится душевный мир наших ребятишек, и изменят, смягчат своё поведение, чтобы, не дай Бог, не усиливать, не раздувать расстройство маленьких мучеников. Чтобы придти к этим выводам, психотерапевт Крайн проанализировала 4000 рисунков своих пациентов. В первый том своей книги она включила 140 из них.
В той или иной степени эту методику освоили уже многие психотерапевты. Но недавно Анна Крайн предприняла серию исследований, которые завершились, не побоюсь сказать, открытием. Один из методов лечения, к которому она постоянно прибегает — групповая терапия. В кабинете собирается 10–15 подростков или пожилых людей. Они рисуют, беседуя между собой, иногда спорят, порой смеются. Каждому вручена "палитра" — бумажная тарелка одноразового пользования с красками. После того как рисование закончено и беседа завершена, "палитры" обычно выбрасывают, но, как заметила Анна, большинство рисовальщиков имеет обыкновение под занавес смешивать оставшиеся краски в одно пятно. И вот что оказалось. При внимательном анализе пятна эти явственно отражают душевное состояние каждого рисующего. На этот последний этап групповой терапии никто до сих пор внимания не обращал. Анна же обнаружила в "завершающих пятнах" большую информацию о душевном состоянии участников в момент завершения сборища.
Как уже говорилось выше, небольшая по объёму книга Анна Крайн (ИЗ страниц) собрала под своей обложкой элементы научного исследования, справочные материалы и все признаки альбома юных художников. При всём том автору удалось сохранить простой, понятный широкому читателю язык и даже элементы юмора. В частности, на последней странице суперобложки я прочитал не совсем обычный "призыв”: "Пожалуйста, не читайте эту книгу, если Вы всё знаете о себе. Не берите её в руки, если Вы без излишних трудностей понимаете своих детей. Не открывайте этот томик также, если Вас не донимает любопытство по поводу человеческой психологии. И уж несомненно Вам будет чуждо это сочинение, если Вы уверены, что написанная художником картина отражает только его умение рисовать. Если всё это так, то книга эта не для Вас”. Шутка? Ну конечно, хотя и сердитая. Но мне видится в этом заключительном пассаже не отталкивание читателя, а призыв к нему. Автор хочет привлечь для диалога наиболее интеллектуального, серьёзного и умного читателя. И я уверен: Анна Крайн такого читателя найдёт!
5. Сумасшедшая история
Приехал к нам недавно гость из России, старинный мой московский приятель. Отправился осматривать город. Я в Нью-Йорке живу уже давно, так что показывать новоприезжим "столицу мира" научился. Побродили по Манхеттену, съездили на Брайтон, заглянули в Квинс. Гостю город пришелся по душе, но вечером, "за рюмкой чая”, он, как человек из бывшего Советского союза, не отказал себе в удовольствии отметить и отрицательные стороны капитализма. Стал расспрашивать, как у нас обстоит дело
с безработицей, преступностью, как живётся бездомным. Я капитализм-империализм защищать не стал, но на один разоблачительный вопрос ответить действительно не смог. Приятель утверждал, что где бы мы с ним сегодня ни побывали — в метро, на улицах, в магазинах и в кафе, нам везде попадались какие-то странные люди. Расхристано одетые, с дикими жестами и странным выражением лиц, они бормотали себе под нос и даже выкрикивали что-то, но окружающие делали вид, что не замечают странных субъектов. "Что же получается, — удивлялся гость, — мы в Нью Йорке, во всемирно почитаемом городе, а улицы полны психов. У американцев, что же, психушек не хватает, или по здешним нравам сумасшедших специально на свободе держат? Но ведь это опасно…"
Замечание приятеля напомнило мне переживания первых лет эмиграции. Тогда мы, новоприезжие, тоже удивлялись обилию свободно бродящих по городу людей с явно искривленной психикой. С годами, однако, как и коренные американцы, мы перестали пугаться и просто замечать такого рода встречных. Но что же всё-таки происходит с этой категорией больных? Почему Америка допускает такое? Я стал прикидывать, с кем бы поговорить на эту тему. Память подсказала Вадима Молдована. С этим рослым, мрачноватого вида парнем мы знакомы уже два десятка лет. Вадим долго не мог найти себя в эмиграции.
Попытался получить университетское образование в области техники, не получилось: объяснял, что его гуманитарная душа технических предметов не принимает. Водил по ночам такси и в конце концов своё призвание обнаружил. Сдал соответствующие экзамены и предложил себя в качестве сотрудника городской администрации, той, что занимается социальной помощью старым, больным, беспомощным.
"Я избрал самый тяжёлый вариант, — рассказывал мне позднее Вадим, — пошёл туда, где приходится иметь дело с человеческими отбросами, с людьми, как правило, психически и физически разрушенными, опустившимися на самое дно общества. Меня прельстила возможность познакомиться с жизнью в её откровенных, ничем не прикрашенных формах." Сейчас, после нескольких лет сотрудничества с "низами", Молдован пишет докторскую диссертацию: анализирует взаимоотношения американского общества с психически неполноценными гражданами.
Своё место службы Вадим не без юмора называет "богадельней". Это своеобразное общежитие для тех, кто уже провёл несколько месяцев, а то и лет в психиатрической больнице и кого специалисты, тем не менее, надеются со временем подготовить для жизни в нормальных общечеловеческих условиях. В распоряжении Вадима два десятка таких вот "полубольных" и десяток человек обслуги. Две трети из числа резидентов общежития — негры, среди белых есть англосаксы, азиаты и евреи. Резиденты в возрасте от восемнадцати до восьмидесяти лет расселены группами по два-три человека. В "богадельне" под руководством Вадима Молдована их готовят к выходу в мир людей нормальных и отвечающих за свои поступки. Сами они от такой перспективы не в восторге. Выход в общество, где предстоит отвечать за своё поведение, их пугает. Время от времени то один, то другой срывается, устраивает скандал или попытку самоубийства и снова попадает в психушку, которая, по их представлениям, более спокойное и привычное место обитания. Цель Вадима и его сотрудников — не допускать резидентов до срывов, чтобы в конце концов они могли вернуться в "мир здравого смысла".
Что побудило юного российского эмигранта избрать для себя нелёгкую, опасную и во многом непредсказуемую службу? Повышенная эмоциональность? Склонность к состраданию? Начиная беседу, я спросил его: "Вам жаль ваших подопечных? Вы сочувствуете им?” Последовал несколько необычный ответ: "Наши резиденты не нуждаются в жалости. Они не моя паства, не мои подопечные. Полагаю, что обитатели нашего общежития видят во мне некоего отца-благодетеля. А скорее всего, они смотрят на меня, как дети на взрослого. Но в основном наши отношения — на равных. Настроение в приюте чаще всего приподнятое, люди за общей трапезой улыбаются, смеются."
Взгляд Молдована на службу среди психов тем не менее не лишён романтики. Он рассматривает её, как пребывание в обществе некоего экзотического племени, что-то вроде высадки на остров, где когда-то жил Миклуха-Маклай. "Члены этого "племени", — говорит Вадим, — не осмысляют себя, но для меня их общество — источник экзотики, забавных ритуалов. В их поведении я вижу много доброты, жертвенности, неординарного мышления." Сейчас наш "Миклуха-Маклай", как я уже упоминал выше, собирает материалы для докторской диссертации. В частности, ему предстоит рассмотреть проблему, с которой мы начали нашу беседу: следует ли готовить сумасшедших к нормальной жизни за пределами специальных учреждений. По этому вопросу у моего собеседника есть свой собственный, весьма оригинальный, хотя и не получивший пока всеобщего признания ответ. "Если проявите терпение, — предложил Вадим, — я вкратце расскажу о том, как за минувшие два столетия меняли своё отношение к безумцам христианские государства Европы и Америки. Без этого отступления нельзя понять, что происходит в нашем мире сегодня.” Я согласился и вот что узнал в тот вечер.
До конца XVIII столетия в странах Европы, да и в Америке, к душевнобольным относились так же, как к преступникам и бродягам. Их заключали в тюрьмы и так называемые "дома для нищих”, где заковывали в цепи. В Англии прославился один из таких наиболее жестоких домов — Бедлам. Так же, как сегодня мы ходим в зоопарк, британцы XVIII века для развлечения ездили в Бедлам посмотреть на тамошних безумцев. В начале XIX века, однако, общественное мнение по отношению к сумасшедшим несколько смягчилось. Религиозно-христианское общество квакеров призвало соотечественников проявлять к психам больше сострадания. Возникла даже теория, утверждавшая, что с помощью доброты эту категорию больных можно излечить полностью. Идею эту подхватили и французы. Одна из общественных акций времён Французской революции выразилась в массовом выпуске психов из больниц-тюрем. Сохранилась картина тех лет, изображающая французского врача Пинеля, широким жестом распахивающего двери психбольницы. На полотне благодарные пациенты рвут свои цепи и, счастливо улыбаясь, устремляются на улицы Парижа.
Добравшись в начале XIX века до Соединённых Штатов, квакеры реализовали здесь свои мечтания, за которые их преследовали на родине. По их рекомендации власти стали строить загородные дома, где обитатели-психи находили для себя спокойную, доброжелательную атмосферу. Они работали на огороде, занимались искусством. Психиатрия в те годы пребывала ещё в зачаточном состоянии, так что "лечили" психов лишь добрым отношением и покоем. Тем не менее, если верить статистике тех лет, многие обитатели загородных поместий полностью излечивались. Строили эти домики администраторы штатов на деньги, полученные от продажи земель, завоёванных у индейцев.
В 30-60-е годы XIX века общественная обстановка в США стала резко меняться. Началась урбанизация — народ повалил в города. В стране возрастало количество заводов, фабрик, мастерских, шла стремительная индустриализация. Из Европы в Америку устремился мощный поток эмигрантов. Нравственное лицо общества менялось и, увы, не в лучшую сторону. Психических больных становилось всё больше, но администрация не желала больше тратиться на загородные прибежища. В ответ на это квакеры и их сторонники выдвинули новую теорию: капитализм, погоня за деньгами создаёт для граждан стрессовую обстановку и по сути плодит массовый психоз. Таким образом, общество в целом в ответе перед психическими больными и обязано изыскивать средства на улучшение жизни своих жертв. Более того, либералы утверждали, что во вновь созданных приютах они создадут новое, действительно
нормальное общество. Именно члены этого общества, именуемые психами, пристыдят мир, помешанный на деньгах….
Какое-то время философам-либералам удавалось поддерживать среди американцев доброжелательное отношение к сумасшедшим. Но время шло, число больных в приютах и психушках возрастало, сама эта теснота становилась источником стрессов. К началу шестидесятых годов в лечебных заведениях такого рода поднялась волна агрессий и самоубийств, так что властям пришлось применить меры жестокого контроля. Пациентов стали держать в запертых помещениях, для неспокойных были введены физические наказания в виде "смирительных рубашек", душа Шарко и т. д. Врачи перестали рассматривать психических больных как социальное явление. Восторжествовал подход психоневрологический. Медики увидели в пациенте не элемент общества, а прежде всего личность с конкретными отклонениями от нормы. Для преодоления отклонений стали применять довольно мучительно действующие лекарства. В начале XX столетия "лечить” стали ещё более жёсткими методами и, в частности, электрошоком и хирургическими операциями на мозге (лобэктомия).
Завершение Второй мировой войны внесло во взаимоотношения американского общества и психических больных новый элемент. С фронта вернулось много воинов с поврежденной психикой. В США вновь стали строить психиатрические клиники. Одновременно в прессе началась кампания за создание в лечебных учреждениях такого рода более человечных условий. Больных между тем в стране становилось всё больше. К началу 50-х в клиниках оказался уже почти миллион пациентов, а на свободе ещё больше. Годовая стоимость содержания одного человека в штатной больнице достигла 180000 долларов, а в так называемых муниципальных госпиталях перевалила за 250000 долларов. Возникла дилемма: строить новые госпитали — дорого, а в старых уже нет места. Общественность реагировала на страдания психов всё более остро. Появились потрясшие публику романы и фильмы на эту тему. Название одного из таких фильмов — "Змеиная яма" стало при обсуждении ситуации в психиатрических клиниках именем нарицательным.
В конце пятидесятых, начале шестидесятых во взаимоотношениях общества и психических больных произошла ещё одна перемена: последних стали сотнями и тысячами выпускать на свободу. В следующие десять лет число больных в психушках упало с миллиона до двухсот тысяч. Сейчас их там около 150000. Главным инициатором этой тенденции выступил тогдашний губернатор Калифорнии Рональд Рейган. Руководствовался он, разумеется, доброй целью: облегчить жизнь больных в госпитале. Другое основание для массового освобождения сумасшедших состояло в том, что учёные создали к этому времени много успокаивающих лекарств. "Больной, — как выразился в те дни один психиатр, — теперь уже не нуждается в нас, он носит свою клинику при себе." Сказано лихо, но, увы, далеко не все больные с коробочками успокаивающих препаратов в карманах склонны ими пользоваться. Большинство освободившихся предпочитали "лечить" себя наркотиками. Операция эта обернулась, таким образом, повсеместным по всей Америке ростом армии наркоманов и увеличением в стране числа бездомных. Тем не менее, ради финансовой экономии, власти и сегодня продолжают сокращать в больницах число психически несостоятельных пациентов. Вместо психушек создаются медицинские центры, вроде того, в котором работает Вадим Молдован. В год содержание резидента в таком доме обходится государству "всего только" в 40000 долларов.
Завершая историческую часть нашей беседы, Вадим пояснил: "Официальная точка зрения властей и большинства медиков на людей с психическими неполадками состоит в том, что мы можем и должны дать этим людям необходимые навыки для существования в нормальном обществе. Такое обучение считается весьма реальным. И если до пятидесятых годов господствовало представление о том, что психический больной существовать на равных со здоровым не может, то теперь восторжествовал взгляд прямо противоположный. Нам предлагают делать всё возможное, чтобы вернуть психов в современное общество в качестве нормальных людей. Это и с финансовой точки зрения устраивает государственных чиновников: возвращенный в общество вчерашний псих обходится государству в минимальную сумму, а если при этом он ещё и бездомный, то и вовсе освобождает страну от расходов….
Многолетние наблюдения над поведением душевнобольных привели Вадима к совсем другим выводам. Да, он и его сотрудники делают всё возможное, чтобы вернуть своим "клиентам-пациентам" возможность выйти на волю, жить независимо, самостоятельно. Но обучаемые не только не спешат освободиться, но всячески сопротивляются уходу из психушек и даже из его тихой и спокойной вроде бы "богадельни". Они не хотят, боятся жизни, где каждую минуту нужно самому решать, как, кому и что сказать, что делать, куда идти. Мир свободы-ответсвенности вызывает у вчерашних обитателей психушек стрессы, срывы и даже желание убить себя. Их снова и снова отправляют туда, откуда лишь недавно выписали. Возникает этакий механизм "вращающихся дверей". Некоторые пациенты умудряются за год десятки раз пройти эти "двери" туда и обратно. По существу, сегодняшняя политика взаимоотношений общества с сумасшедшими упёрлась в тупик. Тем не менее, Вадим Молдован не теряет надежды найти разрешение этой проблемы.
Он уловил одну важную закономерность в поведении больных: они вполне удовлетворительно чувствуют себя в обществе себе подобных. Более того, эти люди, оказавшись вместе, как бы создают собственную культуру, обстановку, в которой почти нет драк, вспышек злобы. Между ними складываются некие ритуалы: многочасовое сидение за кофе, постоянное курение с использованием определённых марок сигарет. Есть в этом единении и свои ценности. Будучи по существу нищими, люди эти, находясь вместе, готовы всё отдать ближнему. В их комнатах редки кражи. Есть и у исповедывающих этого рода культуру и общие
мифы: например, им кажется, что органы власти, полиция склонны преследовать их. Но главное, что обнаружил Вадим Молдован в психокультуре, это то, что безумцы не желают идти на компромисс с окружающим их обществом. Подсознательно они предпочитают общество себе подобных. А это то и дело приводит их в психушку. Наблюдения Вадима подсказывают: если мы хотим увидеть нашего больного в наиболее устойчивом и удовлетворённом состоянии, надо оставить его в мире ему подобных. Тот общий дом, которым командует сегодня Молдован, очевидно, самая рациональная модель для них. "Я не обсуждал свои взгляды с врачами-психиатрами, — говорит Вадим, — скорее всего их суждения будут отличаться от моих, но психологи чаще всего со мной соглашаются. Если идея моя получит поддержку общественности, то для больных такого рода будут создаваться центры подобные нашей "богадельне". Очень возможно, что в таких центрах можно будет организовать какие-то простейшие производства и тем удешевить содержание пациентов." Но в одном мой собеседник не сомневается: существование больного в обстановке милой ему коллективной культуры окажется благодетельным и для него и для общества в целом.
…Я не специалист в делах психологии и психиатрии, так что ни опровергать, ни пропагандировать взгляды моего собеседника не берусь. Знаю лишь, что Вадим искренне увлечён своими исследованиями и надеется, что открытие психокультуры, особой сферы мышления и поведения больных, послужит к лучшему пониманию душевнобольных во всём мире. Хочется надеяться, что рассказанная нами выше двухсотлетняя история действительно подходит к своему концу. Дай-то Бог!…
6. Наполнить жизнь
Чем старше становлюсь, тем чаще задумываюсь о будущем. Нет, не о том, сколько прожил и сколько осталось. Это дело Божие. Думаю я о том, как я сам и мои ближние заполнят жизнь свою в старости, в настоящей старости, под восемьдесят. Ну, конечно, можно читать книги, слушать музыку, сидеть перед экраном телевизора. Возможно, останутся и добрые знакомые-собеседники. Но для того, кто весь свой век был занят — учил детей в школе, конструировал станки, носил армейские погоны или играл на сцене — появление избыточного (а точнее пустого) времени — тяжёлое испытание. В иммиграции ситуация эта оказалась ещё более мучительной. Врач-киевлянин, лет семидесяти, с которым я попытался говорить об этом, ответил, что вопрос о наполнении жизни в старческом возрасте — задача, не имеющая решения. Тоска, безнадёжность, и жаловаться некому… Кстати, медикам доподлинно известно: ненаполненная деловой активностью жизнь обрывается, как правило, скорее.
Пожилые женщины наши смотрят на ту же проблему несколько спокойнее: они уверены, что до последнего вздоха будут нужны своим детям, внукам и правнукам. Растить потомство — чем не занятие? Только бы сил хватало. Но, опросив полсотни дедушек и бабушек, я услыхал от большинства, что, конечно, детям и внукам они нужны, но только до тех пор, пока есть силы хозяйствовать. После этого интерес младших к старшим резко падает. Не будем искать виноватых. Подумаем лучше, реально ли вообще в пожилом возрасте, в чужой стране заполнить время чем-то действительно интересным, важным, волнующим?
Впервые подтверждение такой возможности я получил несколько лет назад. Пожилой житель Фар Рокавей Лев Зильберт в подробном письме рассказал о своём увлечении. Участник войны, он захвачен собиранием значков, жетонов и медалей, посвященных победе российского оружия над оружием германским. Свои поиски он продолжает в иммиграции. Зильберт уже собрал коллекцию из 3000 экспонатов. Он ищет земляков, которым мог бы показывать свои ценности, обмениваться, с которыми можно бы было вспоминать переживания времён войны. Помнится, после того, как я рассказал о Зильберте и его коллекции на страницах газеты, откликнулось несколько нашим иммигрантов, также захваченных собирательством, которое заполняет их время и даёт чувство единения с бывшими товарищами по оружию.
Лев Зильберт не упомянул в письме свой возраст. Может быть, постеснялся неизбежных 75-ти или 77-ми. Жительница Нью Йорка Сара Дайновская, в прошлом врач-глазник и ассистент кафедры глазных болезней Одесского мединститута, не скрывает: ей 84. Последние девять лет живёт она в Нью Йорке, в доме, специально построенном для пожилых людей. Сара рассказывает: переезд в Америку полностью изменил её жизнь. Осталась в далёком прошлом любимая наука. Единственная дочь поселилась на противоположной стороне Нью Йорка. Внуков нет. Времени свободного — сколько хочешь. А чем его занять? И вот, в возрасте 75 лет, эта маленькая изящная женщина проложила свою собственную "дорогу в будущее". Решила: отныне главным делом её будет постижение английского языка.
Английским, на различных курсах и в школах, занимаются в той или иной степени все наши новоприезжие. Но пожилая публика, походивши на уроки год-другой и не замечая больших успехов, чаще всего со вздохом произносит слово СТАРОСТЬ и на этом ученичество своё завершает. Сара взглянула на постижение языка по-другому. "Английский — моё основное занятие. Других забот и развлечений у меня нет. Хочу общаться с коренными американцами, хочу, насколько это возможно, почувствовать себя "здешней". Понимаю: в моём возрасте такая цель выглядит фантастично. И тем не менее фантазии этой я посвящаю всё своё время."
В прошлой жизни Сара много читала. Особенно любила поэзию. Среди наиболее близких ей поэтов называет Надсона, Гумилева, Ахматову. И, конечно, классиков. В Америке это давнее увлечение оказалось вдруг благодетельным для постижения чужого языка. Стремясь улучшить свой английский, доктор-глазник принялась переводить на русский язык американских и британских поэтов. Первое стихотворение, которое удалось одолеть, принадлежало американцу Вильяму Хелли (1849–1903). Дался ей тот перевод с огромным трудом. Но вскоре пришло испытание ещё более тяжкое. На очередном уроке преподаватель-американец дал ученикам (российским старичкам) несколько необычную тему для сочинения. "Людей, как правило, очень слабо трогают чужие страдания", — сказал учитель и привёл соответствующий эпизод. Идёт пассажирский поезд. В вагоне несколько человек играют в карты. Вдруг поезд замедлил скорость. За окном проплыла страшная картина: на параллельных путях столкнулись два состава. Видны залитые кровью трупы, раненые. Картёжники вскочили, ахнули, охнули, покачали сочувственно головами и… вернулись к карточной игре.
"Придя домой, — вспоминает Сара, — я принялась описывать рассказанный учителем эпизод. Уже почти завершила задание, когда в памяти всплыло вдруг стихотворение, много лет назад опубликованное в "Огоньке". Стихотворение то, принадлежащее перу поэта Ионы Дегена (сейчас он в Израиле), толковало о том же, как мы в общем-то легко переносим чужие страдания. Сара запомнила тот текст на память:
Мой товарищ в смертельной агонии
Не зови понапрасну друзей.
Дай-ка лучше согрею ладони я
на дымящейся крови твоей.
Ты не плачь, не стони словно маленький,
Ты не ранен, ты просто убит.
Дай-ка лучше сниму с тебя валенки,
Мне ещё воевать предстоит."
Оставив домашнее задание, написанное в прозе, Сара, чтобы познакомить учителя с содержанием стихотворения русского поэта, стала переводить его на английский. Так три года назад началась новая полоса в жизни Сары Дайновской, она увлеклась переводами с русского на английский. Ею уже переведены многие произведения Цветаевой, Ахматовой, Блока. Я спросил, по какому принципу она отбирает тексты для перевода. Идёт ли речь о стихах наиболее любимых поэтов? "Нет, я перевожу прежде всего поэзию близкую мне по теме: война, эмиграция, Холокост. Меня увлек Блок, написавший о первой эмиграции в стихотворении "Девушка пела в церковном хоре". Сара перевела также стихи поэта Антокольского о Холокосте, стихи Уткина о войне. Недавно, на встрече с коренными американцами, Сара прочитала вслух свой перевод трогательного стихотворения А. Рывлина. За полчаса до расстрела еврейский мальчик размышляет о судьбе оставленных дома любимцах: о коте, о собачке и о птичке в клетке. Мальчик раздумывает: сочтут ли немцы их евреями или всё-таки выпустят на волю как неевреев? Мальчик молит Бога спасти любимых зверей, виноватых только в том, что жили они в еврейской семье. Американцам стихотворение это в Сарином переводе очень понравилось. Аплодировали.
Поэтические переводы занимают теперь почти каждый день Сары Дайновской. "Это нелёгкое дело, — говорит она. — Даже тогда, когда я не сижу за письменным столом, я мысленно исправляю текст, переставляю строки, ищу более подходящую рифму. ” "Вы надеетесь выйти со своими переводами в американскую прессу или добиваетесь других форм признания?" — "Нет, никакой славы я не ищу. Делаю всё это только для того, чтобы улучшить свой язык и таким образом заполнить жизнь. Главное своё достижение вижу в том, что теперь уже по субботам в синагоге могу без труда поговорить с двумя своими соседками-американками. Для них я уже не чужая…".
Мысль о счастливцах, подобных Саре Дайновской, не оставляет меня и во время журналистских поездок по стране. Я расспрашиваю своих многочисленных собеседников, чем заняты их пожилые родители, не скучают ли их дед и бабушка. В ответах молодых, как правило, слышится удивление: странный вопрос, ну и что, если старики скучают? А что им ещё делать? Пусть погуляют, посидят на лавочке, поболтают с соседями. Очень редко удаётся сыскать сыновей и дочерей, понимающих трагизм оторванных от привычных дел пожилых родителей. Ещё реже слышишь о стариках-эмигрантах, нашедших себе на склоне лет увлекательное занятие. Тем не менее, одного такого счастливца во время поездки в Кливленд (штат Охайо) я обнаружил.
Иосифу Суркину — 71. Приехал в Америку семь лет назад. Ситуация стандартная; родители эмигрировали по настоянию дочери. На сегодня все устроены, и дочь с мужем, и взрослый уже внук. Появилась правнучка. Супруги Суркины снова и снова твердят о благодарности, которую испытывают к приютившей их стране. Поясняют: дело не только в американской социальной помощи и дешёвой квартире. Чувства этих пожилых интеллигентов начинаешь понимать, дослушав до конца историю их российской жизни. В детстве Иосиф и его родные чудом спаслись от наступающей немецкой армии. Юности по сути не было — война, фронт. После войны мотался в Киеве без жилья, на нищенской зарплате. Чтобы обрести хоть какую-нибудь крышу над головой, Иосиф подался на Север, в Магадан. Семь лет работал на заводе, пока дали наконец комнату. Почти двадцать лет прожил с семьей в городе уголовников, где, идя на работу, нельзя быть уверенным, что не убьют, не ограбят. При этом жуткий климат. Зато зарплата приличная. Вкалывал безо всякой радости от отпуска до отпуска. Зато отпуск — два месяца. Живя в Магадане, окончил Суркин Машиностроительный институт. Интереса к технике не испытывал, но выбор диктовала всё та же рациональность, что погнала на Север. Так все делали, так было нужно. Под этим девизом и прошла по существу вся жизнь Иосифа Суркина. "В том мире у меня не было никаких радующих душу увлечений, ни музыки, ни искусства, ни путешествий, — вспоминает мой собеседник. — Когда оглядываюсь назад, вижу оставленный мир, как унылую серую полосу…”.
Чего он ожидал, отправляясь в Америку? Да, собственно, ничего определённого. Уже то хорошо, что внук и правнучка рядом. Но как раз игра с правнучкой неожиданно открыла деду богатый творческий мир, десятилетиями таившийся в его душе. Как это случилось? Играл с крохой. Она что-то вылепила из пластилина. Дед вылепил тоже что-то. Подошла дочь: "Слушай, папа, у тебя неплохо получается. Сделай ещё одну фигурку…" По совету своих домашних, Иосиф отправился в Джуиш Фэмили Сервис. Там была группа любителей керамики. Он даже не знал, что это за материал, из которого делаются чашки и блюдца. Ему тоже предложили вылепить что-то. Он принёс им свой "Автопортрет". Посмотрели, говорят — неплохо. Пригласили учиться. Иосиф взял у специалистов десять уроков, втянулся и сегодня без этих "игрушек" не мыслит себе жизни.
"Игрушки" — вылепленные и обожжённые Иосифом Суркиным глиняные фигурки, украшают всю его квартиру. Присмотревшись, замечаешь, что это набор отнюдь не случайных фигур. У автора своя постоянная тема — еврейство. Склонились над Торой, накинув талес, три старика. Рядом маленький домик и на нём явно непропорциональный, огромный скрипач. Название фигуры, разумеется, — "Скрипач на крыше". А вот еврейский мальчик, герой старой одесской песенки "Купите папиросы". Есть и библейские образы: Моисей раздвигает жезлом воды Красного моря. Фигуры, которые я повидал, были несомненно выразительными, интересными. Но почему начинающий скульптор (профессиональный опыт Иосифа — три года) цепляется лишь за одну тему?
— Вы верующий? Вас одолевают национальные чувства?
— Ни то, ни другое.
— В своей прошлой российской жизни вы предпочитали общество евреев?
— Нет, воспитывался всегда в окружении неевреев.
И всё же докопаться до еврейских корней скульптурного творчества Иосифа Суркина мне в какой-то степени удалось. В Риме, на пути в Соединённые Штаты, он впервые в жизни увидел Библию на русском языке. Вцепился в Ветхий Завет и прочитал его от первой страницы до последней. Тогда, в Риме, Книга показалась ему лишь интересным чтением, но позднее, размышляя над прочитанным, он впервые ощутил себя причастным к истории своего народа.
Жена моего собеседника (они недавно отметили пятьдесят лет своего супружества) считает, однако, что мужа подталкивает к еврейской теме "голос крови", генетика. Что это за штука, она, правда, разъяснить не смогла, но вспомнила ещё один эпизод: когда-то муж рассказывал ей о своих ранних детских воспоминаниях: дедушка Иосифа был верующим и тайком, надевая талес, молился на незнакомом языке. Сам Иосиф Суркин надеется, однако, со временем расширить тематику своих скульптур. Он уже сделал первый шаг к новой теме — музыка, вылепил лицо и руки контрабасиста, склонившегося над своим инструментом. В будущем Иосиф надеется также создать серию портретов, подчёркнуто отражающих характеры людей. Но главное для него — та наполненная до краев жизнь художника, о которой в прошлом он и помыслить не мог.
Сегодня он поднимается в шесть утра, выходит на балкон, где находится его мастерская и, не отрываясь, работает до полудня. После семи вечера — снова балкон и общество рождающихся в его руках фигур. "То, что я делаю, людям чаще всего нравится, — говорит Суркин, — и это — ещё одна сила, побуждающая меня заниматься искусством." Работы его действительно нравятся кливлендским зрителям. Скульптуры уже были представлены на трёх выставках, и в том числе на двух американских. Купили зрители лишь три работы начинающего российского мастера. Но одну — "У Стены плача" — приобрели американцы.
Мы снова обходим полки с глиняными обожжёнными фигурками. Что-то мне нравится больше, что-то меньше. Но так ли это важно? "Я живу этим," — завершает наш разговор Суркин. И я от всего сердца поздравляю его. Искусство, ставшее жизнью, — что может быть лучше?
III. НАШИ МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ
1. Между девочкой и девушкой
Когда в Америке беседуешь с российскими эмигрантами в возрасте 45–55 лет, то в разговоре почти неизбежно всплывают два клише. Одно произносится с чувством гордости: "Мы эмигрировали ради наших детей." Второе произносится, как правило, с обидой: "А дети тут почему-то отдалились от нас; живут своей собственной чуждой нам жизнью." Речь обычно идёт о юношах и девушках в возрасте 17–19 лет, о тех, что за годы, проведённые в Америке, оторвались от детства, но и взрослыми не стали. Во всяком случае, родители взрослыми их не считают. Я пытался дознаться у обиженных пап и мам, что именно в поведении детей их не устраивает, но чёткого ответа не получил. Попробовал потолковать на ту же тему с молодёжью, но юноши и девушки откровенничать с пожилым журналистом не стали: кто его знает, неизвестно, что ещё он там напишет, этот старик…. В конце концов мне посоветовали разыскать Ирочку, студентку одного из ньюйоркских университетов.
Ире девятнадцать. Миловидная, умненькая девушка из интеллигентной семьи. Отец, кинематографист, завёл контакты с американскими коллегами и шесть лет назад приехал в Штаты по делам. Привёз с собой семью, надеясь поразвлечь жену и дочь, показать им страну, о которой так много и восторженно говорили в те годы дома. Беседа наша с Ирой получилась на редкость откровенной. И лишь в конце двухчасового разговора я понял, почему девушка одарила меня такой степенью открытости. Но об этом — ниже.
— Какой ты видишь себя в 13 лет, в год, когда семья отправилась за океан?
— Вижу маленькую, пухленькую, балованную девочку, убеждённую в том, что она всё знает и понимает. Я была общительной, весёлой, никогда не чувствовала себя одинокой. Рисовала, участвовала в школьных спектаклях, викторинах. В школе занималась только тем, что мне нравилось: литературой, английским, историей. По остальным предметам — двойки. В те годы — в 1990 и 1991 — жить в России было очень интересно. Тогда все обсуждали события, связанные с первым съездом депутатов. Я тоже лезла в политические разговоры. Но были и другие интересы: начались встречи с мальчиками. Я была очень влюбчивой, симпатии мои постоянно менялись. Одно время увлеклась парнем, который был старше меня на три года. Я от него, как тогда говорили, сильно тащилась. Он кокетничал со мной, называл меня "бутузиком". Я не понимала смысла этого слова, когда поняла — обиделась. Хотя теперь вижу, я действительно в том возрасте была лишь бутузиком. Влюбилась в другого. Этот откликнулся. Даже подлавливал меня в лифте, пытался поцеловать. Я тоже этого хотела, но не давалась. Стеснялась….
— С родителями по этому поводу конфликты не возникали?
— С мамой мы были всегда очень близки. Она сочувствовала моим девчоночьим переживаниям. Папа от этих моих чувств был далёк. Конфликты с ним возникали по другим причинам, из-за моего скверного характера: папа говорил, что я эгоистка, лентяйка, хамка. Боюсь, что он был прав….
— Национальные проблемы возникали в твоей прошлой российской жизни?
— Я всегда знала, что я — еврейка. Вспоминается такой эпизод. Знакомая иностранка подарила мне серебряный могендовид. Я охотно повесила на шею эту звёздочку, пришла с ней в школу. За мной стали бегать мальчишки из старших классов. Моя подруга спросила их: "Что вы бегаете за ней, она вам нравится?" — "Нет, говорят, но она жидовка." Я восприняла этот эпизод как удар. А мама, узнав про это, и вовсе расстроилась. Очевидно, именно тогда она задумалась о необходимости вывезти меня из России.
— Папа тоже считал, что следует эмигрировать?
— Нет. Он был страстно увлечён своей профессией кинематографиста. А состояться в этом качестве мог только на родине. Поездку в Штаты с мамой и со мной он рассматривал только как развлечение для нас.
А что ты сама в свои 13 лет думала о предстоящей поездке?
Я мечтала об Америке с раннего детства. Мне казалось, что я знаю про эту страну всё: про Дисней Ленд, про ньюйоркские небоскрёбы, про Голливуд. Америка виделась, как что-то весёлое, красочное, волшебное….
Но знала Ира и другое: родители постоянно спорили, следует ли им остаться в Соединённых Штатах. Мама была "за" — папа "против". Спорили по ночам, шёпотом, полагая, что дочь не слышит. Ира слышала, но пропускала эти диалоги мимо ушей. Незадолго до отъезда умер дедушка, мамин папа. В семье его уважали, крупный инженер, он прошёл всю войну на фронте. Предвидя трудности, которые принесёт "перестройка", дедушка незадолго до кончины сказал дочери: "Не хочу, чтобы ты возвращалась." Фразу эту мама произнесла в присутствии Иры, когда семья уже добралась до Нью-Йорка. Но Ира и на эти слова внимания не обратила. Считала, что едет в гости, на время. В Москве она даже с подружками не попрощалась.
Перелёт через океан прибавил ей ещё больше энтузиазма и восторга. Только что закончилась война в Кувейте: на пересадке в Швейцарии Ира увидела американских мальчиков-солдат, красивых, подтянутых, гордых своей победой. Когда в Нью-Йорке ехали из аэропорта, на деревьях развевались жёлтые ленты в честь бойцов-победителей. Но уже после первых месяцев в Америке настроение у Иры резко изменилось. Отец вернулся в Москву. Мать и дочь жили поочерёдно у знакомых и родственников. Принимали их вроде бы любезно, но Ира везде чувствовала себя лишней, чужой. Юная американка, ровесница Иры, дочь приютившего москвичей профессора не хотела общаться с приезжими. В день своего рождения, ожидая гостей, она попросила "русскую" покинуть квартиру. В американской школе подружиться с кем-нибудь из одноклассников тоже не удавалось. Юная москвичка затосковала. Впала в депрессию. Приходя из школы, каждый вечер рыдала.
Отец в письмах и по телефону продолжал настаивать на возвращении семьи домой. Мама, у которой отношения с американцами тоже не ладились, начала уступать, но грянул августовский путч 1991 года. Включив телевизор, мама и Ира увидели танки, которые ехали по той самой московской улице, где находилась их квартира. Ахнули. Что же с папой? С папой ничего страшного не произошло, но мама после августовских переживаний упёрлась ещё больше: возвращаться в Россию решительно не хотела. В конце концов ей удалось получить рабочую визу, найти работу, а Иру, с детства увлечённую рисованием, приняли на стипендию в привилегированную художественную школу. Жизнь как будто бы вошла в норму.
— Отношения с одноклассниками тоже наладились?
— Я старалась, но у меня ничего не получалось. Искала дружеского общения с девочками, хотелось понравиться мальчикам, но и те и другие меня игнорировали.
Ничего грубого никто ей не говорил, но она чувствовала: в глазах учащихся этой привилегированной школы она — чужая, человек социального дна. Единственная близкая душа, с которой Ире удалось сблизиться, была чёрная девочка, американская негритянка. Она тоже чувствовала в школе свою второсортность.
— Опять национальный конфликт?
Национальность? Половина учеников в нашей школе были евреями. Но я тосковала по русской дружбе, по той сердечной близости, которую оставила в Москве. Таких отношений я от своих американских одноклассников так и не дождалась. Полегчало мне в Америке только после того, как в Нью-Йорк приехало несколько российских семейств. Они поселились неподалёку от нас, и я нашла среди них подруг по своему вкусу.
— Как подвигается учение сейчас?
— Я окончила Художественную школу и поступила в колледж опять-таки с художественным уклоном. Учусь и работаю. Но хочу сменить факультет на литературный. Меня тянет к журналистике, к писательству.
— Как на это реагируют родители?
— Резко отрицательно. Они считают, что я способный художник и должна получить соответствующее высшее образование. Призывают меня задуматься о будущем, о профессии. А литератор, по их мнению, не та профессия, которая может прокормить. Я отвечаю, что хочу учиться тому, что мне нравится сегодня. А профессия — дело будущего. В Америке переучиться никогда не поздно. Я их стараюсь успокоить: за ваши спины я не спрячусь. У меня в Америке характер изменился, я научилась работать и сама буду решать своё будущее.
Неудовольствие родителей вызывает и другая установка дочери. Ира собирается переехать в университетское общежитие. Те, кто живёт в общежитии, считает она, легче сближаются между собой, крепче дружат. У них возникают свои студенческие интересы, контакты, которых русской девушке не хватает. Переезд в общежитие для неё вопрос решенный.
— Есть ещё какие-нибудь проблемы между тобой и родными?
— Проблем выше головы. Отец живёт в России, время от времени по делам приезжает в Штаты. И опять повторяется старый разговор о возвращении домой. Мои отношения с папой всегда были значительно более тяжёлыми, чем с мамой. Я его люблю и, когда он приезжает, я ему рада. Но взаимного терпения нашего хватает лишь на одну неделю. В конце этого срока мы начинаем ссориться по любому поводу. Он не понимает меня, я — его.
— Ты считаешь, что он не хочет тебя понять?
— Нет, он хочет, но я отмалчиваюсь, не делюсь с ним своими мыслями, чувствами, планами. Вижу: он мыслит по-российски. А я уже не та девочка, что приехала шесть лет назад. Тогда, уговаривая нас вернуться, он произнёс фразу, которую я и сегодня не могу забыть. "Знаете, что вас ждет в Америке? Младшая станет проституткой, а старшая будет мыть полы в чужих квартирах." Меня очень обидели эти слова, и я с тех пор никогда не говорю с папой о своей личной жизни.
— В твоей личной жизни есть что-то, что его ещё более рассердило бы?
— Да, есть. Я ведь влюбчивая….
В этом месте нашей беседы мы подошли к самой острой болевой точке Ириной жизни в Америке. Да, она по-прежнему влюбчива. То ей американцы нравятся, то русские. Русские больше. Но в поведении американца с девушкой ей симпатична корректность. Если американскому мальчику говоришь: нет — значит нет. Американец понимает, на какие пределы интимности согласна подруга. У него есть уважение к личности. В поведении парня с русским воспитанием превалирует вседозволенность.
Первое серьёзное увлечение пережила Ира в девятом классе. Объектом её чувств стал самый популярный в школе американский мальчик. Он улыбался ей, деликатничал, но серьёзного интереса не проявил. В одиннадцатом классе девочка выдержала ещё одно потрясение. Увлекший её парень из их класса уже имел девушку и даже находился с ней в близких отношениях. Но он давал понять Ире, что он готов покинуть свою пассию, если русская девочка отдастся ему полностью. Ире в том году было шестнадцать. Воспитанная в интеллигентной столичной семье, она считала интимную близость чем-то очень серьёзным, ответственным. В компании девчонок, к которой она в ту пору принадлежала, над ней даже посмеивались: "Ирка среди нас — последняя девственница." А парень, явно ожидая своего, то приближался, то отдалялся, то любил, то не очень. Тот год был особенно мучителен для неё.
И вот пол года назад, уже после того, как ей исполнилось 18 и была завершена школа, в жизни Иры возникло чувство, которое она, уже не смущаясь, зовёт любовью. Константину — 24. Он только что закончил курс колледжа. Роман их развивался медленно, так как Костя был занят поисками работы, и они подчас не видели друг друга по нескольку дней. Но в какой-то миг Ира и Константин созрели для близости. Потрясённая своими сексуальными переживаниями, дочь открылась во всём матери. Мать всполошилась. Начались разговоры, от чего следует оберегать себя, от чего уклоняться. Однако успокоившись, Ира решила сохранить неприкосновенность своей интимной жизни. "Я сказала маме, что я взрослый человек, мне уже восемнадцать. И если со мной что-то происходит, то это моё дело. Я созрела для интимных отношений. Меня не надо ни от чего оберегать. Я сама хочу пройти через всё, даже если совершу какие-то ошибки."
Этот принцип независимости Ира восприняла, как она говорит, от американских традиций. Америка, по её мнению, страна пуританская и остаётся таковой, сколько бы по телевизору не показывали мужчин и женщин, срывающих с себя одежду и прыгающих в койку. Родителей, однако, эти теории не успокаивают. В их разговорах с дочерью то и дело вспыхивает раздражение, опасение, страх. Ира твёрдо стоит на своём. Вернее, стояла до вчерашнего дня….
Тот, кто внимательно прочитал наше интервью, очевидно, обратил внимание на то, как меня — автора — удивила поначалу откровенность юной собеседницы. Что побудило её излить постороннему пожилому человеку самые интимные подробности своей девичьей жизни? Для этого, как оказалось, была особая причина. За сутки до нашей встречи Ира вместе с Константином провела вечер у подруги, отмечавшей свой день рождения. Общие знакомые считали их пару идеальной. Но уже там, танцуя с Костей, Ира почувствовала с его стороны какой-то холодок. Потом он повёз её на своей машине домой. Вошли в подъезд дома. И тут в лифте, молчавший до того Костя вдруг заговорил. Ему надо строить жизнь, делать карьеру. Он не хочет играть своими и её чувствами, потому что видит: она любит всерьёз, да и он тоже. И, тем не менее, их отношениям наступает конец. Им следует расстаться. "Я виноват, — твердил он. — Я не должен был доводить тебя до такого накала чувств". И снова возвращался к предстоящим ему деловым трудностям, к трудоустройству, к карьере. Ира буквально в истерике вбежала в свою квартиру. Не раздеваясь, разрыдалась у мамы на плече. Уснуть не могла, всю ночь металась в каком-то безумии. Утром её застал мой телефонный звонок. Я, ничего не зная, пригласил её приехать ко мне на беседу. В другой ситуации девушка скорее всего отказалась бы от встречи с литератором, но после той страшной ночи она буквально помчалась ко мне через весь город. Ей не терпелось кому-то излить душу. Журналисту в этом случае выпала роль исповедника.
Я не рассказал и половины того, что услышал в то утро от расстроенной девушки. Горечь утраты, однако, не лишила её здравого смысла. Она спокойно объяснила, что выходить замуж за Костю не собиралась. Рано. Понимает она и то, что мучающую её тоску надо преодолеть самой. Но сразу это едва ли удастся. Планы? Пока никаких. Хотелось бы вернуть любимого, но это нереально. Запомнилась его последняя фраза: "Не могу тебе обещать, что в будущем, когда стану на ноги, мы вернёмся друг к другу. Я не хочу, чтобы ты ждала…".
Встречался я потом и с родителями Иры. Они расстроены, жалуются: девочка замкнулась. Говорить с отцом и матерью не хочет. Им кажется, что они могли бы поделиться своим жизненным опытом и тем помочь ей. Боюсь, что эти добрые люди ошибаются. Права в данном случае их дочь: всё пережить самой и накопить свой жизненный опыт. В описанном конфликте двух поколений нет ни правых, ни виноватых. Отцы и дети видят мир по-разному. Иван Тургенев сказал об этом задолго до начала нашей эмиграции.
2. Дама средних лет (Три новеллы).
Говорить о своём возрасте дамы наши, как правило, избегают. В лучшем случае высказываются в неопределенно-романтической форме: "Я дитя предвоенных лет…". Я пытался понять смысл столь упорного молчания: опросил несколько наших соотечественниц, поселившихся в Нью-Йорке. Одна интеллигентная эмигрантка сказала, что разговоры такого рода напоминают ей о приближении старости. "Я — эстетка, — пояснила она, — а старость, какой она мне видится, полна неприятно-неэстетических моментов: морщины, седина, согнутая спина, беззубый рот…. Так что, пожалуйста, не надо о возрасте." Другая собеседница с явным огорчением заметила, что упоминание почтенного возраста роняет женщину в глазах мужчин. "Уже сорок? Уже пятьдесят? Кому же я нужна такая?” Третья незамужняя дама, опять-таки имея ввиду мужчин, грустно заметила: "Нас много, а вас мало. И, конечно же, вас более привлекают молодые. Нам в такой ситуации остаётся лишь помалкивать о своём возрасте…"
Должен согласиться: пропорция мужчин и женщин в российской эмиграции для прекрасного пола действительно неблагоприятна. Поначалу, 10–15 лет назад, она составляла в процентах 45 к 55. Думаю, что сегодня мужчин в нашей "общине" ещё меньше. Оставшись без мужа (покинувшего её или умершего) дама среднего возраста имеет крайне мало шансов вновь обрести супруга или даже просто друга. Не знаю как кого, а меня этот всё более затягивающийся узел искренне огорчает. Помню, как 20 с небольшим лет назад в Москве одинокие знакомые дамы намекали: конечно, родину покидать жалко, но, может статься, в далёкой Америке удастся создать семью и это возместит все потери. О, мечты, мечты…. Откуда нашим женщинам было знать (советская пресса касалась этой темы крайне неохотно), что, покидая государство с самым высоким уровнем разводов, они направляются в страну, где разводы, в первые же два года после свадьбы, поражают каждый второй брак! Не могли эти отъезжантки предвидеть и того, что многие наши мужчины, добравшись до американского берега, предпочтут гёрлфрендовские отношения. Наши юные девы большой беды во всех этих заокеанских переменах не увидели. Но женщинам средних лет пришлось серьёзно задуматься, как строить на новом месте свою личную жизнь. Попробую описать три судьбы, открывшиеся мне в недавнее время, три варианта жизни, к которым принуждает наших женщин эмиграция. Условно назовем первый рассказ:
Новелла первая
"Все счастливые семьи похожи друг на друга…" — утверждает классик. Я решительно не согласен с ним. И в России, и в эмиграции я встречал немало счастливых семей, которые были решительно несхожи между собой. В одном доме счастье базировалось на восторгах мужа перед телесными прелестями жены. Другая пара благоденствует благодаря любви к своим многочисленным детям. Российская дворянка обрела счастье в браке с американским негром, принявшим православие. Есть вокруг меня немало и других вариантов. Расскажу об одном из них.
Благополучие этой пары, отметившей уже три десятка лет супружества, базируется……Впрочем, не стану забегать вперёд.
Любочка очень детально и искренне изложила мне механизм своего семейного счастья. Она из простых. Родилась в маленьком украинском городке. После школы закончила техникум. Добросовестно много лет работала на заводе. Встретила ЕГО, когда ей было уже 27 лет. Скромная миловидная Любочка привлекала внимание многих парней на своём заводе, но пролетариат её как-то не прельщал. Любина мама — библиотекарша — много читала и к тому же приучила свою дочь. Книги в доме не переводились, разговоры на литературные темы — тоже. И вдруг на жизненном пути начитанной девушки оказался настоящий интеллигент. Журналист. Да ещё стихи пишет. И внешне симпатичный. Почти ровесник. Влюбилась по уши.
Надо сказать, что в прошлом один мужчина в любиной жизни уже был. Вышла за него замуж в 22 года и даже дочь родила, но он умер через несколько месяцев после свадьбы. Отравился чем-то на своём заводе. И вот, теперь новый избранник. Эммануил со своей пишущей машинкой и многочисленными рукописями въехал в однокомнатную квартиру, где Люба жила с матерью и маленькой дочкой. Обстановка для молодой пары сложилась — хуже некуда. Теснота, уединиться негде. И бедность. Несколько лет мечтали купить для Эммануила диктофон, но денег собрать не удавалось. А пока суть да дело роль звукозаписывающего инструмента в семье играла молодая жена. Муж диктовал ей свои рассказы и статьи, потом перепечатывал записанное ею. "Мне нравилось всё, что он сочинял, — вспоминает Люба. — Но более всего прельщали меня его интеллект, образованность (филологический факультет университета закончил!). А, главное, пленяло слово "писатель", которое он постоянно вставлял в разговор, как только начинал говорить о себе."
В дом свой писатель ничего почти не вносил (где-то работал, изредка печатался в газетах). Но, по словам Любочки, его творчество, интеллектуализм были для неё важнее денег. "Я с детских лет привыкла надеяться только на себя, — говорит она.
— Семейные расходы планировала, исходя из своей зарплаты." Нет, Эммануил не был грубым мужиком-потребителем, каких на Руси сколько хочешь. Но он считал, что рано или поздно преодолеет нежелание редакторов печатать его, издаст свои романы и сборники стихов и тогда, добившись признания, сможет осыпать свою семью всеми возможными благами. "А пока, — говорит Люба, — он видел себя несправедливо уязвленным, и я всячески сочувствовала ему." Так и прожили они вместе почти четверть века.
Главное испытание ждало семью, когда семь лет назад супруги попали в Америку. Они оказались тут не в качестве беженцев. Просто знакомый профессор пригласил Эммануила в свой университет прочитать какие-то лекции. С лекциями ничего не получилось, надо было возвращаться обратно, непризнанный на родине писатель решил, что наилучшим образом он может состояться именно здесь, в Америке. Ведь здесь нет ни цензуры, ни редакционных запретов советского толка.
— Эммануил посоветовался с вами?
— Да, но я ему сказала, что остаться не смогу. Это значило бы для меня бросить дочь, двух внуков и маму. Да и у него остаются на родине старики — отец и мама. Я считала: так обращаться со своими близкими нельзя.
— И что же он?
— Эммануил действовал в соответствии с еврейской пословицей: "Спроси у жены совета и действуй наоборот".
Ситуация в семье возникла критическая. Муж вцепился в свою идею: во что бы то ни стало пробиться в настоящие писатели, увидеть свои стихи и прозу опубликованными. Всё остальное отодвинулось для него на задний план. "Он несколько раз кричал мне: "Не хочешь оставаться, катись обратно в свою Денисовку!" Денисовка — городок, где я родилась и провела своё детство. Думаю, что, поднимая крик, он всё-таки сознавал: ни в какую Денисовку я от него не поеду, одного его не оставлю, — говорит Люба. — Когда мы уезжали из Советского Союза, о том же его просила его мама. Она, как и я, хорошо знала: в бытовом отношении её сын — человек неприспособленный. Поразмыслив над всем этим, я уступила мужу, уступила сознательно. Поняла: если разъедемся, плохо будет обоим".
По своей привычке решать финансовые проблемы самой Люба быстро сыскала семью, где была нужда в уходе за пожилой больной женщиной. Женщина лежала в Ньюйоркском госпитале, так что Любе и Эммануилу пришлось перебраться в этот город. Эммануила такой переезд вполне устраивал, где же ещё и состояться писателю, как не в "столице мира".
Любе встреча с Нью-Йорком принесла, наоборот, серьёзные переживания. Её первая хозяйка, еврейка с неважным характером, лежала в госпитале. Говорила она только на идиш, но была убеждена, что говорит по-английски и все должны её понимать. На этой почве в палате то и дело вспыхивали скандалы. Любе предстояло в своём лице совместить и няню и переводчицу. "Идиш я немного знала, — вспоминает она, — а по-английски ни бум-бум. Кое-как со словарём в руках, пыталась объяснять медсестрам и санитаркам капризы своей хозяйки и как-то смягчать наэлектризованную атмосферу." Так, буквально со слезами на глазах, провела она первые свои четыре недели американской службы.
Но не прошло и двух месяцев по приезде в Соединённые Штаты, как эта маленькая женщина уже обрела спокойный рабочий ритм: начала убирать квартиры американцев. Её добросовестность была быстро оценена хозяевами, и её начали рекомендовать, передавать из дома в дом. Сейчас у неё уже четырнадцать клиентов. Половина из них, люди, как правило, обеспеченные, доверяют ей ключи от своих квартир. Работая ежедневно по 5–6 часов, она получает наивысшую почасовую зарплату, принятую в нашем городе.
Но деньги деньгами, а как Люба чувствует себя душевно? Как воспринимает свою отнюдь не почтенную по российским стандартам службу уборщицы? "Мне важно, не чем я занимаюсь, — говорит она, — а как я выгляжу при этом в собственных глазах и в глазах окружающих. Всё, что делаю, я всегда делаю на высшем уровне. Это мой принцип. Американцы это понимают. Они знают и о моём техническом образовании и считают нынешнее положение нашей семьи временным. Верят, что мы, с нашим образованием и опытом, рано или поздно выбьемся. Мне целуют ручки и щёчки. Одна клиентка называет меня "профессором чистоты", другая говорит обо мне: "Вы настоящая леди."
Эммануил, как и его жена, без излишней стеснительности занимается с утра физическим трудом: развозит завтраки пожилым людям. Зато вторая половина дня полностью отдана творчеству. Два года назад он настоял на покупке компьютера. Сначала речь шла лишь о пишущей машинке (вордпроцессоре). Но потом возникла мысль об издании собственных и не только собственных стихов. Иначе говоря, о создании издательства. На осуществление этой идеи и уходит сегодня немалая часть семейных доходов. Но приносит она и радости. Особенно поднялось настроение у Эммануила, когда ему собственными руками удалось напечатать и издать, пусть и ничтожным тиражом, два сборника своих стихов. Люба ко всем этим расходам относится терпимо, как и ко всей литературно-издательской деятельности мужа. "Моральное состояние мужчины в доме важнее всего остального, — говорит она. — Конечно, подчас терпения не хватает. Ворчу, но потом уступаю. Что-то в душе берёт верх над рационализмом и бытовой расчётливостью. Может быть, чувство долга. Я знаю, что должна проявлять терпение, а порой и смирение…".
— Вы всё ещё верите, что произведения Эммануила будут признаны современниками серьёзной литературой? Или что он способен основать издательство, которое станет кормить вашу семью?
— Не знаю…. Не знаю…. Эммануил по характеру своему экспериментатор. Он не умеет останавливаться на достигнутом, снова и снова улучшает свои рукописи, совершенствует свою”компьютерную типографию". Это его жизнь. Я не могу стоять на пути его мечтаний.
— Я позволил себе довольно колючий вопрос: не кажется ли Любочке, что американцы относятся к ней с большим пониманием и уважением, чем муж, который занимается только тем, что его занимает? Он ведь тратит на издательское оборудование, в частности, деньги, которые она зарабатывает нелёгким трудом. "Он так не считает, — последовал ответ. — Он считает, что это наши общие деньги, и я его не разуверяю…".
Есть у Любы и другие сферы переживаний. Надо как-то помогать детям, оставшимся в России. Поддерживать порядок в собственном доме. Да и на работе не всё так гладко, как кажется со стороны. Её работой все довольны и, тем не менее, время от времени эта приезжая из России как бы испытывает "подземные толчки", связанные с различием российской и американской культуры, нашими и их привычками и нравами. Так, одна американская дама, у которой на книжных полках стоят в переводах произведения Толстого, Достоевского, Чехова, Пастернака, тем не менее несколько раз затевала разговоры о том, что жители России в массе своей дикари. Она призывала Любу "быть больше американкой". Когда уборщица из России появилась у неё впервые, профессорша начала обучать её… как пользоваться пылесосом и переговорным устройством (интерком). Другой клиент пытался преподать Любе "основы этики". Утром того дня, когда она должна была приехать к нему для уборки квартиры, он позвонил ей и сообщил, что в одной из комнат у него ночует гость и, прежде, чем входить в эту комнату, ей надлежит постучаться….
Есть семьи, где хозяин может поставить свои сникерсы на кухонный стол. Хозяйка в той семье купает своего маленького ребёнка в том же тазике, который Люба использует для мытья полов. Различны у нас и у
них и отношение к домашним животным. В одном доме хозяин кормит любимого кота на том же столе, за которым обедает вся семья. Посуда собачья и кошачья моется в этом доме вместе с посудой, из которой едят хозяева. Понятия о домашнем уюте у американцев и россиян тоже изрядно разнятся. У аборигенов в спальне можно увидеть железный ржавый сейф, который наша хозяйка даже в сарай не поставила бы. Все эти детали американского быта поначалу царапали Любочку, помешанную, как и многие российские женщины, на чистоте и уюте. Но сегодня она относится к нравам своих клиентов уже более спокойно. Основная чувствительная точка её жизни по-прежнему семья, отношения с мужем. Надо поддерживать в доме равновесие, сохранять мир и покой. Основную роль в этом, длящемся уже почти 30 лет процессе, должна брать на себя жена. "Ваш муж понимает, каково оно, ваше значение в его жизни?" — спросил я напоследок. "Думаю, что понимает. Но никогда об этом не говорит. Характер такой…”.
Новелла вторая
Рядом они выглядели забавно: муж-американец огромен, белобрыс. Из-под джинсовой куртки выпирает изрядное брюхо. По лицу его бродит стеснительная улыбка. Он нежно и неуверенно поглядывает сверху на свою махонькую русскую жену. Она прямая противоположность супругу. Тоненькая, изящная. Несмотря на возраст (Рите сильно за сорок), физиономия у неё миловидная, даже красивая. Но никакой наивности и доброты в этой красивой мордочке нет и в помине. Острый, холодный взгляд мгновенно засекает обстановку. Она явно из тех, кто знает, когда следует улыбаться, когда выглядеть гордой и неприступной, а когда нежной.
Русско-американская семья Риты и Джима возникла в Нью-Йорке меньше трёх месяцев назад после двухнедельного знакомства. Американец (ему немного за пятьдесят) никогда не был женат. У него нет детей. Её же интимная биография намного сложнее, но говорить на эту тему она не склонна: что было, то прошло и быльём поросло. Сейчас начинается новая жизнь. Американская.
Маленькая Рита рассказывает. Говорит о себе бойко, темпераментно. Возникший в её изложении автопортрет изъянов не имеет, талантлива, благородна, трудолюбива. Мой объективный друг-магнитофон записывал каждое слово нашей беседы, ничего не искажая, и мне оставалось только разобраться, где в этой страстной Ритиной речи правда, а где… всё остальное.
…Русская, с какими-то казачьими корнями семьи. Родители, прошедшие войну, познакомились вскоре после завершения боев в небольшом городке на Северном Кавказе. Там Рита и родилась. Папа инженер, мама врач-хирург. Интеллигенты. Учили дочь музыке, хореографии, посылали в драматический кружок. Профессию актрисы Рита избрала ещё в школе. "Я хотела петь, танцевать и играть, как Любовь Орлова. Она была моим кумиром." Мама не возражала, но жизненно более опытный папа настаивал на более "серьёзной” профессии. Производственной. Решили, что дочь пойдёт на химический факультет. Рита, не желая никого обижать, завершила театральное училище почти одновременно с химфаком. Сегодня умненькая Рита находит весьма оригинальное объяснение своему двойному образованию. "Знание химии весьма ценно для актёра. Профессия наша требует постоянного анализа того образа, который мы воссоздаём на сцене. Аналитическая химия тут очень уместна”.
Двадцатилетняя актриса добралась до Ленинграда и там в театре при Театральном институте успешно сыграла роль Антигоны в одноимённой пьесе древнегреческого автора. "После Антигоны я стала заметной, обо мне начали говорить. Но меня не столько интересовал успех, сколько желание освоить мою профессию. Я люблю репетиции. Я — трудяга. Я родилась под знаком Тельца. Тельцы крепко стоят на земле, хотя рогами устремлены ввысь, в небо…".
Журналист, постоянно берущий интервью, я уже привык к тому, что мои собеседники склонны изображать себя несколько лучшими, чем они есть. Меня это не волнует. Но в беседе с Ритой захотелось узнать, что же действительно означает "родиться под знаком Тельца". Я достал книгу по астрологии. Там значилось: женщина-телец "тяготеет к музыке и актёрству", "до старости сохраняет красоту лица и тела". "Она практична и напориста, с весьма земным деловитым взглядом на жизнь". "Тщеславна и честолюбива". Было в той книге много и другого. Но об устремлении ввысь, в небо, о романтизме Тельцов ничего сказано не было.
Театральная карьера Риты началась в Риге. Режиссёр местного Театра Юного Зрителя заявил ей поначалу, что в актёрах у него нужды нет и знакомиться с её мастерством он не собирается. "Но я знала, он меня посмотрит", — вспоминает напористая Рита. Режиссёр действительно вернулся, поглядел на молоденькую, хорошенькую актрису и пригласил её зайти завтра на просмотр. В конце концов он взял её в свой театр. Следующие семь лет Рита успешно, по её словам, играла на рижской сцене. Личные отношения с коллегами, однако, не всегда ладились. "Меня либо любили, либо ненавидели, — рассказывает она. — Я не имела среди актёров нашего театра подруг, друзей. (Астрологический справочник говорит по этому поводу, что Телец "эгоистичен и не забывает ни одной из нанесённых ему обид").
Следующий рывок — Ленинград, театр Ленинского комсомола. Знаменитого руководителя театра режиссёра Товстоногова, к этому времени уже не было в живых. Но новый режиссёр поверил в Ритину одарённость и принял её. "Актёрская судьба моя складывалась в Ленинграде успешно, — утверждает она. — Когда я играла в пьесе Вампилова "Утиная охота", каждый мой выход зрители сопровождали бурными аплодисментами.” Но и успех ленинградский мою собеседницу не удовлетворил. В 38 лет она отправилась в Москву, убеждённая, что сумеет пробиться в Художественный театр (МХАТ). Возраст, правда, был уже не очень подходящий. Да и вообще, как она поняла к тому времени, российский театр не удовлетворял её. Повидав американский мюзикл "CATS" (Кошки), она уразумела: вот чем она хотела бы стать — синтетической актрисой. Чтобы на сцене петь, танцевать и при всём том не порывать с ролями драматическими. Увы, в России таких возможностей не было…
Во МХАТ она тем не менее пробилась. Сыграла роль мальчика Тиль-Тиль в "Синей птице”, отобрав эту роль у своей коллеги. Пробивной характер "новенькой" и её длинноватый нос навёл сотрудников на подозрение, что к ним приехала еврейка. "Я не стала никому доказывать, что я не еврейка", — вспоминает Рита. Разговоры о еврействе опрокинула она с помощью медицины. Обратилась к хирургу — специалисту в области пластики, и он выстроил ей тот коротенький, с открытыми ноздрями носик, который и по сей день украшает её моложавое личико. (Про операцию ту Рита в интервью не упомянула — очевидно, забыла. Но я зато вспомнил документальный фильм, о хирурге-пластике, который видел ещё до эмиграции в Москве. Рита была там одной из героинь.) Приближаясь к сорокалетию и ощущая, что профессии её приходит конец, Рита сделала ещё одну попытку удержаться в театре. Она показала себя знаменитому режиссёру Любимову, возглавлявшему Театр на Таганке. Любимов её одобрил, но сыграть в любимовском театре ей не пришлось: шеф уехал за границу и обратно вернулся лишь через много лет.
На этом роль Риты, как актрисы, закончилась, но взамен "театр жизни" одарил её ролью матери. В 1990 году, на сорок третьем году, она родила Витеньку. Отцом ребёнка был, как она рассказывает, очень талантливый, но уже немолодой московский композитор. Похоже, что эта поздняя связь была наиболее волнующей в личной жизни темпераментной Риты. Она и сегодня с нежностью вспоминает Витиного отца, который вскоре после рождения ребёнка был сражен раком и умер.
Итак, все беды сразу: гибель близкого друга, обрыв театральной профессии и одновременно то экономическое землетрясение, которое обрушилось на страну в начале девяностых. Моя энергичная собеседница тем не менее не растерялась. "Я пошла в бизнес, — сообщает она. — Основали ту фирму, куда я попала, отставники из КГБ. Запросто с улицы в их контору не войдёшь: офис находился при ЦК КПСС. Порекомендовали меня туда мои друзья, хотя в делах финансовых и производственных я решительно ничего не смыслила. Об этом я своим хозяевам так напрямик и заявила. Они ответили, что ничем таким мне заниматься не придется. "Сидите и слушайте внимательно, когда мы разговариваем с партнёром, а потом дайте нам анализ встречи, анализ личности, с которой мы затеваем деловые отношения". Рита и эту работу восприняла как своеобразный театр. Приходит в кабинет ("на сцену") незнакомый человек ("исполнитель неведомой пока роли"). Достоверно ли то, что он предлагает и обещает — неизвестно. Когда он врет, а когда говорит правду — неведомо. И тем не менее аналитик Рита уже в этой первой сцене обязана разгадать его будущее поведение в предстоящей "пьесе". Рита, очевидно, какую-то пользу всё-таки приносила, что-то её анализы хозяевам-кегебешникам подсказывали. Я поинтересовался, не было ли ей противно общество таких вот "хозяев", но она равнодушным голосом ответила, что до их морали ей дела не было. Зато в их компании она многому научилась и через год уразумела, что готова завести и собственный бизнес.
В ту пору торговали чуть ли не все граждане России, иначе было не прожить. Рита сумела, как она рассказывает, заинтересовать своей, опять-таки торговой, идеей крупную фирму. Получила от них деньги на строительство в центре Москвы шикарного магазина и сразу разбогатела. "Я стала не просто Ритой, а миллиардершей", — гордо восклицает она. Мне трудно было уразуметь сущность финансовых трюков, о которых поведала моя собеседница. Я уловил лишь, что в какой-то момент она стала главным акционером крупной торговой компании. Но в этом качестве Рита о театре не забывала. "Мне помогала моя театральная интуиция, умение построить свой бизнес на неординарном подходе. Представляете, прихожу в банк, где одни мужчины. Я, крошечная женщина, должна выстроить им свою деловую линию, чтобы они мне поверили и дали деньги. Это был театр, страшный, тяжёлый, где я всё-таки своё брала…".
Та "пьеса”, если верить Рите, завершилась действительно страшной сценой. Через четыре месяца после пышного открытия в центре столицы огромного магазина в её квартиру ворвалась вооружённая банда. Мужики в масках, с револьверами и ножами искали деньги и драгоценности. По счастью, маленький Витя был в это время с бабушкой на Кавказе. Её связали, били, жгли, выбили зубы. Она отдала им свои украшения, дорогую старинную икону, но убедить мафиози, что наличных денег в доме нет, было очень трудно. "Когда они ворвались, я за секунду проиграла в голове весь спектакль. Если убьют, мой Витенька окажется в советском детском доме. Ничего хуже не придумаешь. Надо выжить любой ценой. Я не плакала, когда меня жгли, а пыталась спокойно, по-деловому разговаривать с ними. Предложила даже впредь работать на них. И парни поверили: денег в квартире нет, и сохранили мне жизнь". Рита пережила после того тяжёлый стресс. "Господь дал мне знать: бросай свой бизнес, он тебе не по силам, рано или поздно мафия уничтожит тебя. Более всего мучила мысль о сыне, что будет без меня с Витей?…"
В том же 1995 году позвонила из Америки подруга, пригласила в гости. К этому времени Рита уже успела завершить свои финансовые дела наиболее, как она говорит, разумным образом, сняла
с себя функции "фигуры номер один". После первой поездки в Америку поехала второй раз. И не просто болталась по Нью-Йорку и Бостону, а заплатила за обучение в колледже, где взяла курс английского. Думаю, что мысль о муже-американце сложилась у Риты ещё в Москве. Она снова и снова повторяет, что после налёта на её квартиру все мысли были лишь о том, как уберечь Витеньку, дать ему достойное образование. Деньги, очевидно, были, но не было той степени защищенности, в которой нуждался ребёнок. Американский вариант лучшим образом решал эту проблему: найти там мужа и вывезти в Штаты маму и ребёнка. Рита о планах своих не распространяется, но история её брака свидетельствует о продуманности каждого её шага. Первая, живущая в Америке, подруга подходящего "жениха" сыскать не сумела. Рита обратилась за поддержкой к ещё одной знакомой. Вторая оказалась более динамичной и поворотливой. У неё нашёлся знакомый американец, школьный учитель. Неженатый. Подруга попросила его походить с Ритой по музеям и театрам Нью-Йорка. Американец был в отпуске. Согласился, почему бы не провести неделю в обществе хорошенькой русской. Надо полагать, Рита в те дни выявила свой театральный талант во всю мощь. В конце второй недели знакомства американец, не бывавший в браке, растаял и сделал иностранке предложение. "Я не знаю, как мы объяснились, — вспоминает она. — Но я увидела его доброту, терпение, культуру. Я искала отца своему ребёнку и нашла его.” О своих личных чувствах к мужчине говорить со мной она воздержалась. Возможно, что и говорить было не о чем….
Выбор Джима вызвал в его англосаксонской семье лёгкий шок. Но невеста сумела обаять и этих неплохо зарабатывающих биржевиков. "Медовый месяц" молодые провели во Флориде. По возвращению Джим оплатил университет, где жене предстояло изучать язык и компьютерные науки.
— Вы рассказали ему о своём сыне, о том, что собираетесь привезти в Америку маму и маленького Витю?
— Мне не пришлось просить его, он сам предложил поселить маму и ребёнка в своём доме.
Рита довольна. Нет, она не рассыпается в восторгах по поводу своего американского мужа. Но, подводя итоги последних трёх месяцев, выражает полное удовлетворение. "Я отношусь к тому, что со мной произошло, как к блестящему повороту своей судьбы." Джим её вполне устраивает. У него есть свой дом, квартира, он имеет акции какого-то предприятия и постоянную работу. "Впервые в жизни я не должна думать, хватит ли денег дожить до конца месяца. Более всего я думаю сегодня о своём сыне. Выучусь — пойду работать в бизнес, чтобы мой мальчик имел всё, всё, всё…". Слово мальчик опять-таки обращено к сыну.
…Когда двухчасовая наша беседа подходила к концу, Рита посмотрела на часы и вспомнила мужа. "Джим там внизу, ждет.» Я не понял: оказывается, Джим привёз её с другого конца города и уже два часа сидит в машине, ожидая конца нашей беседы. Но почему же она не пригласила мужа зайти в дом? "Он скромный, постеснялся входить в чужую квартиру." Мы спустились вниз. Стоя возле машины, Джим закусывал по-американски: ковырял пластиковой ложечкой в металлической тарелке, которую, очевидно, приобрёл в соседней китайской кухне. Увидев жену, расцвел. Вот тут-то я и сфотографировал их рядом, громадного белобрысого американца и крохотную русскую. Наивность рядом с деловитостью, доброжелательство на поводке у строгого расчёта. "Я не судья брату моему", как сказано в одной умной книге, но мне, откровенно говоря, жаль этого Джима. Да и многих других его соотечественников, которых тяготение к экзотике загоняет в сети, хитро сплетённые умненькими русскими головками. Будет ли счастлива в браке Рита? Едва ли. На пороге своего пятидесятилетия ей предстоит играть в сложной заграничной пьесе. Когда-то её восхитил мюзикл "Cats” ("Кошки"). Но "Кошки" ещё не Америка, а жизнь американская отнюдь не мюзикл. Удастся ли Рите и сотням российских женщин с такой же деловой установкой стать "синтетическими актрисами" и прижиться на американской сцене — не знаю, не уверен, хотя в душе и желаю им счастья. А пока — театр продолжается.
Новелла третья
Мы предприняли серию бесед на эту тему не случайно. Именно женщинам этого возраста эмиграция приносит наиболее тяжёлые переживания. В частности, поговорим о женском одиночестве. О том, на что толкает оно подчас наших тружениц и мучениц.
Итак, Луиза и Фёдор Иванович.
Луиза — полненькая коротышка с ярко рыжими крашеными волосами. Личико вполне симпатичное, но всякий раз, когда я делал попытку сфотографировать её, она прикрывала нижнюю часть лица ладонью. Похоже, что двойной подбородок — её главная женская проблема. В действительности же, главное в её жизни — одиночество, давнее, безнадёжное. Отсюда подчёркнутая стеснительность. Интервью наше состоялось с её согласия. Луиза пообещала рассказать о сложной романтической ситуации, которая захватила её в начале нынешнего года. Но разговор наш на каком-то этапе споткнулся. Об интимной стороне своей жизни эта немолодая дама говорить попросту не умела. В ответ на мои вопросы ёжилась, стыдливо улыбалась и в лучшем случае качала головой: да, дескать, было дело….
И тем не менее я решил написать о Луизе. Очень уж типичной показалась мне судьба этой эмигрантки "среднего" возраста. Эта ей принадлежала фраза, которую я привёл во вступлении к первому очерку: "Я — дитя предвоенных лет". Так она объясняла свой возраст. С большим трудом мне удалось вырвать признание в том, что год рождения 1937-й и сегодня ей таким образом за шестьдесят.
На прошлом Луизы долго не задерживались. Интеллигентная семья, папа и мама учёные. Девочку обучали музыке, водили на концерты. Но когда пришла пора поступать в институт, то по логике советских родителей-евреев, дочь должна была пойти в институт сугубо технический. Так спокойнее. Стала инженерной. Два десятка лет вкалывала в Гипромаше и ещё каких-то "гипро". Инженерная деятельность не слишком её занимала. Но жизнь скрашивали балет, опера, концерты. Музыка и театр годами оставались главной её радостью. Замуж вышла, но радости тот брак не принёс. Развелись. Детей не было.
По внешности Луиза на еврейку не похожа, русская мордочка. Но когда в 70-х хотели её принять в оперный театр на должность специалиста по освещению, ничего из этого не получилось. Заглянув в паспорт Луизы, должностное лицо пожало плечами: извините…. В те же годы произошло у неё ещё несколько неудач с устройством на работу. Нервничала. Но главное, что мучило — одиночество. Мама умерла, отец, осуждённый по политической статье, погиб в тюрьме. Второго брака не предвиделось. Женская неустроенность подтолкнула Луизу на прыжок за океан. Сегодня она понимает: то был прыжок в пустоту, в ничто.
Сначала, правда, эмиграция выглядела празднично: семь радостных дней в Вене, сорок фантастических суток в Риме. По приезде в Нью-Йорк немедленно помчалась в Метрополитен Оперу, где в тот вечер пел Поваротти. Но потом всё вошло в затверженно-унылый ритм. Бытие эмигрантское не слишком отличалось для неё от жизни на родине. Как в России время для неё разделилось в Америке на две непересекающиеся плоскости: днём скучная надоедливая служба в должности бухгалтера, а по вечерам походы на концерты в Карнеги Холл, посещение Сити Балета или оперного театра. Так оно и шло из года в год. Одиночество, как и на родине, терзало, выбивало подчас слезу, тоска сдавливала сердце. В многомиллионном Нью-Йорке найти родственную душу оказалось ещё труднее, чем в Москве.
С приходом "горбачевской весны" открылась возможность побывать в России. Поехала домой
с тайной надеждой на что-то. Но на что? В Москве зашла в ОВИР, спросила, что надо сделать, если желаешь вернуть себе советское гражданство. Ответили: проживите год у своих родственников, а потом уже подавайте заявление на возвращение гражданства. Но оказалось, что страх перед "родственниками за границей" у советских граждан всё ещё силён. Луиза позвонила родной тёте, но та разговаривать с племянницей не пожелала. Попросила и впредь её звонками не беспокоить. Круг замкнулся: и там одиночество и здесь пустота.
Вторая, через год, поездка в Москву уже позволила повидать старых знакомых, школьных и институтских подружек. Но того, что ожидала душа, не свершилось: приятели переженились, знакомые за десяток лет разлуки отдалились. Изменилась и сама столица: возвращаться ночью из театра стало опасно, в подземных переходах зазвучали непристойные, порой антисемитские песенки. И тем не менее в начале нынешнего года Луиза снова отправилась на родину. Причина та же — одиночество. Теперь уже родственники не шарахались от "американки", а сводный брат даже попросил остановиться у него. На душе чуточку потеплело. Луиза даже продлила своё пребывание в России на неделю. Именно в эту неделю, вернее — в последний день перед отъездом и произошло то, чего она так долго ждала.
В гостях у одной родственницы прозвучала случайно брошенная фраза: "Её муж — хирург”. В памяти Луизы слово "хирург" пробудило вдруг давнее, очень давнее воспоминание. Почти тридцать лет назад у неё, тогда ещё совсем молоденькой женщины, врачи обнаружили в груди какое-то уплотнение. Что за опухоль, никто сказать не мог, но медики решили — оперировать. Стали искать подходящего хирурга. Кто-то из знающих людей посоветовал Фёдора Ивановича, молодого, талантливого медика с умными, как говорили коллеги, руками. Фёдор Иванович "по блату” положил молодую даму в свою военную клинику и прооперировал её. Опухоль оказалась неопасной фиброаденомой. Врач и пациентка после той операции подружились, стали встречаться, ходили несколько раз в театр.
Но отношения их вскоре прервались: Фёдор Иванович был женат. И вот теперь, почти треть века спустя, Луиза вспомнила о давнем знакомце. Нашла в телефонной книге его фамилию, позвонила. Домашние сообщили, что доктор поскользнулся на улице и упал. Сейчас находится в больнице. Дали адрес.
"Я вспомнила о нём в последний день пребывания в Москве, — говорит Луиза. — Вечером предстояло идти во МХАТ, а днём я отправилась в госпиталь. Что повидала во МХАТе, уже не помню, а нашу встречу с Фёдором Ивановичем помню во всех подробностях. Он вышел на костылях, в больничной пижаме, но всё равно, я сразу увидела — Мужчина. Блестящие голубые глаза. Высокий, моложавый, полный жизненной энергии." Фёдор Иванович тоже мгновенно узнал бывшую пациентку. Вспомнил её имя, фамилию, диагноз давней болезни. Встреча взволновала обоих. Сумбурно, перескакивая с темы на тему, стали вспоминать, чем наполнены были минувшие годы. Он всё ещё оперирует, работы выше головы. Женился второй раз. Партбилет свой сдал ещё в 1972 году. Из страны никуда не выезжал. Во-первых, не выпускают, как бывшего военного, а во-вторых, денег нет. Зарплата месячная, если перевести на доллары, всего одна сотня….
Луиза в ответ стала вспоминать, в каких она странах успела побывать и куда ещё собирается поехать. Фёдор Иванович всплеснул руками, закричал: "Смотрите, эта маленькая женщина уже весь мир объехала!" Присутствующие медсестры и больные изумлённо закачали головами. "Американка" почувствовала себя героиней. В разгар той, взволновавшей их обоих, встречи Луиза предложила Фёдору Ивановичу приехать к ней погостить. Все расходы она готова взять на себя. Он не отказался. На прощанье обнялись.
Дальнейшие события разворачивались стремительно. По возвращению в Нью-Йорк она стала звонить ему, отправила вызов. Москвич получил американскую визу на три года. Потом почта доставила ему уже оплаченные самолётные билеты: Москва-Нью-Йорк и Нью-Йорк-Москва, а также денежный перевод. "Я после той московской встречи помолодела на тридцать лет, — смеется Луиза. — Давно не переживала ничего подобного. Двадцатого апреля поехала в аэропорт встречать его. Увидала — сердце ёкнуло. Не ошиблась: мужчина!" К приезду московского гостя деловитая ньюйоркская жительница во всех деталях разработала месячный план совместных прогулок, путешествий, составила список опер, балетов и концертов, которые предстояло посетить. Договорилась на работе об отпуске. В гостиной своей однокомнатной квартиры на диване приготовила постель для гостя. Я готовилась к его приезду, как к празднику, — признаётся Луиза. — Но не всё в том празднике меня порадовало…".
Первое разочарование настигло уже в аэропорту. Оказалось, что Фёдора встречала не только она, но и старый его приятель, перебравшийся недавно в Америку. Весь месяц, пока Фёдор гостил у неё, он чуть ли не ежедневно звонил приятелю, несколько раз ездил к нему на Брайтон. Луизу это раздражало. И вообще, месяц тот оказался для неё стрессовым, перенапряжённым. Нет, в каждодневном быту Фёдор оказался хорошим другом и даже джентльменом: распахивал перед ней двери, пропускал её вперёд, встречал у станции метро, чтобы взять тяжёлую сумку с продуктами. Мог приготовить завтрак и сервировать стол. Но одновременно российский гость выявлял повышенную независимость и даже упрямство. Не согласившись с хозяйкой, порой по пустякам, мог поднять голос, вступить в перепалку. Луиза за семнадцать лет жизни на западе уже забыла, что такое "русский мужик"! Ей напомнили. Фёдор хотел смотреть по телевизору не то, что нравилось ей. Настаивал на своём. Требовал, чтобы во время совместных прогулок по городу она переводила все надписи, кто что сказал, как что называется. Она соглашалась, преодолевая себя. Старалась не раздражать гостя, но это давалось с каждым днём всё трудней.
Луиза и в себе заметила накопившиеся за годы эмиграции перемены. Американское ПРАЙВЕСИ уже вросло в её российское естество. В частности, её утомляло само присутствие постороннего человека в квартире.
Было в их совместном проживании и много приятного. Поездки в Вашингтон, Филадельфию, Бостон, прогулки по Манхеттену Фёдор воспринимал восторженно. В опере и на концертах бешено аплодировал. Многое, однако, ему тут не нравилось: американская медицина, грязь на ньюйоркских улицах, непривычно для русского глаза одетая толпа. Он ворчал по этому поводу, неизменно добавляя: "А вот у нас…". В целом, однако, доктор Америку одобрил и даже выразил желание приехать сюда второй раз.
Но как мужчина Фёдор Луизу не порадовал. "Я не увидела в нём того, кто мог бы скрасить мою жизнь, — признаётся она. — Он не согрел моё сердце." С сердцем всё ясно. Но, оказывается и тело своей подруги московский гость согрел не сразу и далеко не лучшим образом. Первые две недели, когда по вечерам возникал в их беседе вроде бы романтический настрой, доктор пускался в воспоминания о своей оставленной в Москве семье. Начинал рассуждать о том, может ли человек семейный обманывать свою жену. Сам он, если верить ему, никогда на это не шёл. А однажды Фёдор даже прочитал Луизе целую "лекцию" про то, что уже древние законы запрещали врачу вступать в интимные отношения со своей пациенткой.
Надо понимать, в какой-то момент миловидная Луиза всё-таки пробудила в строгом докторе нормальные мужские чувства. Но вспоминая об этих долгожданных минутах, моя собеседница не может скрыть разочарования. Фёдор и в постели оказался слишком рассудочным, а по сути холодным мужчиной. "Да, было дело…", — грустно покачав головой, ответила на мой вопрос Луиза. Всем своим видом она дала понять: никакой радости "дело” то ей не принесло.
Они простились с Фёдором Ивановичем вполне дружелюбно. Он был поездкой вполне доволен. В последний день разыскал какие-то дефицитные в Москве детали компьютера. Ещё и ещё раз повторял, что хочет побывать в Америке снова, с тем чтобы поработать в здешних клиниках, показать своё хирургическое мастерство. Луиза намекнула на то, что в 60 лет войти в американскую медицину иностранцу практически невозможно. Но уверенный в своём профессиональном мастерстве, гость оставил её замечание без ответа.
Она уже звонила в Москву. Фёдор Иванович добрался до дома благополучно. Выражал надежду на новые встречи. Но Луизу такого рода перспектива уже не волнует. Ей грустно, очень грустно. Я понимаю её. Сочувствую. Думаю, что против её женского счастья сработал не возраст (они с Фёдором почти ровесники). Дело скорее всего в приобретенной за годы эмиграции разнице культур и характеров. Хочется пожелать моей милой собеседнице, чтобы в следующий раз повстречала она человека более близкой душевной конструкции. В этом всё дело. А предельных возрастов и сроков для любви не бывает. Любят и в шестьдесят и позже….
3. Химия красоты
Я, извините за банальность, эстет. Как и многие люди, люблю изящно сшитую одежду, эффектные вазы, красиво обставленные квартиры. В музеях замираю перед картинами любимых художников. На улице живо реагирую на лица красивых женщин. Не оставляю без внимания и то, как представительницы прекрасного пола с помощью косметики подчёркивают свои природные достоинства. Мысленно отмечаю: вот эту пудра, помада и глазные тени сделали более привлекательной, а вон ту излишек косметики, наоборот, огрубил, сделал вульгарной. Самой косметикой, её качеством и распространением я никогда не интересовался. Меня, как поклонника красоты, всегда интересовал лишь конечный результат воздействия этих красок на лицо.
И вот недавно случай свёл меня с человеком, который по профессии своей уже много лет занимается научной разработкой косметики. В свои почти сорок моя новая знакомая выглядит миловидной и моложавой. До Америки добралась сравнительно недавно. Было приятно слышать её чистую петербургскую речь. Взять интервью у Людмилы Великосельской побудил меня искренний энтузиазм, с которым она рассказывала обо всех этих помадах, пудрах и покрытиях ногтей; как делают их на нашей родине и здесь, какие проблемы возникают у творцов "химии красоты" в России и Америке. Очевидно, опыт в этой области накопила она немалый: после первых же собеседований ей предложили работу исследователя в двух наиболее солидных нью-йоркских косметических фирмах. Выбрала она компанию AVON.
Я поинтересовался, чем примечательна эта фирма. Оказывается, существует она уже сто лет. Работают там специалисты высокого класса. Производимые AVON товары в магазины не поступают; их распродают в 130 странах мира, в том числе и в России, многочисленные агенты компании, число которых более двух миллионов. Они получают определённый процент от проданного товара. Такая система, очевидно, всех устраивает. Число покупателей продукции AVON постоянно растет.
За два десятка лет работы в советско-российской косметической промышленности моя собеседница уяснила главную особенность этого производства: в глазах начальства оно всегда было вторичным и даже второсортным. Ещё будучи студенткой, Людмила обратила внимание в учебнике химии на абзац, из которого следовало: наиболее ценные высококачественные пигменты, красители и плёнкообразующие полимеры следует использовать в строительной промышленности и производстве пластмасс. И только то, что не может быть применено в индустрии, идёт на изготовление косметики. Именно с такими "второсортными" материалами пришлось работать Людмиле, когда она стала сотрудницей косметической лаборатории. Сегодня она с горькой улыбкой сравнивает то, что производила там, и что удаётся сделать здесь, в Америке.
"В России, — вспоминает она, — считалось, что для создания нового образца помады, да и любой другой косметики, достаточно 3–5 исходных ингредиентов. Здесь в каждый новый косметический продукт вкладывается 20–30 составных частей. Там, чтобы отыскать исходное сырьё, приходилось отправляться на поиски в другие города, выпрашивать, выбивать, заказывать и подолгу ожидать заказанного." Здесь в распоряжении Людмилы предоставлено две тысячи наименований самого различного сырья.
Такое изобилие исходных материалов — не случайно. От каждой косметической новинки покупатель ждет оригинального цвета, неведомого прежде запаха, неповторимого воздействия на кожу. И получает. Новый тип помады не только окрашивает губы, но и увлажняет их. А следом выходит в продажу ещё один вариант, который не сотрётся с губ даже после того, как дама позавтракает, пообедает и поужинает. Или вот, например, жидкая пудра. Её накладывают на лицо, надеясь достичь известного декоративного эффекта. Но в новейшем варианте она, кроме прочего, ещё и сглаживает морщины. В состав американской косметики входит много сортов чая, трав, витаминов, что опять-таки даёт двойной, тройной, множественный подчас положительный эффект.
Постоянно думать о новой продукции обязывает ещё и то, что создают её для разных стран и для людей различной культуры. Латиноамериканцев, например, в косметике более всего привлекает яркость красок. Европейцы, как правило, придерживаются других вкусов. Они особенно ценят гамму тонких запахов. Специалисту, создающему рецепт очередного продукта, надо подумать, как удовлетворить и тех, и других. Нельзя игнорировать и точку зрения жителей Японии, которые в массе своей убеждены, что одеколон и духи применяют только люди, которым лень или некогда хорошенько помыться. Угодить японскому потребителю нелегко: почти каждое исходное сырьё косметической промышленности как-то благоухает. Но специалисты из компании AVON научились учитывать интересы и японских покупателей.
В Америке Людмилу радует и ещё одна сторона косметического производства. Творцы бесконечных вариантов помады, пудры и красок для ресниц заботятся не только о цвете и запахе продукции, но и о её безвредности. Каждый новый продукт строго проверяется, выясняется, не раздражает ли он, не вызывает ли аллергию. Коллеги, работающие с Людмилой, проверяют свою продукцию друг на друге. А серьёзная клиническая проверка длится порой до четырёх месяцев. Установка строгая: краски должны приносить тем, кто ими пользуется, только положительные эмоции.
Людмила рассказывает: "Американцам, с которыми я здесь работаю, присуща более высокая культура производства, чем та, что я наблюдала дома. Здешние сотрудники берегут продукты, не выбрасывают оставшиеся материалы. Помнится, в Ленинграде я зашла как-то в цех, где готовили продукт по моей рецептуре. У рабочего, заполнявшего фляги, половина фляги оказалась лишней. Я посоветовала ему: "Давайте это сохраним и используем в следующий раз." Но он и слушать меня не стал. "Зачем мне это?” И тут же выплеснул остаток на пол. И действительно, зачем ему это?..".
Переезд в Америку принёс ленинградке и психологические сложности. Людмила рассказывает: "Я работаю комнате с десятком сотрудников. Группа наша "многоцветна”, начальница группы — египтянка, есть у нас ирландец, итальянка, эфиоп, греки, евреи, американцы англосаксонских кровей и чернокожая девушка. Одна из профессиональных проблем, которую нам приходится постоянно обсуждать, — цвет кожи. При разном цвете кожи косметика смотрится по-разному. Мы готовим, в частности, различную пудру для людей с белой, жёлтой и чёрной кожей. Тема эта постоянно дебатируется, но никто никогда не шутит по этому поводу. Шутить о цвете кожи позволяет себе только наша единственная негритянка."
Боязнь задеть чьи-то национальные, расовые или религиозные чувства беспокоит не только рядовых сотрудников, но и начальство. Два раза в месяц на работе происходят общие собрания. Кроме сугубо профессиональных вопросов, обсуждается "психологический климат" в коллективе. "Климат" этот Людмила считает не только нормальным, но даже великолепным. Межнациональных споров она не слышала. Наоборот, сотрудники охотно рассказывают друг другу о своей стране. Люди расспрашивают, какие у кого национальные праздники, нравы, традиции. Женщины приносят на работу изделия своей национальной кухни.
"К нам, эмигрантам из России, начальство и коллеги относятся подчёркнуто уважительно, — говорит Людмила. — У американцев бытует представление: русские хорошо работают и мало требуют. Если возникает проект для срочного исполнения, его, как правило, поручают кому-нибудь из наших. Эти, дескать, не завалят. Стараемся…"
Людмила и работающие с ней новоприезжие из Петербурга и Москвы несколько раз уже удостаивались похвал за нетривиальные решения при создании новых образцов косметики. Вроде бы ничего мудрёного: в одном случае надо было добиться, чтобы лак для ногтей был более устойчивым, не откалывался. Американские коллеги пошли обычным путём: стали добавлять в ныне применяемый лак новые и новые полимеры. Русская сотрудница решила вопрос иначе. Она заменила прежний, склонный к растрескиванию полимер, другим веществом, которое не раскалывается по своей природе. Американцы удивились: у них логика совсем другая. Если при покрытии ногтей годами применялась вот эта нитроцеллюлоза, то ею надо пользоваться и впредь, добавляя при этом новые и новые ингредиенты. "В вас, русских, заложен какой-то революционный дух”, — пошутила тогда начальница.
Людмила комплимент приняла, но с сожалением отметила про себя, что добротное американское образование, тем не менее, не даёт выпускникам колледжа широкого представления об общих закономерностях строения веществ. "Они пытаются руководствоваться здравым смыслом, — шутит она. — Знают, если сунешь руку в электрическую розетку — ударит током, а как в розетку попадает ток — их не интересует." В лаборатории, однако, есть уважительное отношение к науке, к творчеству. Условия для исследователя созданы здесь во много раз лучшие, чем в России. Литературы справочной — навалом, всегда под рукой компьютер, который выдаёт необходимую информацию.
Моя собеседница не без гордости сообщила, что кое-какие из предложенных ею идей уже реализованы. В частности, готовится к выпуску новая косметика, рецепт которой составлен ею.
Я поинтересовался, не заметила ли моя землячка в жизни американской лаборатории чего-нибудь схожего по стилю с лабораторией российской. "Есть и такое, — улыбнулась Людмила. — Например, в нашей рабочей комнате я обнаружила ту же самую простейшую технику, с какой я имела дело в Ленинграде. Те же самые примитивные мешалки, такую же водяную баню с плиткой и вискозиметр для измерения вязкости. У нас всё это не менялось десятилетиями, скорее всего, из-за бедности. Американцы, как мне кажется, не обновляют лабораторную технику, полагая, очевидно, что главное — идеи сотрудников, а остальное приложится. Может быть, они и правы…".
Но случается, что российские химики сталкиваются в Нью-Йорке с ситуациями, похожими на советские. Каждые несколько месяцев в лабораторию "для общения с простым народом" прибывают гости, высшее начальство из Манхеттена. Сутью научных и технических проблем господа эти не интересуются. Задают сотрудникам лишь малозначащие вежливые вопросы, после чего, не дослушав ответа, покидают рабочее помещение с неизменно вежливыми улыбками. "Мне это напомнило визит товарища Брежнева в Московский Университет, — смеется Людмила. — К приезду высоких гостей мы убираем нашу комнату, моем мешалки, столы, убираем излишки сырья. В разгар подготовки к приёму начальства одна из русских сотрудниц в шутку предложила покрасить в зелёный цвет почерневшую за зиму траву перед нашим зданием. Американцы шутки не поняли. Посмотрели в окно и вполне серьёзно ответили: "Нет, пока не надо…".
Есть, однако, в российской и американской жизни моей собеседницы нечто общее. И на родине, и здесь, в эмиграции, она с неизменно радостным чувством спешит на работу. Особенно после воскресенья. Ей приятны встречи с коллегами, их рассказы о том, как они провели выходной. А главное, интересна сама работа, волнует, чем обернётся поиск, начатый на прошлой неделе. Такова её натура.
…Когда беседа наша с Людмилой заканчивалась, я вдруг обратил внимание на то, чего не замечал прежде: щёки и губы, брови и ресницы этой симпатичной женщины лишены косметических покровов. "Кажется, вы не успели сегодня прихорошиться?" — пошутил я. Грубоватая шутка моя её не смутила. "Я никогда в своей жизни не пользовалась косметикой, — последовал ответ. — Та химия, которой я занимаюсь уже много лет, для меня лишь наука, а не искусство”.
4. Голос, звучащий уже полстолетия
Пятьдесят лет назад, вскоре после окончания Второй мировой войны, произошло событие, для жителей Советского Союза немаловажное: радио "Голос Америки" начало вещание на русском языке. В жизни моего поколения тот "Голос" сыграл огромную роль. Это он, вместе с другими зарубежными голосами, рассказывал о политических трюках кремлёвцев, на его передачах возрастало диссидентское движение, с его деятельностью связано в определённой степени и крушение большевистского режима. В поисках свидетеля, который рассказал бы историю русскоязычной американской радиопрограммы, я познакомился с женщиной поистине уникальной. Наталья Юрьевна Кларксон проработала в русской редакции "Голоса Америки” в общей сложности 45 лет!
Первый вопрос, который буквально сам собой сорвался у меня с языка, касался Наташиного происхождения. По мужу-американцу она Кларксон. Фон Меер — по отцу. Говорит по-русски так правильно, с таким богатством и точностью интонаций, что не признать её за русскую решительно невозможно. "Русская? — иронически улыбается Наталья Юрьевна. — Судите сами".
Со стороны отца немецко-шведско-польский предок получил дворянство при шведском короле Густаве Вазе (XVI век). Его потомку русская царица Екатерина Великая даровала земли в Орловской губернии. Прадед Натальи был предводителем орловского дворянства. Со стороны русской матери первый известный предок — татарский князь Бахты Ховя пришёл служить князю Московскому в XIV веке. Служил, надо полагать, неплохо, стяжал себе при дворе прозвище Лихарь. Отсюда пошёл род дворян Лихаревых, к которому принадлежит Наташина мама.
Родилась Наташа в Югославии, куда бежали после революции деды и бабушки со стороны отца и матери. Поселились в Белграде, где в 20-е годы их дети познакомились и поженились. Плод этого брака — Наташа — с детства говорила по-русски. Для этого, кроме прочего, была особая причина: члены семьи сохраняли веру в то, что большевистский режим скоро рухнет и они вернутся домой.
Вторая мировая война сотрясла в общем довольно благополучную жизнь Мееров, но семье посчастливилось выжить. Обитали в Берлине, потом, спасаясь от Красной Армии, перебрались в Мюнхен, где Наташа закончила русскую гимназию.
В 1952 году американцы открыли в Мюнхене отдел радио, вещающий на Советский Союз. Редакции понадобилась секретарша, владеющая русским, немецким и английским языками. Девятнадцатилетняя эмигрантка, говорившая на трёх языках, им подошла. Через несколько месяцев, приметив Наташины способности, американцы сделали её сначала переводчицей, а затем и автором передач. "Так сорок пять лет назад началась любовная афера между мной и "Голосом Америки", — шутит Наталья Юрьевна. — Я была счастлива, обретя эту службу. Начала писать статьи, очерки, репортажи. Пребывать каждый день в пульсации самых свежих событий мира, чувствовать, что делаешь что-то действительно полезное, нужное, это прекрасно". Приехав в Америку, она вместе с "Голосом" переехала из Нью-Йорка в Вашингтон. В Америке эта поразительно динамичная дама за считанные годы закончила университет, получила диплом по журналистике и радиовещанию, степень бакалавра по лингвистике и магистра по советской политике. Прошла все ступени служебной лестницы и в те же годы родила четырёх сыновей.
В прошлой своей московской жизни я и сам многие годы был автором советских
радиопередач, адресованных за границу. Писал на темы относительно спокойные, о людях науки. Но в каждой редакции имелся засекреченный список, о чём говорить не полагается. В частности, мне запрещалось упоминать имена русских учёных, эмигрировавших на Запад. Редакторы раздражались также, когда я упоминал Нобелевские премии, поскольку среди советских учёных нобелевских лауреатов было маловато, и т. д., и т. п. Так мы, авторы, и крутились, сообщая своим зарубежным слушателям когда половину правды, когда четверть, а то и меньше. А были такие проблемы и есть ли сегодня в "Голосе Америки"? Какие темы считаются запретными, о чём говорить можно, а о чём не рекомендуется?
Наталья Юрьевна рассказывает: "Голос Америки" зазвучал впервые в эфире четвёртого февраля 1942 года в разгар Второй мировой войны на немецком языке. Уже первая передача содержала следующее обещание: "Вы слышите "Голос из Америки". Каждый день в это время мы будем говорить с вами об Америке и о войне…. Новости могут быть хорошими или плохими, но мы будем говорить только правду".
Джо Хаусман — первый директор "Голоса" — позднее вспоминал, в какое жестокое испытание для него и его коллег превратилась установка на то, чтобы всегда говорить только правду. Военные новости, которые "Голос Америки" передавал в первой половине 1942 года, были почти полностью неблагоприятны для Соединённых Штатов. Японские победы шли непрерывной обескураживающей чередой. Нацистская армия продвигалась всё дальше вглубь советской территории. Но американцы обещали сообщать о своих неудачах, не кривя душой, и своё обещание выполнили. Таким образом они закрепили за собой репутацию честных информаторов. Им стали верить, и вера эта сохранилась и в ту пору, когда союзники перешли в наступление и "Голос Америки" стал сообщать правду о победах союзников.
Тот же принцип сохранился на "Голосе" и в годы так называемой "холодной войны". В марте сорок шестого британский премьер Уинстон Черчилль заявил: "От Штетина на Балтийском море до Триеста на Адриатическом "железный занавес” опустился на весь европейский континент". Он призвал страны Запада отстаивать демократию. И вот в 1947 году "Голос Америки" начал вести передачи на русском языке. В следующие полвека русская радиослужба передавала жителям СССР сообщения корреспондентов "Голоса Америки", рассеянных по всему миру, интервью с государственными деятелями и специалистами. "Голос" знакомил россиян с текстами запрещенных в Советском Союзе произведений российских и зарубежных авторов. "Иными словами, мы старались все эти годы доносить до советских жителей ту информацию, которую они не могли получить из своих источников", — говорит Наталья Юрьевна и выкладывает на стол документ, который в форме закона закрепил нравственные принципы, которыми вот уже полстолетия руководствуется "Голос Америки". Речь идёт об Уставе этой радиостанции, утвержденной Конгрессом США. Вот основные его положения: "Всегда быть достоверным и авторитетным источником актуальной информации; давать точные, объективные и исчерпывающие сведения…. Представлять
всё американское общество, а не какую-либо часть его; всесторонне и глубоко освещать американское мышление, общественное устройство и порядок… чётко и убедительно освещать политику Соединённых Штатов, а также ответственные суждения и дискуссии, возникающие вокруг этой политики". Приведя эти тезисы, Наталья Кларксон уверенно добавила: "Передачи из Вашингтона на Россию и сегодня строго следуют этому Уставу".
— Но очевидно, какие-то перемены в характере радиопередач "Голоса Америки" за эти годы всё-таки происходили?
— Да, конечно, — соглашается Наталья Юрьевна. — И немалые. С появлением в Белом доме каждого нового президента менялась политика государства. Менялся соответственно и тон, в котором от лица американского народа мы обращались к народу России. При Сталине советская пресса и радио поносили нас как злейших врагов, "акул Уоллстрита". При Брежневе, который объявил себя борцом за мир, Москва обвинила "Голос Америки" в двоемыслии, дескать, передачи наши мешают мирному сближению двух великих держав. Нам приходилось объяснять советским людям, что достоверно, а что сомнительно в советской прессе.
Но самые удивительные перемены произошли в работе "Голоса" в последние пять лет. В один прекрасный день Наталье позвонил из Москвы кто-то из редакции радио "Россия". В Вашингтоне в это время министр вооружённых сил России вёл переговоры с министром американским. У московского радио не было средств послать в Штаты своего корреспондента, так что госпожу Кларксон попросили сообщить, как идут переговоры. "Я удивилась такой просьбе, но спорить не стала, через несколько минут передала в Москву всю интересовавшую их информацию. Российские коллеги благодарили и — попросили не оставлять их впредь. Так я превратилась по совместительству в вашингтонского корреспондента радио "Россия". В связи с этим зашёл как-то между Москвой и Вашингтоном разговор об оплате труда американских журналистов. "Мы бедные, — говорила Москва, — не можем платить много". — "А мы и вовсе не можем брать ваши деньги" — ответил Вашингтон. — Мы передаём вам наши материалы в порядке международного сотрудничества. Единственное условие — не редактируйте, не урезайте наши тексты и завершайте их передачу словами: "Голос Америки", Вашингтон". Сегодня 30–50 радиостанций России на тех же условиях получают из Вашингтона материалы для своих радиопередач. Перемены, как видим, произошли серьёзные.
О том, что работа на радио нелёгкая, я знаю по собственному опыту. А как это выглядит в Америке? Наталья Юрьевна не скрывает: трудиться приходится тяжело. В последние годы передачи продолжались по семнадцать часов в сутки. Работать случается по ночам, по воскресеньям, по праздникам. Коллеги, однако, по-разному реагируют на служебные трудности. Одни терпят, другие не очень. Вплотную Наталья столкнулась с этой проблемой, когда в середине 80-х приняла пост начальницы всей русской службы "Голоса". Приняла она эту почётную и хорошо оплачиваемую должность неохотно. Понимала: на творчество теперь останется времени очень мало, все силы уйдут на дела административные. Ведь предстояло управлять деятельностью 93-х сотрудников. Именно в эти годы Наталья ясно увидела разницу между поведением людей, представляющих первую, вторую и третью российскую эмиграцию.
Старые журналисты первой волны были, как правило, профессионалами высокого класса и эрудитами. Антикоммунисты по убеждениям, они видели в работе на "Голосе" смысл жизни, свой долг. Вторая, послевоенная эмиграция — люди, запуганные советским опытом 30-х годов, были счастливы получить работу на "Голосе". За своими столами сидели они тихонько, выполняли служебные обязанности добросовестно и в каждом русско-говорящем подозревали советского тайного агента. Но к тому времени, когда Наталья Кларксон заняла кресло начальницы, русская редакция уже включала многих недавних выходцев из СССР. Люди, как правило, образованные и умные, они тоже понимали, что попасть на работу в "Голос Америки" — большая удача. Но некоторые из них привезли со своей социалистической родины свойственные новым "совкам" привычки. Проработав несколько месяцев в Америке, новоприезжие начинали "качать права" на советский лад: "Это я делать не хочу…. Это — не могу…, мне на это задание нужно больше времени…. Моя работа заслуживает больших денег…". Одновременно пошла полоса взаимных доносов и жалоб.
Особенно горячие страсти разгорались среди новых эмигрантов, когда заходил разговор о повышении по службе. На так называемую 12 служебную категорию, предполагающую увеличение зарплаты, претендовало по десять и более человек. Наталья Юрьевна вспоминает: выбрать лучшего и в прошлые годы было не легко, но добравшиеся до Америки советские люди и вовсе превращали этот процесс в гражданскую войну. "Кого бы я ни выбрала — остальные неизменно приходили в ярость. Если изберешь мужчину — протестуют женщины, споры возникали по религиозным и этническим поводам, этот христианин, а тот еврей… После конкурса неизбранные месяцами тычут избранному его ошибки, его якобы неграмотность, непросвещённость. Вспоминая подобные эпизоды, Наталья Юрьевна признаётся: после десяти начальственных лет она была счастлива покинуть свой начальственный пост и снова стать рядовым журналистом-интервьюером и организатором радиопрограмм.
— У некоторых моих российских знакомых, которые уже многие годы слушают "Голос Америки", сложилось впечатление, что сотрудники ваши не склонны открывать публике
личное мнение по тем или иным политическим и общественным вопросам. Так ли это?
— В политике мы, действительно, не лезем к нашему слушателю со своим личным мнением. Достаточно всей той огромной информации, которая идёт через нас из семи наиболее серьёзных американских газет, обзор которых мы даём ежедневно. Но когда затрагиваются вопросы общественной жизни Америки и России, я, как ведущий редактор, приглашаю высказать своё мнение самых серьёзных специалистов. В частности, я веду программу "Круглый стол". За "стол" этот садятся люди отнюдь не стеснительные. Так на обсуждении проблемы "Русская преступность в Соединённых Штатах" я пригласила полицейского инспектора из Нью-Йорка и сотрудника Американского аналитического центра. И тот и другой, отнюдь не во всём согласные друг с другом, сообщили много информации о том, когда и как эта преступность зародилась, какие меры пресечения против неё применяются, каковы трудности борьбы с ней. Так же откровенно и со знанием дела в программах "Круглый стол" и "Диалог" обсуждали мы такие темы, как "Новое российское самосознание”, "Треугольник: Америка, Россия и Китай” и многие другие. Я вижу своё назначение в том, чтобы дать слушателям нашим как можно больше фактов, точек зрения, материала для размышления. Удаётся ли мне это, не знаю….
В ближайшие недели Наталья Кларксон намерена покинуть "Голос”, ту деятельность, которая почти полвека была основным смыслом её жизни. "Не заскучаете ли на пенсии?" — поинтересовался я. Нет, этого она не боится. Она пишет стихи по-английски и по-русски. Собирается издать сборник своей поэзии. Ей предстоит также перевести на английский язык мемуары недавно умершего отца — Юрия Меера. Но и это не всё. Покинув службу, Наталья Кларксон намерена пойти учиться в художественную школу. Она любит писать маслом портреты и теперь решила углубить свои познания техники живописи. Есть у неё занятия и более земные: в Вирджинии у этой страстной журналистки есть имение, где она разводит коров. Заниматься фермерством тоже любит.
И последний вопрос: считает ли Наталья Юрьевна, что "Голос Америки" должен и впредь продолжать вещание по-русски? "Я абсолютно убеждена в этом, — говорит она. — Вопрос поднимался уже неоднократно — и при Горбачеве, и позднее. Но во всех случаях в Вашингтоне, слава Богу, находятся разумные люди, не допускающие до закрытия русского "Голоса". Россия стоит сегодня на полпути к осуществлению демократических западных идеалов, и "Голос Америки" в связи с этим может сообщить тамошнему человеку ещё много полезного. Мы не только делимся с Россией нашими успехами, но и обсуждаем неудачи в надежде, что россиянам удастся избежать наших ошибок".
Пост Скриптум: В конце 1997 года Наталья Кларксон вышла на пенсию. Мы ещё раз встретились и она порадовала своего биографа. Никаких признаков старости я в её нынешней жизни не приметил. Более того, освободившись от каждодневных служебных обязанностей, она обратилась к самым заветным своим интересам. В частности серьёзно занялась живописью, которая интересовала её с юных лет. Литературные интересы её тоже не глохнут и даже более того — расцветают. В 1998 году в свет вышел сборник её религиозных стихов на английском языке "Intimations". Вот одно из произведений, вошедших в сборник. Наталья Юрьевна специально перевела его на русский по моей просьбе.
Скажут, что глупо. Скажут, что пошло.
Скажут, что не за что. Скажут, что незачем.
А я за всё то, что есть и что в прошлом,
За очень длинный и веский перечень
Радостей, милостей и откровений,
За способность любить и за многогранность
Талантов и чувств; за отсутствие лени
Приношу Тебе, Господи, свою благодарность.
За то, как дымок предвещает осень;
За намёки на снег немного позднее;
За облака и сквозящую просинь;
За оттиск следов лисиц и оленей;
За юркость белок, за ласку пёсью;
За то, как птицы в лесу балагурят;
За то, что даёшь, когда и не просим,
И за отказы в причудах и дури;
За память и за новые встречи,
За смех, за улыбки, за поцелуи;
За любовь, за всё тепло человечье
Спасибо, Господи!
Аллилуйя!
IV. СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО
1. Доктор Ф. Гааз. (200 лет спустя)
Выражение "торопитесь делать добро" принадлежит человеку, чьё имя в наши дни мало кто помнит. Пересказывать историю удивительной жизни Фёдора Петровича Гааза (1780–1853) не решусь. Отмечу лишь, что этот медик, главный врач московских тюрем, сам всю жизнь помогал ближним и дальним. "Торопитесь делать добро" — его девиз, основной принцип существования. Фёдор Гааз, которого современники называли "святым доктором", многое сделал для облегчения условий жизни заключённых, основал больницу для бездомных и совершил немало других столь же серьёзных благодеяний. Человек богатый, он роздал всё имущество беднякам и завершил свой век в обстановке более чем скромной.
В советскую эпоху идеи доктора Гааза были объявлены бредовыми. Нас убеждали: в стране социализма никакие гуманитарные усилия отдельных лиц и частных организаций не нужны, поскольку все заботы о советском человеке берёт на себя государство. Длившиеся три четверти века разговоры о "добром государстве" изрядно развратили нас. Это стало особенно заметно, когда мы оказались в Америке. Здесь, в полном согласии с девизом доктора Гааза, десятки и сотни приватных обществ и организаций помогают бедным и слабым, одиноким и больным. Российские эмигранты в массе своей отнеслись к такого рода деятельности американцев весьма сдержанно, если не сказать скептически. Знаю это по своему журналистскому опыту. С газетных страниц мне не раз приходилось обращаться к соотечественникам с призывом поддержать материально того или иного нашего попавшего в беду земляка. Но, увы, вызвать энтузиазм со стороны читателей, как правило, не удавалось. А один из земляков в личном разговоре высказался даже с откровенной жестокостью: "Что я дурак, что ли, чтобы работать на кого-то! Я не такой идиот, чтобы отдавать кому-то деньги, которые могу истратить на себя…”.
Заговорив о доброжелательстве и взаимной помощи, я не собираюсь никого перевоспитывать или образовывать. Хочу только рассказать о группе россиян, которые здесь, в Америке, отвергнув советские традиции, принялись в качестве добровольцев помогать больным землякам. Но сначала вкратце о необыкновенном американце, затеявшем всю эту историю.
Когда встречаешь в Америке человека, свободно говорящего по-русски, подозреваешь, что собеседник какими-то корнями связан с Россией. Шестидесятилетний Данкин Вайтсайд родство со славянами отрицает. Шотландско-ирландские предки его поселились и живут в Америке уже более 250 лет. Русский же освоил он в пятидесятые годы в военной языковой школе. Его готовили в качестве "слухача", который должен был отправиться в Европу и там подслушивать переговоры советских лётчиков. Позднее, когда годы "холодной войны” миновали, Данкин усовершенствовал свой русский в университете. Там он проникся живым интересом к русской литературе и истории. Русские симпатии его укрепились ещё больше в те месяцы, когда он служил в качестве экскурсовода сначала на Американской выставке в Москве, а затем на советской в Америке. Думаю, что тот же романтический взгляд побудил его жениться на полурусской-полуамериканке, которая родилась в семье американских либералов, помчавшихся в 30-е годы помогать строительству социализма в СССР.
Элементы романтизма сохранялись у моего собеседника всю его жизнь. Проработав десять лет в банке и достигнув высокой хорошо оплачиваемой должности, он бросил выгодную службу и принялся искать работу, близкую своим идеалам. Следующие десять лет Данкин провёл в общественной организации, помогавшей тем городским детям, которые бросили школу и ударились в хулиганство и уголовщину. А теперь Данкин Вайтсайд нашёл занятие ещё менее доходное, но зато непосредственно трогающее его личные чувства. Дело в том, что из трёх сыновей, которых принесла ему полурусская жена, один мальчик оказался психически несостоятельным. Сейчас этому Мише уже за тридцать. Он абсолютно не способен обслуживать себя, не может ничего запомнить, не узнаёт даже своих родителей. В Нью-Йорке таких, как он, довольно много. Задумавшись о судьбе этих несчастных, Данкин основал в 1988 году "Медстоун Фондейшен", цель которого — помогать таким больным.
Поначалу организация помогала коренным американцам, как белым, так и чёрным. Но в какой-то момент Данкин вернулся к давней своей симпатии: решил протянуть руку помощи прибывающим в Нью-Йорк из России эмигрантским семьям. Таких семей с психически несостоятельными детьми оказалось в городе немало. Многие родители именно по этой причине отправились за океан: надеялись найти в Америке помощь для своих страдающих сыновей и дочерей. Но люди без языка и без опыта американской жизни, они месяцами и годами не могли разрешить свои проблемы. Вот тут-то и подоспел Данкин со своим "Мейдстоун Фондейшн". Подоспеть-то он подоспел, но на помощь российским детям никто давать средства не собирался. А сама крохотная, состоящая из трёх сотрудников "Мейдстоун Фондейшн" никаких собственных средств не имела. И тогда Данкин задумал интересный эксперимент: попытался перенести в русскоязычное общество одну из старейших американских традиций — добровольчество.
Он обратился к нескольким нашим пожилым пенсионерам с предложением поработать в семьях с неблагополучными детьми бесплатно или почти бесплатно. Идея поначалу казалась совершенно нереальной. Зачем пожилому инженеру, врачу или учителю, и без того проработавшему свой век за советские гроши, здесь в Америке, сидя на SSI или на велфере, нагружать себя чужими заботами? Но эмигрантская жизнь кое-чему наших старичков всё-таки научила. Они уразумели: вернуться к своим прошлым профессиям в Америке в возрасте шестьдесят нереально. Так не лучше ли заняться добрым делом без зарплаты, чем месяцами и годами болтаться по Бордвоку без всякого смысла? Желающих испытать себя в качестве добровольцев нашлось в Бруклине немало, так что задуманный Данкином механизм заработал. И вот что рассказывают о своей работе наши добровольцы.
Ефиму Хуторецкому — 62. В Америке — пять лет. В прошлом — инженер-строитель. В последние два десятка лет — на руководящей должности в одном из городов Казахстана. "Я охотно принял предложение помогать семьям с нездоровыми детьми, — говорит он. — Мои собственные дети — взрослые. В качестве помощника я им уже не нужен. Никакая инженерная работа мне тоже не светит. Бездельничать не люблю." Ефим взялся опекать двух молодых эмигрантов: 34-летнего москвича Александра и 26-летнего одессита Игоря. У Александра церебральный паралич
с детства, говорит он медленно, плохо, передвигается только в коляске. Но голова у этого Саши, по словам Ефима, светлая. Вдвоём они решили читать американские книги и говорить по возможности по-английски. Александра интересует история Америки, происхождение здешних законов, обычаев, государственных праздников. Ефим достаёт книги на эти темы, которые они вместе потом обсуждают. "Александр поначалу был очень скованный, закомплексованный, — вспоминает Хуторецкий. — Но после двух лет ежедневного нашего общения парень явно расковался. Недавно у него возникла новая идея: хочет писать рассказы. А почему бы нет?" Они с Ефимом начали осваивать компьютер. Руки у молодого человека парализованы, но одним пальцем он печатать всё-таки может. Сейчас Ефим готовит Александра к поступлению в колледж, где есть отделение для таких вот больных. Хуторецкий не ограничивает свои контакты только с больным юношей. Помогает и его семье, выхлопотал для них более просторную квартиру.
"Мы так подружились за эти два года, что мне хочется поддержать каждое Сашино желание, — говорит Хуторецкий. — Сейчас он мечтает о туристической поездке по стране". Но туристские автобусы не берут больных на коляске. Организация "Мейдстоун Фондейшн" ищет теперь туристскую компанию, которая согласилась бы взять в поездку человека на вилчере.
Второй подопечный Ефима одессит Игорь — эпилептик. Поведение его непредсказуемо. Вдруг теряет сознание, падает. То впадает в мрачное состояние духа, то вроде бы жаждет общения. Но постепенно их с Ефимом уроки английского языка, поездки в парк, где Игорь беседует со своими сверстниками, сделали молодого человека более общительным и открытым. Это обстоятельство подтвердила и специальная комиссия, которая каждый год проверяет, как сказывается на больных общение с пожилыми добровольцами.
С Игорем Ефим Хуторецкий проводит первую половину дня, с Александром — послеобеденное время. "Я счастлив, что у меня есть такая работа, — говорит он. — Я был в отчаянии, когда добравшись до Нью-Йорка, понял: все мои знания, весь опыт инженера-строителя здесь никому не нужны. Сегодня же мысль о том, что каждый мой день кому-то полезен, что я не нахлебник, а нормальный член американского общества — меня бодрит, придаёт смысл моему существованию".
В прошлом учительница, москвичка, а ныне доброволец Ирина Каменкович обратила моё внимание на деталь своей работы, которую, возможно, и не предвидели творцы программы помощи юным инвалидам. "Мы сблизились с подопечными семьями, став при этом как бы членами этих семей. И не только членами, но и лицами, подчас готовыми принимать ответственные решения в жизни подопечных." Ирина уже несколько лет заботится о Евгении, молодом человеке, страдающем церебральным параличом, и о его одинокой маме. Квартира у семьи была скверная и Ирина принялась добиваться для них лучшего жилья. Трёхкомнатную квартиру для калеки власти согласились дать, но в районе не совсем спокойном. Маму Жени это испугало. Она заметалась, соседи отговаривали её от переезда. Но победила в споре Ирина. Она не только поселила мать с больным сыном в отличную квартиру, специально оборудованную для такого рода инвалидов, но и приняла на себя все заботы по переезду, установке телевизора, телефона и т. д. Динамичная Ирина купила мебель, установила жалюзи на окнах. Тогда же она выхлопотала для Жени электрическую коляску. "Работы потребовалось много, но я испытала и огромную радость от сознания своей необходимости этим людям, которые стали мне за это время такими близкими".
Я полушутя заметил своей собеседнице, что столь продуктивных тружеников не встречал не только среди добровольцев, но и среди людей, получающих хорошую зарплату. Ирина Каменкович ответила, что какую-никакую стипендию она и её коллеги по "Мейдстоун Фондейшн" всё-таки получают. Данкин добился того, что власти штата Нью-Йорк платят добровольцам двести долларов в месяц, плюс дают деньги на проезд и на ежедневный завтрак в кафе. "Это конечно забавная "ставка", — улыбается бывшая учительница, но я полагаю, что она не меньше той, что я получала в своей московской школе". Ирина рассказала, что её взрослый работающий сын предложил ей те же три сотни с тем, чтобы она бросила свою добровольческую деятельность. Мать с сыном не согласилась. "Мне важно, что я кому-то нужна", — прокомментировала она свой отказ.
Эта мысль снова и снова всплывала во всех моих беседах с добровольцами: преподавателем английского Раисой Шмелевич, с бывшим инженером Леонидом Бланком и инженером Львом Даянаевым. Никто из них не жаловался на трудности своей не совсем обычной работы. Хотя добровольцам полагается проводить в семье своего подопечного всего два часа, но вместе
с переездами посещение двух семей занимает почти весь день. "Порядок нашей работы определяет не администрация, а сама жизнь, — заметила по этому поводу Раиса Шмилевич. — Сегодня это два часа, а завтра я нужна семье на целый день." Так оно и случилось, когда заболела и попала в больницу мать Раиной подопечной. Дочь попросила учительницу побыть как можно дольше у постели матери. Та не отказала и в результате утомилась, да так, что и сама потеряла сознание там же в больнице. И тем не менее Шмилевич не собирается прерывать свою деятельность воспитателя и учителя. Её особенно радует, что её подопечные, несмотря на свои психологические расстройства, неплохо усваивают английский. А с одним из них, с Анатолием, она уже свободно может общаться на языке приютившей их страны.
Конечно, есть у добровольцев из "Мейдстоун Фондейшн" проблемы пока ещё неразрешимые. Так, отцы и матери юных калек нередко задаются грустным вопросом, что будет с их детьми, когда родители постареют и уже не смогут обиходить младших. Сын Данкина Вайтсайда уже помещен до конца своих дней в Дом для умственно отсталых. Но попасть в такие учреждения непросто, требуется выстоять в очереди несколько лет. Данкин, однако, призывает родителей не беспокоиться, он и его организация приложат все силы для того, чтобы опекаемые ими больные дети и впредь не остались без приюта.
Но, если уж говорить откровенно, то президента "Мейдстоун Фондейшн" и его коллег более всего беспокоит другая проблема. Число русскоязычных в Нью-Йорке за последние годы резко возросло. Соответственно растет и число семей с неполноценными детьми. Их сейчас уже около двухсот. Отцам и матерям в таких семьях приходится нелегко. Они ищут организацию, которая помогла бы им. Люди наслышаны о "Мейдстоун Фондейшн", о добровольцах и просят, чтобы и им прислали пожилого, доброжелательного и заботливого человека.
Таких просьб становится с каждым днём всё больше и больше, а средств на расширение российской программы по сути нет. Где их взять? В русскоязычной колонии Нью-Йорка немало обеспеченных людей. Но россияне наши не спешат делать добро. И тем не менее хочется верить: доброе начинание Данкина Вайтсайда, обращенное на помощь нашим больным детям и их измученным родителям, всё-таки не умрёт, не задохнётся от безденежья. Найдутся люди, которые пожелают поддержать это благородное начинание. Не упустите случая, дорогой соотечественник, оказаться добрым человеком. Вспомните девиз доктора Гааза: ТОРОПИТЕСЬ ДЕЛАТЬ ДОБРО!
P.S. На тот случай, если вам действительно захочется протянуть руку помощи этой организации, запишите её адрес:
MAIDSTONE FONDATION
1225 Broadway (9 Floor)
New York, NY 10001
Phone: (212) 889-5760
Пост Скриптум. Завершая эту книгу на пороге нового столетия, я снова позвонил Данкину Вайтсайду. Глава "Мейдстоун Фондейшн" порадовал меня: дело его жизни не заглохло. Более того, сотрудники Фонда сегодня в той или иной степени обслуживают уже около ста русскоязычных семей с больными детьми. Добровольцы помогают новоприезжим родителям находить для своих детей специальные школы, госпитали и т. д. Сейчас Данкин захвачен новой идеей. Он готовится создать в Нью-Йорке дом для русскоговорящих инвалидов. Штатные власти, убедившись в том, насколько добросовестно и успешно работает группа Вайтсайда, обещают материально поддержать добрую идею. Как видим, двести лет спустя, заветы доктора Гааза остаются достаточно жизнеспособными.
2. Улица меняет название
В апреле 1997 года в небольшом украинском городке Мукачево (Закарпатье) произошло не совсем обычное событие. На одной из улиц собралось несколько десятков, а может быть, и сотен жителей, и мэр города сделал публичное заявление: "С сегодняшнего дня улица Пионерская меняет своё название. Она будет именоваться….." И тут прозвучало имя, очевидно, хорошо знакомое присутствующим: толпа разразилась аплодисментами и приветственными кликами. Зазвучала музыка. Перед участниками митинга выступило несколько городских старожилов. Они с искренней симпатией говорили о человеке, чьё имя отныне украсит таблички на домах бывшей Пионерской. Зовут его Шандор Пак. Человек этот тут родился и прожил семьдесят лет. На той же улице жили его деды и прадеды, родители и братья. Тут же родились дети Шандора. Двадцать лет назад семья Пак переселилась в Америку. Но и после эмиграции они не забывали родной город, материально поддерживали горожан, принимали активное участие в местной жизни. Мэр города разъяснил: "Улица переименована по многочисленным просьбам горожан и общественных организаций. Это знак нашей благодарности и глубокого уважения Шандору Паку".
Позволю себе маленькое отступление. Когда в Советском союзе посмертно вспоминали таких эмигрантов, как певец Шаляпин, композитор Рахманинов или изобретатель телевидения Зворыкин, называли их именами улицы и площади российских городов, в этом не было ничего странного. "Возвращая" таким образом великих покойников на родину, советские власти самодовольно подчёркивали: "А всё-таки они наши". Но того, что произошло 8 апреля 1997 года в Мукачево, на территории бывшего СССР, никогда ещё не бывало. Человек, в чью честь переименована улица, отнюдь не был мировой знаменитостью. В прошлом специалист по ремонту автомобилей, он сегодня скромный американский пенсионер. Возвращаться на Украину не собирается. Венгр по национальности, он даже пребывает в оппозиции к сегодняшней Украине, считая, что исторически Закарпатье — территория венгерская. И тем не менее улица в Мукачево названа именем Шандора Пака. Почему?
Примерно за полгода до описанного выше события я побывал в Мукачево. Опросил два десятка коренных жителей нынешней и прошлой жизни города. Интересовался и семьей Пак. Со мной, как с американцем, люди разговаривали довольно свободно. После того, как советские войска захватили эту принадлежавшую Венгрии территорию, уровень жизни в Закарпатье непрерывно падает. И совсем уж мучительной жизнь горожан стала после возникновения в 1991 году независимой Украины. Людям сегодня стало негде работать и заработать: фабрики и заводы стоят. Старикам месяцами не выплачивают пенсию. Нет электричества, топлива, в трагическом состоянии пребывает местное здравоохранение. Люди бегут из Мукачево. Ничего нет удивительного, что покинула город и семья Паков.
При воспоминании о Шандоре и его русской жене Наталье Петровне лица моих собеседников неизменно теплели. Люди вспоминали, каким трудягой с юных лет был Шандор. Как добросовестно тридцать лет в одном учреждении работала его жена-бухгалтер. Всё, что добыто этой семьей, было результатом их фантастического трудолюбия. ГБ разрушило и разграбило небольшое семейное предприятие трёх братьев Пак и ни за что ни про что бросило их в лагерь. Нынешние приезды членов этой семьи в Мукачево из Америки — подарок для многих здешних жителей. Главное занятие Паков по приезде на родину — накормить голодных, поддержать старых и больных земляков в их нелёгких обстоятельствах.
Вернувшись в Нью-Йорк, я продолжал беседы с людьми, знающими Шандора. И прежде всего с его женой. Наталье Петровне есть что рассказать о своём муже, вместе с которым прожито более шестидесяти лет. Дочь российских дворян-эмигрантов, бежавших от большевиков в Чехословакию, она училась в Пражском университете, когда туда приехал по делам своего предприятия молодой венгр Пак. Год был 1937-й. Человек с на редкость умными руками, он приехал в Прагу осваивать машину по резке камня. Собирался, кроме своей, автомобильноперевозочной компании завести ещё одну по производству каменных надгробий. "Он мне сразу понравился, — вспоминает Наталья Петровна. — Я почувствовала в нём доброту, порядочность." Тридцатидвухлетнему венгру русская девушка тоже пришлась по душе. О браке поначалу и не мечтали: Наташа-студентка только что перешла на второй курс. Но после той встречи возникла бурная, продолжавшаяся два года переписка по-немецки. Другого общего языка у молодых не было. Чтобы лучше понимать содержание писем любимого, студентке пришлось взять курс немецкого. Любовь тем не менее крепла. "Шандор вёл себя в высшей степени благородно, — вспоминает Наталья Петровна. — Довольно состоятельный предприниматель, он никогда не говорил о своих успехах, старался всячески помогать мне, бедной студентке. Когда я пожаловалась в одном письме, что мёрзну в хозяйкиной квартире, он немедленно послал мне чудесное голландское одеяло".
Расписались они в Мукачево в 1939-м. Поселились на той же Пионерской улице, которая называлась тогда "Сорочья гора", по-венгерски Саркагеть. Брак не одобрила ни венгерская, ни русская семья. "Что за пара, где ни он, ни она не имеют общего языка?" — вздыхала мать Натальи. Но русская жена уже через год полностью освоила венгерский. Присматриваясь к жизни родителей Шандора, научилась готовить национальные блюда, создала в квартире обстановку, к которой привык её муж. Одна из особенностей семьи Паков, как заметила Наталья Петровна, страсть одаривать близких и знакомых. Черта эта не чужда была и русской супруге. Наталья Петровна вспоминает: "Когда мне было шесть лет, мы шли с мамой по улице чешского городка. Первая мировая война оставила в Европе множество просящих милостыню инвалидов. Я дёрнула маму за руку: "Смотри, там человек без ноги, дай ему денежку”. Мама говорит: "У нас осталась одна крона на хлеб". А я продолжала твердить: "Мама, ведь у тебя две ноги, а у него одна". Этот аргумент сразил маму. Она отдала нищему последнюю крону и мы остались вечером без хлеба…".
Да, юных супругов объединяло многое. И в том числе отношение к страдающим людям. Когда немцы захватили Закарпатье, то местных евреев — учителей, врачей — погнали в лагерь, на кирпичный завод. Их ждали там голод и работа на износ. Шандор немедленно стал покупать продукты и привозить их домой, где Наталья Петровна готовила пищу для евреев-лагерников. Затем на своём грузовике он возил еду в лагерь, благо охрана немецкая поначалу была не слишком строга.
Приход советской армии принёс семье Пак значительно более серьёзные переживания. Шандора, как хорошего мастера-автомобилиста, сначала заставили бесплатно ремонтировать машины "победителей", а потом вместе со всеми местными венграми отправили в советские лагеря. Следующие два года Наталья Петровна металась по советским инстанциям, доказывая с документами в руках, что муж её не был членом никаких партий, не служил ни в какой армии и вообще был далёк от какой бы то ни было политики. В конце концов ей удалось вытащить еле живого Шандора из лагеря, расположенного в Грузии.
О тех давних событиях рассказывает приезжая из Грузии Нина Георгиевна Кучуашвили. Её отец в 1946-м работал сантехником в лагерном госпитале. Там, до последней степени истощённые, лежали Шандор и два его брата. "Папа был отзывчивым человеком, — рассказывает Нина Георгиевна. — Но мы жили бедно, в семье было семь дочек. Но если кому-то надо было помочь, папа кусочек даст своим детям и два-три куска нуждающимся. Очевидно, Паки были наиболее истощёнными в то время, потому что отец и мама стали приносить им еду и тем спасли их от голодной смерти".
Нина Георгиевна достаёт из сумочки почтовую открытку, помеченную 3 сентября 1946 года. Открытку эту её семья получила в Тбилиси после того, как братья Пак вернулись в Мукачево. "Мы, слава Богу, дома и наши семьи в полном здравии. Часто вас вспоминаем и рассказываем о вас нашим семьям. Мы не забудем того хорошего, что вы для нас сделали. Шлём вам маленький подарок — 300 рублей для ваших детей. Купите им от нашего имени, что они захотят".
Нина Кучуашвили продолжает: "Когда мы получили этот подарок, папу вызвали в КГБ и запретили переписываться с Паками. Угрожали — арестуем. Папа очень переживал, но писать в Мукачево побоялся. Прошло двадцать лет. Времена помягчали и Паки разыскали нас снова. Их младший сын Имре приехал в Тбилиси, привёз нам деньги и приглашение приехать в Америку. С этого времени Паки стали помогать мне и моим сестрам. Сегодня, через пятьдесят лет после всего того, что случилось в лагерном госпитале, я гостья Шандора и Натальи Пак. Вот уже месяц живу у них возле Нью-Йорка. Они меня нежат, засыпают подарками".
Выезд Паков из Советского союза не был случайностью. "У меня всегда была неприязнь к советскому режиму, — говорит Наталья Петровна. — Я всегда считала его преступным и подлым." У Шандора к политическим мотивам добавлялись чувства национальные. Сначала семья сделал попытку выбраться в Чехословакию. Как известно, законный выезд на Запад из страны социализма был невозможен. Наталье Петровне пришлось писать в автобиографии, что её отец — чех. Но когда заявление на выезд подали все три брата Пак, местный партийный вождь заявил: "Не выпустим, вы специалисты, а нам специалисты нужны".
Потом братья Пак стали оформлять бумаги на выезд в Венгрию. Кагебешники пригрозили: "Заберите свои документы, иначе поедете не в Венгрию, а совсем в другую сторону." Более удачливыми оказались дети Шандора и Натальи Петровны. В полном соответствии с советским беззаконием дочь Таня и сын Имре выехали из страны, воспользовавшись фиктивным браком. У третьего сына Александра отняли паспорт уже после того, как он получил все разрешения. Аргумент всё тот же: "Инженер? Инженеры нам нужны. Не отпустим." Старшее поколение Паков начало изготовлять в своей мастерской каменные надгробья. Публике работа умелых мастеров понравилась. Посыпались заказы. ГБ тут как тут: "Капиталистическое производство? Пресечем.” Наталья Петровна вспоминает: "Шёл год 1976-й. Милиционеры опечатали мастерскую, отключили в доме электричество, воду, телефон. Мы вынуждены были ходить в уборную к соседям. Вырваться из Советского союза удалось лишь в середине 1977 года".
Американскую жизнь семья начинала по схеме общеизвестной. Наталья Петровна служила в старческом доме — кухарка, уборщица. Шандор в том же заведении, как механик, надзирал за электричеством, водопроводом. Потом несколько лет ухаживали за старушкой, которую взяли к себе в дом. Все сэкономленные деньги отдавали младшему сыну Имре, который заканчивал университет. Но уже в самом начале американского бытия Шандор начал терзаться мыслью о необходимости помогать тем, кто остался там. Кое-какие гроши семья даже в те годы посылала на родину. А с 1987 года (перестройка!) начали летом навещать Мукачево. Материальное положение семьи к этому времени укрепилось: Имре стал предпринимателем. Отправляясь из Америки на родину, загружали чемоданы кучей подарков. Но уже в 1988-м году Имре, ставший к этому времени во главе собственной компании, предложил отцу основать фонд постоянной помощи неимущим мукачевцам, Фонд Шандора Пака. Составляли список пожилых, одиноких, бедных. Их набралось 80 человек. Создали правление Фонда, назначили секретаря, нашли достойного доверия человека, чтобы ведал финансами. Так восемьдесят подопечных Шандора Пака стали ежемесячно получать сумму, которая заметно облегчала их убогую жизнь. Появляясь в Мукачеве, Наталья Петровна обходит теперь все восемьдесят адресов, чтобы узнать, как живут люди, получают ли всё, что им положено. Идёт она по домам не с пустыми руками. С утра заезжает на рынок, закупает кур, масло, овощи. Эти покупки дополняются американскими подарками: чаем, кофе, пачками сахара.
Кроме тех, кого поддерживает Фонд Шандора Пака, есть в городе "Клуб пенсионеров". Эти помоложе и не так одиноки, но и для них Паки закупают в Венгрии и Белоруссии картофель и подсолнечное масло, так что в летне-осеннюю пору число опекаемых достигает порой трёхсот человек. Всё, что относится к помощи землякам, к родному городу, вызывает у старшего Пака, как я заметил, повышенную эмоциональность. Дочка Таня вспоминает: "Завела я как-то дома разговор о музыкальном искусстве. Область мне близкая, я пианистка. И вдруг папа с обидой в голосе прерывает меня: "Ну о чём ты говоришь? Какая музыка, когда картошка в Мукачеве не уродилась!" Узнав же. что их семейные пожертвования кого-то выручили, спасли, принесли кому-то из земляков радость, Шандор с гордостью цитирует строки из венгерского национального гимна, что-то вроде: "Тот, кто здесь родился, да скончает здесь же свои дни". Живя в Америке, основатель фонда мысленно всегда ощущает себя гражданином Закарпатья, Мукачева.
Я встречал в Мукачеве немало людей, обогретых Паками. Рассказанные ими истории — одна трагичнее другой. В послевоенную пору в Мукачеве расстреляли безо всяких причин скромного человека, лесного инженера. Осталась жена с двумя крохотными детьми, учительница местной школы. Схватили и её: "антисоветская пропаганда!" В учительской она неосторожно заметила, что вот в газете пишут, что сахара везде достаточно, а её дети уже забыли, как он выглядит, этот сахар. Отсидела десять лет. Дети её забыли за это время полностью, а старший не пожелал даже признавать. Помощь Паков позволяет сегодня этой одинокой старухе с изуродованной судьбой не бедствовать, чувствовать себя человеком….
Другая встреча. У пятидесятилетней матери пятнадцатилетняя разбитая параличом дочь. И никого больше. Дочь неподвижна, психика на уровне восьмимесячной. Квартира маленькая. Необходим ремонт: надо расширить дверь в ванную, чтобы можно было бы ввозить туда больную девочку на коляске. Денег на ремонт у матери нет. И опять выручила семья Пак. Ещё одна ситуация: молодая, красивая, интеллигентная пара. С тем, что их высшее образование никому сегодня не нужно, супруги уже примирились. Труднее примириться с тем, что молодая женщина не способна рожать. Врачи говорят о необходимости операции. Но в Закарпатье о такой операции и мечтать не приходится: медицина в развале, да и денег у молодых на больницу и хирурга нет. И снова — Паки. Они дают средства на поездку в Будапешт, где живёт их внучка. Она не только примет у себя приезжую из Мукачево, но и договорится обо всём с медиками. Поездка эта пока лишь в проекте, но жители города знают: если Шандор и его жена что-то обещали — сомневаться в исполнении их обещания не приходится.
Можно без конца рассказывать, что делает и что уже сделало это удивительное семейство, одержимое стремлением помогать людям. В последний свой приезд, например, Наталья Петровна навестила несколько знакомых врачей и, зная, как нелегко им сегодня существовать, не вступая ни в какие дебаты, оставила в каждом доме конверт с солидной суммой в долларах. А вот благодеяние из другой сферы. Паки купили в Мукачево
двухэтажный вместительный дом, будущий центр культурной жизни местных жителей. В городе его уже прозвали "Дом Паков". Здесь будут проходить собрания юных скаутов, тут смогут общаться старики-пенсионеры. А недавно семья приобрела за 9000 долларов трактор и отправила его в венгерскую расположенную в Румынии деревню. Венгры живут там бедно, так что трактор и оплаченный из Мукачево тракторист должны помочь местным крестьянам укрепить своё хозяйство.
Я начинал свой очерк с вопроса, ради чего всё-таки руководство города переименовало улицу Пионерскую, назвав её именем Шандора Пака? Полагаю, что приведённые факты кое-что объяснили. Завершая в апреле 1997 г. свою речь о новом названии улицы, мэр-украинец заметил: "Это знак нашей благодарности и уважения Шандору Паку.” За уважение, как говорится, спасибо. Но вот что мне открылось: семья, тратящая на нужды соотечественников множество сил, времени и денег, делает это отнюдь не ради благодарственных слов. Более того, Паки относятся к словесным восторгам по своему адресу довольно сдержанно. Наталья Петровна в одной из наших бесед заметила: "Я не люблю, когда меня благодарят. Ёжусь от слишком сладких словес. Мой принцип — дать человеку то, в чём он нуждается, и тут же забыть об этом эпизоде. Шандор такой же." Запомнилось ещё одно замечание этой сильной русской женщины. Главную ценность человека Наталья Петровна, по её словам, видит в трёх чертах характера: в любви к родителям, в трудолюбии и в широте натуры. "Человек, который жмотничает, давится из-за копейки, для меня не человек. Все эти три качества я и нашла у Шандора. Если бы сегодня мне предстояло избирать себе мужа, я избрала бы только его.” Эти слова прозвучали в нашей беседе незадолго до 12 мая 1997 года, когда семья Пак в полном составе собралась, чтобы отметить 90-летие Шандора Пака и 80-летие его жены.
3. С РОССИЕЙ В СЕРДЦЕ
Отношение к оставленной нами родине среди эмигрантов весьма различно. Хотя, попав в Америку, мы стали писать это слово с маленькой буквы, многие навещают страну своего рождения по два и более раза в году. Воздух отечества не потерял для них, видимо, своей прелести. Есть у меня, однако, приятель, который твёрдо решил туда больше никогда не ездить. Слишком крепко засела в его памяти история о том, как его травили кагебешники, как предлагали на выбор Сибирь и Израиль. Но есть и такие, кто прошлые обиды в эмиграции позабыли. Так в начале горбачевской "весны" в 1987-89 годах в Москву кинулись некоторые наши писатели-диссиденты. Они были уверены, что обновленная Михаилом Сергеевичем Россия воздаст им аплодисментами за их оппозиционную деятельность 60-х — 70-х годов. Насколько я слышал, аплодисменты оказались более чем сдержанными и длились недолго. Более естественно выглядят те одесситы, харьковчане и киевляне, что отправляются в города своего рождения прежде всего для того, чтобы продемонстрировать там шикарные американские шубы и рассказать землякам, какой великолепный дом приобрели они в окрестностях Нью-Йорка. Разумеется, кого-то на родину влечёт вполне естественное желание повидать близких и родных. Ну, этот вариант в комментариях не нуждается.
Мне, однако, ни разу не удалось услышать от членов нашей, так называемой третьей волны эмиграции, что их поездки в родные края продиктованы просто любовью, любовью к России. Подозреваю, что если бы такая мысль была высказана в компании моих ньюйоркских знакомых, она вызвала бы у присутствующих только удивление и иронические улыбки. Для нас, людей, как правило, рациональных, такая абстрактная любовь представляется смешновато-глуповатой. И тем не менее мне довелось недавно повидать человека, для которого Россия, родина — слова, вызывающие искреннее любовное чувство.
Хотя он родился далеко от России и впервые встал на российскую почву в возрасте за шестьдесят, все его интересы обращены прежде всего к этой стране. Гражданин Америки, он не только стремится узнать как можно больше о России, но постоянно ищет, чем и как практически помочь ей. В частности, он старается разъяснять беды и страдания русского народа иностранцам. Его устремления не остаются в Америке незамеченными. Несколько дней назад Георгий Григорьевич Вербицкий (так зовут моего нового знакомого), специалист-компьютерщик высокого класса, а ныне пенсионер, получил за свои просветительские труды своеобразную награду. Американское общество филателистов вручило ему медаль за освоение новой, прежде никем не разрабатываемой области филателии. Такие награды даются крайне редко и считаются знаком высокого уважения к филателисту. Григорий Григорьевич действительно привёз на филателистическую выставку неподалёку от Филадельфии уникальную коллекцию. Он продемонстрировал собрание почтовых открыток, которые в 1942–1945 годах из немецких трудовых лагерей посылали домой его русские соотечественники. Таких мучеников было во время войны немало. Если в 1942 году гитлеровская Германия на насильственных работах использовала 1700 тысяч человек, то в 1944-м — уже 7 миллионов, из них 3 миллиона — граждане Советского союза. Люди эти работали по 10–12 часов в день, голодали, мёрзли, их избивали, а подчас и расстреливали. Но в какой-то момент гитлеровцы "смилостивились" и рабам, завезённым из России, разрешили переписываться с родными, точнее — посылать два раза в месяц небольшую специально для этого отпечатанную открытку. Вербицкий — первый, кто полвека спустя собрал более сотни таких почтовых отправлений с портретом фюрера и штемпелями гитлеровской цензуры. Его коллекция открыла страшную и до сих пор малоизвестную картину жизни миллионов россиян — русских, украинцев, белорусов, которые вошли в историю под именем
остарбайтперов.
На отдельном стенде собиратель-филателист поместил свою только что опубликованную по-русски и по-английски книгу на ту же тему, "Почта остарбайтеров Второй мировой войны” (Издательство "Эрмитаж”, 1996 г.). "Цель этой книги, — пишет автор, — сохранить воспоминания и данные об остарбайтерах по документам и переписке того времени. Весточки, которые мы читаем, коротки и не витиеваты. Писала их в большинстве случаев молодёжь, многие из них — дети школьного возраста, захваченные в рабочий плен немцами." "Это моя попытка осветить малоисследованный уголок истории российского народа, — пояснил мне при встрече Георгий Вербицкий. — Я ищу, чем можно быть полезным России, что я, пожилой американский пенсионер, могу сделать для неё."
Мы беседуем с Георгием Григорьевичем в его доме, расположенном в городе Бингемтоне (штат Нью Йорк). Дом весь проникнут подчёркнутой русскостью хозяев. Куда ни глянешь — самовары, русские тарелки на стенах, матрёшки, расписные деревянные миски и ложки. На полках русские книги, на столе хозяина свежие номера российских журналов: "Новый часовой", "Новая и новейшая история", "Российская провинция", "Русское прошлое", "Россия в XXI столетии". Корни привязанности ко всему отечественному уходят у моего знакомого в глубину десятилетий. Отец Георгия — белый офицер-артиллерист, после Гражданской войны оказался в Югославии. Там же родился его сын. Хотя семья прожила в Югославском королевстве более двадцать лет, Вербицкий-старший отказался принять подданство приютившей его страны. Он чувствовал себя русским и только русским. В семье никогда не остывала надежда на крушение коммунизма и на возвращение белой эмиграции домой. История, увы, сложилась иначе: Вербицким, как и тысячам других белоэмигрантов, пришлось бежать от наступающей Красной армии в Германию. В Мюнхене национальные чувства Вербицкого-младшего подкрепила православная церковь и основанная священником о. Александром Киселёвым русская гимназия "Милосердный самарянин". "Не давали нам забыть о нашем происхождении и немцы, — вспоминает Георгий Георгиевич. — Более всего они ненавидели евреев и цыган, третьими в этом списке шли мы — русские. Из-за этого нам приходилось в беженских лагерях жить крайне обособленными группами".
В Америку перебрались в конце сороковых. Никаких велферов и других форм "социализма" (выражение моего собеседника) как первая, так и вторая эмиграции не знали. На хлеб зарабатывали в качестве рабочих на лимонных и апельсиновых плантациях во Флориде. Тем не менее к 1954 году молодой Вербицкий окончил колледж и стал инженером-электронщиком. То была пора рождения новой индустрии — компьютерной. Юношу приняла на работу ныне знаменитая фирма Ай Би Эм (Интернешнл Бизнес Машин Корпорейшн — IBM). Служебную карьеру русского инженера в АйБиЭм иначе, как блестящей, не назовешь. Тому свидетельство — целая стена в его кабинете, увешанная благодарственными грамотами. Он сделал более сотни изобретений и усовершенствований и ушёл на пенсию в качестве главы большого отдела с бюджетом в сто миллионов долларов. Приглашают его крупнейшие компьютерные компании для консультации и по сей день.
Я заметил в характере моего знакомого стремление сохранять строго неизменный ритм жизни. Он тридцать пять лет проработал в одной фирме. Все эти годы отказывался от переезда в другой город, даже на более выгодную должность. В отличие от динамичных американцев, он уже треть века живёт в одном и том же доме. Столь же неизменными остаются его симпатии к православной церкви и мечты о России, разумеется, о России без коммунистов. "До тех пор, пока существовал Советский Союз, я не хотел даже приближаться к границам этой страны, — говорит хозяин дома. — Зато теперь бываю там по два и более раза в году. Рад любому поводу, чтобы отправиться туда".
Главный "повод", помогающий Георгию Григорьевичу снова и снова посещать Россию, выглядит несколько необычно. Ещё во времена президента Рейгана город Бингемтон, где живёт Вербицкий, объявил себя побратимом города Боровичи Новгородской области. В те годы мой собеседник относился к этой политической акции весьма скептически. Но после крушения СССР стал одним из самых активных участников общения двух городов. Сегодня между Боровичами и Бингемтоном идёт постоянный обмен школьниками, студентами. Когда в Америку приезжают русские гости, Георгий Георгиевич и его жена Лидия Александровна поселяют их у себя в доме.
Но главный подарок, который получили Боровичи от своего американского побратима, — основанный в их городе бизнес-колледж. Вербицкий и ещё четыре местных американца были не только инициаторами этого учебного заведения, но и пожертвовали немалую сумму на его создание. Сегодня Георгий Григорьевич считает эту свою инициативу и связанные с ней расходы вполне разумными. Он убеждён: России, входящей в новый этап своей истории, нужны школы, где бы студентов обучали прежде всего
менеджменту (управленческой деятельности) и
маркетингу (исследованию и организации рынка сбыта). Именно этих знаний более всего не хватает обществу, три четверти века прожившему под прессом приказов и команд сверху. Обучать российскую молодёжь дважды в год на несколько недель ездит группа американских профессоров. Георгий Григорьевич сопровождает их в качестве переводчика, но он и сам читает в Боровичах несколько курсов. Своим наиболее важным долгом он считает объяснить тамошним юношам и девушкам, как делать расчёты.
— Не слишком ли велика разница между экономической обстановкой в России и в Америке? — осведомился я. — Сможет ли выпускник колледжа применить полученные от вас знания в условиях своей родины?
— Разница огромная, если не сказать гигантская. Вот лишь один пример. Средний американец материально благополучен прежде всего потому, что в стране нашей есть
кредит. Без кредита не купишь дом, машину, не дашь своим детям высшего образования. В России кредит тоже появился, но дают его лишь на год. А вернуть надо за этот год ни много ни мало 180 процентов от полученной суммы. Почти вдвое больше! В Америке даже мафия таких денег не требует.
Георгий Григорьевич с огорчением перечислил мне много и других примеров отставания российской экономики и, тем не менее, он не оставляет надежды создать в России слой молодых специалистов, образованных по-американски. Ради этого он и другие основатели колледжа ищут средства на его поддержание. В 1996 году удалось получить на это доброе дело в одной гуманитарной американской организации 60 тысяч долларов. Что будет в будущем — неизвестно, но мой собеседник готов в лепёшку расшибиться ради поддержания своего детища в далёкой Новгородской области.
"Я был очень наивен, когда впервые поехал в Россию, — признаётся он, — поездки эти меня многому научили. Я расстался с романтикой. Ясно вижу, что для того, чтобы ушла наконец, вся та гадость, которая за 75 лет накопилась в мозгах и душах русских людей, нужны десятилетия. Выздоровление российского общества потребует не менее одного, а то и двух человеческих поколений." Грустная интонация, которая явственно слышится в речи моего собеседника связана прежде всего с тем, что он почти не видит вокруг себя русских эмигрантов, готовых продолжить его дело. "Я один из последних людей, кому дорога Россия. Эмиграция, первая и вторая, вымирают. А после нас подать помощь родине будет некому. Мои дети — американцы, они плохо говорят по-русски, а главное, им чужды мои национальные чувства. Примерно тоже самое Георгий Григорьевич наблюдает в других семьях, чьи предки прибыли в Америку после 1917-го и после 1945 года.
— А как вы, дитя первой эмиграции, относитесь к эмиграции третьей, к тем, кто начал прибывать в Соединённые Штаты из России после семидесятого года?
— У меня мало знакомых среди новоприезжих. Когда я был большим начальником в своей фирме, то устроил нескольких к себе на работу. Для этого пришлось учить бывших советских инженеров некоторым тонкостям здешних порядков. Но в конце концов с моей помощью они заняли неплохие должности. Сегодня меня огорчает количество преступлений в среде новоприбывших. В наше время я не помню, чтобы русская фамилия склонялась в американской прессе как фамилия уголовника.
Политическая позиция Вербицкого демократична. Он не монархист, не сторонник какой-либо жёсткой политической структуры. В то же время его возмущает вялость и бездействие московских властей. "Когда я езжу по деревням России и гляжу как живёт мужик — плакать хочется. А в Москве уже десять лет не могут принять закон о земле, самый важный, может быть, решающий, закон, чьё назначение — накормить страну." Но поучать своих единокровных этот русский американец тоже не считает нужным. "Я много беседую со студентами, рассказываю им о себе, об американской жизни. Среди них много умных, дельных парней, но нынешняя обстановка связывает им руки. Моё дело показать им, что есть и другие варианты жизни. Напоминаю, в частности, о земстве — российском общественном самоуправлении, введенном в 60-е годы прошлого столетия, вскоре после освобождения крестьян. Мечтаю дожить до того времени, когда по всей России восстановится земство, местная выборная власть, заботящаяся о школах, медицинской помощи, поддержке земледелия и о многом другом, что так необходимо провинции".
Боюсь, что мечтания моего увлечённого российской историей собеседника едва ли реальны. Но что достоверно, так это поразительная просвещённость его в делах российских. И ещё: знания свои он стремится закрепить в каких-то реальных формах. В частности, Вербицкий собрал богатую коллекцию почтовых марок, выпущенных сто лет назад столь дорогими его сердцу земствами. Другая его коллекция марок, охватывающая 1917–1921 годы, опять-таки немало сообщает об этой трагической эпохе в жизни России. Сегодня в его контактах с Россией возникла ещё одна сторона. Издав на свои деньги книгу о трагической судьбе остарбайтеров, Георгий Георгиевич бесплатно отправляет часть тиража в Россию. Оказывается, на родине нашей до сих пор публикуют статьи и книги, искажающие правду о рабах немецких трудовых лагерей. Там до сих пор утверждают, что этих несчастных родина встретила любовью и лаской, в то время как в действительности остарбайтеры из гитлеровского лагеря, как правило, попадали в лагерь кагебешный.
Я ещё раз оглядываю гостиную и столовую дома Вербицких. Снова бросается в глаза подчёркнутая русскость обстановки: икона Георгия Победоносца, флажок, выпущенный к 225-летию Боровичей, книги о генерале Власове и самовары, самовары, большие и малые. Вербицкий улавливает мой удивлённый взгляд. "Меня тянет туда всё, — восклицает он. — Тянет наш колледж, студенты, ситуация политическая и просто возможность поговорить с русскими людьми. Тянет!” Я верю ему. Вполне обеспеченный американец, специалист высокого класса, глава большой вполне благополучной семьи он, тем не менее, всем сердцем и душой устремлен за океан, на Восток. Да, он родился в Югославии. И тем не менее я готов согласиться, когда этот страстный русофил восклицает: "МОЯ РОДИНА — РОССИЯ!"
4. Рука кормящего
Журналисту-публицисту приходится постоянно искать новых героев, новые ситуации для своих очерков. Этим непростым делом я и занимаюсь. Но есть у меня несколько героев, к которым я неравнодушен. Меня снова и снова тянет вернуться к ним, написать об их новых успехах. Мои любимцы — люди, как правило, творческие, из породы тех, кем Америка поистине может гордиться. Это прежде всего житель Брайтона талантливый музыкант Гриша Магаршак. Концерты этого школьника мы слушали в Карнеги Холле и других столь же солидных залах Нью-Йорка. В свои 12 с половиной лет он уже был членом Союза композиторов Соединённых Штатов. Не могу скрыть своего восхищения и перед другим своим героем — Александром Калиной. Блистательный учёный-изобретатель, чьи открытия реализуются сейчас во многих странах мира, он также превратился ныне в процветающего бизнесмена. Но особенно тёплые чувства вызывает у меня Игорь Леонидович Новосильцов, российский дворянин, среди предков которого — жена А.С.Пушкина, Наталья Гончарова. Меня восхищает, разумеется, не происхождение, а поразительная активность этого старца. В возрасте 86 лет он за одно лето проехал на своей машине 20 тысяч миль, собирая средства на только что основанное им общество "Сеятель". Идея новой организации предельно проста: Игорь Леонидович призвал русских, живущих в Америке, помочь своим соотечественникам в России. И не одноразовой денежной подачкой, а постоянной поддержкой российских земледельцев семенами и сельскохозяйственной техникой.
Для меня главная ценность этого проекта состоит в том, что русский иммигрант, покинувший родину 75 лет назад, не потерял внутренней связи со страной своего рождения и очень точно установил, кому именно сегодня могла бы пойти на пользу его помощь. Руководитель "Сеятеля" уразумел, что колхозам и совхозам помогать уже бесполезно. В хозяйствах тамошних никто всерьёз работать не хочет и не станет. Новосильцов вычислил, однако, ту сравнительно небольшую группу населения, которой помощь из-за океана не только нужна, но и необходима. Он и его сотрудники направили контейнеры с семенами и сельскохозяйственной техникой в российские монастыри, которые в недавнее время приобрели не только право на существование, но и участки земли под посевы. Другая категория его подопечных — советские офицеры, массово увольняемые из армии. Многие из них, семейные люди, в одночасье лишившиеся жилья и службы, с радостью подхватили идею стать земледельцами. Присылаемый из Америки обществом "Сеятель" посевной материал делает мечты этих людей вполне реальными.
После очередной поездки американского гражданина Новосильцова в Россию (1995 год) я попросил Игоря Леонидовича поделиться впечатлениями. Вот что я узнал тогда.
С большой родиной всё ясно — Россия. Именно её покинула семья Новосильцовых в 1920 году. "Малой родиной" Игорь Леонидович именует Калугу, где довелось ему родиться, и окрестные города и сёла, где родились и были похоронены многие поколения его предков. Туда и отправился он на пороге своего дня рождения. "Шёл я по городу и удивлялся самому себе: за три четверти века разлуки Калуга не стала для меня чужой. Сыскал дом, где родился, где жила семья отца. Узнал и ту церковь, где ребёнком впервые принял причастие. В день своего девяностолетия 7 сентября там же выстоял литургию, причастился. Епископ калужский пригласил американского гостя пообедать у него. Так вдвоём скромно и отметил дату — девяносто лет".
"В те дни и в том месте мне особенно остро вспомнилось всё то, что имело отношение к нашему роду, известному на Руси с XIV столетия. Хранятся доныне указы, в которых царь Иван Грозный назначал бояр Новосильцовых на высокие должности. Николай Новосильцов, вдохновитель реформ первых лет царствования Александра Первого, автор проекта Конституции. Не забыл я и своего отца, офицера, окончившего юридическую академию и ставшего в 33 года членом Государственной Думы".
Исторические воспоминания ещё более обострились, когда в воскресенье 10 сентября Игоря Новосильцова привезли в посёлок Полотняный завод. Из этих мест шла линия предков матери Игоря Леонидовича — Гончаровых. Ну да, тех самых, что в начале XVIII столетия основали тут две фабрики, производящие корабельные паруса и писчую бумагу. Те самые Гончаровы, из семьи которых вышла и жена А. С. Пушкина Наталья. Они прямые предки моего сегодняшнего собеседника. В Полотняном Заводе родились и похоронены его двоюродные братья и сестры, их дети. Тут в небольшом заводском посёлке и состоялась основная часть празднования дня рождения Игоря Новосильцова. Из Москвы приехали многочисленные потомки Гончаровых, пели племяннику "Многая Лета", епископ Калужский держал приветственную речь, разъяснял гостям, что такое общество "Сеятель" и кто таков председатель этой организации. Встреча с "малой родиной" взволновала и порадовала приезжего. Тем не менее в одно из самых родных мест он всё-таки не поехал. Новосильцов-отец владел наследственным имением Карцево близ города Мещевска. Но, как удалось узнать, барский дом со множеством пристроек был местными мужиками разрушен до основания, а огромный фруктовый сад вырублен. От имения ничего не осталось.
Но, как ни приятно было навестить родные места, поездка Новосильцова имела совсем другое назначение. "За первые четыре года существования "Сеятеля" мы отправили в Россию семян и сельскохозяйственной техники на два миллиона долларов, — рассказывает он. — Все эти деньги были пожертвованы русскими эмигрантами "первой" и "второй" волн.
Я поехал, чтобы проверить, действительно ли доходят наши дары тем, для кого они были предназначены." Объезд многих монастырей и встреча с офицерами-отставниками убедила его, что отправляемые из Америки семена и техника доходят без потерь.
Проложить путь американским подаркам к российским земледельцам было непросто. Только добравшись до вершин московской власти, Игорь Леонидович смог добиться распоряжения, что контейнеры, отправляемые из Нью-Йорка, российские таможенники вскрывать не станут и облагать налогами американские дары не будут. Уговор этот российская сторона пока соблюдает. Наглухо запечатанный в Америке контейнер идёт в Москву в Даниловский монастырь, там его распечатывают и распределяют семена и сельскохозяйственную технику по строго составленному списку.
Главная проблема: извлечь пакетики семян из мешков и ящиков, распределить их и разослать по хозяйствам. В каждой коробке тысяча пакетиков, в каждом мешке — 2800, фасоль, кукуруза, свёкла, морковь, лук и т. д. Их надо пропорционально рассортировать, чтобы каждый получатель имел вдоволь всего. Работа нелёгкая, на месяцы. И никакой оплаты за неё не полагается. Игорь Леонидович ездил искать добровольцев. С удовлетворением заявляет, что нашёл. Другая цель поездки: уточнить, в чём особенно нуждаются российские земледельцы. "Разъезжая по Московской, Калужской и Псковской областям, я заметил, что на дорогах становится всё больше повозок, запряжённых лошадьми. Появились лошади и в монастырях. Бензин дорог, его не хватает, так что в деревнях начинают разводить коней. А коли вернулись к "лошадиному веку", то и нас просят присылать как можно больше "лошадиной техники", то есть плуги, бороны, соответствующую упряжку." "Но где же найти в сегодняшней Америке технику XIX столетия? В музеях?" — изумился я. Оказывается, и в США есть люди, которые и по сей день не расстались с плугом и бороной. Это эмиши. (Эмиши или менониты — религиозная группа протестантов, поселившаяся в Америке в XVII веке. Основное занятие — земледелие и ручное мастерство. По религиозным соображениям эмиши отказываются от современной техники: телефонов, телевизоров, автомобилей и сельскохозяйственных машин: тракторов, сеялок, косилок.) "Я намерен обратиться к ним с письмом, объяснить обстановку в России и уверен, эти трудовые, честные люди не откажутся продать, а может быть и подарить что-то из своей "лошажьей техники".
Как я уже говорил, Игорь Леонидович до сих пор направлял свою помощь монастырям и тем группам уволенных из армии русских офицеров, которым, чтобы прокормить свою семью, остаётся лишь обратиться к земледелию. Но очередная поездка убедила его в том, что есть в России и третья категория людей, готовых взяться за плуг. Это русские люди, бегущие из бывших республик Советского союза. Недоброжелательная к "инородцам" национальная политика Среднеазиатских и Кавказских республик заставляет славян перебираться в Российскую федерацию. В основном это люди с образованием. "Заехал я в одно хозяйство, а там все доярки — учительницы, приехавшие из Средней Азии. Они бы, разумеется, охотнее учили детей, но на зарплату учителя не проживёшь, — рассказывает Игорь Леонидович. — Ситуация оказывается ещё более абсурдной, если добавить, что в московских школах не хватает 4000 учителей". Доярки-учительницы — лишь малая часть российских интеллектуалов, которые, мало на что надеясь, готовы, не откладывая, превратиться в фермеров. Председатель общества "Сеятель" собирает имена и адреса таких людей, чтобы к будущей весне снабдить их необходимым количеством семян овощей и какой-нибудь элементарной сельскохозяйственной техникой.
— А как дела у офицеров-отставников, которые вроде бы тоже склоняются к земледелию?
— Таких становится всё больше. Особенно в Крыму. Подавляющая часть офицеров флота хотят остаться на юге страны. Пенсии военной на жизнь недостаточно, так что многие всё более тяготеют к идее коллективного фермерства.
В Москву для встречи с Новосильцовым таких моряков-земледелов приехало несколько групп. Они уже взяли в аренду под Херсоном сто гектаров земли, засеяли их присланными из Америки семенами овощей и неплохо заработали. "Я верю, что таких хозяев будет становиться всё больше и мы готовы им всячески помогать", — комментирует Игорь Леонидович. Интересно, что вновь созданная флотская фирма в благодарность за помощь американского земляка наименовала себя тоже "Сеятелем". Таблички с таким названием стоят на их полях.
Откровенно говоря, я не столько даже удивляюсь поездкам Новосильцова по России, сколько тому, как он справляется с огромной почтой, которая навалилась на него за последние годы. "Американский дядюшка" привлекает своей широкой натурой и дарами самую различную публику. Пишут ему священники, епископы, государственные чиновники, колхозники. И кто только не пишет. Игоря Леонидовича, однако, количество просителей не беспокоит. Отвечает всем. Хочет слышать голоса тех, кто действительно заинтересован в выздоровлении российского земледелия. Очередная поездка ещё более расширила количество письменных и устных контактов главы общества "Сеятель". Этому способствовали, в частности, выступления Новосильцова по московскому радио и телевидению. Особенно расположилась к американскому гостю программа российского телевидения "Крестьянский вопрос". Сотрудники этой программы даже сняли короткометражный фильм о приезжем, а в будущем планируют сделать полнометражный фильм о деятельности "Сеятеля" и его создателя. Работа телевизионщиков, правда, не всегда радует Игоря Леонидовича. Во время одного выступления они назвали его "графом", после чего на адрес телевидения пошли письма
с обращением: "Господин граф", "Товарищ граф", "Ваше превосходительство" и т. д.
Интерес телевизионщиков и радиожурналистов к приезжему, кроме прочего, объясняется ещё и тем, что в свои почтенные годы Новосильцов остаётся великолепным оратором. Я убедился в этом, прослушав и просмотрев посвященный ему фильм. Радует ухо добротный русский язык героя фильма, его способность говорить четко и по делу. Его любимая тема, — как России вернуться к тому уровню земледелия, когда русским зерном кормилась не только Европа, но и Америка. Да, было такое незадолго до первой мировой войны…. Потомок калужского помещика, Новосильцов-сын достаточно хорошо знает, что можно было бы сделать сегодня, чтобы пробудить у граждан самый серьёзный интерес к земледелию.
Контакты с людьми, особенно с теми, кому "Сеятель” уже помог, доставляют особенную радость приезжему. Да и как не радоваться, попадая в знаменитую Оптину пустынь или в женский монастырь Шамордино, если тебе говорят: "Вашими овощами будем сыты всю зиму. Поглядите, какие запасы мы сделали!" Или, например, сотрудники историко-библиографического музея Павла Флоренского (Флоренский Павел Александрович, 1882–1937, выдающийся русский учёный, религиозный деятель; арестован в 1928 году, расстрелян 8 декабря 1937 года) присылают письмо: "Сердечно благодарим Вас и Ваших сотрудников за присланные дары…. Иной сеет, а иной жнет, но их ждет общая награда на Небесах. Ваши семена взойдут не только на Российской земле, но и в наших сердцах. И что может быть дороже этого пред Господом и его людьми".
Сельский священник, каким его нам чаще всего изображали советские литераторы и пропагандисты-антирелигиозники, представлялся, как правило, этаким серым малограмотным мужичком. Но вот письмо, полученное Новосильцовым из деревенской церкви, расположенной в районе Ярославля. "Получив через добрых людей превосходные семена из Вашего фонда, мы были приятно удивлены, отметив про себя, что оказывается не все русские в Америке проявляют заботу лишь исключительно о своём счёте в банке…. В стиле работы Вашего фонда нас также поразила оригинальность подхода к разрешению проблемы помощи своим соотечественникам-единоверцам. Распространяя семена в России, Ваш фонд, уважаемый Игорь Леонидович, так сказать, убивает двух зайцев сразу, а именно: при минимуме занимаемой площади и массе транспортируемых семян, добросовестный земледелец может получить многие десятки килограммов сельскохозяйственных продуктов. Это во-первых. А во-вторых, благотворительная помощь в виде семян подвигает человека к активной деятельности, а не к пассивному ожиданию "манны небесной", поощряет честного труженика и отфильтровывает лентяя".
Своё отнюдь неглупое и небезграмотное письмо деревенский священник завершает грустным, но достаточно убедительным пассажем. "Ведь вся надежда у простого русского человека сейчас только на Бога и на землю-кормилицу; от правительства ждать хорошего разучились и разуверились, поэтому помощь православного "Сеятеля” весьма и весьма своевременна".
Письма, письма…. Ассоциация фермерских хозяйств (есть сегодня и такая! — М.П.) Ульяновского района Калужской области, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, сердечно благодарит за гуманитарную помощь в виде семенного материала. "Выражаем глубокое уважение Президенту Фонда г-ну Новосильцову. Восхищаемся его истинно русским патриотизмом и подвижничеством." "Троицко-Сергиевская Лавра благодарит за получение семян. Они оказались крайне нужны для хозяйства Лавры и относящихся к Лавре скитов." "Это всё истинная правда, — комментирует Игорь Леонидович, — Сергиевская Лавра, так сказать, столица русского православия (бывший Загорск), место, где ежедневно готовят обед более чем на две тысячи человек. Там большое число монастырских обитателей, семинаристов, учащихся духовной академии и просто прихожан. Так что овощи, выращенные из наших семян, им нужны буквально позарез."
А вот ещё одно письмо-благодарность. Монашенки Свято-Андрониевского женского монастыря сообщают, что в знак благодарности преподносят председателю общества "Сеятель" икону Казанской Божьей Матери. Но, разумеется, большинство пишущих что-то просят, рассказывают о том, в каком ужасном положении после семидесяти пяти лет советской власти оказались церкви, монастыри, как трудно живётся вчерашнему колхознику, уволенному из армии офицеру. Новосильцов тут же записывает в тетрадь адреса нуждающихся. На сегодня "Сеятель" отправляет свои дары по 170 адресам.
Оказались среди облагодетельствованных "Сеятелем" и учёные. Игорь Леонидович созвонился с несколькими научными центрами в пригородах Москвы, и в том числе со знаменитым Пущино. Тамошний священник сообщил, что часть семян передал научным сотрудникам, которые буквально голодают. Кто покрупней и с учёной степенью — норовят удрать за границу, а, так сказать, среднее лабораторное звено решительно не знает, чем кормить свои семьи. То же самое сообщил из посёлка Борок Ярославской области, где не по дням, а по часам пустеет научный центр Академии сельскохозяйственных наук. Новосильцов записал и эти адреса. Когда поплывёт через океан очередной контейнер со всякого рода подарками, найдётся в нём место и для учёной публики.
Мой собеседник конечно же знает себе цену. Личность он во всех отношениях незаурядная. Но та повышенная истеричность, с которой его подают российские газеты, радио и телевидение, вызывает у него ироничную улыбку. "Они делают из меня
фигуру." И действительно, спрос на американского гостя в Москве был беспредельный. Его приглашали в Общество русских художников, которое роздало многим сотням своих членов прибывшие из Америки семена; звали на открытие Дома Учёных, на церковные праздники. С ним охотно беседовал у себя в квартире на Тверской Александр Солженицын, писатель Игорь Солоухин. Им, судя по всему, симпатичны
русские чувства приезжего эмигранта. Игорь Леонидович не спорит: "Я русский патриот и тем горжусь". Но жизнь, проведённая на Западе, позволяет ему видеть нынешнюю ситуацию в России более объективно, чем она видится некоторым тамошним общественным деятелям и в том числе Солоухину. Писатель-монархист считает, что все проблемы России будут разрешены, как только страна посадит на трон очередного Романова. Российский дворянин Новосильцов относится к монархии значительно более сдержанно. Да и взгляды Александра Исаевича Солженицына он разделяет далеко не полностью. "Попадались мне на родине и другие люди, те, что спрашивали: "А зачем вам вся эта возня с "Сеятелем"? Вы карьеру делаете?" — вспоминает Игорь Леонидович. — "Какая же карьера в 90 лет, — смеялся я в ответ. — Если что и делаю, то лишь для того, чтобы дать шанс моему народу выжить…".
Я гляжу на этого рослого интересного мужчину, слушаю его богатый интонациями голос и снова, в который уж раз, удивляюсь отпущенной ему энергии. В России его занимали отнюдь не только дела "Сеятеля". Он с энтузиазмом воспринял тот факт, что там стремительно нарастает интерес общества к вере в Господа. За последние годы в стране возникло 15 тысяч новых храмов. Священников повсеместно не хватает. "Едва местным энтузиастам удаётся возвести крышу и смастерить хотя бы из фанеры подобие иконостаса, люди приходят на литургию. И так по всей стране." В Пушкинских горах его обеспокоило состояние могилы великого поэта. Она явно разрушается. Новосильцов приложил немало сил, чтобы привлечь к этой проблеме и местное и московское начальство. И кое-чего добился.
Не оставляют его раздумья и о дальнейших путях страны. "Ужасает зрелище пустых деревень, незасеянных полей”. Покидая советскую Россию подростком, сын помещика видел и запомнил совсем другие деревни. Я спросил его: "Вы ощущаете обиду за то, что Россия сделала с вами и вашей семьей?" — "Обиды нет, есть горечь. Мне даны от Бога кое-какие способности, может быть, даже таланты. Горько думать о том, что пришлось раскидать их по множеству стран от Чехословакии до Аргентины и Соединённых Штатов, вместо того, чтобы они послужили моему народу. Вот о чём я переживаю…". Игорь Леонидович верит: Россия, российская экономика возродятся. За счёт чего? "За счёт того, что народ одумается, начнёт работать. Страну может спасти лишь напряжённый, сознательный и созидательный труд, а не массовая спекуляция." Я далеко не во всём согласен с моим собеседником. Но главное в нём не суждения и рассуждения, а стремление, не откладывая, разрешить каждую возникшую проблему. Возвращаясь в Америку, Игорь Леонидович каждый раз спешит объехать страну и выступить с отчётом перед российской эмиграцией, населяющей восточное побережье от Бостона до Вашингтона. "Я должен дать этим людям отчёт, ведь они поддерживают наш "Сеятель" своими деньгами." Затем, после короткого отдыха, он спешит также объехать на машине колонии на западном побережье, в районе Сан Франциско. Он снова и снова с гордостью повторяет, что по масштабам другой такой организации в русской иммигрантской среде нет. Более тысячи соотечественников постоянно подтверждают пожертвованиями своё членство в "Сеятеле". Новосильцов, однако, спешит добавить, что хотя сторонников у "Сеятеля" немало, практическую работу по отправке контейнеров и т. д. несёт в основном семья его личных друзей — Людмилы Дмитриевны и Ростислава Марковича Гаркуша. Без них ему одному со всеми этими "посевами" справиться не удалось бы.
Я осторожно осведомляюсь, не вступает ли суперактивная деятельность моего собеседника в конфликт с его возрастом. "Мой возраст мне только помогает, — последовал ответ. — Узнав о моих летах, даже чиновники советские мне в чём-то уступают. Один из них, сделав очередной жест вежливости, заметил: "Вы жмете на меня, как слон. Но вы больше, чем слон, вы — мамонт." О своём здоровье Игорь Леонидович говорить не любит. Но одна проблема его всё-таки беспокоит. "Я не бессмертен. Ищу, кто бы мог сменить меня на председательском посту. Но оказалось, что найти замену не так-то просто. То есть людей, готовых хоть завтра стать во главе "Сеятеля", вполне достаточно. Но беседа наша спотыкается, как правило, на одном и том же месте. "Вы ездите собирать средства для вашего фонда на свои деньги?” — спрашивают меня. "Да, — отвечаю, — на свои." "А в Россию?" — "Тоже на свои." — "И никакой зарплаты не получаете?" — "Нет." Почему-то после такого рода диалога я обнаруживаю в глазах моих слушателей унылое равнодушие. На этом наш разговор замирает".
Романтик? Да, несомненно. Но романтик-деятель, вызывающий своим романтизмом благодарность и добрые чувства сотен наших земляков. Вот что в письме к Новосильцову писал весьма известный в российской столице священник Дмитрий Дудко. "Дорогой Игорь Леонидович! Приветствую Ваш приезд из-за рубежа в Россию, благодарю от лица русского народа за Вашу помощь, и особенно благодарю за то, что Вы сеете у нас те семена, которые у нас похитили другие. Дай Бог, чтобы выросли те плоды, от которых бы питались и друзья и враги, и не было бы ни мнимых друзей, ни озлобленных врагов, а были бы все братья…. Храни Вас Бог на многие лета. 18 сентября 1995 года."
5. Посев продолжается
Да, продолжается. Я уже однажды писал об этом удивительном явлении иммигрантской общественной жизни. Восемь лет назад, человек тогда уже сильно не молодой, Игорь Леонидович Новосильцов, один из тех, кого мы привыкли относить ко "второй" иммиграции, затеял помогать земледельцам России. Рядовой иммигрант, не богач и не предприниматель, он создал сообщество таких же рядовых, которое назвал "Сеятель" и стал на деньги этого единения отправлять в Россию контейнеры с семенами огородных культур. За эти годы президент "Сеятеля” уже четыре раза побывал на родине и даже отметил там своё девяностолетие. Поговорить с Новосильцовым о судьбе "Сеятеля" в последние годы мне, однако, не удалось, он живёт в Санкт-Петербурге (Флорида) и приехать в Нью-Йорк не смог. Побеседовать согласилась Людмила Дмитриевна Гаркуша, которую сам президент именует не иначе как своей правой рукой. Счастливое знакомство этих двух людей стоит отдельного рассказа.
Десять лет назад, вернувшись из первой за 70 лет поездки в Россию, Игорь Леонидович навестил друзей, живущих в окрестностях Нью-Йорка. Зашёл помолиться в православный русский храм. После службы поделился с несколькими соотечественниками впечатлениями от своей поездки. Рассказал, как часами, не отрываясь, стоял у окна поезда, пересекавшего Россию, наблюдая пустые, незасеянные поля, запущенные, полуразрушенные деревни. В городах видел множество нищих. Сын разорённого в годы революции калужского помещика весьма выразительно нарисовал ситуацию, завершившую десятилетия колхозно-совхозного большевизма. Нет, он не язвил и не злорадствовал, а наоборот, просил слушателей поразмыслить над тем, как можно было бы отсюда, из Америки, помочь бедствующим землякам. Высказал при этом вполне практичную мысль, что помогать колхозам и совхозам бессмысленно. Теперь в России появился другой тип земледельца — монастыри, получившие участки для посева. Кроме того, сбиваются в земледельческие коммуны увольняемые из армии офицеры. Готовы осесть на землю и многие тысячи русских людей, вынужденных покинуть бывшие национальные республики. Вот им бы и следовало отгружать семена сельскохозяйственных культур. Для них это станет подлинным спасением.
С наибольшим интересом отнеслась к идеям Новосильцова пожилая семья Гаркушей. Людмила Дмитриевна и Ростислав Маркович пригласили приезжего к себе в гости. За чаем выяснилось, что, будучи школьником, Гаркуша-муж учился в одном классе с женой Новосильцова. Но значительно более сблизило две семьи другое обстоятельство. Игорь Леонидович развивал мысль о том, как практически вовлечь в помощь российским земледельцам наибольшее число иммигрантов. Для этого следовало бы посетить в Америке как можно больше городов и посёлков, заселённых русскими, выступить перед ними и рассказать о трагическом положении земледелия на родине. Созданный таким образом Фонд послужил бы для закупки семян и их отправки бедствующим соотечественникам. Но как обнаружить районы, наиболее заселённые русскими? И тут оказалось, что Людмила Дмитриевна в качестве руководителя туристских групп уже возила по стране приезжих из СССР, заинтересованных во встречах с иммигрантами "первой и "второй" волн. В том случае, если Игорь Леонидович действительно собирается предпринять такое путешествие, Гаркуша-жена готова снабдить его детальной картой расселения "наших" по территориям Соединённых Штатов.
Восьмидесятишестилетний
Новосильцов такой рейд в двадцать тысяч миль по стране совершил. Карта, составленная Людмилой Дмитриевной, ему сильно помогла. После многочисленных выступлений удалось Игорю Леонидовичу заинтересовать несколько сот соотечественников, загоревшихся идеей "Сеятеля" и готовых материально поддерживать фонд, причём не одноразово, а постоянно, из года в год. С того и пошло теснейшее сотрудничество супругов с президентом фонда. Ныне супруги ведают закупкой, погрузкой и отправкой за океан контейнеров с семенами. Они же занимаются сбором и учётом финансов Фонда. Они же переписываются и переругиваются с чиновниками американскими и заокеанскими. Заняты они до предела, так что договориться о встрече мне с этой трудовой парой долго не удавалось. По забавному стечению обстоятельств Гаркуша-жена приехала для беседы со мной в Нью-Йорк как раз в день рождения Игоря Леонидовича, 7 сентября. На наши телефонные поздравления девяносточетырёхлетний президент ответил неизменно бодрым голосом с красивыми интонациями: да, жив, хотя и не слишком здоров, работает, верит, что добрая воля Господа не оставит его и впредь.
Начиная разговор наш, Людмила Дмитриевна выложила на стол кучу бумаг: финансовые отчёты, переписку на английском и русском языках, многочисленные прибывающие из России письма-просьбы и послания благодарственные. "Сеятель" функционирует, семена отправляются ныне в 170 адресов. Но, как это ни покажется странным, препятствий на пути американских доброжелателей с каждым годом становится всё больше. В какой-то момент вашингтонские чиновники запротестовали против отправки семян в страны Прибалтики. Почему? Непонятно. Потом Москва заявила, что прежде, чем доставлять земледельцам американские подарки, все сто шестьдесят видов семян надлежит два года испытывать на российских опытных станциях, а оплачивать этот контроль должны те, кому семена предназначены. Речь шла о тысячах долларов! Налицо явное вымогательство. Но почему-то особенно недоброжелательно восприняла американские контейнеры Украина. "Даже когда я звонила в Киев и пыталась вести деловые переговоры по-русски, — рассказывает Людмила Дмитриевна, — мне отвечали грубостью: нам не нужны ваши подачки". И это на Украине, где по нашим сведениям, множество людей буквально голодает". С американцами другие проблемы. Хотя перевозку семян в Россию Государственный департамент оплачивает как гуманитарную акцию, но при этом ставятся строгие правила, чтобы контейнер не только был набит до отказа, но и стоил не менее определённой суммы. И ещё: отчёт о полученных семенах должен прибыть от получателя не позже, чем через месяц после отправки из США. А как поспеть, если идут контейнеры и в Армению, и в Молдавию, и в Западную Сибирь, не говоря уже об Украине, куда приходится в обход местных властей отправлять семена через Белоруссию? Из-за всей этой бюрократической войны дары "Сеятеля" в прошлом году не поспели к посевной….
И тем не менее "Сеятель" не сдаётся. Уже послано в Россию несколько маленьких тракторов, а также сеялки, культиваторы и другая ручная сельскохозяйственная техника. Когда в контейнерах оказывается свободное место, "Сеятель" одаривает россиян дополнительными подарками. То пошлют два десятка новых ортопедических туфель, то мешки с макаронами. Но главным грузом по-прежнему остаются семена. На сегодня (конец 1999 года) на родину нашу отправлено 638 тысяч пакетов с семенами. Если даже оценить стоимость пакета в один доллар, то перед нами подарок в две трети миллиона. А всего, за годы существования "Сеятеля", земледельцы России получили одного только посевного материала без малого на шесть миллионов американских долларов!
Листаю письма от тех, кто уже получил от "Сеятеля" семена. Откликнулись с благодарностью руководители десятков монастырей и церквей, духовных училищ, благотворительных заведений, демобилизованные военнослужащие. География переписки фантастическая: пишут из республики Коми и из Архангельской области, из Молдавии, Армении, Приднепровья, Прибалтики и даже острова Сахалин. Объектами помощи оказываются самые различные по общественному положению люди. "Низкий поклон Вам с благодарностью и восхищением, — пишет доцент Инженерно-Строительной Академии в Днепропетровске Виталий Беспалько, — Ваша деятельность оживляет угасшую надежду, просветляет душу, укрепляет дух и веру в Человека." Беспалько — далеко не единственный научный работник, кто получил в эти трудные для российской науки годы спасительную посылку. Откликнулись и сотрудники Новосибирского научного городка и учёная публика из Академического городка Борок и многие другие.
В юности Игорь Леонидович окончил кадетский корпус и вот, три четверти столетия спустя, ему напомнил об этом его, позволю себе его так назвать, советский "коллега”, выпускник Кавказского Суворовского училища Сидоров. Суворовец выразил свои чувства в стихах:
В непростые для страны времена
С экономикой расстроенной вполне
Очень кстати получить семена,
А тем более, когда по весне.
Принимая этот добрый привет,
Благодарно говорим о гонцах,
И сердечно жмем руки кадет,
Сохраняющих Россию в сердцах.
Не может пожаловаться руководитель "Сеятеля” и на невнимание российской прессы: газеты, радио и телевидение неоднократно заявляли о благородном характере его Фонда. Журналисты, правда, не всегда проявляли профессиональную точность, именуя Президента "превосходительством" и даже "графом". Но это уже мелочи. Зато Патриарх Московский и всея Руси в знак внимания к русскому американцу наградил его золотой медалью, на обратной стороне которой значится: "За труды во славу Святой Церкви". Новосильцов, однако, как мне кажется, в своей деятельности за Церковь не цепляется. Из его уст чаще слышишь слова: "русские", "Русский", "Россия". Он прежде всего помышляет о том, чтобы помочь единокровным землякам.
А как обстоят в Фонде дела финансовые? Людмила Дмитриевна рассказывает: "В конце года я рассылаю семьсот писем-отчётов нашим соотечественникам, живущим в Америке и других странах. Это подробный отчёт, в котором сообщаю обо всех наших расходах и приходах; о том, какой суммой мы располагаем для закупки семян и скольких земледельцев в этом году мы одарили. В тех же письмах-отчётах мы призываем членов нашего единения выполнять взятый ими на себя долг. Реагируют люди, разумеется, по-разному. Кто-то ежегодно в срок вносит оговорённую сумму, а другие растягивают выплату, присылая по 5-10-20 долларов. Но в целом большинство из тех, кто обещал поддержать "Сеятель" почти десять лет назад, своё слово держат, российских земляков не подводят".
— А та российская публика, что начала пребывать в Америку в семидесятые-девяностые годы, те, кого именуют "третьей волной эмиграции", тоже принимают участие в вашем добром деле?
— Нет, в списках Фонда ни одного члена "третьей” волны нет. Я даже не уверена, знают ли эти люди и хотят ли знать о существовании "Сеятеля".
На прощанье я спросил Людмилу Дмитриевну Гаркушу, что она с мужем и Президент думают о будущем своего Фонда. Очевидно, помощь российским земледельцам будет необходима ещё не один год. Не следует ли основателям "Сеятеля" подумать о будущей смене?
"Мы с мужем и Игорь Леонидович постоянно возвращаемся к этой теме, — признаётся моя собеседница. — Мы ведь люди, мягко выражаясь, немолодые. Людей, вроде бы желавших занять освободившееся "президентское кресло", тоже немало. Но как только мы сообщаем им, что никаких доходов от своей общественной деятельности не получаем, собеседники наши быстро линяют. Что касается меня, то я считаю: "Сеятель" должен продолжаться таким, каким его начали, или вообще перестать существовать".
Предсказывать будущее этой организации не берусь. Хочется лишь пожелать руководителям этого уникального единения как можно дольше сохранять ту поразительную энергию, которую они проявляли все эти годы. Похоже, что сдаваться они пока ещё не собираются. Кто-то из журналистов спросил Новосильцова, рационально ли ему тратить жизнь на поддержку нескольких сот российских земледельцев в то время, когда бедствуют сегодня миллионы деревенских людей России. Игоря Леонидовича вопрос не смутил. "Главное для меня — труд. — ответил он. — Работать на благо ближних всегда своевременно. Работать для своих никогда не стыдно и не несвоевременно. Нам, русским, приходилось много работать в эмиграции, чтобы выжить, но мы не забывали при этом и о помощи больным и старым. Отец мой однажды сказал: "Запомни, Игорь, и с мешком (сумой нищенской — М.П.) на плече я всё равно — барин".
Похоже, что эти слова, более чем полувековой давности и сегодня не потеряли своего значения для сына калужского помещика….
Октябрь 1999 г., Нью-Йорк
V. НРАВЫ, ВКУСЫ, ХАРАКТЕРЫ
1. Трудно переводимое выражение — "сошиал воркер"
Одно из наблюдений, которое я сделал, поселившись в Америке, состояло в том, что профессий в этой стране чуть ли не вдвое больше, чем у меня на родине. А одна из прежде неведомых мне профессий — social worker — имеет десятки вариантов. Сущность этой службы даже перевести трудно. Социальный работник? Но такой перевод почти ничего не объясняет, ибо сошиал воркеры занимаются самыми различными делами в больницах, школах, детских домах, в домах для престарелых, во множестве государственных и частных организаций. Дело сошиал воркера — помогать рядовым гражданам ориентироваться в социальном механизме своей страны, защищать права того, кто не знает, как защитить себя. Рассказать об этой своей профессии согласилась Ольга Борисовна, сошиал воркер, работающая в одном из госпиталей Нью-Йорка, в котором лечится много русскоязычных пациентов.
В прошлом Ольга Борисовна — учительница. По её словам, она всегда любила общественную работу, контакты с людьми. "Когда я приехала в Нью-Йорк, моя кузина сказала мне, что по своему характеру я больше всего подхожу к должности сошиал воркера. Я о такой профессии даже не слыхала." Сегодня, пять лет спустя, бывшая учительница уверена в том, что выбор профессии в Америке был сделан правильно. Она любит своё дело, увлечена им.
У этой дамы, в возрасте под пятьдесят, явственно видны признаки сильной личности. О том же свидетельствует и выражение лица и манера, с которой она рассказывает о своей работе. В юности один поклонник, расставаясь с ней, бросил: "Мне не нужен комиссар в юбке." Не исключаю, что та комиссарская психологическая конструкция сохранилась в ней и доныне. Но вместе с тем я уловил в её рассказах много точных наблюдений и к концу интервью убедился: Ольга Борисовна — человек ответственный и строгий к себе и к другим. Особенно занятными показались мне её наблюдения, касающиеся русских пациентов. Работая в госпитале, она имеет возможность наблюдать наших соотечественников в сложных и подчас острых ситуациях. Итак, чем же занимается моя собеседница у себя на службе?
— Нас, сошиал воркеров, в госпитале целая группа, семь человек. В то время, как врачи лечат и прогнозируют болезни, мы тоже должны определить, что ждет больного после выписки из больницы. В основном мы должны заниматься людьми старыми и сильно разрушенными своей болезнью. Я встречаюсь с их родственниками и обсуждаю ситуацию: нужен ли им человек по уходу за больным (home attandent). Нет ли необходимости направить пациента в реабилитационный центр или в дом для престарелых. По роду своей деятельности я связана со всеми этими и многими другими учреждениями, в частности, с центром, ведающим выплатой велфера, с так называемым SSI, с организацией, занятой защитой детей, и с другой, которая охраняет права стариков. И даже с полицией. Чтобы сделать для покидающего госпиталь пациента всё необходимое, я должна детально разобраться в истории его болезни. Если врач вставил больному трубочку в пищевод, я обязана поместить пациента именно в тот дом престарелых, где с такими трубочками умеют обращаться. И подобных вариантов множество. Для того, кто не способен сам добраться до дома, я должна заказать транспорт, снабдить нуждающегося палочкой или вокером.
— С чего начинаются ваши контакты с больным?
— Со знакомства, разумеется. Я прихожу в палату и представляюсь. Спрашиваю, чем могу быть полезна. Узнав, что я сошиал воркер, американцы, даже тяжелобольные, спешат встать и приветствуют меня. А русскоязычные чаще всего спрашивают, что это за штука такая — сошиал воркер. Моя цель — расположить к себе пациента, вызвать его доверие. Это необходимо для его же пользы. Берешь его за руку, и уже возникает чувство доверия, улыбнулся — и уже становишься близким человеком.
— Ваш рабочий день длится с 9 утра до 5 вечера?
— У меня постоянно 35–40 пациентов, так что день напряжён до крайности. Контакты с пациентами и их родственниками порой не завершаются и после того, как я возвращаюсь домой. Если люди обращаются ко мне даже во внеурочное время, я не могу отказать им в помощи.
— Надо полагать, вас радуют далеко не все контакты с больными?
— К сожалению, не все. Больше всего меня огорчает требовательность наших эмигрантов: "Дай! Ты обязана дать!" Это касается любых благ, начиная с велфера и SSI до перевода в палату, которая кажется пациенту более подходящей для него. Другая неприятная черта нашей публики, резко отличающая нас от американцев, — зависть. "Почему она это имеет, а я нет!?" Такие претензии возникают всякий раз, когда речь заходит о женщине по уходу за больным на дому (home attendant). Наши люди привыкли злоупотреблять льготами, которыми их обеспечивает Америка. "Дайте мне человека по уходу на 24 часа", — твердят многие наши пациенты, покидая госпиталь. — Раньше у меня такая женщина работала полные сутки." Я объясняю: времена переменились, Нью-Йорк переживает финансовые трудности. Расходы на обслуживание больных сокращаются. Если у больного есть нужда в круглосуточном уходе, то часть забот о нём должна принять на себя семья или его нужно поместить в дом для престарелых. Некоторые пациенты считают, что это моя злая воля. Сердятся. Обижаются….
Другой тип конфликта возникает в связи с тем, что люди в возрасте 50–55 лет, получающие велфер, по закону обязаны отрабатывать это пособие. В течение 20 часов в неделю им надлежит убирать парки, служебные помещения и совершать другую, столь же немудрёную и не тяжёлую работу. Они приходят ко мне с требованием: "Дайте бумажку, что физическая работа мне запрещена." Я отвечаю, что подобный документ может выдать только врач. Опять обида. "Бюрократы! Чиновники!” Есть и другие случаи, когда наши соотечественники просят снабдить их свидетельствами не совсем чистого характера. Я отказываюсь, говорю этим людям правду в глаза. И опять обида….
— А каким людям, кроме тех, что лежат в госпитале, вы можете помочь? И чем?
— Время от времени к нам попадают алкоголики. Мы направляем их в организацию, где их могут полечить психотерапевты ("Общество анонимных алкоголиков"). Мы защищаем также жен этих пьяниц, если женщины оказываются жертвами своих нетрезвых мужей.
— А среди евреев тоже есть алкоголики?
— Конечно. И не так уж мало. Другая группа россиян, которым я также стараюсь помочь, люди в тяжелом депрессивном состоянии. У нас в госпитале психотерапевтического отделения нет, но я посылаю их к специалистам в другой госпиталь. Склонных к депрессии людей, одиноких и подлинно несчастных, в эмигрантской среде очень много. Главная причина их душевной подавленности видится мне в том, что люди эти, собираясь в эмиграцию, не представляли себе куда и зачем они едут и какие резкие перемены ожидают их в другой стране. Потеря любимой профессии, родных, друзей, того культурного строя, к которому они принадлежали — вот что делает этих, как правило пожилых, людей несчастными.
К той же категории я бы отнесла также этнически русских женщин и девушек, которые буквально толпами едут сейчас в Америку в поисках "сладкой жизни". Они поступают к нам в госпиталь чаще всего в связи с беременностью. Что побуждает их, людей без всяких средств и перспектив, как правило незамужних, обзаводиться ребёнком? Боюсь, что чаще всего это расчёт и расчёт ошибочный. Девы эти слышали, что по американским законам ребёнок, рожденный в Америке, сразу обретает права гражданина этой страны. Ему полагаются все здешние социальные программы. Юные мамы приходят ко мне с вопросом: "Что мне полагается, когда ребёнок родится?" Объясняю, что им не полагается ничего. Социальные блага распространяются в таких случаях только на ребёнка. Мать тут не при чём. В ответ — слёзы, истерика, крики: "Как жить буду?"
— Вы можете что-нибудь сделать для этих несчастных?
— Мне искренне жаль их. Я считаю, что уважения достойна любая женщина, которая хочет стать матерью. В надежде помочь им и, несмотря на то, что женщины эти русские по крови, я обращаюсь в еврейские организации. Кое-какую помощь организации эти моим подзащитным оказывают. Пыталась несколько раз выйти на русские православные церкви, но от них помощи ни разу получить не удалось. Наш госпиталь принимает у таких мам роды бесплатно. Бесплатно же медики наши наблюдают их в течение девяти месяцев. Поток девушек такого рода продолжается и меня это серьёзно расстраивает. Очевидно, в российской глубинке нет никакой достоверной информации о том, что ждет этих людей в Америке. Приезжают в наш госпиталь рожать и жёны так называемых "новых русских". С этими всё в порядке, у них и денег достаточно и собственные квартиры в Нью-Йорке и окрестностях имеются.
— А как видится вам эмигрантская молодёжь? Ведь юноши и девушки тоже попадают иногда в госпиталь?
— К нам доставляют время от времени российских подростков 14–15 лет, пытавшихся покончить с собой. Чаще всего врачам удаётся вернуть всех этих мальчиков и девочек к жизни. Разбираясь в их документах, я пыталась понять, что же толкает этих неоперившихся птенцов к самоубийству. Мне видятся здесь несколько причин, вызванных опять-таки эмиграцией. Человек в подростковом возрасте более всего беспокоится о том, каким видят его ровесники, приятели. В американской школе юный эмигрант наталкивается чаще всего на антипатию аборигенов. Его часто третируют. Он чувствует себя никому не нужным, одиноким. У родителей в первое время по приезде в чужую страну мало времени для общения с потомством. Им нужно зубрить язык, искать службу. Отсюда одиночество юнцов, их мысли о смерти. Когда я общалась
с этими девочками и мальчиками, то не раз слышала от них вопрос: "А зачем меня родители сюда привезли? Я их не просил об этом".
Случается, что к самоубийству наших ребят толкает также первая любовь. Они не могут её высказать, не могут понять, что с ними происходит. Это усиливает чувство пустоты, одиночества. Мы стараемся вовлечь таких детей в какую-нибудь общественную деятельность. Например, вводим их в дискуссионную группу, которую ведет психотерапевт. Здесь юноша или девушка могут пообщаться со своими ровесниками, получить некоторую поддержку окружающих. Одновременно я связываюсь со школой, где есть свой сошиал воркер, мы консультируемся. Несколько раз я переводила таких детей в другие школы. Это тоже помогало им выйти из тяжёлого душевного состояния. Меня, однако, пугает тот факт, что попыток к самоубийству становится всё больше и больше. Я беседую с родителями, но вижу, что далеко не все из них понимают корни этих трагедий. Гонка за американским успехом часто заслоняет папам и мамам серьёзность той беды, которая свершается в их доме.
— В каких ещё ситуациях, по вашему мнению, эмиграция проявляет свои негативные стороны?
— Эмиграция сотрясает наши семьи по самым различным поводам. Бедой номер один я бы назвала разводы. Причин для развала семьи множество, но главная видится мне в том, что женщины наши в эмиграции врастают в американскую жизнь быстрее мужчин, получают профессию и скорее начинают зарабатывать. Неактивность мужа в этих случаях вызывает раздражение жены, недовольство, развод.
— Но ведь это та сфера, в которой вы для успокоения раздражённых супругов уже ничего сделать не можете? Не так ли?
— Да, разбитый сосуд склеить трудно. Разумеется, пытаюсь говорить с обеими сторонами по отдельности и вместе. Пытаюсь смирить накал негативных страстей. Но тут ни мои профессиональные навыки, ни опыт психотерапевта, чаще всего успеха не имеют.
Другой узел, который развязывать также бывает нелегко, это проблемы, связанные с домом для престарелых. Время от времени ко мне приходят люди и говорят, что вынуждены отдать отца или мать в старческий дом.'Просят помочь им. Я знаю: для пожилых людей из России такое переселение видится бедствием. Иногда за просьбами младших я угадываю откровенное желание эгоистов избавить себя от лишних забот. В таких случаях приходится умерять пыл этих жестоких холодных людей. Я напоминаю им о их долге по отношению к родителям.
В некоторых ситуациях я вынуждена обращаться в американскую организацию, занимающуюся защитой прав стариков.
— Насколько я понимаю, служба сошиал воркера требует немало эмоциональных усилий.
— Это верно. Но главная трудность — сохранять при всем том полное внешнее спокойствие. Мое лицо не должно отражать никаких внутренних душевных неурядиц. Надо быть открытым, готовым к улыбке, руки должны быть свободными и обращенными к пациенту. Это целая школа, назначение которой побудить собеседника к доверию и спокойствию.
— Вы расходуете на каждого пациента немало сил. Понимают ли они это? Склонны ли соотечественники к благодарности?
— Как кто. Некоторые в знак признательности приносят мне деньги. Как они их приносят, так и уносят. Я денежных даров ни от кого никогда не принимаю. Те, кто поделикатнее приносят конфеты. Я не отказываюсь и угощаю своих коллег. Но дороже всего для меня, когда я слышу от человека прочувствованное "Спасибо!" После такого "спасибо" хочется работать еще лучше….
— Спасибо вам, Ольга Борисовна, и от меня и от наших читателей. Но, простите, мне показалось что вы как-то уклонялись от разговора о конкретных личностях. Я не услышал от вас ни одного имени. Это случайность?
— Нет, закономерность. Моя профессия, кроме прочего, обязывает меня сохранять в тайне от посторонних все то, что я слышу от моих пациентов и их близких. Когда я разговариваю с семьей, дверь в моем кабинете закрыта. Я предупреждаю своих собеседников: наш разговор строго конфиденциален. Если во время беседы я что-то записываю, то обязана сообщить собеседнику, что именно я пишу. Профессия сошиал воркера обязывает нас уважать права и интересы доверившейся нам личности.
— А свою личную жизнь вы скрываете от посторонних столь же строго?
— Отнюдь нет. Спрашивайте — отвечаем.
— Вы начали с признания, что остаетесь пока незамужней. И как будто даже гордитесь той оценкой, которую слышали о себе в юности: "Комиссар в юбке". Значит ли это, что семья и всё с ней связанное не представляет для вас никакой ценности?
— О, семья — это прекрасно! Скажу откровенно, я подчас устаю быть сильной. Этого требует от меня моя профессия, но иногда хочется опереться на чьё-то более сильное плечо. Увы, я не встретила пока мужчину, который бы духовно и душевно оказался сильнее меня. Не случалось встречать и мужчин, так сказать, на равных. Ну что ж, если семья не предвидится, пусть всё идёт так, как шло до сих пор. Мои пациенты и впредь будут находить опору в моём характере, в моей верности их проблемам.
— Благодарю вас за беседу. Позвольте, тем не менее, пожелать вам обрести и семейное счастье.
2. Быть человеком
Одно из печальных следствий моей профессии состоит в том, что где бы я ни жил, дом наш всегда переполнен огромным количеством исписанной бумаги. Копятся письма читателей, копии уже опубликованных очерков и книг, тексты взятых интервью и множество другого бумажного мусора. Жена, разумеется, ворчит. Я с ней соглашаюсь, обещаю расчистить полки в своём кабинете. Но дел много и без того, так что расчистка откладывается, а бумаг становится всё больше и больше… Но есть в этой ситуации и положительная сторона. Время от времени, копаясь в бесчисленных папках и пакетах, я обнаруживаю кое-что давно забытое, но не потерявшее ценности. Так, недавно обнаружил я целую пачку фотографий героя одной из моих книг. Случилось это как раз в тот момент, когда готовилось второе издание этой книги. Удалось таким образом иллюстрировать её интересными снимками. Случалось сыскать в бумажных завалах рукописи и письма дорогих людей, подчас уже покойных или оставшихся по другую сторону океана. А на днях обнаружил я у себя газетные вырезки многолетней давности. Оказывается, году примерно в 1989-90 собирался я провести анализ брачных объявлений наших эмигрантов и собрал для этой работы две сотни такого рода призывов о любви и браке. Очерк почему-то написан не был, и теперь я с лёгким сердцем собирался выбросить всю эту пожелтевшую газетную бумагу в мусорную корзину. И вдруг мелькнула занятная идея. А что, если сравнить старые объявления с теми, что публикуются в русских газетах сегодня? Идея вроде бы с первого взгляда странная. Любовь, браки, поиски близкого человека — явления вечные и однозначные, что может измениться за считанные годы в этой игре Его с Ней и Её с Ним? Тем не менее я перелистал несколько свежих газет, выстриг из них опять-таки двести объявлений и принялся сравнивать их с тем, что публиковалось в начале 90-х. Даже при первом взгляде удалось заметить: характер брачных объявлений изменился. В этих интимных призывах явно отразились перемены наших вкусов и нравов, вызванных приездом в Америку.
Вооружившись микрокомпьютером, я принялся выявлять ту информацию, которой наполнены крохотные вроде бы призывы наших мужчин и женщин. Информации оказалось даже больше, чем я полагал. Итак, что же пишут о себе люди, жаждущие найти подходящую пару, и как описывают они свою желанную (своего желанного)?
В брачных объявлениях и та и другая сторона, как правило, не скупится на восторженные эпитеты. "Ищу симпатичную, внимательную, скромную, порядочную, добрую,” — пишет он. Она взывает столь же ласково и нежно: хотела бы встретить "серьёзного, доброго, заботливого человека, мужчину с глубокими чувствами, человека, способного понимать чужую душу". В этом потоке славословия себе и ей довольно часто мелькает эпитет
интересный, интересная. "Ищу интересную, да и сам я интересный." Выражение это кажется мне, честно говоря, вульгарным и свидетельствует скорее всего о провинциальном, южноукраинском происхождении подателя объявления. Помните? "В ответ, открыв "Казбека” пачку, ответил Костя с холодком: вы интересная чудачка, но дело, видите, не в том.” Нетрудно заметить, что сегодня "сладких" эпитетов типа "интересный", "симпатичный" в объявлениях стало значительно меньше. Ощущается даже некоторая суховатость в оценке той (того), кого надеется встретить податель объявления. Сегодня появился тип мужчины, желающий получить даму "без иллюзий", а женщины акцентируют своё внимание на "надёжных" и "ответственных". Похоже, что романтизм прошлого постепенно покидает тех, кто добрался и обжился на американских берегах. "Красивая", конечно же, необходима, желательна также "худощавая", "стройная", "некурящая", "склонная к хозяйствованию". Но это уже разговор по делу, отбор реальных качеств.
Почему процент эмоциональных призывов упал и заменился вполне конкретными требованиями? Мне кажется, что эта закономерность отражает перемены в нынешнем составе российской эмиграции. Общество наше пополнилось за последнее время людьми более приземлёнными, теми, кто в прошлом не спешил за океан, годами приглядываясь и присматриваясь к "про" и "контро” американской жизни. Не исключаю и другое: освоив английский язык, часть наших соотечественников принялась в своих брачных объявлениях копировать американский стиль, чёткий, суховатый и до предела материализованный.
В объявлениях прошлых лет моё внимание среди прочего привлекли слова "интеллигент", "интеллигентный". Поразило, что 38,5 процента мужчин и женщин называли себя интеллигентами и жаждали найти опять-таки интеллигентного партнёра. В сегодняшних объявлениях слово это употребляется в два с половиной раза реже (15 процентов). Такой резкий перепад кажется мне также не случайным. Напомню: в семидесятых — начале восьмидесятых годов евреи Прибалтики, а также из российской, украинской и белорусской глубинки предпочитали эмигрировать в Израиль. В Соединённые Штаты в те годы старались попасть представители политической оппозиции, диссиденты из Москвы и Ленинграда. Какое-то время именно этот тип российского интеллигента был подателем брачных объявлений в Америке. Постепенно, однако, интеллигентов, людей творческих профессий в общей массе нашей эмиграции становилось всё меньше. Соответственно менялись и идеалы. Понятия: "интеллигентная", "духовно богатая", "желательно уроженка Москвы" отступали перед спросом на "интересных" и "симпатичных”. Это не значит, что сегодня наших женщин не интересуют мужчины высокой духовности, а мужчинам не нужны больше подруги образованные, читающие и склонные к интеллектуальному общению. В нынешних объявлениях мы по-прежнему обнаруживаем спрос не только на телесный, но и на духовный "товар". Пропорции, однако, заметно сместились. Боюсь, что женщине-профессору, чей призыв я обнаружил несколько дней назад в одной из газет, будет труднее сыскать себе друга жизни, нежели той, которая, говоря о себе в объявлении, всячески подчёркивает признаки соблазнительной самки ("Я дважды женщина, женственная женщина").
Довольно явственны и другие перемены, произошедшие за последние годы в наших "сексуальных" вкусах. Мужчины всё чаще подчёркивают в брачных объявлениях свою материальную обеспеченность. Сообщение об этом повторяется так часто, что оно начинает выглядеть, как некий крючок с особо вкусной наживкой. Появилась даже такая слабо прикрытая формулировка: если ты мне отдашься, то я, может быть, даже поправлю твои финансовые дела. Речь идёт не о браке, а о своеобразном мужском благодеянии, выплате за постельные радости. Дескать, покупаю и плачу наличными… Но одновременно, в недавнем номере газеты, я обнаружил и откровенный пример мужской проституции. Как иначе назвать такое вот предложение: "Молодой человек… познакомится с состоятельной дамой." Подобных предложений в сегодняшних газетах не слишком много, но несколько лет назад они и вовсе бы показались русскому читателю дикостью. Не знаю, как для кого, а в моём понимании женщина, ищущая мужа "живущего в собственном доме”, выглядит всё-таки более прилично, нежели откровенное предложение молодого человека, готового продать себя "состоятельной даме”.
Вмешательство материального момента в брачные дела, разумеется, не новость. Оно присутствовало всегда, и в том числе в пору нашей "советской" жизни. Но, судя по полученным мною цифрам, денежки сегодня играют при избрании спутника жизни всё большую роль. Обеспеченных мужчин и женщин в нашем эмигрантском обществе за последние годы становится всё больше. Среди тех, кто давал брачное объявление в 1990 году, обеспеченными и материально устроенными заявляли себя 31,5 процента. Сейчас о своём материальном благополучии пишут уже 39,5 процента мужчин. Но и женщин, надеющихся сыскать для себя "богатенького", становится всё больше. Их число за десятилетие возросло с 13 до 18 процентов. Цифры такого рода явственно свидетельствуют о том, что при всей привлекательности счастливого брака или сладкого секса в эмигрантской среде нарастает расчётливость и потребительство. И это несмотря на то, что работающих женщин, судя по тем же брачным объявлениям, стало больше. Обобщение, конечно, дело рискованное, но чем дальше шли мои подсчёты, тем убедительнее выступала печальная закономерность: дамы наши, особенно молодые, давая объявление о браке, жаждут не только семейного тепла и не столько стремятся избавиться от одиночества, сколько ищут мужика с кошельком. Формула "ищу обеспеченного" становится всё более главенствующей.
Но оставим низменные материальные помыслы некоторых наших соотечественников и обратимся к тому главному, из-за чего люди вообще дают брачные объявления. Будучи человеком семейным, отметившим тридцать три года благополучного супружества, я с пониманием и симпатией отношусь к тем землякам, которые мечтают обрести в этом мире домашний уют. С таким настроением принялся я разделять лежащие на столе объявления на те, где Он (Она) четко говорят о семье и браке, и на те, где явственно виден поиск партнёра (партнёрши) для секса. В 1990 году подавляющее большинство мужчин и женщин писало о том, что мечтают о создании семьи. Таких было 64 процента, то есть почти две трети. Сегодня такие намерения привлекают лишь 52 процента. Для 48 процентов мужчин и женщин, письменно взывающих о любви, речь идёт лишь о любви сугубо постельной. Правда, некоторые объявления завершаются неопределённым замечанием: "возможен брак". Но первый этап знакомства представляется этим людям вполне откровенно в виде испытания друг друга так сказать в натуральном виде.
Нынешнее племя "одиноких" в отличие от прошлых лет при разъяснении своих сексуальных стремлений абсолютно не стесняется. В 1999 году уже нисколько не стыдно сообщить, что ты женат, но хотел бы вместе с тем заиметь для развлечения "замужнюю женщину, миниатюрную и игривую". Двое парней, опять же ничуть не смущаясь, пишут, что им необходимы две столь же бойкие девушки, якобы "для создания семьи". Какой семьи? Из четырёх человек? А один молодой человек совершенно спокойно заявляет, что хочет познакомиться с "двумя смазливыми девушками". С двумя сразу?
Говорить о нравственном лице всех подобных субъектов нет смысла. С ними всё ясно. Могу лишь отметить, что ничего подобного 8-10 лет назад в русской эмигрантской прессе не появлялось. За всеми этими "раскованными” заявлениями видится новый тип эмигранта, привезшего свою вседозволенность из постгорбачевской России.
Извечная российская привычка жульничать, дабы любыми средствами вырвать у государства свой кусок, не покинула нас и в Америке. Один из таких Примеров — "деловой брак". Беру в руки свежий номер русской ньюйоркской газеты, читаю: "Молодой
порядочный мужчина ищет гражданку США для делового брака." Суть предложения дошла до меня не сразу. Между тем всё очень просто. Такие вот "порядочные” мужчины из числа незаконно въехавших в страну предлагают женщинам-эмигранткам, уже получившим американское гражданство, расписаться и тем самым дать своему псевдомужу право якобы законного проживания в Соединенных Штатах. Объявлений, призывающих к заключению "деловых браков", опубликовано в нашем городе за минувшую неделю не менее десятка. Среди двухсот брачных объявлений 1990 года я ни одного "делового" не обнаружил. Похоже, что за последовавшее десятилетие представление нашей публики о порядочности сильно изменилось.
А вот ещё одна "новинка", опять-таки возникшая в последнее время. "Очень привлекательная, тридцатипятилетняя украинка из Полтавы" хочет познакомиться в Америке с мужчиной возрастом постарше. Такие же очаровательные (примерно в том же возрасте) женщины просят нашего брата-эмигранта вытащить их из Ижевска, Пятигорска, Калининграда и других провинциальных городов России. Подобных призывов в 1990 году я не обнаружил, сегодня же они раздаются всё чаще и чаще. На двести объявлений я обнаружил таких почти два десятка. Похоже, что тридцатипятилетним женщинам из российско-украинской глубинки уже ничего не светит. Остаётся одно: искать мужчину на другой стороне планеты.
Национальные чувства, сотрясающие территорию бывшего Советского союза, находят своё отражение и в сегодняшних брачных объявлениях. В каждом десятом теперь упоминается национальность желанного друга или подруги. Есть спрос и на украинцев и на русских. Но чаще всего в эмигрантских газетах 1999 года упоминается еврей и еврейка. Мне видится в этом возросшая раскованность бывших советских граждан. Нам уже нет нужды скрывать, какой именно национальный характер мы хотели бы видеть в лице своего мужа или жены.
Из брачных объявлений последнего времени явственно вылезают также признаки нашей постепенной американизации. Мужчины теперь всё чаще ищут девушку, родившуюся под тем или иным знаком Зодиака. Кому-то мила Дева, кому-то требуется Рак или Телец. Ни о чём таком мы в прошлой нашей жизни не слыхивали. А вот ещё один "дар" Америки. Сколько я себя помню, российская (как интеллигентная, так и простая) публика считала гомосексуализм чем-то чуждым и отталкивающим. Сегодня восемнадцатилетний юнец, сын или внук семьи "беженцев", открыто объявляет, что он "в силу своей неординарной сексуальной ориентации нуждается в друге". Среди подателей брачных объявлений таких геев (так, нисколько не смущаясь, они называют себя сами) уже немало. Догнали-таки Америку.
Попробуем подвести итоги. Как и все эмигранты, оставившие позади один мир нравов и представлений и осваивающие другой, мы, разумеется, пребываем на распутье. Культурная мешанина захватывает все сферы эмигрантской жизни, и в том числе область отношений семейных, сексуальных. Советский режим до конца 70-х годов относил брачные объявления к буржуазным мерзостям, аморальным по самой своей сути. Нам твердили, что безнравственность таится за каждой строкой такого объявления. Некоторые мои знакомые и до сих пор не могут освободиться от этой вздорной идеи. А между тем, в десятках прочитанных мною объявлений я уловил искреннюю тоску по близкому человеку, надежду на семейное тепло, уют. Сочувствие вызывают старики, обращающиеся к соотечественникам с просьбой как-то скрасить им оставшиеся годы жизни. Такую же симпатию я ощущаю, когда держу в руках объявление мечтающей о семье молодой изуродованной горбом женщины. Она мечтает о семье. Шансы её на успех невелики. Но не будь в наших газетах колонки брачных объявлений, шанс этот и вовсе упал бы до нуля. Хотелось бы верить, что дождется своего счастья и другая женщина, та, что объявила: "Мне только пятьдесят". Эта пятидесятилетняя "невеста” ждет телефонного звонка от "устроенного рыцаря еврейской национальности". Ну, что ж, среди нашей почти миллионной еврейской эмигрантской колонии, возможно, есть и рыцари. Кого только среди нас нет!
Поселившись в чужой стране, мы оказались рассеянными по огромной территории, разделёнными так, что найти друг друга, как это было в России, попросту невозможно. На помощь приходят брачные объявления. Нет, я решительно не против такой формы знакомств, хотя и подозреваю, что удача приходит к подателям всех этих призывов не так-то часто. Хотелось бы только, чтобы, призывая будущую подругу, молодой и не слишком молодой человек яснее видел свой собственный портрет и заодно и лицо той, которую он ожидает. Хотелось бы также, чтобы материальные расчёты не заслоняли бы людям радость счастливой встречи, а жажда интимной близости не превращалась в поиск какой угодно самки или любого физиологически функционирующего самца.
Знаю, знаю, найдётся немало читателей, которые осмеют мой романтизм. Но хочется верить, что эмиграция не всех нас лишила традиционного российского романтизма, того, что многократно воспет от Пушкина и Лермонтова до недавно ушедших в мир иной Давида Самойлова и Юрия Левитанского. Разумеется, кому-то по душе "интересная чудачка", а кому-то — "Прекрасная Дама". Это дело личного вкуса. Но есть в процессе поисков сердечного друга и нечто единое. Каждому жаждущему радостной встречи мужчине, мечтающей о любви женщине всего важнее в эту пору оставаться просто Человеком.
3. "Когда я стану американским генералом…
Слова эти произнёс молодой человек, лишь несколько дней назад отметивший своё шестнадцатилетие. Нет, он не шутил. Более того, юноша, сын российских эмигрантов, имел ввиду генеральство именно в американской армии. Среди наших соотечественников, поселившихся в последние годы в Соединённых Штатах, мне не раз приходилось встречать всякого рода карьеристов, от писателей, безумно влюблённых в своё творчество, до политиков, уверенных в том, что их ждет впереди кресло конгрессмена, представителя русской общины. Но в высказываниях спокойного и вполне разумного Митчела Черняховского никакой самовлюблённости я не заметил. Просто год назад, избрав профессию военного лётчика, этот школьник сдал экзамены в Военную Академию. Он уже получил первое воинское звание — старший сержант. После двух часов беседы с Митчелом и его родителями я убедился: фраза о генеральстве членами этой семьи воспринимается как нечто вполне реальное.
Но сначала несколько слов об Академии, где учится Митчел. Это учебное заведение, расположенное неподалёку от города Филадельфия (штат Пенсильвания), отметило недавно свои 70 лет. Но прославились эти места ещё раньше. Две сотни лет назад будущий первый Президент Соединённых Штатов Вашингтон готовил в окрестных лесах американские боевые отряды, которым предстояло сражаться с англичанами. Лес тот, ныне превращенный в пригородный парк, именуется Valley Forge. Тут и раскинула свои корпуса Valley Forge Military Academy. По сути учебное заведение это в полном смысле слова Академией не является. В парке расположилась частная школа, где на руководящих постах пребывают отставные генералы и адмиралы. В качестве учителей сюда берут лишь специалистов высшего класса. Высокий уровень знаний, который получают здешние ученики, прославил Академию на весь мир. Среди её выпускников немало людей, сделавших блестящую карьеру. В частности, Академию окончили в своё время генерал Норман Шварцкопф, сенатор Варен Рудман, писатель Дж. Селлинджер. Сегодня сюда прислали своих сыновей Президент Республики Никарагуа и посол Саудовской Аравии в США. Кстати, учиться в Академии совсем не дёшево: годовая стоимость обучения переваливает за двадцать тысяч долларов.
О существовании "военной школы" Митчел услыхал, ещё будучи школьником второго-третьего класса. "Я был лентяем, — признаётся он, — учился неплохо, но не выполнял домашних заданий, за это получал в классе двойки. Родители пугали меня: будешь бездельничать — пошлем тебя в военную школу, там лентяев наказывают очень строго." В двенадцать лет Митчел заявил маме, что хочет. Наконец, посмотреть, что это за место, которым его постоянно пугают. Родители повезли сына в Академию. Ничего страшного для себя мальчик там не обнаружил. Наоборот, парк с красивыми зданиями среди зелени понравился, а ещё больше расположили к себе дружелюбные, корректные мальчики-кадеты, с которыми довелось познакомиться. Возникла мысль
перейти из обычной городской школы в Академию. Прошло ещё три года, и пятнадцатилетний Митчел в этом своём решении дозрел окончательно. Сказал родителям, что хочет получить действительно хорошее образование, да к тому же и стать военным лётчиком. Родители не возражали, хотя мысль о сыне-военном лётчике маму, конечно, обеспокоила. Зато приятели отнеслись к решению Митчела резко отрицательно. У них были свои аргументы: во-первых, в Академии нет девочек, да и товарищеские связи прервутся, ведь девять месяцев в году "академик" будет жить в казармах. Митчел, однако, от решения своего не отказался.
Возможно, я выскажу несколько странную мысль, но мне кажется, что на нашем характере сказывается среди прочего место рождения. Очень явственно это заметно на моих друзьях-одесситах. Знакомые москвичи по душевному складу опять-таки не похожи на ленинградцев. И так далее. Родители Митчела — россияне — произвели его на свет в Америке, и американизм явственно проступает в характере мальчика. Он страстный спортсмен, обожает футбол и каратэ. Но для него это не просто развлечение, а область, в которой он постоянно добивается побед. Так, на всеамериканских соревнованиях по каратэ двенадцатилетний в ту пору Митчел занял третье место и сегодня у него "чёрный пояс". Таково же его отношение к музыке. На рояле и кларнете он играет с четырёх лет, и это опять-таки не область личного развлечения. Едва поступив в Академию, он начал пробиваться в оркестранты всемирно знаменитого тамошнего оркестра. И пробился. Уже побывал вместе с оркестром в нескольких странах Европы. Обучение в Академии мой собеседник опять-таки рассматривает, как рывок к своей будущей нерядовой карьере. Чем не американский характер?
"Путь наверх" даётся, однако, нелегко. Особенно тяжкими были первые шесть недель в Академии. Этот американский "курс молодого бойца” значительно более жёсток, чем тот, что я испытал в советской армии. От подъёма в 5:45 до отбоя в 10 вечера юный воин пребывает в постоянном напряжении. Строевая подготовка, уборка помещений, изучение Устава (на память!), занятия музыкой. Ни поесть толком, ни выспаться начинающему кадету в те дни не удавалось. Надо было привыкать к строгому режиму, умению работать вместе со всем подразделением. В те шесть недель начальство рассматривало новичков как плебеев, период этот так и назывался: "плиб-систем".
Митчел вспоминает. "Новички были разделены на группы по десять человек. Нам было объявлено: "Отныне забудьте слова "Я", "Мне", "Моё". Есть только "мы" и "наше". Вы — братья, каждый отвечает за всех и все за одного". Если сделаете что-либо запретное — наказание будет нести всё подразделение. Запретов же оказалось немало: нельзя выходить из помещения одному, только в сопровождении старшего; нельзя звонить домой и встречаться с родителями, нельзя курить, нельзя ни на минуту опаздывать, ни на шаг отставать от остальных. Надо научиться подчиняться старшим. Если тебе 14 лет, а ты встретил шестнадцатилетнего, знай, он имеет право командовать тобой…" Отец Митчела добавляет: "Переход от спокойной семейной жизни к жизни армейской — дело непростое. Некоторые мальчики пытались сопротивляться и тем весьма усложнили себе шестинедельный период. А Митчел быстро уразумел смысл и суть "плебейской системы” и перенёс испытание очень спокойно. Идёшь в генералы — не спотыкайся…”.
"За этот год Митчел сильно изменился, — добавляет мать. — Он уже не мальчик, а юноша, взрослый человек." У родителей есть достаточно оснований радоваться за сына. Недавно Лариса Черняховская получила письмо-поздравление от одного из руководителей Академии. Бригадный генерал в отставке Джо Фразар сообщил, что по своим отметкам и поведению Митчел признан лучшим кадетом Академии. "У вас есть все основания гордиться той степенью активности и трудолюбия, которые ежедневно проявляет ваш сын," — писал генерал. Мать со счастливой улыбкой показывает мне недавнюю фотографию Митчела: он в мундире, с левого плеча свисает золотая лента — знак избранности. Из 850 учащихся Академии за год такой ленты удостаиваются только трое.
Довольны родители и условиями, в которых учится и живёт их сын. Учителя — великолепные. В классе всего лишь десять учеников. Спят кадеты в комнатах на двоих. У каждого свой шкаф, где развешаны
девять академических форм: школьная, спортивная, парадная, камуфляжная и т. д. Одежду свою мальчики сдают в рядом расположенную прачечную и чистку. Одежде в Академии вообще придаётся особое значение. Достаточно сказать, что здешний портной еженедельно подгоняет форму каждого юноши. В столовой кадеты не стесняются, в соответствии с аппетитом каждый берёт себе, сколько хочет и чего хочет. На территории Академии свой магазин, почта, спортивный зал, бассейн, участок для конного спорта. На это и время выделено: два часа ежедневно. В субботу и воскресенье родители имеют возможность провести время в обществе сына. И ещё одна деликатная деталь: все учителя живут на территории Академии. Так что, если вы чего-то не поняли на уроке или у вас не ладится домашнее задание, можете вечером отправиться за консультацией на квартиру учителя.
Как уже было говорено, все эти блага (и в том числе довольно дорогие учебники) стоят немалых денег. Отец со вздохом констатирует, что решив дать сыну образование высшего класса, они с женой вынуждены были не только отказаться от покупки дома, но даже от привычных развлечений, поездок на курорт, отпусков. Грустно, конечно, но менять своё решение супруги не намерены. Надеются, что их скромный семейный бизнес — табачный магазин — позволит им осуществить свою цель: прочно поставить парня на ноги. Митчел уважительно говорит о жертвах, на которые идут родители. На вопрос, как он в Академии справляется с ненавистной ему математикой, он по-военному четко рубит: "Зубрю! Другого выхода нет!"
А как складываются в Академии отношения между потомками богачей и всякого рода знаменитостей и детьми таких скромных семей, как Черняховские? "Мы все равны, — уверенно заявляет Митчел. — У нас одинаковая одежда, причёски, мы едим одну и ту же пищу. Никаких разговоров о папочкиных миллионах я никогда не слышал. Выделяться по происхождению не подобает. Строго-настрого запрещены также выпады национального характера. "Нам объяснили: тот, кто позволит себе антисемитские высказывания или недоброжелательство по адресу чернокожих, будет немедленно исключен и внесённые за него родителями деньги пропадут."
Всеобщее равенство подчёркивается в Академии также через церковь. Посещать церковную службу по воскресеньям обязаны все учащиеся, независимо от национальной принадлежности и веры. Еврей по крови и по вере, Митчел Черняховский не видит для себя ничего странного в том, чтобы в воскресенье провести полтора часа в обществе православных, мусульман, протестантов, индуистов, и выслушивая католическую службу. "Нам просто напоминают о Боге и о том, как надлежит себя вести в этом мире”, — комментирует Митчел. После службы в церкви, как правило, выступают знаменитые американцы, толкующие с молодёжью о моральных проблемах: как укрепить свою волю, отказаться, от алкоголя, научиться уважать ближнего. "Мне-особенно понравилась речь еврея-генерала, — вспоминает Митчел. — Этот рабай командовал всеми религиозными службами в американской армии. Более всего он призывал нас к терпимости…".
Должен признаться: брать интервью у молодого человека мне было непросто. Он хорошо понимал мои вопросы, но для ответа ему явно не хватало слов. Приходилось переходить на английский. Митчел родился в Америке и, как это частенько случается с нашей публикой, родители не сумели сохранить у мальчика язык оставленной родины. И тем не менее он и сегодня неплохо говорит, читает и даже пишет по-русски. "Виновата" опять Академия. Среди других предметов юноша получил курс русского языка. Его учителем оказался полковник Миллер, в прошлом советник Президента Картера по российским делам. Американец Миллер влюблён в русскую классическую литературу и историю. Теперь, когда его студенты овладели основами языка, он намерен прочитать им курс истории и познакомить с российской классикой. Митчел уже начал читать "Войну и мир" и другие книги о периоде Наполеоновских войн.
В характере этого парня меня особенно привлекает чёткость его планов. Он планирует свою жизнь на недели, месяцы и даже на годы вперёд. Ближайшие два года уйдут на окончание школы (хай скул). В 18 лет он предпримет попытку перейти из этой Академии в Академию военно-воздушную. Оттуда он выйдет уже лётчиком-офицером. Да, он знает, что в Военно-воздушную попасть нелегко. Туда ежегодно подают заявления 20 тысяч желающих, а принимают туда всего лишь полторы тысячи. Но Митчел уже сейчас предпринял шаги, которые повысят его шансы стать лётчиком: он сдал первый экзамен и провёл неделю в летнем лагере
той Академии, чтобы присмотреться к ней, да и к нему чтобы пригляделись. Ведь всего через 18 месяцев предстоит подавать бумаги
туда. Хотя до завершения Военно-воздушной академии ещё далеко, Митчел уже сегодня рассчитывает своё будущее. Став лётчиком, он посвятит военной службе десять лет. Дальнейшая его судьба будет зависеть от того, в каком чине он окажется после первого десятилетия. Если достигнет высокого ранга (в этом месте нашей беседы снова прозвучало слово "генерал"), то останется служить в армии до конца своих дней. А коли мечта не сбудется, ну что ж, пойдёт в какой-нибудь бизнес.
Может показаться, что за всеми этими расчётами молодого человека кроется лишь жажда быстрой и успешной карьеры. Но Митчел видит в своей будущей службе нечто более значительное. "Быть в армии офицером высокого звания — значит не просто служить, ожидая очередной звёздочки на погонах, — говорит он. — Для меня это служба стране, моей стране. Я тут родился, это моя родина." Отец и мать вспоминают: подобные высказывания они услышали впервые, когда сыну было всего лишь 8–9 лет. В доме тогда ещё новоприезжих Черняховских время от времени собирались гости-россияне. За столом недавние эмигранты обсуждали и осуждали страну, в которой предстояло начинать жизнь сначала. Преуспевшим страна нравилась, неудачники её поносили. Последних было, как правило, больше. Звучали фразы о "тупых американцах", о "бездуховности и сребролюбии здешнего общества". Мальчик слушал всё это и однажды, после ухода гостей, решительно заявил: "Америка — самая лучшая из всех стран мира." В устах ученика третьего класса такой "приговор" звучал несколько наивно, но Митчел и позже никогда не менял своего отношения к стране, где ему довелось родиться….
Сейчас Митчел дома, на летних каникулах. Вроде бы можно расслабиться. Но принятый им темп не меняется. Летом предстоит вернуться в академию раньше других. Ему будут вручать воинское звание, что-то вроде старшего сержанта. Звание предполагает, что отныне он будет кем-то командовать. А коли так, то надо будет ещё более урезать летний отдых и пройти курсы командиров. На тот случай, если не удастся попасть в Военно-воздушную Академию, предстоит идти учиться в колледж. А это тоже требует семинедельной подготовки. Нет, каникулы отнюдь не время безделья. Скучать не приходится. Ведь ко всему прочему он ещё и оркестрант Академического оркестра. Оркестр — гордость Академии, его выступления ждут по всему свету. Королева Британии пригласила оркестр приехать в Англию, чтобы открыть Новогодние торжества. Есть приглашения и от правительств других стран. Так что оркестрантам приходится репетировать и репетировать….
Знакомые и приятели жалуются: "Мы тебя месяцами не видим. Что ты носишься как угорелый? Обижена и подружка Митчела, его ровесница, как и он, родившаяся в Америке. Девушке явно не хватает внимания своего друга. Но похоже, что и приятели, и подруга — сегодня уже не главные лица его жизни. Обязательств выше головы. На днях Митчел сдал шофёрский экзамен. Хочется посидеть за рулём подаренной родителями машины, но и на это занятие времени не хватает…
… Я не знаю, до каких именно чинов дослужится мой юный собеседник. Не берусь гадать, грозят ли ему в конце концов генеральские эполеты. Кстати, таких российских мальчишек, как он, в Академии немало. О чём они мечтают там, догадаться не трудно. Но в судьбе Митчела Черняховского меня занимает другое. Есть такое понятие: "НАЙТИ СЕБЯ". Найти смысл и назначение своей жизни удаётся не каждому, даже очень богатому и знаменитому. Старший сержант военной Академии Митчел Черняховский может гордиться: он себя нашёл. И в этом его главное достижение.
18 июля 1998, Нью-Йорк
4. Любовь
Тот незначительный эпизод из московской жизни всплыл в моей памяти по аналогии с тем, с чем я столкнулся в Нью-Йорке.
Событие вроде бы банальное: Он нашёл Её, они понравились друг другу, сошлись, зафиксировали рождение новой семьи. Такое происходит в мире каждый час, каждую минуту. Но в московском и нью-йоркском случаях внимание окружающих привлек необычный возраст жениха и невесты. Ему исполнилось 86, её возраст приближался к восьмидесяти.
Пожилые москвичи эти много лет жили в нашем доме. Люди тихие, спокойные. У него недавно умерла жена. Она жила одиноко многие годы — муж погиб на войне. После регистрации брака соседи стали всё чаще видеть их гуляющими по улице и разговаривающими о своих делах. Казалось бы, что тут вспоминать, но за двадцать с лишним лет жизни в иммиграции я не забыл печальную сторону этого эпизода.
Как только в доме услыхали о "свадьбе" (в действительности никакой свадьбы не было), так при встречах начинали осмеивать и даже издеваться над старичками. Запомнились ядовитые замечания пожилого инженера с третьего этажа и его ровесницы, работавшей в сберкассе. "Тоже мне жених и невеста, — громко ворчал инженер. — Что, им больше заняться было нечем? Телевизор у него что ли сломался? Я бы рекомендовал провести общественный суд над этими "молодожёнами”. Чтоб не позорили институт брака." Кассирша из сберкассы на общественном суде не настаивала, но в разговоре едко замечала: "Старые — они и есть старые. В консультациях венеролога и гинеколога, скорее всего, не нуждаются, но к психиатру я бы их сводила…".
Повторяю, я вспомнил ту давнюю историю в связи с тем, что в Нью-Йорке состоялась свадьба (настоящая свадьба) пары столь же почтенного возраста. Иммигранты из России, Яков и Наталья, нашли друг друга в "нёрсингхоуме", или в переводе на русский, в доме для престарелых. Двадцать пятого октября минувшего года в просторном зале этого дома, при большом стечении публики состоялся обряд венчания.
Дочь Якова закрепила события того исторического дня в любительском фильме. Я с интересом дважды посмотрел этот фильм и обнаружил немало трогательных деталей. Было заметно, что бесконечно длинная процедура венчания изрядно утомила немолодых новобрачных. Жених свою роль выдержал, а Наталья, простояв под хупой, в какой-то момент выдохлась и попросила дать ей стул. Забавно выглядела и сцена, когда одесситу Якову предложили на иврите повторять за раббаем слова молитвы. Язык предков оказался для него чуждым и непроизносимым. Яков не выговорил правильно ни одного слова.
Но свадебное торжество определили не эти мелочи. Более всего порадовала меня дружеская атмосфера, царившая на бракосочетании и свадебном ужине. Фильм зафиксировал десятки лиц, но ни в одном из них ни на миг не мелькнула гримаса скепсиса или насмешка. Родные, сотрудники "нёрсингхоума", россияне из соседнего дома — все тепло приветствовали Наталью и Якова. Звучали дружелюбные шуточки, кто-то за ужином, обращаясь к Наталье, назвал её невестой. Она, хитро подмигнув, пояснила, что отныне она уже не невеста, а молодая жена. Яков в ответ на многочисленные добрые пожелания несколько растерянно признался: "Это всё-таки необычная ситуация для меня." Окружающие кинулись убеждать его, что ситуация, хотя и необычна, но чрезвычайно мила. "Я счастлива, что папа нашёл себе такую замечательную женщину", — подняв бокал, сказала дочь Якова. Наташа отпарировала: "Мы оба нашли друг друга!" Выступили сыновья, дочери, внуки. Мальчик на вопрос, радуется ли он за своего деда, закричал: "Да, дедушка, я конечно рад за тебя!"
Короче, как зритель фильма, я убедился: собравшиеся отнеслись к соединению немолодой пары вполне положительно. Присутствовавшая на свадьбе знакомая рассказала мне несколько эпизодов, не нашедших отражения в киноленте. За несколько месяцев до свадьбы Наталья навестила свою мать в доме для престарелых, призналась ей в том, что собирается выйти замуж. Надо полагать, что она пошла на такое признание не без стеснения. Но мама, в свои без малого сто лет сохранившая ясную голову и память, ни на минуту не задумываясь, благословила дочь. "Нравитесь друг другу? Вот и прекрасно! Главное, брак спасёт тебя от одиночества…".
А фильм продолжался. Звучали тосты, поздравления. Кто-то предложил выпить за некоторые преимущества немолодого возраста. Почтенный возраст позволяет людям время от времени совершать нестандартные поступки. "Яков и Наташа! — прокричал автор тоста, — вы молодцы, вы смело, творчески подошли к делу!”
Я слушал речи друзей и родных новобрачных, глядел на горы букетов и с горечью вспоминал московский вариант такой же свадьбы. Что вызвало тогда недоброжелательство соседей, их ядовитые шуточки и злобные комментарии? Говорят, дело в советском воспитании. Но ведь большинство людей в окружении Якова и Наташи тоже оттуда. Очевидно, годы, проведённые в иммиграции, нас всё-таки кое-чему научили. Мы уже не рассматриваем чужую удачу, чужое счастье как своё бедствие…. Спасибо Америке и за это….
Одессит Яков Григорьевич Школьник и ленинградка Наталья Григорьевна Оксман приняли меня в своей комнате на пятом этаже "нёрсингхоума”. Тесноватую эту комнатку получили они ещё до своего бракосочетания. Сегодня вид жилища подчёркнуто семейный. Настенах множество фотографий: предки, дети, внуки. Фото перемежаются с тёплыми Натальиными акварелями. Есть телевизор, видеомагнитофон. В изголовье кровати хозяйки — книги, в основном классика. Читать сегодня ей приходится с увеличительным стеклом, но от этого любимого занятия Наташа пока отказываться не хочет. Яков предпочитает газеты.
Мы уселись, и пока супруги по моей просьбе вспоминали о российской жизни, я вглядывался в их лица, отмечая, как они смотрят друг на друга, как муж реагирует на высказывания жены, а та откликается на его замечания. Всё, что я увидел, подсказывало: эти двое сошлись не случайно. Петербургская художница со всё ещё привлекательной внешностью, очевидно, неплохо дополняет не слишком разговорчивого инженера-механика. Он же принадлежит к породе тех верных семейных мужиков, для которых, как говорится, "мой дом — моя крепость". "Когда я себя плохо чувствую, — говорит Наталья, — Яков ни на шаг не отходит от меня. Я ведь тяжело больна".
Рак у неё распознали не сразу. Американские врачи проглядели страшную болезнь дважды, а когда разобрались при третьем обследовании, то женщина-доктор по здешней традиции напрямик заявила пациентке: "Проживёте ещё месяца два. Так что не ходите к нам, не отвлекайте медиков попусту. Вы ведь уже немолоды, прожили изрядно…". Самоуверенная докторша, однако, ошиблась, после той беседы прошло более двух лет. Наталья верит: семейное благополучие продлевает её жизнь.
Яков о болезнях своих говорить не любит. В Америке ему прооперировали сердце. Что-то туда вставили. Жив пока. Хорошо, что не застрял в Советском Союзе, там бы его давно доконали.
Советское прошлое не оставило у супругов приятных воспоминаний. Наталье было десять лет, когда арестовали её отца-юриста. Правда, не расстреляли. Погиб он от голода в ленинградской блокаде. Мог бы выехать, но отказался, твердил: "Эвакуация — та же эмиграция." Эмиграцию советский юрист, в полном соответствии с тогдашними взглядами, считал политическим преступлением. Наталья вышла замуж в 19 лет, за полгода до начала войны. Блокаду она пережила, да и муж на войне не погиб, но семейная жизнь их после войны не заладилась. Муж-физик оставил жену-художницу с двумя маленькими детьми. Вырастить их одной было нелегко. Но она одолела и это. Иммигрировала в Америку несколько лет назад, когда ей было почти 75. Поехала следом за дочерью и сыном.
Супружеская жизнь Якова в России сложилась, напротив, очень удачно. Первый брак его продолжался 47 лет. Была в том браке деталь, многое объясняющая в характере Якова. Он провёл всю войну на фронтах, был тяжело ранен и до 32-х лет о создании семьи не помышлял. Уже после войны, заканчивая в Риге службу, познакомился молодой еврей-офицер с молодой полькой. Одинокая женщина с двумя малышами пребывала в растерянности: мужа её кагебешники расстреляли якобы за сотрудничество с немцами, а её с детьми, как жену "врага народа", должны были выслать в Сибирь. Жениться на такой политически неблагонадёжной советскому офицеру не рекомендовали, но Якова это не остановило. Он предложил польке руку и сердце, вырастил и дал образование четырём детям: двум своим и двум потомкам "врага народа". Потом дети отправились в Соединённые Штаты, и доброму папе не оставалось ничего другого, как последовать за ними. Любимой жены к этому времени в живых уже не было, она умерла незадолго до эмиграции.
Дом для престарелых вызывает у нас, россиян, реакцию, как правило, негативную. Но Наталья и Яков говорят о своём "нёрсингхоуме" с симпатией. Здесь они живут уже три года. Обслуживают пожилую публику, в основном, чернокожие девушки, но расовых проблем не возникает, девушки дружелюбны и заботливы. Здешние медики не болтают с больными о близкой смерти, а наоборот, всеми средствами пытаются продлить их жизнь. Более того, одна из сотрудниц, заметив, что русская женщина страдает от душевного уныния, познакомила Наталью с Яковом. А вскоре кто-то из администраторов позаботился, чтобы паре выделили отдельную комнату. Русскоязычных в доме очень мало, и тем не менее именно среди них возникли страсти, которые сотрудники успешно погасили. Одна прибывшая из России дама заприметила Якова и, пользуясь его мягкостью и уступчивостью, стала напористо добиваться взаимности. Когда же на горизонте появилась Наталья, дама стала атаковать своего приятеля ещё более агрессивно. Досталось от неё и "конкурентке".
И тут одна сотрудница "нёрсингхоума" предприняла разумную акцию. Она собрала заинтересованных лиц: двух "русских” дам и "русского" джентльмена и с помощью переводчика попросила Якова напрямик ответить, какая из двух ему милее, с кем он собирается и впредь оставаться близким другом. Яков назвал Наташу. Конфликт был исчерпан, и мечты о браке обрели для ленинградки и одессита реальность. Разговор о том "треугольнике" был единственным моментом, когда Яков выразил несогласие с женой: "Ну зачем говорить об этом?" — уныло спросил он.
Сегодня жизнь уже обрела спокойный семейный ритм. Время от времени их навещают его и её дети: привозят кассеты с кинофильмами, угощения. И это приятно. Супруги любят гулять в садике возле дома. Разговорчивая Наташа охотно вспоминает свою прошлую, довольно пёструю, как она сама её определяет, жизнь. Яков слушает эти истории с неизменным интересом. Рисовать профессиональной художнице уже не удаётся, немеют пальцы, да и со зрением не всё в порядке. Но, собираясь в парикмахерскую, она всё-таки берёт в руки карандаш, чтобы набросать, как должна выглядеть её причёска. Яков почтительно разглядывает эти наброски. В талантах и художественном вкусе жены он не сомневается. Но особенно радует его, когда супруга проявляет интерес к нему лично, берёт, например, нитку с иголкой и зашивает на одежде прорехи.
Всё это прекрасно. Хотя как мужчина с полувековым семейным опытом, я не забываю о том, что в любом супружестве, удачном и неудачном, всегда присутствуют элементы тайной и явной войны. "Сражение" идёт между различным жизненным опытом мужа и жены, воспитанием и культурой. Тут нет ни правых, ни виноватых. Кроме всего прочего, в семье раскрывается вечная мужская и женская несхожесть в видении мира. Так как же обстоит с этим у Наташи и Якова?
"Нет, нет, — почти хором закричали супруги. — Мы всегда во всём уступаем друг другу. Не спорим, если даже фильм одному понравился, а другому нет. Мы больные, нам надо беречь друг друга. К тому же, не забывайте, в "нёрсингхоуме", кроме нас, почти нет русскоязычных. Поссоришься — не с кем слово будет сказать".
Тут интервью замедлилось. Я спрашивал ещё о чём-то, а сам готовился к главному вопросу, задавать который мне всегда нелегко: что именно — романтическая любовь или здравый расчёт — их объединило? Одна российская газета, обсуждая недавно, как преобразит любовные чувства XXI столетие, привела высказывание весьма осведомлённого специалиста. Генеральный секретарь сексологической ассоциации России заявил: "Любовь — высокомотивированное чувство, основанное на расчёте. Мы всегда оцениваем потенциальный объект любви: подходит ли он по возрасту, статусу, сексуальной ориентации и т. д. Любовь никогда не бывает бескорыстной, потому что людям всегда что-то нужно друг от друга.” По этому поводу Яков, нисколько не смущаясь, признался: "Когда мы познакомились, я сразу увидел: она умная, красивая. И одевается со вкусом, и говорит интересно. Вот и выбрал её. А теперь, когда случается, что Наташу на целый день забирают в госпиталь на обследование, я места себе не нахожу. Когда её нет рядом, мне страшно".
Наталья выразилась ещё более темпераментно: "Я его люблю и даже более того — обожаю. Он для меня самый дорогой человек на свете.” Природный дамский рационализм, тем не менее, проскользнул и в её ответе: "Я понимаю, что настоящего дома в нашей теперешней жизни нет. Это иллюзия дома. И всё же я согласна сколько угодно продлевать эту иллюзию. С Яковом нам действительно хорошо".
…Яков пошёл меня провожать. Молча спустились лифтом, вышли на крыльцо. И тут проронил он вдруг фразу, которая обнажила его душу гораздо в большей степени, чем двухчасовое интервью: "Если Наташа умрёт, я не проживу и десяти минут…".
VI. НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ ЖИВ ЧЕЛОВЕК.
1. "Мне тут тепло…”
На исходе декабря, когда впереди начинает маячить Новый год и Рождество, у нас, россиян, поселившихся в Америке, возникает то, что я зову Рождественской ностальгией. Мы начинаем с грустью вспоминать прелесть усыпанных снегом полей. Идя по улице, застреваем возле выставленных на продажу ёлок. Их свежий запах пробуждает в душе картинки далёкого детства: сани, летящие с ледяной горы, новогодние подарки… людей постарше — верующих и не очень, — в эти дни начинает тянуть в церковь. Разумеется, в православную, где мягко, по-домашнему, колеблются огни свечей, где молитвы и хор звучат на родном языке. Рождественская служба на добрые полтора часа возвращает обамериканившимся эмигрантам симпатии и даже нежность к оставленной за океаном родине.
Меня в эти декабрьские дни тоже что-то встряхнуло: захотелось рассказать о таком вот православном храме, переполненном в Рождественские дни. С настоятелем церкви Христа Спасителя отцом Михаилом у нас давнее знакомство и в каком-то смысле даже общие корни: мы оба были друзьями ныне покойного священника о. Александра Меня. Трагический конец этого блистательного человека читатели наши, возможно, ещё помнят: священник Мень 7 сентября 1990 года был зарублен неподалёку от своего дома "неизвестными лицами". Российские кагебешники до сих пор делают вид, что не знают, кто эти "лица". Так вот, отец Александр Мень крестил в своей церкви студента Московского университета, историка Михаила Меерсона-Аксёнова. И не только крестил, но так увлек его своей личностью, книгами, делами веры, что юный москвич тогда же решил посвятить себя служению церкви. Священник Мень сыграл немаловажную роль и в моей жизни. Я не смог бы написать главную книгу свою "Жизнь и житие Войно-Ясенецкого, архиепископа и хирурга", если бы не продолжавшиеся пять лет (1970-75 гг) консультации священника Меня. Под влиянием всё того же Меня о. Михаил, а в ту пору просто Миша, решил, что ему следует заняться духовным просветительством. В семинарию его не допустили, так что стать священником в Советском Союзе надежды не было. Тогда неуёмный молодой человек организовал подпольную типографию, в которой начал размножать религиозную литературу и произведения русских философов-эмигрантов. Чтобы не попасть в руки кагебешников, юный просветитель вынужден был метаться по всему городу, снова и снова меняя квартиры и перетаскивая свои главные ценности: пишущую машинку и запретные рукописи. На Запад выехал он в 1972 году буквально за несколько недель до того, как "органы” разведали подробности его просветительской деятельности.
За годы, прожитые на Западе, Михаил Меерсон-Аксёнов ни на шаг не свернул с пути, который наметил себе сразу после крещения. Он закончил Духовную семинарию в Нью-Йорке, продолжил учение в Библейском институте в Иерусалиме. Ныне он — доктор богословия и уже более двадцати лет возглавляет церковь Христа Спасителя в Манхеттене. Имя это, ассоциирующееся у нас, москвичей, с недавно восстановленным в столице храмом, мало что говорит о реальном облике манхеттенской церкви. Внутри она более чем скромна, а снаружи выглядит, как обычный жилой дом. Склонный к юмору о. Михаил мимоходом заметил как-то, что в излишне скромном облике его церкви виноваты большевики. Я посмеялся, но оказалось, что элемент реальности в шутке той всё-таки присутствовал.
Как известно, православие существует на американской земле уже более двух столетий. После большевистского переворота на Западе оказалось два миллиона русских, несколько тысяч из них осели в Соединённых Штатах. И, конечно же, церковь православная стала для этих изгнанников главным прибежищем на чужой земле. Большевики, однако, не ограничились массовым истреблением священнослужителей в Советском союзе. Они заслали за рубеж так называемых обновленцев — людей, якобы совмещающих христианскую веру с коммунистической идеологией. Свою деятельность в Нью-Йорке эти "большевики" с крестиками на шее начали с того, что захватили и присвоили здание православного собора. Православные россияне таким образом остались без молитвенного дома. В ответ на большевистский трюк белоэмигранты, хотя и не без труда, собрали деньги и на эти пожертвования воздвигли в 1924 году в центре города церковь Христа Спасителя. В 20-х — 40-х годах это величественное здание с золотым куполом посещала вся российская элита. В частности, до конца своих дней прихожанином её оставался А. Ф. Керенский. Но после Второй мировой войны район Нью-Йорка, именуемый Гарлемом, заселили негры, в нём участились преступления, так что пожилые к этому времени россияне сначала перестали посещать вечерние субботние службы, а затем и воскресные литургии. Отстаивая свои религиозные чувства, люди "первой волны" эмиграции ещё раз поднатужились, за полцены продали храм в Гарлеме и купили скромное помещение в более спокойном месте на той самой Семьдесят первой улице, где и сейчас продолжает свою жизнь церковь Христа Спасителя.
"За эти годы, — рассказывает о. Михаил, — состав молящихся уже несколько раз менялся. Ушла в лучший мир "первая волна" эмиграции. Почти не осталось в церкви и её потомков. Выброшенная на американский берег в конце 40-х и начале 50-х годов так называемая "вторая волна" русских, тех, кто перенёс немецкий плен и лагеря Ди-Пи, тоже постепенно рассеивается. Начиная с 1970 года, из Советского союза в Америку устремились новые людские потоки эмиграции, обозначающие себя, как "третья", "четвёртая" и "пятая" волны. "Я самый старый прихожанин этого храма, — с улыбкой говорит 55-летний священник. — Нет, не по возрасту, а по времени пребывания тут. Я принял приход в 1978 году. Сегодня здесь уже нет никого из прихожан той поры".
Почему? Причин несколько. В Америке человек вынужден селиться там, где есть работа. Прихожане, прожившие некоторое время в Нью-Йорке, получают подчас приглашение на работу в другой штат. И — прощай, родная церковь. Многие, правда, храм свой не забывают: пишут письма, звонят, присылают по праздникам подарки. Так, семья математиков, переселившаяся из Нью-Йорка в штат Аризону, прислала к Рождеству в подарок церкви чек на сто долларов. Другая причина, отрывающая подчас верующих от дома молитвы — неспокойная обстановка в Нью-Йорке. Приезжие из России папы и мамы не хотят, чтобы их маленькие дети воспитывались на улицах непредсказуемой "столицы мира". Как только такая семья финансово крепнет, она покупает дом в соседнем более спокойном штате. И тем не менее приход в последние пять лет растет, пополняется. Сейчас постоянно бывает на службах пятьдесят-шестьдесят человек, в основном, новоприезжие. Кто-то приехал в Штаты учиться, кто-то жениться, есть и специалисты, приглашенные американцами на работу. Приход многонационален: русские, украинцы, евреи, англосаксы, есть китаец, француженка, арабка. Часть верующих не знает русского языка, у других проблемы с английским, так что служить приходится на двух языках.
Что же священник думает о своей службе, о столь различном сообществе, посещающем церковь по субботам и воскресеньям? Я задал этот острый вопрос, зная отца Михаила, как человека искреннего и достаточно откровенного. Думаю, что отвечая, он не покривил душой. "Я действительно служу здесь, но это не служба, это моя жизнь, — говорит отец Михаил. — Лёгкая? Не очень. Церковь — место, где сталкиваются люди не только различных национальностей и происхождений, но, что важнее, разных нравов и мировоззрений. Дело священника — постоянное разрешение внутренних конфликтов. Мне приходится приноравливаться к людям разного воспитания и образования. Это не просто. И тем не менее я люблю их".
Отец Михаил знает, как нелегко даются новоприезжим первые годы в чужой стране. Слушая многочисленные рассказы об одиночестве, он вспоминает, что и сам когда-то пережил то же самое. "Моя миссия — дать им ощущение дома в нашем храме и более того — научить, как пускать корни в американскую землю. После нескольких месяцев церковного общения я нередко слышу от этих людей, что под сводами церкви у них возникает ощущение родного дома, куска России. Но и на американской улице они уже не чувствуют себя чужаками".
Освобождение от одиночества — лишь малая часть того, что происходит с недавними эмигрантами, обретающими веру, церковь, круг близких единоверцев. Неудивительно, что прихожане постоянно осаждают священника своими проблемами земными и духовными: как получить легальный американский статус, как развязать узлы, возникающие внутри семьи, что делать, если в душу закрадывается неверие. Отец Михаил готов обсудить любую сферу эмигрантской жизни: советует, помогает. Постоянные контакты с прихожанами приводят к ещё более значительным результатам. "Происходит невидимый извне процесс —
вырастание личности в присутствии Бога, — говорит отец Михаил. — Моя служба состоит в том, чтобы способствовать этому росту. Православного священника не случайно называют ОТЕЦ. Я ощущаю паству, как свою семью, и знаю: даже взрослые люди в какой-то момент жизни нуждаются в присутствии рядом отцовства, родительства".
Того, кто впервые переступит порог церкви Христа Спасителя, очевидно, как и меня, удивит возраст большинства прихожан. В массе своей это молодые женщины и мужчины между 25 и 35 годами. Стариков и старух, которых мы привыкли видеть в российских церквях, здесь почти нет. Поговоривши с людьми, я отметил для себя ещё одну не совсем обычную для церковной публики деталь: преобладание интеллектуальных физиономий. Позднее узнал: в приходе много студентов и людей с высшим образованием. Как возник такой приход? Конечно, священник-интеллигент привлекает к себе прихожан определённого типа, но, может быть, молодых просвещённых соотечественников влечёт сюда ещё что-то?
"Наша церковь притягивает молодёжь не случайно, — говорит о. Михаил. — Разумеется, влияет на прихожан и общая атмосфера интеллектуализма и принятое у нас серьёзное отношение к вере. Но, кроме того, мы стремимся сделать богослужение осмысленным, хотим, чтобы люди понимали, что здесь происходит, о чём молится священник, о чём поёт хор. Для этого в церкви вот уже несколько лет проводятся занятия по богослужению, по вероучению. Мы обсуждаем библейские тексты с тем, чтобы люди сознательно воспринимали свою веру, всё происходящее в храме и в мире." Побывав во многих молитвенных домах России, Америки и других стран, о. Михаил убедился: прихожане его церкви — вполне образованные православные христиане. Семинары, проходящие после каждой службы, способствуют также сохранению прихода: молодёжь дорожит возможностью столь серьёзно приобщаться к пониманию Слова Божьего.
Есть в церкви на Семьдесят первой улице ещё одна довольно громко заявляющая о себе категория посетителей. Дети. Молодые мамы и папы приводят их с собой на воскресную службу. Отца Михаила упоминание о детях оживило: "Да, да, размножаемся стремительно. Я это по числу крещаемых замечаю. Крестим до десятка в год. Вот и прекрасно. Американское детство послаще сегодняшнего российского." Но священник не ограничивает свой интерес к малышам одним лишь актом крещения. Он создал при церкви воскресную школу для детей. Сегодня в этой школе художник-профессионал учит детей рисованию, певица с большим опытом обучает их пению и в том числе исполнению псалмов, а будущий священник, пока ещё семинарист, обсуждает с детишками содержание Писания на уровне "Библия для детей".
Отец Михаил считает присутствие детей в церкви благом и даже необходимостью. Одна из бед эмиграции — разрыв между поколениями. Наши дети уходят в американские детские сады и школы и очень скоро отрываются от тех идеалов, на которых возрастали их отцы, матери, дедушки и бабушки. Такой разрыв (а он поражает две из каждых трёх эмигрантских семей) вносит в жизнь старших поколений немало горечи. "Я знаю по собственному опыту, — говорит о. Михаил, — что церковь — единственная сила, способная сохранить эмигрантскую семью от разрушения. Только там, где родители и дети ежевоскресно проводят вместе несколько часов в храме и где младшее поколение получает основные религиозные понятия и русский языковой опыт, сохраняется семейная преемственность, общие вкусы, взгляды, общая культура.”
Не сомневаюсь, что о. Михаил Меерсон-Аксёнов рассказал бы о церкви ещё немало интересного, но мне захотелось выслушать также мнение его прихожан. Около десятка из них, в основном молодые люди, приехавшие в Америку от двух до пяти лет назад, охотно и дружелюбно ответили на мои вопросы о том, что привело их именно в эту церковь, что им тут мило, а что не очень.
Сорокалетняя Татьяна так объясняет причину, по которой приходит в церковь каждое воскресенье: "Каждодневная служебная да и бытовая домашняя жизнь грязнит нас, подталкивает ко греху, к нечистоте. Церковная исповедь, причастие — своеобразная "баня", которая возвращает нам чистоту и даёт энергию на всю следующую неделю." Татьяна дорожит церковью также потому, что в эти дни встречается здесь с людьми своего круга, с которыми можно говорить с открытым сердцем. Так искренне, как в церкви, она не может себе позволить разговаривать ни на работе, ни дома со своими неверующими родственниками.
Студент Павел видит наибольшую для себя притягательность в личности священника. "Отец Михаил — очень значительная, нестандартная фигура, — говорит Павел. — Я постоянно прихожу к нему за советами. Он человек большого опыта и ума, а главное, всегда готов выслушать и помочь. Ещё одна молодая прихожанка со смзчцённой улыбкой призналась: церковь мила ей тем, что здесь совершенно неожиданно у неё начал меняться характер. Уже после полугода пребывания в храме она почувствовала, что нрав её смягчился, она стала менее амбициозной. Об этом ей говорят и домашние и знакомые.
Мои собеседники с явной гордостью и удовлетворением отмечают, что в их церкви много людей творческих профессий: художники, поэты, писатели, музыканты, актёры. Люди эти не вздуваются от гордости, а наоборот, охотно одаривают храм своими талантами. Американка Дженнифер пишет большую икону для алтаря. Бесплатно, разумеется. Также бесплатно несколько лет назад художница Елена проделала огромную работу, написав новый иконостас. Время от времени в церкви выходит бюллетень со стихами и статьями прихожан.
Но собеседники мои, многократно превозносившие своего священника и свой храм, не скрывали и грустных сторон церковной жизни. Церковь Христа Спасителя бедна. Эта бедность объясняется тем, что большинство прихожан только-только начинает свою американскую карьеру. Скромные заработки не позволяют им вносить сколько-нибудь крупные вклады в церковную кассу. Мои собеседники не скрывают: их любимый священник, отец троих детей, при всём своём трудолюбии получает слишком скромное жалованье. Впрочем, сам о. Михаил по природному своему оптимизму о материальных трудностях говорить не стал. Отмахнулся, процитировав строку из Библии, призывающую верить, что Бог верных своих не оставит.
Недовольство некоторых верующих вызывает также то, что служба идёт на двух языках. Священник повторяет по-русски то, что только что произнёс по-английски. Это вполне естественно для церкви, расположенной в центре Нью-Йорка, где среди прихожан не менее десятка коренных американцев. Большинство русских к двуязычной службе привыкло. Но одна женщина средних лет с грустью сказала, что скорее всего из церкви Христа-Спасителя уйдёт. Перепрыгивание с одного языка на другой, по её словам, отвлекает её от молитвы, от того духовного погружения, которое так важно сохранять в минуты церковного богослужения.
И ещё одна собеседница, молодая дама, держащая за руку своего пятилетнего сына. Да, она рада, что сыскала эту церковь, которую посещает уже не первый год. Чем этот храм лучше других? Женщина пожимает плечами, стеснительно улыбается: "Я как-то не задумывалась. Просто мне здесь тепло…”.
2. Барьер разрушен
Попробуйте, уважаемый читатель, представить себе деревянную "коробочку" длиной в шесть метров, а в ширину и высоту по три метра. По существу это целая комната — 18 квадратных метров. Коробочка-комната, о которой зашла речь, не пуста: большая половина её от пола до потолка набита книгами. И не какими-нибудь, а исключительно русскими, теми, что написаны литераторами-эмигрантами и изданы в Америке. Сколько их тут? Да немало, тысяч десять, а то и больше. В тот момент, когда я пишу эти строки, та "коробочка" плывёт в трюме океанского корабля из Нью-Йорка в Санкт-Петербург. Там её перегрузят на железнодорожную платформу и доставят в Москву. "Коробочка" —
подарок российских эмигрантов своим землякам.
Идея этого несколько необычного подарка созревала одновременно в Москве и Париже, на Западном и Восточном побережье США. Как известно, в последние годы на Руси расплодилось немало всякого рода общественных и политических организаций. Далеко не все они, на мой взгляд, достойны внимания и уважения, но возникший года три назад Библиотека-Фонд "Русское зарубежье" мне, как литератору-эмигранту, очень даже по душе. Цель этой общественной организации, насколько я понимаю, состоит в том, чтобы разъяснить сегодняшнему российскому обществу, как и почему миллионы русскоязычных оказались за рубежом, какие политические идеи эмигранты исповедуют, какую они создали литературу, философию, общественную жизнь. Разъяснить всё это не совсем просто. Эмигрантских волн за восемь десятков лет после событий 1917 года сменилось несколько. И каждая — на свой образец. С другой стороны, жителю сегодняшней России, очевидно, всё ещё нелегко изжить в себе остатки советской пропаганды, которая изображала каждого покинувшего страну, как врага и предателя.
"Русское зарубежье” ставит своей задачей преодолеть советскую легенду, и делает она это весьма активно. Создано издательство, которое перепечатывает книги писателей-эмигрантов, открыта библиотека эмигрантской литературы, начат сбор эмигрантских архивов, всякого рода документов, свидетельствующих о реальной, а не легендарной жизни уроженцев России, при разных обстоятельствах оказавшихся на Западе. Идею эту поддержал А. Солженицын. Попытки сблизить российское общество с эмиграцией горячо одобрил и мэр Москвы. Он уже выделил в столице для библиотеки эмигрантских книг два здания, а в ближайшее время обещает передать "Русскому зарубежью" ещё один дом. По всей видимости, инициатива Библиотеки-фонда "Русское зарубежье" встречает положительную оценку и среди окружения Бориса Ельцина. Передо мной письмо Д. Шевченко, консультанта администрации Президента РФ, помеченное 25 августа 1997 года. Среди прочего, он считает возникновение библиотеки, состоящей из присланных из-за границы книг, "верным политическим шагом, способствующим процессу примирения и согласия внутри российского общества…”.
Призыв москвичей побудил откликнуться и эмигрантов Америки. В Вашингтоне родилась организация "Книги для России", та самая, что собрала и заполнила вышеупомянутый контейнер. Кстати сказать, в Москву пошли далеко не все книги, пожертвованные нашими эмигрантами. В ближайшее время предстоит отправить на родину ещё столько же.
Основателем и первым Президентом общества "Книги для России" стала Людмила Сергеевна Оболенская-Флам. Её интерес к российско-зарубежным отношениям не случаен. Семья её бежала от большевиков во время Второй мировой войны и большую часть своей эмигрантской жизни — 40 лет почти — Людмила Сергеевна проработала в "Голосе Америки". Радиожурналистка Флам показала себя также талантливым писателем-документалистом. В Москве вышла её книга "Вики". Пользуясь большим количеством собранных документов и личных свидетельств, автор восстановила трагическую судьбу молодой русской женщины-эмигрантки, принявшей активное участие во французском антифашистском Сопротивлении. Гитлеровцы не просто приговорили мужественную Вики к смерти, но казнили её так, как это делалось в XVIII столетии — обезглавили с помощью гильотины. По словам литературного критика, опубликовавшего свою статью в "Новом журнале", приведённые Оболенской-Флам факты и документы вызывают у читателей настоящее потрясение. Готов подтвердить: книга потрясающая.
Наша беседа в Вашингтоне, где живёт г-жа Флам, приоткрыла мне ещё одну сторону её личности: Людмила Сергеевна — страстный книголюб. Ценность книг, особенно тех, что вышли из-под пера русскоязычных литераторов-эмигрантов, видится ей прежде всего, как источник мало кому ведомой истории эмигрантской духовной жизни. Она и сама собиратель такой литературы и почтительно говорит о соотечественниках, накапливающих в своих американских домах и квартирах русскую литературу. В то же время она с грустью отмечает, что дети в семьях "первой" и "второй" волн к таким домашним библиотекам относятся чаще всего безо всякого интереса. Отцы и матери уходят в мир иной, а их родившимся за океаном детям и внукам весь этот "иноязычный мусор" ни к чему. Русские книги в лучшем случае сваливают на чердаки и в подвалы, а то и просто выбрасывают на помойку. Людмила Сергеевна переживает гибель таких собраний чрезвычайно остро. Она и сама пережила тяжёлый стресс, когда несколько лет назад пожар уничтожил её многие годы любовно собираемую библиотеку.
Как же начинал свою деятельность Комитет "Книги для России"? Как восприняли соотечественники саму идею "книжного подарка"?
"Я разослала сто писем своим знакомым и знакомым своих знакомых. В основном, это были люди "первой" и "второй" волн эмиграции, — рассказывает Людмила Сергеевна. Шестьдесят из них (что немало) предложили книги из своих библиотек. Для меня это был настоящий праздник: какую книгу из присланных ни возьму в руки, все в той или иной степени знакомы. Или я её читала, или автора знаю. Книжный поток воскресил в памяти наше нелёгкое прошлое, когда русские люди в Европе метались между "красными" и "коричневыми". Не менее драматичный характер носят воспоминания перебежчиков, книги-дневники, книги-письма.”
— Всё ли удовлетворило вас в откликах соотечественников?
— К сожалению, не всё. Я просила не только присылать книги, но и поддержать деятельность нашего Комитета материально. Ведь расходы на отправку контейнера вроде того, что отплыл недавно в Россию, достигают пяти-семи тысяч долларов. Но, увы, к просьбе о пожертвованиях россияне отнеслись довольно прохладно. А без денежной помощи наше начатое столь успешно дело может попросту захлебнуться. Мы ведь организация благотворительная….
Людмила Сергеевна скромно умолчала о том, что из-за недостатка средств на погрузку и перевозку книг даже внутри одного города она и её муж вынуждены были, как говорится, на своём горбу перетаскивать довольно тяжёлые коробки с книгами. Об этом мне рассказали другие члены Комитета. Она же зато с явным удовлетворением отметила дружественный жест посла Российской Федерации в Вашингтоне Ю. М. Воронцова, который предоставил их организации бесплатное помещение для хранения уже собранных и ожидающих отправки изданий. Если бы не эта помощь, то на оплату помещения потребовалась бы куча денег.
На призыв отправлять русские книги откликнулись прежде всего друзья и вдовы умерших литераторов. Они лучше других предвидели печальный конец оставленных без призора личных библиотек. Так, среди полученных посылок оказалось более ста книг талантливого писателя и поэта Иоана Шаховского, известного также, как архиепископ Иоанн Сан Францисский. Я многие годы переписывался с этим выдающимся коллегой. Горжусь, что в своё время получил от него в подарок несколько его автобиографических произведений, труды философские и среди них поистине классический труд "К истории российской интеллигенции". Особый интерес представляли сборники стихов Шаховского, которые он подписывал псевдонимом "Странник". Уверен, что произведения этого блестящего писателя и поэта найдут в современной России немало благодарных читателей.
В том же контейнере, что отплыл из Нью-Йорка в Санкт-Петербург, оказалось и несколько сот томов произведений покойного писателя "первой” волны Василия Семеновича Яновского. Не скрою: я завидую тем нашим землякам, кто получит возможность прочитать замечательное повествование Яновского о жизни русской эмиграции в Париже двадцатых-тридцатых годов ("Поля Елисейские") и его остросюжетные повести и романы вроде "Челюсть эмигранта".
Среди дарованных книг немало библиографических редкостей. Например, комплект выходившего в шестидесятые годы в Нью-Йорке альманаха "Воздушные пути", опубликованная небольшим тиражом в сороковых годах книга "Встреча с Россией", где среди прочего воспроизведены письма, найденные на телах красноармейцев, убитых во время войны СССР с Финляндией. Большой интерес представляют собой воспоминания князя Г.Трубецкого, а также мемуары последнего Председателя дореволюционной Государственной Думы М.Родзянко.
Большинство жертвователей, как я уже отмечал, наследники прошлых поколений, но откликнулся на призыв Людмилы Сергеевны и кое-кто из литераторов, осевших в Америке в сравнительно недавние годы. Из города Дэвис (Калифорния) прислал экземпляры своих романов, повестей и публицистику писатель Юрий Дружников. Из штата Айова поступили произведения известного литературоведа и поэта Вадима Крейда. Он же, будучи главным редактором выходящего в Нью-Йорке "Нового Журнала”, распорядился отправить на родину сотни номеров этого весьма содержательного издания. Благодаря активности г-жи Флам и её коллег российская публика сможет теперь познакомиться также с поэтическим альманахом "Встречи", который уже много лет издаёт в Филадельфии поэтесса Валентина Синкевич, с прозой Владимира Матлина и (извините за нескромность) с книгой Марка Поповского "Жизнь и житие Войно-Ясенецкого, архиепископа и хирурга", только что вышедшей в Америке вторым изданием.
Не могу не упомянуть о ещё одной части "книжного подарка”. Друзья недавно скончавшегося талантливого историка и архивиста Александра Серебренникова выполнили его последнюю волю: богатая библиотека и архив покойного отплыли в Россию на том же корабле. Не стану никому навязывать свою точку зрения, но думаю, что многим моим коллегам-эмигрантам следовало бы присоединиться к тем, чьи имена перечислены выше. По некоторым подсчётам между Иерусалимом и Лос-Анджелесом живёт и творит не менее четырёх сотен людей, считающих литературный труд делом своей жизни. Найти зарубежного читателя, как известно, нашему брату нелегко. Тем, кто желает найти читателей на родине, следует вступить в контакт с президентом Комитета "Книги для России". Адрес Людмилы Сергеевны Оболенской-Флам:
BFR P.O. Box 354 / Port Tobacco, MD 20677 / Tel.: (301)934-1412
He забывайте только, коллеги, о пожертвованиях. Без материальной поддержки с нашей стороны добрая эта идея попросту рухнет.
Я не имею возможности перечислить всех наших литераторов, чьи произведения уже находятся на пути к российскому читателю. Важнее, как мне кажется, та удивительная закономерность, которая открылась мне при знакомстве с документами и перепиской Комитета "Книги для России". Впервые, может быть, за многие десятилетия люди из России и эмигранты разных волн нашли общий язык. Директор "Русского зарубежья" (Москва), объясняя назначенье своей организации, пользуется сугубо политической формулой. По его мнению массовой переброской эмигрантских книг, документов, архивов "можно поддержать слабую ещё российскую демократию и уменьшить шансы на установление в России нового "красного" или "коричневого" режима". Аргументация Людмилы Флам, готовой тратить своё время и силы на собирание и отгрузку русских книг из Америки в Россию, базируется на логике человека доброго и неравнодушного к своей родине. "Библиотеки тамошние обнищали, а библиотеки школьные, библиотеки домов престарелых и вовсе в ужасном состоянии. Мы должны им помочь", — говорит она. Людмилу Сергеевну особенно вдохновляет то обстоятельство, что дубликаты присланных книг будут рассылаться по библиотекам пятидесяти городов страны.
Мне понятна и симпатична точка зрения и директора "Русского зарубежья" В. А. Москвина и Людмилы Флам. И тем не менее я отправляю и собираюсь впредь отправлять свои произведения с помощью "Книги для России" по другой причине. Думаю, что профессиональные литераторы, оказавшиеся как и я в эмиграции, позицию мою поймут. За сорок с лишним лет, прошедших со времени выхода моей первой документальной книги ("Когда врач мечтает", 1957 г.), я никогда не мог рассказать читателю всю правду о судьбе своих героев. Цензоры и редакторы терзали авторский текст, как только хотели. Три последние книги в 1977 году были выброшены по команде КГБ уже после завершения типографского набора. Иными словами, как и у всякого порядочного литератора, у меня не было прямого пути к моему читателю. Казалось бы, эмиграция должна была разрешить эту проблему. Да, на Западе вышло полдюжины книг без цензурных помарок, Но и живя в Америке, прорваться к массовому российскому читателю не удавалось. Лишь после наступления "горбачевской весны" мы обрели возможность послать несколько экземпляров своим друзьям. Комитет "Книги для России" со своими контейнерами разрушает наконец этот последний барьер и соединяет нас с нашим читателем. За что поклон ему до земли.
Конечно, нелёгкие проблемы эмигрантского "самиздата" никто, кроме нас самих, разрешить не может. Приветствуя открытие в Москве первой эмигрантской библиотеки, это точно отметила Наталья Солженицына: "Книги, изданные в эмиграции, коммерческими никак не назовешь. Их было очень трудно издавать. Причина — бедность, нищета эмиграции. За каждой вышедшей книжкой стоит какая-то суровая необходимость и мощный духовный посыл. Поэтому этот книжный ручеёк, как родник: он чище, быстрее, сильнее реки, в которую впадает". ("Известия", 24 октября 1997 г.).
Итак, все три подхода к "книжному подарку" — политический, гуманитарный и творческий — объединились. Не станем льстить себе: далеко не всё из того, что уже уплыло из нью-йоркского порта в Россию, окажется гениальным и даже просто талантливым. Но, может быть, авторов наших утешат слова английского философа Френсиса Бэкона (1561–1626): "Пусть люди критикуют и порицают вашу книгу, лишь бы они имели возможность внимательно и вдумчиво прочитать то, что в ней говорится".
Пост Скриптум. На наш вопрос о том, что изменилось в жизни организации "Книги для России" за последние месяцы, Людмила Флам сообщила следующее. "Год назад мы отправили 400 ящиков книг и уже заготовлено примерно столько же для отправки этой осенью (1999 г.). Так что более тысячи ящиков и в каждом ящике в среднем 35 книг! Материально мы продолжаем работать за счёт бесплатного труда и благодаря небольшим пожертвованиям добрых людей. Нам очень помогло посольство США в Москве, покрывшее расходы по прошлогоднему (1998 г.) транспорту, благодаря чему у нас есть средства на отправку книг в дальнейшем”.
3. Потанцуем?!
Впервые имя Леночки Фроловой прозвучало для меня в доме моего доброго нью-йоркского знакомого. Этот успешный бизнесмен в возрасте за сорок решил жениться. Среди прочих хлопот, связанных со свадьбой, вспомнил он, что последний раз танцевал чуть ли не два десятка лет назад. Решил обновить своё мастерство и вместе с будущей женой стал посещать уроки танцев, где они и познакомились со своей учительницей, прибывшей из России Леной Фроловой. Жених-бизнесмен, весьма дельный в своей области, большого таланта в танцевальном искусстве не проявил. Ему более всего полюбился вальс, и какую бы музыку на свадьбе не исполняли, он неизменно пытался вальсировать. "Нет, Лена не виновата, — шутила по этому поводу невеста, — она учила нас очень хорошо, но мы заупрямились и застряли на Венском вальсе".
Другая моя знакомая, живущая в Бруклине, водит свою дочь-школьницу на уроки танцев всё к той же Елене Фроловой. Детям занятия эти очень нравятся, особенно выступления на конкурсах, где случалось им даже получать награды. "Мы с мужем сопровождаем нашу девочку на эти конкурсы, но, как и другие родители, мы несколько раз попадали в неудобное положение, — вспоминает моя знакомая. — В какой-то момент устроители конкурса объявляют: "Дженерал дане" — танцуем все — и дети, и мамы, и папы!" Мы с мужем на приглашение не откликались, танцевать не умели. Дочь сердилась, тащила папу на середину зала. Он упрямился, дело доходило до слёз. Вот и решили мы с мужем не позориться и взять у Лены Фроловой несколько уроков. Теперь мы ходим в группу "взрослых студентов" и призывом "дженерал дане" нас уже не испугаешь".
Школа танцев для взрослых…. Как это странно звучит для российского уха! С тех пор как моя одноклассница шестьдесят лет назад научила меня основам вальса и фокстрота, усовершенствоваться в танцевальной науке мне и в голову не приходило. Никаких "курсов по повышению квалификации в танцевальном деле" на нашей родине я не встречал. Скорее всего их и не было вовсе. А американцы, оказывается, в возрасте за сорок, пятьдесят и шестьдесят, сотнями и тысячами после рабочего дня отправляются в такого рода школы, где постигают тайны румбы, танго и фокстрота. Зачем это им? В надежде получить объяснение этой социальной загадки я разыскал Лену Фролову. Наши беседы с ней открыли мне личность весьма нестандартную.
Предельно тоненькая, изящная танцовщица прибыла в Америку из России три года назад. "Я русская по крови и месту рождения, эмигрировать не собиралась, — заявила она. — За пределы России меня вынесла моя главная любовь — танцы." Танцы увлекали Лену с раннего детства. В школе её, активистку-отличницу, охотно приглашали в кружки спортивные и музыкальные, она занималась гимнастикой, метала гранаты, играла в волейбол, но танцы всегда оставались главной страстью школьницы Фроловой. Бальные танцы впервые увидела в Артеке, куда попала опять-таки за свою пионерскую активность. К концу школы мечтала о театральном училище, но тут девичий фанатизм столкнулся со здравым смыслом родителей. Рядовые советские граждане — мама врач и папа инженер — понимали, как трудно будет их дочери пробиться на театральные верхи и настаивали на высшем техническом образовании. Особенно бурно атаковала внучку бабушка: "Танцы? Кому они нужны? Ты позоришь нашу семью!…” Советская старушка считала профессию "инженер" наиболее достойной из всех возможных. Лена уступила и стала студенткой института, в названии которого присутствовала автоматика, радиотехника, электроника и ещё что-то абсолютно чуждое ей. Училась тем не менее хорошо и распределили (помните это словечко?) её не куда-нибудь, а в "Почтовый ящик". Из того "ящика” удалось выскочить и заняться любимым делом. Но в институте упорная Леночка продолжала руководить танцевальным кружком и даже побывала со своими танцами в Японии, Польше и республике Шри-Ланка. В 1995 году друзья пригласили её в гости в Соединённые Штаты.
В посольстве объяснила почти правдиво: "Собираюсь открыть в Москве школу танцев имени Фреда Астера. Хочу поглядеть, как такие школы работают в США". Фред Астер, знаменитый танцор, актёр, герой множества фильмов, ушёл из жизни, оставив своё имя целой системе танцевальных школ. Аргументация молодой русской красавицы показалась американским дипломатам достаточно убедительной. Танцевальное искусство ещё раз оказалось ключом, отпирающим замки международных границ.
Начинать американскую жизнь на голом месте, как хорошо известно нашим читателям, дело непростое. Особенно когда нет хорошего английского. Но русскую девушку выручил международный язык танца. Уверенная в себе, Лена отправилась наниматься не куда-нибудь, а в крупнейшую в Нью-Йорке танцевальную школу, расположенную в самом центре Манхеттена. Владелец протанцевал с русской вальс, фокстрот, что-то ещё и не без удивления произнёс нечто вроде: "Да вы, сударыня, как ветер летаете" и тут же принял её на работу.
Следующие месяцы ушли на постижение механизма взаимоотношений между американским учителем и его взрослыми и даже пожилыми студентами. Механикой этой Лена Фролова, хотя и не без труда, сегодня овладела. Учитель должен нравиться учащимся, иначе они уйдут к другому преподавателю. Нужно владеть личным обаянием, умением терпеливо выслушивать собеседника. Вот одна из типичных историй, сопровождавшая её первую службу.
Случайно зашёл в школу немолодой юрист кореец. Поговорили. Человек замкнутый и немногословный, он тем не менее с интересом выслушал рассказ Лены о том, как занятие танцами улучшает настроение студентов, как немолодые люди обретают здесь знакомых и даже друзей. Кореец тут же заплатил за двадцать уроков и стал постоянным учеником Лены. Через несколько месяцев на вопрос учительницы, нравится ли ему здесь, признался: среда, день недели, когда он приходит на урок, самый радостный день для него. На службе он имеет дело с уголовниками, которых вынужден осуждать к серьёзным подчас наказаниям, но по-человечески он жалеет их. Этот душевный конфликт облегчают лишь встречи по средам…. Два года спустя, когда Лена перешла работать в другую школу, кореец кинулся искать её. Он обзвонил по телефону несколько ньюйоркских танцевальных школ и в конце концов разыскал любимую учительницу. Сейчас этот человек по служебным делам находится в России. На днях прислал ей открытку с надписью: "Мне Вас не хватает…".
Случай с корейцем — не исключение. Эмоциональный момент почти всегда присутствует в отношениях учительницы со своими студентами. Американцы постоянно делятся с ней своими служебными и семейными проблемами. Лена старается на темах негативного характера не задерживаться и по мере сил отвлекает учеников от печальных мыслей. Сложнее русской учительнице утихомиривать тех, кто в неё влюбляется. Таких за годы её американской жизни было уже немало. Открывать мужчинам свою личную жизнь она не склонна, объяснять, что она замужем, не хочется, возникает риск потерять студента. Впрочем, покидают её уроки очень немногие, большинство дорожит возможностью потанцевать и поговорить с миловидной русской.
Поиски общения, пожалуй, и есть та главная причина, которая приводит в школу танцев мужчин и женщин в возрасте от тридцати пяти до старости. В этом откровенно признался ей в своём недавнем письме молодой венгр-учёный. Уроки Лены скрасили ему несколько месяцев, когда он по роду своей службы находился в Нью-Йорке. Других знакомых он, иностранец, так и не обрёл.
То же самой говорят ей коренные американцы. Тяжёлый рабочий день не останавливает их перед тем, чтобы поздно вечером всё-таки приехать на занятия. Таков, в частности, шестидесятилетний хорошо обеспеченный американец-компьютерщик, работающий в одном конце города, а живущий в другом, на Лонг Айленде. Человек этот тем не менее трижды в неделю прибывает на её уроки. Он признался учительнице, что одинок, недавно потерял последнего близкого человека — мать, и теперь танцы для него — главное спасение от тоски.
Уроки танцев облегчают душевное состояние не только мужчин, но и женщин. Студентка-японка поделилась с учительницей историей своего знакомства с мужем-американцем. Они разыскали друг друга по компьютеру. Два года переписывались, потом американец приехал за ней в Японию. Возник брак, казалось бы, вполне благополучный. Они любят друг друга. Но муж-предприниматель очень уж захвачен делами бизнеса и не уделяет супруге достаточно внимания. Японка впала в депрессию, но потом, зайдя в школу танцев, почувствовала, что уроки здешние явно исправляют её семейную ситуацию. Жена нашла себе приятное занятие и располагающую к себе учительницу, занятость мужа её больше не травмирует.
Американский опыт подсказал Лене, что занятие танцами способно даже исправлять природный характер человека. Пессимист Джим, с юных лет склонный к ворчанию и раздражению, после года в школе танцев, по общему мнению, стал спокойнее и жизнерадостнее. Танцует он сегодня лучше и в ответ на это слышит комплименты своих партнёрш. Комплименты эти его ободряют, так что в отношениях с окружающими Джим, несомненно, потеплел. Но особенно преобразился за последний год студент Ричард. Человек от природы несильный, он боится всего, что повышает его ответственность. В частности, на службе он несколько раз отказывался от повышения по должности и по этой причине терял работу. Страх, нерешительность были заметны у него и на первых уроках. В ритме вальса Ричард не мог решить куда — направо или налево — ему следует в следующую секунду повернуть свою партнёршу. Сегодня он уже преодолел в себе эту нерешительность и, более того, признался учительнице, что теперь его отношения и на службе приобрели большую устойчивость и прочность.
Но, разумеется, взгляды русской учительницы и её американских студентов совпадают не всегда. Однажды дело даже дошло до спора. Лена объясняла группе женщин принципы бальных танцев. Среди прочего сказала: "Мы, уважаемые дамы, следуем в танце за нашим партнёром. Каждый следующий шаг определяет он." "Как? Почему мы должны следовать за мужчинами?" — обиженно откликнулась 35-летняя американка с явно феминистическими наклонностями. Лена ещё раз объяснила, что таково основное правило бальных танцев, существующее уже не первое столетие. Она призвала слушательниц в процессе танца расслаблять себя, спокойно следить за партнёром и получать своё удовольствие. Политически накалённые женщины с учительницей не согласились. И хотя она умолкла, продолжали твердить о своих несправедливо утесняемых правах….
"В Америке я уже отвыкла от вторжения политики в моё любимое занятие, но это неожиданное столкновение с политиканствующими дамами напомнило мне дела давно минувших дней, — говорит Лена. — Оказывается, ныне покойное министерство культуры СССР, контролировавшее идеологию писателей, художников и музыкантов, не оставляло своим вниманием также и танцоров. В частности, на сцене и на танцевальных конкурсах запрещалось исполнять танго, рок-н-ролл, румбу и чачу. В них партийные чиновники обнаруживали "тлетворное влияние Запада". Зато настойчиво рекомендовался танец "сударушка", сочинённый якобы неким слесарем завода имени Лихачева. В конце концов любителям западных танцев удалось договориться с министерскими чиновниками о том, что концерты, содержащие западные элементы, будут уравновешиваться советской программой, включающей пролетарскую "сударушку". Мастерам танца заранее приходилось договариваться с "культурным" начальством о дозволенных пределах эмоциональности на сцене и длине юбок для танцовщиц.
Рассказы Лены Фроловой о своей американской жизни убедили меня: лёгким её здешнее бытие не назовешь. Она преподаёт в трёх школах. Кроме детской в Бруклине и взрослой в Манхеттене, неутомимая "миссис Фролофф" по воскресеньям занимается также с группой негров. Уроженцы Карибских островов, они создали в Нью-Йорке своеобразный клуб, куда пригласили русского педагога. У членов клуба, чёрных мужчин и женщин, Лена с удовольствием отмечает повышенное чувство ритма. Они великолепно исполняют свои национальные танцы, но хотят также с помощью Лены освоить танцы бальные, пришедшие в Америку из Европы. Занятия проходят в одной из церквей чёрного района. Здешние студенты Лене нравятся: они деликатны и внимательны к тому, что говорит и показывает белая учительница. В каком-то отношении они являются даже антиподами вчерашних советских граждан, поселившихся в Америке. Наши, как правило, "всё знают" и склонны поучать учительницу.
Но моя собеседница не только преподаёт, но и учится сама. "Останавливаться в нашем деле нельзя. — говорит она. — Стоит остановиться, как немедля покатишься назад." Для неё это не пустые слова. Она постоянно читает американский журнал, посвященный танцевальному искусству и посещает специальный танцевальный центр, где берёт уроки джаза. Джазом называют здесь направление в танцах, находящееся как бы на пересечении классического балета и гимнастики. Джаз можно танцевать и в одиночку. Основанное Айседорой Дункан направление сегодня стало в Америке даже более популярным, чем классический балет. Лена собирается со временем передать накопленные знания джаза своим воспитанникам в Бруклине.
Собственная школа тоже требует к себе немало внимания. Прежде чем открыть её, хозяйке пришлось в поисках наиболее удобного зала перебрать полдюжины различных помещений. Немало сил и времени требует от танцовщицы также изготовление соответствующей одежды. "Костюм помогает мне создать необходимый образ", — говорит Лена. Образ этот постоянно меняется по цвету и по форме. В прошлом году любимым цветом моей собеседницы был чёрный, в этом — жёлтый и оранжевый. Хозяйка школы позаботилась и о том, чтобы со вкусом одеть приходящих на занятия детей. Она разработала для них несколько вариантов одежды. Родители поддержали этот проект, и теперь мальчики и девочки приходят в её школу в специальной форме.
Преподавать танцы, кстати сказать, отнюдь не такое лёгкое занятие, как может показаться при взгляде со стороны. Среди студентов есть люди более и менее способные, есть публика спокойная, а случаются и порядочные капризули. Так что от учителя постоянно требуется изрядная степень терпения. Одного такого капризулю Лена вспоминает с горькой улыбкой. Ох, и намучилась она с этим Лёвой! Повышенно эмоциональный, болезненно реагирующий на каждое замечание, Лев случалось даже обиженно плакал на уроках. Но в конце прошлого года этот неуравновешенный юнец прислал учительнице нечто вроде просьбы извинить его. В присланную открытку Лёва вписал английский стишок на две строчки. В русском переводе звучало это так: "Учить меня был сущий ад, но гляньте же на результат!" И действительно, после многих месяцев обучения в группе скандалист Лёва стал танцевать совсем неплохо. Спасибо терпеливой учительнице!
Итак, третий год жизни Лены Фроловой в Америке завершается. Довольна ли она итогами? "Не то слово — смеется танцовщица. — Я счастлива! Моя служба — одновременно и моё хобби, дело, которое я люблю. Я буквально лечу на свои занятия…" Нет, миллионершей она не стала, да и не стремится к большим деньгам. Один студент как-то спросил её, почему она не играет в лото. "Ведь, купив удачный билет, можно одномоментно разбогатеть. Что бы вы сделали, заработав несколько сот тысяч?" — полюбопытствовал этот типичный американский мечтатель. И получил от русской учительницы ответ, который, надо полагать, изрядно удивил его. "Если бы денег оказалось так много, я бы открыла бесплатную танцевальную школу и танцевала бы там в своё удовольствие…".
VII. МЫ ЗДЕСЬ НЕ ПЕРВЫЕ.
1. Соседи по квартире?
Я эмигрант со стажем: двадцать с лишним лет живу в Америке, а точнее — в "столице мира" Нью-Йорке. Живу — не жалуюсь. Что-то в эмиграции потерял, что-то приобрёл. Потерял лучшее в мире метро и худшую в мире цензуру, лишился обдирного хлеба, дома творчества в Коктебеле и необходимость писать слово "родина" с большой буквы. Кое-что приобрёл. Например, американское гражданство, ломаный английский язык, концерты в Карнеги-Холл, привычку отдавать рубашки в китайскую прачечную и по любому поводу произносить "сорри”. Есть, однако, в нашей эмигрантской жизни одно обстоятельство, смысл которого понять мне никак не удаётся. Мы, новая, или так называемая "третья” волна эмиграции, те, кто приехал сюда за последние тридцать лет, живём рядом с другой русскоговорящей колонией, члены которой именуются "первой" и "второй" волной. Они добрались до Соединённых Штатов вскоре после Октябрьского переворота 1917 года или после Второй мировой войны. Так вот, между старыми и новыми россиянами в массе нет никакой связи. Мы почти ничего не знаем о них, они не интересуются нами. С обеих сторон я наблюдаю подозрительность и недоверие. Мы для них — "советские”, они для многих членов "третьей" волны — "белогвардейцы" и, конечно же, антисемиты.
Время от времени я беру интервью у наших "соседей". Люди как люди. Есть умные и глупые, интеллектуалы и серая публика, добрые и не очень. Антисемитизма у своих собеседников не замечал. Может быть, кто-то кого-то не любит. Но обществ, где все любят всех, как показывает мой журналистский опыт, не так уж и много. Зато беседы со "старыми русскими" приносят, как правило, много интересной, прежде мне неведомой информации. Я не всегда разделяю их взгляды, но в споры не ввязываюсь: у них свой мир, своя судьба. Тем не менее, чтобы лучше понять корни нашего "разночтения”, я опросил недавно шесть общественных деятелей "первой" эмиграции. Вот краткое описание того, что мне довелось от них услышать.
Первое знакомство — князь Алексей Павлович Щербатов. Этот крупный, я бы даже сказал, величественный господин пользуется среди "старых русских" особым почтением. И не только потому, что он князь. Наибольшее уважение вызывает то обстоятельство, что историк Щербатов, три десятка лет читавший лекции в американских университетах, кроме прочего, является крупнейшим знатоком российской генеалогии, той исторической дисциплины, что занимается изучением родов, установлением родственных связей, происхождением отдельных лиц. Он покинул Россию в день своего рождения, когда ему исполнилось десять лет. Сейчас ему без малого 90. Вот уже треть столетия Щербатов возглавляет Русское дворянское объединение Америки и Канады.
Мы беседуем в комнате, где книжные полки до потолка уставлены томами по истории российских дворянских родов. Оказывается, на исходе XX столетия вопрос о принадлежности к тому или иному роду по-прежнему волнует людей во всём мире. "Я получаю сотни писем из России и стран Европы, из Южной и Северной Америки, — говорит Алексей Павлович, — рассеянные по миру соотечественники интересуются, кто их предки, каково их происхождение." Пишут нередко и авантюристы, носители фальшивых титулов. Щербатов не стесняется разоблачать таких обманщиков. Забавно, но среди претендентов на высокие титулы оказываются подчас и члены "третьей" волны, "беженцы".
Биография князя Щербатова выглядит довольно пёстро. После бегства в двадцатом с белой армией из Крыма семья Щербатовых два года провела в Константинополе: ждали вестей от оставшихся в России родных. Выяснилось: восьмидесятилетняя бабушка была расстреляна по личному приказу Троцкого. Погибли от рук коммунистов и другие родственники. Но жизнь шла своим чередом: гимназия в Софии (Болгария), Университет в Брюсселе (Бельгия). Переезд в 1938 году в Америку. Служба в армии США. "Я мог бы сделать неплохую армейскую карьеру, — говорит Щербатов, но американцев раздражало то обстоятельство, что я с юных лет принадлежал к Центру борьбы с коммунизмом. Они же пытались во что бы то ни стало сохранять мир со Сталиным.
"Каковы цель и назначение возглавляемого вами Русского дворянского объединения?" — поинтересовался я. "В том, чтобы члены его ни на минуту не забывали свою родину, — ответил князь. — Для этого служат наши собрания, выходивший до недавнего времени "Бюллетень", а также лекции об оставленной нами стране." Общественно-политические взгляды моего собеседника для него вполне естественны: он монархист и противник распада империи (СССР).
Более подробно рассказал о характере и каждодневной жизни объединения дворян Америки секретарь организации Игорь Владимирович Васильев. "Мы — организация не политическая. И это не случайно. Не ввязываемся в политические свары, чтобы не рассориться между собой. Предпочитаем сохранять единство и помогать нуждающимся русским людям. Моё дело — собирать деньги и раздавать их." Основной источник доходов российских дворян в Нью-Йорке — ежегодный бал с очень дорогими билетами. Бал приносит объединению от десяти до двадцати тысяч долларов. Желающих провести вечер в обществе русских князей и графов в нашем городе, оказывается, сколько угодно. Покупают билеты в основном американцы. Их на балах бывает до девяноста процентов. Представлена на этих балах и "третья" волна. Наши преуспевшие "беженцы" не останавливаются перед тем, чтобы приобрести билетик за 150–180 долларов. Собранные деньги предназначены в первую очередь для помощи русским студентам, которые избрали для обучения богословский факультет. Деньги идут бедным российским вдовам (не обязательно дворянского происхождения), а также направляются в приюты Москвы и в монастыри Санкт-Петербурга. Секретарь объединения гордится своей организацией, но весьма скептически относится к подобному же объединению дворян в Москве. Поначалу в Московское объединение допускались лишь люди, готовые документально подтвердить своё происхождение. Но теперь москвичи решили создавать собственные дворянские книги и объявлять дворянами всех "достойных и заслуженных". Результаты не замедлили сказаться: московское дворянское объединение сегодня раздулось до пяти тысяч членов! Ньюйоркцы грустно иронизируют: в их Объединение входит всего лишь восемьдесят человек, да и в лучшие времена дворян настоящих тут насчитывалось не более ста пятидесяти….
Беседы со "старыми русскими" убеждают: эта национальная группа эмиграции в общественном отношении действительно показала себя на редкость активной. В Нью-Йорке и его окрестностях функционирует сегодня более десяти объединений и организаций. К сожалению, время не щадит "старых". Особенно жестоко обошлось оно с галлиполийцами. Боюсь, что мало кто из наших читателей помнит тот трагический эпизод российской истории, который датируется 1920-21 годами. Тогда, осенью двадцатого, из Севастополя, Евпатории, Ялты и Керчи почти одновременно двинулись к турецкому берегу 126 больших и малых судов. Корабли увозили 136 тысяч вооружённых воинов армии генерала Врангеля. Этим людям пришлось провести ужасную зиму в продуваемых палатках, на полуголодном пайке. Особенно мучительным оказался тот год для тех, кто поселился около турецкого городка Галлиполи. Но вместе с тем общие переживания сблизили этих русских. Они почувствовали себя связанными в единое братство. Возникло "Общество галлиполийцев”.
Мне довелось повидать в Нью-Йорке последнего руководителя американской ветви этой организации. Владимиру Петровичу Крюкову, перенесшему тот мучительный год в Турции, сегодня 96 лет. Тем не менее выглядит он на редкость прочным и здоровым. Прошёл Крюков тот же путь, что и остальные его собратья: работал на железной дороге в Югославии, потом восемнадцать лет на заводе в Америке. Семью создать не удалось, всю жизнь — один. Единственная душевная опора — собратья по Галлиполи. Владимир Петрович демонстрирует свой портрет в мундире корниловской армии и чёрный крестик на груди в память пребывания русской армии на чужбине. Нежно поглаживая значок семидесятипятилетней давности, он вспоминает тогдашнюю речь генерала Кутепова: "Вы целый год несли крест, — сказал тогда генерал, впоследствии убитый сталинскими кагебешниками, — теперь этот крест несите на груди. Объедините вокруг этого креста русских людей, несите честно русское имя…".
Монархизм, желание видеть Россию империей, возглавляемым единовластным императором, главная политическая идея, которую высказывают мои собеседники. Петр Николаевич Колтыпин, именующий себя Начальником Всероссийского имперского союза, пожалуй, наиболее страстная личность среди тех, с кем мне пришлось беседовать. Его главное занятие — просвещать российское общество, внедрять в сознание современников мысль о неизбежности и необходимости Человека на Троне. Ради этого члены имперского союза разыскали и на свои деньги издали вышедшую в самом начале столетия книгу Льва Тихомирова "Монархическая государственность". С той же целью Союз десятилетиями засылал на родину серии книжек, обращенных к русскому рабочему, русскому интеллигенту. Пропагандистскими книжками, однако, деятельность монархистов не завершается. Петр Николаевич с гордостью рассказывает о наиболее удачных акциях своего Союза. Им, например, удалось сорвать празднование в здании ООН 50-летия Октябрьской революции. Когда в Штаты приехал Брежнев, члены Союза купили в Нью-Йорк Таймс половину газетной полосы с тем, чтобы объяснить американцам простую истину: всерьёз разговаривать с коммунистами столь же абсурдно, как с гитлеровцами.
Сегодня деятельность Союза монархистов перенесена в основном на территорию России. Там возникли свои отряды поборников монархии. Русские американцы навещают их. Петр Николаевич уже трижды побывал в Москве, Петербурге и Екатеринбурге. В городе, где была расстреляна царская семья, монархистов значительно больше, чем в столице. По мнению Колтыпина ныне мы присутствуем при оздоровлении нации. Но пока массы ещё не осознали, что царская власть была бы наиболее благодетельной для народа. Так, например, законодательство российское, формировавшееся веками, во много раз совершеннее нынешних законов. Да и землю крестьянам давно уже следовало бы вернуть, что непременно сделал бы единовластный монарх.
Задаю Колтыпину последний вопрос: "Что можно сказать о наших монархистах, рассеянных по свету? Какова их политическая активность?" — "Увы, — констатирует Петр Николаевич, — когда-то понятие "имперец" горячо привлекало живущих в зарубежье земляков. Сегодня же нас за пределами России осталось не более двух тысяч. Наши дети и внуки, как правило, равнодушны к идеалам отцов и дедов. Надежда только на Россию. Но массового энтузиазма по поводу монархии нет и там…".
Председатель Объединения кадетских корпусов Дмитрий Васильевич Горбенко смотрит на будущее имперской идеи более оптимистично. Его организация состоит из мужчин в возрасте за семьдесят. Много лет назад в Югославии и Париже эти люди окончили кадетские корпуса — привилегированные военные училища. Сегодняшний оптимизм стариков зиждется на том, что в России после 1991 года тоже начали создаваться подобные учебные заведения, их там теперь столько же, сколько было при последнем царе — 29. Старые кадеты-эмигранты с надеждой взирают на юных, видя в них свою смену. И это не абстрактные мечтания. Старые кадеты постоянно ездят на родину, сидят на уроках, наблюдают за строевыми занятиями. У них возникли личные контакты с тамошними генералами и полковниками. Все эти контакты направлены на то, чтобы, по словам Горбенко, приблизить сегодняшних кадет к идеалам кадет прошлого. "Мы хотим воспитать в душах этих ребят православную веру, любовь к России. Кое-что нам удаётся: во многих училищах введён, как учебный предмет, Закон Божий. Прошлое России кадеты изучают не по советским учебникам, а по книгам дореволюционных историков”.
Но нью-йоркские кадеты и на этом не останавливаются. Ежегодно они посылают в российские военные училища темы для сочинений по русской истории. Что-нибудь вроде "Куликовская битва", "Дмитрий Донской", "Реформы Александра Второго" и т. д. Представитель Объединения кадетов в Москве генерал Чувакин отбирает лучшие работы и отправляет их специально созданной для этой цели комиссии в Нью-Йорке. Здесь из присланных работ отбирают три самых выдающихся, после чего юный автор получает из Америки денежный подарок. Председатель Объединения кадет верит: именно они, эти мальчики в форме повернут в свой час историю России в желательном для народа направлении. Завершая беседу, Горбенко продемонстрировал прикрепленный к пиджаку крест
Александра Невского — знак, отличающий кадет, в какой бы стране они ни жили. "Более всего я ценю в нашей организации чувство единения, наше братство, — говорит Дмитрий Васильевич. — Мы даже приобрели на Новодевичьем кладбище участок для своих. В строю стояли вместе, вместе будем и лежать…".
Та же забота о русских детях, которым в будущем предстоит вернуть России её исторический образ православной империи, видится мне и в активной деятельности Софьи Сергеевны Куломзиной, возглавляющей Комитет "Духовные книги для России". Встретиться лично с г-жой Куломзиной мне не удалось. Но в телефонной беседе дама эта, отметившая недавно девяностотрёхлетие, достаточно четко рассказала о принципах своей организации. Она пишет и засылает в Москву издания, которые должны помочь верующим родителям объяснить детям суть православия. Москвичи сотнями экземпляров бесплатно получают такие книги г-жи Куломзиной, как "Наша церковь и наши дети", "Рассказы о святых", "Молитвослов для детей" и другие в том же роде. Но откуда же Софья Сергеевна, человек отнюдь не богатый, берёт средства на свою издательскую деятельность? "Мы дважды в год оповещаем окрестные церкви и верующую публику о том, сколько новых книг мы успели напечатать, отправить, распространить, — рассказывает г-жа Куломзина. — Нам верят, люди откликаются. На очередное наше обращение в ноябре прошлого года ответили пожертвованиями сотни людей. Мы получили одиннадцать тысяч долларов".
— Чего же вы ждете от своей деятельности, что мальчики и девочки, взращенные на такого рода книгах, в будущем преобразуют Россию?
— Я не политик и не предсказатель. Меня интересует лишь каждый отдельный человечек, который возьмёт в руки мои книги, прочитает, обдумает их и тем духовно обогатит себя. Разве этого недостаточно?
…Я перечитал записи шести интервью, взятых у "старых русских". Комментировать не стану. Но мне кажется, что теперь я начинаю лучше понимать причину, по которой "третья" и "первая" волны российской эмиграции в Америке не находят общего языка. А вы, уважаемый читатель, что думаете по этому поводу?
2. Русские и в Америке русские
Всякий раз, когда в Нью-Йорке я попадаю в общество пожилых интеллигентных эмигрантов, разговоры наши неизменно соскальзывают на одну и ту же стезю. Собеседники жалуются на то, что в своём преклонном возрасте не могут одолеть английский. Из-за этого Америка остаётся для них непостижимой, до конца не понятной. Они не посещают кино и театра, не понимают большей части того, что видят на экране американского телевизора. От родной российской культуры оторвались, а до американской не дотянуться. "Мы загнаны в тёмный чулан, — драматически воскликнул на одном таком сборище пожилой учитель-москвич. — Российская дверь захлопнулась, а американскую нам вовек не открыть."
За всеми этими стенаниями я угадываю не только грусть эмигранта по утерянной русской культуре, но и тоску интеллектуалов по так называемым "разговорам на кухне". В оставленной нами стране такого рода сидения, где участники поносили Хрущёва-Брежнева, передавали друг другу запретные рукописи и тихонько напевали песни Высоцкого, Галича и Окуджавы, когда-то составляли немалую часть нашей духовной жизни. Именно этого, как мне кажется, не хватает в Америке пожилым русскоязычным новоприезжим. Создавать свои собственные культурные, общественные и политические объединения мы не очень-то умеем, в результате возникает тот самый "чулан", из которого вроде бы и выхода нет.
Я такого рода жалобы не поддерживаю. И не потому, что владею английским. Мой английский слаб. И тем не менее на одиночество не жалуюсь. Ибо с первых дней обрёл добрых знакомых среди так называемых "старых русских", тех, кого судьба забросила на американский берег полсотни лет назад и даже раньше. Никогда не забуду встреч с писателями и поэтами, ныне покойными: Василием Яновским, Иваном Елагиным, Родионом Берёзовым. Находил я интересных собеседников среди сотрудников радио "Свобода", в Русском институте Колумбийского университета. Постепенно удалось дознаться, что в Нью-Йорке функционирует добрый десяток русских научных, культурных, религиозных и национальных организаций. Профессиональное любопытство и тяготение ко всему русскому побудило меня разыскать руководителей этих объединений. Приятной неожиданностью было узнать, что в Нью-Йорке уже полвека существует Русская академическая группа (РАГ), три десятка лет выпускающая солидные тома своих "Записок". Получив на днях 28-й том, я обнаружил в нём множество интересных статей и в том числе блистательную работу о Достоевском моего друга профессора Арона Каценелинбойгена. Познакомиться с многими членами Академической группы пока ещё не удалось, но общение с Председателем РАГ профессором Надеждой Жернаковой вызвало у меня глубокое уважение к содружеству русских исследователей.
Я далеко не во всём соглашусь с собеседниками, прожившую в Америке большую часть своей жизни. Но меня привлекает в них упорство, с которым они сохраняют русскую культуру, русскую политическую мысль. Один из тех, кто прибыв в Америку задолго до нас, не растворился в ней и, более того, сберёг свои российские идеалы — Петр Николаевич Будзилович.
Мы с ним, как выяснилось, почти ровесники. Юность наша совпала с началом войны. Жестокая эпоха изрядно отыгралась на нас. Я побывал в ленинградской блокаде, а потом на фронте. Его, уроженца Гомеля, немцы угнали в Германию в качестве "остарбайтера". После войны я, нищий и бездомный, пытался прорваться в профессиональные журналисты. Петр, сидя в лагерях Ди-Пи, всячески крутился, чтобы союзники, не дай Бог, не вернули его в СССР. В конце концов каждый из нас к своей цели пробился. Петр Николаевич стал американским инженером и видным общественным деятелем, я — советским литератором, в тайне писавшим запретные книги. Жизнь за полвека склепала каждого из нас на свой лад. Мы — разные. В частности, по-разному относимся к вопросу о своей национальной принадлежности. Нелёгкий эмигрантский путь вызвал у Будзиловича повышенные национальные чувства. В разговоре он снова и снова возвращается к своей русскости. У меня многочисленные неприятности, связанные со сталинским и послесталинским государственным антисемитизмом, обострённых еврейских чувств почему-то не вызвали. Даже угрозы кагебешников, выдворявших меня из страны, не побудили ехать в Израиль.
К национальным чувствам Петра Николаевича я отношусь с уважением. Для него это не пустые слова. В частности, Будзилович с группой таких же страстных националистов основал в США сообщество земляков — Конгресс русских американцев (КРА). Объединение это отметило недавно четверть века своего существования. Создание такой организации — дело вполне рациональное. В США насчитывается два миллиона этнических русских. Кто-то же должен представлять и защищать их интересы. Такого же мнения держатся, очевидно, и власти страны. Борьбу Будзиловича в поддержку прав своей этнической группы они отметили высокой государственной наградой: медалью почёта "Эллис Айленд". И всё-таки в политических взглядах земляка приемлимо мне далеко не всё. Петр Николаевич несколько раз в нашем разговоре повторил слова "русофобы", "русофобия". Ненавистниками русских эмигрантов выступают, по его мнению, леваки-профессора американских университетов, которые постоянно смешивают понятия "русский" и "советский”. Профессора эти, а следом за ними американские журналисты и кое-кто из политиков, годами проводят в своих лекциях, статьях и выступлениях идею о нераздельности истории дореволюционной России и нынешней советской политики. У широкой публики такого рода речи создают представление, что русский народ в целом и коммунисты — одно и то же. Это они, русские, угнетают остальные народы, населяющие Россию.
Для русских, поселившихся после войны в США, наиболее болезненно прозвучал закон 86–90 о порабощенных народах (1959 г.). В том законе были перечислены все народы, попавшие под пресс коммунистического режима… кроме русского. Получалось, что русские — народ-злодей, поработивший несколько сот национальностей, но сам от коммунизма абсолютно не пострадавший. Основатели Конгресса русских американцев (КРА) как одну из важнейших целей своей организации поставили не допускать впредь публичного смешения понятий "русские" и "коммунисты". Позднее возникла необходимость бороться и против укоренившегося в здешней прессе оскорбительного выражения "русская мафия".
В этой акции русских, защищающих свои национальные чувства, мне всё видится справедливым, кроме терминов "русофоб" и "русофобия". Да не обидятся на меня творцы КРА, но я должен со всей откровенностью сказать им: никакой русофобии за двадцать лет жизни в Америке я не замечал. Нет её. Общество здешнее в массе своей ни к русофобии, ни к антисемитизму, ни к каким другим национальным "фобиям" не склонно. А смешение понятий "русские" и "коммунисты" происходило из-за банальной непросвещённости американцев во всём том, что касается России, её истории и культуры. Кстати, Президент Рейган, принимая в декабре 1988 года делегацию КРА в связи с тысячелетием Крещения Руси, публично признал несовместимость понятий "русский" и "советский". К этому времени, очевидно, Президенту его помощники кое-что об "империи зла” разъяснили…
Главная ценность Конгресса русских американцев видится мне в том, что в 30 городах страны, где КРА имеет свои отделы, русские постоянно просвещают местное население относительно реального лица России и роли русских в истории Соединённых Штатов. Для этого служат выставки, выступления наших перед американцами. К двухсотлетию США на Западном побережье была создана выставка портретов выдающихся русских землепроходцев, русских воинов, воевавших на стороне Америки, учёных и деятелей культуры, внёсших немалый вклад в созидание и процветание этой страны. Роль русских в культурной жизни Америки не уменьшается и ныне. Об этом свидетельствует, в частности, русско-американская палата славы — система наград, которые время от времени вручаются нашим выдающимся соотечественникам, живущим в США. Сегодня широкой американской публике уже ведомы такие почтенные имена, как "отец телевидения" Владимир Зворыкин, основательница Толстовского фонда Александра Толстая, Нобелевский лауреат экономист Василий Леонтьев, директор национального симфонического оркестра США Мстислав Растропович, выдающийся художник-портретист Михаил Вербов и многие другие… Той же цели — просвещению и информации — служат издания КРА на русском и английском языках. В одном из таких изданий, излагающем историю рождения Конгресса русских американцев, я обнаружил многозначительную фразу: "Русская этническая группа ныне вынесена на карту Америки, о ней стало известно в Белом доме, в Госдепертаменте, о ней знают законодатели…".
Это не пустая похвальба. Нынешний директор Вашингтонского представительства КРА Людмила Фостер уточняет: "Мы поддерживаем рабочую связь с конгрессменами, сенаторами, правительственными и неправительственными организациями. Мы снабжаем их информацией по русскому, российскому и даже некоторым советским вопросам. Сухощавая, в высшей степени динамичная, Людмила Фостер — человек, идеально подходящий для своей должности. Позади у неё почти полвека жизни в Соединённых Штатах, полтора десятка лет работы на радио "Голос Америки" и ещё сколько-то в правительственных учреждениях. Беседа с ней оставила у меня ощущение, что в столице нет сколько-нибудь приметной личности, с которой Фостер не была бы в деловых контактах. Вот лишь несколько примеров её напористой деятельности. Недавно она вместе с Будзиловичем вручила высокопоставленному правительственному чиновнику из Комитета по иностранным сношениям при Президенте США весьма решительно составленное заявление. Хотя власти в Москве переименовали ежегодный коммунистический праздник 7 Ноября в "День примирения", но руководство КРА видит в этой трагической дате лишь "День памяти жертв коммунизма" и призывает Вашингтон публично осудить коммунизм, как в своё время был осужден гитлеровский нацизм. Это заявление не прошло бесследно: 7 ноября 1997 года оно опубликовано в "Журнале Конгресса США". В другом случае вашингтонский представитель КРА обратилась в Совет при Президенте по расовым вопросам. Она представила документ, сообщающий о ряде шовинистических выпадов против этнических русских в США.
Можно соглашаться или не соглашаться с политической линией КРА, но представитель этой организации не пропускает ни одной возможности высказать властям свою точку зрения, особенно если это имеет отношение к русским. Недавно Фостер присутствовала на слушаниях Хельсинкской комиссии Конгресса США, когда там обсуждался российский законопроект о свободе совести. Не пропустила она и дебаты в Конгрессе по поводу международной преступности. Как утверждают свидетели, присутствие её даже побудило докладчиков более корректно высказываться об уголовниках-уроженцах России.
Всех акций, предпринимаемых КРА в Америке, не перечислить. Руководство организации вручает стипендии молодым студентам, которые, живя в Соединённых Штатах, серьёзно занимаются русской литературой и историей России. КРА выпускает толстый журнал "Русский американец" и ежеквартальный информационный бюллетень на русском и английском языках. "Русские бойцы” продолжают воевать против закона 86–90. Они уже добились, что текст закона в ежегодных декларациях президента страны не оглашается, но не теряют надежду со временем и вовсе провалить этот возмущающий их государственный документ. И ещё и ещё….
Организации подобные Конгрессу русских американцев ставят своей целью (и это вполне естественно) прежде всего заботу о своих членах и защиту своих идей. Но КРА не цепляется за интересы сугубо эгоистичные. Уже при основании общества было решено по мере возможности помогать жителям России, поддерживать соотечественников духовно и материально. В соответствии с этим принципом американские русские в течение пяти лет посылали на родину весьма солидные подарки. Они отправили за это время 250 морских контейнеров с продуктами питания, одеждой, обувью, медикаментами. Проект "Морской мост в Россию" прервался из-за того лишь, что российские таможенники стали разворовывать русско-американские дары. Возмущённые американские власти перестали оплачивать транспортировку контейнеров. Сейчас, однако, КРА ведёт переговоры с тем, чтобы проект этот снова ожил.
А вот и другой, не менее благородный проект Конгресса русских американцев. В городке Нерехта, неподалёку от Костромы, благодаря материальной помощи и заботам членов КРА летом 1996 года был открыт приют для бездомных мальчиков в возрасте от 4-х до 9-ти лет. Сейчас в том же городке создаётся приют для девочек. Вот уже четвёртый год как русские американцы помогают также живущим в России слепым детям. В Петербург, в медицинский центр, где под наблюдением врачей находится 150 маленьких слепцов, уже отправлено несколько тысяч долларов. Туда же члены КРА продолжают посылать продуктовые посылки. Продолжая ту же линию, КРА создал для группы особо нуждающихся жителей России ежемесячное пособие. Их подопечные получают при этом десять долларов. По американским стандартам деньги невелики, но живущим в нищете обитателям Российской Федерации "пенсия" эта служит изрядным подспорьем. Беспокоит руководителей КРА и судьба сельских церквей в России. Сотни таких храмов полуразрушены и нуждаются в срочном ремонте. Русские американцы не жалеют средств и на это доброе дело.
Слушая обо всех подобных расходах и заботах, я не удержался и спросил Будзиловича и Фостер, какова политическая и финансовая активность их "армии". В ответ на этот "бестактный" вопрос (о деньгах вроде бы спрашивать не полагается) оба мои собеседника тяжело вздохнули. Оказывается, всю ту общественную деятельность, о которой сказано выше, осуществляет лишь малая часть русских, несколько тысяч из двух миллионов. "Большинство наших соотечественников в Америке настолько ушло в быт, посвятив своё время "хорошей жизни", что их не трогают ни судьбы Америки, ни дела российские, ни положение нашего конгресса, — призналась Людмила Фостер. — Нелегко бывает собрать даже крайне скромные членские взносы…".
Ответ Петра Будзиловича прозвучал ещё более горько. Да, среди членов КРА есть, конечно, благородные и широкие натуры, одаривающие КРА своей поддержкой. Некоторые из них даже завещают организации своё наследство. Но таких предельно мало. "Когда я подхожу к земляку и приглашаю его участвовать в нашей общей борьбе, то чаще всего слышу примерно следующее: "Я работаю на заводе, никто меня не обижает, мне не с кем воевать и не за что." Общую пассивность русских Петр Николаевич объясняет отсутствием у них эмигрантского опыта. Русские в массе своей не жили за границей. Евреи, которые столетиями и тысячелетиями мечутся по чужим странам, понимают: в единении сила. Если не тянуть с единоверцами общую лямку — пропадёшь. Мы этого пока не уразумели…".
Тема эта снова всплыла, когда я задал Будзиловичу последний вопрос: "Как объяснить, что в Конгрессе Соединённых Штатов среди сенаторов и конгрессменов нет ни одного этнического русского?" — "Русские по традиции политически пассивны, — с явным огорчением откликнулся Петр Николаевич. — Нам трудно оторвать себя от наших собственных сугубо национальных болей, а чаще от своих личных, семейных и служебных проблем. Между тем, для того, чтобы американские избиратели подхватили и подняли на вершины власти некую личность, личность эта должна привлечь людей общепринятыми, общечеловеческими идеалами. Армяне и евреи оказались в Конгрессе США не потому, что твердили о своей национальной принадлежности. Они подхватили общеамериканские идеалы и защищают эти идеалы на виду всего народа. Национальные чувства они оставляют для домашнего общения…".
Я с интересом и пониманием выслушал этот откровенный монолог главы КРА. Похоже, что за четверть века пребывания в этой организации её нынешний руководитель глубоко постиг суть русского характера.
…Как, вероятно, поняли наши читатели, описанный выше Конгресс русских американцев, как и другие подобные организации, не представляется автору идеальным. И тем не менее этот союз земляков несёт в себе немало доброго и разумного. Для кого-то он может стать даже ДОМОМ, местом, где освобождаешься от ощущения, что ты одинокий иностранец. Был бы рад, если бы мой рассказ побудил новоприезжих соотечественников расширить круг своих эмигрантских знакомств, заглянуть в одно из тех русскоязычных объединений, что возникли задолго до нас. Знакомьтесь, друзья, прислушайтесь к разговорам на родном языке. И помните старую истину: "там, где состоялось знакомство, там не исключена и дружба".
3. Спор поколений
Когда переваливаешь за семьдесят, то у своих собеседников в возрасте тридцати-сорока лет всё чаще замечаешь скептические взгляды, иронические улыбки. Дескать, говори, говори, старик, всё это дела давно минувших дней, сегодня так не носят. Речь не идёт о неуважении, а тем более о грубости молодёжи к старшему. Просто следующее поколение считает наши взгляды устарелыми уже по одному тому, что они сформировались полвека назад. Я не препираюсь с молодыми и не спешу в угоду им обновлять своё видение мира. В душе считаю, что оппонентам моим не хватает жизненного опыта. Даст Бог, подрастут, тогда……
Но вот недавно совершенно неожиданно я сам оказался в роли юнца. Интервью давал мне 93-летний старец. Рассказ его о своей жизни был полон резких поворотов, конфликтов и неожиданных решений. Я слушал его и думал, что я бы сделал всё не так, активнее конфликтовал бы и реже уступал своим врагам. Вернувшись после той встречи в Нью-Йорк и перечитывая магнитофонные записи беседы с человеком, который годился мне в отцы, я оказался в положении тех самых молодых, о которых сказано выше. Ещё раз уразумел, что понять взгляды другого поколения нелегко, а принять их подчас и вовсе невозможно.
Я поехал в другой город знакомиться с Николаем Александровичем Троицким (год рождения 1903) после того, как узнал: этот крестьянский сын, архитектор по образованию, сидевший в советских тюрьмах и немецких лагерях, ближайший сотрудник генерала Власова и страстный противник большевизма недавно отправил свой накопленный за многие годы архив в Москву. Тамошние специалисты оценили эти бумаги, как чрезвычайно ценное собрание материалов, открывающих судьбу семи миллионов россиян, захваченных немцами в годы Второй мировой войны, а также неизвестные доселе подробности о так называемой "второй”, послевоенной эмиграции. Архив Троицкого охотно и даже за хорошие деньги соглашались приобрести американские университеты. Он же в качестве своего духовного наследника избрал Государственный Архив Российской Федерации (ГАРФ), учреждение, где десятилетиями в строжайшей тайне и недосягаемости хранилась под надзором КГБ правда о реальной истории страны. Почему?
Таких "почему" за три дня, пока мы беседовали с Николаем Александровичем в городке Вестал (штат Нью-Йорк), накопилось множество. Постепенно судьба отправленного в Москву архива отступила на второй план. Возник значительно более серьёзный вопрос: как этому рослому, почти двухметровому, не согнувшемуся в свои 93 года русскому мужчине удалось выжить после всех передряг, выпавших на его долю.
Троицкий слеп. Зрение потерял ещё лет 12 назад. Но с памятью всё в порядке: помнит сотни фактов, цитат, эпизодов шестидесяти — и семидесятилетней давности. А главное, запомнил во всех деталях те наиболее резкие повороты судьбы, которые вроде бы должны были погубить его, но закончились спасением. Детство прошло в семье деревенского дьякона под Симбирском. Шестеро детей. Бедность. Как и другие мужики, семья дьякона пахала свой земельный надел, сеяла, убирала. Николай дважды в детстве и юности чуть не умер от голода. Тем не менее среднее образование получил, а затем и политехникум одолел. Чтобы прорваться к высшему образованию при большевиках сыну дьякона пришлось сменить фамилию. Троицким (от слова "Троица") советскому студенту быть не подобало. Менять фамилию в течение жизни пришлось четыре раза, иначе бы не спастись. Он не упрямился, менял.
Троицкий не скрывает и другую особенность своего характера: он всегда, особенно в советскую пору, умел заводить доверительные отношения с людьми, занимающими высокое положение. Это, несомненно, продвигало его карьеру. Высокопоставленный советский чиновник, друг наркома просвещения Бубнова и сестра поэта Маяковского продвинули его, в частности, на должность Учёного секретаря Московского архитектурного общества, а потом сделали заместителем Учёного секретаря Академии архитектуры. На должностях такого рода приходилось исполнять, как он сам выражается, "чёрную работу", чёрную — в смысле нечистую. Сталин в эту пору — начало тридцатых — начал активно душить независимость творческой интеллигенции. Литераторов загнали в единый и неделимый Союз писателей, то же самое сделали с художниками и архитекторами. Со своей почтенной должности молодой Троицкий подавал команды, которые, в частности, лишали российских архитекторов права за независимость при созидании театральных зданий. Все театры должны были быть отныне многоместны, предельно скромны, дёшевы и пригодны для проведения политических массовых акций. "Я признаю, всё то, что я делал в те годы, оборачивалось гонениями на отечественную архитектуру, на театр, на искусство России, — признаётся мой собеседник. — Я этого не осознавал. Из меня сделали исполнителя всего того, что хотела большевистская власть".
Массовые аресты конца тридцатых не обошли и скромного "исполнителя". В Пятом особом отделе ГПУ его били плетью. После удара по голове мраморным пресс-папье он потерял сознание. На одном из допросов ему плеснули в лицо чернила. Пришёл в камеру, все начали смеяться. Кто-то вспомнил строку из Вертинского: "Лиловый негр вам подаёт пальто". Николай Александрович утверждает, что все эти издевательства и побои его не озлобили. "Во мне сказывалась материнская, крестьянская кровь (дед и бабка были ещё крепостными): "Ну что ж, пороли, били и что
с того?" В какой-то момент он даже нашёл у поровшего его плетью русского парня какие-то привлекательные черты. "Бедняга, его совратили." Спасла Троицкого по существу случайность: Сталин сменил наркома Ежова на Берию. Кровопийца номер два предпринял для начала "малую реабилитацию", выпустил из тюрем и лагерей, где томились сотни тысяч ни в чём неповинных, пару тысяч человек. Троицкий оказался в их числе. Выйдя на свободу, молодой архитектор получил ещё один удар: испугавшись ареста, жена предала мужа, развелась с ним.
Борцом у себя на родине мой собеседник никогда не был. Его общественные поступки, как и у миллионов других, определял прежде всего страх. Когда в начале войны в Москве опять начались массовые аресты, Троицкий в страхе бросился добровольцем в армию. Застенки ОГПУ-НКВД вызывали больший ужас, чем опасности, связанные с войной. Фронт, впрочем, не порадовал. Кровавые бои под Вязьмой. Окружение. Восемнадцать суток метания по голодным и холодным октябрьским лесам. В конце концов Троицкого схватил немецкий патруль. Таков был очередной жестокий поворот его судьбы. И не только его. В ту осень в плену у немцев оказались четыре советских армии, 663 тысячи человек. Захваченных погнали в сторону Смоленска. Шли неделю, военнопленных не кормили. Тех, кто ослабевал, пристреливали. Троицкий выдержал. Потом полтора года в лагере. За это время вымерло не менее двадцати тысяч россиян. Здоровяк Николай вынес и это. Но жизнь лагерная испытывала не только тело, но и душу. Приятель Борис, скрывающий своё еврейство, тайно сообщил Николаю, что ночью предстоит бегство из лагеря семидесяти заключённых. "Ты с нами?" — "Нет, не побегу." В душе взыграл старый страх. Он не ждал ничего доброго от немцев, но и возвращение в мир НКВД не сулило ничего хорошего. В лагере уже знали: Сталин приказал всех попавших в плен считать предателями….
Чем кончился тот побег для его участников, Троицкий не знает, но зато во всех подробностях помнит события, происшедшие после того. Его взяли из лагеря и привезли в Сосновку, в штаб немецкой армии. Привели пред очи гитлеровского генерала, который напрямик предложил пленнику принять участие в антисоветской пропаганде. Столь же откровенно генерал попросил Николая Александровича высказать свои политические взгляды.
"Я сказал ему, что прежде всего — русский, — вспоминает Троицкий, — с советской системой ничего общего не имею. С другой стороны, мы, жертвы сталинского режима, думали, что немецкая армия придёт в нашу страну, как армия-освободительница, а вы нас уничтожаете…". Логика русского, очевидно, генерала удовлетворила. Покладистому и достаточно грамотному парню поручили возглавить выходившую в Витебске, а затем в Двинске пропагандистскую газету "За Родину". А чтобы оставшимся в СССР родственникам нового редактора не доставлять лишних неприятностей, немцы дали ему новую фамилию — Нарейкис. Так состоялась вторая смена фамилии.
В этом месте интервью наше споткнулось. Спотыкались мы и прежде, но на этот раз ушибло меня особенно больно. Как известно, интервью состоит из задаваемых вопросов и получаемых ответов. Но всякий раз, когда я пытался что-то уточнить, Николай Александрович раздражался. "Вы сбиваете мою мысль, — рубил он. — Помолчите!” Признаюсь, ничего подобного со мной за пятьдесят лет профессиональной деятельности не происходило. Случалось, что люди отказывались давать интервью. Я не спорил. Это их право. Но если тебя приглашают приехать из другого города, принимают в своём доме и соглашаются дать интервью, такие капризы вроде бы неуместны. Тем не менее Николай Александрович каждый мой вопрос воспринимал с раздражением. Особенно бурное негодование вызвал вопрос о том, почему немцы вытащили из лагеря именно его? "Они узнали, что вы отказались от побега? Или вы сами высказали им своё расположение и согласились на сотрудничество?" Ответа на эти очень важные для меня вопросы я так и не получил. Пришлось смириться и продолжать общение, так сказать, одностороннее.
В 1944 году мой собеседник окончил немецкую пропагандистскую школу. Выпускникам присуждали при этом воинские звания и отправляли в лагеря, где томились советские военнопленные. Пропагандистам полагалось перевоспитывать соотечественников, делать их врагами советского режима. Троицкого в лагерь не послали. Вместо этого он получил назначение на пост доверенного лица генерала А.А. Власова. Тесное общение со знаменитым захваченным в плен советским генералом, основателем русской освободительной армии (РОА) определило всю дальнейшую судьбу Троицкого в годы войны и позднее. Как своему доверенному лицу Власов поручил ему сначала возглавить газету "Доброволец" с тем, чтобы изменить тенденцию этого немецкого пропагандистского издания. Газета, по заданию Власова, должна была стать более русской, пронизанной русским духом. Это нелёгкое задание (немцы раздражённо реагировали даже на само слово "русский") Николай Александрович тем не менее выполнил. Власов оценил умение своего порученца ладить с людьми (как с русскими, так и с немцами) и стал давать ему одно за другим столь же деликатные задания. "Я всё выполнял, хотя случалось буквально ходить по лезвию бритвы. Если бы я в чём-то промахнулся, меня никто не спас бы, и в том числе Власов. Ведь вся армия пропагандистов находилась в руках Розенберга и эсэсовцев”.
Когда в середине 1944 года Власов и его окружение начали опять-таки по указанию немцев основывать Русскую освободительную армию, именно Троицкий написал первоначальный текст Манифеста, разъясняющего цели и задачи РОА. Документ этот впоследствии дорабатывался, но в целом все идеи власовского порученца сохранились. "В манифесте не было ни слова об антисемитизме, — говорит автор исторического документа. — Мы лишь призывали тех, кто был готов встать под наши знамена, бороться за Россию без большевиков и эксплуататоров (капиталистов)".
При воспоминании о Власове голос Николая Александровича явно смягчается: "Это был умный, тактичный и волевой человек." Троицкий с удовлетворением напоминает, что его шеф, как и он, был из крестьян, получил духовное образование. "У Власова был религиозный взгляд на мир. Он пришёл к выводу, что Советский союз — не его родина, это страна, захваченная пришедшими со стороны людьми. СССР — дьяволиада, направленная против народа России," — говорит Троицкий. Мой собеседник исповедует ту же идею: народ российский к советскому строю непричастен. Он (народ) лишь жертва, а носители марксизма-ленинизма — люди извне. "Советский союз — не моя родина," — снова и снова повторяет бывший власовец. Чтобы не раздражать его, я отказался от обсуждения этой чуждой мне идеи. Вспомнил мысль, высказанную в начале этого очерка: людям разных поколений понять друг друга трудно, а подчас и невозможно.
После разгрома гитлеризма моему собеседнику пришлось годами скрываться и снова менять свою фамилию. Живя в Мюнхене, он стал Борисом Яковлевым, эмигрантом из Югославии. Этот очередной поворот его жизни был самым страшным. Советских граждан хватали прямо на улицах города и отправляли на Восток. В соответствии с Ялтинским соглашением, подписанным Сталиным, Рузвельтом и Черчиллем, русских депортировали "на родину". Большинство из них при этом прямиком попадало из гитлеровских лагерей в сталинские. Попади Николай Александрович в этот поток, живым ему из него не выбраться. Но обошлось. Не схватили.
Очередной виток жизни моего героя связан с новой вспыхнувшей в Европе войной, с "войной холодной". К концу сороковых годов союзники постигли захватнические планы Кремля и приступили к обороне. В частности, они пригрели оставшихся в Европе русских, готовых политически противостоять большевистским идеям. Наиболее известные в эмиграции фигуры, такие как Керенский, Мальгунов, Кромиади и другие призвали соотечественников к объединению в организацию, которая получила название "Союз борьбы за освобождение народа России". Троицкий был одним из самых активных творцов СБОНР и его избрали председателем союза. Послевоенные немцы и американцы положительно восприняли политическую активность русских эмигрантов. Положительно отнеслись они и к созданию в Мюнхене русской библиотеки, а затем к возникновению в те же годы (1950) Института по изучению истории и культуры СССР. В течение нескольких лет Николай Александрович, основатель Института, оставался директором этого исследовательского, а по сути антибольшевистского центра. В Институте велись серьёзные исследования советской действительности, проводились международные научные конференции, печатались труды советологов. Активность этого научного учреждения несомненно свидетельствует о таланте и энергии директора. Но успех такого рода деятельности в годы "холодной войны" прежде всего подогревала конфронтация стран Запада со Сталиным. Американцы не жалели средств на политико-разоблачительные акции, а директор Института, как обычно, ни с кем не конфликтуя, вполне добросовестно вёл своё детище.
Смерть Сталина нарушила ритм отношений Запада и Востока. Американцы возмечтали о том, чтобы смягчить конфронтацию с коммунистами, слишком уж дорого обходилась им гонка вооружений. А немецкий канцлер Аденауэр сделал попытку смягчить отношения с Советским союзом в надежде, что удастся вернуть домой загнанных в советские лагеря немецких военнопленных. Новая политика Запада не лучшим образом сказалась на судьбе Троицкого. В 1955 году он под фамилией Яковлев опубликовал книгу "Концентрационные лагеря СССР". Появление такого труда за много лет до книг Солженицына вызвало взрыв всеобщего интереса. Но вмешались некие силы и книга-бестселлер, которую следовало бы издать миллионными тиражами, исчезла с полок книжных магазинов. Сработал механизм "большой политики". Та же политика вторглась в деятельность Института в Мюнхене. Троицкому пришлось покинуть директорский кабинет и переехать в Америку. Так завершился ещё один жизненный цикл этого долгожителя. "Яковлев”, автор книги о советских лагерях, на пороге шестидесятилетия превратился в американского гражданина Троицкого.
Американскую часть бытия моего героя тоже лёгкой не назовешь. Пожилому человеку пришлось заново изучать иностранный язык, учиться в университете, осваивать новую профессию библиотекаря-библиографа. Все эти испытания Троицкий выдержал с достоинством. Кстати, приняли его на работу в Корнельский университет в качестве библиографа на должность, которую до него занимал знаменитый писатель Набоков. Новый американец, переселившись из Европы, не утратил способности спокойно, без сопротивления, врастать в образ жизни той страны и эпохи, в которой оказывался. Так было в Москве в 30-х, в немецком лагере, в обществе эсэсовцев, в качестве директора Мюнхенского института и студента Колумбийского университета. Не эта ли способность к абсолютному душевному равновесию и продлевает в первую очередь нашу жизнь?
Насколько я понял характер моего собеседника, Николай Александрович считает себя лицом историческим, героем без страха и упрёка. Он охотно и уверенно просвещает окружающих, сохраняя власовский взгляд на мир. По-прежнему убеждён, что виноваты в бедах России "чужие дяди". "Наши дяди" ни в чём не виноваты. Они лишь жертвы трагических обстоятельств. Философия, что ни говори, удобная….
Новый виток жизни обогатила и облегчила Троицкому его замечательная жена Вера Григорьевна. Она тоже прошла нелёгкие испытания в немецких лагерях, но сохранила спокойный и разумный взгляд на мир. Насколько я мог понять за три дня, проведённые в доме Троицких, Вера Григорьевна относится к той наиболее разумной категории супруг, которые, не препираясь и не воюя, ведут свой семейный корабль наиболее верным и наиболее безопасным путём. При всём том она имеет на всё своё собственное мнение. В частности, не одобряет решение мужа передать свой архив в Москву. Но вместе с тем жена с уважением говорит о той черте мужа, что зовётся
историческое чувство. Да, он вложил в собирание и сохранение исторически ценных бумаг много сил, многим рисковал и за одно это достоин уважения. Но с советской публикой дело лучше не иметь. Об этом Вера Григорьевна знает по собственному жизненному опыту….
Так чем же всё-таки руководствовался Николай Александрович, отправляя за океан, возможно, самую дорогую ценность своей жизни — двадцать ящиков бумаг, четыре тысячи архивных единиц? Можно, конечно, свалить всё на честолюбие и тщеславие. Черты эти нередко толкают нас на недостойные, а то и глупые поступки. Но не хотелось бы так упрощать немаловажный эпизод культурной жизни России. Сам владелец архива говорит о своём желании
просветить российский народ. Ну, что ж, его понять можно. Но боюсь, что в этом внешне благородном поступке таится ещё кое-что. Не скрыт ли тут элемент нашего врождённого советского рабства? Нас с детства учили писать слово "родина" с большой буквы. Долбили: всё, что на благо этой самой родине — то и хорошо. Так не она ли, запавшая в глубину сознания идейка побудила моего собеседника переправить свой подарок из города Вестал в город Москву? Буду рад, если откликаясь на этот очерк, читатели наши, принадлежащие к разным поколениям эмиграции, поспорят и убедят меня в моей ошибке. Но пока, как я писал выше, менять свою точку зрения у меня причин нет.
4. А нужен ли русский язык в Америке?
То, что дети нашей эмиграции в массе своей очень скоро по приезде теряют русский язык — истина, которую нет нужды доказывать. Социологи даже статистические цифры на этот счёт неоднократно публиковали. Да что там статистика! Любая бабушка вам расскажет, как неохотно её внучка объясняется с ней по-русски и какой ломаный язык у её внука. А в некоторых семьях контакты между старшими и младшими рвутся на языковом уровне полностью. Почему-то у живущих рядом со мной испанцев ничего подобного не происходит, а у нас вот так….
Я сделал несколько попыток понять позицию российских родителей касательно языка своих потомков. Спрашивал, не хотят ли они, чтобы в первые год-два по приезде их дети учились бы в русскоязычных классах, чтобы не отставать от коренных американцев в школьных предметах. Интересовался, читают ли они своим малышам русские книжки? Сохраняется ли язык оставленной родины в семейном общении? Большинство опрошенных пап и мам высказались в том смысле, что сохранять русский язык, живя в Америке — блажь. Дедушки и бабушки пусть читают русские газеты и слушают русское радио, поскольку им ничего другого не остаётся. А молодым — зачем он нужен? Им ведь карьеру предстоит делать американскую, а не русскую. Да и кому вообще в Америке надобен русский язык?
Я не учитель жизни и не мое дело наставлять взрослых людей, как им вести себя в своей собственной семье. Хочу лишь рассказать о нескольких встречах с теми россиянами, для которых русский язык вот уже много десятков лет остаётся неизменной ценностью. Они нашли ему применение в Соединённых Штатах. И неплохое. В основном, это люди "первой" и "второй" эмиграции, их дети и внуки. Беседы с ними убедили меня в том, что кое-какую ценность русский язык в Америке всё-таки представляет….
С переводчиком Президента Соединённых Штатов мы встретились в Вашингтоне. Мой собеседник оказался личным переводчиком Клинтона. И не только Клинтона. За годы службы в Госдепартаменте (Министерство иностранных дел США) Дмитрий Михайлович Заречняк переводил с английского на русский речи и беседы многих Президентов и Вице-президентов, Государственных секретарей и сенаторов. "Перевод с русского на английский и наоборот — не просто моя профессия, — говорит он, — это моя жизнь." И действительно, проведя в обществе Дмитрия Михайловича два с половиной часа, я убедился, насколько горячо захвачен своим делом этот русский человек.
Дитя первой послереволюционной эмиграции, он родился в Чехословакии и ребёнком привезён был в Америку. Семейным языком дедушки и бабушки, отца и матери все эти годы оставался русский. Страстные антикоммунисты, они вместе с тем чтили всё связанное с культурой России. Мать Дмитрия получила в Америке докторскую степень за исследование творчества А.Чехова. Отец стал университетским профессором, специалистом по русской лингвистике. "Наш дом был буквально наводнён русскими книгами, — вспоминает Дмитрий. — Я с детства читал классиков взахлёб. "Окончив школу, юный Заречняк избрал было в качестве будущей профессии математику, но очень скоро разочаровался и перешёл на филологический факультет университета. Он считает, что от математики его уберегли два прочитанных за те годы романа: "Преступление и наказание" и "Анна Каренина". Филолога из него, правда, не вышло. Зато по счастливому обстоятельству, в 1971 году, когда начали улучшаться советско-американские отношения, Дмитрий получил работу в Госдепартаменте переводчиком. И вскоре понял — это как раз то, что ему надо.
В Россию попал он первый раз в 1971-м, когда ему было 26 лет. Сопровождал американскую делегацию, ехавшую обсуждать проблемы космических полётов. Из-за различия московского и вашингтонского времени проснулся ночью, не мог уснуть и на рассвете вышел из гостиницы. Оказался на Красной площади. С удивлением увидел, что в этот ранний час люди куда-то бегут. Оказывается, с четырёх до семи утра здесь выстраивается очередь в мавзолей Ленина. После семи милиция в очередь уже не допускает. Дмитрия, как иностранца, всё-таки впустили. Это вызвало негодование в толпе опоздавших. "Пустите меня, — кричала одна женщина. — Там впереди мой муж стоит! Я советская гражданка, а меня не пускают! Почему этих поганых иностранцев пускают, а нас — нет?!" "Как ни странно, — вспоминает сегодня Дмитрий, — но эти грубые выкрики меня не обидели, а наоборот, растрогали. Я был счастлив, что я в Москве, вокруг звучит русская речь, стоят русские люди. Расчувствовался так, что даже слезу уронил…". Это гордое ощущение своей русскости навещало его и потом. Но сегодня, после почти четверти века постоянных контактов с российской публикой, эмоции такого рода несколько поутихли. Для этого есть достаточно причин.
Профессия переводчика, пребывающего в государственных "верхах”, — своеобразная, длящаяся всю жизнь школа. Изучать приходится не столько язык (с языком, как русским, так и английским, у него проблем нет), сколько особенности двух на редкость несхожих национальных характеров.
Американская и русская реакция на слово, жест, шутку поразительно различны. Российская реакция, как заметил за эти годы Дмитрий, в значительной степени отражает засевший в душу, порой даже не осознанный страх. Именно он, страх, постоянно заставляет советских граждан хитрить, вертеться, лгать и умалчивать. После четвертьвековой службы и не менее двухсот поездок в Россию переводчик из Вашингтона эту особенность своих единокровных улавливает безошибочно.
Один из первых уроков такого рода Заречняк получил в самом начале своей карьеры. Осенью 1971 года было объявлено, что весной следующего года Президент США (Никсон) впервые после окончания Второй мировой войны отправится с визитом в Советский союз. Советник Президента по национальной безопасности Киссинджер в те же дни случайно познакомился с Евгением Евтушенко. Он решил, что советский поэт может подсказать Президенту, как произвести положительное впечатление на кремлёвцев, а также на российскую интеллигенцию. Были назначены дата и час встречи Никсона и Евтушенко. Дмитрия вызвали переводить. Они с Евтушенко пришли в Белый дом несколько раньше срока. Разговорились. "Где вы работаете?" — спросил поэт. "В Госдепертаменте", — ответил переводчик. "А в посольстве Советского союза не работаете?" "Это было бы трудно совместить”, — пошутил Дмитрий. Он понял: поэт побаивается встретить в переводчике двойного агента.
Вошёл Никсон, и Евтушенко с ходу начал разъяснять ему, как себя вести в Кремле, как и чем можно расположить к себе российскую интеллигенцию. Он пытался изобразить из себя политического оппозиционера, критиковал Брежнева и его окружение. "Беседа продолжалась час, — вспоминает Дмитрий. — Меня, откровенно говоря, речи российского гостя удивили. Президент слушал внимательно, но вопросов почти не задавал. Поблагодарил, и мы разошлись. На прощание, однако, Евтушенко произнёс ещё одну фразу, которую я помню дословно и не забуду до конца своих дней. "Дима, если вы работаете на КГБ, то знайте: всё то, что я говорил — это на благо Родины." Слово "родина” произнёс он явно с большой буквы".
Очевидно, "заботой о благе родины" руководствовался и посетивший Америку министр здравоохранения СССР Борис Петровский. "Я сопровождал его в поездках, переводил его выступления, — рассказывает Дмитрий. — Многое из того, что он рассказывал американским слушателям, для меня было сомнительным. Но однажды он попросту соврал. Это было в резервации индейцев племени Наваху. Министра спросили, играют ли женщины сколько-нибудь заметную роль в советской медицине. Петровский стал подробно объяснять, что женщин-врачей на его родине значительно больше, чем мужчин. И это происходит потому, что в Советском союзе женщина имеет особенно широкие возможности избирать себе профессию по вкусу. "А на руководящих медицинских постах сохраняется такая же пропорция?" — спросил другой слушатель. "О, да, конечно!", — воскликнул министр." Заречняк уже неплохо к этому времени знал детали советской жизни и понял, что министр врет. Переводить враньё — занятие не самое приятное, но у переводчика другого выхода нет…
Советский страшок явственно вылез и в разговорах американского переводчика с известными советскими поэтами Наровчатовым и Лукониным. Эти двое в обществе переводчицы Фриды Лурье прибыли в Соединённые штаты в начале 70-х в порядке "культурного обмена”. Дмитрий целый месяц возил их по стране, переводил во время встреч с американцами. За это время переводчик и русские стихотворцы сблизились и даже подружились. Поэты любили выпить. Особенно Наровчатов. Когда вернулись в Вашингтон, Наровчатов на прощанье хватил лишнего и в присутствии остальных соотечественников пустился в откровенность: "Слушай, Дима, мы тебя полюбили, мы тебе доверяем…. Я тебе признаюсь: когда мы выезжали из Москвы, нам в ЦК сказали……". Договорить фразу до конца Наровчатов не успел, Луконин и Лурье с расширившимися от ужаса глазами кинулись к нему и только что не заткнули ему рот. "Я сделал вид, что ничего в этой сцене не понял, — смеется Заречняк, — но эти "интеллектуалы", судя по всему, уехали домой изрядно напуганными. Ещё бы, чуть не проболтались…".
В разные годы Дмитрий переводил для Никсона, Картера, Рейгана, Буша, Клинтона. Президенты, по его словам, по отношению к нему проявляли себя, как правило, людьми корректными. Одни запоминали имя переводчика, другие нет, но это его мало беспокоило. Интереснее было наблюдать их, так сказать, личностный облик. Рейган был человеком чётких взглядов. Коммунизм, права человека, вера в Бога были для него не пустыми понятиями. То, во что он верил — он верил, что не любил — то не любил. Он не позволял себе отказываться от своих принципов ради сиюминутных политических выгод. Но в советско-американских отношениях гораздо лучше Рейгана разбирался Буш. По-разному относились Президенты и к текстам своих выступлений, которые им готовили специалисты. Рейган читал речи по заранее составленным текстам, ничего в них не меняя. Клинтон, наоборот, имеет обыкновение менять текст своих выступлений. Он продолжает заниматься поправками до последней минуты. Для переводчика такая манера создаёт повышенное напряжённость. Если текст заготовлен заранее, переводчик имеет время и возможность его отшлифовать, сделать в переводе более гладким и даже более красивым. За минуту до выступления такую работу уже не сделаешь.
Мой собеседник не скрывает: быть переводчиком на таких "высотах" — дело непростое. Переводчик Президента постоянно испытывает на своей работе напряжение и даже волнение. Да и как не волноваться, если очередная встреча Президента с высокими гостями происходит на лужайке Белого дома под надзором множества телевизионных камер, и твой перевод слышат миллионы людей во всём мире? Элемент напряжённости возникает и от мысли, что ты призван способствовать беседе политически чрезвычайно важной. Такой, например, была встреча Рейгана с Горбачевым в Женеве, первая встреча руководителей двух великих держав после почти двадцатилетнего перерыва. "Вечером перед этой встречей, ложась спать, я горячо молил Господа, чтобы он простил меня, если завтра я допущу какую-нибудь ошибку, — вспоминает Дмитрий. — Слава Богу, никаких ошибок в тот день не случилось".
Но, хоть и не часто, такие непредвиденные неприятности в работе высококвалифицированного переводчика происходят. Так случилось, когда
с группой американских сенаторов Заречняк отправился в Ленинград на открытие памятника жертвам блокады. Глава американской делегации в своей речи использовал слово GRAVE, что означает
общая могила. Дмитрий же по созвучию перевёл это английское слово как ГРОБ. "Какой гроб?! — возмущёно заорал ленинградский партийный вождь товарищ Романов. — Там никаких гробов нет!" Он был прав. Пришлось извиняться.
От точности перевода речи высокопоставленных персон зависит многое, даже взаимоотношения держав между собой. Готовясь к переводу первой примирительной речи Рейгана и Горбачева, Дмитрий обратил внимание на то, что американский Президент в фразе о взаимоотношениях США и СССР использовал слово ADVERSARY, означающее ВРАГ, СОПЕРНИК, ПРОТИВНИК. Звучало это слово в контексте речи слишком резко, с вызовом. Но в то же время термином этим можно воспользоваться, говоря о двух шахматистах, ведущих борьбу на шахматной доске. В последний момент, размышляя над текстом, который ему вот-вот предстояло перевести, Дмитрий нашёл подходящий аналог слову ADVERSARY. Он перевёл его как КОНКУРЕНТЫ. Такой перевод сохранял подлинность текста и в то же время смягчал его. Позднее Заречняк прочитал в газете статью американского корреспондента, который в Москве слушал выступление Рейгана по телевиденью. Рядом с ним находился советский гражданин, знающий английский. Корреспондент был не на шутку встревожен, услышав из уст Рейгана слово ADVERSARY. Но в следующую секунду переводчик, передавший этот термин, как "конкурент”, успокоил его.
Да, переводчику постоянно приходится крутить мозгами, чтобы случаем не внести недоразумение или непонимание в разговоры высокопоставленных лиц. Проблемы возникают подчас почти неразрешимые. Как известно, в английском языке нет принятого в русском разделения на ВЫ и ТЫ. Оба слова сливаются у американцев в достаточно деликатное YOU. Но вот, переводя идущую по телефону беседу Клинтона и Ельцина, Дмитрий заметил, что Президент США называет своего собеседника просто "Борис", как бы приглашая перейти на "ты". Как переводить? Поддержать эту доброжелательную тенденцию американца или сохранить полагающуюся в таких случаях деликатность и нейтральность? Владеющий русским языком советник Президента Таубет посоветовал переводчику впредь подчёркивать близость двух президентов и переводить так, будто оба говорят друг другу "ты”.
Трудности, возникающие перед переводчиком "в верхах", непредсказуемы. В 1985 году группа, состоявшая из восьми американских сенаторов, прибыла в Москву для встречи с Горбачевым. Сенаторы поочерёдно выступали перед московским вождём. Дмитрий записывал их речи (у него своя система записей, в которой основные мысли говорящего излагаются краткими и чёткими символами), потом начал переводить. "Гляжу на Горбачева, он на меня. И вдруг перебивает: "Вы откуда родом?" Я остановился, не знаю, что делать, продолжать ли перевод или вступать в беседу с Михаилом Сергеевичем на постороннюю тему. Меня выручил советский переводчик Суходрев, он ответил, что мой отец уроженец Закарпатья. Горбачев, будто позабыв, что нас слушают сенаторы, начал вспоминать, что вот во время войны в тех местах погиб его отец. И ещё, ещё…. В конце концов я перестал реагировать на его воспоминания и вернулся к переводу сенаторских речей. Горбачев не обиделся. Более того, десять лет спустя, в конце 1995-го на встрече, где присутствовали Буш, Рейган, Горбачев и Миттеран, Михаил Сергеевич проявил к переводчику Заречняку подчёркнутое внимание, даже имя его вспомнил.
О русских коллегах Дмитрий говорит тепло. Их профессиональный уровень считает очень высоким. Особенно восхищает его переводчик Суходрев, который переводил кремлёвских вождей чуть ли не с хрущёвских времён. В Лондоне говорит Суходрев с британским акцентом, в Вашингтоне с американским. Он и по-человечески дружелюбен. Таков же, по мнению Дмитрия, и сменивший Суходрева Павел Пащенко. Симпатии моего собеседника к российским коллегам связаны ещё с тем, что в России ошибки людей этой профессии вызывают значительно более резкую реакцию начальства, чем в Америке. "Им труднее живётся, чем нам,” — говорит Заречняк. Он вспоминает в этой связи эпизод, возникший в Вене ещё в брежневские времена. Один сотрудник, переводя на английский язык речь советского крупного чиновника Замятина, допустил несколько оговорок. Ему тут же прилюдно начальство сделало выговор. На следующий день, встретив коллегу, Дмитрий выразил ему по этому поводу сочувствие. Русский махнул рукой: "Спасибо, пока всё в порядке. Я утром встал, выпил кофе, сижу жду. Но нет, никто арестовывать меня не пришёл. А это уже неплохо…".
Положение американского переводчика по сравнению с российским действительно выглядит намного более устойчивым, но завидовать ему не стоит. Трудовая жизнь Дмитрия Михайловича, при всём его высоком положении, отнюдь не легка. Он не любит жаловаться, но в его рассказе несколько раз мелькало упоминание о физической усталости и ночах без сна. Из-за разницы во времени ему многократно приходилось начинать рабочий день в Москве, проспав всего три-четыре часа. Нелегки и самолётные метания через океан. Дмитрий полушутя даже заметил, что постоянные перелёты эти — причина ранней седины в его бороде. Да и сам процесс перевода, длящийся подчас часами, выматывает силы. И хотя рабочий день Заречняка заканчивается официально в пять вечера, в служебном кабинете приходится то и дело задерживаться значительно позже. Так, перед началом войны в Персидском заливе, Горбачев в надежде уговорить американского Президента закончить конфликт мирно, принялся звонить в Белый дом среди ночи.
Случается, служебные звонки донимают Заречняка и в его собственной квартире. Так было, когда на советском корабле, плывшем по Тихому океану вблизи американских берегов, не смогла разродиться пассажирка. Капитан корабля через военных вступил в радиоконтакт с Государственным департаментом в Вашингтоне. На восточном побережье уже наступила полночь. Русская и американская стороны долго не могли понять друг друга. Тогда подняли с постели Заречняка и Дмитрий объяснил капитану, что именно следует делать, когда с берега прилетит госпитальный вертолёт и опустит на палубу сетку, в которую надлежит поместить несчастную роженицу. Вмешательство переводчика позволило обеим сторонам разрешить возникшую проблему наилучшим образом.
Завершая беседу, я спросил, радует ли Дмитрия его известность. Ведь его постоянно видят на телевизионных экранах миллионы людей в России и Америке. "Я люблю свою работу, — ответил он, — люблю создавать мост между людьми любого социального и политического уровня. Лучше всего работается, когда меня вообще не замечают. И в том числе те, кого я в этот момент перевожу. Я счастлив, когда удаётся создать атмосферу, при которой люди, думающие и говорящие на разных языках, забывают о своём различии и ведут беседу, не замечая присутствия переводчика. Вот это и есть мой идеал. А телевизионная и газетная известность меня не интересуют. По характеру своему я предпочитаю оставаться незаметным".
Заречняк лишь один из множества наших соотечественников в Америке, кому хорошее знание русского языка (и одновременно английского) помогло обрести весьма солидную профессию. Таких в стране сотни, если не тысячи. Чтобы представить себе общую картину изучения и использования русского в Соединённых Штатах, я обратился за разъяснением к профессорам Надежде Алексеевне Жернаковой (штат Нью Йорк) и Степану Петровичу Судакову (Вашингтон). Преподавание русского — их профессия, которой каждый из них посвятил более двадцати лет. И вот что они рассказали.
"Университеты — не единственный тип учебного заведения, где изучают русский, — сообщил Судаков. — Свои языковые школы имеет и Государственный департамент США и ряд других министерств. В одной из таких школ готовят, в частности, членов "Корпуса мира”. Речь идёт о людях, которые из соображений нравственного порядка готовы отправиться в страны с отсталой экономикой, чтобы помочь тамошнему населению поднять его сельское хозяйство, улучшить преподавание в школах и т. д. Сейчас всё больше членов "Корпуса мира" готовы ехать помогать России и бывшим советским республикам. Но особенно важную роль в массовом изучении языка России играет, по словам профессора Судакова, военная школа иностранных языков в Монтерее (Калифорния). В годы "холодной войны" там готовили военных "слухачей”, тех, кто должен был подслушивать переговоры военных лётчиков и связистов. Сейчас, когда военная и политическая напряжённость между двумя великими державами сошла на нет, школа в Монтерее продолжает обучать американских солдат русскому языку, но уже для других целей. Теперешние выпускники школы обязаны не только слышать и понимать русскую речь, но и говорить.
Русскоязычные представители постоянно приезжают ныне в Соединённые Штаты, чтобы обсудить такие вопросы, как, например, организация наёмной армии. На территории бывшего СССР серьёзно обсуждается идея превращения армии призывной в армию вольнонаёмную, подобную американской. Представители России приезжают также перенять у американцев их систему службы в армии духовных лиц: пасторов, священников. В бывшей коммунистической антирелигиозной стране уже не прочь ввести в полках вместо комиссаров деятелей церкви. Есть и другие проблемы, для обсуждения которых американским военным необходимо изрядное число русскоговорящих специалистов. В частности, нужны инспекторы, которые посещают атомные городки России в связи с уничтожением там атомных боеголовок. Учат в Монтерее весьма активно: занятия в течение года идут по шесть часов в день. Но, по мнению профессора Судакова, главное следствие монтерейского обучения проявляет себя значительно позже, после того, как отслужившие в армии молодые люди возвращаются домой. Им приходится тогда решать, какую именно профессию избрать и какое получить высшее образование. "И вот тут-то, — говорит профессор Судаков, — многие из них вспоминают о своём полученном в прошлом курсе русского языка и избирают университет, где можно получить уже серьёзное знание русского. Это довольно распространённый вариант. В результате на сегодня половина профессоров русского языка в Америке — это те самые люди, что в юности окончили школу в Монтерее.
Как видим, пульс русскоязычной жизни в Америке бьётся значительно живее, чем может показаться с первого взгляда. Надежда Алексеевна Жернакова рассказывает о всеамериканских профессиональных объединениях учёных славистов и преподавателей. Их несколько. Языковеды и литературоведы входят в Американскую ассоциацию учителей славянских и восточно-европейских языков (AATSEEL). Другое, значительно более крупное по числу членов, объединение известно как Американская организация исследователей в области славистики (AAASS). Она собрала под свою "крышу" не только знатоков русской литературы и языка, но также специалистов в области российской истории, экономики, философии. Ежегодно в ноябре на конференцию AAASS съезжаются сотни специалистов.
Но ближе всего Надежде Алексеевне то объединение, которое она, как Председатель или Президент, возглавляет вот уже четырнадцать лет. "Русская академическая группа США” невелика, в ней всего лишь 130 членов. Но эти магистры и доктора наук — люди, как правило, весьма просвещённые и в своём деле опытные. Они имеют опубликованные исследования и немалый стаж преподавания в университетах. Основная цель "Академической группы", возникшей в 1948 году — помочь учёным-славистам Америки в их научных исканиях, в издании их трудов, в поддержании постоянных профессиональных контактов. Для этого служат ежегодные симпозиумы, а также издание весьма солидного по толщине и содержанию ежегодника "Записки русской Академической группы США”.
Рождение и уже более чем полувековая жизнь "Академической группы" говорит о многом. Некоторые члены её получили образование ещё в Европе, а кое-кто и в СССР. Среди них немало серьёзных учёных, выброшенных с родины войной. Говоря о своей судьбе, эти люди могли бы с полным правом повторить стишок, принадлежавший перу поэта-сибиряка, жившего в Китае и умершего в Бразилии Валерия Перелешина:
Забайкалье, Заангарье,
Забурунье, Заполярье,
Заамурье, Заонежье,
Заграничье, Зарубежье,
Забездомье, Заизгнанье,
Завеликоокеанье,
Забразилье, Запланетье,
За-двадцатое-столетье.
Но при всём неблагополучии их жизни люди эти, добравшись до Америки, нашли в себе силы разыскать друг друга, объединиться, найти аудитории для своих выступлений и издания, в которых стали публиковаться. Всё это сделало их в конце концов частью американской науки и культуры, частью вполне уважаемой. Президентами этой организации в разные годы были такие заметные личности, как бывший ректор Киевского университета философ Е. В. Спекторский, бывший ректор Московского университета зоолог М. Н. Новиков, бывший проректор Петроградского университета правовед А. А. Боголепов. Все эти "бывшие" нашли своё достойное место в Америке, став преподавателями наиболее известных университетов. Их неотделимость от русского языка и культуры нашла отражение в 26 томах "Записок". Листаешь эти выпущенные в Америке по-русски 400-500-страничные издания и диву даёшься, насколько авторы статей, воспоминаний, литературных анализов сохранили свою русскость, преданность своим корням. "Записки” — подлинная энциклопедия русской литературы и культуры. Ряд томов посвящены творчеству классиков от Пушкина до Ахматовой, другие — русской религиозной и философской мысли, русскому искусству. Последние по времени тома посвящены творчеству писателей-эмигрантов, публиковавших свои произведения в Париже, Харбине, Америке и даже Бразилии и Аргентине. "К сожалению, — говорит профессор Жернакова, — в наших ежегодниках очень мало материалов, представленных эмигрантами так называемой "третьей волны". Между тем, среди них немало серьёзных и заметных своими трудами славистов-преподавателей, которых мы были бы рады видеть в составе "Академической группы" и в качестве авторов. Но, увы, интереса к единению с нами эти люди не проявляют. Между тем, мы — эмигранты "первой и второй волн" — племя уходящее, хотелось бы видеть в рядах Академической группы тех, кто продолжит наше дело".
Надежда Алексеевна с удовлетворением отмечает, однако, что интерес к её группе и к "Запискам" постоянно возрастает в нынешней России. Тамошние библиотеки приобретают подборки изданных в Америке томов, а некоторые авторы-учёные Москвы и Петербурга начали присылать в ежегодник свои труды. Надежда Алексеевна признаётся, что выпускать "Записки" нелегко и недёшево. Публикация 500 экземпляров обходится её организации в 10000 долларов. Подготовка новых томов тем не менее продолжается. "Прекращать это издание в наши планы не входит." Пока финансовый фундамент "Записок" достаточно прочен. Его поддерживают членские взносы и многолетние пожертвования двух русских фондов. Председатель "Академической группы" верит, что доброе дело, которым занимается она и её коллеги — поддержка русской культуры в изгнании (или, если хотите, в послании) — продолжится впредь и привлечёт к себе новые поколения людей, неравнодушных ко всему русскому.
Как исследователь, профессор Жернакова более всего интересуется творчеством писателей XIX века. В частности, несколько её работ посвящены Достоевскому. В Америке, как я заметил, наибольшее внимание литературоведов-славистов привлекает именно эта фигура. Но оказывается, Достоевский — любимый объект исследования не только в Соединённых Штатах. На международной конференции, проходившей летом 1955 года в Австрии зд пять дней было прочитано… 120 докладов о творчестве Достоевского.
Мой вашингтонский собеседник Степан Петрович Судаков — один из самых давних и, может быть, самых страстных знатоков и учителей русского в этой стране. Его сегодняшняя работа требует особой строгости и ответственности. Ему, в частности, поручено контролировать группу американских майоров и подполковников, которые круглосуточно дежурят на так называемой "горячей линии" — на линии факсов, соединяющих Президента США с Президентом Российской Федерации. Переговоры между главами двух великих держав при переводе не должны быть затуманены ни одним неточным словом или предложением. Вот об этом и печётся Степан Судаков. Биография этого языковеда и языкознавца высшей категории необычна. Ещё до большевистского переворота 1917 года семья его оказалась в Китае. Отец-врач служил в Российском посольстве. Степан родился в Пекине. В детстве с приятелями во дворе общался по-китайски, но в доме мать, отец, бабушка и няня общались только по-русски. Когда подрос, мать стала учить его французскому языку, а отец — английскому. Одновременно несколько лет к мальчику ежедневно приходил учитель русского языка и литературы. Со всеми этими языковыми богатствами юный Судаков прибыл в 1938 году в Америку. Делал попытки получить высшее техническое образование и инженерную профессию, но интерес к языкам взял в конце концов верх. Двадцать два года Судаков профессорствовал в университете. Но, уйдя в отставку, не бросил любимое дело: надзирает ныне над теми, кто работает на "горячей линии” Москва-Вашингтон.
Вторая моя собеседница Надежда Алексеевна Жернакова тоже родилась за пределами России. Родители её бежали от большевиков в Бельгию. Но и брюссельское происхождение не помешало Надежде Жернаковой великолепно сохранить язык предков. Причина та же, что и у Судакова: в доме дети слышали всегда русскую речь, им не разрешалось в разговорах с близкими переходить' на иностранные языки. Надежда Алексеевна благодарна своей семье за проявленную строгость. Должность университетского профессора и достойное положение председателя научного сообщества обрела она прежде всего благодаря сохранению в семье родного языка.
Я мог бы рассказать ещё о многих и многих русских семьях в Америке, которые, сохранив язык предков, тем самым расширили свои возможности в этой стране. Такая перспектива сохраняется и сегодня. Об этом убеждённо говорит Степан Судаков: "Если в прошлом выпускники военно-языковой школы в Монтерее, отслужив, становились университетскими преподавателями, то в ближайшем будущем я предвижу новый вариант. Выпускники Монтерея, завершив военную службу, пойдут в университеты постигать теперь уже
бизнес. Это даст Америке новый поток предпринимателей высокого класса. Бизнесмены со знанием русского сумеют послужить не только себе, но и торгово-промышленным отношениям двух наших держав".
То, что говорит профессор Судаков, относится прежде всего к урождённым англоязычным американцам. Дополнительное знание русского их, несомненно, обогатит. Но детям российских эмигрантов достигнуть того же, а может быть, и большего успеха, ещё легче. Для этого надо лишь не терять того, что является их будущим богатством — русский язык.
ПОСТ СКРИПТУМ. Когда очерк был уже завершен, мне в руки попалась книга американского исследователя Ричарда Брехта "Русский язык в Америке". Изданная Научным центром иностранных языков при Университете Джонса Хопкинса, она вышла в 1995 году. И вот что, в частности, удалось из неё узнать.
— Курс русского языка читается в 552-х университетах и колледжах Соединённых Штатов. К сожалению, студентов, берущих этот курс, сегодня мало — всего 1500 человек.
— В 290 университетах и колледжах идёт подготовка специалистов, желающих получить учёную степень по славистике, истории России, лингвистике и русской литературе.
— В школах страны русский язык изучают 16000 юных американцев.
— Хотя в разные годы интерес к русскому языку менялся, но и сегодня русскоязычные специалисты используются в десяти министерствах и других государственных учреждениях США. Спрос на такого рода двуязычных специалистов имеется и во многих частных компаниях, ведущих деловые отношения с Россией и её бывшими республиками.
VIII. АВТОР О СЕБЕ
1. Горечь и сладость моей профессии
Профессия журналиста-публициста считается в иммигрантском сообществе занятием весьма привилегированным. Ещё бы! Твоё имя то и дело мелькает на страницах газет и журналов: ты выступаешь в общественных спорах чуть ли не в роли судьи. Большинство читателей уверено также, что сочинять статьи и очерки — дело то в общем немудрёное, так что жаловаться пишущей братии не на что. После двух десятков лет, проведённых в иммиграции, и полувека журналистского опыта готов заверить дорогих читателей, что всё не так, работёнка у нас совсем не из простых. Начну с главного бедствия. И на родине, и здесь, в свободной Америке, отправляя очередное произведение в редакцию, я никогда не знаю, как взглянет на мой труд начальство: пропустит или не пропустит, какие абзацы редактор выбросит, что добавит от себя. Вот некоторые такого рода эпизоды.
Написал я очерк о наших врачах в Америке. Опросил нескольких достойных доверия медиков, получивших американские дипломы. От себя почти ничего не добавил, лишь передал точку зрения специалистов. Одни свою жизнь в США ругали, другие, наоборот, заявили, что всем довольны. Я отправил в редакцию очерк, на который ушло пять дней труда. "Печатать не будем, — откликнулся очередной босс. — Медики могут не согласиться
с нами, обидеться и перестать помещать в нашей газете свои объявления. А мы, как и все русскоязычные издания, в основном, на их рекламе и держимся". Что сказать на это? У босса своя правда…
Или такая вот история. Одна из наиболее острых проблем иммиграции — взаимоотношения отцов и детей, старших и младших. Пишется на эту тему много всякого, но большинство авторов обвиняет прежде всего молодёжь: дескать, не слушаете родителей, оттого и попадаете во всякие неприятности, включая тюрьму. Мне кажется, не всё так просто: отцовско-материнский жизненный опыт далеко не всегда может подсказать детям наиболее правильное решение жизненных проблем. Я вспомнил "войну", которую годами вёл со своими процветавшими просоветскими и даже прокоммунистическими родителями. "Война" вспыхнула после того, как в шестнадцать лет я постиг подлую сущность советского режима и попытался поговорить об этом с отцом и матерью. Разговоры эти вызвали у родителей панику. Опасались они не только за меня, но в не меньшей степени за собственную карьеру. Отец-писатель и мать-кандидат наук боялись потерять то привилегированное положение, которого достигли в советском обществе. Они были по-своему правы, я — по-своему. Время рассудило нас: папа и мама спокойно и благополучно дожили век на своих дачах, сын же непослушный (я, то есть) всю жизнь оставался упрямым бедняком: тайно писал книги, за которые в ту пору сажали, и дождался того, что кагебешники после обыска вытолкали меня из страны. Я по сей день тем горжусь, что от своих антисоветских взглядов не отказался. Отец же напоследок, не стесняясь, заявил, что рад изгнанию сына из СССР. Так этому упрямцу и надо! Статейка, которую я написал по этому поводу уже в Нью-Йорке, была абсолютно честной и откровенной, но редактор газеты её вернул. Он даже полушутя обозвал меня Павликом Морозовым, дескать, поднимаешь руку на родного отца…. Так что, как видите, уважаемые читатели, дорога журналистская не так гладка, как кажется.
Но есть в нашей профессиональной жизни испытания и похлеще. Я люблю получать письма от читателей. Случаются послания и сердитые, и сердечно-дружеские. Но главный смысл такой переписки для меня — убедиться: писания мои кому-то интересны, полезны, может быть, даже необходимы. Было радостно, например, узнать, что после очерков "Последний час" и "Беда" американский суд постановил предоставить моему герою — тяжело больному российскому гражданину — статус, который разрешает ему оставаться на территории США и продолжать необходимое ему лечение. Время от времени, однако, приходят письма, в которых журналисту указывают:
ты должен! Так один темпераментный соотечественник в довольно жёсткой манере призвал меня почаще посещать синагогу. Другой укорил за то, что я слишком восторженно пишу об Америке. "А знаете, сколько здесь безобразий!" Многие авторы писем, ничуть не смущаясь, требуют: "Напишите про меня!" На этом особенно настаивает литератор, живущий в штате Миннесота. Уже не первый год он забрасывает меня своими книжками, которые иначе как похабными не назовешь. Похоже, что у автора этих "произведений” повышенного сексуального содержания не всё в порядке в, так сказать, личном сексуальном плане. Но ещё сильнее мучает его тщеславие, жажда прославиться. Он согласен, чтобы в прессе его книги критиковали и даже поносили, но только бы не забывали упоминать его имя и фамилию. "Писатель" жаждет рекламы….
Попытки некоторых читателей приспособить журналиста к своим собственным нуждам — ещё одна грустная сторона моей профессии. В одном из полученных из штата Охайо я прочитал: "В течение последних трёх лет я исписала более двухсот страниц, повествующих об уникальном случае предательства и подлости в истории еврейской эмиграции. Из-за стыда, растерянности и боязни мести я молчала. Я не знала, к кому мне обратиться…”. Теперь автор письма нашла меня и хочет, чтобы я прочитал двести страниц о том негодяе, который в Советском союзе служил тоталитарному режиму в качестве ответственного работника КПСС и остаётся верен коммунистам по сей день. Но главная суть письма дамы из Охайо оказывается в том, что этот двуликий гад, которого она просит разоблачить, ни кто иной, как её родной брат. Разбираться в семейной сваре я не стал, но подозреваю, что сердитая сестра будет и впредь искать, кому бы из журналистов навязать двести страниц своих разоблачений. Берегитесь, коллеги!
Вынужден ещё раз повторить: я рад всякий раз, когда появляется возможность подать руку помощи соотечественнику, переживающему иммигрантские трудности. Беда лишь в том, что люди наши не всегда знают, как невелики возможности журналиста, оказавшегося в чужой стране. Судите сами. Один из наших земляков в весьма почтенном возрасте оказался в американской тюрьме. Многие месяцы мы с ним перезванивались, переписывались. Поскольку ни родственников, ни друзей у него нет, я посылал ему в тюрьму бандероли с книгами и продовольственные посылки. Но однажды он сообщил, что его ожидает большая беда: тюремные власти хотят перевести его в дом для престарелых. Он сопротивляется, поскольку переезд в нёрсингхоум видится ему, как конец жизни. Чтобы сломить его упорство, тюремные медики, по словам моего подопечного, заставляют его глотать какие-то таблетки, ослабляющие волю. "Так вот, пожалуйста, г-н журналист, позвоните тюремным медикам и потребуйте, чтобы они не скармливали заключённому номер такой-то эту гадость”. Я попытался объяснить, что мой звонок ничего не изменит. Кто станет слушать советы постороннего человека, который вмешивается в сугубо внутритюремные дела? Но собеседник мой возмутился. Он убеждён, что журналист может всё, что только захочет. Я же просто предаю его в роковой момент жизни….
Очевидно, читатели наши уже заметили: пишу я не о политике и социальных проблемах, а только о людях, о конкретных человеческих ситуациях, комических и трагических, спорных, а подчас и вздорных. В результате одни герои становятся личными друзьями автора, другие точку зрения публициста воспринимают скептически. В начале прошлого года из города Миннетонка пришло письмо от нашей иммигрантки, специалиста-психолога. Она вспомнила понравившийся ей очерк "Три выстрела". Очерк был посвящен трагической ситуации в одной из иммигрантских семей. Из-за неумения пользоваться оружием молодой супруг выстрелил в жену и тут же пустил пулю себе в лоб. В результате совсем не старые родители погибших из дедушки и бабушки одномоментно превратились в "папу" и "маму" для четырёхлетней внучки. Среди других проблем в очерке обсуждался вопрос: следует ли сообщать ребёнку всю правду о случившемся. Бабушка-мама от такого откровенного разговора отказалась. "Расскажу, когда ей стукнет семнадцать, — заявила она журналисту. — А пока не хочу расстраивать малышку". Автор присланного мне письма, специалист-психолог, держится противоположного мнения. "Чем меньше ребёнок, тем легче его переживания. И вообще, если мы хотим, чтобы ребёнок доверял нам, то с ним нужно быть откровенным во всём и всегда". Завершая письмо, автор обратилась ко мне с просьбой: "Передайте дедушке и бабушке мой совет: надо, не откладывая, сказать внучке правду обо всём том, что произошло в семье, и сделать это надо немедленно. Я согласился с психологом и попросил героев "Трёх выстрелов" о встрече. Встретились. Но, увы, и дедушка и бабушка остались при своём мнении, рекомендации специалиста их ни в чём не переубедили, точка зрения журналиста — тоже. Ладно, подождем: время рассудит, кто прав….
Не могу не признаться: отвечать на письма представительниц прекрасного пола мне легче и интереснее, чем откликаться на послания наших мужчин. Мужчины, люди серьёзные, обращаются к журналисту, как правило, с проектами очень уж мудрёными. Например, необходимо создать "банк научных данных”, собрать всю информацию о научных идеях, которые привезли с собой в Америку наши иммигранты. "Банк" этот должен обогатить здешнюю науку и технику. Замысел выглядит неплохо, но за четверть века нашей иммиграции ничего подобного создать не удалось. И мне это не под силу….
Другой мудрец, опять-таки из наших, сообщил, что им создан некий "Закон", охватывающий все стороны жизни человечества. Так вот, не знает ли г-н Поповский, кто бы смог срочно издать его трактат и распространить его по всем континентам. Сделать это надо как можно быстрее, ибо лишь повсеместное провозглашение "Закона" может спасти человечество от приближающейся гибели. Но особенно напористые атаки наших мужчин я испытал после того, как миллиардер Сорос обещал материально поддержать науку России. Я имел неосторожность взять интервью на эту тему у одного из помощников Сороса. Последовало около полусотни писем одинакового содержания: "В эмиграции пребывает не меньше выдающихся учёных, чем осталось на родине. Уговорите Сороса дать деньги не только учёным в России, но и нам, исследователям, поселившимся в Америке".
Женщины ведут себя с журналистом значительно скромнее. Откликаясь на мои газетные выступления, они чаще всего обсуждают проблемы русско-американских браков. Я неизменно сочувствую им. После публикации моего очерка "В поисках заморского купца" героиня обрела неплохого мужа, а я получил приглашение на свадебный обед. "Спасибо вам большое за то, что думаете и пишете о нас, да ещё и помогаете, — писала в те дни харьковчанка Вера. — Я приехала в Америку совсем недавно и была удивлена, как много у меня появилось друзей, очных и заочных, и всё это благодаря газетам и таким журналистам, как вы". Не скрою, такая реакция читателя для нашего брата-журналиста — масло по сердцу.
Я не разделяю весьма распространённый в русскоязычной среде миф о том, что на браки с американцами наши девушки и дамы идут единственно ради того, чтобы подкрепить свой материальный и иммигрантский статус. Моя переписка показала, что на другую сторону планеты наших женщин гонят значительно более сложные переживания. Сорокалетняя Вера, чьё письмо я цитировал выше, познакомилась со своим мужем-американцем после многолетнего одиночества. Прежде чем вызвать русскую подругу в Соединённые Штаты, американец дважды приезжал в Харьков. Эти встречи убедили обе стороны, что ошибки не произошло. "Я счастлива! — пишет Вера. — Мой муж для меня — моё государство: он моё правительство, суд, банк и всё остальное. Мы хорошо понимаем друг друга, хотя он не знает русского, а я — английского. Мы активно изучаем язык друг друга. Нам очень помогает наш юмор. Для лучшего взаимопонимания я разыгрываю для него целые спектакли. Мы читаем вместе книги американских авторов, он — в оригинале, я — в переводе. Стараемся подбирать разную литературу: историческую, лирическую, сексуальную. Пытаемся обсуждать отдельные эпизоды. Лучше всего это получается с литературой сексуальной". Своё письмо, адресованное журналисту, Вера завершила многозначительными строками: "Я люблю любить и это главное, что желаю всем нашим женщинам, нашедшим здесь своего друга-мужа. Старайтесь, подружки, как можно глубже прочувствовать то, что произошло, и это сделает вас счастливыми".
К сожалению, способность любить так самозабвенно, как Вера, дана далеко не всем моим читательницам. Значительно чаще их письма переполнены жалобами, тоской, чувством одиночества. Речь идёт в основном о тяготах, связанных с различием культур. Английский даётся им с трудом. Непривычно жить вдвоём в огромном трёхэтажном доме. "Всё это гигантское хозяйство — на моих руках”, — огорченно восклицает женщина из российской провинции, весь век свой прожившая в тесной коммунальной квартире. Ещё одна русская супруга никак не может привыкнуть к тому, что муж не зовёт её по имени. Да и себя просит именовать только "хани”. В другой семье, где русская жена всерьёз взялась за изучение английского, муж-американец вдруг увлекся русским. Да так увлекся, что забросил свой бизнес и чуть было не разорился. Жене своей он заявил при этом, что заниматься английским ей ни к чему — он и так её хорошо понимает. Как видим, борьба за материальное благополучие, в чём укоряют русскую бабу, ищущую американского мужика, даётся нашим землячкам совсем не легко. "Когда становится уже совсем хреново, рассказывает одна из них, — я всё бросаю и варю борщ, душевно варю, потом чарочку наполняю, закусываю. Всё бы ничего, но супруг и сам не пьёт и мне постоянно твердит о вреде спиртного. От борща он не отказывается, но хлеб при этом намазывает толстенным слоем джема. Тут уж моя очередь приходит зажмуриваться…”.
Читать всё это нелегко, даже больно. Давать советы? Бесполезно. Остаётся лишь одно: по-дружески тепло выразить в ответном письме надежду на то, что время смягчит разницу вкусов и нравов русско-американской семьи, сблизит их и общий язык, а ещё лучше — общие дети.
…Я не рассказал и малой доли всех тех "горьких” и "сладких” переживаний, что вот уже пятьдесят лет приносит мне моя профессия. Работёнка нелёгкая, но расставаться с ней не собираюсь. Что же до тех, кому не по вкусу мои писания, отвечу словами мудреца XVI столетия Эразма Роттердамского: "Мы стремились предупреждать, а не обижать, приносить пользу, но не ранить, улучшать нравы людей, но не оскорблять человека".
2. Предательство
Эти строки никогда бы не были написаны, если бы через 17 лет после отъезда из Советского союза меня не догнало в Нью-Йорке письмо доктора химических наук, москвички Евгении Николаевны Олсуфьевой. Незнакомая мне учёная дама эта, разыскав как-то мой американский адрес, прислала просьбу написать воспоминания об её отце. В следующем 1995 году к его 90-летию она собирается выпустить книгу воспоминаний. Ряд бывших сотрудников и учеников покойного Николая Григорьевича уже пишут статьи для будущего сборника.
Да, конечно, я не забыл Николая Григорьевича Олсуфьева, серьёзного учёного, члена-корреспондента Академии медицинских наук, чуть ли не четыре десятка лет возглавлявшего Лабораторию туляремии в Институте эпидемиологии и микробиологии АМН. В моей литературной жизни человек этот сыграл хотя и краткую, но чрезвычайно яркую роль. Он рискнул сообщить мне, в ту пору молодому литератору, то, о чём никто другой рассказать не решался.
На пороге 60-х мне ещё не было и сорока. Влюблённый в творчество Поля де Крюи (де Крайф), американского писателя-документалиста, писавшего о людях науки, я пытался продолжать его традиции в российской литературе. В поисках выдающихся учёных — медиков и биологов, я метался по всей стране. Моё увлечение вполне соответствовало тогдашней официальной ориентации. По логике тех лет самая передовая в мире советская наука, конечно же, является подательницей самых великих научных достижений. Мне, начинающему литератору-публицисту, надлежало подкреплять этот пропагандистский тезис своими газетно-журнальными очерками и книгами. Что я и делал. Носился
из месяца в месяц по так называемым творческим командировкам в поисках достойных героев. Пожаловаться не могу, меня печатали и в толстых и в тонких журналах, в" Литгазете", "Известиях" и даже в "Правде". В 1961 году, когда на подходе оказалась пятая по счёту книга, меня приняли в Союз писателей. Та книга под заголовком "По следам отступающих" должна была сообщить немало интересного о борьбе учёных с опасными и особо опасными болезнями. В поисках героев я побывал в Астрахани, Ташкенте, Самарканде, Ленинграде, Саратове. На Саратове я и споткнулся.
Сейчас уже не помню, кто именно посоветовал мне описать "туляремийную эпопею" — историю открытия туляремии, болезни, которой люди заражаются от крыс, мышей, диких грызунов. Этой, очень похожей на чуму, болезнью имели шанс заразиться в нашей стране не менее 50 миллионов человек. Но лишь до тех пор, пока не была создана противотуляремийная вакцина. Профессор Олсуфьев, ведущий специалист по этому вопросу, порекомендовал мне для начала съездить в Саратов в институт "Микроб". Сотрудники института Алевтина Вольферц, Дмитрий Голов и Сергей Суворов в середине 20-х годов первыми обнаружили туляремию на территории нашей страны, выделили микроб и разобрались, как эта зараза передаётся от грызунов к человеку.
Поездка в Саратов оставила у меня странное ощущение. Мои собеседники явно увиливали от откровенного разговора. Все три первооткрывателя и исследователя туляремии к этому времени уже были в могиле. Их коллеги вроде бы охотно сообщали суть научных поисков Вольферц, Голова и Суворова, но, когда дело доходило до подробностей их жизни, смущались, умолкали, уходили от деталей. Тем не менее фигуры этих троих вызвали у меня несомненное уважение. Алевтина Вольферц, молодая хрупкая женщина, чтобы изучить характер болезни, привила себе инфекцию и тяжелейшим образом переболела. Страстно был увлечён эпидемиологией и Дмитрий Голов. Он выловил несколько тысяч насекомых, обитающих в норах грызунов и установил, что именно комары и иксодовые клещи виноваты в передаче болезни от животных к человеку. Если про американца Френсиса, открывшего туляремию в Соединенных Штатах, говорили, что он делает все 50 опытов там, где 48 было бы вполне достаточно, то современники Голова утверждали, что он делал сто экспериментов там, где всякий другой на его месте поставил бы 50.
О кончине этих троих саратовцы говорили неохотно. В начале 30-х всех троих арестовали, неизвестно за что. Вольферц после восьми лет лагерей вернулась в институт, но туберкулёз, которым она заразилась в лагере, очень быстро свёл её в могилу. Она умерла 46 лет. Сергей Суворов провёл в застенках ОГПУ шесть лет, а Дмитрий Голов в институт вообще не вернулся, что с ним произошло, никто не знает. Есть слух, что его расстреляли в 1937. За что, почему пострадали эти герои науки, никто в Саратове мне ответить не смог, а может быть, и не захотел. Я допытывался, где и когда была создана вакцина против туляремии, но собеседники мои явно увиливали от ответа и на этот вопрос. Советовали только разыскать в Минске профессора Эльберта, одного из двух творцов этого замечательного препарата, который спасает ныне от заражения миллионы людей. Второй творец вакцины Николай Гайский к этому времени тоже умер.
Встретиться с профессором Эльбертом мне долго не удавалось: он тяжело болел, перенёс много операций. Я звонил и писал ему в Минск, но он просил меня не приезжать. Работа над книгой застопорилась. Научных фактов мне удалось накопить вполне достаточно, но обстоятельства, в которых исследователи совершали свои открытия, плыли в каком-то тумане. В эти месяцы и состоялись наши встречи с Олсуфьевым. Высокий, изящный, аккуратно одетый профессор был вполне корректен, но поначалу показался мне человеком суховатым и даже скрытным. На мои жалобы, что саратовцы что-то утаивают, Олсуфьев молча пожал плечами, дескать, не его дело. Отогреть этого учёного, приблизить его к моим творческим проблемам и переживаниям никак не удавалось. Раздосадовавшись, во время одной из встреч я начал втолковывать ему, что не только пересказываю то, что слышу от учёных, но ищу у своих героев элементы мужества, высокой нравственности, самоотверженности. Я попытался объяснить моему суховатому собеседнику, что именно нравственное лицо учёного более всего занимает меня. Вот почему я так настойчиво пытаюсь проникнуть в личный мир моих героев, в детали их жизни. Этот монолог как будто чуточку сблизил нас. Когда я показал Олсуфьеву привезённую из Саратова фотографию 1934 года, на которой он вместе с покойным Головым ехал вылавливать зараженных туляремией грызунов, он оживился, позволил себе несколько сочувственных фраз о своём погибшем коллеге. "Это был рослый красавец с капитанским басом и повадками морского волка. — сказал Николай Григорьевич. — Голов переболел всеми болезнями, которые изучал: сыпным тифом, туляремией, бруцеллёзом. Но его ничто не останавливало. У себя дома Голов хранил коллекцию живых клещей, тех самых, что передают туляремию от грызунов к человеку. Когда его забирали, он на прощанье сказал жене: "Сбереги дочь и клещевой питомник". Вторую просьбу мужа жена выполнить не смогла: Дмитрий Голов кормил клещей собственной кровью.
Я попытался в тот раз вытянуть из профессора какие-нибудь подробности об арестах учёных в тридцатые годы, но Николай Григорьевич замкнулся. Я снова сел на своего конька. Рассказал, как трудно мне находить порядочных учёных, тех, кто не гнутся перед чиновниками, ставят истину выше страха. Ведь сопротивлялся же политическому давлению Иван Петрович Павлов. Он даже настаивал на своём праве выехать из большевистской России в Англию. Именно эта его нравственная прочность и заставила Ленина в конце концов распорядиться о специальной помощи знаменитому физиологу.
Профессор Олсуфьев и эту мою тираду выслушал молча. Сегодня, прочитав письмо его дочери, я лучше понимаю его тогдашнее состояние. Оказывается, отец Олсуфьева — знаменитый учёный-энтомолог, эмигрировал в первые годы после революции и не подавал о себе знать десятки лет. Только 45 лет спустя Олсуфьев-сын узнал, где жил и как умер его отец. А ведь за "папу-шпиона" и в тридцатые, и в сороковые, и в пятидесятые годы можно было угодить в лагерь, а то и куда подальше. Надо ли удивляться, что сын почти весь свой век пребывал в тайном страхе. Даже в его некрологе, опубликованном в 1988 году, всё ещё значится, что отец Николая Григорьевича, знаменитый энтомолог, был всего лишь "служащим"….
Подавая мне руку на прощанье, профессор предложил в следующий раз встретиться не в его служебном кабинете, где мы всегда беседовали, а у него дома. Я не придал этому обстоятельству никакого значения. И напрасно.
Разговор в профессорской квартире на улице Литвина-Седого начался несколько неожиданно. Олсуфьев напомнил о моём взволнованном монологе по поводу науки и этики. "Вы. Наверно, правы, — сказал он, почему-то хмурясь. — Но я в теорию пускаться не стану. Просто расскажу о том, о чём саратовские коллеги говорить побоялись".
Вкратце рассказ Николая Григорьевича свелся к следующему. В начале тридцатых годов в западных журналах появились статьи о том, что в будущей войне не исключено применение бактериологического оружия. Скорее всего его применит Германия, чтобы отомстить союзникам, разгромившим её в Первой мировой войне. Началась дискуссия, в которой высказано было суждение, что агрессор скорее всего изберет для атаки чуму или недавно открытую туляремию. Скорее всего даже туляремию, так как она не убивает свои жертвы немедленно, а только выводит их из строя. Масса тяжело больных в рядах зараженной армии противника способна деморализовать фронт и тыл, посеять панику в рядах противника.
Сталину, конечно же, доложили об этой научной дискуссии. Происходила она в то самое время, когда Гитлер рвался к власти. Из Кремля последовал соответствующий приказ: активизировать производство оборонительного и наступательного бактериологического оружия. Практически осуществить приказ поручено было ОГПУ. Начались аресты микробиологов, имевших отношение к исследованию чумы и туляремии. Среди первых жертв оказались Алевтина Вольферц, Дмитрий Голов и Сергей Суворов, затем были схвачены ещё несколько десятков микробиологов Москвы, Харькова, Саратова, Минска. Среди арестованных оказались, в частности, Борис Эльберт, учёный из Москвы Николай Гайский, директор саратовского института "Микроб" Никаноров и много других. Их обвиняли в чём угодно: в шпионаже, вредительстве, саботаже, но подлинную причину ареста скрывали.
Учёных арестантов свезли в город Суздаль, где в старинном женском монастыре создан был секретный "институт". В 1932 году девятнадцать свезенных сюда со всей страны микробиологов начали работу над наступательным и оборонительным бактериологическим оружием. Именно здесь, напряженно работая, Эльберт и Гайский создали к 1935 году первую в мире живую противотуляремийную вакцину. Вакцина, получившая название "Москва", оказалась идеальным препаратом: стоило привить её человеку и он навсегда приобретал иммунитет к туляремии.
В 1937 году "институт” в Суздале расформировали. Часть сотрудников расстреляли, других перевели в дальние лагеря. Эльберту и Гайскому повезло: их выпустили на свободу. Покидая Суздаль, они сдали все свои записи и пробирки тюремщикам. Позднее выяснилось: ценнейший препарат утерян. Те, кто умели охранять учёных микробиологов, абсолютно не способны были сохранять микробные культуры.
Я передаю лишь малую часть того, что узнал в тот день. Николай Григорьевич рассказал, как учёные в Суздале голодали, как с риском для жизни лазали за картошкой в соседские огороды, болели и умирали в убожестве лагерной жизни. Бывшего директора института "Микроб" Никанорова расстреляли лишь за то, что он отрицательно высказался о научной ценности проводимых в Суздале исследований. Я слушал Олсуфьева с изумлением и благодарностью. Хотя на дворе стоял уже 1962 год, девятый год после смерти Сталина, такие подробности о деятельности ОГПУ в прессу ещё не проникали. То, что разгласил в тот день профессор Олсуфьев, могло очень серьёзно сказаться на его карьере. Но, завершив свой рассказ, он не пустился в рассуждения о том, следует или не следует писать обо всём этом, надо или не надо упоминать его имя. Просто закончил говорить, встал и подал мне, ошарашенному, свою сильную руку: "Желаю успеха".
Под свежим впечатлением от всего услышанного я в те же дни засел за главу, посвященную суздальской шарашке. Только написал первые страницы — звонок от Бориса Яковлевича Эльберта. Творец туляремийной вакцины сообщил, что приехал в Москву на операцию. Мы можем побеседовать в Онкологическом институте, где он пробудет не менее месяца. Об этих встречах наших в больничном коридоре вспоминаю я с горечью. У профессора Эльберта был рак горла. Он не морщился, но я явственно видел страдание в его глазах. После каждого свидания (всего их было пять) у моего собеседника опухало горло и он лишался голоса. Но проходило несколько дней, и я снова получал приглашение продолжить интервью.
После рассказа Бориса Яковлевича картина жизни в "научно-исследовательской" каталажке стала ещё страшней и детальней. Оказывается, в те самые годы, когда огепеушники потеряли вакцину Эльберта-Гайского, на страну несколько раз обрушивались эпидемии туляремии. Столкнулась с этой болезнью и советская армия. Атаковали наших бойцов не немцы, а клещи, забравшиеся в окопы и землянки. Отбить эти атаки было нечем. Правда, незадолго до начала войны Эльберт подбил Гайского попробовать повторить проделанные в тюрьме опыты. После двух лет работы вакцину удалось создать заново. В послевоенные годы она спасла от заражения миллионы людей, которым угрожали многочисленные эпидемии туляремии, прокатившиеся по стране. В частности, удалось остановить эпидемию туляремии, которая обрушилась на тех, кто приехал восстанавливать Сталинград. Этот успех был отмечен властями: два бывших заключённых, Эльберт и Гайский, были удостоены Сталинской премии 1946 года.
"Мы не понимали, за что нас убивали и мучали, — сказал во время последней нашей беседы профессор Эльберт. — Наше единственное желание состояло в том, чтобы дать родине наилучшие препараты в кратчайший срок. Чего добивались наши тюремщики — мне так и осталось непонятно. Если от туляремии на сто заразившихся обычно умирало пять человек, то из ста советских микробиологов — исследователей чумы и туляремии, схваченных в начале 30-х годов, в живых не осталось и пяти". Наш разговор с Борисом Яковлевичем происходил в декабре 1962 года. Полгода спустя его не стало. Но до этого я ещё успел получить от него письмо из Минска. Запомнилась фраза из последнего, можно сказать, прощального, послания: "Благодарю судьбу, что мне довелось быть участником и свидетелем событий, скрытых под спудом, но оказавшимися интересными для истории".
"Скрытых под спудом…". Очень скоро мне пришлось убедиться: советский режим не так-то легко расстаётся со своими тайнами.
Моя редакторша в издательстве "Молодая Гвардия", Л.А., женщина неопределённого возраста, из тех, о ком хочется сказать "без цвета и без запаха", в общем-то не слишком жестоко корёжила мои тексты. Думаю, что ей было решительно наплевать на всех этих героев науки и их подвиги. Главное достоинство моих рукописей виделось ей, очевидно, в их политической безопасности. Это и было то самое, за что ей платили зарплату и даже обещали в будущем году дать квартиру. Квартира, насколько я мог понять, была главной мечтой Л.А. К этой теме она возвращалась особенно охотно.
Вычитанная ею рукопись "По следам отступающих" (имелись ввиду отступающие под натиском науки человеческие болезни) пошла в типографию. Казалось бы, ничто не могло помешать книге выйти в свет в следующем 1963 году в полном соответствии с издательским планом. Но, зайдя по какому-то пустяковому поводу в редакцию, я застал Л.А. непривычно смущённой. Она положила передо мной вёрстку книги и, как бы между прочим, заметила, что некоторые места пришлось убрать. Я перелистал текст и ужаснулся: вся история о трёх саратовских учёных, открывших туляремию и в благодарность за свои открытия истерзанных огепеушниками, была исчеркана, а суздальская эпопея и вовсе выброшена полностью. "Это не наша правка, — беспокойно защебетала редакторша. — И даже не нашего цензора. Так решили наверху. Я ответил, что в таком виде выпускать книгу не согласен. Напомнил Л.А. о том, сколько времени и сил ушло у меня на поиски исходного материала. Да и вообще, какое мы имеем право замалчивать эту трагическую историю. "Я не виновата, — продолжала твердить Л. А. — Это всё наверху…".
В конце концов удалось дознаться, что рукопись мою издательский цензор на всякий случай заслал на Лубянку в Литературный отдел КГБ (был у них и такой), и читал её там сам начальник отдела генерал Белоконев или что-то вроде того. Откровенность, в которую пустилась со мной редакторша, стала понятной, когда Л. А., чуть не плача, напомнила о предстоящем получении квартиры. "Поймите, если книга ваша, стоящая в плане, не выйдет в срок, мне голову оторвут, а что квартиру не дадут — так это уж точно".
Я предложил компромисс: редакторша добивается аудиенции в соответствующем отделе ГБ и мы вдвоём с ней пойдём выяснять, почему понадобилось уродовать текст рукописи. Как ни странно, такая встреча состоялась. Помню какой-то неприметный вход со стороны Кузнецкого моста, несколько ступенек вниз. Осталось в памяти и на редкость бесцветное лицо принимавшего нас кагебешника (генерал Белоконев до встречи с нами, разумеется, не унизился). Я произнёс бесцветному дяденьке заранее приготовленную речь о демократии, которая ныне, после двадцатого съезда партии, восторжествовала в нашей стране. О необходимости восстановить правду о несправедливо замученных учёных-патриотах. Гебешник не перебивал. А потом спокойно, как о чём-то давно и твёрдо решенном, заявил, что восстанавливать авторский текст никто мне не разрешит. И вообще, кому это сегодня интересно читать про события тридцатилетней давности. Я ещё раз вякнул, что в изуродованном виде книгу свою выпускать не позволю, и направился к выходу. Не проронившая за время беседы ни слова редакторша с опущенной головой поплелась следом.
Я хотел как можно скорее выбраться из этого подвала и отцепиться от Л.А., но она не дала мне уйти. Тут же, на тротуаре, стала твердить о том, какие беды ждут её, если книга не выйдет; сквозь слёзы взывала к моей совести, твердила в десятый раз, что её вины тут нет, а пострадает в конечном счёте только она одна. Я молчал. Уже умер профессор Эльберт, благодаривший меня за то, что я вытащил из-под спуда правду о трагической судьбе десятков российских учёных. Пошёл на серьёзный риск профессор Олсуфьев, рассказавший о суздальской трагедии. Ну, допустим, я согласился бы на кагебешный вариант. Олсуфьев берёт вышедшую книгу, листает её и видит, что я сдрейфил, не рискнул сообщить правды, которую он мне открыл. Нетрудно представить, как это больно ударит его, как оскорбит…. А с другой стороны, эта несчастная Л.А. Она действительно ни в чём не виновата. Квартира. Кому, как ни мне, об этом знать. Я лишь в сорок лет впервые въехал в сколько-нибудь нормальное жильё. До этого десяток лет жил с женой и ребёнком в девятиметровой коммунальной каморке.
Сейчас уже не помню, какие именно аргументы взяли во мне верх. Но в какой-то момент, не выдержав стенаний редакторши, я крикнул ей: "Делайте, что хотите, уродуйте книгу, как угодно, мне это всё надоело". И зашагал прочь. Вечером рассказал жене обо всей этой истории. Она одобрила меня. "Ты же почти два года вбил в этот труд. И о гонораре не забудь, у нас нет никаких накоплений…". Да, про гонорар, конечно, верно. Литератор живёт от книги до книги. И далеко не каждый год видит свои произведения вышедшими из печати. Всё вроде правильно, и тем не менее сегодня, глядя на обложку той старой книги, которая никого уже не интересует и интересовать не может, я думаю об измене, которую допустил более тридцати лет назад. Изменил исторической правде, изменил тем двум учёным, которые доверились мне. Измена? А не точнее ли было бы назвать моё тогдашнее поведение предательством? Ведь, согласившись издать книгу в искажённом виде, я подыграл кагебешникам, на многие годы отодвинул разоблачение одной из сталинско-огепеушных акций. Да, они давили на меня. Но в таких случаях куда пристойнее сжать зубы и промолчать, а не мычать полуправду.
…Есть у этой грустной истории и одна забавная деталь. Книга вышла в срок, редактор Л.А. получила долгожданную квартиру. Очевидно, и дяди с Лубянки были удовлетворены: пресекли, предотвратили. Ведь, кроме всего прочего, глава о суздальском институте приоткрывала важный государственный секрет: подписав в 1925 году в Женеве международное соглашение о запрещении бактериологического оружия, Советский Союз и после того активно продолжал заниматься бомбами, начинёнными заразой. Итак, о Суздальском монастыре — ни слова. Но тому, кто возьмёт в руки книгу "По следам отступающих" и станет разглядывать фотографии героев, несомненно бросится в глаза рисунок, помещенный рядом с портретами Эльберта и Гайского: стены старинного монастыря, купола старинного собора и церквей. Суздаль! Вырвался всё-таки кусочек правды из-под спуда. Не досмотрели кагебешники. Прошляпили….
3. Мой любимый герой
Тот, кому в советские времена попадались в руки мои книги, возможно помнит, что посвящены они были учёным, истории научных открытий. Тем не менее популяризатором науки я не был. Коллегам, которые ехидно спрашивали, не скучно ли мне копаться в "научном мусоре", объяснял, что интерес мой обращен прежде всего к личности исследователя. Мои герои — интеллектуалы-искатели, люди сильной воли и напористого творческого характера. Для них научный поиск — арена, где выявляется их энергия, мужество, неутомимость. Талант. Так оно и было, но в глубине души я всё-таки ощущал: подлинного героя сыскать пока не удаётся. Даже великий биолог, академик Николай Вавилов, которому посвятил я десять лет поисков, в роковых обстоятельствах гонителям своим большевистским всё-таки уступал. С тем и умер от голода в лагере. А уж о рядовых советских кандидатах и докторах наук и говорить не приходится. Поднимая архивы и опрашивая десятки свидетелей, я то и дело обнаруживал у своих героев поступки, мягко выражаясь, не совсем чистые. Развращала своих граждан советская власть весьма и весьма успешно. Герой, о котором я мечтал годами, фигура номер один в науке и в то же время человек, способный противостоять коммунистической фальши, возник на моём горизонте более сорока лет назад, в 1957 году.
С командировочным удостоверением "Литературной газеты" я отправился в Ташкент. Состоялось обычное в таких случаях интервью с местным профессором. Я уже собирался уходить из его квартиры, когда внимание моё привлек стоящий на рояле портрет бородатого старца с явно нестандартной волевой физиономией. Хозяин дома пояснил: это его университетский профессор, знаменитый хирург Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, живший в Ташкенте в двадцатые-тридцатые годы. Профессор возглавлял кафедру хирургии и одновременно являлся архиепископом, первым лицом русской православной церкви в Средней Азии. Власти трижды арестовывали и ссылали этого упрямца, но Валентин Феликсович, в монашестве Владыка Лука, не сдавался.
— Он, очевидно, давно уже умер? — осведомился я.
Но оказалось, что хирург-архиепископ жив и даже возглавляет Крымскую Епархию. Более того, в борьбе с верующим учёным уступила в конце концов советская власть. Во время войны хирурга выпустили из сибирской ссылки и назначили хирургом-консультантом военного госпиталя на 10 тысяч коек. А за свои научные заслуги он был даже награжден Сталинской премией.
Я покинул Ташкент, буквально захваченный этой поразительной личностью. Да, именно такого человека хотел бы я видеть героем своей книги. Меня особенно привлек один эпизод, услышанный в Ташкенте. Войно-Ясенецкий славился своим мастерством в области гнойной хирургии. Его скальпель спас множество больных, считавшихся неизлечимыми. Разумеется, медицинское начальство страны желало иметь такого мастера в собственном распоряжении. Арестовывая и допрашивая учёного, энкаведешники-кагебешники снова и снова по указанию свыше повторяли: "Сними крест и рясу, и мы сделаем тебя врачом Кремлевки, директором Института гнойной хирургии". Ответ епископа Луки все эти годы оставался неизменным: "С кожей вы у меня снимете крест и рясу”.
Через две недели после ташкентской встречи я уже был в Крыму. Архиепископ Крымский и Симферопольский принял меня в скромном загородном домике под Алуштой. В свои 80 лет он по-прежнему производил впечатление личности несгибаемой. Наш двухчасовой разговор свидетельствовал о том, что память профессору не изменяет. Но, увы, зрение он потерял полностью: в садик, где мы собирались беседовать, его привела одетая во всё чёрное пожилая монахиня. "Что вы собираетесь делать со всеми этими фактами?" — поинтересовался Владыка, когда наш разговор подошёл к концу. Я ответил, что собираюсь написать о нём книгу. "Никто не позволит вам её опубликовать” — парировал Войно. И оказался прав. Книга "Жизнь и житие Войно-Ясенецкого, архиепископа и хирурга" увидела свет лишь в 1979 году в Париже. А российский читатель увидел её на страницах журнала "Октябрь" в 1990-м году, через тридцать три года после нашей крымской беседы!
Чтобы написать книгу о епископе-хирурге, мне понадобилось два десятилетия. За это время удалось опросить более ста пятидесяти современников героя, объехать от Крыма и Узбекистана до Красноярска и Туруханска двенадцать городов и деревень. В итоге возник том в 550 страниц, переизданный недавно доброй русской семьей в Америке.
…Род Войно-Ясенецких, веками служивших при дворах польских и литовских королей, был тем не менее родом русских князей. У поляков они в течение двух столетий занимали высокие военные и административные посты. С конца XII века, однако, должности эти стали мельчать, а дед нашего героя Станислав завершил свой век деревенским мельником. Сын его, Феликс, тем не менее окончил факультет фармацевтики и открыл аптеку в Керчи. Здесь, в Керчи, и увидел свет в 1877 году третий ребёнок провизора Феликса Войно-Ясенецкого Валентин. Семья в конце 80-х годов материально окрепла и перебралась в Киев. Сохранились свидетельства, что Войно жили дружно; кроме отца-католика, дети и мать сохраняли православную веру. В доме существовали непререкаемые понятия о чести, долге, ответственности. В частности, Войно-Ясенецкие нетерпимо относились к еврейским погромам и вообще к любым проявлениям антисемитизма.
Спокойный, уравновешенный юноша из вполне обеспеченной семьи, Валентин, тем не менее, по окончании гимназии пережил серьёзное душевное потрясение. С детства его тянуло к живописи, рисовал он неплохо. Казалось бы вполне естественным пойти учиться в Петербургскую академию художеств. Семья так и планировала. Но одновременно Валентина мучила идея, широко распространённая среди интеллигенции конца XIX — начала XX века: молодому специалисту следует избирать такую профессию, которая позволяла бы служить народу — простому народу, мужикам. Лучше всего стать врачом, деревенским доктором. Метание между искусством и медициной продолжалось два года. Восторжествовала философия добрых дел. Подавив в себе художника, Валентин пошёл на медицинский факультет. Учился хорошо, особенно любил анатомию и хирургию. В своих мемуарах Лука вспоминает: "Когда (окончив университет — М.П.) я расставался с товарищами, они спросили, какую дорогу я изберу в медицине, и единодушно протестовали, когда я сказал, что намерен всю жизнь быть участковым земским врачом. Они говорили, что я предназначен не для этого, а несомненно для научной работы…. Я же хотел лишь лечить крестьян, хотя бы в самой убогой обстановке". Дав себе в 21 год зарок служить мужику, Войно-Ясенецкий не отрекся от этого решения до конца своей медицинской карьеры.
Следующие десять лет он служил в провинциальных больничках Симбирской, Курской и Воронежской губерний. Русская деревня с её извечной грязью и нищетой издавна порождала тысячи незрячих, бродивших по дорогам и выпрашивающих подаяние. Валентин Феликсович знал об этом народном бедствии и, едва сдав выпускной экзамен, начал посещать в Киеве глазную клинику и оперировать у себя дома. Работоспособность его поражала современников. Судя по сохранившимся отчётам, он за день принимал подчас до двухсот больных и за год делал триста операций. При всём том этот человек-машина не переставал заниматься наукой. В частности, живя в глухомани, работая в жалких клиниках без электричества и канализации, он оставался в курсе новейших достижений медицины, читал специальную литературу на немецком, французском и английском языках. Да и практическая деятельность в его руках превращалась в постоянное исследование. В частности, деревенский доктор изучал разные анестезии и даже опубликовал по этому поводу ряд статей в специальной научной прессе.
Нет, от страсти к научным исследованиям, от постоянного совершенствования своего мастерства он даже в самых диких уголках страны оторвать себя не умел. А на десятом году сельской жизни, уже будучи отцом четырёх детей, и вовсе принял весьма рискованное решение: отправился в Москву, чтобы получить докторскую степень. Никаких денежных запасов семья не имела, так что три года в Москве Валентин Феликсович зарабатывал на жизнь ночными дежурствами. А как продержалась в эти годы его жена, и вовсе непонятно. Единственная цель этого испытания для Войно-Ясенецкого состояла в том, чтобы расширить свои знания врача при оказании помощи пациентам. И действительно, очень скоро о нём заговорили, как о своеобразном "Хирургическом потолке". Поселившись в городе Переяславле, он начал делать самые различные операции, в том числе на глазах, удалял щитовидную железу, оперировал своих пациентов, как акушер, уролог, онколог и гинеколог. В Переяславле, где мне удалось ещё застать некоторых его пациентов, я слышал поистине восторженные высказывания о Валентине Феликсовиче, как о враче с золотыми руками. Мастерство его оценили и московские профессора, принимавшие у него докторский экзамен. А за свои сочинения получил он в 1916 году премию Варшавского комитета — премию Хойнацкого — которую давали за лучшие сочинения, пролагающие новые пути в медицине.
В этот счастливый вроде бы момент жизни Войно-Ясенецкого на семью обрушилась беда: жена заразилась туберкулёзом. В те годы медики считали, что для излечения туберкулёзников их лучше всего перевозить в районы с тёплым и сухим климатом. Валентин Феликсович разослал документы в несколько среднеазиатских городов и получил приглашение из Ташкента на должность главного врача и хирурга городской больницы. Современники вспоминают, что годы 1917–1920 были в Ташкенте наиболее опасными. Большевики рвались к власти, не жалея никого. По ночам в городе шла непрерывная стрельба. Хирурга то и дело вызывали в больницу спасать раненых. Он являлся оперировать в любой час ночи. Так же немедленно, без жалоб и раздражений, шёл он ночами на дом к тяжело больным. В один из таких "походов" врача задержал патруль — двое рабочих и двое матросов доставили его в железнодорожные мастерские, откуда в ту пору мало кто выходил живым. От расстрела "буржуя" спас случайно оказавшийся поблизости видный коммунист. Большевик вступился за знаменитого медика, и Войно отпустили с миром. Утром того же дня, минута в минуту, доктор встал к операционному столу и принялся действовать скальпелем, как будто ночью с ним ничего не случилось.
В ноябре 1919 года на тридцать седьмом году жизни скончалась жена Войно-Ясенецкого Анна. Муж воспринял эту трагедию как свою личную вину. Дело в том, что, принимая больных, он никогда не брал у них каких-либо подношений, хотя умирающая Анна неоднократно просила приносить в дом хоть какую-нибудь пищу для детей и для неё, тяжело уходившей из жизни. Но изменить своим принципам он был не способен. Нередко, задерживаясь до ночи в операционной, он и сам оставался голодным. Не способен он был отступиться и от другого своего принципа. К началу двадцатых годов советская власть в Средней Азии укрепилась и ужесточилась. В частности, "красные" стали всё более нетерпимы к церкви и верующим. В операционной городской больницы уже много лет висела икона Божьей Матери. Перед операцией хирург имел обыкновение, глядя на икону, осенять себя крестным знамением. Очередная ревизионная комиссия приказала икону из операционной убрать.
В ответ Войно заявил, что из больницы уходит и вернётся только после того, как икона снова займёт своё место. Вмешалось, однако, обстоятельство непредвиденное: крупный партиец привёз в больницу для неотложной операции свою жену. Женщина эта категорически заявила, что никакого другого врача, кроме Войно-Ясенецкого, не пожелает. Войно вызвали в приёмную, но он повторил, что, согласно своим религиозным убеждениям, в операционную не пойдёт, пока там не повесят икону. Доставивший больную поклялся, что икона завтра же будет возвращена на место. Врач поверил и оперировал женщину, которая в дальнейшем вполне поправилась. Партиец не обманул: икона на следующее же утро была возвращена.
То был первый эпизод в борьбе знаменитого хирурга за своё право на веру в Бога. За ним последовала целая эпопея подобных же конфликтов. Войно-Ясенецкий решительно отстаивал "идейную независимость" и долгое время оставался в этой войне победителем. Он открыто посещал церковь, на церковном съезде выступил с речью о положении в ташкентской епархии, а в 1921 году принял предложение местного епископа и стал священником. Так выразил он свой протест против бездушия и всеобщего повального аморализма, охватившего страну. Стать в эти годы священником значило бросить вызов тому всеобщему страху, в котором затаилась наиболее порядочная часть русской интеллигенции. "Войно не был философом идеологического направления или биологом-виталистом”, — вспоминает один из его учеников. Строго материалистической была и его диссертация "Регионарная анестезия", ничего мистического не было и в монографии "Очерки гнойной хирургии", выдержавшей три издания в 40-х — 50-х годах. Для него, как и для физиолога И. П. Павлова, наука и вера не конкурировали друг с другом. В основе его религиозных акций лежала прежде всего проблема нравственности. Он не принимал советского аморализма, приобретшего особенно жёсткие формы в Ташкенте двадцатых годов.
Общественное поведение Валентина Феликсовича в период между 1920 и 1923 годами представляется сплошным парадоксом. Он выступал в суде, где партийный босс номер один пытался засадить в тюрьму одного из ведущих врачей города, обвиняя медика во "вредительстве". Когда икону в операционной сняли вторично, Войно снова перестал ходить в больницу и в Университет, где читал лекции. Он вёл себя в полном соответствии с любимой пословицей В. Г. Короленко и Л. Н. Толстого: "Делай, что должен, и пусть будет, что будет".
На фоне массовых арестов и даже расстрелов деятелей церкви неуступчивый Войно согласился чтобы его рукоположили в епископы Туркестана. Обряд рукоположения состоялся тайно в маленьком городке Педжикенте, где отбывали ссылку два других православных епископа. Незадолго до того Войно, опять-таки в тайне, принял обет монашества, как монах он получил имя Лука. Разумеется, Валентин-Лука отлично знал, что подобных демонстраций коммунисты ему не простят. Весть о рукоположении немедленно разнеслась по городу и вызвала восторг верующей публики. Не дремали и тогдашние гебешники.
Ночью они вломились в квартиру профессора-епископа, учинили обыск (а что было искать-то?) и в "чёрном вороне" увезли его в тюрьму. Войно к этому был готов. За несколько часов до ареста он написал Завещание, обращенное к православным и верующим, призывая их игнорировать состоящую на службе у большевиков так называемую "живую церковь".
Не стану описывать страдания, которые перенёс в следующие месяцы и годы мой герой. Из Ташкента его через всю страну, в набитых до отказа товарных вагонах, довезли до Красноярска, а затем в баржах тащили две тысячи километров в Заполярный посёлок Туруханск.
Огепеушники неоднократно избивали профессора, уголовники разграбили жалкое имущество его, а местные комсомольцы устраивали издевательские концерты, высмеивающие попа. Но и там, на краю света, власти скоро уразумели, что профессор-епископ — фигура не малоценная. Ему предоставили возможность оперировать в местной больнице. Владыка в те годы спас от слепоты десятки, если не сотни, местных крестьян и рыбаков.
Но огепеушники в полном соответствии со своей службой продолжали искать, как бы изгадить жизнь слишком уж популярного врача-епископа. В конце концов его обвинили в том, что он открывает местные заколоченные церкви и устраивает там церковные службы. За эти "преступления" зимой 1924-25 года для Луки было придумано наказание, которое иначе как преднамеренным убийством не назовешь. В пору жесточайших морозов его отправили в открытых санях за восемьсот километров на Север, на побережье Ледовитого океана. Вероятно, он погиб бы в этом смертельном рейсе, но местные жители стали просить начальника ГПУ вернуть хирурга-епископа. И тем спасли его.
За первой ссылкой последовала вторая (1930), а затем третья (1937). Последняя завершилась в 1942 году, когда огромное количество раненых на фронте заставило сталинское руководство заняться развёртыванием по стране новых и новых госпиталей. В районе Красноярска, неподалёку от тех мест, где в деревне Большая Мурта отбывал очередную ссылку владыка Лука, по приказу из Москвы начали создавать огромный госпиталь на десять тысяч коек. Вот тут-то местные власти вспомнили о ссыльном хирурге. И не только вспомнили, но и начали грызться между собой, кому именно достанется этот доктор. Дошло до того, что один местный вождь послал в Мурту самолёт, который привёз Войно в Красноярск. Вечером того же дня хирург написал младшему сыну: "Я назначен консультантом всех госпиталей Красноярского края и, очевидно, буду освобожден от ссылки". Все эти подробности я узнавал много лет спустя после смерти Луки. Собирание таких материалов в 60-е годы требовало большой осторожности. Владыка Лука умер в разгар хрущевского правления. Поклонник кукурузы и ненавистник модерного искусства, Никита Сергеевич прославился также своими жестокими гонениями на церковь и вообще на любое проявление религиозных чувств у граждан СССР. Известно, что он превратил в склады и просто разрушил не менее десяти тысяч храмов. Летом 1961 года советские газеты не посмели даже заикнуться о кончине Войно-Ясенецкого. От приказного забвения владыку не спасла даже его Сталинская премия, превратившаяся, правда, к этому времени в Государственную. Подчёркнуто антирелигиозный характер власти сохранился и при Брежневе. В следующие 25 лет лишь "Журнал Московской Патриархии" мог позволить себе упоминать о профессоре-епископе. Да и то нечасто. Солженицын в "Архипелаге Гулаг" заметил, что в тех случаях, когда студенты-медики спрашивали своих профессоров, где можно хоть что-то узнать об авторе "Гнойной хирургии", то слышали в ответ: "О нём нет никакой литературы".
Кое-какая литература впрочем появлялась и в те годы. Несколько молодых антирелигиозников получили в 60–80 годы учёные степени за свои "разоблачительные" диссертации, посвященные Войно-Ясенецкому — религиозному мыслителю. В 1965 году издательство "Наука" даже опубликовало труд некоего М. Шахновича "Современная мистика в свете науки", где автор буквально поносит Владыку Луку, обзывая его "фанатиком", а его философские труды "принаряженной чертовщиной". Двадцать лет спустя, уже на пороге горбачевских преобразований, врач Т. И. Грекова в книге "Странная вера доктора Швейцера" (М., 1985) вновь, по указанию властей, схватилась за "научную плётку", чтобы выстегать верующих учёных, и в том числе Войно-Ясенецкого. "Наука и религия несовместимы," — снова и снова твердит в своей книжке Грекова, не замечая, что этот тезис противоречит самому содержанию её книги, посвященной крупнейшим медикам XX столетия.
Не приходится удивляться, что собирая материалы к будущей книге, я наталкивался на опасения и страх со стороны даже близких родственников своего героя. Дети Войно-Ясенецкого принимали меня сначала дружелюбно, предоставили возможность ознакомиться с письмами отца, но затем испугались, решили, что появление книги может дурно повлиять на их профессорские карьеры. Особенно нервничал старший сын Михаил. Он несколько раз звонил ко мне в Москву из Ленинграда, требуя прислать на прочтение уже готовые главы. Подвергать свой труд цензуре я не спешил. В начале 1976 года, когда рукопись была почти завершена, Михаил Валентинович в телефонном разговоре начал угрожать: если я не познакомлю его с текстом, он обратится в ГБ. В июне 1977 года гебешники действительно совершили обыск в нашей квартире, но был ли замешан в этом Войно-Ясенецкий-сын, утверждать не могу.
С начала шестидесятых я разделил каждый свой год на две части. Девять месяцев по-прежнему расходовал на добывание хлеба насущного, писал очерки и статьи для прессы, книги, пригодные для издания. В оставшиеся же три месяца удалялся в дома творчества, где погружался в писание сочинений, за которые в те годы сажали. Продолжалась эта двойная литературная игра почти полтора десятилетия. В конце концов гебешники разобрались, что к чему. В квартире нашей был учинён обыск, но рукописи, созданные между 1963 и 1976 годами, ушли к этому времени на Запад. И в том числе книга о Владыке Луке.
Но самым трудным оказался для меня год 1972-й. Материал был собран. Очередной свой отъезд в писательский дом творчества я твёрдо решил посвятить первой главе моей будущей книги. И тут — стоп! Размышляя о том, как наилучшим образом выстроить жизнеописания героя, я вдруг сообразил: моих знаний на такой труд не хватит. В свои пятьдесят, окончив школу, университет и медицинское училище, я оставался с типичным советским образованием. И конечно же, атеистом. С моими тогдашними безбожными представлениями открыть читателям духовный мир героя мне было явно не под силу. Я заметался в поисках человека, который согласился бы преподать мне основы христианской религии. Встретился с двумя священниками и даже с двумя епископами, но люди эти явно шарахались от этого странного писателя-еврея. Они вполне резонно подозревали во мне автора очередной антирелигиозной книжки.
Кто-то посоветовал поговорить с отцом Александром Менем, настоятелем маленькой церковки под Москвой. Этого ныне зверски убитого человека знают сегодня миллионы, но тогда, отправляясь в неведомую мне деревню (электричкой, потом автобусом, потом пешком), я об этом замечательном проповеднике ничего не ведал. Вот запись, которую я сделал в моём дневнике, вернувшись после первого свидания.
"27 июля 1973 года. В гостях у о. Александра Меня.
Ему, очевидно, лет 45, но воспринимается этот красивый священник с умным живым лицом и лукавыми блестящими глазами, как человек на редкость молодой (в том году о. Александру исполнилось 38). На нём полотняные брюки, пляжные туфли на босу ногу и жёлтая, очень идущая ему к лицу сорочка под чёрной курткой. Свободные движения, во всём нескованность, искренность, естественность. С ним удивительно легко и смеяться, и говорить о самых серьёзных материях. Они с женой занимают мезонин двухэтажного деревенского дома. На полках — масса книг по философии и истории всех и всяких религий, много редких изданий и изданий английских, французских, немецких. Я с завистью увидел всего Тейяра де Шардена. Комната, в которой о. Александр принимал нас, если не считать сравнительно небольшого киота и висящего в углу облачения, скорее всего могла бы быть жилищем философа-космополита. На этажерках фигурки Будды, а рядом бронзовое изваяние Данте. При всём том — скромность, простота.
Мы говорили о Войно-Ясенецком, о поисках материалов к моей книге. Потом он рассказал о своей литературной работе. Я взял первый том его изданного в Бельгии под псевдонимом шеститомник "Истоки религии" (1970). Очень хороший язык, широта знаний, широта обобщений.
Говорили о делах мирских. Впрочем, о. Александр никак не даёт понять собеседнику о своём сане. В его отличном русском языке нет никаких славянизмов, церковных оборотов. Еврейскую эмиграцию считает он делом чисто национальным, даже этническим, не имеющим никакого отношения к протестантизму политическому. "Каждый должен когда-нибудь добраться до своего дома," — говорит он. Мень знает и о ситуации в демократическом
движении. Он одобрил тему книги, пообещал читать каждую главу и обсуждать возникшие проблемы, связанные с моей христианской непросвещённостью".
Та встреча буквально осчастливила меня, я унёс из дома молодого священника чувство близкой родственной души. Началось наше, длившееся четыре года, сотрудничество, перешедшее в сердечную дружбу. После очередного "сидения" в доме творчества я вёз новую главу своему "наставнику", как я стал мысленно называть отца Александра. Постепенно в беседах наших открывались не только основы веры моего героя, но жизненные проблемы и самого Меня. Он был абсолютно откровенен со мной. В частности, на вопрос, как он, еврей, чувствует себя на должности православного священника, о. Александр, нисколько не смущаясь, ответил: "Как белая ворона". Приведу запись из моего дневника тех лет:
"18 августа 1973 года. В церкви о. Александр служил уже 23 года. Отношения с Патриархией были вначале очень даже тёплыми. Но потом возникла легенда о том, что ходившее по рукам разоблачительное письмо священников Якунина и Энглимана на самом деле писали не они, а Мень. Это было не так. Но легенда была удобна уже тем, что воду мутит еврей, который вовлекает честные и наивные души русских батюшек в крамолу. Последовали обыски, допросы. Потом возник донос одного из коллег ©.Александра с указанием на то, что Мень держит дома самиздат, тамиздат, к нему ходят читать что-то молодые люди. Снова обыски. Доносчику, однако, не удалось утопить о. Александра. Теперь Мень живёт в деревне, стремясь как можно меньше соприкасаться с
церковными верхами, которые, по его словам, пребывают на "чердаке и размахивают чужим знаменем".
А вот ещё одна запись, сделанная в день именин отца Александра 12 сентября 1974 года. "Я впервые в таком кругу, сидим с женой за столом вместе со священниками, дьяконами, верующими мирянами. Можно было бы ожидать унылого перебирания обид, сугубо профессиональных церковных разговоров. Ничего подобного. В загородном доме ©.Александра собрались люди в основном не старые и не в одни только церковные дела погруженные. Много евреев. Говорили о религиозном искусстве, о будущем уезжающего за границу Краснова-Левитина, о делах литературных, даже о прошлом и настоящем Одессы. Много смеялись, шутили. Поздно ночью приехал Анатолий Эммануилович Краснов-Левитин — герой дня в связи с его предстоящей эмиграцией. Вместе с ним появился о. Дмитрий Дудко, тоже личность знаменитая после его отстранения от службы за проповеди, выходящие за пределы разрешенного. Отец Александр всех радушно встречал. Его действительно любят все те, кто близко знают. Редко встречаешь такого солнечного человека, всегда готового к общению, помощи, дружбе, любви. После чая он показывал слайды, посвященные Святой земле. Было много интересных кадров. Вечер прошёл тепло. Мои новые знакомые обещали помочь мне в разыскании материалов, относящихся к жизни Войно-Ясенецкого, Архиепископа Луки".
Бывали мы с женой в те годы не раз и на церковных службах в Новой деревне, но никаких принципиальных перемен в своих религиозных чувствах я долгое время не испытывал. Откровенно признавался в этом своему другу. Говорил ему и о том, что некоторые верующие знакомые советовали мне принять крещение. Отец Александр ответил на это признание очень четко: "Если бы я чувствовал, что вы готовы к крещению, я первый вам это предложил бы”. И тем не менее, обсуждая всё новые и новые главы, я ощутил: что-то в моём видении окружающего мира меняется. Прочитав третью и четвёртую главы, отец Александр мягко пошутил: "Эволюционируете, сударь". А где-то на третьем году нашей совместной работы я окончательно уразумел: вера Луки — моя вера. И что интересно, мой консультант-наставник никогда мне ничего не проповедовал, не призывал принять те или иные тезисы Библии. Позднее, в одном из писем, которые я получил от него уже в Америке, он писал: "Я был уверен, что вы сами дойдёте до веры и торопить вас не к чему".
Отец Александр тем не менее не только консультировал мой труд, но и отправил рукопись неведомым для меня путём в Париж, в издательство ИМКА-ПРЕСС со своей рекомендацией. Я получил от руководителей издательства письмо, из которого явствовало, что в Париже книга понравилась, её готовы издать, но предварительно следует сделать около сорока исправлений. В основном поправки касались истории православия. В Париже и Москве история эта виделась, очевидно, по-разному. Намучившись за годы своей литературной деятельности от советской цензуры, я был возмущён цензурными указаниями, прибывшими из Парижа. Собирался забрать книгу назад. Но отец Александр мягко и корректно уговорил меня согласиться на поправки. Запомнились его слова: "Главное, чтобы до людей дошла правда о Владыке. Ведь история его жизни может изменить и судьбы многих ваших читателей".
Отклики на парижское издание "Луки" (книга вышла в 1979 году) в русскоязычной эмигрантской прессе были весьма положительными, как в Европе, так и в Америке. Но радостнее всего для меня была та реакция, которая возникла у российских читателей. Многие из них говорили, что они буквально влюбились в моего героя. Другие в благодарность за книгу принимались искать и присылать автору ещё неизвестные документы, в частности, письма владыки Луки, воспоминания о нём и т. д. Из Кишинева (Молдавия) незнакомый мне переводчик Василий Чебан написал, что готов перевести биографию Войно-Ясенецкого на румынский и, возможно, испанский языки.
Интерес российской публики к жизни и трудам покойного профессора-епископа нарастал. В 1994 году он, интерес этот, с особой силой проявился в Тамбове. В этом городе Владыка Лука в 1944-46 годах возглавлял Тамбовскую епархию и работал в местном госпитале в качестве хирурга. И вот полвека спустя врач городской больницы Яков Фарбер добился от городского и областного начальства, что его больница будет отныне носить имя архиепископа Луки. Не профессора Войно-Ясенецкого, а именно Луки. Но и этого мало. Общественность города поддержала врача, который предложил соорудить и установить на территории больницы скульптурный памятник, опять-таки архиепископу. Открытие памятника с речами местных медиков, партийных вождей и нынешнего Тамбовского епископа было запечатлено в специально снятом фильме.
Год 1995-й принёс ещё более волнующие известия. В Москве вышли из печати Автобиографические записки Войно-Ясенецкого. Тираж в 10000 экземпляров был раскуплен буквально за считанные дни. В Симферополе местный богослов предпринял научные исследования жизни и деятельности Владыки Луки. В Кишиневе (Молдавия) был завершен перевод книги "Жизнь и житие…" на румынский язык. Переводчик побывал в Бухаресте и договорился с местным религиозным издательством о скором выпуске издания.
Нашлись поклонники Владыки и среди наших соотечественников, живущих в Америке. Русско-венгерская семья эмигрантов-христиан прочитала "Жизнь и житие…" в первом парижском издании и исполнилась нежными чувствами к герою. Наталья Петровна Пак и её муж Шандор, взрослые дети Александр, Имре и Татьяна выразили желание, чтобы как можно больше людей узнали о покойном архиепископе-враче. Ради этого они материально поддержали второе и третье издания книги.
Но самое сенсационное известие из бывшего Советского Союза добралось до Нью-Йорка в первый день 1996 года. Полученный из-за океана факс гласил: "Архиепископ Войно-Ясенецкий канонизирован во святые Русской Православной Церковью на Украине. Это произошло 22 ноября 1995 года — Канонизация…. — Среди земных оценок человеческих более высокой не существует. Нам, грешным, трудно, мучительно трудно признать чужую святость. И тем не менее это произошло. Треть века спустя после своей кончины Владыка Лука предстал перед современниками в своём истинном виде: святой!…
ОТ АВТОРА
Уважаемые читатели, я рад, что книга моя попала Вам в руки. Хотелось бы надеяться, что Вы найдете время даже прочитать ее. Рождение этого томика было нелегким. Он едва ли увидел свет, если бы не помощь группы добрых людей. Каждый из них поддержал меня в меру своих возможностей, но в целом выход книги о нашей эмигрантской жизни стал возможным лишь благодаря доброжелательству земляков.
Прошу каждого из нижеперечисленных принять от автора глубочайшую сердечную благодарность. Спасибо Вам дорогие Тамара Вульф, Мила Великосельская, Людмила Гаркуша, Сарра Дайновская, М-р Данкин, Наталья Кларксон, Сергей Крузицкий, Игорь Михалевич-Каплан, Людмила Оболенская-Флам, Валентина Синкевич, Григорий Тительман, Юрий Франц, Елена Фролова, Михаил Членов, Генрих Шапиро.
Еще раз — СПАСИБО!
Ваш Марк Поповский.
Апрель-Май 2000 г.
Нью-Йорк.

Оглавление
Марк Поповский,
«Мы — там и здесь» (Разговоры с российскими эмигрантами в Америке)
ОТ ИЗДАТЕЛЯ
I. В АМЕРИКУ С ИДЕЯМИ
1. Энергия упорства (Александр Калина)
Здравствуй, Америка!
Бизнесменами не рождаются
На ринге
2. Человек с собственным мнением (Арон Каценелинбойген)
3. С Америкой на равных (Грегори Тительман)
4. Светлое настоящее доктора Букринского
5. Свет в конце тоннеля (Доктор Членов)
II. ПРОБЛЕМЫ? СКОЛЬКО УГОДНО
1. Учёный за рулём
2. Глазами врача…
3. Ради детей!…
4. Искусство заглядывать в душу
5. Сумасшедшая история
6. Наполнить жизнь
III. НАШИ МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ
1. Между девочкой и девушкой
2. Дама средних лет (Три новеллы).
Новелла первая
Новелла вторая
Новелла третья
3. Химия красоты
4. Голос, звучащий уже полстолетия
IV. СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО
1. Доктор Ф. Гааз. (200 лет спустя)
2. Улица меняет название
3. С РОССИЕЙ В СЕРДЦЕ
4. Рука кормящего
5. Посев продолжается
V. НРАВЫ, ВКУСЫ, ХАРАКТЕРЫ
1. Трудно переводимое выражение — "сошиал воркер"
2. Быть человеком
3. "Когда я стану американским генералом…
4. Любовь
VI. НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ ЖИВ ЧЕЛОВЕК.
1. "Мне тут тепло…”
2. Барьер разрушен
3. Потанцуем?!
VII. МЫ ЗДЕСЬ НЕ ПЕРВЫЕ.
1. Соседи по квартире?
2. Русские и в Америке русские
3. Спор поколений
4. А нужен ли русский язык в Америке?
VIII. АВТОР О СЕБЕ
1. Горечь и сладость моей профессии
2. Предательство
3. Мой любимый герой
ОТ АВТОРА

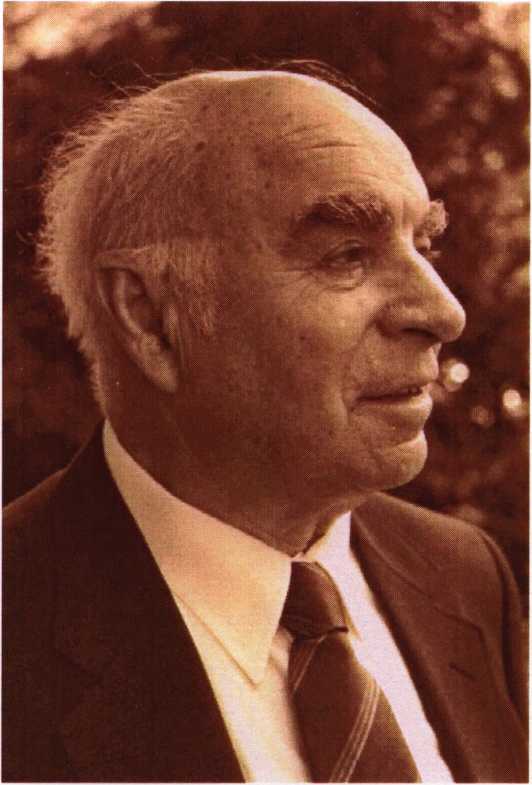 Марк Поповский
Фото Мих. Щедринского
Марк Поповский
Фото Мих. Щедринского
 Обложка Юрия Тарлера (гравюра «Ленинград — Нью-Йорк». Тушь, перо).
Обложка Юрия Тарлера (гравюра «Ленинград — Нью-Йорк». Тушь, перо).
