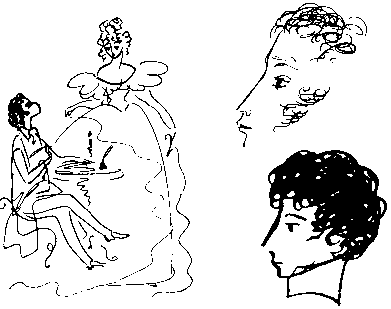Е.И.Высочина
ОБРАЗ, БЕРЕЖНО ХРАНИМЫЙ
Жизнь Пушкина в памяти поколений
Книга для учителя
МОСКВА
„ПРОСВЕЩЕНИЕ"
1989
Рецензенты: учитель средней школы № 6 г. Ялты М. И. Выгон, доктор филологических наук Г. В. Краснов (Коломенский педагогический институт)
ББК 83.3Р1
В93
Высочина Е. И.
В93 Образ, бережно хранимый: Жизнь Пушкина в памяти поколений: Кн. для учителя.— М., Просвещение, 1989.— 239 с.: ил.
ISBN 5-09-000542-7
Книга посвящена сложной и интересной почти двухвековой истории восприятия Пушкина в русской и советской культуре — от его современников до наших дней.
Что привлекало внимание к поэту и каким видели его люди разных поколений? Как складывались различные толкования его жизни и творчества? Почему изменялись представления о его образе? Для ответов на эти вопросы привлекаются мемуары, дневники, письма, отзывы читателей, исследователей, критиков. Автор опирается также на богатейшую художественную пушкиниану, на портреты Пушкина — изобразительные, поэтические, кинематографические, музыкальные и другие, отразившие эволюцию отношений к поэту и динамику его образа.
Книга представит интерес для преподавателей и для всех, кто любит литературу и увлечен историей отечественной культуры.
В книге использованы архивные фотоматериалы.
ББК 83.3Р1
© Издательство «Просвещение», 1989
ISBN 5-09-000542-7
«ВЕЧНО ТОТ ЖЕ, ВЕЧНО НОВЫЙ...»
Вместо введения
Пушкин — спутник многих поколений без малого почти два столетия. К его имени слух привыкает с детства. О нем говорят — «мой Пушкин». В этом признак особо доверительных отношений, открытости чувств и преданности поэту. Кажется, иначе быть, не может и не могло, не правда ли? Но это взгляд с позиций нашего дня. Образ поэта в представлениях разных поколений не был единым, статичным, неизменным. История восприятия личности и творчества Пушкина в отечественной культуре далеко не так проста, полна страниц парадоксальных, порой драматических. Какой же она была?
В строках, обращенных к Россини, Пушкин метко и лаконично сформулировал закон неисчерпаемости великого художника. Гений для потомков — «вечно тот же, вечно новый...» Завершив жизненный путь, он оставляет миру свое наследие, к которому уже не прибавляются новые произведения, но его жизнь продолжается в памяти общества. Каждое поколение прочитывает творения по-своему, открывает для себя будто впервые (порой вступая в споры с былыми интерпретациями), с позиций своего времени определяет художественную их ценность. Классик оказывается современником своих потомков.
Пушкин являет собой пример наиболее яркий. Он живет, развивается, меняется в социальной памяти, он поистине всегда и бесконечно нов. Чтобы убедиться в этом, проследим динамику восприятия его облика и творчества. Отправимся в прошлое...
Вообразим, что удалось попасть на выставку, где были бы собраны и расположены в хронологическом порядке (по времени создания) все портреты поэта — живописные, графические, скульптурные. От первой миниатюры неизвестного художника, на которой мальчик трех с половиной лет, от портрета, гравированного Е. Гейтманом,— до изобразительной пушкинианы наших дней, до портретов Пушкина работы Н. Кузьмина, Е. Белашевой, О. Комова, Е. Моисеенко, Э. Насибулина...
Проходя по такой галерее, отметим: портреты отличаются по технике, жанру, стилистике, по способам постижения поэта. Сколько вариаций облика, который узнаем сразу, не спутаем ни с кем! В полотнах, рисунках, скульптурных портретах запечатлены итоги творческих дерзаний, мучительных поисков, талантливых постижений натуры поэта, проникновений в его творчество — и многих неудач, при которых за внешней похожестью черт — кукольно-бездушная маска.
Каждому известны классические пушкинские портреты. Что заставляет вновь и вновь воссоздавать облик поэта? Неутомимое влечение к Пушкину живописцев — дань вечной неудовлетворенности достигнутым и подтверждение необычайной сложности задачи постижения личности гения. Его тайну разгадывают не только деятели искусства, но и ученые-исследователи, биографы, историки, критики, читатели стольких эпох. Мы не случайно предложили мысленную экскурсию именно по галерее изобразительной пушкинианы. Есть ли нагляднее свидетельство тому, как менялось понимание, как различались представления о поэте? Трудно избавиться от мысли, что живописцы, скульпторы разных поколений смотрели на поэта с помощью какой-то «оптики», то усиливающей, то ослабляющей контрастность, резкость тех или иных черт. Собственно, так и было, если под «оптикой» разуметь своды знаний о поэте, разные подходы к толкованию его творений, обусловленные социально-историческими и эстетико-культурными условиями отношения к нему, к оценке личности. При этом, на фоне свойственных всякому времени стереотипов «видения» поэта, поражает своеобразие трактовок его образа выдающимися живописцами и скульпторами — О. Кипренским, В. Тропининым, А, Опекушиным, В. Серовым, М. Аникушиным, В. Фаворским, В. Шухаевым, Н. Кузьминым...
Припоминаются слова Н. Полевого (журналиста, издателя «Московского телеграфа», хорошо знакомого с поэтом) после просмотра одного из первых пушкинских портретов работы В. Тропинина: «...физиономия Пушкина столь определенная, выразительная, что всякий живописец может схватить ее, вместе с тем и так изменчива, зыбка, что трудно предположить, чтобы один портрет Пушкина мог дать о ней истинное понятие. Действительно: гений пламенный, оживляющийся при каждом новом впечатлении, должен изменять выражение лица своего, которое составляет душу лица...»
[1]
Быть может, как раз многообразие проявлений и стремились в основном уловить и запечатлеть живописцы разных поколений? Да, но не только в этом причины неутолимого, неустанного их поиска. Каждое время по-своему прочитывает гения и жаждет отразить в видении его облика суть представлений о характере, творческой натуре, о судьбе. Такой поиск идет по пути постижения многозначности личности и наследия поэта. Представления о нем не размываются, не тускнеют и не канонизируются в раз и навсегда принятых толкованиях. Образ меняется вместе с читателями Пушкина, которые обретают способности все более глубокого и всестороннего проникновения в особенности его личности и творчества. Чтобы представить картину восприятия в динамике исторического развития — от времени пушкинских современников до наших дней,— важно учесть по возможности более широкий круг мнений, отзывов, свидетельств. Они принадлежат критикам, ученым, биографам, деятелям разных видов искусства, многим, так сказать, «рядовым» читателям, которые, запечатлев свое отношение к Пушкину (в письмах, дневниках, мемуарах, в произведениях искусства и т. д.), внесли свой вклад в летопись восприятия поэта. Тогда откроется богатейшая, чрезвычайно интересная история жизни Пушкина в памяти наших соотечественников. Такая история пока не написана с необходимой полнотой и обстоятельностью, хотя подготовлена многими поколениями пушкинистов, историков, культурологов, искусствоведов. Эта книга — один из вариантов введения в историю восприятия Пушкина. В ней будет рассказано, каким представляли себе поэта читатели разных эпох, что знали о нем, как понимали его роль в духовной жизни, как оценивали отдельные произведения и вклад в культуру. Попробуем разобраться в причинах появления разных толкований личности и творчества, проследим, как складывались и видоизменялись суждения о Пушкине.
Позвольте, быть может, скажут нам,— каждый образованный человек знаком с мнениями о поэте А. Герцена, Н. Гоголя, И. Тургенева, Ф. Достоевского, П. Чайковского, А. Чехова, других выдающихся людей. Зачем и стоит ли повторяться? Конечно, придется напомнить некоторые высказывания из числа известных. Но задача наша вовсе не в составлении антологии оценок. Важнее поразмыслить над истоками неугасимого интереса к поэту, над тем, каковы особенности и «механизмы» культурно-исторической памяти о гении, отразившиеся в эволюции представлений о его личности и творчестве. Для этого-то и необходим общий взгляд на эволюцию наиболее характерных для конкретной эпохи представлений о поэте
[2].
В метаморфозах восприятия поэта просматриваются свои закономерности. Это важно учитывать, чтоб не казалось, что волны интереса и периоды некоторого охлаждения накатывались стихийно. Их причины не только в индивидуальных предпочтениях, хотя субъективные симпатии, несомненно, играют весомую роль. Динамика мнений о поэте определяется многими объективными условиями — социальными, культурно-историческими, мировоззренческими, художественными, нравственно-этическими и т. д.
Эстафета памяти о выдающихся деятелях искусства передается от поколения к поколению как важный элемент культурного самосознания.
В конфронтациях социально-эстетических и литературных направлений, в противоборствах демократических и реакционных лагерей в прошлом веке толкования личности и наследия Пушкина играли порой весьма существенную роль.
Поэтому противники социального прогресса ничем не гнушались, стремясь ослабить или вовсе свести на нет вольнолюбивое звучание пушкинской поэзии. Цензурой вымарывались из стихов, прозы, из статей, заметок и писем поэта самые взрывчатые и «опасные», возмущавшие общественное мнение строки. Фальсифицировались факты биографии Пушкина, поскольку дискредитация личных свойств отражалась на восприятии наследия. Пушкину приписывали на разных этапах жизни его образа в социальной памяти то верноподданичество, то отказ от свободолюбивых порывов юности. Его гримировали под «святошу», бога почитавшего и царю угодного, изображали преданным престолу, монархии, смирившимся и покоренным. Для этого пускались в оборот сплетни, клеветнические домыслы о Пушкине — придворном восхвалителе... Фабриковались версии, что Пушкин якобы всегда был далек от идей социальной борьбы и справедливости, раз высшей своей заслугой признавал «прелесть... стихов», что главное кредо его — «искусство для искусства», отрешенного от житейских треволнений и битв.
Фальсификации всякого рода если и имели успех, то всегда лишь временный. Самое пушкинское наследие, яростные, бунтарские пушкинские произведения, проза и стихи — гневные, ироничные, острые, разящие серость, глупость, косность, себялюбие, несправедливость, беззаконие — оказывали мощнейшее сопротивление любым попыткам извратить истинный дух их создателя.
Не сразу, со временем все отчетливее проявлялись реальные контуры образа поэта. Это происходило по мере освобождения произведений от цензурных искажений, научного их исследования, документированного описания его жизни и творчества, изучения пушкинской эпохи в широком культурно-историческом контексте. Наиболее активно процесс этот идет в нынешнем веке. После революции проведены скрупулезные текстологические изыскания, выверено, прокомментировано наследие. Открылись архивы, введены в оборот секретные в прошлом документы тайных канцелярий, жандармских управлений, проливающие свет на многие белые пятна в истории поэта и его современников...
При том, однако, что многие внешние препятствия для верного понимания Пушкина устранены, постижение его личности и творчества — истинное, глубокое — остается вовсе не простым делом. Приходится искать ответы на многие нерешенные вопросы: что считать верным образом Пушкина, каковы критерии адекватности представлений о нем? Как свести воедино многообразие проявлений личности поэта, его неукротимого, поразительного по масштабу гения? Как охватить единым взором стремительность уникального его развития как поэта и прозаика, мыслителя, философа, критика, ученого-историка, публициста, блистательного полемиста? Об условиях, необходимых для понимания гения в его многообразии и целостности, размышляют многие наши современники. Писатель Федор Абрамов подметил, что для верной оценки великого таланта нужно не одно лишь время, не только дистанция хронологическая, нужно вырасти человеку, народу. «И случайно ли,— продолжает Ф. Абрамов,— что именно в наше время в Пушкине мы усмотрели такие глубины? Нужно было пройти через испытания, через реки и моря крови, через битвы, нужно было понять, как хрупка жизнь, понять всю красоту и возможности человека, чтобы понять самого удивительного, самого духовного богатыря, гармонического, разностороннего человека, каким был Пушкин»
[3].
Не потому ли именно в наши дни стало очевидно, что богатейшим культурным достоянием является не только наследие поэта, не только нынешнее понимание его творчества, но и самая история смены представлений о личности и творчестве Пушкина во имя достижения истинного и наиболее полного его образа?
Разве факт неутолимого влечения к поэту людей стольких поколений не послужит импульсом заинтересованного, личностного приобщения подростков к его творчеству? Несомненно, если помочь им прикоснуться к истории постижения облика и наследия Пушкина. Это, в свою очередь, может оказать значительную помощь учителю литературы, истории и шире — воспитателю, который видит свое призвание в развитии творческих способностей, расширении культурного кругозора и душевной восприимчивости своих питомцев.
Образ Пушкина несет заряд редкого по силе магнетического притяжения. Современное поколение с новой силой ощутило влечение к поэту: когда остро встает вопрос чести, совести, справедливости, закономерно обращение к Пушкину. Если сегодня в сфере духовной культуры «возникло удивительное явление — потребность души равняться на высоту пушкинского гения,— то происходит это в силу не только художественного, а прежде всего нравственного, воспитательного значения его творчества»,— полагает С. Фомичев
[4].
Современная культура впитывает жизненный опыт поэта, его «лелеющую душу гуманность» (Белинский), романтически восторженное приятие жизни. В наше время приоритета рациональности, логики, прагматического мышления оказывается неоценимо важной роль Пушкина в утверждении идеалов благородства, высоты духа, честности, совести, самоуважения, признания прав и мнений других людей. Жизнью своей поэт являет пример особого рода. Не дидактичны, но в высшей степени заразительны и актуальны его уроки духовности, чести, нравственности. Вовсе не случайны ностальгические обращения к поэту как к эталону в поисках ответов на самые животрепещущие этико-моральные проблемы (к примеру, в фильме режиссера Романа Балаяна «Храни меня, мой талисман»).
Не менее ценно педагогу в пушкинском примере сочетание удивительных по широте и богатству возможностей, природных данных с редкостным трудолюбием, умением собрать, сконцентрировать все силы души. Как важно, чтобы сегодня молодые люди умели ценить эти качества и развивали их в себе, руководствуясь столь совершенным и притягательным образом.
Многие поколения читателей, поклонники поэта в прошлом веке, пребывали в плену иллюзий, что ему чуждо было упорство и напряженный труд, что сочинял он беззаботно и легко, с естественностью, подобной пению соловья или морозным узорам на стекле. Динамика пушкинского образа в социальной памяти откроет страницы, повествующие о том, как преодолевались подобные заблуждения. При знакомстве с этой историей углубятся представления школьников об уникальной творческой лаборатории Пушкина, отразившейся в его рукописях...
Неоценим опыт Пушкина в утверждении критериев самооценки и беспощадного суда над собой, эталонов патриотизма, образцов дружеской преданности и любви. Белинский верно заметил, что, читая Пушкина, можно превосходным образом воспитать и развить нравственное чувство.
Чтобы образ Пушкина сложился, нужно пробудить у учащихся неформальный интерес к поэту. Интерес искренний, стойкий, какой не утолить, не исчерпать. Быть может, приобщение к истории постижения поэта людьми разных поколений поможет в этом.
Есть еще одно немаловажное обстоятельство, обусловившее разработку поставленной в книге темы. В иные эпохи некоторым читателям, среди которых были и очень талантливые, прогрессивные для своего времени люди, казалось, что поэт исчерпал свою актуальность. Ему оставляли роль историческую, в известном смысле роль музейного экспоната. Тому пример не один лишь острополемичный Писарев... Отзывы такого рода попадают в поле зрения юных читателей и могут сослужить недобрую услугу. Именно учителю следует объяснить сложные перипетии восприятия пушкинского наследия. Нужно быть готовым к ответу на вопрос о том, чем были вызваны нападки на поэта в последние годы жизни, почему размежевались суждения о нем после трагической гибели, отчего на разных витках истории культуры порою ставилось под сомнение самое право Пушкина влиять на духовную жизнь потомков. Объяснить кипение страстей вокруг поэта немыслимо без представления — хотя бы в самых общих чертах — об истории восприятия его образа в веке прошлом и нынешнем, о логике формирования и эволюции отношений к нему представителей различных социальных групп.
Со школьной скамьи запоминается отзыв о Пушкине Белинского, провозгласившего поэта явлением всегда живым, не замершим на той точке, на которой застала его смерть. Каждая эпоха, по определению критика, произносит о нем свое суждение и, как бы верно ни был понят поэт, следующей эпохе остается всегда возможность открыть в нем нечто новое. С этим перекликаются высказывания Н. Гоголя, А. Герцена, Ф. Достоевского, Ф. Кони, Н. Некрасова в прошлом веке, а также М. Горького, В. Маяковского, А. Луначарского, М. Цветаевой, К. Симонова, А. Ахматовой, А. Твардовского, Ч. Айтматова, Д. Лихачева и многих других в нашем столетии о непреходящей ценности Пушкина. Подтверждения обычно приводятся в виде цитат. Всегда ли очевидно, что же стоит за декларативными утверждениями о Пушкине — вечном спутнике многих поколений? Какие импульсы побуждали размышлять над опытом поэта, заучивать страницы его бессмертных творений, сверяться с утвержденными им критериями — в жизни и в искусстве? Какой заряд дал Пушкин для развития отечественной культуры в целом и на отдельных этапах ее развития? Вопросы не праздные и не столь простые, как может показаться на первый взгляд. Они выходят на первый план по мере возрастания роли культурного и исторического самосознания, по мере того как изучение литературы, искусства все теснее связывается с задачами нравственного и духовного развития и совершенствования личности.
Когда заходит речь о восприятии деятеля искусства, обычны словосочетания — «образ Лермонтова», «образ Достоевского», и т. д. Уже не раз говорили мы на предыдущих страницах об «образе Пушкина». Общеупотребительность словосочетания еще не гарантирует правильности его понимания. Для нас же оно имеет принципиальное значение, потому необходимо его пояснить.
Начнем с более общего: что такое «образ человека» в представлениях обыденных, житейских? Как он складывается?
В памяти каждого из нас живут, взаимодействуют, изменяются, становятся более сложными или же вытесняются, стираются, блекнут представления о многих людях — о родных, близких, предках, приятелях, знакомых, случайно встреченных попутчиках и т. д. Иными словами, обо всех, кого знаем по непосредственному общению, и о тех, кого знаем понаслышке. Когда знакомимся с неизвестным прежде человеком, по еле заметным или очевидным приметам, по особенностям внешнего облика, привычкам, манерам, разговору стремимся угадать его характер, занятия, пристрастия. Хотим понять, симпатичен ли нам новый знакомый; если да, то чем. Анализ часто совершается помимо воли, по привычке. Из длительного опыта общения с людьми выводим собственный «дедуктивный способ» формирования мнения о новом лице, в чем-то родственный методу Шерлока Холмса. Ведь даже в разговоре по телефону с незнакомым абонентом невольно внутренним зрением «воссоздаем» его предположительный портрет, дорисовываем те или иные подробности характера, облика и т. д.
Образ человека — концентрированное впечатление, которое хранится в памяти. Если появляются дополнительные сведения, уточняющие былые оценки, образ корректируется.
Нечто подобное происходит и с представлениями о людях, которых мы лично не знали, да и знать не могли: об исторических личностях прошлого, о полководцах, вождях, ученых, творцах искусства. О них узнаем из рассказов, книг, из радио-, телепередач, из кинофильмов, театральных постановок и проч. Сведения об одном и том же человеке, почерпнутые из многих источников, синтезируются. Имя выдающегося деятеля оказывается своеобразным сигналом. К нему, как к магниту, притягиваются подробности, факты, впечатления. Они накапливаются, умножаются. Благодаря умению воссоздавать в воображении и хранить в памяти образы людей прошлых эпох мы не абстрактно, а непосредственно приобщаемся к опыту многих поколений
[5].
«Образ Пушкина» в идеале — целостное представление, своего рода стереоскопическое видение поэта
[6]. В идеале — потому что в обыденных условиях такое объемное представление труднодостижимо, мы бесконечно к нему стремимся, приближаемся, но всегда ли обретаем? Неисчерпаемость пушкинского образа открывает все новые и новые его грани, черты, детали... Представление о Пушкине включает суждения о его внешнем облике, об истории жизни, о чертах натуры, характере, пристрастиях, увлечениях, привычках — обо всем, что необходимо для понимания личности поэта. Главное, конечно, творчество. К художественному наследию интерес наиболее пристальный.
До и после Пушкина были деятели искусства, биографии которых предстают сюжетом если и любопытным, но вовсе необязательным для постижения его художественной индивидуальности, творческих достижений
[7]. С Пушкиным — не так. Необычайность его гения проявляется в редкостной слитности человеческих и артистических качеств. Расцвет таланта, становление взглядов, широта интересов, близость к передовым идеям времени — все по-особому полно, мощно отозвалось в его поэзии и в прозе. «...Пушкин,— по словам Белинского,— от всех предшествующих ему поэтов отличается именно тем, что по его произведениям можно следить за постепенным развитием его не только как поэта, но вместе с тем как человека, как характера»
[8].
Не сам ли Пушкин призывал судить о стихах, о «словах поэта» как о «делах» его, как о социальных поступках? Понимание творчества, глубинное проникновение в суть художественных достижений оказывается одним из верных ключей к представлению о личности поэта. Речь вовсе не о сведении поэзии к биографическому подстрочнику жизни Пушкина, но именно о проникновении в богатейший мир поэта. Вместе с тем знакомство с личной его историей в контексте эпохи — обязательное условие постижения его наследия.
Подобная диалектика отражается и в образе Пушкина. В нем тесно связаны, сбалансированы суждения о личности и творчестве, об облике внешнем и внутреннем, о поступках и их мотивах, об истории жизни и судьбе поэта, представления о нем как о человеке и творце.
Разве не подсказывает личный опыт читающего эти строки, что хранимое в памяти ума и сердца мнение о поэте включает комплекс мыслей и чувств, в котором сплавлены запечатленные сознанием его стихи, проза, сведения, почерпнутые из многих источников, эмоциональные отклики и на произведения, и на историю его жизни.
Образ классика тяготеет к конкретности, зрительной оформленности представлений. В его основании может оказаться облик, явленный в опекушинском памятнике, или же в бюсте поэта работы И. Витали, во вдохновенном лике, изваянном М. Аникушиным или же в остро очерченном портретном абрисе Н. Кузьмина. А может, ближе всего окажется трепетными линиями обозначенный профиль пушкинского портретного рисунка Н. Рушевой?
Зрительный образ дополняется поэтическими интерпретациями пушкинского облика и характера. Скорее всего, строками
А. Ахматовой:
Смуглый отрок бродил по аллеям
У озерных глухих берегов,
И столетие мы лелеем
Еле слышный шелест шагов...
Другим почитателям поэта могут более импонировать иные определения пушкинской натуры, иные способы толкования образа. Им созвучнее взрывчатые цветаевские строки:
Бич жандармов, бог студентов,
Желчь мужей, услада жен —
Пушкин — в роли монумента
Гостя каменного?..
Мы редко задумываемся над тем, какое неизгладимое впечатление составляют тронувшие за душу художественные толкования образа Пушкина. И сами по себе, и в сочетании с другими слагаемыми... Художественные портреты воссоздают облик в его целостности и запоминаются прочнее. Не лишне учитывать это в педагогической практике.
До сих пор, однако, значение художественной пушкинианы для расширения методической палитры учителя-словесника недооценивалось. Отчасти поэтому обратим особое внимание на интерпретации образа Пушкина в искусстве. Они ведь помогают не только осознать, но и ощутить непосредственное эмоциональное отношение к поэту людей разных поколений. Портреты, созданные во многих видах художественного творчества, позволяют вникнуть в истоки интереса к поэту, проследить процесс образования и закрепления его образа в социальной памяти. Знакомство с произведениями, посвященными Пушкину, помогает убедиться в справедливости весьма парадоксального, на первый взгляд, заключения А. Твардовского, прозвучавшего в феврале 1962 года на торжественном заседании в память 125-летия со дня гибели поэта: «...Пушкин нашей поры больше, чем тот, которого знали наши предшественники...»
Теперь — о структуре книги. Каждая глава посвящается определенному этапу восприятия поэта. Сопоставление таких вех раскрывает картину эволюции представлений о Пушкине и о его наследии.
Выделяются следующие хронологические периоды. Первый — прижизненный, со времени появления первых откликов на творчество поэта до 1837 года. Различные оценки личности и творчества поэта складывались еще при его жизни, наиболее отчетливо они поляризовались после трагической его кончины.
В смене представлений о Пушкине прошлого века выделяются события последней его четверти: в 1880 году волна интереса к поэту связана с открытием памятника работы Опекушина в Москве, в 1899 году — с празднованием столетнего юбилея.
Новая жизнь Пушкина в сознании многочисленных его почитателей началась после Октября. Поистине выдающимся событием явилось всенародное чествование его памяти в 1937 году в связи со столетием со дня дуэли.
Последняя глава книги посвящена нашим дням — судьбе образа поэта в общественном сознании 70—80-х годов.
При всем желании сконцентрироваться на строго обозначенных, хронологически «локальных» периодах, все же оказались неизбежными отступления, предпосылки главам небольших историко-культурных введений в ситуации, определившие направленность и акценты в восприятии поэта.
История формирования, закрепления и эволюции представлений о поэте в социальной памяти — тема неисчерпаемая. Мы вовсе не претендуем на полноту ее освещения, понимая, что дополнять, углублять, конкретизировать можно многое. Этим впору заняться и литературным кружкам, историческим обществам, группам ребят, объединенных общим интересом к творчеству поэта. Открывается при этом перспектива увлекательного поиска материала: массив документальных свидетельств о том, каким видели Пушкина, как оценивали его на разных исторических этапах, необозрим.
Особое внимание в книге уделяется художественной пушкиниане. Она необъятна. Помимо портретов живописных, о которых уже шла речь, учитель может воспользоваться на уроках портретами поэтическими, музыкальными. Их немало в театре, кинематографе. Даже балет и опера активно включились в поиск наиболее адекватного представления о Пушкине, о сути его художественного мира.
На протяжении длительного времени своего существования то или иное портретное изображение Пушкина оценивается, воспринимается неодинаково. Рассказ о том, как видоизменялись точки зрения на то или иное произведение пушкинианы может служить школой развития эстетического вкуса
[9]. В летопись восприятия поэта органично включается история жизни того или иного выдающегося художника — интерпретатора образа поэта. Параллельно идет ознакомление с яркими представителями русского и советского искусства... Иными словами, для творческого, ищущего педагога и здесь открываются необозримые и плодотворные перспективы.
Некоторыми приемами формирования образа писателя, как и методиками ознакомления учащихся с эволюцией представлений о классиках, пользуются учителя-словесники. Мы опираемся, в частности, на опыт работы С. Г. Бергера (Симферополь), в общении с которым зарождался замысел этой книги. В работе над ней большую помощь оказали известный пушкинист доктор филологических наук, профессор Б. С. Мейлах, кандидат филологических наук И. В. Кондаков.
Видимо, уже знакомство с предисловием к книге породит вполне естественный и закономерный вопрос: мыслимо ли вместить предлагаемое автором в жестко регламентированную программу? Задача словесника — предложить, указать путь, заинтересовать ребят, чтобы разбуженное любопытство заставило их искать ответы на непростые вопросы. Порою даже намек или невзначай упомянутый на уроке случай из огромной истории, о которой будет идти речь, или рассказ о том, как появилось посвященное поэту произведение, может оказаться искрой, которая воспламенит стойкий, неугасимый интерес к самому Пушкину.
Приобщение к миру поэта окажется более непосредственным, если в школе организовать пушкинскую выставку. Тем более, что впереди знаменательное событие — 190-летний его юбилей. Не раз издавались в помощь учителю альбомы, наборы портретов, открыток с изображениями Пушкина
[10]. Реже и малыми тиражами, но все же выходили сборники стихов о нем
[11]. Все большее распространение получают видеозаписи спектаклей, литературных композиций, документальные, теле- и художественные фильмы, связанные с личностью и творчеством Пушкина. Как охватить их и ввести в преподавательскую и воспитательную практику? Мы предлагаем варианты включения этих материалов в процесс обучения и эстетического образования, в расширение и углубление межпредметных связей. Знакомство с жизнью образа Пушкина в памяти и в сердцах людей многих поколений окажется вместе с тем действенным способом приобщения к богатейшей летописи отечественной культуры.
Глава первая
ВЗГЛЯД СОВРЕМЕННИКОВ
У истоков образа поэта
Много лет спустя после гибели поэта близкий друг Пушкина П. А. Вяземский, посетив Молдавию, написал стихи «Проездом через Кишинев». В них упоминались далекие двадцатые годы, в которые
...прослывший бес арабский,
Наш поэтический пострел,
Невольный житель бессарабский,
Здесь вольно жил и вольно пел.
С молвы стоустой Кишинева
Его стихов, его проказ
От одного в уста другого
По всей России шел рассказ.
Его затверживали сразу,
И каждый шаг, и каждый стих
Вносились, словно по заказу,
В легенду сплетней городских...
[12]
Чем навеяны эти строки? Быть может, Вяземский услышал в Кишиневе хранимые старожилами рассказы о поэте? Или это — эхо характерного восприятия Пушкина в ту пору? Поэту не минуло еще и двадцати пяти лет, когда, по словам Вяземского же, «...как Овидий, наш изгнанник Заброшен был в глухую даль». Его стихи публиковались в центре, в столицах. Неужели и в отдаленной глуши уже тогда был он столь знаменит? Популярен настолько, что самое имя его окружалось легендами, а поступки и стихи «затверживали сразу»? Нет ли здесь преувеличения, нет ли поэтической вольности? А если так, то как вообще относиться к подобным свидетельствам пушкинского окружения?
Ранняя слава действительно обратила к Пушкину многие любопытствующие взоры. Еще очень молодым человеком он стал центром внимания, толков, споров и домыслов. Мемуары современников подтверждают, что и на юге, в пору ссылки, пытливые взоры следили за ним, а воображение его поклонников и поклонниц сплетало полную невероятных событий «легендарную» его историю
[13]. Что же касается стихов Вяземского, они — повод не столько для сомнений, сколько для размышлений над некоторыми особенностями нашей памяти о великих людях.
П. А. Вяземский, знавший Пушкина с его юных лет, свое поэтическое воспоминание датировал 1867 годом. Многое тогда переменилось, только мысли о поэте не оставляли, тревожили:
...Тебя ищу я в Кишиневе
И в Петербурге я ищу:
Но место пусто, жизнь суровей,
И бывший о былом грущу.
Для прежней жизни век наш жуток,
Весь мир — все тот же Кишинев:
Нет Пушкинских стихов, ни шуток,
Ни гениальных шалунов...
По прошествии многих лет жизнь поэта просматривалась как бы в обратной перспективе. Быть может, оттого-то популярность Пушкина второй половины 20-х годов проецировалась и на ранние годы. Если и есть в посвящении Вяземского некоторое преувеличение, то в целом не противоречащее реальности, это предвосхищение того, что имело место чуть позднее.
У памяти о прошлом, всегда эмоционально окрашенной, согретой субъективным отношением,— свои властные законы. Они должны учитываться при попытках реконструкции представлений о поэте его современниками. Люди возвращаются в прошлое, как в машине времени, всегда обогащенные багажом более поздних знаний о далекой эпохе (Б. Г. Кузнецов). Мы тоже, знакомясь с первыми отзывами о Пушкине, читая восторженные хвалы В. А. Жуковского «молодому чудотворцу», помним о более сложной картине взаимоотношений поэта с его окружением.
Маститые литераторы скоро оценили необычайное дарование юноши. «Что скажешь о сыне Сергея Львовича? — писал в сентябре 1815 года П. А. Вяземский К. Н. Батюшкову.— Чудо и все тут...» Соглашались с высокими оценками таланта Г. Р. Державин, И. А. Крылов, Н. М. Карамзин...
К. Н. Батюшков, прослушав отрывок из «Руслана и Людмилы», был, по свидетельству очевидца, «поражен неожиданностью и новостью впечатления»
[14].
После чтения в рукописи первой главы «Онегина» В. А. Жуковский в письме к автору в 1824 году восклицал: «...Несравненно! По данному мне полномочию предлагаю тебе
первое место на русском Парнасе. И какое место, если с
высокостию гения соединишь и
высокость цели! Милый брат по Аполлону! это тебе возможно! А с этим будешь недоступен и для всего, что будет шуметь вокруг тебя в жизни»
[15] (Выделено Жуковским.—
Е. В.)
Уже в ту пору многоголосая молва шумела на разные лады вокруг имени поэта. Мы погрешим против истины, если о реакциях публики станем судить лишь по избранным хвалебным отзывам. Единодушная поначалу восторженность скоро сменилась гаммой разноречивых мнений и оценок. Это касалось и личности поэта, и его творчества. Образовались партии почитателей поэта, литературных и идейных противников.
Марина Цветаева писала, что есть три Пушкина: поэт «очами любящих (друзей, женщин, стихолюбов, студенчества)», есть Пушкин — «очами любопытствующих (всех тех, последнюю сплетню о нем ловивших едва ли не жаднее, чем его последний стих)», есть Пушкин — «очами судящих (государь, полиция, Булгарин, иксы, игреки — посмертные отзывы)...»
[16]
Этот ряд перечислений можно продолжить. Кого, однако, следует считать создателем образа Пушкина?
Образ складывается в индивидуальных представлениях многих людей. Кто в таком случае авторитетен, на кого нужно ориентироваться? По здравому смыслу, вероятно, на тех, кто знал поэта непосредственно. Разве не лично знакомые с Пушкиным люди запоминали, передавали устно и в письмах, а позже в воспоминаниях многие подробности, детали, наблюдения о характере, свойствах поэта?
Круг знакомых велик. Автор уникального словаря-справочника «Пушкин и его окружение» Л. А. Черейский включил упоминания о 2500 лицах, знавших поэта. Замечал при этом, что реально их число гораздо больше, в словаре учтены лишь те, с кем связи и контакты подтверждены дошедшими до нас источниками
[17].
Как бы ни было велико число людей, реально знакомых с поэтом, образ его бытовал шире, он формировался в социальной памяти большего круга его современников. Все, кто жадно следил за появлением каждого нового пушкинского произведения, все, кто переписывал и заучивал его строки, передавал истории о нем и анекдоты, придумывал, подхватывал и хранил в памяти легенды о поэте,— одним словом, читатели разных возрастов и слоев общества, знакомые с ним, малознакомые и незнакомые вовсе, принимали участие в процессе, который называем теперь «образотворчеством», то есть созданием и закреплением представлений, каким был Пушкин.
По свидетельству Н. Гоголя, ни один поэт в России не имел такой завидной участи. Ничья слава не распространялась так быстро: «Его имя уже имело в себе что-то электрическое, и стоило только кому-нибудь из досужих марателей выставить его^на своем творении, уже оно расходилось повсюду»,— отмечал писатель в статье «Несколько слов о Пушкине», вошедшей в 1835 году в его сборник «Арабески». Многочисленные поклонники и противники самим интересом к личности и творчеству поэта, вниманием ко всему, что было связано с его именем, способствовали утверждению его популярности.
Отзывы о восприятии Пушкина, о том, как встречались его произведения, как распространялись слухи о нем, о событиях его жизни, сохранились в письмах, дневниках, в записях и рассказах людей той поры. Им, правда, в большей степени свойственны особенности, отмеченные на примере стихов Вяземского: сдвиги, перемещения, переакцентировки событий как следствия аберраций памяти
[18]. В таком случае необходимо сопоставление с другими документированными источниками для выяснения реальности, но как факт общественного мнения любое свидетельство показательно.
Воспоминания о поэте, отзывы о нем критиков, письма, дневниковые записи его современников широко опубликованы и прочно вошли в наш культурный обиход
[19]. За пределами внимания оставался огромный пласт любопытнейших свидетельств того, каким знали Пушкина. Это — отзывы о нем живописцев и стихотворцев, портреты изобразительные и поэтические, а также стихотворные посвящения, послания к Пушкину, мнения о поэте и его произведениях самих участников литературных баталий, запечатленные в поэтической форме.
Пусть не остановит современного читателя, что большинство посланий слабы по части художественных достоинств. Сравнение с Пушкиным они не выдерживали, в чем нередко и со смущением сами признавались. Важно, тем не менее, что в отзывах стихотворцев подчас откровеннее прорываются настроения, симпатии, неприятия, эмоции. Особый интерес привлекают поэтические послания — жанр весьма популярный и любимый в первой половине прошлого века. Каноны его предполагали «настрой», включенность в стиль, характер адресата. Стилизация «под Пушкина» — любопытные примеры того, как понималась натура поэта, как воспринимались его творения.
Отражая распространенные для своего времени оценки личности и произведений Пушкина, поэтические посвящения сами способствовали закреплению тех или иных его характеристик. Примечательно, что в поэтические дискуссии пушкинского времени включались многие лица близкого и дальнего окружения.
В связи с этим желательно хотя бы в общих очертаниях представить портрет читателя той эпохи.
В начале века грамотных было немного. Это утверждал сам Пушкин, сетуя, что литература у нас не есть потребность народная, что класс читателей ограничен. Невелика была и нужда в книгах. Об этом можно судить по тиражам изданий. Поэма «Руслан и Людмила» вышла в 1820 году количеством в 1200 экземпляров. Обычно численность выпуска книг колебалась в пределах до 2400 экземпляров одного тиража.
Верхушку «низового читательского слоя» (Л. Гинзбург) составляло чиновничество
[20]. В 1804 году в Российской империи насчитывалось около 13 тысяч чиновников. Буквально за несколько десятилетий их численность значительно возросла — в 1847 году чиновничество составляло 61 тысячу человек. Читательская публика демократизировалась за счет притока из мещанско-чиновничьей среды
[21].
Пристрастие к чтению распространялось быстро. Если, по словам С. П. Шевырева — писателя, критика, историка литературы, академика Петербургской Академии наук,— узок был круг книгочеев при Ломоносове, то шире он стал уже во времена Екатерины, еще более распространилось «поветрие на чтенье» при Карамзине. При Пушкине же подобно «кругу волн, разливающихся быстро от камня, брошенного в их середину», чтение охватило даже отдаленные от высокопоставленных слои общества. Если при Ломоносове чтение было напряженным занятием, при Екатерине — роскошью образованности, привилегией избранных, то при Карамзине оно стало необходимым признаком просвещения, а при Жуковском и Пушкине — «потребностью общества». В то время как Карамзин, по образному выражению С. Шевырева, «очинил для всех перо современной русской прозы...», Пушкину принадлежала слава свершившего «подвиг поэтического образования...» От Пушкина ведет свое начало многочисленное племя стихотворцев
[22].
Литературный быт 20-х годов был сложным: с борьбой между группировками, соревнованием за приоритет между журналами, с борьбой за читателя...
...Назло безграмотных нахалов
И всех, кто только им сродни,
Дай бог нам более журналов:
Плодят читателей они,—
с таким
поздравлением один из друзей Пушкина выступил под Новый (1828) год в «Русском зрителе», упоминая о поэте и его окружении:
...Где есть поветрие на чтенье,
В чести там грамота, перо;
Где грамота — там просвещенье;
Где просвещенье — там добро!
Козлов и Пушкин с Баратынским!
Кого еще бы к вам причесть?
Дай вам подрядом исполинским
Что день, стихов нам ставить десть!
«Поставщикам» же «бредней» на поприще стихов и од автор желает захлебнуться собственной же их «продукцией».
Эволюция читателей и их пристрастий сыграла немалую роль в истории отношения к поэту современников.
Реконструируя воззрения пушкинских современников, мы акцентируем внимание на том, каким видели читатели своего кумира. При этом надо учесть, что образ Пушкина в представлениях даже наиболее проницательных и тонких ценителей и наблюдателей, знавших его близко многие годы, не вполне совпадает с тем, что являл собой поэт реально. Образ Пушкина и Пушкин как конкретно-историческая личность не идентичны. Потому еще раз заметим: мы не пишем историю поэта, а рассматриваем отражение некоторых событий его биографии и поэтической жизни в восприятии современников.
Что влияло на представления о Пушкине? Социальные оценки выдающейся личности определяются комплексами объективных и субъективных причин. Конкретные феномены воспринимаются обычно не отвлеченно, а сравниваются с некоим образом-эталоном, с идеалом. Поступки поэта, «дела» его и «слова» поэта оцениваются в сопоставлении с бытующими идеалами, с представлениями о том, каким надлежит быть стихотворцу. Привычные мерки прикладываются к конкретному лицу. Настроения публики отражают ее культурные ориентиры, которые служат подобием лоции и критерием оценки.
Не менее важно помнить также, что жизнь Пушкина протекала словно бы и на глазах, на виду у многих, но внутренняя, духовная жизнь гения оказывалась скрытой даже от наиболее близких друзей. А произведения? Частью они не были опубликованы, ходили в списках. Иные увидели свет искаженными цензурой, а многие и вовсе поэт не мыслил печатать, не желая подчиняться указаниям высокопоставленных цензоров. Могла ли публика уследить за необычайно, ошеломляюще быстрым развитием самого поэта?
Пушкин менялся, мужал, совершенствовался его талант, зрели силы духовные... Он складывался как личность, как уникальный художник. В то же время закреплялся его образ, то есть представления о нем в восприятии современников. Оба процесса шли параллельно, что затрудняло стремление современников составить целостное, непротиворечивое и верное о нем представление. Публика фиксировала прежде всего то, что бросалось в глаза. На фактах, ей доступных, концентрировала внимание. Раз закрепившийся образ оставался таковым почти без изменения, ибо проще создать новое представление, чем корректировать, видоизменять былое. Менялся сам Пушкин, а образ его в основном оставался по сути неизменным, разве что потерял в середине тридцатых годов былую притягательность и блеск. О том, как это происходило, и пойдет далее речь. Обращаясь к далекой пушкинской эпохе, стремясь вникнуть в строй мыслей и чувств людей, живших бок о бок с поэтом, читатель должен подключить все навыки творческой реконструкции прошлого, настроиться на восприятие. Для этого нужно знать, чем, к примеру, диктовались пристрастия, симпатии и антипатии к поэту? Что влияло на оценку его поступков, произведений? Конечно же, вся система принятых в обществе воззрений, правил, норм, условностей и условий, их порождавших. Значит, надо учитывать не только внешние обстоятельства, но и законы психологической инерции, стереотипы восприятий, ориентации и настроенность публики.
Проникновение в мир Пушкина требует
перестройки привычных нам стереотипов, и прежде всего понимания, что это такое — «мир поэта». В нем слиты, пересекаются целый ряд смысловых пластов. Это — мир, реально окружавший поэта: та атмосфера, среда, культура, в которой он жил. Это — события политические, общий климат самодержавной России; быт — светский, салонный, усадебный, домашний, литературный; привычки, этикет, приметы времени и людей...
[23] Вместе с тем «мир Пушкина» — это и сам поэт, уникальный человек, художник, мыслитель, сотворивший свою грандиозную художественную картину мира. «Мир Пушкина» — это и сложная система взаимоотношений поэта со многими его современниками, людьми разных возрастов, сословий, воззрений. Внешний мир и мир поэта взаимосвязаны, без знания одного трудно понять другой.
В последнее время как общая тенденция нынешнего отношения к истории обозначился сдвиг от дробления жизни и творчества поэта на отдельные периоды, этапы и т. д.— к панорамному видению его жизни в контексте эпохи. Наши современники настроены на осмысление грандиозной картины мира, созданной поэтом, в ее взаимосвязях и обусловленностях с миром, реально поэта окружавшим. Представления о начале прошлого века, о времени декабристов, эпохе надежд и трагедий конкретизируются, уточняются, тяготея к полноте стереоскопического обзора. Знакомство с современниками поэта и взаимоотношениями между Пушкиным и публикой оказывается в русле этих общих закономерностей культурно-исторического диалога с прошлым.
Ученые-пушкинисты, историки, культурологи внесли весомый вклад в воссоздание контекста, атмосферы пушкинской эпохи. Большим подспорьем могут служить труды, в которых обращается внимание не только на события «внешней» истории, но и на социально-психологические особенности жизни, нравы, привычки людей начала прошлого века
[24]. Того времени, когда началась жизнь Пушкина в общественном сознании, когда предстал поэт перед первыми своими читателями.
«Надежда нашей словесности»
Читатель журнала «Российский Музеум» был, видимо, удивлен и озадачен, обнаружив в девятом выпуске за 1815 год на странице 260 послание, посвященное Пушкину. Эта фамилия пользовалась известностью в литературных кругах: помимо дяди поэта, стихотворца Василия Львовича Пушкина, еще два не столь близких родственника Александра Пушкина были литераторами. Кому же могло быть отнесено стихотворное посвящение, не совсем привычное для представлений о предназначении поэта?..
Кто, как лебедь цветущей Авзонии
[25],
Осененный и миртом и лаврами,
Майской ночью при хоре порхающих,
В сладких грезах отвился от матери,—
Тот в советах не мудрствует; на стены
Побежденных знамена не вешает;
Столб кормами судов неприятельских
Он не красит пред храмом Ареевым,
Флот, с несчетным богатством Америки,
С тяжким золотом, купленным кровию,
Не взмущает двукраты экватора
Для него кораблями бегущими.
Но с младенчества он обучается
Воспевать красоты поднебесные,
И ланиты его от приветствия
Удивленной толпы горят пламенем.
И Паллада туманное облако
Рассевает от взоров,— и в юности
Он уж видит священную истину
И порок, исподлобья взирающий!..
Как того требовал канон жанра послания, в стихотворении рисуется облик адресата — юного поэта, независимого («в советах не мудрствует»),
[26] очаровавшего своих слушателей ранней одаренностью. Кредо его — в служении «священной истине», в свершении художественных и гражданских подвигов. Не случайно его опекает Афина Паллада — богиня мудрости (именно в решении государственных дел); с ее культом связано прославление устоев государственности, основанных на демократическом законодательстве. Афина же покровительствует художникам и героям, которые встают на защиту общественного порядка. Автор послания широко использовал античную мифологию, уверенный, что читателю будет понятна знакомая семантика образов
[27]. Послание завершалось возвышенно:
Пушкин! Он и в лесах не укроется;
Лира выдаст его громким пением,
И от смертных восхитит бессмертного
Аполлон
[28] на Олимп Торжествующий.
Решительно ни с одним из популярных тогда поэтов не удавалось читателю связать создаваемый посланием образ. Правда, знатоку поэзии могло припомниться, что в одном из предыдущих номеров того же «Российского Музеума» было опубликовано стихотворение «Воспоминания в Царском Селе», подписанное именем Александра Пушкина. (То было первое его стихотворение с авторской подписью — прочее до той поры выходило анонимно.) При публикации была сноска: «За доставление сего подарка благодарим искренно родственников молодого поэта, которого талант так много обещает. И (здатель) М(узеума)»
[29].
Сохранились свидетельства, что уже первое стихотворение А. Пушкина было замечено ценителями изящной словесности. По воспоминаниям М. Н. Макарова (поэта, историка литературы, издателя «Журнала для милых»), именно по первым публикациям в журнале «Российский Музеум» публика узнала Пушкина и изумилась его дарованию
[30].
Слух о юноше, который, по отзыву В, А. Жуковского, призван стать «надеждой нашей словесности», ширился. Скоро минуло время, когда поэт заслуживал прозвищ «парнасского шалуна», «балагура». Недолго его именовали «Пушкин-племянник», чтобы отличать от Василия Львовича. Стремительно растущая популярность вытеснила это прозвище, слава племянника затмила имя дяди...
По окончании Лицея Пушкин живет в Петербурге. По цензурным условиям многие его стихотворения, сатиры, эпиграммы, выразившие идеи и настроения передовых кругов российской молодежи, не могли появиться в печати. Они широко распространяются в списках, рукописях, заучиваются наизусть, декламируются на собраниях молодежи. Особую известность получили в то время написанная в 1817 году ода «Вольность» (позже она стала главным поводом для ссылки поэта), «К Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой славы...»), «Деревня», «Сказки. Noël», эпиграммы (на Каченовского, Карамзина, на Стурдзу и другие).
По воспоминаниям И. Якушкина и И. Пущина, сатирические «Сказки. Noël» распевались чуть не на улице и распространялись в многочисленных рукописных копиях. В списках ходило послание «К Чаадаеву», воспламенившее многие юные сердца призывами служения свободе, «вольности святой», верой в то, что «Россия вспрянет ото сна...» и «на обломках самовластья» будет возведено свободное, демократическое государство. Пушкинская патриотическая лирика тех лет оказала огромное воздействие на молодежь, на будущих декабристов. В ответах на вопросы следственного комитета участник восстания на Сенатской площади М. П. Бестужев-Рюмин скажет, что слышал повсюду «стихи Пушкина, с восторгом читанные». Это укрепляло «либеральные мнения».
Современники отмечали независимость и смелость поэта. Он демонстративно появлялся в «боливаре» — широкополой шляпе, названной в честь Симона Боливара, предводителя революционного восстания в испанских колониях Южной Америки. Носил широкий черный фрак с нескошенными фалдами — «по-американски».
Антиправительственные высказывания поэта, его сатиры на высочайших сановников пользуются широкой известностью. Пушкинские остроты, колкости у всех на устах. В театре во всеуслышание он выкрикнет: «Теперь самое безопасное время — по Неве лед идет», намекая на то, что нечего опасаться заключения в Петропавловскую крепость
[31]. При всяком новом бесчинстве Аракчеева или же при изъявлении угодничества царским сановникам Пушкин не может удержаться, чтобы не выкрикнуть эпиграмму
[32].
Начав печататься еще в лицейскую пору, юный пиит покорил публику. Издатели пропагандируют его поэзию. В 1820 году отрывок из «Руслана и Людмилы» (встреча богатыря с Головой) появляется в третьей части «Учебной Книги Российской Словесности»
[33]. Вскоре впервые в учебную литературу заносится его имя. В «Опыте краткой истории Русской Литературы» он включен в число писателей, которые «в изящной Литературе нынешнего века приобрели отличную славу». Правда, назван Пушкин последним из девятнадцати первостепенных литераторов, но зато в ряду самых именитых, таких, как Н. М. Карамзин, И. И. Дмитриев, И. А. Крылов, В. А. Жуковский, К. Н. Батюшков, П. А. Вяземский и другие. Примечательно, что в этой же учебной книге читателям впервые предложена краткая биографическая справка о Пушкине. В ней перечислены его лирические стихотворения, а «важнейшим» сочинением названа романтическая поэма «Руслан и Людмила». По оценке автора пособия, в поэме «видны необыкновенный дух пиитический, воображение и вкус, которые, если обстоятельства им будут благоприятствовать, обещают принести драгоценные плоды». Здесь же впервые приводятся биографические сведения, весьма лаконичные: «Александр Сергеевич Пушкин, Коллежский Секретарь, родился... 26 мая 1799 года, воспитывался в Царскосельском Лицее, из коего выпущен в 1817 году и определен в Коллегию Иностранных Дел. В 1820 году
перешел он в Канцелярию Генерал-Лейтенанта Инзова, полномочного Наместника в Бессарабии...» (выделено мною.—
Е. В.). Поэт ко времени выхода книги находился в ссылке, о чем, естественно, нельзя было упоминать в печати.
Известность поэта стремительно ширится. Популярность его «прелестных» стихов приумножается репутацией вольнодумства автора, славой о его бесстрашии и остроумии.
Распространяется молва о Пушкине как о предводителе вольнолюбивых кругов прогрессивной и радикально настроенной молодежи. Заучиваются, переписываются не только его стихи, но и высказывания, шутки, остроты, эпиграммы. Ему приписывается буквально все, что имело антиправительственный смысл. Тем самым стихам и остротам обеспечивался успех. Через несколько лет, вспоминая петербургский период своей жизни и связи с декабристами, Пушкин напишет в письме к Вяземскому: «Все возмутительные рукописи ходили под моим именем»
[34].
Самым удивительным образом мнения о Пушкине как о предводителе революционно настроенной молодежи сочетались с репутацией человека безрассудного, легкомысленного, легковесного, чурающегося серьезных литературных трудов. Эти мотивы преобладают в письмах той поры пушкинских старших современников, которые негодуют по поводу кутежей и неосмотрительных поступков поэта, его эпикурейских наклонностей. А. И. Тургенев, общественный деятель и литератор, знавший поэта с детских лет, по его собственным словам, ежедневно бранил Пушкина за его «леность и нерадение о собственном образовании, к чему присоединились и вкус к площадному волокитству и вольнодумство, тоже площадное, 18 столетия»; бранил за то, что Пушкин «разоряется на мелкой монете»
[35]. К. Н. Батюшков полагал, что не худо бы запереть юного поэта «в Геттинген и кормить года три молочным супом и логикою...», чтобы не промотал свой талант
[36].
Наставники, старшие друзья поэта, порицавшие его, не знали, что за бретерством напоказ скрывалась напряженная работа мысли, духа, воображения. Изучая пушкинскую лицейскую тетрадь стихотворений, которую он готовил в ту пору, советская исследовательница Т. Г. Цявловская установила семь «слоев» поправок, относящихся к периоду между июнем 1817 и декабрем 1819 годов. В это же время создается поэма «Руслан и Людмила», которая во многом определила отношение к Пушкину читателей и представления о поэте.
Споры вокруг поэм
Формирование романтического образа
Первая широкая полемика вокруг пушкинских произведений началась после выхода в свет поэмы «Руслан и Людмила». Работу над ней юный пиит начал еще в Лицее, а завершил в 1820 году в Петербурге. Среди любителей литературы поэма в отрывках уже была известна, она публиковалась в журналах, сам поэт читал ее в кругу друзей. Когда же она вышла целиком отдельным изданием, то маленький томик в 142 страницы, в восьмую долю листа (половина школьной тетради) произвел впечатление ошеломляющее
[37]. Поэма привела в восторг читающую публику, особенно молодежь. О ней спорили, ею восхищались. При общем почти единодушном интересе мнения и оценки вскоре расслоились.
Образовались два лагеря. К одному примкнули литераторы и критики, которых называли «классиками» за то, что они свято блюли и защищали классицистические устои, нормы и правила. Строго регламентировавшее писателей и поэтов направление отжило уже свое, но не сдавало позиций. Приверженцы его увидели в поэме Пушкина опасные приметы нового, романтического искусства. «Новый, пагубный род поэзии»,— так аттестовал поэму консервативный «Вестник Европы».
Защитников старины оскорбила близость «Руслана и Людмилы» к народной поэзии, нарушение четких канонов жанра поэмы. Просвещенный вкус был покороблен замыслом, который «...оживляет мужичка сам с ноготь, а борода с локоть... показывает нам ведьму, шапочку-невидимку и проч.»; образы народной фантазии воспринимались как грубая шутка. Возмущало староверов и то, что, являясь в поэме в качестве собеседника, автор прямо обращался к новому читателю, отмежевываясь от них:
Ты видишь, добрый мой читатель,
Тут злобы черную печать!
Многое ревнителям классицизма казалось «странным» и «необычным». Сказочные образы не были целиком заимствованы из народной поэзии, а явились преображенные смелой фантазией поэта. Рассказ о временах прошедших многими деталями, ассоциациями напоминал о современности: о вполне «земных» переживаниях, о поступках современников Пушкина, о недавних событиях Отечественной войны 1812 года... «Вместо древности узнаю новейшие времена»,— с возмущением писал один из критиков, недоумевая над характером вроде бы исторической поэмы.
Особое раздражение вызывало и то, что в поэме «высокое» сочеталось с «низким», недостойным описания, по нормативам старинных канонов, «штиль» возвышенный перемежался с простой разговорной речью.
Консерваторы уловили в поэме оттенки вольнодумства, навеянные новыми временами. В «Невском зрителе» поэму сравнивали с распространяемыми во Франции произведениями, которыми ознаменован «не только упадок словесности, но и самое нравственности» (1820, № 7, с. 79). По характеристике Белинского, слепые поклонники старины, «почтенные колпаки» были оскорблены и приведены в ярость появлением «Руслана и Людмилы». В их резком неприятии поэмы сказалось политическое и эстетическое противостояние классицистов романтическому искусству. Оно тогда только оформлялось, и даже сторонники его не были единодушны в суждениях об идеалах и задачах нового литературного направления.
Романтизм начала прошлого века не был течением однородным. Представители гражданского его направления ратовали за развитие новых идейно-художественных принципов. Они воодушевлялись стремлением направить искусство, и прежде всего литературу, на пропаганду декабристских идей. Искусство ценилось как средство воспитания народа. Поэзия должна была служить духовному и нравственному совершенствованию.
В противовес канонам классицизма, с его требованиями подражать западным образцам, романтики прогрессивного крыла высказывались за национальную тематику искусства, за возвышенность и одухотворенность содержания, за лирическую страстность и активное выявление позиции автора в повествовании. Это они обнаружили и высоко оценили в пушкинской поэме. «Руслан и Людмила» была отмечена в журнале «Сын отечества» (1822) как проявление «успехов посреди нас поэзии романтической».
Но и с этой стороны мнения не были однозначно одобрительными. Приветствуя сочинителя, литераторы прогрессивного круга (будущие декабристы) призывали его воспевать героические подвиги и вдохновлять современников на борьбу. В «Сыне отечества» (1822) под псевдонимом «А. М.» напечатано стихотворение, приписывавшееся А. А. Бестужеву-Марлинскому, «К сочинителю поэмы «Руслан и Людмила». Есть предположение, что принадлежит оно перу А. М. Мансурова, известного поэтическими публикациями в «Мнемозине» и в дельвиговском «Подснежнике». Призывая создателя поэмы к служению «истинной славе», к подвигам гражданским, автор стихотворного послания обращается к Пушкину с укором:
...Почто же восторги священных часов
Ты тратишь для песней любви и забавы?
И вслед за толпою туманным путем,
Сбежавши в бесплодную область видений,
Ты хочешь, чтоб в мраке холодным перстом
Бесценное время отсчитывал гений...
Он призывает поэта:
...Оставь сладострастье коварным женам!
Сбрось чувственной неги позорное бремя!
Пусть бьются другие в волшебных сетях
Ревнивых прелестниц,— пусть ищут другие
Награды с отравой в их хитрых очах!
Храни для героев восторги прямые!
Согрей их лучами возвышенных дел
И стройной красою изящного мира,
И доблести строгой дай лиру в удел,
И доблестью строгой прославится лира!
Споры вокруг поэмы достигли такой остроты, что, по замечанию критика А. Перовского, выступившего в защиту Пушкина, «иной подумает, что речь идет не о поэме, а об уголовном преступлении».
Несмотря на разноголосицу оценок и мнений, поэмой зачитывались. Она свидетельствовала о появлении на российском поэтическом небосклоне большого дарования. Причем первая поэма принесла популярность и в известной мере предопределила в обществе представления о Пушкине, об особенностях его таланта, об излюбленных мотивах. Ф. Н. Глинка, поэт, публицист, председатель Общества любителей российской словесности, в послании «К Пушкину» перечисляет полюбившиеся ему темы и мотивы поэта:
...Поешь ты радость и любовь,
Поешь утехи, наслажденья,
И топот коней, гром сраженья,
И чары ведьм и колдунов,
И русских витязей забавы...
Склонясь под дубы величавы,
Лишь ты запел, младой певец,
И добрый дух седой дубравы
Старинных дел, старинной славы
Певцу младому вьет венец!
И все былое обновилось:
Воскресла в песне старина,
И песнь волшебного полна!..
Здесь, как и во многих других поэтических посланиях, упоминаются мотивы, темы и герои «Руслана и Людмилы». К самому Пушкину часто обращаются теперь как к «певцу Руслана и Людмилы» — так именует поэта Н. Языков в стихах о Тригорском. В. Кюхельбекер в стихах «К Пушкину и Дельвигу (Из Царского Села)» обращается к другу:
...Мой огненный, чувствительный певец
Любви и доброго Руслана —
Тебя, на чьем челе предвижу я венец
Арьоста и Парни, Петрарки и Баяна!
Любопытно отметить и эти сравнения, где в один ряд поставлены прославленные поэты Возрождения — Ариосто и Петрарка, Парни — французский поэт, оказавший на Пушкина немалое влияние в лицейские годы, и Баян (Боян) — легендарный древнерусский певец-сказитель.
Многочисленные отзывы в печати, полемика по поводу первой поэмы укрепили, расширили славу поэта.
...Мне памятней те лета,
Та радость русския земли,
Когда к нам юношу-поэта
Камены за руку ввели...
Так через полтора десятилетия будет писать Ф. Глинка в «Воспоминании о пиитической жизни Пушкина»:
И он, наш вещий, про Руслана,
Про старину заговорил!
В певце — поэта-великана
Певец Фелицы
[38] обличил!
Как дружно вдруг его напевы,
Как пышно хлынули рекой,
Не раз срывая сердце девы,
Не раз мутя души покой,
Как чар волшебных обаянья;
И шум заслуженных похвал,
Москву и треск рукоплесканья,
Следя свой дальний идеал,
Поэт летучий обгонял!..
Вслед за первой поэмой в сентябре 1822 года выходит «Кавказский пленник». Сообщения о продаже книги и отзывы публикуются во многих газетах и журналах: в «Санктпетербургских Ведомостях», в «Русском Инвалиде», в «Благонамеренном», в «Сыне Отечества», в «Соревнователе Просвещения и Благотворения» и в других.
За время южной ссылки
[39] (поэт провел 3 года в Молдавии и 13 месяцев в Одессе), помимо многих стихотворений и «Кавказского пленника», написаны также «Братья разбойники», «Бахчисарайский фонтан»... По словам В. Белинского, поэмы читались «всею грамотною Россиею»
[40].
Восторженные отзывы в печати, полемика вокруг произведений, легенды, слухи о поэте, высланном из Петербурга (в сентябрьском номере «Сына Отечества» за 1820 год напечатано дополнение к «Руслану и Людмиле» — эпилог с пометкой «26 июля 1820 года. Кавказ»),— все способствовало небывалому интересу к стихотворцу.
Сохранилось немало свидетельств широкой популярности произведений Пушкина. Многие стихи его перекладываются на музыку. В Москве 22 апреля 1822 года газета «Московские Ведомости» сообщает о первом представлении балета «Руслан и Людмила, или Низвержение Черномора, злого волшебника». Большой героико-волшебный пантомимный балет в 5 действиях, сочиненный Глушковским, поставлен на сюжет известной национальной русской сказки.
В «Словаре древней и новой поэзии, составленном Н. Остолоповым», не раз даются ссылки на «Руслана и Людмилу». Так, в части I (СПб., 1821) этого издания первая поэма Пушкина упомянута среди примеров «чистого вымысла». В разделе об эпитете приведены стихи из «Руслана и Людмилы». Стихи из второй и третьей песни этой же поэмы служат образцом «топографии» и «подобия» во второй части «Словаря». В третьей части стихи из поэмы и сама она приводятся как образец поэмы «романической или романтической».
В 1821 году первые сообщения о Пушкине и его поэме появляются за границей. В Париже, в «Revue encyclopédique» (т. 9, кн. 26, с. 382) напечатана заметка «Научные и литературные новости. Россия. С.-Петербург. Стихотворения», в которой опубликован положительный отзыв о «Руслане и Людмиле» — романтической поэме Пушкина, «бывшего воспитанника Царскосельского лицея, ныне состоящего при Бессарабском генерал-губернаторе, всего 22 лет». В конце этого же года в Лондоне впервые в английской печати говорится о поэме «Руслан и Людмила» и достойном особого внимания ее авторе
[41].
Каким же представляет себе публика тех лет молодого поэта? Прежде всего — об ожиданиях читателей, о том, каким хотели видеть они певца.
Часть публики — особенно молодежь — первых двух десятилетий XIX века была настроена на волну искусства романтического. В движении от классицизма и сентиментализма это направление более полно соответствовало требованиям времени, его духу. В прогрессивных (будущих декабристских) кругах распространяются идеи гражданского романтизма с требованиями к искусству, к поэзии возвышать нравственное чувство, способствовать распространению примеров героизма, преданности народу. Поэту, «органу истины священной», по словам Рылеева:
...неведом низкий страх;
На смерть с презрением взирает,
И доблесть в молодых сердцах
Стихом правдивым зажигает.
«Нет ничего выше предназначения поэта», дело которого связано с революционной борьбой
[42], утверждал Рылеев.
Приверженцы более мягких в политическом смысле взглядов также ожидали встречи с романтическим гением. Таким и предстал Пушкин публике, своими первыми блестящими поэтическими опытами, южными поэмами утвердив за собой репутацию романтического певца.
Ожидания публики поддержали и издатели поэта. К вышедшему в 1822 году «Кавказскому пленнику» Н. И. Гнедич (издатель «Руслана и Людмилы» и «Кавказского пленника», известный поэт, переводчик «Илиады» Гомера) приложил гравированный портрет А. С. Пушкина. Это было первое изображение, по которому читателю предстояло составить мнение об облике стихотворца. Обращаясь к читателю, Гнедич писал в примечании: «Издатели присовокупляют портрет Автора в молодости с него рисованный. Они думают, что приятно сохранить черты Поэта, которого первые произведения ознаменованы даром необыкновенным».
Это был портрет, гравированный Егором Гейтманом, теперь хорошо знакомый каждому школьнику. Но тогда читатели впервые увидели поэта. Кудрявый мечтательный юноша устремил вдаль отрешенно задумчивый взор. Мягкие, округлые черты лица, совсем еще детские. В памяти современников поэта, по ассоциации, скорее всего, возникало широко известное изображение Байрона на портрете работы Ричарда Уэстола. Та же поза, воротник, который так и назывался «à la Byron», выражение вдохновенного лица — все свидетельствовало, что перед зрителем — поэт. В таком байроническом духе было принято изображать питомцев муз.
Почему в 1822 году, когда Пушкину было уже 23 года, понадобилось изображать его юношей приблизительно четырнадцати-пятнадцати лет? Почему никогда не указывается автор рисунка, по которому сделана гравюра?
 Е. ГЕЙТМАН. Пушкин. Гравюра. 1822.
А. С. ПУШКИН. Автопортрет «в круге» 1817—1818(?)
Е. ГЕЙТМАН. Пушкин. Гравюра. 1822.
А. С. ПУШКИН. Автопортрет «в круге» 1817—1818(?)
Поскольку именно первому портрету Пушкина было суждено сыграть немалую роль в утверждении представлений о нем как о романтическом гении, вспомним историю портрета...
В пору, когда готовилось издание «Кавказского пленника», Пушкин был в ссылке. Чтобы приложить портрет к поэме, был необходим оригинал — рисунок-портрет. Кто же автор портрета?
Уже после гибели Пушкина писатель Нестор Кукольник в «Художественной газете» (№ 9—10 за 1837 г.) опубликовал рассказ об истории гравюры. В нем говорится, что портрет нарисован без натуры, наизусть неким К. Б. и «обличает руку художника, в нежной молодости уже обратившего на себя внимание всех любителей живописи того времени. Гравирован Е. Гейтманом, который один на гравюре подписал свое имя. Доска доставлена в редакцию от Н. И. У. (Николая Ивановича Уткина. —
Е. В.). Разослан как воспоминание о молодых летах и Поэта и Художника...».
Опять загадка: кто такой К. Б.? Выдвигались разные предположения. Думали, что за инициалами скрывается Карл Брюллов, по другой версии — Константин Батюшков. Предполагалось, что автором рисунка мог быть и человек с совсем иными инициалами — учитель рисования в Лицее С. Г. Чириков. Окончив Академию художеств, он совмещал обязанности гувернера и учителя рисования. Авторство рисунка приписывалось и Оресту Кипренскому.
В недавней работе искусствовед Е. В. Павлова напомнила версию, предложенную академиком и видным живописцем нашего века И. Э. Грабарем. Поскольку друзьям поэта во что бы то ни стало хотелось выпустить книжку с портретом, а Пушкина не было в Петербурге, они принялись искать какой-либо портрет. Тогда, видимо, и вспомнили о портрете Чирикова. Кстати, есть свидетельства лицеистов, что учитель рисования сделал портрет Пушкина. Брюллов, учившийся с Гейтманом в Академии, «заменил, вероятно, прозаический фрак поэтической сорочкой с эффектно накинутым плащом, и получился ни дать ни взять — юный Байрон. Таким образом, впредь до находки новых материалов,— заключил И. Э. Грабарь, — ...приходится условно принять в качестве автора портрета С. Г. Чирикова, а в качестве его байронизатора безусловно К. П. Брюллова»
[43].
В пользу этой версии позже появились дополнительные доказательства. Уже в советское время Пушкинским домом был приобретен акварельный портрет Пушкина-мальчика, очень напоминающий вариант гравюры Гейтмана, в котором угадывается манера Чирикова
[44].
Через 120 лет, вглядываясь в юношеское изображение Пушкина, Марина Цветаева скажет: «...этот детский негрский портрет по сей день считаю лучшим из портретов Пушкина, портретом далекой африканской души его и еще спящей — поэтической. Портрет в две дали — назад и вперед, портрет его крови и его грядущего гения. Такого мальчика избрал бы Петр, такого мальчика тогда и избрал...»
[45]
В этом отзыве — особое, «цветаевское» отношение к Пушкину и влияние значительной временной дистанции. Современники поэта были прозаичнее. Они видели юного пиита и доверяли этому изображению. На многие годы после выхода первых поэм столичная публика, не говоря уже о провинциальной, запомнила Пушкина таким, как, на портрете Е. Гейтмана, приложенном к первому изданию «Кавказского пленника», то есть, как вспоминал Ксенофонт Полевой, «кудрявым пухлым юношею с приятной улыбкой».
В воспоминаниях о Пушкине К. Полевой описывает свое удивление по поводу несоответствия общепринятого представления о внешнем облике Пушкина и реального впечатления при встрече с поэтом. Правда, случилось это уже в 1826 году, после возвращения Пушкина из ссылки. Полевой увидел тогда человека худощавого, «с резкими морщинами на лице, с широкими бакенбардами, покрывавшими всю нижнюю часть его щек и подбородка, с тучею кудрявых волосов. Ничего юношеского не было в этом лице, выражавшем угрюмость, когда оно не улыбалось». Полевой заключает: «Я был так поражен неожиданным явлением, нисколько не осуществлявшим моего идеала, что не скоро мог опомниться от изумления и уверить себя, что передо мною находился Пушкин...»
[46]. Гравюра Гейтмана получила столь широкое распространение, потому как удовлетворяла ожидания публики... И то правда, что долгое время иных портретов Пушкина просто не было.
Как отнесся сам Пушкин к первому представленному читателям портрету? Получив экземпляры «Пленника», 27 сентября 1822 года из Кишинева он благодарил Н. Гнедича за хлопоты по изданию и замечал: «Александр Пушкин мастерски литографирован, но не знаю, похож ли, примечание издателей лестно — не знаю, справедливо ли». В конце письма он выразил свое мнение о портрете более определенно: «Я писал к брату, чтоб он Сленина (петербургского книгопродавца и издателя.—
Е. В.) упросил не печатать моего портрета, если на то нужно мое согласие, то я не согласен». Этот эпизод весьма показателен. С первых же шагов на литературном поприще Пушкин стремился противостоять захлестывающей волне расхожих суждений о поэтической личности, о том, каким пристало быть поэту.
Пушкин рано начал отстаивать право на индивидуальность, на отличное от других «лицо», на то, чтобы, по его же словам, «брести своим путем». Тому способствовала необычность его дарования, отличавшего от собратьев по перу поэта уже в юности. Но все же новое оценивается через сопоставление со знакомым, более привычным. Хотя Пушкин с самого начала своего «выламывался» из привычных рамок «романтизированного байронического образа», публика узнала в нем романтического гения и акцентировала свой интерес именно на этих его чертах.
Еще одна любопытная подробность. После окончания Лицея в 1817 году поэт стал готовить для печати сборник своих стихов. Приблизительно к этому же времени относят исследователи и один из первых автопортретов поэта, так называемый «портрет в круге» (см. с. 32)
[47]. Предполагается, что Пушкин намеревался приложить его к изданию стихотворений. Так ли это, сказать сложно. Но несомненно одно: автопортрет разительно не похож на все изображения, которые были тогда в моде и прилагались обычно к томикам стихов и поэм. Весьма далек автопортрет и от гравированного Гейтманом. Не оставляет мысль, что уже тогда Пушкин подчеркнуто хотел предстать перед публикой самим собой, а не походить на расхожие стереотипы; хотел, чтоб увидели его Пушкиным, а не Байроном.
Каким изобразил себя поэт? Нарисовав себя в полуфигуру (обычная его манера в автопортретах — профиль), он тщательно прорисовал голову, силуэт и детали костюма. Свое изображение заключил в своеобразный медальон и затушевал штрихом фон. Искусствовед А. М. Эфрос увидел в автопортрете «нарочитое подражание стилю миниатюр». В описании рисунка искусствоведом подчеркивается своеобразие автопортрета, разительное отличие от получившей популярность гравюры Гейтмана. «Весь облик подтянут, худощав, заострен; у него покатая, почти стремительная линия лба, надбровий, носа; выступающая вперед верхняя губа; сухая, извилистая линия рта; вздернутые очертания ноздрей, нерельефный, срезанный подбородок, крупно поставленные глаза, отмеченные той особой выпуклостью, которую сумел передать только Тропинин... Индивидуальна... прическа: она небольшая, тщательно приглаженная, собранная округло по затылку; она придает автопортрету присобранность, соответствующую строгому характеру всего изображения. Больше такой манеры носить волосы у Пушкина мы не встретим. Начиная с кишиневских и кончая предсмертными изображениями, везде дальше пойдет та всклокоченная, вольная, играющая прядями и кольцами копна волос, которая входит традиционно в наше представление о пушкинском облике»
[48].
Талантливое искусствоведческое «прочтение» автопортрета может быть дополнено пушкинскими стихами «К другу стихотворцу», обращениями к Музе борьбы и мести оды «Вольность», клятвами:
...Свой дух воспламеню жестоким Ювеналом,
В сатире праведной порок изображу
И нравы сих веков потомству обнажу...
Пушкинское кредо, выраженное в строках: «Страшися участи бессмысленных певцов, Нас убивающих громадами стихов, Страшись бесславия...», в которых «слава» трактовалась в духе декабристской поэтики — славы гражданской, доблести служения отечеству, определяло основные особенности и черты того образа поэта, на которые ориентировался сам Пушкин.
«Тебе звучат, наш камертон-поэт,
На лад твоих настроенные струны...»
Мы привыкли судить о том, каким знали Пушкина его современники, по мемуарным свидетельствам. Многочисленные наблюдения, мнения, оценки людей, более или менее близко наблюдавших его, позволяют воссоздать облик в восприятии его эпохи. В. Э. Вацуро, обобщив свидетельства пушкинских современников, «соткал» из них следующий словесный портрет: «Человек среднего роста с смугловатым оттенком кожи, сильным и легким телом и маленькими аристократическими руками, за которыми тщательно следит. Он весь в движении, и естественность и непринужденность придают ему неуловимое изящество, заменяющее природную красоту. Действительно, в этой подвижности есть что-то обезьянье: привычка грызть яблоко или акробатическая ловкость, с какой он бросается на диван, поджав под себя ноги. В незнакомом обществе он рассеян или угрюм; холодная вежливость, учтивое безразличие встречают назойливого любителя знакомств; проявления чужого ума или дарования мгновенно пробуждают в нем искру: глаза вспыхивают, звонкий, безудержный смех оглашает комнату... Чужое творчество, вступающее в гармонию с его собственными тайными замыслами, может вызвать у него слезы; появление любимого им человека — детскую, непосредственную радость. Оскорбленный, он становится страшен; лицо искажается, с полуоткрытых губ срываются несвязные слова, ужасные, оскорбительные... Еще час — и он спокоен и холоден. У барьера противник встретит «холодную и блестящую храбрость». Литературного врага ждет эпиграмма или убийственно остроумная ирония памфлета...»
[49].
Но как соотносятся подобные реконструкции облика поэта со всеобщими и почти единодушными свидетельствами о поэте как о «повелителе и кумире 20-х годов»? Чем привлекал он взоры и умы?
Любопытные признания на этот счет содержатся в поэтических посланиях Пушкину. Стихотворцы отмечают, что личность Пушкина, его необыкновенный талант поражают воображение и вдохновляют на создание поэтических произведений. Для их посланий характерны даже обращения: «О ты, который с юных лет Прельщаешь лирой золотою!», «...Владыко рифмы и размера» (Я. Толстой). С. Шевырев в «Послании к А. С. Пушкину» признается: «Тебе звучат, наш камертон-поэт, На лад твоих настроенные струны». «К тебе, возвышенный певец, Взываю с жаром песнопений...» — вторит Д. Веневитинов.
Измлада полный откровенья,
Играл могучей ты рукой,
Роняя пламень вдохновенья
В грудь молодого поколенья,
Путеводимого тобой!
Так от имени поэтического окружения оценивал роль Пушкина И. Бороздна, поэт и прозаик 30—40-х годов прошлого века.
В архиве московского знакомого Пушкина Ивана Васильевича Киреевского, критика, публициста, сотрудника «Московского вестника» (брата известного собирателя русских народных песен и критика П. В. Киреевского) сохранилось любопытное стихотворное посвящение «Пушкину». Оно написано Э. Перцовым, литератором и публицистом, который познакомился с автором «Руслана и Людмилы» в начале 20-х годов. В послании отразилось искреннее, сердечное влечение к Пушкину со стороны поэтического окружения.
...Твоих веселий сердце просит,
Твоя печаль наводит грусть,
И девы помнят наизусть
Твои сердечные куплеты.
Как часто юные поэты,
Плетя на твой узор цветы,
Кончают рифмами твоими,
И рады б знать твои грехи,
Чтоб исповедоваться ими.
Чем важны такие признания? В них — отзвуки сердечных влечений молодого поколения начала прошлого века. Чувства, чаяния, восторги отразились так естественно и искренно.
Если включить эти признания в рассказ учителя о восприятии поэта его современниками, это придаст особую тональность, позволит передать эмоциональную атмосферу восторга и поклонения, каким был окружен Пушкин в зените славы.
Есть в поэтических посланиях яркие зарисовки отдельных биографических моментов. Так, поэт Николай Языков, гостивший около полутора месяцев у П. А. Осиповой в Тригорском, близко сошелся с жившим в Михайловском (в период ссылки летом 1826 г.) Пушкиным. Три стихотворных воспоминания о тех встречах рассказывают о поэте и о «приюте свободного поэта, Не побежденного судьбой»...
...И часто вижу я во сне:
Итри горы, и дом красивый,
И светлой Сороти извивы
Златого месяца в огне,
И там, у берега, тень ивы —
Приют прохлады в летний зной,
Наяды полог продувной;
И те отлогости, те нивы,
Из-за которых вдалеке,
На вороном аргамаке,
Заморской шляпою покрытый,
Спеша в Тригорское, один —
Вольтер и Гете и Расин —
Являлся Пушкин знаменитый...
В посланиях Н. М. Языкова «А. С. Пушкину», «Тригорское», «К П. А. Осиповой» тоже немало искренних восторгов и признаний. «О ты, чья дружба мне дороже Приветов ласковой молвы, Милее девицы пригожей, Святее всякой головы!..» — так обращается к Пушкину, «пророку изящного», Н. Языков.
В стихах говорится о вольнолюбивом характере поэта, о «несмолкаемых речах», в которых оба поэта (Языков и Пушкин) «звали свободу в нашу Русь», размышляли о «славной старине». Обратим внимание и на лаконичное определение Пушкина как «опального певца свободы», принадлежащее Языкову.
Сколько интереснейших подробностей о поэте рассыпано в поэтических посланиях к нему современников, сколько ценных наблюдений оставили нам стихотворцы, которые были лично знакомы с Пушкиным, дружили с ним на протяжении многих лет.
Уже упоминались стихи, в которых лицейский друг поэта В. Кюхельбекер восклицал: «...Мой огненный, чувствительный певец...» Об «огненности», «пламенности» и взора, и ума, и душевных движений, о сверкающей огнистости поэтического дара Пушкина часто упоминалось в мемуарах, письмах, стихах.
Знавший Пушкина с детства Петр Андреевич Вяземский, многие годы поддерживавший, с ним тесное дружеское общение, писал, что «поэтической дружины Смелый вождь и исполин...» был
Отрок с огненной печатью,
С тайным заревом лучей
Вдохновенья и призванья
На пророческом челе,
Полном думы и мечтанья...
В этих лаконично сжатых характеристиках — лейтмотивы многих отзывов о поэте его современников. Он был «...черно-кудрявый, огнеокий Пламенный Онегина создатель» по отзыву (правда, более позднему) В. Бенедиктова. Его видели «...кипящего жизнью Полного замыслов пылких...» — по свидетельству Я. Грота (лицеиста VI курса), автора воспоминаний о посещении Пушкиным Лицея в 1828—1831 годах. «...Смелый всадник на Пегасе» был «...также пылок на сукне...» (то есть в игре.—
Е.В.) — по воспоминаниям И. Великопольского, поэта, знакомого Пушкина еще по Петербургу до первой ссылки, когда оба были членами Общества любителей словесности, наук и художеств.
Об огненной, пылкой натуре поэта упоминали многие его современники. «Пылкость его души в слиянии с ясностью ума образовала из него... необыкновенное, даже странное существо, в котором все качества приняли вид крайностей...» — так отзывался один из ближайших друзей Пушкина, его помощник в издательских делах Петр Александрович Плетнев (именно ему поэт посвятил IV и V главы «Онегина», а в 1837 году перенес это посвящение в полный текст романа).
П. Л. Яковлев, брат товарища Пушкина по лицею, встретив поэта после ссылки, описывая перемены в его внешнем облике (Пушкин отрастил тогда бакенбарды), замечает: «...впрочем, он все тот же,— так же жив, скор и по-прежнему в одну минуту переходит от веселости и смеха к задумчивости и размышлению».
Современников, близко знавших поэта, удивляло и поражало сочетание в одном человеке, казалось бы, несводимых, несоединимых качеств. Они по-своему, с той или иной долей проницательности передавали свои наблюдения. Многие замечали, как быстро менялось настроение поэта, как совмещались в нем детская отзывчивость, искренность с проницательностью, умудренностью. Поэт А. Подолинский, петербургский знакомый Пушкина, свои впечатления об этих особенностях Пушкина передал в диалоге между Пушкиным и проводником-татарином в стихотворении «Переезд через Яйлу на южном берегу Тавриды». Описывается путешествие поэта в Крым, рассказ ведется от имени проводника-татарина:
...Бывало с ним в такую глушь заедем...
Зато тебе и не приснятся виды,
Какие нам встречалися порой...
И как тогда он был доволен, весел,
Он тешился от сердца, как дитя!
То погружен глубоко, долго в думу,
Терялся весь в забвеньи, в созерцаньи.
То звал меня и заводил со мною
Душевную и умную беседу...
Завершается рассказ проводника заключением: «...С улыбкою не соглашалось свежей Чело его, наморщенное мыслью».
В стихах, как и в мемуарных отзывах, поэт изображен в разные жизненные периоды, в различных обстоятельствах. Порой поэтические зарисовки напоминают мгновенные фотографии, сделанные пушкинским окружением, людьми, способными подмечать сокрытые от внешнего взора движения поэтической души. Нам же ценны любые, самые малые подробности. К тому же учитываем, что, став фактом поэтического портрета или стихотворного отзыва о поэте, попав в печать, свидетельство современника в той или иной степени влияло на восприятие поэта, акцентировало интерес к тем или иным свойствам его натуры.
При всей наивности и простоте показательны даже такие зарисовки, подобные «Думе о Пушкине» М. Маркова:
...Везде, всегда себя достойный,
Ты нас, волшебник, изумлял;
Пленял ли ты картиной стройной,
Язвил ли ты, иль тосковал;
Являлся ли в беседе шумной
И, с видом шутки, речью умной
Лжемудрость варварски казнил,
Иль молньей быстрого ответа
Сжигал недоуменья света —
И после, как дитя, был мил!
Современники стремились в стихах запечатлеть свое представление о характере поэта в его сложности, в естественной жизненной подвижности, в смене настроений. К удачным, на наш взгляд, относится стихотворение В. Г. Бенедиктова. Он знал Пушкина, встречался с ним на «субботах» в доме В. А. Жуковского. На такие вечера собирались потолковать о художественных новинках, здесь обсуждались события культурной и общественной жизни. В доме Жуковского на таких субботних собраниях нередко появлялся Пушкин — и...
...веселый, громкий хохот
Часто был шагов его предтечей;
Меткий ум сверкал в его рассказе;
Быстродвижные черты лица
Изменялись непрерывно; губы
И в молчаньи жизненным движеньем
Обличали вечную кипучесть
Зоркой мысли. Часто едкой злостью
Острие играющего слова
Оправлял он; но и этой злости
Было прямодушие основой —
Благородство творческой души,
Мучимой, тревожимой, язвимой
Низкими явленьями сей жизни...
Этот примечательный психологический этюд написан В. Бенедиктовым после гибели поэта, в пятидесятые годы, и относится к тому ряду ретроспективных мемуарных свидетельств, в которых современники предпринимали попытки разобраться в сложных обстоятельствах жизни поэта, в тех душевных движениях, которые были ему свойственны.
В потоке обращенных к поэту посланий преобладали хвалебные гимны «певцу мечтаний и любви», признания его первенства среди других пиитов. Отмечается, что «любимец муз и песнопенья» ярче, самобытнее других по своим дарованиям:
О, кем же внушены тебе
Восторги тайных вдохновений!
Твой гордый и свободный гений,
Не покоряясь и судьбе,
Путь вольный проложил себе,—
пишет о поэте Вельяминов. Он, как и многие другие собратья по перу, признает невиданную популярность пушкинских творений. По словам другого, ныне забытого стихотворца-дилетанта, «Пушкин своенравный, Одному себе лишь равный, Мощный властелин сердец, Рвет у всех из рук венец...»
Сколько непосредственных, как бы прорывающихся в стихах искренних свидетельств о том, как легко запоминались пушкинские строки, как сами собой приходили на ум...
...Рассказ живой и простодушный
Он сохранять в стихах умел,
И вечно, музыке послушный,
Роскошный стих его гремел.
Огнистый, полный чувства, силы,
Врезался в памяти легко...
Далее в этом же стихотворении И. Бакунин замечает, что «читали, радуясь, его В глуши деревни и в столице, Отрадна русскому была Народность Пушкина в цевнице, Всем песнь его была мила...»
А чем была мила эта песнь? Поэтические воспоминания дополняются прозаическими. Н. Г. Тройницкий писал, что еще в отрочестве, когда был он воспитанником Ришельевского лицея в Одессе (осенью 1823 года), когда там был Пушкин, имя его произносилось как имя прославленного поэта. «Его читали, перечитывали, переписывали, затверживали на память, некоторые из его ненапечатанных стихов ходили... по рукам, в рукописи, как запрещенные...» Что же влекло тогда к стихам Пушкина? — размышляет автор воспоминаний. Прежде всего язык его — гармонический, простой, доступный, как звуки и образы в природе, и вместе с тем поэтически ясный, как античная статуя. В то же время на торжественных актах и выпускных экзаменах лицеистов заставляли декламировать высокопарные, трескучие оды или же бывшую тогда в почете кантату под названием «Перувианец к Испанцу», которая начиналась словами:
Губитель моея отчизны и свободы!
О ты, что, посмеясь святым правам природы...
[50]
Понятно, что гармонически стройные пушкинские строки поражали воображение современников его и запоминались сами собой... Описывая уже после гибели Пушкина посещения Фонтана слез в Бахчисарае, И. Бороздна признавался, что стоит вспомнить Марию и Зарему, как «...Пушкина поэму Прочтешь невольно наизусть...»
[51]. Таких свидетельств о том, что пушкинские современники знали наизусть его стихи, строки, отрывки, немало.
Кстати, по поэтическим отзывам стихотворцев можно установить, какие произведения Пушкина пользовались наибольшей популярностью у его современников. Первенство держат «Руслан и Людмила», цикл южных поэм, ранняя лирика. Это не случайно. Современникам были близки и понятны романтические образы поэта, да и сам «возвышенный певец», хранящий «души небесный жар» и «огонь поэзии святой», воспринимался ими как воплощение романтического гения. Авторы поэтических посланий вольно или невольно закрепляли именно облик романтического пиита. Вся образная инструментовка и стилистика проникнуты ореолом романтической таинственности, мечтательности...
...Северный певец в садах Бахчисарая
Задумчиво бродил, мечтами окружен,
Там в сумраке пред ним мелькнула тень младая,
И струн раздался звон...
Нередко образ Пушкина ассоциировался с наиболее романтическим из поэтов — Байроном, эталоном романтического певца. В Пушкине видели последователя английского барда, подражателя. При упоминании Байрона само собой вспоминалось имя Пушкина, а произведения русского поэта нередко вызывали по ассоциации образ автора «Паломничества Чайльд Гарольда». Призыв «...Вдохновенного Байрона Почтим и сердцем и душой» ведет к упоминанию о почитаемом русском пиите:
...Его и Пушкин полюбил:
Младой певец Бахчисарая
Ему по чувствам близок стал
И, нас стихами услаждая,
Певцу, как гений, подражал...
Утверждения, что Пушкин «...Пред новым, грозным легионом... Везде летает за Байроном...» варьируются на разные лады и получают широкое распространение.
Были ли реальные основания для подобных параллелей? В юности Пушкин действительно был очень увлечен английским бардом. Со временем он все более критично подходил к оценке байронизма. Почитая мятежный его дух (которым восхищались и декабристы), вольнолюбие, противостояние любым формам деспотизма, Пушкин отвергает романтический субъективизм Байрона, однообразие характеров и героев. Поэт преодолевал «байронизм» уже в южных своих поэмах. В «Цыганах», в «Кавказском пленнике», в «Бахчисарайском фонтане» хотя и в романтическом духе, но заострены темы и проблемы русской жизни. В пушкинских героях угадывались черты современников поэта, ставились актуальные для русской жизни вопросы. Но чтобы отойти от «байронических» стереотипов в оценке своеобразия пушкинского таланта, нужна была особая проницательность, ею обладали лишь немногие из современников поэта (о таких оценках его творчества скажем ниже). Заметим, что представление о Пушкине как о продолжателе и подражателе Байрона получило широкое распространение.
Это объясняется отчасти тем, что рано закрепился и далее фактически остался неизменным образ Пушкина-романтика. Даже в отзывах, подчеркивавших своеобразие натуры и творчества поэта, внимание прежде всего обращалось на те особенности, которые свойственны романтическому певцу.
«В... трепете и радости, и муки
Мы ловим Пушкина пленительные звуки»[52]
Современники читали, переписывали, запоминали наизусть каждое новое стихотворение поэта. Им восторгались. Ловили также и всякую новость о самом поэте, о жизни его за пределами Петербурга и Москвы. Каков он? Что любит? Чем увлекается? Сколь ни были подробны и обстоятельны слухи, сообщения в прессе, рассказы и т.д.— они не удовлетворяли в полной мере неутолимое желание увидеть поэта наяву, воочию. Недаром признано — лучше один раз увидеть...
Мы, люди конца XX века, привыкли воспринимать живописные портреты прошлого (а тем более начала прошлого столетия) как аналоги фотографии, как подобия почти документальных свидетельств эпохи, предшествовавшей изобретению светочувствительной пластинки. Мы доверяем живописцу, полагая, что он верно отразил облик портретируемого. Но что означает в таком случае «верно»? Автор прекрасной книги о Моцарте Г. В. Чичерин точно заметил, что из многих портретов выдающегося деятеля искусства мы обычно отдаем предпочтение тем, которые соответствуют в наибольшей степени нашему пониманию творчества, внутреннего мира и личности портретируемого. Живописец, создавая портрет (портрет с французского переводится как изображение «черта в черту», «черта за черту»), предлагает свое толкование поэта. Он оценивает прототипа, соотнося свои наблюдения с принятым в обществе представлением о типе художника, поэта, о том, каким ему надлежит быть в жизни и творчестве. Такой естественный для восприятия портрета вопрос, похож ли изображенный на самого себя, должен решаться с учетом тех задач, которые ставил автор портрета, а также признанных во время создания портрета представлений об эталоне творческой личности. Не лишнее сопоставить отзывы современников, первых зрителей и ценителей портрета, лично знакомых с прототипом. При всем том прижизненные портреты А. С. Пушкина воспринимаются всеми поколениями уже более полутораста лет как особо ценное достояние. Они — свидетельства очевидцев, живые, непосредственные отзывы о нем его окружения. Таково отношение к портретам поэта, созданным Ж. Вивьеном, В. Тропининым, О. Кипренским, П. Соколовым, Г. Гиппиусом, Т. Райтом, П. Челищевым, Г. Чернецовым. Хотя, при общей схожести, у каждого из них «свой Пушкин»
[53].
Есть у прижизненной пушкинской портретистики ряд особенностей. Во-первых, изображения неравномерно распределяются по годам. Помимо «детского» портрета (миниатюры неизвестного художника), всего один «юношеский», упомянутый уже гравюрный портрет Е. Гейтмана. Десятилетие, на которое приходится зенит славы поэта,— наиболее щедрое на его портреты. После 1826 года создаются выдающиеся портреты В. Тропининым, О. Кипренским, Н. Уткиным, чуть позже — П. Соколовым, также включенный современниками в ряд наиболее значительных. Скудны на портреты последние годы жизни Пушкина: в это время пишет свою акварельную работу П. Соколов, создает гравюру на меди англичанин Томас Райт и мало кому известный самоучка И. Линев рисует маслом необычный, не похожий ни на один другой портрет поэта.
Во-вторых, не все портреты в равной степени были известны близким, друзьям поэта, не все попали в орбиту внимания современников. Нам же интересны как раз те изображения, что стали фактом формирования общественного мнения, вызвали дискуссии, тем самым заострили внимание на тех или иных чертах пушкинского облика.
Третий момент, который необходимо учесть. За полтора века существования изобразительной пушкинианы претерпевали изменения толкования ее наиболее известных и знаменитых образцов. Менялись критерии оценки и способы понимания портретов. Мы сталкиваемся с феноменом различной интерпретации уже не самого прототипа, а его образа, увековеченного живописцем. Есть талантливые зрители, которым доступно подчас глубокое и тонкое прочтение портрета. Обращаясь к пониманию, восприятию пушкинских изображений С. Либровичем, И. Репиным, И. Зельберштейном, И. Грабарем, А. Сидоровым, Е. Павловой и другими, мы непременно обогащаем собственное понимание и оценку произведений живописи прошлого. На этих страницах, наряду с примерами наиболее талантливых искусствоведческих интерпретаций, мы вслушаемся в голоса пушкинских современников.
 В. А. ТРОПИНИН Пушкин. 1827.
В. А. ТРОПИНИН Пушкин. 1827.
О гравюре, выполненной Е. Гейтманом и приложенной впервые к поэме «Кавказский пленник», мы уже упоминали. Подчеркнем только, что именно по этому портрету у читателей сложилось впечатление о внешнем облике поэта.
После возвращения поэта из михайловской ссылки почти в одно и то же время создаются два самых замечательных его портрета. В Москве в начале 1827 года облик его запечатлел В. А. Тропинин. Портрет был заказан ему самим Пушкиным и поднесен в подарок другу С. А. Соболевскому. Весной того же года в Петербурге А. Дельвиг заказал портрет друга О. Кипренскому.
 О. А. КИПРЕНСКИЙ. Пушкин. 1827
О. А. КИПРЕНСКИЙ. Пушкин. 1827
Оба живописца ко времени создания пушкинского портрета были признанными и прославленными мастерами. И тот и другой отчетливо понимали важность закрепления образа гордости русской культуры.
Для портрета более, чем для какого-либо другого жанра изобразительного искусства, свойственна связь, близость определенной традиции. В нее включается не только техника (способ создания образа), но и идеал человека, особенности видения его и критерии оценки. Русское портретное искусство двадцатых годов прошлого века ориентировалось на западноевропейские образцы. В трактовке образа поэта и в манере воссоздания облика сказалось широкое распространение гравированных изображений писателей и поэтов — Байрона, В. Скотта, Шатобриана, Де Виньи. В общественном мнении благодаря им сложился некоторый обобщенный тип поэта. Значимым оказывались в портрете и поза — чаще вполоборота, с устремленным ввысь взглядом, и одежда — плащи, пледы, небрежно повязанные галстуки, открытый свободный ворот, и выражение лица, сочетающее мечтательность и отрешенность.
Следует отдать должное таланту В. Тропинина, О. Кипренского, которые сумели создать индивидуализированные, самобытные, высочайшие по мастерству портреты, сохранив для потомков облик Пушкина.
Есть в этих двух портретах «знаменательная противоположность». Тропинин был по происхождению крепостным живописцем, что сказалось в его взглядах на ценность человека, на свободу как достояние личности. У Тропинина Пушкин изображен по-домашнему — в халате, распахнутый, неофициальный... У Кипренского — подтянут, в наглухо застегнутом сюртуке. В таком виде рисовали живописцы Державина, Карамзина...
Уже одеждой и позой подчеркивается различие во взглядах на идеал человека. Санкт-Петербург (где писал портрет Кипренский) был строг, чопорен, официален; здесь принято было ходить в мундире, запахнутым и подтянутым. Иным был «московский дух». «Москвичи,— по воспоминаниям Белинского,— люди нараспашку, истинные афиняне, только на русско-московский лад... Оттого-то там так много халатов, венгерок, штатских панталон с лампасами и таких невиданных сюртуков со шнурами, которые, появившись на Невском проспекте, заставили бы на себя смотреть с ужасом»
[54].
Выбором одежды В. Тропинин подчеркнул демократизм поэта, действительно ему свойственный. Пушкин в трактовке живописца целен, уравновешен, внутренне собран и свободен, сосредоточен и раскован в одно и то же время. Прочитывался современниками и байронический мотив во внешнем облике — свободный ворот, повязанный небрежно галстук-шарф...
Критик и журналист Н. А. Полевой в «Московском телеграфе» 6 июня 1827 года поместил заметку о работе художника: «Сходство портрета с подлинником поразительно, хотя нам кажется, что художник не мог совершенно схватить быстроты взгляда и живого выражения лица поэта...» Полевой далее задается вопросом, возможно ли всестороннее отображение лика поэта, постоянно, сиюминутно изменяющегося под влиянием гения пламенного. (Строки эти из отзыва мы приводили во введении в книге.) В конце заметки указывалось, что портрет будет отправлен в Петербург для выставки в Академии художеств.
Однако ему не суждено было попасть на общее обозрение. Судьба портрета сложилась сложно, внешней канвой своей напоминая детектив. Владелец портрета С. А. Соболевский отдал работу В. А. Тропинина А. П. Елагиной (частым гостем ее литературного салона бывал Пушкин) для снятия копии. Копию видел Пушкин. Перед отъездом за границу в 1828 году Соболевский оставил портрет на хранение сыновьям Елагиной, братьям Киреевским, вместе с собственной библиотекой. По возвращении обнаружил, что вместо оригинала в богатой раме находится другая, не елагинская, но скверная копия. Портрет исчез. Лишь в середине 50-х годов прошлого века он был обнаружен в меняльной лавке и куплен за 50 рублей директором Московского архива министерства иностранных дел М. А. Оболенским, а в 1909 году приобретен Третьяковской галереей. Портрет получил известность после того, как в 1860 году была сделана с него фоторепродукция сыном владельца Алексеем Оболенским.
Более счастливо сложилась судьба второго портрета работы О. Кипренского. Незадолго до создания портрета, в 1824 году, художник возвратился на родину, в Россию, из Италии, где был увенчан славой одного из лучших живописцев Европы. Его произведение украшало галерею автопортретов во дворце Уффици. Такой чести удостаивались лишь редкие избранники...
Кипренский, создавая портрет Пушкина, подчеркнул в нем поэтическое начало. Не только символической фигурой Музы, но и всем строем композиции, обликом портретируемого, световой и колористической нюансировкой. Указывает на поэтическую натуру и выражение лица Пушкина своей просветленностью, возвышенностью. Поэт вдохновенен, величав... Взгляд «великолепных больших и ясных глаз», в которых, как казалось современнику, отражалось все прекрасное в природе
[55], устремлен на какое-то видение. Ничто не омрачает в этот миг душу: поэт взволнован захватившим его воображением.
Портрет написан с редкостным мастерством. Это было отмечено самим Пушкиным. Кто не помнит его блестящий отзыв на работу живописца?
Любимец моды легкокрылой,
Хоть не британец, не француз,
Ты вновь создал, волшебник милый,
Меня, питомца чистых Муз, —
И я смеюся над могилой,
Ушед навек от смертных уз.
Себя как в зеркале я вижу.
Но это зеркало мне льстит.
Оно гласит, что не унижу
Пристрастья важных Аонид.
Так Риму, Дрездену, Парижу
Известен впредь мой будет вид.
Нетрудно заметить, что вместе с высокой оценкой и благодарностью живописцу в стихах очевидна привычная и столь свойственная Пушкину самоирония. Поэтический отзыв интересен сжатой, емкой и очень точной характеристикой портрета и живописца. Указывается, что Кипренский следовал общепринятой манере («Любимец моды легкокрылой») изображения поэтов по западноевропейским канонам («хоть не британец, не француз»); весьма тонко подмечено, что портрет акцентирует поэтический строй личности портретируемого в изображении его как «питомца чистых Муз»... Приукрашенность облика, романтическая приподнятость тоже изящно выделена поэтом: «Себя как в зеркале я вижу, Но это зеркало мне льстит...»
Пушкин высоко ценил работу Кипренского. После смерти владельца портрета А. Дельвига в 1831 году он хранился в семье Пушкина, в 1916 году был передан в Третьяковскую галерею.
Отметили работу живописца и современники поэта. Одним из первых увидел изображение Н. А. Муханов, знакомый поэта, и в письме к брату отметил, что портрет вышел «необычайно похожим»
[56]. «Портрет работы Кипренского похож безукоризненно...»— писал М. В. Юзефович
[57]. А. В. Никитенко, литературный критик, цензор, профессор русской словесности Петербургского университета, так описал в дневнике впечатления о портрете: «Вот он Пушкин. Не смотрите на подпись: увидев его хоть раз живого, вы тотчас признаете его проницательные глаза и рот, которому недостает только беспрестанного вздрагивания; этот портрет писан Кипренским»
[58].
Выставленный в Академии художеств, портрет Пушкина работы Кипренского вызвал восхищение многих современников поэта. Популярности портрета способствовало распространение его гравированного варианта, единственного в ту пору способа тиражирования произведений живописи. Гравюра выполнена в том же 1827 году профессором гравировального класса Академии художеств Н. И. Уткиным. Большой мастер, Уткин привнес в работу свое: убрал Гения поэзии (Музу), несколько «упростил» образ, придал портрету камерность.
Гравюра выполнена также по заказу А. Дельвига и прилагалась к альманаху «Северные цветы» на 1828 год, ко второму изданию «Руслана и Людмилы» (СПб., 1828), к альманаху «Подснежник» на 1829 год, а также разошлась в многочисленных оттисках и выполненных по ним новых гравюрах на меди, стали, дереве.
Когда в орбиту споров, на каком портрете более всего похож Пушкин, попала гравюра Уткина, многие современники отдали ей приоритет. Предпочитали ее и родственники поэта. Отец поэта Сергей Львович Пушкин в своих «Замечаниях на так называемую биографию А. С. Пушкина, помещенную в „Портретной и биографической галерее“ „Отечественных записок“» в 1841 году, писал, что если на портрете П. Ф. Соколова «много отступлений от верности и сходства», то «лучший портрет сына... есть тот, который написан Кипренским и гравирован Уткиным».
Сохранились свидетельства, что именно по гравюрному варианту портрета Кипренского Пушкина узнавали на улицах даже незнакомые с ним люди
[59].
Жена Дельвига писала подруге при посылке гравюры Уткина: «...Вот тебе наш милый, добрый Пушкин, полюби его... Его портрет поразительно похож, как будто видишь его самого. Как бы ты его полюбила сама, если бы видела его, как я, всякий день. Это человек, который выигрывает, когда его узнаешь»
[60].
Почти столетие публика, художники, скульпторы, пушкинисты брали за образец то изображение Пушкина, которое оставил О. Кипренский. Несколько поколений, по словам художника и искусствоведа Игоря Грабаря, «жили, дышали именно этим образом»
[61]. А сколько портретов варьировали запечатленный Кипренским образ поэта!
Итак, прижизненные пушкинские портреты акцентировали (за исключением И. Линева) те свойства поэта, которые были присущи «сыну богов, любимцу муз и вдохновенья». Они запечатлевали Поэта, гения, следуя распространенному в ту пору представлению о «жреце священного огня».
Есть в усвоенных публикой представлениях перекличка с образом романтического певца, который нарисовал сам Пушкин в «Евгении Онегине»,— это Ленский, поэт, который «...из Германии туманной Привез учености плоды, вольнолюбивые мечты, Дух пылкий и довольно странный, Всегда восторженную речь И кудри черные до плеч...»
Сам Пушкин ко второй половине 20-х годов жизнью и творчеством своим утверждал иной тип художника — человека, живущего всеми интересами эпохи, бунтаря, восстающего против мирского и вселенского зла, новатора, пророка.
Стремясь быть объективными и рисуя «с натуры», «черта в черту», живописцы подчеркнули все же наиболее общие, признанные и понятные публике впечатления о гении поэзии. Это и вызвало одобрение современников, пусть не полное их единодушие, но все же признание, что облик передан верно...
Немало поводов для размышлений дают споры, насколько верно запечатлен Пушкин, в какой мере схож поэт со своими изображениями. Нетрудно заметить, что восторженные отзывы даже о прославленных портретах не вполне согласуются с отзывами о внешнем облике Пушкина ряда его современников. Мы упоминали поразительное сходство, замеченное Никитенко, портрета Кипренского с оригиналом. Но тот же Никитенко оставил иное свидетельство. Повстречав поэта в 1827 году у А. П. Керн, он записал: «Это человек небольшого роста, на первый взгляд не представляющий ничего особенного. Если смотреть на его лицо, начиная с подбородка, то тщетно будешь искать в нем до самых глаз выражения поэтического дара. Но глаза непременно остановят вас: в них вы увидите лучи того огня, которым согреты его стихи — прекрасные, будто букет свежих весенних роз, звучные, полные силы и чувства»
[62].
 В. А. ТРОПИНИН. А. С. Пушкин. Набросок.
В. А. ТРОПИНИН. А. С. Пушкин. Набросок.
 В. А. ТРОПИНИН. А. С. Пушкин. Этюд маслом. 1827.
В. А. ТРОПИНИН. А. С. Пушкин. Этюд маслом. 1827.
Отблеск живого огня хранит взор поэта на портрете Кипренского, но возвышенность взгляда не исчерпывает богатства выражений, гаммы переживаний и чувств, столь свойственных быстро меняющемуся облику Пушкина. Да и могли ли передать это живописцы? В этом плане любопытно сравнить два подготовительных наброска к портрету работы В. Тропинина. Живописец сделал набросок карандашом на бумаге и маслом этюд на доске
[63] (см. с. 50 и с. 51). Видимо, именно они сделаны с натуры, в присутствии поэта... При сопоставлении подготовительных набросков с окончательным вариантом (с. 44.) отчетливо видно, как «сглаживал» Тропинин точно подмеченные индивидуальные особенности пушкинского облика, выразительного, подвижного, стремительно меняющего выражение. На этюде, который стал известен публике лишь сто лет спустя (впервые опубликован в 1914 году), художник схватил и передал блеск, выпуклость быстрых глаз. Черты лица в динамике, будто вздрагивают...
На эту отличительную особенность этюда обратил внимание искусствовед И. Зильберштейн, отметив, что именно на этюде Тропининым передана внешность поэта без прикрас, «без тех элементов идеализации, которые имеются почти у всех художников, писавших Пушкина. Тропинин дал на этом этюде прежде всего живого человека,— над художником в часы создания этюда не довлело сознание, что перед ним гениальный современник».
Кипренский, Тропинин, Уткин воплощали представление о гении, питомце Муз, осененном печатью избранничества, вдохновенья, о человеке высокого достоинства и «самостоянья»... Таким предстал поэт перед публикой во второй половине 20-х годов, в пору наивысшей славы.
В первых числах сентября 1826 года поэт, возвращенный из ссылки, был принят во дворце Николаем I. После продолжительной аудиенции царь назвал Пушкина умнейшим человеком России.
Москва «короновала поэта»,— так оценил прием, оказанный Пушкину, В. В. Измайлов, в журнале которого юный поэт опубликовал первые свои 18 стихотворений (позже — издатель альманаха «Литературный музеум», а в 1827—1830 годах — цензор Московского цензурного комитета). В своем альманахе Измайлов восторженно отозвался о сборнике «Стихотворений» Пушкина и о второй части «Евгения Онегина». Пресса уделяла вернувшемуся из опалы немалое внимание. Только в московских журналах с 1826 по 1828 годы более двухсот раз упоминалось о Пушкине
[64]. Публиковались произведения поэта, отрывки и фрагменты из них, стихи, посвящения, отклики-рецензии, обзоры, статьи, разборы критиков, библиографические заметки, анонсы изданий и т. д.
Издатели «Московского телеграфа», «Дамского журнала», «Московского вестника» и других журналов, газет, альманахов стремились как можно чаще упомянуть имя Пушкина на своих страницах, подчеркивали близость свою к поэту и осведомленность в его литературных делах. Причиной тому неподдельный и искренний интерес публики, ее восторг и почитание таланта.
«Московский телеграф» уже в сентябрьской книжке за 1826 год публикует сообщение: «А. С. Пушкин, находящийся ныне в Москве, вскоре издаст вторую главу „Евгения Онегина“ и стихотворение „Граф Нулин“. Мы не будем предупреждать суждений читателей касательно сих новых и прелестных произведений. Пожелаем, чтобы также вскоре изданы были другие важнейшие творения Пушкина: поэмы „Цыганы“ и трагедия „Борис Годунов“»
[65].
В связи с известием о постановке в Варшаве оперы К. М. Вебера «Прециоза», тема которой связана с жизнью цыган, автор не преминул напомнить: «Впрочем, критики наши скоро будут иметь благоприятный случай объяснить родословную „Цыган“ — поэмы А. С. Пушкина, нетерпеливо ожидаемой любителями изящного стихотворства»
[66]. И вот, наконец, поэма издана, о чем уведомляется в «Московском телеграфе» (1827, № 7): «...Новая поэма Пушкина, столь давно и нетерпеливо ожидаемая, издана. Не хотим пользоваться правом журналиста, не выписываем ничего, потому что не хотим разрушать наслаждения читателей знать поэму Пушкина вполне».
В ноябре 1828 года в Москве появляется новый литературный журнал «Bulletin du Nord» («Северный бюллетень») на французском языке, ни один выпуск которого не обходился без упоминаний о Пушкине. Первый же номер содержал корреспонденцию о том, что «поэт Пушкин объявил, что он намерен незамедлительно выпустить в свет четвертую часть своей поэмы „Онегин“, а вслед за ней и другие песни; возможно, что он напечатает также свою трагедию „Борис Годунов“, ожидаемую публикой с большим нетерпением, как памятник, который создаст эпоху в истории драматического искусства в России».
«Бориса Годунова» ждали с особым нетерпением. Пушкин привез трагедию из михайловской ссылки и в октябре 1826 года читал ее друзьям на квартире у Веневитинова. Слухи о необыкновенной трагедии широко разошлись. Один из участников встречи, М. Погодин, историк, писатель, издатель «Московского вестника» в 1827 —1830 гг., вспоминал, что трудно передать словами то действие, какое произвело чтение Пушкина: «...До сих пор еще — а этому прошло сорок лет — кровь приходит в движение при одном воспоминании... Вместо языка Кокошкинского
[67] мы услышали простую, ясную, внятную и вместе с тем пиитическую, увлекательную речь. Первые явления мы выслушали тихо и спокойно или, лучше сказать, в каком-то недоумении. Но чем дальше, тем ощущения усиливались... Что было со мною, я и рассказать не могу. Мне показалось, что родной мой и любезный Нестор поднялся из могилы и говорит устами Пимена: мне послышался живой голос древнего русского летописателя. А когда Пушкин дошел до рассказа Пимена о посещении Кириллова монастыря Иваном Грозным, о молитве иноков: „Да ниспошлет покой его душе, страдающей и бурной“,— мы все просто как будто обеспамятели. Кого бросало в жар, кого в озноб. Волосы поднимались дыбом. Не стало сил воздерживаться... Кончилось чтение. Мы смотрели друг на друга долго и потом бросились к Пушкину. Начались объятия, поднялся шум, раздался смех, полились слезы, поздравления...»
[68].
Из-за цензурных осложнений трагедия вышла в свет лишь в 1831 году. Встречена была уже менее восторженно. Среди откликов в первом номере Петербургского «Северного Меркурия» за 1831 год читатели обнаружили эпиграмму — раздражительную, злую:
...И Пушкин стал нам скучен,
И Пушкин надоел,
И стих его не звучен,
И гений охладел.
«Бориса Годунова»
Он выпустил в народ:
Убогая обнова —
Увы! — на новый год!
Трудно поверить, что именно в Пушкина, кумира второй половины двадцатых годов, метил жалящее свое перо издатель газеты «Северный Меркурий». Столь же ядовит фельетон «Послание ко всем благообразным россиянкам», в конце которого было обращение к «российским поэтессам»: «К собранию сочинений и переводов своих вам непременно должно приложить свой портрет, выгравированный искусным художником. Если многие из наших писателей, вовсе не заслужившие той чести, чтобы лики их сохранились для потомства, выгравировывают свои портреты — то не приятнее ли будет каждому иметь у себя портрет прелестной женщины или девицы, нежели какого-нибудь рифмотвора, которого подлинная особа хотя и одарена не весьма благообразной наружностью, но которому польстил живописец, а лесть живописца увеличил гравер»
[69].
Между этими грубыми пасквилями, глубоко тронувшими поэта
[70], и временем почти единодушного его признания — немногим более четырех лет. Приведенные выше из «Северного Меркурия» — вовсе не единственные выпады, а лишь примеры критических и оскорбительных отзывов, вскоре превратившихся в откровенную травлю. Что послужило причиной изменения отношений к Пушкину?
«Что слава?...»
Расхождение поэта с публикой
К концу 20-х годов ореол пушкинской славы, величия и популярности стал меркнуть. Повелитель и кумир «по мере созревания и усиливающейся мужественности таланта своею ... утрачивал чары, коими опаивал молодые поколения..»
[71] — это слова Вяземского, который пытался разобраться в причинах отлива интереса от творчества признанного гения.
Обозревая состояние литературы в статье «Литературные мечтания», написанной в 1834 году, молодой критик В. Г. Белинский с убежденностью констатировал: «...тридцатым годом кончился или, лучше сказать, внезапно оборвался период Пушкинский, так как кончился и сам Пушкин, а вместе с ним и его влияние» (I, 111)
[72]. Пройдет несколько лет, и критик исправит свое заблуждение, пересмотрит ошибочные выводы и создаст великолепный цикл статей о поэте с обоснованием непреходящего значения его творчества и исследованием развития, роста его таланта вплоть до последних дней жизни. Однако это случится позже, а в «Литературных мечтаниях» за 1834 год пушкинский этап развития литературы признавался пройденным.
Охлаждение широкой публики к предмету недавних восхищений связывают с началом тридцатых годов. Но истоки этого процесса глубоки и требуют более внимательного взгляда на время с середины двадцатых годов.
Точка отсчета — поражение восстания декабристов. Надежды и упования на возможность переустройства общественно-политической жизни целого поколения были расстреляны картечью 14 декабря 1825 года. За разгромом последовали аресты, осуждения, жестокие наказания всем «прикосновенным к заговору».
Времена, последовавшие за разгромом восстания, были ужасны. «Понадобилось не менее десятка лет, чтобы человек мог опомниться в своем горестном положении порабощенного и гонимого существа,— писал А. И. Герцен в статье «Литература и общественное мнение после 14 декабря 1825 года».— Людьми овладело глубокое отчаяние и всеобщее уныние». Общество расслоилось. Многие из недавних либералов, людей прогрессивных, мыслящих, переметнулись на другую сторону, оказались вдруг ревностными служителями наследника престола. Герцен отмечал подлое и низкое рвение, с которым высшее общество спешило отречься от всех человеческих чувств, от всех гуманных мыслей при первых же угрозах со стороны властей. Люди растеряли слабо усвоенные понятия о чести и достоинстве. «Русская аристократия уже не оправилась в царствование Николая... все, что было в ней благородного и великодушного, томилось в рудниках или в Сибири»
[73].
Для выявления очагов свободомыслия и подавления смуты, крамолы была создана «центральная контора шпионажа» — III отделение канцелярии его императорского величества под управлением шефа жандармов А. X. Бенкендорфа. Распространились и узаконились слежка, сыск, подслушивание. Была развернута борьба по искоренению вольнолюбия. Москва, по воспоминаниям современников поэта, наполнилась шпионами. В них шли люди без чести и совести, «все промотавшиеся купеческие сынки, вся бродячая дрянь, не способная к трудам службы; весь сброд человеческого общества подвигнулся отыскивать добро и зло, загребая с двух сторон деньги: и от жандармов за шпионство, и от честных людей, угрожая доносом»
[74].
III отделение стремилось к расширению корпуса жандармов-волонтеров из выходцев разных социальных кругов. В помощь фон Фоку «для наблюдения за настроением... населения столицы, завербованы были разные агенты, как стоявшие на службе «надзора», так и действовавшие con amore, как они уверяли, под влиянием чистой идеи бескорыстного служения интересам родины. В числе этих агентов попадались иногда и люди большого света, были литераторы, и весьма плодовитые, бывали дамы и девицы, вращавшиеся в высших слоях общества»
[75]. Набирали самодеятельных сыщиков и из подонков, которые охотно и усердно жандармствовали за благодарности и подачки.
В такую атмосферу вернулся Пушкин после ссылки. Он не узнал общества — ни московского, ни петербургского. Поэт был оторван от лучших людей своего поколения. Многие из близких друзей и добрых его приятелей томились в каторжных норах Сибири. Даже имен многих нельзя было произносить вслух...
Поначалу Пушкин проявлял интерес к молодежи. Одно ее крыло составляли единомышленники Николая Полевого, издававшего с 1825 по 1834 годы журнал «Московский телеграф». Еще из Михайловского поэт писал Вяземскому, что готов поддержать это издание. Сам передал в «Телеграф» стихи и критические статьи, проявлял желание к сотрудничеству. Присмотревшись, поэт более скептически стал относиться к этой затее, да и к самой группе молодых литераторов, во главе которых стоял «самоучка из купцов». Полевой отличался буржуазным радикализмом: он объявил войну дворянской культуре и
«литературному аристократизму», в котором обвинял и Пушкина.
Другое направление литературного движения молодежи в последекабрьскую эпоху составляли деятели кружка «любомудров»: Д. Веневитинов, М. Погодин, С. Шевырев, В. Одоевский, И. Киреевский. Не имея возможностей приложения своих сил в страшную пору безвременья, они занялись изучением немецкой эстетики и поэтов-романтиков. Это был тип молодежи, для Пушкина новый и непривычный. По определению Ю. М. Лотмана, «умеренные в политике, преданные кабинетным занятиям, привычные к систематическому умозрению, серьезные и молчаливые, они заслужили в Москве кличку «архивных юношей» (по службе в Архиве министерства иностранных дел)... Пушкин с интересом приглядывался к этой молодежи, хотя внутренне оставался ей чужд»
[76]. Тесных связей с ними также не сложилось. От молодежи и сверстников поэт постепенно отделялся, и публика стала встречать его менее восторженно. Им еще восхищались, его читали и почитали, но к концу десятилетия отток интереса стал заметен многим.
Изменились читательские ориентации и пристрастия. Читающая публика к концу 20-х годов переменилась: она демократизировалась, расширилась за счет выходцев из буржуазно-мещанской разночинной среды, из числа мелких чиновников. В этом немалая заслуга и Пушкина, ведь его песни читала и переписывала вся образованная Россия, его произведения, по словам С. Шевырева, «сделались собственностью даже того класса, который может только перенимать памятью, а не чтением...»
[77]. Именно он, Пушкин, совершил подвиг поэтического образования русского народа.
По мере расширения читательских кругов и под влиянием общей социально-политической атмосферы интересы публики изменяются, становятся все более поверхностными. От своего кумира публика ждала повторения тех мотивов, которыми он некогда пленил их, т. е. она желала песен в духе ранней романтической поэзии. Об этом писал сам Пушкин в статье о Баратынском (без сомнения, в более широком смысле): «...Лета идут, юный поэт мужает, талант его растет, понятия становятся выше, чувства изменяются. Песни его уже не те. А читатели те же и разве только сделались холоднее сердцем и равнодушнее к поэзии жизни. Поэт отделяется от их и мало-помалу уединяется совершенно» (VII, 153).
В конце 20-х и в начале 30-х годов вышел из печати «Борис Годунов», завершен «Евгений Онегин», написаны поэмы «Граф Нулин», «Полтава», «Домик в Коломне», «Маленькие трагедни»... Вышли из печати «Повести Белкина», «Пиковая дама», «Капитанская дочка», стихи, эпиграммы, критика... Все шире становится диапазон пушкинского творчества — тематический, жанровый. Поэт размышляет над сложнейшими проблемами бытия человека в мире, над законами исторического развития общества и нравственной природой людей. Он бурно развивается как художник, мыслитель, публицист, критик.
В эту пору публика отворачивается от него. Парадокс? Или закономерность, обусловленная стремительностью развития гения, ломкой стереотипных представлений о самом предмете поэтического. Выйдя на широкий простор реалистического творчества, поэт не подтверждал, а разрушал созданный читательской аудиторией его образ, который не соответствовал ожиданиям публики, жаждавшей повторений мелодий, некогда ее покоривших.
Поэт осваивал новые жанры, создавал истинно новаторские произведения, вводил новых героев, осваивал новые темы. Он охватывал своим взором бесконечные пространства родной земли, вникал в быт, нравы, психологию, мироощущения своих современников, людей разных сословий и характеров. Преодолевая временные барьеры, поэт описывал историю, людей других стран и времен... Все было подвластно его неукротимому таланту, его фантазии и художественной мысли, безгранично властвовавшей над миром былого и современной Пушкину действительности. «Пушкин ушел настолько далеко вперед от своего времени, что современникам стало казаться, что он от них отстал»,— заключил Ю. Лотман
[78].
Читателю стало скучно. Даже очень искушенные и тонкие ценители не поспевали за стремительным изменением художественной системы. И они отказывали ему в главном — в художественных достоинствах новых творений. На «Повести», изданные в 1835 году, отозвался Белинский. По его мнению, их нельзя читать без удовольствия, что обеспечивается «прелестью слога», искусством рассказчика, но все же они «не художественные создания». Только «Выстрел» критик считал тогда повестью, достойной имени Пушкина...
Извечная трагедия выдающегося таланта: оставаясь верным своему предназначению, пути, который прокладывает, опережая время, ломая устоявшиеся каноны и привычные воззрения на суть искусства, он рискует лишиться поддержки живущих с ним бок о бок. Сиюминутному признанию не приносит в жертву свою высшую цель, свое предназначение, он устремляется вперед, оставаясь часто непонятным, неоцененным и одиноким. Это случалось с великими художниками и до Пушкина, и после него. Сколько раз проигрывалась в прошлом веке и в нынешнем эта трагедия. В истории охлаждения публики к Пушкину очевидна не одна, но целая группа, комплекс причин, более явных и скрытых от поверхностного взора. Среди них прежде всего следует отметить идеологические.
Политика Николая I была направлена на подавление свободной мысли, чувства. Она утверждала ориентации культурной жизни. Она поддерживала продажных Булгариных и Бестужевых-Марлинских, содействовала травле и дискредитации Пушкина, которого не удалось приручить по плану Бенкендорфа. Общая атмосфера затхлости и индифферентизма содействовала расцвету бездарностей, графоманов, заполнивших журналы и альманахи. Взоры читателей обратились к другим кумирам.
По мере переориентации читательских интересов выдвигаются и новые писатели, отвечавшие их требованиям. Появляются писатели-промышленники, которые делают литературное поприще предметом торговли, купцы, вводящие в дело сочинительства все купеческие приемы и торговую оборотистость, авантюристы... В отличие от благородных художников пушкинской плеяды, «бескорыстных художников слова», они не имеют ни высоких целей, ни нравственных убеждений. Такой литератор бесхарактерен, и «бесхарактерность его отзывается даже в слоге какою-то странною пустотою»
[79]. Новая публика зачитывалась низкопробной беллетристикой Фаддея Булгарина, автора нашумевшего романа «Иван Выжигин», увлекалась Осипом Сенковским, его повестями, подражавшими французским романам ужасов. На фоне таких поделок, сработанных на потребу невзыскательному вкусу, пушкинские произведения с их поэтизацией и исследованием реальной действительности казались признаками оскудения таланта и исчерпанности гения.
Читательские круги, как известно, многослойны, состоят из представителей разных социальных групп. Почему же наблюдалось охлаждение к поэту и со стороны тех, кто в вольнолюбивой лирике его находил отзвуки собственным чаяниям и надеждам, переживаниям и восторгам?
На отношении публики, особенно передовых ее кругов, сказались слухи о верноподданничестве Пушкина. Современники не могли знать в деталях истинного смысла взаимоотношений между поэтом и Николаем I. Факты, ставшие всеобщим достоянием, отрицательно отозвались на репутации Пушкина. Об этом следует сказать подробнее.
Следственный комитет по делу декабристов не смог установить непосредственную причастность Пушкина к заговору, хотя имя его не раз всплывало в ходе дознания. Стихи Пушкина вдохновляли многих участников восстания, отражали их умонастроения и дух.
При решении участи поэта, сосланного братом взошедшего на престол царя, был принят план, согласно которому следовало изменить направленность мыслей и творчества Пушкина. Как выразился в донесении царю от 12 июля 1827 года Бенкендорф, «если удастся направить его (Пушкина.—
Е. В.) перо и речи, то будет выгодно»
[80]. Пушкина надеялись приручить.
Николай I вернул поэта из ссылки и принял во дворце. Заверениями о готовности к реформам и о стараниях, направленных на всеобщее благо, царь стремился расположить к себе поэта, завоевать его симпатии. В известной мере опытному лицемеру это удалось. Видимо, удалось внушить Пушкину, как и некоторым арестованным декабристам, что он стремится к роли «нового Петра», готов к действиям по преобразованию России.
В ходе той же аудиенции царь обещал поэту в виде особой милости стать благосклонным его цензором. Таким было начало коварного плана обращения поэта в русло, угодное власти. Император, по словам А. И. Герцена, «своей милостью... хотел погубить его (Пушкина.—
Е. В.) в общественном мнении, а знаками своего расположения — покорить его»
[81].
Пушкин, надо полагать, поначалу поверил царю, тем более что заверения о заботах на благо государства были подтверждены на первых порах некоторыми внешнеполитическими акциями, указом о составлении свода законов, отставкой ненавистного всем Аракчеева.
Пушкин стремился продолжить дело русского просветительства XVIII века, в частности Державина, полагавшего, что можно воздействовать на царей, склоняя их к «добру». Поэт думал повлиять на Николая I. Именно это отразилось в «Стансах», где Петр I назван примером, достойным подражания: активный реформатор и «памятью незлобен» — напоминание о надеждах на облегчение участи осужденных декабристов.
Истоки дорого стоившей иллюзии Пушкина — в представлениях, что царь, имеющий неограниченное право законодательства, может по доброй воле изменить сложившийся в стране порядок вещей. Доверие царю, которому поддался поэт и следствием, чего явились «Стансы», а затем «Друзьям», значительно пошатнули его репутацию. Последнее стихотворение воспринималось подтверждением, что автор «Вольности», «Деревни» отказался от былых своих убеждений и преклоняется перед монархом, якобы осыпавшим поэта милостями и почестями. Ходили слухи, что «Стансы» вообще были написаны Пушкиным во время аудиенции «в присутствии государя» в Чудовом дворце», в кабинете его величества
[82]. (Встреча Пушкина с царем проходила 8 сентября, а «Стансы» написаны были в декабре — черновик датирован 23 декабря 1826 года.) Молва отражала общие настроения, в слухах заострялись тенденции отношения к поэту.
Позже стало известно, что компрометировавшие поэта домыслы распространялись агентами III отделения. Дискредитация честного имени подтачивала репутацию, а тем самым умаляла авторитет его, что сказывалось на популярности пушкинского творчества...
Признаки охлаждения публики к поэту проявлялись не сразу, а постепенно. Это были тенденции, подготовившие в начале 30-х годов более отчетливое расхождение Пушкина с читательской аудиторией. Не следует упускать из внимания и то, что в годы, последовавшие за восстанием декабристов, для многих передовых читателей Пушкин все-таки оставался певцом вольности, надеждой на будущее. Его стихи по-прежнему возмущали умы, будили совесть. В донесении генерал-майора А. А. Волкова за 1827 год отмечалось, что редкий студент Московского университета не имеет «противных правительству стихов писаки Пушкина»
[83]. На распространенность «возмутительных» стихов жаловался и ректор Харьковского университета. Доносчики III отделения констатировали широкое влияние поэта на некоторые общественные круги, прежде всего на молодежь. Во «всеподданейшем отчете» за 1827—1830 годы шефа жандармов Бенкендорфа, составленном директором канцелярии фон Фоком, указывалось, что «кумиром всех партий, пропитанных либеральными идеями, мечтающих о революции и верящих в возможность конституционного правления в России, является Пушкин, революционные стихи которого, как «Кинжал», «Ода на вольность» и т. д. и т.д., переписываются и раздаются направо и налево»
[84].
В тяжелое время последекабрьской реакции для людей, сохранивших честь и достоинство, Пушкин оставался выразителем надежд на будущее. Посреди глубокого отчаяния, когда страна погрузилась во мрак террора и репрессий, «только звонкая и широкая песнь Пушкина раздавалась в долинах рабства и мучений; эта песнь,— по словам А. И. Герцена,— продолжала эпоху прошлую, полнила своими мужественными звуками настоящее и посылала свой голос в далекое будущее. Поэзия Пушкина была залогом и утешением...»
[85]. Это взгляд Герцена уже с позиций пятидесятых годов, но он отражает отношение к Пушкину его современников в пору безвременья.
Очевидно, что сложный и многогранный феномен Пушкина воспринимался неоднозначно различными читательскими кругами. Рассматривая эволюцию образа поэта в общественном сознании, мы стремимся выявить доминирующие тенденции в отношениях к нему, учитывая многоплановость оценок личности и творчества. Для конкретизации общих суждений рассмотрим более детально, как был принят роман в стихах «Евгений Онегин».
Об истории создания выдающегося произведения Пушкина написано много, о том, как он был встречен публикой, современниками, говорится нередко односторонне. Приводятся в основном положительные отзывы. Реальная же картина восприятия романа публикой весьма примечательна для выяснения контактов поэта с читателями, для представлений о том, как шел неуклонный процесс размежевания Пушкина с современниками.
Роман был начат в Кишиневе 9 мая 1823 года, завершен 26 сентября 1830 года в Болдино. Писался он более 7 лет. Это были годы значительных перемен политического, духовного и нравственного климата России. Многое пережил за это время сам поэт: он томился в ссылке, «стал с веком наравне» в науках и искусстве.
Роман публиковался главами
[86] по мере их написания, или, как тогда говорилось, «песнями». Уже это было непривычным для публики. Вообще при встрече с «Онегиным» ее ждало немало сюрпризов: необычным был жанр нового произведения, тема, герои. Поражал характер взаимоотношений, которые устанавливал поэт с читателем, напрямую обращаясь к нему в самом тексте романа.
Книжка начиналась с «Разговора книгопродавца с поэтом». Это стихотворение было предпослано новому произведению как своеобразное предисловие. Здесь прозвучало прощание с романтизмом, поэт размышлял о переменах в современной ему жизни, в отношении к творчеству...
Появление первых песен «Евгения Онегина» привело читающую публику в восторг и удивление. Признавалось совершенство романа и новизна замысла. «Читали ли вы „Онегина“? Каков вам кажется „Онегин“? Что вы скажете об „Онегине“? — вот вопросы, повторяемые беспрестанно в кругу литераторов и русских читателей»,— писала «Северная пчела».
Николай Полевой в отзыве на первую главу приветствовал жанр нового пушкинского творения. Отмечал, что написано оно не по правилам древних «пиитик, а по свободным требованиям творческого воображения». Положительно оценивал редактор «Московского телеграфа» и то, что поэтом описываются современные нравы,— «мы видим свое, слышим свои, родные поговорки, смотрим на свои причуды...» Полевым замечены яркие черты народности «Евгения Онегина», составившие своеобразие произведения.
Отзвуков восприятия романа немало в переписке пушкинских современников. Баратынский в письме к Пушкину говорил о выходе двух первых песен, о которых каждый толкует по-своему, одни хвалят, другие бранят, и все читают. Все читают! Популярность поэта еще привлекала внимание ко всему, что выходило под его именем.
Сам Баратынский высоко оценивал замысел романа. «Я очень люблю обширный план твоего «Онегина», но большее число его не понимает. Ищут романтической завязки, ищут необыкновенного и, разумеется, не находят. Высокая поэтическая простота твоего создания кажется им бедностью вымысла, они не замечают, что старая и новая Россия, жизнь во всех ее изменениях проходит перед их глазами». Тонкий знаток и ценитель поэзии уловил и отметил установки восприятия читателя пушкинской поры. Поверхностность кругозора и привычка повсюду искать признаки романтического произведения мешали большинству читателей верно оценить значение романа.
Оценивали роман неодинаково, но ждали каждую песню с нетерпением. Подтверждений популярности «Евгения Онегина» немало в газетах, где публиковались библиографические заметки о новых изданиях, в отзывах критиков, в письмах, в стихах. Поэты-профессионалы, поэты-дилетанты, любители-стихотворцы упоминают роман и его героев, пересказывают события отдельных глав, сцен.
По отзывам критиков, а также по поэтическим посвящениям можно представить, чего ожидали пушкинские современники от романа. Они надеялись на рассказ о «донжуанских похождениях», готовились прочитать скандальную хронику современной эпохи или же полагали, что целью Пушкина в «Онегине» было «показать самого себя».
Об интересах и пристрастиях публики свидетельствуют и примеры тем, мотивов, вызвавших единодушное восхищение читателей. Так, виртуозными и занимательными были признаны шутливо-иронические строки о женских ножках. Написано было множество вариаций, развивающих эту тему. Особенно отличался в этом «Дамский журнал» во главе с его издателем — сентиментальным поэтом князем Шаликовым. В пародийной стихотворной повести «Две гробовые доски» автор, скрывавшийся под псевдонимом «Касьян Русский», описывает маркизу молодую, «красавицу в осьмнадцать лет», и советует заглянуть в любой роман, чтобы составить полное себе ее описание. И здесь упоминается
...пара востроносых ножек,
Немного больше чайных ложек
За Пушкиным в счастливый путь,
Еще прибавить что-нибудь...
Нельзя не отметить нескольких серьезных критических разборов, в которых, в частности, роман называется «теорией жизни человеческой», произведением, которое призвано дать полную картину жизни не только внешней, но прежде всего внутренней. Эти достоинства увидел критик «Сына отечества» (1828, ч. 118, № 7) в «Евгении Онегине».
Иван Киреевский оценил новаторство Пушкина. В статье «Нечто о характере поэзии Пушкина» («Московский вестник», 1828, № 5) отмечается, что «Евгением Онегиным» начинается новый период русской литературы, отличительные черты которого — «живописность» и какая-то задумчивость, что-то невыразимое, понятное лишь русскому сердцу. Критик видит в романе «верность описаний, оригинальность языка», черты национальные, чисто русские. Но все же и ему не удалось охватить в полной мере «даль свободного романа». В вышедшей к тому времени пятой главе «Евгения Онегина» Киреевский находит «пустоту содержания»...
По мере публикации новых глав в оценках все отчетливее звучат нотки сарказма, иронии. Роман оказывается мишенью пародий и эпиграмм. С. Н. Глинка вспоминал, что сам лично читал А. С. Пушкину экспромт под названием «Сочинителю Евгения Онегина»:
Мертвого света ты живописец,
Кистью рисуешь призраки людей.
Что твой Онегин — он летописец
Моды забавной безжизненных дней.
В пародии «Иван Алексеевич, или Новый Онегин», появившейся в журнале «Галатея», осмеиваются и содержание, и композиция романа.
Пушкин предполагал, какие возражения вызовет его произведение у публики. В предисловии к изданию первой главы поэт писал, что предвидит несогласие критиков, которые станут «осуждать... антипоэтический характер главного лица». Ведь даже в идейно близких кругах выражалось именно такое отношение к герою романа. По словам Пушкина, Н. Н. Раевский роман «бранит», так как ожидал «романтизма, нашел сатиру и цинизм и порядочно не расчухал». Декабристская критика, исходившая из требований воспевать «высокое», прославлять героические доблести, тоже не могла сочувственно принять изображение картин «светской жизни». Пушкин отстаивал право поэта на изображение любых предметов, в том числе и жизни в свете. Полемизируя с ним, А. А. Бестужев писал: «...для чего тебе из пушки стрелять в бабочку?» Подразумевалось, что жизнеописание Онегина — слишком ничтожная тема для романа. Обложка первой главы украшалась виньеткой с изображением бабочки — Бестужев воспринял это как намек на суть характера героя.
Вспомним о том, какую дружескую полемику вызвал замысел романа у декабристов, известных литераторов и создателей альманаха «Полярная звезда» А. А. Бестужева и К. Ф. Рылеева. Пушкин, как известно, был знаком с обоими, их связывала дружба, близость политических воззрений. Декабристы возлагали большие надежды на поэта. В последнем письме, незадолго до восстания, Рылеев писал Пушкину: «На тебя устремлены глаза России, тебя любят, тебе верят, тебе подражают. Будь Поэт и Гражданин...»
Когда вышла из печати первая глава «Онегина», издателям «Полярной звезды» была уже известна завершенная к тому времени (в октябре 1824 года) поэма «Цыганы»
[87]: ее читал брат поэта, Лев Сергеевич. Этим объясняется сопоставление первой главы «Онегина» с «Цыганами». А. Бестужев в статье «Взгляд на русскую словесность в течение 1824 года и начала 1825 г.», как и в письмах к поэту, настаивал на том, что заявленная в романе тема и трактовка героя несвоевременны. Сюжет мог бы быть достоин поэтического воплощения, если бы в центре был человек наподобие Чацкого. Герой в понимании декабристски настроенных литераторов должен быть поставлен «в контраст со светом, чтобы в резком злословии показать его резкие черты»
[88].
Бестужев и Рылеев полагали, что «Евгений Онегин» (каким он предстал в первой главе) явился произведением более слабым в сравнении с «Бахчисарайским фонтаном» и «Кавказским пленником». Рылеев определенно высказал, что не «Онегин», а «Цыганы» есть подлинное свидетельство роста таланта Пушкина. Заметим, что при всей критичности, мотивированной установками декабристской литературы, отзывы друзей поэта были заинтересованными и дружескими по тону. Иного характера отклики раздавались из лагеря консервативного, близкого правительственным кругам.
Отсюда хлынули издевательские отзывы о романе, утверждения, что талант Пушкина иссяк. Одним из наиболее ярых хулителей был Фаддей Булгарин.
Вот несколько штрихов к его портрету
[89]. Фаддей Венедиктович на десять лет старше Пушкина. Писатель, журналист, редактор «Северного архива» и «Литературных листков». До переломного декабря 1825 года слыл либералом, был дружен с Рылеевым. После восстания декабристов Булгарин быстро сориентировался в новой обстановке, стал верным слугой и пособником взошедшего на престол. Вместе с Н. Гречем (тоже былым либералом) Ф. Булгарин становится соиздателем официозной газеты «Северная пчела» и подобного же журнала «Сын отечества», совмещая поприще редакторское и журналистское со службой негласным осведомителем III отделения. Булгарин не раз в своей жизни резко менял позиции: так, в грозную пору Отечественной войны 1812 года поступил на службу во французскую армию, а после поражения французов переметнулся в русский стан. Но зато он на страницах реакционного своего журнала и газеты усердно защищал официозную монархическую идею, что победа в войне — заслуга и дело императора Александра I.
Пушкин и его ближайшее окружение — Баратынский, Вяземский, литераторы, объединенные вокруг журнала «Московский вестник», вели открытую полемику с «Северной пчелой». Разоблачая Булгарина, Пушкин дает ему прозвище «Видок», по имени известного всем в те годы французского литератора, опозорившего себя службой полицейским агентом.
Последовательный враг Пушкина, Булгарин опубликовал в двух номерах «Северной пчелы» статьи, в которых резкая критика VII главы «Онегина» переходит в прямые политические доносы. Эта глава романа в стихах являет собой, по оценке Булгарина, «совершенное падение» пушкинского таланта, не оставляющее надежды на его возрождение. Все ожидали, по словам Булгарина, что Пушкин, автор «Руслана и Людмилы», «в сладких песнях» передаст потомству великие подвиги русских современных героев, а вместо этого — седьмая глава Онегина: «... в пустыне нашей поэзии появился опять Онегин, бледный, слабый... сердцу больно, когда взглянешь на эту бесцветную картину!» Критик порицает поэта за грустный колорит главы, за то, что московское общество, бал описаны в обличительных тонах. Этим поэт якобы обманул читателя, который «ожидает восторга при воззрении на Кремль, на древние главы храмов божьих...» Критик тщится показать, что Пушкин враждебно, относится к современной России, процветающей под эгидой царя. Булгарин изобретал разные приемы, чтобы создать отрицательное мнение у читателей, восстановить их против Пушкина.
«...Какое же содержание этой главы? — спрашивает он.— Стихи Онегина увлекают нас и заставляют отвечать стихами на этот вопрос:
Ну как рассеять горе Тани?
Ну как: посадят деву в сани
И повезут из милых мест
«В Москву на ярмонку невест».
Мать плачется, скучает, дочка...
Конец седьмой главе — и точка».
В критических разносах Булгарин не был одинок. Его поддерживали другие критики, которые тоже твердили о «безмыслии» романа. Так, в «Московском телеграфе» в статье о романе в стихах автор статьи на вопрос, какая общая мысль остается в душе после чтения Онегина, отвечает: «Никакой... при создании «Онегина» поэт не имел никакой мысли...»
В подобном контексте роман упоминался в многочисленных пародиях, стихотворных посланиях, литературных полемиках. В стихотворной пародии «Иван Алексеевич, или Новый Онегин» читатель находил утрированно издевательский реестр тем пушкинского романа:
...все тут есть: и о преданьях,
И о заветной старине,
И о других, и обо мне!
Не назовите винегретом,
Читайте далее,— а я
Предупреждаю вас, друзья,
Что модным следую поэтам.
Травля становилась все более последовательной и согласованной. Причина охлаждения публики к поэту «Московским телеграфом» объяснялась тем, что он «не выразитель дум и чаяний своих ровесников», а всего лишь «нарядный, блестящий и умный человек».
В реакционном лагере утверждали также, что Пушкин не может иметь преемников, продолжателей и последователей, так как сам подражатель. Он якобы не создал оригинального направления. Потому «есть и будет множество подражателей Пушкина (несносное племя!), но не будет следствия Пушкина...» — вещал Фаддей Булгарин. Он старался убедить читателей, что Пушкин «пленил, восхитил своих современников, научил их писать гладкие, чистые стихи... но не увлек за собою своего века, не установил законов вкуса, не образовал своей школы» («Сын Отечества», 1833, т. 33, № 6, с. 317).
В 1831 году в верноподданнической газете «Северный Меркурий» и в «Северной пчеле» печатались пасквили и злые эпиграммы на Пушкина. Издатель «Северного Меркурия» М. А. Бестужев-Рюмин (по иронии истории тезка и однофамилец декабриста Михаила Павловича Бестужева-Рюмина, одного из пяти казненных участников восстания 1825 года), испытывая особую ненависть к Пушкину, вел планомерную травлю, варьируя журналистские приемы от выпадов и прямых оскорблений в его адрес до мелкого третирования, упоминая по разным поводам в развязном тоне. Пушкина обвиняли в меркантилизме, аристократизме, в низкотемье. Читателей непрестанно уверяли, что поэт исписался и более публике не интересен.
Любимым коньком был упрек в корыстолюбии Пушкина. Не прекращались высказывания и уколы в адрес дороговизны пушкинских изданий, при том (и это прекрасно знали авторы!), что цены назначал вовсе не поэт, а издатели его произведений. (Пушкин же сам часто получал лишь часть из вырученных ими денег). Но чего проще связать любое сообщение с выпадом против поэта. К примеру, в «Северном Меркурии» от 19 мая 1830 года публикуется сообщение о выходе третьего издания сочинений Карамзина «История Государства Российского». Отметив, что цена труда 30 рублей, Бестужев-Рюмин предлагает читателю припомнить, что «за семь глав Евгения Онегина... в которых едва ли есть пятнадцать листов бумаги, надобно заплатить тридцать пять рублей...» Далее пошлое замечание еще раз акцентируется: «Слова нет, что похождения Евгения (как бишь его по батюшке) Онегина для каждого гораздо необходимее и полезнее, чем «История» Карамзина...»
Булгарин и Бестужев-Рюмин проявляли единодушие, сплоченность и взаимоподдержку. Мы говорили об издевательском отзыве «Пчелы» на VII главу «Онегина». Перекличкой звучали подобные же утверждения в «Северном Меркурии» при сравнении пушкинского романа с подражательным — «Евгений Вельский». И здесь после выпада против Пушкина: «...справедливые критики находят весьма много плохих стихов в Онегине» — вновь упоминается о дороговизне романа: «Вельский, по наружности, есть двойник Онегина... Разница только в том, что из двух Евгениев один Онегин, а другой Вельский, и что каждые два... листика похождений одного должно купить за пять рублей, а похождения другого за пятьдесят копеек...»
Противники Пушкина делали все возможное, чтобы внушить читателям, будто Пушкин как поэт «кончился». В фельетоне «Сплетницы» Бестужев-Рюмин описывает Пушкина под именем «мастерицы» Александры Сергеевны, которая «была прежде одной из лучших... но, начав лениться, стала рукодельничать плохо... Между тем появились молодые художницы...»
В номере 27 за 1830 год издатель «Северного Меркурия» публикует стихотворное послание «К Madame NN, просившей меня прислать ей роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Вместо романа Пушкина сочинитель предлагает читательнице обратиться к поэме в стихах «Мавра Власьевна Томская», сочиненной самим Бестужевым-Рюминым. Досадуя же на публику, которая все еще читает и увлекается пушкинским романом, автор не сдерживает гнева:
...Предпочитаете все Пушкина злодея!
Помилуйте! Да чем же он славнее?..
...Твердит одно и то же целый свет:
Все Пушкин Александр Сергеич!
Помилуйте! Да чем же не поэт
Б(естужев)-Р(юмин)-то, М(ихайло) А(лексеич)!..
Когда стали распространяться домыслы об упадке таланта поэта, что он исписался и более не интересен публике, особое значение имели отзывы о Пушкине И. Киреевского в «Московском вестнике». В противовес разносившейся с разных сторон брани в адрес Пушкина критик писал: «Утешительно в постепенном развитии поэта замечать беспрестанное усовершенствование; но еще утешительнее видеть сильное влияние, которое поэт имеет на своих соотечественников. Немногим, избранным судьбою, досталось в удел еще при жизни наслаждаться их любовью. Пушкин принадлежит к их числу, и это открывает нам еще одно важное качество в характере его поэзии: соответственность с своим временем». Поясняя и развивая далее свои соображения, критик подчеркивает народность таланта Пушкина, что «мало быть поэтом, чтобы быть народным; надобно еще быть воспитанным, так сказать, в средоточии жизни своего народа, разделять надежды своего отечества, его стремление, его утраты,— словом, жить его жизнью и выражать его невольно, выражая себя». Эти качества критик находит в творчестве Пушкина. Дельный и доказательный разбор поэзии ценен на фоне других сочувственных отзывов, произносимых в общих выражениях восхищения.
И. Киреевский был автором и первой концепции развития пушкинского дарования, изложенной в критике. Он показывал, какое место наш поэт успел занять между первоклассными поэтами своего времени. При этом высказывал мнение, что вплоть до 1828 года поэт находился под различными влияниями. Первый период творчества — до «Кавказского пленника» — критик так и называет периодом «школы итальянско-французской», второй — период влияния Байрона. Отзвуки «лиры Байрона», которая была «голосом своего века», критик находил и в «Кавказском пленнике», «Бахчисарайском фонтане», «Цыганах», в начальных главах «Евгения Онегина». Третий этап пушкинского творчества подготовлен, по его мнению, «Цыганами» и IV и V главами романа в стихах. Этот период Киреевский называет периодом «поэзии русско-пушкинской». (Поскольку статья писалась в 1828 году, критик мог отнести к новому этапу лишь три произведения — «Цыган», «Бориса Годунова» и «Евгения Онегина».) Высказав наблюдения о народности Пушкина, о самобытности его дарования, критик, однако, считает, что Онегин не соответствует идеалам «возвышенности» поэтического творения. Онегин, по мнению критика,— «существо совершенно обыкновенное и ничтожное... Нет ничего обыкновеннее такого рода людей, и Всего меньше поэзии в таком характере». В этом он усматривает вероятную причину неудачи Пушкина: «...пустота главного героя была, может быть, одною из причин пустоты содержания первых пяти глав романа...»
Пушкину оказывали поддержку преимущественно литераторы и критики, духовно ему близкие. К их числу принадлежал молодой и талантливый рано умерший критик Д. Веневитинов. Он предсказывал Пушкину новый творческий взлет. Доказывал, что пушкинский дар самобытен, оригинален, отмечал «независимость... таланта — верную поруку его зрелости... муза, являвшаяся доселе лишь в очаровательном образе граций, принимает двойной характер Мельпомены и Клио». Статья, в которой дана эта оценка, написана в 1827 году, но была опубликована посмертно, в изданном в 1831 году собрании сочинений критика.
Н. В. Гоголем была предложена концепция развития Пушкина как яркого, самобытного национального поэта. В 1835 году в его книге «Арабески» опубликована статья «Несколько слов о Пушкине» с анализом и оценкой, а также характеристикой развития творчества Пушкина. В первом, романтическом творческом периоде Пушкин, по словам Гоголя, был ярко национален, потому что «истинная национальность состоит не в описании сарафана, но в самом духе народа». Однако подлинное явление национального дарования засветилось во втором периоде пушкинского творчества, когда внимание поэта привлекли жизнь и нравы соотечественников. «...Последние его поэмы, писанные им в то время, когда Кавказ скрылся от него со всем своим грозным величием... и он погрузился в сердце России, в ее обыкновенные равнины, предался глубже исследованию жизни и нравов своих соотечественников и захотел быть вполне национальным поэтом... Тогда-то его поэмы уже не всех поразили той яркостью и ослепительной смелостью, какими дышит у него все, где ни являются Эльбрус, горцы, Крым и Грузия».
По мнению Гоголя, новый этап творчества Пушкина связан с тематическим изменением его творений. Поэт обратился к темам и героям обыкновенным, взятым из повседневной жизни. И вот это, явив яркое своеобразие пушкинского таланта, вызвало охлаждение к нему читателей. Публика ведь привыкла встречать в произведениях необычное, исключительное. Неуспех новых произведений Пушкина вовсе не свидетельствует о падении его таланта, ибо «чем предмет обыкновеннее, тем выше нужно быть поэту, чтобы извлечь из него необыкновенное и чтобы это необыкновенное было между прочим совершенная истина».
В этой же статье Гоголь высказал пророческое суждение, что «Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа, это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет. В нем русская природа, русская душа, русский язык, русский характер отразились в такой же чистоте, в такой очищенной красоте, в какой отражается ландшафт на выпуклой поверхности оптического стекла»
[90].
В противовес теории «официальной народности» (воспевавшей нерасторжимость народа с самодержавием в духе Бенкендорфа и Уварова) Гоголь вскрывает истинно национальные черты пушкинского творчества и биографии поэта («самая его жизнь совершенно русская»). Отмечается замечательное владение русским языком, в котором поэт открыл необыкновенное богатство, силу, гибкость. Поэт раздвинул языку «...границы и более показал все его пространство». От других литераторов, по мнению Гоголя, Пушкина отличает редкостное умение немногими чертами «означить весь предмет. Его (Пушкина —
Е. В.) эпитет так отчетист и смел, что иногда один заменяет целое описание; кисть его летает. Его небольшая пьеса всегда стоит целой поэмы. Вряд ли о ком из поэтов можно сказать, чтобы у него в коротенькой пьесе вмещалось столько величия, простоты и силы, сколько у Пушкина»
[91].
Не менее важным достоинством Пушкина автор «Нескольких слов о Пушкине» считает умение «быть верну одной истине» — правдивость отражения жизни. Поэт сумел погрузиться в сердце России, предался исследованию жизни и нравов соотечественников. Примечательную деталь отметил Д. Д. Благой. Наброски статьи о Пушкине в гоголевских рукописях обнаружены между приписками к «Ночи перед рождеством» и началом «Портрета». Повесть, как известно, связана с размышлениями о возможных путях для художника (угождение публике или «верность истине»). Таким образом, определение важнейших черт пушкинского своеобразия перекликается с уяснением Гоголем собственной писательской позиции
[92].
Обратим внимание еще на один мотив статьи, свидетельствующий об огромном влиянии поэта на современников. По цензурным причинам он не попал в опубликованный в сборнике «Арабески» текст, однако в высшей степени любопытен как свидетельство воздействия Пушкина на современников. Пушкин, по словам Гоголя, «...был каким-то идеалом молодых людей. Его смелые, всегда исполненные оригинальности поступки и случаи жизни заучивались ими и повторялись, разумеется,... с прибавлениями и вариантами... Его стихи воспитали и образовали истинно-благородные чувства, несмотря на то, что старики и богомольные тетушки старались уверить, что они рассеивают вольнодумство, потому только, что смелое благородство мыслей и выражения и отвага души были слишком противоположны их бездейственной вялой жизни, бесполезной и для них и для государства»
[93].
Итак, еще при жизни Пушкина были высказаны первостепенной важности суждения: «Пушкин — поэт действительности» (Киреевский) и «Пушкин — национальный русский поэт» (Гоголь) .
«...Имя славное твое
Веков грядущих достоянье»[94]
 Посмертная маска А. С. Пушкина. 1837.
Посмертная маска А. С. Пушкина. 1837.
Весть о дуэли и гибели поэта вмиг разлетелась и всколыхнула Петербург. Вся грамотная Россия «содрогнулась от великой утраты»
[95].
И. И. Панаев (писатель, журналист, впоследствии сотрудник «Современника» Н. Некрасова и «Отечественных записок» А. Краевского) вспоминал, что у дома поэта не было ни прохода, ни проезда в те дни. Толпы народа осаждали с утра до ночи. Извозчиков нанимали, говоря: «К Пушкину!» Собрались почтить память поэта люди разных чинов, сословий и званий. Это напоминало народную манифестацию, было похоже «на очнувшееся вдруг общественное мнение. Университетская и литературная молодежь решила нести гроб на руках до церкви; стихи Лермонтова на смерть поэта переписывались в десятках тысяч экземпляров, перечитывались и выучивались наизусть всеми»
[96].
Волнения, вызванные гибелью Пушкина, обеспокоили власти. Министр просвещения дал приказ не печатать некрологи. Чтобы отвлечь студентов от участия в похоронах, в учебных заведениях было объявлено об ожидавшемся посещении министра. Без каких-либо извещений был изменен церемониал погребения. Ночью, тайно тело было перенесено из дома поэта в Конюшенную церковь, оцепленную верховыми жандармами. Туда пускали только по билетам. В толпе, усеявшей площадь, сновали квартальные надзиратели, в соседних дворах были выставлены пикеты.
Наперекор препятствиям, чинимым властями, на площадь к небольшой церкви, где отпевали Пушкина, стеклись невиданные толпы народа. «...Среди всеобщего участия к умершему, среди всеобщего глубокого сожаления» как-то сами собой сложились «действительно народные похороны»,— записал в своем дневнике А. В. Никитенко
[97].
О всенародном характере проводов поэта и о горе всенародном говорится во многих стихах на смерть «вождя поэтической дружины».
Могу ль я слезы удержать,
Певца Полтавы вспоминая?
И как не плакать, не рыдать,
Когда рыдает Русь святая,—
восклицал Креницын. Знакомый Пушкина еще по заседаниям литературно-политического общества «Зеленая лампа» в Петербурге, поэт А. Родзянко в стихах «На смерть Пушкина...» отмечал: «...Весь Петербург слиян душою, Подвигся в ходе похорон Необозримою толпою».
В стихах немало деталей и подробностей о похоронах поэта. Так, Н. Огарев в поэтическом рассказе о тех днях упоминал с гневом о противодействиях правительства проявлениям народной скорби: «...К нему на похороны шли Лишь люди в фризовой шинели, И тех обманом отвели И гроб тихонько увезли...»
Поэта мучить и терзать,
Губить со злобою холодной,
На тело мертвое не дать
Пролить слезу любви народной,—
Что ж можно вам еще сказать,
В печати публично не дозволялось обсуждать причины гибели поэта. В стихах же, родившихся в дни скорби и после погребения, нередки упоминания имени убийцы. В его адрес несутся угрозы и проклятия. «...Влачись в пустыне безотрадной С клеимом проклятья на челе!» — обращался к певцеубийце поэт Губер. Другой стихотворец так отвечал на вопрос, кто же убийца народного кумира:
...Пришлец,
Барона пажик развращенный,
Порока жалкий первенец...
Да будет проклят миг кровавый,
Который нас лишил и муз,
И лучшей радости, и славы.
Возмущение было таким искренним, что вскоре в некоторых кругах общества родилась легенда о мстителе за Пушкина. Называлось имя Мицкевича, история же о мщении передавалась из уст в уста. Говорили, что Дантесу велено выехать из Петербурга, а по пути была передана «картель», в которой, по слухам, Мицкевич требовал приезда Дантеса в Париж для дуэли. Письмо и вызов Мицкевича были якобы перепечатаны иностранными журналами, потому убийца не смог отказаться и направился в Париж...
Боль потери, чувство искреннего сожаления и общественное признание заслуг поэта выразили многие газеты и журналы. Несмотря на запрещение, некрологи о смерти
Пушкина появились в столицах и далеко от центра страны. «Солнце нашей поэзии закатилось! Пушкин скончался во цвете лет, в середине своего великого поприща!..— писал в «Литературных прибавлениях к Русскому Инвалиду» А. А. Краевский.— Более говорить о нем не имеем силы, да и не нужно: всякое русское сердце узнает всю цену этой невозвратной потери, и всякое сердце будет растерзано. Пушкин, наш поэт, наша радость, наша народная слава!.. Неужели в самом деле уже нет у нас Пушкина?.. К этой мысли нельзя привыкнуть!..»
[99].
Громадные заслуги Пушкина отметили даже официозные издания. В «Северной пчеле» появилась заметка Л. Якубовича, поэта, сотрудничавшего с Пушкиным в «Литературной газете» и в «Современнике», где отмечалось, что Россия обязана Пушкину благодарностью за двадцатидвухлетние заслуги на поприще словесности, которые составили «ряд блистательнейших и полезнейших успехов в сочинении всех родов. Пушкин прожил 37 лет: весьма мало для жизни человека обыкновенного и чрезвычайно много в сравнении с тем, что свершил он в столь краткое время существования, хотя много, очень много могло бы еще ожидать от него признательное отечество...»
Кажется, что у гроба поэта на время стихли литературные споры, примирились недавние противники. Сочувственно отозвались на смерть поэта те издания, которые совсем недавно третировали и унижали Пушкина. Внезапная трагическая кончина заставила в новом свете увидеть и оценить созданное им. Как личную потерю воспринял трагедию былой противник Пушкина Николай Полевой, казавшийся непримиримым и заключивший одно время даже тактическое соглашение с Булгариным
[100]. В «Библиотеке для чтения» Полевой назвал Пушкина «первым поэтом нашей славной русской земли». «Умер он. Песня его смолкла. Погребальный звон колокола над его гробом отозвался в русской земле печальною вестью. В течение 20 лет Пушкин пережил и перечувствовал всею жизнью и всеми мыслями своего времени и своего народа...»
[101]. Оценивая талант поэта, Полевой упоминает о многообразных его замыслах, о трудах разнообразных, о жанровых переходах от драмы, повести, романа к истории, к народной сказке. Полевой отмечает главное в Пушкине — беспрерывное движение вперед и неизбежная оттого усталость, сомнение, недовольство собою и другими,— «...все это не показывает ли гения, рожденного в век переходный? Таков был Пушкин». Умение поэта воссоздать свое время и свой народ Полевой назвал «исполинским подвигом». Он нашел сердечные слова для оценки этого подвига: «Каким благородным чувством современным не билось теплое сердце поэта? Что прекрасное и славное не находило сочувствия в его душе? Хотите ли исчислить все, что высокого и задушевного успел перемыслить и сказать Пушкин в жизнь свою? Переберите все, что врезалось невольно в сердце ваше от его неподражаемых стихов...» Отмечая, что неподражаемы стихи поэта, дар его великий, автор некролога предрекает долгую и нетленную память ему в сердцах соотечественников, ибо если и могут явиться в будущем писатели, «равные по подвигу, но никогда равные по подражанию».
В некрологах и статьях на смерть Пушкина вновь зазвучали признания всенародной славы и популярности творчества поэта, равно известного и чтимого «в великолепных палатах, и в скромных домиках уездных городов, и в глуши отдаленных деревень...»
[102]. Не раз упоминалось в стихотворных отзывах и в некрологах, что Пушкин завоевал звание «народный поэт». Что означало это? Уже упоминалось мнение Гоголя по этому поводу. В «Живописном обозрении» отмечалось, что оставался он народным поэтом, ибо в поэзии народ — не большинство всех, а «та часть избранных, для которых существует поэзия. Пушкин,— поясняется далее,— был поэт не простонародья, у которого могут быть свои любимцы, но поэт образованной части общества...» Народным же называли его оттого, что «ни одно чувство, ни одна мысль современная не была чужда ему, и он все выражал их с тою увлекательностью, которая покоряла каждого, без различия литературных партий...»
[103].
Таких попыток идеализации поэта, сглаживания противоречий его с властями было немало. Почитатели пушкинского таланта стремились примирить литературные и идеологические разногласия... Все же знаменателен самый факт признания всеотзывчивости поэта. (Истинное представление о народности Пушкина было позднее развито Белинским.)
С иных позиций оценены популярность поэта и реакция общества на его смерть шефом корпуса жандармов и начальником III отделения. В докладе-отчете Николаю I за 1837 год, написанном в форме «обозрения расположения умов и некоторых частей государственного управления», Бенкендорф писал, что Пушкин соединял в себе два отдельных существа: он был великий поэт и великий либерал, ненавистник всякой власти. Отмечались значительное влияние поэта на общественное мнение и объединение вокруг Пушкина его приверженцев из числа литераторов и либералов. Они, по словам Бенкендорфа, «приняли самое пламенное участие в смерти Пушкина: собрание посетителей при теле было необыкновенное; отпевание намеревались давать торжественное; многие располагали следовать за гробом до самого места погребения в Псковской губернии...» Бенкендорф доводит до сведения Николая I слухи, будто в Пскове предполагалось выпрячь лошадей и нести гроб на руках. «Мудрено было решить,— заключается в отчете,— не относились ли все эти почести более к Пушкину-либералу, нежели к Пушкину-поэту. В сем недоумении имея в виду отзывы многих благомыслящих людей, что подобное как бы народное изъявление скорби о смерти Пушкина представляет некоторым образом неприличную картину торжества либералов,— высшее наблюдение признало своею обязанностью мерами негласными устранить все сии почести, что и было исполнено»
[104].
Исполнено старательно. Тело Пушкина сопровождали жандармы, которым был дан приказ отвезти скорее (не останавливаясь на станциях), похоронить в Святогорском монастыре, избежав стечения народа.
Никитенко в дневнике записал со слов жены, что на одной станции неподалеку от Петербурга, возвращаясь из Могилева, она увидела простую телегу, на телеге солому, под соломою гроб, обернутый рогожею. Три жандарма суетились на почтовом дворе, хлопотали о том, чтобы поскорее перепрячь курьерских лошадей и скакать.
— Что это такое? — спросила женщина у одного из находившихся здесь крестьян.
— А бог знает что! Вишь, какой-то Пушкин убит — и его мчат на почтовых в рогоже и соломе, прости господи, как собаку...— услышала она в ответ
[105].
Завершая эту печальную страницу трагической кончины поэта, вновь обратимся к некрологам. Помимо сообщений о смерти поэта в центральной прессе, появившихся непосредственно по следам событий, отзывы публиковались и в отдаленных от центра Руси, окраинных губерниях, и за рубежом. Истории таких публикаций также проливают свет на отношение к поэту почитателей его таланта и на восприятие его в официальных кругах. Н. Г. Тройницкий, соредактор «Одесского Вестника», потрясенный страшным известием о кончине поэта, написал сочувственную статью, почтив его память. Когда она была одобрена управляющим краем графом Воронцовым и сверстана, члены редакции засомневались, как отнесутся в Петербурге к полуказенной газете, выражающей нескрываемое глубокое уважение к Пушкину. Было известно, что в высших сферах, в кругу высокопоставленных сановников поэта не любили. Его, правда, выставляли в салонах как талантливого и даровитого стихотворца, но в то же время характеризовали как человека дерзкого, вредного и даже опасного. Эти соображения побудили поставить под статьею о Пушкине слово «сообщено», чтобы отвести ответственность от редакции газеты
[106].
Отметим еще одну особенность некрологов и статей, посвященных памяти поэта. В них не только давались оценки роли поэта, его творчества, но и закреплялись в общественном мнении представления о том, каким бывал он в жизни, в свете, в среде литераторов. В «Живописном обозрении» отмечались отличительные черты пушкинского характера: в большом свете поэта отличала задумчивость или какая-то тихая грусть. Зато в искреннем небольшом кругу, по наблюдениям автора некролога, с людьми по сердцу не было человека любезнее, разговорчивее, остроумнее. Тут он любил и посмеяться, и похохотать, глядел на жизнь только с веселой стороны и с необыкновенною ловкостью умел открывать смешное. Анонимный автор, несомненно близко знавший поэта, подчеркивал, что его «одушевленный разговор... был красноречивою импровизацией, потому что он обыкновенно увлекал всех, овладевая разговором, и это всегда кончалось тем, что один такой разговор Пушкина, похожий на рассуждение,— перед ним показались бы бледными профессорские речи Вильмена и Гизо. Вообще Пушкин обладал необычайными умственными способностями... Он страстно любил искусства и имел на них оригинальный взгляд. Тем особенно был занимателен и разговор его, что он обо всем судил умно, блестяще и чрезвычайно оригинально»
[107].
Стремясь закрепить в общественной памяти отличительные свойства поэта, черты его личности и творческой индивидуальности, авторы некрологов признавали, что решение этой задачи — дело будущего. Одно из поздних сообщений о кончине поэта, в «Галатее» 1840 года, заключается размышлением: «Как, с умом обыкновенным, проникнуть и измерить всю глубину такого гения, каков гений Пушкина, и начертать его поэтически верную характеристику,— это предоставляется будущности. Совершение такого дела лежит на времени, своим отдалением показывающем предметы в необманчивом свете, и грядущим потомкам, вооруженным на то потребною силой. Нам, современникам, пораженным смертию поэта и столь близким от него, остается только с любовью и, благодарностью (впрочем, не безотчетною) пользоваться наследием, полученным в дар от поэта»
[108].
«Не умирая, как преданье,
Живут поэты для сердец!»
Строки эти написаны Ф. Глинкой, автором «Воспоминаний о пиитической жизни Пушкина». Как и многие современники, он предрекал долгую жизнь Пушкину в потомстве. Мыслями об этом утешал себя И. Пущин, вспоминая в грустные минуты, что «поэт не умирает и что Пушкин... всегда жив для тех, кто, как я, его любил, и для всех умеющих отыскать его, живого, в бессмертных его творениях...» Оставался вопрос, каким увидят, каким узнают поэта грядущие поколения, что донесет о нем молва, сумеют ли читатели вникнуть в смысл произведений и в душу их создателя. Разве не об этом тосковал Белинский, потрясенный вестью о гибели поэта? В письме к Краевскому, он восклицал: «Бедный Пушкин! Вот чем кончилось его поприще!.. Как не хотелось верить, что он ранен смертельно... Один истинный поэт был на Руси, и тот не совершил вполне своего призвания.
Худо понимали его при жизни, поймут ли теперь?» (Курсив мой.—
Е.В.).
Поймут ли? Это относилось и к творчеству, и к личности поэта, к непростой его судьбе. Взлет внимания к поэту после его кончины возбудил интерес к пушкинской личности и творчеству. Еще в начале двадцатых годов наметились различные подходы к трактовке его натуры, поведения, истории жизни. Они отчетливо оформились и поляризовались после его гибели. У истоков одного оказался В. А. Жуковский, выразителем другого стал Лермонтов.
Отзывы, отразившие два различных подхода к оценке пушкинского облика, были созданы по следам трагических событий дуэли, связаны с роковым поединком и событиями последних дней поэта. Сквозь призму событий трагического момента оценивались доминирующие черты и свойства пушкинской натуры. Жуковский был более осведомлен о преддуэльных событиях; смерть Пушкина произошла у него на глазах. Впечатления Лермонтова, хотя он и знал о происшествии из верных источников, не были непосредственными,— тем поразительнее его на редкость точное освещение причин трагедии и концепции облика поэта. Скажем о предложенных трактовках образа поэта подробнее.
В. А. Жуковский, опекавший поэта с юности, находился при умиравшем до последних его мгновений. Он составил после кончины друга письмо отцу поэта Сергею Львовичу Пушкину от 15 февраля 1837 года, которое получило широкое распространение. Оно, собственно, и писалось с ориентацией на широкую огласку, на распространение определенной версии облика Пушкина. Автор письма и его окружение способствовали популяризации его в списках; оно же было опубликовано официально — письмом к отцу поэта открывался пятый номер журнала «Современник» за 1837 год, посвященный памяти Пушкина.
Каковы основные идеи письма? Прежде чем напомнить их, восстановим некоторые подробности взаимоотношений Жуковского с Пушкиным. Они были добрыми друзьями. Старший друг не раз заступался за юного своего брата по лире перед властями, старался быть ему полезным во всех превратностях и тяготах. Вместе с тем он не одобрял антиправительственных выступлений Пушкина, радикализма и непреклонного вольнодумства. В пору ссылки поэта в Михайловское Жуковский стремился повлиять на него, уговаривал пойти на примирение с властями. Смерть Пушкина Жуковский пережил как невосполнимую утрату, как потерю близкого человека и национального гения. Ответственность перед памятью друга и его семьей, умудренность жизненным опытом утвердили его в желании добиться перелома в отношении царя к Пушкину. Он желал примирить — хотя бы посмертно — мятежного поэта с государем во имя упрочения памяти погибшего, ради будущих разрешений на издания произведений и во благо его семьи...
Письмо В. А. Жуковского С. Л. Пушкину велико по объему, мы же выделим те его идеи, которые имели концептуальное значение для интерпретации облика поэта. Прежде всего следует отметить утверждение мужественного поведения Пушкина, искреннее и проникновенное описание Жуковским стойкости его при жесточайших физических страданиях. Однако уже эти страницы в описании кончины поэта не лишены ореола христианского мученичества.
Во-вторых, в письме отчетливо подчеркивается тесная связь Пушкина с царем. На первых же страницах отмечается, что гибель поэта стала «особенной потерей» самого царя. «...При начале своего царствования он его себе присвоил; он (государь.—
Е.В.) отворил руки ему в то время, когда он (Пушкин.—
Е.В.) был раздражен несчастием, им самим на себя навлеченным...»
[109] (Имеется в виду ссылка.)
Далее утверждается, что самодержец следил за Пушкиным до последнего часа, и, хотя и «бывали минуты, в которые, как буйный, еще не остепенившийся ребенок, он (Пушкин.—
Е.В.) навлекал на себя неудовольствие своего хранителя, но во всех изъявлениях неудовольствия со стороны государя было что-то нежное, отеческое». (Так писал Жуковский, зная о страданиях Пушкина от цензуры, зная о запретах, наложенных на публикации дорогих поэту произведений.) «После каждого подобного случая,— продолжает Жуковский,— связь между ими усиливалась: в одном — чувство испытанного им наслаждения простить, в другом — живым движением благодарности, которая более и более проникала в душу Пушкина и наконец слилась в ней с поэзией...»
В письме подчеркивается также, что царь до последней минуты оставался верен своей благосклонности поэту, что отозвался на последнее земное обращение Пушкина. Об этом говорится в связи с эпизодом передачи поэту записки от царя через доктора Арендта. Приводятся слова Пушкина, якобы обращенные к государю: «...мне жаль умереть; был бы весь его». (Сопоставление вариантов письма, а также воспоминания других очевидцев события ставят под сомнение эту часть письма в наибольшей мере, нежели остальные моменты, отмеченные Жуковским.)
Завершая письмо, Жуковский в очередной раз отметил: «...И особенно глубоко трогало мне душу то, что государь как бы присутствовал посреди своих русских, которые так просто и смиренно и с ним заодно выражали скорбь свою об утрате славного соотечественника. Всем было известно, как государь утешил последние минуты Пушкина, какое он принял участие в его христианском покаянии, что он сделал для его сирот, как почтил своего поэта... Можно сказать, что это изъявление национальной печали о поэте было самым трогательным прославлением его великодушного покровителя...»
Близкие друзья Пушкина понимали, что Жуковский представил события в подретушированном виде, приписал поэту покорность и смирение, идеализировал отношение к поэту Николая I. Как близкому другу поэта, ему был хорошо известен истинный смысл царского «покровительства», оказанного поэту. Это еще более очевидно, если сравнить официальное письмо к отцу Пушкина с обращением, предназначенным Жуковским шефу жандармов Бенкендорфу
[110]. В нем говорится о тяготах надзора, установленного за поэтом, о цензуре, которая поставила Пушкина «в самое затруднительное положение», о сети предубеждений, которыми Пушкин был опутан, о выговорах, которые получал от шефа жандармов за каждый свой шаг, будь то отлучение в Москву, в Арзрум или же чтение неопубликованных произведений в кругу друзей. Жуковский касается в письме к Бенкендорфу и обстоятельств похорон, необходимости предостережений от широкого изъявления уважения покойному...
[111]
Автор письма, конечно же, понимал реальное отношение царя к поэту, как и понимал, что подчиненные, в том числе Бенкендорф, выполняли волю монарха. Знал и истинное тягостное положение поднадзорного Пушкина. Сопоставление двух редакций письма к С. Л. Пушкину с вышеупомянутым обращением к Бенкендорфу и с мемуарами друзей, вместе с Жуковским бывших при умиравшем поэте, показывает с очевидностью, что автор «создавал совершенно сознательно,— тот образ Пушкина, в который сам верил лишь отчасти»
[112].
Зачем понадобилось намеренное искажение облика друга, в значительной мере способствовавшее фальсификации реального его облика? О некоторых мотивах мы уже говорили. Подчеркнем еще раз: субъективно Жуковский был движим благими намерениями. Он хотел добиться официального признания заслуг поэта перед отечеством.
Сразу же после смерти Пушкина он обратился с просьбой к Николаю I о воздании почестей, аналогичных тем, которыми был отмечен умерший за десять лет до того Карамзин. На это был получен отказ. Царь ответил, что Карамзин умер, как ангел, а Пушкина еле довели до христианского покаяния... Учитывая создавшиеся условия, Жуковский акцентировал в письме верноподданнические черты поэта, его смирение христианское, связи с царем, их взаимоотношения, на деле мнимые.
Жуковский достиг своей цели: царь выполнил ряд обещаний — о помощи семье поэта, об издании сочинений на казенный счет. Вместе с тем письмо содействовало закреплению неверного, искаженного представления о Пушкине. Контекст его написания и внутренние задачи, как и мотивы, которыми руководствовался автор, скоро забылись, перестали учитываться, да и известны были лишь немногим. Опубликованное в журнале «Современник» и широко распространенное, письмо стало восприниматься как достоверный документ, как мемуарное свидетельство. Ему верили почти безотчетно.
Легендарная версия последних дней Пушкина, концепция его характера и поведения перед лицом смерти оказались на руку консервативным кругам, подхватившим основные положения Жуковского для создания образа поэта раскаявшегося, верноподданного, пред государем склоненного, смирившегося и благодарного.
Хотя близко знавшие поэта и мятежный его нрав не вполне доверяли свидетельствам и доказательствам благонамеренности Пушкина (с недоверием отнеслись к версии Жуковского сам отец поэта Сергей Львович, приятель Н. Кривцов)
[113], тем не менее легенда была подхвачена, получила распространение. Ее популяризировали в поэтических посвящениях Пушкину, закрепляли в стихах, подобных следующим:
Был на Руси поэт. Любила и ласкала
Русь благодарная питомца своего,
И слава шумная цветами украшала
Чело открытое его.
И русского царя внимательное око
Поэта берегло с любовию отца,
И разносилася из края в край далеко
Песнь вдохновенного певца.
Другой стихотворец, А. Норов, писал, что государь «дал певцу привет Без скорби перейти в тот свет И умереть христианином...»
...Ужель ни искренность привета,
Ни светлый взор царя-отца
Не воскресят для нас поэта? —
вопрошал Ф. Глинка в «Воспоминаниях о пиитической жизни Пушкина».
Концепции, утвержденной усердием Жуковского, была противопоставлена иная точка зрения на пушкинскую натуру, на смерть его и причины дуэли. С наибольшей полнотой, отчетливостью и заостренностью она была выражена в стихотворении Лермонтова «Смерть поэта». Получившее широкое распространение в списках, оно противостояло официальной версии и способствовало оформлению противоположной трактовки образа Пушкина.
Несколько слов об истории создания стихотворения. Лермонтов был болен, когда по городу разнеслась весть о дуэли и ее итоге. Лечил Лермонтова доктор Н. Ф. Арендт — от него, навещавшего умиравшего поэта, и от других приходивших в дом людей двадцатитрехлетний поэт узнал подробности. Чувство неизмеримой потери, острейшая душевная боль соединились с ненавистью к свету, ко всем, кто распространял клевету о причинах гибели Пушкина. (В некоторых кругах, в великосветских салонах защищали Дантеса, обвиняли Пушкина. Об этом упоминала в воспоминаниях С. Н. Карамзина. Е. Н. Мещерская писала о контрасте между «плебейскими почестями» поэту и равнодушии «раззолоченных салонов»
[114].)
«Невольное, но сильное негодование вспыхнуло во мне против этих людей, которые нападали на человека, уже сраженного рукою божьей, не сделавшего им никакого зла и некогда ими восхваляемого»,— вспоминал Лермонтов
[115].
Первые пятьдесят стихов «Смерти поэта» были написаны 28 января (по старому стилю). Они быстро разошлись в списках
[116], читались наизусть, декламировались и передавались из рук в руки. Вскоре Лермонтов узнал, что Дантес и Геккерн, как иностранцы, не подлежат российскому суду. После того как 6—8 февраля раненный в руку Дантес предстал перед судом и действительно отделался легким наказанием, разгневанный поэт пишет шестнадцатистишие-дополнение, а также прибавляет стихотворный эпиграф
[117].
В середине февраля Бенкендорфу был передан полный текст стихотворения, аттестованного как «бесстыдное вольнодумство, более чем преступное». Было заведено «Дело по секретной части Военного министра о непозволительных стихах, написанных корнетом лейб-гвардии гусарского полка Лермонтовым»
[118].
Что же возмутило и испугало николаевских жандармов? Почему стихи на смерть Пушкина признаны непозволительными и очень опасными?
Поэтическая эпитафия была вызвана гневом и скорбью, жаждой справедливости, отмщенья, благоговением перед светлым гением Пушкина, перед героической его личностью. Стихи, по-пушкински совершенные, поразительно глубоко и точно отразили суть трагедии, понятой как катастрофа национальной культуры.
Взволнованно и смело опровергались поэтом домыслы и легенды, кривотолки о причинах дуэли, обвинения Пушкина и его жены
[119]. Заглушая ропот клеветников, Лермонтов утверждал, что поэт «восстал... против мнений света», против палачей «свободы, гения и славы». Не один Дантес, а «жадная толпа» у трона виновна в гибели благородного певца. Его долго губили лицемерием, клеветой, раздували «чуть затаившийся пожар».
Лермонтовские оценки Пушкина, характеристика поэта отвергали вымыслы о просветленной христианским смирением его кончине: нет, умер он непреклонным, «с свинцом в груди и жаждой мести, поникнув гордой головой...» В дописанных стихах поднята на новую высоту идея мщения.
Эти крамольные по тем временам мысли прочитывались современниками. В короткое время стихи стали известны в широких кругах. Они были высоко оценены истинными друзьями Пушкина. Бывший в 1837 году учеником Училища правоведения В. В. Стасов вспоминал, как «подымала сила лермонтовских стихов», как «заразителен был жар, пламеневший в этих стихах. Навряд ли когда-нибудь еще в России стихи производили такое громадное и повсеместное впечатление».
Идеи лермонтовского стихотворения отозвались в других, позже созданных поэтических откликах на кончину Пушкина. Прямым виновником трагедии назвал царя Н. Огарев в стихах «На смерть поэта»:
...зло и низостно и больно
Поэта душу уязвил.
Когда коварными устами
Ему он милость подарил,
И замешал между рабами
Поэта с вольными мечтами.
Независимый образ Пушкина утверждал А. Креницын, обращаясь к поэту:
О, сколько сладостных надежд
И дум заветных, и видений,
На радость сильных и невежд,
Ты в гроб унес, могучий гений.
Во мраке ссылки был он тверд,
На ложе счастья — благороден,
С временщиком и смел, и горд...
Э. Губер вторил в поэтическом отзыве Лермонтову, продолжая мотив «суда веков» над убийцей, «с клеймом проклятья на челе».
Юнкер П. А. Гвоздев обратился к Лермонтову, написав «Ответ» на его стихи о смерти Пушкина. Разделяя гнев, благородный порыв «младого поэта», вставшего на защиту гения, Гвоздев отмечает, что тем, в кого метил Лермонтов, недоступны чувства печали и сожаления. У этих душ презренных сердца, «покрытые зимней вьюгой». Им песнь «На смерть Пушкина» страшна «как суд кровавый, Для них она, как грозный меч...» Автор обращения предвидит тяжкую участь дерзнувшего встать на защиту погибшего и призывает его к твердости духа:
...Твой стих свободного пера
Обидел гордое тщеславье,
И стая вран у ног Царя,
Как милость, ждет твое бесславье...
Не ты ль сказал: «Есть грозный суд!»
И этот суд — есть суд потомства,
Сей суд прочтет их приговор,
И на листе, как вероломство,
Он впишет имя их в позор
[120].
Так завершалась перекличка с лермонтовскими стихами, предоставляя будущему оценить подвиг Пушкина и его младшего собрата по перу.
Глава вторая
«ТЕБЯ, КАК ПЕРВУЮ ЛЮБОВЬ, РОССИИ СЕРДЦЕ НЕ ЗАБУДЕТ»
ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX ВЕКА
В последние месяцы 1837 года вышел пятый выпуск «Современника», посвященный памяти Пушкина.
Книжка открывалась черновиком стихотворения Пушкина «Отцы отшельники и жены непорочны» со многими поправками, следами упорного и вдохновенного труда, зачеркиваниями, поисками единственно верного слова. На обороте рисунок — тоже пушкинский из рукописи.
«...Россия потеряла Пушкина в ту минуту, когда гений его, созревший в опытах жизни, размышлением и наукою, готовился действовать полною силою — потеря невозвратимая и ничем не вознаградимая,— отмечали издатели выпуска.— ...В бумагах, после него оставшихся, найдено много начатого, весьма мало конченного, с благоговейною любовью к его памяти мы сохраним все, что можно сохранить из сих драгоценных остатков; и они в свое время будут изданы в свет»
[121]. После описания последних минут поэта в опубликованном здесь же письме Жуковского к отцу Пушкина помещались «Медный всадник. Петербургская повесть» (1833), «Сцены из рыцарских времен», стихи...
Новые пушкинские творения преисполнены такой свежести, силы, полета фантазии, мысли и чувства, что померкли толки об оскудении пушкинского таланта. Какими они предстали мелкими, ничтожными! Читатель видел Пушкина великим поэтом в пору расцвета необыкновенного дарования и готового к будущим художественным открытиям.
Открытиям этим не суждено было явиться, а публике предстояло заново открывать поэта.
Вторая половина XIX столетия — время, когда появились в официальной печати (а в 50-х годах в бесцензурной — они печатались Герценом и Огаревым) многие тексты поэта — известные по спискам, ходившим по рукам, и не знакомые вовсе.
Стали появляться в этот период воспоминания о поэте, первые материалы к его биографии.
В условиях острой социальной борьбы, развития революционно-демократического движения, конфронтации реакционных сил, прогрессивных, либерально-демократических, когда литература оказалась единственной трибуной для выражения общественного мнения, отношение к Пушкину приобрело особое значение. Острые дискуссии и полемики вокруг толкования личности и творчества поэта, споры «за» и «против» поэта становились фактом социальной жизни, противоборства революционных и реакционных лагерей.
Интерес к образу поэта не был одинаковым в этот период. Пик внимания и интереса приходился на середину 50-х годов (в связи с изданием собрания сочинений Пушкина П. В. Анненковым), затем — на середину 60-х, ознаменованных выступлениями Д. Писарева. После полуторадесятилетнего затишья вновь привлекло интерес к поэту открытие памятника и связанные с ним торжества. Через семь лет отмечалось 50-летие со дня смерти Пушкина, и это же был год появления большого числа новых изданий в связи с окончанием срока прав на наследование... Конец века, 1899 год, ознаменован торжественным чествованием поэта в столетие со дня его рождения. Между этими взлетами интереса были периоды оттока читательских симпатий. Тогда порой и впрямь можно было поверить поэту, признавшему, что
Пушкиным воспитанное племя
Втоптало в грязь им брошенное семя...
[122]
Но всякий раз интерес к творчеству и личности Пушкина возрождался и дискуссии вокруг его роли в истории русской культуры и для современности вспыхивали с новым жаром.
В этих спорах, не прекращавшихся до конца века, читатели разных поколений отвечали на вопросы, чем обогащает Пушкин новые поколения, какой отзвук рождает его наследие в умах и сердцах новых поколений. Необходимо было разобраться и в том, каким в действительности был поэт, что утверждает он своим личным опытом, к чему призывает новых своих читателей. В оборот вводились новые и новые факты, свидетельства исторических лиц, подробности жизни и творчества поэта, что требовало переосмысления представлений о нем, защиты той или иной концепции его натуры и доминирующих особенностей творческого облика. Примечательно, что во второй половине века полемики велись не только вокруг произведений поэта, фактов его жизни, в орбиту споров включаются и толкования пушкинского облика.
«...Чем более... узнаю, тем более не надеюсь узнать...»
В. Г. Белинский
В августе 1837 года в письме к М. А. Бакунину Белинский признавался другу: «Пушкин предстал мне в новом свете, как будто я его прочел в первый раз...» В этом признании поразительным образом запечатлелось ощущение, сходное для многих пушкинских современников и последующих его читателей. Он оказывался незнакомым, «вечно новым», неожиданным, непредсказуемым. Белинский был одним из первых, кто поставил целью охватить единым взором пушкинское наследие, и поразился необычному, новому впечатлению.
Толчком послужило потрясение глубоко пережитой гибели поэта на самом взлете творческих сил. Критик ознакомился с новыми творениями Пушкина и перечитал опубликованные при жизни поэта. Быть может, его мучила несправедливость сурового приговора, с горячностью молодости высказанного в «Литературных мечтаниях» в 1834 году. Он тогда утверждал, что завершился пушкинский период развития литературы, ибо «кончился» и сам Пушкин. Несколько смягчив общий тон надеждой на возрождение таланта, критик не снял остроты впечатления от категоричности общего вывода.
После 1834 года критик продолжал следить за деятельностью Пушкина, откликался на его издания, на публикации. Он был готов, по свидетельству друзей поэта, к сотрудничеству в «Современнике»
[123]. Помешала смерть Пушкина.
Новым взором окинув наследие поэта, критик решил, что для понимания его и оценки нужны новые, особые принципы. Нужен ключ. Он искал его на протяжении ряда лет, пока складывалось у него целостное представление о роли Пушкина в русской культуре.
У Белинского было замечательное качество, свойственное истинному таланту, глубокому уму, широкой натуре,— он умел признавать свои ошибки, исправлял их с бесстрашием.
На протяжении ряда лет он вновь и вновь возвращается к мыслям о Пушкине. В 1838 году критик полагает, что «как поэт Пушкин принадлежит, без всякого сомнения, к мировым, хотя и не первостепенным гениям» (2,275). В начале 1839 года поэт предстал ему «в новом свете, как один из мировых исполинов искусства, как Гомер, Шекспир и Гете» (9,243). Пройдет менее полугода, и Пушкин замещает Гете, непосредственно следуя за Гомером и Шекспиром: «Пушкин меня с ума сводит., Какой великий гений... У меня теперь три бога искусства, от которых я почти каждый день неистовствую и свирепствую: Гомер, Шекспир и Пушкин» (9,250—251). А в начале 1840 года в письме к К. С. Аксакову критик напишет: Пушкин «...всего поглотил меня и... чем более я узнаю, тем более не надеюсь узнать» (9,299). В 1841 году Белинский определит талант Пушкина как «великого мирового поэта» (3,183).
Принявшись за разбор пушкинского творчества, критик написал цикл в 11 статей, которые печатались в «Отечественных записках» с мая 1843 по сентябрь 1846 года. Он понял, что «...писать о Пушкине значит писать о целой русской литературе: ибо как прежние писатели русские объясняют Пушкина, так и Пушкин объясняет последовавших за ним писателей» (6,81). Это была новаторская для того времени идея, которая предопределила структуру работы, ее композицию, включившую обозрение развития русской литературы от Ломоносова до Державина, от Державина до Пушкина.
Муза Пушкина подобна могучей реке. Она напитана слившимися в нее многими большими и малыми притоками, реками. Но, приняв их как «законное достояние», возвращает миру в новом, преображенном виде (6,219).
Рассмотрев, как было приготовлено явление феномена Пушкина, критик с четвертой статьи обращается к его творчеству.
Поэт так непохож на своих предшественников, так неодинаков, многолик, что нужно было отыскать некий единый принцип, общий взгляд на всю его деятельность как на особый целостный мир творчества. Такой общий взгляд, по мнению критика, станет нитью Ариадны в лабиринте его тем, идей, направлений, в поиске общего курса формирования мировоззрения поэта.
Помимо взгляда на творчество как на единый мир, в котором все предопределено, нет ничего случайного, не менее важным принципом стало рассмотрение динамики пушкинского развития в естественном движении, в хронологической последовательности. Исследуя магистральные направления такого развития, критик отмечает те основные свойства художественного и личностного таланта поэта, которые предопределили его призвание стать «первым поэтом-художником Руси, дать ей поэзию как искусство, как художество, а не только как прекрасный язык чувства» (6,262). Точность наблюдений, меткость взгляда, глубина и основательность суждений критика приоткрывали перед читателем его статей о поэте мир Пушкина объемным, полнозвучным, прекрасным. Белинский показывал, что для Пушкина все предметы были равно преисполнены поэзией, что позволило вывести главное свойство Пушкина и назвать его поэтом действительности и великим национальным поэтом. Утвердив непреходящее значение Пушкина, критик предрек неизбежность времени, когда он станет в России «поэтом
классическим, по творениям которого будут образовывать и развивать не только эстетическое, но и нравственное чувство» (6,492).
«Поэт действительности» — формула самого Пушкина, обозначившая главный принцип его творчества и художественной системы. Воспользовавшись этой формулой, критик развил ее, обосновал справедливость ее применительно к творчеству поэта и придал более широкое, обобщающее значение.
Верность действительности связывается Белинским с отображением поэтом истинно русской жизни, с постижением национального характера. Это не провозглашается, но доказывается на основе анализа поэзии Пушкина, которая «удивительно верна русской действительности, изображает ли она русскую природу или русские характеры: на этом основании общий голос нарек его русским национальным, народным поэтом» (6,276).
Строгость анализа и широта обобщений сочетались у критика с афористичностью, объемностью, поэтичностью оценок. Это тоже было ново и поразительно. Вчитываясь в строки его критических разборов, в отдельные положения его статей, по силе и глубине адекватные самой поэзии, современники обретали новое понимание, новое видение пушкинского стиха. Сколько чувства, энергии и силы в слове критика: «...Стих Пушкина, в самобытных его пьесах, вдруг как бы сделавший крутой поворот или резкий разрыв в истории русской поэзии, нарушивший предание, явивший собою что-то небывавшее, не похожее ни на что прежнее,— этот стих был представителем новой, дотоле небывалой поэзии. И что же это за стих! Античная пластика и строгая простота сочетались в нем с обаятельною игрою романтической рифмы; все акустическое богатство, вся сила русского языка явились в нем в удивительной полноте; он нежен, сладостен, мягок, прозрачен и чист, как кристалл, душист и благовонен, как весна, крепок и могуч, как удар меча в руке богатыря. В нем и обольстительная, невыразимая прелесть, и грация, в нем ослепительный блеск и кроткая влажность, в нем все богатства мелодии и гармонии языка и рифмы, в нем вся нега, все упоение творческой мечты, поэтического выражения...» Завершая это определение, критик выводит тайну пафоса всей поэзии Пушкина из совершенного владения
«поэтическим, художественным, артистическим стихом...» (6,263—264).
Тем, что до Пушкина были у нас поэты, но не было ни одного поэта-художника, объясняет Белинский чрезвычайную популярность даже самых первых — «незрелых юношеских его произведений». В «Руслане и Людмиле», «Братьях разбойниках», «Кавказском пленнике», «Бахчисарайском фонтане» не одни образованные люди, но, по словам критика, даже многие просто грамотные увидели не просто поэтические произведения, но «совершенно новую поэзию, которой они на русском языке не только не знали образца, но на которую они не видали никогда даже намека» (6,266). Новизна впечатлений обеспечила невиданный успех. Поэмы читались «всею грамотною Россиею; они ходили в тетрадках, переписывались девушками, охотницами до стишков, учениками на школьных скамейках, украдкою от учителя, сидельцами за прилавками магазинов и лавок. И это делалось не только в столицах, но даже и в уездных захолустьях» (6,266).
Завораживающе новыми были темы, изящество языка, красота, гармоническая стройность. Но, быть может, самым поразительным было то проявление личности поэта, какое открывал для себя читатель. Поэт представал собеседником, который обращался к читателю с приятельским доверием. Критик учил и помогал увидеть и оценить красоту и благородство личности поэта и не раз подчеркивал, что по творениям его «можно превосходным образом воспитать в себе человека» (6,282). К особенным свойствам пушкинской поэзии относил он ее способность развивать в людях «чувство изящного и чувство гуманности, разумея под этим словом бесконечное уважение к достоинству человека как человека...»
Одним из наиболее блестящих образцов искусства критики явились разборы «Евгения Онегина». Две статьи из 11 посвящены роману в стихах. Для пушкинских современников оказалось довольно трудным проникновение в суть произведения и восприятие его в целостности замысла и грандиозного его претворения. Даже Гоголь, перу которого принадлежит глубокая и проникновенная оценка пушкинского творчества, считал, что в романе поэта постигла неудача. По словам Гоголя, Пушкин «хотел было изобразить в „Онегине“ современного человека и разрешить какую-то современную задачу — и не мог. Столкнувши с места своих героев, сам стал на их место и, в лице их, поразился тем, чем поражается поэт. Поэма вышла собраньем разрозненных ощущений, нежных элегий, колких эпиграмм, картинных идиллий и, по прочтении ее, вместо всего, выступает тот же чудный образ на все откликнувшегося поэта»
[124].
Разбор «Евгения Онегина» явился откровением. Целостность, внутреннее единство романа критик обосновал связанностью тем, образов, мотивов, стержневым, пронизывающим его художественную ткань миросозерцанием автора-повествователя, поэта, жизнь, понятия, идеалы которого отразились с необычайной полнотой.
Это явилось достойным ответом многочисленным порицателям, которые упрекали Пушкина в содержательной бедности, в отсутствии глубины и мысли. Поэта обвиняли в аристократизме (ведь герои — из помещичье-аристократической среды, далеки от народа и т.п.), а Белинский определил роман как «энциклопедию русской жизни», показав, что герои его — выразители своего времени и «истинно национальны».
Белинский дал пример анализа героев в контексте реальных условий их жизни, существования, условий формирования, а также и в развитии. Точно определил главное свойство Онегина — «страдающий эгоист» (6,386). Критик учил читателей видеть условия, в которых сложился характер, а также вслед за поэтом учитывать варианты возможной его дальнейшей судьбы: «Что сталось с Онегиным потом? — спрашивает Белинский.— Воскресила ли его страсть для нового, более сообразного с человеческим достоинством страдания? Или убила она все силы души его, и безотрадная тоска его обратилась в мертвую, холодную апатию? — Не знаем, да и на что нам знать это, когда мы знаем, что силы этой богатой натуры остались без приложения, жизнь без смысла, а роман без конца?» (6,396).
Раскрывая особенности мировоззрения Пушкина, обусловленные тем, что жил поэт на рубеже двух исторических эпох России, критик проницательно отмечал, что поэт принадлежал «к числу тех великих исторических натур, которые, работая для настоящего, приуготовляют будущее» (6,76).
Статьями о творчестве Пушкина, отзывами о нем как о передовом человеке своего времени, о гармонической личности, о новаторе Белинский укреплял и
развивал основные положения лермонтовской концепции пушкинского образа. Статьи критика оказали огромное влияние на его современников. Лев Толстой, хорошо знавший произведения Пушкина, сказал, что работы Белинского — «чудо». «Я только теперь понял Пушкина»,— записал он в дневнике в конце 50-х годов.
Естественно, не все сказанное критиком о поэте в равной мере выдержало проверку временем. Поскольку наша задача — разобраться в логике восприятия поэта разными кругами читателей, понять истоки притяжений к нему и отталкиваний, необходимо обратить внимание и на те стороны воззрений критика, о которых не столь часто принято упоминать в популярной литературе. Некоторые из его суждений, упомянутых выше со знаком плюс, позднее дали неожиданные ростки, послужили основанием для негативистского отрицания поэта в доведенных до крайнего их логического развития системах Писарева, других шестидесятников.
В общей картине пушкинского творчества, представленной Белинским, не все этапы рассмотрены с равной основательностью, не все оценены объективно.
Критик был пристрастен. Это была пристрастность взыскующего истину исследователя, который при неизбежной неполноте представшей ему картины дал многие образцы удивительно глубокого понимания феномена поэта. Но некоторые периоды пушкинского творчества он не мог оценить в должной мере. В частности, о раннем этапе вольнолюбивой лирики отозвался как о не имевшем принципиального значения для дальнейшего творческого пути. Он даже полемически заостряет вывод против тех, кто, «основываясь на каком-нибудь десятке ходивших по рукам его стихотворений, исполненных громких и смелых, но тем не менее неосновательных и поверхностных фраз, думали видеть в нем поэтического трибуна...» Нельзя было более ошибиться во мнении о человеке,— полагает критик: «В тридцать лет Пушкин распрощался с тревогами своей кипучей юности не только в стихах, но и на деле. Над „рукописными“ своими стишками он потом сам смеялся» (6,281). Но нужно учесть, что многих текстов (особенно ранних вольнолюбивых произведений Пушкина) критик не имел, к тому же располагал он сведениями о жизни поэта в основном официального порядка, в них доказывалась смена юношеского вольнолюбия отказом от декабристских идеалов и т. д.
Подобные представления привели критика к выводу, что в 30-е годы Пушкин «навсегда затворился... в гордом величии непонятого и оскорбленного художника...» Оттого публика и охладела к нему.
Плодотворная и проницательная идея о том, что поэт представляет собой вечно живущее и развивающееся явление, после статьи «Русская литература в 1841 г.» не получила последующего развития в цикле статей о Пушкине. Более того, критик наряду с утверждением значения Пушкина для будущего высказывается и не вполне последовательно о преимущественном значении поэта лишь для его эпохи
[125]. В 1842 году в разборе критического этюда К. С. Аксакова о «Мертвых душах» Белинский, сравнив Гоголя и Пушкина, отметил, что автор «Ревизора» «более поэт социальный, следовательно, более поэт в духе времени...»
В сороковых годах, в новых условиях социально-политической борьбы постепенно меняются представления об образе-эталоне творца — выразителя настроений передовой части общества. В Гоголе находят более соответствия духу отрицания ненавистных сторон российской действительности. Через два десятилетия, в шестидесятых годах, напомнив слова Белинского о «более важном значении для русского общества» Гоголя, нежели Пушкина, Писарев заключит: «Если Белинский мог говорить такие вещи в сороковых годах, то меня, человека, пишущего в шестидесятых, можно упрекать не в том, что я говорю неслыханные дерзости, а разве только в том, что я надоедаю читателям повторением слишком старых истин»
[126]. Таким образом, сам Белинский «давал Писареву не только поводы, но и положения для антипушкинских выводов — резких, тенденциозных, несправедливых...»
[127].
И из мысли Белинского о том, что «тайна пафоса Пушкина» — «художественный, артистический стих...» (6,264), Писарев в будущем сделает свои выводы, развивая не вполне последовательные заключения Белинского, что «Пушкин как поэт велик там, где он просто воплощает в живые прекрасные явления свои поэтические созерцания, но не там, где хочет быть мыслителем и решителем вопросов...» По-своему пристрастно Писарев прочитывал Белинского, уловив слабые места его воззрений и противоречия.
Пример этот красноречиво свидетельствует, что назревают смена критериев оценки назначения искусства и противопоставление Пушкина Гоголю в условиях обострения социальных противоречий, что и произойдет в 50—60-е годы...
Не следует, однако, преуменьшать значения статей Белинского и для его современников, и для последующих читателей, по достоинству оценивших проницательность многих не потерявших ценности суждений.
Статьи Белинского своей остротой и несомненным значением для популяризации пушкинского творчества вызвали оживление реакции. Почти одновременно с критиком, словно соревнуясь и соперничая с ним, публикует столь же обстоятельный цикл статей с разбором творений Пушкина Авксентий Мартынов в журнале «Маяк» (органе мракобесия и фанатизма). Статьи, в которых скрупулезно описываются и поясняются все произведения поэта почти построчно, опубликованы в шести книжках журнала за 1843 год (тома 9—11). Каждым положением, каждым выводом своим и рассуждением Мартынов доказывает, что Пушкин — поэт безнравственный и безбожный, опасный для молодежи потому особенно, что пагубное свое действие скрывает за гладкостью и прелестью слога...
Критик Авксентий Мартынов — тоже разночинец (сын полунищего сельского причетника), но представитель реакционных разночинцев. Лютый враг Пушкина, он следил за поэтом, за его творчеством и изливал ненависть и злобу, зависть к таланту поэта в стихах, пародиях, эпиграммах, а затем и в более крупной форме в цикле критических статей.
Ненависть к Пушкину Мартынова выказана в критических статьях с такой злобой и откровенностью, что даже цензура вынуждена была изъять наиболее резкие места с нападками на поэта. Долго еще продолжали появляться нападки на Пушкина, на его произведения, коими их автор стремился свести на нет (в противовес Белинскому) ореол былой славы и воспоминаний о поэте. Так, в мае 1844 года публикуется в «Маяке» очередная пародия на «Онегина», принадлежащая А. Мартынову и более всего напоминающая грубый пасквиль:
...Еще прибавим два-три слова:
Я негодяя молодого
Доселе пел, и вот конец.
Подай хоть елевый венец
Гудочнику, кокетка Муза!
Я, признаюсь, и вкось и вкривь
Вилял, зато рассказ игрив.
Насилу с плечь стреслась обуза!
Новая волна споров о поэте
Середина 50-х годов
Пушкин представал новым, неожиданным и в свете своеобразных толкований его образа, и в осмыслении новых, прежде неизвестных произведений, которые стали доступны читателю во второй половине XIX века.
Публикуясь в основном в периодике, в альманахах, поэт совсем немного издал при жизни сборников своих сочинений. Задуманная еще в 1820 году книжка «Стихотворения Александра Пушкина» увидела свет лишь в 1826 г. В нее включено 99 стихотворений. Второе и последнее прижизненное собрание стихотворений в четырех частях появилось между 1829 и 1835 годами. Девять поэм и стихотворных повестей вышли в одной книжке «Поэмы и повести» (1835 г.). Проза была собрана в сборнике «Повести, изданные Александром Пушкиным» (1834), а также отдельно издавались «Борис Годунов» в 1831 году, «Евгений Онегин» (1833 и 1837), «История Пугачевского бунта» (1834)... Многое осталось неопубликованным по цензурным соображениям, произведения выходили с купюрами и искажениями.
Первое посмертное собрание сочинений в восьми частях увидело свет в 1838 году, в 1841 появились три дополнительные части с произведениями, извлеченными из оставшихся после поэта рукописей.
Организатором, руководителем и фактическим редактором издания был В. А. Жуковский. Им было определено расположение произведений по жанрам, в то время как в 1829 году сам поэт отказался от такого принципа, предпочитая ему хронологический.
Чтобы пропустить пушкинские произведения через цензуру, Жуковский по своему усмотрению проводил правку, избирал те или иные варианты из рукописей, порой заменял или дописывал «уязвимые» с точки зрения прохождения через цензурные преграды места. Так, в «Памятнике» строка, утверждающая, что поэт в «свой жестокий век» «восславил... свободу», заменена на нейтральную: «прелестью живых стихов я был полезен...»
Тринадцать исправлений по сравнению с пушкинским беловиком было внесено в стихотворение «Вновь я посетил...» В «Современнике» № 5 оно вышло под заглавием «Отрывок. („Опять на Родине! Я посетил...“). Исправления были с очевидностью направлены на ослабление социального звучания стихов. В строке «...где я прожил изгнанником два года незаметно» слово «изгнанником» заменено на «отшельником», «опальный домик» превращен в «смиренный домик» и т. п.
[128] Подобная правка нацелена была на подтверждение идеи о смирении поэта, большая часть изменений в пушкинских текстах подтверждала ту легенду, распространению которой способствовал Жуковский.
Но все же выход сочинений поэта являлся в ту пору важным событием. Однако на судьбе этого издания сказалось начавшееся еще при жизни Пушкина ослабление его влияния на публику. В первое время тома покупались, но вскоре их брать почти перестали. Плохо расходились вышедшие в 1841 году дополнительные тома, при том, что в них публиковались такие замечательные пушкинские творения, как «Русалка», «Каменный гость», «Египетские ночи», «Дубровский» и др. Волна интереса угасла. Да и цены оказались непомерно велики...
Первое посмертное собрание сочинений поэта не было распродано. В 1845 году в газетах появилось объявление о его уценке: вместо прежних 65 рублей ассигнациями за 11 томов на веленевой бумаге нужно было заплатить 10 рублей серебром. Вместо 50 рублей ассигнациями за экземпляр на простой бумаге — всего 8 рублей серебром
[129]. Прежняя цена была недоступна людям даже со средним достатком. Обычный чиновник невысокого ранга получал приблизительно 60—80 рублей. Акакий Акакиевич из гоголевской «Шинели» имел 33 рубля жалованья. Естественно, купить столь дорогие книги при всем желании он не мог бы. (Позже стали продаваться отдельно три последних тома тоже по удешевленной расценке: вместо 25 рублей ассигнациями они стали стоить 4 рубля серебром).
Позже, вспоминая об этих годах, Некрасов отметит:
...Тогда все глухо и мертво
В литературе нашей было.
Скончался Пушкин: без него
Любовь к ней публики остыла.
В бореньи пошлых мелочей
Она, погрязнув, поглупела...
Подобную же картину оттока читательских симпатий и интереса к пушкинской музе запечатлели другие поэты. Сперанский, размышляя о «народном гении», отмечал, что стоит он «одиноко», подобно страннику в степи широкой:
Себе пристанища не зрит.
Ни в скромной хижине селений,
Ни в пышной роскоши дворцов
Он не встречает вдохновений,
Родных не слышит голосов...
В это время, в самом начале 50-х годов, вдова поэта Н. Н. Ланская пришла к мысли вновь издать сочинения Пушкина. Договорившись о помощи в подготовке издания с И. В. Анненковым, она прислала ему на квартиру два сундука бумаг поэта. Анненков желал привлечь брата своего, литератора Павла Васильевича, и предложил ему ознакомиться с бумагами. При первом же взгляде П. Анненков понял, какие сокровища таились скрытыми от читателей. Он взялся за дело. Началась кропотливая работа по разбору рукописей, сличению вариантов текстов, поиску современников, лично знавших поэта, сбору их воспоминаний, просмотру периодических изданий, в которых печатались стихи поэта и сообщения о нем.
В начале 1855 года выходят первые два тома сочинений Пушкина, подготовленные и изданные П. В. Анненковым. Издание продолжалось до 1858 года, когда выпущен был VII дополнительный том, оказалось во многом примечательным и необычным и вызвало широкую полемику, вновь привлекая умы и взоры к сокровищам пушкинского наследия.
Взяв за основу издание Жуковского, Анненков, опираясь на исследования рукописей, внес исправления в некоторые тексты, а также снабдил произведения комментариями.
Наибольший интерес привлек первый том, озаглавленный «Материалы для биографии А. С. Пушкина». Это было первое полное жизнеописание поэта, составленное на основе обработки и анализа его рукописей, личных бумаг, сведений очевидцев, современников, друзей, родственников, знакомых.
Цель биографии П. Анненков видел в том, чтобы «уловить мысль Пушкина»
[130]. Перечитывая рукописи, разбирая их, автор жизнеописания наблюдал за движением социальных и эстетических воззрений поэта. Это послужило ему основанием для периодизации этапов творчества поэта. Он отметил значение 20-х годов для зрелого творчества Пушкина, показал необходимость изучения пушкинского эпоса, прозы, исторических произведений и сочинений. Следовал вывод о неисчерпанности пушкинского таланта, о том, что поэт в его наследии демонстрирует лишь приготовление к великому своему поприщу. Анненков видел в поэте чудесного воспитателя эстетических чувств, был убежден, что читателям поэт только открывается, а критике еще предстоит понять эстетические принципы гения и донести их до читателя.
Будучи по взглядам умеренным либералом, П. Анненков оценивал развитие Пушкина как движение в сторону к либеральному консерватизму. Идеалы поэта он определял как «утопические». При этом относил поэта к представителям «гуманного развития в свою эпоху», считал «примером человека, который при всех обстоятельствах сохранял живое гражданское чувство и всю жизнь обнаруживал неустанную энергию в проповеди справедливых, честных отношений, за что и подвергался часто обвинению в беспокойном либерализме...» Поэт желал всею душою для своей родины умножения прав и свободы «в пределах законности и политического быта, утвержденного всем прошлым и настоящим России»
[131].
Издания Анненкова о поэте, особенно «Материалы для биографии...», вызвали бурную дискуссию о принципах такого труда, о личности и творчестве Пушкина, о роли его наследия в 50-е годы.
В мартовской и апрельской книжках «Библиотеки для чтения» с оценкой нового издания выступает проповедник «бесстрастного искусства» дворянский либерал А. В. Дружинин. Его мало интересовали научные принципы анненковского труда, он желал высказаться по волнующему его поводу: «...о Пушкине как о литераторе в тесном смысле этого слова» — и заострить внимание на материале анненковских изданий, на том, «каков был великий наш поэт в тиши своего кабинета»
[132]. Пафос критика в доказательстве лелеемой им идеи, превозносящей «чистую художественность» пушкинской поэзии, противостоявшей социально устремленной, политически значимой литературе. Тщательная отработка черновиков, огромный труд Пушкина над отделкой сочинений, показанный Анненковым, свидетельствует, по мнению Дружинина, о стремлении к совершенствованию трудов как главном свойстве «успокоительного гения» Пушкина. Все это служит критику основанием для резко отрицательной оценки социально направленной литературы, представленной направлением Гоголя. Противопоставляя Пушкину натуральную школу, последователей Гоголя 40-х годов, Дружинин утверждал, что «текущая словесность изнурена, ослаблена своим сатирическим направлением. Против того сатирического направления, к которому привело нас неумеренное подражание Гоголю, поэзия Пушкина может служить лучшим орудием»
[133]. Превознося в Пушкине асоциальное начало и доказывая, что ценность творений поэта в их «художественности», критик превращал Пушкина в эстета и в знамя «чистого искусства».
Злободневность поднятых вопросов вызвала ответные публикации цикла статей Чернышевского на страницах «Современника», позже — выступления Добролюбова.
Н. Г. Чернышевский написал четыре статьи, посвященные анализу издания Анненкова, а в 1856 году выпустил в свет книгу о Пушкине для юношества
[134].
Критик-демократ в полемически заостренной форме ответил Дружинину, высказался по поводу нового издания, оценил роль поэта для современности и определил отношение к идеям, провозглашенным Белинским.
Заслугу Анненкова Чернышевский видел в обращении именно к личности и творчеству Пушкина, а также в том, что издатель представил целостный взгляд на историю поэта и на его творчество. Высокой оценки достоин Пушкин за то, что «первый возвел у нас литературу в достоинство национального дела», так что «вся возможность дальнейшего развития русской литературы была приготовлена и отчасти еще приготовляется Пушкиным». Хотя и выделяется критиком в основном прелесть «художественной формы» пушкинских творений (вслед за Белинским, высоко оценившим художественность и артистизм как первостепенные качества поэта), подтверждается увлекающая и в середине века «дивная красота созданий» Пушкина, который назван Чернышевским «...истинным отцом нашей поэзии», «воспитателем эстетического чувства», а также любви к благородным эстетическим наслаждениям «в русской публике, масса которой чрезвычайно значительно увеличилась, благодаря ему — вот его права на вечную славу в русской литературе»
[135].
Две последние статьи Чернышевского, вышедшие в связи с последними томами анненковского издания, написанные в условиях обострения идеологической борьбы и более активного поднятия Пушкина на щит представителями «чистого искусства», определили более острый характер высказываний.
Выдвигаются проблемы эволюции пушкинского творчества («ход изменения идей, которыми одушевлялась деятельность Пушкина в различные эпохи») (II, 477), отношения к поэту критики 30 и 40-х годов — прежде всего Белинского; третья проблема — Пушкин и современность, вернее, Пушкин и Гоголь.
В противовес тем, кто яро защищал пушкинское объективное начало, выдвигая пример поэта как единственный путь для развития русской литературы, Чернышевский защищает пример творческого служения социальной борьбе Гоголя, обнажившего противоречия действительности. В защите гоголевского направления Чернышевский говорит о Пушкине как о бесстрастном созерцателе. «Мужицкий демократ», по определению В. И. Ленина, критик утверждал, что задача художника произносить приговор жизни, способствовать развитию народного самосознания. С этих позиций оценивая Пушкина, Чернышевский видит в нем лишь явление историческое, утратившее влияние на социальные процессы новых условий революционно-демократического противоборства с царизмом и крепостничеством.
Поскольку защитники «артистической» концепции пушкинского творчества «присваивали» идеи Белинского и становились под флаг его высказываний, Чернышевский видел свою задачу в том, чтобы защитить Белинского от посягательств либерально-эстетического лагеря. Для этого он дает новое толкование взглядов Белинского, акцентируя внимание как раз на его высказываниях о преимущественно художественном значении Пушкина, о том, что в 30-е годы Пушкин не был выразителем «духа времени», что произведения его последних лет жизни «остались бесплодны для общества и литературы».
Начатая дискуссия о личности и творчестве поэта все более касалась различий эстетических направлений («артистического», «пушкинского» и «гоголевского», «социального»), общих философских проблем творчества...
Вновь к вопросам именно пушкинского наследия возвратил полемику Н. А. Добролюбов рецензией на седьмой дополнительный том. Она была помещена в 1858 году в «Современнике». Критик обращал внимание на социальный контекст взглядов Пушкина, на необходимость выяснения мировоззренческих вопросов его биографии. Во многом Добролюбов повторил Чернышевского или же высказался в унисон критику. Это касалось динамики в сторону «умеренности» после 1825 года, аристократических предрассудков поэта, общественной позиции как «отказа от правды» во имя «нас возвышающего обмана». Подчеркивалось, правда, что перемена в Пушкине неорганична, отражала влияние внешних обстоятельств и что в последнем периоде у поэта видит он «какое-то странное борение, какую-то двойственность», объяснимую, по всей видимости, невозможностью освободиться от «порывов молодости, от гордых, независимых стремлений прежних лет»
[136].
В следующей работе Добролюбова «О степени участия народности в развитии русской литературы» получила разработку проблема народности русской литературы и народности Пушкина
[137]. Это вызвало новую критическую волну яростных споров представителей демократического и либерального кругов.
Пытаясь понять, в чем истоки ошибок революционных демократов в недооценке роли Пушкина для новой эпохи, исследователи позднего времени объясняли их отсутствием объективных свидетельств о связях поэта с освободительным движением, фальсификацией его творчества и биографии, в действительности имевшей место. Однако нельзя не учитывать еще одно обстоятельство, подвергающее сомнению справедливость и правомерность только такого объяснения. С середины 50-х годов в Лондоне в Вольной русской типографии Герцен и Огарев публикуют многие запрещенные в России пушкинские произведения и переправляют на родину. Так, в «Полярной звезде на 1856 год» напечатаны «Вольность», «Деревня», «Кинжал», «Послание к Чаадаеву», «В Сибирь», «Мирская власть». В выпуске на 1858 год — «Цензору», на 1859 — «Недвижный страж дремал на царственном пороге...».
Широкая распространенность бесцензурных произведений, отпечатанных в Вольной русской типографии, позволяет предположить почти с уверенностью, что революционные демократы были с ними знакомы.
Что же помешало верно оценить Пушкина? Только ли «просветительский утилитаризм», мировоззренческая нормативность,— то есть требование прямого соответствия творчества писателя прошлого задачам нового этапа социальной борьбы — тому причины?
К. Чуковский, не только детский писатель, но и автор обстоятельных, глубоких исследований об историко-культурной ситуации 60-х годов XIX века, точно заметил, что даже людям революционных убеждений любить Пушкина и верно оценивать его облик и творчество было нелегко. Слишком многое мешало почувствовать вольнолюбивый пафос поэта. Имя Пушкина опутывали легенды, опровергнуть которые сумели лишь советские литературоведы.
Читателям внушалось, что поэт был одним из ярых приверженцев николаевской монархии, что был он льстивым придворным, изменившим идеалам декабристов ради благодеяний царя
[138].
Реальная история жизни поэта подменялась сильно усеченными и фальсифицировавшими многие факты версиями. Цензурой запрещалось упоминание о причинах ссылок Пушкина, о событиях дуэли, о запретах на публикации многих произведений...
Так, в некрологе Пушкину, помещенном в «Современнике» за 1838 год, Плетневым указывалось без пояснений, что в конце 1824 года Пушкин «оставил Одессу». В «Словаре достопамятных людей», составленном Д. Бантыш-Каменским, говорилось, что сам поэт был виновен в высылке из Одессы в Псковскую губернию... Он сам подписал приговор своими резкими суждениями и чересчур вольными стихами, которые переходили из рук в руки и были предметом общего разговора и удивления
[139].
Первый биограф поэта, П. В. Анненков, тоже вынужден был отклониться от истины об истории поэта и особенностях его натуры. «Материалы для биографии А. С. Пушкина» появились в свет в начале 1855 года, когда еще был жив Николай I. Чтобы книга прошла цензуру, ее автору пришлось описывать, как велики были царские милости поэту. Так, к примеру, рассказывалось в биографии о вызове Николаем I Пушкина из Михайловского: «Державная рука, снисходя на его (Пушкина.—
Е. В.) прощение, вызвала его в Москву». Далее указывалось, что Пушкин вспоминал об этом всегда «с чувством благоговения и умиления». Сам Анненков позже называл эти и подобные места своей книги «пошлыми». Тем не менее он не мог поведать о том, как Пушкин страдал от «высочайшего попечения», не мог коснуться тем цензурного гнета, травли поэта, событий, предшествовавших ссылкам. Не мог он называть имен Пущина и Кюхельбекера, других декабристов, не упоминал о «Вольности», «Деревне», «Кинжале» и других вольнолюбивых произведениях. Все эти купюры и умолчания были уступками, необходимыми для того, чтобы первая биография увидела свет.
Итак, официально признавался и распространялся образ поэта, истолкованный в духе реакционных трактовок его личности и творчества...
К началу 60-х годов XIX века обострилось противостояние между революционной демократией и либералами. Подхватив самые реакционные версии легенд о Пушкине, либералы доказывали свое право на «монопольное обладание» поэтом (К. Чуковский). Тогда против фальсификаций личности и творчества Пушкина выступил Н. А. Некрасов.
В стихах «О погоде» рассказ о поэте вкладывается в уста типографского рассыльного деда Миная. В его обязанности входило носить корректуры издателям журнала «Современник». Рассыльный говорил об этом так:
...С «Современником» нянчусь давно:
То носил к Александру Сергеичу,
А теперь уж тринадцатый год
Все ношу к Николай Алексеичу,—
На Литейном живет...
Далее в воспоминаниях Миная воссоздается картина, противоположная той, что пропагандировалась лживыми эстетами, превозносившими опеку и благосклонность царской цензуры. Рассыльный говорит о приступах гнева, что испытывал Пушкин, когда получал испещренные, цензурными пометками и зачеркиваниями листы:
...Попрекал все цензурою.
Если красные встретит кресты,
Так и пустит в тебя корректурою:
— Убирайся, мол, ты!
Глядя, как человек убивается,
Раз я молвил: сойдет-де и так!
— Это кровь, говорит, проливается,—
Кровь моя...
Распространять идеи о Пушкине — жертве цензуры было в то время небезопасно. Но Некрасов отважно боролся за освобождение образа поэта от лживых биографов. Это было особенно важно для молодежи, которой внушали, что Пушкин был не более чем легкомысленный певец красоты...
Позже, уже в семидесятых годах прошлого века, Н. А. Некрасов писал о Пушкине в поэме «Русские женщины». Поэт в ней появлялся дважды. Сначала юношей среди живописной южной природы. Второй раз читатель встречался с ним в салоне Зинаиды Волконской. Поэт, недавно возвращенный из ссылки, изменился: он пережил разгром декабристов, гибель лучших друзей, стал вдумчивым, умудренным жизненным опытом. Но по-прежнему верен друзьям-декабристам, сохранил свободолюбие:
...Покинув привычный насмешливый тон,
С любовью, с тоской бесконечной,
С участием брата напутствовал он
Подругу той жизни беспечной.
Речь Пушкина, обращенная к жене декабриста, акцентирует внимание на неистощимом пушкинском вольнодумстве, ведь «некрасовский» поэт утверждает, что гораздо лучше сибирская каторга, чем придворные цепи:
...Поверьте, душевной такой чистоты
Не стоит сей свет ненавистный.
Блажен, кто меняет его суеты
На подвиг любви бескорыстный.
Пушкин, ненавидящий деспотизм и тиранию, каким он показан Некрасовым, говорит о подвиге жены декабриста как о примере для потомков:
...ваших страданий рассказ
Поймется живыми сердцами,
И за полночь правнуки ваши о вас
Беседы не кончат с друзьями...
Голос Некрасова в защиту Пушкина был особенно весом, так как для молодых людей 70-х годов он стал наиболее значительным авторитетом
[140].
Вожди революционной демократии оценивали Некрасова выше других предшественников в литературе. В письме к Некрасову Н. Г. Чернышевский утверждал: «Такого поэта, как Вы, у нас еще не было. Пушкин, Лермонтов, Кольцов, как лирики, не могут идти в сравнение с вами... Ваши произведения, изданные теперь, имеют более положительные достоинства, нежели произведения Пушкина, Лермонтова и Кольцова»
[141].
В Пушкине в ту пору не видели сподвижника-борца, не находили у него социальной злободневности. Подобные позиции в крайней форме проявились в воззрениях Д. И. Писарева.
«Рыцарь минуты»: Писарев и антипушкинские настроения 60-х годов
В «Отцах и детях» И. Тургенева есть примечательный разговор Базарова с Аркадием о том, что следует читать серьезному человеку в пору накала общественных настроений, какую переживала Россия в преддверии 60-х годов прошлого века. Пушкин в такой период «никуда не годится», следует «бросить эту ерунду. И охота же быть романтиком в нынешнее время!» — проповедует Евгений. Нужно что-нибудь «дельное» — и советует «Stoff und Kraft» Бюхнера.
Разночинцы, деятели нового этапа революционного движения, видели смысл жизни и цель ее в борьбе и считали недопустимым отвлекаться на сентименты, чувственность и прочие «дворянские» настроения. И. С. Тургенев точными штрихами отразил идеи и дух нигилистов, отрицавших отжившие устои и порядки. Пушкина, да и вообще поэзию связывали они с расслабленностью душевной, с негой, воспеванием красоты. Разве этим «искусам» можно было поддаваться, когда главное состояло в том, чтобы «возбуждать ненависть к рутине, злу, лихоимству»
[142]? Таким, по словам шестидесятницы Е. Н. Водовозовой, было кредо активных молодых людей, ненавидевших монархию, царский произвол, беззаконие.
После проведения аграрной реформы социальные, общественно-политические силы страны размежевались. В условиях репрессий и реакции разногласия между приверженцами «гоголевского» и «пушкинского» направлений вышли за рамки собственно литературных проблем, приобрели больший идеологический смысл, ибо определяли разные пути и задачи общественного развития. В орбиту противоборства были включены не только насущные проблемы, но и отношение к традициям, к художественному наследию. «Так как борьба литературных партий сделалась теперь упорною и непримиримою, так как духом партии обусловливаются теперь взгляды пишущих людей на прежних писателей и даже в тех органах... печати, которые сами вопиют против духа партии, то и реалисты (то есть демократы.—
Е.В.), сражаясь за свои идеи, поставлены в необходимость посмотреть повнимательнее, с своей точки зрения, на те старые литературные кумиры и на те почтенные имена, за которые прячутся наши очень свирепые, но очень трусливые гонители»
[143],— писал критик, объясняя необходимость полемики по вопросу об отношении к «кумирам» прошлого. Речь прежде всего шла о Пушкине.
Именем поэта как своего вдохновителя стали прикрываться защитники «пушкинского», «артистического» направления, провозгласившие необходимость «чистой» литературы, далекой от социальных конфликтов и противоборств. Пушкин, по их трактовкам, как раз и воплощал идеал художника, в полной мере выразившего задачи такого искусства. По отзывам критика журнала «Отечественные записки» В. П. Гаевского, наслаждение природой, искусством, красотой поэт видел «единственною целью своей жизни, пренебрегал всеми другими целями», волновавшими его современников
[144].
Продолжая и развивая на новом этапе концепцию, предложенную Жуковским, представители «артистического» направления отмечали в поэте как определяющие качества его «незлобивость», тихий, спокойный нрав, радостное успокоение красотами жизни. В нем видели «человека труда», более всего увлеченного отделкой стиха, его прелестью и очарованием. Особенно энергично подчеркивалось, что поэт, особенно в последние годы жизни, утверждал «чистое, независимое искусство»
[145]. Пушкина славили как проповедника и глашатая творчества, чуждого самой идее сопротивления и борьбы, утверждавшего поэзию, далекую от «житейского волнения», предназначенную лишь наслаждению утомленного и страдающего человека.
Чем более посягали на поэта эстетствующие либералы, ненавистники «гоголевского», сатирико-обличительного направления, чем более «присваивали» его «романтики и литературные филистеры», по словам Писарева, тем меньшей популярностью пользовался Пушкин у читателей молодого поколения. Приступая к разбору пушкинских сочинений, Писарев не без основания заявил, что статьями «Пушкин и Белинский» он вовсе не открывал нечто новое, но «хотел только высказать громко и открыто подкрепить фактическими доказательствами то мнение, которое уже многие мыслящие люди составили себе о Пушкине и о всех поэтах и художниках его школы». Это «общее мнение» в какой-то мере продолжало и усиливало начавшееся еще в 30-е годы охлаждение к поэту...
Как сложились антипушкинские идеи критика? Понимание логики их формирования может приоткрыть более широкий смысл сознательного «отказа» от поэта некоторых читательских кругов того времени. Будем иметь в виду только, что Писарев отразил антипушкинские настроения в концентрированной и заостренной форме. Он высказался о поэте с такой полемической страстностью, развенчал поэта со столь поразительной по накалу энергией заблуждения, что обратил в свою веру многих сомневавшихся, а в людях близкого себе способа мышления обрел ярых союзников.
Писареву не было и 28 лет, когда трагически оборвалась его жизнь. Почти в 25 он писал свои печально знаменитые статьи о Пушкине. Со времени их публикации в 1865 году в «Русском вестнике» за критиком закрепилась «слава» активного борца против поэта и влияния его наследия на читателей-современников. Приговор действительно был бескомпромиссен и суров: Пушкин признавался безнадежно устаревшим и далеким от насущных проблем действительности 60-х годов. Оценив его творчество как неактуальное и даже ретроградное, статьями о поэте критик почти на пятнадцать лет вычеркнул «вопрос о Пушкине из числа злободневных вопросов критики и публицистики»
[146].
Проследить, как складывались воззрения Писарева, тем более интересно и поучительно, что в юношеские годы, в начале литературной деятельности, отношение его к Пушкину уважительное. Критик признавал его замечательным писателем, не знавшим равных в литературе. Не раз в статьях и рецензиях упоминались «Евгений Онегин», «Капитанская дочка» как произведения совершенные и примечательные явления отечественной словесности. В 1862 году в статье «Базаров» тургеневский герой осуждается критиком за то как раз, что в отношении к Пушкину «завирается», что «сплеча отрицает вещи, которых не знает или не понимает». Что же послужило мотивом столь темпераментного продолжения «базаровской» линии в выпаде против поэта?
Резкий и на первый взгляд неожиданный сдвиг относится к 1864 году. В статье «Реалисты» читаем: «Говорят, например, что Пушкин — великий поэт, и все этому верят. А на поверку выходит, что Пушкин просто великий стилист и больше ничего. Говорят, далее, что Пушкин основал нашу новейшую литературу, и этому тоже верят. И это тоже вздор. Новейшую литературу основал не Пушкин, а Гоголь. Пушкину мы обязаны только нашими милыми лириками, а под влиянием Гоголя сформировались Тургенев, Писемский, Островский, Достоевский...»
[147]. Далее критик обещает читателям продолжить этот разговор и доказать свою правоту. Вскоре публикует сначала статью о «Евгении Онегине», затем — о пушкинской лирике, в которых с горячностью молодости убеждает читателей, что место Пушкина — не на письменном столе «человека дела», а в пыльном кабинете антиквара, рядом с заржавленными латами и изломанными аркебузами
[148].
Заблуждение? Ошибка? Но высказано неспешно и специально аргументировано. Прежде чем рассмотреть суть этих доказательств, вспомним о писаревской «теории реализма» и идеях критика о предназначении искусства.
Младший современник Чернышевского и Добролюбова, революционер-демократ, Писарев был активным и гневным обличителем самодержавия. Он смело, самоотверженно предрекал необходимость «уничтожения царствующего зла»: «Династия Романовых и петербургская бюрократия должны погибнуть... То, что мертво и гнило, должно само собою свалиться в могилу; нам останется только дать им последний толчок и забросать грязью их смердящие трупы»
[149].
Ненависть питалась состраданием и сочувствием к «голодным и раздетым»... Критик страстно желал, чтобы «проснулся народ», восстал против несправедливости и царского беззакония. Он с нетерпением жаждал революции.
После 1862 года пришлось признать, что к активным действиям народ не готов. Надежды на скорые изменения рассеялись. Это было мучительно для такой активной натуры, но приходилось продолжать начатое дело пробуждения народа. Причины пассивности — в неразвитости и забитости масс. Цель вырисовывалась ясно — повышать уровень сознательности, обогащать народ, развивать его умственно и духовно, чтобы назрела и прорвалась в нем нетерпимость к бедственному своему положению. Призыв «размножать мыслящих людей», выдвинутый еще в 1861 году («Русское слово».— 1861.— № 5.— Т. II.— С. 58), зазвучал с новой силой. Это была не просто просветительская задача, но деятельность революционно-просветительская, направленная на преодоление умственной апатии.
Как должна осуществляться программа? Ей могут способствовать знания естественные, которые вырабатывают верное понимание жизни природы, общества, их законов. Потому-то любимые герои Писарева — Базаров, Рахметов.
Поначалу трезво оценивавший нигилиста Базарова, критик впоследствии принимает его точку зрения, доводя до логического предела. Одно из препятствий на пути утверждения реалистического миросозерцания — «эстетика», что ассоциировалась у критика с теми движениями внутреннего мира, в которых человек не может дать себе ясного и строгого отчета и которые не могут быть оценены с позиций пользы и вреда. Естественные науки прививают здоровый образ трезвого мышления, а эстетика, по мнению критика, безотчетность, рутина...
Объяснялась подобная позиция тем, что в 60-е годы эстетику как «чистое» восприятие прекрасного и наслаждение искусством, не замутненное грязью реальности, провозглашали либералы и реакционеры. Демократы ратовали за публицистическую критику и выступали против эстетства. Они исходили из того, что литература должна включаться в борьбу за преобразование жизни непосредственно, возбуждая гнев и негодование, раскрывая низость условий жизни, недостойных человека. Искусство должно выдвигать человека-борца, натуру активную, зовущую следовать ее примеру. Таким виделся Писареву, к примеру, Чацкий... Главное, чтобы герой был «рыцарем прошлого» или «рыцарем будущего»
[150].
В этих принципах материалистической критики был один существенный просчет: максималист Писарев не только современную ему литературу, но и наследие прошлого предлагал мерить мерками соответствия потребностям действительности 60-х годов. В «Прогулке по садам российской словесности» критик высказался с определенностью, поставив вопрос: «Следует ли нам читать Пушкина в настоящую минуту или же мы можем поставить его на полку, подобно тому как это сделали с Ломоносовым, Державиным и Жуковским?» В поисках ответа критик отходит от учета исторических условий, в которых творил Пушкин, «устраняется», по его же словам, от «исторической точки зрения»
[151]. Критик последовательно неисторичен: подобно тому как либералы и эстеты фальсифицировали образ Пушкина, приспосабливая его к «образцу» их программы, Писарев развенчивал поэта (имея в виду ослабление позиций своих противников), доказывая несоответствие Пушкина духу новой эпохи.
Что означает созвучие времени? Вот если бы Пушкин пел о правах и обязанностях человека, о стремлении к светлому будущему, о недостатках современной (Писареву.—
Е. В.) действительности, о борьбе человеческого разума с вековыми заблуждениями, о сознательной любви к отечеству и человечеству,— он оказался бы близок настроениям эпохи 60-х годов. Но как раз этого-то критик у Пушкина не находит, ибо, по верному замечанию Б. Ф. Егорова, «мировоззренчески нормативен». «Нормативность» как стремление видеть в художнике прошлого активного участника политических сражений иной эпохи и полное соответствие духу новых битв проявлялись еще у Чернышевского и Добролюбова
[152]. Писарев усилил антиисторическую нормативность в подходе к пушкинскому творчеству. Он не нашел отклика у поэта на идеи, волновавшие поколение 60-х годов. Антиисторизм сочетался при этом с откровенно утилитаристским подходом к творчеству: критик искал непосредственного отклика поэта, жившего в первой четверти века, на проблемы иного времени. Не найдя таковых, более того, доказав несозвучность поэта новым требованиям, критик прямо вывел его «вредность» для молодого поколения. Раз наследие поэта не будит мысль в предполагаемом критиком русле, то, следовательно, приучает молодежь «относиться с воробьиным легкомыслием» к самым серьезным вопросам, поглощающим все силы лучших людей. Потому «воспитывать молодых людей на Пушкине — значит готовить из них трутней или... сибаритов». Критик по-своему, со своих позиций перечитал Пушкина, объясняя при этом, отчего Белинский дал поэту такую высокую оценку.
Вот как, к примеру, толкуется известное стихотворение «19 октября 1825 года», одно из цикла посвященных памяти лицейских годовщин
[153]. О чем это стихотворение? Оно раскрывает житейскую философию Пушкина, в которой нет места большим и светлым идеям значительного общественного звучания. Могли ли волновать такие идеи человека, для которого «целый мир — чужбина» и «отечество — Царское Село»? Писарев делает вывод далее, что
Пушкину вообще чужды размышления о социальных проблемах, что стихотворение доказывает его монархические склонности: ведь поэт прославляет царя и воздает почести друзьям-лицеистам, занявшим крупные посты в государстве. Так воспринимает критик тост за царя, который в контексте стихотворения звучит иронически, но в толковании Писарева, извлеченном из контекста, служит доказательством, что Пушкин — восхвалитель Александра.
Не менее показательным примером служит стихотворение «Клеветникам России». Поэт утверждал в 1831 году воззрение на русско-польские взаимоотношения в русле взглядов, разделявшихся декабристами, в конкретных исторических условиях и по конкретному поводу (в ответ на речи во Французской палате, призывавшие к вооруженному вмешательству в русско-польские военные действия). Этим объясняется позиция поэта, его убеждения, что «спор славян между собою, Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою...»
Через тридцать лет, в середине 60-х годов, революционеры-демократы не могли с этим согласиться по вполне объективным причинам: они питали сочувствие к освободительному движению поляков, а царское правительство в 1863 году жестоко расправилось с участниками восстания, руководителей заточило в Петропавловскую крепость. Позиция Пушкина не отвечала новым требованиям. Критик приходил к такому заключению, смещая проекцию видения и оценки исторических событий в поэзии. Не обнаружив отзвука социального, Писарев заключал, что стихи не имеют ценности, как и прочие пушкинские творения, безнадежно устаревшие.
Эстетические воззрения Пушкина критик выводит из стихотворения «Чернь» (ныне называется «Поэт и толпа»), где они якобы выражены в наиболее полной и законченной форме. Отмечая строки:
Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв,—
критик возлагает на Пушкина ответственность за распространение «чистого искусства», на бурный расцвет которого поэт якобы оказал значительное влияние. Писарев доказывает, что снижение социальной линии в поэзии от Дельвига к Языкову, от Фета к Полонскому и переход стихотворцев к темам интимным, асоциальным тоже было предопределено Пушкиным. Раз так,— заключает Писарев,— с подобным пагубным, ослабляющим силу искусства влиянием нужно бороться. Критик на этом пути неистощимо саркастичен, блещет иронией, остроумием...
Многие положения своей антипушкинской концепции Писарев вывел путем развития и доведения до крайнего выражения наиболее слабых и непоследовательных суждений о поэте Белинского, Чернышевского, Добролюбова. Он акцентировал внимание и по-своему, заостренно, продолжил их положения, что Пушкин — поэт «формы» по преимуществу, что поэту чуждо социальное мышление, что после 1825 года Пушкин отошел от декабристских идей и примирился с николаевской действительностью, наконец, что новая эпоха 60-х годов созвучна Гоголю, а Пушкин принадлежит прошлому.
Разве был бы поэт поднят на щит противниками социальных переустройств, если бы не был созвучен вполне их художественным и общественным интересам? А раз так, то нужно показать в поэте человека, увлеченного лишь отделкой стиха и воспеванием «мелочей», что помешало Пушкину, по мнению критика, разглядеть главное — зло и противоречия жизни, ее несправедливость и беззаконие...
С такими установками подходил критик и к «Евгению Онегину». Бездумному восхищению обывателя Писарев противопоставил трезвый подход «реалиста». Подобно тому как естественник анатомирует живое тело для изучения его структуры, критик препарировал острым скальпелем логического анализа произведение искусства. Он переводил поэзию на язык прозы, пытаясь в пересказе определить, какую пользу можно извлечь из произведения для развития умственных способностей современников.
Какую цель преследовал поэт, тщательно выписывая детали той дворянской жизни: бобровый воротник Онегина, на котором искрится иней, предметы в кабинете дворянского недоросля? Это столь же бесполезно для современника Писарева, как знакомство со строчками, в которых поэт восхищается ножками балерин. А раз так, то признаются ошибочными позиция автора романа в стихах, его художественная идея. Ошибочен выбор героя. К чему было изображать такого «ничтожного пошляка, коварного изменщика и жестокого тирана дамских сердец»
[154]? Чем обогатится поколение острых социальных катаклизмов, если будет знакомиться с этим подобием Митрофанушки Простакова иной формации? Праздная жизнь развратила героя, ведь «жить на языке Онегина, значит гулять по бульвару, обедать у Талона, ездить в театры и на балы. Мыслить — значит критиковать балеты Дидло и ругать луну дурой за то, что она очень кругла...»
[155]. Такой герой не может быть вдохновителем нового поколения, а посему роман бесполезен,— заключает критик
[156].
Развенчивая главного героя и пушкинский роман в стихах в целом, Писарев опровергает Белинского, высоко оценившего «Евгения Онегина». Причем не столько опровергает, сколько объясняет причины, отчего Белинский был таким ценителем «энциклопедии русской жизни». Оказывается, вовсе не Пушкин «породил своими произведениями» замечательные мысли, высказанные в одиннадцати «превосходных статьях» (Писарев), но они принадлежали самому Белинскому. Выходит, по словам критика, что «Белинский любил того Пушкина, которого он сам себе создал»
[157]. По верному замечанию В. В. Прозорова, слова эти с полным основанием могут быть отнесены к самому Писареву: «Он яростно ниспровергал Пушкина, которого «сам себе создал»
[158].
Объяснив позиции Белинского и развенчав былого кумира, авторитет для нескольких поколений читателей, критик приводил к показавшемуся многим убедительным выводу: «Пушкин может иметь только историческое значение, а для тех людей, которым некогда и незачем заниматься историей литературы, не имеет даже вообще никакого значения»
[159].
Нигилистические высказывания Писарева остались по существу без ответа. Вышедшая в 1869 году в «Отечественных записках» статья Скабичевского (показавшего, что именно отказ от историзма помешал критику различить в героях Пушкина, и в частности его романа, передовых людей своего времени) не могла сравниться с действием, которое произвели писаревские статьи. Отсутствие отпора и достойной реакции на выпад «пророка молодого поколения» (Н. Шелгунов) свидетельствовало о неуязвимости его позиций.
Все это печально сказалось на следовавшем за Писаревым литературном и читательском поколении. Интерес к Пушкину пал еще более, нежели до начала 60-х годов. Не без писаревского влияния, по словам современника, померкло увлечение и стихотворной формой
[160]: Я. Полонский, вспоминая о времени популярности статей критика, отмечал, что с его легкой руки угас интерес к поэзии, стихов вслух уже никто не читал
[161].
Наиболее сильное впечатление статьи производили на молодежь. Значительно позже, впервые прочитав отзывы Писарева о Пушкине, Мариэтта Шагинян вспоминала: «Пушкин с раннего детства стал божеством моим. И это божество — Пушкин — линяло передо мной со страницы на страницу... я была в величайшем, в стихийном смятении, я испытывала то «расширение сосудов», какое бывает физически от приема сердечного лекарства, а психически оно выражалось в наслаждении от свержения авторитетов»
[162].
Проходило время, внимание читателей привлекали то одни, то другие особенности прочтения Писаревым Пушкина. Идеи критика не забыты и по сей день. Феномену писаревского нигилизма ищут объяснений, больший интерес привлекают мотивы его отзыва о поэте, истоки воззрений, а также следствия статей — непосредственные и более отдаленные. «Кто согласится с интерпретацией творчества Пушкина, предложенной Писаревым? И вместе с тем, кто отвергнет ее историческую ценность? Ведь без нее нет Писарева, она типична для Писарева, для его времени, для культурной жизни России 60-х годов»
[163],— отмечает Д. С. Лихачев, размышляя о принципах исторического подхода к восприятию искусства.
Всякий яркий культурно-исторический факт оценки классика многозначен. Эффект его воздействия на публику порой противоположен намерениям автора. Отток читательских масс от Пушкина буквально через полтора десятилетия сменился новым всплеском внимания к поэту. Не исключено и парадоксально, что своей крайней нигилистической позицией критик в известной мере готовил последовавшую в начале 80-х годов переориентацию симпатий в отношении к Пушкину. Может быть, это и не парадокс вовсе, а своего рода «эксперимент» Писарева? Ведь сам он отчетливо сформулировал собственное кредо, утвердив, что «прикосновения критики боится только то, что гнило, что, как египетская мумия, распадается в прах от движения воздуха. Живая идея, как свежий цветок от дождя, крепнет и разрастается, выдерживая пробу скептицизма. Перед заклинанием трезвого анализа исчезают только призраки; а существующие предметы, подвергнутые этому испытанию, доказывают им действительность своего существования. Если у вас есть такие предметы, до которых никогда не касалась критика, то вы бы хорошо сделали, если бы порядком встряхнули их, чтобы убедиться в том, что вы храните действительное сокровище, а не истлевший хлам. Если же вы для себя уже сделали этот опыт, то позвольте же и другим сделать то же для себя»
[164].
Критик «встряхнул» пушкинское наследие, предложил свои заключения. Объективно же творчество поэта выдержало эту проверку всеразрушающим скептицизмом и внеисторическим подходом. Мудрость Пушкина, художественное совершенство его произведений, как и общее значение наследия для русской культуры, стали еще очевиднее. Опыт истолкования Пушкина расширился попыткой развенчания, поначалу ослепившей читателей, но вскоре убедившей в несостоятельности подобных операций.
Откровеннее проявились жизненность и всепобеждающая актуальность пушкинского наследия. Позиция Писарева в отношении к поэту подчеркнула эту сторону объективного его значения, выявив вместе с тем слабые стороны воззрений Белинского и других социал-демократов в истолковании роли классика. Писарев спровоцировал проверку пушкинского творчества на жизнестойкость в новых исторических условиях. Не потому ли Герцен, безгранично ценивший Пушкина, в письме к Огареву именно статьи «Пушкин и Белинский» и «Базаров» назвал «самыми замечательными вещами» Писарева
[165]?
Если же вернуться ко времени появления статей, то кипение страстей вокруг них было не слишком долгим. Позиции критика были опровергнуты самым действенным образом — жизнью. Открытие памятника Пушкину в Москве определило пересмотр представлений, в том числе и писаревских, способствовало новым дискуссиям о роли поэта в духовной жизни России.
Открытие памятника поэту в Москве в 1880 году.
История образа Пушкина в памяти поколений хранит немало удивительного. В ней есть страницы, повествующие о событиях, на иной взгляд, трудно сопоставимых. Вот, к примеру: пока не утихали устные и журнальные баталии, ставилась под сомнение актуальность Пушкина для эпохи 60—80-х годов прошлого века, в то же самое время усилиями почитателей пушкинского гения велась долгая и кропотливая работа по увековечиванию его памяти в монументе. Эта трудная миссия завершилась в 1880 году открытием в Москве памятника, грандиозным чествованием поэта, пробуждением общественного интереса к его имени, его творчеству. «Сооружение памятника Пушкину, в котором участвовала вся Россия... это сооружение представляется нам данью признательной любви общества... это памятник учителю!»— так оценил значение события писатель И. Тургенев
[166].
Вспомним, как создавался монумент, ведь эта история и любопытна, и примечательна для представлений о том, каким было отношение к поэту в различных кругах российского общества.
Первые прошения о создании памятника в честь великого поэта подавались еще в 1855 году, сразу же после смерти Николая I. Однако они не получили удовлетворения. Еще через пять лет и, соответственно, по прошествии 23 лет со дня гибели Пушкина лицеисты его и последующих выпусков обратились в Министерство народного просвещения с новым прошением о «дозволении открыть повсеместно подписку для сооружения покойному нашему поэту памятника, достойного народной его славы»
[167]. На сей раз поступило разрешение установить памятник в Царском Селе — от столиц подалее. Предлагалось к тому же сооружать его «общественным попечением», то есть целиком на собранные народные средства, правительство не выделяло ни копейки.
Сбор средств велся долго — почти десять лет не хватало нужной суммы. После создания в 1870 году специальной комиссии, в которую вошли лицеисты, в том числе и пушкинского курса, дело пошло скорее. Почти во всех периодических изданиях 1871 года было опубликовано воззвание о сборе средств на памятник, которое завершалось такими словами: «В настоящем деле нет, кажется, надобности придумывать доводы для привлечения жертвователей. Значение Пушкина так сознается всеми, права его на памятник так несомненны, что к сказанному прибавлять нечего. Пусть только всякий, сочувствующий великому поэту, принесет свою посильную лепту: как бы ни была она ничтожна сама по себе, она получит свой вес в итоге пожертвований, и средства для осуществления достойным образом общего желания могут быть собраны в короткое время»
[168].
Воззвание было встречено сочувственно, действительно «вся Россия» приняла участие в сооружении монумента. В газетах и журналах публиковались длиннейшие списки фамилий и сумм. Там были и высокопоставленные особы с крупными вкладами, и имена крестьян, мелких купцов, приказчиков, жертвовавших скромную лепту в несколько копеек. В итоге нужная сумма была быстро собрана. К этому времени принято решение, что памятник будет поставлен не в Царском Селе, а в Москве, где поэт родился, куда вернулся после михайловской ссылки.
В трех конкурсах проектов монумента принимали участие сильнейшие скульпторы того времени. Большинство моделей представляли многофигурные композиции, в которых фигура поэта устанавливалась на вершине горы, скалы, а вокруг располагались либо Муза, передающая ему венок славы, либо читатели его, а то и целые вереницы пушкинских героев. Представленные проекты не удовлетворяли, ибо были чересчур выспренними, перегруженными романтизированными аллегориями — ключами, бившими из-под скалы, «родниками поэзии», крылатыми херувимами...
Победителем последнего, третьего конкурса
[169], был признан молодой и малоизвестный тогда скульптор, бывший крепостной Александр Михайлович Опекушин, ученик профессора
Петербургской Академии художеств Д. Иенсена. Комитет по сооружению памятника отдал предпочтение модели Опекушина как «соединявшей в себе с простотою, непринужденностью и спокойствием позы — тип, наиболее подходящий к характеру наружности поэта».
 А. М. ОПЕКУШИН. Фрагмент памятника Пушкину в Москве. 1880.
А. М. ОПЕКУШИН. Фрагмент памятника Пушкину в Москве. 1880.
Скульптор подчеркнул в своем варианте памятника простоту, человечность гения, его доступность и открытость. Его поэт — мыслитель, гражданин. Непритязательность, задушевность образа передаются композицией и пластикой фигуры.
Опекушин представил Пушкина одетым в длинный сюртук с наброшенным сверху плащом. «...Движение и поза стоящей фигуры отличаются непринужденностью и живостью, не исключающими, однако, благородной возвышенности образа...»
[170]. Далее в описании памятника искусствоведом И. М. Шмидтом подчеркиваются естественность позы, выразительность мягко вылепленной головы статуи. Особо отмечается мастерски найденный скульптором легкий наклон головы, благодаря которому завершился, получил собранность общий силуэт памятника, а в самом образе поэта еще более усилилось неповторимое «пушкинское звучание», которым проникнуто все творение скульптора.
Реалистический образ, созданный Опекушиным, отвечал стремлениям передовой части русского общества увидеть Пушкина великим и вместе с тем «лишенным какой-либо театральности и надуманности, величавым в своих думах и вместе с тем демократичным по всему облику. Опекушин точным чутьем большого художника сумел уловить эти требования и ответить на них...»,— пишет И. М. Шмидт.
Мнения о памятнике, конечно же, не были единодушными. Некоторых покоробила чрезмерная «простота» монумента, несоответствие идее возвышенного вдохновенного пророка. Появились в печати и восторженные отклики. «Сходство с верным портретом Пушкина и маской, снятой с лица в день его кончины, вышло выразительное,— отмечает автор заметки в «Народной школе» за 1880 год.— Черты лица поэта переданы замечательно верно, с тою именно печатью думы, которая свойственна гению. Поза непринужденная, простая, полная внутреннего движения. Кажется, как будто поэт, углубившись в себя, обдумывает одно из наиболее зрелых своих произведений». В другом популярнейшем русском журнале «Нива» отмечалась удача создателя памятника, изобразившего поэта в состоянии тихой скорби и грустной задумчивости, которая так сквозит в его лирических произведениях («Нива», 1870, № 21). Многие авторы отзывов и хвалебных откликов отмечали как большую победу скульптора достижение им ощутимого движения в фигуре и позе Пушкина. «...Он на пьедестале своем не окаменел, а как бы двинуться хочет»,— писал известный русский писатель А. Ф. Писемский
[171].
Открытие памятника побудило многих стихотворцев вновь обратиться к имени поэта.
В столице, Пушкину любезной,
В Москве, в виду монастыря,
Поднялся ныне лик железный,
Родного нам богатыря.
То Пушкин, наш поэт великий,
Задумчиво явился нам
И утешеньем, и уликой,
Наставник временам... —
такими стихами отозвался на открытие памятника писатель В. Соллогуб («Московские ведомости», 1880, № 160).
Восторженный гимн создателю памятника известного поэта и переводчика Н. С. Курочкина содержит сжатую оценку отношения к Пушкину со стороны передовых людей последней четверти прошлого века:
...Увидят правнуки лица его черты,
Хранящего печать той высшей красоты,
Какою отличен в минуты вдохновений
Лишь тот, кто сердцем прост, а помыслами гений!
И скажут правнуки: был дедами почтен
Бессмертный Пушкин — как поэт, за то, что он
Изящным образов и звуков сочетаньем
Всех наполнял сердца святым очарованьем;
Что к родине своей любовью был велик,
Что гармонический он выковал язык,
Что в жизни создавал своей легко и просто
Он формы новые для русской мысли роста,
Что, гению его послушно, русский стих
Оправой яркою стал лучших чувств людских...
[172]
Стихи поэтов, сплетавших свой поэтический венок к подножию памятника, интересны и тем, что отражают отношение к пушкинскому творчеству, и тем, как описывают самые торжества. В стихах немало любопытных деталей на этот счет. А. Иваницкий, малоизвестный поэт, описывал раннее утро дня, когда в столице, при шуме и волнении толп народа собрались на чествование Пушкина
...вельможа и странник убогий,
И финн, и крестьянин в своем армяке,
И гость-чужеземец, пришлец издалека,
Писатель, поэт. Все с венками в руке
Сошлись на площадь...
[173]
На площади состоялось торжественное открытие памятника в первые июньские дни 1880 года. Праздник сопровождался торжественными заседаниями, на которых выступили многие видные писатели, общественные деятели.
Чтобы понять причины бурного воодушевления и общественного подъема при открытии памятника и в три дня торжеств, нужно вспомнить, в каких общественно-политических условиях чествовали поэта.
К концу 70-х годов социальная обстановка обострилась. Предпринимала активные действия организация «Народная воля», возникшая в 1879 году в Петербурге и распространившая свое влияние более чем на 50 городов России. Помимо революционной агитации во всех группах и слоях населения члены организации приняли тактику индивидуального террора, совершив 8 покушений на царя Александра II. В феврале 1880 года один из первых рабочих-революционеров Степан Халтурин подготовил взрыв в Зимнем дворце. На это царское правительство отвечало усилением репрессий. Вместе с тем поддерживались надежды среди либералов на расширение демократических свобод. По определению народовольцев, самодержавие придерживалось политики «волчьей пасти и лисьего хвоста». После взрыва в Зимнем дворце правительство предприняло некоторые шаги к ослаблению цензурного гнета, что было воспринято приверженцами реформ и противниками революционных методов борьбы как уступка самодержавия, преддверие новых акций к сглаживанию социально-политических противоречий.
Отзвук надежд на желательный либералам постепенный прогресс без революционных обострений прозвучал лейтмотивом на пушкинском празднике 1880 года, «Чествование памяти Пушкина в значительной степени приобрело характер либеральный. Призыв к примирению и объединению на общее благо культурных и политических сил до известной степени объединил деятелей, столь различных по своим взглядам, как Тургенев, Ив. Аксаков, Достоевский и Катков»
[174].
Об атмосфере, в которой проходило первое чествование великого поэта, хорошо написал в своих воспоминаниях А. Ф. Кони, видный юрист, общественный деятель, человек прогрессивных убеждений. (В 1878 году суд под председательством А. Ф. Кони вынес оправдательный приговор по делу В. Засулич.)
Называя открытие памятника событием незабвенным в русской жизни последних лет девятнадцатого столетия, Кони подчеркивает, что воспоминания о чествовании поэта окрашиваются в особо светлые тона. Оттого, что после ряда удушливых в нравственном и политическом смысле лет, с начала 1880 года «стало легче дышать, и общественная мысль и чувство начали принимать хотя и не вполне определенные, но во всяком случае более свободные формы. В затхлой атмосфере застоя, где все начало покрываться ржавчиной отсталости, вдруг пронеслись свежие струи чистого воздуха — и все постепенно стало оживать. Блестящим примером такого оживления был и Пушкинский праздник в Москве»
[175]. Кони вспоминает также, что участники грандиозного праздника не только особенно горячо, по его словам, «любили Пушкина». Многие простаивали подолгу перед его памятником, как бы не в силах на него наглядеться. Это бронзовое воплощение «властителя дум» явилось источником общего захватывающего воодушевления. В мыслях о судьбе и творчестве безвременно погибшего поэта сливались в те дни скорбь и восторг, гнев и гордость за гения русского народа.
Участники торжеств объединились в восхвалении Пушкина, в изъявлении ему любви и преклонения. При этом, однако, каждый трактовал лиру поэта и его облик в духе, близком тем партиям, к которым принадлежал оратор. Хотя общий примирительный характер праздника сказался и в том, что Пушкина объявляли вообще стоящим вне «партий», то есть вне каких-либо идейных позиций. На это уповал, к примеру, В. И. Межов, составитель библиографического указателя всех публикаций, связанных с пушкинскими торжествами в Москве 1880 года. По его мнению, поэт «принадлежит к числу тех немногих счастливых смертных, которые стоят вне партий. Одно имя его соединило людей разнородных убеждений и состояний. Представители наших литературных партий съехались в Москву с благою целью примирения...»
[176]. Правда, как замечает сам автор указателя, в полной мере цели этой не удалось достигнуть.
Наиболее яркими и полемичными оказались выступления по вопросу «Пушкин и современность». Различные толкования этой проблемы осветили в своих речах (получивших огромный общественный резонанс) писатели И. С. Тургенев и Ф. М. Достоевский.
Тургенев, выступивший в духе прогрессивного крыла либералов, среди многих аспектов значения поэта для современности конца прошлого века, обратился к истокам возрождения интереса к его имени и творчеству после спада внимания в 40—60-е годы. Он объяснил недавнее снижение престижа пушкинского творчества особенностями общественного развития. В пору усиления борьбы за освобождение крестьян от крепостного права считалось позволительным приносить в жертву то, что не имело к главному делу непосредственного отношения. Следовало «сжимать всю жизнь в одно русло». Потому имя Пушкина на время было предано забвенью. Возрождение интереса к поэту Тургенев рассматривал как признак подъема общественного сознания, как свидетельство тому, что прежние коренные задачи политического и социального характера уже решены и поэзия, главным представителем которой является Пушкин, опять займет свое законное место. В новой волне обращения к Пушкину как предтече и учителю Тургенев усматривал залог грядущих литературных и общественных успехов.
В ином ключе мысль о современном значении Пушкина раскрыл Ф. М. Достоевский.
Речь эта непростая. До сих пор ее часто цитируют, подчеркивая, что никто, пожалуй, кроме Достоевского, так глубоко и проницательно не определил особенности пушкинского творчества, суть его гения... Но, отдавая должное писателю, благоговевшему перед поэтом
[177], нужно различать те высокие оценки и глубокие суждения, которые даны Пушкину, и общий смысл речи Достоевского, ее объективное звучание в контексте сложной эпохи 80-х годов XIX века.
Припомнив гоголевское определение Пушкина как явления чрезвычайного, как единственного явления русского духа, Достоевский добавил, что поэт в высшей мере воплотил в себе гений пророчества. Он явился провозвестником назначения в будущем русских как нации, удивительно полно проявив «всемирную», «всечеловеческую» отзывчивость, способность к совершенному перевоплощению и к глубокому проникновению в своеобразие культур других национальностей.
Величайшее достижение поэта Достоевский видел в открытии им «типа несчастного скитальца в родной земле». Такими были, на его взгляд, Алеко, Евгений Онегин. Тип «несчастного скитальца», отраженный в герое «Цыган» и явившийся в «осязаемо-реальном и понятном виде» в Онегине,— характер совершенно русский. Таким натурам свойственно искать «мировые идеалы» и «всемирное счастье». Такие характеры наблюдал Достоевский и вокруг себя. Но если во времена Пушкина они уходили в цыганский табор, то в последней четверти века «ударяются в социализм, которого еще не было при Алеко, ходят с новою верой на другую ниву и работают на ней ревностно, веруя, как и Алеко, что достигнут в своем фантастическом делании целей своих и счастья не только для себя самого, но и всемирного»
[178]. Писатель, автор «Бедных людей», «Униженных и оскорбленных», сопереживал трагизму героя-индивидуалиста, ненавидевшего бесчеловечие общества, но принужденного жить по его законам. Как разрешить этот конфликт? Достоевский давал ответ, обращаясь к урокам Пушкина, но истолковывал творчество поэта в духе своих убеждений. Выходило, по словам Достоевского, что еще в «Цыганах» Пушкин подсказал разрешение «проклятого вопроса». Вот как в речи своей писатель сформулировал якобы предписанное поэтом решение: «Смирись, гордый человек, и прежде всего сломи свою гордость. Смирись, праздный человек, и прежде всего потрудись на родной ниве... Не вне тебя правда, а в тебе самом; найди себя в себе, подчини себя себе, овладей собой, и узришь правду... Не у цыган и нигде мировая гармония, если ты первый сам ее недостоин, злобен и горд».
В консервативном духе своих собственных идей, не имевших ничего общего с истинным кредо пушкинского творчества, Достоевский проповедовал отказ от протеста, смирение и терпение, апофеоз которого восхвалял в примере Татьяны.
По отзыву Г. И. Успенского, слышавшего речь Достоевского, писатель ко всеевропейскому, всечеловеческому смыслу русского скитальчества и других свойств национального характера ухитрился присовокупить великое множество соображений уже не всечеловеческого, а «всезаячьего свойства». Это привело автора речи о Пушкине к проповеди «тупого, подневольного, грубого жертвоприношения»
[179].
И все же не только этот «охранительный» смысл выступления великого писателя запечатлелся в общественной памяти. Неизгладимо врезалось в сознание всех, кто присутствовал на празднике, что именно Достоевский страстной, проникновенной своей речью сумел словно «привести Пушкина в... зал и устами его объяснить обществу... кое-что в теперешнем его (Пушкина.—
Е. В.) положении, в теперешней заботе, в теперешней тоске»
[180].
Достоевскому в знак всеобщего восхищения его словом о поэте был торжественно вручен большой лавровый венок. Писатель отвез его к подножию недавно открытого памятника. Это была дань глубочайшего преклонения Достоевского перед Пушкиным, которого почитал он как величайшего своего учителя, кому «воздвиг своей речью еще один «нерукотворный» памятник на страницах истории русской культуры,— дань восторга и благодарности тому, кто въявь осуществил его (Достоевского.—
Е. В.) мечты о способности красоты спасти мир, о великой объединяющей силе пушкинской гармонии»
[181].
На чествовании поэта в те дни было произнесено еще одно знаменательное слово о поэте. С ним выступил 7 июня 1880 года А. Н. Островский. Он отметил, что сокровища, дарованные Пушкиным, еще не в полной мере оценены. Между тем «первая заслуга великого поэта в том, что через него умнеет все, что может поумнеть»
[182]. Кроме наслаждения и форм для выражения мыслей и чувств поэт обогатил своих читателей многих поколений тем, что открыл перед ними совершеннейшую умственную лабораторию. Он сделал ее всеобщим достоянием, показал пример высшего творческого проявления, который «влечет и подравнивает к себе всех».
В Пушкине, по определению А. Островского,— русская литература выросла на целое столетие. Он завещал последователям своим искренность, самобытность, он завещал каждому писателю быть самим собой, он дал всякой оригинальности смелость, дал смелость русскому писателю быть русским. Оттого «Пушкиным восхищались и умнели, восхищаются и умнеют»
[183].
Много других проницательных и возвышенных речей было произнесено в дни первого Пушкинского праздника. Правда, несмотря на стремление к внешнему примирению различных по социальным воззрениям общественных лагерей и сил, вокруг понимания роли и смысла пушкинского наследия развернулась острая полемика, что отразилось и в отчетах о тех днях. В царившей тогда политической обстановке «всеобъединяющее значение пушкинской гармонии и всечеловечности и могло быть только. ,,возвышающим обманом“»
[184]. Но в самом этом стремлении к объединению с помощью Пушкина «было провозвестие будущего»
[185].
Общественный подъем, вызванный торжествами, обеспокоил власти. В III отделении было заведено специальное дело № 630 «О праздновании открытия памятника Пушкина в Москве». В нем содержались отчеты агента, записи произнесенных ораторами речей. В донесениях отмечалось, что в Пушкине приветствовали не только и не столько художника, сколько, по определению поэта А. Н. Майкова,
...предтечу
Тех чудес, что, может быть,
Нам в расцвете нашем полном
Суждено еще явить.
В записях агента подчеркивалось, что многие собравшиеся на торжество чествовали Пушкина как «друга свободы» и как «политического мессию русского народа»
[186].
Нельзя не заметить, заключалось в донесении, что все сказанное о пробуждении в обществе самосознания, о личной и политической свободе, об общественном равенстве, о братстве национальном и всемирном, о нераздельности стремлений к достижению личного счастья с стремлением установить социальное счастье для всех народов и всех племен,— все это встречалось живейшим сочувствием и возбуждало всеобщий восторг. Потому агентом предлагались меры, противодействующие популяризации речей, произнесенных на празднике.
Общим подъемом интереса к поэту не исчерпывается значение торжеств 1880 года. Именно тогда было положено начало традиции широкого празднования юбилейных дат Пушкина. Тогда же впервые была открыта Пушкинская выставка. Обществом любителей российской словесности в здании Благородного Собрания (ныне Колонный зал Дома Союзов) была собрана выставка портретов поэта, его бюстов, некоторых вещей, издания его сочинений, их переводов, иллюстраций к произведениям Пушкина. Позже был выпущен специальный «Альбом Пушкинской выставки»
[187].
Примечательностью выставки были представленные на ней автографы поэта, его рукописи, рисунки. Значение этого события, давшего публике возможность ознакомиться с черновиками, особо отмечалось Я. К. Гротом. В противовес распространенным тогда вымыслам о Пушкине — баловне Муз, чуждом упорного труда, рукописи послужили «красноречивыми документами его необыкновенного трудолюбия... И это упорство в работе тем изумительнее,— замечал Грот,— что нам известно, какою пылкою и страстною душою он был одарен, как охотно он предавался развлечениям общества и наслаждениям природою»
[188].
На рубеже веков.
Юбилей 1899 года.
При всем несомненном значении, какое сыграло для русской культуры открытие памятника поэту в Москве, не это событие связывали с «новой эрой пушкинской славы»
[189]. По представлениям революционно-народнических и демократических кругов, более важное событие произошло через семь лет после первого чествования Пушкина. В 1887 году закончилось право собственности на произведения поэта его наследников. Тогда стали появляться в большом количестве издания его произведений по относительно дешевой цене. В 1887 же году вышло полное собрание сочинений, составленное А. М. Скабичевским, в одном томе стоимостью 1 рубль 50 копеек. Вышло и десятитомное собрание, тоже ценой в один рубль пятьдесят копеек, и многочисленные издания отдельных произведений по 50, 30, 20, и даже маленькие брошюрки по 3 копейки.
Пушкин нашел себе нового, более простого и чуткого читателя в лице широких слоев общества, в народе. Свое мнение о поэте новый читатель высказал, по словам революционно настроенного писателя и критика П. Ф. Якубовича, раскупив несколько миллионов экземпляров его сочинений. На всем пространстве грамотной России имя Пушкина становится постепенно известным не в силу одной только школьной обязанности знать это имя
[190].
Что знали в конце прошлого века о поэте читатели его из простонародья? Каким представляли себе поэта крестьяне? Об этом рассказали тысячи писем, обнаруженных пушкинистом Б. С. Мейлахом в архиве газеты «Сельский вестник»
[191].
«Сельский вестник» — одна из первых и долговременных правительственных газет для народа, в основном для крестьян. Она издавалась под руководством Министерства внутренних дел с 1 сентября 1881 года в виде прибавления к «Правительственному вестнику». Волостным управлениям газету рассылали бесплатно. Распространялась газета и по подписке, причем по очень дешевой цене
[192].
В этой официозной, промонархической газете незадолго до того, как отмечался 100-летний юбилей со дня рождения Пушкина, появилось обращение к читателям с просьбой написать в газету, насколько широко известно имя Пушкина крестьянам, какие сочинения более всего читаются в народе и как попадают в деревни, что простой народ думает о поэте и что знает о его жизни. В ответ редакция получила более тысячи писем из разных губерний, со всех концов России.
В газете было опубликовано лишь 101 письмо. Отбирались они по признаку соответствия духу юбилея 1899 года. Празднование 100-летия со дня рождения Пушкина носило откровенно официозный характер. Подготовка к этим дням проходила под присмотром и по указанию властей. Правящие круги и деятели православной церкви делали все, чтобы утвердить в сознании читателей, в разных слоях населения образ Пушкина-монархиста, поэта-христианина.
Крестьянские письма, присланные в «Сельский вестник», напечатанные и не прошедшие цензурные барьеры, отражают сложную и противоречивую картину бытования представлений о поэте в социальной памяти конца прошлого века. С одной стороны,— распространение трактовок личности и творчества в духе реакционно-монархических идей, с другой,— утверждение образа Пушкина, своей жизнью и творчеством показавшего образец честности, вольнолюбия, преданности идеалам освобождения народа. Исследователь-пушкинист явно обнаружил наличие этих двух противоборствующих тенденций в крестьянских письмах. Причем ярая христианско-монархическая трактовка образа Пушкина была представлена значительно меньшим числом читателей.
Какие же произведения более всего читались простыми людьми и какие вызывали предпочтение? Одним из самых интересных явился ответ на этот вопрос в анонимном письме, присланном из деревни Федурино Муромского уезда. Его автор, постигший лишь начала грамоты, рассуждает о Пушкине на 24 страницах письма. «Простому народу,— в его понимании,— нравятся из сочинений поэта... те, которыми он защищал и сожалел о угнетенном народе и где обличал варварское тогдашнее дворянство, как оно угнетало простой народ. По сему-то и за это-то его простой народ и уважает, что он был правдив: по дару его остроумия и находчивости. Косвенным и посторонним примером он иногда обличал и высших властей»
[193].
В другом письме отмечается, что любят крестьяне Пушкина за то, что «восславил свободу, как говорит он в памятнике нерукотворном. И негодовал на крепостное право, как видно из его стихов. А я,— писал Трофим Вилков из села Ивановского-Шуйского Яневской волости,— крестьянин, значит, моим детям он желал свободы, над которой тяготело ярмо, которое люди несли века. И я всегда в жизни, встретя какую-либо неудачу в предприятиях или несчастие какое, то всегда беру пример Александра Сергеевича и помню слова его, как он оставлял Петербург 26 лет, не был печален и говорил: «Я променял порочный двор царей на мирный шум дубрав, на тишину полей». Хотя я против его как песчина в море, но все-таки я осмеливаюсь, за то пусть простит мне его тень, но мое сердце дышит к нему любовью».
Из писем следует, что в деревнях были известны не только опубликованные пушкинские произведения, но и некоторые из потаенных, вольнолюбивых, не пропущенных цензурой. Они, правда, передавались в устной традиции, пересказывались, заучивались.
О таких произведениях крестьянин А. Корабельников писал: «Как видно из жизни Пушкина, что он любил говорить правду и обличать за неправду, не стесняясь самого царя и не жалея своего личного интереса. И еще видно из жизни его, что он как будто сожалел о бедном русском труженичке мужичке, часто он взглядывал на его тяжкие работы и с жалостью смотрел в запотевшее лицо бедняка труженичка и как будто хотел помочь в чем-то бедному мужичку... Но об этом не хотят писать и как будто хотят скрыть важные труды и жгучие слова Пушкина, которые слышны только малость от преданья».
Размышляя над тем, как доходили до полуграмотных крестьян сведения и представления о поэте как о друге свободы, обличителе царей, исследователь полагает, что лишь благодаря устной традиции, подкрепленной пропагандистами-народниками, революционерами, а также теми крестьянами, которые бывали на заработках в городе и общались с фабричными рабочими. В официальных учебных изданиях, в других, допущенных для народного чтения, как и в адаптированных сборниках произведений поэта, произведения вольнолюбивого характера, обличительного и возмущающего умы, конечно же, отсутствовали.
То, однако, что даже в гущу малограмотного крестьянства проникали представления о Пушкине как о «правдивом и гонимом за правду писателе-стихотворце», свидетельствует о распространении и утверждении неискаженных толкований его облика. Наряду с этим, правда, во многих письмах крестьяне пишут, что вовсе не знают, за что Пушкина следует почитать, некоторые ругают такие его произведения, как «Капитанская дочка»...
В отличие от «благонамеренных» отзывов о поэте, попавших на страницы газеты, во многих неопубликованных Пушкин предстает окрашенным в лирические тона искреннего, сердечного влечения. Вспоминаются крестьянами и произведения искусства, памятник поэту, его портреты. Т. Вилков вспомнил в своем письме и монументы, и стихи, посвященные поэту: «Я теперь пишу, а мысли на Тверском в Москве и в Пушкинской в Петербурге перед монументами, у которых я бывал несколько раз. В Москве стоит он грустно задумчив, видно, его голову тяготили мысли, а какие? Не знаю, может быть, он думает об своих врагах, которых у него было много. И невольно срываются с языка слова Кольцова: «о чем дремучий лес призадумался» и проч
[194]. А в Петербурге как взглянешь на год и день его смерти, так слова и приходят сами Лермонтова «погиб поэт, невольник чести», и слез не нужен теперь хор. Заплакал бы, да некогда, пройдешь мимо его мельком в свободное время, а свободного времени у рабочего, сами знаете, 1 час в неделе, и то нужно весь город выглядеть».
Как видим из этого письма, а также и ряда других свидетельств, произведения искусства оказывали немалое влияние на ориентацию восприятия личности и творчества Пушкина. Более того, произведения искусства отражали направленность интереса читателей к тем или иным моментам биографии поэта. В последней четверти прошлого века
наблюдается отчетливое тяготение к выяснению тех «белых пятен» истории жизни Пушкина, которые не получали по разным причинам освещения в популярной, учебной литературе. Одной из таких тем была история дуэли.
С начала 80-х годов прошлого века сюжет дуэли, события, ей предшествовавших и последовавших за ней, становились предметом интереса живописцев.
Одним из первых к этой теме обратился академик живописи A. Волков. Он написал маслом полотно «Дуэль Пушкина» со слов Данзаса, секунданта поэта, который даже возил художника на самое место поединка. В начале 70-х годов с картины были сняты копии и гравированы на дереве.
Вслед за К. П. Чичаговым, воссоздавшим в акварели «Дуэль Пушкина» в 1880 году, к этому же сюжету обратились B. А. Федоров (его рисунок исполнен, как и другие, по описаниям Данзаса и Аммосова), а также А. А. Наумов. На картине Наумова Данзас и д’Аршиак (секундант Дантеса) подняли раненого Пушкина и ведут к саням. Справа удаляется спиной от зрителя Дантес. На переднем плане разбросаны по снегу пистолет, пистолетный ящик, на снегу — следы крови. При том, что мнения о художественных достоинствах картины не были едиными, все отмечали несомненное значение ее как утверждения исторического факта, как популяризации истории жизни Пушкина.
Серия изображений дуэльных событий была завершена в 1885 году П. Ф. Борелем, нарисовавшим акварель «Прибытие раненого Пушкина после дуэли». И это произведение запечатлело событие так, как было описано в воспоминаниях, получивших известность в то время. У Бореля облик Пушкина не психологизирован, сама фигура нечетко обозначена, размыта. Весь цикл изобразительной пушкинианы этого периода носил более информационный, нежели собственно художественный характер.
Интерес к другим моментам жизни поэта вылился в создание Н. Н. Ге картины «Пушкин в селе Михайловском», впервые выставленной в 1875 году на передвижной выставке в Петербурге. Картина, с детальной точностью представляющая интерьер кабинета Пушкина в ссылке, получила большую известность, воспроизводилась много раз и фотографически, в хромолитографиях, ксилографиях и т. д.
Обращались к пушкинской тематике И. Репин в содружестве с И. К. Айвазовским, И. Н. Крамской... Однако их создания не вносили существенной лепты в отображение и в разработку образа поэта. Картины на отдельные сюжеты биографии Пушкина знакомили зрителя с эпизодами жизни поэта, но мало прибавляли к пониманию его характера. Удачной, по отзывам того времени, признавалась лишь фигура поэта на картине Репина и Айвазовского «Пушкин на берегу Черного моря» (1887 года). «Задавшись целью воссоздать Пушкина полным увлечения и надежды юношей, г. Репин, нужно ему отдать справедливость, блистательно исполнил эту нелегкую задачу,— отмечали «Новости» (1887, № 263).— Он (Репин.—
Е. В.) дает нам Пушкина не с теми чертами лица, которые запечатлелись в памяти каждого из нас по циркулирующим в публике портретам, а таким, каким действительно можно и должно представить себе Пушкина юношей». В еще более восторженных тонах оценил созданный Репиным портрет поэта критик «Всемирной иллюстрации»: «...Пушкин Репина — чудо живописи. Видно, что с любовью и, может быть, благоговением писал Репин фигуру поэта... Светлые глаза Пушкина обращены к морю, и художник сумел показать нам в них огонь мысли в тот момент, когда в мозгу поэта отпечатлевается образ моря и он стоит перед волнующеюся стихией, охваченный сладостной тоской, стоит «звучных дум полн», как выразился о нем другой современный нам поэт»
[195].
В год столетнего юбилея появилось немало новых изобразительных интерпретаций образа поэта. Большинство из них копировали и составляли вариации на темы портрета О. Кипренского и гравюрного варианта портрета работы Н. Уткина. Весьма удачным признан офорт В. В. Матэ. Сравнивая новую интерпретацию пушкинского облика с гравюрой Уткина, между которыми разрыв в семьдесят два года, Е. В. Павлова отмечает знаменательные различия в манере художников, в технике, а также в отношении к поэту. У Матэ Пушкин выглядит его современником, дистанция времени не ощущается, не подчеркивается, хотя «...приблизив Пушкина к своему времени, Матэ утерял что-то очень важное, быть может, самую суть портрета Кипренского»
[196], в котором акцентировалось возвышенное, поэтическое в облике поэта.
 К. А. СОМОВ. Пушкин за работой. 1899.
В. В. МАТЭ. Пушкин. 1899.
К. А. СОМОВ. Пушкин за работой. 1899.
В. В. МАТЭ. Пушкин. 1899.
К 1899 году относится создание первого богато иллюстрированного собрания сочинений поэта в трех томах. Оно открывалось акварелью В. А. Серова «Пушкин в парке». Этот портрет явился этапным, определив возможности нового подхода к пушкинской иконографии, к толкованию образа поэта и к воссозданию его в живописи. Поэт в осеннем парке сидит на скамье. Весь рисунок, однако, преисполнен движения. Прочитывая его, искусствовед Е. В. Павлова проницательно замечает, как неровны, стремительны, направлены под острыми углами друг к другу штрихи, мазки, удары кисти. Скамейка, на которой сидит поэт, стоит по диагонали к плоскости листа, Пушкин расположен по диагонали к скамейке, с наклоном влево, а стволы деревьев разделяют лист наклоном вправо. Таким образом, фигура поэта располагается в центре пересечения разнонаправленных линий, что усиливает динамический эффект. «Ничего застывшего, все в движении в этом рисунке: несущиеся облака, листья, клонящиеся ветви деревьев, развевающиеся волосы и галстук поэта, даже стремительно приподнятая голова и взгляд, обращенный в сторону. Художник воссоздал облик Пушкина с таким артистизмом и легкостью, как будто писал его с натуры»
[197]. Рисунок, согретый индивидуальным авторским отношением, передает целую гамму переживаний самого поэта, которому неуютно, одиноко в мире, а также в нетрадиционно решенном образе отчетливо выражается сопереживание, сочувствие Пушкину.
 В. СЕРОВ. Пушкин на скамье в парке. 1899.
В. СЕРОВ. Пушкин на скамье в парке. 1899.
Подготовка к юбилейным празднествам 1899 года вызвала энтузиазм стихотворцев, посвятивших поэту немало поэтических произведений. Однако популярность получили в основном те из них, в которых культивировалась официозная трактовка его облика и творчества. Превалировали утверждения, что поэт был верноподданным, защитником монархии, истым верующим. Таким поэта стремились представить прежде всего молодому поколению. В стихах «Пушкин для русских детей» второразрядный поэт П. Потехин, к примеру, писал:
Православной полон веры,
Он (Пушкин.— Е. В.) Царя чтил, как отца...
Далее в этом же посвящении утверждалось, что Пушкин
...верноподданным примерным
Являл себя всю жизнь свою,
Слугой Царя, прямым и верным,
Горя любовию к Царю...
[198]
А вот как передавались подробности биографического характера. Когда
...утонули
Его (Пушкина — Е. В.) друзья в житейском бурном море,
Он уцелел... И Царская рука
Ему пожала руку крупно, честно.
Была минута эта высока...
Согласно официально признанной легенде, поэт не только жил благодаря заботам о нем государя-императора, но и творил лишь благодаря божественному благоволению, тому вдохновению, что даровалось за непротивление и набожность. В стихотворении Трефолева, так и озаглавленном «Пушкин в духовно-нравственном отношении», утверждалось:
...влекомый вдохновеньем,
Молитвы он перелагал,
И сам усердно, с умиленьем
Он Слово Божие читал...
[199]
Большую активность в пору празднования 100-летия со дня рождения поэта проявляли представители символистско-декадентских кругов, ревнители «искусства для искусства». Поэты этого направления усердно возглашали, что Пушкин и только он их предтеча. «Певец блаженства и молитв», как обращались они к поэту, ценен более всего тем, что был «искусства чистого служитель» (С. Исполатов), что был и остается «носитель чистой красоты» (П. Искра).
Ты пел, непонятый толпою,
Ты дерзкий ропот презирал
Поэта чуткою душою
Нам идеалы создавал.
...Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,—
Ты был рожден для вдохновенья,
Для звуков чистых и молитв...
Майский номер журнала «Мир искусства» за 1899 год был целиком посвящен Пушкину. В нем выступили символисты с доказательствами своих прав на монопольное обладание пушкинским наследием. Они утверждали, что «Праздник... пушкинской поэзии со всей искренностью и радостью будет отпразднован лишь в одном из литературных переулков, именно в том, где обитают поклонники символизма и эстетики»
[200]. Именно они, символисты, могут считаться единственными наследниками Пушкина, который, по словам Н. Минского, провозглашал «красоту», постигаемую иррациональным путем, равнодушную к злу и добру.
От каких посягательств защищали пушкинскую музу символисты? Прежде всего их пугала «нахлынувшая волна демократического варварства», то есть распространение грамотности в массах крестьянства и рабочих. Д. Мережковский, уверявший, что Пушкин явился духовным предтечей декаданса конца XIX века, пропагандировал образ Пушкина-аристократа, который провозгласил: «Не для житейского волненья...» «Но жаль,— добавляет Мережковский,— что эти слова не слышит чернь. Ее звериные уши не созданы для откровенности гениев. Не должно об этом говорить на площадях; надо уйти в святое место. И поэт ушел»
[201].
При том, что и в конце прошлого века прослеживаются две основные линии толкования личности и творчества поэта,— прогрессивно-демократическая и реакционная,— конкретные модификации образа Пушкина дробятся и множатся более, чем в другие периоды его жизни в сознании общества. Это отметил в ярком своем выступлении С. А. Андреевский на торжествах в честь пушкинского юбилея. «Не только в области критики, но и в общественных группах,— сказал он,— настоящее место Пушкина еще не определено. Славянофилы и патриоты называют его своим, ссылаясь на «Клеветникам России» и «Бородино»; западники же приводят слова: «черт догадал меня родиться в России!» ... Либералы благоговеют перед «Одою свободе», «Кинжалом», «Сеятелем»; консерваторы указывают на то, что Пушкин был аристократом и в конце жизни приблизился ко двору.
Утилитаристы и педагоги привязываются к его стихам: «чувства добрые я лирой пробуждал», между тем как исповедующие «искусство для искусства» декламируют обращение Пушкина к толпе:
Подите прочь — какое дело
Поэту мирному до вас!»
[202]
Тенденции к дроблению образа поэта на множественность его ипостасей и обличий, различных по идеологической и мировоззренческой направленности трактовок облика и творчества Пушкина усилились в первые годы нового века.
В поисках «живого» лица поэта
(Первые десятилетия XX века)
В истории жизни образа Пушкина были этапы переломные, как в 30-е годы XIX века, во вторую половину 50-х, в начале 80-х годов, когда заметно менялись отношения к личности и творчеству Пушкина. Были иные периоды, когда новые оценки, прочтения его творчества только вызревали. Такими были первые годы нового века.
Отмеченный в самый канун XX столетия пушкинский юбилей явил собой апофеоз канонизации приглаженного, дистиллированного образа поэта. Официально поддерживались и популяризировались воззрения в духе В. В. Сиповского. В изданной им в 1907 году шестисотстраничной биографии Пушкин изображался верным другом монархии. Юношеское его свободомыслие до первой ссылки определялось как «угар площадного либерализма», преодоленного после 1825 года. Противостоявшая подобным представлениям лермонтовская концепция пушкинского образа не получала серьезного обоснования.
Много белых пятен оставалось в политической биографии Пушкина, в понимании его воззрений на природу человека, на историю, взаимоотношения с властями, на роль поэта в обществе и предназначение искусства. При том, что написано, издано о Пушкине было много, объяснить особенности его натуры, разобраться в истоках противоречивых суждений о нем, объяснить некоторые его поступки и творческие побуждения не удалось в XIX веке, когда еще оставались в живых пушкинские современники. Оказалось даже, что предложенные трактовки его облика, как и воспоминания о нем в некоторых случаях затрудняли возможность представить Пушкина «...как человека, как знакомого, с которым встречаешься, здороваешься, разговариваешь». Продолжая эту мысль, В. Я. Брюсов замечал, что жизнь поэта столько раз была предметом мертво-ученых изысканий, и многие так вчитались в эти труды, что Пушкин превратился в «какое-то отвлеченное, нарицательное слово, имя, объединяющее разные прославленные произведения, а не живое лицо. Между Пушкиным и нами,— утверждал Брюсов,— поставлено слишком много увеличительных стекол — так много, что через них почти ничего не видно...» Дело было, конечно же, в том, что не фокусируя, а наоборот рассеивая подробности, распространенные интерпретации облика поэта заметно искажали его облик. Чтобы преодолеть искажения, нужно было прежде всего пересмотреть и проверить документальные основания, на которых строились концепции личности и творчества поэта. «При изучении Пушкина нас подавляет скудость фактов, что еще важнее, скудость фактических обобщений; ведь в сущности изучение Пушкина только теперь становится научным»,— отмечал П. Е. Щеголев в 1911 году
[203]. Необходимо было отсеять наслоения и ошибочные трактовки, по крупицам, по сколкам рассыпавшейся мозаики восстановить картину пушкинской жизни. Требовалось вникнуть в события, в характеры людей, в контексты взаимоотношений с теми, кто оставил о Пушкине свидетельства и воспоминания. Этим занялись в начале XX века ученые-пушкинисты С. А. Венгеров, П. Е. Щеголев, Б. Л. Модзалевский и многие другие. Они проверяли факты, обращали внимание на мельчайшие подробности жизни и творчества Пушкина, начали с 1903 года издание сборников «Пушкин и его современники», а под редакцией С. А. Венгерова создавалось собрание сочинений, которое мыслилось как грандиозная пушкинская энциклопедия.
Позже, в пору советского этапа пушкиноведения о начале века будут отзываться, как об эпохе «атомизации» пушкинской биографии и творчества, назовут это время периодом «крохоборства пушкинизма». Действительно, было немало поводов для наблюдений над тем, как единая, целостная личность распадается на «...Пушкина дружбы, Пушкина брака, Пушкина бунта, Пушкина трона, Пушкина света, Пушкина няни...»
[204] Пора обобщений была впереди. Тем не менее начало века явилось важным этапом в эволюции образа поэта. Именно тогда начались переориентации в сторону выработки научно обоснованных суждений об истории жизни поэта, проверялись своды былых официально признанных свидетельств, привлекли внимание исследователей такие принципиальные вехи биографии, как взаимоотношения Пушкина с Николаем I, его связи с декабристами, роль в деятельности тайных обществ.
В накаленной атмосфере предреволюционных лет воспетая Пушкиным «тайная свобода» воодушевляла, слово поэта звучало призывом к обновлению. В знаменитом посвящении Пушкинскому дому,— оно написано позже, в 1921 году, но выражает предреволюционные ощущения,— А. Блок метко выразил революционизирующее воздействие Пушкина:
...Пушкин! Тайную свободу
Пели мы вослед тебе!
Дай нам руку в непогоду,
Помоги в немой борьбе!
Не твоих ли звуков сладость
Вдохновляла в те года?
Не твоя ли, Пушкин, радость
Окрыляла нас тогда?..
Конечно, в те предреволюционные годы лишь вызревали новые подходы к оценке пушкинского наследия. Незыблемость официально признанного образа подтачивалась новыми изысканиями, марксистской литературной критикой. Были примеры поразительной эволюции индивидуальных отношений к поэту. Г. В. Плеханов прошел путь от народнического (в духе Писарева) отрицания Пушкина до восторженного принятия его и более того — формирования своеобразной концепции личности, судьбы, политических взглядов. На основе исторических исследований он доказывал ложность «умилительной легенды» о поправении поэта, о милостях Николая I, который якобы простил поэту «ошибки молодости». Не так это было,— утверждал Плеханов,— Николай и его правая рука, шеф жандармов А. X. Бенкендорф, ничего не «простили» Пушкину, а их «покровительство» выразилось для него в длинном ряде «нестерпимых унижений»
[205].
В статьях, в выступлении, посвященном 75-летию восстания декабристов (оно отмечалось в 1900 г.) Плеханов отмечал чрезвычайное значение тесных связей поэта с героями 14 декабря. Он рассматривал мировоззрение поэта в его развитии, оценивал взгляды на роль и предназначение поэзии в контексте исторической ситуации начала 30-х годов прошлого века. Было доказано, в частности, что в цикле стихов о поэзии Пушкин, обличая чернь, вовсе не подразумевал под нею народ, но имел в виду светскую толпу... При том, что в воззрениях Плеханова на Пушкина были и непоследовательности, и противоречия, в целом его борьба за верное истолкование поэта имела, несомненно, большое значение.
Важно было пропагандировать верное отношение к Пушкину в народе, в среде рабочих. Это хорошо понимал А. М. Горький. В выступлениях перед трудящимися, в лекциях по истории русской литературы, которые писатель читал на Капри в 1909 году, на основе глубокого анализа пушкинского творчества он доказывал абсурдность легенд о преклонении поэта перед самодержавием. В противовес официальным идеям, что Пушкин, дворянский поэт, чужд и безразличен массам, Горький в письмах к рабочим настаивал: «Читайте почаще Пушкина — это основоположник поэзии нашей и всем нам навсегда учитель. Тем, кто кричит, что Пушкин-де устарел — не верьте,— стареет форма, дух же поэзии Пушкина нетленен»
[206].
Последовательно боролась против фальсификаций образа поэта марксистская пресса. На страницах «Искры», «Новой жизни», «Правды», в марксистских дореволюционных журналах пропагандировалось творчество Пушкина, утверждалось громадное значение его реализма, противостоящего декадентским течениям. Тем самым готовилась почва для переосмысления личности и творчества Пушкина, которое произойдет после революции.
Глава третья
ПОСЛЕ ОКТЯБРЯ
Новая жизнь поэта
После Великой Октябрьской социалистической революции начался новый этап жизни Пушкина в сознании народа, его многомиллионных читателей.
На улицах революционного Петрограда еще шли бои. С окраин доносились звуки выстрелов. В первую же после взятия Зимнего дворца ночь, когда было столько важнейших, неотложных дел, В. И. Ленин заговорил с А. В. Луначарским, будущим народным комиссаром просвещения, о необходимости распространения книг и об издательствах. Не прошло и месяца после революции, как Наркомпрос принял, а вскоре ВЦИК утвердил постановление о Государственном издательстве. Предполагалось немедленно приступить к подготовке изданий — прежде всего классиков. «Вестник литературы» уже в 1919 году сообщил, что литературно-издательский отдел Народного Комиссариата Просвещения, выполняя указания В. И. Ленина, выпустил в свет 115 названий книг общим тиражом около 6 миллионов экземпляров. И это — в период гражданской войны, разрухи, в условиях «бумажного голода»! Если за 10 предреволюционных лет, с 1907 по 1916, в России произведения Пушкина вышли в количестве 5,1 миллиона экземпляров, то лишь за один 1919 год они вышли тиражом 750 тысяч экземпляров. А с 1917 по 1947 годы Пушкин издавался на 76 национальных языках народов СССР общим тиражом 35,5 миллионов экземпляров.
Началась великая перестройка — страны, сознания победившего пролетариата, отношения к ценностям культуры. Сколько поразительных фактов встречается в истории первых послереволюционных лет! Вот лишь один из них. Рядом с Болдиным находилось село Львовка. В нем жили предки Пушкина по отцовской линии, и был там крепостной писарь Петр Алексеевич Киреев. Внук его, Иван Васильевич, тоже писарь, стал известен своими записками о болдинской старине. Его рукой написан исторический документ — приговор Болдинского сельского общества, датированный 1918 годом: тогда собрался крестьянский сход и вынес постановление о сохранении усадьбы Пушкина.
В документе записано: «Мы имеем полное желание усадьбу, на ней дом с флигелем, и другими постройками, и фруктовым садом и при ней около 30 десятин полевой земли взять на учет своего сельского Совета, соблюсти, сохранить под своим надзором... и на месте сим же желательно увековечить память великого поэта А. С. Пушкина, а также равно день Великой нашей русской революции...»
[207]
Новый этап жизни Пушкина начался со знакомства с его произведениями. Правительственный декрет 1917 года не только постановил широко издавать классику, но и требовал покончить с произволом и анархией в редактировании книг. Было принято ввести коллективный принцип народного контроля за печатанием классиков без прежних цензурных и прочих искажений. Конечно, этого нельзя было достичь сразу, вдруг. Какое-то время после революции книги Пушкина издавались по дореволюционным изданиям, но вскоре была начата большая текстологическая работа по их проверке и устранению многочисленных искажений.
Необходимо было пересмотреть бытовавшие в реакционном литературоведении и в критике ложные представления о биографии поэта, разоблачить реакционные легенды, которые распространялись посредством учебных пособий, популярных книг...
В первые же послереволюционные годы начались бурные дискуссии о наследии классиков, в том числе Пушкина.
Отношение к Пушкину новой России выразил поэт Эдуард Багрицкий, воскликнув через несколько лет после октябрьских боев:
...Цветет весна, и Пушкин отомщенный
Все так же сладостно-вольнолюбив.
То было время сложных перестроек, поисков верных путей развития новой пролетарской культуры. Трудно было разобраться, какие ценности прошлого нужны победившему народу. Давали о себе знать настроения нигилистические. Они поддерживались и теми деятелями искусства, которые перешли на сторону революции. Не были забыты манифесты, требовавшие сбросить Пушкина вместе с другими классиками с парохода современности. Подписавший еще в 1913 году манифест футуристов с этим призывом Маяковский в «Радоваться рано» вновь доказывал верность этим настроениям: «А почему не атакован Пушкин? И прочие генералы классики?» Позже стало ясно, что Маяковский не столько выступал против Пушкина, сколько боролся с тем фальшивым образом поэта, который проповедовался консервативным литературоведением. Потому-то позже и восклицал поэт: «Бойтесь пушкинистов!»
Звучавшие до революции лозунги молодых футуристов получили свое продолжение и утрированное искажение в политике «Пролеткульта», утверждавшего, что пролетариату не нужно и даже вредно наследие классики. Эти выступления были осуждены В. И. Лениным. Характерно, что в 1920 году он писал Луначарскому о необходимости создания «словаря настоящего русского языка»... от Пушкина до Горького.
Деятели литературы и искусства, которые вели в те годы большую пропагандистскую работу, способствовали преодолению отрицательного отношения к классическому наследию.
Демьян Бедный еще в 1918 году в стихотворном предисловии к «Гаврилиаде» Пушкина вспоминает поэта, правда, не столько как конкретную личность, а скорее в качестве символа, означающего те стороны в культуре прошлого, которые помогут в духовном развитии народа
[208]. «Да, Пушкин — наш! Наш добрый, светлый гений!» — восклицает Д. Бедный. А в «Сказке о батраке Балде и о страшном суде» Бедный в образе главного героя пересказал пушкинскую историю по-новому:
Стоят у избы
Не былые рабы —
Запуганные,
Изруганные,
Заплеванные,
По рукам-по ногам скованные,
Придавленные колодками:
Нет, шумят мужики с молодками.
Бабы не лезут в карман за словами,
Видать, с мужиками поравнялись правами,
Говорят все свободно
Про что им угодно,
О том, как, прогнавши царя и господ,
Вздохнул полной грудью народ,—
Как живется теперь мужикам, дескать, вольно,—
Того у них нет, а этого — довольно,—
Коль с хозяйством прочно наладится дело,—
Год-другой перебьется деревня смело,
А потом заживет уже всласть,
Только б, дескать, окрепла Советская власть.
Выше упоминались стихи Э. Багрицкого. Он стал активным пропагандистом Пушкина, читал произведения великого поэта в клубах, в агитпоездах. На встречах с пионерами Багрицкий рассказывал им о Пушкине. И в его стихах «Пушкин» размышления о любимом поэте неразрывно связаны с бытом революционной страны, с битвами, стройками.
...Взгляните:
от песчаных берегов
К ним тень идет, крылаткой полыхая,
Приветствовать приход большевиков!
Она идет
с подъятой головою
Туда, где свист шрапнелей
И гранат,—
Одна рука на сердце,
а другою
Она стихов отмеривает лад...
Так завершается первая часть стихотворения, в котором провозглашается близость Пушкина к новой жизни, его необходимость, его включенность в строительство культуры. Вторая часть — о гибели Пушкина, о возмездии за бесчеловечное убийство. Ведь хотя сто лет и пролетело со дня гибели, но, по признанию Багрицкого,
...в поэтических живет сердцах
Шипение разгоряченной пули,
Запутавшейся в жилах и костях...
Преисполненный горя, сочувствия и благородного гнева, автор стихотворения называет истинного убийцу Пушкина:
...Наемника безжалостную руку
Наводит на поэта Николай!
Он — здесь, жандарм!
Он из-за хвои леса
Следит —
Упорно ль взведены курки?
Глядят на узкий пистолет Дантеса
Его остекленелые зрачки...
Завершая характеристику истинного убийцы, представитель молодой Республики Советов яростно, романтически приподнято говорит о революции как о грандиозном мщении за все преступления царизма, о возрождении Пушкина для новой жизни.
...И мне ли,
выученному, как надо
Писать стихи и из винтовки бить,
Певца убийцам не найти награду,
За кровь пролитую не отомстить?
Я мстил за Пушкина под Перекопом,
Я Пушкина через Урал пронес,
Я с Пушкиным шатался по окопам,
Покрытый вшами,
голоден и бос!
И сердце колотилось безотчетно,
И вольный пламень в сердце закипал,
И в свисте пуль,
за песней пулеметной —
Я вдохновенно Пушкина читал...
Идут года дорогой неуклонной,
Клокочет в сердце песенный порыв...
Цветет весна,
и Пушкин отомщенный
Все так же сладостно-вольнолюбив!
Эти стихи Э. Багрицкого, как и многие другие, прозвучавшие в дни празднования 125-летия со дня рождения Пушкина, показывают, что и нигилистические отрицания классики были довольно быстро преодолены.
Среди поэтов, которые на митинге у памятника поэту 6 июня 1924 года читали на Тверском бульваре в Москве свои стихи, был и С. Есенин.
В это время было написано одно из самых проникновенных признаний Пушкину — «Юбилейное» Владимира Маяковского. В творческой истории создания этого стихотворения есть любопытная деталь. Один из современников поэта революции однажды на рассвете наблюдал, как Маяковский долго и пристально смотрел в лицо чугунному Пушкину, словно стараясь пытливо понять эти глаза... Он простоял почти полчаса и потом пошел домой
[209]. Не в те ли мгновенья рождался, зрел замысел удивительного разговора с Пушкиным? Да, в этом обращении к Пушкину Маяковский совсем иной, нежели в юношеских своих эпатажах о том, кого следует брать с собой на «пароход современности». Он, как верно замечено, «несколько бравирует, скрывая за этой бравадой смущение», но главное — протянул руку, признался, что, может, он один действительно жалеет, что Пушкина нет в живых: «Я люблю Вас, но живого, а не мумию!» Живой осталась пушкинская поэзия, несмотря на все происки пушкинистов старой школы, от которых Маяковский хочет уберечь поэта. Они, подобно старомозгим Плюшкиным, «навели хрестоматийный глянец», который ненавистен поэту.
В стихотворении «Юбилейное» нашла поэтическое воплощение эпоха с ее ломкой старых устоев, с еще не преодоленными трудностями, с тонко отмеченными перекосами в культурной жизни. В нем — точная картина «битв революции».
Нами лирика
в штыки
неоднократно атакована,
ищем речи
точной
и нагой.
Но поэзия —
пресволочиейшая штуковина:
существует —
и ни в зуб ногой.
Она, поэзия, существует и корнями своими связана с традицией, прежде всего с классической. Перекличкой с пушкинской «Вакхической песней» с ее призывом:
Ты, солнце святое, гори!
Как эта лампада бледнеет
Пред ясным восходом зари,
Так ложная мудрость мерцает и тлеет
Пред солнцем бессмертным ума.
Да здравствует солнце, да скроется тьма! —
прозвучали заключительные строки стихотворения Маяковского «Необыкновенное приключение...»:
Светить всегда,
светить везде,
до дней последних донца,
светить —
и никаких гвоздей!
Вот лозунг мой —
и солнца!
В предпринятом выше изложении событий культурной жизни первых послереволюционных десятилетий отношение к Пушкину и самый путь постижения личности и творчества поэта предстают искусственно выпрямленными. Это объясняется стремлением обратить основное внимание на вехи, показательные для перемен в восприятии поэта. В реальности же все было более сложно и неоднозначно.
Даже по цитированным здесь стихам и оценкам нетрудно заметить, что образ Пушкина предстает несколько упрощенным, схематизированным. Он выступает скорее как символ прежней, классической культуры, нежели как живое лицо. Редко и неточно воссоздается контекст пушкинской эпохи. Детали, которые просачиваются в обращения к поэту, упрощены и малоинформативны. Слишком обобщенными предстают обвинения самодержавия и Николая I в убийстве Пушкина. О том, что руку Дантеса наводил Николай, писал не один Багрицкий. Факт казался признанным:
Так пушкинский разум был светел,
как будто в России светало,
но деспот рассвет тот заметил —
и Пушкина больше не стало,—
писал Николай Асеев.
Новый тип классового отношения к врагам поэта точно и с легкой иронией передал в «Юбилейном» Маяковский:
Сукин сын Дантес!
Великосветский шкода.
Мы б его спросили:
— А ваши кто родители?
Чем вы занимались
до 17-го года? —
Только этого Дантеса бы и видели.
Заостренно социальный подход к оценке пушкинского творчества и к личности поэта в наибольшей степени, пожалуй, проявился в художественном фильме «Поэт и царь», поставленном режиссером В. Гардиным в 1925 году. Прозвучавшие в фильме оценки, расставленные в нем акценты были непосредственной данью времени, отзывом на длительную асоциальность буржуазного пушкиноведения.
После Великого Октября открылись многие царские архивы, стали появляться публикации сведений, проливавших свет на то, как сознательно и целеустремленно жандармы, цензура душили поэзию Пушкина. В итоге работы в засекреченных архивах пушкинистом Б. Л. Модзалевским была издана книга «Пушкин под тайным надзором». Появились многие дополнительные сведения об истории дуэли и гибели поэта. В книге А. С. Полякова «О смерти Пушкина. По новым данным» (Пг., 1922) раскрывались настроения правительственных кругов в связи со смертью Пушкина. Активно противостояли былым легендам о поэте — почитателе монарха комментарии к двум изданиям «Дневника Пушкина», впервые опубликованного в Москве и Ленинграде в 1923 году. Идею о Пушкине-революционере проводил в статьях, комментариях к произведениям поэта Валерий Брюсов...
В фильме В. Гардина о Пушкине эти настроения и переоценки получили свое последовательное и даже утрированное воплощение. Поэт в картине — открытый оппозиционер и антимонархист. Более того — он даже и последовательный революционер: интересуется только запрещенной литературой, пишет только вольнодумные стихи — их он сам читает вслух придворным, нимало не реагируя на то, что рядом Николай I. Поэт непрестанно дерзит в лицо «коронованному петуху», преувеличенно зол, раздражен, неуживчив. Выпады поэта поддерживают придворные, рукоплещут Пушкину, признают его главой всех оппозиционно настроенных кругов.
Упрощенно воссоздана история дуэли. Во главе заговора оказывается сам царь, доведенный до бешенства дерзостями поэта.
В фильме недвусмысленно расставлены все политические акценты: дворянское общество показано как гнездо разврата, низости. В сцене маскарада Пушкин оказывается окруженным придворными в масках ослов, мерзких чудищ...
Надо заметить, что фильм получил отрицательные оценки общественности и прессы. Отмечалось, что режиссер пошел по пути удовлетворения обывательских вкусов и интересов, отвечая слишком упрощенно на культурные запросы того времени.
Другой попыткой «освоить» наследие Пушкина в соответствии с требованиями новой эпохи победившего пролетариата являлись экранизации типа «Капитанской дочки» (1927 года). Фильм был поставлен в. духе концепции, развитой формалистами. Исходя из тезиса «кино — великий исказитель», один из главных идеологов нового метода В. Шкловский писал: «Мы должны в кино, которое обладает огромной силой внушения, создавать вещи, параллельные произведениям классиков. Мы должны заново поставить «Капитанскую дочку», «Войну и мир»
[210]. Предполагалось переосмыслить классиков, «бороться по линии изменения сведений, которые они сообщают». Поскольку мировоззрение Пушкина ограничивало возможность передачи «правильных» фактов об изображенной им действительности, текст следовало исправить, по такому плану и ставить фильм. И вот вместо повествования от лица дворянина гвардии сержанта Гринева главным героем и рассказчиком оказывается «вольнодумец» Шванвич-Швабрин. Гринев оказывается мелким вралем, «информатором дворянской исторической науки», а Швабрин — сообщник Пугачева! Фильм полемизирует с повестью Пушкина, образы переосмыслены, дописаны, переиначены. Гринев развенчивается, а Швабрину придается романтический ореол. Савельич, который по повести Пушкина — носитель типичных черт крепостного человека, в фильме тенденциозно преподносит идеи крестьянской революции, сразу попадает в сподвижники Пугачева. Гринев же, жалкий и бездушный дворянин, хладнокровно пляшет менуэт над теплым еще трупом убитого Савельича...
Таких попыток ставить классиков, используя их произведения лишь как повод для своевольной трактовки проблемы, было в те годы немало. Они остались в истории киноискусства и советской культуры как примеры опытов, поисков верных путей к освоению великого наследия. Ошибочность упомянутых установок была понята, принципы, которыми руководствовались формалисты, были вскоре преодолены, хотя какое-то время еще давали о себе знать исподволь.
Способствовали поиску верных оснований для воплощения образа поэта, верного истолкования его личности и творчества первые шаги советского марксистского пушкиноведения. В начале 30-х годов наступает новый этап осмысления роли Пушкина в социалистической культуре. Он был в немалой мере предопределен грандиозной подготовкой к первому общесоюзному чествованию памяти Пушкина, 100-летию со дня гибели поэта.
Интерес к классикам проявляли массы читателей, получившие возможность приобщиться к сокровищам культуры. Уже это заставило издание «Народной библиотеки», осуществленное в 1919 году, сопроводить характеристиками политической и творческой биографии поэта. Как в этом, так и в других изданиях двадцатых годов отразились сложные перипетии становления марксистского литературоведения. Стоявшие у ее истоков ученые стремились противопоставить былой буржуазно-дворянской науке принципы социального подхода к биографии и творчеству Пушкина. Но на первых порах сказалась неразработанность марксистского метода, неподготовленность исследователей.
В работах наиболее ревностных поклонников социологизма доказывалось, к примеру, что Пушкин в своих произведениях предстает как «переодетый дворянин», что он капитулировал перед самодержавием и стал слугой, как говорили тогда, «сервилистом», Николая I. Такого рода характеристики проникли даже в некоторые вузовские и школьные учебники. В многократно переизданном и самом популярном учебнике по истории русской литературы XIX века его автор, Я. А. Назаренко, представитель вульгарно-социологического направления, в 1929 году писал, в частности, что поэт «и в молодые годы всячески защищает классовые интересы дворянства». И далее: «Онегин — продукт рабовладельческого хозяйства», а в «Борисе Годунове» проявляется идеология Пушкина, «примирившегося с действительностью» и начавшего искренно проповедовать идеалы самодержавной монархии. В другом месте, к примеру, говорится, что «Пушкин как идеолог определенного класса превращает руководителя крестьянского восстания в кровожадного пьяного разбойника, а как художник не может не отметить в Пугачеве большой силы ума»
[211]. Конечно, это примеры, так сказать, крайностей вульгарно-социологического подхода. Но в ходу были и другие такого рода оценки и истолкования Пушкина, например его представляли читателям как «представителя обуржуазивающегося среднеинтеллигентного дворянства» и т.д.
Своеобразно проявились отзвуки подобных определений в практике школьного обучения. Достаточно вспомнить много раз описанные в нашей художественной литературе «суды» над героями произведений Пушкина. Особенно популярными были такие инсценированные «суды» над героями «Евгения Онегина». При этом Онегин, а вместе с ним и его создатель оказывались подчас на «скамье подсудимых» как представители паразитирующего класса дворян, неспособного проявить революционность...
Первое всенародное чествование памяти поэта
В 30-е годы начался новый этап освоения пушкинского наследия. Он проходил в условиях подготовки к столетию со дня смерти Пушкина.
Почти за полтора года до этого было опубликовано специально принятое постановление правительства. В нем говорилось, что Пушкин — «великий русский поэт, создатель русского литературного языка и родоначальник новой русской литературы», обогатил человечество бессмертными художественными творениями. Пушкинский комитет, который возглавлял А. М. Горький, проводил мероприятия с целью увековечения памяти поэта среди народов СССР, широкой популяризации творчества Пушкина в советских республиках.
Главной задачей оставалось издание текстологически выверенных произведений Пушкина. Первое советское собрание сочинений Пушкина вышло в 1930 году. Во вступительной статье к первому тому А. В. Луначарский писал, что «Пушкин навек вошел в культуру человечества. Выражая «развитие» своего времени, он оказался ценным и для нас, через 100 лет, и после грандиознейшей мировой революции»
[212]. Ценность издания велика и сама по себе, к тому же оно сопровождалось «Путеводителем», в котором давались в алфавитном порядке справки-комментарии по разным проблемам пушкиноведения: раскрыты подробности истории и быта пушкинского времени, даны характеристики пушкинского окружения, освещены важные вехи биографии. Это помогало широкому читателю ориентироваться в сложных вопросах, которые возникали в связи с толкованием отдельных моментов биографии и творчества поэта.
 Н. П. УЛЬЯНОВ. Пушкин с женой перед зеркалом на придворном балу. 1936.
Н. П. УЛЬЯНОВ. Пушкин с женой перед зеркалом на придворном балу. 1936.
Важной вехой стал выход в 1934 году специально посвященного Пушкину тома «Литературного наследства» (№ 16—18). Предисловие к этому монументальному труду, насчитывавшему 1100 страниц, освещало вставшие перед наукой о литературе задачи изучения Пушкина. Выдвигалась задача борьбы с реакционной легендой о Пушкине. За годы после гибели поэта реакционная мысль, как отмечали редакторы тома, «сделала все возможное, чтобы выдвинуть на первый план именно те элементы социальной практики Пушкина», которые, будучи неверно интерпретированы, свидетельствовали о его историческом пессимизме. Теперь же, в советскую эпоху, следовало «овладеть всем, что есть в наследии Пушкина здорового, жизненного и революционного, всем, что может быть использовано в строительстве культуры бесклассового социалистического общества»
[213]. Вместе с тем сборник определялся не как подведение окончательных итогов, но как первый шаг к переоценке пушкинского наследия.
Таков пафос многих книг о Пушкине, выходивших в преддверии всесоюзного чествования памяти поэта. Общим было стремление в противовес шаблонным, трафаретным представлениям рассмотреть черты «живого Пушкина». Как писал Николай Ашукин, «Пушкин давно стал для нас отвлеченным образом. Звонкое, вырезанное на бронзе памятников имя поэта стало нарицательным словом, за которым не видно живого лица. Пушкин-человек, живой Пушкин
давно стал для нас бронзовой фигурой в романтическом плаще, с кудрявой, задумчиво склоненной головой...»
[214].
Для такого представления о поэте, «живом, а не мумии», приходилось вырабатывать новую методологию, новый взгляд на разрозненные, нередко противоречивые сведения о нем, сохранившиеся в воспоминаниях современников поэта, в критике, в исследовательской литературе.
Важное значение имели в связи с такими задачами редакционные статьи в газете «Правда», опубликованные в 1936—1937 годах. В них подвергались критике попытки искаженного освещения пушкинского мировоззрения и творчества. Отмечалось, что «Пушкин прежде всего глубоко народен и в произведениях своих, и в политических взглядах». Однако «Правда» вместе с тем предостерегала от приукрашивания воззрений поэта: «Нет нужды преувеличивать революционные взгляды Пушкина. Его величие заключено в его бессмертных и никем не превзойденных произведениях. Но Пушкин не был бы гениальным поэтом, если бы он не был великим гражданином, не отразил бы в той или иной мере революционные чаяния своего народа»
[215].
 М. К. АНИКУШИН. Фрагмент памятника Пушкина в Ленинграде. 1957.
К. С. ПЕТРОВ-ВОДКИН. Пушкин на набережной Невы. 1934.
М. К. АНИКУШИН. Фрагмент памятника Пушкина в Ленинграде. 1957.
К. С. ПЕТРОВ-ВОДКИН. Пушкин на набережной Невы. 1934.
В годы подготовки к юбилею вышли новые книги о поэте, сборники, посвященные разным аспектам пушкинского наследия. Фактически весь юбилейный год прошел под знаменем Пушкина.
Громадное значение имело подготовленное к выпуску в 1937 году Академическое собрание сочинений Пушкина. Его издание растянулось, прерванное войной, на долгие годы. К юбилею вышли лишь 5 томов. Но читатель получил много разнотипных изданий сочинений Пушкина: два с комментариями, массовое, избранные произведения, сборники.
В те же годы наметились крены в сторону, противоположную вульгарному социологизму. Так, в однотомнике сочинений Пушкина под редакцией Б. В. Томашевского, выпущенном в 1936 году для массового читателя, во вступительной статье В. А. Десницкого «Пушкин и мы» утверждалось, что он был более европейцем, чем русским. Эволюция Пушкина была представлена как движение «к мировоззрению французского буржуазного либерализма эпохи реставрации и июльской монархии». Эти ошибочные суждения получили критическую оценку в печати.
 Н. П. ГАВРИЛОВ. Пушкин. 1938.
И. Ф. РЕРБЕРГ. Пушкин в Болдине. 1936.
Н. П. ГАВРИЛОВ. Пушкин. 1938.
И. Ф. РЕРБЕРГ. Пушкин в Болдине. 1936.
Большое значение имели появившиеся в то время биографические труды о Пушкине Б. В. Томашевского, Н. Л. Бродского, Л. П. Гроссмана.
Работа Б. В. Томашевского носила цель популяризаторскую. Ценным, однако, явилось обращение широко эрудированного и талантливого ученого-пушкиниста к непроясненным в то время вехам политической биографии поэта, его мировоззрению в динамике естественного развития. Формирование пушкинского вольнолюбия Томашевским рассмотрено в связях с фактами русской жизни и влиянием на юного поэта идей французских просветителей, революционных движений на Западе. Пристальное внимание уделено развитию взглядов, прежде всего политических, в последекабристский период жизни Пушкина. Верность поэта юношескому свободолюбию утверждается не априорно, но раскрывается сложный, противоречивый характер динамики социально-политических воззрений, включавший надежды на реформаторскую деятельность Николая I и разочарование в них, тяжкие размышления о путях ликвидации крепостного права. Пушкин, по представлениям Б. В. Томашевского, не видел возможностей для революционного переворота и не находил тех общественных сил, на которые мог бы опереться сам. В итоге к концу жизни он приходит к полному социальному одиночеству
[216].
Узловые проблемы биографии поэта затрагивал в обширнейшем исследовании, обстоятельно и обильно документированном, Н. Л. Бродский
[217]. Творческая жизнь поэта и его общественная деятельность показаны в нем на фоне важнейших социальных событий России и Западной Европы. Биографические подробности рассматриваются с позиций их влияния на творческие импульсы, на появление художественных замыслов. Много внимания уделяется психологическому состоянию поэта на разных жизненных этапах. Для характеристики душевных движений широко привлекаются письма, мемуары современников, официальные документы. Используется для этих целей и весьма тонкий, проницательный семантический анализ стихов. Так, глубокое раскрытие особенностей лексического строя «Стансов», определение точного значения слова «льстец» в пушкинскую эпоху послужило основанием для раскрытия выраженной в стихотворении политической позиции поэта. Все же задача создания яркого, индивидуализированного образа Пушкина в многообразии проявлений его богатой личности, в динамике на фоне конкретно-исторических условий оказывалась нерешенной ни в упомянутых уже работах, ни в большой «биографической хронике» Л. П. Гроссмана
[218].
В годы подготовки к широчайшему чествованию памяти поэта в изобилии появлялись разножанровые труды с попытками «угадать живого Пушкина» (подобную задачу в самом начале века ставил В. Я. Брюсов). По-своему решали ее С. Я. Гессен и Л. Б. Модзалевский в оригинальном труде «Разговоры Пушкина», вышедшем в 1929 году. Они собрали щедро рассыпанные по воспоминаниям о поэте подробности его речевого общения, свидетельства его остроумия, блеска его рассказов. Иным был подход В. В. Вересаева в много раз в то время переиздававшемся труде «Пушкин в жизни». Вересаев явился основателем биографического монтажа как жанра пушкиноведения. Но в методологических установках он следовал провозглашенной некогда первым биографом поэта П. Анненковым идее о «двух Пушкиных», о несоединимости в едином образе представлений о нем как о поэте и человеке. Исходя из признанного им «поразительного несоответствия между живою личностью поэта и ее отражением в его творчестве», В. Вересаев дробил и просеивал факты, свидетельства современников, подбирая и конструируя из отдельных элементов тот облик, который соответствовал его схеме. По ней поэт представал циником, «в вопросах политических, общественных, религиозных... был неустойчив, колебался, в разные периоды был себе противоположен... эти все вопросы слишком глубоко не задевали его»
[219]. Ошибочность концепции В. Вересаева была показана пушкинистами
[220].
Плодотворный путь жизнеописания поэта был предложен Ю. Н. Тыняновым, выпустившим в 1937 году две первые части своего романа «Пушкин»
[221]. Ю. Тынянов удивительным образом сочетал в себе глубочайшего исследователя, знатока жизни и творчества поэта (причем, не только вдумчивого историка, но и теоретика), а также талантливого писателя. В его романе — не просто воспроизводилась хроника дней Пушкина, а воссоздается, художественно живо интерпретируется история жизни и формирования личности поэта, становление его взглядов и проблесков гения. Писатель вникает в самое сложное, в святая святых — в творческий процесс поэта, в психологию Пушкина через его стихи...
К столетию со дня гибели поэта был изменен текст из стихотворения «Памятник», высеченный на пьедестале памятника поэту в Москве.
Когда в 1880 году монумент открывался, был известен текст, измененный В. А. Жуковским. С целью провести «Памятник» через цензуру он еще в первом посмертном издании стихотворения изменил четвертую строфу:
И долго буду тем народу я любезен,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что прелестью живой стихов я был полезен
И милость к падшим призывал.
Но и в таком виде оказалось невозможным высекать строки, напоминавшие о мятежных декабристах. Справа на постаменте появились к открытию памятника лишь первые две строки четверостишия. С левой — две строки предыдущей строфы: «Слух обо мне пройдет...» В 1937 году было принято решение восстановить подлинный пушкинский текст стихотворения на постаменте. В результате работы, потребовавшей большого мастерства гранитных мастеров, были высечены гордые слова поэта:
И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.
Были восстановлены прежде усеченные строки:
Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
Тунгус, и друг степей калмык...
Предвидение поэта сбылось. В 1937 году к подножию памятника Пушкину принесли свои стихи украинец Максим Рыльский, адыгеец Цуг Теучеж, лезгинец Сулейман Стальский и многие-многие другие. Перекличкой с поэтом прозвучали слова эвенка Ал. Платонова:
Нерукотворный «Памятник»
Мне ясно говорит,
Что ты, великий Пушкин,
Слышишь наши песни.
Ты, Пушкин, погляди
На «дикого тунгуса» —
Ведь это я — эвенк.
Навек теперь свободный.
Я землякам в колхозе
Стихи твои читаю.
Слова твои звенящие
Над Севером летят,
И счастьем прорастает
Таежная земля.
Твое, твое пророчество
Сбылось, великий Пушкин
[222].
Пушкинский юбилей не знал равных по своим масштабам поэтических и культурных праздников. Память поэта торжественными заседаниями, вечерами, собраниями почтили во всех уголках необъятной нашей страны.
В Москве, в Большом театре СССР, 10 февраля 1937 года состоялось торжественное правительственное заседание, посвященное Пушкину.
О роли поэта в отечественной культуре сказал в своей речи народный комиссар просвещения А. С. Бубнов.
Характеризуя Пушкина как одного из величайших деятелей своей эпохи, передового мыслителя, гениального преобразователя русской литературы и создателя русского литературного языка, он отмечал, что «пришла пора, когда надо отмести реакционную легенду о том, что после разгрома восстания декабристов Пушкин пошел на полное примирение с николаевским правительством и чуть ли не сделался сторонником дворянского самодержавия». Пушкинское художественное наследие, его письма, публицистика свидетельствуют, что поэт «беспощадно разил самовластных правителей, ханжей в поповских рясах, аристократическую чернь, сиятельных мракобесов, холопов и невежд всех мастей... Политической заслугой Пушкина было то, что в период тяжкой реакции он сохранил основное в своих взглядах, сумел с громадным тактом и политическим достоинством вести себя на протяжении всех этих лет, до конца остался верен своей дружбе с декабристами, что он не без чувства законной гордости и сказал нам в словах: «В мой жестокий век восславил я свободу»
[223]. Эти важные положения речи были направлены на борьбу с разными уклонами в интерпретации пушкинского творчества и образа поэта. Нарком просвещения призывал широко популяризовать в читательских массах Пушкина как национального гения, ставшего вместе с тем поэтом интернациональным, горячо любимым советским народом и всем прогрессивным миром.
 Н. В. ИЛЬИН. Пушкин на прогулке. 1940.
Н. В. ИЛЬИН. Пушкин на прогулке. 1940.
Трудно переоценить грандиозность мероприятий, способствовавших популяризации произведений поэта. Одним из выдающихся событий юбилейного года стало открытие в здании Государственного Исторического музея Всесоюзной пушкинской выставки. Она была организована по постановлению Совета народных комиссаров СССР. Многие тысячи ее посетителей могли по-новому приобщиться к наследию поэта, перед ними проходили страницы его биографии и творчества. Основные разделы выставки были посвящены отдельным периодам жизни Пушкина — детству и юности, южной ссылке, ссылке в Михайловское, пушкинской творческой лаборатории в пору пребывания в Болдине, так называемой знаменитой «болдинской осени». Особый интерес представлял для посетителей раздел «Пушкин под тайным надзором в 1826—1829 гг.». Впервые широко посетители могли познакомиться с судьбой литературного наследия поэта в царской России и в эпоху Великой Октябрьской социалистической революции.
 П. П. КОНЧАЛОВСКИЙ. Пушкин в Михайловском. 1930—1951.
П. П. КОНЧАЛОВСКИЙ. Пушкин в Михайловском. 1930—1951.
Интересно были оформлены экспозиции разделов: в них были представлены портреты, живописные изображения, тексты стихов Пушкина, отрывки из его прозаических произведений, приводились многочисленные документы той эпохи. Так, например, в отделе, где рассказывалось о тайном надзоре над поэтом в конце 20-х годов, возле портретов Тропинина (причем не только оригинала известного большого портрета, но и двух этюдов) помещены «резолюции» Николая I о привозе Пушкина в Москву 28 августа 1826 года. Тут же были показаны карта пути следования поэта, портрет фельдъегеря, акварель, изображавшая Николая I, работы П. Ф. Соколова и портрет А. X. Бенкендорфа. Рядом с этими иконографическими свидетельствами посетитель видел отдельные фрагменты из мемуаров современников о разговоре Пушкина с Николаем I во время аудиенции во дворце. Следовали также свидетельства С. А. Соболевского, М. П. Погодина о не дошедшем до нас стихотворении «Пророк». Все, кто приходил на выставку, получали новое расширенное представление об истории жизни поэта.
Новым и малознакомым широкому читателю было рукописное наследие. Здесь же были представлены типы пушкинских рукописей — записная тетрадь, альбом, листки, письма.. Работа над произведениями раскрывалась с помощью их планов, демонстрации черновых и беловых рукописей. Автографы и фоторепродукции рукописей воссоздавали фазы работы поэта над художественными и нехудожественными текстами. Открывалась картина титанического труда, в котором сочетались вдохновение и редкостная сосредоточенность, уменье «удерживать вниманье долгих дум». Диссонансом врывались иные «мотивы». Вот — цензурные исправления в рукописях Пушкина, пометки Николая I, переделки поэтом своих произведений. Рядом — зашифрованные тексты... Все это вносило значимые штрихи в представления публики о поэте, оставалось в памяти.
О популярности пушкинского творчества рассказывали многие разделы экспозиции: «Пушкин в эпоху Октябрьской социалистической революции», «Пушкин в творчестве советских детей», «Пушкин в музыке, театре, кино»...
Десятки тысяч посетителей выставки открыли для себя нового Пушкина. Они воочию убеждались в том, как велика и действенна роль пушкинского литературно-художественного наследия в культурной жизни советского народа. И еще такая любопытная деталь: выставка уже была открыта, а со всех концов страны продолжали поступать экспонаты. Так необъятно велик был отклик почитателей пушкинского таланта, так высказывали советские читатели дань признательной любви Пушкину.
В годы подготовки ко Всесоюзному пушкинскому празднику в издательстве
«Academia» был выпущен роман «Евгений Онегин» с иллюстрациями, которые стали важной вехой на пути к постижению Пушкина советским читателем и зрителем. Известный художник Н. В. Кузьмин представил Пушкина рассказчиком, автором широчайшей «энциклопедии русской жизни». Поэт оказался, таким образом, главным героем, участником всех описанных им событий. Сорок пять пушкинских изображений на страницах книги. Целая галерея портретов: вот поэт с Онегиным, в театре. Вот вместе с Кавериным, с Дельвигом, с декабристами, с барышнями Тригорского. Он в разных уголках страны — в Москве и Петербурге, на юге, в парке Царского Села. Пушкина видим мы гуляющим, за письменным столом, в экипаже, в санях... Вот удивительный рисунок — на нем Пушкин изображен Кузьминым таким, каким представил поэта Кипренский, а портрет этот разглядывают юноша и девушка, современники художника.
 В. А. ФАВОРСКИЙ. Пушкин-лицеист. 1935.
Н. В. КУЗЬМИН. Пушкин и Каверин. 1928—1933.
В. А. ФАВОРСКИЙ. Пушкин-лицеист. 1935.
Н. В. КУЗЬМИН. Пушкин и Каверин. 1928—1933.
По признаниям искусствоведов, автор иллюстраций к роману открыл новую страницу художественной пушкинианы. В рисунках Кузьмина — особый, неподражаемый темп, «динамизм штриха, стремительная скоропись, намеренная незавершенность, оставляющая место фантазии читателя»
[224]. Но еще более поражало зрителей в середине 30-х годов удивительное проникновение в характер Пушкина, чувство сопричастности жизни поэта. Это было новым в те годы. Как же создавались иллюстрации и портреты? Об этом рассказал позже сам художник. Для нас же это не просто увлекательная история, как обретал Кузьмин способность по-новому прочитывать роман Пушкина. В строках воспоминаний художника — яркий и точный рассказ о самом духе того времени. Н. В. Кузьмин в числе других деятелей искусства и ученых был членом так называемой «необъявленной Пушкинской академии». В конце 20-х — начале 30-х годов в квартире пушкиниста М. А. Цявловского или же у писателя В. В. Вересаева на дому проводились ежевечерние «пушкинские бдения». Собирались на них почитатели пушкинского таланта для «медленного чтения» «Евгения Онегина». Бывали на них писатели, художники, актеры Художественного театра. «Случалось,— отмечал Н. В. Кузьмин,— что за весь вечер прочитывали всего одну строчку. Каждое слово переворачивалось и так, и эдак, комментировалось, вызывало множество литературных, биографических, исторических ассоциаций. При неожиданном повороте иное пушкинское слово и выражение приобретало вдруг особое сверкание. Это был богатейший по сведениям и идеям курс по Пушкину... Тридцатые годы, предшествовавшие 1937-му юбилейному пушкинскому году, были отмечены особенным подъемом в нашем пушкиноведении...»
[225]. Художник вспоминает также, что появление в те годы каждого выпуска многотомного труда В. В. Вересаева «Пушкин в жизни» (он выходил отдельными книжками) ожидали с нетерпением, как продолжение увлекательного романа. Этой же теме была посвящена уже упоминавшаяся нами книга «Живой Пушкин» Николая Ашукина. «Меня увлекала,— писал Н. В. Кузьмин,— новизна этого активного подхода к иллюстрированию... Преодолеть, иллюстрируя «Онегина»... оперный штамп, освободить в сознании читателя роман Пушкина из-под наслоения оперных образов было одной из задач иллюстратора»
[226].
В этом рассказе точно запечатлен дух тех лет, времени, которое отмечено общим стремлением приблизить поэта читателям, а со стороны художественной интеллигенции — желанием постичь Пушкина-человека и Пушкина-творца, оценить по достоинству мощь и силу его гения. Потому-то художники нередко обращались в те годы за помощью к ученым, ученые же вырабатывали новые основания пушкиноведческих исследований. Укреплялись тогда же связи и общие устремления деятелей науки и искусства. Они состояли прежде всего в том, чтобы помочь публике увидеть «живого Пушкина», услышать его голос...
Обращает на себя внимание частое обращение художников тех лет к биографии Пушкина. Мы уже отмечали, что наиболее популярными становились темы, которые в предреволюционные годы трактовались искаженно. Это — дуэль, ее предыстория, трагедия гения в царской России, одиночество поэта. «Что он думал, одинокий, Подставляя пуле грудь, Отправляясь в недалекий, Но уже последний путь?» — спрашивал поэт А. Коваленков в стихотворении «Путь на Черную речку»
[227].
 Н. В. КУЗЬМИН. Пушкин в Болдине. 1930.
Н. В. КУЗЬМИН. Пушкин в Болдине. 1930.
Общим было стремление авторов произведений о Пушкине проникнуть в строй мыслей, чувств поэта. Не всегда хватало знаний, опыта и даже традиций. Многие стихи тех лет несколько декларативны и схематичны. «Мы любим Пушкина за то, что Пушкин он»,— восклицал М. Рыльский. Обращаясь к Пушкину, Б. Корнилов писал:
Через сотню лет
И через двести
(Грандиозные годов ряды)
Все поэты соберутся вместе.
Вашими поэмами горды...
...Страшное прошло
одно столетье,
Александр Сергеевич, гляди —
Император,
Отделенье третье —
Это все осталось позади
[228].
Произведения о поэте тех лет сильны чувством особого лиризма, трогательны безыскусственностью признаний и искренностью. Утверждая, что поэт обрел в советское время свое истинное бессмертие, создатели художественных произведений давали его образ обобщенным, подчас чрезмерно торжественным. Так, завершая цикл пушкинианы, Павел Антокольский в стихотворении «Бессмертие» резкими штрихами обрисовывал его характер:
Дружба, женщины, жажда живая
Все схватить и, сжимая в горсти,
Каждый облик своим называя,
Все постигнуть и перерасти,—
Это — он!
И на площади Красной,
На трибунах, под марш боевой,
Он явился, приветливый, страстный,
С непокрытой, как мы, головой.
Это — он!
Это в пламени песни,
В синих молниях неумолим
Он — учитель, товарищ, ровесник,
Входит в школу к ребятам моим
[229].
Пафос личного причастия к открытию пушкинского образа приводил порой к известным перекосам в трактовках его характера. Так, в одном из двух предъюбилейных художественных фильмов о Пушкине — в «Путешествии в Арзрум», поставленном на Ленфильме режиссером М. Левиным, чрезмерно подчеркивается, как и во многих произведениях других видов искусства, антимонархическая направленность пушкинских поступков. На Кавказе, куда отправился поэт в 1829 году, он занят в основном мыслями о новом заговоре, об объединении в новый союз бывших декабристов. В фильме показано, что, вопреки желанию Раевского, поэт собирает в палатке бывших декабристов, устраивает конспиративное собрание в центре лагеря генерала Паскевича... Он читает отрывки из «Бориса Годунова», причем актер Журавлев, исполнявший роль Пушкина, чтением своим выделяет политический подтекст отрывка. Опытным заговорщиком предстает Пушкин, произносящий, речь о сосланных, опальных дворянских родах.
И все же — постепенно и неуклонно осуществляется движение по пути преодоления прямолинейности и шаблонов в постижении образа поэта. Перед юбилеем художником В. А. Фаворским был исполнен графический портрет Пушкина-лицеиста, вошедший в классический фонд пушкинианы.
Графический портрет работы Фаворского — один из большой серии, выполненной для девяти миниатюрных томов издания «Academia» 1935—1936 годов. Гравюра приложена к первому тому, в котором представлена пушкинская ранняя лирика. Интересно сопоставить этот портрет с единственным юношеским, созданным Егором Гейтманом: очевидно различие в самом способе видения Пушкина. «Советский художник,— пишет искусствовед Е. Павлова,— достиг высокой экспрессии образа Пушкина благодаря своим знаниям о поэте, преображенным чувством. На наших глазах милый задумчивый мальчик превращается в гениального подростка-поэта. С интуицией большого художника Фаворский находит равновесие реального и условного. Фоном изображения художник взял Царскосельский парк:
В те дни, в таинственных долинах,
Весной, при кликах лебединых,
Близ вод, сиявших в тишине,
Являться Муза стала мне.
Фаворскому удалось показать в портрете то рождение поэта, о котором говорится в этих строках...»
[230]. Трактовка образа, предложенная Фаворским, перекликается с кинематографической разработкой характера юного поэта в художественном фильме «Юность поэта», предложенной режиссером А. А. Народицким в 1937 году.
Пушкин в исполнении В. Литовского — экспансивный, пылкий юноша, восприимчивый, откликающийся живо на все происходящие в Лицее события. Его вдохновляет царскосельская природа, романтическая встреча с крепостной актрисой Наташей, дружба с Пущиным... Для поэта значима любая мелочь, каждая деталь. Показано в фильме, как зарождается в поэте свободолюбие, как избавляется юноша от либеральных иллюзий. В этом особое влияние оказывают преподаватели, сокурсники — Кюхельбекер, Пущин... В фильме тоже есть немало просчетов, некоторые линии прочерчены слишком схематично. Но для кинематографа эта картина явилась необходимой ступенью концентрации опыта воссоздания образа художника.
В целом, если рассматривать произведения о Пушкине конца тридцатых годов с позиций дня сегодняшнего, они могут показаться неумелыми, наивными. Пожалуй, защитник такой точки зрения приведет для примера прямолинейные высказывания в духе тех, которые прозвучали в стихах карельского писателя Т. Гуттари «Дуэль Пушкина»: «...Но разве противник его — этот светский повеса? Он целится в самодержавие, а не в Дантеса!»
[231]. Подобных «лобовых» приемов немало было в те годы. Но не будем забывать — ставилась задача пробиться к истинному образу Пушкина, заново «открыть» поэта, рассказать о нем широкому читателю, который только еще приобщался к великой культуре. Нужно было отыскать наиболее оптимальные пути воссоздания образа сложной, противоречивой личности поэта. И хотя многие произведения передавали облик поэта схематично и обобщенно, важно, что не иссякал интерес к поэту, закладывались основы будущих традиций реконструкции его облика. Предъюбилейные годы стали для художников своего рода «лабораторией нового постижения» пушкинского характера, натуры поэта, его творчества.
Нельзя забывать также, что праздник Пушкина, имевший большое значение для отечественной культуры, для роста художественного самосознания нашего многонационального народа, вызвал интерес и за рубежом. Белая эмиграция во Франции и в других странах Запада также отмечала юбилей, но по-своему. Эмигрировавшие за пределы родины деятели литературы и искусства, а также западные идеологи стремились утвердить вполне определенную трактовку пушкинского облика. Они пытались представить Пушкина в виде «идеального поэта», который не может быть понят массами. Настаивали на том, что они лишь одни остались продолжателями исконно пушкинских традиций, Пушкина боготворили как раз и навсегда застывший образец, как своего рода «икону». В ответ на такого рода заявления в журнале «Современные записки» в Париже опубликовала пушкинский цикл стихов Марина Цветаева. Начала их писать поэтесса еще в 1931 году, но к юбилейному году перерабатывала специально.
«Мой Пушкин» у Цветаевой — яростный ответ на попытку превратить любимого поэта в мумию, в мавзолей, в «гувернера» при поэзии. Пушкин в этом цикле стихов — «всех живучей и живее», в нем ценно не «чувство меры», а «чувство моря». По-цветаевски активно, темпераментно поэтесса в полемике с белоэмигрантской прессой доказывает их неспособность «приукрасить» Пушкина, переодев его в «тогу» и «схиму», то есть нивелируя его свободолюбие, широту, раскованность, его непревзойденное влияние на всех последующих поэтов. «Влияние всего Пушкина целиком? О, да. Но каким же оно может быть, кроме освободительного? — писала Цветаева в очерке «Наталья Гончарова»
[232].— Приказ Пушкина 1829 года нам, людям 1929 года, только контр-пушкинский. Лучший пример — «Темы и варьяции» Пастернака, дань любви к Пушкину и полной свободы от него. Исполнение пушкинского желания»
[233]. А со всеми, кто поэта пытался представить в роли «монумента», «лексикона», Цветаева спорила отчаянно, утверждая: «То-то к пушкинским избушкам Лепитесь, что сами — хлам!»
...Уши лопнули от вопля:
«Перед Пушкиным во фрунт!»
А куда девали пекло
Губ, куда девали — бунт
Пушкинский? уст окаянство?
Пушкин — в меру пушкиньянца!
Томики поставив в шкафчик —
Посмешаете ж его,
Беженство свое смешавши
С белым бешенством его!..
...Что вы делаете, карлы,
Этот — голубей олив —
Самый вольный, самый крайний
Лоб — навеки заклеймив
Низостию двуединой
Золота и середины?
И завершается стихотворение вызовом:
«Пушкин — тога, Пушкин — схима,
Пушкин — мера, Пушкин — грань...»
Пушкин, Пушкин, Пушкин — имя
Благородное — как брань
Площадную — попугаи.
Пушкин? Очень испугали!
Полемическая заостренность трактовки образа поэта Цветаевой объясняется еще и тем, что поэтессу критиковали за «неудобочитаемость», за сложные метафоры, труднодоступные ритмические рисунки стихов, приводя ей в пример Пушкина, которого почитала и она, воспринимая как требование поэтической свободы. Такой «личный» повод для защиты от необоснованной критики («Пушкиным не бейте, Ибо бью вас им...»), удвоенный стремлением защитить поэта от посягательств белоэмигрантских интерпретаторов, вылился в результате в создание цикла, в котором образ поэта воссоздается в условиях пушкинского времени. В стихах появляется Петр... Пушкин же
...Гигантова крестника правнук,
Петров унаследовав дух,
И шаг, и светлейший из светлых
Взгляд, коим поныне — светла...
Последний — посмертный — бессмертный
Подарок России — Петра.
Истинные взаимоотношения Пушкина с Николаем I вскрыты Цветаевой с обычной ее зоркостью, прямотой и ненавистью к тому, кто
Пушкинской славы
Жалкий жандарм.
Автора — хаял,
Рукопись — стриг.
Польского края
Зверский мясник...
Зорче вглядися!
Не забывай:
Певцеубийца
Царь Николай
Первый.
Разоблачая легенду о том, как заботился царь о поэте, о его прощении Пушкина и воздании почестей после смерти, поэтесса завершает цикл двумя стихами «Поэт и царь».
...Не дивно ли — и на тишайшем из лож
Пребыть поднадзорным мальчишкой?
На что-то, на что-то, на что-то похож
Почет сей: почетно — да слишком!
Гляди, мол, страна, как, молве вопреки,
Монарх о поэте печется!
Почетно — почетно — почетно — архи-
Почетно,— почетно — до черту!
Кого это так — точно воры вора
Пристреленного — выносили?
Изменника? Нет. С проходного двора —
Умнейшего мужа России.
Итак, в тридцатые годы, в ходе подготовки юбилея и проведения первого Всесоюзного пушкинского праздника, произошли значительные сдвиги в восприятии образа поэта. Постепенно накапливался опыт такого понимания личности и творчества Пушкина, который позволял приблизиться к реконструкции его реального облика.
«...НА ФРОНТЕ С ПУШКИНЫМ ВДВОЙНЕ БЫЛ КРЕПОК НАШ СОЮЗ»
Через четыре года началась Великая Отечественная война. Особый смысл открылся тогда в пушкинских строках. Прощаясь со столицей перед уходом на фронт, солдаты приходили к памятнику Пушкину. Об этом написал в стихах Семен Гудзенко, поэт-фронтовик:
Перед поэтом
в серых шинелях
юноши встали.
Юношам слышится
гневное слово,
грохот призыва...
Слышали этот призыв в конце 1942 года бойцы 268-й Краснознаменной стрелковой дивизии. Они стояли на подступах к бывшему Царскому Селу, переименованному в город Пушкин, там, где был Лицей, где провел свои юношеские годы поэт. В одном из подвалов разрушенного взрывом дома солдаты отыскали том стихов Пушкина. С каким чувством читали они тогда знакомые пушкинские строки:
Страшись, о рать иноплеменных!
России двинулись сыны:
Восстал и стар, и млад, летят на дерзновенных.
Сердца их мщеньем зажжены...
Бойцы читали стихи, а потом передали книгу сотрудникам дивизионной газеты «За Родину». Они повсюду возили ее за собой по дорогам войны. Однажды в укрытие, где была редакция, попал снаряд. Погибли люди, пробило и книгу Пушкина. Секретарь дивизионной газеты лейтенант Д. Онегин, решив сохранить томик, переслал его в Москву своим дочерям с письмом (оно хранится теперь в Музее Пушкина в Москве), в котором были и такие строки: «...Милые дочурки, посылаю вам томик Пушкина... Он шествовал со мною всюду. В бою снаряд попал в наше укрытие. Убило товарища... Пусть этот томик, пробитый осколком снаряда, напоминает вам о чудовищных зверствах фашистов, о великой борьбе, какую вели советские люди... Знайте, если папа погиб, он отдал свою жизнь за Пушкина, за русскую землю, за счастье Родины и ваше. Это счастье вернется». Подписано: декабрь 1943 года.
История сохранила много подобных свидетельств. Поэзия Пушкина помогала в тяжелейших испытаниях, вела людей на подвиги. Пушкин стал олицетворением Родины, за него шли в бой, как и за всю Русскую землю. Можно было бы составить целую антологию из стихов и рассказов о том, как поднимала дух, как помогала в дни войны муза Пушкина.
Ребята, несомненно, с громадным интересом выслушают рассказы о подлинных событиях, которые происходили в годы войны. О них можно рассказать с помощью советских поэтов. Напомним два стихотворения, у которых одинаковое название — «Томик Пушкина».
Первое, Г. Ладонщикова, передает рассказ о том, как солдату его подруга при расставании подарила на счастье книгу поэта. Солдат хранил ее все годы войны:
Я с ним замерзал,
У костров обжигался,
В дыму задыхался,
От грохота глох,
Но смерти тогда я не очень боялся,
Казалось, что Пушкин спасти меня мог.
Особенно сильно поверил я в это,
Выйдя однажды живым из огня,
В котором был ранен томик поэта
Осколком снаряда,
Летевшим в меня.
О Родине с Пушкиным вел я беседы,
О нашей любви к ней,
Сыновней, большой...
Раненый томик я нес до победы,
С ним и с войны возвратился домой.
При встрече сказал поседевшей любимой,
Сказал, не стыдясь затуманенных глаз,
Что спас меня Пушкин От горя и мины,
Что я от сожжения Пушкина спас.
 Книга А. С. Пушкина, простреленная фашистским снарядом.
Новогодняя открытка военного времени.
Книга А. С. Пушкина, простреленная фашистским снарядом.
Новогодняя открытка военного времени.
Военные стихи хранят немало подобных рассказов. В них — страшная быль войны и признания жизненной необходимости пушкинской поэзии. Второе стихотворение «Томик Пушкина» — бесхитростная быль о том, как в тяжелой атаке погиб солдат. Погиб смертью храбрых. А перед этим последним для него боем другу своему подарил томик Пушкина, самое дорогое и заветное, что носил с собой в вещмешке по дорогам войны. Бойцы на привалах, в минуты передышек открывали книгу, и...
Далеко-далеко осталось
Все, чем каждый из нас дорожил,
И частицей земли, казалось,
Этот томик Пушкина был.
И мы видели — сквозь метели
Пугачев по степи шагал,
У Полтавы бои кипели,
Властный голос Петра звучал...
Сколько таких историй в летописи участия поэзии Пушкина в самой кровопролитной мировой войне! «Мой Пушкин пал жертвой артиллерийской дуэли под городом, упомянутым им в «Истории Петра» как Пропойск... Я оставил однотомник, с которым не расставался с самых школьных времен... в домике на окраине»,— так начал свой рассказ в «Записках поэта» Евгений Долматовский. В Москве, куда он попал на несколько дней по служебным делам, стремился найти другую книгу стихов Пушкина. Когда это удалось, хотя и с немалым трудом, поэт, наш современник, признается, что он был счастлив, что «вновь обрел необходимого постоянного собеседника для редких и кратких часов фронтового одиночества». Этот зачитанный, с пожелтевшими страницами Пушкин дошел с ним до Берлина. «И если быть точным,— заключает Евгений Долматовский,— это я с ним дошел и с ним вернулся, чтобы всю жизнь учиться, всю жизнь открывать в известном и знаемом наизусть все новые и новые чудеса мысли и образы...»
[234].
Пушкин сражался вместе со всем советским народом. И это не фигуральное выражение, а точное определение роли, которую играла его поэзия. Свободолюбивая, гордая, она вселяла уверенность в победе, поднимала боевой дух, успокаивала, врачевала.
Артисты фронтовых бригад читали пушкинские стихи на передовой бойцам, которые готовились к боям. Пушкинское слово звучало в госпиталях, в окопах перед наступлениями. Артистка Вера Бельцова расскажет после войны про приказ генерала Чуйкова в дни защиты Сталинграда: «Пушкина читать до победного!»
Ленинград был сжат в кольцо блокады. И все же 6 июня 1943 года, в день рожденья Пушкина, в его квартире на набережной Мойки собрались люди. Они отвечали день рожденья поэта, не нарушив святую традицию. Они верили в победу... Там, в трудные для города дни поэт Николай Тихонов говорил: «Мы отмечаем этот день в обстановке сражающегося Ленинграда,— мы не можем быть сейчас ни в Михайловском, ни в Тригорском. Эти священные для нас места сейчас у фашистов. Но здесь, в Ленинграде, Пушкин — участник нашей борьбы с поработителями. В бою участвуют не только люди с оружием в руках, не только современники боев. Наши предки величием своих деяний также борются за свою родину. Всю жизнь ненавидевший тиранию и рабство, воспевавший солнце человеческого разума, Пушкин сейчас с нами...»
Поэт сражался и в воинских частях. В 1943 году был построен боевой самолет «Александр Пушкин». Интересна его история.
В годы войны на Урал эвакуировался писатель И. А. Новиков, автор нескольких получивших широкую известность романов о поэте. Зимой, в преддверии дней памяти Пушкина, в городе Каменск-Уральском он стал проводить вечера. На них читались произведения самого поэта, отрывки из романов писателя о Пушкине. На билетах-приглашениях под пушкинскими строчками «Да здравствует солнце, да скроется тьма!» значилось: «Весь сбор с вечера поступает на покупку боевого самолета «Александр Пушкин». Нужную сумму собрали. Самолет-истребитель был построен и передан командиру эскадрильи Юрию Горохову. Отважный комэск воевал на Западном фронте, Он сбил на «Александре Пушкине» девять фашистских бомбардировщиков. Четыре из них — за один день. Об этом сообщала «Правда» 6 сентября 1943 года. Двадцатидвухлетний летчик погиб 1 января 1944 года. Посмертно он был награжден званием Героя Советского Союза.
Какова же дальнейшая судьба самолета «Александр Пушкин»? Этот вопрос заинтересовал ребят из Одессы, активистов школьного пушкинского музея. Они занялись розысками. Вскоре удалось узнать, что после гибели Ю. Горохова истребитель был передан старшему лейтенанту С. Г. Барановскому. Он сбил на самолете десять бомбардировщиков противника. После ремонта на машине летал лейтенант В. А. Бахирев. Им было сбито еще четыре самолета захватчиков. После тяжелого ранения, которое было получено в неравном бою, летчик попал в госпиталь. Боевая машина нуждалась в починке. Следы самолета затерялись, но осталась в памяти его доблестная боевая история.
За годы войны сложилась целая поэтическая летопись участия Пушкина в войне. Особые ее страницы — о боях за те уголки земли, которые непосредственно были связаны с именем поэта.
Под Пушкином был выброшен десант.
По немцам, разбежавшимся по лесу,
Мой друг — поэт и гвардии сержант
Из пулемета бил, как по Дантесу.
Потом я помню, сто «катюш» забило
И едкой гарью с Пулкова несло.
Мы шли в атаку. В самом деле было
Отечеством нам Царское Село
[235].
Пушкин был в годы войны символом Родины; защищая землю, бойцы воевали и за поэта, как за духовное богатство народа. Понимание этого, как и чувство сопричастности общему делу спасения национальной святыни, было свойственно всем защитникам страны. После освобождения Пушкинских Гор даже простые солдаты, до того часа никогда не писавшие стихов, обращались к поэту, как писал, к примеру, один из участников боев за Михайловское, рядовой Николай Гриньков:
Бессмертие певца не в бронзе монументов —
В сердцах людей он навсегда живой.
Стихи его звенят и в пулеметной ленте.
Когда нам враг навязывает бой
[236].
В стихах фронтовых поэтов читаем мы истории кровопролитных битв мужественных защитников. В них же с необыкновенной силой, искренне и правдиво отразился самый дух солдат, для которых были неразделимы поэт и Родина. Если в годы, предшествовавшие юбилею 1937, перед деятелями искусства ставилась специальная задача — приблизить Пушкина читателю, открыть поэта широкой публике, то в дни войны фронтовые поэты становились свидетелями того, как дорого имя Пушкина каждому солдату.
Пушкиногорье, Михайловское, Тригорское — места, святые для каждого русского человека,— отвоевывались у фашистов с особым чувством и, по воспоминаниям участников тех боев, как-то особенно бережно. Фашисты глумились над этими местами. «Михайловское являло вид печальных развалин,— вспоминал хранитель заповедника С. С. Гейченко.— Топорами были срублены и искорежены взрывами деревья. У Сороти — множество разбитых фашистских дотов. Луга и поляны были обтянуты колючей проволокой с надписью «Заминировано. Прохода нет». Колодцы отравлены фашистами, вместо деревень — остовы печных труб. Тысячи бомб, мин, фугасов саперы извлекли и обезвредили в этих местах. Мины были даже под памятником Пушкину. Кадры хроники навсегда запечатлели вид пушкинских святынь после ухода немцев, каждая деталь — следы изуверства. Даже иконы Святогорского монастыря были сплошь изрешечены пулями — фашисты во дворе упражнялись в стрельбе... Когда советские части войдут в Германию и окажутся у могилы Гете, то вспомнят Пушкинские Горы,
Тригорского священные места,
Великую могилу, надкоторой
Прикладами расколота плита...
Немало проникновенных слов написано о том, с каким чувством советские воины освобождали Пушкиногорье. Вспомним рассказ поэтический, который несомненно тронет каждого и раскроет ребятам мысли и чувства советского солдата...
Не позабыть мне месяца апреля.
Огнем встречал нас каждый дот и дзот.
Снаряды вражьи
стаями летели
С одетых снегом пушкинских высот.
На всех дорогах — наши минометы,
На небе — наш многомоторный гром,
На марше — наша гвардии пехота
С заплечным штурмовым инвентарем...
...Войска собрались перед полем голым,
Просвистывалось пулями оно...
А за тройным колючим частоколом,
За ржавыми спиралями Бруно
Наш Пушкин был...
Казалось в это время,
Что к нам
сквозь гром и воющий металл
Поэт навстречу шел и
— Здравствуй, племя
Младое, незнакомое! — шептал.
Казалось,
в горьком дыме и тумане,
Где что ни шаг— воронка и зола,
Нас, пехотинцев,
пушкинская няня,
Арина Родионовна, ждала!
И каждый знал — Михайловское рядом,
Святыня нашей Родины близка.
Вот почему ни бомбой, ни снарядом
Соседних гор
не тронули войска.
Мы шли в обход
в снегах полуметровых,
И лучший снайпер гвардии
при мне
Назвал «подругой дней своих суровых»
Винтовку на брезентовом ремне.
Казалось, что снега и те горели,
Казалось, что горит вокруг вода.
Обратно, по распутице апреля,
Мы гнали немцев, как волков, тогда.
А Пушкин,
наш великий русский гений,
Шел с нами в бой за честь своей земли:
Мы все его собранье сочинений
Не в вещмешках,
а в памяти несли!
Летят года,—
стихов не старит это,
По всей Руси в теперешние дни,
Как первый гром, звучат слова поэта,
И в наше Завтра шествуют они.
...Казах, киргиз — друзья степей широких,
Украинец, грузин и белорус,—
Мы повторяем пушкинские строки:
— Друзья мои, прекрасен наш Союз!
[237]
Нес с собой по дорогам войны томик Пушкина и поэт Александр Смердов. Он тоже воевал на Псковской земле, в Пушкиногорье. Историю этих боев описал позже в поэме «Пушкинские Горы». В ней рассказывается об освобождении Тригорского, о героической гибели молодого поэта Сергея Снежкова. Личным примером поднял он солдат в рукопашный бой. Освободителям тогда казалось, что Пушкин взывает к ним: «Придет ли час моей свободы?»
...И Пушкин с нами, среди нас идет —
Уложен бережно любимый томик
В походной, виды видевшей котомке,
В сердцах солдат, суровых и простых,
Звенит, поет поэта грозный стих...
Еще не раз в пути, в огне багровом
Взлетит над нами пушкинское слово
И вновь на подвиг позовет...
Вперед!
Кстати, как раз та военная часть, которая освобождала пушкинские места, после штурмовала рейхстаг. Солдаты, освобождавшие Михайловское, Тригорское, водрузили Знамя Победы. В те дни, по воспоминаниям поэта М. Дудина, когда отгремели последние бои, «кто-то на рейхстаге написал: „От Ленинграда до Берлина“ Пушкин»
[238].
6 июня 1945 года необычно проходил первый Пушкинский праздник после победы. За много километров пешком стекались тысячи людей, чтобы поклониться родным местам. Саперы смастерили из жердей арку. Кто-то из солдат, художник, нарисовал на кумаче поэта и приписал: «Здравствуй, Пушкин!»
Глава четвертая
«ПОКА В РОССИИ ПУШКИН ДЛИТСЯ...»
ПОЭТ В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ ПОКОЛЕНИЯ 70—80-Х ГОДОВ XX ВЕКА
В одном из лирических отступлений «Евгения Онегина» Пушкин обращался к будущим своим читателям, к потомкам:
...Отдаленные надежды
Тревожат сердце иногда,—
Без неприметного следа
Мне было б грустно мир оставить.
Живу, пишу не для похвал;
Но я бы, кажется, желал
Печальный жребий свой прославить,
Чтоб обо мне, как верный друг,
Напомнил хоть единый звук.
И чье-нибудь он сердце тронет;
И сохраненная судьбой,
Быть может, в Лете не потонет
Строфа, слагаемая мной;
Быть может (лестная надежда!),
Укажет будущий невежда
На мой прославленный портрет
И молвит: то-то был поэт!
С теми, «чья память сохранит...» его «летучие творенья», поэт говорит доверительно, искренне, с обычной для него легкой иронией. Однако за ироническими и простодушными интонациями угадываются нешуточные заботы, размышления о том, какой будет память о нем и о его поэзии. Мысли, тревожившие сердце поэта, звучат как вопрос к нам, сегодняшним его читателям. Какой же отзвук рождает у наших современников имя Пушкина?
Для наглядного представления об эволюции пушкинского образа на первых страницах книги мы предлагали читателю совершить воображаемую экскурсию по галерее — собранию пушкинских портретов. Чтобы продемонстрировать масштабы нынешнего интереса к поэту, особенности восприятия его в 70—80-е годы нынешнего века, следовало бы совершить аналогичную экскурсию, но уже не по галерее, а по огромному многоэтажному Пушкинскому мемориалу, в котором была бы отражена жизнь поэта в памяти нашего поколения. Такого мемориала пока нет, так что и путешествие по нему возможно лишь мысленное, воображаемое. Правда, прообраз его, научно-культурный центр, создается сейчас в Пушкинских Горах.
Не ожидая завершения развернутых в пушкинском заповеднике работ, попытаемся предположить, что можно увидеть в таком необычном пантеоне.
Первый зал, открывающий экспозицию, несомненно, читальный, в котором собраны пушкинские издания — прошлых лет и современные. Только собраний сочинений за годы Советской власти издано в нашей стране более тридцати на русском языке, а также семь на языках народов СССР. Всего же книги поэта издавались на 99 языках, в том числе на 71 языке народов нашей страны.
Интересное сопоставление: первый тираж «Руслана и Людмилы» составил всего 1200 экземпляров, а трехтомное издание по свободной подписке в 1985—1987 годах вышло тиражом почти в 11 миллионов!
Как связаны тиражи пушкинских книг с образом поэта, с представлением о нем читателей? Непосредственно. Помните, друг поэта Иван Пущин в грустные минуты своей жизни утешал себя тем, что поэт не умирает и что Пушкин всегда жив для тех, кто умеет отыскивать его, живого, в бессмертных его творениях. Для этого очень важно, чтобы его книги были доступны. Самые разные издания — от специальных для детей до академических, до иллюстрированных многими выдающимися живописцами — есть теперь почти в каждой семье. Эти издания полностью освобождены от распространенных, особенно в прошлом веке, неверных текстологических трактовок. Произведения предстают такими, какими вышли из-под пера поэта, с учетом последней авторской воли, то есть тех поправок, которые вносил сам Пушкин.
Наиболее авторитетным до сих пор остается 16-томное собрание сочинений (в 21 книге) издания Академии наук СССР, вышедшее в свет в 1937—1949 годах. Оно охватывает массив основных пушкинских рукописей. Но со времени, когда создавалось это собрание сочинений, сделано немало открытий, которые учитываются в более поздних собраниях. С середины 80-х годов начата подготовка к выпуску нового 35-томного Академического собрания сочинений Пушкина. В него, помимо фонда завершенных произведений и рукописей, вариантов, будут включены научные комментарии — текстологические, историко-литературные, энциклопедические. Это издание готовится к выпуску к двухсотлетию со дня рождения поэта.
Для формирования и закрепления в социальной памяти истинного, неискаженного представления о поэте чрезвычайно важны полнота и разнообразие суждений о различных проявлениях творческого гения. Нужно учесть, что в 70—80-е годы в сознание широкого читателя стали активнее входить пушкинские исторические труды, плоды его деятельности как публициста, критика, расширились знания о Пушкине-рисовальщике. Эти грани таланта поэта и прежде были известны, но сравнительно малому кругу интересовавшихся, посвященных в святая святых историй литературы, либо специалистов по творчеству поэта. Теперь же эти представления стали достоянием довольно широких читательских кругов.
«Библиопушкиниана». Так, быть может, назовут читальный зал, в котором будут представлены книги о поэте. Пушкиноведение начиналось с описания истории жизни и творчества классика. По сей день задача эта остается одной из важнейших, новое время задает немало новых вопросов и требует разъяснений. Наибольшее число исследований, критических этюдов, эссе посвящены отдельным этапам, периодам и событиям в жизни Пушкина, конкретно-историческим моментам его творческой биографии. Это, к примеру, книги Г. И. Макогоненко «Творчество А. С. Пушкина в 1830-е годы, 1833—1836» (Л., 1982), С. Л. Абрамович «Пушкин в 1836 году: Предыстория последней дуэли» (Л., 1984) и многие другие. В названиях подчеркивается обширная география путешествий поэта, связь его творчества с поездками в разные уголки страны: В. Я. Рогов «Далече от брегов Невы: Заметки о пребывании А. С. Пушкина в Екатеринославле в 1820 году» (Днепропетровск, 1984), Л. А. Черейский «Пушкин и Тверской край» (М., 1985), Л. А. Черейский «Пушкин и Северный Кавказ» (Ставрополь, 1986), С. Т. Овчинникова «Пушкин в Москве» (М., 1985), В. П. Гнутов «Поэт в краю степей необозримых: Рассказы-эссе о пребывании А. С. Пушкина на Дону» (Ростов-на-Дону, 1985), Г. В. Краснов «Пушкин: Болдинские страницы» (Горький, 1984).
Весьма популярной темой остаются исследования, издания о взаимоотношениях поэта с его современниками. Из примечательных книг последнего времени двухтомники «А. С. Пушкин в воспоминаниях современников» (М., 1974; 1985), сборники, составленные В. В. Куниным «Друзья Пушкина: Переписка. Воспоминания. Дневники» (М., 1986). Рассказы о лицейских друзьях поэта найдете в книге М. П. Руденской, С. Д. Руденской «С лицейского порога: Выпускники Лицея 1814—1917» (Л., 1984), повествования о Пущине — у Н. Я. Эйдельмана в повести «Большой Жанно» (М., 1982), у В. И. Порудоминского в книге «Друг бесценный, или Восемь дней на пути в Сибирь: Повесть про декабриста Ивана Пущина» (М., 1984). Эссе о взаимоотношениях Пушкина с дядей Василием Львовичем Пушкиным представлены Н.. И. Михайловой в работе «Парнасский мой отец» (М., 1983). Остается неисчерпанной история взаимоотношений поэта с декабристами, раскрытию которой посвящены в последнее время ряд книг: Я. Гордина «События и люди 14 декабря» (Л., 1985), Н. Я. Эйдельмана «Пушкин и декабристы: Из истории взаимоотношений» (М., 1979), Б. С. Мейлаха «Декабристы и Пушкин: Страницы героико-трагической истории» (Иркутск, 1987)...
Во всех упомянутых трудах рассказывается о поэте, о его характере, натуре, пристрастиях, творческом и духовном развитии. Наряду с такими обобщающими описаниями личности поэта появляется все больше исследований различных сторон, граней, особенностей пушкинского гения, особенностей его творческой лаборатории. О формировании исторических воззрений поэта и присущих ему качествах ученого-историка рассказывает Г. А. Невелев в книге «Истина сильнее царя...: Пушкин в работе над историей декабристов» (М., 1985) и Н. Я. Эйдельман в работе «Пушкин: история и современность в художественном сознании поэта» (М., 1984). Немало изданий посвящено Пушкину-рисовальщику. Это и многими тиражами выходившая книга Т. Г. Цявловской «Рисунки поэта» (М., 1970; 1980; 1983), и изящный труд Л. Керцелли «Мир Пушкина в его рисунках: 1820-е годы» (М., 1983). Чрезвычайно интересно ставшее библиографической редкостью исследование о том, как создавал поэт свои бессмертные творения, проведенное Б. С. Мейлахом в работе «Художественное мышление Пушкина как творческий процесс» (Л., 1962) и в его же книге «Творчество А. С. Пушкина: Развитие художественной системы» (М., 1984)
[239].
Библиопушкиниана включает трудно исчислимое разнообразие тем, направлений, отражающих многоплановость нынешних интересов к поэту. Наш современник Александр Кушнер, определяя истоки потребности в Пушкине во второй половине 80-х годов XX века, отметил, что поэзия его и сам поэт, его жизненный опыт, его прозрения, мудрость, откровения «всегда с нами, растворены в нашей крови»
[240]. Перекликаясь с ним, Геннадий Гоц пишет, что Пушкин необходим как воздух, вода...
...Как вешний воздух, плеск реки,
Как первый снег в просторе синем,
То чудо сказочной строки
И гордой песни о России.
Свободы, мужества полны,
Добра и чести, гимны эти
В краях неведомых слышны
На пробудившейся планете.
Но необъятен океан,
Неисчерпаем мир поэта:
В его глубинах — тайна света.
Который нам, как солнце, дан...
Интерес к поэту уже давно не ограничивается пределами нашей многонациональной страны. При том, что освоение Пушкина иноязычным, прежде всего западноевропейским и американским читателем, осложнено отсутствием конгениальных творениям поэта переводов, в восприятии его и оценке в англо-, франко-, немецкоязычных странах наметились, по замечаниям советских исследователей Р. Гальцевой и И. Роднянской, знаменательные сдвиги
[241]. Этот факт также получит отражение на полках библиопушкинианы.
Если судить по книгам, изданным о поэте за рубежами страны,— а их становится все больше — пристальный интерес к творчеству Пушкина сочетается со все более явным тяготением к пониманию жизненного, творческого опыта поэта, к разгадке тайн его личности. В исследованиях американских, английских ученых, в популярных книгах, в романах о поэте, где предпринимаются попытки проникновения в суть и смысл пушкинского творчества, отмечается его созвучие современности. Не прекращается поиск путей и способов постижения русского гения. Западных пушкиноведов все более привлекают также философские воззрения Пушкина, философские мотивы в его творчестве, своеобразие реализма поэта, специфика его исторического мышления... По мнению английского автора А. Д. Бриггса, «в русской среде... Пушкин внедрен в самую сердцевину множества жизней. Он помогает в крайней нужде, беде, излучает особый род духовной поддержки, глубоко интимной, как сердечная святыня». Эту идущую от Пушкина удивительную силу Бриггс обозначает словом «доброта»...»
[242]. При том, что в трудах западных авторов, ученых, деятелей культуры, обращающихся к образу поэта, конечно же, нет абсолютного согласия, немало высказываний противоречивых и попросту неверных, все же весьма отрадным представляется интерес к творческим дерзаниям и к нравственным урокам поэта.
Образ поэта тем многограннее и богаче, чем больше в его основании объективных данных, материалов, источников. Понятие «объективные» означает, что они свидетельствуют о писателе, поэте непосредственно, иными словами, без участия посредников-интерпретаторов. Помимо наследия собственно художественного, к этой категории относятся дневники, записные книжки, письма, автобиографии, автопортреты и рисунки, материалы, раскрывающие особенности творческой лаборатории,— черновики, наброски, планы произведений и т. д.
Наше время отличается обостренным интересом нынешних читателей ко всем сторонам и граням проявления пушкинского дара. Тяга читателей ко всему, что освящено именем Пушкина,— особенность нашего времени. Какие еще сдвиги в самом характере интереса к поэту можно заметить, продолжая экскурсию по Пушкинскому мемориалу?
Много любопытного открывается при знакомстве с трудами исследователей-пушкинистов, историков, литературоведов. Литература, посвященная поэту, его времени, его окружению, огромна. Авторы биографий, исследований об отдельных периодах жизни поэта, создатели популярных книг о нем понимают, что образ Пушкина складывается в общественной памяти нашего поколения на фоне все более растущего интереса к истории, пушкинской эпохе, движению декабристов, литературному и бытовому окружению поэта. Читатели стремятся составить свое мнение о поэте на основании знаний о нем. Это не простое стремление к «узнаванию», не рационалистическая тяга к информации только, но искреннее желание приобщиться к духу того времени, вникнуть в суть исторических событий прошлого и в смысл человеческих деяний. Это стремление приобщиться к поэту, прочувствовать умом и сердцем его творчество.
В Пушкинском мемориальном комплексе обязательно будет зал, посвященный музеям поэта. Экскурсия по залу окажется своеобразным посещением самых разных пушкинских музеев. У каждого ведь своя особенность, свое лицо. У почтенного Всесоюзного музея поэта в Ленинграде и у более молодого Государственного музея в Москве — свои традиции, свои принципы экспозиционной режиссуры и работы с посетителями. Сколько интересного можно узнать в сравнительно молодых музеях, таких, как «Домик станционного смотрителя», как «Музей-квартира А. С. Пушкина на Арбате»...
Должны быть отражены в этом зале мемориала и школьные музеи Пушкина, такие, к примеру, как созданный в 1980 году в Шабагишской средней школе Камертауского района Башкирской АССР. В фондах этого музея около 6 тысяч экспонатов, рассказывающих о Пушкине и посвященных теме «Башкирская тропа к Пушкину». Музеем проводятся районные Пушкинские чтения, выставки рисунков «Пушкин глазами детей», есть своя Пушкинская детская картинная галерея...
В Пушкинском мемориале много залов будет отведено произведениям художественной пушкинианы наших дней — «Пушкин в литературе и поэзии», «Пушкин в живописи и скульптуре», «Пушкин и театр», «Пушкин в музыке»... В фонотеке будут собраны многочисленные записи, пластинки, запечатлевшие выдающиеся исполнения произведений поэта.
В кинотеке мемориального комплекса можно будет с помощью видеоаппаратуры посмотреть художественные, телевизионные, документальные, научно-популярные фильмы о поэте и его творчестве. Это и «Храни меня, мой талисман», «Наследница по прямой», «Последняя дорога», а также документальные и научно-популярные ленты — «И назовет меня...», «Мой Пушкин», «Наш Пушкин», «Встреча с Пушкиным», «Пока свободою горим», «А. С. Пушкин. Страницы истории России», «В тверском краю. Дорогами Пушкина», «Наедине с Пушкиным», «Пушкин в Каменке», «Пушкин в Молдавии», «Я памятник воздвиг...».
Мысль Белинского о поэте как о движущемся явлении общественного сознания может получить подтверждение и раскрытие в другом зале мемориала, посвященном многочисленным пушкинским выставкам и юбилеям поэта.
Выставка — дань памяти. Какими были они, экспозиции «Пушкин и его время в изобразительном искусстве XIX— XX вв.», работавшие в дни, когда отмечалось 185-летие со дня рождения поэта, многочисленные мемориальные экспозиции, связанные со 150-летием трагической дуэли, а также «Пушкин в памяти поколений» в Центральном выставочном зале в Москве в 1987 году, «Театр пушкинской поры» в музее имени А. Бахрушина и многие другие? Конечно, разными по замыслам, по принципам отбора экспозиционных материалов. И все же в главной идее каждой выставки, в отборе экспонатов, произведений искусства в той или иной мере проявлялись особенности отношения к личности и наследию поэта.
Мы не исчерпали и малой доли тех тем, которым могли бы быть посвящены залы Пушкинского мемориального комплекса, раскрывающего жизнь его образа в представлениях наших современников. Но даже те, которые были названы и о которых пойдет речь далее, свидетельствуют о многообразной жизни Пушкина в общественной памяти. Они же могут быть использованы учителем на уроках, могут подсказать направление в работе школьного литературного музея, стать темой сочинения, самостоятельной работы учащихся.
Стихи поэта и судьба поэта
Многие качества и свойства пушкинской натуры притягательны для наших современников. Это и «всеотзывчивость» поэта, феноменальная разносторонность интересов, творческих проявлений, энциклопедизм, широта кругозора, вулканическая созидательная энергия
[243].
Все отчетливее осознается, что «вечно растущее явление» — Пушкин не только не замкнут рамками его наследия, но и что современная культура впитывает его личный жизненный опыт, преподанные им идеалы нравственного, творческого поведения.
 Н. Б. Никогосян. А. С. Пушкин.
Н. Б. Никогосян. А. С. Пушкин.
У каждого поколения, открывающего образ поэта, оказываются преимущественные пристрастия к истории его жизни, к тем или иным эпизодам биографии, которые воспринимаются как наиболее показательные для понимания его личности. Так, в первые годы Советской власти, на заре становления новой культуры, в центре внимания оказывались чаще всего юность Пушкина, периоды ссылок и возвращение, то есть время приблизительно до второй половины 20-х годов XIX века. Последнему десятилетию жизни поэта уделялось сравнительно мало внимания.
После второй половины 60-х годов нашего столетия, а точнее, в начале 70-х акценты несколько сместились. Теперь ширится интерес к последнему периоду жизни поэта, к сложной эволюции его характера и творчества, к тому времени, когда закаленный в житейских невзгодах и испытаниях, Пушкин создавал произведения, не увидевшие печати при его жизни и даже после гибели. «Мой бог — Пушкин,— говорил писатель Федор Абрамов.— Мой Пушкин — это опекушинский Пушкин, который пророчески, с великим и горьким раздумьем смотрит в очи России.
 М. К. АНИКУШИН. Памятник Пушкину в метро на Черной речке в Ленинграде.
М. К. АНИКУШИН. Памятник Пушкину в метро на Черной речке в Ленинграде.
В нем все начала и, кажется, все концы...»
[244]. Опекушинский памятник представляет поэта именно в годы его зрелости, в последний период творчества...
Обоснована ли предпочтительность интереса к тому или иному отрезку биографии, приближает ли происшедшая смена интереса к пониманию главного, доминирующего в пушкинской личности? А к проникновению в суть творчества?
Нам кажется справедливым разрешение этого вопроса, предложенное критиком С. Чуприниным, утверждавшим, что облик Пушкина естественно должен складываться с учетом всей его истории. Образ поэта неполон без «Вольности», южных поэм, «Гаврилиады», как неполон он без «Стансов», «Медного всадника», без поздней лирики. Но вместе с тем само «время разворачивает нас относительно поэта, и тот факт, что... мы так скоро повзрослели... и ныне осознаем свое преимущественное родство со стихами 30-х годов (пушкинскими стихами.—
Е.В.), говорит, естественно, прежде всего о нас самих, о свойствах переживаемого нами исторического момента...»
[245].
 Г. Д. НОВОЖИЛОВ. Пушкин. 1970.
В. Б. ШЕЛОВ. А. С. Пушкин-лицеист. 1985.
Г. Д. НОВОЖИЛОВ. Пушкин. 1970.
В. Б. ШЕЛОВ. А. С. Пушкин-лицеист. 1985.
Мы испытываем влечение к позднему периоду жизни и творчества поэта, к мудрому, зрелому Пушкину в пору, когда «томимое духовной жаждой»
[246] поколение наше стало ощущать дефицит нравственности, справедливости, когда не выдержали испытания бытовавшие критерии оценки человеческих поступков, совести, чести. По-новому вглядываемся мы теперь в жизнь Пушкина, прочитываем ее, акцентируя нравственно-этический урок.
Такой подход вовсе не означает невнимания к ранним периодам жизни и творчества. Полнота представлений о поэте достижима лишь при учете всей его истории, всей сложной эволюции и логики творческого развития. И все же заметен обостренный интерес именно к этому этапу жизни, в котором характер, личность, натура — человеческая и творческая — отразились наиболее полно и глубоко. Потому-то наш современник скажет, что если выбирать сейчас, какой памятник поэта нам ближе — московский опекушинский, где поэт в глубокой задумчивости погружен в нелегкие размышления, или ленинградский, где Пушкин изображен торжествующим,— то многие предпочтут первый. Потому что «Пушкин-юноша прекрасен в своих порывах, но еще прекраснее мужественная печаль и выстраданная мудрость зрелого Пушкина»
[247].
Есть и другие причины, объясняющие особый интерес к последним годам жизни и творчества поэта. Годы эти были полны событиями, которые слишком долго получали разноречивые трактовки и объяснения. Они и действительно трудны для понимания, тем более что были мотивированы условиями и представлениями далекого от нас времени.
Собственно, наслоение легенд, вымыслов касается периода жизни поэта после декабрьского восстания. Если сказать, что наука о поэте развеяла все легенды и мифы, дала точные и исчерпывающе доказательные ответы на многочисленные вопросы, то останется неясным, отчего же так живы неоднозначные толкования в обыденном сознании. Но в том-то и дело, что пушкиноведение само встречается здесь с трудными вопросами, что отражается в дискуссиях, к примеру, о политической биографии Пушкина после декабря, о мотивах написания «Стансов» и «К друзьям», о преддуэльных и других событиях.
Быть может, как раз реальная сложность исторической обстановки второй половины 20-х годов прошлого века, неоднозначность политических условий, в которых оказался поэт по возвращении из ссылки, подталкивают порой к поверхностным суждениям и поспешным оценкам. Появляются аттестации Пушкина, в которых подчас смещаются акценты при оценке мировоззрения поэта, доминирующих черт его личности. Вот как, к примеру, Т. Глушкова раскрывает мотивы создания поэтом «Стансов»:
Он знал: ему не получить
охранных грамот и прощенья,
когда слагал в своей ночи
жестокосердцу восхваленье.
Он видел, взмоет воронье,
когда взволнованно-спокойно
так высоко и так достойно
ронял достоинство свое...
Автор вроде бы на стороне поэта, объясняя нам, как следует понимать «странный» поступок — написание обращений к Николаю. Но звучит подобное объяснение рецидивом распространенных в прошлом оценок. Искажения пушкинского облика не ушли в прошлое. Преодолены установки на сознательное «снижение» его образа, но часто с наилучшими намерениями создаются толкования образа поэта, более всего уместные для цитирования на страницах книги, подобной собранию пародий А. Иванова «С Пушкиным на дружеской ноге». Из заглавия следует (оно представляет собой часть реплики Хлестакова, похвалявшегося панибратскими отношениями с Пушкиным), что собранные в нем произведения написаны теми, кого обманула кажущаяся легкость пушкинской темы.
Этакой лихости и поверхностности суждений о поэте противостоит углубленный, взыскательный и настойчивый интерес к мельчайшим подробностям и сведениям о пушкинской эпохе, обо всем, что объясняет особенности натуры поэта.
Тяготение к научной обоснованности суждений, к «документальности» проявляется во многих произведениях последнего времени, посвященных поэту. Документ нередко вводится органично в самую художественную ткань произведения:
«Убит. Убит. Подумать! Пушкин...
Не может быть! Все может быть...»
«Ах, Яковлев,— писал Матюшкин,—
Как мог ты это допустить!
Ах, Яковлев, как ты позволил,
Куда глядел ты! Видит бог,
Как мир наш тесный обездолил...»
[248].
Как и в цитированных выше стихах В. Соколова, документ часто вводится «цитатным способом» (по точному определению B. Баранова)
[249]. Чаще всего это бывают свидетельства современников Пушкина, отрывки из дневников, писем. Они помогают реконструкции духа пушкинского времени, подключают воображение читателей к переживанию и осмыслению тех или иных событий.
Обессиленный подлостью, тайнами зла
И силками сановного высокомерья,
он кудрявую голову поднял с подушки,
он в глаза книгам взглянул: «Прощайте, друзья!»
Забытье. Гаснет время. И вновь: «Это ты...
Даль, мне пригрезилось, что я с тобою
лезу вверх, вверх по этим вот книгам и полкам,
высоко-о... и голова закружилась...»
[250].
И в этом стихотворении С. Поделкова «Книги» цитатно включены воспоминания Даля о смерти поэта
[251].
Интерес к любым подробностям, связанным с именем Пушкина, проявляется подчас своеобразно. Припоминается то волнение, которое пришлось испытать при просмотре документального телевизионного фильма «Дома у Пушкина». Действие протекало в последней квартире поэта на набережной реки Мойки в Ленинграде. Перед зрителями интерьеры комнат предстали в необычном виде — музей снимался в самый разгар проводившейся там реконструкции. Полным ходом шел ремонт, повсюду был разбросан строительный мусор, двери стояли снятые с петель, подоконники были разобраны. Со стен, потолка тогда были сняты многие слои краски, извести, обоев, чтобы восстановить тот слой стенных покрытий, который соответствовал времени жизни в этих комнатах Пушкина.
На закрытых для посетителей дверях музея табличка: «Музей закрыт на капитальный ремонт». Хранитель музея Н. И. Попова и академик Д. С. Лихачев показывают зрителям квартиру в первозданно-обнаженном виде, и зрителя по-особому трогает прикосновение к тайне поэта. Отчего так? Д. С. Лихачев объясняет это себе и зрительской аудитории тем, что при взгляде на музей в таком виде усиливается ощущение безыскусственности: в этих вот стенах резонировал голос поэта, звучала его речь. Подключение прежних впечатлений от «встреч» с поэтом помогает преодолеть временной барьер, и более зримыми, конкретными становятся представления об образе поэта.
В этом же фильме Д. С. Лихачев подтверждает признанный факт обостренного интереса к наиболее сложным и переломным моментам жизни поэта. В частности, это относится к дуэли. «По существу,— по словам Д. С. Лихачева в фильме «Дома у Пушкина»,— в истории русской литературы это самый трагический момент...» Эти слова произносятся в кабинете поэта, куда внес его, раненного, Никита Тимофеевич Козлов, дядька, верно служивший ему и любивший его искренно.
Хранитель музея-квартиры в этом фильме говорит о том, что многие приходящие сюда люди задают один и тот же вопрос: «Зачем Пушкин пошел на эту дуэль? Ведь сколько бы он смог написать, если бы остался жив...» Иные полагают, что какие-то события внешнего порядка могли бы предотвратить трагедию, друзья, если бы были в то время в Петербурге...
Этот страшный эпизод из жизни поэта переживается не как старая рана, не как происшествие полуторавековой давности, а как событие, с которым все еще не может свыкнуться сознание, как впечатление, которое острой занозой саднит сердце.
...Последние,
последние мгновенья —
он умирал,—
он тихо умирал.
Сто лет тому назад и даже прежде,
а боль такая,
будто бы вчера...
С поэтическими строчками перекликается настроение, переданное Е. Е. Моисеенко в картине «Памяти поэта».
Это полотно заслуживает особого внимания, как свидетельство нынешнего отношения к трагедии поэта и эволюции восприятия этого события.
...После поединка с Дантесом на Черной речке смертельно раненный Пушкин в карете Геккерна был привезен в дом на набережную Мойки. Никита Тимофеевич Козлов, слуга, бесконечно преданный поэту, на руках внес его в дом. «Грустно тебе нести меня?» — произнес тогда Пушкин...
 П. Ф. БОРЕЛЬ. Прибытие раненого Пушкина. 1885.
П. Ф. БОРЕЛЬ. Прибытие раненого Пушкина. 1885.
Сто лет тому назад, в 1885 году, этот момент был запечатлен П. Ф. Борелем на рисунке «Прибытие раненого Пушкина». В 1985 году завершил свою работу над картиной «Памяти поэта» наш современник, народный художник СССР, лауреат Ленинской премии, Государственной премии СССР и Государственной премии РСФСР Е. Е. Моисеенко. Его картина — перекличка и вместе с тем своеобразный спор с былыми трактовками дуэльных событий.
 Е. Е. МОИСЕЕНКО. Памяти поэта. 1985.
Е. Е. МОИСЕЕНКО. Памяти поэта. 1985.
Тематическая связь между двумя изобразительными версиями трагического прибытия поэта после дуэли очевидна. И даже в деталях много общего: и там и здесь Никита Козлов несет Пушкина из кареты в дом. Но как различаются и способы видения, и осмысление момента...
У Бореля на переднем плане карета с распахнутой дверцей. «Дядька» поэта (как было принято, в камзоле, в белых чулках...) подхватил Пушкина. Тревога охватила слуг. Это подчеркивается композицией рисунка, позами персонажей. Но выражения их лиц мы почти не различаем. Фигуры «удалены» от зрителя, обозначены общим планом, размыты, да и маловыразительны. Это рассказ о событии в жизни поэта, рассказ информирующий... Такой подход был естествен и закономерен для последней четверти прошлого века. Тогда биографию Пушкина лишь открывали, а еще вернее — приоткрывали, так как многие события замалчивались. Были непопулярны и толкования причин гибели Пушкина. Живописцы стремились донести до зрителя сведения о трагическом событии, им необходимо было передать самый факт.
Е. Е. Моисеенко создавал свое полотно в иных культурно-исторических условиях, когда почитатели пушкинского таланта со школьной скамьи узнают о том, как сжималось кольцо гонений и травли вокруг поэта. Широко известны многие подробности заговора, прослежена трагическая предопределенность судьбы свободолюбивого гения. Вот что важно: знание причин, мотивов, деталей не заглушает непосредственность чувства, остроту переживания.
Все в этом полотне — на контрасте. В ясный, светлый день свершилась черная, непоправимая беда. Старик, плотный, кряжистый (не лакейского вовсе вида, а мужик в лаптях и обмотках...), несет поэта, тонкого, хрупкого. Мертвенно бледное, страдающее лицо поэта, прикрытые глаза рядом с широко распахнутыми ужасом близкой потери и отчаяньем кричащими глазами доброго старика. В сочетании образных характеристик, в общем композиционном и цветовом решении, в простоте и скупости изображения «прочитывается» многоплановое повествование о том страшном моменте, о поэте, о нашем горе...
Карета, река, город — лишь фон, отдаленный и тревожный. Под ослепительно белыми сводами арки Никита Козлов бережно прижимает к себе поэта, словно заслоняя от всего, что принесло ему погибель. Вера, испуг, безнадежность и безграничная любовь в лице простого человека — это боль всей России, в тот момент осознавшей невосполнимость потери.
Печать страдания в пластике фигуры поэта, в выражении нервного лица еще более оттеняет и подчеркивает его внутреннюю душевную силу и благородство. Нет в нем смятения, страха перед неизбежным — лишь осознание правоты и готовность к своему тяжкому жребию. Холод белых сводов, хрустальный звон прозрачного воздуха... В безысходности страдания Никита Козлов обращает свой взор к зрителю, как бы в поисках сочувствия, сострадания.
Наш современник, создавая это полотно, учитывал, конечно же, широкую осведомленность зрителей о биографии Пушкина. Не потому ли он был менее связан необходимостью передачи фактографической стороны Дела? Он оказался свободнее в мелочах быта, в прорисовке (и даже в выборе) одежды персонажей, в следовании документу. Для живописца наших дней главное — проникновение в великий трагический смысл происшедшего, глубинное, образное его постижение. Картина «Памяти поэта» втягивает зрителя в свое пространство, вызывает острое чувство сопричастности... И рождает душевный отклик.
Интерес к дуэльным событиям связан еще и с тем, что именно в ходе этой трагедии облик Пушкина, его натура раскрылись с наибольшей отчетливостью.
В трактовках преддуэльных событий научная и художественная Пушкиниана взаимодополняют друг друга, сотрудничают и способствуют уточнению психологических, фактологических и прочих подробностей. Причем если создатели исторических и пушкиноведческих трудов этой тематики идут в направлении детализации событий, которые привели к дуэли, выясняют контекст, в котором складывались предпосылки трагедии
[252], то в художественных трактовках усиливается аспект нравственно-этический.
Так, в поэтических трактовках преддуэльных событий значительное место занимают гипотезы и предположения, при каких обстоятельствах трагедия не произошла бы, как можно было б ее предотвратить, как следовало бы вести себя Пушкину и т.д. При этом авторы гипотез не всегда исходят из реальной концепции личности поэта, порой им изменяет чувство меры в подходе к оценке характера Пушкина и к пониманию кодекса чести той эпохи. В поэме «Мой Пушкин» Николай Доризо исходит из предположения, что поэт отказался бы от поединка, если бы был занят в ту пору созданием произведения, то есть творчеством, которое захватывает целиком и поглощает все помыслы. Да и вообще необходимо было избежать дуэли во имя творчества:
В рабочий день не ходят на дуэли,
А счеты с жизнью сводят за столом...
[253]
Автором, видимо, руководили самые лучшие чувства. Силой творческого воображения он хотел «спасти» Пушкина. Но что получилось? Предположение разрушило реальную цельность пушкинского характера, исказило понимание его натуры:
...Вдруг за спиною двери загремели,
И в комнату заходят господа:
— Вас ждет Дантес, как вы того хотели.
Дуэль сегодня или никогда! —
Что им ответить, этим светским сводням?
И он вдруг стал беспомощным таким...
— Потом! Потом! Но только не сегодня,
Я не могу
сегодня драться с ним.—
Они ушли.
А он кусает губы.
— Ну погодите, встретимся еще! —
И вновь в ушах
поют «Полтавы» трубы.
И строки
боем дышат горячо.
Поэт завершает свое предположение весьма категорично:
Мы побеждаем.
Нами крепость взята.
Победой той
от смерти он спасен.
Так было бы,
я в это верю свято,
Когда б в тот день
В действительности все было иначе, гипотеза Н. Доризо не только искажает реальность историческую, но и исходит из неверной трактовки облика поэта.
Поэма эта вполне может быть прочитана учениками, и не исключено, что гипотеза, предложенная автором, вызовет их недоумение. Но может случиться и иное. Молодые люди нередко «осуждают» Пушкина за то, что он, понимая, от каких низких людей исходят сплетни вокруг его имени и по поводу чести его жены, все же «уступил» им. О такой очень распространенной в последнее время позиции наших современников, которые судят о прошлом с позиций нашего времени, писал Д. Кугультинов. Свое стихотворение «Пушкин» он и начинает с вопроса, который задается ему юным почитателем классика:
— Да как же он, стремясь к великой Цели
Во весь размах своих могучих крыл,
Вдруг предрассудку века уступил
И оборвал до срока на дуэли
Жизнь, важную для нас, для всех вокруг?..—
Спросил меня поэт, мой юный друг.
Далее Кугультинов анализирует истоки весьма расхожего взгляда, иронизируя над тем, как мало в нем историчности, как далек он от верного подхода к оценке событий и поведения людей далекой эпохи...
...И правда, ради пользы всей земли,
Искусства соблюдая интересы,
Не лучше ль было разрешить Дантесу
Пятнать прекрасный облик Натали,
Простить ему всю низость, все бесчестье
И пренебречь своею личной местью?..
А то еще и жалобу подать,
Упечь врага, ну... на пятнадцать суток,
А самому за этот промежуток
Стихи о чести начертать в тетрадь,
Чтобы нехватка жизненной отваги
Восполнилась хотя бы на бумаге.
Лучше всего опровергает подобные предположения сама история жизни Пушкина. Утверждая в статье о Державине, что слова поэта — это в то же время и дела поэта, Пушкин определил высокий критерий оценки личности творца. Сам следовал этому же принципу неукоснительно, остался верен ему до конца. Об этом и пишет наш современник:
И мог ли он, в ком клокотала кровь,
Благоразумно сберегать свой гений,
Предать себя, предать свою любовь,
Чтоб удлинить собранье сочинений?
Чтоб к бронзе прирастить еще вершок,
От мщенья отказаться? Нет, не мог!
Как перекликаются эти строки Д. Кугультинова с мнением Б. Пастернака: «...Он дожил бы до наших дней, присоединил бы несколько приложений к Онегину и написал бы пять «Полтав» вместо одной. А мне всегда казалось бы, что я перестал понимать Пушкина, если бы допустил, что он нуждался в нашем понимании больше, чем в Наталии Николаевне». В этих словах, в строчках стихотворения Д. Кугультинова — не просто один из возможных способов интерпретации пушкинской судьбы. В них взгляд на поэта соизмерен исторически. Это еще и урок того, как следует оценивать поступки, поведение Пушкина в свете общей концепции его личности. Нам кажется, что чрезвычайно важно донести до ребят верную трактовку сложного эпизода в жизни поэта, поэтому мы приведем концовку стихотворения Давида Кугультинова целиком.
Да, он, поэт, велик и потому,
Что высшей совести и страсти цельной
Был верен неизменно, безраздельно,
И это не перечило уму,
Что он, премудрый, взрывчат был, как порох...
Вот почему тебе и мне он дорог!
Любовь его, как солнечный восход.
Воображенье согревает наше.
И тот, кто сомневается в Наташе,
Не сторону ль Дантеса он берет?..
Ведь Пушкин верил ей, идя кбарьеру...
Кто смеет посягать на эту веру?
...Мой юный друг, и я скорблю о том,
Что страшная свершилась катастрофа...
Хотел бы я, раскрыв любимый том.
Увидеть там нечитаные строфы
И знать, что Пушкин дожил до седин —
Счастливый муж, спокойный семьянин...
И все ж пред миром Пушкин не в долгу.
Суровым судьям я его не выдам!
Нет, гения винить я не могу,
Что он, земным подверженный обидам,
Метался и страдал куда лютей,
Чем ты да я, чем тьма других людей...
Он пал в борьбе с тупой, жестокой силой,
И смерть его — поверь! — прошла не зря:
Она для нас навек соединила
Чеканный ямб с бесстрашьем бунтаря,—
Затем, что слиты и друг в друга впеты
Стихи поэта и судьба поэта
[255].
Доказывая целостность, внутреннюю нравственную бескомпромиссность личности, поэт — наш современник, верно передает суть нынешних подходов к оценке пушкинского характера. В этих представлениях доминирует та концепция образа поэта, которую в первой половине прошлого века утверждал Лермонтов. И потому, как в стихах о Пушкине Н. Брауна, многим другим нашим современникам поэт видится так:
...на слово остер и непокорен,
Прям и прост в величии своем.
Он идет,
Отвергший примиренье,
Под удар смертельного свинца...
[256].
В разных планах развивается и уточняется провозглашенная Лермонтовым концепция пушкинского характера и истории дуэли. Пушкин предстает свободолюбивым, непокорным жестокой судьбе, стойким и непреклонным. Любопытно, как проявляется такая оценка личности поэта даже в произведениях, которые словно бы «генетически» связаны с темой отклика на смерть Пушкина в изложении В. Жуковского. Широко известно написанное другом Пушкина уже после письма к отцу Сергею Львовичу стихотворение:
Он лежал без движенья, как будто по тяжкой работе
Руки свои опустив. Голову тихо склоня,
Долго стоял я над ним один, смотря со вниманьем
Мертвому прямо в глаза; были закрыты глаза,
Было лицо его мне так знакомо, и было заметно,
Что выражалось на нем,— в жизни такого
Мы не видали на этом лице.
Не горел вдохновенья
Пламень на нем; не сиял острый ум;
Нет! Но какою-то мыслью, глубокой, высокою мыслью
Было объято оно: мнилося мне, что ему
В этот миг предстояло как будто какое виденье,
Что-то сбывалось над ним... и спросить мне хотелось:
Что видишь?
Так писал о поэте Жуковский в духе своей концепции его жизни и смерти. Наш современник, казалось бы, пишет о том же, но как отличается само понимание сути пушкинского характера, самых важных его качеств, не только торжествовавших при жизни, но и утвержденных самой его смертью:
Меж императорским дворцом
И императорской конюшней,
Не в том, с бесхитростным крыльцом
Дому, что многих простодушней,
А в строгом, каменном, большом,
Наемном здании чужом
Лежал он, просветлев лицом,
Еще сильней и непослушней,
Меж императорским дворцом
И императорской конюшней...
[257].
В этих стихах поэта Владимира Соколова утвердившееся в наше время понимание пушкинского вольнолюбивого духа как одной из определяющих его черт. Он действительно и после смерти «еще сильней и непослушней...», не покорился требованиям света, монарха и многих приспешников царской власти, гонителей гения. Закованный в рамки жестоких требований, ограничений и условностей поэт остался непокоренным и пронес сквозь всю жизнь дух вольности и свободолюбия. Такое видение стержневых особенностей натуры и творчества поэта активно развивается в советскую эпоху.
Пушкина представляют человеком, преодолевающим самые тяжкие испытания, в том числе и испытание несвободой. В стихах Д. Самойлова «Болдинская осень» вспоминается время, когда, огражденный от внешнего мира цепью холерных карантинов, непроходимых дорог, поэт рвался из Болдина и был скован обстоятельствами. Он оказался в тисках несвободы, причем автор стихотворения вкладывает в слово «отпущенье» гораздо больший смысл, нежели просто возможность покинуть деревню.
Везде холера, всюду карантины,
И отпушенья вскорости не жди.
А перед ним пространные картины
И в скудных окнах долгие дожди...
Это фон, на котором развивается мотив внутренней свободы поэта, прежде всего — в творчестве:
Но почему-то сны его воздушны,
И словно в детстве — бормотанье, вздор.
И почему-то рифмы простодушны,
И мысль ему любая не в укор.
Какая мудрость в каждом сочлененьи
Согласной с гласной! Есть ли в том корысть!
И кто придумал это сочиненье!
Какая это радость — перья грызть!
Быть, хоть ненадолго, с собой в согласье
И поражаться своему уму!
Кому прочесть — Анисье иль Настасье?
Ей-богу, Пушкин, все равно кому!
И за полночь пиши, и спи за полдень,
И будь счастлив, и бормочи во сне!
Благодаренье богу — ты свободен —
В России, в Болдине, в карантине...
 М. Н. РОМАДИН. Пушкин в Михайловском. 1974.
М. Н. РОМАДИН. Пушкин в Михайловском. 1974.
В последнем четверостишии объединены оценка пушкинского отношения к свободе, наше понимание пушкинской свободы творчества, отношение поэта к свободе, которую было у него не отнять как кредо «самостоянья» человека.
Пушкинское самоуважение и достоинство, умение преодолевать все преграды на своем пути, способность являть образец стойкости в труднейших жизненных обстоятельствах воспринимаются как доминирующие свойства натуры поэта. В наши дни, по замечанию критика и литературоведа, «Пушкин воспринимается как пример не столько раскрепощения всех жизненных сил, сколько сохранения их на том пределе, где жизнь становится тягостной и невыносимой и все-таки требует: живи!»
[258].
Не менее притягательно для наших современников и то, что поэт оказался «свободным» еще в одном смысле — в преодолении сковывающих человека рамок и условий конкретно-исторического существования. Намного опередивший своих современников в духовном развитии, Пушкин на личном примере показал, что «человек вовсе не обречен на свое время, не заточен в нем весь, его душа свободна и тысячу раз представит себе иную, достойную человека жизнь, до которой он не доживет»
[259].
 Б. Н. ГУЩИН. Пушкин в Михайловском. 1968.
Б. Н. ГУЩИН. Пушкин в Михайловском. 1968.
Представления о личности поэта, о масштабах и глубине его художественной вселенной вовсе не исчерпаны. Они становятся все более разносторонними и раскрываются в той многозначности, которая таится в творчестве Пушкина и в уроках его личной истории.
«Что в имени тебе моем?»
«Что в имени тебе моем?» Всем памятны эти пушкинские строки. Известен и адресат — Каролина Собаньская, очаровавшая поэта в пору его жизни в Одессе... По не изведанным пока законам художественного восприятия пушкинские строки, адресованные его современникам, прочитываются порой так, будто обращены и к нам, его сегодняшним читателям. Какой же отзвук рождает в душах имя поэта в наши дни, какой образ возникает перед внутренним взором?
 Е. Ф. БЕЛАШОВА. Пушкин-мальчик. 1956.
Е. Ф. БЕЛАШОВА. Пушкин-мальчик. 1956.
Как часты рассуждения о том, что у каждого есть или должен быть «свой Пушкин», непохожий на представления о нем других почитателей гения. Однако при естественном обилии субъективных отношений в социальной памяти складывается обобщенный его образ. Облик поэта, представление о его творчестве, в наибольшей степени отвечающие запросам времени, уровню нашего понимания необъятной поэтической вселенной Пушкина. Чем отличается он от предыдущих этапов жизни образа поэта в памяти поколений?
Перед нами сборник интервью и эссе выдающихся ученых разных областей знаний «Раздумья о будущем». «Как вы представляете себе человека будущего века?» — с таким вопросом обратились к химико-физику академику В. И. Гольданскому. «Для меня,— отвечает он,— высший идеал человека — Пушкин...»
[260]. А ведь речь идет о грядущем жителе XXI века. Не единственное высказывание подобного рода звучит подтверждением пророчества Н. Гоголя о том, что Пушкин как явление чрезвычайное и, может быть, единственное подобное явление русского духа представляет собой русского человека в его развитии, в каком он, быть может, явится через двести лет. Двухсотлетие со дня рождения поэта будет отмечаться в 1999 году, а по предсказаниям вовсе не склонных к преувеличению служителей точного и строгого знания притягательность личности и творчества его не иссякнет. В чем же магнетизм поэта как личности, как идеала, к которому все еще предстоит стремиться?
Размышляя над этим, наши современники определяют вместе с тем и грани сегодняшнего интереса к Пушкину.
Тайна безмерного обаяния Пушкина, по мнению Д. С. Лихачева, в том, что он по сей день является образцом доброты и таланта, смелости и простоты, демократичности, жизнелюбия, верности в дружбе, бескрайности в любви, уважения к труду и людям труда. Он «в каждое мгновение жизни, в каждой ее песчинке видел, ощущал, переживал огромный, вечный вселенский смысл. И потому он не просто любил жизнь во всех ее проявлениях, жизнь была для него величайшим таинством, величайшим действом. И потому он был велик во всем: и в своих надеждах, и в своих заблуждениях, и в своих победах, и в своей любви к людям, к природе, в любви к Родине, к ее истории, ее будущему»
[261]. Продолжая объяснение истоков неутолимого влечения к поэту в наши дни, Д. С. Лихачев говорит об открывшейся перед нашим поколением ценности восприятия жизни вокруг нас и в каждом из нас как величайшей тайны, требующей серьезного, глубокого к ней отношения, полной отдачи. Это залог ощущения счастья, гармонии, полноты существования. И если это и есть в конечном счете идеал каждого человека, то в Пушкине он был воплощен в полной мере, потому он и есть наш идеал, вечно живой...
С новой силой испытав мощь пушкинского «художественного и духовного излучения» (В. Непомнящий)
[262], наше поколение признает неисчерпаемость и смысловую многозначность не только творческого, но и личного примера поэта. В самом имени его различают теперь многозвучную смысловую полифонию. Пушкин — это имя «светлое, скорбное, грустное, яркое, утонченно-изысканное, простое, народное, мудрое, романтическое, великое, оно — Пушкин...»
[263]. И в том, каким видят поэта наши современники, отражаются не совсем сходные с предыдущими этапами освоения его образа особенности интереса к личности его и творчеству.
Каков? — Таков: как в Африке, курчав
и рус, как здесь, где вы и я, где север.
Когда влюблен — опасен, зол в речах.
Когда весна — хмур, нездоров, рассеян.
Ужасен, если оскорблен. Ревнив.
Рожден в Москве. Истоки крови — родом
из чуждых пекл, где закипает Нил.
Пульс — бешеный. Куда там нильским водам!
Гневить не следует: настигнет и убьет.
Когда разгневан — страшно смугл и бледен.
Когда железом ранен в жизнь, в живот —
не стонет, не страшится, кротко бредит.
В глазах — та странность, что белок белей,
чем нужно для зрачка, который светел.
Негр ремесла, а рыщет вдоль аллей,
как вольный франт...
[264]
В этом поэтическом портрете и по сути, и по способу воссоздания образа улавливаются многие особенности толкования внешнего и внутреннего облика Пушкина. Все соткано из полунамеков, и вместе с тем выпукло очерчивается представление посредством ярких и лаконичных деталей. Строки поэтического портрета вызывают по ассоциации воспоминания о портретистике изобразительной, о скульптурных памятниках и вместе с тем конкретизируют и углубляют хранящийся в зрительной памяти образ. Это достигается за счет сопряжения описаний внешности — курчав, рус, светлоглаз — со свойствами натуры в их естественной живости и изменчивости — «влюблен — опасен...», «весна — хмур, нездоров...», «разгневан...» Концентрация поэтической образности такова, что заставляет припомнить все, что известно о Пушкине, и, быть может, усомниться в незыблемости уже обретенных и твердо усвоенных о нем представлений. Интерес к личности усиливается, когда при обобщенности отзыва облик мотивирован конкретностью психологических состояний.
Стихотворное посвящение Пушкину, созданное Б. Ахмадулиной, свидетельствует еще о том, что образ поэта «уплотняется», становится все более емким, многоплановым, информационно насыщенным, как выразились бы представители естественнонаучного знания. Процесс динамики восприятия Пушкина в направлении максимальной концентрированности его образа, многозначности может быть показан на примере развития пушкинской портретистики двух последних десятилетий.
Специалисты по социальной психологии и психологии восприятия признали, что важным стимулом для уточнения человеческих суждений о любом феномене является потребность в конкретизации, отчетливости, объемности и целостности понимания и представления о человеке, какой-либо вещи или событии. Нынешняя видеокультура обострила устремленность к зрительной определенности образа, особенно если это касается исторических событий, деятелей прошлого. При том, что жанр портрета активно осваивается многими видами искусства, изобразительное остается на передовых позициях, и тенденции в живописной, скульптурной, графической пушкиниане наиболее показательны.
Как и для других видов искусства, осваивающих пушкинскую тему, для изобразительного творчества характерны в последние годы расширение путей и способов постижения личности поэта, стремление к возможной «адекватности», истинности его образа. Потому-то живописцы и скульпторы, по их же собственным признаниям, опираются на изучение научно обоснованных источников сведений о поэте, документы, концептуальные обобщения пушкинистов, в которых диалектически соединены идеи множественности явлений таланта и натуры при цельности личности Пушкина. Показать поэта в разнообразии его творческих и душевных состояний, представить психологически обоснованный и биографически мотивированный образ — таков лейтмотив богатейшей изобразительной пушкинианы последних десятилетий.
Художник, который взялся за пушкинскую тему, призван не только обрести собственное понимание облика поэта, но также и определить отношение к традиционным способам трактовки образа Пушкина. Он размышляет над вопросом, который, скорее всего, заботит многих: каким трактовкам внешности поэта следует отдавать предпочтение, каким можно доверять более всего — прижизненным, которые создавались с натуры, или более поздним, основанным на опыте глубокого осмысления и постижения разносторонней и многоплановой личности?
Положение нашего с вами современника при поиске ответа усложняется целым рядом обстоятельств. Одно из немаловажных — расширение иконографических
[265] фондов пушкинианы. Прежде всего — за счет пополнения ранее неизвестными или малоизвестными широкой публике портретами. К находкам последнего времени относятся, в частности, миниатюра на металле из собрания Государственного музея А. С. Пушкина в Москве, изображающая поэта ребенком трех лет
[266], прижизненный акварельный портрет 1829 года работы Н. И. Уткина
[267], миниатюра, приписываемая В. Тропинину, оригинал которой находится в Париже. А сколько портретных эскизов, набросков по разным причинам не получали широкой известности, не становились фактом общественного сознания! Такова судьба этюда В. А. Тропинина, представлявшего подготовительную стадию работы над широкоизвестным портретом поэта, созданным в 1827 году
[268].
 Автопортреты Пушкина
Автопортреты Пушкина
Эти автопортреты Пушкина нарисованы в разные годы — с 1820 по 1836. Они разбросаны по листам рукописей «Кавказского пленника», «Евгения Онегина», «Бахчисарайского фонтана», «Домика в Коломне», в подготовительных вариантах статьи «О поэзии классической», на страницах черновиков писем, поэтических посланий, а также в «Ушаковском альбоме». Есть в этих набросках-самонаблюдениях, по верному замечанию А. Эфроса, «непосредственность и близость, которая не вызывает сомнений и свидетельствует каждой своей подробностью, что именно так он выглядел, или так обряжал себя, или таким хотел себя видеть. На автопортретах лежит горячность повседневности, живого прикосновения к большим и малым фазам пушкинской судьбы» (Эфрос А. М. Автопортреты Пушкина.— М., 1945.— С. 40).



Как и этюд маслом, в прошлом веке и до середины нынешнего оставались малоизвестными тропининский набросок углем на картоне (созданный тоже в ходе работы над портретом поэта) (см. портрет кисти И. Л. Линева — последний прижизненный.) Этот портрет был описан еще в 1890 году С. Либровичем в библиографически редкой теперь книге «Пушкин в портретах», где замечалось, что, остававшийся более полувека неизвестным, портрет интересен тем, что поэт на нем представлен совершенно натурально, без прикрас. «Невольно является предположение,— заключал С. Либрович,— что это едва ли не единственный портрет Пушкина, внушающий полнейшее доверие сходства, полнейшее убеждение, что таким был в действительности Пушкин»
[269]. История открытия портрета и поиска мало-мальских сведений о его создателе, непрофессиональном живописце, напоминает распутывание сложной, загадочной истории и по сей день таит немало неясностей
[270]. Широкой публике это пушкинское изображение стало доступно сравнительно недавно и, несомненно, скорректировало представление о «каноническом» его облике, утвержденное прижизненными портретами.

Давно признанные классическими творения О. Кипренского, В. Тропинина, Н. Уткина, В. Соколова задали определенную тональность последующим интерпретациям облика поэта. Портреты золотого фонда изобразительной пушкинианы — безмерная ценность, что не подвергается сомнению. И все же, как верно заметил в свое время И. Грабарь, их создатели, «...преследуя главным образом формальные задачи... не слишком углублялись в психологию модели, предпочитая ей блеск, мастерство, виртуозность кисти...»
[271]. Уже в нашем веке были осознаны новые требования к отражению сложной творческой натуры поэта. Но как было преодолеть дефицит сведений, как восполнить пробел, усугублявшийся тем, что фактически большая часть прижизненных портретов относится к последнему десятилетию жизни Пушкина...
Но вот произошло неожиданное открытие. В рукописях, на полях черновиков были обнаружены пушкинские автопортреты. Их оказалось множество. Почему открытие, какое открытие? — быть может, возразят нам. Рукописи поэта описывались еще в прошлом веке, тогда же, еще на выставках 1880 года, в ходе празднования юбилея 1899 и позже они выставлялись для всеобщего обозрения. И все-таки истинное открытие автопортретов произошло не так давно, в последние три десятилетия.
Ведь главное — не просто знать о существовании тех или иных свидетельств о поэте, но уметь их правильно оценивать, видеть в них богатство, позволяющее безмерно расширить представления о Пушкине. Наши предки не понимали истинного значения автоизображений. В описаниях прошлого века, в упоминаниях об уникальных рисунках их называли «карикатурами поэта на самого себя».
О таланте Пушкина-рисовальщика широкой читательской аудитории стало известно примерно во второй половине нынешнего столетия. В последние десятилетия из узкоспециальных работ рисунки поэта переходят на газетные полосы, публикуются в журналах, воспроизводятся на телеэкране, на страницах популярных книг, массовых изданий. (Автопортрет из черновика к «Евгению Онегину» конца 1823 года печатается на первой полосе «Литературной газеты».) Графикой поэта занялись искусствоведы, пушкинисты. К издававшимся в прошлом малыми тиражами и ставшим библиографическими редкостями трудам «Рисунки поэта» А. М. Эфроса
[272] прибавились вышедшая тремя тиражами книга известного пушкиниста Т. Г. Цявловской «Рисунки Пушкина»
[273], а также относительно недавняя работа Л. Керцелли, метко и точно озаглавленная «Мир Пушкина в его рисунках»
[274].
Автопортреты поэта открыли новые пути для проникновения в суть пушкинского образа, для понимания его творческой натуры. Известный пушкинист Б. В. Томашевский по праву назвал их «почти непрерывной сюитой», отражающей облик Пушкина на протяжении всей его жизни. Они запечатлели отзвуки разных душевных состояний, порывов, смен настроения, всплески бурной, неукротимой фантазии. Именно в автопортретах, по признанию Б. В. Томашевского, «...мы обретаем черты такого Пушкина, какого не подглядели или не видели вовсе изображавшие его художники»
[275].
Для примера того, как много рассказывают автоизображения об удивительной натуре поэта, обратимся к одному из них, определенному Л. Керцелли.
На листе черновика к стихотворению «Андрей Шенье» при внимательном рассмотрении среди начертанных рукой поэта лошадиных голов в левом нижнем углу можно разглядеть профиль со знакомыми «кудрявыми «арапскими» бакенбардами, с носом лошади и маленьким глазом, самым поразительным и непостижимым образом глядящим на нас его собственным, Александра Сергеевича Пушкина, взглядом»,— пишет исследовательница
[276] (см. соответствующий рис.). Пушкинские изображения коней известны, он любил этих животных и рисовал их поразительно: живые, «играющие» под пером его, они обычно несутся вскачь, являя неукротимую свою энергию и силу. Поэт неоднократно и себя изображал верхом на лошади. Но что означает неожиданное автоизображение с «переселением» в образ коня? Зачем? Почему? Л. Керцелли интересно размышляет о возможных истоках подобной метаморфозы в конский облик. Рисунок этот, по ее мнению, открывает, завесу таинств пушкинского творческого процесса. Чтобы «запустить» в работу творческое воображение, поэт обычно словно бы «примерял» на себя чужой облик, вживался в натуру героя, всходил в его внутренний мир, встраивался в характер мироощущений и пониманий... Подтверждается эта догадка обилием рисунков, на которых поэт изобразил себя то старцем, то женщиной, то безумцем, то монахом, то в образе «арапа», то Робеспьером, то молодым денди... Но к таким «примеркам» мы в какой-то мере привыкли. Новый же автопортрет (в лошадином образе) приводит зрителя к необходимости ответа на новые вопросы. «Что это? — спрашиваем мы себя, пораженные своим узнаванием, повергающим нас одновременно и в восторг, и в смятение. Игра воображения? Безудержная фантазия художника? Прихотливая шутка? Самоирония? Да, все это присутствует здесь,— отмечает Л. Керцелли
[277].— Но не только это. Автор атрибуции настаивает, что перед нами в этом необычном рисунке предстал материализованный образ самого механизма художественного творчества. Мы как бы присутствуем «на примерке» поэтом на себя некоего образа, при моменте, быть может, для самого поэта неожиданном, когда не оформилась, не воплотилась в слове, но уже зародилась и требовала объективации поэтическая мысль». И, заключает автор, как ни парадоксально это кажется поначалу,— этот «Пушкин-конь», причудливый его автопортрет позволяет понять, почему из всей обширнейшей любительской и профессиональной иконографии Пушкина «мы сегодня решительно предпочитаем автопортреты. Подлинный, наиболее психологически тонкий и художественно достоверный облик Пушкина-художника, Пушкина-поэта доносят до нас именно они»
[278].
Грандиозная галерея, насчитывающая 91 автопортретное изображение, лишь недавно впервые каталогизированная и впервые в полном объеме описанная
[279], оказала значительное влияние на переориентации в нынешнем восприятии внешнего облика Пушкина, в отношении к пониманию некоторых граней его натуры.
 Н. В. ГОРЯЕВ. Идущий Пушкин. 1974.
Н. В. ГОРЯЕВ. Пушкин-лицеист. 1974.
Н. В. ГОРЯЕВ. Идущий Пушкин. 1974.
Н. В. ГОРЯЕВ. Пушкин-лицеист. 1974.
Прежде всего: именно с автопортретами соотносим мы теперь другие многочисленные интерпретации образа поэта. Как отзвук новой зрительской установки в наиболее полном и обстоятельном издании пушкинских портретов Е. В. Павловой
[280] галерея пушкинских изображений открывается автопортретами. Эти — наиболее достоверные — свидетельства о том, каким был Пушкин, предстают как своеобразные «эталонные» трактовки облика, верные, неприукрашенные, объемные.
Создатели пушкинских портретов наших дней оценили значение автопортретов. Они, конечно же, опираются на весь иконографический фонд пушкинианы, но со всей очевидностью можно сказать, что автопортретистике отдают огромную дань. Не модернизируя, сохраняя верность признанным суждениям об облике Пушкина, через творческое освоение и осмысление автоизображений прокладывают живописцы, графики и даже скульпторы пути к выявлению нынешнего, концу XX века свойственного, понимания пушкинской творческой и человеческой индивидуальности. Близость к автопортретам, перекличка с ними очевидна в пушкинских портретах работы В. Смирницкого, Г. Новожилова, Б. Гущина, Б. Пророкова, В. Горяева, Э. Насибулина. Причем речь идет не о заимствованиях манеры, «почерка», техники самой по себе, а о потребности в передаче настроений, в психологизации образа поэта.
 Д. Д. ГРОМАН. Пушкин.
Д. Д. ГРОМАН. Пушкин.
Живописцы, скульпторы наших дней, запечатлевая образ Пушкина, взывают к зрительскому соучастию. Они требуют душевного отклика, активизации всех знаний о поэте, понимания его творческого наследия, идей и устремлений. Вместе с тем они дают своего рода толчок для движения творческой мысли, прокладывают пути восприятия пушкинской натуры, его творческого облика.
На большинстве портретов поэт погружен в раздумье, умудрен опытом потерь и прозрений. Это Пушкин, создавший вершинные свои творения и не растративший творческий пыл, готовый к новым свершениям.
Своеобразно скорректированы представления и о поэте юношеского возраста. Наиболее отчетливо прослеживаемая тенденция — в отходе от романтизированного образа. «Пушкин-лицеист» В. Горяева, к примеру, порывист, горяч, но с твердостью во взоре. Это почти сложившийся характер, автор стихов «К другу стихотворцу», в которых еще в 1814 году пятнадцатилетний юноша разрушал канонизированный в начале прошлого века образ поэта:
 Н. В. КУЗЬМИН. Иллюстрации к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин»
Н. В. КУЗЬМИН. Иллюстрации к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин»
...Не так, любезный друг, писатели богаты;
Судьбой им не даны ни мраморны палаты,
Ни чистым золотом набиты сундуки:
Лачужка под землей, высоки чердаки —
Вот пышны их дворцы, великолепны залы...
...Катится мимо их Фортуны колесо;
Родился наг и нагим ступит в гроб Руссо;
Камоэнс с нищими постелю разделяет;
Костров на чердаке безвестно умирает,
Руками чуждыми могиле предан он:
Их жизнь — ряд горестей, гремяща слава — сон...
Это Пушкин, который уже избрал путь обличителя и борца, пророчески заглянув в грядущее и прозрев свое будущее поприще. Ощущается несомненный сдвиг не просто к психологизации облика, но именно к конкретизации его фактами биографии и творчества.
Событиями графической пушкинианы последних десятилетий явились портретные галереи поэта, созданные Н. Кузьминым и Н. Рушевой. В их рисунках заметны переклички с летящими, неостановимыми в своей энергии и порывистости росчерками пушкинского пера. Их, как и другие изображения пушкинского облика, отличает лаконизм, адекватный принципам самого поэта. Краткость, емкость линий, созданных как бы на едином дыхании, без отрыва пера от бумаги, оказываются многозначнее иных детализированных портретов. Недосказанность оказывается красноречивее скрупулезного выписывания подробностей.
 Н. В. КУЗЬМИН. Иллюстрации к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин».
Н. В. КУЗЬМИН. Иллюстрации к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин».
Быть может, именно портреты Пушкина юной художницы Нади Рушевой окажутся ребятам ближе и интереснее всего. Они созданы ведь фактически сверстницей восьмиклассников, девятиклассников в 14, 15 лет.
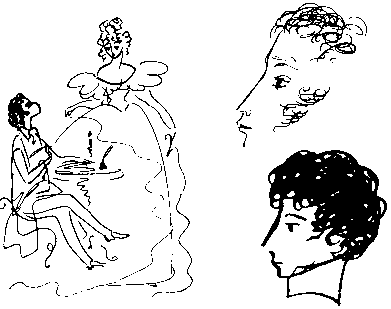 НАДЯ РУШЕВА. Рисунки Нади Рушевой в основном 1968—1969 годов.
НАДЯ РУШЕВА. Рисунки Нади Рушевой в основном 1968—1969 годов.
Юный поэт и дама его мечты. 1967.
Поэт в тридцатилетием возрасте. 1969.
Поэт в тринадцатилетнем возрасте. 1969.
«Сижу за решеткой...»
Пушкин на балу. 1967.
Пушкин в пятнадцать лет. 1968.
Шестнадцатилетние лицеисты Пушкин и Пущин. 1968.


Более двухсот рисунков Н. Рушева посвятила Пушкину. Ее отличает особый интерес к лицейским годам поэта, к темам, сюжетам бытовой, повседневной его жизни: «Пушкин в кругу семьи», «Пушкин с детьми», «В детской Пушкиных», «Праздник в доме Пушкиных»... В каталоге выставки, которая проходила в октябре-декабре 1970 года в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина (это была первая крупная посмертная выставка рано ушедшей из жизни художницы), отмечалась сознательная ориентация работ пушкинской тематики на графику самого поэта. Та же легкость, стремительность, краткость. Но справедливо замечается и то, что Надя не подражает поэту, не стилизует свои рисунки «под Пушкина». Ей оказался близок тот беглый и вместе с тем предельно точный лаконизм, то чувство «соразмерности», которое в нашем представлении нераздельно связано с образом, поэзией и графикой Пушкина
[281].
Разговор о том, какие мысли, чувства, представления рождаются у наших современников при имени Пушкина, мы продолжим, обратившись к произведению, наиболее полно и объемно выразившему многие тенденции нынешнего восприятия поэта.
«...И с вами снова я...»
Пожалуй, каждый этап жизни образа Пушкина в социальной памяти отмечен ярким исследовательским или художественным его открытием. В нем обычно наиболее полно и многогранно отражается характер понимания поэта, оспариваются или переосмысливаются стереотипные суждения о нем, откладываются новые представления.
Для поколения 70—80-х годов нашего века истинным и неожиданным открытием такого рода явились три мультипликационных фильма о Пушкине режиссера и автора сценария Андрея Хржановского. В творческом коллективе создателей — известный мультипликатор Юрий Норштейн (он «исполнял», вернее, рисовал поэта), композитор Альфред Шнитке, а также Сергей Юрский и Иннокентий Смоктуновский.
...На белом полотне киноэкрана невидимая рука торопливо, словно догоняя ускользающую мысль, быстро пишет строку за строкой. Написанное перечеркивается, поправляется, вновь и вновь зачеркивания, а над ними и рядом появляются новые слова, новые строки. Перо мы не видим. Оно угадывается, воссоздается воображением, как и изящная рука, которая держит его.
На миг, кажется, всего на единый трудно уловимый миг перо замирает. Вдруг — быстрые росчерки, петли, завитки. Родился рисунок. Птица удивительной красоты, с ажурным, как бы вздрагивающим от дуновения ветра оперением. Она с усилием взмахивает крыльями, отрывается от листа, на котором только что родилась, и — взмывает. Птица парит над рукописями, летит над разбросанными листами, испещренными строчками стихов. Летит — легкая, никому не подвластная, как вольное воображение, как само творчество.
Так начинается первый фильм мультипликационной трилогии о Пушкине.
В самих заглавиях триптиха — «Я к вам лечу воспоминаньем...», «...И с вами снова я», «Осень», составляющих по замыслу единое произведение,— ритм пушкинских стихов, его задушевной интонации. С первых же кадров, когда на экране появляются строки, написанные таким знакомым пушкинским почерком, рисунки, когда слышатся очень знакомые
м менее известные пушкинские стихи,— сюжет фильма завораживает и каким-то неведомым, одному искусству подвластным образом подключает зрителя к увлекательнейшему разговору с поэтом.
Вас ожидает в фильме неожиданное открытие: весь зрительный ряд создан по рисункам самого Пушкина, по графическим изображениям, наброскам, которых в наследии поэта около двух тысяч. Они разбросаны по черновикам, по полям рукописей, записок, заметок, испещренных быстрым, словно летящим почерком. Пушкин — рисовальщик, блестящий график и портретист — предстает в новых, неожиданных ракурсах и проявлениях. Сюжетными зарисовками, набросками, портретами он сам рассказывает о событиях своей жизни, о путешествиях и ссылках, о встречах и разлуках, о днях трагических и поре «веселий и желаний», о том, как писались его произведения. Разнообразие тем, сюжетов рисунков поразительно, как и мастерство, виртуозность и проницательность пера. Два-три штриха, которые могут показаться на первый взгляд небрежными росчерками. Но всмотритесь — перед вами портреты, редкие по лаконизму и емкости повествования о характерах и судьбах пушкинских современников. Здесь портреты писателей, политических деятелей, друзей, декабристов, знакомых поэта, женщин, которыми увлекался и которых любил...
С первых же кадров появляется на экране сам автор рисунков. «В начале жизни школу помню я...» — звучит голос за кадром. Лицей. В рисунке поэта он изображен в перспективе. Быть может, таким виделся он из глубин парковых царскосельских аллей?
Как на лицейской перекличке, выкликаются имена воспитанников. Они тотчас же появляются на экране портретами, в которых рукой Пушкина передан облик и неповторимый характер каждого. «Пущин! Дельвиг! Кюхельбекер!...» И вот — «Пушкин!» Трижды голос за кадром повторяет протяжно и настойчиво имя поэта, словно призывая его из дали веков, а может, просто эхо разносится по просторам старинного парка... И вот он перед нами. Поэт на одном из ранних своих автопортретов. Пушкин, изобразивший себя самого. Сколько задора, искренности, иронии в автопортретах! Поэт рисовал себя в разные годы, в несхожих обстоятельствах. Он изображал себя правдиво, без утайки и кокетства, в разных настроениях и состояниях. На одних автопортретах Пушкин весел, подсмеивается над собой. Молодой, влюбленный, полный сил и предчувствий. На других — тревожащийся, тоскующий. На третьих — язвительный, утомленный, притихший. Словом, это Пушкин во множественности своих настроений и чувств, живой, непосредственный, понятный.
Следишь за происходящим на экране и без труда, незаметно для себя переносишься в мир поэта, следишь за тем, как раскрывается панорама его жизни. Фильмы следуют по вехам истории— личной и творческой. Но их не отнесешь к биографическим в обычном смысле, да и не в этом видели свою задачу создатели трилогии. Главное для них — история его духа, становления, творческого развития.
На вопрос, почему именно рукописи Пушкина привлекли внимание авторского коллектива создателей фильмов, режиссер Андрей Хржановский отвечал: «Мы основывались на рисунках не только потому, что их много и они блистательны. Главное — создавались они на полях черновиков. Потому иногда прямо, в других случаях более опосредованно они связаны с мыслями Пушкина, его жизнью, ходом работы над произведениями. Когда мы их изучали, обнаружили, что Пушкин-рисовальщик обладал удивительной способностью: воссоздавал предмет и в то же время как бы перевоплощался в него. Острый глаз художника схватывал и подмечал, казалось, неуловимые детали, находил самое сокровенное, обнаруживал душу изображаемого им человека, суть предмета, который попадал в поле его внимания».
Ценность и удивительная сила воздействия фильмов как раз в том, что образ поэта раскрывается в них, воссоздается через самые непосредственные свидетельства о его духовной и творческой жизни — через рисунки и поэзию, с помощью строчек из писем и заметок, прозаических произведений, наблюдений и размышлений. Магия достоверности такова, что скоро забываешь, что перед тобой рисунки из рукописей. Листы, испещренные быстрым почерком, превращаются в волшебный Сезам, открывающий объемное, трехмерное пространство удивительного и всегда притягательного пушкинского мира.
Вот еще что очень важно: благодаря талантливым мультипликаторам зритель получил возможность увидеть, что же следует за тем мигом, который изображен на пушкинском рисунке.
Зашумели листвой деревья, долу гнутся кусты под порывами ветра, закачалась ножка всадницы в стременах... Сорвались с места порывистые, необузданные кони, зазвенела под их копытами мерзлая осенняя земля. Лошадей Пушкин, сам прекрасный наездник, рисовал тонкими, резкими линиями, едва намечая контур изображения. Круто изгибаются шеи, кони резвятся, неостановимо несутся по вольным полям, которые оказываются полями рукописных листов. Все происходит на наших глазах: рисунок рождается и оживает, включается в сюжет, взаимодействует с другими рисунками. Его тема развивается, оказывается все более сложной и многозначной. Когда средствами мультипликации нарисованное оживляется («мультипликация» — не совсем точный перевод истинного названия этого вида искусства — «анимация», что и означает «оживление»), происходит настоящее чудо. Высвобождается, прорывается внутренняя энергия и экспрессия пушкинского рисунка. Живой водой оказывается проникновение создателей фильмов в самое сокровенное, в дух пушкинского творчества — поэтического и графического.
Подобно тому как в стихотворении смысл опосредован и тесно сплавлен с ритмом, так и в фильмах ритм в немалой мере определяет силовое поле действия и интереса к нему зрителей. То в стремительном темпе чередуются балы, мазурки, ложи театра, где появляется, проводит время, веселится, балагурит, острит поэт... Лица, лица, толпы, встречи, множество мест, событий, происшествий. Внезапно темп действия резко изменяется. Все замирает. Так было в часы трудов и вдохновений: горит свеча, струятся капли дождя по оконному стеклу, а за ним Пушкин — одним из редких своих автопортретов анфас, задумчивый, отрешенный от забот «суетного света».
Тема творчества — одна из важнейших в фильмах. Следуя за рисунками и пристально всматриваясь в характер черновых записей, создатели трилогии открывают перед зрителем многие особенности пушкинского художественного мышления. До сих пор эта тема оказывалась предметом научных штудий, авторский коллектив подошел к решению труднейшей задачи новым, нетрадиционным для искусства путем.
Творчество для поэта — принцип и способ существования. Все, что попадает в фокус его восприятия, одухотворяется. Кто не восхищался пушкинскими стихами о природе! Прекрасны, точны, преисполнены внутреннего динамизма и рисунки, изображавшие неяркие и близкие его сердцу пейзажи, наброски и зарисовки деревьев, кустов, прудов, рощиц...
Стихия вдохновения оказывается близкой природной стихии. Гармония, красота пушкинских творений оказывается сродни естественной красоте, многообразию проявлений и мудрости природы. Создатели фильмов нашли удивительно тонкий и точный способ воплощения этой идеи в ткань художественного кино-повествования. Мир природы изображается, воссоздается с помощью пушкинских строчек — черновых и беловых записей. Тучи, море, снег, буран, поля, березы — все «соткано» из фрагментов рукописей, причем естественно и органично. Ровные, стройные и четкие, строки черновиков начинают «оживать», пульсировать, дыбиться... Вдруг они явственно преображаются в морские волны, увенчанные пенными барашками. Накат ластится к берегу, гасится напор волн. Они подкатываются к стройным девичьим ножкам на берегу, тоже из рисунков поэта.
Тучи, гонимые ветром, тоже набухли и почернели, вобрав в себя варианты стихов, прозаических текстов. Буран, снежная лавина — все из букв, слов, строчек... Даже при наводнении в Петербурге, когда воды Невы бурлят, клокоча, заполняют улицы, бьют в стены домов, в окна, накрывают мосты. Свинцовые волны взбунтовавшейся реки — тоже строчки. Наряду с тем смыслом, который несут эти кадры в общем сюжете, они метафорически характеризуют стихийность, своеволие, мятежность ничему не подвластного в своем проявлении творческого духа поэта.
Искусство всеми доступными ему средствами и путями преодолевает статику застывшего мгновения, остановившегося росчерка карандаша, холодность камня, краткость звука. Оно стремится многозначностью образа продлить его жизнь. Мультипликаторам удалось, на наш взгляд, блистательно решить труднейшую задачу — вникнуть в жизнь духа, отразить сложность, противоречивость, богатство пушкинского воображения. Это всегда оказывалось наиболее трудным — передать многоплановость движения мысли, совмещение в единый миг многих устремлений, чувств, мотивов. Сколько истинных открытий совершили создатели фильмов, раскрывая сложный внутренний мир поэта!
Нередко на экране встречаются и действуют одновременно сразу два изображения поэта: маленький придворный арапчонок в тюрбане и ливрейной пелерине (таким изобразил себя поэт на автопортрете 1823 года) — и Пушкин
в сюртуке, во весь рост, в шляпе с большим козырьком, каким нарисовал поэт себя в Михайловском в 1826 году. Между ними происходят увлекательные диалоги, споры, порой арапчонок ведет воображаемые разговоры сам с собой, перевоплощаясь в собеседника. Благодаря этому Пушкин предстал в поры сомнений, размышлений, а то и проказ в нескольких проекциях сразу. Сложная натура поэта, его взрывчатый темперамент, вольнолюбивый характер становятся ближе, раскрываются полнее, многограннее.
Особое значение имеет в трилогии о поэте мотив памяти. В духовной жизни Пушкина, в его творчестве память, верность памяти о прошлом, памяти о людях достойных играли большую роль. Не раз, не два проходит в фильмах тема памяти о декабристах. Сознанием, обожженным страшным событием гибели друзей, поражением восстания, крушением надежд на переустройство политической жизни России, поэт возвращается вновь и вновь к событиям 14 декабря. Видим, как перо чертит виселицу с телами казненных. Под рисунком появляются строки: «И я бы мог...» И стихи:
Нас было много на челне;
Иные парус напрягали,
Другие дружно упирали
В глубь мощны веслы...
В контексте зрительного ряда автопортретов Пушкина рядом с нарисованными им портретами декабристов, с рисунками виселицы, много раз появлявшимися на полях черновых набросков, с новой остротой постигается близость поэта с декабристами и смысл последних слов «Ариона»:
Пловцам я пел... Вдруг лоно волн
Измял с налету вихорь шумный...
Погиб и кормщик и пловец! —
Лишь я, таинственный певец,
На берег выброшен грозою...
Стоит поэту, томящемуся в михайловской ссылке, вспомнить Петербург, как в сознании вспыхивает видение Петропавловской крепости, тоже запечатленной в рисунках. Там, на ее кронверке, были повешены друзья. Страшной метафорой тех событий проходят перед зрителями скульптуры из Летнего сада в необычном, непривычном своем виде. На зиму их закрывают в холсты и заколачивают в деревянные ящики. Больно обжигает этот образ — ящик, подобный гробу со снятой крышкой, а в нем фигура человека, будто в саване. Холодный ветер продувает щели ящика, ломает ветви обледенелых деревьев. То ли холод, то ли ужас леденит душу.
Не менее впечатляющий мотив, который тоже проходит через все фильмы,— тема верности святому лицейскому братству, друзьям, многие из которых вышли на Сенатскую площадь... Воспоминания о друзьях светлые, как мысли о детстве, о юности, о временах, когда с Пущиным, Кюхельбекером поэт «в садах Лицея... безмятежно расцветал...» Святому братству остался Пушкин верен. До конца своих дней хранил память о доблестных рыцарях свободы, воспевал их подвиг.
Мультипликационная трилогия может завершить изучение Пушкина в восьмом классе, может быть использована для повторения истории жизни и творчества поэта. Просмотр и обсуждение всех фильмов или же одного-двух может стать предметом специального урока, который, несомненно, обогатит и ребят, и учителя редким по глубине проникновением в образ поэта, в таинства его духовной жизни и поэтического мышления.
«Все в нем Россия обрела...»
Среди многих не написанных пока еще книг одна могла бы быть названа «Путь к Пушкину». У каждого читателя не только свой образ поэта, но и особый путь открытия Пушкина. Как отличаются эти пути, эти колеи, прокладываемые людьми стольких поколений! Хорошо бы собрать рассказы разных времен и составить антологию. Тем самым раскрылся бы и процесс закрепления его образа в памяти общества. Все это не только очень интересно, но и в высшей степени важно и поучительно.
Наиболее известны пока признания поэтов и деятелей искусства о том, каким был их путь к Пушкину. Кто не помнит рассказа М. Цветаевой о первом детском знакомстве с поэтом: «Пушкин был мой первый поэт, и моего первого поэта — убили. С тех пор, да, с тех пор, как Пушкина на моих глазах на картине Наумова — убили, ежедневно, ежечасно, непрерывно убивали все мое младенчество, детство, юность — я поделила мир на поэта — и всех, и выбрала — поэта...»
[282]. Отношение ее к Пушкину заражает и невольно заставляет сопоставлять с собственным опытом: была ли у тебя такая «чара»? С каких первых пушкинских строк началось твое собственное знакомство с поэтом?
Александр Твардовский вспоминал, что узнал и полюбил Пушкина в том возрасте, когда гораздо слаще слушать чтение, чем читать самому. Со слуха знал он «Сказку о царе Салтане», «Полтавский бой», «Сон Татьяны» из «Евгения Онегина». Первой самостоятельно прочитанной книгой стала «Капитанская дочка». И он на всю жизнь запомнил ее формат, запах и то ощущение счастья, что сам (!) открыл для себя неизвестную прежде историю. «Я был захвачен ею,— писал А. Твардовский,— и засиделся у окна избы дотемна, и когда дошел до бурана в Оренбургской степи, то увидел, что за окном пошел снег, и это стало неизгладимым до сих пор впечатлением как бы магической силы, изошедшей от пушкинской страницы. С того вечера я стал читателем книг, и мне бесконечно дорого, что этим я обязан Пушкину. А кто не обязан ему радостью приобщения на самой заре жизни к источнику, из которого потом пить всю жизнь!» И завершает свой рассказ советский поэт важным замечанием, очень точным и справедливым: «Но если Пушкин приходит к нам с детства, то мы по-настоящему приходим к нему лишь с годами...»
[283].
Любопытно, что с этим мнением перекликаются признания других советских прозаиков, поэтов. «К Пушкину мы приходим всей жизнью, с Пушкиным мы уходим из детства»,— писал B. Цыбин. И у него самые яркие впечатления, вынесенные из детства, связаны с произведением Пушкина. «Бесы» стали открытием поэзии, и, как пишет В. Цыбин, «...с ними вошло в меня что-то вьюжное, летучее, какая-то овеществленная таинственность. Не верилось, что они могли написаться кем-нибудь. Казалось, что они сами напелись, навьюжились, назвенелись, что сама русская природа создала их, как хрупкую инеевую вязь на окнах, как призрачную, утонченную изморозь, сосульки под хлопьями снега, отчего в лесу все деревья стоят как новогодние елки.
Так в мою жизнь вошел Пушкин и с ним ощущение зимней моей родины. Так создавался состав моей души, как каждого русского человека.
Мчатся тучи, вьются тучи;
Невидимкою луна
Освещает снег летучий;
Мутно небо, ночь мутна.
...Не от этого стихотворения, а как бы сквозь него открывалась с каждой новой прочитанной строкой даль пушкинского слова, его живая, предельно уплотненная глагольная суть...»
[284].
Пушкинская поэзия дарит первую встречу с поэтом, заставляет самому испытать и поверить на всю жизнь в силу поэзии. И в сознании сливаются Пушкин и его стихи, как это случилось, к примеру, с Чингизом Айтматовым. Он искренне признался: «Сколько ни пытаюсь, не могу припомнить, когда впервые услышал имя — Пушкин... А возможно, было иначе — прежде он явился в образе чудесного дня, озаренного солнечным морозом? «Мороз и солнце! День чудесный...» Может быть. Потому, когда позже, уже в школе, читали:
Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы.
Мой друг. Отчизне посвятим
Души прекрасные порывы! —
я знал: это — Пушкин. Тот самый, который, обращаясь к близким, сердечным друзьям, вознес гимн святым узам товарищества:
Друзья, прекрасен наш союз! —
тот самый, который восславил свободу в жестокий век самодержавия и насилия, провозгласив:
Да здравствует солнце!
Да скроется тьма!
Так в моем воображении,— рассказывает видный советский писатель,— Поэт и Солнце стали жить рядом, на равных. То и другое воспринималось, как явление природы... Пожалуй, то был первый и главный урок, который я получил, прикоснувшись к подлинному искусству: великую поэзию питают великие стихии, мощные борения человека, готового отстаивать даже ценой жизни свое достоинство, ибо оно есть дух, окрыленный свободой...»
[285].
Итак, представления о поэте не отделить от понимания его творений... В начале этой книги говорилось, что в образе художника всегда в той или иной мере сбалансированы суждения о личности и творчестве. В справедливости этого утверждения можно было не раз убедиться. Но нужно всегда помнить, что разговор наш о необычном поэте. Творчество его особым образом спаяно с историей его души, с проницательным авторским взглядом, в произведениях своих поэт устанавливал тесный дружеский контакт с читателем-собеседником. Нельзя избавиться от ощущения, что Пушкин из своего далекого прошлого предполагал общение с читателем нашей эпохи, готовым все понять, вникнуть во внутренний смысл его наследия, как никто не проникал в него прежде.
На предыдущих страницах больше внимания уделялось фиксации тех изменений, которые претерпело наше отношение к личности поэта. А как с творческим наследием? Каковы теперь акценты в его восприятии?
Обычно разговор на такую тему уходит в русло собственно художественных проблем, ведется с целью найти ответы на вопросы: что и как наследуется в эстетических завоеваниях Пушкина, как продолжаются в современном искусстве его традиции? Другими словами, разговор оборачивается выяснением профессиональных проблем, которые касаются чрезвычайно интересных сторон наследования пушкинских художественных принципов в разных видах искусства. Мы хотим начать с постановки другого вопроса: есть ли общие сдвиги в восприятии, в оценке пушкинского творчества, если сопоставить отношение к его наследию с предыдущими культурно-историческими этапами жизни Пушкина в общественной памяти?
Заметим, как изменился сам объем понятия «пушкинское творчество». Намного расширилось представление наших современников, особенно за последние десятилетия, о наследии великого поэта. Оно в современном понимании — не только собрание сочинений, состоящее из перечня определенных завершенных произведений, но и включает в себя множество источников, свидетельствующих о духовной и творческой жизни Пушкина во всей ее полноте. Потому в понятие «творчество» входят и неотрывны от современных взглядов на наследие поэта незавершенные произведения, наброски, письма— все буквально, к чему прикасалась его рука, в чем отразился его творческий гений. Мир Пушкина своеобразно раскрывается нам в его рукописях, рисунках. Замечалось уже, что рисунки (до этого говорилось об автопортретах, но это относится и к графике поэта в целом) по-разному воспринимались читателями былых эпох. Для нас они — способ и особый путь приобщения к душе поэта. В рисунках Пушкина действительно раскрывается его внутренний мир, интересы. Рассматривая рисунки на полях рукописей, можно лучше понять, о чем думал поэт, что подмечал, что останавливало его внимание, его взгляд, что запоминалось и «стояло» перед внутренним взором.
Разглядывая рукописи, вчитываясь в них, наши современники получают уникальную возможность воссоздать множественность пушкинских душевных состояний: вот он сердито перечеркивает удавшиеся, казалось бы, строки и мысль улетает вдаль, рождается рисунок... А вот рука не успевает за стремительным полетом воображения... Как удивительно многолик поэт в эти минуты вдохновенного труда!
 О. А. КОМОВ. Памятник А. С. Пушкину в Болдине.
О. А. КОМОВ. Памятник А. С. Пушкину в Болдине.
Не так давно был открыт в Болдине новый памятник поэту, созданный скульптором Комовым, который сумел запечатлеть Пушкина в момент творческих раздумий не совсем привычным. Поэт в легкой рубашке, по-домашнему проста его поза — он сидит на скамейке, у своего небольшого деревянного дома. Как будто бы вышел, продолжая незавершенную строку, и сел на садовую скамью, ушедший в себя, сосредоточенный. Этот памятник, изображающий Пушкина в минуту размышлений, раскрывает новые грани психологического состояния поэта в минуты творческого вдохновения. И. Андроников восторженно сказал об этой новой работе Олега Комова: «Это великолепно по образу, по пластике, по настроению, которое внушает он, по той тишине, которую устанавливает вокруг себя»
[286].
Нас все больше привлекает не только конечный результат пушкинского труда, но и самый процесс творчества, путь к этому итогу. Как знаменательный симптом такого интереса — введение рукописей в образную ткань произведений о Пушкине. Страницы черновиков помогают раскрытию современных представлений о творческом процессе поэта, об импульсах создания его творений. В спектакле «Пушкин в Одессе» (художник М. Ивницкий) сцена увешана полотнищами, на которых воспроизведены отрывки из пушкинских рукописей. Строки, написанные стремительным его почерком, графические рисунки поэта включены и в декорации спектакля «Болдинская осень» (художник Д. Попов). «Рукописи,— по верному замечанию критика,— будя фантазию, укрепляют чувство подлинности. Почерк неповторим: в рукописи не только намек на характер человека, но и образ самого процесса мысли, творческого труда»
[287]. Гармоничность, «естественность» произведений поэта вызывает сравнения их с явлениями природы.
Я начал день свой пушкинским стихом,
Сверкнувшим мне с развернутой страницы,
И до сих пор он в памяти струится,
Как отраженье клена над прудом
[288],—
так писал Всеволод Рождественский, один из старейших советских поэтов, признанный поклонник пушкинского творчества.
А. Землянский, представитель другого поколения поэтов, тоже признавался в стихотворении «Пушкину», что, открыв томик стихов, тотчас уходит «под крону мыслей, подвигов, страстей...», Пушкин в восприятии поэта — тоже часть окружающей жизни:
Пусть немы своды святогорских плит —
Слова твои — все ярче и светлей.
Ты — как поутру яблоня в саду...
[289]
Такого рода оценки звучат во многих поэтических посвящениях Пушкину. Их авторы стремятся акцентировать внимание читателей на том, как велика ценность наследия великого поэта, помогают разглядеть и понять, как «...всю естественность роста растений Повторяла живая строка» (Юрий Линник). Поэт и русская природа слиты воедино: его речь, поэтическая и прозаическая, естественна и свободна, в ней — отзвуки стихий... А теперь случается, что те или иные картины русской природы, так ярко и точно запечатленные Пушкиным, нам видятся его глазами и о нем напоминают...
Все в нем
Россия
обрела —
Свой древний гений
человечий,
Живую прелесть
русской речи,
Что с детских лет
нам так мила,—
Все
в нем
Россия
обрела.
Мороз и солнце...
Строчка — ода.
Как ярко белый снег горит!
Доныне русская природа
Его стихами
«Как сердце бедное унять? Скорей бы пушкинская сила его наполнила опять...»
[291] — признание Ярослава Смелякова повторяют по-своему многие поэты, литераторы, деятели разных видов искусства.
К «пушкинской силе» взывают многие творцы поэзии нашей разноязыкой страны. Они признаются в могущественной силе влияния его поэзии на пробуждение собственного таланта. Отдавая дань памяти «поэту поэтов», приходят к памятнику Пушкина. Не счесть прозвучавших здесь обращенных к Пушкину стихов. Одно из них принадлежит аварцу Расулу Гамзатову. Он вспоминает годы ученья в Москве и тот миг, когда впервые пришел к памятнику Пушкину. И, «поклонившись до земли», так обратился юный горец к поэту:
— У нас, в горах, поэзия в почете.
Вы, Пушкин, там стихи свои найдете...
И в каждом сердце, Пушкин, вы прочтете
Свои стихи.
Они у нас в почете...
Так я сказал. И горы повторили,
Мой слабый голос удесятерили
[292].
О громадном воздействии пушкинской поэзии на творчество деятелей искусства разных советских республик писали Сулейман Стальский из Дагестана, Антанас Венцлова из Литвы, латышка Мирдза Кемпе, армянин Ашот Граши, Тимофей Бембеев из Калмыкии и многие другие. Поэтесса Северного Кавказа Танзиля Зумакулова в посвященных Пушкину строках так оценивала влияние его поэзии на культуру братских народов: «О Пушкин! В чистой музыке стиха Речь русскую я Глубже понимаю. Я без балкарского была б немая, Без русского — была бы я глуха!»
При справедливости всех признаний, которые не иссякают, особенно в пору юбилейных торжеств и дней памяти поэта, остается задачей определение степени и характера влияния Пушкина на современную культуру и советское искусство. В этом вопросе пока не достигнуто единодушия. Нам тем более интересно обратиться к дискуссиям, которые велись в последние два десятилетия. Отголоски их не утихли и поныне.
Критик Ал. Михайлов, ставя вопрос о «пушкинском идеале и современной поэзии», справедливо отмечает, что духовную жизнь последних полутора столетий невозможно представить без Пушкина. При этом, однако, непрестанно велась борьба разных сил, на разных исторических этапах возрождались попытки отказать поэту «в праве влиять на духовную жизнь современности». Было это и в начале века нынешнего. Сейчас, в 70—80-е годы, положение, можно сказать, стабилизировалось. Но при этом, однако, трудно не заметить перекос, так сказать, в сторону чрезмерного почитания. «В дискуссиях последнего десятилетия о поэзии и в стихах,— пишет критик,— имя Пушкина встречается довольно часто. Повышенный интерес к личности и наследию поэта совпал по времени с общей тенденцией поэтического развития, с возвратным движением поэзии к классическим традициям, к гармонии, к традиционным формам стиха»
[293]. И вот в 1965 году впервые прозвучал призыв «Вперед, к ,,Медному всаднику“». Так прозвучала реплика в споре о характере современной поэмы, принадлежащая поэту Льву Озерову
[294]. Подхваченный некоторыми молодыми поэтами лозунг получил дальнейшее свое полемически заостренное развитие в статье П. Палиевского «Пушкин как человеческая задача русской литературы»
[295]. Уже само заглавие перекликается со всем известными словами Гоголя о том, что Пушкин — это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет. П. Палиевский выдвинул тезис, что именно Пушкин «стал началом, связью, в которой было заложено все будущее»; «...проблемы развития, которые наша литература, сталкиваясь с жизнью, постоянно находит и решает с немалым трудом, оказывается, были уже решенными у Пушкина»
[296].
Еще более утрированно прозвучала эта мысль в выступлении критика А. Ланщикова, заявившего: «Пушкин — это наша античность». Его призыв «Вперед, к Пушкину!» означал возвращение к началам пушкинской поэзии, что позволит «нам, людям второй половины XX века, создать невиданную доселе цивилизацию...»
[297].
Отзвуки этих споров отразились и в поэзии. Все это позволило критику Ал. Михайлову признать, что при множественности пониманий и представлений о связях пушкинского творчества с современностью, при всем многообразии суждений о самом поэте, его творчестве — в некоторых сферах художественного сознания появилась и дала о себе знать известная односторонность в восприятии пушкинского наследия. «Односторонность сегодняшней ориентации на Пушкина заключается в том, что теряется из виду его роль как новатора в поэзии, прозе, драматургии. Новаторство — это тоже пушкинская традиция...»
[298].
Призыв «Вперед, к Пушкину!» как и любые формы канонизации и абсолютизации достижений поэта, вступает в противоречие с главными заветами его художественной системы. Особенно это относится к нашим дням, когда так много переменилось в окружающей жизни, в психологии человека, в общественных и нравственно-этических идеалах советских людей. «Необычайная масштабность мироведения, широта интересов, поэтическое воспроизведение реальной действительности во всем ее многообразии, поразительное богатство художественной палитры — вот наиболее всеобъемлющая и основная традиция Пушкина, завещанная им русской литературе, вот тот в общей форме определенный идеал художника, который явил собою Поэт»,— так заключает свои рассуждения о современном пушкинском идеале критик Ал. Михайлов. И далее он верно замечает, что Пушкин как личность ярчайшая, как идеал художника, соединившего в себе поразительную естественность, живость, темперамент борца и искателя, чувство гармонии, соразмерности, гибкий ум и высоту духа,— и ныне остается «человеческой задачей русской литературы». Вместе с тем Пушкин как поэт, создавший прекрасный и неповторимый художественный мир, ждет своего продолжения
[299].
Да, к пушкинским критериям оценки достижений и поисков в области художественного мышления обращаются и поныне. Они незыблемы. Не потому ли, когда велась острая дискуссия о так называемом «свободном» стихе, о верлибре, и раздавались мнения, что это «негодный стих», ибо лишен метрической основы, поэт Юрий Левитанский обратился к Пушкину, к его опыту, как к непререкаемому авторитету:
Вот Пушкина свободный стих.
Он угрожающе свободен.
Он оттого и не угоден
царям, что раздражает их.
Но вы смотрите, как он жжет
сердца глаголами своими!
А как свободно правит ими!
И не лукавит! И не лжет!
О, только б не попутал бес
и стих по форме и по мысли
свободным был бы в этом смысле,
а там — хоть в рифму или без!
[300]
Несмотря на признание разных, нередко разнонаправленных поисков в современной «лаборатории стиха», в современном искусстве в целом, не случайно отмечается при индивидуальности стилей и голосов, тональностей и тем некое объединяющее начало. Сегодня оно видится в том, чтобы обрести духовные и эстетические ценности, расширить диапазон звучания нынешней поэзии, литературы и искусства, отражать заботы современного человека, продолжая и развивая те идеалы, которые были завещаны Пушкиным и русской классикой XIX века, достижениями художественной культуры XX столетия
[301].
Поэты помогают вникнуть в атмосферу пушкинской жизни. Не потому ли так велик интерес к поэтическим трактовкам его образа, да и к другим видам искусства, для которых пушкинская тема стала традиционной? Традиции такие создаются, но они же и обновляются, чутко реагируя на требования времени. Так, в последние годы проявились некоторые тенденции в тематической эволюции способов воссоздания образа Пушкина. В частности, в произведениях разных видов искусства нередко в последнее время образ поэта раскрывается опосредованно: не через воссоздание личности его самого, а через передачу отношения к нему наших современников. Это очень сложный и интересный прием. Он осваивается в разных жанрах. Идут активные поиски художественной выразительности.
Если опять вспомнить примеры поэтические, то целый поток «пушкинских» стихов связан с ежегодным проведением праздников поэзии в селе Михайловском, в Псковском крае, в других местах, связанных с именем Пушкина, в Болдине и во многих уголках нашей страны, где бывал поэт. Такие произведения получили даже условное наименование «паломнические»
[302]. Само определение их тематики напоминает известное изречение Гете, что узнать поэта можно лишь тогда, когда побываешь на его родине. Объясняя причины широкого обращения к такой тематике, критик Ал. Михайлов справедливо замечает, что это способ отыскать «личный повод», чтобы «...приобщиться к Пушкину, открыть его для себя хотя бы какой-то одной не всем ведомой гранью, более непосредственно ощутить богатство его личности...»
[303].
Каждый из нас, читателей, зрителей может признаться в том, что испытывал ощущение прикосновения к тайне личности Пушкина, когда видел на экране кино, телевидения или воочию места, по которым ходил Пушкин. В телефильме «Болдинская бессонница» роль своеобразного «гида» по дому, где жил поэт, играл артист И. Смоктуновский. И хотя зрители «оказались» в этом доме ночью, когда лишь громадные тени от свечи гуляли по стенам и тикали старинные часы, «прикосновение» к Пушкину состоялось, Смоктуновский рассказывал о болдинском периоде творчества Пушкина, читал письма поэта, воспоминания о нем, звучали отрывки из произведений, которые были той болдинской осенью написаны и передавали мироощущение Пушкина. А в конце фильма зрители вместе с артистом оказывались за порогом болдинского дома, в ветреном осеннем воздухе, в кругу деревьев, которые гнулись от порывов... И когда в предрассветной мгле видели кибитку, которая тряслась по ухабам отдаленной дороги, то трудно было не поддаться полной иллюзии, что заглянули мы во времена Пушкина, ощутили его присутствие рядом с собой.
Поиски разных путей приобщения к жизни Пушкина продолжаются порой в областях и с помощью приемов самых необычных. Привычны нам оперы по произведениям поэта. Но совсем недавно в Свердловском академическом театре оперы и балета имени А. В. Луначарского была поставлена не совсем обычная опера Владимира Кобекина «Пророк». Она состоит из трех частей. Первая — оперный вариант маленькой трагедии «Каменный гость», сцены которой перемежаются интермедиями на стихи Гарсиа Лорки. Вторая часть — «Пир во время чумы», а третья — сценическая кантата «Гибель поэта». В последней не только раскрывается история дуэли и смерти Пушкина, но дан и обобщенный образ поэта. И здесь же, наряду со стихами Пушкина, использованы подлинные документы той эпохи. Три самостоятельные, на первый взгляд, части объединены тональностью пушкинской поэзии, накалом его творческой страсти. В каждом из действующих лиц — частичка самого поэта. Это подчеркивается тем еще, что главные герои каждой части — Дон Гуан, и Вальсингам, и Поэт — сыграны одним актером П. Зверевым.
Итак, традиция воссоздания образа поэта посредством обращения к какому-то отдельному эпизоду дополнена новыми способами проникновения в характер, в натуру Пушкина. Нельзя не заметить и такой особенности современных трактовок в произведениях искусства образа поэта, как стремление в рамках одного произведения охватить весь его жизненный путь. Важнейшая задача при этом — раскрыть характер Пушкина в динамике, в естественной эволюции, в стремительности необычайного творческого развития. Поиск средств художественной выразительности для решения такой сложной проблемы начинал в свое время еще В. Яхонтов в первых своих литмонтажах
[304].
В спектаклях «Пушкин» (1926 года), «Лицей» (1936 года), «Болдинская осень» (1937) Яхонтову, автору композиций и их исполнителю, удалось заложить основы этого жанра и дать непревзойденные образцы раскрытия образа поэта многогранным и полнокровным. Нынешние создатели литературных композиций продолжают традиции и ведут активный поиск новых средств. В таких литературных композициях последних лет, как «Последние годы» В. Маратова, «Когда постиг меня судьбины гнев» в исполнении В. Ланового, А. Кайдановского, В. Малявиной, в композициях «Прострелено солнце» Н. Литвинова и Г. Бахтарова, «Тебя, как первую любовь...» М. Раковой широко используются достижения В. Яхонтова. Главное в способах построения композиций — синтез средств разных видов искусства — актерского, литературного, музыкального, вокального, даже опыт кинематографа, ибо во многих композициях проецируются изображения тех или иных картин из жизни поэта, соединяются в соответствии с идеями монтажа. В своеобразных моноспектаклях соединяются также произведения о Пушкине — стихотворные и прозаические — с отрывками из мемуаров, писем, публицистических произведений. По точному определению критика Е. Дубновой, построение литмонтажа, композиции литературно-музыкальной сродни монтажу кинокадров. «Хроникальность, быстрая смена эпизодов, возможность ассоциативного мышления, емкость содержания, возникающая благодаря столкновению разнородных фактов и явлений,— все это делает сценическую композицию искусством очень современным»
[305]. Эти возможности особого вида театрального искусства, в котором синтезируются преимущества, достижения и находки различных видов художественного творчества, используются для воссоздания сложного многогранного образа Пушкина.
За пределами этой книги осталось очень много недосказанного, немало тем, которые следовало бы затронуть, чтобы полнее осветить жизнь образа Пушкина в современности. Закончить же хочется точными до афористичности строчками Д. Самойлова:
Пусть нас увидят без возни,
Без козней, розни и надсады.
Тогда и скажется: «Они
Из поздней пушкинской плеяды».
Я нас возвысить не хочу.
Мы — послушники ясновидца...
Пока в России Пушкин длится,
Метелям не задуть свечу.
НЕИСЧЕРПАЕМОСТЬ ОБРАЗА.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для многих поколений Пушкин был и остается вечным спутником. Характер отношения к поэту, особенности интереса к нему входят в культуру, отражаются в ней и символизируют ее.
...Есть ценности, которым нет цены:
Клочок бумаги
с пушкинским рисунком,
Учебник первый
в первой школьной сумке
И письма не вернувшихся с войны.
Строки Майи Борисовой напоминают моментальный снимок, запечатлевший не случайные детали, но важнейшие приметы нашего мироощущения. Детство, верность памяти о защитниках страны, святыни прошлого, Пушкин. Воистину ценности, которым нет цены.
Чтобы определить меру нынешнего духовного приобщения к поэту, мы все настойчивее всматриваемся в минувшее. Это естественно. Однако история, представленная на страницах этой книги, еще не обрела подробность и полноту объемного летописания, рассмотрены лишь эпизоды жизни Пушкина в социальной памяти. Прошлое многозначно. Мы строим разные его картины, добиваясь панорамности видения и представления о былом. Подобное происходит и с памятью о поэте. Она многослойна: образы Пушкина формируются и хранятся на разных уровнях общественного сознания. К началу прошлого века восходят, к примеру, истоки фольклорного или так называемого «мифологизированного» представления о поэте. С сожалением признает наш современник — литературовед, что по сей день относящийся к Пушкину фольклор — анекдоты, поверья, частушки, самодеятельные песни и стихи — собран и изучен в гораздо меньшей степени, нежели предания об Иване Грозном, Степане Разине, Петре I. Легенды о Пушкине, между тем, не просто укоренились, но живут, воздействуя на некоторые грани нынешних суждений о поэте
[306].
На многих страницах книги говорилось, что концепции образа поэта, выработанные разными общественными группами, противостояли друг другу. Важно не забывать вместе с тем, что не прерывались и даже крепли связи между модификациями образа поэта у читателей разного уровня культуры в пределах одного временного диапазона. Эта линия, лишь бегло намеченная в книге, требует развития и уточнения. Не случайно отмечал В. Непомнящий, что хотя не следует преувеличивать факт возрастания в наши дни «массового уровня» понимания Пушкина, все же «именно мнение народное... стихийно, «снизу» напирало на науку и постепенно добилось своего: произошел радикальный методологический сдвиг в изучении классики, в частности — творчества Пушкина, его жизни и личности; сдвиг в сторону постижения смысла того, что он писал и делал»
[307] (отмечено В. Непомнящим.—
Е. В.).
Динамика образа поэта в сознании общества высвечивает многое в истории культуры и в нас самих, сегодняшних читателях Пушкина. Потому так важно стремиться к по возможности полному, объемному представлению об изменчивой жизни поэта в прошлом — далеком и в относительно недавнем. Для этого предстоит сделать немало. Разобраться в смысловой многозначности и изменчивости определений поэта как «народного», как «солнечного» гения, как мыслителя, пророка. Различные смыслы вкладывались в трактовки пушкинской «всеотзывчивости», гармонии, художественного совершенства, а также гуманизма
[308].
Образ поэта, каким он складывался на определенных витках культурного развития, влиял на отношение к пушкинскому наследию. Об этом говорилось на многих страницах книги. Вместе с тем и истолкования произведений, вдумчивое их прочтение не проходили бесследно для образа поэта как целостного представления о его личности и творчестве. Здесь просматривается сложная, не в полной мере осмысленная нами пока зависимость. Потому важно раскрыть изменения толкований поэм, романа в стихах, прозы, трагедий, критических, публицистических произведений, стихотворений Пушкина. Так, в исследовании М. П. Алексеева «Памятник» предстал в многочисленных связях с породившей его традицией и в разнообразии последующих прочтений. Завершалась монография обращением к факту художественной интерпретации стихотворения. В поэтическом этюде Н. Доризо ученый увидел «справедливый итог» изучения и переосмысления важнейшей пушкинской декларации
[309]. Цитируя первую строку «Я памятник себе воздвиг нерукотворный», Доризо следующим образом продолжал размышление над вопросом:
Как мог при жизни
Он сказать такое?
А он сказал
Такое о себе —
В блаженный час
Счастливого покоя,
А может быть,
в застольной похвальбе?
...Нет!
Эти строки
С дерзостью крамольной,
Как перед казнью узник,
Он писал!
В предчувствии
Кровавой речки Черной,
Печален и тревожно одинок —
«Я памятник себе воздвиг нерукотворный...»
Так мог сказать
И мученик,
И бог!
Интереснейшую антологию можно было бы составить из прочтений и интерпретаций пушкинского «Пророка». Наиболее значительные отзывы о нем сохранились в трудах, записях Д. Веневитинова, В. Белинского, П. Бартенева, Л. Майкова, П. Морозова, С. Венгерова, Н. Черняева, В. Якушкина, Н. Сумцова, Н. Страхова, Ф. Достоевского в прошлом веке, а также М. Гершензона, В. Брюсова, И. Ермакова, В. Вересаева, В. Виноградова, Б. Модзалевского, Б. Томашевского, М. Цявловского, Д. Благого, Н. Степанова, Н. Измайлова, Б. Мейлаха, Ю. Лотмана, В. Непомнящего в нашем столетии. Вариации прочтений, поиски наиболее верных толкований «Пророка», как и других пушкинских произведений, можно сравнить с перебором ключей, с выработкой тонких и адекватных инструментов анализа, которые позволяют приблизиться к истинной сути произведения и к пониманию облика их создателя.
Направленности интерпретаций порой откровенно, чаще опосредованно, сложно детерминированы временем, социальными, культурными, эстетическими, художественными задачами — условиями объективными. Сами же истолкования определяются индивидуальностью автора, сумевшего в четкой афористической или же в поэтически-метафорической словесной форме, в зрительных, пластических, музыкальных образах отразить представление о поэте, наиболее точно и полно отвечающее запросам эпохи и приближающее нас в целом к верному пониманию его личности и творчества. При всем желании мы не смогли упомянуть всех, кто внес значительный вклад в пушкиниану. О многих сказано слишком бегло и скупо. К тому же значительная часть художественных интерпретаций образа поэта не обобщена, не исследована с точки зрения влияний на истолкование
Пушкина как феномена культуры. Многое здесь еще предстоит сделать. Однако мы стремились подчеркнуть и то, что нельзя сводить историю жизни пушкинского образа лишь к динамике трактовок его облика учеными, поэтами, живописцами. Реальная жизнь образа поэта — в присвоении его общественным сознанием, в процессе закрепления социальной памятью. Эта линия в книге тоже пока лишь намечена, она требует продолжения.
Трактовки образа поэта складывались и видоизменялись, подчиняясь определенной логике познания социальных, феноменов и явлений культуры. Вектор движения — к обретению многомерного представления, включающего действительное разнообразие проявлений Пушкина в жизни и в творчестве. Причем сам характер гения таков, что заставляет искать, изобретать все новые, более совершенные пути для реконструкции его облика непротиворечивым и целостным, в движении, в развитии, в смене творческих этапов и т. д. Пушкин требует неординарного подхода, настраивает на готовность к смене привычных воззрений и ракурсов рассмотрения его жизни, натуры, творчества. Продуктивной оказывается постановка парадоксальных вопросов, подобных заданному недавно Ю. Лотманом: «равен ли Пушкин своему полному собранию сочинений, все ли он написал, что мог и хотел написать? Не бросает ли ненаписанное или отброшенное отсвет на смысл законченного? Нужно ли нам, например, знать дороги, по которым автор
не захотел пойти, хотя и мог?..»
[310] (Выделено Ю. Лотманом.—
Е. В.) Неожиданный подход помогает в новом свете увидеть поэта, оценить щедрость его гения. Сколько еще подобных новых ракурсов восприятия и понимания Пушкина ждет впереди?
Прокладывание путей для обретения объемного, стереоскопического видения и интерпретации классика можно сравнить с созданием коллективными усилиями многогранного портрета в интерьере эпохи. Портрета необычного, «голографического», передающего внешний и внутренний облик личности не в статике одномоментного состояния, а в естественной динамике, в смене душевных, творческих состояний. Это, если воспользоваться удачным определением М. Цветаевой о гравированном Е. Гейтманом изображении поэта,— всегда портрет «в две дали» — в истоки творческой натуры и в будущее ее, в грядущее развитие, включая расширяющийся потенциал толкований.
Поиски подходов к проникновению в тайну личности художника, в импульсы его поступков, творческих порывов и логику развития — задача неимоверно сложная. Ее, однако, не следует считать в принципе нерешаемой. Позитивные перспективы открываются по мере совершенствования разных сфер гуманитарного знания, а также подкрепляются былыми опытами реконструкции облика поэта, в которых накоплено немало ценного и поучительного. Тем более важно знать, чем руководствовались в прошлом — дальнем и относительно близком — создатели образов Пушкина.
Формирование образа художника в целом подчиняется общим законам восприятия человеком человека
[311]. Представления о художнике, поэте, писателе давней эпохи кристаллизуется на основе синтеза разноплановых знаний, впечатлений, накопления сведений и эмоциональных откликов о его личности и творчестве. Немаловажное значение имеет при этом образ-эталон творца, который оказывается одним из решающих критериев в закреплении мнений о создателе непреходящих художественных ценностей. В способах познания художника преломляются социальные, мировоззренческие установки общества или социальной группы, отражается общий уровень представлений о личности, индивидуальности творца, о самом процессе создания эстетических ценностей. Чем мы дальше от времени реальной жизни поэта, тем опосредованней становятся интерпретации образа, хранимые в социальной памяти,— увеличивается число инстанций-посредников между реальным человеком и поколениями, актуализирующими мнение о нем.
Поскольку образ поэта — явление конкретно-историческое, то неизбежен вопрос: какова направленность
динамики представлений о личности и творчестве? Цель познания в конечном счете всегда сопряжена с желанием достигнуть наиболее верного представления о загадочном феномене. Отказ от одной трактовки образа творца во имя другой, как правило, и мотивируется стремлением к повышению адекватности образа. Что вообще можно считать образом «истинным», адекватным? Учитывая закон неисчерпаемости сложного явления, можно предположить, что разные поколения читателей Пушкина хотели бы обрести многогранное, по возможности полное и объективное понимание истинной сути личности и творчества поэта в контексте условий времени его реальной жизни. Как раз такой образ и вырабатывался на протяжении почти двух столетий в ходе перебора трактовок, отсеивания фальсифицировавших его данных. В образ поэта включается понимание вклада, внесенного творцом в духовный, культурный, исторический прогресс. Оценка этой его роли раскрывается все более полно и разнопланово по мере культурно-исторического движения: чем дальше отходим от периода реальной жизни поэта, тем яснее, определеннее просматривается его роль для отечественной и мировой культуры. Поэтому в понимание адекватного образа поэта включаются многочисленные интерпретации его читателями многих поколений.
Смены интерпретаций облика и творчества Пушкина стали своего рода школой накопления опыта культурно-исторического познания художников слова. Неполнота, односторонность отдельных трактовок образа поэта, своего рода «сопротивление» объективной многозначности стремлению обузить, оскопить облик классика, необходимость выработки более точных и верных ориентиров в оценках его жизни и творчества — все создавало объективные условия для совершенствования самих принципов и приемов восприятия деятеля искусства. Навыки прочтения поэта стали включать своеобразные умения и привычки синтезировать впечатления, видеть за множественностью проявлений классика создания одного и того же уникального человека. (Конечно, навыки эти складывались и оттачивались наряду с общими способностями восприятия другого человека как личности, умением реконструировать облик по внешним впечатлениям о собеседнике...) Критика, литературная наука развивали способность читателей
воспринимать произведение как «дело рук» конкретного человека, как высказывание в диалоге собеседников. Искусство ведь, по замечанию В. Белинского, это воспроизведение действительности, повторенной как бы вновь созданный мир. Может ли в таком случае поэт не отразиться в своем произведении как человек, как характер, как натура, как личность? Разумеется, нет, подчеркивал критик, ибо и сама способность изображать явления действительности без всякого отношения к самому себе есть в известной мере выражение натуры поэта.
Теоретики искусства и писатели хорошо понимали, как значимы суждения о художниках, создателях эстетических ценностей для разных сфер социальной и культурной жизни. Образ художника не только «программирует» восприятие творчества, но и способствует утверждению эталонной «поэтики поведения» (Ю. Лотман), норм и образцов нравственности. К. Федин в связи с этим замечал: «Учит не только искусство, учит его создатель. Что больше влияло на литературу конца XVIII века — «Кандид» или Вольтер? «Эмиль» или Руссо? Автор освещал сочинения своей жизнью. Образы русских писателей XIX века нередко оспаривали первенство влияния у своих произведений... Биографии Достоевского и Толстого формировали русскую литературную мысль наряду с произведениями этих писателей». Образ Пушкина особенно интересен в этом плане тем еще, что позволяет ставить вопрос о своего рода
типологии личности, истории жизни и истории восприятия наследия творца, свершившего революционный переворот в искусстве. Не случайно образ поэта часто сопоставляют с образом Моцарта, находят немало пересечений и прямых совпадений в биографических коллизиях того и другого, в характере новаторства и в понимании потомками двух светлых гениев. Наиболее поразительный пример совпадения — в сходном непонимании их обоих большей частью современников и рядом последующих поколений. Отношение к ним порой принимало форму поверхностных оценок как «легковесных», по-детски ясных и простых, «прозрачных» гениев, для восприятия наследия которых вовсе не следует умственно и духовно напрягаться.
Замечалась новизна лишь формы поэтического и музыкального творчества. С особой настойчивостью Пушкина упрекали (особенно в прошлом веке, но рецидивы встретишь по сей день) в чрезмерной простоте и малой основательности. Такие суждения иногда трансформировались в утверждения о якобы превалирующем «объективизме» пушкинского творчества. Подобные и близкие стереотипные оценки, клише, закрепляясь в социальной памяти, мешают восприятию личности и творчества поэта в реальной многозначности.
В первой главе книги отмечалось, что в прижизненной пушкинской портретистике поэт представал в основном гением гармоничным, величавым, понятным и доступным. Да и в иконографии второй половины прошлого века подход в целом не менялся. Сравним с распространенным мнением о Моцарте как о «вечно юном», «радостном Амадее», «солнечном юноше», авторе легковесных произведений. Такие толкования тоже закреплялись в скульптурных портретах, акцентировавших неизменный оптимизм композитора, легкий, беззаботный нрав, даже плутоватость. Вот пример, позволяющий судить о духе филистерских интерпретаций образа композитора. В Вене скульптором Тильгнером был сооружен памятник, задававший тон легковесным суждениям о натуре и наследии Моцарта. На населенный амурчиками пьедестал поставлен манерный человечек в туфлях-лодочках, в жабо, в парике с косичкой. Если бы перед ним не было пюпитра, то по грациозности позы фигуру можно принять за танцмейстера при французском дворе. Сравнивая этот фальшивый образ с тем, каким увидел Моцарта XX век, открывший амбивалентность звучания, слияние «космоса и жизни», «шекспироподобие» музыки гения
[312], автор примечательного труда, раскрывающего динамику отношения к композитору, Г. Чичерин отметил: «Моцарт раскрылся более как композитор XX века, чем как композитор XIX века; он может быть признан более композитором XIX века, чем века XVIII, от которого оторвался и ушел в будущее. Потому он и умер в нищете, что под конец жизни стал чужд современникам. Он из тех художников, которые открываются лишь постепенно».
Представления о Моцарте и о Пушкине подвергаются в общем и целом схожим метаморфозам. Активному переосмыслению подлежат не только произведения, с которых со временем стирается «хрестоматийный глянец», но и видение, понимание характера, личностных особенностей самого творца
[313]. Условия истинного постижения глубин творческой натуры поэта и композитора тоже близки, сопоставимы. Обратимся вновь к Чичерину, отметившему, что Моцарт — самый малодоступный, самый скрытый от поверхностного скользящего взгляда композитор, причем загадочности его личности, скрывшей под личиной грубого балагурства и смешных шуток свои неизведанные глубины, близка и загадочность его творений: чем больше в музыку его вникаешь, тем больше видишь, как мало еще понял ее
[314].
Еще к одному наблюдению приводят сопоставления судеб восприятия личности и творчества Пушкина и Моцарта: сами их имена со временем обретают свойства концептуальных обобщений истолкования личности и наследия. В звучании имени, в смысловом сгустке связанных с ним ассоциаций сконденсированы культурно-исторические понимания образа художника, отношения к классику. Вот лишь один пример трансформаций смыслового «заряда» в звучании имени. Помните, у Блока:
Имя Пушкинского дома
В Академии наук!
Звук понятный и знакомый,
Не пустой для сердца звук!
Здесь и далее в стихотворении «В альбом Пушкинского дома» развертывается смысловая гамма многозвучных ассоциаций имени Пушкина с реалиями начала века (стихотворение датируется 1921 г.). Прошло пять десятков лет, и святое для социальной памяти имя отозвалось в более широком контексте романа А. Битова «Пушкинский дом», где, собственно, не «дом» уже, а пушкинская вселенная, вместившая русскую литературу, Россию, героев романа, самого автора. Кстати, по поводу заглавия создателем романа сказано в примечании: «Название вызывает, как теперь модно говорить, «аллюзии». Они необоснованны. До окончания романа я ни разу не посетил Пушкинский дом — учреждение, и поэтому (хотя бы) все, что здесь написано, не о нем. Со времени окончания романа в 1971 году все попытки переменить ему название оказались безуспешными: от имени, от символа я не мог отказаться. «Il faut que j´arrange ma maison» («Мне надо привести в порядок мой дом»),— сказал умирающий Пушкин. И русская литература, и Петербург (Ленинград), и Россия — все это так или иначе пушкинский дом, но уже без его курчавого постояльца. Академическое же учреждение, носящее это имя,— позднейшее в таком ряду»
[315].
По мере движения времени понятие «Пушкин» вбирает в себя все больше смыслов, трактовок. Сам характер уплотнения понятия за счет конденсации пониманий в значительной мере определен расширением представлений о возможных истолкованиях образа поэта. Принципиальное значение имеет поэтому включение в контекст восприятия личности и творчества Пушкина тех мнений, оценок, которые по разным соображениям и причинам либо вовсе не учитывались до сих пор, либо негативистски отбрасывались. А как показательны, к примеру, споры о Пушкине В. Соловьева и В. Розанова, статья «Два маяка» поэта и религиозного мыслителя Вяч. Иванова, как неотделимы от общих логик понимания Пушкина труды о нем В. Набокова, В. Ходасевича и многих других.
Размышления об истории жизни образа поэта в памяти поколений заставляют заглядывать и в будущее. Каким будет Пушкин в 1999 году, когда читатели отметят двухсотлетний юбилей поэта? У Пушкина, по очень точному замечанию Ю. Лотмана, есть удивительная способность «ускользать» от исследователей в моменты, когда кажется, что понято о поэте самое главное. Причина не в недостатках литературоведения или историко-литературной науки, а в самой сущности пушкинского творчества и образа поэта. Пушкин сохраняет свойства живого собеседника — он отвечает на запросы тех, с кем вступает в контакт. «Великие писатели, такие, как Пушкин, как тень отца Гамлета, идут впереди и зовут за собой. Пушкин всегда таков, каким он нужен новому поколению читателей, но не исчерпывается этим, остается чем-то большим, имеющим свои тайны, чем-то загадочным и зовущим. Думается, что эта загадочность не исчезнет, а возрастет к концу века, что Пушкин 1999 года будет поэтом мучительных вопросов, а не окончательных ответов...»
[316]. Неисчерпаемость образа художника в памяти потомства предвосхищал сам Пушкин. Динамика представлений о нем подтверждает справедливость формулы, он был и остается «вечно тот же, вечно новый».
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Знакомство с этими изданиями расширит и сделает более наглядными представления о динамике образа поэта в восприятии многих поколений.
А. С. Пушкин в стихах русских поэтов XIX века / Сост. И. Т. Трофимов. М., 1974.
А. С. Пушкин в стихах советских поэтов / Сост. И. Т. Трофимов,- М., 1978.
А. С. Пушкин: Фотовыставка / Сост. А. Гордин.—Л., 1984.
А. С. Пушкин и его время в изобразительном искусстве I половины 19 века. Альбом /Сост. Г. П. Балог и др.— Л., 1985.
А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2-х гомах / Сост. В. Э. Вацуро, М. И. Гиллельсон и др.— М., 1974. Изд. 2-ое — М., 1986.
А. С. Пушкин в русской советской иллюстрации: В 2-х томах/ Сост. И. Н. Врубель, В. Ф. Муленкова.— М., 1987.
В мире Пушкина: Сб. статей / Сост. С. Машинский.— М., 1974.
Венок Пушкину / Сост. С. А. Небольсин.— М., 1974.
Вересаев В. В. Пушкин в жизни: Систематический свод подлинных свидетельств современников.— М., 1984.
Дань признательной любви: Русские писатели о Пушкине / Сост. О. С. Муравьева.— Л., 1979.
Жизнь и творчество А. С. Пушкина: Материалы для выставки в школе и детской библиотеке. — М., 1982.
Красухин Г. Г. В присутствии Пушкина: Современная поэзия и классические традиции.— М., 1985.
Кунин В. В. Друзья Пушкина: Переписка. Воспоминания. Дневники.— М., 1986.
Кунин В. В. Жизнь Пушкина, рассказанная им самим и его современниками.— М., 1987.
Павлова Е. В. Пушкин в портретах.— М., 1983.
Приют, сияньем муз одетый: Фотолитературная композиция Е. Кассина, Г. Расторгуева; Рассказы о А. С. Пушкине и Гос. Пушкинском музее-заповеднике С. Гейченко.— М., 1982.
Пушкинские места России: Путеводитель / Сост. В. С. Бозырев и др.— М., 1984.
Русские писатели XIX века о Пушкине / Под ред. А. С. Долинина.— Л., 1938.
России первая любовь: Повести и рассказы о Пушкине / Сост. В. В. Кунин.— М., 1983.
Черейский Л. А. Пушкин и его окружение.— Л., 1975.
Черейский Л. А. Современники Пушкина: Документальные очерки.— Л., 1981.
Эйдельман Н. Я. «Прекрасен наш союз...»: О пушкинском выпуске Царскосельского лицея.— М., 1982.
Эпштейн М. Н. Новое в классике: Державин, Пушкин, Блок в современном восприятии.— М., 1982.
Учебное издание
Высочина Елена Игоревна
ОБРАЗ, БЕРЕЖНО ХРАНИМЫЙ
Зав. редакцией
В. П. Журавлев
Редактор
Л. Б. Миронова
Художник
А.
Н. Ковалев
Художественный редактор
Н. М. Ременникова
Технический редактор С. С.
Якушкина
Корректор
И. Н. Панкова
ИБ № 12100
Сдано в набор 14. 06. 88. Подписано к печати 03. 03. 89. А 03547. Формат 60Х90
1/
16. Бум. офсетная № 2. Гарнитура литературная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 15+0,25 форз. Усл. кр.-отт. 15,5. Уч.-изд. л. 15,56+0,42 форз. Тираж 200 000 экз. Заказ 1848. Цена 80 к.
Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Просвещение» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 129846, Москва, 3-й проезд Марьиной рощи, 41.
Смоленский полиграфкомбинат Главного производственно-технического управления Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 214020, Смоленск, ул. Смольянинова, 1.



Примечания
1
Московский телеграф.— 1827.— № 9.— С. 33—34.
(обратно)
2
Заметим, что подход, предлагаемый в книге, может быть применен для выяснения истории жизни образов других классиков отечественной и мировой культуры — Данте, Шекспира, Гете, Гоголя, Лермонтова, Горького, Маяковского,— хранимых в памяти многих поколений.
(обратно)
3
Абрамов Ф. Отец наших душ. Заметки разных лет // Литературная газета.— 1985.—5 июня.— С. 5.
(обратно)
4
Фомичев С. Слово о Пушкине // Агитатор. —1987.— № 3.— С. 35—36.
(обратно)
5
Подробнее о роли образа деятеля искусства и о способах его реконструкции см.: Высочина Е. И. О неиспользованных резервах изучения художественного восприятия // НТР и развитие художественного творчества.— Л., 1980.—С. 240—244; Высочина Е. И. Образ художника в общественном сознании как научная проблема // Художественное творчество: Вопросы комплексного изучения / 1982.—Л., 1982.— С. 166—180; Образ художника // Краткий словарь по эстетике / Под ред. М. Ф. Овсяникова.—М., 1983.—С. 108.
(обратно)
6
См. об этом: Маслова О., ШляпентохВ. Что они знают друг о друге // Литературное обозрение. —1974.—№ 2.—С. 100—105.
(обратно)
7
Некоторые литературоведы считают, что знание о личности и истории жизни, в частности, И. Бунина, А. Фета вовсе не обязательно для глубокого проникновения в суть их творчества. Замечают они и другую особенность: такие произведения, как «Божественная комедия», «Дон Кихот», «отделяясь» от истории их создания, живут как бы своей самостоятельной жизнью. См. об этом: Затонский Д. Творчество писателя и личность писателя // Вопросы литературы.—1982.—№ 7.
(обратно)
8
Белинский В. Г. Собр. соч.: В 9 т.—М., 1981.— Т. 6.— С. 282. (Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием тома и страницы.)
(обратно)
9
О том, к примеру, как менялись акценты в восприятии знаменитого пушкинского портрета работы О. Кипренского, см.: Зименко В. Портрет национального гения // Искусство.—1987.— № 2.— С. 1—5.
(обратно)
10
См.: А. С. Пушкин и его время в изобразительном искусстве первой половины XIX века.— Л., 1985; Волшебные места, где я живу душой: В садах Лицея. На берегах Невы. Губерния Псковская. Под сенью дедовских дубрав: Фотоальбом.— Л., 1986; Образ Пушкина в графике русских и советских художников: Комплект из 16 открыток.— Л., 1987.
(обратно)
11
См.: А. С. Пушкин в стихах русских поэтов XIX века.— М., 1974; А. С. Пушкин в стихах советских поэтов.— М., 1978; Венок Пушкину.— М., 1974; России первая любовь: Повести и рассказы о Пушкине.— М., 1983 и др.
(обратно)
12
Вяземский П. А. Полн. собр. соч.: В 12 т.—СПб., 1896.—Т. XII.— С. 355-356.
(обратно)
13
Свидетельство о популярности поэта см. в кн.: Яковлев В. А. Отзывы о Пушкине с юга России.— Одесса, 1887.
(обратно)
14
Московские ведомости,—1855.— № 144 (вероятно, со слов Плетнева).
(обратно)
15
Переписка А. С. Пушкина: В 2 т.— М., 1982.— Т. 1.— С. 94—95.
(обратно)
16
Цветаева М. Мой Пушкин,—М., 1967.— С. 196.
(обратно)
17
Черейский Л. А. Пушкин и его окружение.— Л., 1975.— С. 4.
(обратно)
18
Память о великих людях — у современников и последующих поколений — подчиняется своим законам, обладает специфическими свойствами, одно из которых аберрация (от лат. aberratia — уклонение), то есть подверженность отклонениям, в частности восприятие более ранних по хронологии событий нередко изменяется в свете позднейших оценок или установившихся репутаций.
(обратно)
19
Многими изданиями выходил труд В. В. Вересаева «Пушкин в жизни: Систематический свод подлинных свидетельств современников». (Вып. 1—4.— М., 1926—1927; 1928; 1929; 1936.) Вновь переиздан в 1984 г. См. также: Кунин В. В. Друзья Пушкина: Переписка. Воспоминания. Дневники.— М., 1986; Кунин В. В. Жизнь Пушкина, рассказанная им самим и его друзьями-современниками.— М., 1987.
(обратно)
20
Чиновником в России называли государственного служащего, имевшего определенный классный чин по Табели о рангах. Высшие чиновники — с четвертого по первый класс (счет велся с 14-го, самого низшего класса) — именовались сановниками. В широком смысле слова чиновниками называли и низших государственных служащих-канцеляристов, копиистов,— вовсе не имевших чинов по Табели.
(обратно)
21
Интересные подробности о читателях пушкинской поры см.: Осповат А. Л., Тименчик Р. Д. «Печальну повесть сохранить...»: Об авторе и читателях «Медного всадника».— М., 1985; Эйдельман Н. Уход. // Новый мир,—1987.— № 1.— С. 98—125.
(обратно)
22
Шевырев С. Взгляд на современное направление русской литературы // Москвитянин.—1842.— № 1.— С. XII.
(обратно)
23
Детальное представление «атмосферы пушкинской эпохи» оказывается необходимым для нынешнего прочтения и понимания произведений поэта. Не случайно комментарий к роману в стихах современный нам исследователь начинает с очерков дворянского быта той поры. См.: Лотман Ю. М. Роман А. С. Пушкин «Евгений Онегин»: Комментарий.— Л., 1980.— С. 35—117.
(обратно)
24
См.: Благой Д. Д. Творческий путь Пушкина (1813—1826).— М.; Л., 1950; Благой Д. Д. Творческий путь Пушкина (1826—1830).— М., 1967; Вацуро В. Э., Гиллельсон М. И. Сквозь «умственные плотины».— М., 1972; 2-е изд.— 1986; Мейл ах Б. С. Жизнь Александра Пушкина.— Л., 1974; Лотман Ю. М. Александр Сергеевич Пушкин: Биография писателя.— Л., 1983; Макогоненко Г. П. Творчество А. С. Пушкина в 1830-е годы (1833—1836).— Л., 1982; Абрамович С. Л. Пушкин в 1836 году.— Л., 1984; Гордин Я. События и люди 14 декабря.— Л., 1985; Мейлах Б. С. Декабристы и Пушкин.— Иркутск, 1987 и др.
(обратно)
25
Так именовали Италию, следуя поэтико-мифологической традиции.
(обратно)
26
Читателю той поры, когда стихотворение А. Дельвига появилось в «Российском Музеуме», был очевиден намек на заседавший в то время реакционный Венский конгресс.
(обратно)
27
Нашему современнику известно, что Афина — богиня не только мудрости, но и военного искусства. Однако следует заметить, что автор стихотворения упоминает и Арея — бога войны вероломной, войны ради войны, в отличие от Афины — богини войны честной и справедливой.
(обратно)
28
Аполлон — бог Солнца, покровитель певцов и музыкантов. Это бог светлого начала, под сенью которого живут прорицатели, пророки, оракулы.
(обратно)
29
Российский Музеум.—1815.— Ч. 2.— № 4.— С. 3.
(обратно)
30
Макаров М. Н. Александр Сергеевич Пушкин в детстве: Из записок о моем знакомстве // А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т.— М., 1974.— Т. 1.— С. 55.
(обратно)
31
Пущин И. И. Записки о Пушкине // А. С. Пушкин в воспоминаниях современников / Сост. В. Э. Вацуро, М. И. Гиллельсон, Р. В. Иезуитова, Я. Л. Левкович: В 2 т.— М., 1974.— Т. I.— С. 98.
(обратно)
32
Об этом писал П. А. Вяземский в письме А. И. Тургеневу 13 октября 1818 г. См.: Пушкин А. С. Письма.— М.; Л., 1926.— Т. 1.— С. 191.
(обратно)
33
Учебная Книга Российской Словесности.— СПб., 1820.— С. 308—318.
(обратно)
34
Пушкин А. С. Собр. соч.: В 16 т.—М.; Л., 1937—1949.—Т. XIII.— С. 286. Все последующие ссылки на это издание даются в скобках при цитате с указанием номера тома и страницы.
(обратно)
35
Пушкин А. С. Письма.— Т. 1.— С. 191.
(обратно)
36
Цит. по кн.: Цявловский М. А. Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина.—М., 1951.—С. 161.
(обратно)
37
В первой своей публикации поэма не имела известного теперь каждому школьнику пролога «У лукоморья дуб зеленый...». Эти строки зачина были написаны позже, в пору пребывания поэта в михайловской ссылке.
(обратно)
38
Певцом Фелицы называли Г. Р. Державина, автора оды «Фелица» (1782).
(обратно)
39
Подробнее о причинах ссылки и жизни поэта на юге см.: Лотман Ю. М. Александр Сергеевич Пушкин: Биография писателя.— Л., 1983.— С. 50—110.
(обратно)
40
Белинский В. Г. Полн. собр. соч.— М., 1955.— Т. VII.— С. 320.
(обратно)
41
The new monthly magazine or Literary journal.— London, 1821.— № XII.— December, 1.— P. 621.
(обратно)
42
Рылеев К. Ф. Стихотворения. Статьи. Очерки. Докладные записки. Письма.— М., 1956.— С. 153, 372.
(обратно)
43
Грабарь И. Э. Иконография А. С. Пушкина // А. С. Пушкин. 1799— 1949. Материалы юбилейных торжеств.— М.; Л., 1951.—С. 144.
(обратно)
44
Портрет этот воспроизводится в книге Е. В. Павловой «Пушкин в портретах».— М., 1983.— С. 42.
(обратно)
45
Цветаева М. Мой Пушкин.— М., 1967.— С. 67.
(обратно)
46
А. С. Пушкин в воспоминаниях современников.— Т. 2.— С. 54.
(обратно)
47
Впервые был воспроизведен в 1931 году в Вестнике Академии наук СССР (№ 7, с. 50).
(обратно)
48
Эфрос А. М. Автопортреты Пушкина,— М., 1945.— С. 59—62.
(обратно)
49
Вацуро В. Э. Пушкин в сознании современников // А. С. Пушкин в воспоминаниях современников.— Т. 1.— С. 31.
(обратно)
50
Яковлев В. А. Отзывы о Пушкине с юга России.— Одесса, 1887.— С. 10.
(обратно)
51
Бороздна И. Поэтические очерки Украины, Одессы, Крыма: Письма в стихах.—М., 1837.—С. 153—157.
(обратно)
52
Строки из стихотворения В. И. Туманского «Одесским друзьям».
(обратно)
53
Интересный материал об истории пушкинских портретов и их репродукции найдете в книге В. Порудоминского «Половина жизни моей...» — М., 1987.— С. 5—100.
(обратно)
54
Об этом высказывании В. Г. Белинского применительно к портрету Тропинина напоминает Е. Павлова в книге «Пушкин в портретах» (М., 1983), ссылаясь на работу М. М. Раковой «Очерки по истории русского портрета первой половины XIX века» (М., 1966.— С. 301).
(обратно)
55
По воспоминаниям М. Юзефовича, приятеля поэта. См.: А. С. Пушкин в воспоминаниях современников.— Т. 2.— С. 100.
(обратно)
56
Цит. по кн.: Зильберштейн И. С. Пушкин и его литературное окружение: Портреты и рисунки.— М., 1938.— С. 9.
(обратно)
57
А. С. Пушкин в воспоминаниях современников.— Т. 2.— С. 100.
(обратно)
58
Никитенко А. В. Дневник: В 3 т.— Л., 1955.—С. 376. Запись 2.09.1827.
(обратно)
59
Пушкин и его друзья: Портреты и рисунки.— М., 1937.— С. 352.
(обратно)
60
Цит. по кн.: Модзалевский Б. Л. Пушкин.— Л., 1929.—С. 216—217.
(обратно)
61
Грабарь И. Внешний облик Пушкина // А. С. Пушкин. 1799—1949. Материалы юбилейных торжеств.—М.; Л., 1951.—С. 148.
(обратно)
62
Никитенко А. В. Дневник: В 3 т.— М., 1955.— Т. 1.— С. 148.
(обратно)
63
Этюд воспроизведен на обложке специального выпуска альманаха «Прометей», № 10 (М., 1974), посвященного А. С. Пушкину.
(обратно)
64
Подробный обзор публикаций о творчестве Пушкина см. в кн.: Курочкина Г. Г. Московская пресса 1820—1830-х годов о Пушкине // Временник пушкинской комиссии.— 1981.— Л., 1985.—С. 108—120.
(обратно)
65
Московский телеграф.—1826.— Ч. X.— № 16.—С. 150.
(обратно)
66
Вестник Европы.—1827.—№ 5.— С. 77.
(обратно)
67
Имеется в виду Ф. Ф. Кокошкин — драматург, переводчик, управляющий московскими театрами, славился декламацией на классицистический манер.
(обратно)
68
А. С. Пушкин в воспоминаниях современников.— Т. 2.— С. 27—28.
(обратно)
69
Северный Меркурий.—1830.— С. 227.
(обратно)
70
В статье 1830 года «Опровержение на критики» Пушкин писал: «В другой газете объявили, что я собою весьма неблагообразен и что портреты мои слишком льстивы. На эту личность я не отвечал, хотя она глубоко меня тронула».
(обратно)
71
Вяземский П. А. Взгляд на литературу нашу в десятилетие после смерти Пушкина. Поздняя редакция // Вяземский П. А. Эстетика и литературная критика.— М., 1984.— С. 324.
(обратно)
72
Собственно, Белинский хотя и категоричен в утверждениях, в другой части этой же статьи оставляет вопрос открытым: «...Теперь мы не узнаем Пушкина,— отмечает критик,—он умер или, может быть, только обмер на время...» (I, 97).
(обратно)
73
Герцен А. И. Литература и общественное мнение после 14 декабря 1825 года // Русская эстетика и критика 40—50-х годов XIX века.— М., 1982.— С. 207—208.
(обратно)
74
Цит. по кн.: Штейнберг А. А. Пушкин и Е. Д. Панаева // Временник Пушкинской комиссии. 1965.—Л., 1968.—С. 50.
(обратно)
75
Русская старина.— 1881.— № IX.— С. 165—166.
(обратно)
76
Лотман Ю. М. Александр Сергеевич Пушкин: Биография писателя.— Л., 1983.-С. 143.
(обратно)
77
Шевырев С. Взгляд на современное направление русской литературы // Москвитянин.—1842.— № 1.— С. XIX.
(обратно)
78
Лотман Ю. М. Александр Сергеевич Пушкин: Биография писателя.— Л., 1983.—С. 172.
(обратно)
79
Шевырев С. Взгляд на современное направление русской литературы // Москвитянин.—1842.— № 1.— С. XIV—XIX.
(обратно)
80
Старина и новизна: Кн. VI.—СПб., 1903.— С. 6.
(обратно)
81
Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т.- М., 1956.- Т. VII.— С. 206.
(обратно)
82
Об этом, в частности, говорится в письме А. М. Тургенева А. И. Михайловскому-Данилевскому от 10 января 1828 года, см.: Русская старина. —1890.— Декабрь.— С. 747—748.
(обратно)
83
Декабристы и их время. Материалы и сообщения.— М.; Л., 1951.— С. 231.
(обратно)
84
Ежегодные отчеты III отделения и корпуса жандармов.— Красный архив.— Т. 37.— С. 217.
(обратно)
85
Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т.—М., 1956.—Т. VII.—С. 214—215.
(обратно)
86
Первую главу романа брат поэта Лев Сергеевич Пушкин привез из Михайловского осенью, в ноябре 1824 года. Издателем был, как и в других случаях, П. А. Плетнев, в то время служивший учителем словесности (позже стал профессором, а затем ректором Петербургского университета). Цензурное разрешение было получено 29 декабря, и в середине февраля 1825 года первая глава романа в стихах появилась в продаже. Тираж ее был по тем временам высоким: 2400 экземпляров. В первую же неделю было продано 700 книг! Правда, далее она раскупалась не так активно: цена была высока — 5 рублей за один экземпляр.
(обратно)
87
Поэма «Цыганы» была издана лишь в 1828 году.
(обратно)
88
Полярная звезда на 1825 год.— СПб, 1825.— С. 14.
(обратно)
89
История жизни и взаимоотношений Булгарина с Пушкиным, а также психологически емкий и многоплановый портрет Булгарина выписаны Д. Граниным в литературном эссе «Священный дар». См.: Гранин Даниил. Тринадцать ступенек.— Л., 1984.— С. 44—99.
(обратно)
90
Гоголь Н. Арабески.— СПб., 1835.— Ч. I; Гоголь Н. В. Полн. собр. соч.- М., 1952.— Т. VIII.— С. 50—55.
(обратно)
91
Гоголь Н. Арабески.—СПб., 1835,—Ч. I; Гоголь Н. В. Поли. собр. соч.—М., 1952.—Т. VIII.—С. 51—52.
(обратно)
92
Благой Д. Д. Гоголь — наследник Пушкина // Николай Васильевич Гоголь: Сб. статей.— М., 1954.— С. 24—29.
(обратно)
93
Гоголь Н. В. Поли. собр. соч.— М., 1952.— Т. VIII.— С. 602.
(обратно)
94
Строки из стихотворения Н. С. Тепловой «На смерть Пушкина» из кн.: Русские поэты о Пушкине: Сборник стихотворений / Сост. В. Каллаш.— М., 1899 — С. 88—89.
(обратно)
95
А. С. Пушкин в воспоминаниях современников.— Т. 2.— С. 65.
(обратно)
96
Панаев И. И. Полн. собр. соч.— СПб., 1888.— Т. VI.— С. 103.
(обратно)
97
Никитенко А. В. Дневник: В 3 т.— М., 1955.—Т. 1.—С. 382—383.
(обратно)
98
В стихах Н. Огарева «На смерть поэта» и «Юмор», впервые опубликованных в Лондоне в 1857 году, немало мотивов, перекликающихся со стихами Лермонтова на смерть Пушкина. См.: А. С. Пушкин в стихах русских поэтов XIX века.—М., 1974.—С. 55—60.
(обратно)
99
Литературные прибавления к Русскому Инвалиду.—1837.— № 5.— С. 48.
(обратно)
100
Конфликт носил в основном идеологический характер, был связан с буржуазным радикализмом Полевого, объявившего войну дворянской культуре, «литературной аристократии». Однако внутренние взаимоотношения Пушкина с Полевым были сложными, пережили ряд этапов — от сближения до взаимного неприятия. Сохранилось письмо, в котором Полевой признавался Пушкину: «В самой литературной неприязни Ваше имя, Вы всегда были для меня предметом искреннего уважения, потому что Вы у нас один и единственный».— Переписка А. С. Пушкина: В 2 т. / Сост. и комментарии В. Э. Вацуро, М. И. Гиллельсона, И. Б. Мушиной, М. А. Турьян.— М., 1982.— Т. 2.— С. 356—357.
(обратно)
101
Библиотека для чтения.—1837.— Март.— Т. XXI.— Отд. I.— С. 181 —198.
(обратно)
102
Живописное обозрение.—1839.— Т. III.— Лист 10.— С. 78.
(обратно)
103
Живописное обозрение.—1839.— Т. III.—Лист 10.—С. 80.
(обратно)
104
Цит. по кн.: Щеголев П. Е. Из жизни и творчества Пушкина.— М.; Л., 1931.—С. 148—149.
(обратно)
105
Никитенко А. В. Дневник: В 3 т.— М., 1955.— Т. 1.— С. 197.
(обратно)
106
См.: Яковлев В. А. Отзывы о Пушкине с юга России.— Одесса, 1887.— С. 10—12.
(обратно)
107
Живописное обозрение.—1837.—Т. III.—Лист 10.—С. 80.
(обратно)
108
Галатея.—1840.— Т. X.— С. 182—185.
(обратно)
109
Пушкин в воспоминаниях современников.— Т. 2.— С. 342.
(обратно)
110
Впервые в отрывках опубликовано лишь в 1904 году, а полностью в книге П. Е. Щеголева «Дуэль и смерть Пушкина» в 1916 году.
(обратно)
111
Жуковский приводил факты о перемене назначенной для отпевания церкви и то, что «тело перенесли в нее ночью, с какой-то тайною, всех поразившею, без факелов, почти без проводников; и в минуту выноса, на который собралось не более десяти ближайших друзей Пушкина, жандармы наполнили ту горницу, где молились об умершем, нас оцепили, и мы, так сказать, под стражею проводили тело до церкви...»
(обратно)
112
Вацуро В. Э. Пушкин в сознании современников // А. С. Пушкин в воспоминаниях современников.— Т. 1.— С. 32.
(обратно)
113
Об этом подробнее см.: Мейлах Б. С. Талисман. Книга о Пушкине.— М., 1984.—С. 146.
(обратно)
114
См.: А. С. Пушкин в воспоминаниях современников.— Т. 2.— С. 508.
(обратно)
115
См.: Висковатый П. А. М. Ю. Лермонтов: Жизнь и творчество.— М., 1891.— С. 248.
(обратно)
116
Впервые стихотворение было опубликовано А. И. Герценом за границей в «Полярной звезде» за 1856 год (Лондон, 1858.— Кн. 2.— С. 33—35) и в сборнике «Русская потаенная литература XIX столетия» в 1861 году без эпиграфа. В России впервые опубликовано в «Библиографических записках» (1858.— Т. 1.— № 20.— Столб. 635—636) без последних 16 стихов. Полностью впервые появилось в сочинениях Лермонтова под редакцией Дудышкина (1860.—Т. 1.—С. 60—63) (см.: Лермонтовская энциклопедия.—М., 1981.—С. 513).
(обратно)
117
Появились мнения, что эпиграф, обращенный к государю («Отмщенья, государь, Отмщенья! Паду к ногам твоим. Будь справедлив и накажи убийцу» и т. д.), смягчает общий тон негодования, отводит обвинение от венценосного государя и обращает гнев на толпу царедворцев у трона. Герцен в статье «О развитии революционных идей в России», высоко оценив отклик Лермонтова, видел в прибавлении эпиграфа непоследовательность автора. О том, что наличие эпиграфа «смягчало смысл последней строфы», пишет и И. Л. Андроников. Он замечает, что в ряде копий стихи переписаны без эпиграфа, потому, видимо, что он предназначался не для всех, что сам Лермонтов, именно желая смягчить общий тон стихотворения, стремился довести до III отделения полный текст с эпиграфом (Лермонтов М. Полн. собр. соч. / Под наблюдением И. Л. Андроникова.— М., 1953.— Т. 1.—С. 387). Однако нам кажется более верным и убедительным толкование смысла эпиграфа, при котором его прибавлением общая взрывчатость и сила стихотворения в целом усиливается. См., к примеру: Иванова Т. Об эпиграфе в стихотворении Лермонтова «Смерть поэта» // Вопросы литературы.—1970.— № 8.— С. 91 —105; Девицкий И. И. Об эпиграфе к стихотворению М. Ю. Лермонтова «Смерть поэта» // Филологические науки.— 1970.— № 6.— С. 60—73.
(обратно)
118
Материалы «Дела» впервые были процитированы П. А. Висковатым в его вышеупомянутой книге «М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество» (М., 1891).
(обратно)
119
Следует еще раз отметить, что в пору написания Лермонтовым отзыва на гибель Пушкина было мало известно фактов о подлинных причинах и сути дуэли. Тогда даже многие из ближайших друзей поэта неверно оценивали мотивы преддуэльного поведения Пушкина и осуждали его. Лишь в наши годы были распутаны все нити заговора, приведшего к трагедии. Теперь каждый из мотивов лермонтовского стихотворения может быть подтвержден историческими фактами, мемуарами, документами.
(обратно)
120
Стихи датированы 22 февраля 1837 года. Они не могли попасть в печать, впервые опубликованы в «Русской старине» в октябре 1896 г., с. 131 —132. Непредназначенные для обнародования, они отражают идеи некоторых представителей молодежи лермонтовского поколения.
(обратно)
121
Современник. Литературный журнал А. С. Пушкина, изданный по смерти его.— СПб., 1837.—Т. 5.—С. 1.
(обратно)
122
Жемчужников А. Мой знакомый — в дороге и дома // Выдержки из старых бумаг Остафьевского Архива.— М., 1867.— С. 125—126.
(обратно)
123
Пушкин поручил одному из близких своих друзей, П. В. Нащокину, передать в подарок критику первую книжку «Современника» в письме от 27 мая 1836 г. (Полн. собр. соч.— Т. 16.— С. 121) с предложением о сотрудничестве. Белинский ответил согласием. См.: Благой Д. Д. Слово о Белинском // От Кантемира до наших дней.— Т. 2.— С. 412.
О близости позиций поэта и критика свидетельствуют переклички, совпадения многих положений и позиций Белинского с пушкинскими, оставшимися в черновиках, записях, заметках и письмах частного характера, которых критик непосредственно знать не мог. Объективно по своим воззрениям и установкам они шли к сближению и объединению. См.: Благой Д. Д. Белинский и Пушкин // Белинский — историк и теоретик литературы.— М.; Л., 1947.
(обратно)
124
Гоголь Н. В. Полн. собр. соч.— М., 1952.— Т. 8.— С. 383.
(обратно)
125
Подробно этот вопрос рассматривается С. С. Конкиным в статье «Пушкин в критике Писарева» (Русская литература.—1972.— № 4.— С. 50—74).
(обратно)
126
Писарев Д. И. Полн. собр. соч.— Т. 3.— С. 379.
(обратно)
127
Конкин С. С. Пушкин в критике Писарева // Русская литература.— 1972.— № 4— С. 63. Следует заметить, что и Г. В. Плеханов в статье «Искусство и общественная жизнь» полагал, что Белинский в своей борьбе за Гоголя и «натуральную школу» переоценил свои былые воззрении о Пушкине как о первом писателе и отдал пальму первенства Гоголю, у которого не находил «соперников в искусстве воспроизводить жизнь русскую во всей ее истинности». Гоголь, по мнению критика, ничего не смягчает, не украшает вследствии любви к идеалам или привычных пристрастий, как то случалось у Пушкина в «Евгении Онегине», где поэт «идеализировал помещицкий быт».
(обратно)
128
Подробнее примеры правки описаны в кн.: Соловей Н. Я. История создания и публикации «Вновь я посетил...» А. С. Пушкина // Вопросы русской литературы.— М., 1970.— С. 90—93.
(обратно)
129
10 рублей ассигнациями составляли 2 рубля 85 копеек серебром; таким образом, издание было уценено почти вдвое.
(обратно)
130
Анненков П. В. Материалы для биографии А. С. Пушкина.— СПб., 1855.—С. 132.
(обратно)
131
Анненков П. В. Материалы для биографии А. С. Пушкина.— СПб., 1855.—С. 637.
(обратно)
132
Дружинин А. В. А. С. Пушкин и последнее издание его сочинений.— Библиотека для чтения.—1855.— Т. 130, март-апрель.— Отд. III.— С. 47. (Это утверждение вступает в противоречие с концепцией П. Анненкова. См.: Мотольская Д. К. Работа Н. Г. Чернышевского над анненковскими «Материалами для биографии А. С. Пушкина» // Учен. зап. Ленингр. пед. ин-та.— Л., 1963.— Т. 245.— С. 261—282.)
(обратно)
133
Дружинин А. В. Собр. соч.— СПб., 1865.— Т. VII.— С. 59—60.
(обратно)
134
Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч.: В 15 т.— М., 1949.— Т. 11.— С. 475.
(обратно)
135
Там же.— С. 516.
(обратно)
136
Добролюбов Н. А. Полн. собр. соч.: В 6 т.— М.; Л., 1934.— Т. 1.— С. 331.
(обратно)
137
Статья посвящалась подробному анализу книги А. П. Милюкова «Очерк истории русской поэзии» (вышла вторым изданием в 1858 г.), отдельная глава которой посвящалась Пушкину. Милюков давал периодизацию пушкинского творчества, первый период связывал с подражательной поэзией молодости, когда поэт «являлся представителем общественных потребностей и идей». Второй период характеризуется как время отказа от
борьбы, от общественных интересов.
(обратно)
138
Чуковский К. Некрасов о Пушкине.— М., 1949.— С. 3—6.
(обратно)
139
Бантыш-Каменский Д. Н. Словарь достопамятных людей.— СПб., 1847 — Ч. 2 — С. 71-72.
(обратно)
140
«У нас, (то есть у поколения 70-х годов) был Некрасов. Пушкина же любили «индивидуально»,— замечала Е. П. Леткова-Султанова.— См.: О Ф. М. Достоевском//Достоевский в воспоминаниях современников: В 2 т.— М., 1964.— Т. 2.- С. 388.
На похоронах Некрасова Ф. Достоевский сказал в надгробном слове, что ему в поэтическом ряду должно стоять за Пушкиным и Лермонтовым. На это голоса из толпы выкрикивали, что Некрасов выше Пушкина.— Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т.— Л., 1984.— Т. 26.— С. 112—113.
(обратно)
141
Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч.— М., 1949.— Т. XIV.— С. 322—323.
(обратно)
142
Водовозова Е. Н. На заре жизни.— М., 1964.—Т. 2.—С. 67.
(обратно)
143
Писарев Д. И. Собр. соч.: В 4 т.— 1956.— Т. III.— С. 364.
(обратно)
144
Отечественные записки.—1856.— № 6.— Отд. III.— С. 62.
(обратно)
145
Русская критическая литература о произведениях Пушкина.— Ч. VII. — С. 220.
(обратно)
146
Пушкин: Итоги и проблемы изучения.— М.; Л., 1966.— С. 72.
(обратно)
147
Писарев Д. И. Собр. соч.— Т. 3.— С. 109.
(обратно)
148
Там же.— Т. 2.— С. 379.
(обратно)
149
Там же.— Т. 2.— С. 126.
(обратно)
150
В этом очевидны переклички революционеров-демократов с позициями декабристов и их идеалами литературы. Подробнее об этом см.: Ильин В. В. Писарев и Пушкин: В помощь учителю.— Смоленск, 1972.— С. 7—8, 10.
(обратно)
151
См.: Писарев Д. И. Собр. соч.— Т. 3.— С. 295.
(обратно)
152
Егоров Б. Ф. О некоторых особенностях высказываний Добролюбова о Пушкине // Пушкинский сборник.— Псков, 1962.— С. 74—76. Автор отмечает, что «нормативность», то есть подход к событиям прошлого с позиций норм настоящего, сознательный «антиисторизм», была обусловлена разными причинами: метафизичностью, непоследовательностью эстетической теории, ограниченностью сведений, а порой — тактическими целями борьбы с идеологическими противниками в условиях жестокой цензуры.
(обратно)
153
Из всей пушкинской лирики критик произвольно избирает для анализа семь стихотворений: «19 октября 1825 года», «Клеветникам России», «Бородинская годовщина», «Чернь», «Поэт», «Эхо», «Памятник».
(обратно)
154
Писарев Д. И. Собр. соч.— Т. 3.— С. 331.
(обратно)
155
Там же.— С. 317.
(обратно)
156
В оценке позиции Писарева следует различать те позитивные элементы, которые утверждались критиком даже при следовании в целом ошибочной и предвзятой концепции. Так, после спада революционной борьбы 1862 года на повестке дня стоял вопрос об идеале жизненной позиции человека. Чернышевский и Добролюбов подчеркивали роль общественных условий для формирования личности. Писарев в статьях о Пушкине поднял вопрос об ответственности личности за свою судьбу. К примеру, обстоятельства сгубили Онегина, но нельзя одними условиями среды извинять бездеятельность. Пока человек жив, он должен бороться. С таких актуальных именно для 60-х годов позиций тип главного героя пушкинского романа не мог устроить критика.
(обратно)
157
Писарев Д. И. Собр. соч.— Т. 3.— С. 363.
(обратно)
158
Прозоров В. В. Д. И. Писарев.— М., 1984.— С. 74.
(обратно)
159
Писарев Д. И. Собр. соч.— Т. 3.— С. 378.
(обратно)
160
Гриневич П. Ф. Пушкин в сознании русской литературы // Сборник журнала «Русское богатство».— СПб., 1900.— Ч. 2.— С. 27.
(обратно)
161
Жизнь.—1922.— № 2.— С. 46.
(обратно)
162
Шагинян М. Человек и время // Новый мир.—1972.—№ 1.—С. 115.
(обратно)
163
Лихачев Д. С. Принцип историзма в изучении литературы // Взаимодействие наук при изучении литературы.— Л., 1981.— С. 94.
(обратно)
164
Писарев Д. И. Собр. соч.: В 4 т.— Т. 1.— С. 133—134.
(обратно)
165
Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т.—М., 1954—1965.—Т. 29.—Ч. 1.— С. 256.
(обратно)
166
Тургенев И. С. Собр. соч.: В 10 т.— М., 1962.— Т. X.— С. 300.
(обратно)
167
Цит. по: Кузовлева О. «Имею честь покорнейше просить...»: К истории сооружения памятника А. С. Пушкину в Москве // Строительство и архитектура Москвы. —1977.—№ 4.—С. 30.
(обратно)
168
Цит. по: Либрович С. Пушкин в портретах.—СПб., 1890.—С. 178.
(обратно)
169
Подробнее о проведении конкурсов и об истории монумента см.: Крейн А. 3. Рукотворный памятник.— М., 1980.— С. 6—20.
(обратно)
170
Шмидт И. М. Александр Михайлович Опекушин // Русское искусство: Очерки о жизни и творчестве художников / Под ред. А. И. Леонова: В 2 т.— М., 1971.— Т. II.— С. 67—68.
(обратно)
171
Новь,—1889.—№ 19.
(обратно)
172
Курочкин Н. С. На открытие памятника Пушкину // Молва.—1880.— № 154.
(обратно)
173
Иваницкий А. Перед памятником Пушкину // Современные известия.-1880.—№ 164.
(обратно)
174
Пушкин. Итоги и проблемы изучения.— М.; Л., 1966.— С. 79. И. С. Тургенев в своем выступлении на празднике представлял взгляды передовых либеральных кругов, Ив. Аксаков был известен славянофильскими убеждениями, Ф. М. Достоевский выступал в духе идей реакционно-охранительного лагеря, как и М. Н. Катков, апологет реакционного правительственного курса.
(обратно)
175
Кони А. Ф. На жизненном пути: Воспоминания: В 5 т.— СПб., 1912.— Т. 2.— С. 88.
(обратно)
176
Межов В. И. Открытие памятника А. С. Пушкину в Москве, в 1880 году: Сочинения и статьи, написанные по поводу этого торжества: Библиографический указатель // СПб., 1885.— С. 1.
(обратно)
177
Достоевский не раз обращался к Пушкину, к его творчеству и в произведениях своих, и во «Введении к статьям о русской литературе» (1861), в критических статьях, в письмах. В «Дневнике писателя» за 1876 год он записал: «У нас все ведь от Пушкина. Поворот его к народу в столь раннюю пору его деятельности до того был беспримерен и удивителен, представлял для того времени до того неожиданное новое слово, что объяснить его можно лишь если не чудом, то необычайною великостью гения, которого мы, прибавлю к слову, до сих пор еще оценить не в силах» // Русские писатели XIX века о Пушкине.— Л., 1938.— С. 334.
(обратно)
178
Достоевский Ф. М. Собр. соч.: В 17 т.—М., 1958.—Т. X.— С. 442—443
(обратно)
179
Успенский Г. И. Полн. собр. соч.: В 14 т.— М., 1949—1954.— Т. 6.— С. 430.
(обратно)
180
Там же.— С. 422.
(обратно)
181
Благой Д. Д. Достоевский и Пушкин // Достоевский — художник и мыслитель.— М., 1972.— С. 425.
(обратно)
182
Островский А. Л. Застольное слово о Пушкине // Русские писатели XIX века о Пушкине.— Л., 1938.— С. 306.
(обратно)
183
Там же.— С. 307.
(обратно)
184
Благой Д. Д. Достоевский и Пушкин // Достоевский — художник и мыслитель.— М., 1972.— С. 426.
(обратно)
185
Там же.— С. 426.
(обратно)
186
Цит. по: Бельчиков Н. Пушкинские торжества в Москве в 1880 г. в освещении агента III отделения // Октябрь. —1937.— № 1.— С, 271—273.
(обратно)
187
Альбом Пушкинской выставки 1880 года. Издание Общества Любителей Российской Словесности.— М., 1882.
(обратно)
188
Венок на памятник Пушкину.— СПб., 1880.— С. 238.
(обратно)
189
Гриневич П. Ф. [Якубович] Пушкин в сознании русской литературы // Сборник журнала «Русское богатство»,— Ч. 2.— СПб., 1900.— С. 34.
(обратно)
190
Там же.— С. 35.
(обратно)
191
Мейлах Б. С. Народ и поэт // Талисман: Книга о Пушкине,—М., 1984.—С. 168—226.
(обратно)
192
Русский библиограф.—1881.— № 7.— С. 368. В 1899 году подписка на газету составила 14 тысяч экземпляров, то есть в среднем на одну волость приходилось не менее 1 экземпляра. О распространении газеты «Сельский вестник» см.: Есин Б. И. Путешествие в прошлое: Газетный мир XIX века.— М., 1983.— С. 64—67.
(обратно)
193
Цит. по кн.: Мейлах Б. С. Талисман: Книга о Пушкине.— М., 1984.— С. 175—190. (В письмах сохраняется орфография их авторов.)
(обратно)
194
Имеется в виду стихотворение А. Кольцова «Лес. Посвящено памяти А. С. Пушкина», написанное в 1837 году, в нем в духе народной аллегорической песни-причитания рассказывается о гибели поэта.
(обратно)
195
Цит. по: Либрович С. Пушкин в портретах.—СПб., 1890.—С. 147.
(обратно)
196
Павлова Е. В. Пушкин в портретах.— М., 1983.— С. 79.
(обратно)
197
Павлова Е. В. Пушкин в портретах.— М., 1983.— С. 80.
(обратно)
198
Потехин П. Б. Пушкин для русских детей // Памяти А. С. Пушкина.— СПб., 1899.—С. 10—14.
(обратно)
199
Наблюдатель.— 1899.— № VI.— С. 298.
(обратно)
200
Мир искусства.— 1899.— № 13—14.— С. 23—25.
(обратно)
201
Мережковский Д. С. Вечные спутники,—СПб., 1897.—С. 450—451.
(обратно)
202
Сиповский В. В. Пушкинская юбилейная литература (1899— 1900). Критико-библиографический обзор,—СПб., 1901.—С. 6.
(обратно)
203
Щеголев П. Е. Из разысканий в области биографии и текста Пушкина // Пушкин и его современники.— Вып. XIV.— СПб., 1911.— С. 75.
(обратно)
204
Цветаева М. Мой Пушкин.— М., 1967.— С. 203.
(обратно)
205
Плеханов Г. В. Избранные философские произведения: В 5 т.—М., 1958.- Т. 5.- С. 692.
(обратно)
206
Горький М. Собр. соч.: В 30 т.— М., 1955.— Т. 29.— С. 303.
(обратно)
207
Шаменкова Л. Болдинская осень // Известия.—1981. —14 октября.
(обратно)
208
См. об этом: Баранов В. И. Пушкин и его судьба в восприятии советских поэтов // Болдинские чтения.— Горький.— С. 105.
(обратно)
209
Катанян В. Маяковский: Литературная хроника.— М., 1948.—С. 431.
(обратно)
210
Шкловский В. Как ставить классиков // Советский экран,—1927.— № 33.
(обратно)
211
См.: Назаренко Я. А. История русской литературы XIX века.— М.; Л., 1929,— С. 44, 49, 60.
(обратно)
212
Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 6 т. (Приложение к журналу «Красная нива» за 1930 год.) —М.; Л., 1930.— Т. 1.—С. 36.
(обратно)
213
Литературное наследство.— М., 1934.— Т. 16 —18.— С. 3.
(обратно)
214
Ашукин Н. Живой Пушкин.— М., 1934.— С. 11.
(обратно)
215
Правда.— 1937.— 10 февраля.
(обратно)
216
Томашевский Б. В. Пушкин // А. С. Пушкин: Сочинения.— Л., 1935.— С. XXV—LXII.
(обратно)
217
Бродский Н. Л. Пушкин: Биография.—М., 1937.
(обратно)
218
Гроссман Л. П. Пушкин.— М., 1939.— Издание 2-е, перераб.— 1958.
(обратно)
219
Цит по. Пушкин. Итоги и проблемы изучения / Под ред. Б. П. Городецкого, Н. В. Измаилова, Б. С. Мейлаха.—М.; Л 1966 —С 284
(обратно)
220
Там же.
(обратно)
221
Тынянов Ю. Н. Пушкин: Роман. Части 1—2.—М., 1937. Часть 3 опубликована в журнале «Знамя» — 1943.— № 7-8. Роман не был завершен.
(обратно)
222
Платонов Ал. Пушкину // Венок Пушкину / Сост. С. А. Небольсин.— М., 1974.— С. 144. В сборнике приведены приуроченные к 1937 году стихи многих поэтов народов СССР.
(обратно)
223
Известия ЦИК и ВЦИК —М., 1937,—11 февраля.
(обратно)
224
Павлова Е. В. Пушкин в портретах.— М., 1983.— С. 96.
(обратно)
225
Кузьмин Н. В. Штрих и слово.— Л., 1967.— С. 56—58.
(обратно)
226
Там же.— С. 90.
(обратно)
227
Цит. по кн.: Пушкину.— М., 1937.— С. 90.
(обратно)
228
Корнилов В. П. Это осень радости виною... // Новый мир.— 1937.— № 1.— С, 12.
(обратно)
229
Антокольский П. Избранное: В 2 т.— М., 1966.— Т. 1.— С. 430.
(обратно)
230
Павлова Е. В. Пушкин в портретах.— М., 1983.— С. 93.
(обратно)
231
Гуттари Т. Дуэль Пушкина // Моя страна.— М., 1950.— С. 77. Перевод с финского В. Потаповой.
(обратно)
232
Очерк непосредственно обращен к художнице Наталье Сергеевне Гончаровой, которая приходилась внучатой племянницей Наталье Николаевне Гончаровой, жене Пушкина. Это определило упоминание о судьбе поэта и оценку его творческих заветов Мариной Цветаевой.
(обратно)
233
Цветаева М. Мой Пушкин.— М., 1967.— С. 218.
(обратно)
234
Долматовский Евгений. Было: Записки поэта.— М., 1975.— С. 253—265.
(обратно)
235
Дудин М. А. Под Пушкином был выброшен десант... // Пушкин А. С.— М., 1949. (Материалы юбилейных торжеств.)
(обратно)
236
Красная звезда.—1946. —19 мая.
(обратно)
237
Смирнов С. В. Наш Пушкин.— Советский воин.— 1949.— № 10.
(обратно)
238
Дудин М. Стихи о Пушкине // Пушкин А. С.: Материалы юбилейных торжеств (1799—1949).—М.; Л., 1951.—С. 331.
(обратно)
239
Обзоры тем, направлений, линий развития библиопушкинианы см.: Камянов В. Постижение глубины. Мир Пушкина: Новые работы о поэте // Новый мир. —1984.— № 6; Немзер А. Восхождение к Пушкину: Заметки о пушкинистике последних лет // Литературное обозрение. —1984.—№ 2; Красухин Г. Взыскательная любовь // Москва.— 1984.—№ 6; Букалов А. Собранье пестрых глав: Библиографические заметки о Пушкиниане 80-х // В мире книг.—1984.— № 6.
(обратно)
240
Кушнер Александр. Иные, лучшие мне дороги права... // Новый мир.— 1987.— № 1.— С. 235.
(обратно)
241
Гальцева Р., Роднянская И. В подлунном мире // Новый мир.— 1987.— № 1.— С. 237—250.
(обратно)
242
Подробнее об этом см.: Гальцева Р., Роднянская И. В подлунном мире // Новый мир.—1987.— № 1.— С. 250. См. также: Новые зарубежные исследования творчества А. С. Пушкина: Сборник обзоров — М., 1986.
(обратно)
243
См. об этом: Бэлза Ст. Мечты поэта и «низкие истины» // Москва.— 1987.— № 1.— С. 189—192.
(обратно)
244
Абрамов Ф. Отец наших душ // Литературная газета.—1985.— 5 июня.— С. 5.
(обратно)
245
Чупринин С. На ясный огонь // Новый мир, —1985.—№ 6.— С. 258.
(обратно)
246
Непомнящий В. Пророк: Художественный мир Пушкина и современность // Новый мир.— 1987.— № 1.— С. 132—152.
(обратно)
247
Эпштейн М. Новое в классике.— М., 1982.— С. 18.
(обратно)
248
Соколов В. Стихотворения,— М., 1975.— С. 58.
(обратно)
249
Баранов В. Пушкин и его судьба в восприятии советских поэтов // Болдинские чтения.— Горький, 1976.— С. 104.
(обратно)
250
Поделков С. Книги // День поэзии.— М., 1974.— С. 22.
(обратно)
251
А. С. Пушкин в воспоминаниях современников.— М., 1974.— Т. 2.—C. 231.
(обратно)
252
См. к примеру: Абрамович С. Л. Пушкин в 1836 году.— Л., 1984.; Эйдельман Н. Уход // Новый мир.—1987.— № 1.— С. 98—125.
(обратно)
253
Доризо Н. Сорок семь новогодних ночей.— М., 1972.
(обратно)
254
Доризо Н. К. Мой Пушкин (Поэма глав) // А. С. Пушкин в стихах советских поэтов / Сост. И. Трофимов.— М., 1975.— С. 81.
(обратно)
255
Кугультинов Д. Близь и даль: Стихи.— М., 1972.— С. 64—65.
(обратно)
256
Браун Н. День его рожденья // Звезда.—1974.— № 6.— С. 23.
(обратно)
257
Соколов В. Пушкин // Избранное.—М., 1974.— С. 85.
(обратно)
258
Эпштейн М. Н. Новое в классике.— М., 1982.— С. 22.
(обратно)
259
Кушнер А. «Иные, лучшие мне дороги права...» // Новый мир.— 1987.— № 1.— С. 228.
(обратно)
260
Гольданский В. И. Век разума//Раздумья о будущем / Сост. Н. Стрельцова.—М., 1987.—С. 33.
(обратно)
261
Лихачев Д. С. Слово о Пушкине // Театральная жизнь.—1987.— № 2.— С. 2.
(обратно)
262
Непомнящий В. Пророк: Художественный мир Пушкина и современность // Новый мир.— 1987.— № 1.— С. 133.
(обратно)
263
Солоухин В. Любезен народу // Литературная газета.—1985.— 5 июня.— С. 5.
(обратно)
264
Ахмадулина Б. Отрывок из маленькой поэмы о Пушкине // Метель.— М., 1977.— С. 39.
(обратно)
265
Понятие «иконография» многозначно. В данном случае имеется в виду совокупность изображений внешнего облика конкретно-исторической личности.
(обратно)
266
Баранская Н. История пушкинской миниатюры // Наука и жизнь.— 1966.— № 3
.
(обратно)
267
Певзнер Л. Неизвестный портрет А. С. Пушкина // Художник.— 1976.— № 6.
(обратно)
268
Этюд воспроизведен в этой книге.
(обратно)
269
Либрович С. Пушкин в портретах.— СПб., 1890.— С. 107.
(обратно)
270
См.: Кончин Евграф. Тайна портрета // Советская культура.— 1985.— 27 июня.— С. 8.
(обратно)
271
Грабарь И. Репин.— М., 1933.— С. 163.
(обратно)
272
Эфрос А. М. Рисунки поэта.— М., 1930 и 1933; его же: Автопортреты Пушкина.— М., 1945; его же: Пушкин-портретист.— М., 1946.
(обратно)
273
Цявловская Т. Г. Рисунки Пушкина.—М., 1970, 1980, 1983.
(обратно)
274
Керцелли Л. Мир Пушкина в его рисунках.— М., 1983.
(обратно)
275
Томашевский Б. В. Автопортреты Пушкина // Пушкин и его время.— Л., 1962.— С. 333.
(обратно)
276
Керцелли Л. Мир Пушкина в его рисунках.— М., 1983.— С. 16.
(обратно)
277
Там же.
(обратно)
278
Там же.— С. 17.
(обратно)
279
См.: Жуйкова Р. Г. Автопортреты Пушкина: Каталог // Временник пушкинской комиссии. 1981 / Редкол. Д. С. Лихачев, В. Э. Вацуро, С. А. Фомичев.— 1985.— С. 86—107. До этой публикации мнения о численности автопортретных изображений расходились.
(обратно)
280
Павлова Е. В. Пушкин в портретах.— М., 1983.— С. 7—69 (тома иллюстраций).
(обратно)
281
См.: Графика Нади Рушевой // Сост. Н. К. Рушев. Автор текста Г. В. Панфилов.— М., 1976.— С. 32—33. Около 500 рисунков художницы, среди которых многие посвящены Пушкину, представлены в телевизионном документальном фильме «Надя Рушева» режиссера Ф. Мустафаева.
(обратно)
282
Цветаева М. Мой Пушкин.— М., 1967.— С. 35.
(обратно)
283
Твардовский А. Пушкин//Собр. соч.: В 5 т.— М., 1971.— Т. 5.— C. 11—12.
(обратно)
284
Цыбин В. Даль слова // Москва.—1974.— № 6.— С. 5.
(обратно)
285
Айтматов Ч. Внутреннее солнце поэта // Известия.— 1982.— 6 февраля.— С. 3.
(обратно)
286
Волкова Ю. Работая над памятником // Художник.—1979.—№ 12.— С. 14.
(обратно)
287
Зайцев Н. Диалог с потомками // Нева.— 1975.— № 2.— С. 199.
(обратно)
288
Рождественский В. Русские зори.— Л., 1962.— С. 285.
(обратно)
289
А. С. Пушкин в стихах советских поэтов.— М., 1975.— С. 96.
(обратно)
290
Доризо Н. Я прохожу по строчечному фронту.— М., 1984.
(обратно)
291
Смеляков Я. Калмык // Венок Пушкину.— М., 1974.— С. 174.
(обратно)
292
Гамзатов Расул. Пушкин в горном ауле
(Перевод А. Межирова) // Крейн А. 3. Рукотворный памятник.— М., 1980.— С. 44.
(обратно)
293
Михайлов Ал. Пушкинский идеал и современная поэзия // В мире Пушкина.— М., 1974.— С. 573—598.
(обратно)
294
Литературная газета. —1965.—12 августа.
(обратно)
295
День поэзии. 1969.— М., 1969.— С. 222—224.
(обратно)
296
Там же.— С. 188.
(обратно)
297
День поэзии. 1969.—М., 1969.—С. 188.
(обратно)
298
Михайлов Ал. Пушкинский идеал и современная поэзия // В мире Пушкина.— М., 1974.— С. 596.
(обратно)
299
Там же.— С. 597—598.
(обратно)
300
Левитанский Юрий. О свободном стихе (Вместо вступления в дискуссии) // День поэзии. 1971.—М., 1971.
(обратно)
301
Чупринин Сергей. Рубеж: Взгляд на русскую поэзию конца 70-х — начала 80-х годов.— Вопросы литературы.— 1983.— № 5.— С. 150.
(обратно)
302
Михайлов Ал. Пушкинский идеал и современная поэзия // В мире Пушкина — М., 1974.— С. 586.
(обратно)
303
Там же.
(обратно)
304
Известный театральный критик П. А. Марков по поводу литмонтажей В. Яхонтова в «Дневнике театрального критика» писал так: «Пугающее название «литмонтаж» раскрывается просто и интересно... Яхонтов лепит стройное целое из отрывков, из разнородного словесного материала. Соединяя эти отрывки по различным принципам (смежности, противоположности), Яхонтов ведет стройный ритмический рисунок. Он пронизывает их стройную словесную ткань пением и перемежает прозу стихами. Из умелого и неожиданного сочетания отрывков перед слушателями раскрывается... внутренний образ Пушкина»// Марков П. А. О театре.— М., 1976.— Т. 3.— С. 361.
(обратно)
305
Дубнова Е. Поэтическая композиция//Театр.—1974.— №6.— С. 62.
(обратно)
306
Эпштейн М. Н. Новое в классике: Державин, Пушкин, Блок в современном восприятии.— М., 1982.— С. 23.
(обратно)
307
Непомнящий В. Пророк: Художественный мир Пушкина и современность // Новый мир.—1987.— № 1.— С. 135.
(обратно)
308
К примеру, о пушкинском гуманизме рассуждали многие поколения читателей, критиков. В. Г. Белинский первым отметил, что своеобразие творчества поэта — в открытии внутренней красоты человека и в «лелеющей душу гуманности». (Белинский В. Г. Собр. соч.—М., 1981.— Т. 6.—С. 282). Этим были заданы изначальные параметры понимания одного из основополагающих качеств Пушкина как писателя и личности. За прошедшие полтора столетия углублены и конкретизированы понимания пушкинского гуманизма. В начале XX века Иннокентий Анненский определил гуманность Пушкина как явление высшего порядка: «...она не дразнила воображение картинами нищеты и страдания и туманом слез не обволакивала сознания: ее источник не в мягкосердечии, а в понимании и чувстве справедливости». (Анненский И. Книги отражений.—М., 1979.—С. 320).
(обратно)
309
Алексеев М. П. Стихотворение Пушкина «Я памятник себе воздвиг...»: Проблемы его изучения.—Л., 1967.— С. 230—231.
(обратно)
310
Лотман Ю. Замыслы гения // Известия. — 1986. — 28 декабря.— С. 3.
(обратно)
311
См.: Бодалев А. А. Восприятие и понимание человека человеком.— М., 1982.— С. 3—4.
(обратно)
312
Чичерин Г. Моцарт.— Л., 1971.—С. 101 —103.
(обратно)
313
Австрийский музыковед Рихард Шпехт писал: «Если пересмотрят когда-нибудь все портреты этого «гения света и любви в музыке» и попытаются отбросить все, что продиктовано модой того (XIX.—
Е. В.) века, то будут ошеломлены энергией и неистовой твердостью его лица. Некоторые профильные портреты Моцарта напоминают написанную художником голову аскета с круто выступающим подбородком и сильным носом: он весь — воля. А если к этому добавят письма Моцарта, самые интимные и непосредственные документы его существа, то внезапно увидят совершенно другого человека. Не нежного и веселого певца любви, но человека, исхлестанного бурями и страстями, терзаемого внутренними голосами, гордого, веселого, страстно... наслаждающегося жизнью...» — Цит. по: Чичерин Г. Моцарт. — Л., 1971.— С. 46—47.
(обратно)
314
Там же.— С. 101. Заметим, что примером редкостного по глубине проникновения и опережения восприятия своего времени может служить образ Моцарта, созданный самим Пушкиным в строках хрестоматийно известного отрывка из трагедии «Моцарт и Сальери», в котором композитор, рассказывая о теме исполняемого им Сальери произведения, воссоздает комплексный образ своего творчества.
(обратно)
315
Битов А. Пушкинский дом // Новый мир.— 1987.— № 10.— С. 3.
(обратно)
316
Лотман Ю. Пушкин 1999 года. Каким он будет? // Таллинн, 1987.— № 1.—С. 64.
(обратно)
Оглавление
«ВЕЧНО ТОТ ЖЕ, ВЕЧНО НОВЫЙ...»
Вместо введения
Глава первая
ВЗГЛЯД СОВРЕМЕННИКОВ
«Надежда нашей словесности»
Споры вокруг поэм
Формирование романтического образа
«Тебе звучат, наш камертон-поэт,
На лад твоих настроенные струны...»
«В... трепете и радости, и муки
Мы ловим Пушкина пленительные звуки»[52]
«Что слава?...»
Расхождение поэта с публикой
«...Имя славное твое
Веков грядущих достоянье»[94]
«Не умирая, как преданье,
Живут поэты для сердец!»
Глава вторая
«ТЕБЯ, КАК ПЕРВУЮ ЛЮБОВЬ, РОССИИ СЕРДЦЕ НЕ ЗАБУДЕТ»
«...Чем более... узнаю, тем более не надеюсь узнать...»
В. Г. Белинский
Новая волна споров о поэте
Середина 50-х годов
«Рыцарь минуты»: Писарев и антипушкинские настроения 60-х годов
Открытие памятника поэту в Москве в 1880 году.
На рубеже веков.
Юбилей 1899 года.
В поисках «живого» лица поэта
(Первые десятилетия XX века)
Глава третья
ПОСЛЕ ОКТЯБРЯ
Первое всенародное чествование памяти поэта
«...НА ФРОНТЕ С ПУШКИНЫМ ВДВОЙНЕ БЫЛ КРЕПОК НАШ СОЮЗ»
Глава четвертая
«ПОКА В РОССИИ ПУШКИН ДЛИТСЯ...»
Стихи поэта и судьба поэта
«Что в имени тебе моем?»
«...И с вами снова я...»
«Все в нем Россия обрела...»
НЕИСЧЕРПАЕМОСТЬ ОБРАЗА.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
*** Примечания ***