Владимир Андросюк
Запад-Восток
От автора
Выражаю благодарность Пиккиеву Александру Васильевичу, Миловидову Вадиму Валентиновичу, Ефремовой Илоне Николаевне, Амосову Владимиру Дмитриевичу, Нестеровой Ирине Васильевне и многим другим за содействие, оказанное мне при подготовке издания.
Крайне обязан профессионализму работников Олонецкой районной и Ильинской поселковой библиотеки, коллективу Олонецкого национального музея карелов-ливвиков и её руководителю Наталье Васильевне Николаевой, преподавателю истории Олонецкой средней школы № 1 Понуровскому Андрею Викторовичу за информацию и советы, которые были использованы во время работы над книгой.
Особая благодарность Уткину Константину Олеговичу, Овчинниковой Ирине Евгеньевне, Толстихину Андрею Анатольевичу, Яковлевой Анне Алексеевне и Андросюку Ярославу Владимировичу за помощь в технических вопросах. Моё отдельное спасибо Кондратьевой Светлане Фёдоровне, которая работала над переводом некоторых частей книги на карельский язык.
Хочется пожелать новых находок поисковику и энтузиасту нашего местного краеведения Валерию Михайловичу Егоршину. Многие страницы и эпизоды данной книги основываются на результатах его поисков.
Отдельно хочу поблагодарить мою любимую женщину Наталью Валерьевну Баришевскую за замечательные и оригинальные иллюстрации, ставшие настоящим украшением этой книги, а также за все советы и замечания, способствующие её улучшению.
Владимир Андросюк
Отзыв о книге
Карельский край загадочен и таит в себе невероятно много интереснейших историй и легенд, многие из которых связаны с событиями, повествующими о местных олонецких жителях, шведах и царственных особах. Эти легенды передавались из поколения в поколения, от прадедов, дедов и отцов к детям (так и дошли до нас). Именно такие легенды мы можем проследить в предлагаемых читателям двух сказочных историях и одной повести. Все они о родном карельском крае, о его природе и людях…
На страницах этих произведений можно встретить множество карельских слов. Читатели смогут также познакомиться с местными русифицированными названиями. Всё это позволяет активно популяризировать карельскую культуру и язык среди местного населения и тех, кто интересуется историей карельской земли.
Следует также отметить, что в данных произведениях переплетаются северные скандинавские образы с местными карельскими мотивовами. Ряд олонецких легенд органично вошли в художественную окаемку представленных произведений. Все они проникнуты чувством любви к своему родному краю. История, вошедшая в сюжет повести, является одной из станиц русско-шведских взаимоотношений, которые не всегда имели положительные итоги. Читатели смогут познакомиться с реальными историческими персонажами и событиями, которые нашли своё отражение в истории нашей родины. Сюжеты произведений увлекательны, интересны и внимание к ним не ослабевает до конца повествования.
Автор включает в свой рассказ и образы местных жителей и реально существовавших исторических деятелей. Безусловно, эта книга будет полезна всем, кто интересуется историей карельского края, а также тем, кто любит по-настоящему загадочные необычные истории.
А. В. Понуровский, историк-краевед
Запад—Восток
Часть 1. Часы
Глава 1
С озера Меларен теплый майский ветерок нес запах воды и расцветающей черемухи. Вечер был хорош, и обычно мрачноватый Стокгольм дружелюбно распахнул ранее наглухо заделанные на зиму окна, откуда лукаво улыбались прохожим молодые девицы. Именно поэтому сегодня не хотел никуда спешить сэр Джон Картерет
[1] – посланник его Величества короля Великобритании Георга Первого. Неторопливо шел он, в раздумьях постукивая тростью по мощеной мостовой улицы Монахов. Сзади слышалось шарканье ног: это брели за хозяином «бездельники», как сэр Джон их обычно называл, а именно его старые слуги Оливер и Тед. Несомненно, обоим вовсе не хотелось таскаться за философски настроенным хозяином, а хотелось немедленно перекинуться картишками за кружечкой доброго пива в ближайшем кабачке. Но сэр Джон не давал пока своего на то благословения, и потому шарканье изрядно стоптанных сапог вторило постукиванию хозяйской трости с набалдашником в виде головы льва. Стокгольм сильно обезлюдел с той поры, когда Картерет приехал сюда в качестве посланника великой державы и Великого герцога Мальборо
[2] одновременно. Дело было в том, что в сражении при Бленгейме
[3] юный Картерет, который был лейтенантом у герцога, был тяжело ранен и должен был оставить мысль о военной карьере. Мальборо, ценивший цепкий ум своего подчиненного и умение того договариваться с самыми разными людьми, сумел тогда убедить королеву Анну доверить бывшему лейтенанту ответственный пост посланника в Шведском королевстве. Надо сказать, что со своими обязанностями сэр Джон справлялся прекрасно. С той поры минуло уже пятнадцать лет. И хотя года и заботы уже весьма заметно набросили инея на виски посланника, но глаза его блестели по-прежнему молодо, шаг был быстр и упруг, хотя былая рана довольно сильно давала знать в последний год, а жесты тонких в кости рук были хищными и энергичными. Но всё же это был совсем другой Картерет. Работа в качестве посланника на службе английской короны сделали его циником. Сэр Джон теперь твердо знал две вещи, а именно те, что все люди продажны и что никто точно не знает своей стоимости. Как водится, персоны важные стоимость свою были склонны завышать, и в таких случаях посланник всегда вспоминал высказывание одного турецкого паши, что люди подобны фруктам в базарный день и потому утром за них запрашивают слишком большую цену, а вечером отдают за бесценок. Это изречение он частенько приводил при торге с тем или иным нужным ему человеком и при этом всегда иронично улыбался, что весьма обескураживало собеседника. Поэтому-то вся дипломатическая служба, когда-то представлявшаяся ему весьма темной и сложной, а потому и интересной, теперь свелась к рутине, когда требовалось лишь найти нужного человека и дать ему не превышающую разумных пределов сумму денег, ибо королевская казна – не рыба в руках Иисуса
[4].

Джон Картерет
Да, Стокгольм, некогда многолюдный и живой, в этот майский день не был слишком весел, ибо война с Россией, шедшая вот уже девятнадцать лет, и чума, поразившая Швецию пять лет назад, заметно прибавили кладбищенского населения, убавив городского. Лица редких прохожих были зеленовато-бледными после зимы, и каждый из них шел, не глядя на прочих, думая про себя свою невеселую думу. Проникшийся общим настроением сэр Джон с улицы Монахов завернул к Немецкой церкви, затем пересек Большую площадь и, наконец, достиг здания Риксдага, где к этому времени должно было закончиться заседание с королевой Ульрикой во главе. Увы, он пришел совсем уж поздно и почтенные отцы города и страны большей частью разъехались во все стороны, дабы завершить свой день добрым обедом и разговорами со своей доброй Гретой или Кларой. Совершенно поскучневший посланник развернулся на каблуках своих ботфорт так, что бездельники, следовавшие за ним, чуть было не врезались в своего хозяина, едва успев отскочить в разные стороны.
– Ты, Оливер, и ты, Тед, – вы оба свободны до девяти часов вечера, – мрачно пробурчал сер Джон, – жду вас ровно в девять часов, джентльмены. Желательно без синяков и в целой одежде. Картерет иногда любил слегка поиздеваться над слугами: те были добрыми малыми, хотя и не без некоторых, свойственных простолюдинам, слабостей. Бездельники просияли и, пообещав хозяину не опаздывать, мгновенно исчезли как некие духи. Сэр Джон же в задумчивости отправился назад той же дорогой, которой сюда и пришел. Он успел миновать Большую площадь, когда звук медленно следующей мимо его кареты, запряженной парой вороных коней, заставил его повернуть голову. В окне кареты он успел заметить знакомое ему лицо почтенного сенатора Ригсдага и весьма известного своим состоянием негоцианта старика Оскара Линдгрема. Старик приветливо, но со свойственной ему важностью махнул посланнику рукой и что-то приказал кучеру. Карета остановилась. Дверца кареты приоткрылась, и в просвете показалась седая голова с жидкой, трепещущей на ветру бородкой.
– Доброго дня, доброго дня, господин посланник! Как я вас понимаю! Вы, верно, гуляете в такой прекрасный день! Как я вам завидую!
Сэр Джон снял свою треуголку и раскланялся, думая одновременно о том, что если птица тебе щебечет, то, несомненно, чего-нибудь да попросит. И не ошибся. Между тем, старый Линдгрем, сопя и кряхтя, уже выползал из своего уютного гнездышка на колесах.
– Уффф! Да, молодой человек, вот она, старость! Да-да! У вас, можно сказать, все еще впереди. А я вот… Все суета сует, все суета сует, – продолжал изнывать хриплый старческий дискант. – Если вы позволите, я составлю вам общество, да и до моего дома совсем уж близко. – Старик махнул в сторону огромного, старинной постройки особняка с башенками и узкими, но высокими окнами.
«Определенно старой лисе что-то нужно, – про себя думал посланник, деланно изобразив вежливую улыбку. – Впрочем, все к лучшему. Может, удастся выудить из него что-нибудь насчет сегодняшнего заседания Ригсдага».
Оба медленным шагом направились в сторону особняка.
– Да! – немного помолчав, вдруг перешел на деловой тон Линдгрем. – Давайте говорить прямо, сэр Джон. Англия – дружественная нам держава. Наша страна ведет тяжелейшую войну с Россией. Наш несчастный король, на которого лишь и оставалась надежда, погиб. Несчастной Швецией правит женщина. Казна пуста. Мужчины или убиты, или, как я, стары и бессильны. Мы хотим знать, может ли Англия, как дружественная нам держава, оказать нам помощь? Вы понимаете, что я имею в виду, – объявить войну России. Если русский медведь задавит нас завтра, то послезавтра он будет грызть вас, мистер Картерет. То, о чем я вас спросил, хотел бы знать каждый швед, но так как не всем надо знать, что скажете мне вы, я обещаю сохранить в секрете ваши слова.
«Дураки, они еще надеются! – подумал про себя Картерет. – Уж могли бы сообразить, что Англии нет никакого резона отправлять своих парней в топи Петербурга, или – помилуй бог! – жечь азиатскую Москву. Уж лучше пусть русские варвары по дешевке сами снабжают флот его величества короля пенькой, льном и строевым лесом».
Вслух, однако, сэр Джон этого не сказал.
– Я также буду с вами откровенен, господин Линдгрем. В настоящий момент моя страна ведет войну с Францией, как на континенте, так и в американских колониях. Английская казна пуста. Наше положение ничуть не лучше положения Швеции. Англия не может рисковать отправить флот в Балтийское море. Если он погибнет, то мы теряем колонии. Отсюда следует…
– Отсюда следует, что лучше Англии выгодно торговать с русскими, а нам оставить слова утешения. Ах, молодой человек! Когда-то я тоже выгодно продавал медь и железо в Россию! – старик опустил седую голову и на миг задумался. – Да, вы меня не утешили. Впрочем, я это знал заранее. Ну, что же, вот и дошли, и спасибо вам за приятное общество.
Линдгрем махнул рукой и направился к двери дома, большой и дубовой. Картерет стоял и смотрел ему вслед. Ему пришло в голову, что он так и не успел спросить старика о том, что же обсуждал сегодняшний Ригсдаг с королевой во главе.
– Эй, сэр Джон! – услышал он вдруг хрипловатый голос старого Линдгрема. – Я думаю, что вам будет интересно узнать насчет заседания Ригсдага. Знаете, приходите-ка завтра вечером ко мне. Я вас приглашаю в гости. Приходите часов, эдак, в семь вечера. Я буду вас ждать!
Дверь за стариком затворилась.
* * *
Посланник великой державы должен быть точным, и это полностью соответствовало сэру Джону. Ровно в семь часов вечера четверка великолепных вороных, доставившая его неизменную пару бездельников на запятках кареты, кучера Харри и, собственно, самого посланника, зацокала копытами возле старинного особняка старика Линдгрема. Бездельники были одеты в новенькие, с иголочки, ливреи брусничного, аппетитного цвета – их лица стремились подражать собственной форме. Головы обоих гордо несли также новенькие треуголки с кокардами в виде голов британского льва. Кучер Харри же был наряжен в торжественно-черный кафтан с треуголкой такого же цвета. Шею его согревал длиннющий, почти белоснежный, насколько это может позволить кучеру его ремесло, шарф. Руки Харри, в бывших перчатках хозяина, также белого цвета, крепко сжимали вожжи и длинный тонкий хлыст. Кони же были почти не одеты, если не считать подков, но, тем не менее, привлекали к себе больше внимания зевак, чем весь посольский кортеж своей изящной точеностью голов и статью. Сам Картерет, надушенный и торжественный, видимо, решил преподать неотесанному негоцианту урок хорошего вкуса. Башмаки с серебряными пряжками, кюлоты
[5] а-ля Людовик Четырнадцатый, великолепный темно-синего бархата камзол с серебряными с рубинами пуговицами, парчовый жилет, из-под ворота которого горделивой змеей вился розовый шелк галстука, широкополая шляпа с пучком страусиных перьев и, конечно же, пышнейший пуделеобразный парик, чуть устаревшего фасона, – вот приблизительное описание костюма, который сэр Джон одевал по особенно важным случаям. Почему-то ему казалось, что сегодня как раз именно такой случай. Их, несомненно, ждали, ибо возле гостеприимно распахнутой массивной дубовой двери на улице выстроилась вся обслуга старика Линдгрема – от последнего поваренка до дворецкого, привлекающего взгляд своим богатырским ростом и выправкой бывшего королевского гренадера. Сам Линдгрем стоял во главе своего домашнего войска, подпираемый резервом в виде почтенной супруги Амалии, важно топырящей пухлые губы и строго посматривающей то на строй прислуги, то на гостей. Механизм гостеприимства у четы Линдгремов был отточен, поэтому через пять минут после прибытия четверка коней уже хрупала сеном на конюшне, Харри и бездельники были отведены в людскую, где им было разрешено перекинуться в карты до отъезда. Посланник с хозяевами, в свою очередь, поднялись по широкой дубовой лестнице на второй этаж, где располагалась гостиная. Несмотря на то, что на улице щебетали птицы, цвела черемуха и грело еще высокое солнце, в доме было холодно и сумрачно. Свечи экономили, окна не открывали. Но сэр Джон, как истинный дипломат, нашел положенным подольститься хозяину, отдав должное суровой красоте и доброму вкусу старинных строителей дома Линдгрема.
– Да! Да, сэр Джон! – засипел уже знакомый дискант купца. – Это были строители! Сейчас таких уже не найдешь! При добром короле Густаве Адольфе строили добрые мастера. А сейчас? Я знавал, правда, одного славного каменщика, да и тот, спаси Бог его душу, пропал без вести в Ингрии
[6] уж пяток лет назад.
Линдгрем смолк, а Картерет пока взвешивал про себя, как подвести разговор к заседанию Риксдага, позиции королевы и прочим вещам, интересным для дипломатии. Прикидывал, какую секретную мелочь можно скинуть, если купец предложит что-нибудь интересное. Но за этими мыслями он не заметил, что в гостиной нависло начинающее становиться неловким молчание. Впрочем, оно было оборвано слугами, внесшими в комнату легкое угощение в виде венгерского вина и блюда с различными фруктами. После второго бокала диалог бодро восстал из мертвых.
– Мне кажется, дорогой мастер Линдгрем, что обе наши нации отличные воины. (Как же! Швеция потеряла почти все земли в северной Германии, всю Прибалтику. Варвар Петр строит свою новую столицу в бывших владениях Швеции. Лучшие солдаты покойного короля удобряют своими костями дикие степи где-то под Полтавой. Нет, эта карта бита и делать ставки на Швецию опасно!). Но что касается торговли, то мы – англичане – в торговле вас все-таки превосходим.
– Увы и ах, сэр Джон! Мы слишком долго и тяжело воюем, без союзников, против целой своры борзых, которые вцепились в шведского льва. И воюем, между прочим, за вас! (Англичане не идиоты, а поэтому лучшие торговцы, чем мы. И правда, к чему им тащиться на войну за тридевять земель и, главное, зачем? Нет, посол совершенно прав!). Но я, как негоциант, вас вполне понимаю. Ваши корабли везут в Россию ту же самую медь, которую раньше продавал русским я.
– Вы жалеете об этом, мастер Линдгрем?
– Я жалею об этом, сэр Джон. Королевские мануфактуры, которые льют пушки из моей меди, платят мне вполовину от того, что я имел от торговли с варварами. Я потерял целое состояние!
– Я сочувствую вам, мастер Линдгрем. Может быть, я могу чем-нибудь вам помочь? (клюнет?)
Я не знаю, чем вы можете мне помочь. (Ого, вот это ближе к делу! Только осторожно, старина Оскар!) Или вы предлагаете мне продавать медь Петру? Я швед, господин посланник. Это просто невозможно!
– Well, мастер Линдгрем! Я вовсе этого не предлагаю. Я предлагаю вам продавать медь нам – англичанам. А то, что мы свободно торгуем с дикарями, это уже не должно вас касаться. (Надо сразу брать старика за жабры, если он согласится, а он, чувствую, согласится, будь я проклят!) Я сведу вас с одним моим соотечественником. Конечно, в этом для него будет риск, как и риск для моей репутации, согласитесь…
– О, да! О да, господин посланник! Торговля – это всегда риск. Я понимаю, понимаю! (Только не спеши, старина Оскар. Надо поторговаться с этим английским дьяволом.) Это можно обговорить. Но не стоит слишком спешить. Надо все хорошенько обдумать. Когда я смогу поговорить с вашим земляком?
– Я напишу ему. Сейчас он должен быть в Лондоне. В любом случае это не займет больше месяца. Не должно. И еще, мастер Линдгрем. Я это делаю для вас совершенно бесплатно.
– Я очень это ценю, сэр Джон! Я ваш должник. Но старый Оскар Линдгрем – купец! Старый Линдгрем не любит быть должником. Вы ведь, наверно, хотели знать, о чем говорили на Риксдаге позавчера? Вам будет это интересно. Ведь хотели?
– Мы не вмешиваемся в ваши внутренние дела.
– Ладно вам. В обмен на вашу любезность… На Ригсдаге было решено искать возможности заключить мир с Россией.
В комнате повисло тяжелое молчание. Множество мыслей за один момент промелькнуло в голове посланника его Величества короля Англии. Значит, мир… В таком случае Россия невиданно усиливается, а Швеция становится ничтожной на карте мира, никому не нужной и ничего не значащей. Это плохо. Очень, очень плохо. Это противоречит интересам Великобритании.
– Это твердо решено, мастер Линдгрем?
– Мы все потеряли на континенте. Денег в казне нет, хотя налоги растут и растут. У нас нет союзников, а у врагов целая коалиция. Этот дьявол Петр вот-вот скоро высадится в Швеции, и с моря некому нас защитить, потому что флот потерян. Еще немного, и русские отберут у нас Финляндию. Даже сама королева хочет заключить мир. Ах, мистер Картерет, если бы он сдох! Если бы Бог покарал его и он сдох, этот косматый дьявол Петр! Тогда у нас еще был бы шанс! Почему дикие стрельцы не зарезали его в младенчестве! Почему его бородатые бояре не подсыпали ему яду!
– Я согласен с вами. Смерть Петра была бы выгодной для Швеции.
В этот момент в дверь гостиной тихо постучали, и Линдгрем, резво вскочив с кресла, исчез за нею. Спустя какое-то время он вернулся, но вернулся не один, а в сопровождении совсем юной девушки в весьма простом, длинном платье.
– Господин посол должен меня извинить, потому что я должен отлучиться на полчаса. Я хочу познакомить вас с моей внучкой Агнессой.
Картерет вскочил и галантно раскланялся.
– Хочу предложить вам, господин посол, чтобы в мое отсутствие Агнесса показала вам дом. Когда я вернусь, то мы поужинаем.
Старик вышел.
Посол с Агнессой по лестнице поднялись на третий этаж. Агнесса со свечой в руке шла впереди, и посол, следовавший за ней, мог видеть маленькие ее ножки в изящных с жемчужными узорами красных башмачках, смотревшихся не в тон простому платью. В коридоре третьего этажа было еще мрачнее, чем там, откуда они только что поднялись. Похоже было, что этот этаж был давно покинут, так как каждый их шаг поднимал клубы пыли. Здесь пахло мышами и плесенью.
– Представляете, я провела здесь все детство. Вот моя бывшая комната, – промолвила Агнесса, обернувшись к посланнику. – Мне всегда было страшно здесь, и это длилось годами.
Она отомкнула первую дверь анфилады. Комната средних размеров предстала перед ними, с двумя узкими и высокими, как во всем доме окнами. Мебель была, большей частью, вся старинная, немецкая, к великому удивлению посланника. Точно такие же резные ясеневые шкафы с медными ручками в виде львиных голов сэр Джон имел возможность видеть во время своей службы у Мальборо в Саксонии. То же самое можно было сказать и о стульях, спинки которых украшали гербы прежнего владельца. Судя по всему, они некогда окружали двумя по-солдатски стройными шпалерами длинный обеденный стол в каком-либо саксонском или баварском замке. Неисповедимы пути господни! При виде всех этих вещей, проделавших столь долгий путь и коротающих свой деревянный век за тысячу миль от родины, на сердце сэра Джона легло острое чувство ностальгии. Он вдруг подумал, что прошло уже полтора десятка лет и что он изменился и постарел, а они – шкафы, стулья, и столы – служат людям уже невесть сколько времени и впредь будут спокойно-царственно смотреть на своих мимолетных хозяев с иронической улыбкой на этих львиных мордах, когда от посланника его Величества уже и следа на земле не останется. Отбросив, наконец, подобные мысли, сэр Джон продолжил знакомство с комнатой Агнессы далее. Старый деревянный стол с простенькой резьбой теснился к одному из окон, на столе топорщилась пером чернильница с давно высохшими чернилами. К столу было придвинуто старое, с бульдожьими коренастыми ножками, кресло, на котором лежали какие-то листочки бумаги, частью исписанные мелким подчерком, а частью чистые. Но посланник не смотрел уже ни на кресло, ни на стол, ни на расставленный у противоположной стены ряд сундуков. Даже необычная для девичьей комнаты географическая карта в проекции Меркатора на стене не привлекла его внимания, не удивила его. Картерет смотрел на освещенное пламенем свечи лицо Агнессы. Но девушка не заметила его пристального взгляда и, видимо, погрузившись в какие-то ей дорогие воспоминания, с грустной улыбкой гладила старый, облупленный лак стола, как будто спину неведомого зверя.
– Пойдемте, как видите, здесь нет ничего интересного, – сказала она. – И еще, простите меня за глупую просьбу, сэр Джон, разрешите мне держать вас за руку. То есть, – засмущалась она. – Не могли бы вы взять меня за руку. Мне просто страшно здесь! – И добавила: – Ну правда!
Так одну за другой, со свечами в руках, как новобрачные, осмотрели они все прочие комнаты на этом этаже. Но Картерет уже не обращал внимания на старинные портреты с почтенными мужчинами в старинных костюмах, на забавную тяжеловесную мебель на толстых поросячьих ножках, на оружие старых времен, развешенное по стенам, а впрочем, еще вполне годное для доброй резни. Сэр Джон с глупой, почти счастливой улыбкой на лице, как верный пес, следовал за дробным стуком маленьких красных башмачков Агнессы. Он почти ничего не понимал из всего того, что ему она говорила, он потерял дар речи и только согласно мычал время от времени. И если бы сам великий герцог Мальборо увидел своего храброго лейтенанта в таком виде, то карьера сэра Джона так бы и остановилась на звании лейтенанта.

– А вот и самая жуткая комната из всех, – таинственно взглянула на него девушка, отпирая последнюю дверь большим длинным ключом – на такой запирались иные городские ворота. – Это комната моего прадедушки. Это он и купил когда-то этот дом.
Картерет, наконец, пришёл в себя и первым, высоко подняв над головой руку с горящей свечой, шагнул в помещение. Ничего не было в нем особенного, только слой пыли в этой комнате был куда больше, чем в предыдущих. Массивная дубовая кровать, задернутая балдахином, два тяжеловесных старинных промятых кресла, те же старые добрые сундуки, столь любезные этому дому и неизвестно что хранившие. Старые книги роскошной печати на длинной ясеневой полке привлекли внимание посланника, ибо он любил проводить досуг за чтением. Но книги все оказались скучными сборниками законов шведского королевства времен Великого короля Густава Адольфа, чей портрет, кстати, украшал одну из стен. На противоположной стене был еще один, где был изображен худощавый мужчина, со старческими впалыми щеками и тусклыми оловянными глазами, смотревшими на гостей холодно и подозрительно. Старик был одет в длинную черную мантию и головной убор, что носят судейские чины. В правой руке его было перо, левой же он указывал на маленькую статуэтку богини, олицетворяющей правосудие.
– Так ваш прадед был судьей? – обратился сэр Джон к Агнессе.
– Вы угадали. Дедушка говорил мне, что он воевал с королем на континенте, в Германии, а затем стал судьей. Он купил этот дом, но вскоре умер. Умер он как-то таинственно. Дедушка говорит, что его околдовали. Ведь прадедушка приговаривал колдуний и колдунов к смерти, за что же им его любить? Но я думаю, что все это сказки и его, скорей всего, просто отравили. Спросите у дедушки сами, сэр Джон. Я тоже с удовольствием послушаю. Я люблю страшные истории!
Картерет, тем временем, перевел глаза с портрета на старинную кирасу, что висела на стене, изрядно помятую во многих местах, далее старинной формы шлем, шпагу на перевязи и мушкет, старинный мушкет с облупившимся на прикладе лаком, но без единого пятнышка ржавчины на стволе. Видно было, что прежний хозяин следил за своим оружием, и Картерет подумал, что прадедушка Агнессы был, похоже, лихим рубакой в свое время, и снова с одобрением и любопытством взглянул на портрет. Девушка прикоснулась к его локтю.
– Теперь мы всё здесь посмотрели. Дедушка, наверное, уже вернулся. Пойдемте вниз!
Они направились к двери, и тут сэр Джон невольно ахнул и остановился. Агнесса с удивлением посмотрела на него. Но теперь сэр Джон на минуту позабыл обо всем на свете, и его восхищенный взгляд был направлен на часы, которые висели над самыми дверями. Да, это были старинные часы, великолепной, скорее всего, итальянского мастера работы, насколько мог судить сэр Джон, а судить о подобных вещах он мог достаточно верно, как любитель антикварных вещей. Корпус часов был бронзовым, бронза уже изрядно потускнела, и тонкий отчеканенный растительный орнамент кое-где покрылся легкой коростой зеленоватого цвета. Несколько же фигурок библейских персонажей были позолочены и даже под слоем пыли отсвечивали теплым желтоватым светом, как только что изготовленные. В нижней части часов вил чешуйчатые кольца древний змей-дьявол. На левой стороне корпуса льнула к тонким золотым листкам гибкая фигурка Евы, которая держала в руке яблоко, выполненное, видимо, из крупного граната. Справа Адам, коленопреклоненный, в мольбе склонив голову, протягивал к небу ищущие прощения руки. На самом же верху часов, что было логично, старец-судия, вынося приговор, указывал торжественной дланью вниз – к земле, праху, бездне. По обе стороны от старца кудрявые ангелочки с миниатюрными крыльями, надувая щеки, трубили в трубы, призывая все сущее по земному кругу быть свидетелями справедливости божественного правосудия. Нет, часы были действительно работы великого мастера! Они были чудесны! Но безжизненная одинокая часовая стрелка
[7], подобно руке старца, остановилась в положении около половины шестого часа то ли ночи, то ли утра.
– Они остановились, когда прадедушка умер, – тихо проговорила из-за спины посланника Агнесса. – Так дедушка однажды мне сказал. – И добавила: – Пойдемте же, мистер Картерет!
Картерет редко присутствовал на ужинах в домах богатых негоциантов, но даже из этого небольшого опыта помнил ту великую скуку, которая обычно терзала всех присутствовавших. Начало ужина у любезного Линдгрема также не обещало ничего доброго, и только лишь присутствие Агнессы несколько утешало сэра Джона. Увы, посланника отделял от нее мощный бюст и тройной подбородок почтенной фру Амалии. Про себя сэр Джон уже прозвал ее и Аргусом, и Цербером, и даже медузой Горгоной, ибо к великому своему конфузу при попытке скосить глаза в сторону милой Агнессы его взгляд неожиданно уперался в скошенный в его сторону подозрительный взгляд матроны. Более того, с другой стороны стола за ним присматривала родная сестра Амалии, Клара, и ее супруг – Карл Берг – полковник королевского драгунского полка в отставке. И поэтому, едва Картерет поднимал взор перед собой, как сразу же натыкался на полные неуемного любопытства буркалы четы Бергов. «Вот ведь дьяволово отродье! Обе сестрицы просто Сцилла с Харибдой!
[8] Хорошо, что купец не назвал на ужин еще кого-нибудь. А ведь мог!» – сердито думал про себя Картерет.
Тем не менее, отличное Токайское вино вкупе с великолепно приготовленной куропаткой и норвежским лососем сделали свое дело и беседа оживилась. Берг, как бывший военный, естественно, завел разговор о войне, а фру Амалия и ее сестра пытались перетянуть сэра Джона к ценам на английское сукно, последним тенденциям моды в Англии, и личной жизни посланника. Сэру Джону приходилось лавировать, как китобойному судну среди айсбергов, пока не раздался спасительный голос сытого и подобревшего хозяина дома.
– Как вам понравился мой старый домик, мистер Картерет? Агнесса вам все показала?
– Нет, дедушка! – ответила за посланника Агнесса. – Мы успели посмотреть только третий этаж. Там было темно и страшно! А сколько там пыли!
– Да, – пришел ей на помощь Картерет и, склонившись над самым столом, чтобы избежать препятствия в виде бюста фру Амалии, взглянул на Агнессу, за что был награжден улыбкой и благодарным взглядом чудесных голубых глаз. – Я давно не получал такого удовольствия. Дома, в Англии, я коллекционирую старинные вещи, а у вас, мастер Линдгрем, и без того целый музей!
– Я предпочитаю ничего не трогать там. Мой отец – великий человек! Это он купил этот вот дом, и с него идет слава нашего рода, хотя, к сожалению, ему недолго довелось насладиться мирной жизнью. Видели вы его портрет, мистер Картерет?
– Это, где он в судейской мантии? Да, видел. Замечательный портрет!
– Это работа Якоба Эльбфаса
[9]. Кстати, он же рисовал и портрет короля Густава. А король Густав – Великий король Густав Адольф, упокой господь его душу, – голос старика торжественно засипел – был личным другом моего отца! Давайте же выпьем, дорогой сэр Джон, за истинную дружбу!
– С удовольствием, дорогой мастер Линдгрем!
Все подняли кубки. Слуги украдкой внесли корзину с запыленными бутылками. Картерет вспомнил о часах.
– Ваша милая внучка, – вкрадчиво повел речь Картерет, – сказала, что с вашим отцом произошло что-то нехорошее. Вы не могли бы рассказать мне эту историю? – И снова наклонившись, заглянул в лучистые глаза Агнессы.
– Дедушка, расскажи господину посланнику, если ему интересно. Я тоже с удовольствием послушаю! Да и все остальные тоже. Правда, бабушка?
Бюст шелохнулся, и тройной подбородок согласно заколыхался.
– Правда, но я боюсь, что то, что Оскар расскажет господину посланнику, будет лишь глупой сказкой, пусть и старой.
– Бабушка! – возмутилась фрекен Агнесса. – Что ты такое говоришь! Дедушка, не слушай ее, начинай, пожалуйста!
Слуги налили гостям новую порцию венгерского в бокалы и по знаку хозяина удалились. Все присутствующие расселись поудобнее. Линдгрем, кряхтя, поднялся с кресла и, взяв свой бокал, начал в раздумье расхаживать вдоль стола по комнате. Улыбка сошла с его лица, и, похоже, доброе расположение духа покинуло его. Сэр Джон внимательно наблюдал за ним. Наконец, старик откашлялся и, отхлебнув вина, начал:
– Эээ, кхе-кхе, ты, полковник, и ты, Клара, портрет тоже видели? Ведь так? Так вот: всё что я вам сейчас расскажу, говорила мне когда-то моя мать, и у меня нет оснований ей не верить. Она была честнейшей, благородной женщиной и её уважали все!
Указательный палец Линдгрема торжественно потянулся к потемневшим от времени потолочным балкам.
– Хотя, не скрою, история эта мне лично кажется странной. Итак, мой отец Аксель Линдгрем был другом Великого короля Густава Адольфа и командовал ротой королевских драгун. Вместе с королем он высадился на континент в Германию в 1630 году. Мать мне всегда говорила, что капитан королевских драгун Аксель Линдгрем непременно погиб бы при Люцерне
[10] в 1632 году, защищая труп друга и короля, если бы не был ранен раньше – при Брейтенфельде
[11]. Он приехал на лечение в Швецию и назад в Германию уже не вернулся. К тому времени король уже погиб. Канцлер Оксеншерна, зная честность отца, назначил его председателем суда в Стокгольме. Тому нужны были честные и надежные люди. Да, я еще должен добавить, что отец вернулся из Германии весьма состоятельным человеком…
«А-а-а!» – про себя подумал сэр Джон. – Как же это я сразу не догадался! Честнейший судья в Германии неплохо поработал в бытность свою капитаном! Судя по всему, его милейшие драгуны обчистили не один замок в Саксонии! Теперь-то мне понятно, откуда в его доме тамошняя мебель! Хотя будем честны: и мы, английские солдаты и офицеры, тоже этим не брезговали. В свое время и мой великий шеф Мальборо тоже не отличался скромностью. Но такова природа человека и с этим ничего не поделаешь!» – заключил посланник, снова обращая свое внимание к рассказу Линдгрема.
Однажды в суде слушали дело какой-то колдуньи, – продолжал, между тем, старый купец. – И дед приговорил ее к костру за ее преступления. Она же его прокляла.
Глава 2
– Уррр! Ну и мороз! В карете ехать невозможно, идти тоже. Проклятая мушкетная пуля катается в бедре! – приговаривал судья Аксель Линдгрем, входя в заднюю комнату королевского Стокгольмского суда, где уже собралась после обеденного свиного окорока с пивом вся судейская мелкая братия вроде посыльных, секретарей, адвокатов и советников. При виде судьи все встали и раскланялись. Линдгрема не то чтобы слишком уж уважали, но как любимчика покойного короля и протеже великого канцлера и тезки судьи, Акселя Оксеншерны, побаивались. Вероятно, от постоянной боли, что мучила бывшего капитана драгун так и не извлеченная из былой раны мушкетная пуля, Аксель Линдгрем был желчен, придирчив и мелочен, что, впрочем, весьма радовало адвокатов, любивших тянуть из процессов свою золотую нить.
– Что там у нас сегодня, Юнассон? – обратился он к секретарю – невысокому лысому толстяку с красным лицом и маленькими заплывшими глазами.
– Сегодня только дело Ульфа Арвидссона, господин судья. Его уже должны были доставить.
– Должны были, должны были… – забрюзжал с места в карьер Линдгрем. – Какого черта никто ничего не знает! Ну-ка, вон в зал и посмотри, там ли они? И скажи страже, чтобы не колотили по полу алебардами во время суда. Предупреди их!
Секретарь, съёжившись, выскочил в зал заседаний. Через пару минут его блестящая голова просунулась в дверь и простуженно просипела: «Все уже здесь, господин судья, ждут вас. Я уже все перья заточил, текст приговора также готов. Он лежит у вас на столе».
– Ладно! – махнул рукой судья, надевая мантию. – Все записал, как я говорил?
– Как же иначе, господин судья! Отсечение руки, штраф и издержки.
– Ступай! – буркнул Линдгрем, отыскивая взглядом свою судейскую шапочку с кистями. – Сейчас подойду.
В зале было немноголюдно и даже уютно, так как за одно предыдущее заседание все почувствовали себя одной своего рода семьей. Семья состояла из сержанта Свеннссона, который сидел на скамье у входа и, откинувшись к стене, чертил ножнами своей шпаги неведомые кабалистические знаки. Стражники вцепились в свои алебарды и, переминаясь, скучающе поглядывали то на преступника, то на пустующий судейский стол, то на уже начинающее понемногу блекнуть и без того серое декабрьское небо в переплете высокого стрельчатого окна. Уже упомянутый Мартин Юнассон устроился за своим секретарским столиком, где и коротал время до прихода судьи за взбалтыванием чернильницы и копошением в стопках бумаг. Немного в стороне от него на расшатанном скрипучем стуле вытянулся адвокат-старичок Улссен. Он дремал, свесив голову на грудь так, что лицо его практически исчезло под париком. Порой он просыпался, окидывал зал суда мутным невидящим взглядом и, поерзав под жалобные стоны стула, вновь впадал в свою адвокатскую летаргию. Уродом в этой семье был пойманный с поличным за кражу каравая ржаного хлеба рыночный вор Ульф Арвидссон. Теперь он, с синяком под левым глазом, в рваной одежде и дурно пахнущий, уныло ждал решения своей судьбы, ни на кого не глядел и ни на что не обращал внимания. Цепи на его руках чуть позвякивали в такт дыханию. Потерпевший – хлебный торговец Якобсен, потеющий под огромной медвежьей шубой, в нетерпении грыз ногти и время от времени таинственно шептался с двумя свидетельницами – матерью и дочкой Петерссонами. Те без конца крутили во все стороны головами и таращили глаза, а придурковатая дочь при этом непрестанно ковырялась у себя в носу да с таким усердием, что сохранность ее пальца или носа вызывало некоторое опасение. Коршунами поглядывали сидящие с обеих сторон судейского стола советники Даниэль Сандберг и Оке Хольм. Наконец дверь в зал распахнулась, и все вскочили под возглас секретаря: «Почтение королевскому правосудию!» Судья Линдгрем тяжело проковылял к своему месту, и, плюхнувшись в кресло, обвел взглядом всех присутствующих.
– Прошу садиться! – начал он и некоторое время молчал, просматривая текст приговора. Все расселись по своим местам, адвокат Уилсон, так и не успевший спросонок поприветствовать судью вставанием, тряс головой для бодрости.
– Итак, господа, не будем тянуть время. Я зачитаю приговор, если со вчерашнего заседания нашего суда не прибавилось что-либо нового. Вы, Улссон? – Нет. – Понятно, Что подсудимый? Свидетели? Значит, начнем.
Он встал, и, откашлявшись, начал читать приговор сиплым, простуженным голосом, изредка поднимая голову, чтобы посмотреть на эффект, произведенный на участников суда.
– Я, судья Аксель Линдгрем, вкупе с советниками Даниэлем Санбергом и Оке Хольмом, изучили дело о краже каравая ржаного хлеба в лавке потерпевшего мастера Якобссена. Имея в виду выяснить истину, мы выслушали потерпевшего Якобссена, допросили свидетелей преступления Марту и Анну Улофссон, которые подтвердили факт кражи оного хлеба у потерпевшего. Также они – и свидетели, и потерпевший – единогласно, без каких-либо сомнений, могущих указывать на ошибку, указали имя и приметы преступника, по которым он был задержан и содержался в тюрьме вплоть до сего времени. Таким образом, Стокгольмский королевский суд именем королевы Кристины, храни ее Господь, имея в виду доказанность преступления многими и несомненными доказательствами, приговаривает подсудимого Ульфа Арвидссона, имея в виду его уже третье задержание за кражи различного имущества…
Спина подсудимого сгорбилась еще больше, и он схватился за голову руками, как будто в надежде не услышать приговора.
– К возмещению убытка в трёхкратном размере из имущества упомянутого Ульфа Арвидссона (тут Арвидссон поднял голову, и в глазах его можно было видеть смутную тень надежды, которая через несколько секунд сменилась отчаянием) и отсечением правой руки по локоть, имея в виду пресечь преступные намерения и впредь. Кроме того, издержки суда также будут оплачены из имущества упомянутого, – тут легкая гримаса исказила лицо почтенного судьи Арвидссона. – Казнь упомянутого (тут судья начал багроветь в приступе еле сдерживаемого гнева) будет произведена на хлебной площади в среду 23 декабря 1644 года от рождества Христова, имея в виду явить жителям Стокгольма справедливость королевского правосудия! Итак, приговор оглашен и да здравствует правосудие и милость королевы Кристины!
Линдгрем опустился в кресло, отдуваясь и постепенно приходя в себя. Все пришло в движение. Стражники под руки волокли к дверям плачущего Арвидссона, который все время оборачивался и бросал умоляющий взгляд на адвоката, который, в свою очередь, с мрачной миной на лице лишь разводил руками. Но было видно, что участь подзащитного его особенно не трогала. Бумаги по делу советники отдали секретарю Юнассону и, попрощавшись, откланялись судье. Все столпились у выхода из зала, где сержант все еще не мог открыть дверь и сердито перебирал ключи, ища нужный. Линдгрем вспомнил тут о секретаре.
– Секретарь Юнассон! – загремел он, и голос его был подобен меди. – Что это ты пишешь «имея в виду да имея в виду» четыре раза, даже пять раз в одном приговоре! Мне сниться сегодня будет «имея в виду»!
Услышав слова судьи, секретарь Юнассон, как нашкодивший кот, попытался закрыться от начальственного гнева за ворохом бумаг.
– Я тебя предупреждаю! – гремел тот. – Имей в виду, что если еще раз такое повторится и мне придется позориться, читая очередное «имея в виду», то ты вылетишь у меня с места секретаря и пойдешь на улицу подбирать конский навоз! Фффу, чтоб тебя!
– Господин судья, не извольте беспокоиться и простите меня, ради Бога! – забормотал несчастный секретарь, суетливо собирая бумаги. – Я вам обещаю, что в следующий раз такого не повторится. Я трижды все проверю и такого не будет!
И он выскочил в комнату секретарей как ошпаренный.
В зале уже не было никого, и Линдгрем, задумавшись о чем-то, некоторое время сидел неподвижно. Он представлял себе, что проведет сегодняшний вечер у камина с приглашенным по случаю приближающегося Рождества старым боевым товарищем Теодором Фальком. За окном стало почти совсем темно. Здесь, в судейском кресле, было даже как-то уютно, и вставать не хотелось… Но едва судья успел подняться, как дверь секретарской распахнулась, и на подгибающихся ногах к нему подкатился несчастный Юнассон.
– Господин судья, к вам пришли. Там Людвиг Ханссон, епископ Стокгольма!
Судья плюхнулся обратно в кресло: – Вот еще! Что ему надо?
– Я не знаю, он сказал, что у него к вам важное дело.
– Ладно, тогда проводи его сюда.
Секретарь исчез за дверью, и через некоторое время в зал суда неторопливо вошел среднего роста человек, которому, на первый взгляд, можно было дать не меньше семидесяти лет, если бы не было известно, что ему не было еще и пятидесяти. На голове волос почти не осталось, и лишь
скудным подлеском по чистому лугу свисали длинные, до плеч, жидкие пряди седых волос. Вся кожа на лице была покрыта старческими пятнами, а щеки были столь впалыми, что, казалось, принадлежали мумии, а не живому человеку. Зубы также давно уж покинули епископа, но глаза, глаза заставляли забывать все. В них светился ум, и легкая печальная ирония к этому бренному миру трогала порой тонкие губы отчаянного протестанта. Не говоря ни слова, епископ придвинул кресло одного из советников и сел напротив Линдгрема. Тот молчал. Они довольно хорошо знали друг друга еще с давних пор.
– Итак, господин Линдгрем, я хочу поручить вам вести процесс некой Ингрид Валлин. Она – ведьма.
– Почему я, господин епископ? – Линдгрем беспокойно заворочался в своем кресле.
– Вас знают как честного и разумного слугу королевы Кристины. К тому же, в таких процессах нужна толика здравого смысла и твердость одновременно.
– Но почему все-таки именно мне? Судей много.
– Она очень богата. А вы славитесь честностью. Здесь нужен честный человек.
– Я наслышан о ней. Муж ее умер, оставив ей огромное наследство, так говорят. Он занимался крупными торговыми операциями в ганзейских городах.
– Все правильно, дорогой Линдгрем. Но перейдем к делу. Ее арестовали на прошлой неделе, и дом ее опечатан. Она ворожила у себя на дому, варила зелья… ну все как обычно. Я принесу вам протоколы допросов. Там много всякого. Ее подвергли испытанию водой, и она всплыла. Кроме того, для надежности был произведен ее осмотр и найден ведьмин знак под левой грудью. Знаете, Линдгрем, я еще может быть и посмеялся бы над испытанием водой, но когда ее тело кололи иглой и она кричала до тех пор, пока палач не уколол ее в это пятно! У меня мурашки пошли по спине – она даже не вскрикнула! Повторили укол несколько раз – и все то же. Возле дома выставлена стража. Народ хотел сжечь ее в доме. Завтра с утра в вашем присутствии мои люди будут производить обыск. Надо все записать. Взять свидетелей. Ну, это мое дело. Сама королева интересуется этим делом.
Епископ поднялся. Линдгрем тоже встал.
– Итак, завтра в 9 утра на улице Медников.
– Я знаю, где это.
– Удачи вам, Линдгрем. И храни вас Бог!
Шаги епископа уже затихли в коридоре, а Линдгрем все еще так и стоял у стола. Какой-то неведомый ужас вползал в его душу, этому ужасу не было внятной причины, а потому не было и объяснения. Тем страшнее показался Линдгрему завтрашний день.
* * *
«Почему я?» – единственный вопрос, который никак не выходил из головы судьи Линдгрема, когда утром садился он в свою карету. Слуг он решил не брать. Бог весть, что случится сегодня, и Линдгрем заранее призывал скорейшего прихода вечера. Указав кучеру адрес, он поплотнее закутался в бобровую роскошную шубу, и раздумья вновь охватили его. Болела нога. Проклятая пуля какого-нибудь немецкого ландскнехта, которую так и не смог извлечь из раны лекарь Глаузевиц, уютно пристроилась в ноге бывшего капитана, портя ему жизнь… Он хорошо помнил, как это было. Под командованием своего «Северного льва»
[12] несколько эскадронов конницы прорвали правый фланг папистов и зашли в тыл мушкетерам Тилли
[13].

Король Швеции Густав Адольф
Аксель не отставал от своего короля его конь был хорош и горяч, и спустя некоторое время всадников рядом с королем осталось совсем немного. О! Если бы имперцы были чуть более хладнокровными! Но они были в панике и бежали, а король наносил удары своим палашом направо и налево, и капитан Линдгрем не отставал от него. Затем что-то толкнуло его в левое бедро, и он почувствовал, как что-то горячее течет по его ноге. Но боли не было, сначала не было, он точно это помнил. Он успел еще крикнуть: «Я ранен!». Все помрачилось кругом, и запах порохового дыма стал тошнотворным. Больше Линдгрем ничего не мог вспомнить до того момента, как он очнулся от дикой боли в ноге. Он выл и извивался изо всех сил, но помощники полкового лекаря Глаузевица крепко держали капитана, навалившись всем телом на его руки и ноги. Сам Вильям Глаузевиц трясущимися окровавленными пальцами ощупывал рану, вероятно, пытался определить, где находится пуля. Затем он взялся за зонд, и тут капитан снова потерял сознание. Пулю так и не нашли, рану зашили. Капитан должен был умереть, но выжил благодаря молодости и божьей милости. Ведьмы. В Германии их было много, потому что он часто видел, как их казнили. Он помнит, как сожгли сразу 15 человек в Дрездене. Там были и мальчики и девочки. Все они плакали. Говорили, что среди них есть дети благородных людей. Как это могло быть? Еще раньше, в каком-то маленьком немецком городке возле Гамбурга, Аксель, и еще несколько драгунских офицеров – его друзей – видели, как на костре сжигали ведьму. Это была уже пожилая женщина, даже, скорее, старуха. Толпа забрасывала ее камнями, один рассек ей бровь, кровь, заливая глаз, струйкой стекала по морщинистой щеке и капала с подбородка на ее рубище из грубой серой мешковины. Она молилась. Он, Линдгрем, был уверен в этом. Руки у нее были свободны, потому что ее привязали цепями к столбу крест-накрест. Старуха, сложив молитвенно руки, шептала что-то про себя. Потом подняла голову вверх. Она не обращала внимания на окружающих, пока ее тело обкладывали охапками сухого хвороста. Она смотрела в небо, и все время часто моргала, потому что глаз ее заливало кровью. Один из офицеров, который понимал немецкий язык, спросил у присутствующих, что она совершила? Никто толком ничего не знал и не мог ничего определенного сказать. Говорили, что она колдовала и насылала болезни. Что колдовством вызвала пожар: в городе сгорело несколько домов и были жертвы. У одной женщины умер ребенок. Священник подошел к старухе, но что он говорил ей, офицеры не услышали – было слишком далеко. Линдгрем видел, как он протянул ей крест и как она поцеловала этот крест. На крест попала кровь, и священник вытер ее сорванной травой. Хворост подожгли. Сначала она только кашляла от дыма, а затем закричала, и все смеялись и показывали на нее пальцами. Чему радовались эти люди? Потом крик перешел в нечеловеческий вой, звенели цепи. «Hexe! Hexe!»
[14] – загудела толпа. Дым стелился низко, потому что был жаркий, безветренный день, и Линдгрем почувствовал запах горелого мяса. Ведьма продолжала выть. Капитану стало плохо, и он торопливо отошел к ближайшим зарослям – его тошнило. Товарищи отошли тоже. Все были бледны.
Как она могла молиться Богу? Или дьяволу молятся точно так же? Еще тогда, в маленьком городке под Гамбургом, в сердце капитана закралось сомнение в справедливости такого наказания. Ну ладно, может, она и впрямь колдовством убила соседского ребенка и сожгла дома. А эти дети, которых сожгли в Дрездене? Дрезден очень красивый город. Что сделали эти дети? Нет, здесь явно что-то неправильно. В Баварии саксонские ландскнехты – союзники шведского короля – отбили ведьму, совсем юную девушку лет семнадцати. Горожане собирались сжечь ее на центральной площади Мюнхена. Но жители Мюнхена были католики, и саксонцы смеялись, что такие ведьмы – союзники протестантов и ее следует отпустить. Им удалось вырвать ее у горожан. Но сами ее не отпустили домой, а привели в лагерь, где изнасиловали и, наконец, перерезали ей горло. Затем тело ее утопили в пруду. Шведы хотели взяться за оружие, но командующий шведским отрядом Юхан Банер это запретил. Ведь она была ведьмой. Но что сделала эта девушка? В этот момент карета остановилась, и Линдгрем, взглянув в оконце, увидел, что они прибыли на место.
Улицу Медников, несмотря на то, что обитатели ее были, в большинстве своем, люди простые, покойный купец Ульф Валлин выбрал с расчетом. Она находилась поблизости от порта, а так как Валлин вел дела с городами Ганзейского союза, то это было, несомненно, удобно для ведения торговых дел. И получилось так, что среди невзрачных домов и откровенных лачуг, где обитали матросы, грузчики, рыбаки и портовые воры, вырос великолепный каменный дом во французском стиле, с парком, конюшней и даже прудом, где плавали лебеди. Дела купца шли хорошо, и ему многие завидовали при жизни, которая оказалась не очень-то и длинной. Валлин умер в разгар эпидемии чумы в 1638 году. Ему тогда не было и шестидесяти. Умер он на корабле, по пути в Любек, поэтому, боясь оставить тело на корабле, во избежание заразы, капитан распорядился со всеми предосторожностями выбросить тело купца в море. Вдова Ульфа – Ингрид Валлин, и при жизни мужа не отличавшаяся общительностью, в горе своем практически перестала появляться в городе. Детей у них не было, беременность Ингрид несколько раз заканчивалась выкидышем, а единственный ребенок – мальчик Андреас – лишь на несколько дней пережил отца. Чума, как известно, не разбирается в возрасте жертв. Так как прямых родственников у них не осталось, то все наследство должно было достаться целой своре всяких племянников и племянниц, которые потирали руки, предвкушая радость того дня, когда тетя Ингрид покинет сию земную юдоль. Сразу после смерти Ульфа Валлина весь Стокгольм только об этом и говорил, но время шло, вдова Ингрид жила себе и жила, не показываясь в городе и только изредка общаясь с некоторыми близкими подругами да иногда появляясь на проповеди в кирхе. Постепенно о ней почти забыли, и только изредка, если только случайно разговор заходил на эту тему, жители столицы охали и говорили: «Боже мой! Неужели она еще жива? Вот ведь кому-то повезет в свое время!» Потом поползли странные слухи. Сначала о том, что ночами на верхнем этаже дома Валлинов горит свет и порой мелькают какие-то зловещие тени. Затем заговорили о том, что в пруду у дома конюх видел черного лебедя, которому хозяйка бросала хлеб. Некоторое время спустя молодой жеребец едва не разбил тому же конюху голову копытом, и начали поговаривать, что тут не без нечистой силы. Затем некая женщина, которая встретила возвращающуюся с проповеди фру Ингрид Валлин, заявила, что заболела сразу же после того, как последняя на нее посмотрела. Любопытные дети, которые иногда наблюдали за жизнью таинственного двора, приставив для удобства какую-либо колоду к стене, окружавшей дом, рассказывали странные вещи. Что тетя Ингрид своими руками сажает цветы, которые зацветают на следующий день, и что ее любимая большая черная собака умеет ходить на задних лапах, совсем как человек, и разговаривает со своей хозяйкой. Фру Ингрид Валлин начали обходить стороной все, кто встречал ее в те редкие дни, когда она шла в кирху или из нее. Так долго не могло продолжаться, и вот однажды, в один из ноябрьских дней 1644 года, к епископу Стокгольма Людвигу Ханссону, который только что закончил свою проповедь, подошел маленький, тщедушный, скверно одетый человек, от которого пахло потом и селедкой. Он назвался Арвидом Йенссоном, рыбаком, и попросил выслушать его. Ханссон, руководствуясь обязанностью всякого христианина, тем более пастыря, не мог ему ответить отказом. Рыбак Йенссон рассказал, что живет на улице Медников, совсем недалеко от дома вдовы Валлин, и считает долгом донести до сведения властей, что вдова Валлин, на самом деле, ведьма и у него есть на то доказательства. Через полчаса, уже в качестве свидетеля, Арвид Йенссон давал показания в маленькой келье в церкви Святого Николая. Присутствовали тот же епископ, его помощник по особым поручениям Михаэль и скромный молчаливый писец, который записывал все услышанное на бумагу. Рыбак говорил долго, так что допрос затянулся до полуночи. Утром следующего дня в присутствии начальника городской стражи и королевского чиновника был допрошен пастор церкви св. Райнольда, которую и посещала фру Валлин. Пастор ничего определенного сказать не мог, лишь только отметил замкнутость и скромность подозреваемой. Тогда начали втайне допрашивать всех тех, кого упоминал в своих показаниях рыбак Йенссон. Дело начало разрастаться как снежный ком. Число свидетелей того или иного рода перевалило за сотню, а по Стокгольму прошла волна слухов. Все это, в конце концов, закончилось тем, что собравшаяся у дома Валлинов толпа народа, угрожала разгромить его и сжечь вместе с хозяйкой и всеми остальными ее обитателями. Дело принимало плохой оборот, так что городской страже пришлось разгонять толпу. Вдова Ингрид Валлин была арестована и доставлена в Грипсгольм – замковую тюрьму на озере Меларен. Слух о страшной ведьме дошел до самой королевы Кристины, которая имела об этом разговор с епископом. После встречи с королевой епископ Ханссон сразу же отправился в Стокгольмский суд, чтобы поговорить с судьей Линдгремом. И вот теперь судья смотрел из окна кареты на видневшийся за каменной оградой опустевший дом, ворота которого охранялись двумя десятками городских стражников. Около сотни зевак топтались тут же, желая увидеть что-либо интересное. Судья вздохнул и начал выбираться из кареты. Сразу же к нему подскочил человек, одетый как пастор, но жесткий склад губ и быстрый холодный взгляд этого человека сразу же вызвал у Линдгрема сомнения в принадлежности его к духовному сословию.
– Господин Линдгрем? Вы прибыли вовремя. Все уже собрались и ждут вас. Да, я забыл представиться: мое имя Михаэль, и этого достаточно. Я здесь от лица епископа Ханссона и наделен всеми полномочиями от него же.
– Хорошо, – ответил судья, – что я должен делать?
– Сначала пройдемте. Я скажу вашему кучеру, чтобы он поставил карету во двор. Так будет удобнее.
Они прошли в ворота двора Валлинов, экипаж судьи проследовал за ними. В толпе некоторые узнали Линдгрема и приветствовали его, и он чуть поклонился на голоса. Стражники не пропускали народ к воротам, отпихивая самых назойливых и любопытных древками алебард и покрикивая: «Назад, всем назад! Кому говорю! Вот я тебе!» Ворота с лязгом захлопнулись за спиной Линдгрема и таинственного Михаэля. Перед домом Линдгрем увидел несколько карет и саней, около одной было выставлено оцепление из стражников. На льду замерзшего пруда несколько человек метлами сметали снег. Один долбил лед пешней. Со стороны конюшни слышалось ржание лошадей. Пахло навозом. Солнце лениво посвечивало сквозь морозную дымку. Линдгрем с любопытством смотрел по сторонам, следуя за Михаэлем. У входа в дом топтались, пытаясь побороть мороз, несколько человек. Линдгрем издали узнал среди них начальника городской стражи полковника Матиаса Стромберга, трех чиновников канцлера Оксеншерны с канцелярскими принадлежностями в руках. Еще одного присутствующего судья не знал; как позже оказалось, это был чиновник по расследованиям тяжелых преступлений. Еще шестеро, свидетели и дворецкий с конюхом дома Валлинов, стояли в сторонке, стараясь не попадаться на глаза знатным господам. Увидев приближающегося судью с Михаэлем, все оживились.
– Здравствуйте, господа! – произнес Линдгрем, первым снимая шляпу, чтобы поприветствовать их. – Судя по вашим красным носам, я заставил вас ждать. Прошу вас меня извинить. – Все раскланялись.
– Ну что же, начнем! – сразу перешел на деловитый лад Михаэль, который, видимо, заправлял здесь всем процессом. Он достал из кармана ключ от дверного замка и, сорвав с двери шнурок, которым та была опечатана двумя сургучными пломбами с королевскими львами, отпер ее.
– Господа, – сказал он. – Чтобы быстрее покончить с делом, я предлагаю разделиться. Вы, полковник, как человек военный, с одним чиновником проведете опись и досмотр конюшни. Он будет составлять список, а вы поправите его в случае ошибки. Мы же проведем обыск в доме. В конце дела свидетели и господин Линдгрем подтвердят результаты обыска и описанное имущество. Приступаем.
В доме было холодно, так как он не отапливался уже несколько дней со времени ареста вдовы. Но Линдгрем не замечал холода. Прихрамывая, долго расхаживал он по всем трем этажам дома, заглядывал в комнаты, двери которых были нараспашку, и любовался великолепными картинами, вазами и скульптурами, привезенными, как видно, из Голландии и Франции. Искусно выполненные мастерами Руана шпалеры, шелковые обои, которыми были обиты стены некоторых помещений, копии античных статуй и библиотеку, число книг и манускриптов которой немногим уступало в великолепии библиотеки самого канцлера Оксеншерны. Порой они сталкивались – он и работники комиссии, переходившей из одной комнаты в другую. Тогда он на момент отвлекался и видел молчаливо стоящих у дверей комнаты, совершенно оглушенных всем этим богатством свидетелей (все людей низкого сословия), жадный блеск в их глазах и робкие перешептывания. Из комнаты тем временем доносился голос одного из чиновников, перечислявших предметы и их приблизительную цену, шелест бумаги, шаги и покашливание. Некоторое время Линдгрем наблюдал за ходом дела: двое чиновников занимались переписью, а Михаэль со следователем тем временем заглядывали в шкафы и сундуки, перелистывали книги, сдвигали с места статуи, заглядывая под их основание, прощупывали обои на стенах, пытаясь отыскать замаскированные ниши или тайники. Временами тот или другой складывал какую-нибудь находку в мешок, который носил за ними дворецкий. Дом был большой, дело двигалось довольно медленно. Вернулся из конюшни полковник Матиас с чиновником, и энергичный Михаэль тотчас же взял последнего в оборот для ускорения обыска. Полковник с Линдгремом отошли к окну.
– Ну что, Матиас? Вы что-нибудь нашли на конюшне? – обратился к нему судья. – И вообще, что ты об этом всем думаешь?
– Дорогой мой Аксель, на конюшне мы нашли только то, что можно найти на конюшне – лошадей. Правда, все они отличной породы, чувствуется примесь арабской крови. Короче, там целое состояние. А как человек военный, – сострил полковник, – думать я не имею права.
Он был веселым человеком, этот полковник Матиас, – Линдгрем не раз в том часто убеждался. Выглянув в окно, судья увидел усыпанные снегом деревья небольшого парка, стену и ворота, за которыми видна была ничуть не уменьшившаяся в размерах толпа зевак, ряд карет, пруд, на котором никого уже не было, несколько солдат, собравшихся в кружок и о чем-то друг с другом разговаривающих.
– Кто были эти люди на пруду и что они делали? – вернулся к разговору Линдгрем.
Полковник помрачнел.
– Нашли вмерзшие в лед лебединые перья. Они были черными. Там, на конюшне, на цепи сидит собака. Говорят, она любимица этой вдовы. Тоже черная, как дьявол. Никого к себе не подпускает. Но ведь это пока ничего не значит, не так ли, дорогой Линдгрем?
Судья взял полковника за локоть и повел того на второй этаж, чтобы показать тому библиотеку. Он знал, что Матиас любил чтение и считался весьма образованным человеком. К удивлению Линдгрема, в библиотеке комиссией был произведен подлинный разгром: книги сбросили с полок на пол, дверцы шкафов были распахнуты и зияли пустотой, осколки огромной вазы, стоявшей когда-то в углу у камина, хрустели под ногами.
– Мда! – произнес Линдгрем.
– Мда! – произнес полковник. – А знаешь, Аксель, я ведь видел эту самую Ингрид Валлин. Красивая женщина. Её должны были привезти сюда сегодня, но Ханссон все переиграл. Будет жаль, если её осудят на костер, но все идет к тому.
Вдруг оба вздрогнули от неожиданности. – Динь-дон. Динь-дон, – невидимые молоточки загремели по звонкой меди откуда-то сверху – Динь-дон. Оба повернули головы в сторону, откуда исходил этот звон. Это были часы. «Динь-дон» – раздался последний перезвон, и фигурки, что были расположены вокруг круглого бронзового корпуса, окруженного позолоченным венком, пришли в движение. Змей, покрытый позолоченной чешуей, высунул жало. Тонкая, гибкая фигурка Евы приподняла прислоненную к лиственному орнаменту руку, в которую был вделан темно-красный драгоценный камень, вероятно, гранат. С правой стороны коленопреклоненный Адам опустил вниз поднятую прежде голову, а два ангела, расположенные по обе стороны от фигуры творца, на самом верху часов, взмахнули серебряными крылышками. Оба они, и полковник Матиас, и Аксель Линдгрем, не шелохнувшись, стояли под часами, как будто ждали, что произойдет дальше. Но дольше была лишь тишина, разделяемая тиканьем на мелкие доли такого незаметного и такого бесконечного времени.
– Они чудесны, Матиас! Это шедевр! Я ничего подобного в жизни не видел! – прошептал Линдгрем.
– Согласен! – полковник откашлялся и посмотрел на судью. Действительно, чудесная вещь! Это итальянские часы. Точнее, венецианские. Когда я был там, я видел такие. Видимо, это работа одного и того же мастера. И знаешь еще что, Аксель. Поеду-ка я домой. Честно говоря, мне не нравится все это дело. Я ведь солдат, а не ищейка или какой-нибудь папистский инквизитор. До встречи, Линдгрем!
Полковник вышел из библиотеки, и постепенно затихающий звон шпор на его ботфортах вторил каждому шагу по гулкому коридору. Линдгрем стоял и любовался часами. Он задумался над словами полковника. Вся эта история не нравилась ему все больше и больше. И вдруг холодок пробежал по спине у судьи Линдгрема. Как-то раз давно в детстве он с братом удрал из дома в лес, что рос у берега озера Меларен. Там они наткнулись на полянку, где росла земляника. Ягоды уже были спелыми, и мальчики на коленях ползали по траве, раздвигая кусты земляники и срывая бордовые, ароматные ягоды. Линдгрем вспомнил тот незнакомый, но жуткий звук, как будто шипение пара от кипящего чайника, а затем черные лаковые кольца с легким, переливающимся на солнце ромбическим узором расплющенного солнцем тела змеи между кустиками земляники, ее страшные, совершенно бесстрастные круглые глаза с вертикальными кошачьими щелочками-зрачками. Именно это ощущение леденящего ужаса от взгляда змеи он вновь испытал и сейчас. Линдгрем резко обернулся. В проеме распахнутой двери стоял, скрестив на груди руки, Михаэль. Он переводил взгляд с Линдгрема на часы и обратно. Судья молчал и думал, что глаза у представителя епископа похожи своими зрачками на глаза той самой черной болотной гадюки из далекого детства.
– Ах, вот вы где, господин Линдгрем! – произнес Михаэль, – пойдемте, прошу вас, обыск закончен. Вам надо удостоверить списки и подписи свидетелей. – И, кивнув головой наверх, он произнес: «Да, они великолепные!»
Внизу, в одной из комнат, обрадованные окончанием тягостного для всех дела ожидали их все присутствующие. Царило оживление. Свидетели неуклюже подписывали непривычными к гусиному перу трясущимися руками ворох бумаг с описью имущества. Никто не задавал никаких вопросов. Чиновники, тем временем, укладывали какие-то свертки, вероятно с уликами, в большой сундук. Затем его заперли и опечатали сургучом. Михаэль достал из кармана мешочек с деньгами и вручил каждому из свидетелей по несколько монет за труды. Затем он обратился к ним с небольшой речью:
– Добрые люди. Сейчас ступайте с Богом по домам и живите спокойно, потому что вы делаете хорошее дело и помогаете нашей государыне-королеве блюсти правосудие и законность. Ведьма будет наказана, и вашим близким больше ничто не угрожает. Сейчас же вы свободны. Если понадобится, то вас вызовут в суд, где вы подтвердите все, что видели.
Свидетели, угодливо кланяясь и воздавая хвалу Богу и королеве, вышли. Судья видел, как они гурьбой прошли по дорожке мимо пруда к воротам, которые им отворила при свете факелов стражники. Затем он начал подписывать листы с описью, лишь вскользь их просматривая, потому что понимал, что проверить их не представляется возможным, о чем он и заявил присутствующим.
– Вы правы господин Линдгрем, и пусть это Вас не беспокоит. Вы, собственно, удостоверяете своей подписью достоверность подписи свидетелей, не более того. Вся ответственность лежит на них. Но я думаю, что никаких недоразумений не последует. Добра ведьма скопила достаточно, и хватит его всем, с королевы начиная. Ха-ха!
Чиновники и следователь отозвались веселым смехом на шутку Михаэля, но Линдгрема подобный цинизм искренне покоробил. Он сердито глянул в их сторону и продолжил далее ставить подпись на последние листы описи. Остальные отошли в сторону и в полголоса повели разговор, который судья почти не слышал, и лишь отдельные фразы доносились до него:
– Я возьму себе что-нибудь из одежды… там есть одна картина… да-да, весьма неплохие – это хороший выбор… Ну, деньги ей больше не понадобятся, так что…
– Господа, хорошего вам вечера, и прощайте! – обратился ко всем присутствующим Линдгрем, покончив с подписью. Руки его озябли, и он дышал на них, чтобы согреть.
– Ну что же, до встречи, – подошедший Михаэль вдруг таинственно понизил голос. – Вам положено вознаграждение, господин Линдгрем. Если вам что-нибудь нужно или что-то понравилось здесь, то только скажите.
Линдгрем побагровел. До него дошло, что начался дележ конфискованного имущества. «Ну и мерзавцы!» – подумал он.
Будто уловив его мысли, Михаэль улыбнулся своими бледными змеиными губами.
– Мне кажется, я понимаю, что вы подумали. Смею вас заверить что, во-первых, такова обычная практика при процессах над ведьмами, и, во-вторых, это делается с санкции самого епископа. Так что ни о чем не волнуйтесь!
Чиновники со следователем молча наблюдали за ними. Линдгрем взял себя в руки.
– Я все понимаю, не беспокойтесь. Но, господа, меня ждут дома. Пора идти. Прощайте!
Дверь за ним закрылась. Все переглянулись. Следователь с гримасой удивления пожал плечами. Чудак!
– Это его дело, – отозвался Михаэль. – Господа, сейчас же забирайте вещи, которые вам нужны. Затем возвращайтесь сюда, потому что списки надо будет переписать заново. Подписи за этих олухов поставите сами. Линдгрему я передам их потом – он снова все подпишет. И еще. Там, в библиотеке, на стене есть часы. Вы, господин Ларссон, принесите их сюда, и я передам их Линдгрему. Мне показалось, что они ему очень пришлись по вкусу. Думаю, что этот дар смягчит его черствое судейское сердце!
Все рассмеялись.
Тем временем судья Линдгрем, закутавшись в шубу, дремал в уголке своей кареты. Он мечтал о том, чтобы, приехав домой, выпить доброго вина и позабыть все увиденное и услышанное сегодня.
«И еще, я откажусь от этого процесса… Пусть будет кто-то другой. Я не стану его вести. Так и скажу завтра епископу Ханссону!»
Глава 3
Линдгрем так и не смог заснуть в эту ночь. Бутылка вина не расслабила его натянутые нервы, а легкое посапывание Марты (супруги, с которой он прожил уже 11 лет и прижил четырех детей – мальчика и трех девочек) вызвало у него, наконец, приступ мигрени. Тихонько выскользнув из кровати, Линдгрем захватил одежду и на цыпочках ушел в соседнюю комнату, где вызвал слугу. Тот пришел совершенно сонный, с красными глазами, и, вероятно, поносил про себя хозяина всеми нелестными для того эпитетами. Судья велел тому, не мешкая, будить кучера и запрягать лошадей. Спустя полчаса на заснеженной улице Черных монахов уже раздавался скрип полозьев его экипажа, который направлялся в сторону Королевского суда Стокгольма. Было что-то около начала пятого утра. Улицы были совершенно пустынны – сильный мороз загнал обитателей столицы в свои теплые уголки, где они досматривали самые сладкие предутренние сны. Стражников, которые несли караул у здания суда, он застал врасплох, и они долго переругивались и искали своего лейтенанта, который, в свою очередь, долго разыскивал ключи от здания, так как был изрядно пьян еще с самого вечера. Наконец, двери суда распахнулись, и промерзший до костей судья с факелом, выпрошенным у караульных, пронесся по коридорам к своей судейской комнате, забыв о проклятой пуле в ноге. Первое, что он увидел на своем столе, едва лишь вошел в комнату, была толстая папка с какими-то бумагами и запиской, которая лежала на ней сверху. Линдгрем зажег все свечи, которые только отыскал. Затем он вернул факел страже и возвратился в комнату. Было весьма прохладно, но он знал, что вот-вот должны прийти истопники, которые протопят печи в здании, и станет тепло. «Ну, что же, потерпим», – решил он и подсел к столу. Еще не взяв в руки записку, он определил по почерку, что ее написал епископ Стокгольма Ханссон. Судья откинулся в своем кресле, и, скрестив руки на груди, погрузился в воспоминания. В далеком 1630 году, когда король Густав Адольф высадился в Германии, чтобы принять участие в войне на стороне протестантов, вместе с его войском с транспортного корабля на берег сошел и Ханссон. Он не был тогда еще никаким епископом, а был скромным пастором тридцати четырех лет от роду и принял участие в этом походе добровольцем. Чтобы общаться с немцами, он за полгода выучил язык, чем несказанно удивил своих товарищей. Он был фанатиком. Он всегда по этому поводу цитировал слова Христа о вере, которая движет горами, и следовал им. Казалось, он не боялся смерти, и та, чудесным образом, его обходила. В бою он становился перед строем с одним барабанщиком и шел впереди всего отряда под барабанный бой на врага в своем пасторском черном облачении с белым воротничком, осеняя ряды своих единоверцев крестом. Было дело, что он остановил бегущих под натиском имперцев, ошалевших от ужаса шведов, и повел их в атаку. В Баварии, во время сражения, увидев его, идущего далеко впереди своего отряда под барабанный бой, имперские ландскнехты дали по нему залп из мушкетов всей первой линией. Это походило на чудо, но ни одна пуля не попала ни в него, ни в барабанщика. Так они и продолжали свой божественный марш на ландскнехтов. Тогда те опустились на колени и сдались. Очень многие из них приняли в тот день лютеранство. Это было чудо. Когда слухи о нем дошли до Кристины, бывшей тогда еще регентшей
[15], она вызвала его в Стокгольм. Затем состоялась его аудиенция, длившаяся два часа, после которой из королевского дворца Людвиг Ханссон вышел уже епископом Стокгольма, то есть вторым лицом в иерархии лиц духовного звания после королевы, которая являлась главой шведской церкви. К всеобщему удивлению, с ним не случилось то, что обычно происходит со многими другими, когда фортуна возносит их из низов наверх. Он так и продолжал вести свой обычный, весьма скромный образ жизни. Всегда и везде он передвигался пешком, в обычном черном пасторском облачении, раскланиваясь со встречными людьми, которые, несомненно, питали к нему искреннюю любовь. К нему часто обращались с просьбами, что добродушно вышучивалось обитателями Стокгольма. Так говорили, что такой-то обратился к самому господу Богу через Ханссона. Ни жены, ни детей у него не было, и единственным и искренним другом была собака дворовой породы, которую епископ подобрал во время одной из проповедей где-то в грязном, узком городском переулке, где щенку была уготована голодная смерть. Щенка он назвал Феликсом, то есть «счастливым», кто знает это латинское слово. После этого по городу пошла гулять шутка, что дворнягу судьба вознесла точно так же, как и его хозяина. Еще шутили, что Феликс является третьей мордой в государстве, имея в виду двух первых: королеву Кристину и самого Ханссона. Епископ знал обо всех этих разговорах, но никого за них не преследовал и лишь иронически кривил свои тонкие бледные губы. Вот под чьим руководством должен был вести процесс судья Линдгрем. Он взял записку и начал читать.
«Судье Стокгольмского Королевского суда Линдгрему Акселю 19.12 1644 года от Рождества Христова.
Господин Линдгрем. В этой папке обещанные мною материалы по делу колдуньи Ингрид Валлин. Протоколы пыток и допроса ее самой я принесу лично. Кроме того, скоро доставят улики, найденные при обыске. Дождитесь меня и никуда не уезжайте. Я буду в суде в 10 часов утра.
Уважающий вас, Людвиг Ханссон».
Судья вытащил из папки первый листок. Где-то за дверью в коридоре раздались голоса, топот шагов, переругивание и кашель. Это пришли истопники, которые должны были протопить все печи в здании суда, и Линдгрем мечтательно представил, как скоро исчезнет легкий парок от дыхания в воздухе и блаженное тепло окутает его тело. В последнее время он стал зябнуть. Но, погрузившись в чтение материалов, про холод он позабыл.
«… я слышал, что про нее говорили, мол, она ведьма. Мой товарищ мне как-то возьми и укажи – вот де она. Ну, мне и любопытно стало. По весне это было. Она идет по Гусиной улице, я позади, шагов от нее пятьдесят. Она как дошла до перекрестка со старой улицы, там, где Кирха святого Николая, и давай оглядываться направо да налево. А потом обернулась и на меня как глянет! Я испугался, конечно. Отвернулся, как ни при чем, а потом, как снова на перекресток-то глянул, а ее и нет нигде! Я туда подбежал, смотрю: не видать ее! Я в кирху – и там её нет! Вечером приятелю о том толкую, а он мне и говорит. Это, говорит, ведьмы с перекрестков на Блокулу
[16] летают. Так что её уже бесы на шабаш несли, и ты ее зря по улице высматривал… Со слов Марта Тутссена записал и проверил писец Юхан Корб.
Так, следующий лист: Служанка ведьмина, Биргитта на рынке мне рассказывала, что у хозяйки, у ведьмы то есть, живут черная собака и черный лебедь. И они втроем по ночам гуляют по парку, что у ней возле дома. И собака днем по дворам шныряет, а лебедь сверху все высматривает. Оттого ведьма про всех все знает. Они ей все и рассказывают…
– Ясно, смотрим дальше.
…Мой маленький Ларс с мальчиками то соседскими залезли на стену. Глядь, а ведьма-то своими руками какие-то травы садит. А на следующий день они уже цвели! Так без нечистой силы не бывает…
– Дальше.
…Я эту собаку хозяйкину не терплю, а как мимо иду, так всегда крещусь. А как крещусь, так она рычать и беситься начинает. Однажды проходил мимо клетки-то и плюнул в нее. А через час мне жеребец на конюшне копытом голову расколотил. Сколько служил, ну не было никогда такого! Не иначе дьявол в ней. Это все пес ейный! Ну и хозяйка тоже…
– Ага, ясно, это показания конюха Ингрид Валлин. Как его там? Надо запомнить: Гуннар Нильссон.
Дальше.
…Я с ней когда-то дружила, когда муж ее был жив. Помню, пришли мы к ним на Рождество, а они личины страшные, черные на себя-то надели! Я чуть рассудка не лишилась! Потом муженек-то ее рассказал, что де маски те у португальских купцов были куплены, которые в Африку к язычникам ездят. А язычники те дьявола тешат, личины эти из дерева вырезают, да свои нечистые праздники в них справляют и пляшут в них. Вот я и думаю, что муж у ней тоже приколдовывал. Недаром умер смертью темной, неведомой…
За чтением судья не заметил, как в окнах забрезжил рассвет, а зажженные свечи побледнели, как потеплело в комнате и как здание суда на всех этажах наполнилось голосами и ожило. Очнулся он только тогда, когда дверь, скрипнув, приоткрылась, и в нее просунулась лысая круглая голова секретаря Юнассона.
– О, господин Линдгрем, вы уже здесь! Вас хотят видеть епископ Ханссон и полковник Матиас Стромберг.
– Доброе утро, Юнассон! – сегодня судья был необычайно вежлив со своим обычно третируемым секретарем. – Будь добр, пригласи их сюда ко мне. И принеси еще свечей и один стул.
Полковник с епископом вошли в комнату. Линдгрем встал и за руку поздоровался с обоими. Юнассон, тем временем, принес дополнительный стул и зажег принесенные свечи. Затем он тихо вышел, осторожно затворив за собой дверь. Все трое сели на свои места.
– Итак, дорогой Линдгрем, – первым нарушил молчание епископ, – вы просмотрели показания свидетелей? Что скажете?
– Господин Ханссон, я считаю своим долгом, как судьи и христианина, отказаться от ведения этого дела. Судите сами: я разложил на столе по двум стопкам все показания. В первой, тонкой, свидетельства тех, кто наблюдал воочию нечистую силу, колдовство и прочее. В толстой – показания людей, узнавших все понаслышке. Эту вторую стопку можно сразу отбросить.
– Линдгрем, еще во времена наших отцов было так, что три зафиксированных слуха равнялись одному свидетельству.
– Эти времена прошли, господин епископ. Далее. Показания непосредственных очевидцев совершенно ничего не доказывают. Какая связь между пресловутой колдуньей и тем, что дубина конюх был изувечен в пьяном виде жеребцом на конюшне? Лошади и пчелы не любят запаха винного перегара – это всем известно. Цветы, распускающиеся в одну ночь! Дьявольские маски! Это плод воображения темных людей!
Епископ чуть скривил губы, изобразив улыбку. Полковник, откинувшись на спинку стула и скрестив руки на груди, слушал их перепалку с серьезным лицом. Затем он, не говоря ни слова, взял лист из тонкой стопки и погрузился в чтение. Ни судья, ни епископ, похоже, этого даже не заметили.
– Видите ли, судья Линдгрем, всякое преступление редко бывает доказано надежнейшими уликами. Тем более, когда нечистая сила умеет таиться и прикрывается добродетелью. Тогда ценно каждое, даже постороннее наблюдение, каждый вывод со стороны. Так и складывается общая картина преступления, как мозаика. Еще надо иметь в виду, что мы имеем дело с дьяволом. И мы не вправе этим пренебрегать! Тем более, у нас есть это. – И епископ извлек из кармана два свитка с печатями и положил их на стол: – Извольте!
Линдгрем вскользь просмотрел оба свитка. Это были акты испытаний ведьмы водой и иглами.
– Мы отказались от пыток этой женщины другими методами. Тогда и результат был бы, несомненно, больше, – произнес Ханссон. – Я не говорю о милосердии. О милосердии к нечистой силе не может идти и речи. Но и этих двух испытаний достаточно для костра.
– Мне помнится, вы, господин епископ, сами выразили некоторое сомнение насчет испытания водой. Я к вам присоединяюсь. Боюсь, что даже если испытать нас троих, то не все пройдут это испытание.
Все трое рассмеялись.
– Вы, полковник, можете быть спокойным. По комплекции вы человек плотный, и на дно пойдете, как говорится, топором, – продолжал судья. – Мы же с епископом, как более тощие, будем причислены по результатам испытания к колдунам.
– Господин Линдгрем, я нахожу тут мало смешного! – возразил, наконец, Ханссон. – Но я уверен, что, в отличие от вдовы Валлин, испытание иглой мы пройдем. Впрочем, давайте попросим полковника быть судьей в нашем споре.
Выражение лица полковника стало серьезным.
– Я – человек военный и далекий от судебного дела. Но то, что я вижу, и те документы, которые читал, не кажутся мне серьезными доказательствами, а больше собранием рыночных сплетен и слухов. Единственный серьезный пункт – это то самое место под грудью этой женщины, которое не чувствует укола иглы и которое господин епископ именует ведьминым знаком. Я не понимаю, что под этим подразумевается, и пусть господин епископ нам это разъяснит более подробно в интересах дела.
– Хорошо! – ответил ему епископ. – Так вот: ведьмин знак сведущие в этом деле Инсисторис и Шпренгер, которые написали известную книгу, именуемую «Молот ведьм»
[17] и которая является исчерпывающим руководством по борьбе с нечистью, именуют встречаемый у каждой ведьмы похожий на родимое пятно или на бородавку участок кожи. Доказано на множестве случаев, что ведьмы не чувствуют боли, если их уколоть там иглой или прижечь раскаленным железом. Есть похожие на ведьмин знак иные признаки, но нам достаточно и этого.
– Опять же не смею судить об этом. Но вот что могу привести из собственного опыта, – полковник Матиас Стромберг с иронической улыбкой на лице продолжил свою речь. – Мне довелось несколько лет назад побывать с нашим посольством в Италии. В Венеции, в частности. Венеция славится своими врачами, да и не только. Но я это вот к чему. Мне довелось видеть, как один известный лекарь определил у некоего лица болезнь именно тем способом, господин Ханссон, о котором говорили вы: покалыванием иглы по всем членам организма. Действительно, при одной известной болезни человек не чувствует боль в местах пораженных этой хворью, а именно, при проказе.
Полковник замолчал, и все трое переглянулись.
– В таком случае, если медики подтвердят болезнь Ингрид Валлин перед судом, то она должна быть освобождена! – заключил Линдгрем с торжеством в голосе. – И, кроме того, стыдно нам, честным христианам, которые освободились от папистских заблуждений и суеверий, ссылаться на книгу, написанную папистскими же изуверами.
Бледное лицо епископа побледнело еще больше.
– Линдгрем, вы заходите слишком далеко! – Епископ в раздражении привстал и, опершись обеими руками на стол, зашептал в яростном припадке: – Вы еще дойдете до того, что католики болеют другими болезнями в отличие от нас! Смею вас разочаровать: мы все болеем одними болезнями и все смертны. И мирским, и дьявольским соблазнам подвержены также все, невзирая на национальность, пол или веру. Да, мы куда более свободны от суеверий и с гордостью можем утверждать, что наша вера более близка к учению Христову. Но от тяжести и последствий греха нас это не освобождает, Линдгрем, а даже, более того, ко многому обязывает! Каждого из нас на своем месте: от королевы до последнего шведского нищего. Не говорю уже о судье, который должен вершить правосудие. Если вы не делаете этого или уклоняетесь от него, то знайте: вы предаете нашу веру, а значит, и самого Христа!
Епископ с горящими глазами, отдуваясь, упал в свое кресло, не сводя глаз с Линдгрема. Тот побледнел.
– Но, господин епископ, что, если она, действительно, больна?
– Вы хотели повторить только что сказанное полковником, Линдгрем, и сказать, что она невиновна? – Ханссон загадочно улыбнулся и перевел взгляд на полковника: – И ты, Брут?
[18]
– Клянусь честью офицера, в этом я на стороне судьи. Если она больна, то почему ее не отпустить? Или я чего-то не понимаю?
– Вот именно! Тогда эту несчастную тем более надо уничтожить как бешеную собаку, и чем раньше, тем лучше! – воскликнул епископ. – Вы оба не понимаете, что проказа – это наказание божье за грехи? Вы не понимаете, что она несет смерть вокруг себя? И, кстати, то, что она больна, быть может, вовсе не отменяет то, что она ведьма. Наказания божия без вины не бывает, господа скептики! Я удивляюсь вам все больше! Теперь представьте себе, что будет, если эта Валлин будет отпущена. Когда жители Стокгольма, которые только и толкуют о ней как о колдунье и уверены в том, что так оно и есть, узнают, что судья – самый честный судья, как это опять же считают жители нашего города, отпустил ее? Они или посчитают этого честного судью сумасшедшим или решат, что его, все-таки, подкупили. Вы же помните, Линдгрем, что она богата? Не так ли? Или еще они могут решить, что судья также подпал под действие колдовских чар, что не исключено. И тогда берегитесь, Линдгрем! Вас будут обвинять в пособничестве дьяволу! И тогда никакие ваши заслуги не помогут вам оправдаться!
– Но, господин епископ, я не хочу вести… – пытался сопротивляться судья, отводя взгляд в сторону, чтобы не видеть горящих глаз епископа. Полковник, мрачно потупив голову, молчал. Ему нечего было больше возразить.
– Это будете вы, Линдгрем, и это говорю вам не я! Это приказ нашей
христианнейшей королевы Кристины! Она, эта Валлин, виновна в любом случае и должна быть сожжена для общего блага… В таком случае уже все равно, колдунья она или нет. Если ее отпустить, то это чревато бунтом, погромами и недовольством властью, а в это трудное для всех время подобное равно государственной измене! Так что, судья Линдгрем, оправдательный приговор – это измена. Уж вам выбирать. Надеюсь, вы примете правильное решение. Ваша же честность будет гарантией справедливости приговора. Пойдемте, господин полковник!
Они оба – полковник и епископ – встали из-за стола, и, не попрощавшись, вышли из судейской комнаты. Судья в изнеможении тупо смотрел на обе стопки бумаги и не мог прийти в себя. Вдруг в комнату ловким кошачьим движением снова вспорхнул епископ Ханссон. Он закрыл дверь, привалился к ней спиной и зашептал, как будто боялся, что кто-нибудь их сможет подслушать.
– Ergo, дорогой Линдгрем. Слушайте внимательно. Валлин должна быть осуждена как ведьма – это пункт первый. Имущество ее, движимое и недвижимое, должно быть отписано в королевскую казну, тем более, что прямых наследников у нее нет, а этим олухам, племянникам, мы что-нибудь выделим от имени королевы. Это второе. Пункт третий – вы будете вознаграждены надлежайшим образом, не сомневайтесь в этом. Мое к вам уважение, и королевская милость есть тому порука. Помните, что вы окажете большую услугу нашей Швеции, делу Реформации и лично Королеве. И последнее: не тяните! Процесс должен быть завершен к Рождеству Господа нашего Иисуса Христа! А теперь прощайте. И счастливого вам Рождества!
Он открыл дверь и ступил, было, за ее порог, как вдруг снова обернулся и добавил:
– За порядком будет наблюдать лично полковник Стромберг. В нем я уверен. Будет дополнительно усилена охрана. Вам нечего будет бояться.
– Ради Бога, господин Ханссон, одну минуту! – вскричал судья, вскочив с места и протянув руки к епископу.
– Ну, что такое? Что вы хотите еще? – епископ настороженно вглядывался в лицо Линдгрема, пытаясь понять, что тому нужно.
– Господин Ханссон, вы порядочный человек и первый христианин в королевстве. Я думаю, что не преувеличиваю и не льщу, поверьте мне! Поэтому я должен вам сказать: во время обыска у этой Валлин чиновники присваивали себе конфискованное имущество. Не ошибусь, это сделано было с ведома вашего представителя…
– Довольно! – епископ поднял руку в предостерегающем жесте. – Михаэль говорил вам тогда, что это есть обычная практика в таких делах? Добродетель должна вознаграждаться. Человек слаб и склонен к греху. Лучше было бы, если б они присваивали добро тайком? Так вот, пусть это происходит с нашего ведома, в рамках закона.
– Но ведь это имущество было внесено в списки, которые я лично подписывал! – вскричал в возмущении судья.
– Не волнуйтесь, списки уже переписали, и на них стоят все подписи, кроме ваших. Вы их подпишете заново.
– Ах, господин епископ! – схватился за голову судья. – Ведь все это так н-н-н, – от возмущения он даже стал заикаться и побагровел. Епископ посмотрел на него потухшим взглядом и открыл дверь. – Кстати, мне говорили, что на войну вы, господин Линдгрем, уезжали нищим, а вернувшись, купили дом и обставили ее добротной немецкой мебелью. Чем же вы тогда лучше прочих?
– Вы не имеете никакого права обвинять меня! – голос судьи задрожал от возмущения. – Это была война, и это были враги веры, наши враги! Моя совесть чиста!
Епископ грустно улыбнулся.
– Вы так уверены в этом? Впрочем, я не буду с вами спорить. Спросите у своего сердца, и оно откроет вам истину. И последнее: здесь мы тоже ведем войну, и войну не менее справедливую, и тяжелую. И эти люди, которых вы с таким жаром осуждаете, делают доброе, угодное Богу и стране дело. Их заслуги должны вознаграждаться.
Ханссон замолк. Глаза его были печальны. Судья почувствовал, что тот, похоже, сам не был слишком уверен в том, что говорил. Епископ вздохнул.
– Я понимаю тебя, Аксель, – сказал он, – но не переживайте так! Я возьму на себя этот грех. И… в конце концов, я ничего не могу сделать. Я лишь слуга королевы.
Он вышел.
Дверь за епископом закрылась. Линдгрем посмотрел в окно. Он увидел заснеженную улицу, по которой катились к рынку груженные товарами сани, толпу мальчишек, двух всадников в тяжелых доспехах – видно, это был кто-либо из охраны королевы. Светило неяркое декабрьское солнце 1644 года месяца декабря. Вдова Валлин Ингрид должна умереть через два дня. Отказ от дела невозможен. Судить будет он – Аксель Линдгрем.
Глава 4
Я, судья Линдгрем Аксель, вкупе с советниками Даниэлем Сандбергом и Оке Хольмом, изучили дело вдовствующей Ингрид Валлин, обвиняемой в колдовстве. Мы выслушали свидетелей, рассмотрели все улики, как прямые, так и косвенные, и сами ужаснулись тому, как велик грех обвиняемой Валлин, продавшей душу дьяволу и которая совратила многих и пытается даже под тяжестью неопровержимых доказательств, научаемая дьяволом, сеять семена сомнения среди честных людей. Со слезами жалости мы приговариваем ее к сожжению на костре и призываем ее чистосердечно покаяться перед служителем церкви Христовой, дабы душа ее была очищена от скверны греха, и, чтобы представ перед всевышним, смогла бы она просить прощения с чистым сердцем.
Мы постановляем, что казнь состоится завтра, в полдень на большой площади, дабы каждый мог узреть торжество истинной веры и поругание дьявола, а также в научение всем, кто занимается колдовством, ворожбой или иным непотребным занятием, чтобы напомнить им, что ждет их после суда божия.
Далее мы объявляем, что все ее имущество, как движимое, так и недвижимое, переходит под управление государственной казны.
Также мы постановляем, что свидетели, которые усердно помогали разоблачить все преступления ведьмы, должны быть поощрены из конфискованного имущества Валлин Ингрид.
Приговор оглашен и да здравствует правосудие, и милосердие королевы Кристины!
* * *
Никогда не пил Аксель Линдгрем так много, как это было в вечер того знаменательного дня суда, когда ведьме был вынесен смертный приговор. Из суда он вышел, озираясь по сторонам, когда уже было совсем темно. Ликующая толпа давно уже разбрелась по домам и тавернам, где обсуждала процесс и приговор. Колдунью под усиленным конвоем отвезли в тюрьму, где ей предстояло провести в страшном ожидании немногие оставшиеся ей часы жизни. Линдгрем велел кучеру отправляться домой без него, а сам, закутавшись поплотней в свою шубу и надвинув шапку на самые брови, чтобы не быть узнанным, побрел куда глаза глядят. Он долго бродил по улицам города, пока совсем не перестал понимать, где же он находится. Мороз был крепок. От холода и усталости судья стал терять силы. Наконец, окончательно заплутав в каком-то глухом переулке, обросшем гнилыми деревянными домами, он набрел на маленькую таверну с веселым названием «Золотой стол». Густой чад из табачного дыма, паров скверного вина, пива и соленой рыбы едва не свалили его с ног на пороге, но назад он не повернул. Свободное местечко в углу нашлось для него тоже. Он сел на скамейку, которая представляла из себя пару досок, приколоченных к паре чурбаков вместо ножек. Стол был той же солидной конструкции, и походил на заморского чудо-зверя гиппопотама, которого судья видел на гравюре в библиотеке вдовы Валлин. Он заказал себе только вина. Через минуту расторопный слуга уже принес ему откупоренную бутылку и огромную пивную кружку. Более подходящей посуды почтенное заведение, видимо, не держало. Линдгрем налил полную кружку и залпом ее осушил. Его долго корчило и содрогало, пока вино осваивалось с новым жилищем. Судья сидел терпеливо, прислушиваясь к своим ощущениям. От мерзостного кислого вкуса вина у него свело челюсти и потекла слюна. Хмель сразу ударил в голову. «То, что мне сейчас надо!» – подумал он. Через пять минут перед ним стояла уже вторая бутылка, еще через пятнадцать – третья. На прыткого пожилого человека в богатой шубе и шапке с любопытством стали посматривать соседи, что пили пиво и курили трубки с крепчайшим табаком. Но Линдгрему было все равно. Он уже не замечал взглядов окружающих. Он сильно опьянел и радовался своему отупению, тому, что, наконец, закончился этот тягостный процесс и что впереди долгая ночь. Завтра он станет совсем другим человеком: спокойным, уверенным в себе и своей правоте и радующимся тому делу, которое исполняет. И все же… Какое-то тягучее липкое ощущение беды все равно прокрадывалось ему в душу. Будто змея из далекого детского лета смотрела на него сквозь земляничные листья.
– Что-то не так, Аксель! – произнес он вслух и ударил кулаком по столу. Гомон в таверне на мгновение стих, и он, оглядевшись, увидел сквозь сизую пелену табачного дыма направленные на него недоброжелательные угрюмые взгляды. «А дыму-то, дыму. Как будто сражение какое», – говорило затуманенное сознание. Подскочил ловкий слуга, и Линдгрем, не глядя на него, пробормотал: «Еще одну!» – и начал развязывать неловкими пьяными пальцами кошель с деньгами. Голову клонило вниз, пальцы не слушались. Он еще успел протянуть слуге кошель и пробормотал: «Возьми сколько надо». В следующий миг его голова тяжело опустилась на стол, как на плаху. Шапка, которую он так и не снял, съехала с головы, но больше Линдгрем ничего не слышал, и лишь за мгновение до того, чтобы заснуть, память снова вернула его в зал суда.
«Эти два барана пойдут за любым козлом! – думал Линдгрем, переводя взгляд на своих советников, пристроившихся, как парочка воробушков, напротив. – Им все равно: сжечь или выпустить».
На краешке стола пристроился секретарь Юнассон с чернилами, перьями и печатями, чтобы записать текст приговора.
– Господа советники! – наконец начал судья и махнул рукой секретарю. – Не пиши! Так вот, господа советники… Я не уверен в ее вине, между нами говоря. Вздора и слов было много, да, это правда, а доказательств практически никаких. Хммм, почти никаких, – поправился он. Толстяк Оке Хольм, тяжко пыхтя, непонимающе смотрел на него маленькими поросячьими глазками. Вообще человек он был добродушный, но не в этот раз.
– Господин судья может решать, что он пожелает. Но мой вам совет, – запыхтел он торопливо, – надо приговорить ее к сожжению. Все формальности мы соблюли. Птица она все-таки подозрительная. Все настроены только на казнь. Чего же нам брыкаться?
«Птица, – подумал Линдгрем, следя за движениями мясистых губ советника. – Ты просто свинья, Оке!»
– Ясно, – перевел он взгляд на советника Сандберга.
– Даниэль, что скажешь?
Сандберга он знал как добросовестного юриста, пусть не слишком изощренного в своей науке, но склонного более полагаться на здравый смысл.
– Вы, господин Линдгрем, правы. – Сандберг говорил медленно, немного растягивая слова, как бы пробуя их на прочность. – Фактически улик никаких, а перья, маски, куклы и байки о собаках годятся только для черни. Нам, людям, облеченным властью судить, не следует потакать суевериям и предрассудкам. Но! – он остановился, и обвел взглядом всех троих. – Но помиловать ее мы не сможем, даже если и очень этого захотим.
– Что ты имеешь в виду, Даниэль?
– Я имею в виду, что нам не дадут этого сделать, Аксель. Если бы дело было в черни, то это одно. Сержанта с десятком солдат хватило бы на их разгон. – Сандберг перевел дыхание и, понизив голос, продолжил: – Но, как я понимаю, речь идет о заинтересованности высоких лиц, с которыми тягаться бесполезно. И даже вредно. И даже опасно. Мое слово: я буду согласен с любым исходом дела. Но в одном случае вся ответственность ляжет на вас, господин судья.
Он откинулся в кресле и, скрестив руки, мрачно зарылся чисто выбритым подбородком в воротник мантии.
«У меня нет союзников, – мелькнуло в голове у Линдгрема. – Так вот что чувствовал Пилат, когда осудил Христа на казнь! Разница лишь в том, что Иуд кругом куда больше. Да и ты сам, судья Линдгрем Аксель, не один ли из них?»
Так внезапен был голос, прозвучавший в этот момент от двери, которая со скрипом приоткрылась, что все вздрогнули и повернули головы на звук этого голоса.
– Господа, я знаю, что подслушивать нехорошо, но это вышло у меня невольно. – В комнату вошел епископ Ханссон. На его мантии еще не успели до конца растаять хлопья мокрого рыхлого снега. Все встали, приветствуя его.
– Садитесь. – Он, не спеша, подошел к столу и оперся на него руками, склонив голову и как-то сочувственно посматривая в сторону Линдгрема. Судья повернул голову к нему, и их взгляды встретились. Взгляд епископа был неподдельно печален и полон сочувствия. Они понимали друг друга, и на сердце судьи немного полегчало.
– Аксель, Аксель! Он пришел, и он в зале, – негромко произнес епископ. И уже подняв голову, всем остальным: – А вы, господа! Я вижу, что мнение ваше по этому делу едино? – Советники утвердительно закивали ему головой. Судья мрачно рассматривал древесный сучок на столешнице под слоем темного лака.
– Ну, что же, тем лучше. Я решил вам немного помочь, господа. Так как с такими делами вы еще не сталкивались, то я принес вам готовый текст приговора. Пусть секретарь его перепишет и скрепит печатью. Благослови вас Господь! Вы сделали доброе дело, и сделали его хорошо. Прощайте, и счастливого вам Рождества!
Епископ положил руку на плечо Линдгрема, и тот ощутил ее легкое пожатие. Более не говоря ни слова, Ханссон вышел, отдав свиток с приговором в нетерпении задергавшемуся Юнассену. Дверь за ним закрылась. Всем стало почему-то неловко.
«Вот мы выйдем сейчас торжественно, в мантиях, как олицетворение правосудия и законности, которые выше всего на свете и подчинены только божественной гармонии. Все будут думать, что мы были беспристрастны и следовали духу и букве закона. И что приговор наш был справедлив, пусть и строг. Хотя именно строгость и даже жестокость есть то, что толпа ждет от судей. И мы будем про себя бормотать себе слова утешения, которые бормочут себе все судьи уже со времен великого Рима: «Sed lex – dura lex»
[19]. Но что кроется под мантией и судейской шапочкой как не обычный человеческий страх, который лишь колеблется между страхом перед толпой и страхом перед власть имущими? Вот ты, Аксель Линдгрем, – судья. Можешь ли ты переступить свой страхи перед теми, и перед другими? Можешь, если вера в бога твоя истинна, и незыблема, иначе, ты лишь тростник, ветром колеблемый и более ничего. Если ты сможешь переступить через свой страх, тогда ты судья истинный, и, может быть, все грехи тебе простятся за это. Если же нет… тогда и господь Бог глядит в презрении на тебя глазами этого, как его, Михаэля. Нет! Быть того не может! Он в зале, так сказал епископ. Пусть позор… Она должна чувствовать боль! Мы еще повоюем».
– Мы еще повоюем, господа! – произнес Линдгрем, вставая с кресла. – Юнассон, вы уже закончили?
Оке и Даниэль с удивлением смотрели на него.
– Ступайте в зал заседаний и сообщите о нашем выходе.
А дальше – темнота.
– Аксель, что с тобой? Ты жив?
Из мрака небытия его вырвал голос. Он почувствовал, что его несут куда-то, почувствовал чью-то руку у себя на лице и голос, очень знакомый голос. Линдгрем не мог и не хотел отвечать, ему хотелось как можно скорей снова провалиться в свое такое ласковое небытие, и оно радостно подхватило его сознание в свою гостеприимную бездну. Последнее, что донеслось до него, были слова: «Бедняга! Несите его скорей в сани!»
Во второй раз он очнулся уже на собственной кровати, закутанный в несколько одеял и с грелкою из горшка с горячей водой в ногах. Его подташнивало, и сильно болела голова. Как будто все специально ждали его воскрешения, и едва он очнулся, как двери комнаты распахнулись и в комнату торопливо вошла его дражайшая супруга Марта, за которой гусиной стайкой потянулись детишки. Из-за дверей в комнату, вытягивая индюшачьи шеи, заглядывал дворецкий и слуги. «Как все отвратительно!» – подумал про себя Линдгрем и едва смог изобразить рукой жест, который должен был обозначать, что больной никого не желает видеть. Марта выпроводила детвору за дверь и, закрыв ее, вернулась к постели. Она села на стоящий у кровати стул и вопросительно глянула на мужа.
– Аксель! Мы вчера чуть не сошли с ума! Когда приехал Освальд и сказал, что ты придешь пешком, я ничего плохого не подумала. Но когда прошло несколько часов, а ты не пришел, то мне в голову стали приходить самые дурные мысли. Я побежала в суд, который был уже закрыт, и спросила охрану, куда ты ушел. Они были все пьяны и ничего не знали. Слава Богу, есть в этом мире достойные христиане: я тогда побежала к господину Стромбергу, и он поднял на ноги всю городскую стражу. Если бы тебя вовремя не отыскали, то, может быть, – Марта тут всхлипнула, – мы уже тебя отпевали бы!
– Ааа, так, значит, это был полковник Матиас! – вспомнил тогда судья тот голос, что показался ему тогда таким знакомым и который он не мог определить. «Сколько же времени я тут лежу? – подумал он и повернул голову к смутно синевшему окну, покрытому инеем. – Давно надо было повесить часы прямо над дверью. Не то никогда не знаешь, который час».
Марта, всхлипывая, причитала.
– А что было бы с детьми? Оскар совсем отбился от рук. Только и думает, как удрать на улицу к мальчишкам! С девочками еще хуже, и ты сам это знаешь. Аксель, шатайся, пожалуйста, по кабакам, когда всех троих выдашь замуж за достойных молодых людей! Что теперь скажут люди! «Это тот самый судья Линдгрем, которого стража выволокла из грязного заведения!» Фу! Я не думала, что ты способен на такое!
Марта заплакала. Линдгрем же, желая не раздувать скандала, лишь страдальчески перебирал под одеялом ногами и морщился.
– Марта, перестань! – наконец страдальчески произнес он. – И скажи лучше, который сейчас час?
– Наверное, около начала одиннадцатого! – сквозь всхлипывания прорвалось до его слуха.
Начало одиннадцатого! Все события дня вчерашнего вдруг отчетливо воскресли в его памяти. Значит, сейчас несчастную Ингрид Валлин везут, скованную по рукам и ногам, на Большую площадь, где плотники уже сколотили помост, в центре которого установлен столб. Валлин, босую и одетую лишь в одно грубое рубище из мешковины, как кающуюся грешницу, прикуют к этому столбу. Затем к ней подойдет пастор, который спросит, отреклась ли она от сатаны? Сатаны? Ну да, сатаны, в том случае, если это и на самом деле ведьма. А вдруг Ханссон и на самом деле прав? Ведь он лучше его разбирается в этих вещах, и его духовному оку открывается то, что недоступно другим. Как грустно-понимающе взглянул епископ ему в глаза! Он позволил вызвать в суд палача, который производил пытки над колдуньей. Ведь он мог и не делать этого. Он, епископ, понял, какие муки терзали душу судьи, и пожалел его! Да, он дал Линдгрему шанс.
– Не плачь, дорогая, – пробормотал он, натягивая одеяло на самую голову, чтобы не видеть этого постылого света. – И ступай! Я хочу побыть один.
* * *
– Ну, что же, господа, идем! – сказал Линдгрем, поднимаясь с кресла и расправляя складки на мантии. Юханссен сорвался с места, и, петляя как заяц, засеменил к двери, ведущей в зал заседаний. Оке и Даниэль нахлобучили свои шапочки и проследовали вслед за секретарем. День уже угасал, и пламя свечей едва-едва освещало лица людей, находившихся в зале. Четверо стражников вместе с сержантом охраняли выход из зала. Еще трое стояли в проходе. Вокруг ведьмы лейтенант, имени которого Линдгрем не знал, поставил также четверых. Кроме того, как было известно ему, в зале находилось еще с дюжину соглядатаев епископа, готовых пресечь любую нежелательную для суда выходку слишком рьяных нарушителей спокойствия. А там, за входной дверью, которую снаружи охраняли облаченные в доспехи мушкетеры, которых порой инспектировал сам полковник Матиас, волновалась огромная толпа, ожидавшая объявления приговора. Все было под контролем, и за это судья мог не беспокоиться. Едва Линдгрем вошел в зал, как шорох голосов стих. Все с жадным вниманием следили за судьей, и ждали, что вот-вот будет зачитан приговор. Однако судья вдруг завел странную речь. Валлин, с серым осунувшимся лицом и сбившимися седыми волосами, казалось, совсем не слушала его. «Как та, которую сожгли давным-давно под Гамбургом. Та тоже прислушивалась к тому, чего не слышали другие. Но к кому или чему? Голосу Бога, или к смеху дьявола? – мелькнуло в голове судьи.
– Сограждане мои. Вы были свидетелями суда над этой женщиной, которая обвиняется в колдовстве и иных, противных Богу и людям делах. Все мы слышали многих свидетелей и видели доказательства, которые подтверждают ее вину. Но если вы спросите меня, совсем убежден ли я – Линдгрем Аксель, как судья и христианин, что она достойна сурового наказания, то я, поколебавшись, сказал бы: нет! Все мы люди, и все допускаем ошибки. Могу или можем ли мы допустить неверное толкование той или иной улики или доказательства? Да, скажу я, и скажете вы – можем. Те самые дьявольские маски, которые применялись для бесовских игрищ, например. Не могли ли быть они просто масками? Мы ведь знаем, что, например, на маскарадах, кои являются вполне христианскими увеселениями, также употребляются всякие личины, среди них часто есть и страшные. Но кто станет обвинять ее владельца в колдовстве? В суде над ведьмами нет и не может быть адвокатов, это противно христианскому духу, но я, как судья, вынужден, истины ради, выступить в этом качестве. Я думаю, что сомнение в ее вине гложет также и вашу душу. Нам и мне, в первую очередь, нужны твердейшие доказательства, развевающие все сомнения и колебания ее вины. Итак, здесь ли Ларс Лундгрен, что помогал духовной комиссии при допросах Валлин?
– Здесь я! – раздался где-то в конце зала низкий раскатистый голос.
– Выйдите сюда, господин Лундгрен! – пригласил его судья. По проходу, толкая локтями недовольно оглядывающихся на него стражников, прошел низенький, но широченный в плечах мужчина с короткой курчавой бородой и мясистыми ушами. – Вот он я, господин судья! – заявил он, подойдя к судейскому столу. Лундгрен обернулся к залу и поклонился, сняв с головы вязаную шапочку. – Здравствуйте, люди добрые! – Затем он снова повернулся к судье. Ведьма подняла на него глаза и задрожала всем телом. Она закрыла лицо ладонями, но судья видел, как текли ее слезы. Лундгрен исподлобья смотрел на нее.
– В протоколах пыток сказано, господин Лундгрен, что именно вы проводили как испытание водой, так и испытание иглами. Верно ли это?
– Все правда, господин судья! – заклокотал по залу низкий голос, от звука которого судье стало не по себе. – Все правда. Мы связали ее по инструкции, как нам сказали: правую руку к левой ноге, и левую руку к правой. Затем мы бросили ее в воду. Я и дух перевести не успел, как она уже болталась на поверхности – ну, чистый поплавок! Видать, сам дьявол ее выталкивал!
Гул голосов пронесся по залу. Валлин громко разрыдалась, но сумела справилась со своей слабостью.
– Скажите тогда, – продолжил судья свой опрос. – Часто ли вы проводите такое испытание?
– Да в первый раз проводили! – снова загрохотал «шкаф». – Я человек темный, мне все равно, потонет она или нет. Это потом пастор Томсон мне сказал, что так определяют ведьм. Ведь их дьявол старается спасти и выталкивает из воды наверх. Так вот оно.
– Сволочь! Ведьма проклятая! – раздалось в зале. – Что на нее смотреть! В костер ее!
– Тихо! – оборвал крикунов судья. – Всех, кто не может держать за зубами язык, я прикажу вывести отсюда! Имейте уважение к суду! – он перевел дыхание, и уже в спокойном ключе продолжал.
– Хорошо, надеюсь, всем все ясно. Теперь, вы, Валлин. Как вы можете объяснить то, о чем нам поведал Ларс Лундгрен?
– Ах, господин судья! – Валлин стояла бледная. Черты ее лица обострились. Слезы на ее щеках еще не высохли и блестели при свете свечей. И она мягким кошачьим движением правой руки пыталась вытереть их. Цепь на запястье при этом мелодично звенела, и стражники косили на нее подозрительные, тревожные глаза. Судья видел, что они и, в самом деле, боялись ее. Может быть, они ждали, что дьявол придет на помощь к ней? Но дьявол не спешил.
– Я не знаю, что Вам сказать. Эти люди связали меня. Я думала, что меня утопят. Я кричала, и мне было очень страшно. Очень страшно, господин судья. Я хотела жить. Когда меня бросали в воду, я вдохнула воздуха побольше. Я молила бога о спасении. Потом я всплыла, но я умерла бы, если бы меня не вытащили из воды, потому что голова была в воде и я не могла дышать. Но меня достали. И я плакала от радости! Это все, господин судья. – Она умолкла, но вдруг, через мгновение, рухнула на колени. Цепи лязгнули о пол так, что стражники отпрянули от нее в стороны. И, стоя на четвереньках, она воздела в мольбе руки и закричала страшным душераздирающим голосом: – Вы, вы же видите, что я не виновата! Эти люди сами не понимают, что творят! Уу-у-у! Что я им сделала? Я честная христианка, и всегда была! Вам должно быть стыдно, что вы меня мучаете!
Судья побледнел как полотно. И, наверное, если бы не шум и суматоха в зале, то можно было бы услышать скрип его, увы, немногочисленных зубов. Стражники опомнились и, подхватив ведьму под руки, подняли ее на ноги. Она мотала головой, всхлипывая и скуля, как щенок. «Когда же это закончится! Боже, дай мне пройти до конца!», – молил про себя Бога судья. Несколько мгновений стоял он с закрытыми глазами. – Сейчас, сейчас, Аксель Линдгрем – судья. Сейчас решится все. Еще повоюем.
– Лундгрен, вы сможете при суде провести испытание обвиняемой иглой? – И запнулся: Ну, так как вы делали это тогда, в тюрьме?
Лундгрен посмотрел на него исподлобья тупым, идиотским взглядом. – Нуу-у, могу. А что? – пробурчал он.
– Стража, подведите Валлин вот сюда, ближе к судейскому столу! – приказал Линдгрем. Валлин не могла идти, и стража подтащила ее к указанному месту и повернула ее, по указанию судьи, лицом к залу. Линдгрен видел, как по ее телу пробегают судороги не то от страха, не то от холода железа.
– Обнажите тело колдуньи по пояс, Лундгрен. Теперь дело за вами.
Лундгрен преобразился. Глаза его оживленно заблестели. Он мягкой пружинистой походкой приблизился к женщине. Валлин в ужасе закрыла глаза и запричитала:
– Боже мой, Боже, помоги мне. Что они делают?
Ее никто не слушал. Все смотрели на палача. Если бы он сейчас впился ей зубами в шею, то раздались бы только крики одобрения. Зрители были на его стороне. О, он был мастер! Как под руками фокусника, уже через мгновение беззвучно распались швы рубища, которым было укрыто тело Валлин. Легким движением рук он сдернул обе половины с ее плеч, и она вскрикнула, как подраненный звереныш. Она попыталась, было, прикрыть свои всё еще упрямо упругие, красивые груди с коричневыми сосками, но напрасно. Стражники крепко впились руками в ее запястья. Ужасен был вид ее ладного, но покрытого ссадинами и синяками, почти коричневого тела, и Линдгрем почувствовал тошноту и едва сдержался, чтобы не броситься сейчас же из зала.
– И чего дальше? – загудел Лундгрен. – Колоть то нечем, господин судья!
– Господин палач! – раздался пищащий голос секретаря Юнассона со своего столика. – Может быть, перья пойдут? Они у меня заточенные!
– Пойдет! – пробурчал палач, даже не дождавшись разрешения судьи. – Тащи сюда!
Юнассен торопливо поднес Лундгрену пучок перьев. Тот опробовал остроту перьев на своем пальце, и, отобрав два из них, отдал оставшиеся секретарю. – Эти годятся! Юнассен, оглядываясь, отошел к своему месту. – Теперь скажите парням, чтоб развели ведьме руки, а я буду колоть, – обратился Лундгрен к судье.
– Делайте все, как он скажет! – дал указание Линдгрем стражникам. Ооо! Если бы кто-нибудь только знал его муки! Линдгрем знал, что сейчас решится все. Он, сам того не зная почему, уже заранее предчувствовал, что это самый важный час в его жизни. Даже самые героические, или порядочные дела, которые он совершил в своей жизни, теперь казались неизмеримо мелкими и ничего не значащими. Это был шанс, который он хотел использовать, несмотря на унижение жертвы, а значит, и свое унижение также, ибо он, именно он – судья Линдгрен – пошел на это ради спасения унижаемой жертвы. Но для этого надо было, чтобы она…
Палач почувствовал себя уже совершенно в своей стихии, велел стражникам повернуть Валлин спиной к залу, и теперь она, как распятая на кресте, поддерживаемая стражниками, беспомощно смотрела расширенными от ужаса глазами на судью.
«Потерпи, милая, прошу тебя! – билось в голове судьи. – Пусть тебе будет больно, пусть очень больно, повсюду больно, и только это тебя спасет! Ты не узнаешь пламени костра!» – И в этот самый миг рука палача воткнула перо в ее спину. Она страшно охнула, лицо ее искривилось в мучительной гримасе, и тело изогнулось в тщетной попытке избегнуть боли.
– Вот так мы ее испытывали, вот так! – бормотал низким своим голосом палач, тыкая окрашенный кровью кончик пера в спину колдуньи. – Вот так!
– Довольно! – вскричал судья. – Мы видим, что она все отлично чувствует! Как и всякий обычный человек! Остановитесь, Ларсен! Нам нужны доказательства ее связи с дьяволом! Докажите это нам всем!
Палач некоторое время тупо смотрел на него а затем перевел взгляд на окровавленное перо.
– Аааа, вон оно что! – пробурчал он. – Ребята, поворотите ее лицом к добрым людям. Сейчас я все покажу! Только, – обратился он к Линдгрему, – господин судья, она же хитрая тварь! Надобно ей завязать глаза, иначе она все время орать будет.
– Юнассон! – позвал судья. – Принесите что-нибудь…
Юнассон сорвался с места и исчез в судейской комнате.
Ведьме завязали глаза. Палач снова принялся за дело, и после каждого укола пера женщина вскрикивала и извивалась, как попавшая в сеть рыба.
– Вот так! Вот так! – приговаривал палач, коля свою жертву, и его глаза горели зверским, сладострастным огнем. Он уже вошел в некий экстаз и наносил удары наугад: в живот, в шею, в плечи. И невольная жалость к несчастной пришла ко всем тем, кто видел эту бессильно трепещущую жертву, у которой не осталось сил даже для плача. Вдруг Ларсен остановился. Ведьма, изогнув тело как в эпилептическом припадке, почти полностью висела на руках стражников в ожидании новой боли.
– Вы ведь хотели это, а я и забыл! – прохрипел палач. – Смотрите!
Линдгрем, бледный, в величайшем волнении подошел поближе, чтобы лучше видеть происходящее.
– Смотрите, люди добрые! – И Ларсен двумя пальцами ухватил сморщенный, исколотый сосок на правой груди Валлин. Она охнула от боли.
– Боже, помоги мне! – едва долетело до слуха судьи. Он, хотел было, остановить палача, но тот быстрым движением руки приподнял грудь кверху. Лицо судьи исказилось как от зубной боли. Он увидел под грудью коричневатое пятно, которое формой и размером напоминало клипу
[20]. Несчастная женщина тихо завывала от ужаса и боли, качая головой с завязанными глазами из стороны в сторону, как пьяная.
– Вот! – и Ларсен воткнул перо в самую середину пятна. Валлин никак не отреагировала на этот укол и продолжала далее качать головой из стороны в сторону. Казалось, что она лишилась рассудка.
– Вот! – и Ларсен снова всадил ей перо в то же самое место. – Смотрите, люди добрые!
Он поднял вверх пустую руку. Перо осталось торчать в середине пятна. Из-под него сочилась буроватая жидкость. Валлин не закричала, не забилась, не заплакала. Она безвольно висела на руках стражей.
– Она ничего не чувствует! Это дьявол! – донеслись до почти потерявшего сознание судьи слова Ларсена. Он едва успел повернуться и сделать один шаг назад, к столу, как тишина в зале лопнула.
– Дьявол!
– Это ведьма! Убей ее, Ларсен!
– Тварь на костер! Тварь на костер!
Свист, топот ног, крики, стук алебард стражи – все слилось в одно мгновение в нечеловеческий рев, как будто некое страшное чудовище ворвалось в зал. Оглушенный, раздавленный Линдгрем видел перед собой привставших из-за стола и белых как полотно, Оке и Даниэля, секретаря Юнассена с дрожащими губами. Все трое переводили взгляд с Линдгрема на зал с ревущей толпой и обратно, не отваживаясь что-либо предпринять. Линдгрем подошел к столу, шатаясь как пьяный, и одна лишь мысль жгла его в тот страшный момент: «Значит, он не солгал! Значит, он был прав. Значит, я проиграл! Мы проиграли! Все кончено!
С диким ревом и топотом слился выстрел, раздавшийся вдруг в зале, и судья медленно оглянулся на его звук. Как в тумане увидел он полковника Матиаса, неизвестно откуда материализовавшегося в проходе, с пистолетом в поднятой руке, из ствола которого еще струился дымок. Вокруг него несколько мушкетеров в кирасах лупили разбушевавшихся людей шпагами плашмя налево и направо. Шум в зале начал стихать, и судья, опомнившись, наконец, дал знак стражникам отвести Валлин вниз, на ее обычное место. Ларсен тоже был отпущен и мигом растворился в толпе. Линдгрем сел на свое место. Текст приговора лежал перед ним, но он не мог опомниться, и некоторое время бессмысленно смотрел на страшный лист бумаги, как оглушенный мясником перед закланием бык. Тишина поразила его. Он поднял голову и увидел полковника Матиаса Стромберга, который стоял в проходе и печально смотрел на него. Их взгляды встретились, и Линдгрем увидел, как полковник ему незаметно кивнул и закрыл глаза. Тогда судья тяжело встал и дрожащими пальцами развернул свиток с приговором. Первые слова он произнес шепотом, никто, кроме советников, их не услышал. Через мгновение он, наконец, справился с собой и голос его окреп, но сам Линдгрем совершенно не помнил, как он прочел текст до конца. Затем, когда текст уже закончился, судья тупо уперся взглядом на чистое поле внизу листа и все еще не мог понять, что все свершилось.

– Ты же знаешь, что я невиновна! Вы же видите, что я невиновна! Люди! Что я сделала вам!
Линдгрем поразился этому, неожиданно чистому, звонкому голосу, исходившему из груди этой изможденной, замученной и обреченной женщины.
– Вы не христиане! Вы убийцы! Пусть будет вам всем стыдно! – продолжала кричать Ингрид Валлин, обводя безумным взглядом толпу вокруг себя. Стражники, бледные и растерянные, смотрели вопросительно друг на друга.
– А ты! – обернулась она к Линдгрему. – Ты судья неправедный, будь ты проклят! Будь ты проклят больше их всех!
Страшно рассмеявшись почти безумным смехом, она подняла руку, указывая на помертвевшего, парализованного ужасом судью. Цепь, как змея, вцепившаяся в запястье, раскачивалась, негромко позванивая, и Линдгрем завороженно смотрел на ее скрюченный коричневый палец, направленный на него, как ствол пистолета.
– Ты знаешь правду и все равно убиваешь меня! Так будь же ты проклят! – Валлин хохотнула каким-то жутким смешком, от которого у всех по коже прошли мурашки, и почти безразлично закончила, опустив голову: – Раз твои руки в моей невинной крови, так пусть же они принесут смерть и тебе самому!
Металлическая змея лязгнула в последний раз, и зал снова разразился криками и проклятиями. Двери распахнулись, и стража начала выгонять присутствующих из зала на улицу. Ведьме заткнули рот тряпкой и ударили несколько раз. Затем ее увели через другой, потайной выход к ожидающей ее повозке. Линдгрем слышал, как что-то говорил ему Оке Хольм, тараща на него круглые голубые глаза, но судья ничего не понимал, и лишь мычал, мотая головой, как делала это совсем недавно колдунья Валлин. Затем оба советника удалились. Ушел секретарь. Линдгрем сидел, закрыв глаза, и опомнился лишь тогда, когда обнаружил, что остался совсем один в зале и что в окнах давно отгорел закат.
* * *
К вечеру Линдгрему совсем полегчало, и он решился, наконец, покинуть свое пуховое убежище. Одевшись, он спустился в столовую и велел накрыть ужин. Слуги бросали на хозяина полные любопытства взгляды и перемигивались между собой, но Линдгрем не обращал на них никакого внимания, вяло обсасывая ножку гуся. Ему не хотелось думать ни о чем, и все мысли его рассыпались на несвязные части, а слова слипались в бессмысленные словосочетания. Но вдруг дверь распахнулась, и в столовую вбежали румяные после прогулки дети, а за ними шествовала сияющая от счастья, розовая супруга Марта. Дети со всех сторон облепили просветлевшего отца и защебетали, как птички, каждый о своем. Они соскучились по нему, вечно пропадавшему в суде, и Аксель, усадив детвору на колени, гладил их головки и терся носом в их волосах, мурлыкая как кот.
– Так дайте же нам поговорить с отцом, маленькие негодники! – вскричала Марта. – Завтра вы все вместе пойдете на рынок, а я уж, наконец, отдохну от вас! А теперь, Оскар, Анна! – марш к себе! Лиза, возьми Марту, и ступайте играть в куклы! Мне надо поговорить с папой!
Дети выбежали прочь. Марта села напротив мужа.
– Аксель, дорогой! – начала она – Прости, что я тебе наговорила всякого утром! Мы, женщины, иногда бываем к вам несправедливы, и это наш грех. Так мне пастор в кирхе постоянно говорит.
Линдгрем улыбнулся. Он не мог понять, что такое нашло на его женушку. Та продолжала.
– Весь Стокгольм только про тебя и говорит! Сегодня сожгли эту ведьму, как её – ах да, Валлин! Говорят, что суд был такой интересный! И почему ты мне ничего не сказал! Я тоже хотела бы взглянуть на эту ведьму. Если бы не дети, я пошла бы на Большую площадь сегодня. Говорят, что она сошла с ума.
Линдгрем нахмурился. Хорошее настроение его сняло как рукой. Но Марта этого, впрочем, не заметила и продолжала оживленно сыпать дальше.
– Я не стала тебя тревожить, ведь ты, наверное, сильно устал. К тебе сегодня приходили важные господа. Полковник Матиас, еще господин епископ – он такой вежливый! Он сказал, что сама королева тебя ценит! – она перевела дыхание. – Аксель! Я так счастлива! Полковник Матиас принес нашим детям подарки к Рождеству. Я подарю их завтра. Ты ведь не против? Ах! – тут Марта хлопнула себе ладонью по лбу. – Ах, я совсем забыла! Утром приходил еще один господин, такой неприятный господин! Он оставил тебе какой-то подарок! Он сказал, что это от господина епископа.
– Что за подарок? – настроение Линдгрема еще больше испортилось, и смутное неприятное ощущение чего-то недоброго появилось у него после слов жены о «неприятном человеке». – Где он, этот подарок?
– Сейчас я пошлю слугу за ним! – сказала Марта, направившись к двери – Он должен быть в прихожей, там он и оставался утром.
Марта вышла, а судья сидел, прислушиваясь к звукам из-за двери. Он налил себе кубок вина и залпом выпил его.
«Что-то я стал лихо пить в последнее время! – подумал он по себя – Поосторожней, Аксель!» В это время двери распахнулась, и двое слуг внесли в столовую деревянный ящик, накрытый деревянной же крышкой. Марта шла за ними.
– Ступайте! – сказал слугам судья. – Если понадобится, я позову!
Те вышли из комнаты, и Линдгремы, совершенно заинтригованные, склонились над ящиком. Ящик был около метра длиной и немного меньшей шириной. Крышка в нем была едва наживлена парой маленьких гвоздиков, и судья без труда снял ее. Глаза Марты блестели от любопытства. Дальше шел слой соломы, и она торопливо выгребла ее из ящика. Какой-то предмет округлой формы лежал накрытый куском холста на дне ящика, и Линдгрем даже захрипел от неожиданно пришедшей к нему страшной догадки, о том, что это могло бы быть. Марта с удивлением посмотрела на него и сдернула холст. Она ахнула и прикрыла рукой рот, чтобы не закричать от восхищения. На дне ящика лежали часы. Это были те самые часы, которые уже видел Линдгрем в разгромленной библиотеке ведьмы Ингрид Валлин четыре дня тому назад, но Марта, конечно же, об этом и не догадывалась. И тот ужас в глазах мужа, его бледное лицо, и дрожащие губы, были ей поэтому тоже совершенно непонятны и странны.
– Аксель, милый! Они очень красивые! Мы повесим эти часы в нашей спальне. Ты все время жаловался, что приходится выспрашивать у меня, который час.
– Не трогай их! Я еще не решил, что сделать с ними!
– Но почему? Ты же всегда хотел…
– Марта, перестань! Ты ничего не знаешь! Я сам решу, что с ними делать. Лучше скажи слугам, чтобы растопили камин в гостиной. И пожалуйста, не мешай мне! Я хочу побыть один.
Расстроенная таким оборотом дел, Марта встала и вышла за дверь, бросив на погруженного в свои неведомые мысли мужа недоумевающий взгляд.
В гостиной комнате весело потрескивали сухие еловые дрова в камине, и пучки горящих свечей придавали комнате праздничный вид. Здесь, в старинном, богато украшенном резьбой кресле, накрытом шкурой медведя, любил коротать вечера Линдгрем. Вот и в этот раз он, как обычно, сидя перед очагом, курил свою старую трубку. К курению он пристрастился на войне в Германии и всегда, набивая добрым турецким табаком трубку, вспоминал своего учителя в этом деле – шотландца О Лире. Этот О Лири был наемником и служил у всех подряд государей Европы, в зависимости от размера платы. Богословием он себя не утруждал и всегда говорил, что для Бога одинаковы все – что протестанты, что католики. Впрочем, срок службы он оговаривал заранее и честно отбывал его, отрабатывая, таким образом, полученные деньги. Когда Линдгрем познакомился с ним, О Лири служил саксонскому курфюрсту – союзнику шведов. Для Линдгрема до сих пор оставалось загадкой: шотландец был протестантом или католиком? В любом случае, он был славным парнем. Но другие воспоминания терзали сегодня сердце бывшего капитана драгун. Все события последних дней никак не выходили из ума судьи. Теперь прибавилась новая мука – часы, и Линдгрем ломал голову в раздумьях о том, что же ему делать с этим нежеланным и в то же время таким соблазнительным подарком. Он выкурил одну трубку и, выбив табачный пепел горочкой на кирпичи каминного очага, сразу же начал набивать следующую. А мысль его все крутилась по прежнему замкнутому кругу. Что делать с часами?
«Моя совесть мне подсказывает, что я должен отвергнуть этот подарок. Но, Аксель, дружище, как ты сделаешь это? Кому следует его отдать? Марта говорила о «неприятном господине», и, похоже, это мой любезный Михаэль. Вернуть часы ему? Тогда они достанутся отъявленному мерзавцу и беспринципному человеку. Как его не сумел разглядеть Ханссон, уму непостижимо! Ну, нет, конечно, он знает, но пользуется им. Как, например, и этим, как его, мясником Ларссеном. Нет, нет, Аксель, это не годится! Тем более, если об этом узнает Ханссон, то он может воспринять это как оскорбление. Подарить их кому-нибудь другому тоже не представляется возможным, ибо это все равно станет известным. Слишком дорогая это вещь. Слухи пойдут по всему Стокгольму. Репутация! Решат, что Линдгрем или совсем уж купается в роскоши, или старается очистить свою нечистую совесть дорогими подарками. И дарит вещи, которые были конфискованы. Боже мой! Как я мог забыть, что ее сожгли сегодня и что это я вынес ей приговор! И это дар сожженной Ингрид Валлин мне – судье Линдгрему за этот приговор! Прости меня, бедяжка Ингрид! Боже, прости и ты меня! Я ничего, ничего не мог поделать. Боже, ты
же видел страдания мои. Но ведь пятно… Я так надеялся, что нет никакого пятна! Что это выдумка Ханссена! Но он оказался прав! Она – ведьма! Не уверен, не знаю, неужели у них всех есть ведьмины пятна? А у той, которую сожгли в Германии, возле Гамбурга, четырнадцать лет назад, тоже было пятно? А у той девушки в Мюнхене? Может быть, их осудили злые люди, но ты-то, Аксель, – добрый человек! Ведь ты считал себя именно таким и считаешь до сих пор. И это ты, добрый человек и справедливый судья, осудил ее к сожжению на костре! Как могло такое случиться, где начинается такой ход вещей, который приводит и злых и добрых к одному и тому же преступлению против человека! К чему тогда твоя доброта и честность, судья Аксель Линдгрем? Нет! Нет! Она – ведьма! Эта Валлин! Сам не верю. Все верят, но я сам до сих пор не верю. Пусть епископ утверждает всё, что он хочет, пусть весь мир кричит о том же, а я теперь чувствую свой грех и свою вину. Бог мой, я – убийца! Подарить часы полковнику? Он чистюля, он не примет. И всегда брезгливо станет думать обо мне. Нет! Дьявол! Трубка хрипит! Где табак? Оооо, Аксель! Как ты сразу не догадался! Это ведь не что иное, как наказание божье за неправду твою! Часы будут всегда напоминать тебе о твоем преступлении, чтобы впредь ничто подобное не могло повториться! Как же я раньше не понял! Когда я буду просыпаться по утрам, то первое, что буду видеть, это напоминание о моем преступлении! Боже мой, спасибо тебе за твой урок, и да будет мне он во спасение мое. Пепел этой женщины уже засыпало снегом. А я собираюсь справлять Рождество! Боже, грех мой велик, а ты слишком добр ко мне! Так говорит мне моя совесть протестанта».
– Эй, слуги! – крикнул Линдгрем, приоткрыв дверь в полутемный коридор. Топот ног послышался на лестнице, и вскоре две физиономии, выражающие преданность и готовность к подвигу, нарисовались в дверном проеме. Линдгрем приказал перенести ящик с часами из столовой в спальню и, докурив свою трубку, поднялся туда же. Ящик уже был там. Судья скинул с него крышку и, вытащив часы, положил их на стол. Ключ для их завода он обнаружил под часами, в маленьком полотняном мешочке. Он сходил вниз за молотком и гвоздем и, вернувшись в спальню, собственноручно забил гвоздь над дверью. Некоторое время он потратил на то, чтобы найти отверстие в корпусе часов, куда вставлялся ключ, с трудом нашел его за отодвигающимся в сторону резным листиком винограда у ног Евы и снова восхитился мастерством исполнения. Стрелка часов застыла на двенадцати, и он вспомнил, что как раз в полдень была сожжена Ингрид Валлин. Но теперь он отгонял мысли о ней и об этом суде, загонял их в самые дальние уголки своей памяти. «Все кончено. Прошлое не воротишь. И надо жить дальше. «Надо порадовать Марту, – подумал он. – Я ее успел сильно обидеть. Завтра Рождество, и будет нехорошо, если мы не успеем простить друг другу все обиды». С этой мыслью он снова отправился на розыски жены, которая, как выяснилось, читала детям сказку. И вот теперь, совсем как подростки, с горящими от любопытства глазами, они склонились над часами, предвкушая, своего рода, отсчет новой жизни.
– Марта, а что, если они не ходят? – выразил свое сомнение Линдгрем.
– Аксель, я не верю, чтобы кто-то осмелился подарить тебе сломанные часы. Но даже если это и так, то все равно их можно починить. И подожди!.. – с этими словами она выбежала из спальни, и, спустя пару минут, вернулась с миской воды и тряпочкой, которой тщательно протерла корпус часов от пыли. – Теперь заводи!
Линдгрем, дрожащими от волнения руками, вставил ключ в отверстие и подумал о том, что вот-вот начнется отсчет новой, неведомой еще жизни. Еще подумалось ему, что совсем недавно эти часы заводил другой человек, возможно, женщина, которую он приговорил к костру. В этот самый момент, сжав зубы, он провернул ключ на один оборот, второй, третий – пока пружина полностью не натянулась. Затем он поставил стрелку в правильное положение, согласно карманному хронометру, и бодрое солдатское «тик-так» было ему наградой. Часы шли. Марта сияла. И пока Линдгрем вешал часы на стену, она успела принести два бокала и бутыль венгерского вина, которую они и откупорили, счастливо поглядывая на висящий над головой сияющий эдемский сад.
Глава 5
Ночью ему приснилось, что он босиком идет по поляне, заросшей земляникой. Солнце ярко светит, а из-под узорчатых листьев видны спелые ягоды и не опавшие еще цветки с розоватыми лепестками. Никого нет кругом, и он задумывается, куда же он идет, но не может ответить на свой вопрос. Затем он вспоминает, что где-то неподалеку должен быть брат и что его надо найти.
– Вильгельм! Вильгельм! – кричит он и оглядывается по сторонам. Потом пугающая мысль приходит к нему в голову: он идет босиком, а в траве может таиться змея, которая укусит его. Поэтому он внимательно осматривает дорогу перед собой, прежде чем сделать новый шаг. О брате он забывает, и неведомый дотоле страх закрадывается в его сердце. Он чувствует, что вот-вот случится нечто ужасное. Краешком глаза он успевает заметить какую-то тень позади себя и резко оборачивается. Кровь застывает в его жилах, и волосы становятся дыбом от ужаса. Перед ним стоит, скрестив руки на груди, Михаэль, в своем черном, зловещем платье. Он смотрит, улыбаясь, на Линдгрема, и зрачки его глаз совсем по – змеиному сжимаются в щелочку.
– Ах, вот вы где, господин Линдгрем! – говорит Михаэль. – Пойдемте, прошу вас, обыск уже закончен! – он кивает куда-то наверх и объявляет: «Они великолепны!» Линдгрем, застывший как столб, не трогается с места, и Михаэль холодной рукой берет его за локоть и тянет за собой.
– Прошу вас, пойдемте! – говорит он. – Надо заверить подписи свидетелей.
– Нет! Нет! – кричит Линдгрем и пытается высвободить руку от леденящей хватки Михаэля. Теперь он видит, что локоть его обвила черная болотная гадюка и впилась в него своими зубами.
– А-а-а-а! А-а-а-а! – с этим криком Линдгрем проснулся. Бледное, заплаканное лицо Марты склонилось над ним. Возле кровати на стуле сидел старик Лунд – лекарь, что с давних пор лечил всю семью Линдгрем. Он крепко держал руку судьи, с локтя которой, из надреза, в подставленный медный таз лилась черная кровь. Линдгрем непонимающим взглядом обвел зажженные свечи, Марту, лекаря, набухшие чернотой шторы на окнах. Взгляд его упал на часы, тепло сияющие при свете свечей. Выходило, что сейчас около восьми утра.
– Слава Богу! Вы очнулись, господин Линдгрем! – воскликнул Лунд, увидев его открытые глаза. – Ваша жена вызвала меня полчаса назад. У вас был жар и лихорадка, но сейчас, я думаю, оснований для беспокойства нет. Я отворил вам кровь. Придется оставаться в постели этот день. Не самый лучший способ провести Рождество, но что делать?
Лунд наложил повязку на локоть судье и отошел к столу, где стал собирать в сумку свои инструменты: ножики, ланцеты, пилки, зонды. Линдгрем вспомнил войну и свое ранение.
– Никаких прогулок сегодня! – лекарь обернулся к Линдгрему и предостерегающе покачал указательным пальцем. – Фру Марта! Мед, немного вина, малина и ромашка для настоя, дабы пощадить печень и удалить тяжелые мокроты из жил. Запрещается, есть плотную пищу: мясо и другие жирные блюда. Рыбу можно.
Предостерегающий перст опустился. Марта скорбно кивала, зажимая рот рукой, переводя взгляд с мужа на лекаря и обратно. Линдгрем закрыл глаза и погрузился в тяжелое забытье. Он даже не услышал, как удалился Лунд, как хлопотала вокруг него Марта, не слышал он также и тиканья часов, которые продолжали свой неутомимый бег по бесконечному кольцу времени. Он не запомнил тех снов, которые видел в своем забытьи, и очнулся, лишь когда на Стокгольм опустился вечер и было снова темно, и от этой темноты шторы на окнах снова пучило, словно темнота обрела свойства и плотность воды. Темнота, неслышными, пульсирующими в ритм с биением сердца Линдгрема волнами, вливалась в комнату из окон, из-под мебели, из дальних углов, из-под тени под стрелкой часов, и только лишь пламя свечей с трудом отгоняли её назад. Судья чувствовал себя ещё более разбитым, чем утром: в ушах звенело и, несмотря на пуховые одеяла, ноги его стали ледяными. И ему немедленно захотелось снова уйти в небытие. Линдгрему даже представилось, что умереть вот так – безболезненно и тихо забывшись – было бы, наверно, даже желанным. Именно эта мысль его так напугала, что он застонал и попытался привстать с постели, но тяжесть одеяла заставила его капитулировать. Он с изумлением поразился его весу и растерянно закрутил головой.
– Что, Аксель, милый, что? – лицо Марты, с набрякшими, темными кругами под глазами, возникло, как из тумана, возле него. Жена приподняла ему голову одной рукой, а второй понесла к его губам кружку. Линдгрем без большой охоты, лишь из жалости к ней, сделал пару глотков. Вкус жидкости был неожиданно приятен и отдавал медом и травами. Некоторое время Линдгрем смотрел на жену и набирался сил.
– Марта! – с трудом шевеля губами, отчего речь его стала не вполне внятной, произнес Линдгрем – Марта, что со мной?
– Аксель, дорогой, – торопливо зашептала она, – я снова вызывала Лунда. Но он говорит, что все пройдет и что просто ты сильно простудился. Я ему верю!
Марта всхлипнула и, закрыв глаза руками, тихо заплакала, качая головой из стороны в сторону. «Совсем как та колдунья Валлин!» – подумал про себя Линдгрем.
– Марта, ты не плачь! – прошептал он. – Мне хорошо сейчас, только ноги очень мерзнут. Ступай спать, а завтра я встану.
Силы снова покинули его, и когда Марта подняла на него взгляд, судья лежал, закрыв глаза в новом приступе беспамятного сна. Ночью он снова пришел в себя, слышал тиканье часов и тихое посапывание жены, задремавшей в кресле возле него. Свечи все прогорели и погасли. Линдгрем лежал, не подавая голоса, он не хотел, чтобы Марта проснулась. Тик-так. Тик-так, – продолжали свою службу невидимые сейчас часы, как будто часовой шагал по мощеной мостовой старого города.
«Это ошибка, судья! – сказал Линдгрем сам себе. – Не надо было их брать! Нельзя было ее приговаривать к смерти! Не надо было браться за это дело! Что же я наделал! – И в этот момент, во всей ясности, и пришла к нему уверенность в своей скорой смерти. – Зачем я это сделал!»
Слезы бессилия текли у него по щекам, он их не замечал. Все стало таким ничтожным, все отмерло, отлетело как шелуха, потеряв всякий смысл, кроме этого единственного вопроса самому себе: «Бог спросит меня, зачем я – Линдгрем – судья и человек – это сделал? Ведь я верил в Бога, ведь верно? Какая опора нужна была тебе еще? Червь, жалкий и ничтожный! Я иногда издевался над секретарем Юнассоном, который казался мне ничтожеством, потерявшим в своем страхе перед всяким начальством достоинство и издевался, чтобы напомнить ему об этом. А сам? Я оказался еще более жалким, ибо Бог испытал меня, а я не выдержал испытания. Боже! Я и трижды, и четырежды отрекся от тебя, как святой Петр! Надо позвать полковника! Надо позвать полковника Матиаса!»
Тьма снова накрыла его.
Сначала сознание возвратилась к нему в виде звуков, которые походили на бурление воды. Постепенно к лопающимся пузырям странным образом прилипали согласные и гласные, из них лепились слова, сцеплявшиеся во фразы. Фразы, сперва имевшие форму, но не имеющие смысла, наконец, его обретали, и Линдгрем постепенно стал понимать речь человека, который находился рядом с ним.
– …Послушайте, дорогой полковник. Мой племянник, который воюет сейчас в Германии, пишет мне, что немцы ненавидят их сейчас не меньше, чем имперцев. И те и другие грабят! Все комбатанты превратились за эти 26 лет войны в орды головорезов, кочующих под знаменами защитников истинной веры по всей Европе, и занимающихся грабежом да убийством! Невзирая на национальность! Грабят испанцы, грабят шведы, грабят сами немцы, грабят французы! Мне стыдно читать, как низко пали мои соотечественники за эти года! Когда мы высадились на континенте и начали наш марш на юг с нашим великим королем, то нас встречали цветами! Вы же помните!
Линдгрем открыл глаза. Справа, у изголовья его кровати, на стуле сидел лекарь Лунд. Справа, в креслах, устроились епископ Ханссен и полковник Матиас. За ними у стены, на краешке сундука пристроилась Марта, с посеревшим заплаканным лицом и впалыми глазами. Возле двери Линдгрем успел заметить нечто похожее на раму, завешанную холстом.
«Что бы это могло быть?» – подумал он. В этот момент епископ, увидев его открывшиеся глаза, склонился над ним.
– Слава богу! Он пришел в сознание! – воскликнул Ханссон. – Дорогой друг! Вы уж трое суток не приходили в себя!
– Да, мы уж начали за вас опасаться! – добавил сбоку лекарь и взял руку Линдгрема за запястье, видимо, чтобы посчитать пульс.
– Господин епископ! – заговорил Линдгрем слабым, едва внятным голосом, не глядя на Лунца – В ту пору, когда мы были в Германии, мы были честны и шли в бой с верой в сердце. Я убежден, что пока люди таковы, Бог помогает им. И потому мы шли от победы к победе.
– Вам не следует много говорить, Ак…, попытался прервать его лекарь, но Линдгрем лишь досадливо сделал слабый жест рукой – …поэтому… поэтому… Ах, дьявол, я потерял мысль! Так вот: без веры и честности, что одно и то же, начинается не война, а убийство, не суд, а судилище, не семья, а блуд! Ох! Дайте мне воды!
Он отпил из поданного Лунцем стакана уже знакомого ему настоя.
– Что это там, у двери? – спросил он хрипло. Епископ живо вскочил с кресла, и, подойдя к загадочному предмету, сдернул с него холст. На Линдгрема глянул мрачно и даже сурово пожилой человек в судейской мантии и шапочке с кистями, стоящий у судейского стола с пером в правой руке. Левая рука его величавым жестом указывала на аллегорическую фигурку богини правосудия. Это был портрет самого судьи Линдгрема, на который тот несколько мгновений с изумлением взирал, совершенно сбитый с толку.
– Это рождественский подарок, дорогой друг, тебе, от ее Величества королевы Кристины. Художник находился в зале во время последнего заседания. Вы этого не могли знать. Нам хотелось сделать вам сюрприз! – закончил Ханссон бархатистым голосом. Линдгрем перевел взгляд на полковника и увидел на мгновение скорбную гримасу и блеснувшую слезу в уголке глаза старого вояки.
– Да, мы все поздравляем тебя, Аксель, с высокой милостью! – произнес полковник дрогнувшим голосом и, закрыв глаза, кивнул головой. Через мгновение самообладание снова вернулось к нему, и Линдгрем увидел прежнего Стромберга – твердокаменного шведского воина, настоящего потомка бесстрашных викингов. – И желаем твоего скорейшего исцеления!
Линдгрем закрыл глаза и через миг услышал, как в голос зарыдала Марта, а затем послышались ее торопливые шаги и звук закрывшейся за ней двери. Молчание воцарилось.
«Бедная Марта! Как она будет воспитывать детей одна! Боже мой! Так вот, каким я кажусь со стороны: старый, холодный, некрасивый человек! Как быстро все прошло, и вот я уже умираю. Все по словам Соломоновым: «Все суета сует и всякая суета». До поры мы ему не верим».
– Матиас, – обратился уже вслух судья к полковнику, – там, на столе есть чистая бумага и перо с чернилами. Я хочу, чтобы вы кое-что записали. Сам я уже не смогу это сделать.
Одеяло свинцово давило его, и Линдгрем про себя снова подивился его неведомой ранее тяжести. Матиас подсел к столу.
– Я слушаю тебя, Аксель, – сказал он и обмакнул перо в чернила.
– Я – Линдгрем Аксель, судья Стокгольмского суда, – начал Линдгрем слабым, с одышкой, голосом, – в присутствии епископа города Стокгольма Ханссона, начальника городской стражи полковника Матиаса Стромберга и лекаря Лунда Михеля, находясь в здравом уме и твердой памяти, завещаю все мое имущество, как движимое так и недвижимое, моей супруге Марте Линдгрем. Кроме того, я завещаю, что часы, кои я получил в дар и кои принадлежали ранее казненной Валлин Ингрид, – при этих словах все присутствующие недоумевающе переглянулись. Полковник, однако же, продолжал скрипеть пером, – должны навсегда остаться в этой комнате как несущие для всякого их владельца зло и смерть, если он заведет их собственной рукой. Потому я запрещаю кому-либо заводить их и подстрекать к тому кого-либо еще. Ох, полковник, поставьте дату и принесите мне, я подпишу.
Линдгрем сделал попытку немного приподняться. Лунд помог ему и подложил за спину подушку для удобства. Полковник положил бумагу с текстом перед Линдгремом, чтобы тот мог ее прочесть, а затем поднес ему перо для подписи. Линдгрем был настолько слаб, что полковнику пришлось помочь ему поставить неразборчивую, с кляксой, роспись под датой: 27 декабря 1644 года от Рождества Христова.
– Теперь подпишитесь и вы, господа, – хрипло произнес Линдгрем. – У меня мало времени. Епископ стоял у картины со скрещенными на груди руками. Хмурый Лунд озабоченно раскачивался на стуле и хмыкал.
– Мы подпишемся, Аксель, обязательно, – сказал полковник, отходя к своему креслу с листом в руке. – Но, хм… Он уселся и заглянул в текст: – Причем тут часы? Мы не понимаем.
– Мне это открыл Бог, – почти прошептал судья, закрывая глаза.
– Дорогой друг! – сорвался с места епископ. – Дорогой друг, вы больны, и Бог весть, что могли себе вообразить в бреду! Часы они часы и есть, – сказал он мягко и положил свою руку на ладонь Линдгрема.
– Епископ, вы и я – солдаты! – Линдгрем открыл глаза. – Вы же знаете, что Бог иногда открывает правду некоторым людям перед смертью, чтобы они могли покаяться в своих грехах. Покаяться. А я грешен, очень грешен… Я совершил преступление, и они убили меня. Все это прочитал в моем сердце. – Он закрыл глаза и, задыхаясь, лежал некоторое время молча. Затем он посмотрел на епископа и добавил: – Вам я хочу пожелать, чтобы Бог был милосерден к вам. Ох… Вам, Матиас… Оставайтесь сами собой.
– Не говорите так, друг мой! – прервал его епископ. – Вы будете еще жить! Ваш лекарь вам это подтвердит!
Лунд, в подтверждение слов епископа, затряс головой так неопределенно, что никто не понял, подтверждал ли он слова Ханссона или отрицал их. Полковник, бледный и осунувшийся, молчал.
– Матиас, у меня к вам будет последняя просьба. – Губы Линдгрема, посиневшие и тонкие, едва уловимо выталкивали слова. Все черты лица его обострились. – Там, на столе, ключ. – Он сглотнул слюну, и на несколько мгновений замолчал. Слышно было лишь, как звонкое «тик-так» перекатывало тишину из одного угла комнаты в другой. – Там, на столе, ключ… От часов. Возьмите его и выбросьте, чтобы он никому не достался. – Линдгрем замолк.
– Но, Аксель! – тут Лунд впервые вступил в разговор. – Если ты так боишься этих часов и хочешь, чтобы они никому не приносили вреда, то почему тогда просто их не уничтожить?
Линдгрем медленно повернул голову и улыбнулся какой-то ясной, почти детской улыбкой.
– Они прекрасны, Михель, они прекрасны! – прошептал он. – Это работа большого мастера… Он он любил Бога и был честен. Я не могу…
Слышно было, как скрипело перо – это полковник Стромберг поставил свою подпись под документом.
– Тихо! – вдруг почти ясным голосом заговорил Линдгрем, и взгляд его скользнул туда, где высший судия указывал рукой своей на прах и бездну. – Тихо! Они встали! Это… это я там! Каюсь!
Рука его в последнем страшном усилии приподнялась в сторону часов, и все невольно обернулись к ним. Судья был прав: часы остановились, и тишина уже захлестнула душную, освещенную теплым светом свечей комнату своей полнотой. Стрелка остановилась в положении около половины шестого, и кающийся Адам, казалось, молил Всевышнего, чтобы снова закончилась эта тишина. Все обернулись к Линдгрему. Но тот уже не видел ни своих знакомых, окруживших его, ни часов, ни портрета, не слышал тишины, не чувствовал ни страха, ни боли. Аксель Линдгрем лежал мертвый, и на лице его все увидели улыбку. Улыбку в знак того, что он прощен. Глаза его были открыты. Потом к мертвому Линдгрему подошел епископ и закрыл его глаза тем отточенным, привычным движением, которое свойственно людям, повидавшим на своем веку много смертей и закрывшим на своем веку глаза многим умершим.
– Аксель, я не успел сказать тебе это при жизни, но надеюсь и полагаюсь на всемогущество Бога нашего Иисуса Христа. Ты говорил, что читал нечто в сердце своем. И я делаю это, как делают это все. Но иногда я многое – нет, все бы отдал за то, чтобы знать точно, голосу ли божьему внимаем мы в сердце нашем или голосу дьявола. А теперь упокойся с миром! И да примет тебя Господь в свое лоно!
Все встали и стояли молча, пока Ханссон читал молитву.
– Надо позвать Марту, – сказал лекарь. Он собрал инструменты в свой сундучок, и, оглянувшись, прибавил: – Прощайте, господа, моя помощь уже больше не понадобится, и я скорблю. Затем он вышел. Епископ Ханссон подписал бумагу.
Глава 6
Старик Линдгрем замолчал. Он стоял посреди комнаты с пустым стаканом в руке. Все смотрели на него и, казалось, ждали продолжения рассказа, но его не последовало.
– Дедушка! – рассыпался по гостиной звонкий колокольчик голоса Агнессы. – Дедушка, это так романтично! Я хотела бы жить в то время! Ах! – взгляд ее скользнул по глазам посланника, но тот не увидел в них ничего для себя. В них была лишь мечта, в которой Агнесса уже унеслась в прошлое столетие.
– Ххха! Ха-ха! – первым выразил свой скептицизм коротким смешком Берг. – Все это страшно интересно, конечно, но в жизни все проще. Человек с пьяных глаз, как следует простыл и, заработав себе воспаление легких, умер. Например.
– А я так уверена, что его просто отравили дружки этой гадалки! – с уверенностью высказалась из-под бока мужа Клара Берг. Супруг медленно повернулся в ее сторону и одобрительно кивнул головой. – Например!
Картерет дипломатично решил отмолчаться, ибо знал, что иное слово есть палач доброго дела, а дело к старому купцу у него было, и не одно.
– Что! Значит, я вру! – вскричал старик. – Он развернулся на каблуках и, несмотря на свой преклонный возраст, сорвался с места как одержимый. Через несколько секунд топот его башмаков затих на лестнице. Все слышали, как хлопнула дверь его кабинета. Затем он, багровый от гнева и волнения, появился, неся в руках небольшую шкатулку.
– Посмотрим же, дорогой своячок, как я лгу! – приговаривал он, открывая трясущимися руками крышку шкатулки. – Это я вру! Оскар Линдгрем врет!
Он открыл, наконец, шкатулку и, порывшись в каких-то, видимо, особенно важных бумагах, извлек оттуда пожелтевший от времени лист.
– Вот! Читайте, господин неверующий!
Все с любопытством сгрудились вокруг Берга, который, далеко отставив от себя лист, начал читать вслух. Все притихли. Картерет ловил каждое слово. Ему казалось, что весь этот вечер судьба устроила исключительно для него и не хотел упускать из происходящего ни слова, ни мгновения. И этот старый документ также имеет значение в его судьбе, пусть еще неясно, какое именно. Итак, он внимательно слушал.
«Я, Линдгрем Аксель, судья Стокгольмского суда, в присутствии епископа Стокгольма Ханссена, начальника городской стражи полковника Матиаса Штремберга и лекаря Лунда Михеля, – читал густым медвежьим голосом Берг. – Находясь в здравом уме и твердой памяти, завещаю все мое имущество, как движимое, так и недвижимое, моей супруге Марте Линдгрем.
– Дедушка, это, выходит, моя прабабушка Марта? – услышал посланник голос Агнессы. Старик, молча, утвердительно кивнул. Берг продолжил:
«Кроме того, я завещаю, что часы, кои я получил в дар и кои принадлежали ранее казненной Валлин Ингрид, должны навсегда остаться в этой комнате как несущие для всякого их владельца зло и смерть, если он заведет их собственной рукой. Поэтому я запрещаю заводить их кому-либо и подстрекать к тому кого-либо еще».
Он замолчал и еще некоторое время, скептически хмыкая, смотрел на текст.
– Сразу видно, что он сильно болел, – флегматично поглядывая на супруга, вынесла свой вердикт Амалия. – Я полагаю, что у него был бред. Ну что такого в этих часах, Оскар?
– Кстати, – вмешался Берг, – а где ключ от этих часов? Оскар, тебе никогда не приходило в голову проверить достоверность слов твоего отца?
– Нет! – резко, почти зло выкрикнул старик. – Нет, нет и нет! – Он топнул ногой и, уперев руки в бока, выставил подбородок в вызове всему обществу.
– Мой отец был человеком слова! Если он завещал поступить так, то я поступлю именно так! Ключ потерян, и завести их невозможно. Господин посланник! – глянул коротко Линдгрем на сэра Джона. – Вы должны простить меня за то, что я невольно сделал вас свидетелем мелкой семейной дрязги.
– О, вы не должны так тревожиться, мастер Линдгрем! – ответил ему посланник. – Каждая семья имеет свой скелет в шкафу, и порой он вылезает из шкафа. Уверяю вас, в моей семье шкаф трещит от скелетов всех мастей!
– А что вы думаете обо всей этой истории?
Посланник взял из рук Берга плотный, пожелтевший, несколько потертый в уголках лист. Текст был написан, судя по всему, рукой, не очень-то привычной к письму. Буквы были неровны и крупны. Одна из подписей внизу листа под текстом принадлежала также писавшему.
– Насколько я могу судить, – продолжил свои размышления вслух сэр Джон, – лица, подписавшие это завещание, были людьми весьма известными, и в их авторитете мы сомневаться не можем. Архиепископ Стокгольма и начальник городской стражи – это кое-что да значит. Далее, – он бросил быстрый взгляд в сторону Агнессы. – У нас всех возникает вопрос, почему эти важные персоны подписались под столь странным утверждением о часах? Так ведь? – посланник обвел всех присутствующих вопросительным взглядом. Все молчали, ожидая продолжения его маленького расследования. – Подписать могли лишь первую часть, которая относится к передаче имущественных прав и которая куда важнее странного пассажа о часах, не так ли? Часы здесь дело второстепенное, на которое никто тогда и внимания не обратил. Ваша супруга, – обратился посланник к старику, – вероятно, абсолютно права. Ваш отец был в бреду и мог в болезни наговорить еще чего-нибудь странного. И, тем не менее, все присутствующие тогда, при его кончине, все равно подписали бы все, так как в первой части самое важное было в начале, где речь шла о передаче имущества. Так что из уважения к умирающему и важности передачи прав они подписали бы что угодно, понимая, что все прочее неважно.
Взгляд старика помягчел. «Ах ты, старая бестия! – подумал про себя сэр Джон. – Как речь заходит о чем-нибудь существенном, так ты сразу воском таешь!»
– Еще одно соображение! – продолжил вытягивать шелковую нить рассуждения Картерет. – Суеверие, боязнь колдовства и порчи у людей того времени весьма известны. И в наше просвещенное время есть люди, которые серьезно могут рассуждать о подобных вещах. Но нам стоит ли подражать дикарям и язычникам? Поэтому вы должны простить мне некоторую дерзость, мастер Линдгрем, ваш отец – человек, несомненно, достойнейший во всех отношениях, но он, в то же время, и человек своего времени. Поэтому с сочувствием и пониманием отнесемся к его заблуждениям, как и мы сами должны просить наших потомков отнестись снисходительно к нашим.
Сэр Джон откинулся в кресле и, скромно потупив взгляд, благочестиво сложил руки на груди.
– Вот! Я всегда говорила тебе, Оскар, слушать разумных людей! – вступила в бой фру Линдгрем. – Сам Бог послал к нам сегодня господина посланника! Не то, что мы, неотесанные чурбаны! Он сразу точно все поставил на свои места! Сколько раз я говорила тебе, Оскар! Давай поставим часы сюда, в гостиную! Так нет же…
– Так, так, сестрица! – рассыпалась мелким смешком Клара Берг. – Ты, Оскар, как нечестивец, ставишь свечу под кувшин… или, как его там! А пастор на проповеди нам говорил, что ее надо ставить на возвышенное место. Чтобы она светила для всех!
[21]
– Дедушка, давай завтра перенесем их сюда! – добила растерянного, озирающегося как затравленный охотниками зверь, Линдгрема Агнесса. – Они будут всегда напоминать о прадедушке. Ой, как романтично! Хочу! Хочу! – она захлопала в восторге в ладоши. Посланник нежно улыбался. Но неясное ощущение чего-то темного и страшного не покидало его. «Что-то здесь не так. Я должен разобраться в этом деле», – решил он про себя.
Вечер закончился. Карета с веселенькими бездельниками уже стояла наготове перед домом. Было еще светло как днем, и запах черемухи сгустился в вечернем воздухе. Старик Линдгрем из уважения проводил до двери сэра Джона.
– Я должен выразить вам мою благодарность, мастер Линдгрем, за этот незабываемый прием! И надеюсь быть впредь вам полезен, – подпустил меда в свой прощальный спич посланник.
– И я, и я, мистер Картерет! – засипел Линдгрем. – Моя супруга, Агнесса… ммм, все-все в восторге от Вас! Но я надеюсь также, что Вы не забудете о наших договоренностях.
– Мастер Линдгрем, я сделаю все, что в моих силах. – Посланник повернулся, было, чтобы пойти к карете, но резко обернулся к старику: – Ах, да! У меня будет к Вам одна маленькая просьба, мастер Линдгрем. Ваши часы действительно великолепны! Я говорил Вам, что занимаюсь коллекционированием редких вещей, – он сделал предостерегающий жест рукой, видя перекосившееся на миг лицо Линдгрема. – Нет, нет! Не купить! Часы останутся Вашим имуществом, но я хочу, в виде маленькой компенсации за будущие ваши дивиденды, сделать с них точную копию.
Лицо старика сразу же смягчилось, и губы его расплылись в широкой улыбке.
– Ну что Вы, сэр Джон! Я всегда рад Вам помочь, имейте это в виду. Продажа, действительно, невозможна, но копия, пожалуйста, пожалуйста!
– Я пришлю слуг завтра к полудню. Прощайте! – сэр Джон надел шляпу. – И передайте мою искреннюю благодарность вашей милой внучке Агнессе за чудесную экскурсию!
Сэр Джон, более не оборачиваясь, направился к карете. Уже сидя в карете, он увидел в окне второго этажа освещенное огоньком горящей свечи лицо Агнессы, которая наблюдала отъезд гостя. Картерет успел открыть дверцу и, высунувшись, прощально махнул ей рукой. Такой же ответный прощальный жест был ему драгоценным подарком и обещанием чего-то неизвестного, светлого и нового.
Через час сэр Джон заперся у себя, в своей особой комнате, ключи от которой были всегда при нем. Здесь он занимался своей корреспонденцией, и частенько свет в узком зарешеченном окошке третьего этажа горел до рассвета. Картерет разложил все нужные для письма принадлежности, поудобнее устроился в кресле и некоторое время пребывал в раздумьях. Затем он придвинул поближе чернильницу, обмакнул в нее перо. Картерет любил писать. Ему нравилось то, как неуловимая, невидимая и неосязаемая ранее мысль обретала плоть в виде стройных, по-солдатски, строк. Что-то божественное было в этом процессе, когда из-под пера появляются целые миры, населенные мыслями, чувствами, расчетами. И эти ничтожные строчки становились грозной силой, если, конечно, их правильно использовать. А использовать их правильно и было профессией посланника ее Величества короля Георга, и мало людей было равных ему в этом искусстве. Да! Это было божественно, и сэр Джон в эти моменты чувствовал себя равным богам:
«Государственному секретарю Северного департамента[22] м-ру Джеймсу Стенхоупу
Уважаемый сэр! Из достоверных источников мне стало известно, что шведский ригсдаг принял окончательное решение о заключении мира с Россией. Также достоверно известно, что это решение находит поддержку ныне правящей королевы Елеоноры. Таким образом, баланс сил на Балтийском море и на севере Европы в скором будущем меняется коренным образом не в пользу Англии.
На настоящий момент политический расклад таков, что Англия не может оказать Шведскому королевству существенную помощь. Против Швеции воюет коалиция, включающая Данию, Россию, Польшу и Саксонию при благожелательном отношении к данной коалиции, а особенно России, прусского короля. Таким образом, положение Швеции безнадежно. Ресурсов для ведения войны у нее практически нет, и при дальнейшем ее продолжении мы рискуем тем, что русские захватят Финляндию, или, что вполне вероятно, высадятся на территории самого королевства, чего никак нельзя допустить. В данной ситуации единственный шанс состоит в том, чтобы вывести из войны Россию, но я не вижу таких условий, при которых это могло бы произойти. Оппозиция царю в самой России подавлена, русские практически одни ворочают всеми делами на севере Европы, и я вижу единственный выход – ликвидацию самого Петра. Будем в этом честны, мистер Стенхоуп. У меня есть некоторые по этому поводу мысли, но о практическом их воплощении говорить еще рано. И дай Бог, чтобы провидение, как deus ex mashina[23], вдруг поправило бы все наши дела. О дальнейшем доложу в ближайшее время.
Преданный вам Д. К.»
Картерет сложил письмо и, запечатав его в нескольких местах сургучом, сразу же принялся за следующее.
«Мистеру Ричарду Смиту – негоцианту
Дорогой Ричард! Ты должен простить меня за то, что я редко тебе пишу. Но ты понимаешь, что я служу королю, а следовательно, и тебе и Московской компании, в какой-то мере. Но я надеюсь реабилитироваться за долгое молчание. Не буду томить: у меня есть к тебе деловое предложение за небольшой процент. Так как наши (твои) суда идут в порты Архангельска и Петербурга нагруженными далеко не полностью, то у меня есть в Стокгольме человек (надежный и деловой), который может продать тебе по очень либеральной цене медь и сталь, которая в цене у русских. Мы можем сорвать на этом солидный куш. Причем, между нами, надо спешить, так как война продлится, на мой взгляд, год-два. В нашем случае время это буквально деньги. Итак, жду тебя как можно скорее у себя в Стокгольме. Здесь и обговорим все детали, ибо переписка по подобным делам нежелательна.
Преданный тебе Д. К…»
– Ф-фу! – Картерет увидел, что небо в окне начало понемногу светлеть, глянул затем на часы, которые показывали начало третьего часа ночи. Он улыбнулся чему-то своему и принялся за третье письмо.
«Мистеру Томасу Картерету, эсквайру.
Дорогой Томас, буду краток: я влюблен, и, надеюсь, ты прекрасно понимаешь, что это такое. Папе напишу позже, я очень устал. Передай ему мой привет. Как он? Напиши срочно. Твой братец…»
Все выяснится сегодня. Утром послать слуг за часами. Сколько будет стоить копия? Что делать с ключом? Ах, какая она красивая, эта Агнесса Линдгрем! Все должно достаться ей… Все…
* * *
Сэр Джон не заметил, как заснул в кресле, и даже первый луч солнца так и не смог пробудить его.
С утра погода переменилась, и холодный северный ветер ненадолго вернул Стокгольму вид озяблого февральского города. Выспавшийся и бодрый посланник к полудню подъехал со своим обычным эскортом к дому Линдгремов. Сэр Джон, впрочем, не стал лично забирать часы, а лишь наблюдал из-за почти полностью зашторенного окна кареты, как его бездельники подошли к заветной двери и спустя некоторое время она открылась. Дело было обстряпано быстро: через минуту слуги уже грузили деревянный ящик с вензелем фирмы купца Линдгрема в карету. Впрочем, вслед слугам выскочил дворецкий, который заставил тех подписать расписку о передаче имущества. «Купец всегда остается купцом!» – одобрительно подумал о старике сэр Джон. Он надеялся хотя бы вскользь увидеть Агнессу, но как бы он не всматривался в заветные окна, но так никого не увидел. Часы лежали на подушках кареты перед ним, и он, вздохнув, отдал приказ следовать на улицу святого Ангела, где держал свою лавку часовщик Арнольд Алм. Арнольда посланник знал уже с давних времен и порой заходил к нему проконсультироваться насчет починки своих часов или покупки старинных, которые шли в пополнение коллекции в Англии. В своем ремесле часовщик знал толк, и сэр Джон это ценил. Стокгольм был, в общем, небольшим городом, и через двадцать минут копыта коней посланника уже зацокали по мощеной булыжником мостовой улицы Святого Ангела. Карета остановилась, и сэр Джон не спеша выбрался наружу.
– Несите ящик осторожно! – сказал он слугам и направился к двери мастерской Арнольда. Внутри посетителей не было, и сэра Джона это обстоятельство немало порадовало. Мастерская представляла собой довольно внушительную комнату с четырьмя большими окнами, которые с наступлением ночи задвигались ставнями. В комнате стояли три стола, за которыми сидели подмастерья, занимавшиеся ремонтом или сборкой новых часов. На прилавке были выставлены образцы товара и уже отремонтированные, ожидавшие своих владельцев часы. Самого хозяина, который обычно находился за прилавком, не было, и Картерет приказал одному из подмастерьев сходить за ним. Через минуту появился и сам часовщик, который был весьма навеселе.
– А-а-а! Это вы, мистер Картерет! – не слишком-то вежливо приветствовал он посланника. – Я уж, извините, праздную свой день рождения. Майский я! Говорят, что кто в мае родится, будет жизнь маяться, а я, вот, не то! Но что же я о своем, что там у вас?
– У меня к вам вот что, – хладнокровно отвечал ему сэр Джон, скидывая крышку с ящика. Мастер склонился над ящиком, и долгое время Картерет наблюдал лишь его затылок с пучками длинных седых волос по бокам. Арнольд молчал. Заинтригованные подмастерья, как гуси, оторвались от своих занятий и вперили взоры в лысину хозяина.
– Д-д-а! – произнес, наконец, Арнольд выпрямившись. – Это… это добрая работа! Черт меня возьми, мистер Картерет, но вы принесли сюда целое состояние! Работайте, что застыли, как болваны! – прикрикнул он на своих работников. – Копошение продолжилось с новой силой.
– Мастер Арнольд! – обратился к нему сэр Джон. – Я ценю вас как большого мастера в своем ремесле, иначе, как вы сами понимаете, сюда бы не пришел. У меня к вам две просьбы. Первая: ключи от часов потеряны, и их надо будет восстановить. Ходят ли они, я не знаю. Есть шанс того, что ходят и ремонт им не требуется.
Арнольд внимательно слушал, переводя взгляд с часов на посланника. Хмель с него явно сошел. Сэр Джон, тем временем, продолжал:
– Второе: мне нужна точная копия этих часов. Точная, насколько это возможно. Я имею в виду, точная снаружи, – поправился сэр Джон, глядя, как мастер Арнольд задумчиво потирает свою лысину. – Механизм часов меня не интересует, можете вставить туда хоть мельницу, лишь бы они ходили. Сумма на затраты может быть любая… В известных пределах, – заключил, наконец, Картерет. Оба молчали некоторое время.
– Эээ, в каких пределах, мистер Картерет? Копия шедевра – это тоже, знаете ли, шедевр своего рода, – задумчиво произнес мастер.
«Эту крепость нужно брать сразу. Игра стоит свеч», – про себя подумал посланник, и рука его уже доставала мешочек с золотыми гинеями. Он отсчитал 20 монет, и увидел, что глаза мастера довольно прищурились.
– Я думаю, что этого должно хватить, – сказал сэр Джон.
Солидно, не торопясь, пересчитал деньги мастер Арнольд. Каждую из монет он потирал между указательным и большим пальцем, а одну даже попробовал на зуб. Посланник увидел, что все подмастерья снова позабыли про свое занятие и разинув рты наблюдают за хозяином. Это была забавная сцена, и сэр Джон невольно улыбнулся. Мастер Арнольд, наконец, убрал деньги в ящик стола, и, нагнувшись поближе к Картерету, таинственно зашептал:
– Корпус и фигуры я поручу Филиппу – он у меня талантливый малый! За окисел не беспокойтесь. Выглядеть они будут, как старые. Ключом я займусь лично. Уберу их подальше, мистер Картерет. Это ведь целое состояние, черт меня разрази! На все понадобится две недели. Может, чуть меньше, я постараюсь. Ах, какая это работа, мистер Картерет! Эти старые венецианские мастера!
– Договорились. И, мастер Арнольд, – теперь уже Картерет шептал на ухо часовщику, – если с часами что-нибудь случится, чего, не приведи Боже! То я вас найду хоть прямо в аду! Это я предупреждаю вас на всякий случай! – И, глядя в испуганные глаза отпрянувшего от него мастера, добавил уже вслух: – Прощайте! Очень рассчитываю на вас!
Глава 7
Неделя прошла, началась другая. Сэр Джон, в круговороте своих дел, как важных, так и второстепенных, совсем было забыл о часах. Черемуха уже отцвела, и на улице пахло все более конским навозом и рыбой, отчего сэр Джон запретил слугам открывать окна. Так, утром 12 июня 1719 года он пребывал в меланхолическом настроении, и поэтому предавался обычному для подобного душевного состояния занятию-обработке специальной пилочкой своих ногтей. Благо, вечером для этого был достойный повод – тайная встреча с Юханом Лилльенстедтом. О! Это была важная фигура! Как член государственного совета и один из представителей, которые вели переговоры с русскими на Аландском конгрессе, Лилльенстедт был тем человеком, к голосу которого прислушивалась сама королева Ульрика, и это надо было использовать. Пока пилочка медленно, но верно превращала ногти посланника в произведение искусства, мозг его плел всевозможные комбинации вечернего разговора. Воображаемые силлогизмы под музыку интонаций расходились по местам будущей словесной баталии, от которой сэр Джон ожидал только победы. Он знал, что швед не желает заключать с русскими мир и лишь обстоятельства толкают его вести мирные переговоры. «Придется просить золота у мистера Стенхоупу, всемогущего английского золота…» – такова была общая констатация размышлений. Тихий стук в дверь прервал бег его мысли, и пилочка в руке застыла, как дирижёрская палочка. За многие годы Картерет изучил манеру стучать всех своих слуг, и он точно знал, что там, за дверью, стоит Оливер, один из «бездельников».
– Что случилось, Оливер? – задал вопрос посланник, так и не разрешив слуге войти. Пилка в воздухе выписала воображаемый знак вопроса.
– Сэр! – послышалось невнятное бубнение из-за массивной двери. – Сэр, к вам пришли.
– Кто пришел?
– Он не назвал себя, но говорит, что дело важное. На вид, какой-то босяк.
– Пусть проваливает к черту! – посоветовал воображаемому босяку сэр Джон, и пилка указала направление местонахождения этого самого черта.
– Есть, сэр! – квакнуло из-за двери. И пилка вернулась к обычному занятию. Но что-то подсказало посланнику, что приход инкогнито был неспроста, и он укоризненно покачал головой воображаемому себе. Провидение дало шанс Картерету исправиться.
– Он не уходит! – раздалось из-за двери спустя две минуты. И что было самое возмутительное – на этот раз дерзкий Оливер даже не соизволил предупредить о своем присутствии хозяина стуком в дверь. «Мерзавец! Совсем распустились!» – констатировал посланник про себя.
– Какого дьявола ему нужно, Оливер?
– Сэр, он говорит, что принес записку от этого… часовщика…
Спустя мгновение сэр Джон уже скакал как заяц по лестнице и ошарашенный слуга смотрел с неописуемым изумлением ему вслед, потирая зашибленный дверью лоб.
Стражники открыли
ворота, и сэр Джон увидел длинного, с бледным лицом, юношу, на щеках которого играл огоньком нездоровый румянец. Юноша был весьма просто одет, но сэр Джон припомнил его в одно мгновение – это был один из подмастерьев часовщика Арнольда Альма.
– Что вам угодно? – посланник выжидательно смотрел на юношу. Тот неловко поклонился и судорожно стал шарить по своим карманам, пока не достал сложенную вдвое бумажку, которую протянул Картерету – Вот. Господин посол, мой хозяин велел передать вам лично в руки.
Картерет развернул записку, и то, что он прочитал, заставило его побледнеть: «Часы и ключ готовы. Я умираю. Ар…»
– Коней! – закричал во весь голос сэр Джон. – Карету, живо!
Через десять минут кони несли его во весь опор на улицу Святого Ангела. В голове посланника творилась полная сумятица, и он никак не мог собраться с мыслями. Лишь смутное подозрение того, что часы, завещание давно умершего судьи и нынешняя смерть часовщика Арнольда, связаны каким-то образом. Впрочем, не было ясно, жив ли еще часовщик или уже умер. Поэтому сэр Джон принялся извлекать информацию из единственного, на данный момент, источника – болезненного юноши, которого он предусмотрительно прихватил с собой. Молодой человек, судя по всему, впервые ехал в роскошном экипаже и поэтому с любопытством осматривал обстановку кареты посланника, как то: мягкие сиденья светлой замши, внутреннюю шелковую обивку с гербом Великобритании и занавеси на окнах, более похожие на гобелены, позолоченные ручки, изящные светильнички у потолка, используемые в темную пору. Сэр Джон вернул беднягу подмастерье на грешную землю.
– Расскажите мне подробно, сударь, что стряслось? – Тон голоса и холодность взгляда его показывали, что разговор должен быть по делу, и без излишних фантазий.
– Я, я, ммм, господин… – начал было тянуть нервический юноша.
– Зовите меня просто Генри. Просто Генри. Договорились? – и он доверительно похлопал юношу по плечу. – Кстати, как ваше имя?
– Меня зовут Филипп, – ответил юноша, и сэр Джон сразу припомнил, что часовщик упомянул это имя в давешнем разговоре.
– Итак, Филипп, я внимательно вас слушаю.
– Генри! – юноша произнес вымышленное имя посланника и зарделся от смущения. Подобная немыслимая фамильярность сбивала его с толку. – То есть, господин Генри, эээ, я мало что знаю. Хозяин поручил мне две, нет, полторы недели назад сделать копию корпуса часов. Я вас видел тогда в мастерской. Вы разговаривали с моим хозяином. Эээ-э, я закончил мою работу позавчера. Свен вставил часовой механизм. Часы идут. Должен сказать, что они очень красивые! – глаза Филиппа заблестели от неподдельного восхищения. – Жалко было их старить. Я даже заплакал!
– Что значит «старить»?
– Ну, это когда… Старик сказал, что нужна полная копия часов. Те же были старые, с патиной, окислами… Я сделал так, что теперь их трудно различить. Вот.
– Это все хорошо, – перевел разговор посланник, – но что случилось с вашим хозяином?
– О-о-о, я не знаю. Мастер Арнольд занимался изготовлением ключа. Ооо-о, он давно уже не занимался часами всерьез. Он все знает в этом деле, но тут он с радостью взялся за дело. И, надо сказать, он несколько дней корпел с нами в мастерской, что даже фру Елеонора – его жена – забеспокоилась. Я помню, что четыре дня назад… да, точно, четыре дня назад он собрал нас всех и показал готовый ключ. Он так был рад! Как ребенок! Надо сказать, господин, эээ, Генрих, он был, и правда, сложный.
– А что, Филипп, – прервал его сэр Джон, – вы пробовали завести старые часы?
– Я как раз и хотел вам рассказать, эээ Генрих (он упорно называл сэра Джона на немецкий лад – Генрихом), так вот, хозяин показал нам ключ и завел при нас старые часы. И они пошли! Мы удивились! Я верил, что так и будет, а вот все остальные не верили. Я даже поспорил со Свеном.
– Дальше! – хрипло подгонял подмастерья сэр Джон. – Что было дальше?
– Я больше ничего не знаю. На следующее утро мастер заболел. Он пришел к нам утром и сказал, что ему нездоровится. Потом он ушел и больше не появлялся. Я знаю, что лекарь приходил. Говорили, что ему пускали кровь. А сегодня утром пришла фру Елеонора и сказала, чтобы я немедленно отправился по вашему адресу, и передал бы записку. Вот и все, – закончил свое повествование Филипп.
Кони мчались. Карету подбрасывало на неровностях мостовой. Картерет раздумывал.
Они приехали слишком поздно. Когда Картерет и Филипп вошли в лавку Арнольжа, то там вовсю уже шли печальные приготовления. Подмастерья завешивали окна траурными черными шторами. Часы были убраны с прилавков, так как работа на сегодня была отменена. Двери в жилую часть дома были открыты, через нее входили и выходили люди разного рода. Тут были и лица духовного звания, и гробовщики, и ростовщики, и еще Бог весть кто. Вероятно, соседи также решили отдать покойному дань уважения.
– Филипп, – обратился к своему провожатому сэр Джон. – Отведите меня к жене Арнольда.
Объятая горем, заплаканная фру Элеонора, окруженная целой сворой кумушек, тетушек, и соседок, сидела посреди комнаты, которую посланник условно назвал гостиной. Дверь в соседнюю комнату была распахнута настежь, и сэр Джон увидел большую, застеленную, с двумя огромными подушками кровать, стол с гробом, в котором уже покоился умерший часовщик. «Быстро они обстряпали дело – про себя подумал Картерет – старина Арнольд еще не остыл, а уже вполне приготовлен к встрече с Хароном.
[24]» Посланник вежливо раскланялся и представился. Всё дамское сообщество присело в книксене, в свою очередь приветствуя посланника, как встречные корабли в море порой обмениваются холостыми пушечными салютами. По знаку хозяйки ее свита вышла из комнаты, бросая на сэра Джона любопытные взгляды. Бледная, рыхлая фру Элеонора закрыла дверь в соседнюю комнату и вернулась на свое место.
– Господин посланник! – сказала она слабым голосом. – Мой старик говорил давеча про вас. Он велел передать вам ваши часы. Он всегда был точным и держал слово. И, и… – она разрыдалась неудержимо и горько, так, что посланник искренне ей посочувствовал, что не часто бывало с ним. Наконец она успокоилась и продолжила.
– Уж не знаю, как вести дела дальше. Двое сыновей сгинули на войне. Старший Якоб – пропойца и лентяй. Он пустит прахом все дело. Дочки замужем и о делах не имеют никакого понятия. Придется тянуть всю ношу одной, пока это возможно.
Картерет сочувственно молчал и в знак одобрения хозяйкиных слов иногда легонько кивал головой.
– Старик говорил, что это очень важный заказ. Ваши часы здесь, – сказала фру Элеонора и указала рукой на большой сундук, стоявший в углу комнаты. – Можете их забрать. Посмотрите сами. Может быть, что-нибудь не так, я ведь не знаю этих дел.
Посланник торопливо подошел к сундуку. Он был не заперт, и Картерет, в нетерпении, откинул крышку и ахнул. В сундуке лежали двое совершено одинаковых часов. Ключи для завода, также совершенно одинаковые, были привязаны тесемками к хвостам древних змеев. Сэр Джон, в растерянности, переводил взгляд с одних на другие и не мог сказать, где была копия, а где оригинал. Налет окисла на корпусах, фигурки, стрелки – всё было совершенно одинаковым.
– Но как! Как он это сделал? – в изумлении спросил подошедшую хозяйку Картерет. – Воистину, ваш муж был большим мастером! И как мне их теперь отличить друг от друга?
– Ох, не спрашивайте меня, господин посланник. Я лишь глупая старая женщина! Надо позвать Филиппа – это он делал вторые часы. Он-то уж должен знать точно. – Фру Элеонора вышла в коридор и вскоре вернулась с подмастерьем назад. Растерянный юноша вопросительно посмотрел на посланника.
– Все хорошо, Филипп! – успокоил его сэр Джон. – Я восхищен вашей работой. Мастер Арнольд очень хорошо отзывался о вас.
Лицо юноши в пятнах нездорового румянца совершенно стало пунцовым. «Бедняга, у тебя чахотка, и она в течение года или двух сведет тебя в могилу, вслед за хозяином» – подумал, глядя в лицо юноши, Картерет.
– А теперь скажите мне, где здесь оригинал, а где копия? Я не могу отличить их друг от друга, а это важно.
– Вот оригинал. – И секунды не промедлив, ответил юноша, указав рукой на часы справа.
– Но как вы это определили?
– Я, я… господин Генрих, сам их делал. Я не ошибаюсь.
Хозяйка с удивлением прислушивалась к их разговору.
– Тогда, – перевел разговор на более деловитый лад сэр Джон, – у меня будет к вам и вашей хозяйке предложение. Я дам вам за труды и за абсолютное, вы понимаете, абсолютное молчание по суверену. Вы должны будете почистить корпус часов оригинала так, чтобы они выглядели как новые, понимаете?
– О, господин посланник, он все сделает так, как вы скажете, – вмешалась в разговор хозяйка. – Мой муж очень хвалил Филиппа. Говорил, что он далеко пойдет. Ах!
– Тогда, Филипп, – снова обратился к подмастерью посланник, – сколько времени нужно вам на работу?
– Должно хватить и одного дня. Самое большое, два, – ответил, запинаясь, Филипп.
– Договорились! – сказал посланник выпрямляясь и похлопал по бедрам с выражением глубокой печали. – К сожалению, я не прихватил с собой нужной суммы, но слово дворянина: я оплачу все расходы, как обещал. Филипп, можете приниматься за работу хоть сейчас. Идите.
– Фру Элеонора! – обратился он к вдове, отвернувшись от подмастерья. – Разрешите мне выразить мое глубочайшее сочувствие к вашему горю. Я давно знал вашего мужа, и уважал его за честность и мастерство.
Фру Элеонора стояла перед посланником с жалким лицом. Губы ее тряслись, она в попытке сдержать слезы крепко сцепила кисти рук да так, что вены вздулись. Посланник, тем не менее, продолжал:
– Я не хотел бередить вашу рану, но все-таки должен спросить, какова причина смерти вашего мужа? Что сказал лекарь?
– Ах, господин посланник! – горестно покачала головой вдова. – Я, мы… я и сама не понимаю, что случилось! Вы сами видели мужа, когда отдавали ему часы, и он был весел и здоров. Затем он работал несколько дней с подмастерьями и приходил только, чтобы поесть. Говорил, что у него редкий и интересный заказ от вас. Затем он сказал – а это было дня четыре назад – что, наконец, изготовил ключ, и даже выпил на радостях. Но тогда он тоже был здоров. Наутро ему стало плохо. Он еще выходил в мастерскую отдать распоряжения работникам. Затем он вернулся, лег в постель и больше не вставал. Я вызвала лекаря. Он пустил кровь, но бедному Арнольду это не помогло. Он потерял сознание, бредил, повторяя, что его мучает какая-то ведьма. Стонал. Лекарь сказал, что не знает такой болезни. Приходил еще один – все то же самое. Сегодня утром Арнольд очнулся и приказал позвать вас. Написал записку, и мы отправили к вам Филиппа. Ему муж всегда доверял! Он что-то очень хотел вам сказать, по крайней мере, мне так показалось. Еще через полчаса он умер. Спустя некоторое время приехали вы.
– Та-а-ак, – протянул сэр Джон, – а вы не помните точное время?
– Ну как же, господин посланник. Я остановила часы в спальне. Это было 10 часов 16 минут, – вдова разрыдалась. Посланник подошел к открытому сундуку. Стрелка на часах, лежащих с правой стороны, также показывали около четверти одиннадцатого. Холодок прошелся по спине посланника при виде этой мёртвой стрелки. Смутное чувство, которое он испытал, когда слушал рассказ старого Линдгрема, пришло к нему вновь, и это было чувство того, что рядом с ним, как змея, притаилось неведомое, безжалостное, смертельное зло. Сэр Джон покосился на рыдающую женщину и осторожно закрыл крышку сундука.
– А что вы сами думаете об этом, фру Элеонора? – задал он последний вопрос.
Вдова всхлипнула. Потом она вытерла платком слезы с лица и некоторое время сидела молча, уставившись в пол пустыми глазами. Посланник неподвижно стоял у сундука и смотрел на нее, ожидая ответа.
– Вы будете смеяться, господин посланник, но я в это верю. Его околдовали или напустили порчу. Наверное, – в голосе ее появились блеющие жалобные нотки, – кто-то из соседей из зависти наслал на него порчу.
– Ну что же, – Картерет неловко переступил ногами на месте, – ну что же…
Когда сэр Джон вышел из лавки, то увидел подмастерьев, которые, кучкой собравшись около кучера Харри, обсуждали достоинства коней посланника.
– Филипп, подойдите-ка сюда, – позвал Картерет. Юноша направился к нему, откашливаясь, и стеснительно прикрывая рот рукой. «Он скоро умрет, – про себя констатировал Картерет, – вряд ли ему протянуть даже год. Жаль парня».
– Послушайте, Филипп, – тихо произнес сэр Джон – когда часы будут готовы, я заклинаю вас именем господним – не заводите их! – Юноша в недоумении неподвижно стоял перед ним, не произнеся ни слова. – И молчок о вашей работе! – сэр Джон поставил ногу на подножку кареты. – Харри! Поехали!
* * *
Ричард! Дражайший мой Ричард! От тебя пахнет ромом и Лондоном! – так приветствовал своего давнего приятеля и купца Московской компании Ричарда Смита посланник в своем кабинете. Он подошел к двери, выглянул в нее и, убедившись, что за ней никого нет, запер на засов.
– Так надежнее, – сказал сэр Джон, улыбаясь. – Итак, дорогой Ричард, если ты у меня, значит, мое письмо ты прочитал.
Ричард – дородный мужчина средних лет в скромном, но отличного черного сукна кафтане, который невольно придавал ему пасторский вид, тем временем удобно устроился в кресло и преспокойно набивал табаком короткую трубку.
– Джон, раз я прочитал твое письмо, то я не мог не быть здесь, – дым крепчайшего виргинского табака вознесся к высокому, украшенному лепниной потолку кабинета. – Кстати! – Ричард опустил руку в карман и вытащил оттуда небольшой, но увесистый мешочек из черного бархата, – это тебе, сам знаешь, за что. Информация оказалась очень ценной.
Сэр Джон ловким движением открыл ящик стола, и через мгновение мешочек переменил место обитания.
– Значит, все хорошо?
– Значит, все хорошо. Да, вот что: мы все были восхищены, как ловко ты сумел уломать шведов вести войну дальше, Джон! Ты – великий дипломат!
Картерет поскучнел лицом.
– Помнится мне, что царь Македонии Филипп говорил, что осел, груженный золотом, возьмет любую крепость. Мне не стыдно признаться тебе, как старому другу: это не я. Это английское золото продлило войну. И, – сэр Джон торжественно указал пальцем в потолок, – они, все равно скоро сдадутся. Я им даю год, максимум два.
– Да и черт с ними, со шведами! – высказался Смит, как Зевс из-за табачных туч, – Джон, зачем ты вызвал меня сюда? Полагаю, что-то важное? – глаза негоцианта внимательно следили за тем, как сэр Джон, немного ссутулившись и заложив руки за спину, расхаживал по кабинету взад и вперед.
– Да, Ричард. Есть славное дельце, и мы сейчас отправимся к одному человеку. Он купец, зовут его Оскар Линдгрем. Когда-то он торговал с русскими, возил туда медь и сталь. Вероятно, не брезговал и контрабандой вроде мушкетов, свинца и прочего. Но это мелочи. Сейчас война, а цены на внутреннем рынке куда меньше. Старый лис ищет выходы на старые рынки, но ты сам понимаешь, что напрямую это невозможно. Тут я вспомнил тебя и предложил ему невинную схему. Кривые тропинки тоже ведь ведут к правильному месту, не правда ли? – Картерет усмехнулся.
– Идея отличная! – Смит опустил трубку на стол, и глаза его заблестели. – Обезопасимся одновременно от шведских конкурентов и на них же еще дополнительно заработаем! Русским можно будет нашептывать о нашем к ним расположении и помощи, а шведов отвадить от кормушки. Ты настоящий купец, Джон!
– Я дворянин в первую очередь, – с грустью констатировал Картерет, – тебе не понять этого, Ричард. Ты и твои предки были торговцами, и для тебя самая большая похвала есть та, что некто есть ОТЛИЧНЫЙ ТОРГОВЕЦ. Для меня это не похвала. Но! – Картерет устало уселся в кресло напротив Смита: – «Мы – англичане, прежде всего». Я служу короне, как могу, и ты также ей служишь на свой лад. Просто время идет, и ценности в этом мире меняются. Еще лет 200 назад быть дворянином было предметом мечтаний любого человека. Мы были теми, кто вел нацию вперед, и это было почетно. Теперь все изменилось. Любой выскочка может занять любой пост в королевстве. В цене богатство, а не верность долгу и честь. И мы – дворяне, потихоньку становимся торгашами и распродаем потихонечку остатки того, что у нас имеется – имя и остатки чести.
Сэр Джон замолк, и купец, с некоторым недоумением и сочувствием, посматривал на своего так неожиданно разоткровенничавшегося визави. Табак в трубке дотлевал, и легкая струйка дыма, извиваясь, тянулась к потолку.
– Ну что же, идемте, Ричард! – сэр Джон встал. – Простите меня за мои сентиментальные излияния. Устал. Уже 15 лет здесь.
– Тебя скоро назначат руководителем Северного департамента. Так говорят, – поднимаясь с кресла, заметил Смит, – тебе недолго осталось здесь скучать.
– На моей работе особо скучать не приходится, – сказал Картерет, но почему-то припомнил не дипломатические трюки и каверзы, а розоватую, освещенную пламенем свечи, кожу на плече Агнессы, и её маленькую, красную туфельку. – А теперь едем к старику. У меня к нему дело, и он засыпал меня письмами об одном драгоценном для него предмете, который я ему должен вернуть. Заедем за ним по пути. Тебе тоже будет любопытно.
Спустя пятнадцать минут дипломат и негоциант уже ехали в карете на улицу Святого Ангела.
– Харри, останови у часовой мастерской! – крикнул сэр Джон кучеру в приоткрытое окошко. – Затем едем к Линдгрему!
– Слушаюсь, сэр! – был ответ. Копыта цокали по мостовой. Ричард Смит, видимо, изрядно утомленный путешествием, задремал напротив посланника. Спустя некоторое время сон окончательно овладел им, и он не заметил, как остановилась карета, как вышел Картерет, и лишь когда в открывшуюся дверь двое неизвестных втащили два деревянных ящика, он открыл глаза. Вслед за ящиками в карету влез сэр Джон. С ним явно творилось нечто странное. Лицо его было бледным, и он нервно потирал руки и избегал общения с негоциантом. Впрочем, Смиту было все равно. Его больше интересовал другой человек, разговор с которым предстоял в ближайшее время. Тем не менее, Смит не удержался.
– Джон, старина, на тебе просто лица нет! Что-нибудь случилось?
Ответ, а точнее, встречный вопрос прожженного дипломата и реалиста его позабавил.
– Ричард, скажи мне: ты веришь в колдовство? Ну… – Картерет не находил слов. – Ну, ты веришь, что какую-нибудь вещь можно заколдовать?
– Ха-ха-ха! Ай да Картерет – посланник его Величества! Когда ты уломал шведов продолжить войну с русскими, это было колдовство! – рассмеялся Смит и затем уже добавил серьезно: – Но я тебе должен сказать, что на своем веку слышал о многих чудесах. Но ты же знаешь, я человек деловой и до всего стараюсь докопаться сам, трезвым взглядом. Так вот: за каждым чудом никогда не стояло ничего чудесного – только людские измышления. Люди любят верить. Люди будут верить. Отсюда и берутся чудеса. Знаешь – это как мираж в пустыне. Издали видишь оазис, а вблизи это оказывается очередным барханом.
Лицо Картерета приняло свой обычный вид. Но он лишь покачал головой, даже не на слова Смита, а своим потаенным мыслям, и прибавил вслух:
– Дьявол! Я не понимаю, что это? Это уже третий!
Кто был третий и причем тут дьявол, Ричард Смит уже не успел выяснить, потому что они прибыли к дому Линдгремов. Старик был заранее предупрежден о прибытии гостей, и едва экипаж остановился, он появился в дверях, а затем засеменил им навстречу. Англичане вылезли из кареты. Бездельники, как два воробушка, выглядывали с запятков кареты. Харри безразлично позевывал.
– Здравствуйте! Здравствуйте, господа! – знакомый уху посланника сиплый дискант раскатился в тишине.
– Господин Линдгрем, – деловито и даже суховато повел дело Картерет, – к сожалению, у меня очень мало времени. Я хочу вам представить моего друга Ричарда Смита, о котором я вам говорил. Он представитель Московской торговой компании (старик при слове «Московской» невольно заозирался). Поговорите с ним о ваших делах, если у вас есть на то желание. Ричард вполне сносно знает шведский язык.
Смит стоял, скрестив руки на груди, и невозмутимо посматривал то на старика, то на Картерета.
– Теперь о наших делах, – переменил тему сэр Джон, – я возвращаю вам ваши часы в целости и сохранности. В благодарность вам часовщик по моей просьбе изготовил к ним ключ, и как оказалось, часы вполне работоспособны и вреда здоровью никакого не наносят.
– Ээээ, мистер Картерет, подождите! – вскричал петухом купец. – Позвольте взглянуть на вашу копию!
– Ну что же… – Картерет сделал бездельникам знак рукой, и те вынули оба ящика из кареты. – Пожалуйста! – Посланник скинул крышки с обоих ящиков, и Линдгрем поочередно заглянул в оба.
– Отличная работа! – пробормотал старик. – Богом клянусь, отличная работа!
Он добрых десять или пятнадцать минут рассматривал и те и другие часы, что-то бормоча про себя, скреб ногтем корпус, трогал фигурки, то отходил подальше, то смотрел на них искоса, как будто что-то не мог решить для себя. Картерет стоял за его спиной неподвижно, однако лицо его снова стало бледным. «Странная история! – подумал про себя, глядя на эту пантомиму с часами, Смит. – Какое-то театральное действо с этими часами, смысла которого я не пойму. Надо потом порасспросить Джона».
– Ну что же! – наконец махнул рукой старик Линдгрем. – Ваше дело молодое. Торопитесь. Часы я отдам Агнессе, она любит такие вещи…
– Да-да, мастер Линдгрем! – сказал посланник, делая знак бездельникам, чтобы те отнесли ящик с часами назад в карету. – Передайте ей от меня огромный привет. Я очень благодарен ей за эту романтическую историю, и надеюсь, с вашего позволения, увидеть ее опять.
Картерет раскланялся и направился к карете. Два негоцианта – английский и шведский – провожали его глазами. Возле кареты посланник обернулся и, приветственно махнув рукой обоим, крикнул:
– Ричард, жду тебя вечером у себя! У меня к вам будет дело!
Глава 8
На следующий день судно Московской торговой компании «Великий Могол» рассекало волны Балтийского моря. Оно держало курс на Санкт-Петербург, и никто, конечно же, не догадывался, что, кроме обычного груза, которым были набиты его трюмы, в одной из кают лежит коротенькое письмо. На первый взгляд, это было обыкновенное письмо с деловыми выкладками по торговым делам, но его будущий получатель Джеймс Джефрис, недавно назначенный послом в Санкт-Петербург, конечно же, разбирался в делах такого рода. Содержание письма его удивило, и посол долго раздумывал, как ему следует поступить. Как посланник великой страны, он должен был блюсти ее интересы, а автор письма намекал именно на это. Джефрис в раздумьях ходил из угла в угол, меряя шагами свой кабинет, выглядывал в окно, за которым была мутная Нева, корабли, чеканно шагающие по набережной морские офицеры русского флота, редкие экипажи и дом Меншикова на другой стороне. Ответа вид на Неву не давал, оттого сэр Джеймс снова подсел к столу и заново, не торопясь, прочитал его.
«Посланнику его Величества короля Великобритании Георга Первого в Санкт-Петербурге сэру Джеймсу Джефрису
Сэр Джеймс! Дело, которое я должен с вами обсудить, имеет огромную важность для Англии и мира. Нам необходимо встретиться как можно быстрее на нейтральной территории, и не привлекая ничьего внимания. Это важно. Я полагаю, что Гамбург будет лучшим местом для этого. Рассчитайте свой путь так, чтобы прибыть туда к 15 августа. Я прибуду инкогнито, и вас прошу о том же. В порту Гамбурга отыщите таверну с названием «Ганс и Роза» – это на Баварской улице. Хозяин таверны Исаак Зильберштейн – мой человек. Он все вам обеспечит, если я опоздаю. Заклинаю вас отбросить все сомнения. У нас есть шанс, который редко боги даруют людям.
С уважением к вам, Джон Картерет, посланник его Величества в Стокгольме».
– Послушайте, Адам, – обратился Джефрис к секретарю посольства Адаму Дженкинсу, который давным-давно, чуть ли не со времени царя Алексея Михайловича, обосновался в России, – послушайте, Адам, вы человек опытный, и я вам доверяю, как знающему человеку. Что мне с этим делать? – и протянул тому расшифрованное письмо. Дженкинс, вздев очки, читал медленно, правая бровь его порой приподнималась, губы шевелились.
– Что могу вам сказать, милорд, – ответил он, закончив чтение. – Езжайте: вот вам мой совет. Вы здесь человек новый, и если на некоторое время исчезнете, то особо вас не хватятся. – Дженкинс вздохнул. – А я сочиню русским какую-нибудь сказку, впрочем, и это незачем. Вы уехали по делам, и уехали.
Сэр Джеймс внимательно слушал его. Идея на короткий срок уехать, чтобы снова подышать европейским воздухом, а не общаться с напыщенным и разношерстным русским двором его весьма прельщала. Он решился.
Вечером Джефрис вызвал Адама Дженкинса и поручил тому снять каюту на судне, которое должно было сделать остановку в Гамбурге в середине августа. Адам изрядно попотел, так как при всём богатстве выбора большинство вариантов было отброшено, а из оставшихся вариантов был выбран казавшийся посланнику самым надежным – быстроходный двухмачтовый барк «Святая Гледиция» под голландским флагом. Шестого августа 1719 года Джефрис поднялся на борт «Святой Гледиции». Дженкинс остался временно заведовать делами посольства.
«ГАНС и РОЗА»
С самого утра над славным городом Гамбургом бушевала гроза. Джефриса это обстоятельство особо не волновало. Он прекрасно обустроился по указанному в письме адресу, и уличные приключения его не привлекали. Сэр Джеймс был, по натуре своей, человеком замкнутым и предпочитал добрую книгу человеческому общению. Несмотря на это, все знавшие Джефриса отдавали должное его уму, наблюдательности и блестящим способностям к анализу, и именно потому ему был доверен важный пост в Санкт-Петербурге. Вытянув длинные костлявые ноги поближе к очагу камина, где весело похрустывали еловые поленья, Джефрис перелистывал прихваченный с собой труд Гуго Гроция
[25] и совсем позабыл о цели своего приезда. Плотный обед располагал более ко сну, чем к ученым трудам, так что сэр Джеймс потихоньку начал клевать носом. Энергический стук в дверь вырвал его из блаженного состояния. Кто бы это мог быть? Хозяин таверны – тихий, вкрадчивый еврей Исаак Зильберштейн – стучался в дверь по-другому.
– Входите! – с неудовольствием пробормотал Джефрис.
В комнату влетел, размахивая полами промокшего насквозь плаща, молодой еще человек, в одно мгновение кольнувший оценивающим взглядом сэра Джеймса. Сэр Джеймс, в свою очередь, также скользнул глазами по пришельцу, и отвел взгляд в сторону – уже флегматичный, и даже скучающий.
«Экий нахал!» – подумал про себя Джефрис. «Нахал» скинул плащ прямо на пол у самой двери и дернул шнур для вызова прислуги. Через мгновение в дверь просунулась физиономия самого хозяина – Исаака.
– Уберите и просушите его, Исаак! – произнес «нахал». – Никого не пускайте!
Еврей подобрал плащ и исчез за дверью. «Нахал» обернулся к Джефрису.
– Вы звали меня, мистер Картерет, – сухо и без приветствия пробормотал со своего кресла Джефрис. – Я приехал. Что вам от меня угодно?
– Я хочу убить царя Петра, – негромким, но деловитым тоном произнес Картерет, подходя к камину и протягивая к огню мокрые ладони. За окном прогремел гром. Дождь застучал по окну с новой силой. На несколько секунд Джефрис оторопел.
– Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! – Его вдруг словно прорвало. – Ха-Х-ха! Ца-аря! У-убить! Ха-ха-ха! – От истерического припадка смеха на глазах его выступили слезы, которые он, забыв про платок, вытирал руками. – Ох! Ну и насмешили вы меня, мистер Картерет!
Картерет наблюдал за Джефрисом поначалу с недоумением, и даже с некоторым опасением.
– Я не понимаю, милорд, что здесь смешного? – под конец улыбнулся он.
– Значит, я проделал весь этот путь, чтобы услышать от вас признание в намерениях убийства русского царя! – давясь от сдерживаемого смеха, ответил Джефрис. – Позвольте, я упомяну этот анекдот в своих мемуарах! – И уже серьезно закончил: Не сейчас! Через десяток лет!
– Сэр, вы знаете, кто я?
– Да, знаю, мистер Картерет! – сказал, поднимаясь с кресла, Джефрис. – Вы – один из самых выдающихся дипломатов нашего времени. То, как вы смогли уговорить шведов продолжать войну, было просто великолепно! Это чудо! Мы читали донесения с Аландского конгресса и не верили своим глазам! Нам казалось, что все кончено для шведов. Нет, это просто потрясающе! Да, кстати, – добавил он, – я хорошо знаю вашего отца. Он может вами гордиться! Но, знаете, убить царя…
– Спасибо, сэр Джеймс. Но ближе к делу. Мы с вами – англичане.
Голубые, холодные глаза Джефриса иронично сверкнули.
– Мы с вами англичане… Однако же с вами тяжело бежать вровень. То вы начинаете с экстравагантного: «Убить Петра!», то вы снисходите до банальностей: «Мы с вами англичане», – он постучал костяшками пальцев по спинке кресла. – Мы с вами дипломаты! Богом в мире установлено, что каждый должен делать свое дело. Наше дело – это создавать условия, так сказать, прояснять горизонты! А не стрелять из пушек. Или подливать яд!
– Прошу вас садиться! – не обращая внимания на сетования Джефриса, указал на кресло сер Джон. – Итак, мы с вами англичане. Скажите мне, сэр Джеймс, выгодна ли для Англии смерть царя Петра?
Джефрис устроился в кресле и сложил руки на животе. Спина его была пряма, как столб.
– Англии? Хм-м-м, Англии выгодно ослабление России и усиление Швеции. Равновесие в северной Европе и на Балтике. Эрго, Англии выгодна смерть Петра.
– Шведский лев на последнем издыхании. Вы знаете, сколько английского золота стоило мне, чтобы они продолжили войну? – спросил своего визави сэр Джон и сам же ответил: Нет, не знаете! Много. Так вот: царь уже сейчас катается в Ботническом заливе, как у себя в Финском. Через несколько лет он станет господином Северного моря, и ключи от него будут в его кармане. И вся эта мелочь – немцы, голландцы, шведы, датчане – будут плясать под его дудку. А еще немного, и он начнет душить нас. Его ресурсы неограниченны! У нас мало времени, сэр Джеймс! Очень мало!
– Царь часто болеет. Мне говорили, что он долго не протянет, – одервеневшим голосом возражал Джефрис, – у него нет наследника. Его ближайшие или страшные воры, или иностранцы, или те, кто втайне мечтает вернуться к тихой патриархальной жизни. Как только он умрет, флот исчезнет, Петербург зарастет мхом, а Московия заснет еще лет на двести. Или все может закончиться гражданской войной, как это случилось после смерти царя Ивана Грозного.
– Вы правы, – задумчиво произнес сэр Джон. – Царь – это единственное, что держит все в кулаке. Но, как знать? Если он переживет капитуляцию шведов, то все примут новые условия. И станут их волей-неволей поддерживать. – Картерет отошел к окну и выглянул на улицу. Дождь продолжал лить. По узким мощеным улицам неслись потоки воды, черепичные красные крыши тускло поблескивали под низким свинцовым небом. – Этого нельзя допустить. Он должен умереть раньше. Только в таком случае удастся загнать медведя назад в берлогу. Мы поддержим царицу Екатерину – она недалекая женщина. И поддержим Меншикова – он самый могущественный человек в государстве. Дадим ему денег. Или нет! – он резко обернулся к Джефрису. – Нет! Он же держит всё, что наворовал в нашем Английском банке! Ему только стоит намекнуть… И пусть они отдыхают от трудов и от своего беспокойного государя. Даже Петербург можно им оставить. Слишком сильные шведы нам тоже не нужны. А Петербург – весьма удобный порт для английской торговли.
– Я вижу, вы все основательно продумали! – ядовито произнес Джефрис, выглядывая из своего уютного уголка как паук. – И как же вы собираетесь убить царя? Сами? Или хотите, чтобы я подкупил его повара? Или нанял какого-нибудь каторжника? Увольте… – он тяжело вздохнул. – Я дипломат.
– Милорд! – воскликнул Картерет. – Ваши руки, как и мои, останутся чисты! Ваша задача лишь подарить Петру часы!
– Часы? – недоверчиво взглянул на него сэр Джеймс. – Какие часы? Вы хорошо чувствуете себя?
– Я вам все покажу! – воскликнул Картерет и, подойдя к двери, дернул за шнур.
– Несите! – приказал он просунувшейся через минуту физиономии Исаака. – Побыстрей!
– Часы красивые! – долго рассматривал лежащие в большой дорожной сумке часы сэр Джеймс. Он осторожно прикоснулся пальцем к фигурке кающегося Адама. Как бы нам – Аристогитону и Гармодию
[26] – не пришлось каяться, подобно бедному, согрешившему Адаму! Надеюсь, – он поднял глаза на Картерета – Вам не пришло в голову начинить их порохом?
– Нет, ну что вы… – ответил медленно сэр Джон. – Я понимаю, что вы пока ничего пока не понимаете и подозреваете меня в душевном расстройстве. Нет, нет! – он предостерегающе вытянул навстречу колыхнувшемуся в кресле Джефрису. – Я подозревал бы на вашем месте то же самое. Я вам все расскажу. Так вот…
Джефрис слушал рассказ посланника затаив дыхание. Он, этот рассказ сэра Джона его поразил и привел в замешательство своей невероятностью.
…Я оставил его в карете, а сам пошел в мастерскую за часами. Представьте себе мой ужас, когда мне сказали, что беднягу нашли накануне мертвым. Он закончил очистку часов и умер. Ключ был вставлен в отверстие, часы стояли. Он не послушал моего преодостережения, и, видимо, не выдержал соблазна. Я не знаю. Думаю, что он завел их на очень короткое время, минут на десять-пятнадцать. Просто из интереса. Тут же ему стало плохо. Впрочем, он страдал чахоткой, и никого смерть его не удивила. Только я знал, в чем дело.
– И все же, – вмешался, наконец, Джефрис, – все это сомнительно. Смерть судьи. Хмм, мы о ней толком ничего не знаем. Часовщик Арнольд. Тоже неясный случай.
– Они остановились в момент его смерти. Я видел положение стрелок на часах в спальне Арнольда и положение стрелки на этих собственными глазами.
– Ну-ну. Этот парень, возможно, умер от чахотки. Вы ведь сами сказали. Ничего твердо доказывающего влияния часов. Уж простите за мой скептицизм.
– Была еще одна смерть, – глухо произнес Картерет.
– И кто это был? – поинтересовался Джефрис. – Продолжайте, мистер Картерет.
– Это был мой старый слуга Оливер, – твердо произнес сэр Джон. – Я приказал ему завести их и повесить в моем кабинете. Через четверо суток он скончался. Лекарь так и не смог выяснить причину смерти.
– Как! – в изумлении воздел руки сэр Джеймс. – Вы вы отправили на верную смерть своего старого слугу? Вы же были уверены, что эти часы – убийца! Вы решили еще раз апробировать их на нем? У вас положительно железное сердце!
– Сердце у меня обычное. Однажды я вернулся в свой кабинет и увидел, что секретные письма, которые я написал ночью, немного сдвинуты. Я всегда подмечаю всякую мелочь. Я нашел, что некоторые из них были вскрыты. Затем я провел небольшое тайное расследование и пришел к выводу, что сделать это мог только один-единственный человек – и это Оливер. После его смерти в его вещах нашли и дубликаты ключей от моего кабинета. Отправить его в Англию было бы слишком просто. Иуду следовало наказать. А тут представился такой случай! – Картерет заложил руки за спину и прошелся по комнате. – Не спорю, – вздохнул он, – все равно совесть моя не совсем спокойна. Но, между нами, сэр Джеймс, слуги научаются этому ремеслу от нас. Соблазн слишком велик! Бедняга Оливер хотел просто подзаработать. Могу предположить, что он передавал копии писем французам. Или датчанам. Так что не верьте никому! – он обернулся к сэру Джеймсу. – Никому не верьте! Таким образом, я убедился, что часы действительно несут смерть каждому, кто их заведет. Почему это так, я не знаю. В этой истории есть какая-то страшная тайна. Может быть эта женщина, которую сожгли век назад, была и вправду ведьмой. Или… Или проклятие невинной жертвы иногда равно божественному проклятию?
– Ну, хорошо, сэр Джон. А чем я-то могу вам помочь? – отозвался эхом Джефрис. – Как я понимаю, я должен доставить их в Петербург и, хмм, преподнести, например, царю в дар. Их повесят у него в кабинете. Часы заведет некий камергер, и через некоторое время он умрет. И что?
– Вот это и есть самое сложное! – живо откликнулся Картерет. – Самое сложное это! И мы должны найти с вами выход. Как? Как сделать так, чтобы царь их завел сам? Что мы знаем о нем? Я его не видел. Говорят, он чудак и оригинал. Куёт. Плотничает!
– Да, его Величество знает множество ремёсел. Очень любознателен. Подвижен. Любит путешествовать. Питает слабость к мореплаванию. Что еще… Весьма злоупотребляет. Ха! Дружен с Бахусом. Или, как говорят сами русские, ведет бой с Ивашкою Хмельницким. Не то. А не выпить ли нам?
Через часа два оба посла уже были изрядно пьяны.
– Вот помните древнюю историю, Джон? А?
– Я помню древнюю историю, Джеймс. А что?
– Вы помните, как совещались персы? Как они решали важные государственные дела? Да?
– Я вам скажу, как они решали государственные дела. Они проводили свои совещания во время попоек, ну, как мы с вами. Наутро они вспоминали вчерашнее, и если возражений не было, то брали решение, принятое по пьяной лавочке за основу.
– Поэтому персидская держава и рухнула, Джон! Ха-ха!
– Нет, Джеймс. Она рухнула, потому что греки во время советов пили больше. Ха-ха! Все державы когда-нибудь да рухнут!
– Вы говорите страшные вещи, Джон! Знаете, сколько пьет царь Петр во время своих праздников! По вашей логике, он должен выйти победителем? Ох! Мне плохо!
– А знаете, – задумчиво прервал его Картерет. – Вино, кажется, и впрямь отличный советчик! Я знаю, как решить наш ребус. Начала силы вмещают в себя и начала слабости. Во-первых, время вручения подарка надо приискать тогда, когда царь отправится в путешествие на море, то есть, чтобы он был на судне, где число занятий невелико. Часы надо будет сломать, но сломать так, чтобы починить их не составляло труда. Царь обязательно займется этим сам.
– Верно! А русские, зная, что подарок предназначен для царя, ни за что без его приказа не прикоснутся к нему и чинить уж точно не станут. Не осмелятся!
– А уж если он их сам починит, то обязательно их сам же и заведет. Круг замкнулся, дорогой Джефрис!
– Круг замкнулся, дорогой Джон! Ну и светлая у вас голова, Картерет! Недаром вас пророчат на пост секретаря Северного департамента!
– Рано праздновать, сэр Джеймс. Все дело за вами. Сегодня же выезжайте! Плывите морем. По суше это долго и опасно. Все побережье кишит русскими войсками, и Бог знает, что может случиться. Я буду молиться за вас. Вы представляете, если план сработает? Мы изменим весь мир – я и вы! И да здравствует Англия!
– Да здравствует Англия!
– Если все получится, или нет… В любом случае, если слухи о моем назначении верны, то я сочту моим долгом исполнить ваше, Джеймс, желание, которое в силах буду исполнить. Что мне сделать для вас?
– О! Вытащите меня из проклятого Санкт-Петербурга, Джон!
– Договорились!
Они обнялись. Дождь прекратился, и на улицы Гамбурга уже хлынула веселая толпа торговцев, моряков, грузчиков, извозчиков и прочего люда. Вечернее солнце калёным ядром катилось по чистому, голубому небу. Колокол звонил одиноко.
Примечания
Джон Картерет – британский государственный деятель. В 1719 году был послом в Швеции.
Мальборо Джон Черчилль (Черчил) (26 мая 1650–16 июля 1722 г.) Знаменитый английский полководец и политический деятель. 1-й герцог Мальборо. Уинстон Черчилль является потомком герцогов по мужской линии.
Бленгейм – название местечка в Баварии, где герцог Мальборо одержал величайшую в своей карьере победу в битве с французскими войсками 13 августа 1704 года.
…ибо королевская казна не рыба в руках Иисуса (имеется в виду ссылка на Новый завет, например Евангелие от Матфея, гл. 14, где упоминается случай, когда Иисус накормил пятью хлебами и двумя рыбами более 5000 человек в пустыне).
Кюлоты – короткие, застегивающиеся под коленом штаны, носить которые имели право только аристократы. Кюлоты носили с чулками и башмаками с пряжками.
Ингрия – историческая область на северо-западе современной России. Располагается в области ограниченной с севера рекой Сестрой до южной границы примерно по реке Луге. Западной границей является берег Финского залива, Чудское озеро и река Нарва, а восточной – Ладожское озеро. Со времени Столбовского мира 1617 года область была шведским владением. В ходе Северной войны Ингрия вновь отошла к России. Кстати, Санкт-Петербург был основан именно на территории Ингрии в 1703 году.
…безжизненная часовая стрелка – в средние века на механических часах имелась только одна часовая стрелка. Минутная стрелка появилась в 1680 году.
Сцилла и Харибда – морские чудища из античной мифологии, особенно ярко представленные в Одиссее Гомера. Выражение «между Сциллой и Харибдой» сопоставляется с фразой «Между молотом и наковальней», употребляется в значении: оказаться между двумя враждебными силами, когда опасности и неприятности грозят с двух сторон.
Эльбфас Якоб – Якоб Генрих Эльбфас (1600–1664). Шведский художник, автор портретов многих политических деятелей Швеции своей эпохи.
Лютцен – город в Саксонии, где 16 ноября 1632 года произошло одно из самых больших сражений Тридцатилетней войны между шведской и имперской армией. Шведская армия одержала победу, но во время битвы шведский король Густав Адольф был убит.
Брейтенфельд – сражение при Брейтенфельде произошло 17 сентября 1631 года и окончилось полным поражением армии Католической лиги и победой протестантов, то есть шведской армии под командованием короля Густава Адольфа и его союзников – саксонцев.
«Северный лев» – так современники называли шведского короля Густава Адольфа за полководческий талант.
Регент – правитель, временно осуществляющий полномочия монарха.
Тилли – Граф Иоганн Церклас фон Тилли, знаменитый полководец Тридцатилетней войны, фельдмаршал Католической лиги. В бою со шведами у крепости Райна был тяжело ранен в ногу и умер от раны 30 апреля 1632 года.
Hexe – ведьма (Нем).
Блокула – одинокая скала посреди моря в Швеции, легендарное место шабаша ведьм.
«Молот ведьм» – трактат по демонологии и преследовании ведьм. Книга написана в 1486 году доминиканским инквизитором Генрихом Крамером (Инсисторисом) и деканом Кёльнского университета также инквизитором Якобом Шпенглером.
«И ты, Брут?» – в трагедии Шекспира «Юлий Цезарь» с такими словами умирающий Цезарь обращается к убийце – Марку Юнию Бруту. Выражение широко применяется в случае, когда говорящий считает, что его предал тот, кому он прежде доверял.
«Sed lex – dura lex» – Закон строг, но это закон (
лат).
Клипа – мелкая шведская монета квадратной формы.
…Чтобы она светила для всех. – Искаженная цитата из Накорной проповеди Христа. Подлинный текст: И, зажегши свечу, не
ставят её под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме (цитируется по Евангелию от Матфея, гл. 5).
Северный департамент – одно из департаментов английского правительства. В его ведении находились контакты с протестантскими государствами: Германией, Швецией, Норвегией и т. п. Во главе департамента стоял секретарь.
Deus ex mashina – Бог из машины – выражение, означающее неожиданную развязку той или иной ситуации с применением ранее не действовавшего в ней фактора.
Харон – в греческой мифологии перевозчик душ умерших через речку Стикс (или Ахеронт) в подземное царство мертвых.
Гуго Гроций – голландский юрист и государственный деятель. Заложил основы международного права на основе естественного права.
Аристогитон и Гармодий – древнегреческие граждане Афин, совершившие в 514 году до нашей эры покушение на братьев-тиранов: Гиппия и Гиппарха, в результате которого убили последнего и погибли сами.
Часть 2. Разбойничий остров
Глава 1
Тихо сегодня в келье. Ладога не шумит. И редко бывает, но: от тишины проснулся! Солнца еще нет, да и редко оно в эти дни. Поздняя осень. Скоро заметет поземка, закрутит пурга, и снова станем ждать прихода весны. А дождусь ли я, многогрешный Алексий, того, одному Богу известно. Темно. Братия монастырская еще спит, а мне уж пора и за молитву. Но как тихо сегодня! Значит, на Ладоге вода темна и тяжка. Обычно не так. Осенние штормы на Ладоге свирепы, не щадят они ни большого корабля, ни малой лодчонки рыбацкой. А жаль, что ее не видно отсюда, Ладоги-то. Из окошка кельи моей виден только лес, что растет по камню острова Сало
[27]. В былые дни рассказывали мне старые карелы, что давно, когда не было еще здесь христианского бога, верили они во всякую языческую нечисть: водяных да русалок, да духов лесных, да в своего верховного бога – Укко. В те дни жил в дремучем лесу у берега Ладоги огромный медведь – сильный и страшный. Боялось и бежало от встречи с ним все живое от зверя до человека. Никому не было пощады от этого медведя. Имя ему было Сало, что на местном карельском наречии было «глушь лесная», ибо в чаще лесной таился свирепый зверь. Вот собрались вместе все люди, что жили в этих местах, и начали молить Укко, чтобы избавил тот их от страшного медведя. Внял Укко молитвам человеческим, ибо кто станет приносить жертвы ему, если выведет зверь весь род людской? Но даже сам могучий Укко не мог сразу убить медведя. Выходил тот из своей берлоги ночью, когда властвует тьма, и пожирал все живое, а того в темноте видеть не мог бог языческий. Тогда наслал Укко на землю великую засуху, да столь великую, что все болота, ручейки и реки пересохли, колодцы обвалились, а вода в Ладоге стала, как в банном котле. Не выдержал тогда медведь жажды и вышел на берег озера средь бела дня, чтобы испить воды. И тогда поразил Укко медведя громовой стрелой в самое сердце, и тот упал замертво, прямо среди ладожских волн. То, что было телом, превратилось в камень, а шерсть стала лесом дремучим. Когти же и клыки медвежьи стали рифами подводными да валунами. С той поры и появился остров Сало, что от Андрусовской бухты отделен небольшой протокой – Холодным ручьем. Так старые люди говорили.
Темно. Будет ли солнце сегодня? Радость от появления солнца бывает, потому что редко оно в краю нашем. А как блеснет в небушке, и сразу мир на сердце и на душе появляется, потому что узревает человек красоту мира божия: и сосны рыженькие, и елушки зеленые, стройные, хоть и мрачные, и рябинку красную, и золотой лист березовый, и травы, и тростники бурые. И знает сердце, что пройдет время, и снова зазеленеет трава, и черемуха зацветет. И мир, и жизнь снова обновлены будут. Чудны твои дела, Господь мой! Так и в церкви, на проповеди, порой бывает, что бросаешь семена поучения в сердца людские, а видишь, что в большинстве своем все, по притче Христовой, на камень упало, и скорбишь оттого. Но, бывает, узришь, что зажегся свет в глазах иного юноши или девицы, а значит, взошло в их сердцах семя, и в свое время плод принесет, и о том стоит молиться и радоваться тому. Такое рождение пусть и редко бывает, но втройне радость приносит, как и луч солнечный редкий. И как он весь мир в миг один преображает, так и эти, младые, с новым сердцем человеки в свое время тоже мир преобразуют, и к Богу ближе станет род людской. В сие крепко верю! Лишь бы только Бог силы мне даровал для наставничества, чтобы крест свой нести и дальше мог. Тяжек он – крест этот – но без того нельзя. И кем бы я сейчас был, если бы в свое время архимандрит Геннадий меня – отрока – и горение в сердце моем не приметил? Светлая память ему от всех душ им обращенных! Масло в лампадке, видать, кончается, еще чуть-чуть и погаснет. Однако же: вот светлеет небо за лесом…

Мир пытается проникнуть в обитель отовсюду: через окна да двери, с лучами солнечными да лунным посветом, с ветром, что заносит порою капли дождя или аромат хвои сосновой. Зимой со снегом белым, морозным паром да треском дерева от стужи. Но гаснет мир в этих каменных стенах. Не место ему здесь. То же и со временем. Буйно и скоро пролетает оно в миру. Здесь не то. Вот вечер. Время течет в монастыре ручейком журчащим, малою росою капает, тонкой струей сочится, а вот гляди, как капли эти жизнь монашескую стачивают! И не замечаешь сего до поры, пока случаем свой лик не узришь. Иль иногда явится среди паствы моей некто, кто давно уж отсутствовал на родине, но вернулся. И тогда только видишь, как за годы обветшал человек. Иль на себя взглянешь в зерцало и подивишься: вот еще морщин прибавилось, а волос и вовсе бел и зрак не зрит остро. Но о сём не скорблю, а на божию мудрость уповаю, ибо вся жизнь по его установлению так построена. И нет в ней ничего неразумного, как иногда кратким человекам мнится. Зеркало. Чаще нам бы, многогрешным, в зеркало смотреться. Мысль добрая пришла ко мне. Надо бы братии, да прихожанам ее показать, что подобно тому, как перед зеркалом человек прихорашивается, да чистится, чтобы перед людьми в добром обличии предстать, таково же следует и в зеркало души своей глядеться, дабы, стряхнув пыль суетности, мыслей злых и прегрешений, пред Богом всевидящим в чистоте душевной встать. Зеркало. Почему-то покою оно мне сегодня не дает. Мысли все к нему покружат да и вернутся. А когда же я в первый раз в зеркало гляделся? Ух, сейчас и не припомню. Многое уж в памяти стерлось, а вот что по сию пору перед глазами стоит. Лет мне семнадцать, а стою я на камешке, что прямо в воде у берега озерного лежит, понизу склизью зеленой обросши. Мальки возле камня в воде суетятся, корм себе ищут. Редкостно тихая Ладога. Такая она почти только по лету и бывает, тоже как зеркало. Солнышко не скрылось еще и вот-вот в воду заныривать собирается. Такое бордовое, словно клюква-ягода, и смотреть на него приятно. Тепло. Водою озерной пахнет. И тихо. Даже чайки-разбойницы не шумят. Как вдаль глянешь – сердце заходится! И думаешь: а что же там, на том берегу? Как там люди живут? И хочется по всему кругу земному пройти, ан родина не пускает. Воды испить нагнулся, и лик там свой увидел – юный да пригожий. Волосы светлы да и длинны довольно, похоже, уже отросли с последнего Григорьева остригания. Борода еще не росла у меня, потому и подбородок чист. Глазами сер, это сейчас они повыцвели. И румянец по щекам. Да загар озерный, медный – ведь круглый день на озере проводил. Боже! В каком году это было! Коль сейчас 72, знать, по новому указному исчислению это 1664 год от Рождества Христова!
Глава 2
Возвращаюсь я, отрок, с берега озерного по тропке лесной ко прочим. Близко от берега, на острове Сало, с полверсты, поляна средь леса. На ней четыре избы квадратом поставлены, а промежутки меж избами частоколом обнесены. В частоколе ворота тяжелые, изнутри бревном приваливаются. В избах окон в наружную сторону нет, а прорублены узкие щели, из мушкета можно в них отстреливаться. В одной избе живет атаман – Василий Васильич имя ему. Там же и дуван
[28] весь хранится, а еще оружье с порохом. В другой – повар Петрушка харч готовит. Петрушка редко уж на разбои ходит, ему в деле одном бердышем
[29] ногу посекли. Кость срослась, да криво – оттого ходит он медленно да косо. Дрова готовит по лету на зимнюю пору, кашеварит, да во время свободное ловит удой рыбу на Ладоге. Ему я с самого детства помогал. Тоже дрова носил, за печкой смотрел, посуду ходил мыть на озеро по лету.
Протискиваюсь в приоткрытые ворота, к ближней жилой избе иду. Все уж за столом, кроме Ванька и Фаддея Клыка, уху хлебают. Ванек сегодня дозорный, вкруг острова ходит, караулит, чтобы стрельцы невзначай не нагрянули или иной чужой человек на крепостцу не вышел. Клык рыбалку больше жизни любит, оттого, лодку взявши, уплыл на соседний большой остров Гачь. Там у него шалашик, там он днями и пропадает до самой зимы. Заодно высматривает купцов проезжих, что вдоль берега Ладожского к Свири и далее на судах малых следуют. Клыком же был прозван Фаддей, когда спьяну, в Олонце будучи, с купцом подрался, и тот ему с удара одного зуб по леву сторону вышиб. Дядя Гриша уж ложку отложил, вертит лысой круглой головой, посматривает весело. Человек он бывалый, жизнь его била, но живости да нрава доброго не выбила, оттого и любят его все. Разговор нынче о народах всяких и обычаях воинских зашёл.
– А что дядя Гриша – так дядей Гришей его все, несмотря на возраст, и кличут, и старый и молодой, уж не знаю, как это и повелось – а вот свеи
[30] эти, что тут раньше озоровали, они какие в бою?
– Свеи-то? Люди как люди, деньгу, опять же, любят, в бою жалости не знают. В Смуту нанимал их царь Васька Шуйской
[31] поляков воевать, да за золото они царя то и предали. Однако! – тут Григорий наматывает на палец прядь бороды, – в привычку ему это, – однако, в бою стойки и храбры. Своего капитана крепко слушают и приказа его держатся. Особо в атаке страшны, когда строем ломят. Люди все высокие, дюжие. И, опять же, слово твердо держат, и все по закону чтут. Вчера ты с ним на ножах резался, а как мир подписан, так он к тебе со всем почтением. Недаром купцы наши в Стекольное королевство ездят и спокойно торгуют, едва война кончается. И никто их там не трогает. Много их там, в Стекольном-то королевстве, как комаров.
– Ну, а вот ляхи?
[32]
– Ляхи, брат, другого пошибу люди. Горд лях, заносчив, как петух индейский. Иных земель людей за бедных родственников держит, а что до мелкого люда, своих крестьян да холопов, так тех и вовсе за божью тварь не считает. В бой идет, крылья лебедевые на спину нацепит, каменья, плащ цветистый, ровно к девке на свиданку. Как на тебя несется – ух! Страшно-та! Но мы их на Украйне немало с коней поснимали! Панов своих, воевод, из гордости не слушают, все на свой лад и в бою хотят переменить. А бою того нельзя. Оттого и говорю: при одной храбрости, без ума, в деле нашем недалече ускачешь.
– А что немцы, дядя Гриша? – теперь интересуется Косой. Косой – это Митька. Глаз у него повышиблен, оттого носит он платок на глазнице, и кличка его оттуда же.
– Немец, Митька, я так тебе скажу, что швед. Да и обличьем, и речью они люди сходные. Ну и обычаем воинским. Эти и чихать-то станут, только коли воевода или капитан ихний разрешит.
Мне интересно, и я снова спрашиваю Григория насчет турок с татарами. Дядя Григорий разводит руками:
– С ними в деле не встречался. Но сказывали мне казаки черкасские, что люди они опасные, те татаровя. Предадут – глазом не моргнут. Ты спиной к ним воротиться не моги – нож быстро воткнут. Договора не чтят, у союзника своего могут города да села до нитки обобрать да пожечь. Девок да парней молодых в полон угоняют, а стариков саблями, как скот, секут. Вот как! Турки – те у них господами. Они турок во всем слушают. Если хочешь, о чем договориться – езжай напрямик к паше турецкому аль к самому султану…
Вот Митьку Косого припомнил. Всё Митька на Дон собирался и всех на то подбивал. Отговаривали его – путь неблизок, а пока доберешься, непременно где-нибудь тебя да задержат стрельцы. А там суд да расправа, и вот щурится лихая головушка на колу пустыми глазами. Конец Митьки страшен был. В вечер один собрал нас, кто свободен был от караула, атаман Василий Васильич. Хмуро и тяжко глядел, аж мороз по спине пробегал. Расселись за столом, словно на ужин: Петрушка Повар, Ванек Рыбак, Иван Копейка, Скирда, Митька Косой, Дядя Гриша да Фаддей Клык, да я, как младший, с краешку притулился. Солдат в тот день караул на острове держал. Сам атаман встал в дверях да пистоль заряженный вытащил. Молчали все да голову ломали, к чему бы это?
– Значице так, мои сотоварищи. Завелась средь нас крысь поганая, а так негоже. Не по-божески это, когда кто у товарищев своих крадет или если напраслину говорит, это тоже плохо. Говори, Рыбак, говори перед всеми, напрямик, что видел. Коль соврал – застрелю!
Атаман замолчал, и бурой кровью налилось лицо. Не смотрел ни на кого. Косил глазами на пол, да как будто с пистолета что выцеливал на половице. Ванёк, бледный, встал, в столешницу вцепился.
– Поутру, Василь Василич, пригреб я с Гача острова. На заре окунь там брал хорошо, ну, думаю, надо скорей везти, чтоб, значит, не стух. Подгреб я к нам, к берегу. Кукан взял, на берег поднялся, несу…
Слушали все Ваньку внимательно, слова никто не произносил. Только видел я, что побледнел Митька Косой да ворот рубахи стал расстегивать, будто жарко ему стало.
– Лесом иду. Припёрло мне нужду малую справить. Рыбу-то я на мох положил. Делаю, что положено, – Ванек, ведя речь, иногда поднимал опущенные вниз глаза и глядел на того или другого человека, как будто одобрения просил. Глаза его водянистые в темной избе поблескивали. – Гляжу, как меж двух каменьев, что у болота лежат, копается кто. И оглядывается, стережется как будто. Я сперва подумал: чужой человек. Да как он-то на остров попал? Ан присмотрелся, глядь, это Митька Косой – на лбу плат. Я сперва кликнуть его хотел, да любопытно мне стало, что человек под камнем скребет? Он, значит, головой покрутил, да и к нам на заимку пошел. Я к камням. Где по свежему песком да мхом покрыто было, покопал и – глядь! Ан там мешочек, а в мешочке том серебро, да серьги с кольцами, да жемчуга. Ну, вот и все. Я мешочек тот сюда и принес.
С этими словами Ванька вытащил из-за пазухи полотняный с цветками мешочек и отдал атаману.
– Твое добро, Иуда? – мрачно обратился атаман к Митьке, подняв над головой мешочек. – Перед всеми ответствуй сукин сын!
Косой сидел, ни на кого не глядя, обхватив голову руками, и молчал. Судорожно подергивались плечи его. Плакал, может быть?
– Ясно, – прохрипел, немного помолчав, атаман. – Речь моя короткая будет. Когда кто к нам в артель приходил, то уговор был такой. Все добытое кидаем в общий котел, без обману. В нашем деле кровавом по иному нельзя. Вору – смерть! Ты, Митька, тот закон порушил.
Атаман страшными, черными от гнева глазами смотрит то на одного, то на другого. Дойдя до меня, вздрагивает, отходит от двери и говорит: «Алешка, мал ты еще для таких дел. Ступай из избы. Судить Косого будем».
Я выхожу из избы и вижу трясущиеся плечи Митьки, бледные лица да лоб почесывающего хмурого дядю Григория. Через полчаса Ванек Рыбак, Иван Копейка и Скирда вытаскивают из избы упирающегося, со связанными руками Митьку. На голову Митьке был наброшен мешок, и звериное, нечеловеческое завывание доносится оттуда. И так страшен этот вой, что я зажимаю уши руками, чтобы не слышать его. Мужики волокут Митьку к озеру. Вой становится все тише и тише и затем совсем глохнет в ветвях сосен.
Зимой разбоем не промышляли. Зверя и птицу били по лесам. Рыбу сетями ловили, как только лед на озере становился. Хлеб припасали с осени. Что-то перепадало с ограбленных купеческих лодок да судов. Когда не хватало, отправляли человека в Олонец на рынок. Но часто так не делали. Олонец – городок невеликий, и всякий новый человек там весь на виду. Недолго было и к воеводе олонецкому в розыск попасть под батоги. Слух о разбое на Ладоге все-таки шел по земле. До сих пор удивительно мне, что монахи, кои в монастыре Андрусовском жили, никогда про нас воеводе так и не донесли, хотя про нас все знали. Ведь жили то мы по соседству. В монастыре уху варят, а мы уже унюхали про ту уху. Думаю так, что без серебра разбойничьего, что на поминки да на пожертвования шло, не обошлось.
Зимними вечерами доставал дядя Григорий старую Библию, еще от руки писанную, и читал нам подолгу. Он один грамоту ведал. Любили все его чтение послушать: и про мира сотворение, про потоп, про исход Моисеев, и про страсти Христовы. Слушали, а каждый про себя услышанное к себе примерял да грустную думу думал. Много крови невинной у каждого на совести было. А как назад податься? Не начнешь жизнь заново.
Однажды – было мне тогда годов пять или шесть – усадил меня дядя Григорий на колени к себе и говорит: «Буду тебя, Алешка, грамоте учить». Показал мне одну заглавную буквицу и называет: это «Аз». А это «Буки». Ежели, Алешка, наоборот читать, то получится «Буки» и «Аз»—«Ба» получится. А ежели два раза то прочесть, то «баба» получится. А вот буковка «Мыслите» – ммм. Ну-ка, Алешка, чти ее сперва, а потом чти «Аз», что получится?
Я смотрю на полуосвещенные бородатые лица жадно внимающих мужиков и бодро начинаю: Ммм-а. Ма, дядя Гриша! А ежели два раза, то выйдет мама!
Дядя Григорий, довольный моими успехами одобряюще хмыкает и гладит меня по голове.
– Пойдет дело! – говорит он – Ну, слезай Алешка с колен, отсидел уже. Хватит на сегодня.
– Дядя Гриша, а где моя мама? – спрашиваю я.
Григорий мрачнеет и машет рукой.
– Того я не знаю, никто того не знает. Нашли тебя мы совсем малым. А куда родители твои делись, того не знаем.
Лишь позже узнал я, что однажды напали разбойники на ладью, что плыла с товаром в Сердоболь
[33]. Всех, кто на ладье той был, убили да в воду бросили, без всякой пощады. Посреди них и родители мои были. А меня, малого, не решились убить – никто на себя грех такой не смог взять. И порешили взять меня к себе на воспитание, вот как иногда в жизни бывает! Темна душа человеческая! Иной кровь человеческую без жалости льет, а курице голову отсечь не может из жалости. Или за собачонкой тонущей в воду прыгнет, жизнью не дорожа.
Большого ума и доброго сердца был дядя Григорий. Грамоте обучил меня. Как из мушкета стрелять или как дудочку из ивы вырезать. Где и когда рыбу ловить и как ночью по звездам дорогу найти. Как в лесу не заблудиться и как парусом управлять. Да и многому чему еще. И в монастырь Андрусовский
[34] он меня отвел, за что спасибо ему особое, ибо хотя был дядя Гриша старой веры, а веру новую за ересь почитал, все же решил, что так для меня лучше будет. И вот ведь как привел Бог, что судьба ему тяжкая выпала. С молодых лет был он боевым холопом
[35] у князя Федора Юрьевича Хворостинина. С князем своим ходил он в походы по царскому указу в Малороссию против поляков, а затем против шведов в Ингерманландию, под городок Шлиссельбург. Был ранен два раза, спас жизнь однажды господину своему князю Федору. Но не воздал своему слуге добром Хворостинин. Увидел однажды пьяный князь, как крестился Григорий на старый обычай двумя перстами, ругал он слугу своего много, бил ногами и драл за бороду, называя собакой Аввакума
[36]. Не стерпел Григорий такого поношения, ударил пьяного князя так, что тот с ног свалился. Схватился князь за саблю, и если не бежал бы Григорий, то принял бы он смерть в ту же минуту. Дело было под городком Нотебургом, который русские осаждали в 1656 году. На суше не было спасения ему, с собаками догнали и затравили бы бежавшего холопа. Но сел Григорий в лодку и погреб подальше от берега в Ладогу, и ночь его уберегла. Ночь октябрьская пасмурной была, и он сбился и не знал, куда ему грести. Шторм разразился, и два дня швыряло его волнами так, что он уже простился с жизнью. Голодного и сильно простуженного прибило его, наконец, к устью реки Тулоксы, где его подобрал местный рыбак карел – Войтто. Два месяца находился Григорий между жизнью и смертью, но выходила его жена рыбака знахарка Сиркка. В семье Войтто жил Григорий до весны и научился понимать карельскую речь. Вернуться к мирной жизни Григорий уже не мог. По челобитной князя Хворостинина искали беглого холопа по всем городам, а уйти в места дальние, заповедные, где не ступала нога слуг царских, средств не было. Потому, как только узнал от карелов Григорий о лихих людях, что живут на дремучем острове Сало, то сразу же сел он в свою лодку и отправился к ним. Так стал бывший холоп и воин разбойником. Я же другой жизни, кроме разбойничьей, и не знал. Всех сотоварищей своих за братьев считал – они мне за семью были. И не сведи меня дядя Григорий в монастырь Андрусовский, так бы и стал я тоже убийцей, да и жизнь моя коротка была бы. Помню, причесал мне кудри мои дядя Гриша, рубашку новую, белую заставил надеть да сапожки новые же и говорит: «Вот Алешка, пойдем с тобою сейчас в монастырь. На людей посмотришь, не то совсем одичаешь тут с нашей собачьей жизнью». Мне и страшно, и любопытно было. Никогда до той поры в люди не выходил. Все на острове браживал да иногда с атаманского разрешения на соседний остров Гачь ездил рыбу ловить с сотоварищами. Хотя вроде бы и дела-то! С нашего острова рукою до монастыря подать – вон стены белеют и звон колоколов доносится. Переехали протоку, что Холодным ручьем зовется, и далее пошли. Не помню уж, праздник ли был какой, но народу много было. У меня отрока голова кругом пошла, как в ворота зашли! Были здесь и карелы, и русские от мала до велика. Я по возрасту своему всё на девок смотрел да дивился! Видно, лик у меня глупый был, так что дядя Гриша даже рот мне велел закрыть, чтобы мухи не залетели. Все ухмылялся. А уж когда в монастырь зашли и когда я красу каменную впервые увидел да росписи на стенах, иконы в окладах драгоценных при свете свечном! Сердце у меня от восхищения обмерло! Как службу церковную выслушал, не помню, все как в тумане было. Дядя Григорий исчез на время некоторое, видно, дела у него некие в монастыре были, а я того и не заметил сначала. Сказкой все было для меня. Затем еще несколько раз мы с Григорием вместе в монастырь ходили. Потом уж я тайно брал лодку и сам приезжал проповеди отца Геннадия послушать. Эти-то двое – дядя Гриша и отец Геннадий – меня к Богу и людям то и привели. Поклон мой им за то низкий.
Глава 3
Ночь в августе уже темна. Поначалу кто-то колотнул в раму оконную, слюдяную, и все, проснувшись, приподняли головы, как гуси: что там? Затем по шагам на крылечке да по покашливанию поняли: никак, атаман идет. Так и случилось. Дверь скрипнула, и голос атамана Василия загромыхал на всю избу: «Одевайтесь, ребятушки, да выходите скорее. Дело ждет». Одевались быстро, тревожно было на душе. Во дворе атаман с Петрушкой Поваром уже приготовил мушкеты со свинцом и порохом, зажег факел и всматривался в лица выходящих из избы людей. Когда вышли все объявил.
– Вот что, ребятушки. На Гаче купцы ночуют. С той стороны у них лодка да два корабля малых с товаром у берега стоят. Рыбак их высмотрел. Числом их девять. Видать, про нас не ведают, не то здесь не стали бы останавливаться, дальше проплыли бы. Брать их надо до зари, пока сонные. Мню так: ты, Григорий, человек опытный, возьмешь Петрушку да Алешку. Петрушке по воде не бегать, а парнишку пора к делу приучать. Поплывете вкруг острова, наперехват, ежели кто с ночевки от нас уйдет. Мушкеты возьмите да копья, что ли. С ними сподручней. Мы же, – обвел атаман бледные, даже при свете факела, бородатые лица, – с этой стороны высадимся да тропкой на купцов с божьей помощью выйдем. Все идем. Теперь бери свое ружжо каждый – да в путь.
– Не мало ли вас для такого дела будет? – вмешался в речь атамана Григорий. – А ну, как они не спят? Да и оружие при себе они тоже иметь должны.
– Не должно бы того быть, – подумав, ответил атаман, – люди все опытные. С мушкетов как грянем, а там, поди, все и сами лапки поднимут.
– Дай-то Бог!
Шли по тропе, лязгая оружием и глядя под ноги. Темь была, хоть глаз выколи, лишь свет от факела впереди выхватывал поблескивающие хвоей ветви елей. На берегу у лодок их встретил топчущийся в ожидании Ванька Рыбак. Увидев подходивших сотоварищей, радостно, издали уже, затараторил скороговоркой:
– И как я только их сразу не заметил! На гряду выехал, сижу. Нет клева – и все! Ну, думаю, пропал вечер! Уж спать, было, собрался воротиться. Вдруг чую! Дымом, вроде, как пахнет, да с ухою! Я носом по ветру. Откуда, думаю, дым с острову?..
Ваньку никто особенно не слушал. Мушкеты зарядили здесь же, в лодки побросали топоры, копья и сабли. Нож каждый всегда носил при себе.
– Ну, с Богом, ребята! – раздался голос атамана Василия. – Рассаживайсь!
Через минуту маленькая флотилия уже гребла к едва видимому в темноте горбу острова Гачь. Весла в опытных руках бесшумно раздвигали мелкую рябь на черной воде. Чуть спустя отряд разделился. Две лодки плыли прямо к острову, третья взяла левей, к его оконечности. Еще можно было некоторое время разобрать речь Ваньки, который продолжал рассказывать, как разведывал стоянку купцов, но уже все тише и тише. Наконец, черная смутная тишина поглотила все.
– Давай, давай! Налегай! – командовал Григорий. – Надо нам поспешать, путь у нас длинней. Опоздать можем! Пока обогнем остров, наши уже начать успеют!
Петрушка возражал.
– Не успеют, Григорий. Пока в темь такую через лес пройдут, да чтобы тихо! Вкруг остров оплыть смогем!
На весла, однако же, налегал.
Гребли Григорий с Петрушкой. Алешка сидел на кормовой скамье и сонливо ежился от ночного холода. Странным казалось ему все происходящее. Неужели вот эти, родные ему, с младенчества знакомые люди, сейчас будут убивать других, незнакомых ему людей, которые не сделали им ничего плохого. И неужели он тоже будет убивать? А как же Христова заповедь «Не убий», про которую он слышал от дяди Григория? Спросить его сейчас? Нет, слишком томно и дрёмотно сейчас. Сотоварищи рассуждают часто, что их вера правая, от предков им дана, а тот, кто крестится тремя перстами, тот дьяволу и Никону-патриарху
[37]сообщник. И так выходит, что они, никонианцы, кукишем крестятся и тем дьявола тешат. Получается, что товарищи его право на убийство имеют? Тогда зачем водил его в монастырь никонианский дядя Григорий? Он, Алеша, чувствует, что дядя Гриша сам в вере своей не тверд, и не знает, где правда. Запутался он совсем. Ведь и человек хороший, и с ворогами Руси воевал, а надо же так жизни повернуться, что самого теперь по всему государству ищут, а он в разбойниках обретается! Неправильно все это! Не такой жизнь быть должна. Надо отца Геннадия о том спросить. Отец Геннадий. Раньше, когда приходили они с Григорием на проповеди в монастырь, во время речи посматривал на него с амвона отец Геннадий остро, как шило в душу втыкал. Однажды их в воротах встретил, когда они уходить уж собирались. «Олексея в следующую субботу приводи, Григорий, поговорить с ним хочу», – сказал. А у меня и душа зашлась от волнения, что такой человек строгий да мудрый меня приметил. Так с ним и познакомился, так моя жизнь по-другому пошла. Сегодня дядю Гришу спрошу, сегодня…
Алешка озяб. Поправил сонно воротник кафтана да руки под мышки упрятал. Вода журчала под веслами. Так и не заметил, как заснул, и голова свесилась на грудь.
Очнулся он оттого, что кто-то тряс его за плечо. Сонно захлопал глазами: «Что?»
– Тихо, черт! Да проснись ты! Храп до Олонца слышно! – ворчал дядя Гриша, пробираясь к носу лодки. Петрушка хихикал, весла снимая. Лодка уже стояла почти у самого берега возле каменной гряды с другой стороны острова Гачь, и Алешка изумился, что так долго умудрился проспать. Рассвет уже тронул макушки елей на острове и на берегу, и Ладога заголубела под неясным еще солнечным светом туманной дымкой, из которой, как в волшебном представлении, постепенно прорезались горбатые силуэты островной гряды. Дядя Гриша деловито подсыпал порох на полку мушкета и аккуратно положил его рядом с собой. Алешка внимательно смотрел на островной берег. В сотне саженей от них из леса на гладь воды выползал серый язык дыма от костра. Было тихо.
– Да где же ватага-то наша? – начал было Петрушка, как вдруг резкий треск ружейного выстрела расколол тишину. – Гах! Гах!
Все трое вздрогнули. – Гах! Гах! Ааааа! – Крик человеческий слабо донесся до них и прекратился – Гах! Гах!
– Смотри! – крикнул Григорий, указывая рукой на отскочившую от берега лодку, в которой изо всех сил загребали веслами две человеческие фигурки. – Уходят! Живо на весла! Алешка, мать твою! Быстро! Быстро!
Алешка с поваром гребли изо всех сил, упираясь ногами в можжевеловые шпангоуты лодки. При каждом гребке лодка глубже зарывалась носом в воду, как будто кивала. Дядя Григорий, присев на одно колено, выцеливал на носу из мушкета гребущих беглецов, и выражение его лица стало хищным и страшным. Алешка, выворачивая голову, иногда цеплял краем глаза его широкую спину и мельтешившую впереди них лодку. «Гах!» – выстрел из мушкета был так неожиданно громок, что он выпустил весло из рук и вскочил, чтобы посмотреть, что происходит. Один из гребцов, который сидел с левой стороны, уже заваливался назад, все еще цепляясь за весло, которое свечкой поднялось над бортом лодки. Второй суетливо крутился в ужасе, не зная, что делать. В одиночку уйти от погони ему было невозможно, и он, наконец, парализованный страхом, встал в своей лодке во весь рост, подняв руки.
– Греби скорей! Лешка, собачий ты сын! – закричал Григорий, и Алешка снова взялся за весло.
– Левей, левей держите, черти! – командовал Григорий. – Налегай!
Их лодка на всей скорости врезалась в борт лодки купеческой. От сильного удара Алешка с поваром едва не свалились со скамьи. Человек с поднятыми руками не удержался на ногах и с плеском навзничь упал в воду.
– Петька! Держите за борт! – крикнул дядя Григорий, ловко перепрыгивая в купеческую лодку. Повар ухватился за ее борт и подтянул к себе. Алешка, бледный, с расширенными от ужаса глазами, смотрел на лежащее на спине безжизненное уже тело человека в белой холщовой с тонким пояском рубашке, залитой кровью. Крови было много. Она смешалась с водой на дне лодки и окрасило доски днища в чудный ало-бурый цвет. Ноги человека, обутые в лапти, так и остались лежать на скамье. Кудрявая голова откинулась назад, бородка торчала вверх. Глаза были полузакрыты, и смерть затягивала уже их стеклянной мутью.
– Ну! Н-н-у! – крикнул дядя Григорий, размахнувшись мушкетом. Алешка поднял глаза и увидел вцепившиеся в борт лодки руки второго человека, его мокрую, с прилипшими ко лбу редкими седыми прядями волос голову и глаза, полные ужаса.

– Православные! Люди добрые! – прохрипел он. – Христа Бога ради, отпустите! Жена у меня! Детишки… Все добро забирайте, молчать буду! Христа Бога… Не вы…
Он не успел договорить, как приклад мушкета раздробил ему пальцы левой руки, содрав кожу до синих костей, которые через мгновение окрасились кровью. Купец ойкнул коротко, жалко, и смолк. Он все понял. Как завороженный, видел Алешка, как медленно дядя Григорий отводил мушкет для второго удара.
– Дядя Гриша! – Алешка сорвался с места и обеими руками вцепился в тёплый ещё ружейный ствол. – Дядя Гриша! Не убивай его! Он никому не скажет! Давай отпустим! Ты сам говорил! Не убий! А как же Христос?!
Дядя Григорий, по-звериному рыча, выкручивал из рук Алешкиных мушкет, но тот мертвой хваткой держался за ствол. Тогда Григорий выпустил мушкет из рук, и Алешка от неожиданности рухнул с ним спиной в нос лодки. От удара о дно он на мгновение потерял сознание, но тут же вскочил. Дядя Григорий стоял уже с веслом в руке, снова готовый ударить купца. И на всю оставшуюся жизнь осталось в памяти Алешки, как в смертном томлении смотрел на него вцепившийся одной рукой в борт старый купец, а второй рукой – раздробленной и кровоточащей – благословил его, Алешку, крестным знамением, и губы его, дрожа, шептали неслышимое.
– Ну! Нуу-у! – уже в истерике закричал дядя Григорий, и весло в руках его тряслось. – Нууу!
Рука купца разжалась, и лицо его исчезло за бортом. Слышно было, как будто кто по дну лодки поскреб, и все стихло. С минуту все сидели неподвижно, молча. Затем Петрушка крякнул.
– Чудно! Жись прожил, но эдаково еще не видел. Его бьют, а он Алешку крещает, собака никонианская.
– Да заткнись ты… – прикрикнул потемневший и сникший, как будто из него воздух выпустили, дядя Григорий. – И ты хорош! – обратился он к Алешке. Алешка его не слушал. Его тяжко, долго рвало, и он, икая и содрогаясь всем телом, пил сладковатую озерную воду, зачерпывая ее рукой.
– Глянь, Петрушка, что там, на берегу, – махнув рукой, отвернулся Григорий к повару.
– Кажись, наши на берег выходят. Плыть надо.
На двух лодках – на купеческой Петрушка с мертвецом, а на другой Григорий с Алешкой – пристали они к каменистому берегу. Григорий затянул лодку на берег. Алешка, как окаменевший, сидел на задней скамье, глядя перед собой мертвыми незрячими глазами. Григорий, который шел уже, было, к суетящимся у купеческого лагеря разбойникам, оглянувшись на него, заколебался и вернулся назад.
– Алеша! – грузно сел он рядом с пареньком и погладил его по русой вихрастой голове. – Слышь, Алеша? Нельзя было того купца отпускать.
И Григорий почувствовал, как плечи Алешкины в плаче затряслись.
– Он бы стрельцов навел! Висеть бы нам тогда в Олонце на площади, ворон кормить. Эх, не след бы тебе к нам… А может, и того, привыкнешь.
Алешка сопел, вытирая слезы.
– Эх, жизнь ты наша собачья! – ругнулся дядя Григорий вставая. – И честно дрань, и нечестно срань!
Шаги его зашуршали по гальке, удаляясь.
– Дядя Гриша!
– Ааа?
– Дядя Гриша, ты ведь не такой… Ну, ты ведь добрый… Как же так?
– Разбитую чашку не склеишь, Алешка. Был добрый, да весь вышел.
* * *
Подходя к разбойникам, Григорий издали еще почуял неладное. Убитых уже раздели до исподнего, вещи были связаны в узлы, и все собрались гурьбой у костра, ожидая Григория.
– Что? – бросил он, подходя, заметив озабоченность на лицах.
– Григорей Михалыч! – снял шапку и поклонился ему Фаддей Клык. – Худо наше дело!
– Что? Говори скорей!
– Скирду, того, убили! – Клык вздохнул и мелко перекрестился. – Господи, спаси его и помилуй! А еще того хуже, атаман наш, Василь Василич…
Григорий потемнел лицом и потер лысую голову.
– Не, он живой, только вот голову ему проломили не пойми чем. Без чувствиев лежит! – Клык вздохнул, и все закачали головами. – Боимся, не жилец он, Василий-то. По всему видать, тебе, значит, атаманствовать.
Атаман Василий Васильевич лежал на мху между двух больших елей. Под голову ему положили свернутую рубашку, кожа с левой стороны темени была содрана и висела клочком, кость черепа была, очевидно, раздроблена и залита запекшейся уже черной кровью. Атаман лежал без сознания, и лишь иногда стон вырывался из его груди, да руки судорожно сжимались, сдирая мох с камня.
– Похоже, что прикладом или дубиною какой! – заметил Григорий. – Вроде даже и щепа торчит. А тронуть, может, и помрет. Худо!
Некоторое время судили да рядили. Никто не знал, что делать. Григорий молчал и лишь выслушивал мнения спорящих товарищей своих. Наконец поднял руку. Все смолкли. Так их всех, в молчании смотрящих на нового атамана своего, и запомнил Алешка: Фаддея Клыка, Копейку Ивана, Петрушку Повара, Ванька Рыбака, Солдата. Мало их осталось. Начал свою речь Григорий.
– Выслушал я вас, товарищи мои, и вот что вам скажу. Вы меня в атаманы выбрали, а потому слово мое вам в закон идет. Так мыслю, что и слава о нас недобрая по миру идет, и жизни тихой нам не дадут. Коль умрет атаман Василий, то надобно будет дуван наш делить по совести и всем расходиться, кому куда хочется. Но доколе жив наш атаман, то я человек ему временный. Без лекаря умрет Василий, а взять его негде. Одно только спасение ему: в деревеньке Мергойлы, что на Тулоксе-реке, живут карелы. Меня, когда бурею туда занесло, бог по болезни хотел уж к себе призвать, да выходила меня Сиркка – жена спасителя моего, рыбака одного. Войтто его величать. Вот уж кто болезни человеческие ведает, так это она! В Тулоксу Василия не повезешь, разнесется то. А Сиркке нужно бить челом, чтобы она хоть на несколько дней приехала бы да атамана глянула, а там как Бог поможет.
– Так она, Сирка эта, поди, еще язычница? – угрюмо заметил Иван Копейка. – Не быть добру, ежели ведьма языческая атамана лечить станет. От дьявола это, Григорей!
– Коли она меня выходила, так это тоже от дьявола, Иван? – рассвирепел Григорий. – Иди сам выхаживай атамана, коли так! Можешь?
Иван, угрюмый и молчаливый, отвел глаза и сплюнул.
– Ну, как знаешь, Григорий. На тебе грех…
Он не успел договорить, как Григорий, подскочив к нему, схватил за грудки и стал трясти как грушу. Лысина его побагровела.
– Грех! Грех, Ванька! Что ты знаешь о грехах? – голос Григория срывался в крик. – Ты сколько душ сегодня сгубил без вины, а? А за время, что разбойничаешь, сколько? Не от дьявола это? Грех!
К ним подскочили и растащили в стороны.
– Чего это он? Я что… я, токмо, сомневаюсь. Пусть его хоть баба Яга лечит. Раз Григорий атаманом… – бормотал, оправдываясь, Копейка. – Пускай оно…
– Теперь слушай приказ мой! – продолжил Григорий, уже успокоившись. – Я да Алешка, да еще Ванька Рыбака возьму, он помоложе-то веслами махать, сейчас же поплывем в Тулоксу. Сиркке с Войтто челом бить. В вечер вернемся, хоть пусты, хоть полны. Вы же убиенных снесите в корабли да притопите от берега подале. Товар сгрузите на одну лодку. Затем вертайтесь, Василия взяв на Сало. Скирду тоже. Там схороним. Там и нас ждите.
На том и порешили.
Глава 4
До речки Тулоксы добрались они быстро – под парусом с попутным ветром. День был редкий. Солнце светило как в июле, хотя уже август перевалил на вторую половину, а гладь озера, как вытащенная из воды рыба, серебрилась мелкой рябью. Всю дорогу они промолчали, поминая про себя события сегодняшнего утра. Река Тулокса невелика. Берега её, обросшие соснами по песку, живописны и радуют глаз плывущего по ней. Немного выше по реке начали попадаться им отдельные крестьянские дворы с серыми рублеными избами и черными закопченными дымом баньками. Алешке все это было в диковинку, и он с любопытством провожал взглядом каждый двор, огороды с капустой и репой, поля с чахлым ячменем и рожью. Несколько собак с лаем бежали за ними по берегу, потом отстали. Ванек Рыбак плевался.
– Тьфу, как живут то бедно, дядя Гриша! Все корюшкой сушеной пропахли! Я в гостях угощался ихней ухой – так песок на зубах хрустел. А хлеб по зиме и вообще из коры! Вот дуван поделим, я хоромы у себя во Пскове срублю и заживу-у!
Дядя Григорий возражал.
– И на Руси у нас корье толкут и в муку мешают. А родители мои, царствие им небесное, в смуту и траву ели. А корюшка, она рыба добрая, им за хлеб идет. У каждого, Ванька, свой обычай. А во Пскове твоем как бы тебе вместо хором головёшку твою глупую не срубили бы. Будут тогда тебе хоромы тесные да вечные.
За очередной петлей реки показался скошенный луг с несколькими стогами и мелкой пятнистой коровкой, привязанной длинной веревкой к колу, вбитому в середине луга. Рядом с лугом было поле – рыжая рожь колосилась. Выше на пригорке стояла довольно большая изба с маленьким окнами, затянутыми пузырем. К избе примыкала обычная баня с дощатой крышей, обросшей мхом, большой сарай, к стене которого были прислонены косы с деревянными граблями. От избы к реке вилась узкая тропинка, ведущая к плотику, к которому были привязаны две большие, карельские лодки с загнутыми назад носами. Белобрысый мальчик в ветхих штанах и рубашке сидел на крыльце и строгал ножом ветку для каких-то своих мальчишеских нужд. Дядя Гриша довольно крякнул.
– Ну, слава Богу! Свеи еще не пожгли. Ты, Ванька, смеешься над нищими карелами, а того не знаешь, что их свеи чуть не раз в три года воюют. Головы рубят, избы жгут. Так-то оно. А это, никак, Суло! Мальчишка Войтов! При мне под стол еще ходил. Эй, Суло! Эй!
Мальчишка поднял голову и, увидев, что его зовут, бросил ветку и скрылся в избе. Григорий засмеялся.
– Не узнал. Ну, ничо… подгребай, ребята, к плоту, приехали. Это и есть Мергойла. Сюда нам.
Он ловко, по-кошачьи, что всегда восхищало неуклюжего Алешку, выскочил из лодки на плот и махнул им рукой – ждите! И бодрой походкой направился по тропинке к дому, поглядывая по сторонам с радостной улыбкой, как будто предвкушая желанную встречу. Тем временем дверь избы распахнулась, и на крыльцо вышли уже знакомый белобрысый и босой Суло, девчонка в длинном сарафане, худенькая, рыжая, и сгорбленная маленькая старушка, с платком, наброшенным на плечи. Старушка приложила руку козырьком ко лбу, видимо, пытаясь рассмотреть гостя подслеповатыми глазами. Дядя Григорий радостно воздел руки, приветствуя своих знакомых.
– Terveh, Vieno-buabo! Sulo! Etgo tundenuh? Ilma, mittuine sinä suuri jo olet! Čomaine!
[38]
– Buabo, ga ved’ tämä on Risti! Risti-diädö! Tulgua pertih, olgua gostinnu!
[39] – девчонка с радостным смехом бросилась к дяде Грише навстречу.
Они зашли в дом. Ванек Рыбак скучающе зевнул.
– Ну, Лёшка, будем ждать. Нать было уду взять, хоть рыбы наловили бы.
Но ждать долго не пришлось. Не прошло и четверти часа, как на крыльце показался Григорий, сопровождаемый той же тройкой. Григорий кланялся и махал шапкой, ему что-то говорили и махали руками на прощанье. Но по лицу его Алешка и Ванек поняли, что дело их закончилось неудачно. Григорий, хмурясь, запрыгнул в лодку и сел на скамью, вытирая пот.
– Ну, вот, ребяты. Худо-то наше дело. Уехали в гости Войтто да Сиркка в Видлицу. Вернутся послезавтрема. Немного мы их не застали. Беда! Пропадать, видно, Василию.
Григорий с гримасой, будто зубы болели, сплюнул в воду.
– Знать, судьба! – добавил он. Алешка и Ванек, молча, смотрели на его мрачное лицо.
– Ну что глядите? – устало бросил им дядя Григорий. – Путь долог, а назад противу ветра грести придется. Отвязывайся.
Алешка посмотрел на дом. На крыльце так до сих пор и стояли все трое. Волосы девчонкины пламенели рыжизной даже издали. Он вздохнул и потянулся отвязывать лодку от причала. Ванек, сопя конопатым носом, вставлял весла в уключины.
– Ахти, дурак я старый! – дядя Григорий вдруг хлопнул себя по лбу и, выскочив из лодки, торопливо зашагал к дому.
– Что это он? – с недоумением спросил у Алешки Ванек. – С ума, знать, тронулся?
Алешка в недоумении пожал плечами. Григорий с хозяевами снова исчез в избе. Алешка с Ваньком снова уселись, как совы, на скамьях лодки, подставляя лица прохладному восточному ветерку. Алешка закрыл глаза и стал клевать носом. Прошло уж с половины часа, а Григорий
все не возвращался, и Алешке привиделось, что он стоит на перекрестке и не знает, где он, и куда надо идти. Он закрывает глаза, открывает их снова: перед ним стоит утонувший купец, глаза его закрыты, с прядей волос течет вода, и он благословляет его, Алешку тремя перстами. «Почему тремя перстами? – удивляется Алешка и затем догадывается: – Ааа! Он ведь новой веры! Его можно убить. Вера его от сатаны! А как же отец Геннадий? Ведь он тоже…» Он снова закрывает и открывает глаза и видит Митьку Косого. Митька таинственно подмигивает ему единственным глазом и шепчет, дергая его за локоть: «Пойдем, брат Алешка, со мной на Дон! Не слушай ты их, дураков. Им пропадать. А на Дону, брат, каждому воля!»
И все тянет, тянет его за рукав.
– Алешка! Спишь, дурень! – дергает его за рукав Ванек Рыбак. – Григорий, глянь, идет!
Алешка с трудом открывает глаза. Его разморило на солнце, и ему не хочется никого ни видеть ни слышать.
По тропинке к плоту подходил взволнованный, с красным лицом Григорий, за ним следовала давешняя рыжая девчонка с братом. Девчонка упрятала рыжие косы под платок, глаза ее с любопытством скользнули по Ваньке с Алешкой. На ее спине плетеная из березовой коры котомка с крышкой, а в руке туесок, накрытый белой тряпицей. Братец ее, Суло, посматривал на гостей и подозрительно и с любопытством одновременно. Не доходя до плота шагов двадцати, он остановился и смущенно стал копать пальцами ноги ямку на тропинке.
– Ну вот, робята, – объявил дядя Григорий, – вот нам и лекарь. Чур, не обижать. Обидите – дядя Григорий сделал страшное лицо, – она порчу на вас нашлет. Во как! Älä varua heidy, hyö ei olla hirviet
[40], – обратился он к рыжей, подавая ей руку и помогая взойти на лодку. – Ruvetah abevuttamah, sano minule. Minä heidy venehespäi vedeh lykkiän
[41].
– Oi, Risti-diädö, en varua minä niidy!
[42] – рассмеялась девчонка. – Hyö ollah kummallizet. Heil suut ollah avoi
[43].– добавила она, показывая пальцем на Алешку с Ваньком.
Оба, не поняв ни слова, обидчиво и подозрительно засопели носами. До Ладоги догребли молча, не смея задавать вопросов. Григорий, довольный и благостный как кот, устроился в носу лодки, подложив для мягкости припасенный на всякий случай полушубок, и оттуда перебрасывался короткими фразами с рыжей. Девчонка же, положив туес и торбу рядышком на скамью, вертела головой налево и направо, а потом принялась болтать ногами так, что Ванек, не стерпев, плюнул за борт.
– И что, дядя Гриша, – вкрадчиво начал он. – Эта пигалица и будет Василия целить?
– Она и будет, – проворчал Григорий, – выходу у нас нету, Ванюшка. Бабка ее, Виенно, говорит, что не хуже матери лечит. Я уж их уговорил едва. Серебро совал – не берут! Честят меня разбойником, мол, и деньги те тоже разбойничьи. Но отказать в помощи тоже не могут. Закон у них такой вроде. Честные они, карелы-то. Вот ты, дубина, над ними потешаешься, а у них никто двери на замок не закрывает. Нет у них воров. Так, палочку поставят, когда уходят, мол, дома нет никого. Ты у себя во Пскове так попробуй! А на возраст не смотри. У них это в крови, лекарить.
– Дядя Гриша! – пожаловался Ванек. – Чего это она на меня пялится? У меня, ажно, весло из рук валится!
– Ааа! Это сила у них, знахарок, такая. Она тебя, дурака, и в камень обратить может, – издевался Григорий. – Ты сам на нее не пялься, а все на воду смотри да на весло!
– Тьфу! – плевался Ванюшка. – Свят! Свят! Свят!
Алешка из любопытства, как будто бы невзначай, скользнул по девчонке взглядом. Она сидела, уперевшись руками в борта, и смотрела в сияющую озерную даль. Одета она была скромно, но чисто; был на ней темно-бордовый сарафан с характерным карельским орнаментом да рубашка белая. Упрятанная с глаз долой рыжая коса ехидно дразнилась из-под платка, завязанного на русский лад.
«А и худа же! – подумалось Алешке. – И высока!» – Он припомнил, как шла она, улыбаясь, за дядей Гришей, как изящно ступила в лодку, плавно взмахнув рукой с корзинкой.
Он опустил взгляд на ее ноги в маленьких лаптях из березовой коры, которыми она продолжала беззаботно болтать, и ему стало так смешно, что он фыркнул, как провинившийся кот. И поднял глаза. Он понял, что она тоже смеется, и взгляды их переплелись, и что он не в силах отвести глаз от этой прозрачной, с молочной поволокой, синевы ее глаз, и что он молит Бога, чтобы это продолжалось вечно или закончилось бы побыстрее. Илма вдруг, закусив губу, отвела глаза, и Алешка почувствовал, что он покраснел как рак и только загар спасает его от позора разоблачения.
– Да греби ты! – ткнул его в бок Ванек. – Ишь, как нас поворотило! Чего смеешься-то?
– А и впрямь может в камень обратить! – вспомнил слова дяди Гриши Алешка. – И весло из рук валится!
И дал себе слово никогда впредь не смотреть на рыжую.
– Дядя Гриша! – позвал Алешка. Но дядя Гриша сладко храпел на носу лодки, укрыв лицо рукавом кафтана, и не слышал его. Проснулся Григорий, когда до острова Сало оставалось с полверсты, и Алешка услышал, как тот заворочался и закряхтел, разминая затекшую руку. На берегу их уже ждали, и Григорий озабоченно вглядывался в лица встречающих, пытаясь понять, не опоздал ли он с помощью.
– Ну что? – обратился он к Фаддею Клыку с Солдатом, едва сойдя на берег.
– Да как… – пояснил Солдат, – очнулся раз Василий, когда башку мы ему перевязывали, и сразу же снова сознание потерял. Вонь с головы уже пошла. Жарко-то, – он махнул рукой. – Надо было ему рану сразу порохом присыпать, а я и запамятовал.
С лодки сошли уже все, и девчонка с любопытством и одновременно с каким-то серьезным, сосредоточенным вниманием смотрела на лица разговаривающих, пытаясь понять суть происходящего. Мужики косились на нее и – о чудо! – начинали чувствовать себя маленькими детьми в обществе незнакомого взрослого человека, которого следует стесняться и даже немножечко опасаться.
– Неужто эта девка тебя и лечила от хвори? – не вытерпел, наконец, Фаддей Клык. – Больно мала девка-то, Григорий!
Григорий рассмеялся.
– Нет, не она. Лечила меня тогда Сиркка – мать ее. Беда вот, уехала она с мужем на несколько дней. Пришлось вот ее уговаривать, Илму то есть. Бабка ее говорит, что тоже хорошо лечит.
В острожке все сразу приободрились, когда услышали знакомый басок дяди Гриши. По хозяйски, собрав всех разбойников во дворе, он отдавал поручения на ближайшее время.
– Таа-ак! Ты, Фаддей, ступай в караул по острову. Товар куда занесли? Ты, Солдат, и ты, Копейка, – мушкеты, оружие чистить и в атаманскую избу занести. Петрушка, ужин готовить. С обеда осталось что? Мы с ночи маковой росинки во рту не держали. Мечи все на стол, что осталось. Алешка с Ванькой, как поедим, так отдыхайте, коль что – позову. Я пока что Илме хозяйство наше покажу да пойдем атамана глянем. Наперед говорю, – обвел всех взглядом новый атаман, – кто девку хоть пальцем тронет, аль как иначе заобидит, лично сам головенку откручу!
И характерным жестом показал, как будет откручивать головенку провинившемуся. Вокруг уважительно смотрели на медвежьеватые, заросшие черным дремучим волосом, загорелые руки Григория и согласно сопели. Девчонка сидела на лавочке у тына, держа туесок на коленях. Фыркнула как кошка, когда увидела, как Григорий собирается головы крутить, видимо, поняв, о чем речь шла. Все затоптались, закрутили бородами да оскалились, у кого чем осталось. Алешка все косил глазами на Илму, забыв о своей клятве. Что-то новое носилось в воздухе – свежее и непонятно отчего обещающее радость, – отчего пело Алешкино сердце.
Глава 5
Восходящее, едва видное солнце еще не успело осветить лес и двор острожка, когда Алешка почувствовал, как кто-то трясет его за плечо. Сонный и ничего не понимающий, он свесил ноги с полатей и хлопал слипающимися глазами, пытаясь понять, в чем дело. Поднял его дядя Григорий. Он дал знак Алешке одеться и выйти за ним и, слова не промолвив, выскользнул, как змей, из избы. Алешка бестолково, со сна пыхтя, надел сапожки, натянул кафтан и пошел к дверям. Солдат, до того храпевший, поднял вслед ему голову и, невнятно пробормотав «Ну-ну», натянул тулупчик до самых глаз. Комары звенели в воздухе.
Несмотря на ранний час, во дворе уже хлопотали над переборкой сети Фаддей Клык с Иваном Копейкой, и Алешка только подивился про себя: ну не лень же вставать людям так рано! Переговаривались негромко.
– Ахфицеры ноне у безбожника Алексея-царя все немцы. Еретики все. Мне Солдат сказывал.
– Да, совсем уж волюшки не стало. Не то было при добром царе Иване Васильиче. И стрельцам жилось вольно, и крестьянам выход, и вера твердая была…
– Так, так оно, Иван.
Оглянулись на Григория с Алешкой неодобрительно.
– Неужто к еретикам парня ведешь, Григорей? – спросил Фаддей.
Дядя Гриша побурел, было, гневливо, но ничего не ответил, лишь рукой махнул. Не ваше, мол, дело. Григорий снял тяжелый деревянный засов с ворот и, приоткрыв одну створку, вышел из острожка. Алешка, несколько недоумевающий, следовал за ним. По каменистой, скользкой от росы и мха тропинке они шли к берегу холодного ручья. Дядя Гриша, видимо раздосадованный словами Клыка, сетовал на ходу:
– Темень человеческая! Слепцы слепым ведомые! Вцепились в двоеперстие, как собака в кость! Во всем мире люди Богу по-разному молятся, да Бог-то един! Свеи да финны по-своему, ляхи на свой лад, мы на свой. А эти спорят, кто к Богу ближе подберется: на двух перстах или на трех. Тот к Богу ближе, кто грешит мене. Не нам уж, ворам да разбойникам, других вере поучать!
Алешка шел позади и улыбался сетованиям дяди Гриши. Он уже догадался, что тот ведет его в монастырь, к отцу Геннадию, и сердечно радовался новому дню, своей любви к Илме, возмущению дяди Гриши, лесу, комарам – всему.
– Тревожно на душе у меня, Алешка, – обернулся к нему вдруг дядя Гриша, – и так паршиво было, а теперь еще Илма твоя мне лысины добавила. Говорила мне, что лебедя черного во сне видела. Говорит, уходить нам надо отсюда! Да я это и так знаю.
Дядя Гриша крякнул досадливо и махнул рукой.
– Вот Василий встанет на ноги. Скорей бы…
– Дядя Гриша! А что за птица такая – черный лебедь? Неужто есть такие? – спросил Алешка.
Дядя Гриша отвернулся и зашагал дальше.
– Это у них, у карелов, сказка такая. Есть подземная страна, где мертвецы живут. И речка мертвых там есть. По ней эти черные лебеди и плавают. Коль его увидишь во сне – знай, это не к добру. Ну а по-другому взять, – тут дядя Григорий остановился на миг, – суеверы они, эти карелы-то! Хотя мы не лучше…
Утренний туман был холоден и густ, он напоминал о близкой уже осени, и зелень прибрежных берез уже кое-где была перебита желтизной отдельных ветвей. Они подошли к зарослям тростника, что рос по берегам холодного ручья. Вот и лодка. Вдруг оба они, Григорий с Алешкой, встали как вкопанные и посмотрели, недоумевая, друг на друга. В лодке, подложив под голову тулупчик и накинув руку на глаза, спал человек. Он спал так сладко, что храп раздавался на всю протоку, рядышком под боком лежал мушкет.
– Дядя Гриша, да ведь это Ванюшка! Рыбак! Он сегодня в карауле! – догадался вдруг Алешка. Он хотел было позвать Ванюшку, но дядя Григорий зажал ему рукой рот – молчи, мол. И опять Алешка поразился, как может дядя Гриша превращаться в хищного зверя. Мягко, не хрустнув ни единой тростинкой, прокрался он к лодке. Вот он уже в ней, да так, что лодка не качнулась. Ванек тем временем продолжал храпеть. Дядя Гриша тихонечко вытащил мушкет из-под бока Ванюшки и знаком показал Алешке – забери! Алешка положил мушкет на тропинку. Затем чудесным образом в руках дяди Гриши оказался нож Ванька, немедленно заткнутый за пояс новому владельцу.
– Ванюша, вставай, дружок! – ласковым голосом заговорил дядя Гриша, убирая руку с глаз Ванька. – Вставай, сука!
Голос его, дотоле тихий, сорвался на истерический крик. Ванек захлопал сонными глазами, не понимая, где он и кто рядом с ним, потому что медвежьи лапы дяди Гриши уже передавили ему горло. Голос дяди Гриши снова стал ласковым.
– Хочешь, Ванята, я тебе сказочку расскажу? В Литве то дело было. Осадили мы раз острожек литовский, крепко осадили. Литовских военных людей мало там было. Думали, всё! Сдадутся сами. Расслабились тогда все и службу забыли.
Ванюшка только лишь кратко всхлипывал, перебирая ногами, бессмысленно пуча глаза на дядю Григория. Тот продолжал:
– Воевода наш, Ершов князь, дело ратное крепко знал, да не всех научил. Набражничались в вечер все поголовно, да по избам спать легли. И караульные спать легли. Так вот один литовский лазутчик забрался в соседнюю избу и всем ночью той горло ножичком перерезал. И дружка моего, Кирьяна Битюгова – десятника, там же порешил. А стрелец этот, что в карауле стоял, он-то жив остался, радовался. Да недолго. Острожок тот мы на приступ днем взяли. Никого не пощадили, только детишек да баб. И лазутчика этого колесовали и повесили. А стрельца того с ним рядком воевода повесить приказал. И поделом!
Григорий разжал руки. Побуревший лицом Ванек давился и кашлял, пытаясь приподняться, но Григорий толкал его назад, и голова Ванюшкина громко стукалась о доски. Дядя Гриша сел на скамью и схватился за голову. Ванюшка, наконец, пришел в себя.
– Григорий Михайлович, я, я… Богом клянусь! В первый раз токмо! Чтобы впредь! Ни-ни! Прости, Григорий Михайлович! – бормотал скороговоркой Ванюшка.
– Ступай отсюда, пока не придушил, – тихо, даже устало произнес Григорий, – мушкет там, на тропе. Нож тут, – он вытащил нож сзади из-за пояса и бросил в траву на берегу, – и заруби себе. В следующий раз убью без всякой жалости. Сказочку сию я тебе с умыслом сказывал. Случись что, из-за тебя всех нас побить могли бы.
Ванюшка скользнул ужом мимо Григория на берег.
– Григорий Михайлович, чтоб еще раз какой.
Григорий не ответил. Алешка оттолкнул лодку от берега.
– Черный лебедь, – как будто себе промолвил дядя Гриша, – как тут не поверишь…
Протока к концу лета сильно обмелела, и через несколько минут они пристали к монастырскому берегу.
– Не спеши, Алексей! – лицо Григория порозовело то ли от света восходящего солнца, то ли от волнения, – Алешка не мог разобрать. Он чувствовал необычное настроение Григорьево и ждал, что тот скажет еще.
– Значит, так, Алешка, – наконец продолжил Григорий, – порешили мы всей ватагой дуван поделить и разойтись, кто куда хочет. Погоди! – он дал знак Алешке помолчать, видя, что тот хотел что-то сказать. – Погоди! Долю твою я на монастырское подворье вчера занес отцу Геннадию. Понадобится – возьмешь, а он отдаст – слово мне дал, а я ему верю. Я же на два-три годочка на Север подамся, мож, на Соловки. Но сперва свадьбу твою с Илмой сыграем, девка она как раз по тебе, токмо ты язык-то ихний выучи. Обещай мне, что выучишь!
Алешка, густо краснея, кивнул: – Обещаю!
– Знаю я, нельзя тебе крестьянствовать, не твое это дело, – продолжал Григорий, – и мироедствовать не можешь, ну, мож быть, пока. Занесло тебя, птицу полета высокого, да в клетку низкую. Тьфу! – Григорий сплюнул досадливо за борт и, помолчав, добавил: – Так что, Алешка, пока побудешь в монастыре. Три дня побудешь, пока мы дела свои тайные обделаем, а в вечер третьего сюда приходи. И грустно, брат, и на сердце тяжко сегодня. К чему бы? Дурак этот… Ладно, ступай! – Григорий поворошил светлые волосы парнишке и легонько подтолкнул его.
– Ан, нет! – вдруг вскрикнул он и вынул из-за пазухи небольшой мешочек черного, потертого бархата, – это тебе. Невесте своей, Илме, подаришь.
Алешка с замиранием сердечным взял мешочек в руки и вопросительно глянул на притихшего торжественно дядю Григория.
– Можно глянуть?
И тот тихонько кивнул головой.
– Можно.
Алешка развязал шнурок на горловине мешочка и вытряхнул его содержимое на ладонь. Две золотые серьги дивной работы с изумрудами лежали в руке его, жарко загоревшись в лучах утреннего солнца.
– Дядя Гриша, – прерывающимся от волнения голосом спросил Алешка, – как это? Я, я не могу…
Дядя Гриша, поняв его настроение, обнял Алёшку за плечи.
– Это не награбленное, Алеша, – почти шептал он, – ты того не ведаешь, а я никому не говорил. Это жены моей, Алены Дмитриевны, сережки. Их я ей на свадьбу подарил, да только недолго счастье наше длилось. Пока я в походе был, вся семья моя от мора сгинула. Вернулся, а дома ни детишек, Ванятки, Петра и Авдотьи, ни жены, ни матери – никого. Один пес да я и остались.
Алешка сжал серьги в кулак.
– Я возьму, дядя Гриша! Спасибо!
По лицу Григория текли слезы, которые он не пытался скрыть, – ступай теперь! – Резко, чуть ли не зло, выдохнул он, толкнув Алешку из лодки. Алешка, сам растроганный, чуть не плача, сделал несколько шагов по тропинке в зарослях тростника и обернулся. Дядя Григорий уже оттолкнулся веслом от берега и махнул рукой Алешке.
– Прощай, Алексей! Ты мне за сына… прости, если что… Да помни меня, сына боярского Григория, сына Михайлова! Род мой был старинный – князей Воронецких
[44]. Мы от Гедиминакнязя были! Я последний в том роду! Всё, иди, отец Геннадий тебя ждет!
Он оттолкнулся еще и еще. Листья кувшинок и мелкая ряска сразу же смыкалась за кормой лодки, как будто отделяя прошлое от будущего навек. Алешка стоял и плакал. Он знал, что это закончилось его отрочество.
Глава 6
Дверь в монастырский амбар полуоткрыта, чтобы чуть-чуть впустить внутрь теплого воздуха снаружи, но все равно холодно так, что и комары здесь задерживаются ненадолго. В больших, окованных по углам деревянных ларях зерно. В каждое утро келарь Илларион открывает ларь и отмеряет нужное количество зерна на помол. Тщедушный, подслеповатый келарь пыхтит и крякает, открывая крышку, но никогда не доверяет сделать это кому-нибудь другому, и ехидный послушник Васька дразнит Иллариона, что и на том свете келарь сам будет открывать ворота в рай, не доверяя святому Петру. Илларион шипит и называет Ваську богохульником. С Васькой напару и мелет ручным жерновом зерно Алешка. Васька – молодой парень, чуть постарше Алешки. Васька тощ, длинен телом и нескладен. У него плоский нос и острые уши. Кроме того, глаза у Васьки большие и круглые, а цвета они зеленого, так что обличьем он совершенный кот, только разве что без хвоста. Васька все время что-нибудь бурчит под нос или допытывает со скуки Алешку, что да как. Алешка, однако, сказавшись занятым, лишь усерднее начинает крутить ручку жернова. Муку они ссыпают в мешок. Мука тепла и мягка. И результат, и работа нравятся Алешке – под взиканье жернова хорошо думать о своем и вспоминать. После же обеда отец Геннадий будет учить его по Священному Писанию и знакомить с трудами отцов церкви. Вчера разговор был о святом Августине. А что будет сегодня? Ждет этого часа Алешка с нетерпением и снова ускоряет ход тяжелого жернова. Вжик. Вжик. Вжик. Тонкой струйкой сыплется готовая мука. А память, тем временем, все возвращается к недавнему времени. Сколько событий, новых людей, впечатлений! Вот дядя Григорий, стреляющий из мушкета, и снова он, с искаженной гримасой на лице, с поднятым веслом в руках. Вот бледное лицо купца, окровавленной рукой осеняющего крестом его – Алешку. Вот зеленоватое, с ввалившимися щеками лицо атамана Василия, и мухи облепили тряпки на его голове, пропитанные черной кровью. Илма! А вот лицо, точнее, глаза Илмы, в которых он захлебнулся и утонул, однажды с ними встретившись взглядом. Утонул навсегда, так чувствует Алешка. А руки Илмы! Какие тонкие, изящной лепки ее пальцы, прямо-таки необычные для крестьянской девчонки из глухой деревушки на Тулоксе-реке! Неужели время и черный крестьянский труд расплющат и покроют сетью бурых морщин эти совершенные девичьи руки?
– Viegiä händy pihale!
[45] – приказала она звонким голосом.
Дядя Гигорий перевел. Собрались быстро. В избе у повара Петрушки вовсю кипела в двух медных котлах вода, а в русской печи настаивались таинственные травы и снадобья, что привезла с собой Илма, и непривычный, пряный запах их был приятен. Во дворе, прямо на середине его, бросили две колоды, на которые уложили несколько саженных досок. Их застелили всяким тряпьем, сверху этот стол дядя Григорий накрыл сложенным вчетверо парусом с купеческого корабля. На другом, сложенном таким же образом парусе, Солдат и Иван Копейка, ругаясь и пыхтя в низких дверях избы, вытаскивали атамана Василия. Его положили на топчан. Василий тихо постанывал и мотал головой. По приказу Илмы из избы вынесли скамейку и поставили рядом с топчаном. На скамейку Илма с поваром вынесли горшки с отварами и котлы с кипятком. Туесок с котомкой она положила рядом. День начал клониться к вечеру, и комары, до сих пор ленивые, бодро затрубили в прохладном воздухе. Поговорив о чем-то в полголоса с Илмой, дядя Гриша велел всем оставаться рядом.
– Может очнуться с боли Василий, тогда держать придется, – пояснил он мужикам. – А ты, Алексей, будь с нею рядом. Я, ежели что, перетолмачу. Ну, с Богом!
Все смолкли и жадно следили за тем, что будет. Илма развела в чашке с теплой водой белесоватый порошок. Дядя Гриша обменивался с ней короткими фразами.
– Лешка, подыми голову атаману! Держи прямо. Я руки ему подержу на случай, – обратился он к Алешке.
Алешка с некоторым страхом подсунул руки под голову Василия и приподнял ее. Голова атамана была тяжела так, что Алешка подивился этой тяжести. Тряпки, которыми была обмотана рана, пропитались сукровицей и гноем. Алешка старался не смотреть на них.
– Ничего, привыкай! Что нос воротишь! – засмеялся дядя Григорий. Илма влила содержимое чашки в рот атамана, и тот, едва не захлебнувшись, захрипел и замотал головой.
– Kai, kuldaine, kai!
[46] – приговаривала девчонка. – Vähäine tirpa, nygöi terväh kebjenöy!
[47]
Василий на несколько мгновений открыл мутные глаза и медленно закрыл. Дыхания почти не было слышно.
– Не умер ли? – спросил Илму Григорий. – Руки ослабли. Надо бы жилу на шее пощупать.
– Da elävy häi on, Risti-diädö. Tämän poroškan muamo sai Moskovas kupsois
[48], – пояснила Илма. – Se on persidskoi. Kus se on, minä en tiijä. Gu enämbiä sidä andua, sit ristikanzu uinuou i ei nouze. A muga hot’ pualikal nygöi sidä lyö, häi ei ellendä!
[49]
– Во, ребята, – повернул голову дядя Григорий к хлопающим глазами мужикам, – а мне сказывал один немец, как ихние лекаря пули в человеке ковыряют. Лекарь молотком деревянным по голове – тресь! А потом потроши его себе, пока снова в память не придет, да не заорет.
Мужики кивали бородами да перешептывались, тыча пальцами в атамана. Илма из горшочка полила присохшие к голове Василия тряпки зеленоватым травяным раствором и, немного погодя, стала потихоньку отдирать их слой за слоем, снова и снова поливая перевязку. Она вся преобразилась. Губы ее были плотно сжаты, глаза сузились почти хищно и наполнились темной голубизной. Она не замечала ничего кругом, поглощенная своей работой.
– Да поверни ты Василию-то голову, дуралей! – командовал Григорий Алешке, – ведь впустую течет! Не видишь, что ли!
– Готово, дядь Гриша! – спохватился Алешка, чуть повернув атаману голову. Он почти очарованно смотрел на движение тонких девичьих рук, невесомо, почти колдовски двигающихся рядом с его руками.
– Voibi livottua kuzel, nimidä pahuttu ei roihes
[50], – поделилась Илма с дядей Григорием. – Ga minä harjavuin päivykukkastu zavarie. Hyvä heiny!
[51]
И осторожно сняла тряпку с намертво присохшим к ней куском мертвой почерневшей кожи с головы атамана. На мгновение все замерли. Алешка отвернул голову, чуть зацепив взглядом рану. Удар дубины по правой части темени был силен, и только то, что прошел он немного вскользь, спасло атамана от смерти. Но все равно он раздробил участок черепа, содрав кожу с волосами в этом месте и обнажив кость. Почерневшая от крови крупная щепа впилась в трещину между осколками кости.
– Raukkaine, kenbo sinun nenga!
[52] – шептала Илма, склонившись над атаманом и внимательно рассматривая рану. Затем она достала из туеска нечто вроде кисточки и, обмакнув ее в один из горшочков, начала счищать с кости остатки крови и гноя.
– Pidäy tukat breijä!
[53] – сказала она дяде Григорию. – Pidäy britvu
[54].
– Ei ole meil, tyttäreni, nimidä nengostu!
[55] – отозвался Григорий. – Kirvehel breičemmökseh. Nožničat ollah, ga suuret
[56].
– Sit ei pie, Risti-diädö. Nožničat minulgi ollah
[57].
Она вынула из туеска небольшие ножницы и обмакнула их несколько раз в курившийся паром медный котелок с кипятком. Затем тщательно остригла волосы на голове на ширину двух пальцев от раны. Алешка, осмелев, снова повернул голову назад. От волнения он весь покрылся испариной. Глядя на голову атамана, он снова вспомнил синеватые кости с лоскутами розовой кожи на руке купца, который перекрестил его перед смертью. Его затрясло.
– Алешка! Аль плохо стало? – заметил его состояние дядя Григорий. – Мож, заменить тебя?
В этот момент глаза Илмы совсем на миг скользнули по его глазам, и губы ее дрогнули в заметной только ему, Алешке, лукавой улыбке. Еще увидел он и ее бледность, бисеринки пота на лбу и прядку рыжих волос. Он был счастлив в этот миг, и ему стало стыдно.
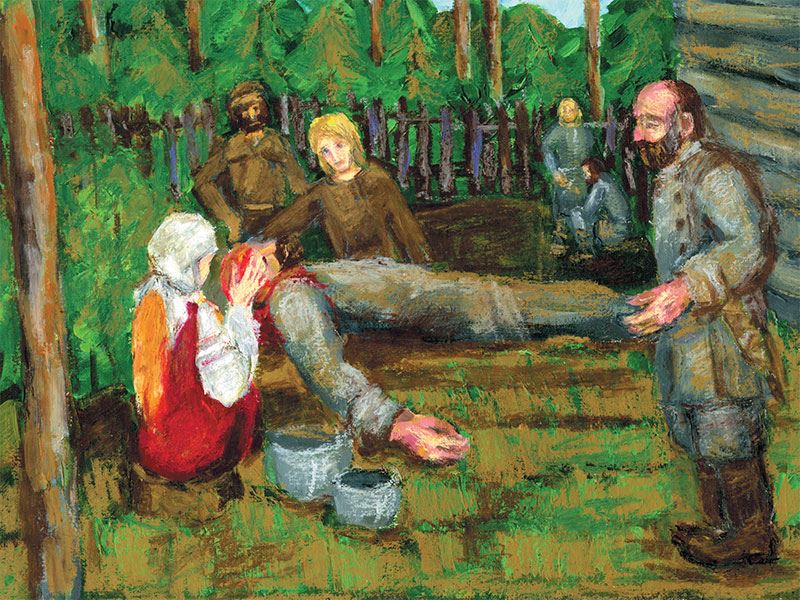
– Я ничего, дядя Гриша! – хрипло, но бодро просипел он. – Пить вот только хочется. И комар меж лопаток укусил.
– Ну, терпи тогда, казак. Атаманом будешь, – хмыкнул дядя Григорий.
Илма положила ножницы на скамейку и кисточкой промыла остриженные места. Затем она высушила кожу сухой чистой тряпочкой и достала из туеска маленький, с тонким и остро отточенным лезвием, нож. Алешка с ужасом и одновременно с восторгом увидел, как она одним ловким круговым движением обрезала рваную кожу по краям раны. По надрезу выступили капельки черной крови, и Алешка услышал, как Илма выговаривает, почти припевает таинственные слова, которые дядя Гриша, тоже потрясенный увиденным, так и не перетолмачил.
Veri seiso niinkuin seinä,
Hurme asu niinkuin alta
Lihan lämpösen sisällä!
Siell`on suoso ollaksesi.
Lempi lenkoallaksesi.
Kouhkoiss`on siun kotisi,
Maksoissa siun majasi,
Alla vuolten vuotiesi[58]. Кровь застыла, будто повинуясь магическому звуку её голоса, и Илма стерла ее с раны. Мужики восхищенно переглянулись. Дядя Григорий перекрестился. Илма тем временем вынула из туеска маленькие щипцы и окунула их в кипяток. Затем она потрясла ими, остужая, и на мгновение закрыла глаза, сосредотачиваясь. Что-то, приговаривая про себя, она начала очень осторожно извлекать мелкие осколки кости из раны. Когда с ними было покончено, она зажала щипчиками щепу и, чуть помедлив, резким движением выдернула ее. Ее глаза впились в лицо атамана, и Алешка видел, что левой рукой она щупает пульс на его руке. Мужики и Григорий подались вперед.
– Ai, mittuine sinä olet voimakas! Ku kondii, Risti-diädö!
[59] – вытирая пот с лица, обратилась она к Григорию. – Gu jiännöy eloh, vie sada vuottu eläy!
[60]
Дядя Григорий улыбался облегченно, а Алешка крутил головой, пытаясь понять, как обстоит дело. У него затекли руки. Илма снова взялась за дело. Маленькой ложечкой из очередного горшочка она зачерпнула некоторое количество черной глянцевитой мази, по цвету и запаху очень напоминающую деготь, и помазала ею остриженную кожу. Затем из небольшого мешочка высыпала горсть зеленоватого порошка, которым засыпала обнаженную кость головы.
– Tämä on d’okti, a tämä on kuivu suosammal
[61], – сказала она дяде Григорию. – Ylen avvutetah, mi vai ei ollus, kui sidä teile sanotah Antonovan tuli, Risti-diädö!
[62] – она ткнула пальцем с лукавой улыбкой в сторону Алёшки. – Työ hänele sanokkua. Anna panou mustoh. Vikse liäkärinny roihes. Pädöy
[63].
– Oh! Oh! Liäkäri!
[64] – расхохотался дядя Григорий. – Oleksei da liäkäri! Häi verdy varuau!
[65]
Вдруг он посерьезнел.
– И впрямь! Что это я, дурак, смеюсь. Дело нужное. Так вот Алексей, мазь эта – деготь, а порошок-мох болотный, сухой и толченый. Смекай!
Алешка побагровел от смущения, а мужики весело заскалились. Илма уже перевязывала голову Василия тонкой полоской чистой льняной ткани, и когда ее пальцы порой касались пальцев Алешки, то он вздрагивал от волнения и счастья, его переполнявшего.
Илма сдвинула горшочки на скамейке, села на освободившееся место, и тогда все увидели, что она смертельно устала за этот час, даже осунулась, и что тонкие пальцы ее дрожат от пережитого нервного напряжения. Она медленно скользнула взглядом по лицам окружающих ее людей и подняла глаза на восхищенно разведшего руки Григория.
– Risti-diädö!
[66], – слабым тонким голосом почти прошептала она. – Huondeksel viegiä minuu kodih. Midä ielleh ruadua, minä sanon, a minuspäi täs tolkuu enämbi ei roih. Nygöi ga Jumal andau
[67].
* * *
Атаман пришел в себя поутру, когда все уже были на ногах. Готовили лодку к отъезду и грузили ее зерном и прочим товаром. Алешка замешкался на берегу и вернулся к острожку позже всех. Изба, где они жили, вся сотрясалась от смеха, и Алешка, войдя в неё, застал всех присевшими на дорожку, но так и задержавшихся. Илма, как царица, сидела во главе стола. Растерянно улыбаясь, смотрела она на заливающихся смехом мужиков, не понимая причины их веселья, и лишь при появлении Алешки таинственно и благодарно взглянула ему глаза, но тут же отвела взгляд. Дядя Григорий, как водится, был толмачом.
– Ну, Григорий, ты и сочинять! Голова! – хрипел Солдат. – Давай ишшо что!
– Давай еще! – поддержал того Иван Копейка. – Мы, как в Думе государевой, все разгадаем!
Алешка прислонился к двери, с любопытством глядя на Григория. Дядя Гриша был мастак загадывать загадки, и он это знал.
– Ладно! – махнул рукой дядя Гриша. – Вот еще одна. Алешка с Ванькой Рыбаком должны отгадать. Слухай сюда: между Богом и чертом корзинка болтается, в ней грибы обретаются. Белой тряпкой покрываются. Угадай, что такое?
Все задумались. Дядя Гриша, ухмыляясь, переводил глаза с одного на другого в ожидании ответа.
– Алешка?
– Ума не приложу, дядь Гриша!
– Грибы… под тряпкой белой! Хм! – прохрипел Солдат. – Что-то мне невдомек, Григорей.
– Пусть девку спросит! – крикнул из угла Ванек Рыбак, – мож, она сгадает что?
Григорий перевел. Все с любопытством смотрели на Илму. Она вдруг рассмеялась и, покраснев, еще больше захорошела. Махнула рукой.
– Keskel Jumalua da kehnuo se on, onnuako, viel. Poimičču – se on veneh. Valgei ribu – purjeh. A grivat – ristikanzat. Kui myö egläi
[68], – она смущённо посмотрела на дядю Гришу. – Nu vot i kai. Enämbi nimidä piäh ei tule
[69].
Дядя Гриша изумленно покачал головой.
– Стыдобушка мне и вам, мужики! Илма-то загадку мою отгадала! Ай да девка! Вот кому-то умница да красавица достанется! Эх, скинуть бы лет двадцать! Отгадка такова: корабль под парусом с людьми.
Все заохали и закачали головами. Вроде все и просто.
– Погодь! – весело воскликнул Григорий. – Только что придумал еще загадку. Слушай: был заросший травою пенек, а траву Бог посек. Одни былинки остались. Отгадывай, ребята, что это такое?
Снова все задумались да снова головы чесали.
– Никак брусника на пне…
– Дурак! Сказано, трава. А чего Бог посек…
– А разве не трава? Листочки, вон, на ней…
– Девку вопрошай!
– Она, ведьмачка, все знает.
Григорий снова перевел. Илма задумалась. Мужики шушукались и ехидно посматривали на нее, ожидая, что и она на этот раз не сможет отгадать загадку. Григорий же сидел, торжественно скрестив руки на груди, и важно посматривал на мужиков. Илма печально подняла на него глаза и, вдруг рассмеявшись, хлопнула себя по лбу.
– Urai! Kuibo minä enne en ellendännyh… Risti-diädö, a tämä eigo ole teijän piä? Piäs tukat kazvettih. Sit net pakuttih, a nygöi niilöis jäi vaiku höyhen
[70].
Дядя Гриша от неожиданности привстал за столом, и челюсть его отвисла.
– Гляди ты! Да отгадала же! – наконец проговорил он, сам себе не веря. – Отгадала, ребята! Это моя голова-то! Лысая! Волосы, вишь, выпали. Бог посек. Ну и ну! – И, потерев лысину, он с растерянной улыбкой в молчании сел на свое место.
– Ведьма! – заявил Иван Копейка. – Должно быть, судьбу ведает. А ты вот вопроси у ней, Григорий, жанюсь я аль нет? И что за невеста у мене будет?
Григорий перевел.
– Tule tänne!
[71] – махнула Копейке Илма, – Anna kätty! Vot nenga
[72].
Все сгрудились возле них в ожидании ответа. Илма что-то сказала Григорию. Тот перевел.
– Женишься скоро. Невеста твоя долговязая будет. Сильная. На одной руке будет тебя вертеть.
Иван расплылся в улыбке.
– Знать, скоро? Ишь ты! Долговязая, грит!
– А мне! Григорий, слышь, пусть и мне погадает! – с места рванулся Ванёк Рыбак. – И мне нявесту-то!
Алешка жадно следил за Илмой, за выражением ее глаз, но Илма не смотрела на него. Она отчего-то стала грустной, тихо выговаривая что-то Ванюшке. Григорий толковал.
– Говорит, что невест у тебя, Ваня, будет много, да злые они у тебя будут, всего обкусают. Вот…
Ванюшка с недоумением на лице отошел.
– Меня теперь! – с протянутой наготово рукой к Илме подошел Солдат. – Посмотрим, что соврет!
– Твоя невеста кругла да горяча будет, хоть и мала. Вот и весь сказ, брат, – объяснял Григорий солдату.
Илма вдруг встала с места и, подойдя к Алешке, взяла его руку. У него перехватило дыхание. Он чувствовал легкое пожатие ее руки, тепло ее пальцев, от которых изливалась неведомая ему до сих пор сила, так что он невольно вжимался в дверь. Лицо ее было необычайно близко. Как ночью близко. Она отвернулась.
– Risti-diädö, häi ei ole rozvo. Sano hänele, anna menöy iäre. Igä pitky roihes
[73].
Все молчали, ожидая, что Григорий перетолмачит, но Григорий не произнес ни слова. Илма, повернувшись к Алешке, отстранила его рукой в сторону и открыла дверь.
– Häi ei ole rozvo. Sano hänele. Ajammo!
[74]
Перед отъездом зашли в атаманскую избу. Фаддей Клык, сидя на скамье возле атамана, поил того водой из кружки. Василий был бледен и слаб, но сознание уже не терял. Слабо улыбнулся пришедшим. Алешка с Ваньком Рыбаком остались стоять на пороге, Илма с дядей Гришей подошли к Василию. Илма посмотрела повязку на голове Василия.
– Illal sivotto uvvessah. Händy algiä huolevutakkua
[75], – обратилась она к Григорию. Атаман шевельнул пальцами и дал знать Григорию подойти ближе. Григорий наклонился над ним, прислушиваясь к едва различимому шепоту.
– Гриша, ничего не пожалей, пусть ее Бог хранит. Серебра дай, ну, что захочет. Кажись, теперь выкарабкаюсь. Скажи девке, век помнить буду!
Григорий рукой коснулся плеча атаманова.
– Все сделаю, Василий Васильевич. Уже распорядился. Лежи, отдыхай пока. Я ее домой сейчас отвезу.
– С Богом! – прошептал атаман, закрывая глаза.
– Risti-diädö, sanokkua hänele, anna laskou Olekseidu
[76], – сказала Илма, отходя к двери. Оглянувшись, добавила. – Anna enämbi ei rozvoita. Anna lähtöy täspäi. Kaikin lähtietäh. Eiga häda roihes
[77].
Она пристально посмотрела на Алешку. В глазах ее была тревога, даже испуг и растерянность перед тем, что должно было случиться, чего нельзя было предотвратить и что, неведомо как, знала только она одна.
Глава 7
Ветер, попутный восточный, уже холодный ветер, быстро нес их парусную лодку к устью Тулоксы. Отчего-то Алешке было грустно, и он напросился управлять рулем. Илме набросали в нос лодки кучу полушубков, и она сразу же, свернувшись калачиком, заснула после напряжения вчерашнего дня и бессонной ночи. Ванек Рыбак и дядя Григорий, устроившись поудобней на мешках с зерном, заревели медвежьими голосами старую разбойничью песню, и полетела она над волнами да островами на все стороны света под крики изумленных чаек. Песня была грустная, Алешке под настроение, и, слушая ее слова, он подумал: «Ну, все, как у нас: лодка, есаул в ней с ружьем, да атаман с копьем, да красная девица».
Пели хорошо. Мощному, басовитому голосу Григория следовал писклявый тенорок Ванька, и как раз он то и был здесь кстати.
Ну, посередь лодки лежит золота казна.
На казне, братцы, красный ковричек.
На ковру сидит красна девица,
Атаманова, братцы, полюбовушка,
Есаулова, братцы, родна сестрица.
Сновидение она, братцы, видела:
«Атаманушку, дружку, быть убитому,
Есаулушку, братцу, – пойманному,
А золотой казне быть похищенной,
А мне, красной девице, полоненной быть».
– Алешка, слышь! – прервал вдруг песню Григорий. – Я вот смотрел на вас, когда атамана целили, и сердце радовалось. Я вас поженить собираюсь по осени, вот, сватом пойду… Ша! – прикрикнул он на Алешку, завидя, как тот собрался, было, возразить. – Слушай старших! Одно только меня смущает. Не годишься ты для жизни для крестьянской. Грамоте тебя я научил, да того мало. Мнится мне, в большой город везти бы вас нужно. Илма – девка умная, попривыкнет. Там вам лучше будет, ей-Богу!
Дядя Григорий почесал лысину одним пальцем.
– Беда, вот, меня самого ищут. – Он помолчал немного и махнул рукой. – Ну, ничего, воробей я стреляный!
– Не пойдет она за меня, дядь Гриша. У них, вон, хозяйство, а я что? Да и по-нашему она не понимает, – заметил Алешка.
– Дурак! Она тебе по сердцу ли? – вскричал Григорий.
– Ilma, Ilma, havaču! Ozan maguat! Tule tänne, tytär!
[78]
Илма, спросоня ничего не понимающая, подлезла под парусом и присела рядом с дядей Гришей на мешок с зерном.
– Midä tapahtui, Risti-diädö?
[79]
И так смешно хлопала она ресницами, как бабочка крыльями, и так терла маленькими кулачками глаза, стараясь отогнать сон, что Алешка расхохотался, едва не выпустив румпель из рук. Илма укоризненно и в то же время нежно взглянула на него.
– Ilma, tytär!
[80] – дядя Григорий приобнял её за плечи. – Vot, minä teile koziččijannu sygyzyl tulen. Tahton oman Olekseidu naija. Andilastu hänele ečin. Briha on hyvä. Sovimmo! Sinun vahnembii minä kuitahto pagizutan
[81].
Илма от неожиданности зарделась, как мак, и в смущении прикрыла глаза руками. Алешка жадно смотрел на нее и дядю Гришу, пытаясь понять, о чем идет речь. Но Илма вдруг медленно, как будто вспомнив о чем-то, устало опустила руки. Лицо ее было печально. Она почти с отчаянием посмотрела на Григория.
– Voitto tulla. Da i minä olen suostunnuh. Ga ei rodie meile ozua, Risti-diädö
[82].
Григорий, недоумевая, вытаращился на нее.
– Kuibo ei rodie ozua? Buat’ušku da muatušku ei anneta? Ilma, päiväine, älä varua! Minä sovin heijänke, sinä näit
[83].
– Ei vahnembat. Hyö ihastutah
[84], – голос её стал спокойным, даже скучным, как будто она который уж раз объясняет что-то непонятливому ребёнкую – Ga ei rodie ozua
[85].
– Midä taratat, оza, оza!
[86] – сердито заворчал дядя Гриша. – En ellendä sinuu, tyttö, suvaičetgo Olekseidu?
[87]
Илма серьезно глянула на притихшего воробышком у руля Алешку.
– Muga, häi on hyvä, iložu. Ylen äijäl miellyttäy. Sinä et ellendä, Risti-diädö. Kuibo sinule selittiä… Kačo, näetgo rannal pedäjän? Ongo se lähäl järvie, vetty?
[88]
Дядя Григорий с недоумением взглянул на сосну, потом назад на Илму.
– Nu, lähäl
[89].
– Vot! A sinä venehel voitgo sinne piästä?
[90]
– Kuibo piästä? Rannale pidäy kävvä, sitgi piäzet. Ihan venehel ei sua
[91].
– Vot i minä teile sanon. Rannale kävvä – buite ozua muuttua. A sidä niken ei voi. Ni sinä venehel et sovva – et piäze, ni pedäi loitombi juurii ei eisty
[92].
– Тьфу! – дядя Григорий от возмущения ткнул кулаком в плечо таращившего в недоумении глаза Ванька. – Тьфу, окаянная! Филозоф!
И добавил уже на карельском:
– Uskuo pidäy! Usko eistäy ristikanzoi! Ristikanzu iče on oman ozan sepänny. Biblieh usko. Sie on sanottu – ku gu sinul on pieni usko, kai buite gorčitsan jyttyine – käskenet vuorale mennä, se menöy. Lähtöy se Nämmä ollah mejän piäsätäjän, Iisus Hristosan sanat. Vuota koziččijoi
[93].
Илма, вывернувшись из-под руки дяди Григория и поднырнув под парусом, вернулась на свое место на носу лодки. Алешка не понял из этого разговора ни слова, но по расстроенному лицу Григория догадался, что что-то не так. Еще он сердцем чувствовал, что сейчас Илма, зарывшись, как испуганный зверек, под кипу полушубков, плачет тихо и горько.
* * *
Вжик. Вжик. Вжик Работы еще на пару часов. Скоро конец августу. Потом будет сентябрь. Потом… потом дядя Гриша поедет сватом в Мергойлу. Потом он, Алешка, станет мужем Илмы, а она ему женой. Как же они будут объясняться? Ну, ничего, дядя Гриша выучил за полгода язык карел, да так дивно выучил! Значит, и он, Алешка, тоже выучит. А Илму научит русской речи. Завтра вечером дядя Гриша приедет за ним. Будет спрашивать, чему учил его отец Геннадий. Ооо! Столько интересного он, Алешка, узнал! Мир так велик и в нем всего так много! Дядя Гриша тоже много чего видел. Его ничем не удивишь. Что там Васька опять тычет локтем?
– Ляксей, ты табун траву не куришь?
– Грех это, Васька. От дьявола табун трава!
Лицо Васьки кривится.
– Тю! Дурачина! Это раньше на площади в Олонце за табун-траву кнутом драли. А сейчас царь-батюшка курить ее разрешил. Я вот попробовал: сначала, вроде, нехорошо – тошнит, голова кружится. Потом, вроде, и ничего, приятственно. Я тишком. Ежели отец Геннадий увидит – в шею погонит.
– А ты не кури. Брось.
– Это зачем? Комар вот дыму табуна боится. Трубку покуришь – голова так приятственно крутит, вроде как зелена вина штоф осушил.
– Сам толковал, что попом хочешь стать, а такие слова говоришь!
Васька довольно щурится и чешет пальцем запачканным мукой нос.
– Попом, брат, хорошо! Попу жаниться можно. Пей вино, ешь досыта, только умей дуракам три короба намолоть по Писанию, все равно не понимают. Не крестьянствовать же, кору с дерев грызть. Аль рыбу тухлую жевать. Ты что, дурачок, думаешь, в монастырь за царством Божиим идут?
Алешка пожимает плечами, и хоть мнение Васьки ему интересно, разговаривать ему не хочется, но тот и сам продолжает.
– А вот и шиш! Все они хороши! Монах, вон, Никанор, по девкам шляется да вино тишком трескает. Нос-то красный. Нос не обманет! Федька, вон, тоже монах… на дворе пост, а он в брюхо сало мечет, Бога не боится.
– Да что ты! – не выдерживает Алешка. – Откуда ты знаешь?
– Я, брат, все про всех знаю. Трёпла они, монахи-то. Жить им скучно, так они друг за дружкой следят, а потом сами жа с собой сплетнями и делятся. Сами. «Брат Николай» да «Отец Никифор»! А за глаза друг друга еретиками да псами кличут. Пьяницы да обжоры они!
– А отец Геннадий?
Васька задумывается, чешет нос заново, а затем выпаливает:
– Да дурачок он! Вроде как не в себе. Высокоумничает. Вина, опять же, не пьет. Коркой питается. Да все книжки чтёт, а что с книжек тех? Сдохнешь, все книжки забудутся. А зачем жил?
Васька вдруг, как вспомнив нечто важное, замолк и, подсев поближе к Алешке, тычет его в бок.
– Слышь, Ляксей, монахи-вороны мои промеж собой шушукаются, мол, ты из разбойников, что на Сало-острове. Сын атаманов? Аль этого, как его, – Григория, что к отцу Геннадию
шляется? Заправду ль так?
– Дураки твои вороны. Сирота я. Не помню родителей своих. А Григорий мне за отца родного, и ты его не хули. Он многих монахов, закваски фарисейской, душою чище.
– Аааа! – Васька несколько разочарованно отодвигается от Алешки Сироты! Скучно, брат. А я бы вот к разбойникам пошел бы. Иногда думаю, ей-ей, пошел бы!
Васька подошел к двери и, приоткрыв ее, выглянул на двор монастыря.
– Не видать воронов. Ляксей, я пойду, травушку мою за анбаром покурю тихонько. Место там у меня есть тайное. Спросит кто – скажи, что, мол, по нужде ушел.
Васька, согнувшись, вынырнул в дверь. Алешка продолжал вертеть жернов. Прошло минут десять или пятнадцать, как кошачья Васькина голова просунулась в дверь. Он был необычайно взволнован.
– Лексей, да брось ты свою мельницу. Эвон, какие дела творятся! Подь скорей!
Алешка недоуменно отставил жернов в сторону и, отряхнув муку с одежды, выглянул наружу. Посреди монастырского двора ужом вился всадник, стрелец по виду, на вороном, горячем коне. Коню не стоялось на месте, он крутился юлой, и красный стрелецкий кафтан на всаднике развевался, как в чудном танце. Возле всадника уже собралась небольшая кучка народу: несколько монахов, Васька и две деревенские бабы, которые все всплескивали руками от удивления. Вдруг Алешку вмиг пробило холодным потом. Над островом Сало, в том месте, примерно, где стоял острожек, клубился огромный столб белесого дыма. Еще не осознав происходящего, он подбежал к всаднику, и то, что услышал, заставило его содрогнуться.
– А-вой-вой! Да сколько их было, мил человек? – одна баба все теребила из любопытства полу стрелецкого кафтана. – Страсти-то какие!
Всадник, молодой парень с русой бородкой и длинными волосами под опушенной беличьим мехом шапкой, хвастливо, на правах свидетеля, делился:
– Да кто знает, тетка! Взяли их врасплох, с озеру, на лодках. Шибко-то и драки не было. Одного нашего только что убило да трое аль четверо ранено. У них одному прямо на постеле голову ссекли – вроде атаман был. Одного с лодки сняли, вблизь берегу лежит. Одного повесили. Одного, вроде, недалеко от заимки стрельнули. Еще несколько в срубе сгорели. Да еще одного живьем взяли, сейчас водой в Олонец в острог повезут. Этот лысый прыткий был, долго его ломали. Пытать будут на дыбе да потом, поди, и голову срубят, чтоб другим неповадно было воровать.
«Неповадно… неповадно», – ноги сами уже несли Алешку к монастырским воротам шагом, а затем все быстрее и быстрее. Все быстрее бежал он, но еще быстрее настигало его осознание непоправимого несчастья, осознание, что старая, привычная жизнь сломалась в один миг страшным образом и что нет больше родных людей, которые были ему семьей и опорой, какими бы они не были. Уже не поедет Ванек Рыбак строить хоромы к себе во Псков, не поедет сватом дядя Григорий в Мергойлу, не поедет Фаддей Клык на Соловки замаливать остаток жизни свои грехи. Алешка выбежал из ворот и, завернув налево, побежал сперва вдоль монастырской стены, а затем напрямик через полянку, за которой начинались заросли ольхи с ивняком до самого Холодного ручья. Бежал, спотыкаясь о коряги, путался в высоких кустах черничника, и лишь сухие ветки трещали и ломались под его ногами. Выбежав к берегу Холодного ручья, он лишь на миг остановился, чтобы удостовериться, что лодка так и стоит на том берегу, прикрытая высокой прибрежной травой, там, где и оставил ее дядя Григорий. В следующий момент Алешка уже заходил в черную воду ручья, разводя руками слизкие листья водорослей. Вода была уже по-осеннему холодна и обжигала тело, одежда промокла и тянула вниз. И если бы протока была более широкой и глубокой, то лежать бы Алешке на дне протоки той. Шатаясь, вышел он на берег, весь перепачканный бурой тиной и облепленный ряской. Выжимать одежду не стал, лишь кое-как снял с ног сапожки и вылил из них воду. Тянуло гарью. По знакомой, набитой за многие годы тропинке, той самой, по которой позавчерашним утром шли они с дядей Гришей, Алешка торопливо зашагал к острожку, настороженно оглядываясь на каждый шорох. Вода в сапогах чавкала. Вот елка, столетняя, толстая, – значит, полпути. Вот камень гранитный, весь мхом обросший. Вот и просвет впереди – значит, близко острожек. Дым стлался по лесу, белесый и едкий, так что глаза Алешки покраснели и он закашлялся. Он искал глазами знакомый частокол с дощатыми серыми крышами за ними, но ничего этого не было, а было дымящееся, без огня уже, пепелище, с единственно хорошо сохранившейся дикого камня печью в том месте, где еще совсем недавно Петрушка варил кашу да уху. Вид этой осиротелой печи, покрытой гарью, так поразил Алешку, что он упал на колени и, вцепившись в волосы от тоски да боли душевной, завыл как волк: Ууу-у-у! У-у-у-у!
Угли тлели еще на рассыпающихся остатках бревен. Хвоя елей побурела от жара даже здесь, в полутора десятке саженей от пепелища. Все еще подвывая, Алешка встал и, шатаясь, побрел вдоль опушки вокруг бывшего острожка. Земля была истоптана многими ногами. Затем увидел он облепленную хвоей коросту засохшей крови след, как будто кого по земле волокли, сломанную ручку, похоже, что от бердыша или алебарды. Несколько ворон с карканьем взлетели из-за ближайшего куста можжевельника, и Алешка с содроганием увидел знакомые ему сапоги, торчащие из ложбинки. Алешка уже знал, что это Солдат. Солдат лежал на спине с открытыми, стеклянными уже глазами, по которым деловито ползали рыжие муравьи. Руки его широко были раскинуты – умер он легко, мушкетная круглая пуля угодила в самое его сердце, отбросив на смертное ложе из мха. Рядом с Солдатом лежал заряженный мушкет, из которого он так и не успел выстрелить. Алешка постоял, пригорюнившись, возле мертвого тела, потом, содрав большой пучок мха, покрыл Солдату лицо и перекрестился.
– Дядя Гриша! – тихо и безнадежно позвал он. – Дядя Гриша! Да что же это…
Затем он наткнулся на Ивана Копейку. Стрельцы, видимо, взяли того живьем, но по какой-то причине казнили здесь же. Его повесили на суку огромной старой сосны, что росла на краю поляны вблизи острожка, и теперь он тихо покачивался, вытаращив единственный глаз и вывалив изо рта искусанный бурый язык. Второй глаз его был выбит, и глазница, пустая и черная, зияла жутко. Руки были связаны за спиной, сапог на ногах не было. Добрые, с купца, были сапоги у Ивана, и, видать, не зная этого, соблазнился ими какой-то стрелец – не пропадать же добру! Алешка уже не чувствовал ни страха, ни даже жалости – все в нем окаменело. Он плакал, но слезы текли будто сами по себе, как будто скорбь по прежней жизни вымывали.
– Дядя Гриша! Где ты, дядя Гриша?
Алешка обошел место пожарища и раз, и второй, но больше никого не нашел. Огонь был силен, и если кто-то и остался в избах, то, конечно, сгорел дотла. Может быть, у лодок есть кто? Может быть, кто-то и смог избегнуть стрелецкой облавы? Отчаянная надежда затеплилась в Алешкиной груди, и он со всех ног бросился по тропинке на берег озера, прочь от страшного места. Увы, на берегу никого не было. Две полузатопленные лодки с прорубленным дном покачивало небольшой волной у берега, третьей не было, и Алешка, приставив руку козырьком, жадно высматривал ее на глади озера и у острова Гачь. Все было пустынно. Алешка устало добрел до воды и, встав на колени, пил озерную воду, черпая ее одной рукой. Потом он поднял глаза и похолодел. Саженях в трех от берега, на каменистом мелководье, ничком покачивалось человеческое тело, и Алешка по цветастой рубашке на нем сразу понял, что это Ванек Рыбак. Загребая ногами воду, Алешка побрел к Ваньку и, подойдя, опустился в воду на колени. Ванек лежал, разведя руки, как бы в недоумении: «Братцы, да что же это такое?» Похоже было, что его сначала чем-то ударили по голове, потому что кожа там была рассечена, а затем просто утопили, и теперь стайка шустрых мальков уже суетилась возле его разодранного камнями лица, обкусывая лоскутки кожи.
«Невест у тебя, Ваня, будет много, да злые они у тебя будут, всего обкусают», – так дядя Гриша Ванюшке тогда говорил, когда слова Илмы толмачил-то! – вдруг неожиданно вспомнилось Алешке при виде обгладывающих человеческую плоть мальков.
«А что она еще говорила? Ивану Копейке что сказала? Вроде, сказала, что невеста его будет долговязой и на одной руке вертеть его станет! Так ведь так оно и есть – висит сейчас Копейка на суку большой сосны. Сосна – невеста, его на руке, то есть на суку, держит да вертит! Дальше. Что она еще говорила? Что Солдатова невеста кругла и горяча будет – вот что она сказала! Так ведь это она про пулю, что кругла да горяча! Откуда она это знала?»
– Откуда она это знала? Илма, милая, откуда ты это знала? – хриплым шепотом едва вымолвил Алешка. – Что же теперь?
Неожиданно припомнился ему стрелец, который ужом на коне крутился и его слова: «Этот лысый, прыткий был, долго его ломали. Водой везут…»
«Ай! – будто заноза под ноготь угодила. – Ай! Дядя Гриша, знать, тебя водой сейчас в Олонец стрельцы везут! Мучить будут, на дыбу вешать. Кости ломать. Жечь железом каленым. Допытывать сотоварищей. Нет, дядя Гриша его, Алешку, не выдаст. Да и погибли все. Так ему потом голову отрубят или повесят прилюдно. Как же тебя, дядя Гриша, спасти? И спасти-то нельзя. И идти некуда. Кроме как назад в монастырь. Кончилась старая жизнь!»
Алешка медленно встал, загребая ногами воду, вышел на берег. Он остановился, посмотрел на колышущееся на волне тело Ванька. Губы его шевельнулись, и то ли молитва, то ли прощание было на них. Потом опустил голову и побрел по тропе назад к острожку. Вдруг он застыл, как будто пораженный какой-то мыслью, развернувшись, бросился назад к озеру. Он подбежал к телу Ванюшки и за ноги потащил к берегу так, что рубашка на мертвеце задралась, обнажив поджарое, загорелое, но, увы, мертвое тело.
– Ваня, Ваня! Погоди до завтра! – шептал Алешка, вытаскивая того на песок – Завтра с лопатой приду! Чтобы по-христиански все!
Затем Алешка, как одержимый, бросился к пепелищу, и вид его был страшен. Он пробежал мимо качающегося в петле Копейки и бросился к телу Солдата.
– Два часа, да еще два часа водой до Нурмы – это четыре часа. Уплыли часа два назад, да если гружены да уставши… Два часа у меня есть. Есть два часа! Скорей…
«Мох на лице Солдата. Завтра. Завтра! Потерпите, братья, до завтра. Обещаю! Приду! Схороню! По-христиански! Где ружье? Вот оно. Кремень взведен. Порох с полки просыпался. Нужен порох. Вот он порох, у Солдата же на поясе, в мешке! Спасибо, Солдат! Царствие тебе небесное! Отмолю твои грехи… Все, порох есть. Шомпол. Ага, пуля в стволе… Бежать. Быстро! Может быть, успею. Какой тяжелый мушкет!
Скорей! Лодка! Вот она! Как дядя Григорий оставил! Там Ванюшка спал. Потом. Все потом! Быстрее! Все, берег! Теперь только бежать! Еще успею. Кто-то прозевал стрельцов. Что-то неладное здесь! Все события как в одном клубке: купцы, Илма, отец Геннадий, дядя Гриша! Как он там? Какой ужасно тяжкий мушкет! Как же его таскают солдаты? Пусть волочится прикладом по земле. Ничего, это ничего! Главное, пуля в стволе! Болото! Ага, знать полпути! Болото, болото, за ним ельник густой. Черника там! Дядя Гриша там меня стрелять учил. По белкам стреляли. Пытать будут! Как люди могут? Разве мы не христиане? А я что собираюсь сделать? Это грех? Или во спасение это? Это так, сам себя утешаю. Ну и мушкет! Ноги едва волоку. Вода хлюпает, много воды на болоте в этот год. Дожди. Ельник! Вот ельник. Скоро смеркаться будет. Успеть бы! Боже, молю тебя, только бы успеть! Дядя Гриша! За что же судьба к тебе такая жестокая? Ты же добрый, сильный! Умный! За что, Господь мой? Почему так мир устроен? А ко мне добрая она? Завтра всех похороню. Нурми! Вот уже просвет в лесу! Бор сосновый! Река близко! Успеть, лишь бы успеть!»
Глава 8
Олонка – темная река. Воды твои издали текут, лесами да болотами исплаканы. Медленной струёй между высоких берегов, откуда кланяется тебе народ древесный: сосны красные да елочки, шишками нарядные, да ольха безродная с рябиной гордою, течешь ты, Олонка, до самой Ладоги. Ладога – чаша драгоценная – наполнена водой и твоей, и тою, что еще сорок сестер твоих приносят. И ангелы, незримо пролетающие над водой ладожской, от сияния неба голубою, улыбаются от радости неведомой или печалятся печалью северной, горькой. И на лету касаются они прозрачным крылом своим поверхности вод ладожских, отчего щекотно ей, и тогда весела и бурлива бывает она. У Олонки же нрав строгий, монашеский. Ровна она и зимой и летом, и ничто не встревожит тихого, покойного тока ее воды, лишь если веселая Ладога с западным ветром не забросает Олонку хлопьями пены на гребнях волн. Так и перекидываются они водой да пеной, как купающиеся подружки: Олонка – Ладоге, Ладога – Олонке. Но Олонка терпением и упорством своим все равно побеждает.
В двух с малым верстах от устья высоки и обрывисты берега реки. Здесь делает она резкий поворот, будто змея, что старую кожу сбросить пытается. Почва на тех берегах – песок да слезы. Есть, однако же, на левом берегу низинка сыроватая да с землей суглинистою, которую и присмотрели карельские крестьяне с давней поры, поди, еще от Грозного Ивана, а может быть, и еще раньше. Так и появилось здесь село в один дом, и было оно без названия. Нурми звали сами карелы его, что значит земля, почва или лужок. Вот сюда-то, к сельцу в дом один, вечером августа года от Рождества Христова 1664 и спешил лесной тропкой от самой Андрусовской губы Алешка. Хаживали они сюда с дядей Григорием на охоте. Карелов не тревожили – люди мирные, трудолюбивые, чего их тревожить? На обрыве есть ключ. Летом и зимой точит вода бурые плотные пласты торфяные, да поет свою вечную звонкую песенку. Здесь у реки поворот, здесь берег высок и кустами заросший – черемухой и рябиной. Долго сидел там Алешка, дыхание переводил. Затем, к воде спустившись, попил воды и стал готовиться. Долго искал удобное место и, наконец, нашел старую кривую черемуху, что как горбатая старуха с обрыва склонилась. Он пощупал еще раз шомполом на месте ли пуля? Та была на месте. Солнце зависло над лесом, едва не цепляясь за макушки деревьев. Река была пустынна. Еще час – и стемнеет. Алешка насыпал порох из мешочка на полку мушкета и положил его аккуратно рядом на траву. Он сел, прислонившись к стволу черемухи, и только теперь ощутил, как болит усталое тело. Пора эта в конце августа не комариная – они свое отлетали в июне да июле. Сидеть было приятно, и вставать не хотелось, но он встал, чтобы посмотреть на реку еще раз. Ни души! Что, если он пришел слишком поздно? Что, если стрельцы уже плывут, где-нибудь за Ильинской горкой? Он снова присел. Дядя Гриша. Прости меня, дядя Гриша! Не судьба тебе быть сватом. Не сидеть посаженным отцом на свадьбе Алешки с Илмой. Да и будет ли она, свадьба эта? Не поехать им втроем в град Москву, или еще куда. Так Бог судил и да будет так! Каравана нет. Нет каравана! Алешке стало так горько, что он не выдержал и заплакал, не стараясь сдержать слез. Некого было стыдиться ему. Долго плакал он, затем ему полегчало. Нет каравана! Он опоздал.
– Боже, дай силы мне жить-то дальше! – прошептал он. – Как теперь явиться в монастырь? А если не туда, то куда идти? Остается Илма, люблю которую!
– Ууу! Уух! Охооо!
Ничего не понимая, Алешка закрутил головой, пытаясь разобраться, что же происходит. Он вскочил на ноги. Еще далеко от Алешки по Олонке разметались лебедями шесть стругов, и песня неслась. В каждой лодке по восемь гребцов лихо гребли, закатав рукава красных кафтанов. Уже горячка боя прошла за время долгого пути, но радость победы и жизни была неизживной, и летел над речной волной, подхваченный многими глотками, напев.
Не шуми ты, мати, зеленая дубравушка,
Не мешай мне, доброму молодцу, думу думати.
Что заутру мне, добру молодцу, во допрос идти
Перед грозного судию, самого царя
Еще станет государь меня спрашивать
Уж скажи, скажи, детинушка крестьянский сын,
Уж как с кем ты воровал, с кем разбой держал…
«Что же это такое! – подумал Алешка, жадно вглядываясь в приближающиеся силуэты людей. – Разбойничьи песни стрельцы поют! Или издеваются так? Где дядя Гриша?»
Первая ладья уже поравнялась с тем местом, где прятался Алешка. Стрельцы были заняты греблей, заросли были густы, обрывистый берег высок. Становилось темно. Вторая ладья была заполнена мешками, сундуками и другим добром, которое, как догадался Алешка, было захвачено в атаманской избе. Третья ладья прошла мимо. На носу её гордо восседал дородный мужчина в кафтане дорогого зеленого сукна, по поясу перетянутом красным платком, – воевода. Верно, был это воевода олонецкий Чеглоков Василий Александрович. Дядя Гриша был в четвертой ладье. Алешка сначала увидел мачту, из-за которой виднелись только плечи и связанные кисти рук, но постепенно, по мере приближения ладьи, постепенно показалась и лысая, вся в синяках и кровоподтеках голова, свешивающаяся на грудь, драная, запачканная кровью рубашка. Дядя Гриша сидел на скамье у мачты, и ноги его были тоже связаны. Избит он был страшно, так, что лишь изредка поднимал голову, которая почти сразу же бессильно опускалась на грудь. Алешка застонал. Так близко от берега плыла ладья, что можно было камушек докинуть до нее.
– Господи Иисусе, помоги мне! – прошептал Алешка, торопливо поднимая мушкет с земли. Он положил мушкетный ствол в развилку ветки черемухи и отвел кремень назад до щелчка. Порох для затравки лежал на полке.
– Боже милостивый! Дай силы мне. Грех на себя принимаю! Молить всю жизнь за братий моих грешных буду тебя! – губы его дрожали. Ладья с дядей Гришей уже прошла то место, где над обрывом стоял Алешка, и начала поворачивать по фарватеру реки. Дядя Гриша был весь виден, как на ладони, но Алешка знал, что драгоценное время уходит. Ноги его дрожали, а дыхание стало прерывистым. Он поймал на мушку широкую грудь дяди Гриши. Осталось лишь нажать на спусковой крючок. Дядя Гриша поднял голову. Глаза его блеснули в закатных лучах солнца. И Алешке так захотелось крикнуть напоследок: «Дядя Гриша!», но из его горла раздался невнятный булькающий звук «Дхр-р-лы», и в этот самый миг он понял, что если сделает это, то не сможет выстрелить уже никогда. Вместе с завыванием дикого зверя палец, дрожа, нажал на спусковой крючок. Алешку оглушило и отбросило назад так, что он упал на землю и несколько секунд, оглушенный, сидел, тряся головой. Мушкет он выронил из рук, и тот свалился в кусты под обрывом, к самой воде. Алешка медленно поднялся и увидел, что стрельцы вскочили со скамей, побросав весла. Они указывали руками на место выстрела. Никто ничего не понимал. Алешка не смотрел на них. Он видел лишь грузно, по-мертвому, безвольно висящее на верёвках тело родного ему человека, которого он только что застрелил своими руками.
– Вот он, сука! Братцы, вот он там, на обрыве!
– Греби к берегу, имай его!
– Убил! Вора убил, сын собачий!
– Берегись, мож, еще кто есть!
Выстрел раздался, затем второй, и пуля чиркнула над головой Алешки. Он, вяло переступая ногами, отошел от обрыва и, не оглядываясь, направился к лесу. Он знал, что преследовать не будут – побоятся. Быстро смеркалось. Он шел и плакал по дяде Грише, по разбойникам, по Илме, по своему неслучившемуся счастью. Сердце его так говорило.
* * *
Спустя несколько дней он решил уйти из монастыря. Куда отправиться потом и как жить дальше, Алешка не знал. Единственное, что он хотел, – это увидеть Илму, а дальше будь что будет. Еще с утра приготовил он котомку, в которой лежали пара ломтей хлеба, нож, подобранный возле пепелища, и несколько копеек медью. Мешочек с серьгами упрятал Алешка на груди, под рубашкой, к сердцу поближе. Всех убитых своих товарищей похоронил Алешка за два дня до того, и сердце его, скорбью переполненное, билось теперь спокойно. В избе, что стояла во дворе монастыря, и где, кроме Алешки, проживал кошачьеглазый послушник Васька и еще один трудник-плотник Микита, было тихо. На дворе было холодно и довольно светло. Небо было чистое, все звезды высыпались на нем, и полная луна прохаживалась меж ними, как толстая деревенская баба. Заморозок обещался к утру. Алешка тихонечко, чтобы не будить своих новых товарищей, слез с полатей и, подхватив приготовленную загодя котомку, выскользнул в двери. Во дворе монастыря было пустынно и тихо. Алешка торопливым шагом направился к маленькой избушке возле ворот и стукнул два раза в дверь.
– Ась? – седая, с длинной бородой голова старика Мокея высунулась из дверей. – Кому еще не спится? Алексей, ты ли?
– Я, я это, дядя Мокей! – приглушенным голосом ответил Алешка. – Отвори мне ворота.
– Так… зачем это? – изумился Мокей. – На ночь-то глядя! Куда тебя черти несут? Лексей! Аль случилось что? Второй уже…
– Не томи, дядя Мокей, ухожу я! – прошептал уже Алешка и почувствовал, как душа его снова терзается сомнениями, правильно ли он поступает? Однако и отступать уже было поздно. Старый Мокей, хромая и бормоча что-то себе под нос, потащился с ключом в руках к воротам.
– Дурак ты, Лексей, вот что я тебе скажу! – заявил неожиданно старик, тыча ключом в замок, которым запирались ворота. – Куда уходишь? Слышь, волки воют? Ты человек вроде и светлый, уж я повидал многих, а шальной… Зима, опять же, на носу. Ты – сирота, как жить будешь?
Алеша молчал, опустив голову. Мокей, сняв замок, приоткрыл одну створку воротную.
– Ну, ступай, коли так! – произнес он, укоризненно качая головой. – Знаю, что горе тебя ест. Бог тебе судья! Бог судья!
– Спасибо, дядь Мокей!
Алеша бочком выскользнул наружу, и ворота закрылись за ним. Слышно было, как старик запирал замок, звеня ключом. Алеша стоял на дороге. Дорога эта длиною с четыре версты через лес шла от монастыря до Ильинского погоста на Олонке. Дальше Алешке нужно было переправиться через реку, а затем идти вдоль ее берега до Ладоги и дальше по ее берегу до речки Тулоксы, вплоть до самой Мергойлы, где жила Илма. План был плох: до Ильинского погоста он дошел бы за полночь, когда все спят, и уж точно никто не стал бы перевозить его через реку. Но отказаться от него Алешка уже не мог, и он торопливо зашагал по дороге к опушке старого ельника, мрачного днем и совсем уж жуткого ночью, так что мурашки по коже. Вдруг ледяной холод пробежал по Алешкиной спине, и он невольно замедлил шаг, вглядываясь в неожиданно возникшую на его пути смутную, сгорбленную фигуру человека, который стоял неподвижно, опершись на палку.
«Отец Геннадий! – с облегчением опознал юноша своего старого учителя. – Но что он делает здесь? И ночью?»
Алеша твердо решил, не заговаривая, пройти мимо и следовать своим путем, но невольно остановился потупив голову, когда отец Геннадий поднял руку и тихо заговорил.
– Алексей, чадо, погоди. Почуял я сегодня, что уйдешь ты из монастыря. Не осуждаю. Не держу. Воля Господня. Выслушай только, затем ступай.
Старик замолчал, затем присел на большой придорожный камень, отложив палку в сторону. Лицо его, от постов изможденное, с реденькой белой бородкой светилось при свете луны старческой тихой белизной. Говорил тихо. Алеша так и остался стоять, упрямо голову опустив.
– Ноги болят у меня. Трудно стоять, – как будто сокровенным делясь, произнес старик. – Я ведь, Алеша, тебя здесь ожидаючи, многое вспомнил. Вот помню, как мне годов как и тебе – осьмнадцатый. Иду я по лугу, а он весь в цветах, изукрашен чудно! И вот подумал я тогда впервые серьезно: а кто такой дивный мир устроил? И как в нем все течет? И что в нем человек? Всё как будто вчера было. Как будто очи закрыл и вновь открыл – и вот стою стар и болен. Быстро годы-то летят, Алеша. Ты сейчас этого ещё не понимаешь.
Старик замолчал. Алеша поднял глаза на него и увидел, как тот провел рукой по лицу. Выцветшие стариковские глаза блеснули слезой.
– Куда ты следуешь, я знаю. Григорий мне все о тебе поведал, Господи, прости его и помилуй! Просил он для тебя сохранить вот, – в руке старика увидел Алешка кошель, деньгами набитый, и сердце его застучало быстро и полно. Ведь теперь жить можно без заботы о пропитании и крове несколько лет! Вот она – свобода! И жизнь их с Илмой устроить на добрый лад! Ай да дядя Гриша! Спасибо тебе!
И тут змеею подколодной ворохнулась сразу и вторая мысль: «А серебро-то разбойничье! Кровь на нем! Значит, свое счастье чужой кровью ты оплачиваешь! Грех и соблазн!»
– Коль жениться надумал, то приходите, я обвенчаю. Не знаю только, как вы сойдетесь, годитеся ли друг другу. Тебе разум светлый Бог дал, и к людям любопытство, и к книжному учению. Для дела купецкого ты не годишься – добр. Можешь в приказные пойти, раз грамотен, да только это крапивное семя или тебя в своего перекрестит, и станешь тогда и бражничать
[94], и посулы
[95] брать, а коль нет, то выживут тебя. Крестьянской работы ты не ведаешь, но это наживное. Но тяжек труд крестьянский по нашим местам, труд обильный, а плод его скудный. Но и в нем много радости есть, видеть, как трудами своими самого себя и детей своих кормишь. Как всходы по пашне зеленеют, как стога по лугу теснятся. Богу угодное это дело. Тем трудом вся земля стоит и украшается. Поначалу много радости тебе с женою молодой будет. Хозяйство блюсти да деток растить. Да только потом, за хозяйством и суетой мирской, замечать начнешь, как к людям любопытство свое потеряешь, и к заповедям Божьим глух станешь. Или наоборот – жажда духовная томить тебя почнёт: а как от суеты мирской вырваться? Она крепче трясины болотной держит. По-простому тебе говорю, да простота эта на себе испытана. И в старости, в одиночестве, спросишь сам себя: зачем на суетное годы лучшие извел? Кого научил доброму? Душу кому поправил? И проклянешь тогда себя, да поздно уже будет.
Помнишь, читали мы с тобою, Алеша, притчу о сеятеле? С семенем каким себя сравнишь? С тем, что птицы у дороги склевали? Аль что на камне упало? А скорее всего, с тем, что тернии заглушили, суета мирская, так себе мню.
Старик замолчал снова, и Алеша мог слышать в ночной тишине его тяжелое дыхание. Кошель отец Геннадий отодвинул от себя, и он, соскользнув с камня, тяжело упал на траву, коротко звякнув.
– Ну, то о пастве речь, – почти жалобно продолжил старик. – Сам видишь, Алеша, места глухие наши, слово божие с трудом, как солнце сквозь тучи грозовые к душам человеческим пробивается. Карелы суть частью язычники до сей поры, наши в вере старой закоренели. И те и другие суевериями полны, в грехах пропадают да ими же и гордятся. Кто их учить станет? Где зерен божественных сеятель? Кто свечу далее понесет, и чтобы не гасла она, озаботится? Я уже стар, меня Бог скоро к себе призовет, знаю. А кто вослед ко мне? Со скорбью смотрю на ближних братий моих и не вижу никого как учителя, потому как и учиться не желают. Ради хлеба куска, а не ради Христа пришли они в монастырь. Я ведь знаю, люди надо мной, может, и потешаются, да ко мне по вере моей и прислоняются, потому что чувствуют они чистоту. Не верят боле никому. Мне верят. Потому что, как глаголил Августин Блаженный: «Душа человеческая – христианка». Душою чуют. Вот я на тебя понадеялся, Алеша, думал, преемника из тебя взрастить, потому что душа у тебя теплая, к добру и знаниям приимчивая, и разумом ты скор…
Тараном били в сердце Алешкино слова старца, и удар за ударом рушилась его уверенность в своей правоте так, что почти безумно озирался он вокруг себя, ничего не видя. А слова старого пастыря, как капли дождевые, незаметные, так и продолжали точить лед, которым обросло Алешкино сердце за эти несколько дней. Но Илма! Что делать ему с любовью своей к этой рыжей девочке? Сердце его разрывалось на части, и он зашатался, теряя опору в земле. Он хотел заткнуть уши руками, но не мог. И слушал дальше.
– Запомни, Алексей, слово мое. Бог ошибок не прощает…
– Отче, Бог наш всемилостив! – почти простонал Алеша.
– Это для блудниц и мытарей. А для учеников своих пастырь беспощаден, и их наказует за неверие и измену. Как Иуду Кариотского! И ты собираешься зарыть талант свой! На суде, на страшном, оба мы предстанем перед Богом, и тогда вопрошу: где всё то, чему тебя учил? То давал я тебе в надежде, что многократно вернешь. А ты, может, даже и то позабудешь, где лежит тобой же зарытое!
Отец Геннадий вдруг замолчал и, неожиданно упав на колени, пополз к Алеше. Тот остолбенел от ужаса, волосы его встали дыбом, когда увидел он, как старик, обняв ноги его, целует носки сапог и шепчет: «Алеша, не уходи! На тебя моя надежда единая! Побудь с год хотя, потом ступай! Схоронишь меня, а дальше воля твоя! Грех мой, грех мой Иудин только ты замолить сможешь! Не уходи! Бог ошибок не прощает!
Алешка плакал беззвучно. Оба плакали. Алешка опустился на колени на холодную, инеем покрывшуюся уже дорогу.
– Я не уйду, Отче! Деньги бедным надо будет раздать, – больше не смог сказать ничего, слезы душили. Так и стояли на коленях и плакали, обнявшись на пустынной дороге, под сентябрьскими звездами – учитель и ученик.
* * *
В начале ноября в год 1665-й от Рождества Христова светловолосый юноша в скуфейке и монашеском платье, стараясь не потревожить собак, затаился на опушке леса недалеко от маленького хуторка на берегу речки Тулоксы. Падал мокрый снег, мир был холоден и неуютен. Платье на юноше промокло насквозь, капли воды блестели на светлой молодой бородке и на усах, но юноша не замечал ни холода, ни сырости. Он неподвижно стоял и смотрел на двор, на слюдяное окошко, изнутри освещенное огнем лучины, на людей, изредка выходивших по своим делам во двор и затем вновь исчезавших за дверями дома. Взгляд его при виде людей на миг темнел от напряжения, и он в волнении судорожно сжимал ствол молодой березки красными замерзшими пальцами. Но это были не те люди, которых он хотел видеть. И когда уже начало смеркаться, на крыльце дома появилась та, кого юноша ждал так упорно. Это была девушка, совсем еще юная, тонкая и гибкая как лоза. Она спустилась по тропинке от дома к маленькому плотику, зачерпнула ведром воды из реки. Она не сразу направилась к дому, а постояла на плотике некоторое время. Юноша издали видел, как девушка, приставив козырьком руку к глазам, смотрела в сторону кипящей волнами Ладоги. Затем подняла ведро и направилась по тропинке назад к дому, но на пригорке оглянулась на речку снова, как будто хотела удостовериться, что там никого нет. Юноша на опушке, тем временем, как раненый, со стоном опустился на колени, судорожно цепляясь за белоснежный березовый ствол, на котором остались царапины. Он, как дикий зверь, впился зубами в собственную руку так, что выступила кровь. Вторая рука его, как будто в агонии, рвала мох до самого торфа. Он рычал, и боль его, боль не телесная, а душевная, была велика. Наконец он тихо заплакал, глядя на опустевшую тропинку, где только что стояла она. Так, на коленях, плакал он, обняв, как невесту, ствол белой березки, и снег мокрыми густыми хлопьями засыпал его, как будто напоминал о том, что все в этом мире проходит, когда-то будет забыто и излечено. Затем он поднялся, и, постояв несколько минут, зашагал вглубь леса, уже не заботясь о том, чтобы его не услышали, качаясь как пьяный, слепо натыкаясь на стволы сосен и, цепляясь ногами за вересковую поросль. Так уходят, когда не собираются больше возвратиться вновь. Так уходил и он, чтобы никогда больше сюда не вернуться.
Часть 3. Ингерманланд
Глава 1
Возле Адмиралтейского двора царит вечная суета. Там от берега к шпалере выстроившихся вдоль невского берега военных и торговых судов снуют туда и обратно шлюпки и баркасы с грузом или людьми. Крик, брань боутманская
[96] и офицерская, а порой песня, которую под взмах весел запевают дюжие, усатые, как коты, матросы. На берегу также, попробуй разберись! Тут же, под ногами людей и повоз, бьют в мостовую булыжник пленные шведы, и русские наемные люди. Тут же бочки, штабеля бревен и досок, груды кирпича и непременный спутник всякого хозяйственного действия трехэтажный, во все простуженное горло мат. Многие наши прибыли по нужде или по команде недавно. Все им в новинку и в изумление после своей малой деревеньки да лесов с лугами. Озираются на иностранных купцов с мастерами, пленных шведов, пышных офицеров высокого ранга, что индюками ходят, на шпиль адмиралтейства да на здание 12 коллегий. Как будто и не Россия это вовсе, а царство неведомое заморское! Иной плотник с верфи, увидев такого вот парнягу растерянного, еще и посмеется над беднягой. Ткнет под ребро и шепотком таинственным морочит, указывает на другую сторону Невы, где дом Меншикова Алексашки стоит.
– Вот брат, в том доме сам Александра Данилович Меншиков живет! Денег у него, у-у-у! Кура не клюнет! Он весь Питербурх один может отстроить! Царя богаче!
У парня от изумления челюсть отвисает, как такое быть может, чтобы человек был богаче самого царя? Однако дядю не отпускает и, по деревенской простоте, пытается побольше выспросить.
– Да откуда же ты, дядя, про него, Меншикова-то знаешь?
Дядя также не спешит. Вытаскивает из кармана простенькую глиняную трубочку, набивает табачком из кисета, кресалом выбивает искру. Деревенский нюхает дым и чихает «Тьфой, нечисть!» Дядя посмеивается.
– Погоди, оботрешься, привыкнешь. Сам чертей дымом гонять начнешь. Знаешь, их тут по лету сколько? Вот! – И, затянувшись, щурит глаз на Неву и трубкой тычет.
– А вот, милой человек, «Ангермалан», вишь, в самой голове красавец? Годов тому назад как три, его мы на воду спущали. Агличанин Козенец его строил, а я у него малость в подмоге был. Три года топорами махали! Петр Алексеич часто к нам заходил, все погонял. Сам топориком помахивал. Вот царь так царь!
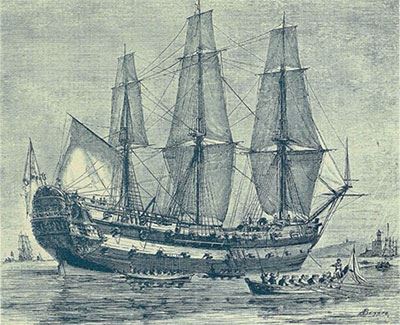
Ингерманланд
– А что, дядя, так ты его знаешь? Царя-то?
– А как же? Он мастеровых уважает, до них ласков. А раззяв таких, как ты да лентяев дубиной научает. Ну, бывай, деревня!
И уже издали обиженному парню:
– Ничего, оботрешься! А то приходи на верфь, скажи, что к Пальчикову
[97] – на меня попадешь! Или к Федоске к Скляеву
[98] просись. Шкуру выдубим – человеком станешь!

Парень вертит головой, смотрит то на спину плотникову, то на корабль. Корабль красив! Длины в нем более полста метров, а борта круты. Знающий человек сразу признает, что маневренный и скорый по ходу корабль перед ним. Порты орудийные в два ряда за ненадобностью задраены, но при случае в один миг 64 пушки корабельные добрую сотню пудов горячих ядер пошлют в борт вражеского судна. Пока же там тихо, паруса спущены и заботливо принайтованы к реям. Только флаг самого государя вице-адмиральский лениво вытянулся на обычный для Петербурга норд-вест. Холодно, только что еще снег не идет. На палубе «Ингерманланда» вахтенные ежатся, да от носа отваливает шлюпка и, расплескивая черную невскую воду, спешит, стуча веслами, к пристани на берегу, возле Адмиралтейства. В шлюпке, на банке задней, пестрым индюком расселся сам Мартин Петрович Гесслер – первого ранга капитан и кораблю первый после Бога и Петра хозяин. Мартин Петрович сегодня парижским франтом, в кафтане доброго зеленого сукна с красными обшлагами и золотым галуном по краю. Шарф офицерский, что государь указал носить через плечо, Гесслер на турецкий лад обмотал вокруг пояса. Такой уж у него дикий обычай с давней поры. Сапоги по холодной погоде высокие, с раструбом. По той же погоде зябкий командир «Ингерманланда» кутается в епанчу
[99], накинув на голову капюшон. Треуголку теребит в руках, красных от ветра. На пальце кольца золотые. Рядышком с командиром пристроился второй лейтенант – мелкотравчатый помещик Ртищев Александр Михайлович. На борту, на случай непредвиденный, для команды оставлен капитан – лейтенант Граббе, немец. Едет Гесслер, так, без дела, для променаду. Однако в этот день расположение звезд было иным, чего он совсем не предполагал. Еще не успела шлюпка пришвартоваться к причалу, как с разбойным присвистом на тот же причал влетел фурьер, в Преображенского полка кафтан обряженный, с сумой и чисто выбрит. Привязал коня к поручням пристани и сам нетерпеливо поджидает приближения шлюпки. Первыми выскочили на пристань два дюжих матроса и, крепко принайтовав шлюпку, начали помогать офицерам выходить на пристань. Не успел капитан дух перевести, как фурьер треуголку под мышку и вкрадчиво-требовательно докладывает:
– Фурьер его Императорского величества прапорщик Десницын Иван! Имею приказ доставить на борт «Ингерманланда» письмо от государя, а посему прошу предоставить шлюп во временное распоряжение.
– От государя? Письмо? – лицо Гесслера вопросительно вытянулось. – Я есть командир «Ингерманланда». Мне письмо. Давай сюда.
И руку протянул. Фурьер, чуть поколебавшись, но по каким-то признакам в правильности адресата убедившийся, пакет протянул. Мартин Петрович, выпятив губу нижнюю, вскрыл пакет и, далеко отставив по причине дальнозоркости письмо, попытался было прочесть его, но сдался и протянул бумагу Ртищеву. – Читай, лейтенант!
– Ммм, мм. Так, эхм! – быстро пролетел глазами по строкам письма скорый лейтенант и пояснил:
– Нам предписывается, господин капитан, подготовить корабль к выходу в озеро Ладожское. К отплытию быть готовыми до завтрашнего полудня. Государь едет на Петровский завод и оттого просит не мешкать.
– Ну, что же! – обратился к фурьеру Гесслер. – Спасибо, прапорщик, за службу!
И, отвернувшись, посмотрел на матросов в шлюпке, флаг на мачте «Ингерманланда», чаек на воде, сплюнул на доски причала и перекрестился совсем уж по-русски.
– Вот, лейтенант, повезло-то как! А мы хотели сегодня добром напиться! Ох и повезло! – и добавил, взглянув на притихшего помещика. – Никогда не доводилось государевой дубинки отведать? Завтра и отведали бы оба после кабака!
Через час «Ингерманланд» загудел, как растревоженный улей. Матросы драили палубы под присмотром боутманов, натирали суконкой медные детали, штопали паруса и латали свою весьма худую одежонку. Командир отправил на берег шлюпки для пополнения припасов и закупки продуктов к царскому столу. Офицеры – и наши, и иностранные – бегали и орали на подчиненных: иностранные более по делу, а потому и поменьше, наши же для вида, оттого погромче и чаще. После долгой месячной скучной стоянки этот гвалт и суета даже понравились. О прибытии государя уже узнали все, а потому ждали завтрашнего дня с нетерпением, ибо от одного царя беды матросам куда как меньше, чем от десятка офицеров. Гесслер собрал у себя в каюте малый военный совет. Уже по давней традиции все трое – сам Мартин Петрович, капитан-лейтенант Граббе и второй лейтенант Ртищев – закурили свои трубки, отчего через минуту вся каюта стала напоминать больше место генеральной баталии, чем каюту командира корабля. Гесслер, попыхивая трубкой, накручивал локон длиннейшего своего парика – парижского чуда – да посматривал на нахохлившихся подчиненных. Соотечественника Граббе он ценил за добросовестность, честность и дисциплину, как это и приписывается всякому немцу, а Ртищева за ум быстрый и отвагу в бою беспримерную. Впрочем, Граббе и Ртищев не ладили.
– Господа офицеры! – начал свою речь, наконец, капитан. – Собрал я вас по делу важному. Завтра прибывает к нам на борт сам господин Вице-адмирал Петр Михайлов, и нам предписано в полдень, отнюдь не мешкая, отплыть из порту, через Неву, выйти в Ладогу и держать курс на устье этой, как его… – палец капитана воткнулся в некое место на карте. – Ах, да, Олонки. Там мы высаживаем государя, который следует в Олонец и далее на Петровские заводы с комиссией.
Немец Граббе откинулся в кресле и губами зачмокал. Ртищев же с любопытством косил карим, любопытным глазом на палец капитанский, который место на карте покрывал.
– Мы же, господа, воротимся назад и становимся на зимовку, до весенней кампании. Вас же созвал на совет, дабы мнения свои в исполнение того дела выразили. Начинайте, второй лейтенант.
Ртищева прямая спина качнулась:
– Не ходили мы Ладогой никогда, господин капитан. Лоция озера неточна, а мели, особливо в южной части озера, обширны. Думаю, что беречься надобно выхода из Невы в озеро ночной порой. Да и озеро весьма бурливо…
Трубка Граббе глухо опустилась на стол.
– Мой мнений есть говорить косутарь брать галер или другой сутно! Герр лейтенант, праффф тля «Ингерманлант» вихот в Латока весьма опасен. Фот мой мнений!
– Любит Петр Алексеич-то «Ингерманлад», Яков Христианович, ты же сам знаешь, – пробурчал капитан. – Его флаг вице-адмиральский со времени шведской кампании висит. И наше дело приказ исполнять… Фффу! С Божией помощью, – и, видя ерзанье Ртищева на своем месте, – ну, что еще, лейтенант?
– Для пользы дела полагаю, что надобно приискать доброго лоцмана, с Ладогой знакомого. Сие почитаю за важнейшее, господин капитан.
– И то верно! – глянул капитан на Ртищева, с кресла поднимаясь. – Тогда слушайте мой приказ!
Оба офицера вскочили с мест и вытянулись, пожирая капитана глазами, как это табелью и предписано.
– Ты, лейтенант, мил друг, возьми шлюпку с матросами и ступай в город иль по кораблям пройди, но к утру мне лоцмана приищи. За ценой не стой, дело это серьезное.
Лицо лейтенанта думой омрачилось.
– А ты, Яков Христианыч, поди, проверь порядок на палубе и по трюмам. Мало ли, придет государю в голову смотр генеральный кораблю устроить. На тебя полагаюсь. Утром доложитесь.
Каблуки застучали, дверь захлопнулась. Капитан, вздохнувши шумно, подошел к шкафу и вытащил оттуда шкалик с перцовой настойкой со штофом доброго толстого стекла. Крякнув, опрокинул в глотку полный один, затем, подумав, послал и второй, такой же, вдогон. Глянул в окно. День, и без того серый, еще больше сереть начал к вечеру. Ветер крепчал.
К полудню по палубе «Ингерманланда» глухо зашуршал мелкий, чуть не со снегом, дождь, отчего матросы, выстроенные для встречи государя, ежились и втихую переругивались, поминая начальство и погоду. Офицеры шарили зрачками подзорных труб по пустынной набережной, Гесслер прятался в своей каюте. Не терпел холода. К пристани пришвартованы все до единой шлюпки, в каждой по десятку матросов с мичманом. Ждали Государя. Капитан вызвал к себе обоих старших офицеров, и вскоре в дверях каюты затопал ботфортами Граббе, вопросительно, и даже сердито пучащий холодные оловянные глаза.
– Косподин капитан, я жталь фаш прикас!
– Где Ртищев?
– Оооо! Фторой лейтенант фыполняйт фаш прикас. Искайт лоцман на перек.
Капитан схватился за голову.
– Без ножа зарезали! Он еще не нашел? Я ведь еще вчера приказывал, Якоб! Как же ты не доглядел?
– Я? Фы прикасывайт фторой лейтенант, нет мне! – возмущенный немец взволновался так, что уши покраснели и он невольно перешел на родную речь. – Нейн, я фыполняйт сфой толк, унд Ртишефф сфой.
– Яков Христианыч, государь вот-вот прибудет! А у нас ни лоцмана, ни второго лейтенанта! Не
сносить мне головы! Что делать будем?
Граббе вытянулся стрункою и преданно выпучил глаза на капитана.
– Путем фыполняйт сфой толк и та помокайт нам готт!
– Толк, толк! – съехидствовал невольно Мартин Петрович.
В дверь раздался короткий стук, и из-за спины Граббе засветилось румяное с холода круглое лицо вахтенного – мичмана Пашкова.
– Господин капитан, разрешите доложить! Государь со свитою прибыл на пристань и грузится на шлюпку!
– Каррамба!
[100] – только и успел вскрикнуть капитан и, расталкивая офицеров, бросился на выход, нахлобучивая треуголку на распушившийся парик. Граббе и Пашков многозначительно глянули друг на друга и рысью последовали за своим Неархом
[101].
Действительно, на берегу у шлюпок уже суетились мичмана, распоряжавшиеся посадкой, ржали лошади в веренице трех карет, мелькали мундиры и сигнальщик с берега докладывал на борт «Ингерманланда»: «Государь следует первой шлюпкой. Встречайте». Капитан с офицерами, тем временем, торопливо шагали вдоль строя выстроенных в две шеренги матросов, выискивая на скорый глаз недочеты. Но Граббе свое дело знал твердо. Недочетов не было. Где-то внизу у якорного клюза правого борта заплескали, наконец, весла, и раздалась команда: «Отдать концы на шлюпку! Спустить трап! Принять на борт Вице-адмирала!» Гесслер, Граббе, и остальная шляхта мелкого разбора вытянулись в струнку, ожидая появления своего Государя. Круглое, щетинящееся кошачьими усами лицо Петра показалось над бортом.
– Да помогите же, черти! – бросил он, и два дюжих матроса в одно мгновение перекинули его на палубу. Гесслер бросился к царю.
– Господин Вице-адмирал! Все матросы и господа офицеры экипажа «Ингерманланда» построены…
– Полно, брат. А и холодно у вас тут! – прервал его Петр и, потирая покрасневшие от холодного ветра руки, сразу же заторопился вдоль строя, цепляя лица команды круглыми, внимательными глазами. Гесслер, развевая кудряшками парика, ринулся вдогонку. Граббе, несколько поколебавшись, не устоял от соблазна и отправился вслед за ними.
– Ну, здорово, ребята! – Петр остановился, и повернулся к строю лицом. Гесслер и Граббе упрятались за его спиной.
– Здра-жла-го-Виц-адрал! – рявкнуло так, что до Кроншлота долетело, а на соседних судах люди в изумлении высовывались и озирались из кают. – Да что там такое?!
Петр весело закрутил головой и продолжил, было, обход строя, но внезапно остановился, выглядев кого-то в шеренге.
– Дубков, ты, что ли?
– Так точно, я господин вице-адмирал!
– Ступай сюда, брат! – и Петр обнял за плечи тщедушного, молодого матроса с ушами лопухом.
– Ааа, ты ли, это боутман Кирстен? – обратился он к другому моряку, стоявшему в первой шеренге.
– Я, господин виц-адмирал, – весьма чисто по-русски отвечал низенький, плотный, чисто бритый человек, в голландском платье.
– Молодец! Знаю, собака, что табак у тебя всегда хорош! Угости, потом поквитаемся! – коротко рассмеялся Петр. – С обоих концов строя любопытные по-гусиному выгибали шеи, пытаясь рассмотреть происходящее. Граббе из-за спины капитана грозил им кулаком.
– Так вот! Слушай сюда, ребята! – Петр пыхнул дымком из трубки. – Вот стоит матрос Дубков. Сей герой на спор в баталии из пушки сбил мачту на вражеском корабле. Виктория полная! Молодец! С такими и воевать любо. Однако, – Петр задумчиво глянул на матроса, – воюем мы уже чуть не 20 лет. С божьей помощью, в вашей кумпании по весне поплывем мы снова к сестрице моей, свейской королеве Элеоноре. Угостим ее горяченьким с обоих бортов, и мню, что скоро и замиримся.
Смешки раздались.
– А пока, ребята, в эту осень сослужите мне службу, прокатите по матушке Ладоге, а то ведь заскучали. Так ведь, капитан?
– Так и есть, – угодливо подтвердил Гесслер. – Неплохо бы развеяться!
– Ну, раз неплохо, то поднимай якоря. Вернетесь – на зимовку в экипаж до весны встанете.
На носу тем временем продолжали появляться все новые люди и матросы с любопытством ворочали глаза с Петра на новых жильцов. Плутонг
[102] преображенцев царской охраны с двумя сержантами и офицером, царский повар Фельтен Иоган с поварятами, шестеро денщиков – все люди для экипажа безызвестные, кроме добродушного Фельтена. Целая толпа.
Последним, как чертик, из-за борта вынырнул длинный, сухопарый человек в очках, ученый на вид, но весьма ловкий. С ним слуга с сундучком и парой дорожных сумм. Человек сразу же прыснул по окружающим быстрым, но весьма цепким взглядом, точно собирался картину писать. Тем временем отдана была команда готовить паруса и строй мгновенно рассыпался с гомоном на всех языках и топаньем башмаков. Человек, прищурившись, оценил команду, поднял голову вверх и осмотрел рангоут
[103].
– Отличный корабль! – сказал он сам себе.
Он выцепил в поднявшейся суете фигуру старшего офицера и, лавируя между суетящимися матросами, приблизился к нему.
– Прошу прощения! – дипломатично начал он. – Я сопровождаю косударя в его поездке до Петровских заводов. Со мной один слука. Если можно, я хотел бы иметь отдельную каюту.
Изумленный капитан-лейтенант выпялил свои оловянные глаза на просителя.
– Нефосмошно! Ви находиться на корапль! Кригскорапль! Мало мест! Фсе сопирайт сфита косутарь!
Проситель, улыбаясь, выслушал отказ, который, казалось, его совсем не расстроил.
– Ооо! У вас такой акцент, господин офицер… Вы немец?
– О, та, я из Мекленпурк!
– Sehr angenehm! Ich bin eurer Nachbar in diesem Fall.Ich bin aus Proissen angekommen. Mein Name ist Grauenfeld. Otto Grauenfeld
[104].
– Ah so! – широкая, но совершенно не идущая к бледной и суховатой физиономии капитанлейтенанта Граббе улыбка осветила его странного собеседника. – Dann gehen Sie mir nach, mein Herr! Ich werde gleich alles klappern!
[105] – И он, таинственно оглядываясь, увлек за собой своего неожиданно подвернувшегося земляка за рукав плаща.
Из дневника Отто Грауенфельда:
«…Судьба вновь бросает меня в дальний, глухой угол этой огромной страны. Собственно, когда пишешь о России, то без этих трех прилагательных обойтись невозможно. Европейские меры счета здесь теряют свой смысл. Здесь все парадоксально, однако чтобы прочувствовать это должным образом, непременно нужно побывать в этой стране и увидеть ее собственными глазами. Я счастливчик, и мне выпала такая участь. Сегодня мы отплыли из новой царской столицы Санкт-Петербурга и держим путь на так называемые «Петровские заводы». Это нечто вроде царского арсенала на Севере, среди лесов и болот. Расстояние, по моим расчетам, совсем небольшое, около 200 верст. Я, благодаря моему земляку, – старшему офицеру на корабле «Ингерманланд», устроился весьма комфортно. В моем распоряжении целая отдельная каюта, которую я делю со своим верным слугою Германом. Три часа назад мы подняли якоря и теперь медленно движемся против течения Невы к Ладожскому озеру, хотя все паруса поставлены и ветер благоприятный. Течение в этой реке очень быстрое. Не прошло и двух часов с отплытия из царской столицы, а вокруг нас по обоим берегам реки только дикие, непролазные дебри с болотами. Скоро все застынет и покроется снегом на полгода. Не могу привыкнуть к русской зиме – это полугодовая пытка холодом и мраком. Я устал и хочу домой, в мою родную Пруссию. Уже не представляю свою жизнь на родине – последние четыре года в России смыли почти все воспоминания о моей милой, уютной Европе. Иногда мне кажется, что Европа, моя жизнь там, мои ученые труды это фантом. И все-таки она есть, и это греет меня в этой холодной стране. Терпи, Отто, терпеть осталось немного. Твоя обязанность составить для царя полную коллекцию местных минералов в местности возле Петровских заводов. На Урале это была огромная, адская работа, и мой караван в Москву состоял из 18 вьючных лошадей с образцами. Надеюсь, что здесь такого не будет. Сверху, из царской каюты доносятся звуки празднества. Вероятно, царь пирует со своими офицерами…»
Глава 2
– Коспотин капитан, комант штет прикас тля выступлений! – рапортовал Граббе. – Фсе шлюпка, кроме отин, потнят на порт…
– Где Ртищев? – оборвал Гесслер своего заместителя? – Как пойдем без него и без лоцмана. Явится на борт – под арест негодяя!
– О, йя! Риск фелик, – подливал яда в капитанскую душу Граббе. – Мошно сест на мель и токта…
– Полно! А где еще одна шлюпка?
– Штет второй лейтенант на пристань, коспотин капитан.
– Что государь?
– Косутарь отдыхайт то тва часа.
Гесслер с некоторым облегчением выдохнул. – И то хорошо. – Затем хлопнул в досаде себя по бокам и ткнул Граббе пальцем в пуговицу на мундире.
– Якоб, вот что. Дай команду шлюпке возвращаться. Ежели государь увидит, не дай того Бог, что так и заседаем тут в порту, шкуру с меня снимет!
Граббе нерешительно потоптался на месте, видимо, желая что-то сказать, но махнул рукой и отправился выполнять приказ капитана. Гесслер бросил взгляд на свой корабельный хронометр. Часы показывали без десяти минут час. «Через десять минут дам команду к отплытию. Больше медлить нельзя. Нельзя!» – и с горечью подумал, что государя дернул черт осенней ненастной порой ехать на кулички, в глушь, и выбрать, как нарочно, «Ингерманланд». И что больным сказаться уже нельзя – поздно, и что приказ выполнить трудно. Выпил перцовой. По жилам прошел жар, и явилась другая мысль, что это было бы даже неплохо уволиться со службы.
– Уеду к себе в Гамбург. Куплю дом неподалеку от ратуши. Куплю небольшой бот. В воскресные дни стану прогуливаться под парусом в порту. Там покой. Буду охотиться да бражничать, может быть, займусь мемуарами. Черт с ним, с русским флотом, войной и маневрами. Надоело! Пойти объявить все царю! Сразу. Сейчас.
Однако в глубине души Мартин Петрович Гесслер знал, что никуда не пойдет и ничего не скажет. Приехав сюда типичным немцем, вместе с возвратившимся из своего первого заграничного путешествия Петром, он обрусел за два десятка лет так, что стал забывать родной язык. Даже со своим соотечественником и заместителем капитан-лейтенантом Граббе он предпочитал общаться по-русски, что того несказанно возмущало. Гесслер, правда, отговаривался тем, что уроженец Баварии Граббе разговаривал на своем местном диалекте, который для Гесслера – уроженца севера Германии – казался сущей абракадаброй. За эти года он сделал хорошую карьеру на русском флоте, начиная с командования шнявой «Мункер» в 1704 году. Затем он командовал фрегатом «Самсон» в 1712 году, позже, в 1714 году был капитаном на линейном корабле «Святая Екатерина». «Ингерманланд», любимое детище Петра Первого, стало пиком его карьеры. Царь ценил опыт и знания своего капитана первого ранга и по-приятельски называл Мартина Петровича Мартышкой, что сразу же подхватили матросы и офицеры на корабле. Однако много поживший и много видевший в России Гесслер хорошо помнил изречение, гласившее, что тот, кто находится возле царя, всегда должен помнить о близкой плахе. Именно потому он старался избегать интриг всякого рода, был ровен со всеми влиятельными людьми, но никогда не упускал возможности сделать приятное царю. Единственной слабой чертой Мартина Петровича была склонность к перцовой настойке, да и не только к ней. Слабость эта была приобретена еще с молодых лет, когда он был юнгой на торговом корабле, но среди моряков, а тем паче в компании Петра, это никак не осуждалось. Скорей наоборот.
Стрелка приблизилась к часу, и капитан, вздохнув, нахлобучил треуголку на голову и отправился отдать приказ к отплытию.
Суета на корабле уже улеглась. Паруса были расчехлены и готовы к подъему, шлюпки накрепко принайтованы, лишние вещи убраны в трюм. На палубе было безлюдно – время обеда. Капитан поднялся по крутому трапу на мостик, где увидел нескольких офицеров с сигнальщиком, так занятых рассматриванием чем-то для них любопытным в стороне причала, что никто не заметил появления капитана. Граббе смотрел в подзорную трубу, вахтенный – мичман Березников – стоял рядом. Матрос-сигнальщик сворачивал флажки и прятал их в чехлы. Капитан недоумевающе хмыкнул.
– Что там у вас, Яков Христианович?
– О, йя! – невпопад доложил Граббе, поворачиваясь к нему и чуть не выронив трубу из рук. – Он плыфет!
– Кто плывет?
– Фторой лейтенант плыфет.
Капитан рванул трубу из рук старшего офицера.
– Дай-ко! Услышал Господь мою молитву!
В окуляре увидел он отваливающую от пирса шлюпку, веселое, красное от холодного ветра лицо Ртищева и закутанную в плащ фигуру незнакомого человека с короткой бородкой в суконной шляпе мухоморчиком. «Знать, лоцмана нашел, сукин сын!» – догадался капитан и через секунду уже оставил прежнюю мысль о наказании проштрафившегося офицера. С сердца спал камень: случись что, можно будет теперь и виноватого найти. Ай да Ртищев! Молодец!
– Якоб! – ткнул капитан подзорную трубу назад Граббе в руки. – Ртищева и этого сразу же ко мне. По окончанию обеда матросам отдыха отнюдь не давать: сразу отплываем. И, да благословит нас Господь!
Через пятнадцать минут в капитанскую каюту не вошел, а на крыльях влетел довольный Ртищев. Его спутник, неторопливо и даже несколько флегматично, следовал за ним.
– Господин капитан первого ранга, второй лейтенант Ртищев…
– Ладно! Ладно… – прервал его размякший Гесслер. – Вижу. Нашел лоцмана-то?
– Так точно! Весь порт обегал! На «Святом Петре» подсказали вот.
Капитан перевел глаза на спокойно ожидающего своей очереди человека.
– Кто таков?
– Я – Матти. Я хочу за свою работу пять рублей, – с легким финским акцентом ответил человек.
– Да погоди ты! – возмущенно прикрикнул капитан. – Дело знаешь ли? По Ладоге плавал? Воды тамошние знаешь?
– С восьми лет плаваю и по Ладоге, и по Онеге, иногда и в море Балтийское заплывать приходится, – ответил человек и, поправив свою неказистую мухоморную, с обвисшими полями шляпу, добавил: – За свою работу прошу 5 рублей!
– Из чухонцев, значит, – буркнул капитан в раздражении. – А русскую речь откуда изрядно ведаешь?
– Человек несколько недоуменно посмотрел на капитана, хмыкнул, пожал плечами. – Знаю. Давно плаваю с разными люттями.
– Ладно, – отмяк капитан. – Реку Олонку и места возле устья ее знаешь?
– Знаю. Песок там. На подходе мыс каменный слева, справа отмели. Прибой сильный, плохой прибой! Река довольно глубока и широка, но на суттне до Олонца не тойтти. Никак невозможно. Порокки.
– Вижу, знаешь, – повеселел капитан. – Берем! – Да туда и не надо. В устье реки токмо государя высадить.
– Капитан, я хочу пятть рублей за работу, – невозмутимо продолжил гнуть свою линию новый лоцман. – Иначе я не поетту с вами!
Гневом исполненный Гесслер остолбенел на несколько секунд, вдохнувши воздуха в грудь, и Ртищев беспокойно смотрел на него, ожидая припадка ярости по поводу дерзости незнакомца. Но припадка не случилось, и лицо капитана, побуревшее вначале, постепенно вернулось к нормальному цвету.
– Ну и… настырный! – рассмеялся капитан коротким смешком. – Будет тебе пять рублей. Выплачу сразу, как в Питербурх вернемся. Лейтенант, за него головой отвечаешь. Ступай, найди ему место, накорми и сразу на мостик. Отплываем.
– Есть! – было отрапортовал второй лейтенант, но тут, как будто бы вспомнив нечто важное и хлопнув себя по лбу, снова обратился к капитану.
– Я чуть было не забыл… Тут такое дело… Подарок для государя…
– Какой подарок? – капитан в изумлении вытаращил глаза на второго лейтенанта. – Новый лоцман, что ли? – И захохотал гулко, во всю глотку. Доброе расположение духа вернулось к капитану.
Лейтенант тем временем вытолкал Матти за дверь и крикнул кому-то: «Неси! Васильев, давай сюда!»
Здоровенный матрос внес в дверь каюты ящик, прижимая его к себе, как роженица живот.
– Осторожно клади! – хлопотал второй лейтенант. – Все, голубчик, ступай!
Матрос вышел.
– И что? – наклонился над ящиком капитан.
– Часы. Там часы! – объяснил Ртищев. – Работы таки диковинной! Он открыт. Ртищев рукой сдвинул крышку прочь с ящика. Сухое, вытянутое лицо капитана в молчании на минуту застыло над ящиком.
– Д-д-а! – наконец выговорил он, отходя к заветному шкафчику со штофом перцовки. – Будешь пить, лейтенант?
Оба чокнулись стаканами и, выпив, скривили физиономии.
– Теперь рассказывай.
Лейтенант объяснил:
– А черт его, Мартин Петрович, знает! Я как лоцмана нашел, то сразу же бегом с ним к причалу. Сели уже было в шлюп. Я мичману Смородину командую, дуй, мол, на Ингерманланд, и так опаздываем. Только отвалили, как выскакивает на причал карета, на вид весьма приличная. Выскакивает оттуда человек, машет нам руками и кричит: «Государь! Государь!»
Мы уж подумали: «Государь» – знать что важное. Я скомандовал причалить назад. Сей партикулярный подбегает к нам и говорит, де у него подарок для государя и что непременно нужно передать ему. Ну, говорю, давай сюда, раз дело такое. Послал матросов, чтобы принесли. Я поберегся, мало ли чего. Говорю, открой мол, что там? Тот мне, мол, не извольте беспокоиться, крышка не прибита. Я, глянь, аж дух захватило! Чудная работа!
– Чудная работа! – подтвердил капитан.
– Я думаю, а вдруг порохом начинили? Взял и потряс. Нет. Легкие часы, все в порядке. Ну, я их в шлюпку, пообещал передать сразу же государю, как прибудем на борт. Вот и вся история, – закончил Ртищев.
– А кто этот был? Партикулярный тот? – поинтересовался капитан.
– А черт его знает! – потер лоб Ртищев. – Сейчас вот думаю, надо было имя то спросить. Говором да повадками человек, как будто, не русский. Речь чистая, но с закавыками. А что государю докладывать будем?
Капитан в задумчивости наполнил заново оба штофа.
– А ничего не надо говорить, второй лейтенант – проговорил он повеселевшим тоном. – Мы подарим, нам и слава. Понял? И, тссс! – прижал он палец к губам. – Молчи, а я тебя милостью не оставлю!
* * *
– Адам, мне очень повезло с вашим русским языком.
– Я не говорил вам этого, сэр, но мне довелось встретить и проводить уже четверых посланников британской короны. Вы будете пятым. Так вот, за эти года я освоил русский язык достаточно для того, чтобы проделывать мелкие шалости, вроде сегодняшней. Но я искренне не понимаю, зачем вам понадобился этот балаган с часами. Неужели нельзя было преподнести их на каком-либо приеме?
– Вы еще многого не знаете, Дженкинс. Однако терпение! Вскоре мы узнаем нечто значительное, важную новость, понимаете? Или же ничего не узнаем.
– Я искренне не понимаю вас, мистер Джефрис.
– Это пока не важно. А как вы полагаете, этот моряк точно передаст часы своему государю?
– Ничего нельзя гарантировать, когда речь идет о русских. Дело было при свидетелях – это должно служить некоторой гарантией.
– Знаете, Адам, чтобы вы не пережили отъезд пятого посланника его Величества короля Георга в Санкт-Петербург, отправлю-ка я вас хотя бы на время в Англию.
– Сэр, у меня нет сил для отказа. Еще есть время найти подходящее судно для поездки. В порту я видел множество судов, в том числе и британских… Кстати, вот и посольство, сэр.
Глава 3
Огромный корпус «Ингерманланда» растворился в осенней ночи до единственной обитаемой в мире точки. Фонари, развешанные в ряд от бушприта до кормы, едва освещали тусклые, посиневшие от холодного северо-западного ветра лица вахтенных матросов, ежеминутно готовых броситься к своим парусам. На мостике капитан-лейтенант Граббе педантично, через каждую минуту, смотрел в подзорную трубу, но, убедившись в очередной раз в бесполезности своего занятия, откладывал ее, чтобы спустя некоторое время вернуться к нему вновь. Вахтенный, мичман Березников, меланхолично приговаривал при этом: «Ни зги не видно, господин капитан-лейтенант!» Затем он делал затяжку из своей трубочки и обреченно телячьим взглядом смотрел в спину новому лоцману Матти, который, стоя рядом с рулевым матросом, за штурвалом, негромко отдавал ему указания. Иногда Матти сам становился к штурвалу, и матрос обиженно на него косился. Затем, спустя некоторое время, когда опасный участок пути оставался позади, они менялись местами и Матти невозмутимо закуривал свою трубочку.
– Как же ты, мил человек, корабль-то ведешь? Темень така, что глаз выколи, – обратился мичман к огоньку трубки под мухомором.
– Кто мнокко раз ходит по отной торокке, тот отнаштты сможет пройти по ней, не открывая глаз, – ответил финн. – Я получу за работу пять рублей. О! – он ткнул трубкой в черноту неба. – Этто трутная работа!
Оба офицера переглянулись. Каждый миг ожидали они, как с треском дрогнет корпус корабля, послышатся крики падающих на палубу людей, закачаются фонари и зазвенят натягивающиеся, как тетива лука, ванты. И тогда раздастся страшный крик: «Мель! Мы сели на мель!» Однако время шло, а «Ингерманланд» так и скользил плавно и свободно по водам Невы, шурша черной волной. Снизу доносился шум. В каюте государя никто не спал. Там царило оживление и коромыслом стоял сизый табачный дым. Сам царь играл в шахматы с главой своей охраны майором Кульбицким. Петр любил шахматную игру, любил выигрывать, но было известно, что если царь видел, как противник умышленно ему поддавался, то вполне мог угостить того своей дубинкой, с которой никогда не расставался. Поэтому-то и играл майор расчетливо, не спеша, раздумывая, как поступить. По левую руку от государя клевал носом доблестный капитан Гесслер, проигравший очередную баталию Ивашке Хмельницкому. Иногда Мартин Петрович делал попытку выпрямиться и окидывал присутствующих мутным взглядом, но незримая рука злодея Ивашки снова пригибала его голову к столу, где перед ним стоял пустой штоф и торчала вилка, вогнанная в тушку жареного рябчика. Далее, за капитаном, сиротливо приютились два мичмана свободных от вахты и пойманных на палубе государем для компании. Они несколько уже освоились и, выпив, как следует, затянули хрипатыми кошачьими голосами песню. Справа от государя в яростном научном споре сцепились два немца: медикус царский Иоган Бреннер и рудознатец Отто Грауенфельд. Медикус яро отстаивал свою теорию о трех родах веществ для лечения человека, а именно: все вещества делятся на три класса – полезные, вредные и нейтральные. Рудознатец бил медикуса диалектикою, указывая, что укус пчелы иногда приносит пользу, а укус многих пчел бывает и погибельным. К какому же классу веществ тогда отнести яд пчелиный? Царь за игрой прислушивался к спору, всхрапывал коротким смешком, а иногда, в особо горячие моменты спора, ободрял медикуса кулаком промеж плеч так, что с парика Иогашки пудра сыпалась. Порой в каюту заглядывал повар государя – Фельтен; он озабоченно окидывал стол и государя вопросительным взглядом: всего ли хватает? Царь досадливо делал ему знак удалиться, де завтра все выкинуть придется. Куда уж больше? Вдруг как бревном ударило в борт, и на мгновение все застыли: что такое? Звякнула посуда на столе, качнулся пол под ногами. Снова и снова хлестануло по левому борту, так что бутылки на столе звякнули.
– Что за черт! – Петр вскочил со своего места и бросился к двери. Кульбицкий заспешил вслед своему государю, хитро, однако же, опрокинув фигуры на шахматной доске: пойди теперь разбери, как было дело. Мичманы, прервав свою заунывную песню, воспользовались моментом, чтобы опрокинуть по паре штофов смородиновой водки и, не утруждая себя закуской, гуськом потянулись к выходу. Одни немцы в споре не заметили ничего – они так и продолжали перебраниваться, пересыпая речь латинскими терминами. Гесслер мирно дремал. Петр с горящими глазами выскочил на палубу, и встречные матросы шарахнулись от него по сторонам.
– Что! Фонарь давай! – крикнул он ближайшему матросу. – Быстрее!
Схватив фонарь, он перегнулся через борт, пытаясь разглядеть, что там внизу? Разглядеть, однако, можно было лишь дубовую обшивку борта и смутно пену, как от шампанского там, внизу, где черная волна пыталась смести нежданно возникшую на ее пути преграду. Ветер, яростный западный ветер разогнал тучи, и первые тусклые звезды рассыпались по небу. Ветер трепал паруса, завывал в вантах, свистел и гудел низким тоном в щелях люков и под принайтованными шлюпками. Царь отвернулся от борта, подняв над головой фонарь.
– Виват, Ладога! А хороша матушка! Неприветливо нас встретила! – и сыпанул коротким хриплым смешком. – Черти, там, на мостике! Не видите, что паруса заполаскивает? Ставьте стакселя! Бизань ставьте!
– Ваше величество! – подскочил Кульбицкий, накидывая Петру на плечи офицерский плащ. – Не ровен час, простудитесь!
– Ладно! – хлопнул Петр майора по плечу. – Пойдем, брат! Я мнил, что на мель наскочили. А оказалось, в Ладогу вошли. Шторм зело силен, не хуже моря Балтийского!
* * *
Когда они вернулись, то в каюте, кроме спящего Гесслера, уже никого не застали. Гости, пользуясь отсутствием государя, разошлись, чтобы лечь спать.
– Эх, скучно с вами! – рассмеялся царь прямо с порога. – Разбежались дьяволы!
– Ваше Величество! – забормотал из-за плеча Кульбицкий. – Время уже позднее, а завтра путь нелегкий предстоит. Ложитесь почивать.
– И то верно! – заметил Петр. – Буди Мартышку! Конец света, дьявол, рожею в тарелке, проспит!
Кульбицкий энергично затряс капитана за плечи, попытался приподнять голову, но сумел приподнять только парик – капитанская голова осталась лежать возле рябчика.
– Уши ему потри, вмиг прочухается! – посоветовал весело Петр. – С таким капитаном и в кругосветное путешествие не страшно плыть!
Через пару минут Гесслер мутным взглядом озирался вкруг себя и неразборчиво мычал.
– Ступай спать, Мартын, – сказал ему Петр. – Поутру приходи. Дубинкой тебя от похмелья буду лечить, господин капитан!
Почуяв недоброе, Мартин Петрович часто заморгал и вдруг неожиданно, припомнив нечто важное, решил выложить последний козырь в надежде избегнуть лечения государевой дубиной.
– Ва-ваше Величество! Я, я… мы вам подарок пре-по-подносим! В ознаменование ве-великих дел!
– Что ты там бормочешь, дурак! – хмыкнул Петр. – Иди, уж проспись! Майор, помоги ему.
Два преображенца поволокли капитана в его каюту. Корабль заметно бросало на волнах. Небо совершенно расчистилось, и царь, выглянув в окно, мог видеть огромные, горбатые валы, несущие своим одним им известным путем, мутную пену на гребнях и легкую дымку тумана над волнами. «Ингерманланд» стрелой летел по ладожскому простору. Петр отвернулся от окна и сел на свое место перед шахматной доской. Лежащие на доске фигурки подрагивали и перекатывались при ударе волны в борт корабля. В дверь осторожно постучали.
– Что? Что там? – Петр вскочил с места.
– Разрешите, Ваше Величество? – в дверях появился Кульбицкий. – Петр Алексеич, капитан правду сказал.
– Ты о чем? – прервал его Петр. – Уложили спать Мартышку?
– Уложили. Однако капитан велел вам непременно передать… Давай сюда, ребята!
Усатые преображенцы внесли в каюту небольшой деревянный ящик, и царь, одолеваемый любопытством, подсел к нему.
– Сейчас, Петр Алексеич! – сказал Кульбицкий и снял крышку с ящика. Петр в нетерпении вытащил из него часы и, отставив на вытянутых руках, некоторое время озирал их восхищенным взглядом.
– Ай да Петрович! Зело хороши! А, майор? – он оглянулся, окинув взглядом стены каюты, как будто ища подходящего места для подарка. – За сие сегодняшнюю ретираду
[106] от Ивашки Хмельницкого придется капитану простить.
Он локтем сдвинул посуду на столе в сторону и положил часы на освободившееся место.
– Посмотрим, однако же, способны ли сии часы к ходу?
Маленький ключ был привязан тесемкой к хвосту золотого змея, который вил кольца внизу часов. Петр, горя глазами, азартно сорвал ключ и некоторое время отыскивал отверстие для завода часов.
– Смотри, камарад, как мастера добро все измыслили – под лист виноградный отверстие спрятали! – заметил Петр. – Однако мы, чай, не лыком шиты! – проговорил он, вращая ключ в отверстии. – Ну!
Часы стояли. Царь и майор переглянулись.
– Ах и сукин сын, Гесслер! – произнес наконец царь. – Шкуру сниму с черта!
– Стоят часы, Петр Алексеевич! – поддакнул майор.
– Вот что, – подумав некоторое время, сказал Петр. – Ступай к вахтенному офицеру, пусть изыщет судового слесаря Лодыгина с инструментом. Неужели мы русские, часы в ход привести не сможем?
Из дневника Отто Грауенфельда.
«…Я только что вернулся с пирушки, которую устроил его царское Величество в своей каюте. Он любит веселые застолья и приглашает, точнее, тащит на них всех, кто попадется под руку. Поэтому и компания его Величества была весьма разнородна. Мы очень легко отделались на этот раз, за что надо благодарить Всевышнего. Царь не успел споить нас до положения риз, как говорят русские. Он играл в шахматы, а затем побежал смотреть шторм на Ладоге, в воды коей мы вошли час назад и которая встретила нас сильным ветром и волною. Я воспользовался отсутствием Петра и удалился в свою каюту. То же сделали и все остальные, кто держался на ногах. Я часто размышляю о государе, которого Бог дал этой стране, и не могу прийти к какому-то определенному мнению. Полубог ли это, которого судьба шлет иным народам для выполнения какой-то великой миссии, великого дела? Или сумасброд, оригинальный тиран, подобный кровавому извергу прежней Московии – Ивану Грозному? Многим кажется второе. Но я, трезво сопоставив все мои знания и впечатления, все же склоняюсь к первому. Какая фигура! Какой титан! Он начинал свой труд в дикой, отрезанной от Черного и Балтийского морей стране, почти без регулярного войска, без союзников и единомышленников. Население его страны дико, суеверно, ненавидит все иноземное, и так еще будет долго. Но за 20 лет он переменил все. Теперь он хозяин Балтики, Черное море также постепенно подчиняется ему. У него сильнейшая в этой части Европы армия, он заводит учебные заведения, верфи, заводы, флот! Я лишь задаю себе один вопрос: насколько прочно все им сотворенное? Переживет ли его дело своего основателя? Он изменил страну, но не людей! Да, это парадоксально звучит, но это так. Он переодел их в европейский костюм, он обрил им бороды, научил счету, письму, фортификации, наукам и искусствам. Но цивилизовало ли это их внутренне? Боюсь, что под новым мундиром Преображенского гвардейского полка бьется старое стрелецкое сердце…»
* * *
Корабельный слесарь Лодыгин и Пётр склонились над часами. Дело не шло. Лодыгин, прикусив губу, пытался вывинтить миниатюрные винты, но весь корабельный инструмент был слишком груб для этого. Петр несколько раз в нетерпении вырывал отвертку из рук слесаря, но справиться с часами не удалось и ему.
– Толста больно отвертка-то, Петр Лексеич! – угрюмо вздыхал слесарь. – Стачивать бы надо.
– Так что ты сидишь, черт Иваныч? Живо точи!
Мастер, взяв отвертку, начал было точить ее кончик до остроты, но вдруг прервал свое занятие и посмотрел на царя, подняв бровь.
– Что, Иван Еремеич?
– Эвон, Петр Лексеич, на столе у тебя нож тонкой. Авось пойдет…
– Пусти! – отпихнул его в сторону Петр. – Дай попробую! Идет! – радостно воскликнул он в возбуждении. – Идет, Еремеич!
Невесть откуда взявшийся медикус Бреннер, сонно притулившийся на стуле в углу, уныло вещал, как птица вещая, ночная.
– Я рекоментуй Царский феличество лечь спать! О! Ви нарушай прирота человек! Сие непременно фетет к лихоратка и корячка!
– Замолчи, дурень! – огрызался Петр. – Сам иди спать! Ура! Виктория! Крышку снял! – Петр торжествующе оглянулся на немца и на Лодыгина с Кульбицким. – Камарат, посвети мне, не вижу!
Кульбицкий поднес свечу и, как три хирурга над больным, склонились они над вскрытыми часами, почти касаясь головами друг друга. Только бормотание было слышно:
– Смотри, Еремеич! Вот она, пружина. Соскочила.
– Непонятно мне, Петр Алексеич, как она соскочить могла? Ежели специально.
– Дурак! Растрясли, мало ли!
– Нее-е! Туга больно!
– Держи, охломон! Щипцы подай! Держи!
Что-то щелкнуло, и Петр, удовлетворенно потирая руки, отошел в сторону.
– Идут! Идут, камраты!
Сдвинул в вместе три штофа и до верха налил.
– Еремеич! Изволь, брат, за работу! Майор! Держи! Виват!
Медикус в углу заунывно проповедовал:
– Ваше Феличество толжен остерегайт излишний употреплений корячительный питие!
– Петр Лексеич, да меня же вахтенный…
– Вахтенному офицеру скажешь, что я разрешил.
Они выпили. Петр хрустнул огурцом. Настроение его, доброе, улетучилось, он как будто сник и поскучнел. Махнул рукой.
– Ступай Еремеич. Инструмент забери. Майор, никого более не пускать. Спать лягу. Иоган, тяжко что-то. Дал бы снанобье какое. В голове шум.
Петр встал и направился к двери спальни.
– Ии… и! – только и успел сказать он, взявшись за дверную ручку, как колени его подогнулись и он с хрипом, судорожно царапая дверь ногтями, сполз на пол. Изо рта шла пена. Все трое бросились к нему.
* * *
– Англичане, мичман, называют сии предутренние часы не иначе, как «догс вотч» – собачье время. – Второй лейтенант Ртищев перетаптывался по палубе, тщетно пытаясь согреться: «Кажется, простыну я нынче, Смородин».
– Правильно называют, господин второй лейтенант! Спать-то как хочется! – и зевнул, клацнув зубами. – Сколько нам еще идти?
– Спроси у лоцмана. Мне определяться лень, – ответил Ртищев.
– При таком ветре два часа, – не оборачиваясь, как будто в пустоту, не дожидаясь обращения, раздалось из-под шляпы мухомором. – Назад пойттем быстрее, польше парусов поставить можно.
– Барин! Ай, барин! – неожиданно обратился к лейтенанту матрос у штурвала – Тоска невозможная! Дозвольте песню спеть?
– Службы не знаешь, олух! Ты не в деревне, а на флоте царском! – начал было выговаривать лейтенант, но осекся, махнул рукой и прошипел: – Пой уж! Тихо только! Не дай Бог немец услышит!
Штурвальный прокашлялся, и под шум волны и ветра потекла песня:
Ой, по морю, морю синему,
Морю синему, волнистому,
Плыла лебедь, лебедь белая.
Ни встряхнется, ни ворохнется
Сине море, не всколыхнется…
И так неожиданна была эта песня про белую лебедь среди мутной ноябрьской ночи, среди свирепой волны ладожской и посвиста ветра, что слезы невольно навернулись на глаза лейтенанта и мичмана. Не выдержав горения сердечного, сначала тихо, почти шепотом, а затем все громче и громче Смородин начал подпевать:
Пришло время, встрепенулося,
Сине море всколыхнулося,
Где и взялся там яснее сокол…
И услышал, что поют песню они все втроем:
Убил лебедь, лебедь белую,
Он-то кровь пустил по синю морю,
А перо пустил по поднебесью…
И так ладно выводили они жалостливый мотив, что даже невозмутимый финн, сдвинув на затылок свою диковинную шляпу, хлопнул по плечу штурвального и сказал «Хювя!»
[107]
Вдруг лейтенант поднял руку, призывая к молчанию.
– Что там за черт! Суета какая-то на палубе. Мичман, ступайте, посмотрите, что там такое?
Вернувшийся Смородин лицом был бледен.
– Господин второй лейтенант, мне приказано вас временно подменить, а вам пройти к капитану! – И, нагнувшись поближе, тревожно прошептал: – Говорят, государь заболел. Сильно!
В каюте Гесслера было тепло, и Ртищев радостно растирал замерзшие на ветру руки, прикидывая в уме время оставшихся на вахте страданий. Еще толком не протрезвевший Мартин Петрович пил квас и окидывал мутным взором своих подчиненных.
– Ох и ломит башку! – начал было он обычные ламентации
[108], но перешел к делу. – Господа офицеры, государь заболел. Ныне пребывает без сознания. Лекарь царский, Иоган Бреннер, требует доставить его в тихое место. А где я его найду, это тихое место? Шторм крепчает и невесть сколько продлится. Не вставать же посредь озера на якоря! Яков Христианыч, изволь высказать свое мнение на сей случай.
Граббе, по своему обычаю, представил все варианты.
– Перфый, унт лючший путь ест вернуться Петербург. Второй есть фысадить косударь в насначенный мест шлюпка – как это есть план. Третий есть плыть река Сфирь, кте перештать шторм.
– Тааак! Сколько идти до Олонки?
– По словам лоцмана, часа полтора, – вмешался Ртищев.
– До Свири?
Примерно столько же.
– Мой предложений есть возвращат, – констатировал немец.
– Сколько идти до Петербурга, лейтенант?
– Около семи часов, господин капитан! Ветер будет встречным.
– С самого начала все наперекосяк! – резюмировал капитан. – Повернем в Петербург, а ну государь очнется? А мы приказ, почитай, не выполнили? В матросы всех спишет! – немного покряхтевши и хлебнув квасу, продолжил:
– В Свирь оно можно. Река широкая, можно шторм переждать, да опять же, не по приказу. Опять палки не миновать. А мы уже доплыли. Почитай! Что, лейтенант?
– Может, попробуем в Олонку войти?
Граббе от возмущения замахал руками.
– Нейн! Нейн! Река есть клупок, это прафта! Но мель! Мель фарватер! Я смотрель лоций!
Капитан безнадежно махнул рукой.
– Ступайте. Пока идем к Олонке. Приказ ломать я права не имею. Может, удастся высадить государя на берег шлюпкою. Даст Бог, ветер спадет. Ступайте!
* * *
– Веттер усилился! Быстро ятем, – такими словами встретил лоцман лейтенанта на мостике. – Скоро увидим берег!
Небо на востоке уже расцветало божественным светло-синим цветом – предвестником солнца. Ртищев же думал свою думу – не до красот было ему. Внизу, в своей каюте, лежал больной государь. Лейтенант подошел ближе к лоцману.
– Слушай, Матти. Может корабль войти в Олонку?
Финн с изумлением посмотрел на офицера.
– В Олонку? – и, потерев рукой лоб под мухомором. – Какая осаттка у корабля?
На штурвале матрос с любопытством оглянулся на Матти.
– Две сажени с половиной.
Гигантская волна с треском расплющилась о борт так, что «Ингерманланд» на мгновение встал на дыбы.
– По тихой воде весной может. Поздно осенью река мелеет. Если рисковать, пробовать войти на волне… Но при таком ветре очень рискованно. Можно сломать руль и тогда… или повредить корпус. Если сядем на мель.
– Таа-ак! – лейтенант в раздумье отошел в сторону и вцепился в леер. Первый луч солнца брызнул на горизонте, и берег тонкой, растворяющейся пока на линии горизонта полоской показался впереди.
– А шлюпку спустить можем?
Финн набивал трубку табаком, балансируя на ходящей ходуном палубе мостика.
– Можно спустить все шлюпки. Но до берега доплывут не все. Отмель. Очень сильный прибой!
Полоска берега росла на глазах, от песка отделялась черная кайма леса. С правой стороны выныривали из воды залитые пеной прибоя розовые на солнце кочки островов. Над кораблем повисла первая в этот день чайка, и как будто в почетном эскорте сразу же к ней присоединились еще три.
«К удаче? – подумалось лейтенанту-К удаче ли? Что государь?»
– Мичман, пойдите и доложите капитану и Граббе. Скоро будем.
Глава 4
Зеленый от качки и похмелья Гесслер, кряхтя и охая, поднялся на мостик. Следом Граббе, уже побритый, но как побитый пес, понурый, без обычной горделивости павлиньей.
– Ох! – схватился капитан за подзорную трубу. – Уже и впрямь прибыли! Волна сильна! Как шлюп спускать будем? Может и впрямь, лучше было на Свирь идти?
– Коспотин Капитан! – возражал Граббе. – Косутарь нушен покой. То Сфирь хот тфа или три час. Мы теряйт фремя. Нато спускаит шлюпка!
Капитан едва успел подскочить к борту, как его вырвало остатками ночной пирушки. Все молча смотрели на дергающуюся в икоте капитанскую спину. Наконец, несколько отдышавшись, Гесслер докончил свою мысль.
– Зело болен я. В болезни командовать не могу, а потому, Яков Христианыч, принимай командование кораблем. Жизнь государя в твоих руках!
И при всеобщем молчании начал спускаться по трапу.
– Ест прнят комант! – выпалил Граббе в спину уходящего капитана. – Коспота официрен! – обратился он к лейтенанту с мичманом. – По приказ капитан я обязан спасти шиснь косутарь! Поэтому я иту к нему. Путем котовить шлюпка! Фам прикас фести корапль!
– Да как же, господин капитан-лейтенант! – выступил Ртищев. – Что делать будем? Прикажите или встать на якорь, или…
– Нельзя! – раздался вдруг голос из-под мухоморовой шляпы. – При таком шторме мошет сорвать с якорей, и тогда ветром загонит на мель. Корабль разобьет.
– Телайт, что хотеть! – взвился на дыбы Граббе. – Вы несет вахт! Я поиту котовит шлюпка. Я охраняйт шиснь косутарь! – И немец проворно последовал первому беженцу.
Лейтенант Ртищев с изумленно раскрытым ртом непонимающе смотрел то на мичмана Смородина, то на Матти, то на опустевший уже трап. – Да что же это?!
До него вдруг дошло, что командиры оставили его на произвол судьбы и что они сами в растерянности и решение придется принимать ему – второму лейтенанту Ртищеву.
– Можно сделать разворот и идти на Свирь. Но что это даст? Там невесть еще что будет. Если государь придет в себя, то с капитана снимут голову и с него, Ртищева, тоже. Но с него в первую очередь. Все шишки падут на него, как не выполнившего приказ. На Петербург идти нельзя – причина та же, а если государь серьезно болен, то ему срочно нужен полный покой. Все не то! Все поздно! Лейтенант схватился за подзорную трубу. А красиво то как! Справа и сзади празднично в лучах утреннего солнца золотятся шапки каменистых, заросших высокой травой и ивняком островов. Спереди серовато-желтая лента песка, за которым зубцы хвойного леса. Слева каменистый мыс, окруженный розовой пеной прибоя! И волна! Какая волна! Но где же река? Почему я не вижу реки?
– Матти! Где река?
Матти, отвернувшись на миг от рулевого, ткнул пальцем в песчаную ленту берега, заволочённую серой пеной огромных прибрежных волн.
– Вот. Река заходит в озеро наискось. Поэтому ее не виттно.
– Будем входить в реку! – выкрикнул лейтенант и увидел перекосившееся лицо мичмана, круглые от страха глаза матроса и на миг приподнявшиеся брови невозмутимого лоцмана. – Курс держать прямо на устье!
– Нельзя дершать курс на устье! – Матти отвернулся и оттолкнул матроса от штурвала. – Надо тержатть между мысом и устьем, а поттом заворачивать по ветру. Отойтти, теперь моя работа!
– Что же делать? – закричал лейтенант, чувствуя, как тяжелым отчаянием наполняется его сердце. – Что делать-то? – Смородин, совершенно бледный от качки и холода, стучал зубами, схватившись за поручни, и Ртищев осознал, наконец, что спрашивать уже некого, да и незачем: надо принимать окончательное решение.
– Матти, веди корабль в реку! Выхода нет.
Матти посмотрел вверх, в небо, уже совсем чистое и голубое, и даже, как показалось лейтенанту, улыбнулся изворотливому эскорту чаек, приветствовавших «Ингерманланд» пронзительными криками.
– Я попробую.
Тогда дайте команду убрать грот-брамсель и фор-брамсесь. Они высоко на мачтах и раскачивают корабль. Нужно еще поставить грот-марсель. Он прибавит нам ходу.
«Какое хорошее утро! Красивые места, не то что наши тростники в Финском заливе. Песок чист и желт. Если корабль выбросит на него, то, по крайней мере, не поломает так, как на камнях», – думал про себя Ртищев.
– Руль, конечно, сломаем. Какой жуткий прибой! Волна неожиданно сильна для озера! Мичман! Бегите вниз. Команде убрать грот и фор брамселя, ставить грот марсель!
Мичман едва кивнул бледным лицом и неуклюже, по-медвежьи неуверенной походкой, отправился с мостика на палубу.
Ртищеву нравилась та отлаженная четкость военной жизни, когда приказ командира воплощается в действия подчиненных ему людей, и тогда штурмуются и берутся крепости, летит в нужное место конница, неколебимо стоит пехота. И тогда приходит победа. Она, как женщина, любит уверенных в себе и своих действиях мужчин и отворачивается от колеблющихся. В этом было некое чудо, но над этим Ртищев поразмышлять уже не успел, так как на мостик серым ястребом влетел Граббе.
– Кто пркасаль стафить марсель! Нато спускать фсе паруса! Шлюпка котоф! Я иту к капитан. Нато спасать косутарь!
– Какая шлюпка, господин капитан-лейтенант! – не выдержал, в крик сорвался Ртищев. – Извольте, сударь, глянуть, что за бортом творится!
– Мольчать! Просать фсе якорь! Паруса снять! – настаивал немец. – Телать прафо руль!
Он подскочил было к штурвалу, но Ртищев ухватил его за пояс и оттащил брыкающегося Граббе в сторону. Теперь орали все:
– Я вахтенный офицер и я сейчас командую кораблем!
– Перккеле!
– Оттам фсе пот сут! Фешать мачта са пунт! Якорь…
Но как в сказке, в этот момент исчезли верхние паруса, корабль пошел ровнее и тише, но как только ловкие матросы поставили грот-марсель, снова рванулся сказочной белой птицей над яростной волной.
– Шлюпка! Спускать… Анкер!
[109]…
– Отставить спускать! Морду набью!
– Саатана!
Ненужный рулевой матрос пучил в изумлении глаза на схватку командиров, впившись в поручни и открыв рот. Вдруг все смолкли. Все поняли, что теперь поздно бросать якоря, и спускать шлюпку, и ставить или убавлять парусов, и ругаться, и грозить. Матти рванул со всей силы колесо штурвала направо, и «Ингерманланд», ранее шедший прямехонько на зловещую полосу кипящего прибоя, повинуясь повороту руля и накренившись на правый борт, заскользил в циркуляции, как указательный палец, пока его бушприт не уткнулся в наконец-то открывшееся взору речное устье, белое от хлопьев пены.
– О! Ми покипли! – простонал Граббе. Побледневшие офицеры судорожно впились в поручни мостика, как раки в утопленника, ежесекундно ожидая удара днищем о дно и треска руля. Но корабль торжественно и плавно, подбрасываемый еще больше возросшими на мелководье валами и скоростью своей выдавливаемый из воды, подрагивая дубовой обшивкой корпуса от боковых ударов волн, летел вперед. Матросы припали к бортам и с любопытством смотрели на песчаный высокий берег, заросший соснами, можжевельником и ивой. На берегу не было ни души. Корабль миновал уже полосу прибоя в фарватере и вошел в реку. Волна сразу же спала. Палуба под ногами плясать перестала.
– Ффу! И велик Бог во Израиле! – выдохнул второй лейтенант. – Глазам не верю! Убрать все паруса, стаксель оставить!
Граббе оскорбленно сгорбился и будто козлик копытами, нерешительно постукивал по отвердевшей палубе мостика подковками ботфорт. Потом он махнул рукой и удалился, и шпага его стучала по ступенькам трапа. Мичман Смородин вернулся, вытирая пот с лица.
– Я уже к Нептуну молитвы возносил, господин второй лейтенант! А плавать-то не умею. У меня под Рязанью речка – ручей един!
– Я тоже, – признался Ртищев. – Плавать-то умею, да страха натерпелся. Если бы не лоцман, пропадать бы нам!
Они замолчали, с интересом глядя на уходящие назад, заросшие глухим лесом берега.
– Места-то какие! – восхищался Смородин! И горы песчаны, и леса дремучи, и озеро бурное, с водами голубыми. Эвон, гора песчана справа по борту. Велика!
– Этто шветцкий корабль оставил, – пыхнул трубочкой Матти. – Мне местные говорили.
– Что за анекдот?
[110] – насторожился досужий до нового Ртищев. – Расскажи-ко, брат!
– Старые люди рассказывали, что швецкий корабль сюда приплыл, чтобы Олонец пожечь да наротт разорить. А как они до этого места доплыли, то увидели русское войско и сильно испугались. И тогда капитан приказал повернутть корабль назад в озеро. Корабль так резко развернулся, что застрял носом в песке, и шведы стали копать песок, чтобы снять корабль с мели. От того песка и появилась эта гора, и с той поры она здесь и стоит.
– Ну и ну! Сильно, знать, испугались.
Матти иронично глянул на второго лейтенанта, приподняв бровь.
– А русского войска-то и не было. Молодой лес приняли за войско. Так от леса и бежали.
– Не-е-е, сказка это! – засомневался мичман. – Швед, он воин отважный. Мы с ними, почитай, два десятка лет воюем. Да не одни, а вкупе с поляками, датчанами, голландцами и немцами с англичанами. Сила! А они все не сдаются.
– Нет в союзниках единства! – пояснил Ртищев. – Кто в лес, кто по дрова! Насмотрелся я на них. Чужими руками горазды жар загребать. Все дело на государе висит. Не дай Бог, что с ним случится, снова швед силу возьмет.
И прикусил губу, вспомнив, что государь и впрямь болен. Тем временем озеро уж исчезло в сомкнувшемся за кормой прибрежному лесу, и лишь грозный глухой шум, доносимый западным попутным ветром, напоминал о нем. Матти вытянул руку.
– Плывем до поворота. Дальше нельзя, река сильно петляет. У поворота деревня. Оттуда идет дорокка вдоль реки до Олонца. Всё. Встанем на якоря. Матти идет спатть!
Ртищев отозвал в сторону мичмана Смородина.
– Ступайте к Гесслеру, доложите, что дальше корабль вести невозможно. Узнайте, какие будут указания?
Мичман, помалу отошедший от качки, резво ускакал вниз. Через две минуты топот его ботфорт снова послышался на мостике.
– Господин второй лейтенант! Приказано отдать якоря. Вас капитан срочно вызывает к себе!
– Это зачем? – несколько удивленный спросил мичмана Ртищев.
– Там уже все офицеры собрались. Генеральный консилий! – и сразу же полюбопытствовал у финна, тыча в сторону берега рукой.
– Вон дым идет! Матти, никак деревенька?
Ртищев обернулся, и верно: показалась пара старых, сплющенных временем домов, дымок, тянувшийся из окон, и небольшой лужок с полем поодаль.
– Как называется эта деревня, Матти?
Финн вяло махнул рукой, почти засыпая стоя.
– Да никак. Местные называют ее Нурми. Это с нашего языка поляна, луг. У карел также. Когда-то поселились люди и назвали просто поляной или лугом…
Ртищев не стал дослушивать финна и заторопился на совет.
Действительно, в капитанской каюте были собраны все офицеры. Когда Ртищев вошел, то Гесслер уже вовсю держал речь. Все слушали внимательно и были серьезны. В первом ряду пучил оловянные свои глаза капитан-лейтенант Граббе, переминался с ноги на ногу командир артиллерийской части поручик Егоров, разглядывал носки своих потоптанных ботфорт майор Лядский – он командовал солдатами абордажной команды. Рядом с ним преданно смотрел на шевелящиеся усы Гесслера поручик по инженерной части Тильгаузен – тоже немец. По-тараканьи укрывшись за широкими спинами старших офицеров, переглядывалась сошка помоложе и помельче: мичманы Пашков, Золотницкий, Нечаев, Березников и снова немец Тирбах. С ними в одном ряду поблескивал умными глазами мичман Соймонов Федор
[111], без пяти минут лейтенант. Уже было распоряжение царя о командировке того в экспедицию на Каспий, но до дела еще не дошло и Соймонов, как отрезанный ломоть, болтался по «Ингерманланду», мечтая о новых местах. Присутствовал корабельный лекарь – мудрый грек Персакис, всякую человеческую болезнь врачующий водкой и пусканием крови. Даже корабельный священник, отец Илларион, и тот был здесь. Ртищев прислушался к речи капитана.
– …по такому моему соображению я решил собрать в сию тяжелую минуту всех офицеров, дабы выслушать их мнение о том, что нам делать надлежит.
Присутствующие переглянулись, печально закачали париками, мол, одному господу Богу сие ведомо.
– Что, мичман Соймонов? – решил не тянуть кота за хвост капитан и начал с отщепенца. Соймонов, однако же, не растерялся, отвечал бойко.
– Полагаю, господин капитан первого ранга, не мешкая, разослать гонцов с вестию о болезни государя в Олонец, Петербург и на Петровский завод. Вызвать знающих лекарей из Петебурга, поскольку везти государя дальше смерти подобно. Дислокацию нашу следует по-должному оборудовать: причал добрый соорудить, баню для экипажа. Людей хватает. Все польза. Стоять все равно несколько дней придется, пока шторм не утихнет. В Ладогу не выйти.
Выслушали мичмана внимательно и досадливо закачали париками сызнова: «Вот пострел мичман… по делу.»
– Еще какие мнения имеются, господа офицеры? – медным голосом произнес Гесслер. – Вижу, ничего более. Ну, что же…
– В руце Господней жизнь и царя, и раба последнего! – вдруг послышался из-за спин господ офицеров тихий голос отца Иллариона. – Так скажу: по долгу своему имею заботу не о теле, а о душе человеческой. Коли здравие государя столь плохо, то следует позаботиться нам – ближним – о душе нашего христианнейшего возлюбленного монарха!
Все потупили глаза, и Мартин Петрович тоже согласно кивнул головой.
– Верно!
Отец Илларион продолжал:
– Но я слабый и многогрешный. Мне ли, ничтожному и скверному человеку, целить монаршию душу? Посему прошу: вызовите духовника государева, дабы он мог с чистой душою причастить и соборовать его Величество. Я не могу.
– Боюсь, это будет слишком поздно. В лучшем случае духовник государя прибудет через неделю. – Капитан потер в раздумье высокий лоб. – Государь очень болен. Медикус царский полагает, что жить государю осталось, – при этих словах Гесслер встал и вытянулся как перед самим царем, – три или четыре дня.
Все присутствующие замерли. Три или четыре дня… Что будет значить эта смерть для каждого из них? Для Империи? Для царского дома? Для всего мира? Все вдруг стало смутным и зыбким, потеряло устойчивость, как палуба в шторм.
– Слово мое такое, – снова заговорил отец Илларион, и все невольно повернулись к нему и расступились, как будто перед самим капитаном, и непонятно было, кто был важнее в эту минуту. – Слово мое такое. Ведомо мне, что вблизи этого места находится Андрусовский монастырь, что на берегу ладожском. В монастыре этом по сию пору пребывает Алексий-старец, по всей губернии своею жизнью Богу угодной славный. Со слезами на глазах моих прошу капитана послать за сим преславным, святой жизни мужем, и да позаботится о душе государевой!
Гесслер тяжело опустился в кресло и закрыл лицо руками. Голос зазвучал глухо.
– Старшему офицеру подготовить трех посыльных. Через час пусть отправляются в Олонец, оттуда в Петербург и на Петровские заводы. Письма Государыне и Вильгельму Геннину
[112] уже готовы. Воеводу олонецкого вызвать сюда. За Алексием послать также. Поручику Тильгаузену заняться причалом. Майору Лядскому отобрать добрых плотников из команды и рубить баню на берегу. Все свободны.
Господа офицеры топали каблуками, нахлобучивали на кудреватые головы треуголки, с облегчением откашливаясь.
Глава 5
Пречудная и предивная из всех книг есть сия. Сколь много раз радовался я и печалился, листы ее перебирая. И так до конца дней моих будет, что, как будто сам Иоанн или Матфей сошли с небес в келью мою и мне повествуют о делах божьих. Как наяву перед собой все зрю, и радость приходит, и утешение в скорби любой. О чем печаль человеческая быть может, коли чувствуешь в сердце своем божье явление? Тогда ничего боле не надо: ни учителя, ни икон святых, ни мощей чудотворных, ни зданий великолепных! Одних этих строк достаточно мне! Ох, Алексий, грешен ты в помыслах своих! Так и норовишь в люторскую ересь впасть! Может быть, и у Лютора
[113] своя правда есть, да не вся та правда. А коль не вся правда в учении, то подобна она колодцу без воды – не утоляет вера такая жажды высшего. Это мне, пастырю, уже довольно строки одной, ибо жизнь прожил, многое видя и о многом помышляя и молясь о многом. А малые сии, прихожане твои? Не могут сразу они многое постичь через чтение простое, как лютеранам мнится. Без слова пастырского, без красоты храмовой, без скорбных ликов на иконах, без звона, колокольного, радостного, без преклонения колен перед мощами святыми не могут сразу они полноту веры обрести. Тако Бог людям через многую красоту мира является. И так веру нашу мы со времени святого князя Владимира, прямо от учителей наших – греков – приняли, и не нам ее рушить. Тако мню.
Ветер-то какой сегодня! Знать, грядет погоды перемена – вот и небушко голубое, чистое стало. Надо ввечеру ждать заморозка. И хоть не люблю я, старый, зиму, все-таки и в ней своя радость есть. Однако же к чтению… Притчи Христовы каменьям драгоценным подобны. Но, по грехам моим, не могу иные постичь. Человеческое во мне восстает. Или же вместить мудрость божью не могу. Нет боле учителя у меня, который бы объяснил Христу подобно, который ученикам своим притчи сии объяснял! Вот о закопанном таланте притча. Многие ее поминают, да кажется мне, что всуе. Вот послал господин рабов своих, давши одному пять, другому два и третьему один талант. И когда спустя некоторое вернулся, то и первый, и второй вернули ему вдвое, ибо пустили в дело серебро господина своего. А третий, как оно в Евангелие сказано… Да, «подошел и получивший один талант и сказал: господин! Я знал тебя, что человек ты жестокий и жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле; вот твое тебе». Я, многогрешный, мню, что честный, справедливый раб сей поступил по совести. Не украл и жадности и лености господина своего не потакал. За что же ему поругание? Помилуй, Боже, дурака, меня! Не пойму никак. Есть еще одно, что в смущение приводит меня, что у святого Луки записано: «В продолжение пути их пришел Он в одно селение, здесь женщина именем Марфа приняла Его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово Его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: «Господи! Или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа! Марфа! Ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно, Мария выбрала себе благую часть, которая не отнимется у нее. Вот сие мне, грешному, тоже недоступно, ибо кто позаботился о Христе из сестер наиболее? Мария или Марфа? Но, воистину, неисповедимы пути твои Боже!»
* * *
Как зима однажды приходит на леса, реки и грады людские, укрывая снегами да утишая морозами, так и старость приходит к человеку и покрывает власы его сединой. Чувствую, что дни коротки мои. Часто стали приходить во снах моих дорогие душе покойники: отец Геннадий да Григорий, атаман Василий да Ванюшка Рыбак, Солдат и Копейка Иван. Снятся, вроде, и радостны – такие, какие когда-то и были. Стоят, на меня смотрят. Знаю, меня ждут. Много я Бога молил за них, за разбойников, темными ночами. Годами за их воровство перед иконами в молитве стоял, да так, что доски под коленями моими протерлись. А вот вымолил ли прощение им, я не ведаю. Верю лишь в милосердие божье и верю сильно.
Чу! Не стук ли это в дверь! Что же это такое?
Действительно, из-за двери слышался голос послушника Николая и еще голоса совсем незнакомые. Затем в дверь постучали еще раз.
– Войди, брате! Дверь не заперта! – пригласил Алексий, вставая с маленькой деревянной табуретки.
Дверь, заскрипев, отворилась, и Алексий увидел офицера в зеленом мундире с тремя солдатами, позади которых жался к стене послушник Николай. Офицер, шагнув в келью, снял учтиво треуголку и пробасил низким голосом.
– Имею ли я честь разговаривать с батюшкой Алексием?
– Я слушаю тебя, сыне, – улыбнувшись, ответил Алексий, с удивлением оглядывая неожиданных гостей. Здесь, в монастыре, видеть офицеров и солдат нового строя ему еще не доводилось. Офицер откашлялся, а затем по-солдатски рубанул:
– Эээ, поручик от артиллерии Егоров! Послан доставить вас на борт корабля «Ингерманланд» по причине болезни его царского Величества. Собирайтесь, батюшка!
Алексий присел на табурет в новом изумлении.
– Царь! Откуда он здесь?
Поручик щелкнул каблуками ботфорт и как будто самому Гесслеру доложил:
– На пути из Санкт-Петербурга на Петровские заводы. Ныне находится на борту «Ингерманланда» на речке Олонке.
И, поднеся ко рту руку ковшичком, таинственно выпучил глаза на старца, прошептал:
– Плох он, батюшка. Умирает!
Солдаты за порогом хмуро заколыхались.
– Ну… что же! Брате Николай! – обратился Алексий через головы воинства к послушнику. – Принеси для меня хлеба краюшку. Тронусь в путь сейчас же.
– У нас телега с лошадкой во дворе, – обрадованно заявил поручик, видимо, довольный столь легким оборотом дела. – Отвезем с ветерком, батюшка!
– Где корабль-то нынче стоит? – улыбнулся Алексий.
– А бес его… Тьфу! – застеснялся оговорки своей поручик. Солдаты за ним ехидно оскалились командирской промашке. – Первая деревня малая совсем. Версты две от озера. Нурма, что ли!
– Так точно, господин поручик! – подтвердили солдаты.
– Ну, тогда вы, служилые, езжайте, как и приехали, а я своею дорожкой по лесу. Посмотрим, кто быстрей, – уже озабоченно, прикидывая в уме, что с собой стоит взять, ответил Алексий. Царь здесь, и он умирает. Что можно или нужно брать с собой, чтобы душа человеческая отошла к своему властелину с миром? Только несколько слов, что от самого сердца человеческого идут, да вот и все.
Алексий вышел из монастырских ворот. Бричка с солдатами уже исчезла за извивами лесной дороги, по которой однажды и он, Алешка, тогда еще Алешка, хотел совершить побег из монастыря. Если бы не отец Геннадий! Что, если бы не отец Геннадий? Жалеешь ты о том, старче Алешка? Вот камень тот самый, на котором он сидел тогда. Но сейчас тебе не сюда, тебе налево в лес, искать тропу давно забытую. Когда в последний раз шел ты по ней и плакал? Ах ты, Боже мой! Да ведь был тоже месяц ноябрь 1665 года! Значит, 54 минуло, как чайки стаей с отмели сорвались! Сначала бежал ты по ней, чтобы дядю Григория убить, а год спустя, чтобы любовь свою затоптать в сердце своем! Неужели и в этот раз ведет она тебя, чтобы ты закрыл на веки вечные глаза его Царского Величества Романова Петра Алексеевича? Боже мой, Боже! Какую судьбу ты, мне, ничтожному рабу своему, уделил все ради служения моего тебе! Не помню пути. Все изменилось. Болото бурое совсем, лист с берез пал уже. Снова зима близка. Вон ледок уж под ногами и солнце не топит. И посох тяжел уж. Как тогда мушкет тащил? Ах, как сердце-то человеческое темно, все в нем в единстве пребывать может: вера и безверие, любовь и ненависть, страх и надежда. Илма жива ли? Навряд ли, хотя кто знает, раз сам еще небо копчу. Года назад как с четыре еще слух шел о ней. Эвон, сосна-старушка знакомая! Совсем уж обтрухлявела! Ненадолго меня переживешь. Сердце колет. Присяду. Вот умереть бы так, в мире и тишине! Отец Геннадий умер в келье у себя. Не было его, Алексея, уж не помню за каким делом отсутствовал. Потом, днем позже, отец Михаил подозвал меня да и говорит, что очень хотел отец Геннадий меня видеть и исповедоваться мне. Что грех Иудин на нем, из-за него, Алешки. Что хотел меня спасти и спас, быть может, но шесть душ погубил. Что сам все пойму. Понял тогда я, что это отец Геннадий на шайку нашу разбойничью воеводе олонецкому донес. Проклясть учителя хотел я тогда. Но как осознал, какой великий грех учитель на свою душу из-за меня взял, не проклял, а Бога за него и его грех молил. Как и за преданных им. Вот, полпути еще. А воздух свеж после кельи! Удивительную жизнь ты, Алешка, прожил! Все было в ней. И все, что было, в едину неделю уместилось, а прочее лишь с собой борение и молитвы за других в монастыре. Грешен, ругал порой про себя отца Геннадия, а как задуматься, то ведь прав он! Пути к Господу извилисты бывают. Вот просветы в лесу. Неужели дошел! Река, реченька моя, Олонушка! Слезы мои горькие в тебя исплаканы!
Ноги сами несли уже Алексия к тому месту, где когда-то поджидал он ладьи стрелецкие. Все уже переменилось там. Поле с деревеньки Нурмы подкралось ближе, сошла на нет черемуха, и вырос на месте том ельник, темный да негостеприимный. Но памятью сердца своего нашел Алексий то место, где стоял с мушкетом уж 55 лет назад. И снова перед глазами встал засыпающий вечер августа, медные лица стрельцов, обвисшая фигура Григория у мачты.
Не шуми ты, мати, зеленая дубравушка,
Не мешай мне доброму молодцу думу думати,
Что заутру мне, добру молодцу, на допрос идти…
Старик заплакал, глотая слова песни и слезы. Он смотрел на черную воду реки, которая несла по течению мелкие льдинки, и плакал по другой жизни, той, которая могла бы состояться, но не состоялась, потому что тогда, много лет назад, он, Алешка, может быть, сам испугался ее?
– Боже, милостивый! – простонал Алексий. – Душу мою исторгни и возьми! Видели бы люди, которые за советом и помощью ко мне идут, что червь ничтожный и прах перед ними!
Старик повернул голову налево и на несколько мгновений замер. Там, в трети версты от него, белым лебедем на черной воде реки стоял корабль. Он был как пришелец из другого мира, полная противоположность этой реке, лесу, осени. Стройные обводы корпуса, тонкие нити вант, триколор, что рвался с фала на волю по ветру – все это было, как в сказке, и Алексий с восхищением смотрел на него. Он дошел.
Глава 6
Много людей и событий за века перевидели берега Олонки. Плавали по ней издавна карелы, что давно уж заселили ее берега. В старые, забытые уже времена появлялись здесь и шайки хищных норманнов, которым все одно было: что торговать, что кровушку лить. Затем хозяевами здесь стали новгородцы, пока полки Великого Князя московского Ивана Третьего не положили конец вольности новгородской в 1473 году. В смутное время даже шайки буйных казаков с Днепра да Дона поили коней ее водой. Сгинули быстро они, оставив о себе недобрую память. Огнем и мечом крестили эту землю потомки викингов – шведы. Не раз появлялись они здесь. Военная фортуна поворачивалась к ним по-разному. Иной раз, вырезав всех, кто не успел укрыться в дремучих лесах, спалив избы, уходили они назад с добычей. Но бывало, что били их русские, и тогда со слезами и проклятьями пробирались уцелевшие до границы болотами и лесами. Всякое было. Но такого веселого шума: треска падающих деревьев, стука топоров, грохота от забиваемых свай, и веселого гомона многих голосов не помнила Олонка.
Чуть проспавшись, второй лейтенант Ртищев вышел на палубу, протирая, не желающие открываться, глаза. Палуба была пуста, лишь на носу маячили две фигуры, в которых он узнал мичманов Соймонова да поручика Нечаева. Зато на берегу творилось нечто вроде Вавилонского столпотворения. Два десятка людей под присмотром сержантов валили вековые деревья, которые с треском падали на землю, где на них стаей воронов накидывались матросы с топорами и пилами. Через несколько минут ствол оказывался очищенным от коры, распиленным на равные по длине части, на которых ловкие плотники сразу же начинали вырубать пазы и углы для сруба будущей бани. Да и сам сруб был уже готов наполовину и празднично белел на высоком берегу, облепленный, как муравьями, копошащимися вокруг него людьми. Второй лейтенант подошел на нос корабля к офицерам, и те, завидев его, вытянулись во фрунт.
– Вольно, господа! – махнул Ртищев рукой. – Уж два года плаваем вместе! Что тут у нас творится? Что государь?
– Веселье у нас творится. Вот и причал готов, и банька, – ответил Соймонов. – Да что-то невесело. Государь в сознание не приходит. Нас-то туда не допускают, но, судя по всему, надо готовиться к худшему.
– Немцы наши тоже хороши! – заметил Нечаев. – Я сегодня случаем услышал разговор Мартышки с Граббе. Граббе так ему и заявил, де как умрет царь, то немцев русские в воду побросают. И оттого надо воротиться в Петербург и уезжать на родину, пока до бунта не дошло.
– Мда! – хмыкнул Ртищев. – Граббе матросики точно на рее повесят. Много он им зубов повыбил. Да и нас, мичман, тоже не помилуют. Припомнят и Разина, и стрельцов.
Он вздохнул и сплюнул за борт. Нечаев с Соймоновым удивленно посмотрели на своего сдержанного обычно второго лейтенанта.
– Я, господа, о другом сейчас думаю, – продолжил Ртищев. – Умрет государь, и меня Меншиков Александр Данилович с флота выкинет. Великий недруг он мне еще с Голландии. Выкинет и в деревню упечет. Я знаю, он у государыни-императрицы в силу войдет. Ей, кроме как за него, держаться боле не за кого.
– А что же в Голландии сделалось? – полюбопытствовал Нечаев.
– Девку по младости и не поделили. До шпаг не дошло, кулаками морды друг другу побили. Я его низкопородной сволочью обозвал. Припомнит он мне слова эти. И так помнит: порой по делам адмиралтейским как встречаю его, так он ехидно глаз щурит да в деле пакостит, пес! Но пока жив государь, тронуть боится.
Ртищев вздохнул печально.
– Я вот тоже сомневаюсь теперь, пошлют ли на Каспий, в экспедицию? – закрутил головой Соймонов. – Ну как все к черту поотменяют? Не дай Бог бородачи наши снова силу возьмут: «Флот нам не нужон! Питербурх не нужон! Ливонию свеям отдадим! Заживем тихо, по-старому!»
Нечаев хохотнул коротко.
– Значит, и карта моря Каспийского тоже без надобности. Поезжай, Федюша, лапти плести да тараканов кормить!
Разговор на какое-то время затих, и все трое с любопытством наблюдали за работой на берегу. Там была обустроена пристань прямо напротив корабля, а к борту «Ингерманланда» был принайтован весьма внушительный плот для удобства, так что не надо было из шлюпки, по-обезьяньи цепляясь, лезть на борт по веревочному трапу.
– Господа! Господа! – ткнул в направление берега Соймонов. – А вот, кажется, и туземцы!
И верно, несколько бедно одетых мальчиков сбились между деревьями в кучку и с диковатым любопытством глазели на корабль.
– Это, верно, из Нурмы! – воскликнул Ртищев. – Лоцман наш, Матти, так ее назвал. Сие, по местному наречию, есть земля.
– Весьма дикие места! – хмыкнул Нечаев.
– Ну, кажется, в наши палестины началось паломничество! – прервал его Соймонов, вжимая в глаз окуляр неизвестно откуда взявшейся подзорной трубы. – Справа по борту наблюдаю ветхого деньми старца с посохом! Коий все боли наши исцелит!
Второй лейтенант вырвал трубу у Соймонова.
– Это, вероятно, Алексий старец, про которого отец Илларион говорил у Гесслера. Но где же поручик Егоров? Его посылали…
Стекла трубы приблизили слегка вытянутое, с впалыми щеками лицо старика, выцветшие голубые глаза, посох, тонкую кисть руки, обтянутую коричневатой кожей. Старец шел ровным шагом, и холодный ноябрьский ветерок трепал его седые волосы на голове. Вода в реке по осени упала, обнажив песчаное дно на сажень, и Алексий шел по бывшему дну, как по дороге у самой кромки воды, переступая через коряги с засохшей на них зеленой тиной. Он шел, с любопытством глядя на развернувшееся строительство, на корабль, на встревоженных чаек. Наконец он подошел к плоту на берегу, к которому были прицеплены шлюпки, и Ртищев видел, как старик о чем-то разговаривает с мичманом Золотницким, который распоряжался перевозкой людей, и тот почтительно склонился.
– А это еще кого Бог несет? Явно не поп! – Гляньте, Алексей Николаевич! – тронул Соймонов второго лейтенанта за рукав мундира.
– Экий детина! – невольно вырвалось у Ртищева при виде нового путника.
Удивляться было чему. С той же стороны, откуда недавно явился Алексий на буланом коньке, ехал рыжий, даже рыжайший, детина. Конь под ним смотрелся осликом. Роста детина был чрезвычайного, да так, что ножища его в красных сафьяновых сапогах едва не задевали за береговой песок. Одет он был в старинного кроя красный стрелецкий кафтан, стрелецкую же шапку, тоже красную, беличьим мехом опушенную, а пояс его был затянут кушаком, само собой, красного же цвета. Широкая разбойничья рожа детины была усыпана веснушками, маленькие глаза щурились весело. Конь нес своего седока тяжело, порой увязая в рыхлом песке. Всадник, однако же, был к скоту милостив и к плети не прибегал.
– Эй, стой, черти! Кудой без меня? – раздался вдруг такой рев, что офицеры прыснули от неожиданности, а работа на берегу остановилась. С высокого берега оторопевшие матросы смотрели, как рыжий, не спеша, привязал конька к прибрежному кусту ольхи и, взойдя на плот, направился к готовой отчалить шлюпке, в которой уже находился старец.
– Не комендант ли это Олонецкий? – высказал свою догадку Соймонов. – Ну и рожа! По ночам, поди, на лесной дороге с кистеньком похаживает!
Офицеры весело захохотали, наблюдая, как рыжий взгромоздился на скамью рядом со старцем, да так, что шлюпка накренилась на правый борт. Через три минуты оба они, и монах и рыжий, стояли на палубе «Ингерманланда», с любопытством озираясь на невиданное, очевидно для обоих, зрелище. Ртищев, всматриваясь внимательно в лица их, подошел и представился. Детина первый затряс головой.
– Сенявин я, Ларион. По батюшке Акимыч. Заведую Олонецким острогом, комендант, значит. По старому – воевода. А это, – воевода ткнул пальцем в сторону старого монаха, – это батюшка Алексий. В Андрусовском монастыре, значит, живет. Мы его любим все. Чистый человек.
Старик, грустно улыбаясь, молча смотрел то на воеводу, то на Ртищева. Взгляд его был участлив и легок, и второй лейтенант сразу почувствовал свое к нему расположение.
– Ну, что же, – сказал Ртищев. – Пойдемте, я доложу о вас командиру корабля.
– Что государь? – обратился к нему Сенявин. – Где он?
Ртищев мрачно глянул на него.
– Государь при смерти.
Он повернулся и отправился на бак к капитанской каюте. Старец и воевода последовали за ним на нижнюю палубу.
– Погодь, лейтенант! Здесь он? – рыжий ткнул пальцем в дверь царской каюты, которая соседствовала с каютой капитана и возле которой в струнку вытянулись два бравых преображенца.
– Да! – кивнул Ртищев, остановившись на мгновение. – Аа-а…
Было уже поздно. Детина прямиком подошел к двери и развел в стороны скрещенные, с примкнутыми байонетами, мушкеты часовых.

Федор Иванович Соймонов
– Ништо, робяты… Свой я. Небойсь.
Детина исчез за дверью, а остолбеневшие от изумления и страха солдаты немо пучили глаза друг на друга: что-то теперь будет? Так же и Ртищев, как лягушка, разевал рот, не зная, что сказать и что делать. Старый монах тронул его за рукав
– Иных сердце ведет. И мы последуем, – такие были первые слова, которые Ртищев услышал от старца. Алексий подошел к двери, чуть склонив голову. Преображенцы, безвольно уже, развели мушкеты.
– Идем? – старик оглянулся на второго лейтенанта, и тот как завороженный последовал за ним. В царской каюте было темно и душно. Вчерашний пиршественный стол сейчас был убран, и на нем стояло пара подсвечников с зажженными свечами, склянки с лекарствами и пустая наполовину бутылка с венгерским вином. Тускло отсвечивая позолотой на стене, рядом с дверью в царскую опочивальню висели часы, нарушая своим тиканьем тишину в каюте. Двери были открыты, и видна была часть ложа и сидевший у изголовья больного царя медикуса Иоганна Бреннера. У стола же в креслах, молча, не глядя друг на друга, сидели капитан Гесслер, майор Кульбицкий, бледный, с красными глазами, и Граббе. Неожиданное появление олонецкого коменданта, Алексия и Ртищева – как вопиющее нарушение дисциплины, – казалось бы, должно было вызвать взрыв начальственного гнева, но Ртищеву показалось, что оно их даже обрадовало. Сняв треуголку, второй лейтенант вытянулся было во фрунт для доклада, но Гесслер, опередив его вялым жестом руки, дал знать, что рвать глотку не надо. Однако, подойдя к капитану, Ртищев все-таки прошептал:
– Сии – олонецкий комендант Сенявин Илларион и старец Алексий. Из Андрусовского монастыря.
Похоже было, что рыжий детина везде чувствовал себя как дома.
– Как же так! Ась? – сразу же загрохотал его голос на всю каюту. – Мы же, его, государя, еще по маю месяцу у меня на Олонце потчевали! Ай-ай!
Он протопал сапожищами в спальню государя и отодвинул медикуса вместе с креслом в сторону. – Отодь! Ай-ай!
Он взял руку царя, которая безвольно покоилась на его груди, и потряс ее.
– Государь-батюшка! Что же это? Не уберегли тебя, собачьи дети!
Цыкнул в сторону медикуса.
– Что с ним? Ну!
Но медикус, глядя перед собой круглыми, отупелыми глазами, лишь шептал:
– Ich weiss nicht! Ich weiss nicht!
[114]
Опечаленный воевода, опустив голову, вышел из комнаты. Все молчали и выжидательно смотрели на Алексия, который, опершись на посох, стоял у двери. Глаза Гесслера и Алексия встретились, и Гесслер едва уловимо кивнув, сделал легкий жест рукой, приглашая его войти к лежащему без сознания Петру. Бреннер выскользнул из спальни. Алексий медленно прошел туда и присел на освободившееся место. Перед ним лежал человек с круглым кошачьим лицом и маленькими усами над маленьким круглым ртом с землистыми губами. Бисеринки пота блестели на лбу при свете свечи, слипшиеся пряди волос разметались на подушке. Когда-то всемогущий, перед ним лежал государь, перед именем которого склонялась вся Европа. Государь, который принял царство под названием Русь, а оставляет его с горделивым именем Россия. Государь, которого лишь Бог может судить по достоинству за всю кровь своих подданных и свой пот, что он пролил. За свои мозоли и чужие слезы. За пушки, корабли, мануфактуры, народное рабство, немецкое платье, бороды, камни Петербурга, вечное метание по огромной стране от юга до севера, за мечты, табак, убитого сына, сосланную в монастырь жену и сестер, горечь Нарвы и Прутского похода, славу Полтавы и Гангута, признание потомков и проклятие потомков.
– Боже, тяжкое возложил ты на меня! – прошептал Алексий. И немного погодя: – Пронеси чашу сию мимо Государя, если возможно. Не за себя прошу, за Россию. Не время…
Из соседней комнаты слышен был лишь неспешный ход часов, где остальные ждали неизбежного.
– Государь! Петр Алексеевич! Слышишь ли ты меня? – уже вслух произнес Алексий, положив руку на влажный от пота лоб царя. Спустя мгновение он вздрогнул от неожиданности, почти от испуга, когда увидел, как медленно-медленно стали открываться глаза Петра, затуманенные болезнью.
– Ааа-а… Что со м-ною? – едва разобрал невнятные слова царя Алексий и услышал топот вбегающих в спальню людей. Он обернулся и увидел длинное изумленное лицо капитана, детскую улыбку рыжего воеводы, выпученные подобострастно глаза Граббе и красное от волнения лицо лекаря Бреннера, который в трясущихся руках держал чашку со снадобьем.
– Тссс! – сделал предостерегающий жест Алексий в сторону собравшихся. – Государь, здравие ваше в руках божиих, но ради блага государства Российского спрошу: кому в случае продления болезни правление оставите? Собравшиеся здесь да будут верными свидетелями вашей высочайшей воли перед Богом!
Неимоверным усилием Петр повернул голову в сторону Алексия, рука свесилась с ложа, желтая, бессильная.
– Е-ка-те-рине А-л-евне, – только и смог проговорить царь заплетающимся от слабости языком и через миг снова впал в забытье. Первым молчание нарушил Гесслер.
– Ну, что же, господа! Все ясно. Сейчас мы напишем текст тестамента, и, ежели государь боле в себя не придет, то своими подписями заверим последнюю волю любимого монарха. Все слышали, что государь назвал своей преемницей супругу Екатерину Алексеевну. Капитан-лейтенант! – обратился он к Граббе, – извольте составить текст и передать его писарю. Вы же, ваше преосвященство, – коротко глянул он на Алексия, – исполните свои обязанности, как это предписывают каноны православной веры.
– Рано еще, – возразил Алексий, с трудом поднимаясь с низкого кресла. Какая-то уверенность, ни на чем не основанная, родилась в нем и крепла с каждым мигом. – Да понадеемся на чудо, ибо для Бога нет невозможного!
И увидел, как у капитана еще более вытянулось и так довольно вытянутое лицо.
– Хорошо, – произнес, наконец, Гесслер. – Подождем, хотя уже все ясно. Да будут все свидетелями, что долг свой перед государем я исполнил.
Все, за исключением Кульбицкого и медикуса Бреннера, вышли из царской каюты и стали расходиться. Старец и воевода поднялись на верхнюю палубу. Алексий подошел к высокому борту и устало оперся на него, почти повис. Рыжий воевода мрачно на него посматривал.
– Может, того… – пробасил он. – Может, все-таки, батюшка, причастите государя то? Как без причастия христианской душе? Плох, ой плох государь… Я-то знаю.
– Старый я дурак, о чуде молюсь! – признался Алексий. – Вот надеюсь отчего-то.
– Не вылечат немцы. Тьфу! – сплюнул досадливо за борт воевода и вдруг оживился. – Эээ, батюшко Алексий! – Он неловко затоптался, будто застенчивый ребенок. – Грех мой, да что там! Женка моя мальчонку меньшого, Васятку, лечила недавно. Мы уж не надеялись. Бабка тут одна живет, на Тулоксе-речке. Карелка она. Уж дар у ней! Плакали мы с женкой, может, она от дьявола дар тот имеет? Да, думаю, замолю перед Богом, все-таки дитя малое спасаю. Помирал совсем малый. Возили, вот… – совсем запутался воевода, глядя на донельзя изумленного Алексия. – Что, батюшко?

Петр Первый
– На Тулоксе, говоришь? – задумался Алексий. – Не в месте ли, что Мергойлой зовется?
– Оно самое, – уныло выдохнул воевода. – Грех мой, грех мой.
– Да подожди ты с грехами! – развеселился Алексий. – Вылечила-то малого бабка та?
– Губы Сенявина растянулись в довольной улыбке.
– Угу! Через трое дни, как и не болел никогда. Заклятье она ведает.
Последние слова воевода почти прошептал и оглянулся кругом, как будто боялся, что его подслушивают.
– Вот я и подумал, может, за нею-то послать? Чем черт не шутит? Тьфу! – с досады воевода снова сплюнул за борт.
– Не Илмой ли ее зовут? – уже серьезно спросил Сенявина Алексий. Рыжий недоумевающе захлопал глазами. – А, вы, батюшка, как знаете? И-и-Илмой. К-ка-релка она.
– Знаю… Не спрашивай. Я мню, если кто государя и может вылечить, то только она. Да как посылать? Дело к ночи.
– Да я, батюшка, благослови! Шлюпку бы мне да матросиков на веслы! Сам поплыву! Чу, и озеро как будто стихло. Пройдем. Утром здесь уж будем! – загорячился рыжий.
– Ну что же, – тихо произнёс Алексий. – Благословляю тебя, раб божий Илларион, во имя спасения государя нашего на сие благое дело! С Богом ступай!
– Эх! – воскликнул детина, срываясь с места в сторону капитанской каюты. И, остановившись на миг, крикнул Алексию:
– А и чуден же ты, отче Алексий! Да только таких на Руси и любят!
Сапожища его загрохотали по дубовому настилу палубы. В каюту капитана Сенявин ворвался так стремительно, что все, кто там был, вскочили от испуга, предположив, что царь умер и матросы на «Ингерманланде» подняли бунт. Старый вояка Гесслер быстрее всех пришел в себя и опустился в свое кресло, недоуменно глядя на нежданного визитера. Второй – а это был Отто Грауенфельд – живо посверкивал голубыми глазами из своего уголка. Один Граббе кипятился после схлынувшего испуга.
– Эээ, фы, коментант, нарушайт фсе прафил! Кейне субординацьон! Стесь фсе старше фас по чинам! Кейн дисциплин! Что фы хотель, тшорт бери!
– Да ладно тебе! – как от назойливой мухи отмахнулся от него Сенявин. – Государь при смерти. Шлюпку мне надо! – сразу взял он быка за рога. – Бабка тут одна есть, верст с семь отсюда. Она может Петра Алексеича вылечить.
– Царь непременно умрет, – хладнокровно заметил ему капитан. – Царский лекарь Бреннер уверяет, что речь идет не о днях даже, а о часах.
– Отец родной! Мы же по одной адмиралтейской части с тобой! – перешел на дипломатический тон воевода. – И начальник у нас один – Александра Данилыч Меншиков! Друг он мне вятший!
При упоминании Александра Даниловича немцы переглянулись.
– Herr Kapitan, Ich habe nicht verstanden was «papka» bedeuten muss
[115].
– Das bedeutet eine alte Frau
[116]. – заметил капитан-лейтенанту Грауенфельд. – Sie haben keine Ahnung von Medizin deshalb heilen diese Frauen allermöglische Krankheiten
[117].
– So eine Dummheit! Was können sie heilen. Man halt den Brenner fur einen drr beckanntesten Arzte in Europe und da hoere Ich von einer alten Hexe!
[118]
– Oh! Ich möchte diese Frau sehen!
[119] – развеселился Грауенфельд. – Ein paar Mahle habe Ich solche Damen während meiner Uralforschungen getrofef n. Hofef ntlich wird herr Hössler mich unterstutzen
[120].
– Otto, Ich kann plötzlich wegen Zarentodes durch so eine sonderbare Behandlung angeklagt werden.Aber Ich möchte mein Kriegsschiff befehligen! Keineswegs ein Boot zwei Meter lang unterErdboden
[121].
Ich furchte mich sehr, dass der Kommandant ausplaudern kann, dass Sie den Zar zu behandeln verbieten. Und dann wird eine Meuterei sein. Wir werden sofort gehenkt. Das ist Russland!
[122]
– Das stimmt. Was fange Ich an?
[123]
– Möge der Kerl ein Bott mit Leute nehmen und sich zum Teufel scheren. Falls Er im See ertrinkt, ist es keine eure Sache
[124].
– Einferstanden! Ich lasse Ihm diese Reise unternehmen. Er scheint sich als ein Gunstling von Menschikof zu nennen. Somit ergatten wir ihn als Allierte
[125].
– Dieser Kerl lugt. Aber das macht nichts
[126].
– Gut! – уже ласково обратился капитан к Сенявину, который, не понимая ни слова по-немецки, лишь переводил взгляд с одного немца на другого. – Мы все за то, чтобы сделать все возможное для спасения государя. Комендант, вы можете взять шлюпку и людей, сколько понадобится. Подойдите к вахтенному офицеру. Скажите, что это мой приказ.
– Вот это дело! – воскликнул радостно воевода. – Спасибо! Век не забуду!
Он, не говоря больше ни слова, выскочил за дверь, и немцы весело захохотали.
Из дневника Отто Грауенфельда
Царь очень серьезно болен. Сегодня царский лекарь Бреннер тайно показал мне его. На мой взгляд, это уже мертвец, пусть и еще живой. Все иностранцы и русские в тревоге. Все может случиться, а мы в западне, вдали от цивилизации, среди лесов и болот. С нами на корабле несколько сотен русских матросов и солдат, которые ненавидят немцев. Я сегодня случайно подслушал разговор солдат из царской гвардии. Они полагают, что иностранцы отравили Петра и что если тот умрет, то они устроят резню. Своих офицеров они также ненавидят. Если гвардейцы думают так, то что говорить о прочих? Нам не убежать с корабля, мы сидим и ждем дальнейших событий. Приехал комендант местной крепости и старый, почитаемый русскими местный старый монах. Он должен провести с Петром все нужные обряды в случае смерти последнего. Комендант хочет привезти накорабль местную колдунью. Он, как я понял, и старый монах также, надеются вылечить царя с ее помощью. Как далек от просвещения этот народ, когда духовенство позволяет прибегать к помощи людей, которые якшаются с нечистой силой? Удивительная страна!
Глава 7
Алексий, которого второй лейтенант Ртищев приютил в своей каюте, пробудился по привычке рано – около трех часов ночи. Второй лейтенант еще крепко спал и не слышал, как старик вышел на палубу. Звезды светили ярко, и ночной заморозок покрыл «Ингерманланд» от клотика до ватерлинии сказочным инеем. На корабле все спали, и лишь на мостике колыхались две сгорбленные холодом фигуры вахтенных. На берегу горел костер, возле которого вкруг расселись с десяток матросов из корабельной команды. Иногда оттуда доносился тихий говор и смех, но о чем говорили эти люди, Алексий не мог разобрать. С запада дул ровный холодный ветер. Алексий знал, что он поднимает на озере крутую волну, особенно в эти предзимние месяцы. И верно – глухой гул прибоя доносился от устья Олонки. Старик вспомнил Сенявина. Сможет ли он выйти в озеро? А Илма? Старое сердце забилось часто. Неужели он увидит Илму, спустя более чем полвека! Какая она стала? Узнает ли его?
– Отче, прости меня! – тень промелькнула по искрящимся инеем доскам палубы, и Алексий вздрогнул, когда какой-то человек, упав возле него на колени, протянул к нему сияющие в лунном свете руки. – Выслеживал я тебя, отче! Священник я корабельный – Илларион имя мне!
– Встань, брате Илларион! Зачем ты так? Под Богом равны мы все, – укоризненно покачал головой Алексий, помогая священнику подняться на ноги. Тот бормотал быстро, как в лихорадке, несвязные слова.
– Грешник я. Боюсь Бога! А иногда сил нет, отче! Пью тогда. Каюсь потом. Смеются надо мной, а я молюсь. Что делать мне, отче! Веру теряю, как подумаю, а, может и нет Бога? Может, нет его?
– Тссс! – прервал его Алексий. – Брате Илларион, скажи, были ли у тебя мать с отцом?
Илларион запнулся на полуслове, сбитый с толку неожиданным вопросом Алексия.
– Н-н-ну, были… – неуверенно протянул он.
– А у них были ли родители, твои деды с бабками, значит?
Илларион, не говоря ни слова, кивнул.
– А у них, дедов, тоже были? – продолжал мучать его Алексий. Отец Илларион лишь растерянно смотрел на него, ожидая продолжения, хлопая маленькими глазами.
– Ну ладно! – рассмеялся Алексий, видя недоумение корабельного священника. – Не могло же вот так продолжаться без конца. Значит, с кого-то должно было начаться обязательно. Так?
– Так, – согласился Илларион.
– А как могли сами собой начаться люди и мир без сотворения? И кто мог сотворить сию красоту, кроме Бога?
– Да! Да! – горячо и радостно воскликнул отец Илларион. – В миг един научил ты меня! Как же я… раньше… сам…
– Все мы сомневаемся, за жизнь не единожды. Я тако мыслю: иной Бога в сердце своем постоянно чувствует – это ему, как при жизни, награда. А иной нет – то ему испытание от Бога дано. Должен он сам к Богу дойти, а это тяжко.
Алексий смолк. Затем он обвел рукой вокруг себя и добавил:
– Корабль красив зело! Думаешь: вот до какой хитрости и красоты может человек подняться! А как на небо глянешь, то про все человеческое забываешь, брате.
– Я дойду, – глухо произнес, опустив голову, отец Илларион. – Теперь дойду, пусть и грешен я!
– О том я книгу мудрую чел, да как она называлась, уж запамятовал. Монах некий, в Египте живущий, спрашивал Сисоя: «Что бы ты сделал, о, отец, если бы я пал?» Сисой сказал ему: «Вставай!» И сказал монах: «Я много раз падал и вставал, сколько же мне падать и подниматься?» Старец сказал: «Падай и поднимайся, покуда тебя не настигнет смерть». Вот как в книге было той.
– Трудна жизнь наша, того, кто Богу жизнь свою посвятил, – вздохнул Илларион.
– Людям посвятил. Служение твое для людей, не для Бога. Богом ты поставлен братьям во Христе служить и слову Божьему поучать насколько можешь. А что трудно… – задумался на миг Алексий, – так оттого, что на одной ноге стоим.
– Не пойму слова твоего, отче! – замотал головой отец Илларион. – Прости! Как это на одной ноге?
– Да это я так шучу для себя, – улыбнулся Алексий. – Думаю, вот обычный человек в церковь сходит, в Боге опору поищет, и в миру в семье у него вторая опора есть, как на двух ногах стоит. У нас же в миру нет опоры, только в Боге укрепляемся, оттого порой и шатает нас.
– Утешил ты меня в сомнениях моих, отче! – задумчиво сказал отец Илларион. – Слух о вере твоей далеко пошел. Только напоследок позволь вопрос тебе задать, отче Алексий.
– Спрашивай, брате, отвечу, коль ответ знаю.
– Уж не знаю, как и спросить, – заколебался отец Илларион. – Да уж ладно. Правда ли, что при пострижении своем ты имя себе прежнее оставил?
[127] Так говорят. Прости, отче, если что.
– Правду говорят, – твердо ответил Алексий. – Имя мое так при мне и осталось прежнее. Ибо так я сам сердцем и помыслами моими изменился, что уже и имя менять не к чему было. Так отвечу.
Он отвернулся от отца Иллариона. Там на берегу костер затухал, видимо все уж задремали возле него, и некому было подкинуть хвороста в огонь. На мостике озябший вахтенный притоптывал по доскам палубы каблуками ботфорт. Алексий взглянул на вахтенного и невольно улыбнулся, увидев, как тот, придерживая рукой треуголку, всматривается в звездное небо. Тогда он сам поднял голову и поразился: как ярки, крупны были звезды и как сияет Млечный путь. Он хотел было поделиться своими чувствами с братом Илларионом, но с изумлением обнаружил, что тот исчез так же незаметно, как и появился. «Как некий дух!» – про себя подумал Алексий. Уходить назад, в тесную каюту ему не хотелось. Алексий начал перебирать в уме события минувшего дня, подумал, что через несколько часов должен вернуться Сенявин. Он привезет Илму, которая, может быть, сумеет исцелить царя, как когда-то она исцелила атамана Василия. Илма. Какая она сейчас? Наверное, ему, Алексию, стоило бы уйти с корабля. Но он должен исполнять возложенное на него саном. Он должен остаться. Илма. Почему тогда, много лет назад, в такую же ноябрьскую пору он не позвал ее? Не выбежал к ней из леса? Не обнял, когда она в странной растерянности стояла на бугре возле дома, как волчица, потерявшая своих волчат? Да, он близок был к тому, но тогда именно долг перед отцом Геннадием, дядей Гришей, атаманом Василием, Солдатом, Иваном Копейкой, Ваньком Рыбаком, Клыком Фаддеем, Петрушкой Поваром, купцом тем старым, что крестом осенил его перед собственной смертью, мужиком, что лежал на дне лодки в луже своей крови – перед всеми жертвами и перед всеми палачами долг удержал его, собственную плоть грызущего и воющего, остаться на месте. Кто, если не он будет молиться за их души? И он – Алексий – будет молиться за них до конца своих дней. Именно тогда, в день тот тусклый да тяжкий, кончился прежний Алешка и начался Алексий. Но почему так тяжко на сердце? Илма! Да что же это со мной? Каждый день, годами гнал я воспоминание о тебе, гасил молитвами да постом всякие помышления, а сейчас, как будто от Господа, пришло мне воспоминание это. Упали замки, и узы развязались.
…Руки его дрожали от пережитого напряжения, и Алешка умудрился в нескольких местах запачкать кровью атаманова. Теперь он бежал по узкой тропе к берегу, где холодный ручей, затерявшийся в зарослях тростника, смотрел в сторону Гачь-острова. Там, укрытые от волн и человеческих взоров, и стояли разбойничьи лодки. На берегу он долго оттирал руки песком и водой, а затем, скинув одежду, кинулся в воду, оставляя следы на зернистом песке. Вода уже была холодна, но Алешка, фыркая как лошадка, долго кувыркался в ней, ощущая только радость от своей молодости и нового чувства, точного названия которому он еще не мог дать. Казалось, воздух сейчас переполнит твои легкие и ты взлетишь как птица. Это было и счастье, но это была и тревога. Это было чувство, что человек раскрылся, как цветок, но в этом было что-то и от зверя. Голова кружилась от этого нового чувства так, что Алешка и не заметил, как зуб на зуб у него давно не попадает. Наконец он выскочил из воды и бросился к лодке, где на скамье лежала его одежда. Это была та самая лодка, на которой они привезли Илму. Даже тулупчик, который дядя Гриша постелил для себя на носу лодки, так и лежал на прежнем месте. Алешка, надев лишь рубаху, завернулся в него и от усталости и обволакивающего его тепла мгновенно уснул. Когда он проснулся, августовская ночь уже плотно навалилась на водную гладь. Полная луна кокетливо заглядывала в зеркало черных вод, но капризная Ладога напускала рябь на свою поверхность, и тогда лик луны рассыпался тысячей серебристых бликов. Но Алешка знал, что не свет луны, а легкий шорох шагов пробудил его ото сна, и он с любопытством выглянул из своего убежища. Илма, приподняв подол юбки, спускалась к пристани по тропинке, и Алешка этому даже не удивился, как будто знал, что именно так и должно быть. Но сердце его заколотилось так бешено, что он стал хватать ртом воздух, как вытащенная на воздух рыба. Девушка, заметив его, опустила голову и медленно подошла к лодке, где сидел Алешка. Тому, наконец, пришло в голову, что на нем, кроме рубашки, ничего нет, что одеваться сейчас будет совсем неловко, и он с глупым видом лишь поплотнее запахнул на себе тулупчик, проклиная себя и свою непредусмотрительность.
– Терве, Олей! – грустной улыбкой улыбнулась Илма.
– Терве, Илма, – он уже знал от дяди Григория, что слово «терве» означает «здравствуй».
Она присела на борт лодки рядом с онемевшим Алешкой и скинула с головы платок. Густые рыжие волосы, освобожденные от плена, рассыпались по плечам. Не глядя на Алешку, она тихо заговорила, как будто вела разговор сама с собой, и он жадно вслушивался в звуки незнакомой карельской речи. Язык этот был причудлив: неровен, как будто кто-то шел по извилистой лесной тропинке, перескакивая через камешки, но изобилие звука «л» придавали ему мягкость и текучесть. Алешка, с горящими от восхищения глазами, подперев голову рукой, сидел тихонько. Он чувствовал, что слова ее для него, и это знание сердца уже не удивляло его.
– Väzyin. Smietin, huodeksessah rubien maguamah. Kummallizen unen näin, Ol’oi, havačuin. Unes nän, buite seizon järven rannal da vuotan. Tiijän, gu purjeh terväh ozuttahes, veneh lähenöy. Se uidau minuu ottamah i minul rodih hyviä mieldy. Sit minä näen čoken taivahanrannal. I se on lähembi. Minä varavuin. Ol`oi, se ei ole valgei purjeh, a mi, en voinuh ellendiä. A sit näen – se mustu joučen uidau. Minä rubein itkemäh. Milienne pahua rodieu, a mi iče en ellendä
[128].
Голос ее стал еще тише, она как будто изливала бесплодную жалобу свою водам и звездам, которые, как всегда, бесстрастно внимают словам людей, которые приходят и уходят, а воды будут вечно течь, и звезды будут вечно гореть.
– Илма! – прошептал Алешка. – Ты плачешь? Отчего?
– В порыве сострадания он прикоснулся к ее руке, к ее изящным, точеным пальцам, которые совсем недавно подарили жизнь убийце. Они были холодны, ее пальцы, и Алешка осторожно накрыл их своей ладонью. Илма вздрогнула, как от испуга, но Алешка уже знал, что она не отдернет руку, не оттолкнет его, не крикнет. Он вдруг ощутил свою власть над ней – тысячелетнюю власть, данную мужчине Богом еще от времени сотворения человека.
– Óloi! – девушка повернула голову к Алешке. – Havačuin pällästykses. Minä varuan. Mene iäre! Sinä et ole rozvo. Minä sanon Risti-diädäle. Häi on hyvä. Häi sežo ei ole rozvo. Häi on ozatoi!
[129]
Она заговорила так быстро, как будто боялась, что не успеет высказать все, что было у нее на душе. Илма нагнула голову к Алешке, и прядь ее волос скользнула по его щеке, и он, закрыв глаза от наслаждения этим прикосновением, потянулся к ней, как тянется к солнечному свету росток. Голос ее стал совсем тихим, но Алешка чувствовал ее дыхание на своей щеке.
– Hyö kaikin ollah ozattomat. Anna kaikin mennäh iäre. Mustu joučen ennustau pahua. Se tuli Tuonelaspäi. Ylen äijäl sinus
[130].
Алешка, так и не открывая глаз от страх и восторга, почувствовал, как его щека прикоснулась к щеке Илмы. Она тоже закрыла глаза и покачала головой так, что невольно губы их встретились, но все еще продолжала шептать слова таинственного языка.
– Urai! Myo mollei olemmo urait. Kuldaine! Kuuzahaine kučui minuu, i minä… i minä lähtin. En tiedänyh, gu sinä täs olet… Tiezin. Midä ruan! Huigei on…
[131]
Окончательно теряя голову от нахлынувшей нежности, Алешка погладил ее по рыжим распущенным волосам, но рука уже обреченно скользнула вниз между узкими, почти детскими еще лопатками к талии, которая покорно выгнулась волшебным змеиным движением. Они оба замерли на миг, как будто не решаясь сделать последний шаг, и открыли глаза. В ее взгляде узрел Алешка тревогу и вечный вопрос женщины к мужчине: «Ты будешь моим господином?» Он хотел сказать ей «Да», но их тела уже не слушали их и вжались друг в друга, пытаясь распутать оковы одежды. И снова закрыв глаза, чтобы не стыдиться более, Алешка перекинул девушку к себе через просмоленный борт – так лев закидывает пойманную добычу себе на загривок. И Илма уже покорно и торопливо срывала с себя сарафан, и обезумевший юноша помогал, точнее, мешал ей в горении первой своей взрослой страсти. И здесь, в носу разбойничьей лодки на ложе из тулупчика, оставленного дядей Гришей, и собственной одеждой, стали они мужем и женой, и был в том промысел Божий. Потом они долго лежали, наслаждаясь близостью друг друга и согреваясь теплом друг друга. Молчали. В молчании своем так не хотелось разрывать им то душевное единство, возможное только из двух половин, но луна уже покидала небосклон и звала за собой. И тогда девушка первая, вздохнув, нежно оттолкнула его, лежащего без сил и мыслей, и села на борт лодки, нагая и гибкая как русалка.
– Kuldaine, pidäy mennä. Eiga ristikanzat nagretah
[132]. – грустно улыбнувшись, сказала она – Minä en tiedänyh, gu se on nenga hyvin… Pidäy mennä…
[133]
– Что? – пробормотал Алешка. – Илма, что?
Она поняла и, звонко рассмеявшись, пальчиками изобразила идущего человечка.
– Minä, ellendät… Oi, huigietoi!
[134] – И как будто придя в себя, торопливо бросилась одеваться.
– Älä kačo, Ol’oi! Sinägi olet huigietoi!
[135]
Алешка сел, обхватив ноги, и смотрел на нее, как будто навсегда хотел запомнить ее тело, ее движения, ее голос.
– Илма! – Она замерла, глядя на него. – Илма, милая!
И Алешка пальцами обеих рук изобразил двух идущих рядом человечков.
– Темно еще. Я провожу.
Отчего небо такое светлое? Отчего оно летит на меня? Илма, где же ты? Я провожу тебя! Сердце! Как болит сердце!

Старик, так и не сведя глаз с Млечного Пути, со стоном опустился на колени. В следующий миг он рухнул навзничь на палубу и уже не слышал, как, топая каблуками ботфорт, подбежал к нему вахтенный, как четверо матросов занесли его в каюту, как корабельный лекарь Персакис отворяет ему кровь и она густой черною струйкой течет, пузырясь, в медную миску.
* * *
Первое, что он услышал, придя в себя, был басовитый голос воеводы Сенявина, который рассказывал, что досталось им изрядно и они едва не вымерзли все на ладожском ветру. «Значит, я не умер», – подумал Алексий, прислушиваясь к своему телу. Голова тягостно ныла в затылке, но шипы, что постоянно покалывали сердце, не мучали его сейчас. Он попытался приподнять голову, но она закружилась так, что ему пришлось оставить попытку присесть на койке. Круглое медное лицо Сенявина склонилось над ним.
– Лежи, поправляйся, Отче! – загудел он. – Слава Богу, возвернулись мы целы. А уж буря седни на озере!
– Что Илма? Привезли ли? – слабым голосом произнес Алексий.
– Привезли, отче! – обрадовался его словам воевода. – Сейчас к государю пойдем. Я все боялся, что царь-батюшка преставился уж. Не-е-ет! – он выпрямился во весь свой медвежий рост так, что головой стукнулся о низкий потолок каюты. – Мы еще повоюем!
В этот момент дверь каюты отворилась, и кто-то, Алексий не разобрал кто, дал знать воеводе, что надо идти.
– Ну, лежи, Отче. Я доложу, что и как, – сказал он и вприпрыжку затопал к дверям. Алексий остался лежать в каюте, глядя на мутный свет ноябрьского утра, лучившийся из небольшого окошка, и по щекам его текли слезы.
В государевой каюте в связи с наиважнейшим делом лечения капитан собрал всех старших офицеров из команды корабля: сам Гесслер сидел за столом, на этот раз совершенно пустым. Справа от него скромно посматривал на корабельную шляхту писарь Долгополов. В углу комнаты притаился поблекший за последние сутки, с обвислыми усами майор Кульбицкий. У стены чинно расселись по порядку старшинства капитан лейтенант Граббе, второй лейтенант Ртищев, майор Лядский, поручики Егоров и Тильгаузен. Капитанскую думу замыкала громоздкая фигура комендантуса олонецкого, как его здесь уже окрестили, Сенявина, который крутил в нетерпении головой и почесывал красную шею. За дверью царской спальни слышались приглушенные голоса – это отдавал указания слугам медикус Бреннер. Часы тикали, и все невольно смотрели на них, дивясь мастерству исполнения давно истлевшего в земле их творца. Стрелка часов уперлась в цифру 9, и тогда капитан, словно вспомнив, зачем они здесь собрались, медленно встал.
– Господа офицеры! – он сделал паузу, вглядываясь поочередно в озабоченные лица присутствующих. – Камерады! Здравие государя нашего, как вам уже известно, не улучшилось. Все искусство врачевания, которое применил лекарь царский, Бреннер, бессильно перед промыслом божьим. Сделать больше, чем сделано – невозможно. Остается лишь вверить здравие государя Божьему милосердию, а душу его – церкви. Я как командир корабля также могу сказать, что выполнил свой долг целиком и полностью.
Из царской спальни гуськом к выходу проследовали двое слуг с полотенцами и медными тазиками. Бреннер затворил дверь, но все на миг смогли увидеть его бледное, усталое лицо.
– Теперь, – продолжил свою речь капитан. – Мы обязаны принять экстраординарные меры, ибо обычные не дают плодов. Так утверждает олонецкий комендантус, ээ-ээ, Сенявин.
Детина выкатил глаза на Гесслера, но, вздохнув, махнул рукой и уставился на носки гигантских своих сапог.
– Мы дозволяем ему применить искусство местных сведущих в своем деле лекарей, если он подпишет грамоту, в которой берет на себя ответственность за жизнь своего государя.
– Это как же так, хер капитан? – Сенявин вскочил и тут же схватился за ушибленную о потолок голову. – Сами речете, мол, все напрасно. Промысел Божий! А я отвечай?
Он сел на прежнее место и сгреб голову обеими руками так горестно, что всем стало его искренне жаль.
– Ну, что же, – голос Гесслера звучал ровно. – Значит, и говорить больше не о чем. Господа офицеры…
Господа офицеры вскочили и вытянулись в струнку, ожидая услышать в завершение: «Все свободны!»
– Господин капитан, разрешите? – вдруг качнулась из ряда грудь второго лейтенанта Ртищева. Растерявшийся Гесслер смешно открывал и закрывал рот, видимо, совершенно не ожидавший вопроса Ртищева. Наконец откашлялся.
– Гм, гм, ну что еще?
– Господин капитан, вы изволили как-то сказать, что причину болезни государевой определить не удалось. По мнению моему, как персоны в болезнях не смыслящей, было бы все-таки неплохо допустить сию старушку к государю. Авось она, вкупе с лекарем царским, сможет диагнозис верный установить.
Сразу же посыпалось горохом, без разрешения высочайшего.
– Верно!
– Ай да Ртищев! Головушка светлая!
– Все свидетелями будем. Без риску государю.
– И так терять нечего!
– Господин капитан, второй лейтенант дело говорит!
И завершающим аккордом к общему хору присоединился даже осторожный Граббе.
– О, ия! Тейсфительно! Никакой риск! То лечений не топускайт, только стафить тиагност!
– Ну, что же… – Мартин Петрович, почесав макушку головы под париком, вернул тело в кресло. – Тогда так и оформим. Комендант! Зовите эту вашу колдунью.
– Слушаюсь, господин капитан! – радостно вскочил Сенявин. – Сейчас бегу!
Через несколько минут дверь снова открылась, и в ней показалась широченная спина Сенявина, пятящегося задом и приговаривающего ласковым голосом: «Проходи, бабушко, проходи!» – как будто кошку к миске со сметаною звал. Все присутствующие, даже пауком в углу сидевший майор Кульбицкий, забыв про субординацию, вскочили и с жадным любопытством вперились в потрескивающий по швам кафтан воеводы. Сенявин, наконец, как в менуэте, чуть ли не грациозно развернулся к присутствующим лицом, наткнувшись попутно на стол и сдвинув его с места. За ним стояла древняя, сгорбленная годами старушка в шерстяном длинном сарафане и башмаках. Лицо старушки, чуть вытянутое, с выдававшимися скулами было все изрезано морщинами, но, тем не менее, даже приятно и напоминало о былой красоте ее. Глаза ее, выцветшие от старости, почти молочные, обладали странным свойством, которое все присутствующие сразу же ощутили: они притягивали как магнит и стесняли, даже отпугивали одновременно. И в движениях ее, скованных старостью, все еще чувствовалась былая грация и отсутствие робости или стеснительности, присущей обычно людям низкого происхождения. Наоборот, все офицеры почувствовали себя так, как будто находились в обществе королевы, старой, давно отошедшей от дел, но, тем не менее, до сих пор сохранившей достоинство своего сана и внушающей к себе невольное почтение. Старушка как будто совсем не удивилась богатой обстановке и множеству людей в мундирах, но ее взгляд, вскользь пробежавший по лицам, был внимателен и чуть вопрошающ.
– Гм, – снова прокашлялся Гесслер. – Комендант, проводите ее к государю. Кстати, понимает ли она российское наречие?
– Не извольте беспокоиться, я ихний говор понимаю, перетолмачу! – загудел олонецкий комендантус. И, пригнувшись к старушке, зашептал заговорщицки ей на ухо, тыча медвежьей лапой в дверь государевой спальни так забавно, что офицеры закрутили головами и снова заулыбались. Воевода, тем временем, подвел старушку к двери и тихонечко стукнул в нее три раза. Дверь приоткрылась, в просвете показалась недовольная физиономия царского медикуса.
– Можно! Приказ капитанский! – пробурчал ему Сенявин, тыча пальцем на офицеров. – Консилий, камерад!
Бреннер, покраснев от негодования, брезгливо отпрянул, пропуская старушку мимо себя, и захлопнул дверь прямо перед носом комендантуса. Тот с недоумевающим видом развел руками и встал перед дверью, как верный страж. Никто не произносил ни слова, все были до крайности взволнованы, и один лишь Мартин Петрович флегматично откинулся в кресле, сложив руки на животе. «Повидал я всякого на своем веку!» – казалось, говорил весь его вид. И действительно, капитан «Ингерманланда» повидал многое и удивить его было сложно. Оттого он заранее был уверен в бессмысленности этого предприятия, в душе поругивая себя за то, что вообще ввязался в глупую историю с этой белоглазой ведьмой из дикого края. Он усмехнулся, глядя на потные и красные от волнения и духоты лица подчиненных: «Мальчишки, совсем еще зеленые птенцы! Даже Граббе – земляк, и тот подался всеобщему настроению!».
– Идем, бабушко, вот сюда! Туле тянне! – все насторожились как гончие псы, глядя, как Сенявин под ручку выводит старушку к центру комнаты. Медикус с презрительным видом вышел из спальни также, но остался стоять, скрестив руки, у дверей. Все ждали, когда комендант переведет слова старушки, которая тихой скороговоркой что-то ему говорила, покачивая головой, как будто сожалея о чем-то.
– Эээ! Значитце, так! – повел он речь. – Бабушка Илма говорит, что у государя почки больны, но смерть ему не оттуда придет. Не от болезни смерть будет! – шмыгнул носом Сенявин. – Лекарствия, говорит, нету такого… Че-то я не пойму…
Комендант умолк, и все, молча ожидая продолжения его речи, переводили взоры с растерянного лица Сенявина на старушку, а затем на Бреннера, который с открытым от удивления ртом стоял у двери.
– Правда ли сие, Иоганн? – проскрипел со своего кресла капитан. – Говорите по-русски, ибо все присутствующие господа офицеры есть свидетели.
Бреннер развел руками. Он вдруг как-то обмяк, и выражение его лица стало жалким.
– Я не понимайт! Ооо! Фсе верно сказаль. Почка, почка полен, йа! Абер, как?! Но какой полезнь? Какой лекарстф?
– Нет лекарства, тебе же сказали… – вяло махнул рукой воевода, и в следующее мгновение, отпрянув от старой Илмы, закрестился суетливо. Все вскочили, и не было того, у кого по спине не пробежал бы ледяной озноб. Илма с застывшими, будто невидящими глазами, как сомнамбула, выставив перед собой коричневые морщинистые руки, сделала шаг вперед. И еще. И еще. Вид этой маленькой старушки, осязающей невидимое и неведомое, был такой пугающий, что все невольно попятились от нее в стороны, не в силах выговорить ни слова. Она, как слепая, сначала прошла вдоль шеренги застывших офицеров возле стола, шепотом выговаривая непонятные, а потому еще более пугающие слова. Шаг за шагом она обошла его. Затем старуха попятилась, как будто неведомая сила заставила ее повернуться вокруг себя, как стрелка компаса. Она последовала дальше, мимо застывшего в ужасе Бреннера, и, дойдя, наконец, до бледного, как бумага, воеводы, ухватилась рукой за рукав его красного кафтана.
– Surmu! Minä arbuan, häi on täs! Vie pidäy…
[136]
Она снова отправилась в свое странное путешествие, поводя руками вокруг себя, скользя уже совершенно черными зияющими пустотой глазами по лицам испуганных офицеров.
– Surmu on täs… Viizas! Viizas!
[137]
Она снова обошла стол, затем обернулась, как пьяная, качнувшись, прошептала шелестящим, как сухие листья под ногами, шепотом.
– Lähäl…
[138]
Её закружило, и она перебирала руками в воздухе, как будто попала в колодец. Потом прижалась к стене каюты щекой, и руки ее скользнули по ней вверх, туда, где висели часы, что сутки назад были принесены в дар Петру.
– Ah! Surmu vedäy! Vedäy! Mustu joučen uidau! Lähenöy! Se uidelou teijän laivas ymbäri! Pyöriy buite čuassuloin ozutin. Vie kaksikymmen kolme kruugua pidäy hänele uidella. Vie lähembi…
[139]
Руки ее опустились. Она как будто пришла в себя и еще больше сгорбилась под тяжестью данного ей откровения. Подойдя к Сенявину, красному, вытирающему пот со лба рукавом, она начала тихо наговаривать ему то, отчего комендант в величайшем испуге и удивлении выпучил на нее свои глаза.
– Ах ты, Господи! – снова закрестился комендант. – Бабушка Илма говорит, что царева смерть в этих часах. Когда они встанут, то помрет государь. Часы эти есть проклятые. Проклятие и кровь на них…
Офицеры переглянулись недоумевая.
– Сие есть сомнительно. Никто еще не умирал от часов. Конечно, на них может быть яд, но я лично держал их в руках, и мне это не принесло вреда, – вывел свое заключение Гесслер и снова обратился к Сенявину. – Что там она еще говорит? В конце концов, господа, ведь их можно заводить без конца.
– Бабушка Илма толкует, что умрет тот, кто их заведет собственной рукой. Как закончится завод, так человеку и конец, – басил комендантус уныло. – Завести дано, говорит, только раз.
– Да откуда же эти чертовы часы здесь вообще взялись? – недоумевающе произнес майор Лядский. – Государь многажды на сем корабле с нами плавал, и здрав был. А тут такое…
– Верно! – поддержал его поручик Егоров. – Гиштория, господа, зело престранная.
– Не ваш ли это подарок, Гесслер? – металлические нотки в голосе молчащего до сих пор командира царской охраны майора Кульбицкого, как и его неожиданное неподобающее обращение к капитану «Гесслер», заставили всех обернуться к нему. Кульбицкий, чуть ссутулившись, как настороженный пес, стоял, положив руку на эфесс шпаги. – Я лично присутствовал, как вы в пьяном виде своем преподнесли их государю. Теперь я сомневаюсь, были ли вы, сударь, так пьяны!
– Вы забываетесь, майор! Я командир корабля и верный слуга моего государя! – вскричал побледневший от гнева капитан, вскакивая с кресла. – Потрудитесь извиниться, иначе я вас арестую.
– Я сам вас арестую! Стража! – громко выкрикнул в двери каюты майор. Через миг в каюту уже вбежали четверо дюжих гвардейцев и сержант, которые вытянулись в струнку перед начальником в ожидании приказаний.
– Капитан! – обратился Кульбицкий к Гесслеру. – Имею предписание от князя Ивана Федоровича Ромодановского, Преображенского приказу
[140] управителя, для пущего охранения государя на все чрезвычайные меры. Вы арестованы. Вашу шпагу…
– Но это же немыслимая глупость! – пробормотал растерянный и испуганный упоминанием Преображенского приказа Гесслер. – Вот!
Он трясущимися руками отстегнул шпагу в ножнах и передал Кульбицкому.
– Арестованного в мою каюту, – кивнул он долговязому сержанту. Но в этот момент неожиданно запротестовал капитан-лейтенант Граббе, видимо, из немецкой солидарности.
– Абер, герр майер! – от волнения он почти полностью перешел на родное наречие. – Дизе тшасы тостафиль с перек герр лейтенант Ртышев! Он есть финофник!
– Да? – изумился майор. – Это правда, лейтенант?
– Да, но… – запнулся оторопевший Ртищев. – Но я не знаю человека, который их мне передал. Я не виноват. Матросы могут подтвердить. Мичман Березников…
– Да я вижу – тут целый заговор! – зловещим голосом прошептал Кульбицкий. – Ртищев, вашу шпагу сюда! Обоих в мою каюту. Не выпускать без моего личного указания!
Окружив растерянных Гесслера и Ртищева, преображенцы вывели их из каюты.
– Сколько, говорит старая, часов государю жить? – обратился майор к хлопающему глазами Сенявину.
– Д-двадцать три круга, так ить это двадцать три часа, – воевода икнул. – Майор, как же это? Ртищев-то человек, как будто, честной!
– Туда же захотел? – прикрикнул на него майор. – Видел я таких честных в Преображенском приказе на дыбе! Там все вмиг честными становятся, все правду говорят!
Он перевел дух.
– А вот, кстати, и проверим. Коль государь умрет завтра поутру, значит, бабка твоя правду сказала. Так что и ее я с корабля не выпущу. Скажи это ей, комендант, скажи!
Из дневника Отто Грауенфельда
На корабле у нас произошло нечто вроде дворцового переворота. Якобы, раскрыт заговор против царя. Капитан Гесслер, командир корабля, и еще один из старших офицеров арестованы. Эти офицеры, как я слышал, преподнесли царю то ли отравленные, то ли заколдованные часы. Об этом поведала привезенная на корабль старая знахарка из местных аборигенов. При ней ее правнучка, маленькая девочка лет шести или семи, очень милая, с обликом, характерным для финского племени. Сейчас на «Ингерманланде» распоряжается офицер царской охраны. Большая половина экипажа находится на берегу. На борту в большинстве иностранцы и самые лояльные матросы. Ждем смерти царя в любую минуту. Потом, скорее всего, будет бунт…
Глава 8
На корабле и на берегу разговоры, разговоры…
– Царя околдовали немцы. В часах яд принесли. Сам капитан!
– Бабку колдунью привезли. Сам видел. Внучка при ней. Бабка та немцев и указала. Эти, говорит, самые и есть.
– Арестовали их уж.
– Там и наш есть. Ртищев-лейтенант.
– Неужели Карлушке продались? Ить, с Петром Ляксейчем издавна плавали!
– Никак ефимков
[141] полную торбу им отсыпали!
– Топить их всех надо! Не дай Бог, как умрет царь, первый душить нехристей пойду!
– Не могет того быть, робята! Капитан – немец был сурьезный.
– А пил-то как! Не каждый наш так пить может!
– С Мартышкой четвертый год как плаваю. Пьет, но дело знает. Сумлительно…
– Что-то темное дело деится, братцы!
А на корабле, в капитанской каюте, шел разговор иной.
– Бабку твою пока на берег не пущу.
– Да русской ли ты человек, майор? Пей вот… Курица, и та пьет.
Сенявин с Кульбицким чокаются стаканами гранеными, пьют в единый глоток, затем оба крякают.
– Эх! Хороша! А вот рыбка… Фельтен! – меланхоличный личный повар Петра лениво щурит маленькие глазки на майора. – Принеси-ко нам, братец, огурчиков соленых!
Фельтен, бровь приподняв иронично, отходит.
– Да шевелись, собачий сын! – вслед ему кричит захмелевший уже майор. – Не то и тебя за компанию в Преображенский приказ отвезу. Там из тебя окорок сделают!
Сенявин хитро ему поддакивает.
– И поделом немчишке! А ловко ты, майор, их-то окрутил! Я ин пикнуть не успел, а оне уж, соколики, без шпаг строем под арест! Молодец!
– Служба такая у меня, Ларион, – твердо уже коменданту и глаз трезвый. – Знаю, что хочешь чего-то от меня. Говори напрямки, воевода. А там посмотрим.
– Отец родной. Бабка та не простая, сам видишь, что человеков ведает…
– Ну?
– Я ей, мол, что да как… Мол, нельзя ли государя то того, исцелить?
– Ну?
– Она говорит – нельзя. Потом подумала: мол, заклинание есть старое такое. Токмо колодец нужен для того. Тогда можно Петра Лексеевича попробовать спасти. Да и сам видишь-то, какой он, царь.
– Ну?
– Чего ты ну и ну? Колодец нужен.
– Ох, бывший воевода! – Раскатистым смехом рассмеялся Кульбицкий. – Уморил, брат! Тебе реки мало? А то я могу и к озеру тебя свезти! Ох!
– Пусти бабку-то. На час ей и нужно… В Нурме колодец есть, я узнавал.
Кульбицкий смотрит умненько, прищурясь.
– Ладно, воевода бывший, комендантус нынешний. Дурак ты темный, как посмотрю. Старуху эту за ворожбу тоже стоило бы за глотку взять, да ладно, пусть живет. Бери бабку и езжай с Богом. С тобою сержант будет, да солдаты в придачу. Девчонка здесь останется, для порядка. А где, кстати, монах этот? Отец Алексий, верно?
– В каюте Ртищева лежит. Болен зело. Но, вроде, легчает ему…
Через четверть часа весла шлюпки уже расплескивали студеную черную воду Олонки. Пристали плоту у берега. На берегу ранее переправленные матросы с солдатами грелись у костров, ожидая своей очереди в баню, которая вовсю курилась черным дымом из маленьких прорубленных окошек. Некоторые разбрелись вдоль берега, подбирая гроздья темно-бурой переспелой брусники. Ушлые артиллеристы даже умудрились насобирать в окрестностях подмороженных, желто-бурых моховиков и варили их теперь в невесть откуда взятом котле, весело поигрывая деревянными ложками. На огромном пне под аккомпанемент ивовой дуды выкидывал дикие коленца коротконогий солдат из абордажной команды. Его окружили и с одобрительным смехом подпевали плясуну:
Ах ты, сукин сын, камарицкой мужик.
Не захотел ты своему барину служить…
– Здорово, робяты! – гаркнул Сенявин, выпрыгивая из шлюпки на причал.
– И тебе не хворать, Ларион Акимыч! – дружно с высокого берега гаркнули вразнобой флотские. Сенявин был из такого рода людей, которые сразу же вызывают к себе невольную симпатию. Непонятно, почему его так быстро приняли за своего и полюбили: то ли за простоту в обращении, то ли за медвежью силу вкупе с добродушием, то ли за непосредственность его общения с корабельным начальством, граничащим чуть ли не с дерзостью. Но, пробыв едва неполные сутки на корабле, бывший воевода стал всем известен и всеми любим. Между собой матросы прозвали его чудным, непонятно кем придуманным словом «медвежан», и оно вмиг прилипло к Сенявину.
– Конишку твоего брусникой подкармливаем. Как разжиреет – на борщ пустим! – ехидничали матросы.
– Эээ! Браты, вы того… это конь карельский, он жирным не бывает! – Воевода помог выбраться из шлюпки бабушке Илме. Следом затопали сапогами шестеро преображенцев с сержантом и мичман Соймонов, напросившийся из любопытства. Медленно, похрустывая ледяной корочкой по прибережному песку, дошли они до маленького, в три бревна, плотика, что приткнулся к берегу прямо напротив деревеньки. От него вверх по глинистому берегу были вырублены в земле ступеньки. Там наверху и стояла деревенька Нурми, если это можно было назвать деревней. Было в ней два старых маленьких, крытых серой дранкой дома, с пристроенными к ним сараями. Перед домами бугрились зеленью заиндевелой мокрицы несколько грядок с торчащей забытой ботвой редьки. Между домами, как пограничный столб, и виднелся сруб колодца под трухлявой уже крышей. На берегу у реки, как избушка на курьих ножках, косилась закопченным окошком на черную гладь реки маленькая банька. Возле нее на двух коротких бревнах вверх дном упокоилась вечная карельская труженица-лодка, бурая от засохшей на ее дне тины. Две рыжие мелкие собаки с хвостами баранкой выскочили из-за сарая и с яростным лаем закружились вокруг маленькой экспедиции. На крыльце ближайшего дома, видимо, привлеченные лаем собак, вышли двое мужчин. Вероятно, это были отец и сын, так как фамильное сходство проглядывало во всем: и в росте, и в цвете бледных волос, и форме лиц – довольно узких с выступающими массивными надбровьями.
– Экий разбойный народ у вас, Ларион Акимыч! – заметил из-за спины Сенявина мичман Соймонов. С такими встретиться в темном переулочке – портки потом стирать будешь.
– Не! – отрицательно покачал головой воевода. – Они добрые. А сбрить бороденки лешачьи да камзол почище натянуть – так хоть в Париж, к Людовикусу, с дамами миловаться!
Мужики, однако, набычившись, со скрещенными на груди руками настороженно ждали гостей. За поясом у обоих был заткнут преострый плотницкий топор, главный помощник в здешнем лесном быту. Собаки, завидев хозяев, принялись служить с удвоенной силой.
– Ну! – махнул на них рукой воевода. – Полно, батюшки! За службу благодарствие! – И уже обращаясь к хозяевам: – Терве!
Хозяева хмуро кивнули в ответ, недоверчиво поглядывая на невиданную процессию. Воевода, покопавшись в кармане, достал из него вместе с обычным карманным мусором изрядно потертый рубль.
– Kuunnelkua, mužikat. Myö tulemmo teille tsuarin tärgien dielonke. Meile pidäy teijän kaivo. Vot, Ilma-buabo sie šupettau, i myö lähtemmö
[142].
Мужики оживленно зашептались, поглядывая то на рубль в руке воеводы, то на старушку, которую преображенцы заботливо вели под руки.
– Ei pie den’gua, muga mengiä. Vai kehnuo kaivoh meile älgiä lykäkkiä
[143].
– Midä? – оторопел воевода. – Mittumua kehnuo?
[144]
– Il’jinskoin pogostas minun kyvyle lykättih
[145], – пояснил старший, поправив накинутый на плечи дряхлый полушубок. – Kyzyttih juvva, a meni kaksi nedälii i kaivo kuivi. Kehnuo lykättih
[146].
– Sinun koirii minä lykkiän sinne, obormottu!
[147] – разъярился Сенявин. – Minä olen anuksenlinnan vojevoda. Iče työ oletto kehnot pörkähöt, muzavat
[148].
Услышав, что перед ними сам грозный повелитель Олонца, мужики запричитали и замахали руками – ступайте мол. Все проследовали к колодцу. Хозяева карелы, тем временем, отловили беснующихся собак и заперли их в сарай, откуда теперь раздавался тоскливый дуэт. Солдаты с сержантом и любопытный Соймонов остановились от колодца поодаль. Воевода подвел старушку к колодцу, и, сняв с него дощатую крышку, заглянул в него.
– У-у-уу! – гукнул по-мальчишески воевода в черную глубь. – Черти, кыш-кыш! – добавил он вслед, вспомнив слова хозяина.
– Rengi pidäs da kauhu
[149]. – сказала ему старушка. – Vetty pidäy nostua
[150].
– Sen ruan
[151], – бодро заметил воевода и метнулся к хозяевам, к которым уже прибавилась старушка, молодая женщина и четверо разного возраста ребят в жутких обносках. – Ižändät, andakkua rengi! Kauhugi löydäkkiä
[152].
Взяв ведро, он зачерпнул воду из колодца и поставил его на землю.
– Midä pie pidäe, buabo?
[153] – спросил он.
– Kai, mene poigaine. Ijalleh minä ice
[154]. – сказала старушка, нагибаясь над ведром.
Сенявин, сбивая носками красных сапогов иней с травы, направился к остальным своим спутникам. Старушка, шепча и кланяясь, перекрестила колодец, ведро, а затем осенила крестом все четыре стороны света.
– Зело удивляюсь я тебе, Ларион! – укоризненно закачав головой, сказал подошедшему воеводе Соймонов. – Взялись вы лечить государя пришептываниями да бабками. Да она, глянь, и крест христианский кладет, а ведь, поди, и всяких лешаков своих созывает. Я уж в Голландии и Англии учился – там такого не бывает. Наука там, брат, сила! Смеюсь, когда сие вижу!
– Оно верно! – широко улыбнулся рыжий. – У нас так: и карелы, да и наши в доме на икону молятся, а как за дверь, так и батюшке лешему свою молитовку отшепчут. Но бабку ты не срами – сила большая у ней. Ты не знаешь…
Они замолчали. Старушка зачерпнула ковшиком немного воды из ведра и выплеснула ее на траву у колодца. Губы ее шевелились. Уйдя в себя, она совершенно не обращала внимания на находившихся неподалеку мужиков. Держа ковш в руке, она начала по кругу обходить колодец по солнцу и, когда обошла полностью, вылила остатки воды из ковша обратно в колодец.
– А-вой-вой! А-вой-вой! Заволновались, закачали головами карелы!
– Yksi
[155] – отсчитала старушка громким голосом и вновь набрала воды из ведра.
– Дикость! Темнота!
– Тихо, ты, Федька!
Старушка снова, как и в первый раз, плеснула воду на землю, снова обошла колодец по солнцу и вылила воду обратно в сруб.
– Kaksi!
[156]
Чиркнув кресалом, Соймонов прикурил трубку.
– Ядрен! – он выпустил струйку сизого дыма в затянутое сероватыми облаками небо и закашлялся надрывно. Преображенцы позади насмешливо крякнули: – Ядрен!
– Kolme!
[157]
– Места хороши здесь у вас, Михайло Федорович – красивые. Да все как-то по-иному, чем у нас. Даже небо иное – бледное.
Воевода не ответил. А старушка все также зачерпывала ковшиком воду, плескала на землю, делала круг, выплескивала остаток воды в колодец.
– Kuuzitostu!
[158]
– Да сколько же она так кружить будет? – все уже как-то заскучали и начали переговариваться друг с другом.
– Не пойму я пока сего греческого действа, – произнес Соймонов. – Ты человек местный, Ларион, может, просветишь?
– Yheksätostu!
[159]
– Кажись, понял, – мрачный воевода кивнул головой. – Говорила она, что жизни государю по часам жить осталось двадцать три. Два минуло. Значит, двадцать один. Вот сейчас и увидим, скоро должна закончить.
Старушка уже шла как пьяная, шатким, неуверенным шагом, держа ковш обеими руками. Мир сузился для нее до этого маленького круга, в центре которого чернел, внушающий страх и смятение, колодец.
– kaksikymmen!
[160]
– Слава богу! – насмешливо заметил Соймонов. – Заканчивается наша комедия!
Старушка вылила в ковш остаток воды из ведра. Снова отплеснула на землю половину содержимого. Лицо ее, бесцветное от старости, еще больше побелело, а губы сжались в две посиневшие нитки. Она дышала часто, как затравленный олень.
– Товсь, ребята! Ружжа на плечо!
Следуя команде сержанта, преображенцы лениво забросили мушкеты на спину. Карелы переговаривались меж собой, с любопытством поглядывая на невиданных солдат-великанов.
– Ах!
Легкий холодок пробежал по спинам у всех, потому что было в этом кратком вскрике предчувствие страшного, никому
непонятного отчаяния. Старая Илма, пройдя половину круга, поскользнулась и упала, выронив ковш из рук. Он покатился, перевернувшись несколько раз, по пожухлой траве, выплескивая остатки воды.
– Бабушка! – вскрикнул дико воевода, срываясь с места. – Бабушка!
Соймонов, бросив трубку на землю, кинулся за ним. Карелы, отец и сын, тоже бежали, крича и размахивая руками.
Она некоторое время лежала ничком неподвижно, будто мертвая. Затем тело ее задергалось в нечеловеческом, пугающем рыдании, так только мать может рыдать о потере своего ребенка.
– Ааа-вой-вой! А-аа!
Ее обступили, не смея прикоснуться к ней, со страхом и вопросительно посматривая друг на друга: что делать-то? Илма все выла, как волчица, затем хрипло запричитала, быстро выговаривая слова, понятные только карелам и воеводе, но тот стоял с пустыми глазами, бессильно опустив медвежьи свои руки-лапы, осознавая только лишь, что все пропало.
– Ai, urai olen, vahnu urai! Kolme askeldu en astunuh, kolme lainovustu en kandanuh! Surmu ryydäy, surmu ryydäy! Seizou tsuarin pertin kynnyksellyö, kirčistelöy, irvistelöy! Nygöy minun käit ollah tyhjät, pidäy mado tavata, upottua. Gor’ua minule!
[161]
– Пошли, ребята! – первый вздохнул грустно сержант. – Что ее, старую, стеречь! Девчонка малая у ней. Догонит…
Солдаты неторопливым шагом гуськом побрели через луг к спуску на берег, изредка оглядываясь назад. Мичман Соймонов сочувственно хлопнул воеводу по плечу, и, вспомнив, что бросил трубку недокуренной, заспешил на место, где они стояли. Потом, найдя ее, он потоптался на месте в раздумье и последовал за преображенцами. Ушли в дом и карелы, прихватив ненужное уже ведро с ковшиком.
Старушка уже выплакала свое горе, но тело ее, порой, подергивалось как в конвульсиях. Воевода присел на корточки рядом с ней.
– Ehma, buabo… Älä itke. Midäbo ruadua, vikse nenga Jumal ajatteli
[162]. – он погладил её по голове своей огромной рукой, как ласкают котёнка, утешая, и вздохнул. – Läkkä laivah. Pikkaraine sie sinuu vuottau. Eliä pidäy, pidäy eliä! Kodih vien…
[163]
Рыжий подхватил старушку под мышки и помог подняться. Она вытирала слезы:
– Nygöi tsuari kuolou
[164].
– Olgah!
[165] – досадливо махнул рукой рыжий. – Kaikin kuoltah!
[166]
Он сделал несколько шагов за удаляющимся Соймоновым, но, повернувшись, вдруг по-детски улыбнулся.
– Žiäli! Nengomii tsuariloi vie ei olluh. Kirvehel hyvin maltau!
[167] – Он потёр лоб. – Elokuus myö hänenke minulluo posadas äijän bruagua joimmo. Meijän torguostos mužikoinke. Sit ruvettih borčuičemah – vägevy on kehno!
[168]
Воевода отвернулся и вяло зашаркал сапожищами, загребая жухлую траву.
– Думал, сносу ему, государю, не будет!
Затем хлопнул себя по лбу, как будто вспомнив что-то важное, вернулся к колодцу, закрыл крышкой, а сверху на нее положил рубль, тускло отсвечивающий петровским профилем и лавровыми листьями венка. Присмотревшись, по слогам прошептал: «Царь Петр Алексеевич, всея России самодержец».
* * *
Гвардейцы, забравшись в шлюпку, задымили трубками так, что привычные ко всякому дыму матросы на веслах зачихали гаубицами.
– Ну, братцы! – возмутился Соймонов. – От вас клопы и тараканы с корабля сбегут!
Преображенцы хохотнули.
– От нас и швед бежит. А где воевода?
– Да видишь, вона бережком с бабкой.
– Студено. Шел бы скорей!
– А вот, братцы мои, что скажу, – глянул таинственно один из гвардейцев. – Бабка-то не так просто упала! – и, не давая слова сказать никому, вдруг торопливо заговорил: – Я там вам не сказал, думал, все, мож, привиделось. Она ить, как последний раз с ковшиком-то шла… Ааа-а! Я за ней уж следил! Так вот!
Голос преображенца стал таинственным и тихим, так, что и матросы на веслах навострили уши – что за тайна? А тот продолжал.
– Идет она, а тут ей как кто ногу подставил. Я то видел! Она возьми да споткнись. На месте, на ровном. А как мы к ней подошли – я гляжу, а на земле след, как от копыта!
– Ох! – И матросы, и преображенцы с сержантом невольно перекрестились. Соймонов звонко захохотал.
– Ой, не могу!.. Ха-ха! Что же, дуралей, ты сразу не сказал?
– Ты, барин, не смейся, – серьезно ответил ему преображенец. – Я-то хотел. Да слова выговорить не мог, как то увидел. Видать, сатана ей ногу-то и подставил! Ей-богу, он!
Через полчаса о случае с колдовством и дьяволом знали все на корабле и на берегу. Слух начал жить своей жизнью, обрастая новыми подробностями.
Из дневника Отто Грауенфельда
Русская трагедия временами становится диким фарсом. Олонецкий комендант Чеглоков, так его зовут, уговорил командира царской охраны провести языческий обряд для спасения царя. Все это я записываю со слов моего нового знакомого, весьма просвещенного человека, мичмана Соймонова. Он лично присутствовал при этом, неподалеку отсюда, в маленькой деревне. Описывать обряд в дневнике я не буду, для этих курьезных вещей у меня есть особая тетрадь. Но с его слов я понял, что обряд был неудачным, так как знахарка эта, споткнувшись, упала на землю в его конце и пролила воду. Я обнаружил одно укромное место, откуда хорошо слышны разговоры русских матросов с нижней палубы, и, таким образом, имею возможность узнать последние корабельные новости. Русские уверены, что старушке помешала довести дело до конца нечистая сила, и теперь они только об этом и говорят. Надо благодарить за это Бога – про немцев они, хотя бы на время, забыли. Бреннер мне сказал, что в дыхании царя начали прослушиваться хрипы. Он уверен, что это начало агонии…
Глава 9
– Подвела нас наша бабуся! – жаловался Сенявин, иногда бросая на майора Кульбицкого унылый взгляд. – Я уж на нее надеялся!
– Не нас, а тебя, воевода. – Кульбицкий заворочался в кресле бывшего командира корабля. Он перешел жить в каюту Гесслера, подчеркнув, таким образом, что власть на корабле находится в его руках. – Лично я на нее и не рассчитывал. Завтра выпроводи ее отсюда. В полдень, – он коротко хохотнул. – Да полноте горе горевать! Колдуй, не колдуй, все в руках Божьих!
Майор выжидательно посмотрел на Алексия, который сидел за столом сбоку от него.
– Батюшка Алексий, царский лекарь мне доложил, что государь дышит с хрипами. Как он считает, это начало, ну, сами понимаете… Может, не будем откладывать, хмм. Вам, конечно, виднее…
Алексий, бледный, еще не отошедший от ночного приступа, тихонько кивнул.
– Что же… Надеялся я… Однако, как пастырь, должен я позаботиться о спасении души государя. Через час можно будет начинать.
– Ну и отлично! – майор оживленно встал с кресла, потирая руки. – Граббе, теперь, что касаемо вас. Если государя постигнет кончина, не дай того Бог, то вам придется командовать кораблем.
– О, иа! Это есть мой толк! – с готовностью откликнулся присутствующий здесь же немец.
– Сразу же отплывем в Петербург. Жуткие дебри! В баньку бы сходить! – он мечтательно почесал затылок. – Ан, нельзя! Все служба государева.
За дверями послышались взволнованные голоса, топот ног. В дверь стукнули дважды.
– Ну, кто там еще? – крикнул Кульбицкий. – Сержант!
Круглая румяная физиономия сержанта показалась в дверях.
– Я… это, господин майор! Бабушка до вас очень просится, прямо бросается. Кричит непонятно!
Благодушный непонятно с чего майор милостливо махнул рукой.
– Ладно. Пусти.
Алексий опустил голову. Старая Илма вошла не одна, ведя за руку девочку лет шести, испуганно смотревшую на окружающих.
– Сержант! Дай ей стул! – приказал Кульбицкий. Сержант проворно поднес свободный стул и вытянулся в ожидании дальнейших приказаний.
– Ступай. Больше не нужен, – махнул ему рукой в сторону двери майор. – Да караульного у часов смени.
Сержант вышел.
– Спроси, воевода, что ей нужно еще? – обратился Кульбицкий к Сенявину. Видимо, поняв кто здесь начальник, старуха неожиданно бросилась перед ним на колени, быстро выговаривая непонятные слова. Девочка, вцепившись в плечи старухи, заплакала.
– Что? Что это она? – закричал Кульбицкий.
– Она говорит, что корабль нужно развернуть, – перевел ее слова Сенявин.
– С ума сошла совсем, старая, а, воевода? – изумился майор. – Корабль разворачивать… Зачем?
– Я так понимаю, – продолжил речь рыжий. – Бабушка Илма говорит, что полкруга не дошла и потому и ворожбу свою до конца не довела. Часы, ить, расколдовать хотела. Полчаса еще надо откружить. Как это? Теперь мир надо повернуть на полкруга. По стрелке, по часовой. Не понимаю я, майор! – воевода развел руками и замолк, хотя старушка еще говорила.
– Дурью мается! – покрасневший от гнева Кульбицкий вскочил с капитанского кресла. – Да ты знаешь, что с меня кнутом шкуру сдерут, коль ведомо станет, что я ворожей да колдуний на корабль пустил! Да еще, получается, их воровству пособлял?
Он подскочил к воеводе, цыкнув на заревевшую во весь голос девочку.
– А, Сенявин? Ты ее привел! Тебе отвечать! – и, повернувшись к старухе, выкрикнул гневно: – Вон отсюда! Вон!
Старуха заплакала, видимо, поняв, что ей отказывают. Плакала она беззвучно, только слезы текли по морщинистым впалым щекам.
– Ну а что делать-то, камерад? – вяло произнес, не глядя на майора, воевода. – Умрет царь-то.
– Да он и так умрет! – отходя от гнева, почти брезгливо произнес Кульбицкий. – А ты бесовщину разводишь, Бога гневаешь. Уж не язычник ли ты, воевода? Совсем одичал в дебрях карельских! Вон тебе и батюшка скажет!
Алексий встал. Чувство, однажды посетившее его давным-давно, чувство, что Бог ждет от него святой неправоты, вновь осенило и не отпускало больше. Он неожиданно улыбнулся и, оглянувшись, увидел, что все смотрят на него и как будто ждут от него чуда, и он в силах подарить это чудо, потому что в сердце его есть вера, которая может сдвинуть гору. Старуха перестала плакать, смолкла и девочка, которая смотрела на него теперь изумленными голубыми с молоком, такими знакомыми глазами.
– Благословляю вас, начальствующих, именем Христовым поступить по сему, как сия женщина говорит. Не будет на том вины, кто согрешит во спасение ближнего своего. Да и греха в том я не вижу.
Широкая физиономия рыжего расплылась в детской улыбке. Граббе – сухарь сухарный Граббе, – открыв рот от изумления, издавал из своего кресла неясные икающие звуки. Кульбицкий совершенно успокоился и выстукивал длинными пальцами своими на столешнице барабанную дробь. Он улыбнулся.
– Ну, батюшка, вот такого я не жда-а-л!
Алексий не слышал его. Он смотрел на старую женщину, стоящую на коленях, она смотрела на него, и сквозь седину и морщины, что за прошедшие полвека изменили их облик, постепенно опознавали и вспомнили друг друга юными, почти еще мальчиком и девочкой, которых кружевница-судьба свела когда-то под августовскими звездами на разбойничьем острове.
– Батюшка, она же ворожея… По-христиански ли будет это?
Слова долетели до Алексия глухо, будто издали.
– Я знаю эту женщину. Нет зла в ней. Более она христианка, чем многие иные, себя христианами мнящие.
– Ilma, nouze!
[169] – перешел он внезапно на карельский язык. – Kai rodieu sinun myöte, kui sinä tahtot. Mengiä
[170].
И осенил их крестом, благословляя. Рыжий улыбался. Майор улыбался. Совершенно сбитый с толку Граббе пучил глаза, пытаясь понять, что здесь происходит.
– Пойду и я отдохну. Соборовать еще рано. Верую в чудо господне!
Он глянул на Сенявина, и тот, поняв, что Алексий хочет сказать ему нечто в тайне, откашлялся.
– Гм, гм, и я пойду, продышусь.
Поднявшись на верхнюю палубу, они отошли к борту.
– Сыне Илларион! – обратился к воеводе Алексий. – О суетном прошу, да и без того в жизни нельзя. Нужно мне вещицу одну из монастыря привезти. Коли сможешь, то, кроме молитвы за тебя, в награду мне и дать нечего, а коль откажешься, то в вину сие тебе не зачту – дел у тебя и здесь хватает. Ан мне просить боле и некого.
– Батюшка, что ты! В два часа обернусь! Говори! Еще и благодарен тебе буду, – загудел Сенявин.
– Ну, коль так, – вздохнул Алексий. – В монастыре…
Через десять минут Сенявин уже несся по узенькой лесной тропинке на своем застоявшемся коньке, рукой заслоняясь от хлещущих его по лицу веток.
* * *
Граббе циркулем вышагивал по мостику, выпятив грудь. Вестовые, получив приказание, отскакивали от него как горох, и со всех ног бежали передать свое поручение подчиненным.
– На мостик этофо, как еко, лотеманн Матфей!
– Фсе матрозен перепрафить на корапль! Зольдатен пока остафить перек!
– Самерить глюбина по фся ширина реки!
Воевода, глыбой застывший с ним рядом, наставительно гудел.
– Непременно здеся надо разворачиваться! Так бабушка толкует. Иначе без пользы. Скорее бы надо, уж за полдень!
И смотрел тоскливо в синее небо, как волк на луну. Граббе брезгливо щурился на советчика, чувствуя себя без четверти часа капитаном. Подбегали с докладами офицеры, вытягивались в струнку перед новым командиром.
– Господин капитан-лейтенант, вот данные промеров дна!
– Экипаж полностью переправлен на «Ингерманланд»! Абордажная команда находится на берегу!
– К подъему якорей готовы!
Подошел сонный, зевая еще, лоцман, настороженно посматривая на незнакомого ему рыжего.
– Отплываем?
Граббе накинулся на человека с мухоморовой шляпой серым ястребом.
– Турак! Я фижу по карта клюпин, што ми не мошем здесь пофернуть корапль! Ты фел корапль! Зачем просаль якорь генау здесь!
– Здесь деревня с дорогой. Думали царя везти по дорожке! – Матти в волнении тоже заговорил с акцентом. – А развернуть кораппль этто просто…
– Как именно? – кипятился немец.
– Если поттнять якоря, то нас течением понесет к озеру. Через полверсты река расширяется. Там можно бросить якорь с кормы, и нас развернет.
– Я полючиль приказ телать пофорот здесь! Я толшен фыполнить приказ!
Матти закручинился.
– Здесь нельзя. Руль поломаем. Бушприт за берег зацепится.
– Тойфель! – ругнулся Граббе и вестовому: – Посфать Соймоноф!
Явился свежевыбритый, сияющий Соймонов, подмигнул весело рыжему, снял треуголку.
– По вашему приказу, господин капитан-лейтенант!
Немец вздохнул.
– Нато расфернуть корапль. Фот карта клюпин…
– Невозможно, – коротко глянул мичман на бумагу с промерами. – Сломаем руль. Сломаем бушприт.
– Но как пыть! – возмутился Граббе. – Это приказ!
Соймонов потер лоб рукой.
– Сейчас… Хмм. Так-так. Ага! – он заговорил уже серьезно. – Дабы не сломать руль, надо принайтовать корпус корабля так, чтобы течением речным его разворачивало как стрелку часов на оси. Но рассчитать радиус непременно. За ось вобьем в дно реки добрый пучок свай – лес есть. Принайтуемся к сваям бизенью, по самому низу – должно выдержать. Течение слабое. Бушприт разобрать…
– Нейн! – замахал руками Граббе. – Я не расрешай распирать ни-тше-го!
– Тогда на берегу все деревья срубить придется! – Соймонов прищурился, примеряясь. – Даже того более, копать.
Он задумался на минуту над картой промеров и констатировал: да и то без пользы – слишком мелко, нос корабля застрянет.
Немец одобрительно похлопал его плечу.
– Колофа рапотайт карошо! Я поручайт фам расфорот. До морген – утро.
– Слушаюсь! – поморщившись от неожиданно выпавшего ему сомнительного жребия, откликнулся Соймонов. – Ежели даже земля вертится, то уж «Ингерманланд» тоже развернем!
– Федя, ты вот что, – поглядывая на спину удаляющегося Граббе, загудел Сенявин. – Поспешать нам надо. Не станет царя – и твоей фортуне конец, и моему комендантству, может, тож.
– Эх, медвежан ты, медвежан! Знать, веришь в бабкины сказки? – рассмеялся Соймонов. – Эй, вестовой! Переправься, брат, на берег, передай майору Лядскому приказ сосен с шесть порубить да на части поделить, саженей по пять. Доставить на борт. Дале поглядим.
Соймонов вдруг ожесточился. Ему вспомнились года, что он провел в Голландии, где он с другими «ребятами» осваивал морскую науку. Вспомнились кровавые мозоли на породистых руках от работы топором на верфи, скакание белкой по мачтам, ползанье змеем по трюмам. Вспомнился экзамен, который он с прочими держал перед царем по возвращению в Россию. Экзамен из 48 человек сдали лишь 17, включая его самого. Затем «Ингерманланд» – паруса, штормы, походы, дым пороховой. Затем знаменательный разговор с государем о задуманной тем составлением атласа Империи Российской. Тогда Петр и сказал ему ждать указа из Сената о командировке на море Каспийское. Теперь царь умирает, и надежды на его выздоровление нет. Потом начнется великая замятня, когда будет делиться власть и плестись интриги. Дай Бог, чтобы обошлось без крови. Дела Петра прахом пойдут. Указа сенатского не будет, и на Каспий он, Соймонов, не поедет.
Мичман с тоской глянул на бурые стволы сосен, обступившие реку, бледнеющее к вечеру, уже совсем зимнее, небо, обморочно повисшее на флагштоке полотнище андреевского флага.
– Тьфу! – он сплюнул себе под ноги, совсем позабыв за своими думами об окружающих, а затем, опомнившись, смущенно развел руками.
– Подвел меня под монастырь хитрый немец!
Он еще раз взглянул деловитым уже глазом на листок с промерами.
– Ты, воеводушка, всерьез ли веришь, что государь выживет, коль корабль развернем?
Рыжий недоумевающе почесал одним пальцем затылок и вздохнул.
– Так ить, Федя, я чего? Бабушке верю, она ворожбу ведает. Многих на ноги подняла. Видел я, как она вблиз государя нечисть почуяла. Ты, коль видел бы, поверил! Батюшко Алексий, вот, тоже верит, – он махнул рукой. – А наше дело на Бога надеяться да дело делать.
– Дело делать… – грустно вздохнул мичман. – Тогда слушай, воевода, меня, что скажу: бабкам не верю. Математике, науке геометрической верю. Корабль не получается развернуть. Берег копать надо в любом случае, дно углублять. Инструмента шанцевого у нас нет. А времени мало – сам говоришь. Вечер да ночь остались.
– Да что же ты, Федька, мне сразу не сказал? – рявкнул воевода.
Соймонов оторопело выпучил глаза, собираясь с ответом, а красные сапоги воеводские уже торопливо стучали по дубовому настилу палубы к лестнице, на плот с дежурной шлюпкой.
– Эй, молодцы, весла готовь!
Выскочив из шлюпки на причал, он, неуклюже цепляясь за корни и мох, вскарабкался на берег. Солдаты абордажной команды с любопытством смотрели на него.
– Зачастил к нам в гости медвежан!
Но воевода был серьезен. Он торопливо подошел к пню, где поутру отплясывал камаринского коротконогий солдат, вскочил на него и по-разбойничьи, с эхом на весь лес свистнул.
– Эй, ребяты, ступайте до меня. Что-то скажу!
Со всех сторон лениво потянулись, притворно ворча.
– Ишь, енерал какой! Морда да повадки-то разбойничьи! А командует!
– Что надо, дядя? У нас свой командир есть – майор Лядский.
– Аль к нам воеводой, медвежан?
– Тихо! – поднял руку Сенявин. – Ребята, слушай что скажу. Таить не буду – царь плох, Петр Лексеич, то ись…
Все разом смолкли, заглядываясь на воеводу, кто с любопытством, а кто с тревогой. А он продолжал.
– Мы, вроде, люди подневольные, пусть лямка у всех разная: у вас солдатская, у меня комендацкая, ну, воеводская, по-старому. Ребяты! – Сенявин раскраснелся и от волнения мгновенно вспотел. – Жизнь наша тяжкая, правда это. Война вот со свеями. Подати такие, что хоть свою шкуру снимай. Труды бессчетные… А с другой стороны подумать, а что делать-то? Война та уж двадцать лет почитай как. Я с ней состариться успел. Но теперь свей землю олонецкую не разоряет, как еще при батюшке с дедом моими было. Сами вы в Стекольное царство
[171] плавали, стекла били. А умрет Петр Лексеич… Все прахом пойдет. Не было такого царя на Руси, да и в других землях тож. Флот, вот, построил – сам топором как добрый плотник работает. Бояр дубиной лупит, а с нами прост. Бражничали мы с ним, государем, по весне…
В толпе оглядывались, шептались недоумевающе. Затем, разведя стоявших впереди руками, выступил вперед коренастый, с прыщами на лице сержант.
– Что-то я не пойму, к чему речь твоя, воевода? Так все верно говоришь, – прыщавый закрутил головой, ожидая поддержки окружающих. – Ближе к делу давай!
– Государя спасать надо…
Сразу как плотину прорвало.
– Сами бы рады!
– Верно, он один такой! Всю войну рядом с нами!
– Да как его спасать? Лекаря мы, что ли?
– Темно сказал.
– А вот сейчас я попытаю! – работая локтями, сквозь толпу пробивался седой солдат в мундире Лефортовского полка. – Правду ли толкуют, что бабке, которая государя исцелить хотела, нечистый ножку подставил? Знать, околдовал кто-то царя!
Седой встал рядом с сержантом, пристально глядя прямо в глаза Сенявину, и тот ощутил себя маленьким и беспомощным, бессильным найти нужные слова, чтобы подвигнуть этих людей на непонятную затею. «А черт с ним, пусть нечистый будет! Раз верят, так, значит, и быть по сему!» – подумал он и поднял руку.
– Хотела бабушка та государя исцелить. Сила в ней большая. Она мне сына недавно спасла. Верю я ей. – Сенявин пробежал взглядом по колючим глазам толпы и опустил голову. – А насчет нечистого скажу так: похоже на то. Видел сам. Ей, старой, полкруга пройти осталось, а тут она возьми да запнись на ровном месте. Похоже, без нечисти не обошлось…
– Ясно. Что нам делать? Говори, воевода, – в тишине раздался голос седого.
– Я и говорю, – Сенявин таинственно понизил голос. – Корабль ваш развернуть надо. Бабушка так и говорит, мол, коль полкруга пройти не смогла, так надо мир повернуть, корабль, то есть. Тогда и чары колдовские рассыплются. И государь выздоровеет, – он улыбнулся по-детски беззаботно. – Тогда и войне скоро конец, и России слава! Да и подумать, вам все равно в Петербург надо вертаться, а раком ведь туда не поплывете.
Голос воеводы налился обычной уверенностью, в нем засквозили металлические командирские ли, атаманские ли нотки.
– Теперь, ребята, за дело: дерева, что вы порубили, флотские сейчас во дно вобьют, сваю сделают и к оной привяжутся. Ну, совсем будет корабелюшка, как стрелка часовая на оси. Потом воротить корабль начнут. А он велик зело. Надо нам все дерева здесь, напротив его, вырубить, да и земли изрядно из берега вынуть. Инструмента у вас шанцевого нет, так я сейчас на скоте моем проедусь до деревень ближних, выберу там, что есть. А вы, с божьей помощью, начинайте. Времени мало, ребята. Бабушка говорит, что если сего не делать, то завтра поутру помрет Петр Алексеич. Нельзя нам того допустить!
Уже отвязывая своего конька, что на привязи ожидал своего хозяина за новой баней, Ларион видел, как деловитые сержанты ведут людей к берегу, указывая им будущие места работы. Сумерки, серые, ранние сумерки падали на землю, и лес сразу же плотней обступил вырванный у него людьми кусок земли. Успеют ли люди?
Вволю напарившись в новой бане, майор Лядский выглянул из дверей и немало изумился, увидев своих людей копающимися на берегу. Драли руками деревца и мох, копали торф палками, рубили его топорами и, добравшись до земли, таскали ее подальше от берега чуть не горстями. Костры пылали.
– Что такое? Кто приказал? – спросил он осторожно у проходящего неподалеку солдата, про себя предположив, что, вероятно, царь умер. Солдат блеснул в темноте шальными глазами.
– Так это… корабелюшко наш поворачиваем, значит, государя спасаем, – и больше ничего не объясняя, пошел дальше.
– Господе Иисусе! – прошептал обескураженный увиденным майор и решил попариться еще с часок, не вмешиваясь в неведомые ему события.
На борту корабля, тем временем, полным ходом шла чехарда, и вся верхняя палуба гомонила чуть ли не на пяти языках. Но ругань шла на русском наречии исключительно. Матросы на шлюпках отбуксировывали по одному бревну, заостренному с тонкого конца к кораблю. Конец буксировочного каната подавали на верхнюю палубу, и затем под «раз, два взяли!» три десятка самых дюжих моряков начинали выбирать канат наверх, в заранее выбранном самим Соймоновым месте. Бревно вставало вертикально, и тогда его начинали понемногу отпускать назад, придерживая так, пока заостренный конец не втыкался в дно. С наспех сбитых козлов корабельные кузнецы тяжеленными кувалдами вбивали бревно насколько возможно. Щепа летела, но свая постепенно входила в глинистое дно Олонки, затем другая, третья. Соймонов в азарте стал сам на себя не похож. Сам бегал, размахивал в горячке руками, тянул. Темнота пала на корабль, и он приказал зажечь все фонари. Но основное было сделано: бревна, вколоченные в глинистое дно, образовали надежную сваю, вершина которой торчала чуть выше корабельных бортов. Ловкие матросы уже привязались к ней и бизань мачте толстенным канатом в несколько оборотов восьмеркой. Топот стоял на мокрой палубе.
– Уааа! Ааа-а-а! Рраа-а! – вдруг рявкнуло с берега так, что все оторопели. Недоумевающий Соймонов заторопился на мостик, где при бледном свете фонарей маячил флегматичный Матти под мухоморовой шляпой.
– Что там такое? – Но Матти, вглядывающийся в темноту берега, освещаемую горящими на нем кострами, в свете которых мельтешили фигуры солдат, лишь пожал плечами. Тогда мичман, сложив рупором руки, рявкнул: «Эй, на берегу! Что случилось?»
– Так медвежан лопаты привез! – ответил кто-то под одобрительный смех.
– Ясно! – сам себе произнес Соймонов. И уже к своим, на палубе людям: – Ребята, тащи от носа корабельного по канату на оба берега! С левого борта крепить к доброй сосне футов тридцать вперед от клюза. С правого крепить по срезу кормы!»
И улыбнулся топоту ног молодцов-матросов и четкости указаний совсем по-боевому исполняемого приказа.
– Федя, сколько копать надо? – раздался с берега воеводский бас. – С такими молодцами я тебе канал до Питербурха выкопаю!
– Не могу того знать, господин олонецкий комендантус! – рассмеялся мичман, вглядываясь в проплывающую мимо борта шлюпку, волочащую к берегу канат, который несколько матросов под руководством боцмана через клюз подавали с палубы корабля. – Experientia est optima magistra!
[172] Сейчас корабль ворочать начнем – увидим!
На берегу при свете костров работа шла споро. Люди, сами собой, разделились на три партии, и когда первая партия около шестидесяти человек работала, то две другие отдыхали. Потом, через полчаса, партии менялись. Двадцать восемь человек, выстроившись рядом, яростно вкапывались в крутой, уже с содранным торфом, берег. После торфа, корнями пронизанного, шел мелкий, серый песок с линзами глины. Копать его было легко, и от людей с лопатами только знай и отскакивали их товарищи, относящие в подолах рубах землю подальше от места работы. Под ногами хлюпала бурая торфяная жижа, ноги быстро уходили в нее по щиколотку. Через некоторое время стали бросать под ноги большие еловые ветви – это немного помогало. По краям копа воткнули факелы, и эта странное копошение десятков людей в рваном лопатами берегу черной лесной реки сразу стало похожим на какую-то чудную сказку. В свете костров отсвечивали горделивые изящные борта «Ингерманланда» с празднично сияющими при свете фонарей мачтами и такелажем. И порой тот или другой солдат, вытирая пот, завистливыми глазами косился на смутные фигуры людей на борту корабля и произносил: «Ишь!» Дальше лопата снова с шорохом врезалась в песок, наполнялся подол рубахи товарища – так минута шла за минутой, час за часом.
– Поддай, робята! Поддай! – за спинами солдат у самой воды, чавкая по грязи бывшими когда-то красными сапогами, подбадривал людей воевода Сенявин.
– Флотские, гляди, ужо веревки с корабля растянули. Видать, вскоре ворочаться начнут. Успеть бы нам!
– Якоря поднять! – с корабля, как будто в ответ воеводе, послышался звонкий голос Соймонова, и сейчас же якорные цепи весело задребезжали, увлекаемые брашпилями вверх через клюзы. «Ингерманланд» чуть вздрогнул, будто чуя приближающийся миг свободы, колыхнулся было, расталкивая мелкую рябь с едва заметной коростой льда, но крепко принайтованный своей бизанью к свае обреченно затих. – Якоря до конца не поднимать! Цепь с брашпиля снять! Концы канатов закрепить на брашпиля!
– Умен флотской! – негромко произнес тот самый седой солдат, что говорил недавно с Сенявиным и воткнул лопату в чавкнувшую жижу под ноги. – Гляди, как частит!
Все обернулись к кораблю, оставив работу.
– Федя! Уж час который? – загудел воевода в сторону корабля. – Вкопались изрядно!
– Десять! Одиннадцатый пошел! – откликнулся с мостика мичман. – Левый отдавать, правый принимать! Пошёл! К черному, затянутому тучами осеннему небу полетело это «Пошёл!» и, отдавшись эхом, заглохло в шорохе воды и хвое деревьев. Оба брашпиля заклокотали. Канат с другого борта не был виден солдатам и воеводе, а этот, до сих пор лениво лежащий в воде, стал натягиваться и выпрямляться, закрепленный с одной стороны за основание огромной старой сосны на берегу, увлекаемый брашпилем с другой. Заскрипев дубовым бортом о бревна тесно прижавшейся к нему сваи, «Ингерманланд» колыхнулся и начал медленно поворачиваться на месте как гигантская стрелка часов. Никто не видел при мутном свете фонарей, как побурел от волнения мичман Соймонов, на котором лежала вся ответственность за исполнение приказа.
– Миша! – обратился он к мичману Березникову, стоящему здесь же, на мостике. – Миша, меряй, дорогой, глубину на корме у руля. Как бы его нам не сломать. По расчетам не должно бы, а вдруг?
Бушприт кончиком шпаги перемещался с черной пустоты реки на черную стену леса все ближе и ближе к рваной ране берега, где толпились замершие в ожидании солдаты абордажной команды.
– Господи, помоги мне грешному! – едва успел прошептать Соймонов, как с берега рявкнул воеводский басок.
– Тпруууу! Стой, Федя! Бушприт! Еще с пол сажени копать! Сломишь!
– Левым брашпилем принимать! Правым отдавать! – с отчаяньем в сердце скомандовал Соймонов.
С первого раза не получилось. И не стоило ждать, что получится. Он заметил, что руки от волнения дрожат.
– Руль в грунте сидит. Но, по всей видимости, дно глинистое. Сидит самым кончиком, ерунда. На камне, пожалуй, сломали бы, – отрапортовался вернувшийся на мостик Березников.
– Ну, хоть это… – выдохнул Соймонов и посетовал: – Вот же чертов немец! Сидит в тепле или уже сны видит, а тут! Беги, Миша, на нос. Вели брашпилям стоять.
Из дневника Отто Грауенфельда
Дневное театральное действо перетекло в ночное. Как мне передать все безумие того, чему я был свидетелем. Далеко за пределами цивилизованного мира, на реке, затерявшейся среди лесной чащи, под черным от ночных туч небом стоит великолепный (не боюсь этого комплимента) корабль. На его борту умирающий царь, среди офицеров заговор (Смешно!) За жизнь царя борются всеми методами врач, один из самых известных знатоков своего дела, и темная безграмотная знахарка, так что в это втянуты все присутствующие. Это просто шекспировская трагедия! Я спросил моего приятеля Соймонова, что происходит. Тот мне пояснил, что надо, по мнению этой старой женщины-колдуньи, развернуть на месте корабль. В таком случае, как она считает, царь выздоровеет. Ждем смерти царя в любую минуту. Бреннер говорит максимум о нескольких часах. Русский поп, однако же, не хочет соборовать своего государя – он надеется на чудо. Здесь духовные лица такие же язычники, как и сами туземцы. Да, о корабле. Развернуть его не позволяет глубина и ширина реки, и поэтому русские копают берег.
Глава 10
Русские копали. Чадили костры на берегу, трещали факелы, прибрежный песок и борта корабля потихоньку обрастали корочкой льда, но люди давно уж поскидывали рубахи, и от разгоряченных страшным трудом тел валил пар. Выемка на берегу все увеличивалась и подкопанные верхние слои песка с глухим тяжелым шорохом обрушивались вниз, где на них накидывались люди и лопатами и просто голыми руками метали в подставляемые подолы рубах. Дыхание хрипло.
– Давай, робята! Давай! – подбадривал людей Сенявин и порой сам хватал у того или другого лопату, яростно скалывал глыбы плотного песка.
– Эвона, воевода! – развлекал его седой солдат, так и не позволивший сменить его ни разу. – Вота, помню я, как под Полтавою редуты копали. Жара стояла! А земля там – чистый чернозем! Савва Васильич Айгустов
[173], бригадир
[174] наш, все нас пинал: копай, мол! Больше накопаешь – живее будешь. Ан ведь и заправду так! Первые два редута, кои недостроенные были, свеи взяли. Всех пленных покололи, сволочи! А наш – шишь! По правде, мнил я, что и нам хана! Ан нет. Когда дело закончилось, смотрю, все поле синими мундирами посыпано. Удержались мы. Хвалил нас Петр Алексеич зело.
Седой замолчал и с ожесточением воткнул лопату в песок.
– Ну, брат! – гукнул одобрительно Сенявин седому. – Иерой, знать, ты полтавский!
– Не. Повезло просто. Вкопаться успели.
– Правым брашпилем выбирать, левым отдавать! – раздалось от огоньков фонарных на «Ингерманланде».
– Федя! Какой час нынче? – воевода зачерпнул воды пригоршней из реки и плеснул на потное лицо, фыркнув по-лошадиному.
– Час без малого! – ответил с мостика звонкий голос. – Смотри там!
– Час, – вздохнул Сенявин. – Значит, еще часов восемь… С факелом в руке забравшись наверх и подойдя к краю раскопа, воевода с замиранием сердца смотрел на медленно приближающийся к берегу нос корабля. Бушприт явно должен пройти.
– Федя! Должон пройти бушприт! Ура!
Усталые солдаты оживленно загомонили, втыкая в жижу лопаты.
– Идет! Идет, Фе…
Он не договорил. В этот миг корабль неожиданно прервал разворот, днищем носовой части наткнувшись на дно так, что матросы почувствовали толчок, и палуба чуть накренилась. Крик раздался. Бизань-мачта качнулась. Фонари метнули свет туда-сюда.
– Левым брашпилем выбирать, правым отдавать! Скорей, черти!
– Стой! Стой! – закричали на берегу. – На мель сели!
Соймонов метался по мостику, как тигр в клетке. Канат, выбираемый левым брашпилем, от натяжения гудел как струна. «Ингерманланд», однако же, крепко зарывшийся носовой частью киля в дно, не трогался с места. На мостике началось ночное паломничество. Первым, неизвестно кто ему донес о несчастье, пришел сонный Граббе. Он тупо посмотрел на такой близкий берег, бушприт, тычащий в дебри лесные, костры на берегу, хмыкнул и воткнул руки в бока.
– Готт мейн, Соймонофф! Что фы натвориль! Посатиль на мель флагман! Это ест посор! Я натеялься на фас!
Ругался Граббе мало и сонно. Хмыкнув досадно от произошедшего, еще раз назидательно добавил:
– Я отдаль прикас фам. То утро фсе тольшно пыть карашо. Натеюсь на фаш голова.
И, вяло переставляя ноги, удалился досматривать свои сны. За спиною Соймонова хихикал мичман Березников. Тому было весело. Не прошло и пяти минут, как на мостик поднялся такой же сонный как и Граббе, майор Кульбицкий. Уяснив, в чем дело, он сразу проснулся.
– Что делать собираетесь? – внешне безразлично, но с какими-то странными нотками в голосе спросил он Соймонова. Тот фыркнул рассерженно.
– Ваше ли дело лезть в морские дела, господин майор? Сам разберусь.
– Ну, прямо скажем, дела не морские, а речные, сами видите, – парировал с ехидцей майор. – Мое дело маленькое – государя персону охранять. Ерунда. Мелочи. А что, если она права?
– Вы, господин майор, о чем? – рассеянно поинтересовался Соймонов, про себя продумывая меры для спасения корабля. – Не понимаю вас.
– Я о старушке этой. Она утверждает, что если корабль развернуть, то государь выздоровеет.
– Чушь! Ерунда! – отмахнулся от него мичман.
– Чушь?! – майор, по-тигриному подскочив, вцепился крепко в ворот плаща Соймонова и тихонько выговаривал: – Чушь? Государь умрет, а мне тогда в приказ Преображенский доставлять Гесслера и приятеля твоего – Ртищева. А так как показания против них основываются на речах ведьминых, то и ее туда поволокут, вместе с воеводой олонецким. А ведь правду она сказала, что болен почками государь. Откуда знала? А коль так, то может, и права, что развернуть корабль надо было. А? Ааа, мичман? А ты корабль на мель посадил, след, государя погубил! Знать, ты тоже тать, и другим потатчик! Я тебя, дурака, от дыбы берегу! Мальчишка!
Кульбицкий оттолкнул от себя онемевшего и красного, с круглыми глазами Соймонова, злобно зыркнул на мичмана Березникова с Матти и сплюнул на палубу.
– Тьфу! До рассвета время твое, мичман, после рассвета за мной Слово и Дело.
[175]Торопись!
Кульбицкий, неслышно ступая, проследовал мимо мертвенно-бледных лоцмана и мичманов, еще раз оглянулся на Соймонова.
– Мальчишка!
Нависло тяжелое молчание, затем разговор возобновился в деловом ключе.
– Надо бы носовую часть разгрузить колико возможно!
– Сперва метку поставить, в каком месте вязнем.
– Копать надо. А как в воде копать?
– Невозможно исполнить сие, Федя.
От носа топал уже к мостику, оставляя на палубе грязный торфяной след, Сенявин.
– Худо дело, Федя! – без околичностей начал он. – Люди устали. Ужо семь часов копали, как черти. А теперь вон что. Бушприт вроде как проходит, а киль за дно цепляет. Нать в воду лезть.
– Ничего у нас не получится! – горько улыбнулся Соймонов. – Невозможно тут корабль развернуть! Придется нам одно, как лоцман нам и говорил. Коль с мели снимемся, то плыть раком до широкого места, а там и развернуться.
– Ты погодь, Федя! Ты че невесел? – воевода, хитро прищурившись, тронул мичмана за рукав плаща.
– Слово и дело на него поутру будет! – мрачно буркнул мичман Березников. – Да и тебя, медвежан, за компанию на дыбу потащат.
– Да ну вас! Федя, прикажи поставить вина бочку аль две. Увидишь, выкопаем мы твой корабелюшко. Да ведры еще мне надобны. Все, какие есть.
* * *
Солдаты уже без интереса смотрели, как в шлюпку матросы с борта корабля спускали ведра, бочонки и бочки под ухающий бас неутомимого воеводы. На «Ингерманланде» грохот и звон стоял: с носовой части корабля тащили на корму все, что вес имело. С борта шестом промеряли глубину, выясняли место, где была злосчастная мель. Солдаты язвили: «Не все нам копать. Пусть флотским теперь черед!» Указывали пальцем в шлюпку: «Ууу, медвежан плывет со скарбом! Знать в Олонец на ярмарку собрался!» Смеялись.
– Вино, робяты! Вино зелено! – закричал бодро Сенявин, как только шлюпка ткнулась в берег. С гомоном ринулись к ней усталые чумазые солдаты, предвкушая маленький праздник, но воевода осадил жестом руки самых наглых и молвил так:
– Робяты, сделали вы много. Молодца! Только это еще полдела. Теперь, сами видите, корабелюшко наш застрял. А его развернуть до света надо. А сейчас два часа. Значит, – перевел он дух, – осталось часов семь.
– Ты клонишь-то к чему, медвежан? – не выдержал кто-то. – Что же выходит, нам в воду ледяную лезть?
– Нету другого исходу, – посуровел воевода. – Надо так. Я мню, что подолгу в воде нельзя. Как наполнил ведер пять, так и из воды вон. Сразу же чарку вина и в баню греться. Так по очереди.
– Не бывать тому! Это на смертушку нам идить! – прервал его тот же голос. – Сам-то в воду не пойдешь! Других легко посылать! Воеводить да дурить привык!
– Уж больно жгуча вода!
– Не осилить нам!
– Ишь, вином заманивать!
– Пусть флотские лезут! Мы выходит, в чужом пиру похмелье!
– Не пойдут люди в воду! – выступил к Сенявину седой солдат. – Видано ли дело!
Воевода опустил голову.
– И ты не пойдешь, иерой полтавский?
– Ты меня не подцепляй, медвежан! Я-то, мож, и пошел бы, да в полюшке один не воин. Миром надо.
– А это еще кто? – задние поворачивались, оглядывались на медленно шествующего, неизвестно откуда взявшегося человека в монашеской одежде с посохом. Это был отец Алексий. – Батюшка Алексий идет! Вот его спросить, по-христиански ли это? Людей на смерть отправлять?
* * *
– По-всякому бывает, – ответил на повисший молчаливый вопрос солдатской толпы отец Алексий, присев на борт лодки. – Тут каждый сам для себя решает. Христос решил – и за человечков, то есть за меня с вами, на крест и муки пошел. Вы люди воинские, сами знаете, что иной раз караульный смерть принимает да смертью своей товарищей спасает. Даже птаха малая за детишек птенчиков своих на смерть пойти готова. Здесь, вроде как, иное, – Алексий обвел взглядом напряженные грязные лица солдат. – А, вроде, как и нет. Слышали вы, что старушка, Илма, которая на корабле, предрекла государю избавление от болезни, коль корабль развернуть. Кто-то скажет, что это ложь. Я не скажу. Знаю я ее. Воевода тоже знает. Она его дитя вылечила. Кто-то скажет, что это от беса. Но еще и тот же Христос вопрошал: как может нечистая сила исцелять изгнанием силы нечистой? Невозможно сие. А коль так, значит, верю я ей. Значит, надо корабль поворотить. Это тяжело. А каждому решать самому.
– Пусти, отец! – воевода, решительно отодвинув в сторону отца Алексия, выпрыгнул из шлюпки. Он торопливо сдергивал с себя одежду, пока не остался в одних белых исподних штанах. Подумав, надел сапоги. Достав из шлюпки бадейку побольше, он подошел к раскопанному берегу и подобрал оставленную кем-то лопату. Все молчали. Сенявин прочавкал по берегу и вошел в черную воду Олонки, держа в руках бадью и лопату. Войдя по пояс в воду, он крякнул и, обернувшись, рассмеялся:
– Холодна водица!
При свете костров все видели его огромное, заросшее черным волосом тело и улыбающееся круглое лицо над черной водой – как будто в преисподнюю шагнул человек! Через миг он был уже у носа корабля и, ощупав дно, неуклюже копнул вязкий ил, держа лопату одной рукой. Соскреб с лопаты ил и песок в ведро и он снова и снова копал, пока ведро не наполнилось.
– Неудобно! – все услышали слова его. – Одному держать ведро нужно.
Но уже скидывал свой штопаный мундир седой солдат, рыжий сержант уже говорил солдатам своего плутонга: «А и мы не отстанем!» – и стаскивал сапоги. Уже кто-то весело рассмеялся: «Эх, да напьюся я сейчас вина зелена!» Уже солдаты хватали ведра и лопаты и, высоко задирая ноги, шлепали по воде к месту где, из воды торчали шесты, между которыми и надо было копать. И повалили, повалили все. Матросы в лодке хмуро и пристыженно смотрели на солдат, им неловко было перед теми и отцом Алексием, который отошел в сторону и молился за этих, возможно, уже отмеченных смертью людей.
* * *
– Федя, десять орудий перекатили мы с носа в кормовую часть! – деловито докладывал Соймонову начальник артиллеристов поручик Егоров. – Тильгаузен мне сказал, что у него тоже все готово.
Соймонов невольно перекрестился.
– Ну, с Богом! Миша, – обратился он к мичману Березникову. – Всех людей гони на корму!
Он прошелся вокруг заброшенного штурвала.
– Я себя сволочью чувствую. Абордажники с медвежаном в воду полезли дно копать. Пустое! – он взглянул на тонкое, почти девичье лицо поручика. – Ничего не выйдет! А сколько людей загубим?
Он поднял голову и увидел, как в разрывы между облаками выглянул рожок молодого месяца.
– К утру морозу быть, – и уже командирским голосом на нос крикнул: – Левым
брашпилем выбирать, правым отдавать!
Через полминуты они почувствовали легкий толчок. Костры на берегу тихо и плавно под стрекот брашпилей поплыли вправо.
– Левый брашпиль стоп! Правым выбрать помалу! – с облегчением, почти с радостью в голосе крикнул Соймонов.
– Ну, Федя, поздравляю! – хлопнул его по плечу Егоров. – Чистая работа! Гераклюс! Истинный Гераклюс! Такое дело надобно обмыть!
Соймонов его не слушал. Негнущимися, как у цапли, ногами протопал он на нос и заглянул за борт, где барахтались в ледяной воде при свете факелов люди.
– Медвежан! – крикнул мичман. – Ты живой аль нет?
– Я, брат Федюша, тебя переживу! – раздался с берега хрипловатый уже бас воеводы. – Что надо?
– Уводи людей Христа ради, Ларион! Ничего не выйдет!
Многоголосый мат посыпался на голову несчастного мичмана с воды и суши так, что воевода загоготал во весь голос.
– Видал? Федя, сын собачий! Ступай на мостик!
Из дневника Отто Грауенфельда
…Не могу спать. В пять часов утра я вышел на палубу, чтобы узнать последние новости. Новости такие: царь Петр еще жив, но Бреннер уже не применяет по отношению к нему никаких снадобий. Это бесполезно и может лишь ускорить конец. При попытке развернуться наш корабль сел на мель, но мичман Соймонов, которому поручен маневр, сумел снять корабль с оной. Теперь сумасшедшие русские без приказа свыше полезли в ледяную воду и пытаются углубить дно так, чтобы «Ингерманланд» смог развернуться. Я нашел моего приятеля Соймонова крайне подавленным – он не верит в успех. По секрету он мне сказал, что его ждет арест. Это невероятно: здесь сначала отдают заведомо невыполнимый приказ, а затем строго карают за его невыполнение. И все-таки не могу не восхищаться самоотверженностью простых солдат, которым, по словам Бреннера, в большинстве своем грозит гибель. Они, для ускорения дела, подгоняют плот, на который загружают донный грунт, затем плот отгоняют подальше и сбрасывают грунт в реку. Я видел олонецкого коменданта по грудь в ледяной воде с лопатой! Какой Гомер опишет все это!
– Федя, веревку! Веревку надобно!
Олонецкий воевода шел по палубе в подштанниках, прилипших к телу и заляпанных бурой тиной, с накинутым на голое тело красным своим кафтаном. В красных сапогах при каждом шаге хлюпала вода. Соймонов с ужасом заметил, что детина пьян. «Да как же они там работают?» – мелькнул вопрос у него в голове, но воевода почти чудом угадал его.
– Да, вот! Ныряем и пьем! Пьем и ныряем! Почти все готово.
– Зачем тебе веревка, медвежан? – оправился от своего изумления мичман.
– Елка. Елка огромадная на дне лежит! Во дно вросла. Дернуть надобно. Не то корабелюшко не пройдет. – И он неуклюже покачал пальцем. – Елка…
– Это нам веревка нужна! – сорвался в истерический припадок вконец измученный Соймонов. – Мне и тебе! За дурость! За то, что людей угробим! Понял, Ларька! Ступай, скажи людям: все! Пусть греются, отдыхают. Не будем больше дурью маяться. А я… Да я…
Соймонов чуть не заплакал. Воевода, тихий и благостный, сам на себя не похожий, подошел к мичману вплотную и дохнул на того винным перегаром.
– Федя, – сказал он тихо. – Сам ступай, скажи. Ежели я сейчас это им… Разорвут. И меня, и тебя. Люди в раж вошли, понимаешь. Они сейчас и пули не почувствуют. Они светлое впереди видят, а мы… Стыдно, брат. Таки, мы дворяне. Я им такое не скажу. Раньше надо было.
Сенявин повернулся кругом и усталой походкой, оставляя за собой на палубе ошметки тины и песок, побрел назад к шлюпке. Еще он повернулся и, глянув на мичмана, сказал:
– Мы же русские люди, Федя, не немцы чай. А отец Алексий говорит, что претерпевший до конца, спасется!
[176]
– Иди, отыщи поручика Тильгаузена, – обратился подавленный словами воеводы Соймонов к вестовому. – Пусть выдаст бухту веревки. Или из боутманов кого увидишь, то скажи – пусть дадут.
Сенявин, пошатываясь, уже брел на носу, и Соймонов подумал, что он не в силах остановить олонецкого воеводу от того, чтобы тот поберег себя, и, вообще, не в силах изменить ход событий. «Божья воля!» – решил он про себя и тут услышал приближающихся быстрым шагом офицеров – Егорова и Пашкова.
– Гмм! – издали начал Егоров. – Федя, тут такое дело, у меня треть артиллеристов утекло!
– У нас тоже! – поддержал его Пашков. – Десятка с два матросов в нетях!
– Вы чего, господа офицеры! – изумился Соймонов. – Куда они деться могут с корабля? На Дон подались?
– Я полагаю, что они там! – загадочно ухмыльнулся поручик. – Абордажникам помогают.
– Ну, знаете ли! – развел руками Соймонов. – Что прикажете теперь делать?
Он не успел выслушать ответ, как там, за бортом, резкий, хрипловатый голос, видимо, пьяного человека, затянул песню, которую тут же подхватила сотня здоровенных глоток так, что офицеры испуганно посмотрели друг на друга.
Ах вы, гой еси, мои детушки-солдаты!
Вы придумайте мне думушку, пригадайте:
Еще брать ли нам иль нет «Орех-город»?
Что не ярые пчелушки в улье зашумели,
Да что взговорят российские солдаты: —
«Ах ты, гой еси, наш батюшка, государь-царь!
Нам водой к нему плыти – не доплыти.
Нам сухим путем идти – не досягнути.
Мы не будем ли от города отступати,
А будем мы его белой грудью брати».
– Чернь! Хамы! – возмутился поручик Егоров. – Напились до визга свинячего!
– Я дам вам добрый совет, господин поручик, – холодно возразил ему Соймонов. – По дурости ли, по темноте ли, но эти люди сейчас рискуют своей жизнью ради цели недостижимой, химерической! Не леьзте туда сейчас и не ищите никого. Будет день – будет и пища. Погодите с разборками до утра. А еще лучше – забудьте. Здоровей будете.
– Экий ты, Федя, за смутьянов заступник! – злобно блеснул зубами Егоров. – По мне, так пусть все передохнут. Бабы еще нарожают!..
Он не договорил, как за бортом загукали, раздался какой-то непонятный треск и сразу несколько десятков голосов с аккомпанементом вездесущего воеводы рявкнули: «Раз, два взяли! Еще поддай!»
– Да не лайтесь вы тут! – за рукав мундира поручика Егорова ухватился Пашков. – Федя, он хмельной. Внимания не обращай.
Он потащил упирающегося поручика на нос, и офицеры осторожно выглянули из-за борта вниз. На берегу десятка четыре солдат в заляпанном тиной и торфом исподнем с помощью каната вытаскивали из воды на берег огромную елку, упавшую, видно, с подточенного течением реки берега много лет назад. Теперь, лишенную коры и хвои, осклизшую и как будто черным лаком покрытую, тащили ее с безмятежного речного ложа снова на свет божий, где задумчиво наклоняясь над водами, мрачно смотрели на свою мертвую сестру траурные ели.
Егоров сердито сплюнул за борт.
– Черт с ними! Поди, разбери в темноте, кто чей. Сволочи! Пойду, подремлю до утра.
– Вот сие очень правильно! – обрадовался мичман Пашков. – Утро вечера мудреней. Да и не пойму я тебя, Степан, трезвой ты человек как человек, а как выпьешь, так злоба из тебя пеной изливается. Отчего бы сие?
* * *
– Ну, вот и рассветает! – меланхолично прищурился Соймонов на подсвечивающее свежей синевой с брусничными крапинками небо и пыхнул трубочкой.
– Восемь. Девятый час, – подтвердил человек под мухоморовой шляпой, и до Соймонова только сейчас дошло, что Матти, как и он сам, так и не покидал мостика с того момента, когда Граббе поручил ему развернуть «Ингерманланд». «Ну и кремешок!» – уважительно подумал мичман, поглядывая, как финн задумчиво пускает в темно-фиолетовое небо смутные клубы своей трубки. На палубе лишних людей не было, хотя Соймонов знал, что экипаж уже поднялся, но люди находились на нижних палубах.
– Медвежан! – сипло, слабым от усталости голосом прохрипел Соймонов. – Уводи людей! Пробовать будем!
И, не дождавшись ответа, скомандовал:
– Правым брашпилем выбирать, левым отдавать!
Финн исчез. Соймонов чувствовал, что ничего не получится, и хотя сердце билось сильно, но когда корабль снова уткнулся в невидимое препятствие под водой и бушприт застыл перпендикуляром к берегу, почти цепляясь за мелкие сосенки на краю выкопанной выемки, он воспринял это без отчаяния, а скорее с тупым, усталым безразличием. Люди на берегу, бледные, донельзя уставшие и промерзшие, тоже молчали. Даже воевода не проявил себя.
– Левым выбирать, правым отдавать!
На этот раз с мели сошли легко, но теперь Соймонов даже не пытался придумать что-нибудь еще. Все было втуне. Развернуть корабль было невозможно, и оставалось лишь ждать появления на мостике Граббе, а с ним и майора Кульбицкого. Затем его арестуют, и что будет потом, остается лишь только гадать. А ведь государь еще жив!
– Восемь. Девятый! Есть час, полтора, – пробормотал сам себе мичман и посмотрел на вновь появившегося на мостике хмурого, но, по всей видимости, озабоченного чем-то финна. Лоцман сочувственно глянул на Соймонова и ткнул трубкой в сторону кормы.
– Я ходил смотреть на руль, и, я так понимаю, что он стоит прямо…
Соймонов сначала тупо смотрел на Матти, не имея сил уразуметь, к чему вся эта речь. Вдруг ему вспомнился экзамен у царя, который сдавали все вернувшиеся из Европы гардемарины, и цепкая память Соймонова выхватила из тьмы гневное лицо государя, который, развернув на столе чертеж корабля «Полтава», кричал на бледного, трясущегося от страха сына боярского Щепова: «Ты по ассамблеям бегал да в кабаках кутил, а не науку морскую изучал! А коли изучал, то знал бы, что все части корабельные друг к другу в пропорции быть должны! Такова и длина руля по отношению к корабельной длине, дурак! Не таково у тебя! Парик твой парижский, а умом моя Лизетта тебя многажды превосходит!»
– Лизетта, меня, дурака, умней! – хлопнул себя по лбу мичман. И, понимая, что и он, и Матти имеют в виду и говорят об одном и том же, забормотал:
– Ежели руль сейчас до упора направо положить, то и радиус его меняется на меньший, и тогда можно будет подать «Ингерманланд» на добрую сажень или полторы назад. Нос корабля от берега отойдет!
И уже в уме бежала искрой цифирь с расчетами… так, длина корабля… значит, перо руля длиною быть должно около… сиречь так и выходит: при полностью положенном направо руле выигрываем сажень, а это уже кое-что! И он в смутном восторге предощущения победы обнял озабоченно глянувшего на него финна, который уже сам, не дожидаясь команды, вращал штурвальное колесо. Дальше Соймонов не помнил уже, какие приказы и кому отдавал, как метались по палубе матросы, раскатывающие бухту каната, конец которого оттащили шлюпкой на левый берег и привязали к дереву. Как стрекотал запасной кормовой брашпиль, выбирая канат, и тот натянулся спасительной ниткой, притягивая к левому берегу корму «Ингерманланда», который оставался недвижим до тех пор, пока не вспомнили, что корабль крепко принайтован бизань-мачтой к свае, и затем Матти принялся рубить топором волосатые пеньковые кольца веревки. Не помнил он, что на мостике столпились гурьбой все офицеры, тревожно поглядывающие в сторону каюты государя, ожидая дурной вести. Не помнил прихода хмурого Граббе, не помнил появления майора Кульбицкого.
– Правым выбирать, левым отдавать! – здесь он пришел в себя и увидел, что немец Граббе ехидно улыбается, и что солнце, раскаленное, как пушечное ядро, уже просвечивает сквозь ветви деревьев, и что корпус «Ингерманланда» плавно разворачивается, похрустывая корочкой черного прозрачного льда, покрывшего реку.
«Господи! Господи! Семьдесят градусов! Восемьдесят! Девяносто! Неужели? Нет, и в прошлый раз так было! Но ведь сажень! Девяносто пять! Прошли? Девяносто…» Корабль, как обессиленный, остановился и, качнув мачтами, метнул тени на пылающие от рассветного солнца сосновые стволы на берегу. Все. Ничего не получилось. Зато он сейчас увидит друга своего – Ртищева. Соймонов горько усмехнулся и, оглянувшись на сослуживцев, развел руками. Так и вспоминал он их потом, стоявших рядом: мичмана Тирбаха, Золотницкого, уже вернувшегося на корабль майора Лядского, грустного, сочувственно посматривающего на него поручика Егорова, Тильгаузена, Березникова и Нечаева. Он лишь не видел стоящего за ними отца Алексия, который, закрыв глаза, стоял в странном онемении, то ли молясь, то ли о чем-то вспоминая. На мостик уже поднимался в сопровождении двух гвардейцев и сержанта серый с похмелья и недосыпа майор Кульбицкий, хмуро посматривающий на собравшуюся шляхту.
– Господин капитан-лейтенант! – обратился Соймонов к Граббе. – Я не выполнил ваше приказание и не развернул корабль. Кому изволите приказать сдать вахту?
Соймонов повернул голову и посмотрел на берег, где молчаливо толпились уже отогревшиеся в бане солдаты с воеводой и крикнул: – Спасибо за службу, ребята! Лихом не поминайте!»
– Плехо! Отшень плехо, Соймоноффф! – посетовал немец. – Я отшень натеялс на фас!
Соймонов его не слушал. Негнущимися, окоченелыми руками он отстегнул шпагу в ножнах и протянул ее Кульбицкому:
– Извольте, сударь!
Кульбицкий, однако, буркнув на ходу нечто вроде «Погодь», расталкивая офицеров, направился к отцу Алексию.
– Батюшка, час десятый. Надежды нет. Отправляйтесь, не мешкая! – глухо произнес он, оглянувшись на вытягивающих шеи офицеров. Алексий кивнул ему в знак согласия:
– Пора! Теперь пора. – И, шаркая негнущимися ногами по лестнице, с мостика обратился к Соймонову.
– Спасибо и тебе за труды, раб божий Феодор! Буду молиться за тебя.
Нечаев вспыхнул как порох.
– А за что Федю арестовывают? Как сие невозможное сделать возможно? Таку махину развернуть? И ведь почти сделал! Мож, чуть дернуть и надо…
Майор Кульбицкий, презрительно на него глядя, уже подошел к обвисшему и усталому, с красными глазами Соймонову.
– Да погодите, вы, майор! – подскочил к нему Нечаев. – Пять минут всего! Господин капитан-лейтенант! Пусть еще правым потянут… вдруг. Пять минут! Майор!
Кульбицкий иронично поднял бровь на поручика.
– Ну, ежели господин командир корабля не против…
Граббе недоуменно пожал плечами. Ему было все равно.
– Пять токмо минут! – обрадовался чему-то своему Нечаев. – Прости меня, Федя, нагрубил я тебе ночью!
Он побежал, как заяц, неуклюже вскидывая вверх подошвы своих ботфорт и придерживая рукой вихляющую шпагу. Шаги его стихли на нижней палубе.
– Што он хотель? – скривил губы Граббе. – Прочем! Соймонофф, тайте комант, пока есть фремя!
Нечаев, задыхаясь от волнения, шаром вкатился на нижний ярус.
– Ребята, слушай команду! – заорал он так, что лицо покраснело. – Орудия левого борту к бою! Кормовые орудия не трогать, только носовые. Зарядить пушки ядрами! Заряд увеличить – заряд полуторный.
– Степа, ты что делашь? С ума сошел! Граббе тебе голову снимет! Что удумал? – кричал сбегающий вниз по трапу за своим вятшим приятелем мичман Пашков. – Стой, черти!
– Я командир, меня слушай! – орал поручик. – Полуторный заряд, сукины дети!
И подгонял с матами и без того старающихся веселых артиллеристов своих, будто в баталии со шведом.
– Готовы пушки? Слушай сюда, ребята. Стрельнуть надо так, чтобы залп на един момент пришел. Я вот как скажу: «Пали!» – так вы не мешкайте! Вся на вас теперь надежда!
– Ну и што? – недоуменно спрашивал Граббе, журавлем выхаживая взад и вперед перед недоумевающими офицерами. – Пять минутен прошоль! Путем сплафлять корапль нис река. Соймонофф, тафай команта фернуть корапль нормальный полошений!
– Полно комедию ломать! – махнул рукой мрачный Кульбицкий. – Ну что, мичман, помнишь, что я ночью тебе сказал? Теперь за мной слово и дело государево, уж не обессудь. Не хотел я тебя дур…
Рвануло так, что офицеры невольно втянули головы в плечи. Корабль сильно качнуло, и триколор на мачте заколыхался, будто им размахивала некая рука. От «Ингерманланда» пошли волны, а через несколько секунд клубы пряного порохового дыма залили палубу и мостик.
– Тойфель! – орал взбешенный Граббе. – Кто расрешиль стрелять! Косутарь…
– Уррра! Урра! Виват! – вдруг взорвался неистовыми возгласами невидимый в дыму берег. – Идет! Идет!
И топот десятков людей, хлынувших снизу на верхнюю палубу, послышался на мостике
– Что происхотиль? Это пунт? – надрывался красный от бешенства Граббе. – Я не посфоляль!
– Неужели государь скончался? – растерянно закрутили головами офицеры, постепенно приходя в себя. – К чему сей залп?
– Господа! – ахнул мичман Тирбах. – Смотрите, господа! Мы развернулись!
Часовая стрелка бушприта в синей дымке порохового дыма, неуклонно подталкиваемая страшным импульсом залпа пушек поручика Нечаева, все дальше отступала от речного берега, как будто притягиваемая голубыми просторами Ладожского озера.
– Ура! Ура Соймонову! Виват абордажникам! Воеводу, воеводу качать! – крики радости на четырех языках, русский мат, смех и радостные слезы – все смешалось на берегу и на палубе, празднично сверкающей молодым ноябрьским инеем. Офицеры бросились к отупевшему, сникшему в миг единый Соймонову и обнимали его, жали красные холодные руки, поздравляли с благополучным исходом невероятного дела. Но мичман стоял, странно бесчувственный к поздравлением и веселью вокруг себя, будто не веря в произошедшее. Он осознал, что страшно, нечеловечески, устал, проголодался и сон застилает ему глаза так, что он перестает порой понимать происходящее кругом. Соймонов сделал шаг, другой, ноги дрожали.
– Мичман! Возьмите уж назад! – на миг он увидел хищную улыбку на лице майора Кульбицкого, шпагу, которую тот возвращал ему. – Повезло тебе, Соймонов!
Он подумал, что где-то майор вовсе даже и не злой человек, потом он слышал, как Граббе дергал его за рукав мундира, но он отмахнулся и пробормотал нечто вроде «Отстань!», и Граббе, все поняв, отстал. Так он и шел к своей каюте, шаркая ногами по дубовым плахам палубы и лишь иногда поднимая красные воспаленные глаза, чтобы не наткнуться на ликующих, кричащих «Ура!» и пляшущих от радости людей. Он даже ничего не понял, когда, проходя мимо царской каюты, увидел, что дверь ее распахнута, увидел шальные глаза Петра, его круглое кошачье лицо, бледное, с впавшими щеками, увидел плачущих от счастья, ощетинившихся усищами преображенцев, поддерживавших его под руки. Сзади, из-за спины царя, выглядывали меди-кус Бреннер, отец Алексий и повар государя – Фельтен. Они тоже плакали, поблескивающие на утреннем солнце слезы бежали по их щекам радостно и свободно.
– Соймонов! Брат, ты! – проговорил Петр и слабо махнул мичману рукой.
– Государь, – только и смог ответить Соймонов, не останавливаясь, проходя мимо и тупо отметив себе, что государь бледен. Еще его удивило, что все плачут. «Ах, ведь он должен был умереть! – наконец, пришло ему в голову. – Значит, он жив. Что-то странное…»
Уже проваливаясь в сон, он услышал новый залп пушек и крики на палубе: «Виват царскому величеству! Ура государю!»
Глава 11
Из дневника Отто Грауенфельда
Случилось самое невероятное. Пожалуй, впервые в своей жизни я не могу объяснить то, что случилось с нами за эти сутки. Царь исцелился самым загадочным образом. Это просто чудо, настоящее чудо! Еще за пять минут до того русский священник приступил к обряду соборования, ибо надежды, по всеобщему мнению, не было никакой. Бреннер, присутствовавший при этом, утверждает, что царь ожил от грома пушек, из которых выстрелили русские на корабле. Второе чудо – это то, что они сумели развернуть корабль за дьявольски короткий срок, буквально за одну ночь в столь узком месте! Но если второе чудо, все-таки, дело рук человеческих, то объяснить первое я не в состоянии. Бреннер утверждает, что при сотрясении воздуха при залпе орудий застоявшиеся соки в жилах царя пришли в сильное движение, оттого жизненные силы неожиданно вернулись к нему. Не знаю. Мнение его логично и довольно здраво, но странно. Мне пришлось довольствоваться его теорией. Впрочем, сами русские утверждают, что царь исцелился благодаря колдовству старой карельской ведьмы. Я спросил об этом моего приятеля Соймонова, но он, похоже, сам в полной растерянности. Теорию Бреннера он отвергает. Я подозреваю, что и он подался влиянию суеверов. Ближе к делу. Завтра я с олонецким комендантом отправляюсь в Олонец и далее на Петровские заводы. Царь Петр возвращается в Петербург до полного выздоровления.
* * *
Жизнь на «Ингерманланде» постепенно возвращалась в нормальное русло. Капитан Гесслер и второй лейтенант Ртищев были вскоре после царского выздоровления освобождены и вернулись к своим обязанностям. Повар Фельтен расстарался, и для офицеров корабля был устроен торжественный обед, на котором, кроме них и царя, присутствовал и олонецкий воевода. Алексий, сославшись на слабое здоровье, от участия в нем отказался, но уйти тотчас же к себе в монастырь не мог. Царь собирался отвезти его на корабле до самого монастыря. День разыгрался редкостно солнечный и для ноября теплый. Алексий стоял на носу корабля и смотрел на реку, на то место, где когда-то, много лет назад, показались из-за поворота стрелецкие ладьи. Команда корабля готовилась к отплытию, и на палубе поэтому царила обычная деловая суета. Сновали, как белки, по мачтам матросы, сматывались и убирались в трюм ненужные канаты, бочки и бочонки, осматривались и штопались паруса и снасти. Хищные, недремлющие боцманы следили за порядком и подгоняли ленивых понятным для всех ядреным русским матом так, что Алексий болезненно морщился. Тихий шорох раздался, и он сначала не понял, что это подошла к нему старая Илма, которую тоже, наконец, выпустили из-под стражи. Алексий повернул к ней голову и вздрогнул от неожиданности. Все слова ушли от него, и он молчал, а Илма, поняв, что он чувствует, улыбнулась ему грустно.
– Ну, здравствуй, Алексей! – тихо, по-русски произнесла она. – А ты постарел.
– Ты умеешь говорить по-русски, Илма? – улыбнулся Алексий. – Когда научилась?
– После встречи с тобой. – Илма скользнула по сгорбленной фигуре Алексия выцветшими глазами. – Оба мы постарели. Как только тебя узнала!
– Minä sežo opastuin karjalan kielen, konzu vastavuin sinunke
[177], – перешёл на карельский язык Алексий. – Midälienne minä vie kuulin Griša-diädälpäi
[178].
– Muga… Griša oli hyvä ristikanzu. Ziäli minule on händy
[179], – она снова метнула на него странный взгляд. – Tovengo händy tapettih, konzu viettih Anuksenlinnah? Paginua meil oli äijy
[180].
– Minä händy tapoin
[181], – помрачнел Алексий. – Sie! – И он махнул рукой в сторону Нурмы. – Sie niemel. En tahtonuh, ga händy yksikai muokattas
[182].
– Minä tiezin sidä. Kaikil toizil oli surmu rinnal, a sinul igä pitky on, kui minä sinule sanoin
[183].
Илма замолчала. Алексий задумчиво глядел на струящуюся черную воду.
– Kuibo sinä elit?
[184]
– Da kui… Miehel en mennyh, ainos sinuu vuotin. Tytär rodivui-minä olin ihastuksis, toiči kävyin kiriköllyö, tiezin ristikanzois, gu sinä olet sie, ga varain sinne mennä. Duumaičin, ajat minuu iäre, a minä rubien itkemäh. Da i huigei oli. Sit en ruvennuh käymäh, dogadiin – gu äijy vuottu et tulluh, ga sit, otit iččie käzih
[185].
– Ilma…
[186]
– Muga, oleksei
[187].
– Minä kävyin teile mennyt vuon. Onnako kylmykuus libo talvikuus. En musta. I sinuu näin – sinä lähdit joven rannale ottamah vetty. Mägyčäl seizoin. Vie vähästy, i minä en tirpanus…
[188]
– Sen jälles minä rubein vihuamah sinuu
[189], – продолжила она ровно, как будто не слышала того, что сказал ей Алексий. – A vie kunnivoičin. Ku otit omua iččie käzih, olet tozi mužikku. Sit meijän oza nikenele ei puuttunuh
[190].
– Kenbo tämä tyttö on? Silmät ollah, kui sinul nuorete
[191].
– Oleksei, vaikastu! Ei pie sidä mustella. Älä sano staruhale, mittuine häi oli nuorennu. Se on minun pruavobunukku, Nasto
[192]. – Илма опустила голову, и, чуть помолчав, тихо добавила: – Da sinun
[193].
– Midä?!
[194] – от волнения сердце у Алексия забилось так, что он испугался, что сейчас умрет на месте, и схватился за борт обеими руками. – Minun pruavobunukkugo?
[195]
Илма глянула на растерянного, почти испуганного Алексия и рассмеялась, прикрывая стеснительно рот рукой, головой покачала.
– Oh-ho-hoi, Oleksei! Etgo tiedänyh, ku lapset roditahes kenestahto!
[196]
Алексий уже счастливо улыбался, обнажив, не стесняясь того, беззубые бледные десна. Он не помнил, был хоть когда-нибудь так счастлив, даже в ту растворившуюся во временной тьме августовскую ночь. Да, там было счастье и любовь. Но были и предчувствие боли и тревога. А сейчас, на самом краюшке своей долгой жизни, посвященной поиску счастья и смысла для других людей, он почувствовал, как в единый миг распахнулись все двери и упали все замки, и тот конечный смысл жизни человека, объяснения которого он так долго просил у Бога, наконец-то дался ему.
– Nygöi minä seizon molembil jalloil, Ilma
[197], – произнес Алексий, припомнив свой ночной разговор с невесть где прячущимся отцом Илларионом. – Mi on hyvä! Gospodi, sinun palkindo on suuri. Minä en ni tiedänyh, gu se voibi olla nengozennu! Passibo sinule, Jumal!
[198]
Последние слова он уже произнес шепотом. Илма, положив руки на борт корабля, лукаво смотрела на него.
– Ilma! – они сами не заметили, как перешли на шепот.
– Midäbo, Oleksei?
Алексий вынул из кармана рясы мешочек темного бархата.
– Tämän andoi minule Griša-diädö. Ku minä sinule lahjoittazin. Se on hänes musto
[199]. – В глазах Алексия блеснула на миг навернувшаяся слеза, но строго следил за душою своей старец и через миг справился он сам с собой. – Vot i luajin minä hänen käskyn
[200].
Алексий замолчал. Илма подрагивающими руками вынула из мешочка обе серьги, и изумруды блеснули яркой зеленью. Она вздохнула.
– Mittumat čomat! Oleksei, minä jo en pane net piäle. Anna se rodieu lahjakse Nastole. Hänel adilahannu kävellä da olla čomannu!
[201]
– Anna
[202].
Илма уложила серьги назад в мешочек и спрятала его. Они переглянулись и улыбнулись друг другу.
– Olen buite sulhaine!
[203] – пошутил Алексий и в приливе нежности, которому нельзя было противиться, тихо положил свою руку на руку Илмы.
– Olethäi manuahu!
[204] – укоризненно покачала головой Илма и улыбнулась: – Voibigo teil sanuo mostu? A minä, urai! Pidäy olla huigei!
[205]
Вдруг они услышали, как пала странная тишина позади них и обернулись.
– Oi, gospodi!
[206] – вскликнула Илма и закрыла лицо руками. – Huigei on!
[207]
Они увидели глаза – десятки глаз, смотрящие на них с какой-то тихой и чистой грустью и с радостью одновременно. Так можно мысленно смотреть на невесомых, играющих в небе ангелов, бесплотных и вечных. Вцепившись в канатные жилы и паутину вант, смотрели на них притихшие весельчаки-матросы, на минуту растерявшие свою веселость. Затуманенными, белесыми от воды морской и от крепчайшего трубочного табака глазами смотрел сентиментальный в этот редкий миг суровый боутман Кирстен. Рядом с ним воробушком притихли квартирмейстер Адам Нольке и плотник Орликов. Незаметно смахнув слезу с глаз, помаргивал приятель самого царя, слесарь корабельный, Лодыгин. Невидящими затуманенными глазами смотрел тот самый седой солдат из абордажной команды майора Лядского. Смотрел и торжественно молчал еще один любимец царя – тщедушный пушкарь Дубков. Даже офицеры, разбойники морские, узнав, в чем дело, вытянулись в струнку, посуровев и в немом приветствии прижав к груди свои треуголки. И корабельный юнга Митька, иначе Карась, с печалью посматривал на Алексия и Илму из-за мачты. Старики растерянно смотрели на моряков, совершенно не понимая, что происходит, и что же им делать, но в этот момент кто-то из молодых матросов в приступе жаркого молодого веселья выпалил, сидя верхом на рее: «Виват батюшка Алексий! Виват бабушка Илма! Ура!» И тогда отовсюду посыпалось на этих, гнущихся под тяжестью годов и невзгод стариков: «Виват, бабушка Илма!», «Виват, батюшка Алексий!», «Ура!», а боцманы и квартирмейстеры-иностранцы улыбались и хлопали в ладоши, весело посматривая друг на друга и на матросов.
В послеобеденный час, на свое, с некоторых пор любимое место, со скучающим видом явился Отто Грауенфельд. Прислонив к борту трость, он снял очки, неторопливо вынул из кармана мягкую тряпочку и, близоруко прищурившись, начал протирать стеклышки так, как будто не делал этого с самого их приобретения. Впрочем, было заметно, что очки его мало интересовали, ибо наклон головы и косящий в сторону носовой части корабля взгляд выдавали в нем не слишком-то матерого шпиона. Там, внизу, на носу, возле лебедок брашпиля, на бухтах канатов и свернутых в рулоны кливерах, расселись разморенные борщом и пшенной кашей матросы, ведя неспешную беседу. Именно таким образом ученый немец, оставаясь незамеченным, и получал самые свежие и любопытные, хотя, конечно, не самые верные корабельные новости. Трубочки матросские попыхивали, дым колечками коптил такелаж, и хриплый простуженный голос поучал:
– …Мене свояк Кузьма в деревне еще рассказывал. Ездил он в Москову, по делам торговым, с Никифором-купцом. Видел там, в Москве, башню. Башня Сухарной
[208] называется, а почему так, он не ведает, не спросил. В той башне живет чернокнижник и волхв, еретик немецкий, Брюс
[209]. По ночам, он, Брюс, на звезды смотрит в трубу, а порой запрется в башне да давай дым из печи пускать вонючий да цвету ужасного! Весь народ то ходит кругом, да крестом огораживается. Сатаной, вишь, пахнет! А еще, бают, в трубу ту по ночам черт прилетает, с ним, Брюсом-еретиком, кумиться да бражничать. Во как!
Голос замолкает, и дым от трубок взвивается к макушкам мачт, как из дьявольской трубы еретика Брюса. На поддержку разговора приходит другой, невидимый смущенному немцу, собеседник.
– Черт, говоришь? У нас случай был. Льёт у нас, во Ржеве, один купец колокола. Все бы ничего, да, видать, черт завелся, чтобы доброму христианскому делу вредить. Как выльют колокол, глядь, братцы мои, а в нем дыра, будто, кто зубами прогрыз…
Охи и Ахи доносятся до немца, и гордый произведенным впечатлением рассказчик вдохновенно продолжает:
– Вот так и мучился купец. Выльют колокол, а в нем дыра. Выльют иной, а там тоже черт след оставил. И было так, братцы мои, пока старик один не подсказал, как от такой беды избавиться. Позвали батюшку. Пришел батюшка на литье, на новое, да на колокол новый святой водой и покропил. Так зашипело, завизжало, что хоть из заводу беги! Это черт от воды святой закричал, завизжал, как хряк. И с тех пор, братцы мои, все колокола у купца со звоном малиновым пошли…
Грауенфельд улыбнулся. Он так увлекся рассказом, что хотел было сделать замечание насчет правильного литья бронзы. Что, по его мнению, металл был недостаточно горяч или литье шло слишком быстро. Но тут он вовремя спохватился, взял трость и тихонечко-тихонечко удалился, все так же улыбаясь.
Глава 12
– Ну, батюшко, давай прощеватися! – колоколами медными загремел Сенявин, взобравшись по веревочной лестнице на борт «Ингерманланда» и увидев Алексия, который, ссутулившийся и бледный, стоял, опираясь на посох, на носу корабля. – Бабушку Илму я отвез до устья, далее она не захотела. Говорит: пешком дойду. Эк, батюшка, бледный ты!
– Устал я за дни эти, сыне, – махнул рукой Алексий. – Иной раз в келье сидишь да и заскучаешь. Мир божий посмотреть охота. А теперь я впредь и на мир божий, и на людей надолго насмотрелся и назад, в келью мою хочу. Как она?
– Да как… – воевода задумчиво подняв бровь, почесал лоб. – Стара уж! Девчонку жалко. С бабкой что случись – пропадет.
– О том не печалься, Ларион, я присмотрю, если что.
– Да и я присмотрю, ежели что! – весело воскликнул Сенявин. – А вот и немец мой идет!
В сопровождении капитан-лейтенанта Граббе, мичмана Соймонова и слуги, обложенного сундучками и тюками, к ним шел, ловко лавируя между снастями и бухтами канатов, длинный, сухопарый человек в черном дорожном плаще и видавших виды и дороги, но крепко скроенных, высоких башмаках. Он сверкнул на Алексия круглыми стеклами очков и кивнул головой в знак приветствия. Алексий улыбнулся ему.
– Сей хороший немец! – оскалился в улыбке Сенявин. – Ученый немец! Все меня выспрашивал про житье наше. И про вас, батюшка, тоже. На заводы на Петровские едет.
Немец со слугой, тем временем, спустился в шлюпку, и матросы осторожно опускали туда же их дорожный груз. Соймонов и Граббе махнули треуголками, прощаясь со своим ученым спутником, и глянули в сторону Сенявина.
– Пора! – обнял старика комендантус. – До нового году ждите меня в гости в монастыре. Приеду грехи замаливать!
Сенявин перекинул ноги через борт и начал спускаться по лестнице, но прежде чем исчезнуть за бортом, он на миг задержался и махнул рукой Алексию.
– Прощай, отче, и спасибо за все!
– Прощай, воевода! – чуть улыбнулся Алексий. – Приезжай. А грехи твои Олонка смыла!
Матросы в шлюпке опускали весла в воду.
Затем, стоя на краю раскопа, воевода и Отто Грауенфельд долго смотрели, как шлюпка отплыла назад к кораблю и затем ее талями подняли наверх. Зазвенели цепи, исчезая по-змеиному в клюзах, таща за собой якоря в бурой донной жиже. Паруса взвились, и на корме холостым выстрелом грохнула пушка, прощаясь с этими местами и людьми навсегда. Корабль тронулся с места, сначала медленно, но, подгоняемый редким в это время года зюйд-остом, заскользил по воде белым лебедем, расталкивая к задумчивым берегам легкую волну. Еще были видны собравшиеся на мостике офицеры, которые махали на прощание своими треуголками стоявшим на берегу русскому и немцу, сведенным на время причудливым переплетением судьбы, пока те не исчезли за лесистым поворотом. Воевода вздохнул и махнул рукой в последний раз. Ему стало грустно.
– Ну что, боярин, пойдем! До вечеру в Олонец поспеть бы надо!
Гесслер стоял на мостике. После череды событий последних дней, едва не бросивших его в сырой каземат Петропавловской крепости и снова вознесших на прежнее место капитана первого ранга российского флота и командира одного из лучших кораблей своего времени, он так толком и не смог прийти в себя. Даже добрая порция перцовой не помогла и сейчас, стоя на мостике, мыслями своими он оставался в душной, темной каюте с лейтенантом Ртищевым, за запертыми дверями которой вышагивал караульный солдат. Поначалу они о многом говорили. Новости, которыми шепотом делились с ними охраняющие их гвардейцы, были неутешительны, и они отчаялись. Пытки и казнь – вот что ждало их в ближайшее время. Единственное, что могло их спасти, было выздоровление государя, но положение его было безнадежно. Поэтому Гесслер и Ртищев молча сидели за столом и смотрели на коптящее желтое пламя сальной свечи, чутко прислушиваясь к звукам, доносящимся до них снаружи. Иногда капитан флегматично хмыкал и брался за трубку. Каюта наполнялась сизыми клубами дыма, и он вспоминал, как впервые закурил трубку в Гамбургском порту, куда часто сбегал из скучной мясной лавчонки своего отца посмотреть корабли и людей с самых дальних стран круга земного. В конце концов, он сбежал из дому, нанявшись юнгой на голландский торговый корабль. Так началась его карьера мореплавателя, забросившая Гесслера в далекую Московию.
– Подходим к устью, – как будто сам себе произнес стоящий за штурвалом Матти. – Ветер береговой, волна мала.
– Что? – непонимающе откликнулся Гесслер, стряхивая с себя некстати нахлынувшие воспоминания. – Ах, да, осторожнее на фарватере.
Матти бросил в сторону капитана как будто ничего не выражающий взгляд, однако опытный глаз отгадал бы истинное значение этого безразличия. «Не учи ученого» – вот как можно было его перевести. Гесслер усмехнулся, он все понял, ибо слишком много морей было за его плечами. Неожиданно в улыбке расплылось и лицо человека под мухоморовой шляпой. Они поняли друг друга и понравились друг другу. Расставив ноги пошире, как будто приготовившись к драке, вмиг позабыв о стоящем рядом капитане и всех остальных, Матти впился взглядом в отливающую ртутью поверхность реки. Справа и слева плавно пробегали песчаные, поросшие медноствольными, сияющими на солнце соснами. Впереди них разлилась на всю вселенную Ладога, такая коварная и гостеприимная одновременно. Гесслер скомандовал добавить парусов. Он понимал, что на скорости осадка корабля уменьшится. Матти одобрительно кивнул головой и начал помалу забирать влево, и все с замиранием сердца видели, как подбирается к борту «Ингерманланда» желтеющий под водой клин отмели. Лицо финна побагровело от волнения. А зловещая отмель все прижималась к бегущему по бурой воде кораблю так, что лоцман резким рывком увернулся от нее прямо в направлении каменного мыса, поросшего ельником в версте от устья. «Очень мелко! Сядем на мель!» – успел подумать Гесслер и с ужасом увидел, как лоцман рванул штурвал налево до упора. «Ингерманланд», послушный своему кормчему, на полном ходу начал описывать дугу, кренясь на левый борт. Через мгновение все почувствовали толчок – это перо руля скользнуло по песчаному дну фарватера, но уже отмель осталась позади, и под форштевнем, как под плугом пахаря, распадалась надвое ладожская волна.
– Фффой! – с облегчением выдохнул Гесслер и подумал про себя, что финна непременно надо взять на службу. Он повернулся, чтобы в последний раз глянуть на пустынный песчаный берег, и своими морскими дальнозоркими глазами увидел на берегу две фигурки – старухи и девочки.
– Колдунья, господин капитан! – деловито доложил вахтенный-мичман Пашков – Та самая!
И, сняв треуголку, помахал им в знак приветствия. – Эгей! Прощайте!
Что-то всколыхнулось в сердце Гесслера.
– Мичман, ступайте, найдите Егорова, и пусть отсалютует тремя холостыми с кормовых орудий.
– Есть, господин капитан! – весело воскликнул Пашков и рысью пустился отыскивать артиллериста.
Старая Илма и Насто стояли на берегу и смотрели, как красавец корабль белым лебедем выскользнул из реки совсем неподалеку от них и стал удаляться все дальше и дальше.
– Buabo! – Насто дернула Илму за руку. – Buabo, a sie diädö meile šuapkal viuhkuttau! Näjetgo?
[210]
– Näen, bunukkaine
[211], – соврала Илма, хотя старые глаза её смогли разглядеть только белое с чёрным, растворяющееся пятно. Но она вспомнила эти десятки глаз, смотрящих на неё и на Алексея, и снова представила их. С ресниц её упали две слезинки.
– Buabo, mindäh sinä itket?
[212] – снова дёрнула её за рукав Насто. И добавила вдруг: – Minä tahton laivale. Sie Matti-diädö oli. Häi saneli minule suarnoi! Toizetgi diädät oldih hyväntahtozet, gostitettih minuu puudrol. Vaiku minä en ellendännyh, midä hyö sanottih
[213].
– Пуфф! – пузырь белесого дыма вырвался из кормы корабля. За ним вырвался второй и третий почти одновременно, и через мгновение звуки корабельных пушек долетели к ним через воды. – Пуф! Пуф!
– Oi! Oi, mi on hyvä!
[214] – Насто счастливо засмеялась и запрыгала от восторга, хлопая в ладоши.
– Уаа-а! Уа-а – а, И-ма! Уа-а! – Дальним эхом донеслось до старухи и девочки с корабля, фигурки на мостике которого становились все менее различимы, а затем они исчезли. И сам красавец корабль, уменьшаясь в размерах, превратился в точку, которая некоторое время еще виднелась на кромке воды ии неба, потом исчезла за островами и она. Старуха и девочка простояли еще с минуту неподвижно, затем Илма грустно вздохнула.
– Nasto, bunukkaine. Läkkä! Oi, meile vie hätken astuo…
[215]
Они повернулись и, больше не оглядываясь, побрели по зализанному волной плотному песку у кромки воды. Цепочка их следов уходила все дальше и дальше, но порой особенно сильная волна, шипя пеной, слизывала отпечатки с песка так, что оставались сперва лишь ямки, затем исчезали и они.
– Как идем? Знаешь ли Анрусовскую бухту? – спросил Гесслер у лоцмана, рассеянно бросив взгляд на карту.
Матти не спеша, обстоятельно, начал было объяснять капитану особенности здешних вод, но Гесслер его уже не слушал – он заметил на палубе среди увертывающихся и ловких матросов майора Кульбицкого, и кровь от приступа ярости прилила к щекам капитана так, что Матти запнулся и замолк, увидев забуревшее, как свекла, лицо начальника.
– Тойфель! – выговорил Гесслер. Он вспомнил весь стыд, который испытал в тот злосчастный день, когда олонецкий воевода привел к царю эту карельскую колдунью. Его, как изменника, арестовали на глазах у подчиненных, что, конечно, для него, как для командира, было настоящим позором. Потом он снова припомнил, как вместе со вторым лейтенантом сидел за столом и смотрел на язычки пламени свечи и думал, что жизнь его догорит, подобно этой самой свече, очень скоро. Он узнал Россию за время своей службы и не строил иллюзий на этот счет. За дверями каюты расхаживали часовые, вестей не было никаких, и они сидели без сна, ожидая смерти царя. Иногда до них доносились с палубы непонятные звуки; стук, крики, и корабль, порой, покачивался, затем все стихало. Второй лейтенант иногда подходил к двери и пытался расспросить часовых о том, что происходит, но те не знали сами и однообразно отговаривались: «Не могем того знать. Флотские балуют». Под утро они сидели в тяжелой дреме, когда почувствовали покачивание «Ингерманланда», как будто бы наткнувшегося на препятствие, потом были крики и топот ног, и затем страшный грохот орудий с палубы у них над головой. Он посмотрел на второго лейтенанта и увидел в его глазах смертельный ужас и произнес: «Мужайтесь, друг мой, вероятно, царь умер. Рано ли, поздно ли, теперь очередь за нами». Лейтенант согласно кивнул и охватил голову руками. Плечи его затряслись в рыдании. Снова потянулись эти невыносимо длинные минуты ожидания. Затем послышались голоса и звук множества шагов, приближающихся к их каюте.
– Это бунт, господин капитан! – торопливо зашептал ему Ртищев. – Сейчас нас убьют!
Гесслер вспомнил, что они встали и обнялись, когда в замке двери заскрежетал ключ. Дверь распахнулась, и оба они повернулись к ней, чтобы увидеть лица своих убийц. Спустя миг, они застыли в неописуемом изумлении, почти ужасе, как статуи.
– Полно, Петрович, на лавке лежать! А кто у меня будет кораблем командовать? – прозвучал такой знакомый, хоть и слабый голос Петра. Вместе с царем гурьбой уже втиснулись в дверь дюжие гвардейцы, поддерживающие государя, по щекам которых текли слезы радости, и обалдевшие от неожиданного исхода дела офицеры корабля: Граббе, Пашков, Березников, Лядский, Тильгаузен, Егоров, забывшие на время субординацию и дисциплину. За царем языческим безмолвным истуканом болтался, видимо, совершенно обалдевший от происходящего Кульбицкий, с белым, как мел, лицом и пустыми рыбьими глазами.
– Дурак! Дурак, майор! – Петр, развернувшись, влепил затрещину Кульбицкому. – Ты меня на весь мир опозоришь! Лучшего капитана
арестовал! – И, уже снова поворачиваясь к Гесслеру лицом: – Ладно, Петрович! Прости его, камрад! Наипаче меры майор усерден. Штраф с него…
Гесслер вспомнил, что не мог вымолвить ни слова, лишь мычал, как будто его разбил паралич. Он присел на стул и переводил взгляд на окруживших его офицеров, которые жали ему руки, смеялись и плакали радостными слезами, не стесняясь этого. Только теперь до него стало доходить, что случилось нечто невероятное, и что царь жив, и он снова командир лучшего корабля российского флота, и что не будет впереди сырых казематов Петропавловской крепости, дыбы, страданий и глупейшей, без вины, казни, а будет жизнь, карьера, бескрайний простор воды и синее небо над головой.
– Крестовый остров, – негромкое замечание лоцмана вернуло его к действительности, и он, бросив взгляд налево, увидел пучащиеся на глади черных вод горбатые гранитные валуны со скудной порослью из мелкой ивы. – До монастыря еще час хода.
– Час, час, – сам себе пробормотал Гесслер. Какое-то странное беспокойство прокралось в его сердце. Такое чувство бывает, порой, у человека, который возвращаясь с рынка, где он делал всевозможные покупки, вдруг возникает ощущение, что он забыл купить нечто важное, но не может вспомнить, что именно. В этот момент Гесслер увидел царя, который в сопровождении старого монаха, не спеша, за разговором, шел вдоль борта к носу корабля. Ненавистный Кульбицкий стоял на прежнем месте как будто в забытьи.
«Часы! Проклятье!» – ужасная мысль молнией промелькнула в голове капитана первого ранга Гесслера. Он вспомнил, что на стене в каюте вице-адмирала Петра Алексеева так и висят по сию пору страшные, как ядовитая змея, поджидающие свою новую жертву, часы. Что будет, если царь, как любопытный ребенок, снова захочет завести их? Или это сделает кто-нибудь другой? И тогда он – Гесслер – снова окажется виноват в новой смерти, пусть невольно, пусть лишь частью, но все равно, и ему придется держать ответ перед собственной совестью и перед Богом. От часов надо избавиться, и немедленно. Но как это сделать? Отправить за ними кого-нибудь из офицеров? Их могут задержать. Да и это будет нечестно, если он, Гесслер, пошлет кого-нибудь другого вместо себя, чтобы избегнуть царского гнева. Это должен сделать он сам, ведь это был его подарок государю. Нет, других посылать нельзя. Стыдно! Стыдно! Темные, безграмотные, но чистые душой матросы и солдаты рисковали жизнью и здоровьем, чтобы он – капитан первого ранга Гесслер обрел бы свободу. А Соймонов, который командовал разворотом корабля до конца, под угрозой ареста? А этот, как его, комендант олонецкий, который вместе с солдатами по грудь в ледяной воде углублял дно для того, чтобы корабль мог развернуться? Что ими двигало? Все это похоже на сказку, на чудо. Но старый морской волк, капитан первого ранга Мартин Гесслер знает точно, что это чудо сотворено руками человеческими. И он обязан всем этим людям, утонувшим, пусть даже спьяну, ночью, во время своего страшного труда, или обреченно хрипящим в жару в душном, промозглом отсеке нижней палубы на рваном тряпье, что подразумевается быть лазаретом. Но ведь все это может быть какая-то случайность? Ошибка? Как проверить? Вдруг новая мысль заставила его вздрогнуть.
– Мичман, подайте-ка сюда вахтенный журнал. Впрочем, не надо. Откройте записи вчерашнего утра. Посмотрите, в какой час утра был произведен первый залп пушек левого борта? – спросил капитан и потер вспотевший от волнения лоб.
– В десять часов двенадцать минут, господин капитан! – четко отрапортовал мичман Пашков.
– Таак. Командуйте кораблем, мичман, – произнес Гесслер и, повернувшись, начал спускаться с мостика на палубу. Майор Кульбицкий стоял у самого борта, заложив за спину красные от холода руки, и смотрел тусклыми, безразличными глазами на пустынную двухцветную желто-зеленую полоску берега. Гесслер подошел к нему и встал рядом. Вода шипела где-то внизу. Так стояли они, молча, некоторое время, пока Гесслер не набрался, наконец, решимости.
– Майор! – начал он откашлявшись. – Вам досталось за меня, и я вам сочувствую, но и вы сами достаточно виноваты. Гмм! – Гесслер глянул на бледное лицо Кульбицкого. – Я не держу на вас зла. Но я сейчас о другом.
Кульбицкий бросил на него быстрый выжидательный взгляд. Гесслер продолжил.
– Часы. Эти чертовы часы не идут у меня из головы. Я здесь, в России стал суевером…
– Продолжайте, – вдруг звучным голосом подбодрил его майор. – Я тоже не могу свести концы с концами в этой истории. Кстати, если вы это имеете в виду, то ключ я выбросил в воду.
– Это очень правильно, – кивнул головой капитан. – Но я хочу проверить один факт. В вахтенном журнале залп орудий отмечен десятью часами одиннадцатью минутами, нет, двенадцатью… Понимаете меня?
Он не успел закончить, как Кульбицкий, ухватя его за руку, потащил за собой.
– Мы сходимся в мыслях, Гесслер. Рад, что я нашел единомышленника. Сейчас мы всё увидим!
Они торопливо спустились на нижнюю палубу, и прямиком направились к царской каюте.
– Государь беседует со старцем на носу, – шепнул Гесслеру майор. – Если что, то надо действовать сейчас. Гвардейцы, повинуясь знаку своего начальника, развели мушкеты, и Гесслер с Кульбицким вошли в царскую каюту. Слуги под руководством Фельтена накрывали на стол – приближалось время обеда. Повар, захваченный суетой, лишь коротко кивнул им и развел руками, давая знать, что ему сейчас не до разговоров. Впрочем, не до разговоров было и капитану с майором. Они подошли к часам, и глянули друг на друга.
– Все сходится, майор! – вздохнул Гесслер. – Смотрите, они остановились в начале одиннадцатого.
– Минутной стрелки нет, но, приблизительно, это десять-пятнадцать минут одиннадцатого.
– То есть это время, которое указано в вахтенном журнале.
– В это время Нечаев делает залп пушками левого борта.
– В это время государь встает на ноги вместо того, чтобы умереть.
– И это время было предсказано этой старушкой, как ее…
– Ее зовут Илма. И она оказалась права.
– Да, но что теперь делать? – развел руками Кульбицкий. – Можно рассказать сей анекдот государю, но он не поверит и снова полезет их заводить… Хорошо, что ключа нет.
– Не валяйте дурака, майор! – злобно прошептал Гесслер прямо в ухо Кульбицкому. – К дьяволу их! За борт!
– Я не могу это сделать! – испуганно отшатнулся от него майор. – Государь пришибёт меня, как пса!
– Ну что же, – Гесслер осторожно прикоснулся к позолоченному хвосту древнего змея. – Ну что же. Идите наверх, на палубу. Если государь приближается, то дайте мне знать, вернитесь. Если же нет, то оставайтесь там и ждите меня.
Майор согласно кивнул и, не говоря больше ни слова, торопливо вышел из каюты. Гесслер простоял перед часами минуту, вторую. Слуги, косясь на застывшего перед часами капитана корабля, стали вопросительно переглядываться друг с другом: «Чего это он?»
Майор не возвращался.
– Господь, будь ко мне милостив! – выдохнул Гесслер и с замиранием сердца снял часы со стены. Так он и шел, держа их на вытянутых руках, как будто разглядывал на ходу. Слуги, оставив свои дела, остановились и молча смотрели ему вслед, покуда дверь за ним не затворилась. Лицо Кульбицкого, красное от волнения, маячило в проеме люка.
– Скорей, капитан! Государь пока нас не видит! Я вас заслоню!
Гесслер, пыхтя, протопал по трапу и, крутя головой по сторонам, заторопился к борту. Майор следовал рядом, заслоняя его так, чтобы царь не мог ничего заметить.
– Скорей! Скорей! – шептал он. Капитан дрожащими руками положил часы на борт.
Глава 13
Петр и Алексий стояли на носу «Ингерманланда» и, конечно же, не догадывались о том, какие дела сейчас происходят на корабле.
– Я, ведь, отец, только о том и пекусь, чтобы вера чистой была и дабы служители при ней чисты были! – горячо выговаривал царь, в такт словам притоптывая ногой. – А много ль тебе подобных? Нет! Оттого и скорблю, что какой монастырь ни возьми, а он лодырями и лукавцами полон! Постой, отец! – Петр сделал предостерегающий жест, видя, что старец хотел что-то возразить. – Оттого и гнев мой, что скоты сии лукавые да ленивые паству свою развращают. Какая вера к ним от людей? Слышал ли ты, отче, что у меня в Петербурге содеялось? Как икона Богоматери слезы проливать начала в церкви Троицкой?
[216]
– Слухом земля полнится, Государь, – улыбнувшись, развел руками Алексий. – Слухами живем.
– То-то, слухами… Презлые и лукавые, ехидны, не попы, вздумали народ чудесами обманывать. Забрал я, по приезду с канала Ладожского, сию икону к себе и добро рассмотрел. Злодеи в доске напротив глаз проделали отверстия и ямки для масла зело искусно, да заложили в те ямки масло деревянное. В холоде масло-то сколь угодно долго стоять может, а коль вблизь иконы свечи стоят, то от тепла масло плавится и из глаз Богоматери течь начинает. Тут и чуду всему причина! – Петр погрозил кому-то неведомому кулаком. – Псы! Чуть до бунта народ не довели. Дела мои им поперек горла стоят! Не о России, о своем чреве да покое думают! Старая, подлая закваска боярская да стрелецкая!
Петр замолчал. Алексий вздохнул, и, глянув на царя с сочувствием и жалостью, почти прошептал: «Многий груз, государь, на плечах своих держишь!»
Чайки нестройным белоснежным роем завизжали, кружась над мачтами с пузатыми парусами.
– А вот и обитель моя скоро, Государь! – указывая рукой на громоздящиеся густые на берегу ели, пока еще плохо различимые с корабля, пояснил старец. – Места все мои родные. Вот Гачь-остров, от нас по леву руку. А сей есть Сало-остров, он толико протокой малой от монастыря и отделен. Разбойники на нем когда-то жили. А основатель обители нашей, – голос старика оживился, – Ондрей Завалишин, тот дворянином был. Давно. Еще при отце царя Ивана Васильевича это было. Постриг принял он в Валаамской обители, а затем и приехал в нашу пустыню с некоторой братьею. Приехать-то он приехал, да разбойники, что на Сало-острове жили, поселиться тут ему воспретили, ступай, мол, куда подале!
– Ха-ха-ха! – звонко, по-детски рассмеялся Петр. – Своих своя не признаша? – И осекся. – Молчу, молчу, отец!
– Адриан, тако имя Ондрею при постриге дано было, – продолжил свой рассказ Алексий. – Много молил атамана разбойников сих, что тот и рукой махнул, так и сказал: «Живите».
– Поладили, значит? – улыбнулся царь. – А что дальше было?
– А было, государь, то, что приплыла однажды другая шайка разбойников с мыса Стороженского порой ночной да разбойничков, что на Сало-острове живали, и побила. А атаман-тот в полон попал. Связали его да в ладью бросили, знать, с собой увезти хотели. И случилось тут чудо: привиделось ему, что Адриан перед ним стоит и речет: «По милосердию Господа, для которого просили у тебя пощады пустынному братству, ты свободен». Очнулся атаман на берегу свободный да побежал в обитель. А как прибежал, так вся братия с Адрианом псалмы пела. А Адриан сам и с обители не выходил. Знать, Господь чудо явил.
– А что атаман? – поинтересовался царь. – Снова за кистень взялся?
– Атаман к ногам преподобного пал и просил в братство его принять. До конца дней грехи свои и товарищей своих и замаливал.
Петр улыбался. Алексий же, печально опустив глаза, глухо выдохнул: «Вот тако и я».
– Что? И ты, отче? – Петр изумленно вытаращился на старика. – Ты, ты, что ль, из разбойников тоже?
Старик кивнул печально.
– И кровь на руках моих есть, только не знаю, Государь, что Господь мне за нее присудит. Убил я человека любимого, мало, что не отца родного – князя Григория Михайловича Воронецкого. Полонили его стрельцы да на казнь и муки везли в Олонец. Не хотел я, чтобы мучали его.
– Нн-н-у, отче! – развел руками Петр. – Такого, вот, я не ждал! – Он задумался. – Воронецкий. Воронецкий. Не припомню, что-то, фамилии таковой княжеской.
– Кончился их род! – вздохнул Алексий. – Почитай, он, Григорий-то, и был в роду последний. Да и давно это было. Еще при батюшке твоем, Петр Алексеич. Я тогда еще отроком был, а сейчас денми ветх и в могилу схожу.
– Да, чудна наша жизнь, – задумчиво согласился царь и тут же, отвернувшись, махнул рукой матросам, стоявшим на верхней палубе. – Абросимов! Тычков! Бегите к вахтенному, скажите, чтобы лагом глубину промеряли! Проспит мель, дьявол!
Петр снова повернулся назад к Алексию и положил руку ему на плечо.
– Значит, ты, отче, всю жизнь грех свой в монастыре и замаливал?
Старик поднял глаза и покачал головой.
– Я мню, Петр Алексеевич, что свои грехи отмолить никак нельзя. Может, и ересь несу, но кажется мне, сердце мое так вещает, что на суде божьем нам от других спасение придет. Им, сотоварищам моим по разбою – Василию Атаману, Копейке Ивану, Солдату Абросиму, Фаддею Клыку, Петру Повару да Ване Рыбаку с Григорием Михайловичем – от меня оно прийти должно, ибо больше не от кого. Много на них греха, а оттого я за них всю жизнь мою молился. Сами они того уж не успели и умерли без покаяния. Тако и за меня люди, если почтут, что жизнь провел честную, в свой черед помолятся.
– Двадцать четыре фута! Двадцать три! Двадцать! – донеслись до них крики с верхней палубы. И тут же команда: – Спустить паруса! Якоря отдать!
Все вокруг наполнилось топотом ног и веселыми криками. Не прошло и нескольких минут, как матросы убрали паруса. Алексий, не скрывая своего восхищения, улыбаясь, смотрел на незнакомое ему действо. Царь коротко всхохотнул.
– Что, старче, нравится ли жизнь моряцкая? Плюнь на монастырь да приходи матросом. Коль разбойником смолоду был, то, значит, будет из тебя в море толк.
– Ах, государь! – вздохнул Алексий. – Будь сие да лет с десятков пять да еще пять назад! Да и мне ли, чудо божие при жизни воочию узревшему, о том печалиться?
Гулко бухнулись в тугую осеннюю воду якоря. Цепи мелодично потренькивали. А наверху матросы с боцманом во главе уже готовили к спуску шлюпку.
– Ну, прощай, отче, – кивнул головой Петр. – На следующий год жди в гости. И благослови.
– Помоги тебе Бог, Петр Алексеевич – перекрестил царя Алексий. – Да, коль война закончится, то тяготы народу поубавь. Тяжко людям. Вспоминай Государь, что корабли сии и города руками да деньгами народными строятся.
Сверху по трапу на нос спускался уже мичман Пашков.
– Батюшка Алексий! – как будто перед ним стоял сам царь, снял с головы мичман треуголку, отдавая честь старику. – Батюшка, шлюпка готова!
– Прощай, Государь, – опустил голову старик и махнул рукой. – Сыне, помоги уж подняться по лестничке вашей, крута уж больно. Стар я!
* * *
– Майор, в случае чего, вы подтвердите, что все произошло случайно.
Гесслер и Кульбицкий, как заговорщики, склонивши воронами головы к воде, заглянули друг другу в глаза.
– Капитан, в случае чего, я ничего не видел.
Часы лежали на дубовой плахе борта, сияя в лучах уже кренящегося к вечеру солнца.
– Майор, я требую, чтобы вы по…
– Да, полноте вам, Гесслер. К черту их! Хорошо, я все подтвержу!
– Другое дело, – заметил Гесслер спокойным голосом и неуловимым движением локтя столкнул часы вниз.
– Ах! Ах! – воскликнули оба и высунулись, любопытствуя, за борт. А часы, перевернувшись раз в полете, плашмя ударились о поверхность воды и нехотя, плавно скользнули вбок, в темную бездну, пуская пузыри. От удара фигурка змея отлетела в сторону, и он, как будто радуясь своему освобождению из плена, весело метнулся над пузырящейся волной и через миг, сверкнув позолотой чешуйчатого хвоста, исчез навсегда, чтобы обрести пристанище на дне Ладоги до скончания веков.
Эпилог
В комендантской избе темно, окна в ней малы и изрядно запылились. Поэтому даже полуденное июльское солнце бессильно утыкается жаркими лучами в пыль на стекле и потрескавшийся от старости серый переплет рамы. На столе, в помощь солнцу, горят две свечи. За столом, изогнутый крюком, пыхтит писарь Еропкин, щурясь на свои каракули через стекла круглых очков. Перо шаркается вкривь и вкось по бумаге. Комендант Олонецкий, Сенявин, вышагивает от стола до двери, чешет голову и бубнит сперва сам себе, а потом медвежьим густым басом писарю:
– Готов? Пиши тако:
Другу дражайшему и камараду Соймонову Федору комендант Олонецкий Сенявин Ларька бьет челом.
– «Камарад», что есть сие? – бурчит, тряся скудной бородкой, Еропкин. – Понадумают ереси латинянской!
– Пиши, знай! – топает ногой Сенявин. – Много будешь знать – скоро преставишься!
Хохочет сам своей шутке и продолжает:
– Друг и камрад! Како и обещал, пишу я грамоту на адмиралтейство, ибо знаем от самого государя, а не как-нибудь понаслышке, что ты по великому делу его, государя, на Каспий море отправлен. А у нас дела все по-старому. С месяц назад государь проездом нас посетил, и пировали мы с ним многажды, прошлую осень поминая. Радостно мне: войне, как видимо, конец виден, и со дня на день от шведа окончательного мира ждем. А благодетельница наша, что государя от хвори избавила, преставилась еще в начале году нынешнего от старости, и многие о том зело горевали! А старец Олексий, что тебе такоже знаком, хворает зело. Я его навещаю, да мню так, что плохих вестей ждать осталось недолго. И сердце моё так и надрывается, где ему подобного здешние людишки обретут? Храни нас, Боже, от того подоле! Тебе, Федя, посылал он свой привет и благословение пастырское, вот передаю. А девчонка Илмы, кою Настей зовут, я у себя по просьбе Олексия-старца воспитую. А как государь назад из града Петрозаводского поедет, то он ее, Настасью, с собой в Петербурх возьмет. Обещал мне государь по челобитью моему отдать ее в воспитание и учение графине Головкиной. Славный кариер! А лето в нынешний год скверное, с многими дождями и ветрено, да так, что аз токмо в бане напарившись, в реку Олонку и лезу, иначе не могу – холоду стал с того году бояться. Кости ломит, друг Федя! А в остальном живем по-прежнему, и коль придется тебе по делам государевым в наши дебри заехать, то рады будем видеть. Комендантус олонецкой и друх твой вовек Ларивон Сенявин.
А писана сия грамота в месяце Иуле, седьмого числа, году от Рождества Христова 1720-га.
Речная сказка

Со времени того чудесного случая, который произошел в наших местах, прошло уже больше ста лет. И хотя очевидцами происшествия было множество людей, но время, как это обычно бывает, стерло многие детали, а память людская, не умея все увиденное и услышанное сохранить, многое или приукрасила, или исказила за несколько поколений. Впрочем, любители старины и историки, стремящиеся во имя науки к максимальной точности, могут обратиться к архивам Министерства внутренних дел времен Александра Второго или архивам Священного синода конца семидесятых годов уже, увы, позапрошлого века… И если материалы эти не сгинули за две мировые войны и три революции, то ищущий будет вознагражден за свое терпение и узнает, что в жизни случается такое, чего наука объяснить не способна. А может быть, во всем, как водится, виновата любовь!
Случилось это летом 1878 года. Колесный пароход «Сом» с двумя баржами бросил якорь в устье нашей реки Олонки… Грузили тогда в устье лес на суда и затем везли его Ладогой и дальше по Неве до порта Санкт Петербурга, а то и дальше: в Англию или Голландию. И, кроме команды, был на борту «Сома» лишь один пассажир – бывший солдат именем Иван. Молод он был, да дел видел, и пороха на турецкой войне понюхал. Да так, что по контузии дал ему сам белый генерал Скобелев полный абшид
[217], а вместе с абшидом и крест на грудь за подвиги, и червонец на дорогу. Ну, как водится, червонец тот Иван уже давно прогулять успел. А взяли корабелы на корабль его от многого уважения к воинским трудам. Пока добирались, все про войну и генерала Скобелева выспрашивали. А как же – герой! А за крест так Ванюшку и стали меж собою звать – «Крестовым». Добирался Иван к своим старикам родителям в город Кемь, что у Белого моря стоит. По воде, чай, не по суше: и путь прямей и короче, и ногам покой. Лето то жаркое было, Ладога ти-и-ихая! Ну, вот они и прибыли. А в устье-то у нас весело! У берега-то галиотов
[218] десятка два доской да круглым лесом грузятся. Со всех сторон – от устей Видлицы, устей Тулоксы да от верховьев Олонки – со всяких мелких пильных заводов судами лес да доску сюда везли, а уж здесь на большие суда перегружали. На них Ладогой плыть сподручнее. Рыбацкие лодки, кто к островам веслят, кто оттеда с уловом гребут. На берегу мужики уху на кострах варят, а какая уха без косушки
[219]? Ребятишки туда-сюда как ужи елозят. Им лето в радость! Очень понравилась Ивану такая картина. От Плевны
[220] доседа куда как дальше – думает Иван – чем отседа до Кеми. Почему бы не задержаться в таком веселом месте на денек-другой? Вот Иван возьми и напросись в артель, к рыбакам. За уху и за погляд на местный парадиз
[221] срядился он в ту артель на три дня. Рыбаки и рады были – был наш Ванюша в силе да и дело гребное и рыбацкое еще с детства на Белом море знал. Недолго они рядились. В тот же вечер уже греб в лодке Иван вместе с тремя своими новыми товарищами. Были там отец и сын Нухчиевы – те карелы, но по-русски говорили хорошо, и один старообрядец русский – Ефрем. Жили же все трое рядом в деревеньке Плотчейлы, что между устьем и Чёрным мысом стояла. Теперь от нее ничего уж, кроме этой сказки да названия на старых картах, не осталось. Капитаном Ефрем был у них. Один ряд поставили, один ряд сняли. Ничего, было сига в том порядке изрядно. Как высадились на бережок в устье, то отправили Ивана хвороста в лесу набрать да уху варить в котелке тут же, на берегу. Уха знатная из сига. А ночь светлая, теплая. Только вот комареи. Прочую рыбу, что в уху не пошла, продали мужики, не мешкая, корабелам. Те рыбу-сига по озерному болтанию своему очень даже уважают и приветствуют. Продали и к костру пришли, Ивановы рассказы про турецкую кампанию и Скобелева-генерала послушать. Любопытно им было с новым человеком познакомиться. Отец Нухчиев сына за косушкой послал. Тут совсем стало им весело. Только Ефрем к казенке не прикоснулся. Старообрядец он был. И табак за дьявольское зелье признавал, и к водке – ни-ни – не прикасался! Да, ему же и хуже. Долго рассказывал Иван про свои мытарства на войне. И как он крест от самого Скобелева за отбитый у басурманов бунчук
[222] получил. И как контузило его в деле при Плевне так, что пластом замертво лежал, а дохтур уже и рукой махнул – не жилец, мол! Как болгары их вином и грушами угощали. Спрашивали карелы, что за дело такое – груши? Отродясь груш они не видали. Рассказывал Иван про страну Молдавию также и про фельдфебеля своего, что солдатских зубов не жалел, тоже рассказал. И как тому в деле под Адрианополем гранатой башку оторвало, то никто о ем и не пожалел. Да, бывалый человек был Иван! Помянул и про червонец, что Скобелев ему на дорогу дал. Да только где теперь тот червонец? Давно по кабакам мелочью рассыпался. Оттого и взгрустнулось ветерану. Внимательно слушал его Ефрем, а тут он Ивану и говорит: – А знаешь ли, Ванюша, что целый кошель с золотыми червонцами совсем близко от нас на дне Олонки лежит, удачливого ждет? Тут ведь у нас дела темные, и люди разные. А между разными людьми и случаи разные бывают. – А что, Ефрем Селиверстович, случилося у вас такое, и как тот кошель на дне речном оказался? – Спрашивает его Иван. Задумался капитан ватажный, подумал-помолчал с минуту, а затем махнул рукой, мол, была не была, и начал так: «Ну, Ванюша, верь не верь, а слушай. Три года как тому назад жила соседями у Нухчиевых семья одна. Приехали они сюда уже давно, да не на добро. Семья-то большая была, одних детей штук семь, а то и поболе. Да потом беда к нам пришла: стала оспа людей валить. Ну, лекарь у нас далеко, в Олонце, да делов ему и там хватило. И дороги здесь, сам видишь, черт с ведьмой проложили. И так вышло, что вымерло семейство в месяц один. Осталось от нее всего-то отец да дочка старшая, Марьей ее звали. В самом цвету девка была, красавица! И работящая, и домовитая. Отец, Василием его звали, нарадоваться на нее не мог.

Со всей губернии жениховаться повадились сюда женихи, и подарки дарили, и слова говорили, едино только, что ужами не ползали. Всякого роду то женихи те были. Бывали и полету высокого люди, не нам чета. Но как-то ни с кем у Марьи той ничего не связалось, да и отец у ней хворый был сильно, может оттого все так и было. А наезжал между женихами и один наш местный купец, сильный человек Яков Портнов. Яшка во Олонце пильный завод имеет, да один во Тулоксе, да торговля у него мануфактурой почитай во всей губернии. Одним словом – человек сильный! Правду сказать, жила он – Яков Михалыч с молоду был, а теперь и вдвойне ожаднел. Работники у него, какие доску на галеоты грузять, тощие, как коты дворовые. Всех он их в кулаке держит! Едино только, боится он больше всего жены своей, потому что весь капитал для дела он у нее получил и она всем заводам его настоящая хозяйка. Ну, так вот, Ванюша, это все присказка была. Не могу сказать, где и как он Марьюшку ту повстречал. Здеся всё просто: и у ней дом здесь стоял, и суда на Питербурх тут же грузятся лесом хозяйским. Аль, может быть, что слух о красоте ее до Якова дошел. Стал купец частенько сюда приезжать, ну и как-то знакомство с нею и свел – мир-то тесен. И натурально красота её Якову Михалычу лысую голову свихнула. Стали люди говаривать, что Яков начал Марьюшке платочки шелковые дарить да слова сладкие говорить. Мастак он на это дело, Яков-то. Купчина первостатейный! Котом ласково мурчит, а сам так кохти и норовит в руку воткнуть. Но Марья на те слова и на платки внимания не обращала – гордая она была. А потом и вовсе не велела тому ни с подарками, ни без них возле её дома появляться. Тут купец на дыбки и взвился! Удивительно то ему было: привык он, что все ему, как фараону египетскому, поклоны бьют, ручку целуют, да всё Яков Михалыч, Яков Михалыч! Как увидел Яшка, что дело его скверное и больше платками ничего не добиться, а обида сердце то гложеть, тогда задумал он совсем поганое дело. Уж не знаю, силком ли взять хотел девку али как по-другому опозорить, за обиду свою отомстить, но вконец решил её украсть. Сам-то он на это дело, конечно, не пошел, а отправил двоих своих прикащиков – Ерёмку с Гришкой. Те псы не лучше хозяина – тот за копейку удавится, этим и звона хватает в петлю влезть. Где они, нехристи, ее встретили, да как все дело сотворили – уже неясно, но видели люди, что связали они Марье руки, рот тряпкой заткнули и в лодку затащили и отчалили тут же. Марью-то любили все за красу и за доброту, а потому как крикнул кто-то, что уворовали ее да в лодку бросили, так все мужики с топорами на берег и кинулись, перехватить воров хотели. И бабы вслед им! Только не к чему бежать было, и все дело то быстро сделалось. Оба-то вора, Гришка с Ерёмкой, пьяны были и за Марьей не углядели, а та, говорю, гордая была, и от унижения, по гордости своей, прямиком на середине устья с лодки и бросилась! Ну, те того не ждали, весла бросили, заелозили туда-сюда. Видят, не всплыла Марья-то. Сначала почали было раздеваться, чтобы из воды ее достать, да где там! Сами бы спьяну перетонули! Испугались они, доплыли до другого берега да в лес, как зайцы, и сиганули! Потонула Марья. Народ на лодках тут подоспел, давай нырять да баграми чапать, но куда там! Не нашли, видать, в озеро её течением унесло, а там ищи-свищи, в озере-то.
Тут замолчал Ефрем, и молчал долго. Подождал его Иван, подождал, а потом и снова спрашивает: так, мол и так, а что же, Ефрем Селиверстович, дальше было? Встрепенулся тут Ефрем, как от сна, и дальше продолжает:
– Потонула Марья. Тут становой
[223] с двумя урядниками
[224] явился, еще какие-то чины, разбирательство, суд да дело. Все, конечно, в один голос, так, мол и так, и про гулянки купеческие, и про платки шелковые, и про прикащиков все порассказали. По всему выходит, что брести бы Якову на каторгу в кандалах. А полиции-то неприютно. Им начальствию отчёт давать, а по отчёту руку кормящую они обязаны от себя удалить. А уж они у Якова много ели и пили. Покрутились они, повертелись да и отъехали во Олонец. Вечером наезжает сам купец. Тут его сразу в реку и метнули бы, да он к отцу Марьи, Василею, – ширк! Выходит опосля часу сам Василей и говорит, чтобы купца никто не тронул, и все ему в том слово дали. И вот выходит тогда за Василеем сам купец, бледный, как полотно, и губы трясутся. И идут оба к реке, прямь напротив того места, где Марья утонула. Все, конечно, за ними. Подошли Яков и Марьин отец к воде. А мы все поодаль остановились и смотрим. Тогда и я там был. Видим, достает Яков из-за пазухи мешочек, а в мешочке том всё монеты золотые, потому что он несколько монет из мешочка на ладонь высыпал и отцу Марьи показал. И потом мешочек этот он Василею отдаёть прямо в руки. Отдаёть, а сам аж побурел от жадности своей к деньгам, и по всему видать, что трудно будет ему в судный день в игольное ушко лезть! Замерли мы. Вот, думаем, неужели отец-то дочь родную, кровинушку последнюю продал? Только слышим мы, что Василей купцу и говорит: «Мне теперь деньги твои не нужны, душегуб, деньгами этими Марьюшка, доченька моя, пусть владеет. А тебе – Бог судья!» И забросил тот мешочек на середину реки, где Марья утонула! Купец тут задом да боком и к бричке поскорей. Если бы слово Василею не дали, что не тронем Яшку, ей-ей, тому и минуты бы не жить на белом свете! И месяца не прошло с того дня, как умер Василей. А купцу тоже ничего и не было – так это дело и заглохло. А дом Василея вскоре сгорел, уж не знаю, почему. А кошель так никто и не нашёл, хотя охотников много было. И ныряли, и кошкой скребли, и багром шерстили. Работников своих Яшка-то с реки целую неделю не выпускал. Ныряли, тоже искали. Он их самолично обыскивал – ощупывал, чтобы, не дай Бог, хозяйская деньга не пропала. Да попусту! Ничего – пропал кошель! Так до сей поры там он и лежит. Вроде, и достать просто. А, – закрутил головой Ефрем, – карелы-то говорят, что невозможно достать деньги те, потому что стережет их сила нечистая – хозяин речной! Иисти карелы его называют.
– Что же ты, дядя Ефрем, всякой сказке веришь? – говорит Иван. – Я вот от господ офицеров слышал, что не только нечистой силы, а даже Бога, и того нет!
– А я вот верю. И в кикимору всякую, и в другую нечисть! Места тут дремные и воды тёмные.
На том они разговор и закончили. Задумался Иван. На следующее утро отправились они снова в озеро. Пока сети смотрели, помалкивал солдат, о чём-то своем думал и в разговоры не мешался. А как к полудню в устье они вернулись, то выпросил Иван у Нухчиева старшого лодку. Так и сказал, что кошель добывать собирается. Тот посмеялся, конечно, да лодку дал. Любопытно ему стало. Заякорился Иван в месте указанном и давай в воду нырять. Потом видит – дело не идет, спустил еще одну веревку с грузом с борта лодки, привязал как след и продолжил нырять, но уже с малой корзинкой. Донырнет до дна, одной рукой за груз держится, а другой вокруг шарит и все, что в горсть попадет, в корзинку мечет, пока воздуха хватает. Затем по веревке с нею наверх выныривает и в лодке что наловил, осматривает, отдышивается. Затем опять в воду. На берегу уж народ собрался, гогочут, потешаются над Крестовым. Да улов-то у Ванюшки – корье, камни, да ракушки. Плюнул он в реку да к берегу и отплыл. Так притомился он, что не евши, не пивши, прилёг на травку прямо на берегу и заснул. Спит. Долго ли, коротко ли он спал – неизвестно, да только мнится ему сквозь сон, что как будто бы кто-то щекочет его да смеётся! Приоткрыл он глаз один, а потом от неожиданности обоими заморгал. Сидит рядом с ним девушка, щекочет ему нос былинкою да посмеивается! Сидит, ноги под себя поджала, а как увидела, что проснулся Иван, и спрашивает его:
– Что, притомился, Иван? И взаправду хочешь ты кошель купеческий со дна реки достать?
А голос звонкий у неё такой, а сама такая вся с глазами зелеными, ведьмиными! И волос у нее мокрый, как будто купалась только что. У Ивана голова закружилась.
– Хочу, – говорит, – и достану непременно, если он там по сию пору. И как звать-величать тебя, красавица?
– Машей меня батюшка с матушкой величали, а жила я там. – И рукою в сторону деревеньки показывает.
– Да где же? – спрашивает Иван и повернулся, чтобы в ту строну глянуть, куда девица показывает.
А когда назад голову повернул, то не было ее на берегу. Исчезла она, как сквозь землю провалилась. Обошел Иван всё кругом да никаких следов не приметил, только на песке, у самой воды, как будто бы кто в воду ушёл. Тёр глаза Ваня, крестился, даже руку себе ущипнул. Так неясно ему стало, приснилась ли ему красавица Маша во сне или все наяву было? Поутру, на рыбалке, не стал никому он про сон свой рассказывать, чтобы не засмеяли его товарищи. И как вернулись, погрёб упрямец снова на стрежень, удачу свою искать. Только не было ему удачи и на этот раз! Глаза покраснели от мути речной да палец об ершиный плавник наколол. Народ уж к этой картине привык и особо не собирался. Пусть, де, добрый молодец тешится. А добрый молодец воды нахлебался да, махнувши рукой, к берегу погрёб. Припекло его солнышко, обдул ветерок, и заснул Ваня снова на том же месте, прямо у берега. И так чихнуть во сне захотелось ему, что и сон слетел. Вскочил Иван на ноги, головой как лошадь мотает, глядь, а девушка, что вчера ему являлась, рядом сидит да над ним снова потешается! А как глянула она тому в глаза, и почувствовал солдат, что пропал он куда хуже, чем в деле под Плевною. Влюбился Иван! А девица смотрит на него да смеется. И спрашивает потом:
– Знать крепко ты, Ванюша, в свою удачу веришь. Все еще думаешь, что кошель тот отыщешь?
– Верю, Маша, – отвечает ей Иван, – раз Бог меня на войне уберег, то после этого я и самого черта не боюсь и всю реку от устья до истоков сквозь пальцы пропущу, а кошель тот непременно мой будет!
– Чудный ты, Иван. И человек хороший. А скажи-ка, веришь ты, что наяву со мной разговариваешь? – говорит ему девушка, а сама, знай, улыбается.
– А вот дай мне руку, ясная, – отвечает Иван, – тогда скажу!
– Хорошо же, я дам тебе руку, Иван, только ты сначала закрой глаза, – говорит ему дева.
Иван руку к ней протянул и глаза закрыл. Тут почувствовал, что в руке у него что-то скользкое да холодное шевелится. Открыл он глаза, смотрит, а там лягушка сидит да щеки надувает. А рядом нет никого. Ничего тут Иван понять не мог. Откуда лягушка в руке взялась? Куда девушка пропала? Может, и впрямь все это снится ему? Ну, – думает он, – подождём до завтра. А утро вечера мудренее! Утром, как обычно, спозаранку мужики в озеро отправились. Опять Ваня сопит себе на веслах да помалкивает. Капитан Ефрем Селиверстович всё глаз на него косил, косил, а потом всё-таки не стерпел да спросил: снова ли сегодня Иван в реку полезет? Мол, может бросить дело это зряшное? Ведь могло статься, что кошель тот кто-то да нашел, только не сказал никому, чтобы Яков-купец его не отобрал.
– Чует мое сердце, – отвечает Иван, – что сокровище меня ждёт-поджидает. И его я достану непременно!
Тут старший Нухчиев его оборвал.
– Ты, Ваня, хоть и герой, да брось это дело!. Уже давно бы то золото достали и без тебя. Охотников-то было хоть отбавляй. Это и Ефрем тебе подтвердит. Золото это проклято, и стережет его не иначе, как Иисти – хозяин речной! Ты этот кошель возьмёшь, а он в твоей руке горстью песка да коры обернётся. Во как! И шутки с ним плохи. Особенно если человек жаден или обманщик. Было всякое. Поэтому и тебя предупреждаю: не ищи ты его!
– Еще разок попробую, – отвечал ему Иван, – а вдруг я чем этому Иисти и приглянусь. Я его обманывать не собираюсь. Половину денег ему отсыплю. Так и поделимся: ему за сохран, а мне за терпение.
Тут и засмеялась вся команда. Вечером Иван в лодку прыг и на середину реки давай выгребать. Тут чует он, однако, что лодка ни с места не двигается, будто на камень подводный налетела. Повернул Ваня голову, чтобы вперед посмотреть – глядь! – а там девица давешняя сидит да улыбается.
– И куда же, Ванюша, ты опять собрался? Неужели опять воду мутить да кошель ловить? – спрашивает она.
– Маша! Да откуда же ты в лодке взялась? Ведь не было тебя! Вот ведь радость, давай тебя хоть на лодке прокачу. Люба ты мне, Марья!
На то, однако, девушка ему уже серьезно отвечала:
– Ваня, милый, и ты мне люб с самой первой минуты, как тебя увидала! И на лодке этой хоть на край света с тобой плыла бы, да не судьба мне! Тяжек мне воздух земной, не могу я долго им дышать. Разве ты не догадался ещё, что русалка я, хотя когда-то и была человеком?
– Это не про тебя ли мне капитан наш – Ефрем Селиверстович – рассказывал? Что купец Яков тебя, будто бы, выкрасть хотел, да ты не далась и с лодки в реку бросилась? Неужто так и впрямь бывает, что человек в русалку может обратиться?
– Сам теперь видишь, что может. Пожалел меня, сироту, хозяин речной – Иисти. Любит он меня, словно дочь родную. Потому и отпускает меня в мир земной, чтобы не скучно мне было между рыб да нерпушек с русалками. Только сейчас речь не о том, Ваня. Время мое земное сейчас закончится, поэтому спрошу: ты кошель купеческий всё еще хочешь добыть?
– Хочу, Маша, ведь мне перед товарищами моими стыдно будет, коли ничего не найду. Я ведь им слово дал, что непременно его со дна реки достану!
– Тогда слушай же, что тебе сейчас скажу: золото то в сундуке у речного хозяина меж другими сокровищами лежит, и тебе его так добыть никак невозможно. Хозяин речной день-деньской его сторожит да сокровища пересчитывает. И ключи от сундука он всегда на плавнике своем таскает. Но мы вот что сделаем. В полдень, когда солнышко в самый жар, ложится мой батюшка меж водорослей на час почивать. Но как мне ключ добыть да сундук открыть – это дело мое, а ты слушай, что тебе завтра сделать придется. В самый полдень возьми свечу или лампу керосиновую и человека одного на весла, потому что одному тебе с этим не управиться. Пусть напарник твой выгребает на середину речки да потихонечку к озеру гребет, а ты в это время сам на носу лодки будь. Зажги свечу или лампу, а сам в воду гляди. И как увидишь в глубине воды вроде как светлячок в ответ, то знай – это я тебе знак подаю. Сразу же опусти в воду руку, и как почувствуешь кошель тот в руке, то сразу же руку из воды вынимай, иначе щуки сторожевые тебе её откусят! А там как Бог даст. А теперь прощай, Ваня, и ни в чём не сомневайся!
Только сказала эти слова девица, да тут же за борт лодки и сиганула. Только ее и видели!
Едва уговорил Иван утром капитана Ефрема Селиверстовича оказать ему помощь, веслами поработать. Старший Нухчиев сразу же отказался, как отрезал из суеверия, и сыну запретил, хотя мальчишка и рад был бы пособить. Но лампу керосиновую одолжил, хотя, крякнув сердито, припомнил и сатану и черта. Как-то народ то дело пронюхал, но, видать, слухом земля полнится, а потому к полудню весь работящий люд – шкипера, сплавщики, матросы, грузчики и девки с бабами – уже у лодки Ивановой ждали, семечки лузгали да посмеивались лукаво. Однако Ивану было не до смеха – серьезен был Ваня. И Ефрем, хоть и не верил в дело это сумнительное, но, видя такую серьезность, прежде чем за весла взяться и сам перекрестился. Вот дело то чудное! Как склянки на судах полдень пробили, выгреб Ефрем напротив горы большой – Песчанки, на середину реки, развернулся к озеру и погреб к Ладоге без спешки. Иван в это время лампу зажёг и с носа лодки склонился, в воду речную заглядывает. Стихли все, кто на берегу стоял, даже семечки лузгать перестали. Тишина! Только вода о борт лодки поплескивает да чайки визжат, как смеются. Так догребли они чуть ли не до озера. И народ вдоль по берегу шествует, но как видит, что ничего не происходит, опять начинает пересмеиваться. Ефрем лодку развернул встречь течения и назад к Песчаной горе гребет. И народ по берегу им вслед – ну, чисто крестный ход! Доплыли они до Песчанки. На берегу жена Ефремова, что прибежала с деревни, про чудачество мужа прослышав, как завизжит во всю глотку: «А-вой-вой, Яфрем, знать, совсем сдурел старый пень на старости-то годов! Посмотрите, люди добрые, на двух дураков: один старый, другой ранетый! Нет бы рыбу ловить да сети чинить, так нет! – они с фонарем средь бела дня по речке шлындают!»
Ефрем, слыша то, покраснел и говорит Ивану:
– Ну, Ванюша, ты как хочешь, а я боле с тобой позориться не намерен. Видать, теперь до гроба надо мной люди смеяться будут! И дернул же меня нечистый на такое дело! Ахти мне. Всё, к берегу гребу!
Но как увидел, что у Ивана слезы на глазах от досады показались, то парня пожалел и решил в последний раз до устья догрести. Хуже уже не будет. Так плывут они снова к озеру. Иван уже отчаялся. Проклинал он в душе упрямство свое, да еще и в досаду то ему было, что, кроме себя, он и Ефрема на смех выставил. Однако делать нечего, плывут. Народ, посмеявшись да посудачив, начал уже расходиться. Что с дураков возьмешь! Ефрем же с Крестовым, тем временем, уж до места, где Марья утонула, догребли. Тут и до озера совсем ничего осталось.
Иван всматривается в темь воды, а с глаз слезы текут. Уж лучше бы турки ятаганами
[225] на войне посекли, думает. Вдруг видит Иван, в глубине речной как будто бы огонек мерцает. Погаснет и снова зажигается. У солдата чуть сердце от волнения из груди не выпрыгнуло! К этому-то огоньку Иван руку под воду и протянул. И чувствует, как будто бы что увесистое у него в ладони оказалось. Тут вспомнил он слова Марьи и, не мешкая ни секунды, руку из воды вытащил. И вовремя: в тот же момент в месте, где только что рука была, как капкан пасть огромной щуки клацнула-захлопнулась!
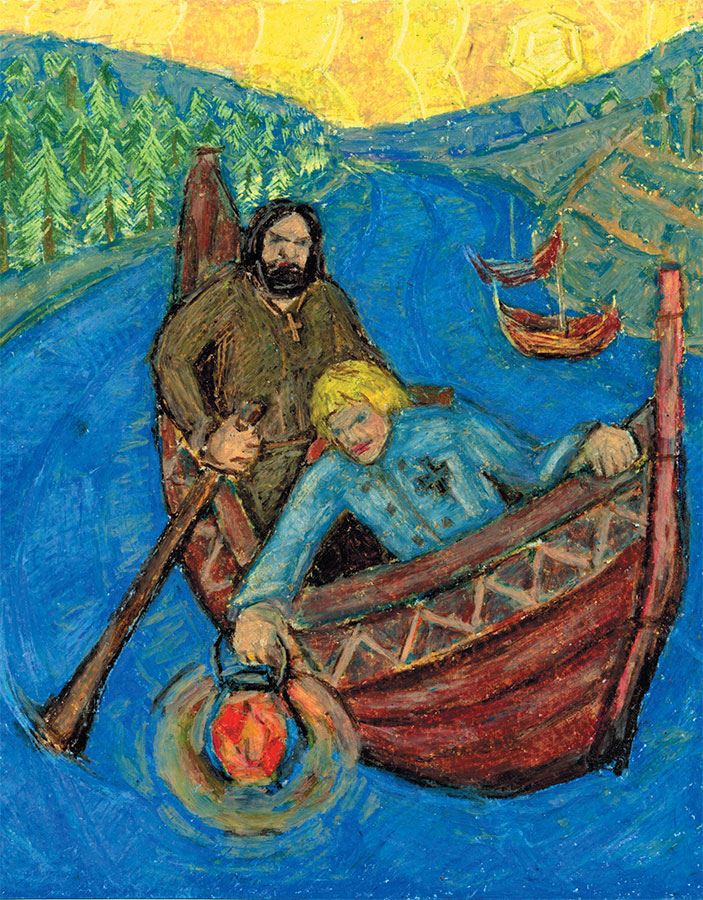
– Ефрем, Ефрем, смотри! Что это я вытащил?! – кричит Иван. Ефрем от неожиданности аж весла в воду выронил – не ждал он таких эмоциев! Весла подобрали, смотреть начали. Держит Иван в руках кошель кожи тонкой, работы доброй, а в нем с фунта
[226] полтора червонцев золотых. Единственно только, что тиной все заросшее. Как запрыгали, как заплясали Ванька с Ефремом в лодке, будто дети. «Уррра! Урра!» – один кричит. «Нашёл! Нашёл!» – второй. Как на берег выскочили, то там весь народ снова сбежался! Одни «Ура Крестовому!» кричат, другие в затылке чешут. Как такое чудо может быть, чтобы на реке с лампою кошели с деньгой ловить? Тут не без нечистой силы! У третьих от зависти аж глаза загорелись. Ну, что же, – все люди, все человеки! Но и пяти минут не прошло, как начались здесь чудеса еще почище, о чем ещё много лет здешние судачили да детям-внукам пересказывали! Послышалось сначала, что на реке, что-то забурлило, заклокотало да волны пошли, как будто от колесного пароходу с Питера. А как в ту сторону посмотрели, а там – страх! – всплывает из глубины чудовище вроде бревна али лодки перевернутой с мерзкой налимьей мордою, длиною с саженей
[227] десять. Да всё в
тине и водорослях зеленых, склизких! Аж болотом вокруг повеяло. А глаза-то – страх! – с тарелку добрую, лупастые, нечистые! А лапы-то мерзкие, пупырчатые, как у жабы или лягушки! Их чудище на песок речной-то и уложило. Такое увидев, сначала бабы с девками как завизжат! Да и кто куда! А за ними вслед и мужики со всех ног от греха подальше! Самые смелые только из-за дальних кустов на чудище посмотреть осмелились. Остальные с мольбою по домам да по углам. Один Иван остался на берегу, даже Ефрем и тот со страху сбежал. А чудище тем временем запыхтело-заговорило, как тот паровоз, на котором Иван от Киева до Питера ехал.
– Пффф, пффф! Значит это ты, Иван, мои деньги украл? Пффф, нехорошо, уж возверни. Недобро тебе от ворованного будет! Это ведь даже не мое – это мне дочка моя восприемная, Марьюшка, отдала. Как же мне теперь ей отчёт давать? Уж отдай мне кошель, Иван!
Даже показалось Ивану, что у чудища слеза зеленая на глаза навернулась. Жалко стало его Ивану.
– Дозволь спросить, не ты ли есть Иисти – хозяин речной? Много про тебя мне здесь говорили, а я и не верил, прости.
– Пффф! Я и есть. Всей Олонке, от истоков до устья – я хозяин! И берегам, и дну смотритель, и водам заведущий. И рыбам, и русалкам, и судам, и людям. И травам, и малькам, и ракушкам! Хлопотное дело: за всем смотришь, а за добром домашним не углядел! Ахти мне, старому! Никак без вора домашнего не обошлось. Иначе тебе, Иван, кошель этот не добыть ни в жизнь!
– Прости меня, хозяин речной, Иисти-батюшка! Не знал я, что кошель тот Марьюшки. Люба мне она! И коли знал бы, не стал бы я его искать. Возьми и не гневайся на меня впредь!
Сказал и, поклонившись, кошель тот на песок перед хозяином положил. Тут Иисти опять запыхтел да зафыркал:
– Дивлюсь я тебе, Иван! Редко то бывает, чтобы человек сам от богатства отказывался! Пффф! Уж на что я не беден, да, пффф! – ежели что с корабля купеческого или лодки какой в воду упадет, то уж я того назад не отдам! Пффф, нет, не отдам! Но раз так уж дело обернулось, то проси у меня чего хочешь, чтобы помнил речного господина! Всё по слову твоему исполню!
Тогда поклонился Иван чудищу еще раз и говорит:
– Если ты слову своему хозяин и мое желание непременно исполнишь, то тогда отдай мне дочку твою восприемную – Марью Васильевну. Люба она мне! Да и негоже человеку среди рыб век коротать. Должна она честной женою быть, деток растить, да мир божий украшать – мужа радовать!
Тут запыхтело, забурчало чудище, да так, что на реке волны пошли.
– Пффф! Пффф! Иван, а Иван! Жалко мне дочку мою приемную отдавать! Пффф! Вот что! Давай я тебе сундук новгородский с жемчугом отдам – уж 500 лет как без дела лежит. Да серебра ведро отсыплю. Пффф! А еще как солдату пистолет с бриллиантами на рукояти. А, Вань? Не губи старика!
– Знать ты тогда обманщик и слову своему не держатель, – отвечает Иван чудищу, – а я-то думал, что мне за второго батюшку будешь! А ты мне жизнь ломаешь. Ведь и Маша меня тоже любит. Думаешь, кто мне помог кошель из сундука твоего, на ключ запертого, добыть?
– Ох-ох! Горе! Пффф! А я-то её баловал-лелеял, в мир выпускал! Значит так Иван! Вот слово мое. Так и быть, если она тебя любит, то отпущу её. Ежели нет, не обессудь – мы налево, а ты, брат, направо. И шагом марш! Эй, щуки мои, на посылках! Кликните мне Марью да поживее! Чтобы в сей секунд тут была!

Да как хвостом по воде треснет! Ивана волной с головы до ног аж окатило! Трех минут пройти не успело, как с глубины речной на берег Марья выходит. По праву-леву руки у нее нерпушки, точно собачки, а сзади щуки гоголями пастями щелкают – охраняют. Очень это все преудивительно было! Вышла она на берег, увидела Ивана и покраснела. Отвернулась затем к чудищу и, поклонившись, сказала: «Никак звал меня, батюшка?»
– Ох! Пффф! Ответствуй мне Марья, да без обману! – заговорил речной хозяин. – Правда ли, что, пока я после трудов многих меж водорослями лежал, ты воровски ключ от сундука с добром у меня с плавника стянула да сундук отперла и кошель с золотом купеческим оттуда забрала. А потом – пффф! – горюшко! Ивану отдала?
Поклонилась девица Иисти еще раз и отвечает: «Все правда, батюшка. Моя вся вина, и ты его не кори. Как хочешь, так меня и наказывай!
– Пффф! Пффф! Ай-ай! Уж я тебя лелеял, обхаживал! Дочь родную так не лелеют, как я тебя! Ведь никакой работы тебе не давал! Никакой заботой не утруждал! Волос тебе судаки-куаферы
[228] завивали да причёсывали! Нерпушки на саночках катали! Двор то весь лилиями водяными обсажен! Бусы жемчужные новые в каждый день примеряешь! И вот тебе благодарность! Украла! У батюшки украла, благодетеля!
– Наказывай меня, батюшка, как тебе вольно. Мне же подумалось, что отцу моему купец Яков Портнов то золото отдал, а отец, в свою очередь, мне в дар бросил. Потому я и решилась на такое дело. Ты ведь, батюшка, сам говорил, что только для меня его и стережешь. Надо было мне только сразу тебе о том сказать, что оно мне надобно!
– На что же, дочка, оно тебе понадобилось?
– О том я тебе, батюшка, тоже не говорила, но раз так всё так вышло, то скажу: полюбился мне Иван. Всей душою полюбила я его! Все ему отдала, сердце бы из груди вырвала, лишь бы счастье ему было! А коли так, то что дальше со мною будет, уже все равно!
– Пффф! Ах-ах! А знаешь ли ты, девка, что Иван меня просил тебя ему в жены отдать? Пффф! Уж очень я хотел тебе партию устроить за сына озерного царя! И мне честь, и тебе почёт! Осетры да форели бы тебе услужали! А богатства! Я нищеброд по сравнению с ними – владыками озерными! Пффф! Тогда скажи своё последнее слово: пойдешь ли за Ивана или сына озерного царя? Как скажешь – так тому и быть!
– Батюшка Иисти, прости, что не могу отблагодарить тебя за добро, что ты мне, сироте, сделал! Отпусти меня из русалок к людям ради Бога! Люблю я Ваню, и если он в жены меня взять захочет, то верней меня жены во всем свете не сыщешь, а меня счастливее!
Тут Иван к ней подскочил и обнял.
– Никому, – сказал, – тебя не отдам, и к русалкам больше не отпущу, так и знай! Видя такое дело, речной хозяин вдругорядь слезу зеленую пустил.
– Раз такое дело так идите с Богом, и совет вам да любовь! Пффф! Ох-ох!
На то Иван да Маша чудищу поклонились и собрались, было, идти, но Иихти их снова остановил.
– Недобро мне, старому, вас без подарка оставить! Ты, Марья, не обессудь, кошель этот я себе в память оставлю, а вам… Эй, щуки мои, на посылках! А ну принесите мне шкатулки свейские
[229] да поскорее!
Да как хвостом по воде щелкнет! А народ уже осмелевать начал, из-за кустов лезет рот разинув на такое чудо! Ближе подбирается. Да и как рот не разинешь? Виданое ли дело, чтобы четыре аршинные щуки попарно серебряные ларцы в плавниках тащили! Да, видно, день такой был тогда, на чудеса богатый! Народ аж охнул, завидев, что ларцы те свейской тонкой работы золотом были полны. У Ивана с Марьей головы кругом пошли, уж совсем не знали, как хозяина речного благодарить! А Иисти уже хвостом на прощание махнул да через ноздри пузыри пускать начал, к погружению готовиться. Вдруг на дороге шум, треск да крики! Это бежит к берегу сам купец Яков Портнов с приказчиками. Потная лысина на солнце блестит, борода развевается!
– Стой! – кричит. – Стой, морда налимья! Долг за тобой!
И откуда Яков взялся? Черт его принес. Видать, где-то неподалеку у судов был да про Ивана с кошелем-то и услышал. Завидев купца, хозяин речной погружаться перестал – одни глаза да ноздри из воды торчат. Смотрит, глазищами хлопает, ждёт. Подбежал купец к реке, подбоченился, руки в бока упер и живот выставил.
– Значит, так, морда твоя налимья! Ведомо мне стало, что золото, которое я кровью и потом всю жизнь зарабатывал, у тебя пребывает. А я его-то уж искал-искал! Жена мне, опять же, всю плешь проела! По уложению Российской нашей Амперии деньги те, как мне принадлежащие, должно тебе мне вернуть, да с процентами за три года! Выходит, что троекратно. Деньги попрошу наличкой, на бочку и сейчас же! Иначе суд, батоги и каторга!
Высунуло чудище морды из воды побольше.
– Значит, это ты и есть купец Яков Портнов? Пффф! Значит, это твои пароходы колесные мне воду мутят? С твоих заводов корьё да щепа с сучьями всё дно засорило, да так, что ни проплыть ни проехать? Девочки-плотвички день и ночь плавниками метут, дно чистят! А толку нет! Это с твоих плотов топляками река полна? В темную ноченьку и шишку набьёшь, и глаз повыколешь! Уффф! Да вижу, что жаден ты не в меру! Втрое больше потерянного просишь. Не лопнешь?
– Не сметь так с купцом первой гильдии по-хамски разговаривать? Па-а-а-апрашу иметь в виду, что за оскорбление по законам той же Ра-а-асийской нашей Амперии штраф положен! Считай, что должен ты мне четырехкратно! Деньги па-а-апрашу золотыми империалами, наличкой на бочку. И немедля! А коль не отдашь, то я речонку твою-то осушу! В верховьях на Мегреге да Олонке плотины поставлю, всё устье сетьми перегорожу и добро твоё-то повыгребу! А живность твою – плотиц да окуньков – в озеро выгоню с тобою вместе. Будешь на чужбине старость коротать!

Долго думало чудище, молчало да глазами хлопало. А потом и говорит купцу:
– Ладно, купец Яков! Будь по-твоему. Чтобы ты детушек моих на чужбину не гнал, не гнобил, дам я тебе денег, сколь ты сказал – вчетверо! Эй, щучки мои на посылках, подать сюда кошель, да золота шесть фунтов!
Вот спустя минуту тащат щуки кошель с золотом, плавниками воду бурунят – надрываются. Хозяин тот кошель в лапу то и взял.
– Вот, купец Яков, твое золото. Только я его так просто не отдам, потому что иной своим потом и трудом за всю жизнь столько не заработает, а ты в минуту без труда его хапнуть хочешь. Не по-божески это! Так вот: я этот кошель сейчас на серед реки брошу, а ты сам его со дна достать будешь должен. И никто другой, кроме тебя. Иначе его тебе не видать! Вот какой мой уговор. А теперь смотри, купец, где кошель упадет, да место запомни. И прощай, помни хозяина речного!
И ка-а-ак взмахнет лапою своей жабьей! Полетел кошель дугой по воздуху и упал прямо посередине реки – только круги пошли! А пока все за ним смотрели, исчез под водою Иисти – хозяин речной, – словно его и не было. Только на песке береговом отпечаток остался, как будто бы лапы лягушачьей. Только таких лягушек в краях наших не водится. Тут купец заорал, замахал руками: скорей, кричит, лодку, весла, лентяи! Приказчики его сами рады стараться. Им весело смотреть, как хозяин самолично кошель будет со дна имать. Погрузились в лодку. Один приказчик на веслах, второй на руле и к месту, где кошель лежит, подгребают. Купец же ругается, их поторапливает, а сам тем временем с себя жилетку с рубашкой дерет. Все с себя поскидывал и в одних подштанниках остался! Ну, подгреблись они и бросили якорь, чтобы течением лодку не сносило. Яков-то перекрестился, воздуху вдохнул поболе и за борт солдатиком – бух! Только пузыри за ним. Через минуту выныривает, ругается. «Темно, – говорит, – все в иле да коре!» И не отдыхая вдругорядь с лодки – бух! Минута проходит, снова выныривает купец. Воздух хватает, глаза пучит как рак, кричит: «Там он, робяты, видел, да схватить не успел! Сейчас подниму! Эх, обоим на водку дам, да бабам вашим по платку!» Те и рады. Обычно от хозяина подарков-то, что только по морде. Ну, купец в лодку влез, отдышался немного и снова за борт прыгнул. Только на этот раз уже щучкой. Плывет купец под водой, пузыри пускает. Вот уже и дно. А вот и кошель меж сучьев и тины лежит. Тут его Яшка и цап! А тот тяжелый, как сам Яков и заказал. Ко дну тянет, и плыть с ним с одною свободной рукой неудобно. Сучит купец изо всех сил ногами, как мельница, одной рукой машет, но дело тихо идет, а глубина-то большая! А воздух-то уже весь выходит! «Нет, шалишь! – думает себе купец, – я такое богатство живьем из рук не выпущу!» И, знай, воду загребает. Он вверх гребёт, а кошель его вниз тянет. Однако до поверхности уже не больше сажени осталось, но тут последний воздух в груди купцовой и закончился. Заикал он, задергался. Брось кошель, купец, еще успеешь поднять! Нет, не выпускает Яков его из руки, а у самого уже круги перед глазами. Икнул он грудью, ухватил воды мутной речной и пошёл ко дну, так золота своего из рук и не выпустив! Как раз на том месте, где когда-то Маша утонула! Приказчики ждали минуту, ждали вторую. Надо в воду лезть, а Яков лезть в воду им крепко-накрепко запретил. Но тут дело нечистое! Стали народ зазывать на помощь, руками махать. Никто, конечно, за Яковом нырять не отважился, памятуя о водяном чёрте. Вода в июле теплая. Перегородили сетью реку в самом устье. В эту сеть бывшего купца первой гильдии Якова Портнова через три дня и принесло. Правда, уже без золота. Никто о нём не пожалел и слова доброго не сказал. Ну, может быть, только что становой с урядниками, да прокурор, да судья в Олонце. Они у Якова, как гуси, кормились и пировали. Да и горевать некому было. В тот же день срочно послали за попом в Олонец, и к вечеру он Ивана с Марьей-то и обвенчал в местной часовне. Поначалу, услышав рассказ о чудище да о невесте из бывших русалок да утопленниц, отказался наотрез. Но позже, получив три золотых червонца в бакшиш
[230],выпив, страха ради египетского, две косушки и, крепко поразмыслив о словах Христовых, что Бог есть любовь, сдался. Тем более, что прибывший по делу об утоплении купца губернский лекарь – первейший приятель попа – провел наружный осмотр невесты с расстояния две сажени и констатировал, что оная девица на вид здорова, к рождению детей, вероятно, способна и что происхождение ея от утопленниц по данным науки невероятно. А слухи о том проистекают лишь от излишнего употребления туземцами горячительных напитков и малых успехов просвещения. Прибывшие также по делу об утоплении купца Портнова становой с урядниками, сперва, было, на веселье посмотрели косо и чуть крамолу против Монарха не узрели. Но, увидев на груди жениха крест за геройство, притихли и водки за здоровье молодых выпили даже не раз. Итак, свадьбу играли три дня кряду. В ней приняли участие все деревенские жители, а также все моряки, все сплавщики, все плотники, все рыбаки, все шкипера и грузчики. Потом, когда достано было из сетей тело купца Якова Портнова, пили еще один день в качестве поминок по скряге. Молодые, тем временем, под общие напутствия и пожелания счастья отправились на тройке в Олонец и далее на родину Ивана – Кемь. Рассказ мой можно бы на этом закончить, но событие это имело несколько последствий. Место наше среди портовых Петербурга да моряков, перевозивших лес и другие товары от устья Олонки, стало широко популярным. Судовые часто вспоминали Ивана, его турецкие рассказы и такую небывалую его удачу. И каждый раз, подходя на судах темной ночью или ввечеру к нашим местам и видя мерцающий огонек маяка на крайнем острове гряды, что в пяти верстах от устья, они говорили: «Близко уже. Глянь, маяк как светит! Будто Крестовый свой кошель ищет!» За этот-то маяк к острову и пристало название «Крестовый», который он носит и поныне. Кто не верит, тот может осведомиться насчет названия в лоции или на карте.
PS: Последний большой бал в Зимнем дворце 25 декабря 1878 года был особенно великолепен. Тяжелая война была позади, но здесь, в Санкт – Петербурге, за тысячи километров от гор Болгарии и равнин Анатолии, она всегда казалась лишь только театральным действом, где молодые люди из хороших фамилий могут себя показать и получить орден или очередное звание. Теперь же, с её окончанием, о ней сразу же забыли. Бал близился к своему завершению, хотя десятка два пар еще кружили в большой, ярко освещенной тысячами свечей бальной зале Зимнего дворца. Но огромный, на несколько сот персон стол для ужина опустел и возле него суетились лакеи, начавшие уборку. Более солидное же общество, которое свое оттанцевало еще при отце нынешнего императора – Николае Первом, переместилось в залу для курения, расположенную рядом, где можно было достойно завершить вечер великолепным арабским кофе с ликером и сигарами.
Михаил Дмитриевич Скобелев
[231] тоже был там. Из высшей петербургской знати он мало с кем был знаком, хотя когда-то учился здесь в университете и любил этот город. Затем жизнь и военная служба сорвали его с места и начала бросать из одного конца великой империи в другой. Средняя Азия, Кавказ, Молдавия, Румыния, Болгария, Турция…
«Просто удивительно, как только остался жив! – думал он про себя. – Эх, интересно, что сказал бы отец, если увидел меня сейчас здесь в мундире генерал-адъютанта его Величества?»
Ему было скучно. Он не хотел ехать сюда сегодня и собирался отдохнуть пару недель в своем поместье под Рязанью, но на утреннем приёме государь лично пригласил его на большой бал. Михаила Дмитриевича немало позабавили завистливые взгляды остальных присутствующих, подобного приглашения не получивших. Это была честь! Впрочем, давшаяся ему дорогой ценой. Он явился в Зимний поздно, уже к завершению танцев и началу ужина. Из «своих», т. е. военных, почти никого не было. За столом удалось перекинуться парой слов лишь с бароном Криденером
[232]. Немец Криденер был католиком, а так как день бала пришёлся на католическое Рождество, то несколько перебрал и в сопровождении камергера Сипягина ушел по окончанию ужина нетвердой походкой.

«Белый генерал» Скобелев Михаил Дмитриевич
«Вот докурю сигару, и надо уходить», – подумал он. Вдруг, внезапно затихший гул голосов заставил его повернуть голову направо к двери, ведущей в танцевальный зал. Она распахнулась, и вошёл государь. Музыка оркестра, исполнявшего вальс Шуберта, неслась за ним легкими тактами. Император был не один. Две дамы и низенький лысый господин составляли его компанию. Одну даму лет тридцати в длинном платье цвета лила, которую Александр вел под ручку Скобелев не знал, но зато был о ней много наслышан. Это была пассия государя, некоронованная императрица, с которой он имел почти не скрываемую связь, Екатерина Михайловна Долгорукая
[233]. Александра втайне многие осуждали за эту связь. И царь это прекрасно знал. Но также знали, что императрица, страдающая туберкулезом, уже как год не поднимается с постели, и рано или поздно фаворитка займет ее место, и, вероятно, официально. Долгорукой были выделены в Зимнем несколько помещений, где она и разместилась с четырьмя детьми, рожденными от царя. Последний ребенок – девочка – появился на свет в этом году, и все знали, что Александр дочку буквально боготворит. Поэтому всё шло как шло, и все делали вид, что так и должно идти. Вторая дама, а ее Скобелев тоже не знал, была фрейлина двора императрицы Варвара Шебеко
[234]. Собственно, связь Александра и Екатерины Долгорукой, тогда ещё воспитанницы Института благородных девиц, завязалась с ее легкой руки. Все трое оживленно о чем-то беседовали.

Император Александр Второй
Государь сегодня был в отличном расположении духа, что с ним редко случалось в последний год. Он сильно сдал за то время, что Скобелев его не видел, с самого посещения турецкого фронта. Михаилу Дмитриевичу это сильно бросилось в глаза на утреннем приеме. За год залысины на высоком лбу государя еще более увеличились, седины заметно прибавилось, а под глазами заметно набрякли мешки. Это был уже не античный бог, как говорили о нем еще несколько лет назад. Государь усадил обеих дам в услужливо принесенные лакеями плетеные кресла, а сам, стоя, курил сигару и о чем-то говорил. Толстяк серьезно кивал ему, поблескивая стеклами круглых очков. Дамы смеялись. Царь вдруг оглянулся и увидел Скобелева.
– Михаил Дмитриевич, вас то мне как раз и надо, идите к нам! – громко сказал он.
Скобелев подошел к ним и раскланялся.
– Вот, это и есть самый главный герой турецкой кампании – Скобелев Михаил Дмитриевич! Лев Саввич, – обратился он к серьезному толстяку, – вы ведь незнакомы, так прошу любить и жаловать!
– Маков!
[235] – кивнул головой тот.
– Катрин! – обратился Александр к своей фаворитке, – ведь вы тоже незнакомы?
– Александр, я ведь иногда читаю газеты, – иронически заметила Долгорукая и обратилась к Скобелеву: – Вас, должно быть, знает вся Россия!
– Не только, – заметил царь. – Во всей Европе Михаил Дмитриевич считается одним из даровитейших военных. Между прочим, генерал, я слышал, что вы знали поимённо всех солдат и офицеров своего полка в бытность его командиром. Так ли это?
– Совершенно верно, государь! Но всё равно я не могу тягаться в этом отношении с Наполеоном.
– Вот как? Возможно, возможно. Не могу не спросить тогда, не помните ли вы случаем такого солдата… Он был награжден крестом за храбрость во время дела при Плевне, кажется, Хлебников Иван?
И царь вопросительно взглянул на Макова. Маков утвердительно кивнул:
– Совершенно верно, Хлебников, Ваше Величество!
Царь перевел взгляд на Скобелева. Скобелев припомнил.
– Я хорошо помню одного Хлебникова Ивана – рядового 17 пехотного полка. При атаке на турецкие редуты на правом фланге первым ворвался на оный, захватил турецкий бунчук и взял в плен турецкого офицера. Двумя днями позже был тяжело контужен. Был награждён за храбрость крестом и в конце кампании вчистую уволен. Кажется, я дал ему червонец. На память. Вот всё, что могу о нём сказать. Других Хлебниковых с наградами не припомню.
Александр в изумлении поднял руки.
– Вот, Лев Саввич! Я же говорил, что у генерала великолепная память! – И снова обратился к Скобелеву: – Понимаете, тут у нас какой-то необъяснимый анекдот, да еще по двум ведомствам. Романтический, прошу заметить. Мы с Катрин долго смеялись. Представьте себе, сегодня утром мой верный цербер
[236] (легкий взмах руки в сторону Макова) приносит мне престранное донесение о престранном случае в Олонецкой губернии. Впрочем, Лев Саввич, прошу по-деловому просветить генерала.
Коротышка кивнул, сверкнув очками.
– Мне по долгу моему министра внутренних дел приходится читать много, но такой дикой ерунды, как сегодня, не приходилось еще никогда. Вкратце, генерал, поясняю. Приходит депеша Олонецкого губернатора о том, что по губернии идут странные слухи о происшествии на Ладожском озере. Якобы! – Маков тут поднял палец, призывая к вниманию. – Якобы, некий солдат, герой турецкой кампании Иван Хлебников, был обвенчан с русалкой, а по другим сведениям, с утопленницей, олонецким попом!
Обе дамы прыснули со смеху, но Маков, не глядя на них, продолжал:
– Ладно бы на этом закончить, обвенчал, так обвенчал. Но, кроме того, в этом спектакле принимает участие не кто иной, как водяной, который дарит нашим героям по серебряной шкатулке с деньгами. Чёрт те что! По уверениям тамошнего полицмейстера, свидетелей множество и многие из них весьма достойные! Теперь вопрос: что со всем этим делать прикажете?
– Между прочим, Михаил Дмитриевич, – вмешался царь – по Священному Синоду
[237] пришла такая же депеша. Теперь попа хотят упечь в дебри. Впрочем, Победоносцев
[238] весьма против. Говорит, что лучше эту заразу не распространять, а дать умереть своею смертью. Мое мнение таково, что и по ведомству внутренних дел лучше положить это дело под сукно, хотя бы на время. Пусть всё уляжется, а там посмотрим. Вы только представьте себе, в наш просвещенный век и вдруг такая дикая темнота! Я не хочу, чтобы завтра в «Times» появилась бы статья, что в России не только медведи бродят по столице, но и солдаты женятся на русалках! Что скажете, генерал?

Княжна Долгорукая Екатерина Александровна
– Ваше величество, доля правды тут есть. В каждой женщине есть что-то от русалки.
– Скажите, генерал, – неожиданно обратилась к Скобелеву княжна Долгорукая – во мне тоже есть что-то от русалки?
Они встретились глазами, и Скобелев подумал, что у Александра к женщинам есть вкус. Красива, слов нет, единственно, что её портит, но совсем немного, это тонкие губы. Но совсем, совсем немного. Как теперь вывернуться?
– Мадам, в вас есть что-то от ангела!
Княжна вскочила с кресла, и, запрыгав на одной ноге, как девочка, захлопала в ладоши: – Генерал, я не хочу, чтобы от ангела, я непременно хочу от русалки!
Александр смотрел на нее с плохо скрываемым нежным чувством.
– Государь, прикажите генералу, пусть разжалует меня из ангелов в русалки!
Все дружно рассмеялись. Царь кивнул Скобелеву:
– Завтра генерал пришлет вам из главного штаба реляцию о новом назначении. Не правда ли?
Михаил Дмитриевич понял, что пришло время откланяться. Царь пожелал ему счастливых новогодних праздников и с Маковым удалился. Вторая дама тоже встала и с подругой отошла в бальную залу.
– Как он тебе? – спросила княжна свою спутницу. – Не правда ли, остроумен! Даже неожиданно для солдата…
– У него грубоватое лицо, впрочем, это его не портит. Да, он умен. Кажется. Что до остроумия… Знаешь, тот, кто понимает толк в войне, должен понимать и во всём остальном.
– Ах, дорогая Варвара, это хорошо, что Алекс его повысил. Я люблю остроумных людей. Я заметила, они никогда тебе не гадят. Хотя с ними тоже надо держать ухо востро…
Но Михаил Дмитриевич этого уже не слышал. Он уже вышел на парадное крыльцо Зимнего дворца, и звезды светили над ним.
Легенда о Чёрном мысе

Давно прошли времена, когда спускались на землю боги, а земля была полна духов, когда звери в лесах смотрели на человека с любопытством, без страха, а человек смотрел со страхом на звезды, в надежде узнать свою судьбу. Именно тогда и случилась эта история.
Плыли вдоль берега Ладожского озера драккары славного в норвежской земле ярла
[239] Сигурда Длиннобородого, мудрого в королевском совете и непобедимого в бою. Скучной показалась ярлу жизнь на черных скалах родного фьорда
[240] после того, как вернулся из самого прекрасного города в мире Константинополя его старший брат Снуфри. Точно дивную сказку слушал Сигурд рассказы брата о странах, где солнце жарче огня в очаге, а золота, как песка морского. Райские птицы живут там, и зреют невиданные в родной Норвегии плоды, которые даже Одину
[241] не приходилось вкушать – так сладостны были они! Женщины там знойны, как солнце Востока, и благосклонны они к чужеземцам с холодными голубыми глазами.
Рассказывал также Снуфри, как полюбил его император Роман за верность и отвагу в бою. Да и не мог Снуфри повернуться к врагу спиной, ибо был он берсерком
[242], а судьба такому – или победить, или умереть. И когда затосковал он по родным черным скалам, о которые разбиваются холодные волны под крик чаек, и собрался в обратный путь со своей дружиной, то велел щедро вознаградить его император за кровь, которую пролили викинги во славу империи, свою и чужую. Но чужой было куда больше. И вот год спустя обнялись братья после долгих пятнадцати лет разлуки. Но с тех пор не знал покоя Сигурд. И было так до дня, пока не собрал он всех своих домашних, друзей и соседей. А собрав, объявил, что собирается плыть в Константинополь на службу к старому Роману, и зовет с собой тех, кто желает испытать силу рук своих и счастье своё. Ведь так устроен этот мир, что императору всегда нужны воины, потому что у великих мало друзей, но всегда много врагов и завистников.
Через три месяца отплыл Сигурд, а с ним и триста воинов на семи драккарах. И пока видны были родные черные утесы, пока доносился до слуха крик чаек и грохот прибоя, радостно билось сердце их. Хотелось увидеть им новую землю и новое небо, услышать чужую речь обитателей далеких стран и найти свое счастье и удачу там, далеко. Но вот исчез вдали берег, и тогда смолкли разговоры и смех; только плеск волны о борта да скрип уключин раздавались. Стало смутно тогда на сердце у воинов, потому что вспомнили они песню, которую пел на прощальном пиру слепой скальд
[243] Бьярни Турсон. Пел слепой Бьярни о том, что не дано видеть людям дальше горизонта. Лишь великие боги, которые высоко над миром, видят и знают судьбу каждого из смертных. Но как далеко не видят великие боги, всё же и у них есть свой горизонт, который тонет во мраке вечности. Потому-то и боятся ее великие. Но что же тогда бояться людям, чья жизнь подобна искре от костра? Однажды взлетела она, но вот её уже нет, ибо погасла она во мраке. Потому-то пусть смело идет каждый путем своим и смиренно принимает положенное ему. Вот что пел на пиру слепой Бьярни. А вёсла дробили волну, а ветер полнил паруса.
Быстро, с попутным ветром, пересекли они Финский залив, затем на веслах против течения прошли Неву и, наконец, достигли Ладоги. Далее путь ведет через Волхов и переволоки на Днепр и Черное море до Константинополя – столицы тогдашнего мира. Но Ладога – это женщина, и никогда не знаешь, что затаила она в сердце своём. Рассердилась она, что не принесли ей чужеземцы никаких даров: ни бус жемчужных, ни золотых кубков, ни серебряных сережек, ни колечек с цветными каменьями. Даже кружкой пива не отблагодарили пришельцы ту, что несла их драккары на своих волнах.
Тогда рассердилась Ладога и рассвирепела. Ещё никогда не доводилось видеть пенителям моря таких волн на хребтах морей и океанов, а видели они их много. Братья Ладоги – ветры свирепые – разорвали в клочья паруса, забросали пеной глаза кормчих, порвали снасти и якорные канаты. Изломала Ладога в щепу рули и весла, и забросила в бешенстве корабли к своему противоположному берегу. Только тогда она затихла и заснула, как ни в чём не бывало. Так оказались викинги в наших краях, там, где река Олонка впадает в Ладожское озеро. Вытащили они корабли на желтый песок у самого устья и три дня чинили их, восхваляя доброту Одина и милость Тора
[244], что услышали их мольбу, спасли их жизни. А дальше вот что случилось.

Был в дружине у Сигурда Синебородого отважный юноша, смелый воин, что уже в шестнадцать лет познал цвет крови врага и как звенит в сражении сталь меча. Ингви Зоркий было имя его. Утром третьего дня, когда все уже было готово к отплытию, решил Ингви сходить на охоту, потому что не терпело покоя сердце молодого викинга. Пятеро друзей отправились с ним. И вот какими были их имена: Корт Страшила, Фрелаф Молодой, Бьорн Тихий, Страви Бык и Фрегольд Ястреб. Взяли они с собой луки со стрелами, копья не самые длинные, ибо густ был лес, и, конечно, топоры их всегда при них оставались. Не хотел отпускать ярл своих дружинников на охоту, но, подумав, что при удаче будет у них мясо в запасе, дал согласие. Сказал лишь ярл, чтобы к заходу солнца быть им всем на корабле и что по третьему сигналу трубы отправятся в путь викинги и ждать никого не станут. Не было видно с драккаров ни одной живой души; лишь густой еловый лес начинался в трех десятках шагов от берега, только чайки кричали да ворон летал. Но не знали викинги, что все три дня следили за ними зоркие глаза, чутко прислушивались к звукам чужой речи уши людей, которые ходят по лесу тише, чем гибкая рысь, а бегут быстрее лося.

Это были карелы, которые круглый год ходят в одежде из звериных шкур, живут в маленьких деревянных жилищах, и обычаи у них тогда еще были дикими, хотя уже умели они обрабатывать землю и засевать ее ячменем. Заимствовали они это умение у венедов
[245], что жили по ту сторону Ладоги в Новгородской земле. Знали карелы в своём лесу каждое дерево, ведали повадки зверей лесных, умели наводить чары на чужих и разговаривать с духами через шаманов.
Жил совсем близко от того места, где стояли вытащенные на берег корабли норвегов, старый шаман Карво. Был он седьмым сыном у своего отца и унаследовал отцовский дар видеть духов земных, водных и воздушных. Разговаривал с ними старик посредством огня от костра, просил их о помощи в несчастье, если у кого-нибудь из соплеменников случалась болезнь или не ловился зверь на охоте. Только для себя не мог просить у духов Карво. Не мог он предвидеть своей судьбы и судьбы своих детей, а было их тоже семеро. И седьмой сын его – Кирппу – тоже должен был стать шаманом, ибо и его во сне, порой, тоже посещали видения.
То место, где они жили люди рода Карво, сейчас называется Черным мысом, а в ту пору он звался Змеиным. Некогда кишел он гадюками, пока прадед старого Карво, что тоже был колдуном и шаманом, не изгнал их оттуда заклинаниями. И когда донесли сыновья, которые как звери лесные выслеживали с прибрежных елей каждый шаг викингов, что пришельцы отправились в лес на охоту, то тогда развел Карво костер на огромном черном камне, который до сих пор лежит на озёрном берегу за Чёрным мысом и бросил в него кусок мяса молодого лося. Слетелись на запах духи земные, водные и воздушные. Благодарили они Карво за принесенную жертву и вопрошали, что сделать им для колдуна? Тогда взял Карво ветвь осины и начертал на ней четыре руны.

Первая руна обозначала «Чужак», вторая руна обозначала «Окружи», третья руна обозначала «Обмани». Четвертая же руна обозначала «Избавь». Не ждал добра старый Карво от пришельцев и хотел изгнать их из своих родных мест. Бросил колдун ветвь в огонь, и когда превратилась она в пепел, то плеснул в огонь воды пригоршню. Взвился с шипением пар и пепел над костром – это разлетелись во все стороны духи земные, водные и воздушные, чтобы выполнить просьбу старого колдуна. И лишь стоило Ингви с другими охотниками зайти в лес и разойтись цепью, как странные вещи начались. Стаи воронов с карканьем закружили над ними, туман пал, и был он так густ, что пальцы на вытянутой руке не были видны, а солнце исчезло в облаках.
– Эй, друзья, видно, не к добру охота наша! – крикнул Ингви. Но так каркали вороны, что никто из охотников не услышал его.
– Беда! Ох, как бы нам ноги унести отсюда! – закричал Фрелаф Молодой. И его слова запутались в густой еловой хвое – так ничьё ухо их не нашло.
– Ты, Один, ты, Тор, и ты, Фрейя, помогите найти нам путь к кораблям! – кричал во всю глотку Страви Бык. Но, хотя рёву быка был подобен его крик, всё равно его никто не услышал, лишь тучи сгущались да вороны каркали.
Долго блуждали в тумане викинги, не видя и не слыша друг друга. И вдруг туман рассеялся, стаи воронов разлетелись, смолкло карканье и над лесом прояснилось небо. И тогда они услышали друг друга и увидели друг друга, то недолгой была их радость. Потому что не смог вернуться Ингви с друзьями к кораблям ко времени, когда прозвучал третий сигнал трубы из турьего рога. Хмурый, в раздумьях, стоял ярл Сигурд на корме своего драккара. Жаль было отплывать ему без такого славного воина, как Ингви, жаль было недосчитаться еще пятерых, ибо только воин знает, что такое двенадцать крепких рук в битве. Но дал ярл слово, что не станет ждать никого после того, как смолкнет третья труба, и не может наступить он на свое слово. Потому что будет смеяться над ним каждый мальчишка, да и боги отворачиваются от тех, кто бросается словами как пустомеля.

И тогда дал Сигурд сигнал к отплытию, и бросил в воду свой нож в серебряных ножнах, чтобы не гневалась впредь женщина, что Ладогой зовется. А Ингви Зоркий с друзьями вышли на берег и стали держать совет. Решили они остаться на зимовку в этих местах, потому что долог был путь назад, к дому, и не было у них корабля. А ещё позор ждал бы их на родине, отвернулись бы от них соплеменники, как от трусов и беглецов. Не стали устраивать викинги свое жилище в устье реки, потому что боялись они, что снова падет туман и прилетят вороны.
Пошли они по берегу реки, имени которой они не знали, и шли до тех пор, пока не достигли острова в том месте, где две реки сливаются в одну. На этом острове и построили они жилище из сосновых стволов, а крышу покрыли еловыми ветвями и мхом. И очаг сложили они из дикого камня, чтобы готовить еду и коротать у огня длинные, зимние вечера.
Минуло три года, как вечер один. Много зверя добывали викинги на охоте, много было у них шкур: и медвежьих, и волчьих, и лисьих. Бобра и лисицу промышляли они, а белку били из луков без счета. Но дороже всего был черный соболь. Фрегольд Ястреб, что плотник был умелый, построил драккар и назвал его «Змей».
Стали приходить к ним и карелы. Всё удивлялись они их оружию из железа, завидовали остроте наконечников копий и стрел, потому что дорого было железо и много шкурок соболя стоило оно. Так что и не противники были они для викингов со своими наконечниками из камня на копьях да костяными стрелами.
В третью весну погрузили норвеги всё, что добыли сами или выменяли у карелов на свой дракар, и отправились через озеро в Старую Ладогу на торг. Много серебряных дирхемов
[246] и монет константинопольского чекана, китайского шелка и оружия дамасской ковки получили они за свой товар. Здесь же, на торгу, снова увидели они своих соплеменников, что вели торг от аравийских пустынь до туманных Британских островов, и узнали, что творится в большом мире. Долго думали они, что им делать дальше, ибо хотел Ингви продолжить свой путь в Константинополь, вслед за ярлом Сигурдом, чтобы не думал ярл, что далекого пути испугались они и сбежали, как трусы с корабля. И Страви, которого Быком называли за силу и храбрость, говорил те же речи, ибо любил он звон меча и запах крови, и скучно было ему. Фрегольду Ястребу, кто имя и жизнь дал дракару, всё равно было. Любил Фрегольд выстругивать весла и мачту, но крика врагов не боялся и шума битвы не страшился. А у Фрелафа Молодого на богатства глаза загорелись. И друзья его – Бьорн Тихий да Корт Страшила – его поддержали. Долог путь, – говорили они, – до Константинополя и слишком мало их для такого похода. Пути им неведомы, а богатства придется оставить. И зачем становиться рабом у Романа да собакой для ярла, когда они здесь свободны, как ветры, и видит великий Один, добудут больше добра, головой не рискуя.
Долго спорили они и, наконец, решили, что вернутся на год на свой остров и на свою реку, что нынче Олонкой зовется, и, наловив побольше красного зверя, вернутся в Норвегию, а оттуда, набрав воинов и кораблей, вновь отправятся за удачей к южным морям. Только это не сбылось.
Ибо случилось так, что в короткие зимние дни, когда спит глубоким сном утомившаяся за лето Фрейя
[247], отправился Ингви на охоту. Улыбнулась удача ему. Быстро нашел он свежий лосиный след. Старый был лось и могучий, густо ветвились рога его, и не знал он усталости в беге, хотя были снега глубоки. Ингви на лыжах преследовал неутомимо. Долго погоня длилась, но вот метнул свое копье Ингви, ранил он лося в шею. Разъярился раненый зверь, и бросился он на охотника, а у того только нож под рукою. Хотел отскочить за дерево Ингви, да лыжи сбросить не успел, а снег был глубок.
Сбил лось своими рогами охотника с ног и начал топтать его копытами в ярости. Если бы не сыновья старого Карво, которые охотились поблизости, не прибежали на рёв зверя и не добили его стрелами, то пировал бы в тот вечер викинг в Валгалле
[248] с валькириями
[249]. Подняли сыновья Карво раненого Ингви и отнесли в свое стойбище на Змеином мысу. Осмотрел старик раны викинга и понял, что часы того сочтены, потому что услышал он шептание духов над телом умиравшего.

Тогда отправился старый колдун к черному камню, захватив с собой лосиные копыта, печень и сердце убитого зверя. Там разжёг он большой костер и начал созывать всех духов на пиршество:
– Как пчёлы на мёд,
Как цветок на свет,
Как вода на дно,
Как змея на тепло,
Летите воздушные,
Притекайте водные,
Вырастайте земные
На пир, на кровь, на огонь.
Голодный насытится,
Холодный согреется,
Жаждущий напьется,
Ищущий обретёт.
Так Укко[250] – повелитель решил! На слова заклинания и на тепло огня слетелись со всех сторон духи – земные, воздушные и водные. Спрашивали они старого Карво, зачем позвал он их? Отвечал им Карво, что хочет принести им жертву. И, сказав это, бросил он в огонь копыто лося.
– Карво, Карво! Разве нет у тебя чего получше? Горек дым, тверда плоть, силён наш голод! – воскликнули духи.
Тогда бросил Карво в огонь лосиную печень.
– Карво, Карво! Сладко нам, сладко! Но мало нам печени, пир наш недолог! – закричали духи воздуха, земли и воды. – Чуем мы, знаем мы, что подарок припас ты нам! Так подари его нам! Втрое тебе воздадим, обещаем!
И тогда взял колдун благородное лосиное сердце и бросил его в огонь, говоря:
– Слово в мире нижнем – дело в мире верхнем. Дело в мире нижнем – слово в мире верхнем. Так Укко-повелитель порешил!
– Карво, Карво! Сытно нам, сладко нам! – закричали тогда духи. – Говори же, что ты хочешь от нас?
– Слово вы мне говорили,
Дело вы мне обещали.
Укко – тот вам был свидетель,
Слову вашему хозяин.
Слова взять назад не можно,
Дела тоже не отменишь.
Там, во тьме, в моей землянке
Чужеземец тихо бредит,
Из-за раны он страдает,
И в себя прийти не может.
Душу вы его не трожьте,
В Туонелу не маните,
В Маналу[251] не провожайте Спутника тропой подземной.
Пусть еще тропой земною
Он свои года проходит,
Как кукушка нагадает.
Вот, что сказал Карво духам и те ответили старому колдуну:
– Слово мы тебе давали,
Слово мы свое исполним,
Дело мы свое закончим,
Так как ты его захочешь.
Пусть твой гость, что раной бредит,
След свой на тропе оставит
И послушает кукушку
Летом будущего года.
В тот же миг очнулся в землянке колдуна Ингви, и понял, что Тор к нему благосклонен и Один его бережёт.
Долгих три месяца лечил старый Карво раны воина. Научил он Ингви понимать язык карелов, да и сам научился понимать язык норвегов, и все его сыновья так же. Вот настал день, когда проводили они Ингви до верховьев Олонки, на остров, где было его жилище. Думали норвеги, что давно уж погиб храбрец Ингви, и были рады его возвращению. Ингви же, взяв монет константинопольской чеканки, и шелка, и нож свой закалки чудесной в ножнах серебряных, отправился к своим спасителям на Змеиный мыс, чтобы отблагодарить Карво за спасение своё. И все остальные с ним пошли тоже, потому что самым уважаемым и
любимым был среди них Ингви.
Но не принял Карво подарки викинга и сыновьям своим тоже запретил принять что-либо от него. Лишь только нож принял, ибо ни к чему богатство охотнику, а на охоте клинок – первый друг человеку. А чтобы не думали гости, что он беден, показал им шаман золотое кольцо с камнем, названия которому он и сам не знал, ибо не было таких камней в этих краях. И увидели викинги, что кольцо было сработано великим мастером: две золотые змеи в нём переплетались искусно, и каждая змейка поглощала хвост другой. Обе же обвивались вокруг камня, сиявшего как солнце. Спрашивали гости у Карво, где взял он это кольцо? И тогда рассказал им старик вот что:
– Много лет тому назад это было. Был тогда я молод и силен, хотел стать охотником. Но отец мой, он был колдуном, мне завещал знания свои. Учил он меня знать травы, что могут человека в могилу свести и здоровье вернуть, будущее увидеть и вчерашнее забыть.

И вот собирал я травы по берегу реки, когда увидел, что остановился в устье корабль. Были на том корабле венеды
[252]. Знаете вы их хорошо, народ этот могучий и живет там, за Ладогой. Ваши князья у них правят, и ваши купцы через их земли и реки ездят в великий город. Да и с греческим царем, слышал я, они порой вместе с вашим народом воюют. А были на том корабле люди рода знатного, потому что одеты они были не в шкуры звериные и не в такие одежды, как вы, а так богато, что я и сказать не могу. Молод я был и не видел до того чужеземцев, а потому интересно мне было посмотреть на других людей.
Целый день следил я за ними из леса. Вот вижу, что печальны и хмуры они, не поют и солнцу не рады. А было так оттого, что умер у них знатный человек. Вот гляньте в сторону устья. Там недалеко, на другой стороне, есть большая песчаная гора. На вершине той горы сложили они сруб из сухого дерева, накрыли его красным полотном и положили на тот сруб своего князя. Затем подожгли они этот сруб, и пока огонь горел, плакали они и горевали. Затем собрали они пепел в кувшин и закопали его там же, на вершине горы. Все это я своими глазами видел, своими ушами слышал. А когда вернулись они на корабль и уплыли, то пошел я туда, на пепелище. Вот там, на песке, и нашёл я это кольцо. Видно, Венеды его обронили. И так я решил, что подарю его любимой своей в счастливый день свадьбы. И молил я Укко – небесного отца всего живого, – чтобы всегда оставалось оно у потомков моего рода до конца времён. Был мне сон, что так и будет, внял Укко моим словам. Но вот уже три года как нет в живых моей жены Насто. Когда умерла она, снял я кольцо с ее руки, потому что в Туонеле ей не нужно оно.
Все старшие дети мои жен себе уже обрели, теперь младшему сыну уж срок подходит. И как найдет он свою судьбу и любовь, то пусть наденет его на палец невесте своей.
Вот что сказал викингам старый Карво. И когда отправились они назад в верховье реки, но только о кольце и толковали. Не выходило оно из ума их, и глаза их горели, потому что никогда в своих северных краях не доводилось видеть им такой драгоценной вещи. Смутно сделалось сердце Ингви – потерял он покой. Собрал он всё золото и серебро, что скопил за эти три года, да еще и у друзей занял. Всех соболей, что изловили викинги сами, и тех, которых выменяли у карелов, взял он тоже. Бросил весь груз драгоценный Ингви в челнок, и едва сошёл лед с реки, отправился он на Змеиный мыс к старому Карво, просить то кольцо золотое. Но когда пришел он к старику, то даже не взглянул колдун на серебро, не обрадовался золоту, за соболями не нагнулся. Твердо было его слово. Смолчал Ингви. Помнил он, кто спас его жизнь, кто продлил его дни, и не стал сыпать оскорбительными словами.
Вот сидят норвеги в своем длинном жилище за сосновым столом и ведут беседу. И говорит тут Ингви вот какое слово:
– Невдомек вам, норвеги, для чего ездил я на поклон к колдуну, зачем черпал вёслами воды реки. Носил я долго всё это в сердце моем. Есть у меня в наших фьордах печаль, в черных скалах забота. Есть у ярла Снуфри красавица дочь, синеглазая Хельги. С малых лет полюбил я ее, но ко мне она слов не обращала, и глаз на меня не не косила. И хотя воин я не последний, но род мой не знатен. А отец ее Снуфри, так просто, за простого бродягу, не выдаст свою дочь. Ведь богат он, и мир повидал, и со знатными ровня. Только знаю я точно, что даром таким, мягкому воску подобным, смогу я сделать сердце гордячки упрямой. Ну а коль рухнет башня, то и крепость без боя сдастся. Любит ярл свою дочь, и перечить ей вряд ли он станет, коли Хельгу отдать в жены мне у него попрошу. Вы, друзья мои, сердце вам открыл я без утайки. Мне откройте же, что у вас на сердце?
Помолчал Фрегольд Ястреб. И Фрелаф Молодой тоже слова не бросил. Покачал головой Страви Бык и молвил: «Дело трудное». Корт Страшила тут ему поддакнул: «Мощный дуб не по плечу ты рубишь!» Лишь Бьорн Тихий, тот ободрил Ингви: «Есть защита от меча и от хитрости возможна, но от злата любые замки отворяются. Слушай, Ингви, человек я уже старый. Знаю ярла, с ним пять лет служил я Роману. Было дело, торговал я у мавров, нанимался к королям саксонским и топил корабли арабов. Отец нынешнего нашего короля Олафа отправлял к шведам с посольством. Много я повидал. Боги годы забрали, но взамен дали мудрость. Слушай, Ингви, слово мое, и по нему поступай. Коль по слову моему все сладишь, то клянусь воронами Одина – быть Хельги в доме твоем хозяйкой. Придётся ей смирить свою гордыню. Придёт день, когда развяжет она ремни на твоей обуви. А теперь внимай и не медли. Женихов достаточно у Хельги. Во дворе у Снуфри их точно воронов на трупе. Все слетелись на сладкую приманку, чтобы ярлу легче выбиралось. С этим сладить мы всегда сумеем, ибо нет для храброго преграды. Но одно лишь всё дело портит: нет в руках твоих кольца, чтоб быстро даже каменное сердце растопило. И пока колдун кольцом владеет о невесте нечего и думать».
Вот снова собираются норвеги к старому Карво просить золотое кольцо. Всё золото они собрали, всё серебро вытряхнули из своих кошелей. Всё железо, что золота дороже, грузят они на драккар. Шкурки соболя, куницы и бобра бросили в мешках на дно «Змея».
Но когда дары драгоценные бросил Ингви к ногам колдуна, лишь покачал тот головой.
Сорвал тогда с пояса Ингви свой меч из драгоценной дамасской стали и бросил также к ногам старика. Но так же твёрдо было его слово. Молча, в печали, шёл Ингви назад к кораблю. Но когда сели викинги за весла драккара, то стали остальные над ним потешаться, что, мол, как сирота стоит он перед старцем, как нищий милостыню просит, когда должен викинг мечом добывать все, к чему душа его стремится. Тогда закипела кровь Ингви, и сказал он себе:
– Ты старик скупой и гордый,
Чем же ты пред мной гордишься?
Уворованным колечком,
что другие потеряли?
Ты отверг мои богатства,
Попираешь мою гордость,
Гордость викинга, что смладу
То и другу не прощает.
Ты же говоришь: от смерти
Спас меня зимой холодной.
В это я теперь не верю.
Разная у нас защита:
У меня могучий Один,
Тор, что молотом владеет.
У тебя твой хилый Укко,
Что, как червь, грызёт коренья,
Как болотная лягушка!
Но не он, не духи злые
Мои раны исцелили,
Излечили мою немощь,
Боль мою, как вихрь, прогнали.
А мои, небес владыки:
Фрейя – матерь исцеленья,
Тор, что воинов ласкает.
Ты же лжец и недоумок!
И за гордость будь ты проклят!
И за дерзость вниз низвергнут!
Вот как говорил сам себе Ингви. Позабыл он благодарность за своё спасение, но смятенна была душа его.
Вечером у очага молчали викинги, не смотрели они в сторону хмурого Ингви, никто не решался давать совет ему. Но вот встал посреди жилища Бьорн Тихий, и все к нему обернулись, прислушались.
– Лет тому, как с десять иль больше, был я под началом у ярла Снуфри, на службе у старого Романа. Раз на рынке, что в славном Константинополе первый среди всех по богатству и славе, познакомился я с греческим купцом, который торговал оружием. Покупал у него я меч славной восточной работы. Тот купец много видел и знал, потому что проехал весь круг земной от края до края. Вот что он рассказал мне в тот день. Больше чем за тысячу лет до нас правил в Греции юный царь Александр. Александр был отважен и смел; захотел он завоевать все страны мира. А половиной мира правил тогда персидский царь. Вот и начал с него Александр и объявил тому войну. Переправился он с войском из Греции через море и напал на персидского царя, и хотя было у Александра воинов меньше в пять раз, видно, боги ему помогали и он одержал победу. Только вскоре узнали греки, что перс собрал новое войско, да втрое побольше прежнего. Может, стоит вернуться домой? Как узнать, на чьей стороне будет победа?
Вот однажды приближенные Александра рассказали ему, что в одном городе есть узел, который заплел древний царь по имени Гордий. Этот царь предсказал, что, развязавший узел, будет владыкой всего Востока. Но за много лет так никого и не нашлось, кто бы смог его развязать. Так искусно завязан он был! Сел на коня Александр и со свитой и друзьями отправился в тот город. Но сколько ни старался он этот узел развязать, ничего у него не получалось. Отчаялся Александр, потому что это значило, что не сможет он победить персидского царя. Но в отчаянии своем, а может, боги его руку направили, вырвал он свой меч из ножен и разрубил тот узел пополам.
И распался тот узел. Поняли греки, что ждет их победа, смело пошли в бой, победили персидского царя и захватили его царство. И не только его, а много других. И не было в мире царя славнее и могущественнее Александра.
Переглянулись викинги. Невдомек было им, к чему рассказал Бьорн историю про древнего царя. Поднял Ингви на Бьорна глаза и сказал: «Бьорн, Бьорн! Я совета хотел от тебя, а ты древние саги плетешь, как корзинщик лозу».
Ухмыльнулся Бьорн себе в усы и похлопал Ингви по плечу.
– Видно, мудрость с сединой растет. Молодости же глупость, как сестра. Это ведь совет тебе давал я. Только ты его в печали не понял. Далеко, знать, твои мысли летают. Эта речь к тому говорилась, что развязывает меч узлы любые.
Сказал он и вышел, дверь захлопнув. Поник головой Ингви, и долго сидел он печальный. И друзья его сидели и молчали. Но вот обвел Ингви взглядом товарищей своих и сказал такое слово:
– Колдуну давал я злато,
Серебро давал седому,
Драгоценными шелками
И богатою парчою
Покрывал порог у дома.
Что уж там, я меч свой верный,
Что мне жизнь оберегает,
Предложил облезлой псине
На посмешище норвегам!
Но теперь конец приходит
Моему долготерпенью.
Не добром, так острой сталью
Я кольцо добыть намерен,
И любовь свободной девы
Оплатить намерен кровью,
Кровью дерзких чужеземцев,
Что числом в один десяток
Пальца воина не стоят!
Берегись, колдун плешивый!
Сам и все твои родные,
И знакомые знакомых
До четвертого колена!
Ждет вас всех земля сырая.
Вот мое, норвеги, слово!
Страшное дело задумали викинги. В день лета, когда солнце выше всего, а тень короче всего, сели они на драккар, что «Змеем» назывался, и, взмахнув вёслами, поплыли вниз, к устью реки. Отточены были у них мечи, и копья тоже остры. А когда показалось устье, то вытащили они корабль на берег и, хоронясь, по узкой тропинке отправились к Змеиному мысу, где жил шаман Карво со всем родом своим. Знал хорошо Ингви, где живет сам старик и где живут остальные его сыновья. Пошёл он первый, пока солнце еще не взошло, потому что знали его все псы сторожевые, ибо долго прожил он у Карво. Каждому псу бросал Ингви мясо, а потом перерезал ему глотку так, что тот не успевал и взвизгнуть. И когда покончил с псами Ингви, то позвал он из леса всех остальных. И тут началась резня. Никому не давали пощады викинги, всех убили они. Потому что хотелось им, чтобы никто не узнал, что это дело их рук. Первым погиб сам старый Карво. Не спалось старику в эту ночь. Ждал он младшего сына с лугов. Услышал он шорох у двери и засов отодвинул, думал, тот воротился. Но вошёл вместо младшего сына Ингви и поразил старика мечом в самое сердце, не глядя. Видно, всё-таки, совестно было тому убивать спасителя своего. Не хотел видеть он глаза колдуна. Узнал Карво своего убийцу и успел еще сказать: «Будь ты проклят!» И тут отправился его дух в страну мертвых. Дрожащими руками обшарил Ингви тело старика и вытащил из-за пазухи запачканный кровью мешочек из беличьей шкурки, где кольцо золотое лежало. И свой подарок за спасение – нож в серебряных ножнах – забрал он тоже. И когда вышел Ингви из землянки, то уже никого не осталось в живых из рода колдуна. Всех убили викинги: и сыновей Карво, и жён их, и малых детей, чтобы никто не смог бы обвинить их перед людьми или богами. Затем стащили викинги трупы на берег и побросали в лодку, на которой проверяли братья свои сети. И, пробив днище, оттолкнули они лодку от берега, чтобы не знал никто, куда пропала семья шамана, а сами тем временем подожгли все жилища. Шли викинги по лесной тропинке к кораблю, а на душе у них не было покоя. Ведь хотя не впервые приходилось им проливать чужую кровь в бою и спокойно смотреть на смерть и своих и чужих, но было стыдно им в этот раз, жег позор щеки, и муки совести сердце сжимали. Единственное, чем утешали себя они, это то, что никто не знает об этом преступлении. Лишь того не заметили они, что нет среди убитых самого младшего из сыновей шамана – Кирппу. Бродил Кирппу в ту ночь по лугам и полянам лесным. Собирал он целебные травы, потому что в самую короткую ночь самые целебные свойства имеют они – так учил юношу отец его, Карво. Никогда не видел Кирппу такого чуда: нагибается он, чтобы сорвать цветок, а цветок как будто бы плачет: «Бедный, бедный Кирппу!»
Прислушивается он к пению птиц, и кажется ему, что вздыхают птицы: «Горе, горе сироте!»
Вот нагнется он к ручью испить воды, и вот видит, что алой кровью течет ручей. Стало тоскливо на душе у него, и решил Кирппу вернуться домой. Вот подходит он к стойбищу и видит, что там, где землянки были, лишь угли дотлевают и над мертвыми псами туча воронов кружит. И не видно кругом ни одной живой души. Где его старый отец? Где милые братья и их веселые жены? Куда спрятались их дети озорные? Понял Кирппу, что больше не увидеть ему родичей на белом свете, и тогда сел он под дерево и заплакал от горя.
Весел, тем временем, был Ингви. Все сделал он, так как советовал ему Бьорн Тихий. Верил он теперь Бьорну, как отцу родному. Остался Ингви один в своем доме, что на острове охранять добро, а все остальные сели на драккар и, подняв парус, отправились в путь к берегам Норвегии сватать дочь ярла Снуфри. Отсоветовал Бьорн ехать Ингви вместе со всеми, таков был план его. Черпал воду бортами «Змей» – так загружен он был. Лишь великому Тору известно, как смогли доплыть друзья до Варангер-фьорда, где жил ярл Снуфри с семьей своей. Но однажды увидела дочь ярла парус на горизонте – это были сваты, что плыли за нею. Громко хохотал ярл, когда увидел, что за подарки привезли ему. Был драккар загружен волчьими шкурами от днища до мачты. Велел ярл выстелить шкурами тропинку от пристани до дома, а послам убираться, пока он добрый. Смеялись все слуги в доме, смеялись воины ярла, смеялась красавица Хельги над простоватыми сватами.
Да и сами сваты смехом залились, лишь от пристани отчалили. А Бьорн Тихий, знай, в усы себе ухмыляется. Три месяца, как день, пролетели, и вот снова «Змей» стоит у причала. Вновь идут те же сваты с поклоном от Ингви к ярлу и дочери его. Что же дарят они на этот раз? На три четверти драккар загружен. И загружен он пышным мехом бобровым. Только хмыкнул ярл, что по дешевке дочерью своей он не торгует, пусть эти слова послы и передадут Ингви. Минула зима, и снова все сбегаются к пристани Варангер-фьорда. Снова «Змей» швартуется к причалу. Тут уж ярла разобрало любопытство, и вот Снуфри сам приветствует сватов. Заглянул он в драккар, а там всё днище покрыто драгоценным мехом соболиным. Поневоле задумался Снуфри. Сам он начал склоняться к согласию, выдать дочку за Ингви, потому что никто из женихов не приносил таких богатых даров к его порогу. Вечером у очага спрашивает ярл у дочери её решения. Сама же Хельги давно уж Ингви позабыла, хотя были они в детстве и знакомы. И не хотелось ехать ей в чужую страну, покинув свой дом. Говорит она отцу:
– Ах, отец, я не могу тебе перечить,
Потому что такова моя доля.
Коль решил меня ты замуж выдать,
Значит, видно, судьба так решила.
Знать, богат мой жених, раз соболями
Он все дно дракара устилает.
Но его не помню я и не знаю,
Был ли он красив и отважен?
Я прошу, отец, давай еще раз
Испытанье мы ему устроим.
Коль жених мой в срок его исполнит,
Стану верной я ему женою
И войду тогда в его жилище,
Дом отцовский навеки покинув.
Пусть пришлёт последний мне подарок,
Чтобы был он дороже, чем прежде.
Таково моё последнее слово.
Коль пришлет – тогда его счастье.
Коли нет – так поищем другого.
И на это Снуфри согласился, и передали слуги сватам его последнее условие. На рассвете, не простившись, уехали сваты в обратный путь к далекому острову на темной Олонке-реке. И вот наступил день, когда снова вырастает вдали парус «Змея». То сваты везут дар Хельги. Любил ярл свою дочь. Не хотел Снуфри отпускать ее от себя. Надеялся он, что не сможет жених прислать подарок для Хельги дороже привезенного раньше. Велел Снуфри, чтобы шла сама Хельги встречать гостей и посмотреть подарок. Но ошибся ярл. Вышла Хельги на пристань и ступила на палубу «Змея». Поклонились ей сваты. Видит она, что ничем не загружен корабль: нет на нем ни мехов многоценных, ни парчи серебристой, ни красного бархата, ни серебра. Тогда спросила она, что привезли они на этот раз? Бьорн Тихий на эти слова еще раз ей поклонился и подал ей шкатулочку из кости слоновой, работы тонкой, греческой. Открыла дочь ярла шкатулку, и глаза её засияли от восторга. Не смогла она удержаться, и примеряла колечко из той шкатулки на палец. Как живые, оплели его золотые змейки, а алмаз загорелся чудным светом. И как живой представился ей юноша с длинными льняными волосами и глазами такого же цвета, как у нее самой, – цвета неба. Сразу поняла Хельги, что пришёл её час проститься с отчим домом, и не может противиться она своей судьбе, потому что не может противиться любви ни один смертный. Больше ни о чем не могла она думать – так сбылось заклятие старого шамана Карво.
Немного времени минуло, как отправилась Хельги со сватами в дальний путь. Ярл Снуфри – отец ее – хотел, было, сам проводить дочь до новой родины, да король Олаф вызвал его к себе на совет, и не смог ослушаться его ярл. Потому снарядил Снуфри для охраны дочери корабль с тридцатью испытанными воинами и пришёл проститься с ней на пристань. Обещал он ей, что приедет сам так быстро, как дела ему это позволят сделать. Хотелось ему посмотреть, как живут молодые, и привезти ей подарки к свадьбе. Так расстались они.

А Кирппу, тем временем, всё искал убийц своего отца и братьев с семьями их. Но мало людей жило тогда в наших местах, далеко друг от друга жили карелы, так что никто ничего не видел и не слышал. Никогда на памяти людской ничего подобного не было в нашем краю. Не помнили такого самые старые люди. Говорил кто-то, что отомстили Карво за то, что наводил он порчу и болезни. Намекали иные, что это духи, которым чем-то не угодил старый шаман. Говаривали о том, что сам великий хозяин неба и земли – Укко – испепелил в гневе род колдуна. А за что прогневался Укко великим гневом, так никто и не знал. Пытался Кирппу вызвать и спросить духов о том, кто убил отца и братьев, но ничего не сказали духи: не может вопрошающий шаман узнать судьбу свою или близких своих. Не мог больше жить Кирппу на Змеином мысу. Тяжко и тоскливо было ему здесь, потому что всё напоминало о прошлом времени, старом отце и братьях родных. Чёрным стал он называть этот мыс, пепел и уголья покрывали его. И с тех пор так он и называется Черным. Ушёл жить Кирппу на берега речки Тулоксы, что в трех верстах на закат впадает в Ладогу. Стал он промышлять охотой на зверя и ловлей рыбы. Улыбалась ему удача. Знал Кирппу все повадки лесных зверей и птиц, знал, где нерестится лосось и где ходит у дна жирный сиг с хищным судаком. Но ни с кем не общался он, грустен был, никому голоса не подавал. Так минул год с той поры, как осиротел он.
Раз после охоты вышел он на берег, усталый, к камню на Черном мысу, где когда-то заклинал духов отец его. Присел на тот камень Кирппу, и так горько стало ему, что заплакал он, и слёзы катились и падали в воду Ладоги. Выплакал он, что на сердце накипело, вытер глаза и вдруг услышал голос – это Ладога заплескала, заговорила:
– Кирппу, бедный сиротинка,
Знаю я твою заботу,
Ту, что день твой омрачает,
Ту, что сон ночами гонит.
Много говорить не буду,
Зря волной плескать не стану.
Лишь хочу сказать я вот что:
Выдать тайну я не вправе —
То запрет великий Укко,
Лучезарного владыки, —
Лишь одно тебе скажу я,
Знай, что день уже тот близок
Благородного отмщенья.
Знай еще, что помогу я
Всеми силами своими,
Если ты меня разбудишь,
На врагов своих укажешь.
Скоро ты их опознаешь
По приметам достоверным,
Доказательствам крепчайшим.
Так решил великий Укко!
Тут голос стих, и волна откатилась. С того дня совсем потерял покой Кирппу. Но вот прошла неделя, закончилась другая. И стало казаться юноше, что все это ему лишь приснилось, от горя показалось. Вот отправился он, как обычно, проверить сети. Благосклонна к нему была Ладога. Много жирного сига и быстрого судака попало в сети его. Поставил парус Кирппу и с богатым уловом направил лодку свою к устью реки Тулоксы, туда, где его жилище было. Вечер был тихий, и спокойна была Ладога. Вдруг видит Кирппу, как будто парус показался на горизонте со стороны заката. И верно, это был парус. Да не один, а два драккара всё ближе и ближе нагоняли лодку Кирппу. Опустил Кирппу парус свой, захотелось посмотреть ему, что за люди там едут, а заодно и рыбу продать, если она нужна путникам, ведь не надо столько ему. Вот уж близко совсем корабли подплывают, и люди с них Кирппу машут, к себе зовут. Не испугался Кирппу, стал на веслах подгребать к первому драккару. Видно было, что там не иначе как норвеги. И точно, на первом всё люди знакомые, все те, что однажды гостили у отца его, Карво, кроме самого Ингви. На корме же дракара башенка из резного дерева стоит, да такой работы, что Кирппу залюбовался. Вот из башенки той дева выходит. Глаза у нее голубые, а волосы, точно колос ячменный. Увидела дева Кирппу и, как мак, покраснела. Покраснела и отвернулась и у Бьорна Тихого о чем-то спросила. А спросила она, не жених ли её это, потому что видела она юношу этого в сердце своем с того самого часа, когда надела на палец подарок Ингви – кольцо золотое. На втором же драккаре люди все незнакомые, их числом с три десятка. Только Кирпу туда не смотрел, всё глаз не мог отвести от девы норвежской. Тут и говорит ему Бьорн Тихий:
– Вижу, юноша карельский,
У тебя улов богатый.
Ты, видать, рыбак счастливый,
Глубь воды, как дом свой, знаешь.
Боги нам тебя послали.
Мы для свадебного пира
Весь улов твой забираем
За назначенную плату,
Что ты сам сейчас назначишь
Серебром ли, или шелком,
Или соболем сребристым.
Принимайся-ка за дело!
Ты в драккар наш крепкогрудый
Погрузи свою добычу,
Передай свою удачу.
Мы ж пока счастливца Ингви —
Жениха счастливой Хельги,
Той, что горлинке подобна, —
На ладье с улыбкой встретим.
Вижу я уже и парус,
Плеск весла его я слышу,
Узнаю его лицо я.
Мы же думали, что в лодке,
Что полна сребристой рыбой,
Ингви нам навстречу ехал.
Так что, друг наш запоздалый,
Чуть жену не проворонил,
Чуть подруги не лишился!
Женихом он был не первым!

Засмеялись викинги шутке Бьорна Тихого. Тут пристала к другому борту «Змея» ладья, и перескочил с неё на палубу Ингви. В кафтане арабского бархата, опоясан серебряным поясом с золотой пряжкой, был жених Хельги. В сапоги из мягкой бухарской кожи был обут он. На поясе же его висел нож, в ножнах серебряных. Побледнел Кирппу, когда нож тот увидел. Не мог он этот нож с другим перепутать. Часто рассматривал он дар викинга своему отцу и помнил каждый мельчайший узор на ножнах, каждый изгиб синей стали, каждый гвоздик на рукоятке его. Так вот кто убил отца с братьями и семьи их! Вот кто оставил Кирппу сиротой! Враг его лютый и жених Хельги! Как две змеи на кольце сплелись в сердце юноши любовь к Хельги и ненависть к Ингви.
И тогда сказал он Бьорну Тихому вот какое слово:
– День счастливый, славный праздник
Мне предсказывали боги.
Пир для сердца предсказали,
Срок ему определили.
День назначили счастливый.
Весь улов – мою добычу —
Хельги я даю в подарок,
В дар для свадебного пира.
Святотатством, верно, будет,
Если серебро за плату
За улов, что волны дарят
Вдруг потребует даритель.
Напоследок же хочу я
Вот сказать какое слово:
Сети, что улов мне дали,
Вынуты наполовину.
Так что это полподарка,
Половина лишь улова.
Парус вы не поднимайте,
Подождите до рассвета
Здесь, у каменного мыса,
Что от пепла нынче чёрный.
Не взойдет за лесом солнце,
Лишь зарей зарозовеет,
Как вернусь назад я с даром,
Лодку лосося в подарок
Я, не мешкая, доставлю
Вам для свадебного пира,
Для веселого застолья.

И на то согласились викинги, потому что не хотелось ночной порой грести им по темной воде Олонки-реки. Так решили они бросить якоря и ночевать здесь, а заодно дождаться Кирппу с уловом лососей. Тут погреб Кирппу к Черному мысу, а сам всё не мог глаз отвести от Хельги. И хоть был рядом жених ее, Ингви, печаль сжимала сердце ее. Не лежала её душа к нему, а влюбилась она в юного рыбака с льняными волосами и глазами цвета синего неба. Потому-то смотрела она на Ингви и не видела, и те слова, что он ей говорил, не слышала. Тем временем догреб Кирппу до Черного мыса, до камня, где когда-то разговаривал с духами его отец. Не мешкая, развёл он огонь на камне том, сам выстрогал две стрелы, а на каждой стреле вырезал по магической руне. И руна на первой означала «Проснись и внимай», а на второй – «Месть». Кремнёвый наконечник вставил он в каждую, перьями гуся он их оперил. Вот начинает нагревать на огне Кирппу наконечник первой стрелы. А когда раскалился он, то пустил юноша стрелу прямо в Ладогу, в черные, ночные воды. Зашипел в волнах раскаленный кремень, и вздрогнула от укола стрелы Ладога, всколыхнулась она от жара камня:
– Кирппу, юноша несчастный!
Сирота, чьё сердце стонет!
Знаю я твою заботу,
Вижу я твое несчастье.
Разбудил меня ты к мести
Для коварных чужеземцев,
Тех, что жалости не знают,
Тех, кто хуже злого волка,
Кто мечом средь белой ночи
За спасенье расплатились!
Помню я, что обещала
Помогать тебе я в мести,
Говори же, я внимаю.
Что тебе могу я сделать,
Оказать тебе услугу
За твои горючи слезы
По отцу и милым братьям?
Жизнь коварных чужеземцев
Я волной своей качаю,
Мне отец твой, старый Карво,
Всех назвал, открыл мне тайну
Бессердечного убийства.
Вот они: бесчестный Ингви,
Что повинен в крови старца,
Фрелаф, Корт, тот, что страшилой
Меж своими называем,
Тихий Бьорн и Страви Толстый,
Кто быком не зря зовется,
И последний – Фрегольд Ястреб.
Вот они, что преступили
Страх богов, людей законы,
Честь и собственную совесть
Ради проклятого злата,
Ради собственной корысти!
Говори и знак к отмщенью
От тебя я ожидаю!
Так велел великий Укко,
Кто судьбою мира правит!
И тогда сказал ей Кирппу слова такие:
Поклянись, что жизнь виновных,
Кто запачкан алой кровью,
Кровью милых моих братьев,
Жен, детей, отца родного
Ты возьмешь, но невиновных
Не посмеешь ты коснуться,
Не заманишь в Туонелу,
И глаза их мраком смерти
Ты навеки не закроешь.
Будет месть несправедливой,
И отмщение жестоким,
Коль за чёрное убийство
Невиновный пострадает,
Непричастный захлебнется
Тёмною водой твоею.
И еще прошу, отдай мне
Деву с синими глазами,
С волосами, будто колос
Ячменя заколосился.
То моей невестой будет,
То моей женою станет.
Если же того исполнить
Для меня сейчас не сможешь,
Если в мести с виноватым
Ты невинного накажешь,
Жизнь погубишь молодую
Девы с синими глазами,
Не смогу отдать я слово,
Не смогу подать я знака
К благородному отмщенью.
И так ответила, заплескала волнами Ладога:
– Кирппу, юноша правдивый.
Всё по-твоему исполнить
Обязалась я пред Укко,
Что законом в мире правит,
Меру кто определяет
В небесах, земле и водах.
Обещаю, что виновный
Полную заплатит пеню
За бесчестное убийство,
Невиновный ж, белый парус
На ладье своей поднимет,
Путь домой к себе отыщет,
Восхваляя милость Укко.
А теперь мне знак волшебный
Лишь отдай – час мести пробил!

Как услышал Кирппу, что ответила ему Ладога, взял он вторую стрелу с руной, что месть обозначала. Взял и раскалил кремневый наконечник над огнем, и горело сердце его. Вот натянул он тетиву лука и послал вторую стрелу в сторону кораблей. И случилось чудо: только лишь коснулся горячий кремень ладожской волны, как взвилась она разъяренной рысью! Братья Ладоги – ветры быстрые – зашумели-заревели, слетаясь с четырех сторон света. Огромная волна подхватила первый драккар, как нитки, порвала якорные канаты и со страшной силой ударила его о камни на Черном мысу, да так, что резная башенка, где Хельги спала, отломилась и осталась лежать на прибрежных камнях. Волна же стащила треснувший драккар подальше от берега и, как кошка с мышкой, принялась играть с тонущим кораблём. Кто за что мог уцепились викинги, и молили они своих богов о спасении. Но пришел их последний час, пришла расплата за бесчестное убийство.
Страшно закипела, заклокотала Ладога и в считанные мгновения затянула остатки драккара в водоворот, и сразу же всё стихло. Воины же, те, что были на втором драккаре, в ужасе бросились к веслам и, не помня себя от страха, стали грести подальше от этого места в родную сторону, к черным, норвежским камням.
Вот так и закончилась эта история. Со временем за тысячу лет она превратилась в легенду. Многие поколения передавали ее друг другу, пока не дошла она до наших дней. Да и порой кажется, что наша жизнь тоже есть её продолжение. Поэтому, уважаемый читатель, если доведется тебе побывать в наших местах на Черном мысу, то когда ты будешь стоять на его берегу, слушая крик чаек и шорох волны, помни, что над этими камнями, водами и над тобой и поныне незримо витает вечная любовь Кирппу и Хельги.
Примечания
1
Джон Картерет – британский государственный деятель. В 1719 году был послом в Швеции.
(обратно)2
Мальборо Джон Черчилль (Черчил) (26 мая 1650–16 июля 1722 г.) Знаменитый английский полководец и политический деятель. 1-й герцог Мальборо. Уинстон Черчилль является потомком герцогов по мужской линии.
(обратно)3
Бленгейм – название местечка в Баварии, где герцог Мальборо одержал величайшую в своей карьере победу в битве с французскими войсками 13 августа 1704 года.
(обратно)4
…ибо королевская казна не рыба в руках Иисуса (имеется в виду ссылка на Новый завет, например Евангелие от Матфея, гл. 14, где упоминается случай, когда Иисус накормил пятью хлебами и двумя рыбами более 5000 человек в пустыне).
(обратно)5
Кюлоты – короткие, застегивающиеся под коленом штаны, носить которые имели право только аристократы. Кюлоты носили с чулками и башмаками с пряжками.
(обратно)6
Ингрия – историческая область на северо-западе современной России. Располагается в области ограниченной с севера рекой Сестрой до южной границы примерно по реке Луге. Западной границей является берег Финского залива, Чудское озеро и река Нарва, а восточной – Ладожское озеро. Со времени Столбовского мира 1617 года область была шведским владением. В ходе Северной войны Ингрия вновь отошла к России. Кстати, Санкт-Петербург был основан именно на территории Ингрии в 1703 году.
(обратно)7
…безжизненная часовая стрелка – в средние века на механических часах имелась только одна часовая стрелка. Минутная стрелка появилась в 1680 году.
(обратно)8
Сцилла и Харибда – морские чудища из античной мифологии, особенно ярко представленные в Одиссее Гомера. Выражение «между Сциллой и Харибдой» сопоставляется с фразой «Между молотом и наковальней», употребляется в значении: оказаться между двумя враждебными силами, когда опасности и неприятности грозят с двух сторон.
(обратно)9
Эльбфас Якоб – Якоб Генрих Эльбфас (1600–1664). Шведский художник, автор портретов многих политических деятелей Швеции своей эпохи.
(обратно)10
Лютцен – город в Саксонии, где 16 ноября 1632 года произошло одно из самых больших сражений Тридцатилетней войны между шведской и имперской армией. Шведская армия одержала победу, но во время битвы шведский король Густав Адольф был убит.
(обратно)11
Брейтенфельд – сражение при Брейтенфельде произошло 17 сентября 1631 года и окончилось полным поражением армии Католической лиги и победой протестантов, то есть шведской армии под командованием короля Густава Адольфа и его союзников – саксонцев.
(обратно)12
«Северный лев» – так современники называли шведского короля Густава Адольфа за полководческий талант.
(обратно)13
Тилли – Граф Иоганн Церклас фон Тилли, знаменитый полководец Тридцатилетней войны, фельдмаршал Католической лиги. В бою со шведами у крепости Райна был тяжело ранен в ногу и умер от раны 30 апреля 1632 года.
(обратно)14
Hexe – ведьма (Нем).
(обратно)15
Регент – правитель, временно осуществляющий полномочия монарха.
(обратно)16
Блокула – одинокая скала посреди моря в Швеции, легендарное место шабаша ведьм.
(обратно)17
«Молот ведьм» – трактат по демонологии и преследовании ведьм. Книга написана в 1486 году доминиканским инквизитором Генрихом Крамером (Инсисторисом) и деканом Кёльнского университета также инквизитором Якобом Шпенглером.
(обратно)18
«И ты, Брут?» – в трагедии Шекспира «Юлий Цезарь» с такими словами умирающий Цезарь обращается к убийце – Марку Юнию Бруту. Выражение широко применяется в случае, когда говорящий считает, что его предал тот, кому он прежде доверял.
(обратно)19
«Sed lex – dura lex» – Закон строг, но это закон (лат).
(обратно)20
Клипа – мелкая шведская монета квадратной формы.
(обратно)21
…Чтобы она светила для всех. – Искаженная цитата из Накорной проповеди Христа. Подлинный текст: И, зажегши свечу, не ставят её под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме (цитируется по Евангелию от Матфея, гл. 5).
(обратно)22
Северный департамент – одно из департаментов английского правительства. В его ведении находились контакты с протестантскими государствами: Германией, Швецией, Норвегией и т. п. Во главе департамента стоял секретарь.
(обратно)23
Deus ex mashina – Бог из машины – выражение, означающее неожиданную развязку той или иной ситуации с применением ранее не действовавшего в ней фактора.
(обратно)24
Харон – в греческой мифологии перевозчик душ умерших через речку Стикс (или Ахеронт) в подземное царство мертвых.
(обратно)25
Гуго Гроций – голландский юрист и государственный деятель. Заложил основы международного права на основе естественного права.
(обратно)26
Аристогитон и Гармодий – древнегреческие граждане Афин, совершившие в 514 году до нашей эры покушение на братьев-тиранов: Гиппия и Гиппарха, в результате которого убили последнего и погибли сами.
(обратно)27
Сало – остров на восточном побережье Ладожского озера. Название острова имеет карельское происхождение и означает «чаща» или «лесная глушь». Вплоть до настоящего времени остров покрыт густым еловым лесом, труднопроходим из-за поваленного озёрными ветрами стволами старых деревьев. В средние века остров являлся прибежищем разбойников, грабящих купеческие суда на Ладожском озере.
(обратно)28
Дуван – награбленное добро. В современном русском языке более всего соответствует «общаку».
(обратно)29
Бердыш – топор, секира с широким лезвием.
(обратно)30
Свеи – шведы.
(обратно)31
Васька Шуйский – Василий Иванович Шуйский – представитель княжеского рода Шуйских. Последний представитель рода Рюриковичей на российском престоле. Русский царь с 1606-го по 1610 год. После низложения жил в плену у поляков. Умер в Польше в 1612 году.
(обратно)32
Ляхи – поляки.
(обратно)33
Сердоболь – Старое название города Сортавала.
(обратно)34
Андрусовский монастырь – мужской монастырь Петрозаводской епархии РПЦ, расположенный на восточном берегу Ладожского озера на территории Олонецкого района Республики Карелия. Основан в начале XVI века преподобным Адрианом Ондрусовским, учеником преподобного Александра Свирского.
(обратно)35
Боевой холоп – вооружённый слуга, принадлежавший к несвободному населению. Боевые холопы несли военную службу вместе с дворянами в составе свиты средних и крупных землевладельцев.
(обратно)36
Аввакум – Аввакум Петров, или Аввакум Петрович (1620–1682). Священник Русской церкви, протопоп, один из первых духовных вождей старообрядчества и духовный писатель. В старообрядчестве является знаковой фигурой и почитается как священномученик и исповедник.
(обратно)37
Никон – мирское имя Никита Минин (1605–1681). Московский патриарх. В 1650‑х годах проводил церковные реформы в целях её унификации с современной греческой, что привело к расколу Русской церкви и возникновению старообрядчества. В 1666 году был отстранён от патриаршества.
(обратно)38
Терве, бабушка Виенно! Суло! Не узнал? Илма! Какая ты большая уж стала! Красавица!
(обратно)39
Бабушка, да ведь это Ристо! Дядя Ристо! Проходите в избу, будьте гостем!
(обратно)40
Не бойся их, они не страшные.
(обратно)41
Будут обижать, скажи мне. Я их из лодки в воду пометаю.
(обратно)42
Ой, дядя Ристи, не боюсь я их!
(обратно)43
Они смешные. У них рты разинутые.
(обратно)44
Воронецкие – Воронецкие, или Корибут-Воронецкие – русско-литовский княжеский род, считающийся ведущим своё происхождение от Великого князя литовского Гедимина.
(обратно)45
Да вынесите же вы его на улицу!
(обратно)46
Все, миленький, все!
(обратно)47
Чуть потерпи, сейчас полегчает!
(обратно)48
Да живой он, дядя Ристи. Этот порошок мама у купцов из Москвы достала.
(обратно)49
Он персидский. Уж где это, я не знаю. Если много его дать, то человек уснет и не проснется. А так, хоть палкой его сейчас бей, он и не почувствует!
(обратно)50
Можно размачивать мочой, ничего страшного не будет.
(обратно)51
Но я привыкла заваривать
ромашку. Хорошая трава!
(обратно)52
Бедненький! Кто же тебя так!
(обратно)53
Надо сбрить волосы!
(обратно)54
Бритву надо.
(обратно)55
Нету у нас, дочка, ничего такого!
(обратно)56
Топором бреемся. Ножницы есть, да велики.
(обратно)57
Тогда не надо, дядя Гриша. Ножницы и у меня есть.
(обратно)58
Стань и стой стеною кровь,
Утвердись заплотом в жилах,
В мясе тёплом оставайся.
Там тебе прекрасно жить,
Мило нежиться, спокойно.
Лёгкие – твой дом родной.
Печень – твой очаг домашний…
(обратно)59
Ай, какой сильный человек! Медведь настоящий, дядя Ристи!
(обратно)60
Если выживет, еще сто лет проживет!
(обратно)61
Это деготь, а это сухой болотный мох.
(обратно)62
Очень помогают, чтобы не было, как его у вас называют, Антонова огня. Дядя Ристи!
(обратно)63
Вы ему скажите, пусть запоминает. Может, и лекарем станет. Пригодится.
(обратно)64
Ох! Ох! Лекарь!
(обратно)65
Лешка, да лекарь! Он крови боится!
(обратно)66
Дядя Ристи!
(обратно)67
Утром отвезите меня домой. Что дальше делать, я скажу, а от меня пользы здесь больше не будет. Теперь, как Бог даст.
(обратно)68
Между Богом и чертом – это, наверное, на воде. Корзинка – это лодка. Белая тряпка – это парус. А грибы – это люди. Ну вот как мы вчера.
(обратно)69
Ну вот и все. Больше ничего в голову не приходит!
(обратно)70
Дура! Как же я сразу не догадалась… Дядя Гриша, а это, случаем, не ваша голова? На голове волосы росли. Потом они выпали, а теперь на них только пух.
(обратно)71
Иди сюда!
(обратно)72
Дай руку! Вот так.
(обратно)73
Дядя Гриша, он не разбойник. Скажите ему, чтобы уходил. Жизнь долгая будет.
(обратно)74
Он не разбойник. Скажите ему. Поедемте!
(обратно)75
Вечером перевяжите снова. Его не тревожьте.
(обратно)76
Дядя Гриша, скажи ему, чтобы отпустил Алешу.
(обратно)77
И пусть больше не разбойничает. Пусть уходит отсюда. Все уходят. Иначе беда будет.
(обратно)78
Илма, Илма, проснись! Счастье свое проспишь! Иди сюда, дочка!
(обратно)79
Что-то случилось, дядя Ристи?
(обратно)80
Илма, дочка!
(обратно)81
Вот я к вам сватом по осени собираюсь. Алешку моего женить хочу. Невесту ему ищу. Парень хороший. Соглашайся! Родителей твоих я уж уломаю.
(обратно)82
Можете приехать. Да и я согласна. Только не судьба нам, дядя Ристи.
(обратно)83
Как не судьба? Батюшка с матушкой не разрешат? Илма, солнышко, не бойся! Я уж уговорю, увидишь!
(обратно)84
Нет, не родители. Они, может, и рады будут.
(обратно)85
Просто, не судьба.
(обратно)86
Вот заладила, судьба, судьба!
(обратно)87
Не пойму я тебя, девка, Алешка люб тебе?
(обратно)88
Да, он хороший, смешной. Очень нравится. Ты не понимаешь, дядя Ристи. Как тебе объяснить. Вот видишь сосну на берегу. Она от озера, от воды близко?
(обратно)89
Ну, близко.
(обратно)90
Вот! А ты на лодке доплыть до нее сможешь?
(обратно)91
Как доплыть? На берег надо сходить, потом и дойдешь. Совсем на лодке нельзя.
(обратно)92
Вот и я вам говорю. На берег сходить – это как судьбу поменять. А это никто не может. Ни ты на лодке сколько ни греби – не догребешь, ни сосна дальше корней не двинется.
(обратно)93
Верить надо! Вера людьми двигает! Человек сам судьбе своей кузнец. Библию чти. Там сказано: коль имеешь веру даже с зерно малое, горчичное, то коль горе прикажешь идти, и пойдет она. Сие слова спасителя нашего Иисуса Христа! Сватов жди.
(обратно)94
Бражничать – пьянствовать.
(обратно)95
Посулы – взятки.
(обратно)96
Боутманская – боцманская.
(обратно)97
Пальчиков – Филипп Петрович Пальчиков (1682–1744) – русский кораблестроитель, сподвижник Петра Первого, полковник, статский советник.
(обратно)98
Скляев – Федосий Моисеевич Скляев (1672–1728). Русский кораблестроитель, самый известный русский корабел Петровской эпохи. Принимал участие в постройке «Предестинации». Построил первый полноценный линейный корабль Балтийского флота – «Полтаву». Петр Первый называл Скляева «… лучшим в сем мастерстве».
(обратно)99
Епанча – широкий безрукавный круглый плащ с капюшоном. В XVIII веке в Российской Империи – форменная одежда солдат и офицеров, подобие плащ-палатки.
(обратно)100
Карамба – черт побери (исп.).
(обратно)101
Неарх – Сподвижник Александра Македонского, полководец и мореплаватель.
(обратно)102
Плутонг – в русской армии XVIII века низшее подразделение пехоты, соответствующее взводу современной армии. Введено Петром Первым.
(обратно)103
Рангоут – общее название устройств для постановки парусов.
(обратно)104
Очень приятно! Меня зовут Грауенфельд. Отто Грауенфельд.
(обратно)105
Тогда следуйте за мной. Сейчас я всё устрою!
(обратно)106
Ретирада – отступление.
(обратно)107
Хорошо!
(обратно)108
Ламентации – жалоба, сетование.
(обратно)109
Анкер – якорь.
(обратно)110
Анекдот – в России в XVIII–XIX веках анекдотом называлась обычно забавная история о каком-нибудь известном человеке, событии и т. п.
(обратно)111
Соймонов – Федор Иванович Соймонов (1692–1780) – российский навигатор и гидрограф, в дальнейшем губернатор Сибири, сенатор. Известен как первый русский гидрограф. С 1715-го по 1719 год служил в чине мичмана на «Ингерманланде».
(обратно)112
Геннин – Георг Виллим де Геннин (1665–1750). Российский военный инженер немецкого происхождения, друг и соратник Петра Великого, специалист горного дела и металлургического производства. С 1713-го по 1719 год комендант Олонецких заводов под Петрозаводском.
(обратно)113
Лютор – Лютер Мартин (1483–1546). Христианский богослов, инициатор Реформации, ведущий переводчик библии на немецкий язык. Считается одним из создателей немецкого литературного языка.
(обратно)114
Я не знаю! Я не знаю!
(обратно)115
Господин капитан, я не понимаю, что значит слово «бабка».
(обратно)116
Имеется в виду старая женщина.
(обратно)117
Понимаете, они понятия не имеют о медицине, оттого лечением всевозможных болезней занимаются подобные женщины.
(обратно)118
Какая дурость! Да что они могут вылечить! Бреннер считается в Европе одним из самых известных врачей, а здесь я слышу о какой-то старой карге!
(обратно)119
О! Я хотел бы её повидать!
(обратно)120
Пару раз мне доводилось встречать подобных дам во время моей уральской экспедиции. Надеюсь, что господин Гесслер меня поддержит.
(обратно)121
Отто, а вдруг меня обвинят, что убил царя с помощью такого лечения? Я хочу командовать кораблем на море, а не двухметровой шлюпкой под землей.
(обратно)122
Я боюсь, что этот комендант разболтает всем, что вы запретили лечить царя. Тогда будет бунт, и нас повесят. Это Россия.
(обратно)123
Верно. Но что же делать?
(обратно)124
Дайте этому парню шлюпку с людьми, пусть плывет хоть к черту. А если утонет в озере, то это не ваше дело.
(обратно)125
Хорошо. Я дам свое согласие. Мы заполучим его в свои союзники. К тому же он фаворит у Меншикова.
(обратно)126
Этот парень врёт. Но это всё равно.
(обратно)127
…имя себе прежнее оставил? – При пострижении в монахи принято в знак полного разрыва с мирской жизнью брать себе новое имя.
(обратно)128
Устала. Думала, до утра спать буду. Сон странный видела я, Олей, и проснулась. Снилось мне, что стою я на берегу озера и жду. Знаю, что парус скоро покажется, лодка приблизится. За мной плывет она, и радостно мне. Затем вижу я точку на горизонте, и все ближе и ближе она. Стало страшно мне, Олей: то не парус белый, а что, я понять не могла. А затем вижу – то черный лебедь плывет. Заплакала я. Что-то страшное будет, а что, не знаю сама.
(обратно)129
Я проснулась от страха. Мне страшно. Уходи отсюда. Ты не разбойник. Я скажу дяде Ристи. Он хороший. Он тоже не разбойник. Он несчастный!
(обратно)130
Они все несчастные. Пусть все уходят. Черный лебедь – это не к добру. Он приплыл из Туонеллы. Очень боюсь за тебя…
(обратно)131
Дурачок! Мы оба дурачки. Милый! Луна позвала меня, и я… и я пошла. Не знала, что ты здесь… Знала. Что делаю! Стыдно…
(обратно)132
Милый, надо идти. Не то люди засмеют.
(обратно)133
Я не знала, что это так хорошо… Надо идти.
(обратно)134
Я, понимаешь? Ой, бесстыжая!
(обратно)135
Не смотри, Олей! Ты тоже бесстыжий!
(обратно)136
Смерть! Я чую, она здесь! Еще надо…
(обратно)137
Смерть здесь… Хитрая, хитрая…
(обратно)138
Близко…
(обратно)139
Ах! Смерть тянет! Тянет! Черный лебедь плывет! Приплывет! Вокруг корабля вашего плавает он! Как стрелка на часах кружит… Все ближе. Еще двадцать три круга плавать ему. Все ближе…
(обратно)140
Преображенский приказ – орган политического сыска и суда в России XVIII века.
(обратно)141
Ефимок – русское обозначение западноевропейского талера.
(обратно)142
Вот что, мужики. Мы к вам по важному, цареву делу. Нужен нам ваш колодец. Вот, бабушка Илма там пошепчет, и мы уйдем.
(обратно)143
Не надо денег, так идите. Только черта в колодец нам не подбросьте.
(обратно)144
Что? Какого такого черта?
(обратно)145
Ильинском погосте моему шурину подбросили.
(обратно)146
Попросили попить, а как прошло две недели, и колодец высох. Черта подбросили!
(обратно)147
Собак твоих я тебе сейчас туда побросаю, обормот!
(обратно)148
Я – олонецкий воевода. Сами вы, черти лохматые, темные!
(обратно)149
Ведро нужно б да ковш.
(обратно)150
Воду нужно достать.
(обратно)151
Это можно.
(обратно)152
Эй, хозяева, ведро дайте! И ковшик найдите тож.
(обратно)153
Что еще надо, бабушка?
(обратно)154
Все, иди сынок. Дальше я сама.
(обратно)155
Один!
(обратно)156
Два!
(обратно)157
Три!
(обратно)158
Шестнадцать!
(обратно)159
Девятнадцать!
(обратно)160
Двадцать!
(обратно)161
Ай, дура, я, дура старая! Три шага не дошла, три глотка не донесла! Смерть ползет, смерть ползет! Стоит у порога комнаты царской, щурится, скалится! Руки пусты мои теперь ту змею изловить, утопить. Горе мне!
(обратно)162
Эхма, бабушка… Ну не плачь. Что же делать, так, видно, Бог рассудил.
(обратно)163
Пойдем на корабль. Малая там твоя ждет. Жить-то надо, надо жить! Домой повезу…
(обратно)164
Царь умрет теперь.
(обратно)165
Что ж!
(обратно)166
Всем помирать!
(обратно)167
Жаль! Таких царей еще не бывало. И топором важно работает!
(обратно)168
А по маю мы с ним у меня на посаде сильно бражничали. С мужиками нашими торговыми. Потом бороться схватились – силен черт!
(обратно)169
Илма, встань!
(обратно)170
Все будет по-твоему, как ты просишь. Идите пока.
(обратно)171
Стекольное царство – Швеция. От искаженного названия столицы Швеции – Стокгольма.
(обратно)172
Experementia est optima magistra – Опыт есть лучший учитель.
(лат)
(обратно)173
Савва Васильевич Айгустов – участник Северной войны, за боевые отличия в Полтавском сражении произведенный в генерал-майоры.
(обратно)174
Бригадир – военный чин в пехоте или коннице, выше полковника и ниже генерал-майора. Командовал бригадой или несколькими полками.
(обратно)175
«Слово и дело» – условное выражение, произнесение которого свидетельствовало о готовности дать показания о государственном преступлении.
(обратно)176
“Претерпевший до конца спасется” – цитата из Евангелия от Матфея, передающего слова Христа так: «… и многие лжепророки восстанут, и прельстят многих; и, по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь; претерпевший же до конца спасется».
(обратно)177
Я тоже выучил карельский язык после встречи с тобой.
(обратно)178
Кое-что от дяди Григория еще слышал.
(обратно)179
Да… Григорий, хороший был человек. Жаль мне его.
(обратно)180
Правда, что его убили, когда везли в Олонец? Слухов много шло у нас.
(обратно)181
Я его убил.
(обратно)182
Вон там, на мыске. Не хотел, чтобы его мучали.
(обратно)183
Я знала это. Всем остальным была смерть предназначена, а у тебя жизнь долгой оказалась, как я тебе и предсказала.
(обратно)184
Как ты жила?
(обратно)185
Да как… Замуж не вышла, все тебя ждала. Дочка родилась – я радовалась. Иногда ходила к монастырю, знала от людей, что ты там, да зайти боялась. Думала, прогонишь, а я плакать буду. Да и стыдно было. Потом перестала ходить, догадалась, раз несколько лет не приходил, значит, пересилил себя.
(обратно)186
Илма…
(обратно)187
Да, Алексей.
(обратно)188
Я приходил к вам в том году. Как раз в ноябре или начале декабря. Не помню. И тебя видел – ты за водой на речку ходила… На бугре стояла. Еще чуть-чуть, и я не выдержал бы…
(обратно)189
Затем я возненавидела тебя.
(обратно)190
А еще уважала. Раз пересилил себя, значит, настоящий мужчина. Значит, наше счастье никому не досталось.
(обратно)191
А кто эта девочка? Глаза у нее ну совсем как у тебя в юности.
(обратно)192
Алексей, ну замолчи! Не надо о том вспоминать. Старухе не напоминай о молодости. Это моя правнучка, Насто.
(обратно)193
И твоя.
(обратно)194
Что?!
(обратно)195
Моя правнучка?
(обратно)196
Ох-о-хой, Алексей! Ты никогда не знал, что дети от кого-то да получаются!
(обратно)197
Теперь я стою на обеих ногах, Илма.
(обратно)198
Как это хорошо! Боже, награда твоя велика! Я и не знал, что она может быть такой! Спасибо тебе, Боже!
(обратно)199
Дядя Григорий дал это мне. Чтобы я тебе его подарил. Это память о нем.
(обратно)200
Вот и выполнил я его завет.
(обратно)201
Какие красивые! Алексей, мне их уж не носить. Пусть это будет подарок для Насто. Ей в невестах ходить да красоваться!
(обратно)202
Пусть.
(обратно)203
Чувствую себя как жених!
(обратно)204
А еще монах!
(обратно)205
Разве вам так можно? А я-то, дура! Стыдобушка какая!
(обратно)206
Ой, Боже!
(обратно)207
Позор нам!
(обратно)208
Сухарная башня – Сухарева башня в Москве, построена по приказу Петра в 1695 году и названа в честь командира стрелецкого полка Лаврентия Панкратьевича Сухарева, оставшегося верным Петру во время событий 1689 года. В башне позже находилась Школа математических и навигацких наук, руководителем которой был Брюс.
(обратно)209
Брюс – Брюс Яков Виллимович (1670–1735). Один из ближайших сподвижников Петра Великого, военный, инженер и ученый. В московских преданиях за ним прочно закрепилась репутация чернокнижника, мага и колдуна с Сухаревой башни.
(обратно)210
Бабушка! Бабушка, а там дядя нам шапкой машет! Видишь?
(обратно)211
Вижу, внученька.
(обратно)212
Бабушка, ты чего плачешь?
(обратно)213
Тоже хочу на корабль. Там дядя Матти был. Он мне сказки рассказывал! И другие дяди тоже хорошие были, меня вкусной кашей угощали. Только я не понимала, что они говорили.
(обратно)214
Ой! Ой, как здорово!
(обратно)215
Насто, внученька, пойдем. Ой, нам еще долго идти…
(обратно)216
Как икона Богоматери слезы начала проливать в церкви Троицкой… – Действительный случай, который произошел в 1720 году. Дальше в тексте будет дано его полное описание.
(обратно)217
Абшид – увольнение.
(обратно)218
Галиот – деревянное трехмачтовое грузовое судно. Такие суда строились в Олонецкой губернии и применялись вплоть до начала XX века.
(обратно)219
Косушка – бутылка водки малой емкости (около 250 грамм)
(обратно)220
Плевна – город в Болгарии, а также турецкая крепость, около которой в годы русско-турецкой войны 1877–1878 годов развернулись ожесточенные боевые действия (так называемая «Осада Плевны»)
(обратно)221
Парадиз – рай.
(обратно)222
Бунчук – турецкое знамя. Представляет собой древко с прикрепленным к нему полумесяцем и одним или несколькими конскими хвостами.
(обратно)223
Становой – полицейский чин в царской России.
(обратно)224
Урядник – см. выше.
(обратно)225
Ятаган – клинок, вид холодного оружия у янычар (турецкой гвардии).
(обратно)226
Фунт – единица веса в царской России, около 410 граммов.
(обратно)227
Сажень – единица измерения длины в царской России, около 2,16 метров.
(обратно)228
Куафер – парикмахер.
(обратно)229
Свейский – шведский.
(обратно)230
Бакшиш – взятка, подарок.
(обратно)231
Скобелев Михаил Дмитриевич – полководец, участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг, освободитель Болгарии.
(обратно)232
Криденер – Николай Павлович Криденер, барон. Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Командующий 9-м армейским корпусом в составе дунайской армии.
(обратно)233
Долгорукая – Екатерина Михайловна Долгорукая, княжна. Фаворитка Императора Александра II с 1866 года. Родила от него четырех детей.
(обратно)234
Шебеко – Шебеко Варвара Игнатьевна. Статс – дама, фрейлина. Близкая подруга Екатерины Долгорукой. Исполняла роль конфидентки и посредницы в отношениях Императора и Катерины.
(обратно)235
Маков – Маков Лев Саввич, российский государственный деятель, министр внутренних дел в 1878–1880 гг.
(обратно)236
Цербер – в греческой мифологии трехголовый пес, сторожащий выход из царства мертвых Аида. В переносном значении верный, неподкупный слуга.
(обратно)237
Священный синод – высший государственный орган церковно-административной власти в Российской Империи.
(обратно)238
Победоносцев – Российский государственный деятель, член Государственного совета, с 1880 года обер-прокурор Священного синода.
(обратно)239
Ярл – знатный человек, племенной вождь древних скандинавов.
(обратно)240
Фьорд – узкий морской залив на побережье Скандинавии.
(обратно)241
О́дин – верховный бог в германо-скандинавской мифологии.
(обратно)242
Берсерк – воин посвятивший себя Одину. Перед битвой берсерк приводил себя в состояние транса и в таком состоянии становился неуязвимым для врагов.
(обратно)243
Скальд – древнескандинавский поэт и певец.
(обратно)244
Тор – бог грома и молнии в германо-скандинавской мифологии.
(обратно)245
Венеды – славяне.
(обратно)246
Дирхем – старинная арабская монета.
(обратно)247
Фрейя – богиня любви, красоты и плодородия в германо-скандинавской мифологии.
(обратно)248
Валгалла – страна мертвых в германо-скандинавской мифологии. В валгалле души павших воинов пируют вместе с Одином.
(обратно)249
Валькирия – ангел смерти в образе девушки, которая подбирает души павших воинов и пирует вместе с ними в Валгалле.
(обратно)250
Укко – верховный бог в карельской мифологии.
(обратно)251
Туонела, Манала – страна мертвых в карельской мифологии.
(обратно)252
Венеды – славяне.
(обратно)Оглавление
От автора
Отзыв о книге
Запад—Восток
Часть 1. Часы
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5
Глава 6
Глава 7
Глава 8
«ГАНС и РОЗА»
Примечания
Часть 2. Разбойничий остров
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5
Глава 6
Глава 7
Глава 8
Часть 3. Ингерманланд
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5
Глава 6
Глава 7
Глава 8
Глава 9
Глава 10
Глава 11
Глава 12
Глава 13
Эпилог
Речная сказка
Легенда о Чёрном мысе
*** Примечания ***
 Джон Картерет
Джон Картерет

 Король Швеции Густав Адольф
Король Швеции Густав Адольф



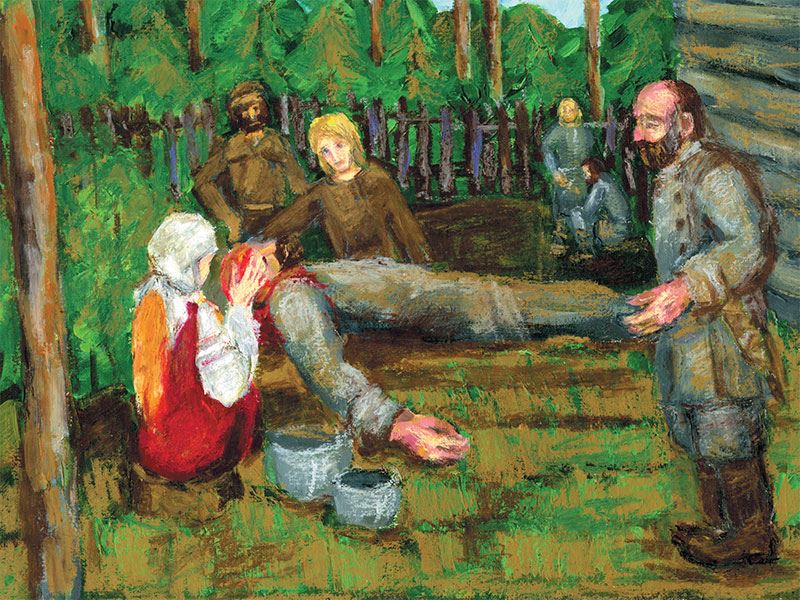
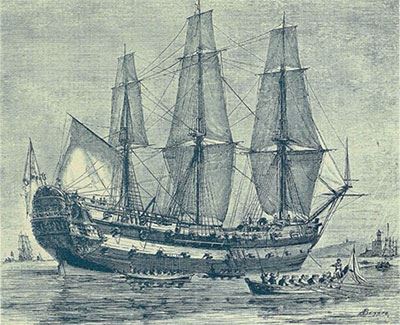 Ингерманланд
Ингерманланд

 Федор Иванович Соймонов
Федор Иванович Соймонов
 Петр Первый
Петр Первый

 Со времени того чудесного случая, который произошел в наших местах, прошло уже больше ста лет. И хотя очевидцами происшествия было множество людей, но время, как это обычно бывает, стерло многие детали, а память людская, не умея все увиденное и услышанное сохранить, многое или приукрасила, или исказила за несколько поколений. Впрочем, любители старины и историки, стремящиеся во имя науки к максимальной точности, могут обратиться к архивам Министерства внутренних дел времен Александра Второго или архивам Священного синода конца семидесятых годов уже, увы, позапрошлого века… И если материалы эти не сгинули за две мировые войны и три революции, то ищущий будет вознагражден за свое терпение и узнает, что в жизни случается такое, чего наука объяснить не способна. А может быть, во всем, как водится, виновата любовь!
Случилось это летом 1878 года. Колесный пароход «Сом» с двумя баржами бросил якорь в устье нашей реки Олонки… Грузили тогда в устье лес на суда и затем везли его Ладогой и дальше по Неве до порта Санкт Петербурга, а то и дальше: в Англию или Голландию. И, кроме команды, был на борту «Сома» лишь один пассажир – бывший солдат именем Иван. Молод он был, да дел видел, и пороха на турецкой войне понюхал. Да так, что по контузии дал ему сам белый генерал Скобелев полный абшид[217], а вместе с абшидом и крест на грудь за подвиги, и червонец на дорогу. Ну, как водится, червонец тот Иван уже давно прогулять успел. А взяли корабелы на корабль его от многого уважения к воинским трудам. Пока добирались, все про войну и генерала Скобелева выспрашивали. А как же – герой! А за крест так Ванюшку и стали меж собою звать – «Крестовым». Добирался Иван к своим старикам родителям в город Кемь, что у Белого моря стоит. По воде, чай, не по суше: и путь прямей и короче, и ногам покой. Лето то жаркое было, Ладога ти-и-ихая! Ну, вот они и прибыли. А в устье-то у нас весело! У берега-то галиотов[218] десятка два доской да круглым лесом грузятся. Со всех сторон – от устей Видлицы, устей Тулоксы да от верховьев Олонки – со всяких мелких пильных заводов судами лес да доску сюда везли, а уж здесь на большие суда перегружали. На них Ладогой плыть сподручнее. Рыбацкие лодки, кто к островам веслят, кто оттеда с уловом гребут. На берегу мужики уху на кострах варят, а какая уха без косушки[219]? Ребятишки туда-сюда как ужи елозят. Им лето в радость! Очень понравилась Ивану такая картина. От Плевны[220] доседа куда как дальше – думает Иван – чем отседа до Кеми. Почему бы не задержаться в таком веселом месте на денек-другой? Вот Иван возьми и напросись в артель, к рыбакам. За уху и за погляд на местный парадиз[221] срядился он в ту артель на три дня. Рыбаки и рады были – был наш Ванюша в силе да и дело гребное и рыбацкое еще с детства на Белом море знал. Недолго они рядились. В тот же вечер уже греб в лодке Иван вместе с тремя своими новыми товарищами. Были там отец и сын Нухчиевы – те карелы, но по-русски говорили хорошо, и один старообрядец русский – Ефрем. Жили же все трое рядом в деревеньке Плотчейлы, что между устьем и Чёрным мысом стояла. Теперь от нее ничего уж, кроме этой сказки да названия на старых картах, не осталось. Капитаном Ефрем был у них. Один ряд поставили, один ряд сняли. Ничего, было сига в том порядке изрядно. Как высадились на бережок в устье, то отправили Ивана хвороста в лесу набрать да уху варить в котелке тут же, на берегу. Уха знатная из сига. А ночь светлая, теплая. Только вот комареи. Прочую рыбу, что в уху не пошла, продали мужики, не мешкая, корабелам. Те рыбу-сига по озерному болтанию своему очень даже уважают и приветствуют. Продали и к костру пришли, Ивановы рассказы про турецкую кампанию и Скобелева-генерала послушать. Любопытно им было с новым человеком познакомиться. Отец Нухчиев сына за косушкой послал. Тут совсем стало им весело. Только Ефрем к казенке не прикоснулся. Старообрядец он был. И табак за дьявольское зелье признавал, и к водке – ни-ни – не прикасался! Да, ему же и хуже. Долго рассказывал Иван про свои мытарства на войне. И как он крест от самого Скобелева за отбитый у басурманов бунчук[222] получил. И как контузило его в деле при Плевне так, что пластом замертво лежал, а дохтур уже и рукой махнул – не жилец, мол! Как болгары их вином и грушами угощали. Спрашивали карелы, что за дело такое – груши? Отродясь груш они не видали. Рассказывал Иван про страну Молдавию также и про фельдфебеля своего, что солдатских зубов не жалел, тоже рассказал. И как тому в деле под Адрианополем гранатой башку оторвало, то никто о ем и не пожалел. Да, бывалый человек был Иван! Помянул и про червонец, что Скобелев ему на дорогу дал. Да только где теперь тот червонец? Давно по кабакам мелочью рассыпался. Оттого и взгрустнулось ветерану. Внимательно слушал его Ефрем, а тут он Ивану и говорит: – А знаешь ли, Ванюша, что целый кошель с золотыми червонцами совсем близко от нас на дне Олонки лежит, удачливого ждет? Тут ведь у нас дела темные, и люди разные. А между разными людьми и случаи разные бывают. – А что, Ефрем Селиверстович, случилося у вас такое, и как тот кошель на дне речном оказался? – Спрашивает его Иван. Задумался капитан ватажный, подумал-помолчал с минуту, а затем махнул рукой, мол, была не была, и начал так: «Ну, Ванюша, верь не верь, а слушай. Три года как тому назад жила соседями у Нухчиевых семья одна. Приехали они сюда уже давно, да не на добро. Семья-то большая была, одних детей штук семь, а то и поболе. Да потом беда к нам пришла: стала оспа людей валить. Ну, лекарь у нас далеко, в Олонце, да делов ему и там хватило. И дороги здесь, сам видишь, черт с ведьмой проложили. И так вышло, что вымерло семейство в месяц один. Осталось от нее всего-то отец да дочка старшая, Марьей ее звали. В самом цвету девка была, красавица! И работящая, и домовитая. Отец, Василием его звали, нарадоваться на нее не мог.
Со времени того чудесного случая, который произошел в наших местах, прошло уже больше ста лет. И хотя очевидцами происшествия было множество людей, но время, как это обычно бывает, стерло многие детали, а память людская, не умея все увиденное и услышанное сохранить, многое или приукрасила, или исказила за несколько поколений. Впрочем, любители старины и историки, стремящиеся во имя науки к максимальной точности, могут обратиться к архивам Министерства внутренних дел времен Александра Второго или архивам Священного синода конца семидесятых годов уже, увы, позапрошлого века… И если материалы эти не сгинули за две мировые войны и три революции, то ищущий будет вознагражден за свое терпение и узнает, что в жизни случается такое, чего наука объяснить не способна. А может быть, во всем, как водится, виновата любовь!
Случилось это летом 1878 года. Колесный пароход «Сом» с двумя баржами бросил якорь в устье нашей реки Олонки… Грузили тогда в устье лес на суда и затем везли его Ладогой и дальше по Неве до порта Санкт Петербурга, а то и дальше: в Англию или Голландию. И, кроме команды, был на борту «Сома» лишь один пассажир – бывший солдат именем Иван. Молод он был, да дел видел, и пороха на турецкой войне понюхал. Да так, что по контузии дал ему сам белый генерал Скобелев полный абшид[217], а вместе с абшидом и крест на грудь за подвиги, и червонец на дорогу. Ну, как водится, червонец тот Иван уже давно прогулять успел. А взяли корабелы на корабль его от многого уважения к воинским трудам. Пока добирались, все про войну и генерала Скобелева выспрашивали. А как же – герой! А за крест так Ванюшку и стали меж собою звать – «Крестовым». Добирался Иван к своим старикам родителям в город Кемь, что у Белого моря стоит. По воде, чай, не по суше: и путь прямей и короче, и ногам покой. Лето то жаркое было, Ладога ти-и-ихая! Ну, вот они и прибыли. А в устье-то у нас весело! У берега-то галиотов[218] десятка два доской да круглым лесом грузятся. Со всех сторон – от устей Видлицы, устей Тулоксы да от верховьев Олонки – со всяких мелких пильных заводов судами лес да доску сюда везли, а уж здесь на большие суда перегружали. На них Ладогой плыть сподручнее. Рыбацкие лодки, кто к островам веслят, кто оттеда с уловом гребут. На берегу мужики уху на кострах варят, а какая уха без косушки[219]? Ребятишки туда-сюда как ужи елозят. Им лето в радость! Очень понравилась Ивану такая картина. От Плевны[220] доседа куда как дальше – думает Иван – чем отседа до Кеми. Почему бы не задержаться в таком веселом месте на денек-другой? Вот Иван возьми и напросись в артель, к рыбакам. За уху и за погляд на местный парадиз[221] срядился он в ту артель на три дня. Рыбаки и рады были – был наш Ванюша в силе да и дело гребное и рыбацкое еще с детства на Белом море знал. Недолго они рядились. В тот же вечер уже греб в лодке Иван вместе с тремя своими новыми товарищами. Были там отец и сын Нухчиевы – те карелы, но по-русски говорили хорошо, и один старообрядец русский – Ефрем. Жили же все трое рядом в деревеньке Плотчейлы, что между устьем и Чёрным мысом стояла. Теперь от нее ничего уж, кроме этой сказки да названия на старых картах, не осталось. Капитаном Ефрем был у них. Один ряд поставили, один ряд сняли. Ничего, было сига в том порядке изрядно. Как высадились на бережок в устье, то отправили Ивана хвороста в лесу набрать да уху варить в котелке тут же, на берегу. Уха знатная из сига. А ночь светлая, теплая. Только вот комареи. Прочую рыбу, что в уху не пошла, продали мужики, не мешкая, корабелам. Те рыбу-сига по озерному болтанию своему очень даже уважают и приветствуют. Продали и к костру пришли, Ивановы рассказы про турецкую кампанию и Скобелева-генерала послушать. Любопытно им было с новым человеком познакомиться. Отец Нухчиев сына за косушкой послал. Тут совсем стало им весело. Только Ефрем к казенке не прикоснулся. Старообрядец он был. И табак за дьявольское зелье признавал, и к водке – ни-ни – не прикасался! Да, ему же и хуже. Долго рассказывал Иван про свои мытарства на войне. И как он крест от самого Скобелева за отбитый у басурманов бунчук[222] получил. И как контузило его в деле при Плевне так, что пластом замертво лежал, а дохтур уже и рукой махнул – не жилец, мол! Как болгары их вином и грушами угощали. Спрашивали карелы, что за дело такое – груши? Отродясь груш они не видали. Рассказывал Иван про страну Молдавию также и про фельдфебеля своего, что солдатских зубов не жалел, тоже рассказал. И как тому в деле под Адрианополем гранатой башку оторвало, то никто о ем и не пожалел. Да, бывалый человек был Иван! Помянул и про червонец, что Скобелев ему на дорогу дал. Да только где теперь тот червонец? Давно по кабакам мелочью рассыпался. Оттого и взгрустнулось ветерану. Внимательно слушал его Ефрем, а тут он Ивану и говорит: – А знаешь ли, Ванюша, что целый кошель с золотыми червонцами совсем близко от нас на дне Олонки лежит, удачливого ждет? Тут ведь у нас дела темные, и люди разные. А между разными людьми и случаи разные бывают. – А что, Ефрем Селиверстович, случилося у вас такое, и как тот кошель на дне речном оказался? – Спрашивает его Иван. Задумался капитан ватажный, подумал-помолчал с минуту, а затем махнул рукой, мол, была не была, и начал так: «Ну, Ванюша, верь не верь, а слушай. Три года как тому назад жила соседями у Нухчиевых семья одна. Приехали они сюда уже давно, да не на добро. Семья-то большая была, одних детей штук семь, а то и поболе. Да потом беда к нам пришла: стала оспа людей валить. Ну, лекарь у нас далеко, в Олонце, да делов ему и там хватило. И дороги здесь, сам видишь, черт с ведьмой проложили. И так вышло, что вымерло семейство в месяц один. Осталось от нее всего-то отец да дочка старшая, Марьей ее звали. В самом цвету девка была, красавица! И работящая, и домовитая. Отец, Василием его звали, нарадоваться на нее не мог.

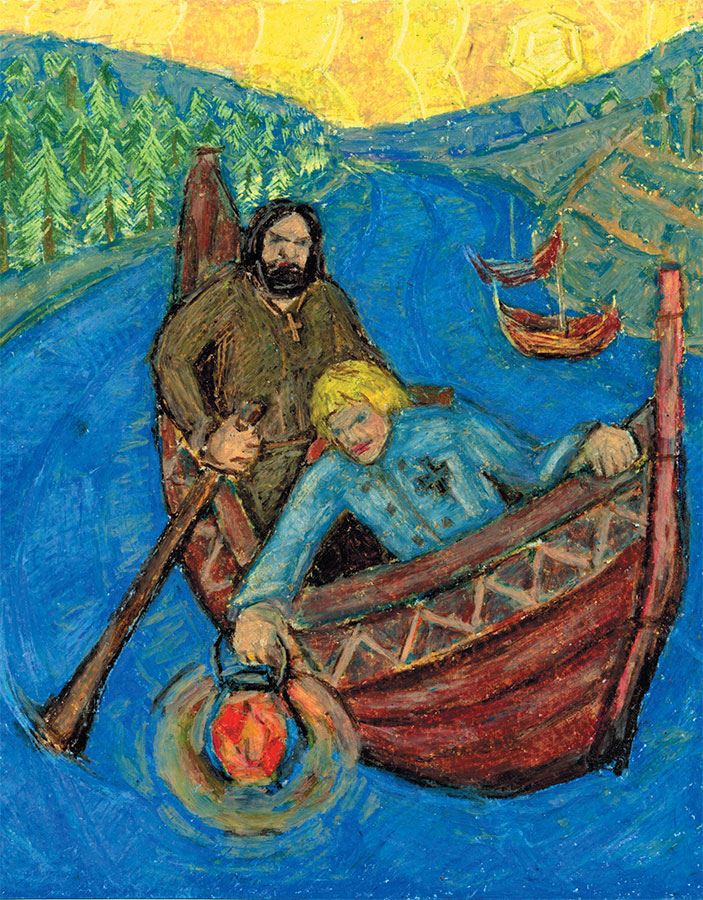


 «Белый генерал» Скобелев Михаил Дмитриевич
«Белый генерал» Скобелев Михаил Дмитриевич
 Император Александр Второй
Император Александр Второй
 Княжна Долгорукая Екатерина Александровна
Княжна Долгорукая Екатерина Александровна
 Давно прошли времена, когда спускались на землю боги, а земля была полна духов, когда звери в лесах смотрели на человека с любопытством, без страха, а человек смотрел со страхом на звезды, в надежде узнать свою судьбу. Именно тогда и случилась эта история.
Плыли вдоль берега Ладожского озера драккары славного в норвежской земле ярла[239] Сигурда Длиннобородого, мудрого в королевском совете и непобедимого в бою. Скучной показалась ярлу жизнь на черных скалах родного фьорда[240] после того, как вернулся из самого прекрасного города в мире Константинополя его старший брат Снуфри. Точно дивную сказку слушал Сигурд рассказы брата о странах, где солнце жарче огня в очаге, а золота, как песка морского. Райские птицы живут там, и зреют невиданные в родной Норвегии плоды, которые даже Одину[241] не приходилось вкушать – так сладостны были они! Женщины там знойны, как солнце Востока, и благосклонны они к чужеземцам с холодными голубыми глазами.
Рассказывал также Снуфри, как полюбил его император Роман за верность и отвагу в бою. Да и не мог Снуфри повернуться к врагу спиной, ибо был он берсерком[242], а судьба такому – или победить, или умереть. И когда затосковал он по родным черным скалам, о которые разбиваются холодные волны под крик чаек, и собрался в обратный путь со своей дружиной, то велел щедро вознаградить его император за кровь, которую пролили викинги во славу империи, свою и чужую. Но чужой было куда больше. И вот год спустя обнялись братья после долгих пятнадцати лет разлуки. Но с тех пор не знал покоя Сигурд. И было так до дня, пока не собрал он всех своих домашних, друзей и соседей. А собрав, объявил, что собирается плыть в Константинополь на службу к старому Роману, и зовет с собой тех, кто желает испытать силу рук своих и счастье своё. Ведь так устроен этот мир, что императору всегда нужны воины, потому что у великих мало друзей, но всегда много врагов и завистников.
Через три месяца отплыл Сигурд, а с ним и триста воинов на семи драккарах. И пока видны были родные черные утесы, пока доносился до слуха крик чаек и грохот прибоя, радостно билось сердце их. Хотелось увидеть им новую землю и новое небо, услышать чужую речь обитателей далеких стран и найти свое счастье и удачу там, далеко. Но вот исчез вдали берег, и тогда смолкли разговоры и смех; только плеск волны о борта да скрип уключин раздавались. Стало смутно тогда на сердце у воинов, потому что вспомнили они песню, которую пел на прощальном пиру слепой скальд[243] Бьярни Турсон. Пел слепой Бьярни о том, что не дано видеть людям дальше горизонта. Лишь великие боги, которые высоко над миром, видят и знают судьбу каждого из смертных. Но как далеко не видят великие боги, всё же и у них есть свой горизонт, который тонет во мраке вечности. Потому-то и боятся ее великие. Но что же тогда бояться людям, чья жизнь подобна искре от костра? Однажды взлетела она, но вот её уже нет, ибо погасла она во мраке. Потому-то пусть смело идет каждый путем своим и смиренно принимает положенное ему. Вот что пел на пиру слепой Бьярни. А вёсла дробили волну, а ветер полнил паруса.
Быстро, с попутным ветром, пересекли они Финский залив, затем на веслах против течения прошли Неву и, наконец, достигли Ладоги. Далее путь ведет через Волхов и переволоки на Днепр и Черное море до Константинополя – столицы тогдашнего мира. Но Ладога – это женщина, и никогда не знаешь, что затаила она в сердце своём. Рассердилась она, что не принесли ей чужеземцы никаких даров: ни бус жемчужных, ни золотых кубков, ни серебряных сережек, ни колечек с цветными каменьями. Даже кружкой пива не отблагодарили пришельцы ту, что несла их драккары на своих волнах.
Тогда рассердилась Ладога и рассвирепела. Ещё никогда не доводилось видеть пенителям моря таких волн на хребтах морей и океанов, а видели они их много. Братья Ладоги – ветры свирепые – разорвали в клочья паруса, забросали пеной глаза кормчих, порвали снасти и якорные канаты. Изломала Ладога в щепу рули и весла, и забросила в бешенстве корабли к своему противоположному берегу. Только тогда она затихла и заснула, как ни в чём не бывало. Так оказались викинги в наших краях, там, где река Олонка впадает в Ладожское озеро. Вытащили они корабли на желтый песок у самого устья и три дня чинили их, восхваляя доброту Одина и милость Тора[244], что услышали их мольбу, спасли их жизни. А дальше вот что случилось.
Давно прошли времена, когда спускались на землю боги, а земля была полна духов, когда звери в лесах смотрели на человека с любопытством, без страха, а человек смотрел со страхом на звезды, в надежде узнать свою судьбу. Именно тогда и случилась эта история.
Плыли вдоль берега Ладожского озера драккары славного в норвежской земле ярла[239] Сигурда Длиннобородого, мудрого в королевском совете и непобедимого в бою. Скучной показалась ярлу жизнь на черных скалах родного фьорда[240] после того, как вернулся из самого прекрасного города в мире Константинополя его старший брат Снуфри. Точно дивную сказку слушал Сигурд рассказы брата о странах, где солнце жарче огня в очаге, а золота, как песка морского. Райские птицы живут там, и зреют невиданные в родной Норвегии плоды, которые даже Одину[241] не приходилось вкушать – так сладостны были они! Женщины там знойны, как солнце Востока, и благосклонны они к чужеземцам с холодными голубыми глазами.
Рассказывал также Снуфри, как полюбил его император Роман за верность и отвагу в бою. Да и не мог Снуфри повернуться к врагу спиной, ибо был он берсерком[242], а судьба такому – или победить, или умереть. И когда затосковал он по родным черным скалам, о которые разбиваются холодные волны под крик чаек, и собрался в обратный путь со своей дружиной, то велел щедро вознаградить его император за кровь, которую пролили викинги во славу империи, свою и чужую. Но чужой было куда больше. И вот год спустя обнялись братья после долгих пятнадцати лет разлуки. Но с тех пор не знал покоя Сигурд. И было так до дня, пока не собрал он всех своих домашних, друзей и соседей. А собрав, объявил, что собирается плыть в Константинополь на службу к старому Роману, и зовет с собой тех, кто желает испытать силу рук своих и счастье своё. Ведь так устроен этот мир, что императору всегда нужны воины, потому что у великих мало друзей, но всегда много врагов и завистников.
Через три месяца отплыл Сигурд, а с ним и триста воинов на семи драккарах. И пока видны были родные черные утесы, пока доносился до слуха крик чаек и грохот прибоя, радостно билось сердце их. Хотелось увидеть им новую землю и новое небо, услышать чужую речь обитателей далеких стран и найти свое счастье и удачу там, далеко. Но вот исчез вдали берег, и тогда смолкли разговоры и смех; только плеск волны о борта да скрип уключин раздавались. Стало смутно тогда на сердце у воинов, потому что вспомнили они песню, которую пел на прощальном пиру слепой скальд[243] Бьярни Турсон. Пел слепой Бьярни о том, что не дано видеть людям дальше горизонта. Лишь великие боги, которые высоко над миром, видят и знают судьбу каждого из смертных. Но как далеко не видят великие боги, всё же и у них есть свой горизонт, который тонет во мраке вечности. Потому-то и боятся ее великие. Но что же тогда бояться людям, чья жизнь подобна искре от костра? Однажды взлетела она, но вот её уже нет, ибо погасла она во мраке. Потому-то пусть смело идет каждый путем своим и смиренно принимает положенное ему. Вот что пел на пиру слепой Бьярни. А вёсла дробили волну, а ветер полнил паруса.
Быстро, с попутным ветром, пересекли они Финский залив, затем на веслах против течения прошли Неву и, наконец, достигли Ладоги. Далее путь ведет через Волхов и переволоки на Днепр и Черное море до Константинополя – столицы тогдашнего мира. Но Ладога – это женщина, и никогда не знаешь, что затаила она в сердце своём. Рассердилась она, что не принесли ей чужеземцы никаких даров: ни бус жемчужных, ни золотых кубков, ни серебряных сережек, ни колечек с цветными каменьями. Даже кружкой пива не отблагодарили пришельцы ту, что несла их драккары на своих волнах.
Тогда рассердилась Ладога и рассвирепела. Ещё никогда не доводилось видеть пенителям моря таких волн на хребтах морей и океанов, а видели они их много. Братья Ладоги – ветры свирепые – разорвали в клочья паруса, забросали пеной глаза кормчих, порвали снасти и якорные канаты. Изломала Ладога в щепу рули и весла, и забросила в бешенстве корабли к своему противоположному берегу. Только тогда она затихла и заснула, как ни в чём не бывало. Так оказались викинги в наших краях, там, где река Олонка впадает в Ладожское озеро. Вытащили они корабли на желтый песок у самого устья и три дня чинили их, восхваляя доброту Одина и милость Тора[244], что услышали их мольбу, спасли их жизни. А дальше вот что случилось.









