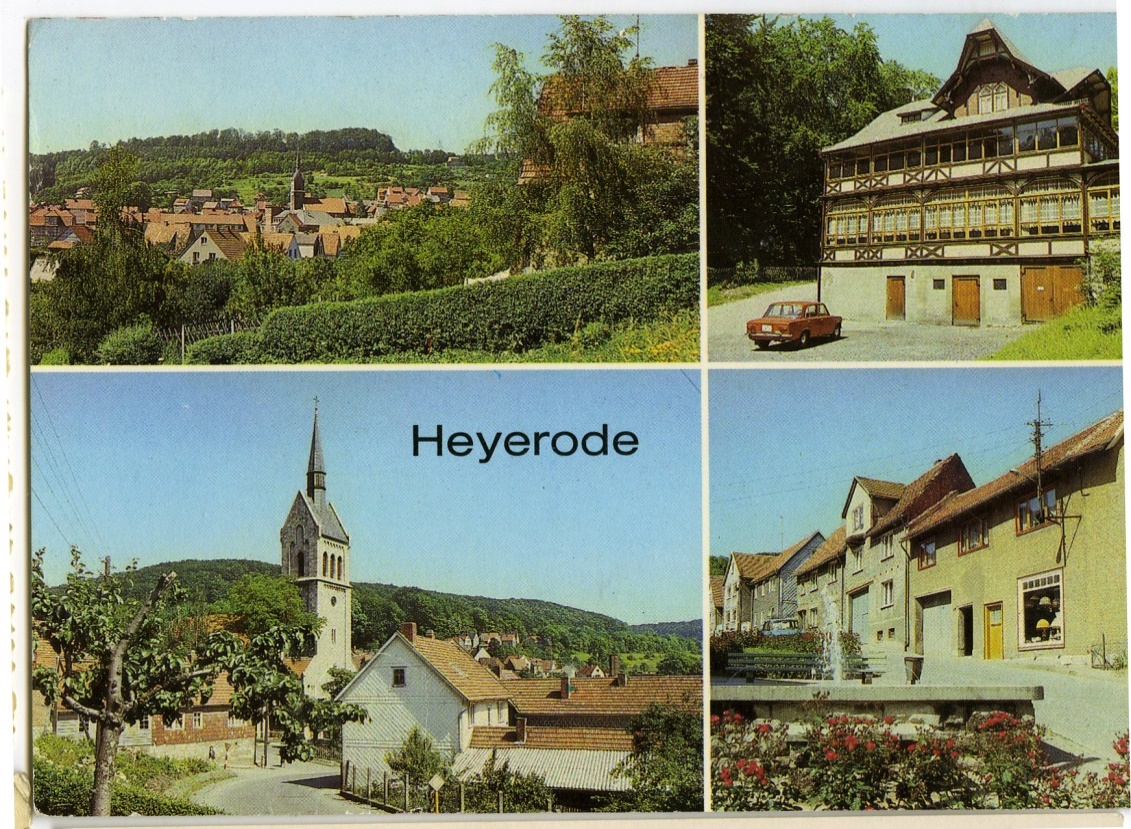Автор повести – коренной сибиряк, красноярец, участник Великой Отечественной войны, воевал рядовым бойцом-красноармейцем, разведчиком, командиром стрелкового отделения. Войну закончил на Эльбе переводчиком полка в звании старшины. Встречался с американцами. Один эпизод из своей службы в послевоенной Германии в качестве военного коменданта села Хейероде автор описывает в предлагаемой документальной повести.

Фото 1985 года
История эта началась летом 1945 года, когда наш полк, перейдя реку Мульда под Биттерфельдом, начал продвигаться на юг в глубь немецкой земли Тюрингии. По решению союзников, Тюрингия и некоторые другие земли и провинции Германии передавались в советскую зону оккупации, а взамен этого наше правительство разделило Берлин на четыре сектора и три из них передало французским, американским и английским войскам. Из этих секторов впоследствии образовался монстр Западный Берлин.
Итак, наш полк, как и другие части нашей армии, начал оккупацию Тюрингии, а навстречу нам в Берлин двигались американские войска. 6 июля 1945 года, оставив позади себя крупный и совершенно не разрушенный город Мюльхаузен, наш полк вступил в большое село Хейероде, где и расквартировался. Точнее сказать, в этом селе разместился только штаб полка и его подсобные подразделения, а стрелковые батальоны с артиллерией и минометами заняли боевые позиции вдоль новой границы с американцами на протяжении почти ста километров.
1. Девушка из Хейероде
На другой день я был срочно вызван к командиру полка майору Баранову, который без предисловий объявил мне:
– Назначаю вас комендантом Хейероде. Для поддержания порядка в селе в ваше распоряжение передается взвод автоматчиков. К исполнению обязанностей приступить немедленно!
По званию я старшина, по должности – полковой переводчик, я уже имел опыт работы с немецким населением, был помощником коменданта, переводчиком, но комендантом быть не приходилось.
Я немедленно отправился к бургомистру села, представился ему и заявил, что под комендатуру нужно найти помещение в центре села. Бургомистр, пожилой грузный с деревянной ногой человек, сразу же ответил:
– Помещение есть. Если оно вам понравится, то можете сейчас же занимать его. Надо только сменить вывеску.
– Какую вывеску? – не понял я.
– Американскую. Мы предлагаем вам пустующее сейчас помещение, в котором не так давно размещался американский комендант. А вывеска еще не снята.
Для осмотра его бургомистр послал со мной своего помощника, странного, видимо, болезненного человека. Помещение мне понравилось. Им оказалась обыкновенная пятикомнатная квартира на втором этаже, почти напротив конторы бургомистра. Я наметил, где разместить телефониста, дежурного по комендатуре, выбрал большую светлую комнату под офис, а смежную с ним небольшую комнату решил занять под свое жилье. Неожиданно из соседней комнаты вышла молодая, лет тридцати, женщина и представилась:
– Anna Hohlbein, хозяйка квартиры, а это – моя пятилетняя дочь Инга.
Инга без тени застенчивости выскочила из двери и, вытянув вперед руки, побежала мне навстречу, как будто знала меня раньше. Мне пришлось невольно подхватить ее и поднять к потолку. Я догадался, что девочка привыкла к военным, не боялась их, и ей было безразлично, кто были эти военные – американцы или русские.
– Анна с дочкой занимает всего одну комнату, и мы надеемся, что она не помешает вам, – сказал помощник бургомистра.
– А где нам разместить автоматчиков? Ведь их будет не меньше десяти человек, – сказал я.
– Пройдемте вниз, – попросил меня мой спутник.
Во дворе дома находился капитально оборудованный склад, в котором уже стояли заправленные матрасами и простынями кровати. “Спасибо американцам, они уже все сделали за меня", – с благодарностью подумал я.
За один день мне удалось решить все вопросы с открытием комендатуры и получить от бургомистра во временное пользование небольшой мопед для служебных разъездов.

Анна Хольбайн и ее дочь Инга
Анна – хозяйка квартиры, в которой осенью 1945 года размещалась советская комендатура в селе Хейероде. Эту фотографию прислала в 1975 году Инга и сообщила, что ее мать Анна умерла в прошлом, 1974, году, а сама она работает учительницей в местной школе имени Гете. Фото 1945 года
Вечером помощник бургомистра ходил по улицам села, звоня в большой колокол, привлекая им внимание жителей, потом останавливался на людном перекрестке и зычным голосом читал Bekanntmachung (объявление) о том, что открыта русская комендатура во главе с новым комендантом, и называл мою фамилию, коверкая ее до неузнаваемости.
У коменданта было много разнообразных обязанностей: поддержание порядка в селе, вплоть до применения силы, борьба с хулиганством и правонарушениями, контроль за исполнением распоряжений начальника гарнизона, каким является командир нашего полка, разрешение споров между жителями и военнослужащими гарнизона, а также выдача разрешений жителям на поездки за пределы района. Одной из моих новых обязанностей был и контроль за регистрацией бывших солдат немецкой армии, которые по болезни, ранению или другим причинам возвращались из плена к себе на родину. Я спросил бургомистра, есть ли в селе такие.
– Да, есть, – ответил он. – Немного, всего семь человек. Вот список.
– А есть ли такие, которые давно вернулись в село, но до сих пор не зарегистрировались у вас?
– Тоже есть, один. Это Гюнтер Вальдхельм. Он появился в Хейероде почти полмесяца назад, но до сих пор ко мне не зашел, и я его документов не видел. Вот его адрес: улица Вокзальная, дом 18.
Вечером того же дня я взял двух автоматчиков и отправился по указанному адресу. Стучу в калитку типичного немецкого двухэтажного дома. Дверь открыла миловидная женщина, видимо, хозяйка дома. На ее лице неописуемый испуг: ведь перед ней стоял сам комендант с автоматчиками.
– Сына нет дома, и я не знаю, где он, – ответила она на мой прямолинейный вопрос, пятясь вглубь двора. – Прошу вас зайти к нам в дом и убедиться в этом.
Я не собирался делать обыск, в этом не было никакой необходимости, мне просто хотелось посмотреть, как живут зажиточные крестьяне села. А эта семья была явно зажиточной. Обширный двор, многочисленные хозяйственные постройки, большой двухэтажный дом – все сделано из кирпича и камня добротно и капитально. Оставив автоматчиков у входа, я в сопровождении хозяйки вошел в дом. Прямо скажу, обширная прихожая сразила меня своим уютом и даже комфортом: шкафы, зеркала, какие-то подставки.
– Это гостиная, – пояснила хозяйка, открывая дверь в одну из комнат. Я заглянул, но не успел как следует рассмотреть, так как хозяйка пригласила меня в соседнюю комнату, которая оказалась столовой. Женщина быстро догадалась, что меня интересует, и старалась удовлетворить мое любопытство.
– Скажите, зимой для отопления этого дома нужно много топлива. Где вы его берете? – спросил я.
– Хозяйка подбежала к небольшой дверце, открыла ее и указала на лежащие там черные граненые плитки. Она взяла одну из них в руки и протянула мне:
– Это угольные брикеты, которыми мы отапливаем наш дом. Их покупаем на фабрике в Биттерфельде. Зимой мы отапливаем не весь дом, а только жилые комнаты.
– А можно мне пройти наверх? – спросил я.
– Пожалуйста, – сказала хозяйка, указывая на деревянную лестницу.
Поднявшись на второй этаж, я сам открыл резную дверь и оказался в светлой богато обставленной комнате. Посередине ее стоял овальный стол, за которым сидели три молодые женщины и мальчик. При моем появлении они встали.
И тут случилось то, чего я никак не ожидал и не предвидел. Из трех стоящих за столом молодых особ я невольно обратил внимание на одну, самую юную из них, которая с первого взгляда поразила меня своей необычной оригинальной внешностью и непохожестью ни на одну из когда-либо виденных мною девушек. Мне показалось, что она явилась из какого-то другого, неведомого мне мира, и что только ее одну высвечивают сейчас какие-то волшебные лучи. На первых порах я даже не разобрал, красива она или нет.
– Это мои дети и внук, – откуда-то издалека доносились слова хозяйки дома, и она стала называть их имена, которые не доходили до моего сознания.
Я стоял в дверях в каком-то непонятном замешательстве, отлично понимая глупость и нелепость моего положения.
Но я был не в силах отвести глаз с поразившей меня девушки. А она, бросив на меня испуганный и в то же время любопытствующий взгляд, легкой походкой подошла к шкафу и стала что-то перебирать в нем. Наконец я пришел в себя и, сгорая от стыда, нарочито громко и не к месту сказал:
– Пусть ваш сын завтра зайдет в комендатуру!
И не помня себя, я выбежал во двор. Автоматчики, конечно, заметили мою взволнованность и спросили:
– Что-нибудь случилось?
– Нет, ничего. Пошли!
Остаток дня я был в плохом настроении, переживал за свое несерьезное и даже мальчишеское поведение в доме этой изумительной девушки.
На другой день рано утром в комнату вошел дежурный сержант и доложил, что ко мне пришел посетитель. Это был худощавый с изможденным лицом человек в старом, сильно потрепанном костюме. В руках он держал небольшого размера баул.
– Гюнтер Вальдхельм, – уныло представился он, не спуская с меня вопрошающего взгляда.
Конечно, я удивился его жалкому виду, но ничего не сказал. Я пригласил его сесть, проверил его документы, которые оказались в полном порядке, и потом долго расспрашивал его о жизни и службе в армии. Узнал, в каких войсках служил, где и в качестве кого он участвовал в боях с англичанами, где был взят в плен и когда отпущен. Оказалось, что он на полтора года моложе меня, а выглядел старше. Из плена он был освобожден по болезни, которая и сейчас мучила его. Во время беседы я случайно подошел к окну и на противоположной стороне улицы увидел фрау Вальдхельм, мать Гюнтера, и его юную сестру. Я попросил Гюнтетера подойти к окну и спросил его:
– Кто это и почему они здесь?
– Это моя мать и младшая сестренка. Они опасаются, что вы арестуете меня.
– Какая чушь! – воскликнул я по-русски, а немцу строго сказал: – Идите, зарегистрируйтесь у бургомистра и спокойно живите дома. Вас больше никто не потревожит.
Гюнтер вышел из комнаты, а я подошел к окну и, прячась за занавеску, стал наблюдать. Как только Гюнтер появился на улице, обе женщины бросились к нему, подхватили его под руки и, изредка поглядывая на мои окна, стали подниматься вверх по улице к своему дому.
На этом моя связь с семьей Вальдхельм не закончилась.
Утром следующего дня у меня в кабинете опять появились гости – это были фрау Вальдхельм и ее младшая дочь, имя которой я еще не знал. Их неожиданное появление меня сильно смутило и взволновало, я излишне суетился, нервно перебирал на столе бумаги и не знал, куда деть свои, как мне казалось, очень длинные руки. Наконец я торопливо пододвинул два стула и предложил им сесть. Сам же сел не за стол напротив них, как это положено хозяину кабинета, а где-то сбоку, на край стола. Утренние лучи солнца, пробившись через тюлевые занавески, хорошо освещали смущенные лица гостей. Конечно, я старался не смотреть в лицо сидевшей прямо передо мной девушки, хотя изредка бросал на нее быстрые взгляды. Ее смуглое, слегка удлиненное лицо с большими черными глазами, что несвойственно немецким девушкам, было обрамлено пышными, окрашенными в коричневый тон, волосами. Широкие ровные белые зубы подчеркивали строгость ее лица.
– Господин комендант, – сказала фрау Вальдхельм слегка приглушенным голосом. – я и моя дочь Лиза (Ага, значит ее зовут Лизой! Какое красивое и редкое имя!) пришли поблагодарить вас за внимательное отношение к судьбе нашего сына и брата Гюнтера, который вернулся из плена больным и истощенным.
– Забота о людях – мой долг, – ответил я дежурной фразой, которую мне часто приходилось произносить в ответ на благодарность посетителей.
– Ему нужны отдых и лечение, – продолжала фрау Вальдхельм. – Я и все мои дочери будем ухаживать за ним до тех пор, пока он не поправится. Все равно, его возвращение в родной дом для всех нас большая радость, и мы просим вас, господин комендант, оказать нам честь и поприсутствовать сегодня вечером на нашем скромном семейном ужине.
Конечно, я никак не ожидал получить это персональное приглашение и потому еще больше смутился. Вся беда моя заключалась еще и в том, что эти мои смущение и растерянность видели гости, отчего я еще больше смущался и нервничал. Чтобы быстрее закончить эту одновременно и тягостную, и желанную встречу, я сразу согласился:
– Спасибо за приглашение, я обязательно буду.
– Ждем вас в семь часов вечера в нашем доме, – сказала фрау Вальдхельм и вместе с дочкой вышла из комнаты. На протяжении всего разговора Лиза не произнесла ни одного слова, и я не услышал ее голоса. Каков он?
Целый день я, словно чумной, гонял на своем мопеде по холмам и лесам Хейероде, по возвышенности Хайних, уверяя себя, что я изучаю окрестности села. Но на самом деле я не знал, куда себя деть, как погасить огромное волнение, охватившее меня накануне ответственного визита. Еще бы! Я впервые в жизни приглашен на званый ужин! Я уже был в этом доме, видел вежливых, обходительных дочерей и саму привлекательную и умную хозяйку дома. Конечно, это была состоятельная и культурная семья. А я кто? Я простой деревенский неотесанный парень из полудикой Сибири, который в приличном обществе никогда не был и не умел себя вести и который смущается и краснеет по каждому пустяку, по каждому поводу и просто так, без всякого повода.
Подшив свежий подворотничок к гимнастерке, начистив до блеска хромовые трофейные сапоги и предупредив дежурного по комендатуре, я отправился в гости. Точно в назначенное время я постучал в уже знакомую мне калитку. Ее открыла опять фрау Вальдхельм, но на этот раз на ее лице витала мягкая, доброжелательная улыбка, а не страх и растерянность, как в прошлый раз.
Проведя меня в дом, фрау Вальдхельм открыла гостиную, в которую я уже заглядывал во время прошлого посещения, положила на журнальный столик объемистый семейный фотоальбом и вежливо сказала:
– Придется вам немного поскучать в одиночестве.
Гостиная комната была средних размеров и находилась на первом этаже дома. Ее большое и единственное окно выходило на улицу. У стены стояла двуспальная кровать, заправленная немецкой периной, с горой разномерных подушек. Напротив стоял небольшой диван кустарной работы, на который я уже сел. В центре комнаты – круглый стол, со всех сторон обставленный стульями. На гладкой ровной стене красовалось традиционное немецкое распятие Христа. Ничего ненужного, ничего лишнего. Я взял в руки альбом и стал внимательно его рассматривать. Семья Вальдхельм была большой и многодетной. По моим подсчетам, у Лизы было три брата и две сестры. Конечно, на каждом фотоснимке я старался найти Лизу и находил ее. Вот она – маленькая девочка в коротеньком платьице качается на качелях во дворе своего дома. Вот она большим гребнем расчесывает волосы солидному мужчине, видимо, своему отцу. Вот она уже подросток, из лейки поливает цветы, а рядом с ней небольшая собачка.
Появилась фрау Вальдхельм и пригласила меня пройти в кухню помыть руки. Там были уже приготовлены немецкие атрибуты для умывания: тазик с водой, мыло и полотенце. Мне, русскому человеку, оказавшемуся в Германии, было загадкой, как по утрам умываются культурные немцы. Они сначала моют мылом руки в тазике, потом этой же, по-моему грязной водой, умывают лицо. Даже простым глазом видно, что это негигиенично. Я ополоснул в тазике руки, вытер их полотенцем и прошел в столовую, где уже находились дочери хозяйки в красивых, я даже сказал бы, нарядных платьях. Я сел на приготовленный мне стул рядом с хозяйкой дома и спросил:
– А где же виновник нашего знакомства Гюнтер?
– Он лежит в постели в своей комнате на первом этаже. Он болен. Вы не беспокойтесь за него. С ним также находится наш маленький Хорсти.
– Так зовут того маленького мальчика, которого я уже видел? – опять спросил я.
– Да, да, Хорсти – наш всеобщий любимец.

Хейероде. Главная улица. Крестиком обозначена квартира Анны Хольбайн, в которой осенью 1945 года размещалась советская комендатура. Пересъёмка с открытки.
Стол был заставлен многочисленными мисками, тарелками, салатницами, блюдцами, чашками и чашечками, наполненными до краев яствами и кушаниями. Мне бросился в глаза маленький фарфоровый кувшинчик, назначение которого я никак не мог определить. Я с радостью обнаружил, что на столе не было ни вина, ни шнапса. Начался типичный немецкий ужин без музыки и веселья, но со степенными разговорами и беседами. Трапеза началась с раскладки по тарелкам приготовленного шпината, одного из самых распространенных овощей в Германии. Затем пошли салаты и где-то в середине ужина на столе появился целиком зажаренный огромный гусь, со всех сторон обложенный очищенными яблоками. Постепенно из разговоров я узнал не только имена, но краткую историю жизни всех присутствующих женщин. Напротив меня сидела старшая дочь Гертруда, по домашнему Труди. Она была замужем за неким Бельманом из города Галле, в котором сейчас проживают престарелые родители мужа. Одно время она и сама там жила, но в конце войны из-за материальных трудностей переехала в родительский дом вместе с сыном (маленьким Хорсти). Ее муж жив и сейчас находится в русском плену. Эрна, средняя дочь, и Лиза были незамужними. У Эрны был жених, он служил в армии, судьба его ей была неизвестна. Кроме Гюнтера, у них были еще два старших брата, Эгон и Хорст. Оба они живы и находятся в английском плену.
– Теперь и вы расскажите нам о своей фамилии (семье), попросила меня Гертруда.
Я сказал, что мои родители простые люди: отец плотник, мать домохозяйка. У меня есть еще две сестренки младше меня, зовут их Лидой и Галей. Была еще и третья сестренка, Раечка, но она умерла от кори в начале войны. Сам я в войну окончил 10 классов. В 1942 году был призван в армию, а с 1943 года и до конца войны находился на фронте.
Пока шла моя неторопливая беседа с хозяйкой дома и ее старшими дочерьми, Лиза молчала. Она сдержанно и спокойно сидела на стуле и изредка бросала на меня быстрые, изучающие взгляды. Я тоже время от времени поглядывал на нее, стараясь не повторить позавчерашний конфуз. Теперь я имел возможность получше рассмотреть ее и убедился, что она не только изящна стройной фигурой, но и красива лицом.
– Жители Хейероде говорят, что их новый комендант из Сибири. Так ли это? – спросила Эрна.
– Да, я сибиряк с берегов реки Енисей, – подтвердил я.
– Флюсс Енисей, где это? переспросила Эрна и, повернувшись к сестре, сказала: – Лизхен, принеси атлас.
Лиза поднялась наверх и вернулась с объемистой книгой в руках. Я раскрыл ее, быстро нашел нужный лист и стал его показывать девушке. Она нагнулась ко мне, чтобы получше рассмотреть карту и ее локон коснулся моей щеки, обдав меня незнакомым приятным запахом. Я невольно повернул к ней свое лицо, и наши глаза встретились. Встретились на близком, даже очень близком расстоянии. Боже мой! Какие это были чудесные глаза! Они были спокойными, глубокими, завораживающими. В этот момент я понял, что могу влюбиться в эти глаза, если только уже не влюбился!
Лиза стала громко читать название города, на который я указал пальцем:
– Ми-ну-синск!
– Да, город Минусинск, – это наш районный центр. Для моей деревни он имеет такое же значение, как Мюльхаузен для Хейероде.
Лиза еще раз прочитала название этого сибирского города и спросила:
А как называется ваша родная деревня?
– Поначево, – ответил я, глядя в ее черные широко раскрытые глаза.
– По-на-чье-во, – произнесла она медленно, по слогам, название моей родной деревушки, чем привела меня в неописуемый восторг.
– Все знают, что в Сибири зимой холодно, и это так. Но мало кто знает, что летом в Сибири бывает иногда очень жарко, жарче, чем в Германии.
Этими словами я хотел поразить своих слушателей, но должного эффекта не получилось. Не получилось потому, что женщины просто не поверили мне, подумав, что я “зарапортовался”.
Ужин подходил к концу. На стол был подан большой кремовый торт с разноцветными узорами и цветочками. И тут я допустил непростительную промашку. Я не заметил, как сдвинул на край стола тот самый фарфоровый кувшинчик, назначение которого я не понял, потом неосторожно толкнул его, и он упал на пол, но не разбился, а его содержимое выплеснулось на ковер. Оказалось, что это была обыкновенная сметанница. Лиза быстро подтерла подмоченные места, а я, смущенный, засобирался домой. Вся семья провожала меня, а фрау Вальдхельм прощаясь, сказала:
– Приходите в любое время, мы всегда будем рады вам.
Пожалуй, я еще не был влюблен в Лизу, но уже думал о ней и стал делать попытки встретиться с ней как можно быстрее. На ужине я узнал многое о ее сестрах и братьях, но о ней самой – почти ничего. Я даже не знал, сколько ей лет и чем она занимается, работает ли, учится или сидит дома, как многие девушки из состоятельных семейств. Я стал подолгу простаивать у окна в надежде увидеть ее на улице. И только на третий или четвертый день моего такого дежурства мне это удалось. Лиза не спеша шла мимо комендатуры по противоположной стороне улицы к своему дому. Я выбежал из подъезда и увидел ее со спины, поднимающейся в гору. Как я хотел, чтобы она сейчас обернулась, ведь бежать ей вдогонку я ни за что бы не решился. Но она не только обернулась, но и, увидев меня, остановилась.
– Добрый день, Frӓulein! – сказал я, подходя к девушке, несколько смущенный и не уверенный в себе.
– Добрый день, господин комендант! – ответила она с легкой доброжелательной улыбкой. На ее лице я заметил некоторое волнение, чему я, между прочим, обрадовался.
– Гуляете по родному селу?
– Нет, я иду с работы.
– Вы где-то работаете?
– Да, я работаю продавцом в колбасном магазине.
– Жаль, что вы устали и не сможете мне помочь. А я хотел бы, Frӓulein Lisa, попросить вас показать мне ваше село, ведь я его совершенно не знаю.
– Почему же? Если у вас есть свободное время, то я готова хоть сейчас стать вашим гидом.

Der Hachelborn. Источник Гахель
– Очень хорошо! – искренне обрадовался я. – Тогда с чего начнем?
– Как с чего? Конечно, с Hachelborn, это главная достопримечательность нашего села, его обязательно показывают всем нашим гостям.
– Интересно, а где же он находится?
– Это недалеко отсюда. Я вам покажу.
Мы завернули в переулок Bornberg и стали подниматься в гору. На крутом склоне ее я увидел небольшое углубление – нишу, отдаленно напоминающую вход в грот, отделанную камнем и цементом. Но никакого грота здесь не было. В верхней части ниши на каменном барельефе значилось: “Heyerode 1356”. Ниже этого барельефа около метра от земли из стенки вытекала тоненькая струйка воды, которая по желобу стекала в трубу и исчезала под толстым слоем брусчатки. Я понял, что это и есть Гахельборн, источник Гахель.
– Говорят, что наше село возникло в 1356 году как раз на этом месте, – пояснила мне Лиза. – Вот здесь стояла хижина первого пастуха, а его загон для овец находился как раз на том месте, где сейчас стоит ресторанчик “Zum grünen Rasen” (“у зеленой лужайки"). Все жители нашего села чтят этот источник, считают его священным, а наш пфаррер для крещения детей берет воду только из него.
– Очень интересно! – воскликнул я. – Скажите, а откуда вы все это знаете?
– Это знаю не только я одна, а все жители нашего села. Этому нас учат в местной школе.
Я подошел поближе к источнику, подставил под струю ладонь и спросил:
– А пить воду можно?
– Конечно, она же чистая, свежая, родниковая.
Я набрал полную ладонь прозрачной холодной жидкости, поднес ее ко рту и сделал несколько освежающих глотков, а остатками ее окропил лицо.
Лиза тоже подошла к источнику, смочила водой руки и потом тихо, но внятно проговорила:
– Святой Гахель! Благослови нас на большую и вечную любовь!
Эти слова я хорошо слышал и разобрал, но смысл их дошел до меня не сразу. Но когда понял, о чем говорила и что просила Лиза у Священного Источника, то я неожиданно вспыхнул, покраснел и смутился. Однако, я все же нашел в себе силы и смелость подбежать к ней и воскликнуть: “Лиза, ты что?” – не замечая, что назвал ее на “ты”.
– Ничего! – ответила она спокойно. – Ты не обращай внимание, иногда я говорю не то что думаю. Со мной это случается.
А вот то, что она назвала меня на “ты", я почему-то сразу заметил и я понял, что небезразличен этой девушке.
Мы перебежали через прилегающую к источнику улочку, приютившуюся на самом краю откоса, и стали подниматься вверх по узкой извилистой тропинке. В полку я слыл самым быстрым и выносливым бегуном. Мое сердце и ноги были натренированы, как у опытного спортсмена. В ходьбе и по равнине, и по пересеченной местности я всегда обходил всех. Поднимаясь сейчас в гору, я заметил, что Лиза, пожалуй, смогла бы составить мне конкуренцию, так как за время подъема она ни разу не остановилась, чтобы перевести дыхание, и при этом продолжала мне что-то объяснять и рассказывать. Одета она была в легкое, кажется, ситцевое платьице, плотно облегающее ее тело, на ногах туфли на низком каблуке, и я хорошо видел ее обнаженные до колен загорелые ноги.
На вершине горы, точнее сказать холма, на которую мы поднялись, была хорошо оборудованная смотровая площадка, с которой открывался изумительный вид на всю долину. Село Хейероде лежало у наших ног. Зажатое с трех сторон крутыми холмами, оно казалось расплющенным в трехлучевую звезду, причем от каждого луча отходила асфальтированная дорога: на восток – в город Мюльхаузен, на юг – в город Треффурт, на запад – старинное село Дидорф. Нам хорошо было видно, казалось бы, хаотическое нагромождение красночерепичных крыш. В самом центре села и чуть в стороне возвышались два остроконечных шпиля местных церквей. По левую сторону виднелось большое, пожалуй, самое большое в селе трехэтажное здание сельской школы. На заднем плане за селом просматривалось белое арочное сооружение – это был трехпролетный железнодорожный виадук, переброшенный через узкое ущелье между холмами. Как раз в это время со стороны Дидорфа из-за стены леса вылетел отсюда казавшийся миниатюрным, игрушечным поезд, выбрасывая в воздух клубы густого пара. Поезд, как на экране кино, резво пронесся через виадук и скрылся.
– Это вечерний поезд идет в Мюльхаузен, ночью он проследует в обратном направлении, – пояснила мне Лиза, – с этой площадки самый лучший обзор нашего села. Оно особенно красиво утром, когда солнце светит из-за спины, сейчас же оно бьет прямо в глаза.
– Лиза, ты родилась в замечательном селе, и я по-хорошему завидую тебе.
– Ваня! (Она впервые назвала меня по имени.) Разве твоя родная деревня По-на-чьо-ва не так красива?
– Лизхен! Ты запомнила название моей родной деревни?! Как тебе это удалось?
– Название трудное, я учила его целый день!
Все то время пока мы находились на смотровой площадке и наслаждались неповторимым видом села, мы стояли рядом и держали друг друга за руки.
Начиная с этого памятного дня, с прогулки на смотровую площадку, со встречи у Гахельборна, мы стали встречаться почти ежедневно. Днем мы работали, а вечер проводили вместе. Встречались на природе, благо что долгие летние вечера позволяли нам это делать. Мы совершали продолжительные прогулки по лесу в районе железнодорожного вокзала по возвышенности Heinich, встречались под сводами арочного моста, гуляли по насыпи железнодорожного полотна по направлению к селу Дидорф, прыгали по каменистым берегам речушки Grunde. И везде где бы мы ни находились и что бы мы ни делали, нам вдвоем было весело и интересно. Мы узнавали взгляды друг друга на различные жизненные ситуации и к великой радости обнаруживали, что они совпадали удивительно точно! Без нажима, без натяжки и без искусственной подстройки. Такое единомыслие встречается очень редко, но вот наш опыт показывает, что оно все-таки встречается. Мы были просто близки друг другу по духу.
Мы уже знали, скорее догадывались, что любим друг друга, но о любви вообще и о нашей тем более мы не обмолвливались ни единым словом. Мы не спешили, не торопили события, а позволяли им развиваться естественным путем. Мы оба с завидным постоянством и последовательностью делали как раз то, что должны были делать влюбленные. Каждая наша встреча, каждый прожитый день приносили нам не только радость общения, но и шаг за шагом поднимали наши чувства, наши ощущения еще на одну ступеньку выше по длинной лестнице любви, на которую мы охотно вступили, не думая о последствиях. Мы учились верить друг в друга, доверять друг другу и избегать всего того, что могло бы вызвать хотя бы тень сомнения. Возникший крохотный и нежный росток нашей любви мы оба заботливо растили, лелеяли, ухаживали за ним, ограждали его, чтобы, не дай Бог, кто-нибудь случайно не наступил на него.
С каждой такой встречи я возвращался к себе “домой” окрыленный, уверенный, с желанием как можно больше делать добра людям.
2. Комендантские заботы
С первого дня своего назначения комендантом я с головой ушел в работу. Как говорится, работ и забот был полон рот. В селе насчитывалось почти три тысячи жителей, и каждый из них хотел знать, какую политику в отношении мирного населения будут проводить новые русские власти, что жителям будет разрешено и что запрещено. С этой целью через бургомистра и глашатая я сделал несколько распоряжений и объявлений, суть которых сводилась к следующему:
1. Существующие в селе до прихода русских местная власть и местные порядки, в том числе и частная собственность, сохраняются в неизменном виде.
2. Никаких переселений, высылок и тем более репрессий и арестов не будет, жители села могут продолжать свою прежнюю деятельность.
3. Поездки жителей в пределах Мюльхаузенского района осуществляются с разрешения (регистрации) бургомистра, а за пределы района с разрешения коменданта.
4. Воинские части и русские военнослужащие не имеют права без разрешения коменданта конфисковывать, отбирать или брать на свои нужды любое имущество у жителей села. О всех случаях нарушений этого порядка нужно обращаться к коменданту или к бургомистру.

Вид села Хейероде с птичьего полета. Пересъемка с открытки.

План села Хейероде
Пояснения к плану села Хейероде
1. Железнодорожный вокзал. 2. Grenzhaus. Пограничный дом. 3. Kurhaus. Гостиница. 4. Дом Лизы Вальдхельм. 5. Водонасосная станция. 6. Ресторан-гостиница “Zum Grünen Rasen” (“У зеленой лужайки”). 7. Советская комендатура. 8. Фабрика “Вильгельм Крумбайн”. 9. Ресторан “Пост”. 10. Контора бургомистра. 11. “Der Наchelborn”. Источник Гахель. 12. Детский садик. 13. Новая кирха. 14. Старая кирха. 15. Детские ясли. 16. Школа имени Гёте. 17. Арочный мост.
Надо сказать, что приход нашего полка в Хейероде его жители встретили спокойно, без страха за себя и за свое имущество, так как уже знали, что обещанные фашистами репрессии, преследования, не допускаются русскими.
На второй день моего комендантства мне позвонил офицер штаба полка старший лейтенант Дунаевский и сказал, что принято решение строить полковое стрельбище в районе деревни Ширшвенде и что село Хейероде обязано ежедневно поставлять двадцать человек на земляные работы.
– Комендант, прошу вас обеспечить стройку рабочей силой, – сказал Дунаевский и отключил телефон.
Мне пришлось заново вызывать его, чтобы узнать, каким способом эти рабочие будут доставляться к месту работы и обратно – ведь до деревни Ширшвенде почти шесть километров.
– Это не твоя забота. Доставка рабочих поручена транспортной роте, конкретно лейтенанту Павлу Крафту. Ты его должен знать.
Как же мне не знать этого влиятельного офицера – хозяина всего автомобильного транспорта в полку! Я написал соответствующее “комендантское распоряжение”, которое бургомистр своим обычным способом, то есть через глашатая с колоколом, довел до сведения всего населения Хейероде. В этом моем распоряжении говорилось, что все работы на стрельбище пойдут в счет репараций.
После таких мер с моей стороны бургомистру было нетрудно комплектовать рабочие смены из местного населения. Каждое утро в 8 часов рабочие, а это были в основном женщины, собирались у конторы бургомистра, куда подъезжала наша “полуторка” и увозила их к месту работы. Строительством руководил инженер полка капитан Евгений Федоров, мой одногодок и мой хороший армейский друг. Несколько раз я сам приезжал на своем мопеде на стройку, чтобы знать и лично видеть в каких условиях и что выполняют рабочие-женщины. А они обыкновенными лопатами выравнивали площадку от линии огня до мишеней, сгребали грунт и на носилках относили его за пределы стрельбища.
– Был бы бульдозер, хотя бы один, тогда не понадобились бы эти рабочие, – жаловался мне Женя Федоров.
Работы продолжались около полумесяца, строительство стрельбища было окончено, после чего никто из жителей Хейероде ни на какие работы не направлялся.
Скажу несколько слов о репарациях и о репарационных поставках. Во время войны немецко-фашистские оккупанты нанесли огромный ущерб народному хозяйству СССР. Правительство нашей страны приняло решение о частичной компенсации этого урона немецкой стороной в виде репараций, то есть поставкой в СССР некоторого оборудования, демонтированного с немецких заводов, частичным содержанием советских оккупационных войск и даже бытовыми услугами. Все население в советской оккупационной зоне Германии включилось в сбор репарационных поставок. Был налажен строгий учет: кто из жителей и какую долю вложил в счет репараций.
В моем распоряжении были заранее заготовленные бланки с печатями, и я имел право выдавать расписки за полученные товары или предоставленные услуги в счет репараций. После окончания строительства стрельбища я выдал бургомистру Хейероде такую справку с указанием выполненных объемов работ и их стоимости.
В то время уже были выпущены в оборот так называемые “оккупационные марки”, которыми наши воинские части рассчитывались с немецкими фирмами и немецкими гражданами.
С первых дней появления нашего полка в Хейероде бургомистру стали поступать жалобы жителей на пропажу молочных продуктов. Многие крестьяне села имели коров в стойловом содержании, так как пастбищ у общины не было. Коров кормили привозными брикетами сена. После утренней дойки хозяева выставляли бидоны с надоенным молоком на специальные подставки, сооруженные на обочине дороги перед их домами. Нанятый тракторист объезжал село, собирал эти бидоны на прицеп и отвозил их в соседнее село Обердорлу, где находился маслозавод. Вечером вторым рейсом этот же тракторист развозил и расставлял на подставки порожние бидоны. По заявкам хозяев работники молокозавода вкладывали на дно порожних бидонов брикеты масла, творога, сметану и другие продукты.
Этот порядок был заведен давно, и в нем никогда не было сбоев. При появлении русских кое-где из этих бидонов стали исчезать молочные продукты. Я понял, что это дело рук наших солдат и организовал несколько вечерних засад, чтобы поймать воришек. Однажды, когда тракторист закончил вечерний развоз порожних бидонов, я с двумя автоматчиками спрятался в одном из дворов напротив трансформаторной будки, где чаще всего пропадали продукты и стал ожидать наступления темноты. Ждали недолго, заметили, как со стороны вокзала начала спускаться одинокая воинская повозка с двумя ездовыми. Один из них соскочил с повозки, подбежал к подставке, открыл бидон и вытащил его содержимое. Мы выскочили из засады и тут же на месте преступления арестовали обоих солдат. Ими оказались ездовые транспортной роты нашего полка. Состоялся открытый показательный суд, на котором присутствовал весь личный состав транспортной роты и некоторые жители села. Воры были осуждены и отчислены из полка. После этого пропажа молочных продуктов из бидонов прекратилась.
Из районной комендатуры для исполнения мне поступило довольно деликатное распоряжение: нужно было срочно в нашем селе организовать выявление и лечение всех женщин больных, так сказать, деликатными болезнями. Я психологически не был готов к таким делам. Даже тогда, когда я читал это распоряжение, то невольно волновался и краснел. Но я комендант, и этому делу должен дать ход.
Оказывается, бургомистр села, так сказать, по линии немецкой администрации тоже получил аналогичное распоряжение, и мы вместе стали думать, как его поскорее и получше исполнить. Выяснилось, что мой предшественник, американский комендант, тоже начал проводить эту работу, но не успел ее закончить.
Мы с бургомистром решили воспользоваться оставшимися от американца бумагами, то есть продолжить его работу, но только силами местных немецких врачей. Через несколько дней на мой стол стали ложиться списки женщин Хейероде с разбивкой их на три категории: gesund, krank, verdӓchtig (здоровая, больная, подозрительная).
Всех больных через бургомистра мы отправляли в Мюльхаузен в районный стационар на лечение, а подозрительных на повторные анализы. Каким-то образом Анна Хольбайн узнала, что я располагаю такими списками и предприняла немало усилий, чтобы заглянуть в них. Я объяснил ей, что эти сведения являются секретными и вежливо отказал ей, за что она кровно обиделась на меня.
В селе был только один “очаг культуры” – кино-танцевальный зал, который, естественно, находился в частных руках. Его хозяйка, имя которой я, к сожалению, не смог вспомнить, была очень активной и деятельной старушкой. Она постоянно носила черно-траурное одеяние. Летом зал почти не работал, а под осень появилась необходимость в его открытии. К тому же население села постоянно увеличивалось за счет возвращения местных жителей беженцев и возвращающихся из плена бывших солдат Вермахта. Я оказался в затруднительном положении: танцы – понятно, их можно и нужно разрешить. А как быть с показом кинофильмов? Ведь кинофильмы-то все немецкого, точнее говоря, фашистского производства. Я позвонил заместителю командира полка по политической части майору Проценко и попросил у него совета. Он сказал:
– Сначала сам посмотри несколько фильмов и отбери из них для показа те, которые с твоей точки зрения показывать можно. А все остальные, фашистские, пропагандистские, связанные с войной и политикой, запрещай без колебаний. Я так и сделал.
Вот я сижу один в пустом кинозале и просматриваю предложенные хозяйкой немецкие фильмы вместо прогулок с Лизой по живописным окрестностями села. Хозяйка кинозала была понятливым человеком и предложила для просмотра такие фильмы, которые я без всяких сомнений разрешал для показа.
Наступил день, когда в селе появились три огромных щита-объявления, на которых было написано: “Сегодня с разрешения коменданта в 19.00 будет демонстрироваться игровой фильм “Черный принц”. Вход с танцами 10 марок, без танцев 5 марок”.
Дело в том, что у немцев был заведен такой порядок: за час или за два перед демонстрацией фильма открывались платные танцы под оркестр. Потом в этом же зале расставлялись стулья, скамейки и другие сидения и начиналась демонстрация кинофильма.
В 1944 году под Прагой на киностудии “Баррандов” был снят цветной музыкальный художественный (немцы говорят “игровой”) фильм “Die Frau meiner Trӓume” (“Девушка моей мечты”). В нем много музыки, танцев, красивых женщин и нет ни единого грамма политики. Мужскую партию исполнил лучший танцор Европы того времени Виктор Фромин, солист Белорусского театра оперы и балета, специально вывезенный немцами в Германию. А заглавную женскую роль сыграла обаятельная Марика Рёкк. Она родилась в Венгрии 3 ноября 1913 года и с двенадцати лет начала выступать в концертах в Будапеште. С 1935 года она в Германии. После войны она снялась еще в нескольких фильмах: “Дитя Дуная” (1948 год), “Принцесса Чардаша” (1950 год) и других.
Но в фильме “Девушка моей мечты" она превзошла себя, этот фильм стал ее “лебединой песней”… В 1988 году ей исполнилось 75 лет, а в 1993 году она еще проживала в местечке Баден под Веной.
Фильм “Девушка моей мечты” прошел с огромным успехом по всей фашистской Германии и по оккупированным ею странам. После войны в качестве трофея он демонстрировался с не меньшим успехом почти во всех странах мира, в том числе и Советском Союзе, где многие зрители ошибочно принимали Марику Рёкк за Еву Браун, любовницу, а затем жену Гитлера.
Хозяйка кинозала где-то достала копию этого самого популярного среди немцев фильма. Большинство жителей Хейероде знали о нем, видели его и хотели увидеть еще раз. Все знали, а я – нет. И когда хозяйка кинозала пришла ко мне с предложением посмотреть этот фильм, то я равнодушно, не подозревая, что это не простой фильм, а шедевр, ответил:
– Хорошо, завтра вечером посмотрю.
На другой день в комнате Анны Хольбайн собрались ее сестры и племянники, все они поглядывали на меня и загадочно улыбались. А когда я в сопровождении одного свободного от дежурства солдата направился в кинозал, то на улице мне стали встречаться жители, тоже с загадочными улыбками. У входа в кинозал толпилась большая группа молодежи и с повышенным вниманием сопровождала каждый мой шаг. Я тоже всем улыбался, но не понимал, что происходило вокруг. Все это, оказывается, означало то, что люди ждали от меня разрешения на показ фильма, который был бы для них настоящим праздником.
С первых кадров кинокартины я был поражен и оглушен красками, музыкой и танцами. На экране царила удивительно красивая, беззаботная жизнь молодых людей, у которых на уме было одно – как бы в кого-нибудь влюбиться. Как будто в мире не было ни войны, ни крови. Танцы красоток из кабаре меня просто вогнали в краску: когда эти красотки бесстыже задирали юбки и дразнили зрителей обнаженными ногами. Этого я не мог стерпеть и, несмотря на все плюсы комедии, твердо сказал “нет”, чем поверг в ужас хозяйку кинозала, которая теряла огромную сумму предполагаемого дохода. Когда я вышел из кинозала, то на площадке не оказалось ни одного человека, а весь остаток вечера дверь в комнату Анны была плотно закрыта. Так отреагировали жители села на мой запрет.
В августе-сентябре 1945 года продолжалось массовое освобождение из русского плена больных и изувеченных солдат и офицеров вермахта. Все они, конечно, имели на руках соответствующие документы. Те немецкие пленные, дома которых находились в западных зонах, должны были пересечь границу между советской и американской зонами. А граница эта на нашем участке открывалась один раз в неделю по пятницам. Поэтому им приходилось ждать ее открытия по нескольку дней. А где им жить, ночевать? Несмотря на то, что
каждая семья в Хейероде имела свой собственный дом, чаще всего двухэтажный, владельцы их не хотели добровольно брать на постой своих же солдат. Даже бургомистр, имея огромную власть в селе, в этом вопросе был бессилен. Ничего не поделаешь – частная собственность. Я, как советский человек и комендант села, был возмущен и даже оскорблен таким равнодушным отношением. Я сочинил довольно строгое распоряжение и обязал жителей без всяких условий и оговорок принимать на временный постой бывших немецких солдат и кормить их, правда, в счет репараций. После этого положение с размещением солдат в селе резко изменилось, но в начале мне приходилось самому лично в сопровождении вооруженных солдат ходить по дворам села и насильно заставлять хозяев принимать на ночлег двух-трех идущих из плена солдат-немцев.
Как-то после обеда дежурный сержант доложил, что со мной хочет поговорить один из таких бывших пленных офицеров – возвращенцев.
– Пусть заходит, – сказал я.
Через минуту в кабинет не вошел, а ввалился солидный офицер в шинели, но без погон, волоча правую ногу.
– Прошу сесть. Что с вами? – спросил я.
– Нога… старая рана. На моей ноге нет полпятки – русская мина. Когда выписывался из лагеря, нога была в порядке, а вот сейчас разболелась снова.
Я подошел к нему ближе и издали почувствовал, что от него несет жаром.
– У вас, кажется, температура? – спросил я.
– Есть немножко, – ответил немец.
Я позвонил в штаб полка и попросил соединить меня с начальником. Когда он взял трубку, я объяснил ему положение и попросил оказать немцу медицинскую помощь.
– Вы же знаете, что санитарная рота расквартирована в селе Фалькен, – сказал он.
– Знаю, но ведь это не так далеко от Хейероде. У немца высокая температура и нога распухла.
– Где он сейчас?
– У меня в кабинете.
Голос майора исчез, из трубки доносились какие-то шипения и пощелкивания. Я терпеливо ждал. Через несколько минут начальника штаба объявился на проводе и сказал:
– Ждите, врач выезжает к вам.
Я попросил немецкого офицера перейти в дежурную комнату, а появившуюся Анну Хольбайн присмотреть за ним. Примерно через час приехал наш врач и не один, а с двумя санитарами. Он не спеша осмотрел и ощупал распухшую ногу, сделал два укола и попросил санитаров смазать ее какой-то мазью и забинтовать.
– Переведите, – попросил он меня, – по-хорошему вас нужно немедленно госпитализировать. Если вы согласны, то мы можем сейчас же отвезти вас в санитарную часть.
– Нет, нет, я останусь здесь. Завтра открывается граница, и, возможно, завтра или послезавтра я буду дома. Я из Касселя, он недалеко отсюда.
– Если опухоль к утру спадет, то это хорошо, если нет, то нога ваша в опасности, возможна гангрена, а с ней шутки плохи.
Немец понимающе кивал головой, благодарил врача, санитаров, Анну, меня, но просил никуда его не увозить, а оставить здесь, в этой комнате.
Вечером я снова зашел к нему. При моем появлении он даже сделал попытку встать.
– Не беспокойтесь, – сказал я, – как вы себя чувствуете?
– Ничего сказать не могу. Кажется, температура начинает спадать. Мне хочется сказать спасибо фрау Хольбайн, она не только заботится обо мне, но даже покормила.
Я понимал, что все его мысли сейчас сосредоточены только на одном – на скором свидании с родными и близкими. Я знал, что крупный город Кассель был не так далеко отсюда, но в американской зоне.
– Скажите, сколько времени вы не виделись с семьей и родственниками? – спросил я.
– С осени 1943 года. Тогда я имел отпуск с фронта, а летом 1944 года я попал в плен, и с этого времени я ничего не знаю о своей семье, а ведь Кассель американцы бомбили много раз.
– Кто вы по званию, должности и где воевали?
– Я пехотный офицер в звании капитана, по должности командир пехотной роты. Воевал в Белоруссии на реке Друть. Может быть, слышали? Там наш батальон оказался в котле и был в полном составе взят в плен, а я к тому же еще и получил вот это ранение.

Карта-схема боя нашего полка 24–25 июня 1944 года в районе озера Крушиновка (Белоруссия) с 446-м немецким пехотным полком, один батальон которого был окружен и в полном составе взят в плен. В Хейероде я встретил немецкого офицера, возвращающегося из плена домой, участника этого боя.
– Котел на реке Друть! – воскликнул я. – Это случилось 24 июня 1944 года. Тогда наш полк сражался с 134-й немецкой пехотной дивизией. Вот так встреча! А вы из какого полка?
– Из 446-го, – ответил немец.
– Помню, хорошо помню этот ваш полк. Его остатки мы прижали к озеру Крушиновка и пленили.
– Да, да, к озеру. Вокруг него было сплошное болото.
– Выходит, что мы воевали тогда друг против друга?
– Выходит так, – согласился немец.
– До сих пор я не могу понять, почему ваши артиллеристы с противоположного берега озера стреляли по нам, пехотинцам, не снарядами, а болванками, которыми обычно стреляют по танкам? – спросил я своего бывшего врага.
Немец улыбнулся и ответил:
– Тоже хорошо помню этот эпизод боя. Опять во всем виноваты ваши белорусские болота, из-за которых наши артиллеристы остались без снарядов, так как машины с ними не смогли вовремя пробиться к ним и только одна из них, груженная болванками, сумела добраться до огневых позиций. Вот наши артиллеристы вынуждены были стрелять болванками по русской пехоте.
Взволнованный и возбужденный, я вернулся к себе в кабинет, где меня ожидала Лиза.
– Что с тобой, Ваня? – спросила она, заметив мое необычное состояние. – Ты знаешь этого офицера?
– Знаю. Мы с ним сражались в одном бою, только находились на разных сторонах, я – на русской, а он – на немецкой. Если бы мы встретились в этом бою, то или он убил бы меня, или я его. А вот сейчас, сегодня мы сидим с ним в одной комнате и спокойно разговариваем друг с другом. Лиза, ты понимаешь, что это такое? Что значит нам, фронтовикам, видеть в спокойной, мирной обстановке своего бывшего врага?
– Да, понимаю, – сказала Лиза, – Что ты собираешься с ним делать?
– Ничего. Завтра отвезу его на границу и все.
– Война – это ужасно!
– Да, Лиза, война это на самом деле страшно и ужасно. Если бы не война, то я сейчас бегал бы по Минусинскому бору и собирал бы грибы. Ты знаешь, Лиза, сколько в этом бору грибов и ягод? Директор нашей школы Владимир Вячеславович Бенедиктов однажды летом отправил всех школьников за грибами. Они набрали ему целый короб, который он сдал в местную Потребкооперацию и на вырученные деньги купил духовой оркестр. Понимаешь, целый духовой оркестр с полным набором инструментов! Ни в одной школе района не было духового оркестра, а в нашей – был!
– Ваниляйн! – воскликнула Лиза, хватая меня за руку. – Если бы не война, то мы с тобой никогда бы не встретились! Понимаешь ты это! Никогда, никогда бы не встретились и даже не знали бы, что ты и я существуем на свете! Это было бы ужасно, ужасно!
Я заглянул в набухшие, затуманенные слезинками глаза Лизы, обнял ее и… неожиданно для себя поцеловал ее в полураскрытые влажные губы. Она затихла, как голубка, которую осторожно взяли в руки, прижалась ко мне, нежно поглаживая мою руку. Я еще раз поцеловал ее в губы, потом в щеки, затем опять в губы. В этот вечер мы целовались много и долго, но неумело, по-детски, без страсти, которой еще не было и которую мы еще не испытывали, а целовались скорее по традиции влюбленных: мол, если мы любим друг друга, то должны и целоваться, мол, так делают все.
Утром появился Павел Крафт со своей дребезжащей “полуторкой”, чтобы отвезти немецких солдат на пограничный пропускной пункт. А их набралось целый кузов. С помощью этих же солдат мы спустили со второго этажа больного немецкого офицера, моего недавнего врага по Белоруссии, и посадили его в кабину рядом с шофером. Павел Крафт был вынужден залезть в кузов. Я стоял на тротуаре и наблюдал сцену посадки и отправления немецких солдат. Когда машина тронулась, офицер-немец сделал мне неопределенный знак рукой, как бы прощался со мной, я тоже машинально ответил ему.
Этот, в общем-то ординарный эпизод моей комендантской практики, который от начала и до конца наблюдала Анна Хольбайн, а это значит, что о нем стало известно всем жителям села, неожиданно для меня поднял мой авторитет в глазах сельчан на целую голову. Еще бы! Их комендант встретил своего личного в недалеком прошлом врага и не только ничего не сделал ему во вред, а наоборот, вызвал русского врача, организовал ему ночлег и заботливо отправил его домой.
Я стал часто бывать в доме Лизы. Ее мать Луиза, которую все домочадцы звали ласково Mutti (мамочка), встречала меня доброжелательно. При моем появлении Труди и Эрна куда-то исчезали, а маленький Хорсти, наоборот, выбегал мне навстречу и уж потом практически не отходил от меня. Я научил его играть в прятки, благо, что в доме было где развернуться, рассказывал ему русские сказки, которые он слушал с большим вниманием, показывал ему простые, но эффектные фокусы. Мы быстро стали с ним хорошими друзьями, чему особенно была рада Мутти. Любимым занятием Хорсти было катание на детском трехколесном велосипеде во дворе или по дому.
Лизины сестры относились ко мне внимательно, но сдержанно, постоянно старались оставить нас с ней наедине, но несколько вечеров нам с Лизой довелось провести в их обществе. Мы сидели за большим овальным столом в той самой комнате на втором этаже, в которой я впервые увидел Лизу, и раскладывали пасьянсы. Это занятие мне было не по душе, я находил его скучным и неинтересным, но не показывал вида, чтобы не нарушать заведенный в доме порядок и не огорчать женщин.
Гюнтер постоянно находился в своей комнате, куда я заходил один раз. Ему стало легче, и к осени он окончательно встал на ноги. Через “всемогущего” Павла Крафта я доставал ему нужные лекарства.

Маленький Хорсти Фото 1945 года
Для меня было странным, что у Лизы не было своей комнаты, она жила вместе с Эрной. В их комнате я бывал и обратил внимание на большое количество граммофонных пластинок, а самого граммофона почему-то не было. А нам с Лизой для полного счастья как раз и не хватало музыки. Я попросил бургомистра поставить в комендатуру патефон, конечно, во временное пользование. Просьба моя была немедленно исполнена. Немецкие патефоны были не похожи на русские, они изготавливались из дерева в виде напольной тумбочки, в верхней части которой был смонтирован механизм патефона, а нижняя часть служила фонотекой, то есть местом хранения пластинок.
Мы с Лизой отобрали несколько пластинок, принесли их в комендатуру и стали слушать музыку. Еще в боях под Ригой мне попалась в руки одна немецкая трофейная пластинка с красивой мелодией танго, которую мы, рупористы, часто транслировали через окопно-звуковую установку (ОЗУ) во время агитационных передач на противника. Когда начинала звучать музыка, немцы, как правило, прекращали стрельбу. Эту пластинку я возил с собой зажатой между фанерными листами. Оказалось, что Лиза тоже знала эту песенку-танго, автором которой был Paul Gudwin, но ее в Лизиной коллекции не было. Естественно, я сразу же подарил ее Лизе. По моей просьбе дежурный солдат принес от бургомистра пишущую машинку, и мы вместе с Лизой на слух перепечатали слова этой бесхитростной песенки. Листок этот хранится у меня до сих пор.
SCHENK MIR DEIN LÄCHELN, MARIA!
Schenk mir dein Lächeln, Maria! Abends in Santa Luzia.
Kennst du den Traum einer südlichen Nacht?
Die uns die Welt zum Paradise macht, Ja…
Schenk mir dein Lächeln, Maria! Abends in Santa Luzia.
Hör auf mein Lied, eh’ das Glück uns entfliegt.
Schenk mir dein Lächeln, Maria!
Du bist strahlendes Licht, du bist der Reiz der Ferne,
Du bist wie ein Gesicht, du bist der Glanz der Sterne.
Du bist Sonne und Wind, du kannst das Glück mir geben,
Wenn du lächelst, beginnt fur mich ein neues Leben.
Schenk mir dein Lӓcheln, Maria!
Sink die Sonne ins Meer und rauschen die Zypressen,
Wird das Herz mir so schwer, ich kann dich nie vergessen,
Wenn dich zärtlich um kost das Spiel der alten Lieder,
Nimm mein Wort dir zum Trost, ich komme in Frühling wieder!
Schenk mir dein Lächeln, Maria.
Я тут же начал переводить эту песенку в стихах на русский язык, но в самом начале столкнулся с большой трудностью. Первым словом этой песенки было слово Schenk, что означало по-русски “подари”. Schenk – односложное слово, “подари” – трехсложное. Как я не бился, но не смог подобрать нужное русское односложное слово. Пришлось остановиться на “суррогате” “брось”. Вот мой полный перевод этой песенки-танго:
БРОСЬ МНЕ УЛЫБКУ, МАРИЯ!
Брось мне улыбку, Мария! Вечером в замке Луция.
Помнишь ли сон той прелестной ночи?
Вспомни, как раем нам казались мечты!
Да, брось мне улыбку, Мария! Вечером в замке Луция.
Пусть перестанет песнь, как счастье пройдет.
Брось мне улыбку, Мария!
Ты ослепительный луч, ты утра тихий шелест,
Ты выше облак и туч, ты блеск вечерний, прелесть.
Ты счастье можешь мне дать, но если ты улыбнешься,
То можно сразу сказать, что сердце громко забьется!
Брось мне улыбку, Мария!
Солнце всходит вдали, и шелестят березы,
Сердце ноет в груди, и подступают слезы.
Если слух твой тревожит песнь игрою,
Стих на память возьми, а я вернусь весною!
Брось мне улыбку, Мария!
Эта песенка-танго сильно полюбилась нам, и она стала своеобразным гимном нашей любви. И сейчас, когда прошло много лет, я отчетливо слышу ее мелодию и вижу выражение лица Лизы, когда она внимательно ее слушала…
Однажды Лиза предупредила меня, что завтра мне нанесет визит пастор местной кирхи. Так и случилось. В кабинет вошел высокий представительный мужчина лет пятидесяти одетый в гражданский костюм, но черный глухой воротник с белым околышком говорил о его духовном сане. Это был Aloys Heinebrodt – священник местной церкви, или Pfarrer, как говорят немцы. Пфаррер – духовный наставник верующих своего прихода и потому являлся самым уважаемым человеком в селе, с ним считался даже бургомистр. Пфаррер Хайнебродт, зайдя в комнату, степенно поздоровался, присел на стул после моего приглашения и сказал:
– Господин комендант, вы второй месяц исполняете свои обязанности в нашем селе, однако я как духовный наставник нашего прихода не знаю вашего мнения о деятельности нашей церкви. Вы не считаете нужным побывать в церкви или хотя бы подговорить со мной?
– Мы не вмешиваемся в дела церкви, – ответил я, – но надеемся, что вы, как духовный наставник, в своих проповедях не пропагандируете фашизм и нацизм, которые запрещены союзниками. Вы можете спокойно, без оглядки на нас, продолжать свою службу. Что касается моего посещения церкви и церковных служб, то мне кажется, что верующие могут принять мой визит как контроль за вашей деятельностью, который мы не собираемся устанавливать.
– Вы правы. Однако у меня к вам есть несколько вопросов, – продолжал пастор, спокойно и внимательно разглядывая меня: мол, кто это такой молодой солдат, который командует жизнью его, пастора, села. – Вот уже несколько месяцев мы пытаемся восстановить церковный хор в таком же составе, каким он был до войны, и нам, кажется, удалось это сделать. Просим зарегистрировать его как общественно-культовую организацию при церкви.
– Для этого вам нужно представить мне полный список участников хора и музыкантов.
– Вот, пожалуйста, – сказал пфаррер, передавая лист бумаги. – Второй вопрос. Вы знаете, что в нашем селе две церкви – Старая и Новая. Новая – действующая, а в Старой заскладировано какое-то военное имущество. Мы хотим освободить ее, а церковь отремонтировать.
Вместе с пастором я побывал в Старой церкви и обнаружил, что в ней хранится большое число испорченных танковых радиостанций. Откуда они здесь появились, никто толком сказать не мог. Я доложил об этом начальнику штаба полка, который приказал вывезти эти станции на полковой склад, а мне выдать пастору официальный документ о их приеме в счет репараций. Так, к взаимному удовлетворению, мы с пастором решили этот трудный вопрос.
3. Был дождь, был ветер, и была любовь
Наступил сентябрь 1945 года. Жизнь в Германии постепенно налаживалась и укреплялась. На полную мощность работала в городе Науэн центральная радиовещательная станция, в Берлине выходило несколько центральных газет, в том числе и газета “Neues Deutschland” (“Новая Германия”), на которую можно было подписаться в любом селе или городе, в том числе и в Хейероде. Поступило разрешение на создание, организацию и деятельность различных партий и движений. Еще в августе я зарегистрировал в Хейероде образование двух партийных ячеек: коммунистической и социалистической. Чуть позже я зарегистрировал также Freiwillige Feuerwehr Heyerode (Добровольную пожарную команду Хейероде) во главе с ее старшим пожарным Альфредом Марксом. Эта пожарная команда была основана еще в 1924 году и имела собственное знамя.

Знамя Добровольной пожарной команды села Хейероде с ее девизом “Бога прославляй, а ближнего защищай”
Начались подготовительные работы по национализации промышленных предприятий и проведению земельной реформы. В Германии национализация была проведена умнее и менее болезненно, чем в свое время в России. Были национализированы только крупные объединения, мелкие же производства и розничная торговля остались в частных руках.
В селе Хейероде функционировало около сорока различных по профилю небольших фабрик, кустарных и полукустарных производств. Назову некоторых из них: трикотажные фабрики "Gebrüder Hohlbein”, “Wilgelm Krumbien”, сигаретная фабрика “Carl Henning”, малярная мастерская “Willibald Laufer”, парикмахерские “Walter Zengerling” и “Felix Kaspar”, пекарня “Karl Kott”, мастерская по пошиву обуви “Otto Nadenik”, пошивочная мастерская “Fridrich Marx”, ресторан-гостиница “Zum grünen Rasen” (владелец Hugo Thon), лесная гостиница “Waldgaststӓtte Grenzhaus” (владелец Robert Petersheim) и другие.

Das Grenzhaus. Пограничный дом, построен в 1630 году. Чтобы попасть в село, нужно обязательно проехать под аркой этого дома. Я часто проносился под ней на своем мопеде и не один раз проходил под ней вместе с Лизой, когда встречал на вокзале ее мать, возвращавшуюся с грузом из очередной поездки
Для поставки сырья, сбыта товаров и для другой хозяйственной деятельности нужны были постоянные поездки агентов предприятий за пределы села. Выдача разрешений на поездки была сосредоточена в моих руках. Я отлично понимал значение поездок для фирм и не злоупотреблял своим служебным положением и безотказно выдавал их практически по первому требованию, чем заслужил уважение у местных предпринимателей. Предприятия и фирмы села охотно выполняли заказы хозяйственных служб нашего полка, естественно, за плату оккупационными марками. Я часто был переводчиком при размещении и исполнении этих заказов. Сохранились некоторые предъявленные к оплате счета фирм и частных лиц села с указанием выполненных работ. Счета эти, конечно, в свое время были оплачены. Ниже привожу несколько из них, прошедших через мои руки:
1. Anton Henning, 9.7.1945
Изготовление столов и стульев …………….320.20 М
2. Strickwaren-Fabrik “Gebrüder Hohlbein” 16.7.1945
1. Ремонт белья и обмундирования…………190.00 М
2. Пошив 1000 простыней по 4.50 М………4500.00 М
3. Пошив 600 матрасов по 3.70 М………….2400.00 М
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -
Всего ………………….7090.00 М
3. Strickwaren-Fabrik “Wilgelm Krumbein” 27.7.1945
Пошив гимнастерок ……………………3384.80 М
Военнослужащие нашей армии в Германии получали денежное довольствие не только в рублях, но и в оккупационных марках. В качестве примера привожу выписку из приходно-расходных документов за июль 1945 года:
Бывших И. Н., старшина, переводчик 2-го разряда.
Начисление: оклад 600 р., полевые 75 р., всего 675 р.,
плюс оккупационных марок 750.
Удержание: заем 100 р., сберкнижка 230 р., партвзносы
40 р., всего 370 р.
На руки: 305 р., плюс 750 оккуп. марок.
Местные богачи-предприниматели, и не только они, но все жители села, невольно сравнивали меня и мои действия с моим американским предшественником-комендантом, который работал в селе с апреля по июль 1945 года. По большому счету и конечному результату это сравнение, как я слышал от многих жителей, было в мою пользу. Вот основные итоги: американский комендант был в звании капитана, я же был всего фельдфебелем (по немецкой градации званий), ему было под сорок, мне же двадцать лет, в его распоряжении находился служебный “Виллис”, у меня был мопед – и то, по существу, подарок бургомистра, в штате его комендатуры состояли, помимо него самого, помощник, шофер, секретарь-машинистка и радист, не считая прикомандированных солдат, у меня же – никого, если не считать телефониста из роты связи. Американский комендант постоянно следил и контролировал деятельность частных предпринимателей, я же предоставил им полную свободу действий и почти не посещал их предприятия, он делал свой собственный бизнес, я же влюбился в местную девушку, что, между прочим, льстило жителям села.
В один пасмурный сентябрьский день мы с Лизой договорились встретиться у подножия арочного железнодорожного моста. Места там были изумительно красивы. Направляясь на свидание, у подъезда комендатуры я неожиданно столкнулся с бургомистром, который поздоровался и вежливо и сказал:
– Господин комендант, вы давно обещали фрау Крумбайн посетить ее предприятие, но до сих пор своего обещания не исполнили. Она надеется, что сегодня, возможно, прямо сейчас, вы нанесете ей визит.
После такого напоминания мне ничего не оставалось делать, как оседлать свой мопед и ехать к этой фрау, надеясь, что визит мой будет непродолжительным. Хозяйка фабрики фрау Крумбайн встретила меня у входа, вежливо поздоровалась и проводила в свой небольшого размера, но со вкусом обставленный рабочий кабинет. Усадив в мягкое кресло, она стала подробно рассказывать мне о том, что эту фабрику основал ее дед Вильгельм Крумбайн еще в 1910 году. В Хейероде есть и другие фабрики и мастерские с таким же профилем производства, основанные еще в прошлом столетии, но ее фабрика стала самой крупной и производительной не только в Хейероде, но и во всей округе.

Эмблема фирмы “Вильгельм Крумбайн”
Надо было видеть, с каким важным видом и торжественностью все это она говорила и делала, а я сидел как на горячих углях и думал, зачем она все это говорит мне, мне надо побыстрее выбраться отсюда, ведь там, у моста, меня ждет Лиза. Наконец фрау Крумбайн закончила свои пояснения и спросила:
– Может быть, вы хотите спросить меня о чем-нибудь? Пожалуйста, спрашивайте, не стесняйтесь.
Действительно, мне хотелось бы знать, откуда поступает на ее фабрику сырье, в основном пряжа, каким образом, кому и как фирма сбывает свою продукцию. Но я умышленно промолчал, так как после моих вопросов началась бы еще одна серия продолжительных объяснений и пояснений.
– Теперь, господин комендант, прошу вас пройти в один наш цех и посмотреть, как в нем трудятся работницы.
“Еще и цех осматривать надо!” с ужасом подумал я.
В большом просторном и хорошо освещенном помещении в несколько рядов стояли малогабаритные вязальные машины, за которыми сидели наемные работницы – как пожилые женщины, так и совсем юные девочки. Некоторых из них я уже знал в лицо. Проходя мимо одного такого станка я заметил, как сидящая за ним девушка, не поднимая головы, бросила на меня мимолетный лукавый, даже насмешливый взгляд и тут же углубилась в работу. Попробуй сейчас кто-нибудь из работниц оторваться от работы, расслабиться, потянуться, не говоря уже о том, чтобы отойти от станка, как тут же, немедленно будет наказана хозяйкой. Чистота в цехе была идеальной, ее поддерживали сразу три пожилые уборщицы. Мы не спеша обошли весь цех и через узенькую дверцу проникли в просторную комнату, на стенах которой висели вязаные женские кофточки, юбки, костюмы, мужские свитера, пуловеры, детские шарфы, шапочки, носки, рейтузы и еще много других вязаных изделий, названия которых я не знал. Это были образцы продукции, изготовляемой на фабрике. Я опять с опасением подумал, что хозяйка фабрики сейчас начнет все это мне показывать и объяснять. Так оно и случилось. Хозяйка не только подводила меня к каждой модели и не только подробно рассказывала о ней, но и меня просила высказать мое собственное мнение. У меня же не было никакого мнения и представления о существующей сейчас моде, о принятых фасонах, расцветках, складках и рюшках. Я был законченным профаном в этих делах и даже отдаленно, приблизительно сказать ничего не мог. А фрау Крумбайн добивалась от меня хотя бы двузначной оценки того или иного изделия: нравится оно мне или нет. Я отвечал скорее наугад, чем по существу.
В заключение моего визита фрау Крумбайн предложила мне традиционную чашечку кофе, которую я торопливо выпил. Весь этот церемониал с непринужденной беседой, показом образцов изделий и чашечкой кофе лично мне совершенно был не нужен, но он как воздух был необходим хозяйке фабрики, всему ее производству для поддержания авторитета. Даже простой визит коменданта, пусть этим комендантом будет всего-навсего деревенский мальчишка, одетый в военную форму, который является представителем нынешней власти, повышает престиж фабрики в глазах ее оптовых покупателей и заказчиков.

Арочный железнодорожный мост – место встреч и наших с Лизой прогулок
Наконец я освободился из цепких рук фрау Крумбайн, вскочил на свой мопед и на большой скорости помчался к мосту. Погода заметно менялась, начал покрапывать мелкий дождь. Я опоздал на свидание почти на час, и моя бедная Лиза сидела под прикрытием зонтика у подножия массивной каменной опоры и терпеливо ждала меня. Когда я как вихрь подлетел к ней, она встрепенулась, словно испуганная пташка, и с улыбкой бросилась ко мне. Ни одним жестом, ни одним словом, даже ни одним вздохом она не упрекнула и не осудила меня за столь длительное опоздание, а превозмогая усталость и дрожь, всем своим видом старалась показать и убедить меня, что стоять под дождем и ждать меня ей было не только не трудно, но даже приятно. Дождь усиливался и наша прогулка срывалась. Я усадил Лизу на совершенно неудобный и не приспособленный для перевозок пассажиров багажник мопеда и осторожно с заглушенным мотором спустился с возвышенности в низину, в которой размещался центр села.
Когда мы поспешно проскочили мимо дежурного телефониста и вбежали в комендантскую комнату, то оба сразу увидели объемистую картонную коробку.
– Что это? – воскликнула Лиза, вопросительно посмотрев на меня.
– Не знаю, – ответил я.
Мы быстро распаковали коробку. Она была набита вязаными кофточками, пуловерами и другими трикотажными изделиями, на которых красовались цветные этикетки “Strickwaren-Fabrik Wilgelm Krumbein. Heyerode”. Я сразу догадался, что в коробку были вложены как раз те изделия, образцы которых я оценил, как понравившиеся мне. Так вот зачем фрау Крумбайн понадобилась моя оценка каждой ее модели! Она была опытным коммерсантом и хорошо понимала, что за все надо платить, даже вот за такой, в общем-то, ординарный визит коменданта.
Лиза категорически отказалась принять от меня в качестве подарка любые изделия из этой коробки, во-первых, потому, что этого добра в их доме было с избытком и, во-вторых, она заявила, что лучше будет “ходить голой”, но ни за что не наденет на себя изделие этой фирмы. Почему, я так и не понял. Мне ничего не оставалось делать, как все это сокровище (а для моих родителей и сестренок там, на родине, все это было действительно бесценным сокровищем) впоследствии запаковать и отправить домой посылкой.
Мы с Лизой уже не стеснялись друг друга как раньше. В промежутках между поцелуями мы на электроплитке сварили кофе и выпили по чашке этого напитка с бутербродами. Лиза завела патефон, поставила на диск любимую пластинку – вальс Штрауса “Сказки венского леса”. В комнате зазвучала величественная и чарующая мелодия бессмертного творения. Лиза подбежала ко мне, чмокнула меня в щеку и, ловко выскользнув из моих рук, плавно закружилась в танце вокруг комендантского стола. Я вижу ее порозовевшие от выпитого кофе щеки, сверкающие глаза, распустившиеся волосы и внутренне радуюсь и поражаюсь ее удивительной красоте и женственности. А как плавно и величественно изгибалась ее тонкая талия в ритме вальса! Я поражался: откуда у этой простой крестьянской девушки такие царские движения и манеры. Лиза, моя Лиза, сегодня превзошла себя. Сделав еще два-три круга вокруг стола и снова не дав поймать себя, она плавно подвальсировала ко мне и также плавно опустилась на мои колени, обняв мою голову обеими руками.
– Ваниляйн, ты не представляешь себе, как я сегодня счастлива! – сказала она, не убирая с моей головы своих рук. – А все потому, что я крепко-крепко люблю тебя.
– Лиза, скажи, за что, за что ты меня любишь! Что ты нашла во мне? Я просто не могу это понять, – горячился я, явно напрашиваясь на комплимент.
– Люблю тебя я просто так, за ни за что!
– Так не бывает, – хорохорился я. – Я, например, знаю точно, за что я люблю тебя.
– Лиза тихо засмеялась (она никогда не смеялась громко и заразительно) и продолжала:
– Ты не прав, Ваня. Я знаю, что люблю тебя за ни за что, потому что любовь всегда тайна, всегда загадка. Как только эта загадка будет разгадана, так любовь мгновенно исчезнет!
– Не знаю, может быть, это и так, но лично я люблю тебя, знаешь, за что? Слушай и наматывай себе на ус: за необыкновенную красоту, за чудесный бархатный голос, за черные бездонные глаза, за ярко-красные влажные губы, за твои жаркие и сладостные поцелуи, за веселый необидчивый нрав, за твое великое терпение, за… за…
Пока я перечислял качества, за которые я люблю Лизу, она вслух громко считала их, загибая пальцы на левой руке:
– Eins, zwei, drei… ну… ну… еще… еще… придумай еще что-нибудь! Не густо, этого мало. Для полной характеристики, по крайней мере, надо бы насчитать дюжину моих “хороших” достоинств. Вот тогда я поверила бы, что ты любишь меня по-настоящему! – Она вспорхнула с моих колен, подбежала к патефону н заменила пластинку. Приятный тенор громко запел слова знакомой, любимой песни:
– “Schenk mir dein Lӓcheln, Maria!”
Лиза вернулась ко мне, и мы прослушали песенку до конца, стоя в объятиях друг друга.
Я подошел к окну и выглянул наружу. Начало смеркаться, погода портилась, по улицам гулял ветер, сгребая в кучи первые опавшие листья. Несколько капель дождя от удара расплющились на стекле, поползли вниз, оставляя длинные и грязные полосы. Лиза сняла с себя шерстяную кофточку и потянулась к гвоздю, чтобы ее повесить. Я вдруг увидел ее неестественно расставленные ноги в какой-то нелепой позе, которая вызвала во мне незнакомое, даже крамольное желание – увидеть ее ноги обнаженными. Я почему-то не устыдился этого желания, не покраснел, как это случалось раньше, а, наоборот, стал неузнаваемым для самого себя, смелым, даже излишне смелым. Подгоняемый этим растущим желанием, я с горящими глазами вдруг сделал решительный шаг к Лизе. А Лиза, видимо, каким-то шестым или седьмым чувством угадала мое намерение, стремительно, что раньше она делала очень редко, повернула ко мне лицо и устремила на меня вопрошающий и встревоженный взгляд.
Наши глаза встретились, и мы какое-то время как завороженные смотрели друг на друга. В этот напряженный момент мы оба одновременно поняли, что наступила та самая важная, одна-единственная в жизни минута, которая рано или поздно должна произойти и которая произойдет очень скоро, может быть, даже сейчас, независимо от нашего желания или нежелания, независимо от нашей воли, независимо от нас самих. Я смотрел на Лизу возбужденным горящим взглядом и понимал, что она впервые видит меня таким. Я в свою очередь видел ее чистое, спокойно-торжественное, как бы освещенное изнутри лицо и был просто ослеплен его глубокой одухотворенностью и какой-то нечеловеческой красотой. Лиза казалась мне в этот момент сошедшим с небес неземным существом! Однако, эта ее неестественная и даже нелепая поза почему-то вызвала во мне такое вот запредельное, до крайности неприличное земное желание. И я – робкий, застенчивый, вечно сомневающийся в себе парень – вдруг стал настолько смелым и решительным, что подошел к ней, положил руки на ее крутые бедра и стал медленно скользить ими до ее талии снизу вверх, сгребая в гармошку ее легкое ситцевое платьице, обнажая все выше и выше ее стройные загорелые ноги. Лиза, моя Лиза, стояла, не шелохнувшись, все в той же нелепой позе, молча и недоуменно смотрела на меня, не одобряя и не осуждая мой, вообще-то говоря, нахальный поступок. А поступок мой был действительно нахальным, и Лиза это понимала, но она не заругалась на меня, не закричала, иначе я мгновенно убежал бы прочь из комнаты, чтобы скрыть свой стыд и свою наглость. Она не бросилась мне на шею с намерением помочь мне освободиться от своей одежды, в этом случае я бы немедленно обвинил бы ее в распущенности и с презрением, даже с брезгливостью отвернулся бы от нее. Лиза поступила по-другому: она КАК БЫ сделала попытку защитить себя от моего внезапного вторжения, старалась КАК БЫ прикрыть свою наготу подолом платья, но не прикрыла ее и в то же время ничем – ни своим взглядом, ни жестом не осудила меня, чтобы я вдруг не застыдился бы самого себя. Она КАК БЫ помогала мне балансировать на острие ножа и не позволяла мне свалиться с него ни в ту, ни в другую сторону. Она делала КАК БЫ то и другое одновременно, и в этом КАК БЫ заключалась вся мудрость Лизиной женской натуры и вся ее тайна.
Я знал, что к платью, в которое была одета Лиза, со спины был пришит поясок, который Лиза завязывала в узел на талии впереди себя. Сгребая платье в гармошку, я опасался, если пояс этот окажется завязанным, то из попытки ничего не получится, так как я сам ни за что на свете не осмелился бы его развязать. Но поясок этот, к счастью, был не завязан, его оба конца висели по бокам, и я, продолжая движение руками, легко снял платье вместе с комбинацией с гибкого Лизиного тела. Лиза же, полуобнаженная, оставшаяся только в трусиках и в бюстгальтере, подбежала к стене, подняла глаза к тому месту, где не так давно висело распятие Христа, которое было снято по моей просьбе, стала беззвучно шептать слова молитвы, часто повторяя имя Святой Марии. Она, как и большинство жителей Хейероде, не была набожной, хотя и была крещеной и изредка ходила в церковь, а сейчас в самый ответственный момент своей жизни, обратилась к Святой Деве Марии за помощью, за советом, за поддержкой, внутренне готовя себя к свершению этого неотвратимого акта. Несмотря на то, что я сам горел как в огне и с трудом соображал, что делал, однако я воочию видел стройные оголенные ноги Лизы, ее изящное, холеное, не тронутое нуждой юное тело, ее округлые девичьи плечи и, самое главное, тонкий, словно высеченный из мрамора, профиль лица, освещенного отблеском затухающей зари. Я видел это бесценное сокровище своими собственными глазами и не мог поверить, что все оно, без остатка принадлежит мне! Мне одному! Совсем недавно я видел только смерть, разрушения, жестокость, боль и нечеловеческие страдания людей. Совсем недавно от жизни я не ждал ничего хорошего: ни счастья, ни радости, ни спокойствия, а имел скромное желание прожить на белом свете еще один лишний день или получить из дома долгожданную весточку. И вдруг, и вдруг… на мою беззащитную голову нежданно-негаданно свалилось такое огромное Счастье, которое не могло присниться мне даже в самом фантастическом сне. Все это было так велико и возвышенно, что, казалось, не могло быть правдой. И все-таки это был не сон, не мираж, а самая настоящая реальность, голая явь и правда.
Я не спеша подошел к Лизе, взял ее за талию, повернул к себе, и она тотчас прильнула ко мне всем своим трепетным телом, и наши губы слились в продолжительный, торжественный поцелуй, поцелуй – предшественник великого события! Оторвавшись друг от друга на мгновение только для того, чтобы сделать один-два вздоха, мы снова слились в божественном, другого слова я не смог подобрать, поцелуе. Мы целовались долго и много, на этот раз зажигающе и страстно возбуждая в себе еще новые, неведомые чувства. В промежутках между поцелуями Лиза шептала теперь совсем другое имя, мое имя “Wanilein, mein Wanilein!"

LISCHEN
Елизавета Вальдхельм
Родилась 17 июня 1925 года в селе Хейероде
Мюльхаузенского района, Тюрингия, Германия.
Фото 1952 года

WANILEIN
Иван Бывших
Родился 15 октября 1924 года в селе Поначево
Курагинского района Красноярского края.
Фото 1946 года
Мы не торопили события, все шло само собой, по какому, то заранее и кем-то составленному плану. Мы знали, что ЭТО должно случиться, и ОНО случилось! Но все же не ОНО САМО было главным для нас в тот дождливый сентябрьский вечер, а только сам факт прихода этого ОНО. Мы оба не расспрашивали друг друга, знали и верили, что и я, и она были чистыми, непорочными, что нам обоим не придется краснеть друг перед другом, и что каждый из нас сознательно отдавал себя, свое собственное “Я”, свою честь и свою часть только тому, кого он сам добровольно выбрал из тысячи таких же людей, без всяких оговорок, условий и раздумий. МЫ ОБА БЕСКОНЕЧНО ВЕРИЛИ ДРУГ В ДРУГА, и эта вера была тем самым главным стержнем, на котором зиждилась наша любовь. ВЕРА друг в друга – это больше и выше, чем сама ЛЮБОВЬ. Эта простая и часто валяющаяся под ногами истина, на которую мало кто обращает внимание, была врожденной Лизиной сущностью, и она сумела передать ее мне.
Я не скажу, что в этот сентябрьский вечер нам ЭТО понравилось. Скорее всего ОНО нам не понравилось, но когда ОНО все же случилось, сам этот факт стал для нас обоих величайшим событием, эталоном жизни, границей, разделившей нашу общую судьбу на две части: что было до ЭТОГО и что стало после ЭТОГО.
За окном уже шел проливной дождь, в водосточных трубах бешено билась вода, сильные порывы ветра стучали по крыше, врывались в комнату через открытую форточку. Но нам с Лизой было не до этого, мы не обращали внимания на разбушевавшуюся непогоду, мы были заняты собой и нашими новыми проблемами. Лиза, зажав мое лицо обеими руками, осыпала его страстными поцелуями. Насытившись ими, она положила свою чудесную головку мне на грудь и, помолчав с минуту, сказала:
– Знаешь, Ваня, с этого сегодняшнего дня я принадлежу и буду принадлежать до конца своих дней только тебе одному. Знай и всегда помни это!
– Лизхен! Зачем ты это говоришь? Не надо зарекаться, не надо давать друг другу клятв, ведь мы не принадлежим себе и не знаем, что с нами будет завтра, послезавтра, а тем более через год. Мы любим друг друга, это хорошо и пока достаточно. Я, например, благодарю судьбу за то, что она послала мне именно тебя и никого другого, и тебя такой, какая ты есть, о какой я мечтал всю свою короткую жизнь! – сказал я запальчиво и крепко прижал к себе Лизу.
– Ты прав. Но ты прав для себя, у меня своя правда. Я тебя ничем не обязываю и не прошу никаких обещаний, кроме одного – любить меня всю жизнь, даже тогда, когда ты будешь женатым…
– Лизхен! – перебил я ее.
– Да, да, даже тогда, когда ты будешь женат. Не на мне. А я, я… Я буду верна тебе всю свою жизнь.
– Ты что? Никогда не выйдешь замуж? – воскликнул я с ужасом, понимая, что Лиза способна исполнить свои намерения, она никогда не бросала слов на ветер.
– Лиза откинула свесившуюся мне на лоб прядь волос, спокойно и многозначительно подтвердила:
– Да, Ваниляйн, это так.
– Но, почему? Почему? – забормотал я, тормоша ее.
Но Лиза вдруг неестественно повеселела, стала рассказывать мне какую-то историю из своей жизни. Рассказ не получился. Она затихла, но не уснула. Я тоже молчал, обдумывая все, что сегодня произошло.
И опять мне в голову втемяшился этот проклятый узелок на ее поясе, я мучился вопросом: кто его развязал, почему он оказался развязанным?
– Ваниляйн, скажи, о чем ты сейчас думаешь, что тебя тревожит? Поделись со мной своими сомнениями и тебе станет легче, – вдруг сказала Лиза, как будто прочитала мои мысли.
– Ничего меня не мучает и мне нечего тебе говорить, резко ответил я.
– Но я вижу, что ты говоришь неправду.
Да, я говорил неправду, я действительно мучился вопросом: кто развязал этот проклятый узелок на ее платье? Сейчас эти мои тогдашние мучения-сомнения кажутся смешными и никчемными, а тогда? Тогда они заслоняли собой полнеба, полжизни и ответ на этот вопрос я жаждал получить немедленно. Если окажется, что его развязала сама Лиза, то для меня это станет настоящей трагедией, и я ни за что бы не простил ей этого.
Но Лиза была потому и мудрой, что лучше меня понимала меня самого, понимала мое сиюминутное состояние и мое настроение.
– Ваниляйн, если тебя мучает этот узелок на моем поясе, то я скажу тебе откровенно и честно: я его не развязывала. Я не знаю, почему он оказался развязанным, может быть, он был плохо завязан и развязался сам?! Так, наверное, и было на самом деле. Верь мне, Ваня!
Чувствую, что я начал медленно краснеть, ведь Лиза все поняла и все угадала. Чтобы заглушить и замаскировать свой стыд, я схватил Лизу в объятия и стал ее с жаром и страстью целовать приговаривая:
– Лиза, моя Лиза! Я верю тебе, верю! Видимо, об этом позаботилась сама судьба! Больше ты не думай об этом, и я тоже все это выброшу из головы.
Лиза не ответила. Мы долго и молча лежали, прижавшись друг к другу, прислушиваясь к вою ветра и к барабанной дроби тяжелых дождевых капель.
– Как не говори, Лиза, а все ЭТО не так просто. Ведь у тебя… у нас… может появиться… – начал я нерешительно новую тему разговора.
– Ребеночек! – опередила меня догадливая Лиза.
– Да, наш с тобой ребенок… – еле-еле выдавил я из себя.
– Ваниляйн, милый! Ты не думай об этом, не порти себе настроение. Это не мужское дело, а мое личное, женское, это моя забота. Понимаешь?! Это, действительно, моя чисто женская проблема, и ты больше никогда не думай об этом.
Я верил Лизе и на самом деле выкинул из головы такую немаловажную деталь, как возможность появления на свет нашего с Лизой ребенка.
С наступлением рассвета мы оделись, крадучись прошли мимо комнаты Анны, прошмыгнули мимо спящего в обнимку с телефонной трубкой дежурного телефониста и вышли на улицу. Дождь кончился, ветер стих, но по кюветам, выложенным булыжником, с гор неслись мутные потоки. Жители Хейероде еще спали, но кое-где на подставках уже стояли бидоны со свеженадоенным молоком.
– Иди, поспи немного, ведь завтра, то есть уже сегодня, тебе надо идти на работу, – сказал я, когда мы снова оказались около калитки ее дома.
– Я уже не работаю, я уволилась пять дней тому назад, – пояснила мне Лиза с легкой усмешкой.
– Почему? Зачем? – встревожился я.
– Ах, Ваня! Какой же ты недогадливый! Я уволилась потому, чтобы чаще встречаться с тобою. Разве это плохо?
Я хотел что-то еще сказать, но Лиза как всегда поняла меня с полуслова и мой предполагаемый вопрос опередила своим ответом:
– Мутти согласна. Наш бюджет позволяет мне это. Теперь только одно твое слово – и я тотчас прибегу к тебе!
…Это ответственное событие, которое может произойти только
один раз в жизни каждого человека, произошло с нами, то есть со мной, русским солдатом Иваном Бывших, и немецкой девушкой Елизаветой Вальдхельм во вторник вечером 11 сентября 1945 года в комендатуре Хейероде близ города Мюльхаузена на Тюрингской земле в Германии.

Старшина Иван Бывших, комендант Хейероде. Сфотографирован на улице Айхтальштрассе. Сентябрь 1945 года
4. Два праздника в один день
1 октября 1945 года в жизни села Хейероде произошло знаменательное событие – в этот понедельник в местной сельской школе имени Гете был открыт новый учебный год, в подготовке которого я принимал непосредственное участие. В сентябре из помещения школы был переведен штаб нашего полка в другое место. Учебные классы были заново отремонтированы, обставлены мебелью и школьным инвентарем. В этот день утром со всех улиц к школе потянулись ее ученики, точно так же, как и в России – с букетами цветов в руках. Однако самые юные ученики-первоклассники оставили свои ранцы в школьном классе и, взявшись за руки попарно, со стаканчиками в руках, из школы направились к источнику Гахель, где их ожидали директор школы, бургомистр и пфаррер. Большая группа родителей стояла в сторонке в благоговейном молчании. Дети выстроились полукольцом перед священным источником, а бургомистр Хейероде стал рассказывать им о том, что в далекие прошлые времена вот здесь, около этого источника, началось строительство их родного села и что они должны быть благодарны их далеким предкам, которые своим трудом выстроили такое красивое и удобное для жизни село, в котором они сейчас живут и будут жить дальше. Потом пфаррер посвятил их в школьники, и каждый по очереди стал подходить к источнику, подставляя под его тонкую струйку стакан и делая из него несколько глоточков. Традиция посвящения детей в школьники на их первом уроке у священного источника существовала давно, и она соблюдалась всегда в первый день школьных занятий независимо от погоды…

Школа имени Гете в селе Хейероде
Однажды зайдя в кабинет бургомистра, я застал там незнакомого мне пожилого человека.
– Это наш местный мастер-закройщик, познакомьтесь, – представил его мне бургомистр. – Он хочет к празднику урожая сшить вам цивильный костюм.
Я знал, что приближается большой немецкий праздник урожая, который традиционно и торжественно отмечается не только жителями Хейероде, но и всей Тюрингии. Подготовка к нему началась в селе давно. Надеть на себя гражданский (цивильный) костюм и покрасоваться в нем – дело заманчивое. Но помня, как на совещаниях в районной комендатуре Мюльхаузена распекали охотников поживиться за казенный счет, в том числе и за счет местного населения, я не торопился с утвердительным ответом. Мастер заметил мою нерешительность, подошел ко мне и сказал:
– Я сделаю вам костюм не в счет репараций, это будет всего лишь мой презент вам к предстоящему празднику.
– Господин комендант, – снова сказал бургомистр, – дайте ему возможность и повод позже говорить своим клиентам, что именно он сшил цивильный костюм самому коменданту Хейероде. Этот ваш заказ нужен больше ему, чем вам. Соглашайтесь!
И я согласился. Узнав об этом, Лиза от радости, как маленькая девочка, захлопала в ладоши:
– Я давно мечтала увидеть тебя в цивильном костюме!
Мастер-закройщик старался от души. Надо было видеть, как он ловко, торжественно и даже величественно снимал с меня мерку, с каким видом показывал мне образцы материи, из которой он собирается шить костюм. На примерку мы ходили, конечно, вдвоем с Лизой, и она внимательно и придирчиво рассматривала каждую складку, каждую линию на костюме – ей хотелось, чтобы он сидел на мне идеально. Когда костюм был готов, а это случилось буквально за день до праздника, мастер сам пришел в комендатуру и торжественно вручил его мне. Шерстяной темно-синего цвета двубортный цивильный костюм действительно был сшит мастерски, и когда я, одетый в него, подошел к зеркалу, то я просто не узнал себя. Закройщик и Лиза заставили меня несколько раз повернуться вокруг себя, вытянуть то одну, то другую руку, то обе вместе, присесть на корточки, чтобы найти какой-нибудь маломальский дефект. Но нигде не жало, не тянуло, не собиралось в гармошку.
Я поблагодарил мастера, пообещав впоследствии вознаградить его, и он ушел, как мне показалось, даже более довольным и счастливым, чем я. А Лиза, моя Лиза, не отходила от меня ни на шаг. Она, не стесняясь, любовалась, как я понял, не самой моей обновкой, а моим новым видом-обликом, которого она никогда до этого не видела. Наконец она присела ко мне на колени, нежно поцеловала и сказала:
– Теперь ты ничем не отличаешься от немецкого бурша (Bursch), то есть парня. Если бы мы с тобой вдруг оказались на улицах Галле, Мюльхаузена или Рудольштадта (я знал, что в этих городах жили ее родственники), то тебя никто бы не признал за русского парня, да еще из этой холодной Сибири.
Забегая вперед, скажу, что дней десять спустя мы с Лизой навестили закройщика в его собственной швейной мастерской и я вручил ему расписку, заверенную, как и положено, круглой печатью, с указанием за что она выдана и на какую сумму была выполнена работа. Он охотно принял ее и сказал, что ни за что не отдаст ее бургомистру в счет репараций, а повесит ее на стену в застекленной рамке и она будет служить ему лучшей рекламой. Фамилию этого мастера закройщика я, к сожалению, забыл, но предполагаю, что это был Фридрих Маркс, проживавший тогда по улице Штраух.
Впоследствии костюм этот я посылкой отправил домой и после демобилизации из армии ходил в нем все пять лет, пока учился в институте. Дополнительно сообщу, что по существующим тогда в армии правилам, каждый солдат и офицер оккупационных войск, находящихся в Германии, имел право посылать домой одну десятикилограммовую посылку в месяц. Некоторые наши бойцы, как, например, Виталий Чеботарев, считали это аморальным делом: мол, мы воевали не за посылки, протестовали и доказывали, что это грабеж местного населения и категорически отказывались слать посылки домой. Но я, скажу откровенно, знал и хорошо представлял, в каком бедственном положении находилась моя семья, и что для них будет значить получение бесценных с их точки зрения вещей, которые я имел возможность им выслать. Я пользовался представленным мне правом и возможностью в пределах нормы, то есть раз в месяц посылал домой посылки с одеждой, материей и даже обыкновенной писчей бумагой и ничуть не стесняюсь и не жалею об этом.
Праздник урожая в селе Хейероде отмечался 15 октября 1945 года. Он совпал с моим днем рождения, в тот день мне исполнился двадцать один год. Улицы Хейероде с утра заполнялись празднично одетыми сельчанами. Со всех сторон доносились громкие разговоры, смех, шутки и разноголосое пиликание губных гармошек, распространенных в Германии примерно так же широко, как балалайки в России.
Чтобы успеть побывать на главном торжестве праздника, которое будет проведено вечером, мой день рождения мы решили отметить во второй половине дня прямо в комендатуре. Еще утром ко мне пришла Лиза в сопровождении своего брата Гюнтера, который приволок на себе огромный баул с кастрюлями, мисками и тарелками, наполненными различными закусками. Это постаралась моя Лиза, конечно, вместе с Мутти. Она и сейчас, как бабочка, порхала вокруг комендантского стола, сервируя его салатами и другими закусками, названия которых я еще не успел запомнить. В центре стола стояла огромная хрустальная ваза, в которой красовался удивительный букет из 21-й красной розы. Накануне праздника Лиза пыталась выпытать у меня, какие цветы являются у меня моими любимыми. Я ответил, что не знаю, так как в нашей деревне этому не придавали никакого значения.
– Значит, твоими любимыми цветами будут красные розы! – заявила она и я, конечно, тотчас же согласился.
В полдень к нам пришли наши с Лизой гости, точнее сказать, мои закадычные армейские друзья – это капитан Евгений Федоров, инженер полка, старший лейтенант Александр Дунаевский, делопроизводитель штаба полка, и, конечно, лейтенант Павел Крафт, командир автомобильного взвода транспортной роты. Вместе с Павлом пришла и его любимая девушка Гертруда Рихтер, с которой он познакомился еще в Саксонии и которая приехала к нему оттуда в Хейероде и осталась с ним. Гертруда и Лиза стали невольно подругами. Естественно, я был одет в новый, гражданский костюм, чем удивил и поразил своих товарищей.
– Что позволено коменданту, запрещено нам, рядовым труженикам армии! Выпьем за коменданта и за его прекрасную подругу! Поздравим его с днем рождения! – предложил первый тост Александр Дунаевский.
Тост был поддержан всеми присутствующими гостями, и даже девушки приложили свои губки к рюмкам, наполненным русской водкой.
Лиза была одета в черное шерстяное крупной самодельной вязки платье, с красной подкладкой по всей его длине, которая просматривалась в узлах вязки. Несмотря на достаток, в повседневной жизни Лиза носила простые ситцевые платья. И вот только сегодня она надела самое красивое и дорогое свое платье, в котором была сфотографирована на большой портрет в полный рост еще до нашего знакомства. У нее было мало украшений, она почти не пользовалась парфюмерией. Кстати сказать, в то время такое поведение девушки было в Германии нормой и оно укладывалось в строгие немецкие правила и традиции.
– А не позвать ли нам Анну? Как-никак она все же является хозяйкой квартиры, – предложил Павел.
– Приглашали, отказалась, говорит, что у нее головные боли, – ответила Лиза за меня и за себя.
Второй тост был поднят за Победу над фашизмом. Это был традиционный тост фронтовиков. И только третий тост прозвучал за всех милых девушек и женщин, которые сейчас здесь в этой комнате и которые сейчас далеко отсюда в России. Александр Дунаевский был женатым человеком.
Я завел патефон с танцевальной пластинкой, Павел и Евгений быстро подхватили девушек и закружили их в вальсе по комнате. Так как я совершенно не умел танцевать, и Лиза это знала, то постоянно дежурил у патефона, заводил его, менял и переставлял пластинки. Веселая и раскрасневшаяся Лиза подбежала ко мне, чтобы что-то сказать, но я гнал ее от себя: мол, танцуй, не оглядывайся на меня, пока есть возможность. Наконец я поставил на диск нашу с Лизой пластинку, и в комнате снова зазвучала любимая мелодия:
Schenk mir dein Lӓcheln, Maria!
Abends in Santa Luzia.
Kennst du den Traum einer sudlichen Nacht?
Die uns die Welt zum Paradise macht, Ja…!
Schenk mir dein Lӓcheln, Maria!
Abends in Santa Luzia.
Наши друзья знали об этой пластинке и одобрительно жали нам с Лизой руки в знак солидарности.
Я заранее предупредил своих товарищей, что мой день рождения пройдет без подарков, ведь в армии вообще было не принято праздновать и отмечать дни рождения ни солдат, ни офицеров. Однако Павел Крафт к радости девушек выложил на стол две больших коробки московских конфет и целую груду шоколадных плиток. А Евгений Федоров вручил мне небольшого размера пистолет марки “Кольт”.
– Спасибо, но у меня есть пистолет ТТ, – сказал я.
– Твой пистолет – штатное оружие, рано или поздно тебе придется сдать его на склад. А этот пистолетик неучтенный, незарегистрированный, и ты можешь увезти его домой после демобилизации, – пояснил Женя, засовывая его в кобуру.
– Кстати, а где мой пистолет сейчас? – спохватился я.
Я побежал в спальню и нашел его под матрасом. Да, здесь, в Германии, как тогда говорили, в “логове фашистского зверя”, я позабыл, где у меня хранился пистолет, не говоря уже об автомате, который за ненадобностью я давно сдал на склад. Сейчас я не припоминаю ни одного случая нападения немецкого населения или бывших немецких солдат, возвратившихся из плена, на советских бойцов и командиров. А они, то есть советские солдаты и офицеры, что ни говори, являются для немецкого населения самыми настоящими оккупантами. Ведь наши войска так и назывались: “группа советских оккупационных войск". Более того, мне, как коменданту, часто приходилось сталкиваться вот с такими фактами: по телефонному звонку с узла связи или по непосредственному обращению жителей в комендатуру о том, что там-то и там на обочине дороги валяется пьяный русский солдат, я срочно выезжал на мопеде на указанное место и, действительно, находил там пьяного бедолагу. Удивительно было не это, удивительно было то, что не было ни одного случая ограбления наших пьяных солдат, не говоря уже об убийствах. Как правило, оружие, документы и ценности всегда оставались при них. Были случаи, когда сердобольные немецкие жители затаскивали нашего пьянчужку во двор или даже в дом, охраняли и ухаживали за ним до прибытия дежурных из комендатуры. Так было. Так было не только в Хейероде. Так было во всей советской оккупационной зоне Германии. Могу это засвидетельствовать, как непосредственный участник и очевидец тех событий, в то время как в дружеской стране Польше, а также в Прибалтике и даже в Западной Украине из-за угла раздавались коварные выстрелы и гибли ни в чем не повинные молодые бойцы нашей армии…

Федоров Евгений Семенович, мой одногодок и армейский друг.
Жил в городе Пушкин под Ленинградом, работал научным сотрудником в закрытом НИИ. Умер в 1994 году от рака. В Хейероде он был капитаном. На снимке 1972 года он подполковник.
Однако празднование моего дня рождения продолжалось. Неожиданно дверь с шумом распахнулась, и в комнату вбежала Инга Хольбайн в белом фартучке с накладными карманами. Она молча подбежала ко мне, привстала на цыпочки, чмокнула меня в щеку и убежала прочь. Я едва успел засунуть ей в кармашек плитку русского шоколада. Вот так она поздравили меня с днем рождения. Появилась и сама Анна, она тоже поздравила меня и всех присутствующих с праздником урожая. Сделала она это официально и холодно, так как все знали, что она не одобряла моей дружбы с Лизой.
В самый разгар торжеств в комнату поспешно вошел дежурный и предупредил нас, что по лестнице поднимается сам бургомистр села. Вот это да! Мы все понимали, каких трудов стоила для него эта прогулка по лестнице – с его деревянной ногой! Стуча протезом, с непокрытой головой, в комнату вошел бургомистр Хейероде в сопровождении своего худощавого помощника. В руках бургомистр держал букет живых цветов, а его помощник – большую картонную коробку. Бургомистр остановился, отдышался и после непродолжительного молчания сказал:
– Господин комендант, по поручению гемайнде (общины) села поздравляю вас с вашим днем рождения, а вас, уважаемые дамы и господа, с праздником урожая. По этому поводу вручаю вам вот этот наш скромный подарок. – (Замечу в скобках, что бургомистр никогда не называл меня по фамилии, так как за время нашей совместной работы, он так и не научился произносить ее правильно.) Да и я его обычно называл “господин бургомистр”, хотя знал, что его звали Franz Hunstock. Его помощник поставил коробку на стул и распаковал ее. В ней оказался новенький всеволновой радиоприемник голландской фирмы “Philips”. Я поблагодарил за поздравление и за подарок и пригласил высокого гостя к столу. Но он решительно отказался, однако рюмку русской водки выпил с удовольствием. Когда он удалился, я сказал:
– Как все изменилось. Этот человек еще в Первую мировую войну потерял свою ногу в России, а во Второй мировой, как я слышал, опять же в России погиб его сын. И вот сейчас, сегодня, он в своем родном селе вынужден поздравлять и делать подарки какому-то русскому солдату. Это уму непостижимо! Я представляю, что сейчас творится в душе этого пожилого человека. Между прочим, я высчитал, что Франц Хуншток старше меня ровно на 50 лет, и недавно узнал, что он работает бургомистром Хейероде бессменно с 1923 года. Я слышал также, что многие жители называют его “спасителем села”, так как он воспрепятствовал местным нацистам организовать военное сопротивление, когда американцы входили в село. Боя не было, и потому село не имеет разрушений.
Весь вечер Лиза не отходила от меня ни на шаг, каждым своим жестом, поступком она демонстрировала свою любовь и преданность: то смахивала с моего нового костюма воображаемые пылинки, то поправляла сбившийся на бок галстук, а то просто стояла позади меня, положив обе руки на мои плечи. Точно так же вела себя и Гертруда. Павел курил, поэтому у Гертруды было больше возможностей поухаживать за ним, подавая ему пепельницу или зажигалку. Так, между прочим, было принято в Германии у всех немецких влюбленных девушек.
Праздник удался, и наши гости стали расходиться. Прощаясь с нами, Павел сказал:
– Один праздник закончился, а второй только начинается, советую и вам принять в нем участие. Не сидите дома.
За окнами начало темнеть, когда мы с Лизой вытащили из коробки самодельный застекленный фонарик со вставленной в него свечкой, и зажгли ее. Я взял этот фонарик за длинную ручку, мы вместе вышли на главную улицу села. А по ней вниз катился людской поток, вбирая в себя тоненькие ручейки людей из прилегающих улиц и переулков. Люди орали, горланили, пели песни. Почти каждый из них держал в руках тоже фонарик с зажженной внутри него свечкой. Мы с Лизой, взявшись за руки, влились в этот многоголосый, пестрый людской поток, который подхватил нас, закружил и понес вниз под гору. Впереди нас несколько ребят несли на руках круглый бочонок, на борту которого красовалась надпись Wein (Вино). Вместе со всеми я тоже во все горло орал самую популярную на этом празднике легкомысленную песенку:
Trink, trink, Brüderlein, trink!
Laβ dein Sorgen zu Haus.
Und mein Kümmel und dein Herz,
Dann ist Leben ein Scherz.
Пей, пей, братец, пей!
Оставь все заботы дома.
Пусть вино мое и сердце твое
Сделают жизнь веселой.
Поток людей с главной улицы свернул на переулок Борнберг, и мы стали медленно приближаться к источнику Гахель, самому дорогому и почитаемому месту в селе. Здесь толпилось много народу, и каждый человек хотел окропить себя священной водой из этого источника. Мы с Лизой с трудом пробрались сквозь веселую поющую толпу к источнику, чтобы тоже проделать эту традиционную и обязательную процедуру. Протянув руки к тоненькой струйке воды, я неожиданно встретился глазами с фрау Крумбайн, которая узнала меня, сделала круглые глаза и воскликнула:
– Kommandant!
А Лиза в это время нагнулась к источнику и достаточно громко проговорила: “Спасибо, святой Гахель, за твой подарок и за нашу любовь!" Я брызнул водой сначала на свое, а потом на Лизино лицо, улыбнулся в лицо знатной фрау и вместе с девушкой затерялся в толпе. А толпа веселых, возбужденных, поющих и прыгающих людей вынесла нас на площадь перед Новой кирхой, где собралась огромная масса народу, чуть ли не все село. На высоком постаменте стояла огромная, обвитая виноградными лозами бочка, из крана которой рекой лилось свежее вино. Подходи к ней любой веселый человек и пей, сколько хочешь! А вокруг нее, взявшись за руки, стояла стена из жителей села, которые покачивались из стороны в сторону и горланили слова знакомой песенки: “Trink, trink, Brüderlein, trink!”
Мы с Лизой нашли в этой цепочке людей свободное местечко и, тоже качаясь в такт песенки, горланили во весь голос: “Laβ dein Sorgen zu Haus”. Потом мы пробрались к входу церкви и проникли внутрь. Там шло богослужение. Его проводил пфаррер Алоис Хайнебродт со своим помощником. Церковь тоже была заполнена до отказа. Мы не нашли ни одного свободного места на скамейках, пришлось постоять недалеко от входа. Никто не обратил на нас никакого внимания. Простояв несколько минут в благоговейном молчании, мы вышли наружу.

ВАНИЛЯЙН И ЛИЗХЕН
Хейероде. Октябрь 1945 г.
На обороте этого снимка рукой Лизы написано:
Wenn zwei Herzen treu sich lieben,
Und dann traurig auseinander gehn,
Oh, wie selig wӓhr die Stunde,
Wenn wir uns mal wiedersehn.
Dein Lischen
Когда два сердца любят друг друга
И вот однажды должны разлучиться,
О, как блажен будет тот час,
Когда мы опять друг друга увидим.
Твоя Лизхен
В этот вечер мы с Лизой допоздна бегали по нарядным улицам Хейероде, правда, иногда забегали в какой-нибудь темный уголок, чтобы лишний раз поцеловаться, потом опять выбегали на люди и продолжали праздник. А он продолжался всю ночь напролёт. Уставшие и проголодавшиеся, когда было уже далеко за полночь, мы побежали “домой”. Я потянул ее к себе в комендатуру, а Лиза – в свой дом. Как всегда в таких поединках, победила она. Осторожно, чтобы нас никто не услышал и не заметил, мы как преступники открыли большим ключом калитку, а потом ключом поменьше – входную дверь дома, сняли у порога обувь и босиком прошлепали в гостиную, в ту самую, на первом этаже, комнату, которую Мутти приготовила для моего проживания в их доме. Об этом как-то раз мне рассказала Лиза. Боже мой, как здесь было тепло, уютно и благостно! Красивый ручной работы диван, широкая двуспальная кровать с традиционной немецкой высоко взбитой периной, тюлевые опущенные до самого пола занавески, небольшой круглый столик, накрытый расшитыми, как на Украине, полотенцами. Все, что было на столе, заботливо приготовила добрая и трудолюбивая Мутти. Столик небольшой, а еды на нем было много, я даже заметил миниатюрный графинчик с какой-то домашней настойкой.
Все яства – закуски, бутерброды, пирожные – были быстро уничтожены, а от выпитой настойки голова пошла кругом. Мы быстро по-домашнему разделись и юркнули под теплую и мягкую перину. Немецкие перины! Какая же это удобная и нужная вещь! Как мне кажется, у немцев в обиходе вообще не было одеял, во всяком случае, я их не видел, а повсюду встречались только одни перины. Если в комнате холодно, то натягиваешь на себя всю равномерно взбитую перину. Если же жарко, то весь пух одним легким движением можно стряхнуть в угол перины и тебе уже будет не так жарко под ней. Удобно? Очень.
Люди хотят счастья, но не всем оно достается. Так вот я – один из тех немногих, кому это счастье улыбнулось, досталось и не крохотным кусочком, а огромной глыбой, и не маленькими порциями, а целиком и все сразу. И эту глыбу счастья свалила на мою голову, конечно, моя Лиза. Только она одна умела так нежно, так ласково прижаться к моему плечу и молча своими тоненькими пальчиками перебирать мои плохо расчесанные волосы. А чего стоят ее откровенные разговоры и беседы со мной? Сколько мудрых мыслей и наблюдений высказала она! Вот и сейчас, тронув меня за плечо, она как-то задумчиво, по-философски проговорила:
– Знаешь, Ваня, напротив нашего дома, чуть ниже по улице есть большая каменная стена – Brandmauer. Завтра я тебе ее покажу. Так вот, во времена наци на ней большими белыми буквами было написано: “Sieg oder Sibirien” (“Победа или Сибирь”). Как я боялась тогда, что придут к нам в село русские солдаты и увезут меня в эту далекую, страшную и дикую Сибирь! Ты даже не представляешь себе, как я переживала и боялась русского солдата. Я думала, что он большой с раскосыми глазами, лохматый, как медведь, с торчащими изо рта клыками.
– Вот я и есть русский солдат, да еще из Сибири. Выходит ты боялась меня? – сказал я с усмешкой.
– Да, да, Wanilein, тебя! Какая же я тогда была глупая и доверчивая. Тебя надо любить, а не бояться! – сказала Лиза. Она повернулась ко мне и нежно поцеловала меня в самые губы. Потом приподнялась, чтобы лучше видеть мое лицо и, сидя в постели, продолжила прерванную мысль:
– А теперь? Теперь, сегодня я сама хочу ехать в Сибирь! Понимаешь, сама, ДОБРОВОЛЬНО! Конечно, только с тобой. Сибирь теперь меня не пугает и не страшит. Ваня, почему ты не хочешь взять меня с собой? Я бы там, в Сибири, все перенесла и все бы вытерпела, и стала бы тебе хорошей женой и помощницей.
“Ах, Лиза, Лиза! Какой же ты чудесный, но наивный человек! Ты, как дитя, не понимаешь, что говоришь. Ты говоришь то, что тебе хочется, не отдаешь отчета, осуществимо ли это”, – так подумал я, прежде чем ответить ей. Но в порыве нежности и признательности я схватил ее за руку, положил ее руку себе на грудь и спросил:
– Слышишь, как бьется мое сердце? Оно бьется только для тебя, только для тебя одной! И ты это знаешь! Но, но… я не могу выполнить твое желание, хотя хочу так же страстно, как и ты! Но не могу, понимаешь, Лиза?! Я солдат и что мне прикажут, то я и делаю, куда пошлют, туда и иду. Я не знаю сам, когда я буду дома и когда увижу своих дорогих родителей и сестренок. Ты знаешь, сколько времени я не видел их?
– Сколько?
– Три года! Три долгих года. За это время мои младшие сестренки стали уже девушками и даже невестами. Лиза! Ты хочешь в Сибирь, но совсем не знаешь и не представляешь себе, что это такое!
– Ваня, расскажи мне о Сибири, и я пойму и узнаю ее, – попросила меня Лиза.
– Ладно, слушай. Сибирь – это не Тюрингия, Сибирь – это серьезно! В Сибири нет каменных домов, там все сделано из дерева: и дома, и мосты, и заборы, даже ложки там тоже деревянные! Вот!
– Да?! – удивилась Лиза.
– Ты хоть раз в жизни ела деревянной ложкой? – спросил я.
– Нет, конечно. А что, это важно?
– А еще хочешь в Сибирь! Посмотри, как вы, немцы, по утрам умываетесь! Сначала в тазике моете руки, потом этой же “грязной" водой моете лицо! Ни один уважающий себя сибиряк, даже самый бедный и нищий, не станет так умываться. Он побрезговал бы. Понимаешь? У нас в Сибири для этого придумано специальное устройство, которое называется РУ-КО-МОЙ-НИК.
– Что это такое ру-ко-мой-ник? Переведи на немецкий язык, – попросила Лиза.
– Это слово русское и не переводится на немецкий язык, потому что у вас, немцев, нет этого приспособления – ру-ко-мой-ни-ка, и нет соответствующего слова. А еще хочешь ехать в Сибирь!
– Ваниляйн, милый! – взмолилась Лиза. – Почему ты сердишься и ругаешь свою Лизу? Когда я буду в Сибири, то я каждое утро буду подавать тебе полотенце и РУ-КО-МОЙ-НИК!
– Ну, что ты будешь делать с этой девчонкой?! Она одним своим этим возгласом разоружила меня, выпустила из меня зловредный дух и сделала меня опять послушным и ласковым. Я набросился на нее и стал молча и долго целовать ее лицо, шею и плечи.
– Ах, Ваня, если мне нельзя ехать с тобой в Сибирь на твою родину, тогда ты оставайся в Хейероде, на моей родине. Мы будем жить с тобой вот в этой комнате и будем счастливы, я в это верю.
– А что я буду делать в Хейероде? Ведь я еще ничего не знаю, не умею и ничему еще не научился. Я же тебе рассказывал, что в солдаты меня взяли прямо со школьной скамьи, – сказал я.
– Но ты же сам мне говорил, что когда вернешься домой, будешь учиться. Учиться можно и здесь, в Германии. Например, в Мюльхаузене есть две высшие школы (Oberschule), одна сельскохозяйственная, другая лесопромышленная. Ты можешь поступить в любую из них. Каждый день поездом будешь ездить в Мюльхаузен на учебу, а я буду каждый день ждать и встречать тебя. Через четыре года ты можешь стать или агрономом, или инженером. Я уже говорила с Мутти, она согласна. Денег на твою учебу у нас хватит.
Ах, Лиза, Лиза! Ты сама знаешь, что все это только мечты, сладкая фантазия, за которыми нет ничего реального. Но и за это тебе спасибо! Я знал, как могут быть преданными своим мужьям немецкие женщины. Примеров только из классической немецкой литературы можно привести много. Но и русские женщины тоже способны на такие же подвиги. Вспомним хотя бы жен декабристов, которые добровольно последовали за своими мужьями-арестантами на сибирскую каторгу. Лиза по природе своей и по натуре принадлежала именно к такой категории женщин, способных и готовых на самопожертвование.
Я обнял, поцеловал Лизу, поблагодарил ее за мечты, которыми не суждено сбыться, и сказал:
– Теперь давай поговорим еще об одном деле, которое меня беспокоит и волнует. Ты понимаешь, я начинаю бояться за тебя. Слушай, я здесь, в Германии, гость, точнее сказать, – оккупант. Рано или поздно…
– Лучше поздно, лучше поздно, как можно позднее… – перебила меня Лиза, догадавшись о чем я хотел сказать.
– Да, да, рано или поздно, но я все равно уеду отсюда и вернусь к себе домой, на свою родину. Ты же, Лиза, останешься здесь, в Хейероде. Здесь твой дом, здесь твоя родина и после нашей разлуки, после нашей вынужденной разлуки, тебе здесь жить и трудиться. Скажи, как на тебе отразится твоя связь со мной, с русским солдатом? Я и ты на виду у всех, наши отношения мы не скрываем, мы ведем себя как жених и невеста. Нет, я ошибся, теперь уже как муж и жена. Это видит и это знает каждый житель села, к тому же еще Анна подсматривает за каждым нашим шагом, регистрирует каждый наш поцелуй.
Как всегда, прежде чем сказать что-то важное, значительное, Лиза обязательно заглядывала мне в глаза. Так и сейчас она приподнялась на локтях, окинула меня внимательным взглядом и сказала;
– Спасибо тебе, Ваня, что ты думаешь обо мне, заботишься о моем будущем, о моей дальнейшей судьбе. Я уже говорила тебе, что перед Богом мы действительно муж и жена, наши чувства чисты, искренни и глубоки, и нам обоим нечего стесняться и стыдиться их. А перед людьми? Все люди разные, у них разные взгляды на наши с тобой отношения. Одни уже сейчас осуждают меня, считают, что у нас с тобой пошленькая интрижка, а потому, когда тебя не будет рядом со мной, и меня некому будет защищать, они в открытую будут ненавидеть меня, презирать и даже травить. Среди них окажется и Анна Хольбайн. Но я не боюсь их, потому что в моем сердце останешься ты, останется наша любовь, которая поможет мне все вытерпеть и перенести. Другие видят и понимают, что у нас с тобой большая, настоящая любовь, и многие из них уже сейчас завидуют мне. Но они все равно мне не союзники. Когда первые будут меня откровенно терроризировать, эти вторые не встанут на мою защиту, они будут молчать.
Замолчала и Лиза. Но это ее молчание длилось недолго, и она снова продолжила разговор в спокойной и рассудительной манере:
– Не все умеют любить, как ты любишь меня. Люди жестоки, они сделали мир таким, в котором не нашлось места для нашей любви, для наших чувств. Любовь наша не вписывается в их рамки, она сначала будет выброшена за борт жизни, а потом будет уничтожена. Вот мой ответ на твой справедливый вопрос.
Она опять замолчала, молчал и я, обдумывая ее справедливые и даже мудрые слова. Мне нечего было ей возразить или дополнить ее слова.
– Слушай, Ваниляйн, – после продолжительного молчания опять заговорила Лиза, – почему ты, русский парень, полюбил меня, немецкую девушку? Разве в России нет красивых и обаятельных девушек?
– Почему нет? Есть, конечно. В России, и особенно у нас в Сибири, много, даже очень много не только красивых, но даже прекрасных девушек и женщин. Я же просто не успел ни в кого влюбиться. Вот уже четвертый год, как я одет в солдатскую шинель. Сначала военное училище, потом фронт, бои и сражения, а вот сейчас Хейероде и ты!
Ни слова не говоря, я вытащил из кармана не так давно полученную из дома фотокарточку и протянул ее Лизе:
– Это моя младшая сестренка Галя. Ей сейчас 16 лет. Она, как мне кажется, типичная русская красавица.
Лиза долго и внимательно рассматривала эту фотокарточку и потом сказала:
– Да, твоя сестра действительно красива, даже по нашим немецким стандартам. Она похожа на одну известную артистку, имя которой я не могу вспомнить.
Когда на востоке забрезжил рассвет, мы обнялись, плотнее прижались друг к другу и заснули глубоким безмятежным сном, сном двух младенцев. Пожалуй, это был один из самых, если не самый счастливый день в моей длинной и сумбурной жизни.
5. Что сказал Вюрфель
В последний день октября под вечер ко мне в комнату вбежала Лиза, расстроенная, с испуганными глазами, и бросилась мне на шею: “Wanilein, mein Wanilein!”
– Что случилось? Говори! – встревожился я не на шутку.
Лиза подняла на меня заплаканные глаза и сказала:
– Пришел конец нашему счастью, вы уходите!
– Кто уходит? Куда? – переспросил я, еще ничего не понимая из ее слов.
– Твой полк уходит из Хейероде обратно в Саксонию!
– Не может быть! Кто тебе это сказал? Я комендант и ничего не знаю!
– Ты не знаешь, а все село знает, сказала Лиза, порывисто беря меня за руку.
Я посадил ее на диван и побежал в комнату дежурного телефониста, чтобы позвонить в штаб. А телефонист уже забросил за спину отключенный телефонный аппарат и весело пояснил мне:
– Есть приказ сматывать удочки. Телефонная точка здесь ликвидируется, как и сама комендатура.
Огорченный и смущенный, я выскочил в коридор и увидел стоящую в полураскрытых дверях своей комнаты Анну Хольбайн, которая смотрела на меня с еле скрываемой насмешливой улыбкой. Ничего не сказав, я проскочил мимо.
Вместе с Лизой я побежал в штаб полка. На мой негодующий вопрос старший лейтенант Дунаевский спокойно и невозмутимо ответил:
– Извини, забыли тебя предупредить, что завтра утром снимаемся и уходим. Сдай все дела бургомистру и приходи в штаб, ты переведен в мое распоряжение.
Я выбежал на улицу, где ждала меня Лиза, и сказал ей:
– В нашем распоряжении всего одна ночь.
– Mein Gott! Всего одна-единственная ночь? Я все время ждала эту страшную минуту, но не думала, что она придет так быстро.
С бургомистром я рассчитался легко и скоро, попросил его вместо возвращаемого мною мопеда подарить мне дорожный велосипед, что он немедленно исполнил. Чтобы не терять понапрасну бесценные минуты, отведенные судьбой нам с Лизой на прощание, я не пошел ужинать в офицерскую столовую, находящуюся на другом конце села. Мы с Лизой заперлись в моей, уже теперь бывшей, спальне и стали прощаться. Около полуночи кто-то постучал к нам в двери. Это была Анна Хольбайн.
– Извините меня, я знаю, что вы оба голодны и что у вас нет даже кусочка хлеба. Так выпейте хоть по чашечке кофе, – сказала она и без приглашения прошла в комнату, поставив на стол поднос с едой, чашками и горячим кофейником.
– Спасибо, Анна, я знал, что вы душевный человек. Мы не забудем ваше внимание и заботу о нас. А где Инга?
– Инга спит.
– Скажите ей, что она хорошая девочка и что Onkel Wanja любит ее.
– Она знает об этом.
Когда Анна ушла, я сказал:
– Даже у этого нелюбящего нас человека дрогнуло сердце при виде наших страданий.
– Я знаю, что Анна добрая женщина, но она очень завистлива, и зависть портит ее.
Сейчас – а это почти через пятьдесят лет, прошедших с момента описываемых событий – мне трудно вспомнить детали и подробности нашей печальной прощальной ночи, но все же скажу, ЧТО было главной нашей тревогой и заботой. А главной нашей заботой было, конечно, желание знать, ЧТО ждет нас впереди, ЧТО будет с нами в ближайшем будущем, ЧТО будет с нашей любовью, когда мы расстанемся навсегда, увидимся ли мы в этом мире хотя бы еще один раз? Чтобы получить ответы на эти и на другие подобные вопросы, мы с Лизой прибегли к старинному, и, пожалуй, единственному средству, которым всегда пользовались и сейчас продолжат пользоваться влюбленные всех стран и народов, к – ГАДАНИЮ. Я коммунист – и я на самом деле не верю ни в какие приметы и суеверия, но сейчас, когда решается сама судьба нашей жизни, нашей любви, нашего будущего, я поступился своими принципами и вместе с Лизой включился в эту сентиментальную игру. В качестве предмета для гадания мы решили использовать обыкновенный шестигранный кубик, который по-немецки называется der Würfel (Вюрфель). Мы им пользовались и раньше, когда в свободное время играли в различные настольные игры.
Прежде всего, мы решили с помощью Вюрфеля узнать, сколько раз мы еще встретимся после нашей завтрашней разлуки. Но мы еще точно не знали, куда перебрасывается наш полк: или он возвращается на родину, в Советский Союз, или на какое-то время остается в пределах Германии. Поэтому мы решили сделать два гадания, два ответственных броска кубика Würfel-1 (Вюрфель-1) – это на тот случай, если наш полк (и я вместе с ним) переместится из Хейроде в другое место, но в пределах Германии, и Würfel-2 (Вюрфель-2) – на случай, если наш полк сразу и навсегда покинет ее. Первый решающий бросок должна была сделать Лиза. Она в качестве тренировки несколько раз бросила игральную кость-вюрфель на стол и каждый раз на нем выпадали разные очки-цифры. Наконец наступила решительная минута. Лиза взяла в руки кубик и, глянув на меня, сказала: “Загадываем на Вюрфель-1” и бросила на стол игральный кубик. Но бросила так неудачно, с излишней силой, что он прокатился через весь стол и упал на ковер. Лиза ахнула, и мы оба полезли под стол искать его. Лиза первая увидела его и, не дотрагиваясь до него, восторженно крикнула:
– Смотри, вот он!
Я тоже увидел кубик, но из-за темноты не смог разглядеть какая выпала на нем цифра.
– Vier! (Четыре!), – воскликнула Лиза, когда она вылезла из-под стола с кубиком в руках.
– Четыре! – сказал я, обрадованный, принимая кубик из ее рук. Это означает, что мы еще до моего отъезда в Советский Союз четыре раза встретимся друг с другом. Четыре раза! Это очень много. Радости нашей не было конца. Лиза еще раз взяла в руки этот кубик-костяшку, крутила и вертела его в руках и радовалась как ребенок. Я тоже поддался этому настроению, всячески выражал чувства восхищения, но каким-то внутренним чутьем понимал, что все это игра и не более. Потом Лиза подошла ко мне и предложила:
– Давай дополним предсказание Würfel-1 нашим обещанием писать друг другу письма один раз в неделю.
– Я согласен! – откликнулся я немедленно.
– Нет, я сказала не так, давай будем писать письма не раз в неделю, а не реже одного раза в неделю. Согласен?
– А можно писать каждый день? А?
– Можно, – с улыбкой ответила Лиза. – Немецкая почта сейчас работает четко, значит, я буду получать от тебя часто письма. Как только обживешься на новом месте, так сразу же напиши мне, и я в этот же день поеду к тебе. Запомни это.
Настало время второго решающего броска. Сейчас мы узнаем, сколько раз мы встретимся после моего возвращения в Советский Союз. Лиза протянула мне шестигранный кубик-вюрфель со словами:
– Бросай теперь ты!
Я взял кубик, несколько раз переложил его из одной руки в другую и расчетливо бросил на стол. Кубик прокатился по гладкой, отполированной поверхности стола и замер почти на его середине. На верхней грани кубика отчетливо обрисовалось одно-единственное белое пятнышко.
– Eins! (Один!) – радостно воскликнула Лиза, хватая кубик в свои руки и бросилась ко мне на шею. – Мы встретимся еще один раз в этой жизни!
Мы обнялись и потом слились в страстный продолжительный поцелуй. Несмотря на такое, казалось бы, удачное решение нашей общей судьбы, настроение у нас все же было подавленным и удручающим. Завтра, нет, уже сегодня мы расстаемся. Лиза, моя бедная Лиза, не находила себе места. Что бы мы ни делали, чем бы мы ни занимались, как ни утешали бы друг друга различными хорошими, но нереальными посулами и обещаниями, мысль, что вот-вот расстанемся, отравляла наши души.
Наступил рассвет. Перед тем, как навсегда покинуть помещение бывшей комендатуры, мы с Лизой еще раз обнялись и крепко-крепко поцеловались. Я отвел Лизу в ее дом, упросив ее оставить у себя радиоприемник, подаренный мне бургомистром ко дню рождения. Зачем он мне? Что я буду с ним делать? Я также передал ей все свое жалование за три последних месяца, конечно, в оккупационных марках, а это набралось несколько тысяч.
– Возьми, это тебе на дорогу, когда поедешь ко мне.
Последний поцелуй – и моя Лиза скрылась в калитке дома, а я через все село потащился в штаб полка, который уже был поднят на ноги.
Утром 1 ноября 1945 года наш полк выступил в поход и навсегда покинул Хейероде. Груженые повозки со скрипом потянулись вверх по главной улице села. Автомашины есть, и они загружены штабными документами и имуществом. Я иду вместе с капитаном Евгением Федоровым, и оба мы катим рядом с собой дорожные велосипеды, теперь это наш основной транспорт. Прошли через главную площадь, на крыльце своей конторы стоял бургомистр со своим болезненным помощником и молча наблюдал за передвижением наших подразделений. О чем он сейчас думал, сказать трудно, но меня он не заметил. Прошли мимо бывшей комендатуры, и я бросил последний взгляд на ее окна, за которыми было столько счастливых и радостных минут. Начался крутой подъем в гору по улице Bahnhofstrasse (Вокзальной), и мы с Женей Федоровым стали приближаться к заветному для меня двухэтажному дому под номером 18. Чем ближе мы подходили, тем чаще стучит мое сердце и не из-за крутого подъема, а совсем по другой, более важной причине. Вот и знакомая калитка. Замечаю, что она слегка приоткрыта, и в ее проеме мелькнула неясная тень. Лиза! Вместе с велосипедом я бегом преодолел несколько метров подъема, разделявшего нас, и в один миг оказался в объятиях Лизы.
– Wanilein, mein Wanilein! – шепчет она, покрывая мое лицо градом горячих поцелуев. Все произошло быстро, скоротечно, так что многие бойцы, кто случайно мог увидеть эту сцену, так и не поняли, что произошло на самом деле. Подарив мне последний самый жаркий поцелуй, Лиза скрылась за калиткой, вбежала на второй этаж и выглянула из окна той самой комнаты, в которой я увидел ее впервые. Там же из окна смотрели на движение наших войск Лизины сестры и сама Мутти. Они сверху хорошо видели меня, видели, как я влился в общий поток войск. Пройдя несколько десятков метров, я обернулся, еще раз увидел Лизу, стоящую в окне, стараясь запомнить ее образ на всю свою жизнь. Остались позади последние дома Вокзальной улицы, проходим мимо Курхауза – местной гостиницы, которая расположена в красивом месте, здесь мы с Лизой тоже гуляли подолгу. Прошли под узкой аркой Гренцхауза, самого старинного здания Хейероде, тоже памятного места для нас с Лизой. Под этой аркой я ни один раз проносился на большой скорости, когда ездил на мопеде по служебным делам в Мюльхаузен. По левую руку вижу в глубине леса железнодорожный вокзал Хейероде, на котором мы с Лизой встречали Мутти, когда она с тяжелыми чемоданами и сумками возвращалась из очередной поездки из Плауэна или Рудольштадта. Прощай, Хейероде, прощай, родное село моей Лизы, которое за это короткое время стало мне таким же дорогим и близким, как и моя родная сибирская деревушка. Прощай, Мутти, добрая, заботливая, любящая своих детей женщина. Прощайте, Гюнтер, Гертруда, Эрна, и прощай, маленький Хорсти, белокурый весельчак и балагур. Прощай и ты, моя дорогая и любимая Лиза, прощай моя любовь, мое кратковременное счастье. Увижу ли я тебя когда-нибудь еще раз?!

”Остались позади последние дома Вокзальной улицы…”
Совершив двухсоткилометровый марш, наш полк оказался опять в Саксонии, в тех же самых местах, откуда он вышел летом 1945 года на оккупацию Тюрингии. Штаб дивизии, как и раньше, расположился в городе Dommitzsch (Доммитч), а полк наш, если раньше размещался в селе Шкена, что в 25 км от Доммитча, то теперь в воинских лагерях в селе Дреблигар, что в 3 км от Доммитча. Городок этот стоит на Эльбе северо-западнее Торгау, около которого произошла первая встреча американских и советских войск. Как только я убедился, что в этих лагерях мы расположились надолго, так сразу написал письмо Лизе и опустил его в почтовый ящик в городе Доммитч. А оказался я там потому,
что на второй день пребывания в полку в лагерях Дреблигара меня временно прикомандировали в качестве переводчика к особому отделу дивизии, который работал в здании комендатуры Доммитча, куда я ездил на велосипеде. Особый отдел, или отдел СМЕРШ (смерть шпионам), – это КГБ в армии.
В первый же день своей новой службы в качестве переводчика я участвовал в допросе одной арестованной немецкой девушки. Вот краткое изложение этого допроса, который вел работник особого отдела в звании майора:
– Ваше имя, фамилия и место рождения?
– Эдит Краузе, родилась в Кельне.
– Возраст?
– Девятнадцать лет.
– Вы были арестованы в Минске. Каким способом вам удалось нелегально, без визы, пересечь две государственные границы и оказаться на территории Советского Союза?
– Я ехала в воинском эшелоне, в котором кавалерийская часть возвращалась из Германии в Советский Союз.
– Как вам, гражданскому лицу другого государства, удалось пробраться в воинский эшелон и продолжительное время находится в нем?
– Я ехала в вагоне, до самой крыши набитом сеном. Это сено предназначалось для кормления лошадей. Я пряталась в этом сене.
– Кто вам помог спрятаться в этом вагоне и кто вас снабжал продуктами питания на всем пути следования?
– Лейтенант Михаил Соколов, командир взвода кавалерийского эскадрона.
– С каким заданием вы пробрались в Советский Союз и кто вам его дал?
– У меня не было никакого задания. Я и Михаил любим друг друга, хотим пожениться, создать семью. Михаил обращался к русскому генералу за разрешением на наш брак, но получил категорический отказ. По русским законам русский офицер не имеет право жениться на немецкой девушке. Тогда Михаил решил тайно увезти меня на свою родину в деревню к своим родителям, где я должна была подождать, когда выйдут новые законы, по которым мы с Михаилом смогли бы соединить свои судьбы. Скажите, где мой Михаил? Вы его арестовали? Он ни в чем не виноват! Разве можно арестовывать за любовь?
– Сколько времени вы собирались пробыть в Советском Союзе?
– Всю жизнь! Поймите, мы любим друг друга и хотим быть вместе. Разрешите нам быть вместе, больше нам ничего не нужно.
Я сразу понял, что неизвестный мне, но уже уважаемый мною лейтенант Михаил Соколов и вот эта растерянная и подавленная арестом и насильственной разлукой немецкая девушка, никакие они не шпионы и не диверсанты, какими их хотят представить особисты, а самая обыкновенная влюбленная парочка, такая же, как и мы с Лизой. Но в отличие от нас, они как могли и умели боролись за свое счастье, за свое будущее.
На другой день я присутствовал еще на одном допросе. На этот раз допрашивались одновременно оба “виновника”. Получив отказ на регистрацию своего брака с немецкой девушкой, русский офицер снял с себя советскую воинскую форму, переоделся в гражданский костюм и затерялся среди родственников своей невесты. Его нашли, арестовали и вот сейчас ведется следствие по этому делу. Его невеста заявила, что она беременна и согласна на любые условия лишь бы жить с ним вместе, хоть в Германии, хоть в России.
Из рассматриваемых дел я узнал, что самым типичным “преступлением” наших офицеров, получивших отказ на регистрацию брака с немецкими девушками, был переход их в западные зоны оккупации, в основном в американскую. Боже мой, сколько советских офицеров решилось на такой отчаянный шаг, и мне стало стыдно за себя, что я, как баран, безропотно подчиняюсь кем-то заведенному порядку и еще не ударил палец о палец в защиту своей любви, в защиту своего счастья. Нет и не было никаких причин и серьезных доводов в мое оправдание.
На третий или четвертый день моей работы в особом отделе дивизии, дежурный вызвал меня в коридор и предупредил, что у входа меня ожидает какая-то девушка. Я быстро набросил на себя шинель и в тревожном предчувствии выбежал на улицу. У входа в комендатуру стояла Лиза! Моя Лиза! Это было так неожиданно, что я не поверил своим глазам. Как только она увидела меня, так мгновенно сорвалась с места и бросилась мне на шею, и мы оба застыли в объятиях друг друга. В таком неподвижном оцепенении, как мне показалось, мы молча простояли целую вечность. Появление Лизы для меня было так неожиданно, так неправдоподобно, что я боялся, не мираж ли это и что если я сейчас расцеплю свои руки, то она мгновенно исчезнет, как привидение. И все-таки я решился нагнуть ее голову и заглянуть в ее порозовевшее от холода лицо, которое сияло от радости, а на ее черных ресницах алмазом блестели замерзшие слезинки.
– Лизхен! Каким чудом ты оказалась здесь? Ведь ты еще не успела получить моего письма? – воскликнул я, не спуская своих глаз с ее улыбающегося и счастливого лица.
– Идем! – сказала она вместо ответа и взяла меня под руку.
– Куда мы идем? – спросил я, шагая рядом с ней по улицам Доммитча. По дороге она рассказала удивительную историю. Оказывается, Доммитч – родной город Гертруды Рихтер, подруги Павла Крафта. Вчера вечером Лиза увидела Павла в Хейероде, который и сообщил адрес Гертруды в Доммитче и место моего нахождением в нем. До отхода вчерашнего вечернего поезда из Хейероде оставались считанные минуты, но Лиза, бросив все дела, успела-таки сесть на него и сегодня утром приехала в Доммитч.
– Я ничего не успела взять с собой, у меня даже нет денег на обратную дорогу. Разрешение на проезд у меня уже было, я его получала заранее, но только в Галле. Но вместо Галле я приехала сюда.
– Ничего, мы все устроим и уладим, – успокаивал я ее, не выпуская из своих рук ее руку. – А куда все же мы идем?
– В Молькерай. Там работает Гертруда Рихтер оператором по разливу молока и там для нас с тобой есть уже комната. Это недалеко отсюда, у вокзала, – пояснила мне Лиза.
Die Molkerei – это молочное предприятие, молочный магазин, склады, контора и жилые помещения владельца этого предприятия – все под одной крышей. Здесь нас встретила улыбающаяся Гертруда в белом халате и в кокетливой белой косыночке на голове. Как старых знакомых, по немецкому обычаю, она поцеловала нас обоих и провела в одну из жилых комнат.
– Эту комнату я временно передаю в ваше распоряжение, – сказала она, открывая дверь. И когда мы вошли в нее, она прибавила: – Завтра здесь будет Павел.
Когда мы остались одни, когда мы насытились поцелуями и ласками и уселись на диван, Лиза сказала:
– Вот видишь, Ваня, мы с тобой снова вместе. Würfel не подвел, не обманул нас. Почему ты молчишь? Ты не рад нашей встрече?
– Слушай, Лиза, – сказал я, пропуская ее слова мимо ушей, – ты смогла бы ехать в товарном вагоне одна, спрятавшись в куче сена?
С лица Лизы мгновенно слетела улыбка, она быстро вскочила на ноги, потом присела на корточки, чтобы лучше рассмотреть мое лицо и воскликнула:
– Ваниляйн, ты решил взять меня с собой в Россию? – и не дожидаясь моего ответа решительно заявила: – Я готова ехать с тобой хоть на край света. Только скажи!
– Нет, ты не поняла меня. Я спрашиваю, смогла ли ты одна без меня ехать в холодном вагоне и спать на куче сена?
Лиза еще раз внимательно посмотрела на меня, отошла к зеркалу, долго перед ним поправляла прическу и с наигранным безразличием сказала:
– Ни за что на свете!
– Почему, Лиза?
– Потому что я с детства боюсь темноты! С тобой поеду хоть куда, без тебя же не сдвинусь с места.
Я подошел к ней, страстно поцеловал ее в губы и подробно рассказал ей все, что знал и слышал в особом отделе.
Я рассказал, как влюбленные русские офицеры и немецкие девушки, такие же, как и мы с ней, борются за свое счастье, добиваются по закону регистрацию брака, готовы вынести любые тяготы и невзгоды ради того, чтобы навсегда быть вместе.
– Я, наверное, не такой, как они, я ничего не делаю для нашего с тобой счастья и, видимо, я его не заслуживаю, я плыву по течению и не делаю ни одного движения, чтобы пристать к нашему берегу счастья. Ты вправе меня презирать и даже ненавидеть, – так я закончил свою покаянную речь.
Пожалуй, это была у нас первая и единственная размолвка. Я не знаю, что обо мне раньше думала Лиза, но она никогда ни в чем не упрекала меня. И на этот раз сегодня она опять продемонстрировала свою женскую выдержку и мудрость. Она сказала:
– Ваня, делай так, как подсказывает тебе твое сердце, и не смотри на окружающих и не смотри даже на меня. Да, я хочу быть с тобой, согласна ехать с тобой хоть на край света и поеду по первому твоему зову, но решать этот вопрос должен ты, ты один! Сейчас в Германии много, очень много немецких девушек желают выйти замуж за русских офицеров и поехать с ними в Россию, но все они остаются в Германии, так как их русские мужья не могут взять их с собой. Кое-кто из них вступает в конфликт с властями, и противоборство это, как ты сам рассказываешь, тоже ничего не дает, кроме лишних бед и несчастий. Ваня, делай так, как ты считаешь нужным. Ты – мой муж, мой господин, я согласна и готова на все.
На другой день, действительно, объявился Павел Крафт, и у нас вечером в Молькерайе состоялся маленький праздник. Мы все уговорили Лизу, что ей надо немедленно ехать в город Галле к старикам Бельман, это свекор и свекровь ее сестры Гертруды, которым требуется ее помощь. Лиза согласилась, но с условием, что я обязательно приеду в Хейероде еще в этом месяце, то есть в ноябре 1945 года, а Павел поможет, как и обещал, организовать эту поездку. Через день Лиза уехала в Галле. Мы с Гертрудой Рихтер проводили ее на вокзал и посадили в проходящий поезд. Из города Галле она вернулась домой.
В особом отделе дивизии я работал недолго, так как там появился новый переводчик – мой друг Виктор Кирсанов, и я был отозван в свой полк. Как раз в это время весь личный состав нашей дивизии награждался медалями “За взятие Берлина", и я был задействован на выписке удостоверений к ним. Работа ответственная, нужная, но очень нудная. Воспользовавшись случаем, я собственной рукой выписал себе это удостоверение. Но, несмотря на большую нагрузку, Павел сумел выхлопотать мне разрешение на поездку в Хейероде. 22 ноября 1945 года, получив сухой паек на четыре дня и командировочное удостоверение, я сел в кабину старенькой “полуторки" и помчался по немецким асфальтированным дорогам через всю Тюрингию. Мимо проносились аккуратные немецкие села и города с красными черепичными крышами. В этот же день поздно вечером, проскочив под аркой Гренцхауза, мы въехали в село, которое стало для меня дорогим и желанным. Шофер притормозил около Лизиного дома, и я выскочил из кабины. На втором этаже в окне промелькнула быстрая тень. Конечно, это была Лиза. Мы снова встретились с ней у заветной калитки ее дома.
– Я целый день сидела у окна и ждала тебя, – сказала она, осторожно придерживая меня за руку. Пройдя через прихожую, я снова оказался в гостиной, в той самой комнате, которую Мутти когда-то приготовила для меня. – Теперь здесь живу я в память о тебе и о нас с тобой. Перебралась с первого этажа. (У европейцев тот этаж, который мы называем вторым, считается первым.) Тише, в доме все спят, – Лиза осторожно бесшумно открыла дверь.
Она включила свет, и я вновь увидел эту комнату, в которой мы с Лизой провели немало счастливых дней и ночей. В ней ничего не изменилось. Все тот же кустарного производства старенький диванчик, широкая кровать с многочисленными подушками и подушечками, небольшой круглый столик, и я понял, что Лиза постаралась сохранить ту обстановку и расстановку мебели, которая была при мне. И в то же время я обнаружил некое новшество – на стене над кроватью в застекленной рамке висел портрет молодого улыбающегося человека. Это был мой портрет…
Утром следующего дня за мной заехал шофер “полуторки” и мы уехали с ним в село Фалькен, где провозились целый день, но работу выполнили, погрузили в кузов полуторки и закрепили торсами мотоцикл BMW с коляской. Я был молодым неопытным солдатом, но и тогда понимал, что наши большие командиры, не стесняясь, так же, как и американцы, делали свой бизнес, правда, называли его по-другому и мягче. Конечно, вот этот добротный трехколесный мотоцикл уйдет в Союз в качестве чей-то собственности. Я уговорил шофера остаться в Хейероде еще на одну ночь, и он охотно согласился, так как у транспортной роты здесь в Хейероде существовал настоящий заезжий двор со стоянкой автомашин и комнатой отдыха для водителей.
Из машины я вышел на Центральной площади села и торопливо вбежал в помещение бывшей комендатуры. Дверь открыла сама Анна Хольбайн, которая была искренне рада моему появлению и никак не хотела отпускать меня, не угостив традиционной чашечкой кофе. Но я спешил, категорически отказался от кофе и спросил: “Где Инга?”
– Она в гостях у моей младшей сестры Хедвиг. Она заплачет, когда узнает, что Onkel Wanja был у нас, и она не видела его.
В доме Вальдхельмов царило радостное оживление. Все члены большой семьи были в сборе, за исключением Гюнтера, который уехал в Мюльхаузен для поступления на работу. Когда я вошел в прихожую, Лиза быстро сбежала по лестнице со второго этажа и на глазах всех своих домочадцев поцеловала меня. Потом ко мне подошла Мутти и тоже по-матерински поцеловала меня в щеку. Мутти, как мне казалось тогда и как мне кажется сейчас, была идеальной хозяйкой большого и дружного семейства. У нее не было любимчиков, если, конечно, не считать маленького Хорсти. Для каждого она находила нужное ласковое слово, проявляла заботу и давала простые, правильные и ненавязчивые советы. Меня она не только любила, но давно считала членом своего многочисленного семейства.
В столовой был накрыт большой праздничный стол. На этот раз я сидел рядом с Лизой и не опасался что-нибудь опрокинуть или перевернуть. Напротив нас с Лизой, поближе к выходу сидела Мутти, по левую сторону занимали свои места Эрна и Труди, а справа от нас сидели мой дружок Хорсти и пожилая незнакомая мне дальняя родственница, приехавшая в гости из города Плауэн.
В углу комнаты стоял мой радиоприемник, из которого доносилась тихая музыка. Шутки, смех, веселые возгласы не смолкали весь вечер. Вдруг Лиза встрепенулась, выключила радиоприемник и завела патефон. К моей радости комната наполнилась знакомой и любимой мелодией песенки-танго:
Schenk mir dein Lӓcheln, Maria!..
Я знал, что в их семье не было патефона, значит Лиза на время одолжила его у кого-то из соседей. По немецким обычаям брать что-либо взаймы у соседей считалось неприличным и даже унизительным занятием. Но Лиза пошла на это, пошла с единственной целью – сделать мне приятное. И на этот раз семейный праздник удался, тем более что Лиза показала мне письмо от своего старшего брата Хорста, который писал, что в начале следующего, 1946, года он, вероятно, вернется домой из плена. А мы с Лизой теперь не так остро переживали мой отъезд из Хейероде, так как уже приспособились к новым обстоятельствам, к новым условиям.
Рано утром, когда я еще валялся в постели, за окном прозвучал продолжительный автомобильный гудок. Это был сигнал мне. Я быстро оделся, поцеловал Лизу, выскочил на улицу и сел в кабину “полуторки”. На этот раз наше расставание было не таким печальным и драматичным, как раньше, потому что мы договорились, что Лиза приедет в Доммитч на встречу Нового года.
Действительно новый, 1946, год мы встречали в том же составе, что и мой день рождения, только не в комендатуре Хейероде, а в Молькерайе Доммитча. Это Евгений Федоров, Александр Дунаевский, Павел Крафт и я. Хозяйкой праздника была не Лиза Вальдхельм, а Гертруда Рихтер. Музыка, танцы, обилие конфет для наших девушек, цветы и сами девушки были украшением новогоднего праздника. Именно здесь в городке Доммитч на встрече нового, 1946, года я впервые узнал и попробовал шампанское. До этого времени я только читал и слышал из разговоров о существовании такого вина, но видеть и тем более пробовать не доводилось. Наш всемогущий Павел Крафт на этот раз превзошел себя: стол ломился от дефицитных вин и закусок. Вдруг с бокалом вина поднялся Александр Дунаевский и провозгласил тост за дружбу между советским и немецким народами. Конечно, его все поддержали. Но когда он сказал, что получен приказ об эвакуации нашей дивизии из Германии и назвал дату – 1 февраля 1946 года, то все присутствующие замерли с раскрытыми ртами. Лиза бросилась ко мне, как бы ища у меня защиту, и мне пришлось успокаивать ее и себя самого следующими словами:
– Лиза, не расстраивайся, у нас с тобой еще целый месяц! Это много, даже очень много!
На этот раз Лиза прожила в Молькерайе десять дней. Все эти десять счастливых дней мы были вместе. Я работал в штабе полка делопроизводителем, занят был только днем, а вечер и вся ночь оставались в нашем распоряжении. Из Дреблигара в Домитч и обратно я ездил на велосипеде, подаренном мне бургомистром Хейероде. Перед отъездом Лизы Павел Крафт пообещал ей организовать мне еще одну поездку в Хейероде и даже назначил дату – 15 января 1946 года. Когда Лиза вернулась домой, то между нами завязалась оживленная переписка. Письма Лизы за это время у меня сохранились до сегодняшнего дня. Вот краткие выдержки из некоторых ее писем за январь 1946 года:
10 января 1946 года. Хейероде.
“Мой наилюбимейший Ваня!! Много-много приветов и поцелуев отсюда шлет тебе твоя Лизхен. В 4 часа сегодня я была уже дома. Я искренне обрадовалась, когда увидела свое родное село Хейероде. Мутти сделала большие глаза, когда я открывала двери. У нас все по-старому, кроме того, что маленький Хорсти болеет, но он скоро встанет. Сейчас я сижу за столом вместе с Труди, она тоже пишет письмо родителям своего мужа в Галле. Ты должен знать, что всегда чувствую себя лучше с ней, чем с Эрной. Три недели пройдут быстро, и я опять буду с тобой. Ваниляйн, мой любимый Ваниляйн! Сейчас уже восемь часов вечера, в это время вчера я была в твоих объятиях и мои губы сливались с твоими в бесконечном поцелуе. Ты и только ты есть мой любимый муж, Ваниляйн!”

Фрагмент письма Лизы от 16 января 1946 года
11 января 1946 года. Хейероде.
“Вчера вечером мой старший брат Хорст вернулся из английского плена. Радость была большой, когда он неожиданно постучал в двери. Ты можешь представить себе, что сейчас творится в нашем доме. Для моего полного счастья на этом празднике не хватало только тебя, мой любимый Ваниляйн!”
13 января 1946 года. Хейероде.
“Мой любимый Ваня!! Так как сегодня воскресенье, я скучаю и все мои мысли только о тебе. Я постоянно, каждый день жду и мечтаю получить от тебя несколько строчек. Но, увы, все напрасно. Может быть, получу твое письмо завтра? Ты даже не знаешь, какую большую радость приносит каждое твое письмо, даже каждая твоя маленькая записка. Может быть, на этой неделе ты приедешь ко мне? Я страстно жду тебя, мой любимый, мне сейчас очень хорошо, так как я надеюсь на тебя и только тебя желаю. Остаюсь твоей. Лиза.”

Очередная весточка от Лизы
16 января 1946 года. Хейероде.
“…Вчера вечером я весь день пролежала в кровати, мне было плохо. Но сегодня мне уже гораздо лучше. Вчера я все время надеялась, а вдруг ты приедешь! Как я ни прислушивалась, но так и не услышала шума автомобиля. Ваня, 1-го февраля я снова буду с тобой, Ванечка. Пиши мне как можно чаще!”
19 января 1946 года. Хейероде.
“…У нас в Хейероде в доме все по-старому, только стало страшно холодно. Я по-настоящему опасаюсь, что из-за этого может сорваться моя поездке к тебе. Я написала тебе семь писем, получил ли ты их?”
25 января 1946 года
“Я не могу понять, почему твои родители возвращают обратно твои письма. Это из-за меня? Ах, Ваня, чем бы я могла помочь тебе? Ты мне все расскажешь, когда мы снова встретимся. Пожалуйста, ты пока больше не пиши мне сюда, потому что я скоро поеду к тебе. Твоя, только твоя, навеки твоя Лизхен”.
Мои письма из дома возвращались мне тогда не из-за Лизы, а потому что мои родители переехали на постоянное место жительства с Центральной усадьбы Енисейского совхоза “Овцевод” в город Минусинск, а я об этом ничего не знал и свои письма продолжал слать по старому адресу.
31января 1946 года Лиза опять приехала в Доммитч.
– Когда уезжаете? – был ее первый вопрос-возглас при нашей встрече на вокзале.
– Ничего пока не известно. Нет вагонов, наш полк готов к погрузке, штаб давно свернул всякую работу и я свободен.
Началась обычная волокита с подачей вагонов. Их не подали ни 1-го, ни 2-го, ни 3-го февраля. Павел Крафт, Евгений Федоров и еще несколько офицеров тоже перебрались в Молькерай, так как это молочное предприятие находилось рядом с железнодорожной станцией, откуда отправлялись все раньше ушедшие эшелоны.
Однако, у нас с Лизой в Молькерайе была своя небольшая комнатка, в которую мы никого не пускали. Каждый день отсрочки мы принимали как подарок судьбы. Мы неотлучно, день и ночь, находились вместе друг с другом и без конца обнимались и целовались, так как понимали, что идут последние часы нашего счастья, отпущенные суровой судьбой. Нам предстояла длительная разлука, скорее всего, разлука на всю жизнь. Однако Лиза хваталась за каждую соломинку, за каждую примету, чтобы убедить себя и убедить меня в обратном. Она убежденно говорила:
– Ваня, ты не будешь отрицать, что предсказания Вюрфеля-1 сбылись. Он предсказывал четыре встречи после твоего отъезда из Хейероде, и мы на самом деле ровно четыре раза уже встретились. Ты помнишь, что Вюрфель-2 предсказывал нам еще одну встречу уже после твоего отъезда из Германии, и я уверена, что и эта встреча состоится!
Я верил, и она верила, что и эта встреча обязательно состоится, так как без этой веры нам невозможно было жить дальше. Мы обещали друг другу всю жизнь независимо от времени и от расстояний любить друг друга и при первой возможности писать письма. А Лиза в который раз заявляла, что я и есть ее единственный муж, что ей больше никто другой не нужен, и потому она никогда не выйдет замуж за другого. Я убеждал ее навсегда выбросить из головы эту мысль, говорил, что она молода, здорова, красива, что она только начала свою жизнь, что у нее все еще впереди, что может встретить достойного человека и полюбить его.
– Ты свободен и поступай, как знаешь. Моя жизнь принадлежит мне, и я сама распоряжусь ею.
Такие ее заявления ставили меня в тупик, и я вскоре прекратил разговоры на эту больную для нас тему. Один за другим проходят дни 4-го, 5-го, 6-го февраля, а вагонов все нет. Может быть, их вообще не будет? Иногда я бегал на станцию с одной целью – узнать что-нибудь новое о начале нашей погрузки. Как только я возвращался, Лиза стремительно подбегала ко мне и впивалась в меня глазами.
– Опять отсрочка! – говорил я.
Тогда она со вздохом облегчения опускалась на диван и шепотом благодарила Святую Деву Марию за очередной подарок. И только 8-го февраля 1946 года, наконец, вагоны были поданы, и началась знакомая суматоха погрузки. Наш эшелон состоял из 12-ти четырехосных пульманов, но для штаба полка в центре состава находился один пассажирский вагон, в котором нашлось место и для меня. Однако и в этот день мы тоже не отправились в дорогу, а была объявлена задержка до утра следующего дня.
Всю ночь в нашей маленькой комнатке на втором этаже Молькерайя горел свет, всю ночь мы с Лизой не смыкали глаз, всю ночь мы просидели рядом, тесно прижавшись друг к другу и… молчали. Уже было все переговорено и выговорено, все решено и условлено, осталось только еще раз, последний раз поцеловать друг друга и расстаться на веки вечные, ведь мы хорошо понимали, что теперь уж нам никогда больше не встретиться и не увидеться и никакой Вюрфель не поможет нам. Два слившихся в единое целое сердца, разрывались заживо на две части.
Под утро, не раздеваясь и не выключая света, мы незаметно для себя заснули глубоким сном. Вдруг в дверь раздался оглушительный стук: “Эшелон уходит!”
Это кричал посыльный Павла Крафта, который прибежал со станции с этим известием. Павел и Гертруда прощались в соседней комнате. Я мгновенно вскочил на ноги, поспешно чмокнул Лизу в губы, выбежал на улицу и стремглав помчался на вокзал. За мной, сопя и топая, бежал Павел. Мы с ним хорошо знали и понимали, что будет, если мы отстанем от эшелона. Наш состав действительно медленно двигался по рельсам, но я все же успел на ходу заскочить на подножку штабного вагона и сразу же стал искать глазами Лизу, которая вот-вот должна появиться на перроне. Но случилось чудо, по-другому этот факт не назовешь: пройдя еще несколько десятков метров, наш состав резко затормозил и остановился. Я мгновенно спрыгнул на землю и опять стал шарить глазами по перрону в надежде еще раз увидеть Лизу. Она появилась в дверях центрального входа в вокзал, на ходу застегивая пуговицы своего пальто. Я сорвался с места и что было сил помчался к ней, крича по дороге:
– Лиза, Лизхен!
Она тоже увидела меня и бросилась мне навстречу, и мы еще раз встретились и в самый наипоследний раз обнялись и поцеловались. Чувствую, что наш эшелон снова начал движение и что на этот раз я не успею нагнать его, но оторвался от Лизы у меня не было сил, не было сил оставить ее одну и, как мне казалось, бросить ее на произвол судьбы. Огромным усилием я заставил себя оторваться от ее горячих губ и в последний раз заглянуть в ее черные бездонные глаза, и в этот момент она протянула мне руку, в которой я увидел какую-то бумажку.
– Возьми и спрячь, – прошептала она.
Это были ее самые последние слова, которые я слышал. Я схватил эту бумажку и торопливо засунул ее в карман шинели. Затем бросил на ее горящее лицо свой возбужденный взгляд и побежал к громыхавшему на стыках составу. С помощью стоявших в проходе офицеров я вскочил на подножку своего вагона и обернулся назад. Лиза, моя бедная Лиза, стояла у центрального входа в вокзал, смотрела мне вслед и неторопливо махала белым платочком. Такой я видел ее в последний момент нашего расставания, такой она осталась в моей памяти на всю жизнь. Когда она скрылась из виду, я почувствовал, что силы оставляют меня, и я был вынужден присесть прямо на подножке вагона.
– Обратите внимание, сколько на перроне провожающих особ! – сказал один офицер, стоящий за моей спиной.
Только теперь я заметил, что на всей длине перрона, на углу зданий, у телеграфных столбов или просто около заборов скромно, даже как-то незаметно, стояли немецкие девушки и точно так же, как моя Лиза, махали белыми платочками. И каждая из них махала одному-единственному человеку, находящемуся в нашем эшелоне.
6. Десять лет и вся жизнь
Я не заметил, как мы проехали Торгау, как пересекли Эльбу, и как наш эшелон помчался на восток, увозя меня все дальше и дальше от Доммитча. Я сбросил с себя шинель, сапоги, забрался на верхнюю полку и стал усиленно думать и думать, то есть перебирать в памяти все наиболее важные и значительные эпизоды, случаи нашей совместной с Лизой жизни. Сколько было радостных безмятежных встреч, веселых прогулок по гористым и лесистым окрестностям Хейероде, жарких и страстных объятий и поцелуев. А сколько было томительных ожиданий известий друг о друге после моего отъезда из Хейероде, скользко было написано горячих строчек, любовных записок и больших откровенных писем! Все было. И самое главное – была еще чистая, честная, взаимная ЛЮБОВЬ, построенная на доверии друг к другу. И все это благодаря моей Лизе. Это она бросила в благодатную почву семя нашей любви, это она заботливо выхаживала возникший ее росток, это она и меня самого сделала лучшим и более ответственным человеком.
Вдруг я вспомнил, что в последний момент Лиза передала мне какую-то бумажку. Я с трудом нашел ее на дне глубокого кармана шинели. Но это была не просто бумажка, а Толстый объемистый пакет, на котором рукой Лизы было написано:
”Nicht in Dommitzsch öffnen” (“Вскрыть только вне Доммитча”). Я торопливо разорвал самодельный конверт, а в нем второй, точно такой же самодельный конверт и тоже с предупреждающей надписью:
“Erst öffnen, wenn du von Dommitzsch weg bist!” (“Разрешаю вскрыть, когда будешь далеко от Доммитча!”). Внутри этого второго конверта был еще и третий и тоже с такой же предупредительной фразой. Наконец я добрался до самого письма. Оно сохранилось и вот его перевод:
7 февраля 1946 года. Доммитч. “Дорогой Ваня!!! Вероятно, это последнее письмо, которое ты получишь от меня здесь на немецкой земле. Хотя я не знаю, о чем ты сейчас думаешь, сидя в своем вагоне, но я верю, что ты по-прежнему любишь меня, Теперь я хочу тебе сказать самое главное, о чем ты даже не догадываешься: у меня будет РЕБЕНОК, наш с тобой ребенок, Ваня!..”

Фрагмент одного письма Лизы, на котором ее рукою написано: “Пылаю страстью к тебе”
Мощный удар обрушился на мою голову, в ушах зазвенело, в глазах поплыли разноцветные круги и полосы, а строчки письма задрожали и растворились в нахлынувшем тумане. Лиза, Лизхен! Что ты говоришь? Что ты пишешь? Такого не может быть! Я не ожидал, я не готовился к такому исходу, я не думал, что такое возможно, что именно ЭТО случится с нами! Что мне теперь делать? Что мне теперь предпринять? Я хочу тебя видеть
немедленно и сказать тебе заветные слова огромной любви, признательности. Может быть, мне выпрыгнуть из вагона на ходу поезда и помчаться к тебе?
Но наш эшелон, трясясь и громыхая на стыках рельс, с большой скоростью несся все дальше и дальше на восток, и расстояние между мной и Лизой с каждой секундой увеличивалось. С огромным трудом я все же справился с охватившими меня тревогой и волнением, и, кое-как, с остановками, стал читать письмо дальше:
Теперь вся моя жизнь будет подчинена только одному этому, для меня самому важному, делу. Твой ребенок будет всегда мне напоминать тебя. Что бы не случилось в будущем, скажу тебе одно, что после рождения я буду воспитывать нашего ребенка как немца, но также обещаю тебе, что ребенок не должен ненавидеть Россию. До двенадцати лет я буду скрывать от него, кто его отец, а потом расскажу все, и он пусть сам решит – любить нас или ненавидеть…"
Снова буквы запрыгали в моих глазах, я уткнулся головой в шинель и горько, беззвучно заплакал. Лиза, Лиза! Почему ты никогда не говорила мне об этом? Почему ты не сказала мне вчера, сегодня или хотя бы в самый последний момент нашего расставания?! Почему ты тщательно скрывала от меня этот наиважнейший факт, который низвергнет на колени любого самого могучего и сильного, но и самого честного парня! Зачем ты выпустила в меня, мне вслед свою огненную стрелу, которая нагнала меня в эшелоне, внезапно вонзилась в мою душу, обожгла ее и застряла там навсегда.
Но я-то, я сам, тоже хорош! Дурак, да и только! У меня не хватило ума и элементарной сообразительности самому понять суть происходящих событий! Ведь Лиза неспроста стала называть меня мужем и не сразу, а, видимо, с того момента, когда почувствовала, что может стать матерью. А муж – это прежде всего обязанность и величайшая ответственность за все, что происходит в семье. А мы с Лизой пусть кратковременно, пусть разрозненно, но жили одной дружной семьей. Разве мне самому не было понятно к чему может привести наша любовная игра? Конечно, я все же понимал возможные последствия и одно время даже пытался говорить о них с Лизой, но она успокоила меня, убаюкала мою бдительность и своими ласками, вниманием, и заботами заслонила собой остроту этой проблемы. Зачем? Ради чего? Ведь я все-таки не вертопрах и не безответственный негодяй. И если бы Лиза посвятила меня в свою тайну, то мы вместе нашли бы какой-нибудь выход, что-нибудь придумали бы, а мое участие только в обсуждении этого дела наполовину облегчило бы ей трудную долю! А теперь? Теперь всю тяжесть и ответственность этого нелегкого бремя она переложила на свои девичьи плечи, лишила меня всякого участия в нем, думая, что так будет мне легче и лучше. Ах, Лиза, хотела сделать как лучше, а получилось наоборот.
“…Прости меня, что я сделала так, а не иначе, но я всегда в будущем буду пытаться извещать тебя о нашем ребенке. Что касается денег, то я настолько горда и независима, что не приму от тебя ни одного пфеннинга. Я не знаю, как ты воспримешь это известие, но я вопреки всему искренне люблю тебя и буду любить тебя всю жизнь. Еще раз шлю тебе тысячу приветов и поцелуев. Твоя, только твоя, навеки твоя Лиза. Время даст совет.”
Я спрятал письмо в карман, отвернулся к стене вагона и погрузился в полузабытье, в отрешенное от мира состояние.
Не помню, сколько времени я пролежал в таком полусне, вдруг чувствую, что кто-то тормошит меня, тянет за рукав. Это был старший лейтенант Дунаевский. Я вспомнил, что завтра, в воскресенье 10 февраля 1946 года, выборы в Верховный Совет СССР. Александр Дунаевский – председатель нашей участковой избирательной комиссии, а я – агитатор. Вот он и напоминает мне, что сегодня надо заняться агитаторскими обязанностями. На кратковременных остановках эшелона, а часто на ходу, я по крышам вагонов перебегал от одного пульмана к другому и проводил с пассажирами агитбеседы, рассказывал биографии кандидатов в депутаты, имена которых я сейчас не в состоянии вспомнить, советовал завтра голосовать за них. К концу дня я оказался в вагоне, в котором размещались бойцы транспортной роты, и увидел там Павла Крафта. Я искренне обрадовался встрече со своим другом и доверительно рассказал ему о содержании полученного в последний момент письма Лизы. Павел с улыбкой выслушал меня и спросил:
– И ты поверил ей?!
– Конечно! А как же иначе? С этим делом шутки плохи, да и Лиза моя не способна ни на какой обман!
– Чудак человек! Это не обман, а обыкновенная женская уловка, чтобы покрепче привязать к себе мужчину. Вот и моя Герда (так он звал Гертруду Рихтер) тоже в самый последний момент передала мне точно такое же послание и тоже заявила, пытаясь убедить меня, что она тоже беременна. На, прочти сам.
Читать чужие письма я не стал, но и не поверил ни одному слову Павла, который продолжал уверять меня:
– Им верить нельзя, я наперед знаю все их хитроумные штучки! Меня они не проведут и не обманут!
С этими словами он не спеша разорвал письмо Гертруды на мелкие кусочки и выбросил их в открытый проем вагонной двери.
С этой минуты Павел Крафт перестал существовать для меня не только как друг и товарищ, но и вообще как порядочный человек. Я просто выбросил его из своей жизни, как выбрасывают на помойку износившийся старый ботинок. Вот почему в этом моем документальном повествовании у этого единственного человека я изменил фамилию, хотя имя его сохранил, но все остальные имена и фамилии, в том числе и немецкие, подлинные.
Наш эшелон с запада на восток пересек Польшу и вошел в пределы Советского Союза. Глядя на проплывающие мимо украинские хатки, крытые соломой, мы, воины 1-го Белорусского фронта, находившиеся больше года за пределами Родины, как маленькие дети радовались возвращению в свою родную стихию. Еще в поезде я начал писать письмо Лизе – большое, рассудительное, объяснительное, укорительное и примирительное.
Разгрузились мы в Ворошиловграде, и как только я оказался в центре города, то на Главпочтамте купил конверт с маркой и отправил это письмо Лизе в Германию с припиской “Постоянного адреса нет, жди следующего письма”.
Вскоре из Ворошиловграда нас перебросили в Днепропетровск. Мои знания немецкого языка оказались теперь никому не нужными, и я стал топографом в штабе одного Гвардейского стрелкового корпуса. Сразу же начались мои бесконечные командировки по Украине, то на Картографическую фабрику в город Харьков за новыми картами, то по многочисленным штабам дивизий и полков с проверками топографических служб, то на командные полевые учения. Штаб корпуса размещался в большом здании с многочисленными дворовыми постройками по улице Крутогорной, 21. Домой я сообщил новый номер полевой почты, а какой адрес сообщить Лизе? И я решил дать ей Днепропетровский городской почтовый адрес, то есть название улицы и номер дома без указания предприятия. Это был риск, но я на это решился. Вдруг из Германии стали приходить письма на немецком языке какому-то солдату, которые городской почтальон сдавал дежурным офицерам. А эти офицеры постоянно менялись, и мне самому приходилось бегать в дежурную комнату и предупреждать их о возможном поступлении на мое имя писем из Германии. Когда я уезжал в командировки, то это делать просил одного своего товарища из комендантского взвода. Я удивляюсь, что письма Лизы доходили до меня, конечно, не все, многие пропадали, но все же большинство из них попадали в мои руки. Конечно, командование корпуса знало об этом, но смотрело на это сквозь пальцы. Никаких замечаний, а тем более запретов мне не было высказано. И все же я подвергал себя огромному риску, ведь мою переписку с девушкой из Германии можно было истолковать в любых вариантах. Часть писем возвращалось обратно в Германию, но Лизу этот факт не обескураживал, и она упорно продолжала посылать их по этому адресу одно за другим. Я тоже писал ей часто и много из Днепропетровска, из Харькова, из Житомира и других городов и сел, куда меня забрасывала военная судьба. Я жил письмами Лизы, только они заполняли всю мою растревоженную душу, ведь я по-прежнему любил ее и жил этой любовью.
Однако, любовь любовью, но в моей груди торчал обломок той самой огненной стрелы, которую Лиза послала мне вслед, когда я уезжал из Германии. Обломок этот давно превратился в кровоточащую занозу, которая не давала мне ни минуты покоя и спокойствия. Уже прошли все сроки, а я ничего не знал о судьбе Лизиного исхода, о возможном рождении нашего ребенка. В своих письмах я делал осторожные намеки, иногда задавал вопрос, так сказать, открытым текстом, но Лиза уклончиво отвечала, что все подробности о себе и о последствиях ее беременности она дописала в одном из предыдущих писем, которое я как раз и не получил. Я нервничал, волновался, клял почту и свою нескладную судьбу, но изменить что-либо был не в состоянии.
Ни одного из многочисленных писем Лизы за 1946 год, отправленных мне в Днепропетровск, не сохранилось, и я не могу в своих воспоминаниях привести ни одной строчки из них. Но вот за 1947 год они есть, и я привожу некоторые выдержки из них:
17 января 1947 года. Хейероде.
“Дорогой Ваня!
Наилучшие пожелания со своей родины шлет тебе Лиза. С большой радостью я сообщаю тебе, что твои письма я, слава Богу, получаю и искренне благодарю тебя за это. Да, Ваня, я благодарю тебя и за фотокарточки, которые ты прислал мне, и теперь я могу не только смотреть на тебя, но и мысленно разговаривать с тобой. Я рада за тебя, что ты по-прежнему жив и здоров и что по-прежнему думаешь обо мне даже в Новогоднюю ночь. Новый, 1947, год я встретила дома с мамой и тоже все мои мысли были только о тебе. Надеюсь, что и ты из моего предыдущего письма узнал все о моей невеселой судьбе. Да, иногда судьба обходится с человеком слишком строго…
Пожалуйста, Ваня, пиши мне так часто, как только можешь. Каждое твое письмо приносит мне большую радость. Тебя приветствуют и поздравляют с Новым годом моя Мутти и мои братья и сестры. Особенно приветствует тебя маленький Хорсти, который, между прочим, стал уже молодым пареньком. Он часто вспоминает дядю Ваню, который сейчас в России и который скоро приедет, чтобы поиграть с ним.
Ваниляйн! Читай эти строчки и вспоминай ту, которая тебя любит и которая никогда, никогда не сможет забыть тебя. Шлю тебе тысячу поцелуев. Твоя и только твоя Лизхен.”
И опять никакой определенности и опять ссылка на какое-то письмо с подробным описанием ее жизни, которое я так и не получил. Вот еще одна выдержка из ее другого письма:
20 января 1947 года. Хейероде.
“…C этим письмом высылаю тебе фотокарточку нашего Хорсти. Не правда ли, он, между прочим, заметно подрос. Он всегда вспоминает и рассказывает о тебе, о дяде Ване, который так интересно играл с ним. Да, да, как все было хорошо и прекрасно, но судьба, судьба. Как она влияет на нашу жизнь, как в нашей жизни все идет не так, как хотелось бы.”
Опять Лиза упрекает в чем-то свою судьбу, а в чем конкретно, не говорит. Лиза, Лиза, я не знаю, что мне делать и думать, я живу в постоянной тревоге не за себя, а за тебя, за твою судьбу, за твою будущую жизнь. Обломок твоей стрелы продолжает терзать и мучить меня. Еще одна выдержка из письма Лизы:
30 января 1947 года. Хейероде.
“…Недавно я еще раз была в Доммитче. Приезжала специально, чтобы еще раз встретиться с тобой хотя бы мысленно и в воспоминаниях. Я провела в Молькерайе четыре дня, в той самой комнате, Ваня! Эти четыре ночи были для меня ужасными, я не могла ни на минуту заснуть, одолевали меня воспоминания о тех прекрасных, но теперь уже таких далеких минутах нашего счастья.”
Письма с таким содержанием шли одно за другим. Я тоже писал часто любвеобильные письма. Без этих писем моя жизнь показалась бы мне никчемной. Я совершенно не думал и не замечал, что вокруг меня много хорошеньких девушек, которые не прочь были бы завести со мной знакомство. В феврале 1947 года я демобилизовался из армии и приехал в небольшой городок Артемовск на юге Красноярского края, в котором в то время жили мои родители. Вот я и дома. Наконец, летом 1947 года я получил от Лизы то письмо, которое я ждал несколько лет:
19 июня 1947 года. Хейероде.
“Мой дорогой Ваня! С большой радостью я получила от тебя еще одно письмо. Ваня, я благодарю тебя от всего сердца за это, благодарю и за прекрасный фотоснимок, который ты прислал мне со своей родины. То, что ты сейчас находишься на своей родине, – это хорошо, но было бы еще лучше, если бы ты однажды оказался рядом со мной. Это мое постоянное желание. Оно было и будет до конца моих дней, и ты это знаешь. Ах, как я хотела бы приехать к тебе в твою далекую и холодную Сибирь, которая теперь стала для меня так же дорога и любима, как и ты сам. Жизнь в Хейероде идет без изменений. Меня здесь многие не любят и ненавидят. Но я все равно с гордой головой иду по своему родному селу и не обращаю внимания на косые и презрительные взгляды. И чем больше меня здесь ненавидят, тем больше и крепче становится моя любовь к тебе…”
Прочитав эти строчки, я живо представил себе Лизу, спокойную и гордую, медленно спускающуюся по улице от своего родного дома к центру села, и как на нее, не здороваясь и не приветствуя, бросают презрительные взгляды встречные прохожие, жители ее родного села, которых она хорошо знает, и которые так же хорошо знают и ее. Нет, не простили и не могли простить они ей ее связь со мной, с русским солдатом, в их глазах оккупантом, который, между прочим, не по своей воле пришел в их село и стал их комендантом. В то время, когда я был комендантом села, когда я вместе с Лизой под ручку ходил по улицам Хейероде, эти же люди при встрече с нами с улыбкой и даже с низким поклоном приветствовали нас обоих и многозначительно желали нам… счастья. А сегодня, сейчас, когда ее некому защитить иди даже поддержать добрым словом, она вынуждена терпеть унижения и презрение своих же односельчан. Единственной формой ее защиты, единственной опорой в этой сложной для нее ситуации, остается ее любовь ко
мне и еще важнее моя любовь к ней, которая с моей стороны может проявляться только в виде моих любвеобильных писем и посланий. И я еще раз дал себе слово писать ей чаще и больше.
“…На прошлой неделе я ходила в кино, демонстрировалась русская сказка “Василиса прекрасная”. Это та самая сказка, которую ты много раз рассказывал мне и маленькому Хорсти. Не так ли? Этот фильм я смотрела как раз в свой день рождения. Спасибо тебе много раз за прекрасные пожелания счастья, которые ты прислал мне к моему дню рождения.
Ах, Ваня, я должна тебя поприветствовать от Гертруды Рихтер. У Гертруды тоже родилась маленькая девочка. Малышка как две капли воды похожа на Павла. Гертруда родила ее одним месяцем позже, чем я. Я стала крестной матерью маленькой Дагмар. Да, у Гертруды есть маленький ребенок, а моего Господь Бог от меня снова взял к себе. Сколько горя, ненависти и косых взглядов я пережила и перетерпела – и все напрасно. Как бы я любила и лелеяла нашего ребеночка, заботилась бы и ухаживала бы за ним, но, видимо, у меня такая судьба, мне не предназначено быть матерью твоего дитя. И несмотря ни на что, я продолжаю тебя любить еще сильнее, чем раньше. В Германии есть одна песенка, в которой поется, что после каждой разлуки обязательно приходит свидание, и я верю, что свершится чудо, и мы рано или поздно на этом свете снова увидимся. Верь и ты в это!
В следующем месяце я еду с мамой к Эгону, моему брату. У его жены есть тоже маленькая девочка, которую я прижимаю к своей груди так же охотно, как своего собственного ребенка. К Инге Хольбайн я не пойду и не хожу, и ты не проси меня больше, так как Анна говорит про тебя и про меня очень плохо, чего на самом деле никогда не было. Посылаю много приветов твоим родителям и сестрам. Что говорят они о твоей переписке с немецкой женщиной?”
Все ее письма, в том числе и это, заканчивались одной и той же фразой: “Твоя и только твоя, навеки твоя Лиза!” Прочитал я это письмо и пришел в ужас! Ну почему именно на мою бедную голову опять обрушилось такое несчастье? У меня родилась дочь! Моя дочь! Мой первый ребеночек! Какое же это счастье!!! У любого нормального человека этот факт вызовет прилив необычной радости и отцовской озабоченности и ответственности. Но как видно из письма, дочь моя, только родившись, тут же умерла. Почему? Отчего? По какой причине? Я ничего не знал и не знаю до сих пор. Я не знаю, когда конкретно, какого числа, месяца она родилась, когда, какого числа, месяца она умерла, где похоронена, сохранилась ли ее могилка? Все это до сегодняшнего дня остается для меня тайной. Иной раз я даже начинаю сомневаться, а не слукавила ли Лиза? Может быть, моя дочь жива? Такие мысли возникают иногда в моей разгоряченной голове, но я их тут же прогоняю прочь, оставаясь с верой в Лизу, что она не могла и не должна была меня обмануть.

Иван Бывших, студент Томского института. Фото 1951 года
В сентябре 1947 года я стал студентом одного из Томских институтов. Томск – город студентов, в нем только одних вузов более десятка, не говоря уже о техникумах и других мелких училищах и школах. Смех, шутки студентов слышались на каждой улице города, из каждого автобуса и трамвая. В парках и скверах можно было встретить не одну, а целую стайку хорошеньких девушек-студенток. Я вращался среди них, ходил с ними в кино и даже на танцы, гулял по известному в городе Лагерному саду, провожал их до общежитий, то есть делал все, что должен делать молодой человек, ухаживающий за девушками. Все, кроме одного:
я не влюблялся в них! Мое сердце было по-прежнему занято Лизой, и только она одна по-прежнему жила в нем. Гуляя с девушками, я, конечно, невольно сравнивал их с Лизой, и это сравнение всегда было не в их пользу. Мне казалось, а возможно это и на самом деле так, что ни одна из знакомых мне девушек-томичек не сможет так беззаветно и страстно полюбить меня, как Лиза, не сможет поступиться собой, как Лиза, не сможет быть такой преданной мне и верной, какой была и есть моя Лиза! Лиза по-прежнему занимала собой всю мою душу и не позволяла вторгаться в нее ни одной другой какой-либо девушке. И все-таки одно время я был увлечен одной студенткой из нашей группы и даже имел намерение жениться на ней. Писать в Хейероде стал реже. И вдруг я получаю от Лизы взволнованное письмо, полное нескрываемой тревоги:
24 апреля 1951 года. Хейероде.
“Ваниляйн, я давно не получаю от тебя писем. Я не знаю, что мне думать. Может быть, ты заболел? Недавно я заглянула в атлас, в тот самый, помнишь? Боже мой, разве можно найти тебя в этой огромной и холодной Сибири? Ваниляйн, милый! Почему ты молчишь? Почему ты заставляешь меня страдать и томиться неизвестностью? Напиши мне быстрее, успокой меня, развей мои печали и мрачные мысли и знай, что я по-прежнему люблю тебя. За эти годы разлуки моя любовь стала еще больше и крепче. В надежде получить от тебя хотя бы маленькую весточку. Твоя, только твоя, навеки твоя Лиза.”
К концу моей учебы в институте (лето 1952 года) я попросил Лизу писать мне не в Томск, а на адрес моей сестры Лиды, которая жила под Абаканом в городе Черногорске, так как я не знал куда, в какой город я получу направление на работу. Вот выдержка из последующего ее письма, отправленного для меня на имя моей сестры Лиды:
9 июня 1952 года. Хейероде.
“Дорогой Ваня! Когда это письмо придет к твоей сестре, то ты уже наверняка закончишь свою учебу. Ваня, мой Ваня, пожелаю тебе успехов при сдаче экзаменов. Что ты думаешь дальше делать? Останешься с сестрой? Пожалуйста, Ваня, теперь ты имеешь больше времени, так как не сидишь за школьной партой, теперь пиши мне регулярно, примерно одно письмо в месяц. Сделай так, Ваня! Здесь, в Хейероде, нет ничего нового. Эрна, моя сестра, уже имеет 5 детей. Ее муж служит в Народной полиции, Гюнтер и Хорст, мои братья – горняки. Моя работа – я тружусь в детском доме. Да, Ваня, жизнь идет дальше, и мы становимся все старее. Встретимся ли мы еще раз? Ваня, это была бы бесконечная радость.
Приветствую твою сестру, и твоего отца, и твоего зятя. Особенно приветствую малышку твоей сестры. Если твоя сестра принесет еще маленькую девочку, то, пожалуйста, Ваня, пусть ее назовут Лизой. В этот конверт вкладываю фотокарточку. (Она воспроизведена в главе 3 этой книги.) Напиши мне ответ, пожалуйста, поскорее. Тебя приветствует, как всегда, только твоя, Лиза.”
Женитьба моя на студентке не состоялась. После окончания института осенью 1952 года я, как молодой специалист, оказался в столице индустриального Урала, в городе Свердловске. Я сразу же сообщил Лизе свой новый адрес, и наша переписка, наша любовь вспыхнула с новой силой. Теперь я сам, замаливая свои грехи, писал ей почти каждую неделю, а Лиза аккуратно отвечала на каждое мое письмо. Я удивлялся тогда и удивляюсь сейчас, сколько терпения, изобретательности и настойчивости проявляла она, чтобы сохранить нашу переписку, а вместе с ней и саму любовь. Еще четыре года, четыре чудесных года, мы жили только одними письмами, в которых без стеснения продолжали объясняться в любви и преданности, как будто влюбились друг в друга только вчера. Спустя девять лет после разлуки мы были так же влюблены друг в друга, как и прежде. Мне было уже далеко за тридцать, но я после Лизы не знал и не хотел знать женщин и не думал жениться.
В то время я основательно увлекся журналистикой как хобби, писал статьи, репортажи, стихи не только в местные и центральные газеты. Занимался в литературном кружке при областной молодежной газете “На смену”, а чуть позже стал даже нештатным корреспондентом немецкой молодежной газеты ГДР "Junge Welt” (“Молодой мир”). В июне 1955 года эта газета опубликовала мой большой с продолжением в нескольких номерах рассказ “Das Gerucht” (“Слух”), написанный по материалам моего комендантства в Хейероде. Конечно, я сообщил Лизе эту важную новость, а также название газеты, номера и даты выхода ее и просил Лизу прочитать этот мой первый напечатанный рассказ.
Я был активным членом партии, в которую вступил еще будучи на фронте, и не удивился, когда в начале 1956 года был приглашен на беседу к секретарю Железнодорожного райкома партии города Свердловска по пропаганде Татьяне Ивановне Тиуновой. Глядя мне прямо в глаза, она сурово спросила:
– Вы знаете, что Елизавета Вальдхельм в настоящее время проживает в Западной Германии?
– Я смутился, покраснел до корней волос и с трудом выдавил из себя короткую фразу:
– Нет, не знаю.
– Ваши письма пересылают ей в ФРГ ее родственники, проживающие в Хейероде, так же, как и ее письма отправляют вам. Что вы намерены делать дальше? Жениться на ней вы все равно не сможете, пока нет таких законов и ваша переписка, как мне кажется, не может продолжаться вечно?
Вместо того, чтобы крикнуть: “Может, может и будет продолжаться вечно до окончания наших дней!”, я трусливо нахохлился, помолчал минуту в глубоком раздумье и торопливо пробормотал:
– Напишу ей последнее письмо и попрошу ее сделать то же самое. Объясню ей, что, мол, собираюсь жениться.
BINS ERZAHLUNG VO
N I.
N. BYWSCHICH J ILUUSTRATIONEN HEINZ BIRKNER
 (Schluß)
(Schluß)

Plötzlich gab еs einen scharfen Ruck, danach einen zweiten, noch stӓrketen. Im Wagen entstand Panik. Außer dem aufgeregten Schreien der Menschen und dem Quietschen der Puffer war nichits zu hören. Der Zug hielt. Energisch mit den Armen arbeitend, schob sich Bjelow mit Mühe zum Ausgang vor. An den Wagen gepreßt, um nicht hinunteraustürzen, rannte er zur Zugspitze.
„Weshalb wurde gehalten?” In seinem Kopf tauchten verwirrte, furchtbare Gedanken auf. Aus dem Nebel hob sich das schwarze Gesicht des Maschinisten ab.
„Was ist geschehen?”
„Rotes Signal!" Der Maschinist sprang aus dem Führerhӓuschen und antwortete unsicher, seine verschmierten Hӓnde reibend: „Irgend etwas blinkte im Nebel auf, vielleicht schien es mir auch nur so.”
Wie aus der Erde gewachsen tauchte Protassow auf. Er war ohne Mütze und atmete schwer. Vor Erschöpfung ließ er die Hӓnde auf die Schulter des Leutnants sinken, unterbrach das Atmen und sagte:
„Wir haben gestoppt. wir merkten… Dort auf der Brücke wurde eine abgeschraubte Schiene festgestellt… Das ist die Arbeit ihrer Hande… Wir konnten aber bis jetzt niemand finden…”
Jetzt tauchten Soldaten der Kommandantur und Polizisten auf, hinter irgendeinem Bergvorsprung erschien eine Gruppe Menschen.
„Er war es“, sagte einer der Hinzugetretenen und verwies auf eine zitternde Figur. Der Leutnant erkannte in ihr den Friseur.
„Laßt ihn los.”
JUNGE WELT Nr. 154
Фрагмент моего рассказа “Das Gerucht” (“Слух”), написанного по материалам моего комендантства в селе Хейероде. Рассказ был опубликован в молодежной газете бывшей ГДР “Junge Welt“ и послужил основой для моего вызова в Райком партии и запрещении моей переписки с Лизой, которая в то время уже жила в Западной Германии.
– Вот и хорошо. Больше у меня к вам вопросов нет.
Для меня тоже оказался большой новостью тот факт, что Лиза жила в ФРГ, но, несмотря на это, я понял, что кому-то не понравилась моя переписка с девушкой-немкой, проживающей в Западной Германии, которой я могу сообщить секретные сведения, например, с помощью какого-нибудь особого шифра через распространяемую легально в ФРГ газету “Junge Welt”, в которой напечатан мой рассказ. И этот кто-то решил на всякий случай прихлопнуть нашу переписку. Я думаю, и, пожалуй, это на самом деле так, что этот вежливый запрет на мою переписку с немецкой девушкой – есть еще самая безобидная кара, а ведь все могло бы быть иначе и значительно хуже и трагичнее.
За десять лет переписки, с 1946 и по 1956 год, я написал Лизе не менее полсотни писем, а она мне и того больше, но сохранилось только 17 ее писем и несколько фотокарточек, которые я храню как зеницу ока. Последнее прощальное письмо Лизы было соткано из одних только чувств и эмоций. В нем не было ни одного бита информации о ее семье, братьях и сестрах, о жизни ее родного села. Жгучая тоска, горячая любовь, бессилие перед жестокой судьбой, неотвратимость происходящих событий – все это смешалось в ее сумбурных фразах и строках. Письмо это не сохранилось, но я помню его буквально слово в слово и привожу сейчас небольшую из него выдержку:
"…
Я понимаю тебя и не осуждаю, ведь мы не давали обета безбрачия, но обещались только любить друг друга до последних дней своих. Хочу и желаю, чтобы ты был счастлив, чтобы твоя новая жена (Боже мой, какое слово!) любила тебя так же, как я люблю тебя, ведь ты этого заслуживаешь. Ваниляйн, мой Ваниляйн! В эти последние для меня трагические минуты я хочу тебе сказать, что я буду любить тебя и ждать тебя всю свою жизнь. Знай это! А теперь прощай… прощай… прощай… Лиза".
Скажите, кого не тронут и не взволнуют эти слова, идущие из самой глубины души, несущие в себе всю гамму человеческих чувств, любви и мучительной боли за потерю самого дорого, что мы имели и чем мы жили все эти годы? Между нею и мной разверзлась огромная непреодолимая пропасть, и мы оба поняли, что все наши мечты и надежды рухнули, и никто и ничто нас больше не спасет, и никто и ничто нам больше не поможет. Я долго стоял на Главпочтамте у окна “До востребования” и не в силах был сделать первый шаг своего вынужденного предательства.
За свою долгую жизнь я был дважды женат и, несмотря на пожелание Лизы, так и не нашел своего счастья в семейной жизни. От первой жены я ушел сам с небольшим чемоданчиком в руках и объявился в Красноярске. Вторая жена сама выставила меня из семьи без моего согласия. С 1972 года я живу один в однокомнатной квартире-хрущевке, как старый медведь в берлоге. Мои дети, а их трое, кажется, уважают и любят меня, но согреть мое отрешенное, зачерствевшее сердце уже не может никто. Я возобновил сотрудничество с немецкой газетой “Junge Welt", написал и напечатал в ней много статей из богатой на события жизни нашего края и Сибири вообще. Тайно я надеялся, что может быть, Лиза однажды наткнется на мои заметки и как-нибудь даст о себе знать. Но, увы! Этого не произошло. Несколько лет я переписывался с заместителем бургомистра Хейероде Теодором Юнкер. Он аккуратно писал мне большие письма о жизни и событиях в селе, прислал мне план Хейероде и книгу по ее истории, которая оказалась для меня очень ценной. Местный школьный учитель русского языка Инго Шадеберг писал мне письма по-русски. Он-то и сообщил мне, что в школе имени Гете работает учительницей дочь Анны Хольбайн Инга, та самая, с которой я играл, когда она была еще маленькой девочкой. Через Шадеберга она сообщила, что ее мать Анна умерла еще в 1974 году и прислала мне фотографию себя и матери Анны, снятую в 1945 году, когда я еще был в Хейероде и которая помещена в этой книге в начале главы 1.
Но никто из моих почтовых корреспондентов, как сговорились, ни одним словом не обмолвился о судьбе Лизы или ее родственников, о чем я так страстно хотел знать. Писать напрямую в семью Вальдхельм я не решался, считая, что Лиза давно замужем и мое неожиданное воскрешение из прошлого не принесет ей ничего, кроме лишних неприятностей. А этого я допустить не мог. Я был также уверен, что и она по той же самой причине не хотела вмешиваться в мою личную жизнь, так же считала, что я живу в благополучной семье. Так или иначе, с обеих сторон не было попыток найти друг друга.
Я прожил большую и, как я считаю, счастливую жизнь. Счастье мое заключается в трех ипостасях: из войны я вышел живым и невредимым; испытал глубину настоящей Любви, Любви с большой буквы, сам любил и был любимым; и, наконец, дал жизнь своим детям, которые являются продолжением меня. В формулу своего счастья я не включаю даже такие важные ее составляющие, как хорошее, даже можно сказать, крепкое здоровье на протяжении всей моей жизни и работа по избранной специальности.
Теперь на склоне своих лет, опираясь на опыт наших с Лизой отношений, я мог бы, пожалуй, сделать для себя и для своих читателей кое-какие выводы. По моим представлениям в любви и в любовных отношениях между мужчиной и женщиной все-таки самое главное, как ни странно, не сама ЛЮБОВЬ как таковая, будь она платонической или физической, а ВЕРА в нее, ВЕРА в избранный объект любви, которому каждый влюбленный должен покланяться как божеству, которому каждый влюбленный должен отдавать всего себя, вплоть до самопожертвования. Только в этом случае влюбленный человек поймет и почувствует, что чем больше он отдает, тем больше он поручает обратно. Это и есть тот самый бумеранг любви, о котором столь много и красочно написано в различных теоретических исследованиях и еще больше в любовных романах и повестях. Но поступать так способен далеко не каждый, для этого нужно иметь желание, волю и даже талант. Вот почему среди влюбленных так много разочарованных людей, разбитых сердец и воплей о несчастной любви, так как все они хотели только получать от любви, ничего не давая взамен. Любовь для себя, только для своего личного потребления никогда не разгорится в яркое обжигающее пламя, о котором мечтает каждый влюбленный. Такая любовь зачахнет и заглохнет сразу, на корню, в самом ее начале.
Моя Лиза была рождена для Любви, для настоящей большой Любви и отдала ей всю свою страстную юную натуру, ничего не требуя взамен. И я благодарю судьбу за то, что она послала мне такое юное пылкое божественное существо, как Лиза, которая и меня научила искусству любви в хорошем смысле этого слова. Я благодарю судьбу также за то, что я познал глубину и силу настоящей любви. Судьба приготовила для меня огромную заполненную до краев чашу любви, которой хватило бы мне на всю мою жизнь, если бы я пил ее маленькими глоточками. Но случилось так, что в самом начале моего жизненного пути я выпил ее одним махом, до дна, и чуть было сам не утонул в ней. И как плата за это счастье последующие годы прошли у меня без любви, так как весь ее лимит мною был уже исчерпан.
Сейчас, на склоне своих лет, я сплю один в холодной постели, около меня нет милого, заботливого существа, с которым можно было бы обменяться словом в трудные минуты жизни. Видимо, я обречен на вечное одиночество. Вот почему, понимая это, я всю жизнь безропотно несу свой крест на Голгофу, потому что ЭТО и есть моя собственная предначертанная судьба, которую нельзя изменить и поправить.
С Лизой я прожил всего полгода, потом переписывался с ней десять лет, а любил я ее одну всю свою долгую и сумбурную жизнь. Меня часто одолевают скорбные думы о моей страдальческой жизни, тревожат сладостные воспоминания о прошлом, и эти думы оканчиваются приступом острой, невыносимой тоски. Тогда я поспешно выхожу на крыльцо своего дома и со слезами на глазах посылаю в бездонную пучину ночного неба свой запоздалый покаянный призыв:
“ЛИЗА, ЛИЗОЧКА, ЛИЗХЕН!
Я ПО-ПРЕЖНЕМУ ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!
ГДЕ ТЫ? ГДЕ? ОТЗОВИСЬ!..”
И всегда ответом мне служит величественное безмолвие мерцающих звезд, таких же далеких, таких же недоступных и таких же прекрасных, как моя вечно юная ЛИЗА.
Красноярск, 20 января 1995 года
Послесловие автора
Письма и фотографии Лизы многие годы лежали без движения в моем домашнем архиве. Осенью 1994 года на них случайно наткнулась моя 27-летняя дочь Елена и спросила:
– Папа, что это за письма?
Я внимательно посмотрел на нее, как бы размышляя, говорить ей всю правду или воздержаться, но решил сказать:
– Это письма одной немецкой девушки, адресованные мне, которую я любил, и которая тоже любила меня. Это было давно, лет за пятнадцать до твоего рождения.
Лена долго и внимательно просмотрела их и попросила меня сделать письменный перевод, ведь все они были написаны на немецком языке. Я охотно исполнил ее просьбу и к своему удивлению во время перевода заново пережил все те чувства, которые испытывал в то далекое время, когда получал их. “И в груди моей хладной, остылой… ”,
как поется в одной старинной народной песне, и в моей груди тоже вспыхнуло пламя, казалось бы, давно потухшей любви. Прочитав переводы, Лена сказала:
– Да, эта история на самом деле удивительна и трагична. Папа, напиши письмо Лизе, возможно, она живет по старому адресу и ждет от тебя известий. Сейчас вы оба в таком возрасте, что не только окружающие вас люди, но и мы, ваши дети, поймем и не осудим вас.
Я пообещал дочери написать письмо в Хейероде. И написал, но только не Лизе, а… бургомистру села, фамилию которого я, естественно, не знал. В этом письме от 10.11.1994 года я довольно подробно рассказал о себе, о своем комендантстве в Хейероде осенью 1945 года и осторожно коснулся темы семьи Лизы в следующей фразе: “До сих пор я помню фамилии многих жителей села, назову некоторых из них: Хольбайн, Хениннг, Вальдхельм, Ценгерлинг и другие” и дальше просил бургомистра сообщить мне, как живут люди в Хейероде в настоящее, тоже в перестроечное для них время.
Напрасно я ждал ответа на это письмо, его не последовало. А Лена продолжала настаивать на том, чтобы я написал письмо непосредственно Лизе по ее старому, хорошо известному мне адресу. Наконец, я сдался и 17 декабря 1994 года я отправил письмо на немецком языке по адресу “99988, Германия, Хейероде, ул. Вокзальпая, 18”. В качестве адресата указал “An Jemanden aus Familie Waldheim ” (Кому-нибудь из семьи Вальдхельм). Письмо небольшое, в нем я коротко сообщил, кто я такой, какое отношение ко мне имеет семья Вальдхельм и назвал поименно почти всех ее членов, в том числе имя Лизы и маленького Хорсти. Отправил это письмо и стал с нетерпением и тревогой ждать ответа. Прошло уже без малого полвека, это огромный срок, за это время произошли большие изменения, возможно, многих из членов семьи Вальдхельм уже нет в живых. Жива ли и сама Лиза, ведь не каждый человек доживает до 70-летнего рубежа, а ведь ей, так же, как и мне, почти столько.
Но моя дочь Лена не успокоилась на том,
что вынудила меня написать это письмо, а стала настойчиво советовать мне написать историю нашей любви с Лизой в виде документальной повести, основанной на подлинных событиях и фактах, с использованием фотографий и выдержек из сохранившихся писем Лизы. Между прочим, об этом же самом я тоже уже думал, но меня одолевали сомнения: надо ли вьплескивать на суд людской личные, можно сказать, самые интимные отношения, пусть даже такой большой давности? Поймут ли меня люди? Да и вообще, кому сейчас все это будет нужно? Лена убежденно говорила мне:
– Поверь, папа, у вас с Лизой все было чисто и честно, люди поймут и не осудят, так же, к примеру, как и я все поняла и не осуждаю вас обоих.
И я решился. 25 декабря 1994 года я одним махом написал первые десять страниц этой истории. Дальше дело пошло как по маслу. Писал я легко и споро, заново переживая все старые забытые эпизоды, часто со слезами на глазах, и практически за один месяц закончил повесть.
Приступая к работе, я основательно все продумал и решил писать только о любви между мною и Лизой, а все остальное должно служить только фоном этой любви, ее подсобным материалом, хотя моя комендантская служба в Хейероде заслуживает подробного освещения и описания. Я добровольно оставил за рамками повести многие интересные подробности и факты. Например, я был комендантом не только одного села Хейероде, но еще двух соседних сел Дидорфа (Diedorf) и Айгенридена (Eigenrieden), куда я ездил почти каждый день и вел там приемы местных жителей, а также вместе с бургомистрами этих сел решал множество бытовых вопросов повседневной жизни. Вот для чего мне нужен бил мопед. При организации пропускного пункта на границе двух оккупационных зон советской и американской вблизи села Катариненберг (Katharinenberg), я несколько раз ездил “в гости” к американскому коменданту городка Ванфрид (Wanfried) и принимал его у себя в Хейероде. Через этот пропускной пункт границу переходили не только отпущенные из плена солдаты Вермахта, по и сотни местных жителей соседних сел, которые оказались вдруг по разные стороны границы.
В селе Айгенриден я влюбился еще в одну особу, в шестилетнюю внучку местного бургомистра, фамилия которого, если мне не изменяет память, была Шмидт. Эта девочка при моем появлении в конторе с радостью выбегала мне навстречу. Я дарил ей русский шоколад и букеты полевых цветов, а она каждый раз обязательно преподносила мне в качестве подарка несколько… куриных яиц, которые мы с ней укладывали в заранее приготовленную картонную коробку и привязывали ее к багажнику мопеда. Однажды она в сопровождении своего деда пришла пешком в Хейероде из Айгенридена через лес и нанесла мне визит в комендатуру. Мы оба обрадовались неожиданной встрече, я угостил ее и ее деда традиционной чашечкой кофе, а она поведала мне, как самому близкому человеку, что она чувствовала и испытала, когда она шла через страшный и темный лес. К моему великому сожалению, имя этой симпатичной и живой девочки не сохранилось в моей памяти и не значится в моих архивных записях, хотя сам факт нашей с ней дружбы описан.
По приказу районного мюлъхаузенского коменданта я собрал с местного населения трех сел огромную сумму советских денег (целый мешок) и, не считая их, отвез и сдал в вышестоящую комендатуру. В моей голове тогда даже на мгновение не промелькнула мысль, чтобы небольшую часть этих денег оставить себе, ведь они были не учтены и я не знал точную их сумму. Вот какими мы были тогда честными, порядочными и бескорыстными.
Я ничего не писал о помощнике начальника штаба полка по оперативной работе (ПНШ-2) капитане Л. Н. Левченко, который являлся моим непосредственным начальником. Именно в Хейероде в августе 1945 года Леонид Никитович и медицинская сестра Мария Анатольевна сыграли свою свадьбу. Их брак оказался счастливым и они до сих пор живут вместе в Подмосковном городе Щелково и сейчас помогают своим детям воспитывать теперь уже их внуков. Весь день 23 июня 1995 года я был гостем этой семьи и в беседе с ними узнал много нового и интересного из их службы в Хейероде. Полковник в отставке Л. Н. Левченко был участником парада Победы 9 мая 1995 года на Красной площади в Москве. Он является заместителем председателя Совета ветеранов нашей дивизии и подарил мне две книги – Памятную книжку ветерана”,
в которой собраны адреса всех известных ныне ветеранов нашей дивизии, (кстати сказать, в ней моей фамилии, нет, и небольшую книгу воспоминаний бывшего командира минометной роты нашего полка майора А. М. Щербаня “После Победы",
изданную в 1981 году в Москве. В ней две документальные повести,
одна из которых полностью посвящена описанию его работы в качестве коменданта села Фаулунген (Faulungen) осенью 1945 года. Это село находилось в семи километрах от Хейероде. В мирное послевоенное время А. М. Щербань жил в Магадане, где и умер в 1989 году.
31 января 1995 года я получил ответное письмо из Хейероде.
Я его ждал, но когда оно пришло, то это для меня оказалось совершенно неожиданным. Письмо написал не кто иной, как… Гюнтер Вальдхельм! Боже мой, как я обрадовался, вскрывая этот конверт! Письмо небольшое. Вот его перевод:
Хейероде. 13 января 1995 года.
иДорогой друг Иван! С большой радостью получил я твое письмо. Ты откликнулся после стольких лет молчания, чему я был удивлен и обрадован. Мы живем, в общем, хорошо,
надеюсь, что и у тебя то же самое. Мои сестры и братья все еще живы и здоровы. ЛИЗА ЗАМУЖЕМ И ЖИВЕТ В ЛЮКСЕМБУРГЕ. Я сам женат уже 42 года, у меня две дочери, их зовут Эрна и Ева, они тоже замужем. Мне сейчас 69 лет, моей жене 67 лет, и мы оба пенсионеры. Хейероде, между прочим, стала больше и лучше. Сейчас в ней примерно 3000 жителей, с 1990 года она стала центром Германии. Ты живешь очень далеко в Западной Сибири, это почти 7000 км отсюда. Я много раз всей семьей ездил в отпуск в Россию. Мы были в Москве, Киеве, Сочи, Сухуми, Баку, Краснодаре и еще во многих других городах.
Нам везде в России было очень хорошо.
Дорогой Иван! Моя семья и я хотим пригласить тебя посетить наш дом в Хейероде.
Я мог бы тебе много показать и рассказать о Хейероде…
На этом заканчиваю свое письмо и жду от тебя следующего. Я и вся моя семья шлют тебе горячий привет.
Гюнтер Вальдхельм”.
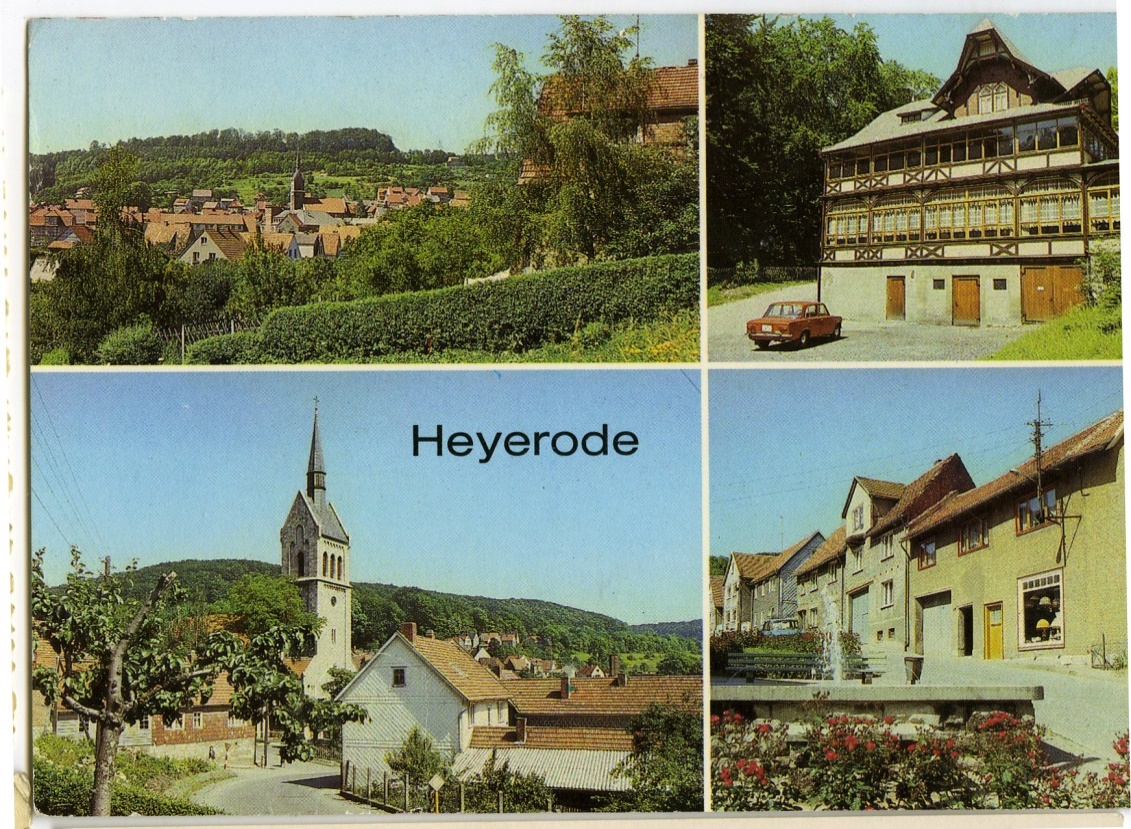
Открытка села Хейероде
В конверт было вложено несколько открыток с видами Хейероде и цветная фотография, на которой Гюнтер с женой был снят еще в 1991 году. Из этого письма я вынес для себя самую главную новость – Слава Богу! – Лиза жива и здорова! И один только этот факт мгновенно превратил меня в счастливого и восторженного человека. Лиза жива! Она ходит по белу свету, дышит земным воздухом, ее милое лицо освещают те же самые солнечные лучи, которые падают и на мое лицо! Я счастлив, что она есть, что где-то, пусть далеко отсюда, бьется ее сердце, которое (о, Боже!), может быть, еще не забыло меня. Гюнтер написал всего одну короткую фразу, которую я в его письме выделил жирным шрифтом: “ЛИЗА ЗАМУЖЕМ И ЖИВЕТ В ЛЮКСЕМБУРГЕ”. Люксембург – крохотное, но вполне самостоятельное государство и расположено оно всего в 400 километрах от Хейероде. По нашим сибирским меркам это почти рядом. Люксембург находится от Хейероде на таком же расстоянии, как Красноярск от Абакана. Раньше Лиза жила в Западной Германии, сейчас в Люксембурге. Почему не в родном Хейероде? Нет, не простили жители Хейероде моей Лизе ее связь с русским солдатом - оккупантом, то есть со мной и вынудили ее покинуть родительский дом и уехать на чужбину. Я это предчувствовал, еще когда жил в Хейероде, да и сама Лиза тоже говорила о таком возможном исходе.

Гюнтер Вальдхельм с женой. Снимок 1991 года
Я обратил внимание на то, что обратный адрес на письме Гюнтера отличался от давно известного мне адреса всего одной буквой – ул. Вокзальная, 18 а. Значит, Гюнтер для себя и для своей семьи построил новый дом рядом с родительским, в котором живет и сейчас.
У нас с Гюнтером завязалась оживленная и интересная для нас обоих переписка, которая продолжалась недолго. Я сообщил ему о своей послеармейской жизни, об учебе в институте, о своей семье, детях, о своей нынешней общественной и литературной деятельности, послал ему много фотографий, а также свою философскую брошюру “Вечно ли человечество?”. Он в свою очередь рассказал мне о том, что его старшие сестры, Эрна и Труди, живут в Хейероде в родительском доме, а его племянник Хорст (маленький Хорсти) работает таможенником на польско-германской границе. К моему огорчению он в последующих письмах больше ни одним словом не обмолвился о судьбе Лизы и ее нынешней жизни в Люксембурге, о чем я так страстно хотел знать. До сих пор я так и не знаю, когда и за кого она вышла замуж, есть ли у нее дети, где и в качестве кого она трудилась все эти годы.
Я дал согласие на поездку в Хейероде и сообщил Гюнтеру, что могу выехать в Германию из Москвы во второй половине мая 1995 года, когда я при всех обстоятельствах буду в столице на праздновании 50-летия Победы. Гюнтер обещал к этому сроку выслать мне официальное приглашение. Но потом вдруг переписка с ним внезапно прекратилась. 3 мая 1995 года я поездом выехал в Москву, не имея от него обещанного приглашения.
После юбилейных торжеств, посвященных 50-летию Победы, я отдыхал и лечился в одном подмосковном санатории, вернулся в Красноярск 6 июня 1995 года. Здесь меня ожидали сразу два письма из Хейероде, точнее сказать, письмо и толстый объемистый пакет. Беру в руки письмо и не верю своим глазам! Оно послано из Хейероде Елизаветой Вальдхельм, это имя было четко написано на обратной стороне конверта, где немецкие граждане обычно пишут свой обратный адрес. Неужели это письмо от моей Лизы?! В моей голове сразу возникли различные догадки и предположения. Я думал, что Лиза, видимо, приехала в Хейероде в гости к своему брату, прочитала мои письма, адресованные Гюнтеру, и вот решила написать мне свое письмо. Я думал и не только так. В моей разгоряченной голове замелькали, сменяя друг друга, как в калейдоскопе, обрывки мыслей, предчувствий, надежд и мечтаний, навеянных возвращением, как я уже думал, из продолжительного небытия моей Лизы. Я с надеждой и верой вспомнил Вюрфеля-2 и его предсказание, что мы с Лизой должны встретиться на этом свете хотя бы еще один раз. Может быть это предсказание начинает сбываться и я, возможно, снова… о, Боже мой! – мне даже трудно закончить эту фразу!.. увижу мою Лизу!!!
С огромным волнением трясущимися руками я вскрыл конверт в надежде увидеть знакомые и такие милые мне завитушки Лизиного почерка. Но письмо было написано, точнее сказать, напечатано на персональном компьютере и любимых мною завитушек я не обнаружил. Прочитав письмо, я получил два мощных психологических удара, от которых с трудом оправился. Оказалось, что письмо это послала мне не моя Лиза, а совсем другая женщина, у которой имя и фамилия были точно такими же, как у моей Лизы, и проживала эта женщина почти по тому же адресу, по которому я десять лет слал свои письма. Письмо это написала Елизавета Вальдхельм, жена Гюнтера, которая с прискорбием сообщила мне, что ее любимый муж и мой старый немецкий друг Гюнтер Вальдхельм умер 14 апреля 1995 года и что она стала вдовой, а ее дети сиротами.
Люди добрые! Что делается и творится на белом свете? Опять я опоздал! Почему я так поздно написал письмо Гюнтеру? Где я был раньше? Это моя проклятая скромность и извечная застенчивость! Не счесть, сколько раз в жизни они обе подставляли мне подножки. Подставили и на этот раз.
Жена Гюнтера, а теперь уже его вдова, сообщила мне, что Гюнтер длительное время страдал болезнью желудка. 7 декабря 1994 года ему сделали операцию, после чего болезнь резко обострилась и быстро привела его к смерти. Он умер от рака желудка. Она также сообщила мне, что Гюнтер перед самой смертью успел получить и прочитать мое последнее большое письмо с фотографиями и с философской брошюрой, которое, по ее словам, принесло ему большую радость. Дальше она пишет, что несмотря на постигшее ее большое горе, она хотела бы продолжать переписку со мной. Теперь мне стало ясно и понятно, почему я не дождался от него приглашения на поездку в Германию. Я вспомнил также, что в 1945 году он был освобожден из английского плена по болезни и что после возвращения домой тоже болел некоторое время.

Современный герб села Хейероде.
Объемистый пакет прислал мне нынешний бургомистр Хейероде Венделин Хеннинг (Wendelin Henning). Ему было всего шесть лет, когда я исполнял обязанности военного коменданта в его селе. В своем большом, на четырех страницах, письме он писал, что как у него лично, так и у старшего поколения хейеродцев остались в памяти хорошие воспоминания и впечатления от пребывания в селе советских войск осенью 1945 года, чему я был бесконечно рад. Невольно напрашиваются сравнения и параллели о том, что творили немецкие коменданты в захваченных селах и городах нашей страны и как мы, советские коменданты, помогали мирным жителям поверженной Германии пережить трудное послевоенное время. Даже сейчас, спустя полвека, как видно из письма В. Хеннинга, у жителей Хейероде, а я думаю, что у всего населения бывшей ГДР, не выветрились из памяти наши добрые дела, заботы и различные благодеяния.

Нынешний бургомистр села Хейероде Венделин Хеннинг
Из этого письма я узнал, что тогдашний бургомистр Хейероде, пожилой, грузный Франц Хуншток, с которым мне довелось вместе работать, по материнской линии является родственником нынешнему бургомистру Венделину Хеннингу. И далее В. Хеннинг подробно описывает историю, о которой я уже слышал, как Франц Хуншток сдал село американцам без боя и этим избавил его от разрушений и ненужных жертв, чем заслужил огромное уважение всех сельчан.
Кроме письма в объемистый пакет были вложены несколько цветных открыток с видами Хейероде и два красочных буклета, один под названием “История села Хейероде в рисунках и снимках” 1994 года издания, второй буклет о местной музыкальной капелле, которую я в свое время регистрировал как общественную организацию.
И опять в обоих этих письмах о Лизе не сказано ни одного слова. Я написал по этим двум адресам большие содержательные письма. От бургомистра не ждал и не жду ответа, он занятой человек и ему некогда заниматься перепиской с каким-то русским пенсионером. Но от вдовы Гюнтера ждал и сейчас жду ее ответного письма, а его нет до сих пор и, возможно, вообще не будет. В своем письме от 27 июня 1995 года я писал ей:
“…Вероятно, на похоронах Гюнтера в Хейероде были все его братья и сестры, в том числе и Лиза. Вероятно, Лиза читала мои письма, адресованные Гюнтеру, и теперь знает обо мне, о моем воскрешении из прошлого. Пожалуйста, сообщите мне, что она сказала на это, как она отреагировала на мое желание узнать о ее судьбе и о ее жизни. Лиза ведь не знает, почему я в далеком 1956 году послал ей письмо с предложением прекратить нашу переписку…
Сейчас в наши дни я написал небольшую повесть под названием “Ваниляйн и Лизхен”, в которой рассказал о пашей с Лизой любви и о наших отношениях… ”
Видимо, я сделал крупную непростительную ошибку, сказав о том, что я написал книгу о нашей любви. Елизавета Вальдхельм (моя Лиза) и Елизавета Вальдхельм (вдова Гюнтера), с которой я сейчас вроде бы состою в переписке (имеют хорошую связь между собой, как я думаю), не приняли душой мои откровения, возможно, даже испугались их и побоялись в дальнейшем переписываться со мною. Их можно понять: вдруг на самом деле моя книга объявиться в Германии и тогда эти откровения не только принесут Лизе моральные неудобства, неприятности и даже вред, но и нарушат сложившийся годами уклад ее жизни.
Может быть, я что-то здесь преувеличиваю,
но факт остается фактом, что я за полгода не получил из Хейероде ответа на свое приведенное выше письмо. 30 ноября 1995 года я послал на имя вдовы Гюнтера еще одно письмо с поздравлениями по случаю приближающегося праздника Рождества и наступающего нового, 1996, года, в котором я ни разу не упомянул имя Лизы, чтобы, как мне кажется, не задевать больную для них тему. И если это мое письмо останется без ответа, то я, пожалуй, не осмелюсь больше тревожить их своими письмами, так как буду считать, что мои предположения об их опасениях за мои откровения реальны.
Возникшие в этом году новые ситуации и взаимоотношения с семьей Гюнтера не изменили моих чувств к Лизе. Я так же, как и раньше, продолжаю любить ее тихой, застенчивой и запрятанной в самую глубину моего сердца страдальческой любовью, без всякой надежды на взаимность, так как время – этот великий целитель и преобразователь – могло изменить саму Лизу, переориентировать ее взгляды, но не ее чувства. Я думаю, что и она так же, как и я, по-прежнему любит меня, но теперь уж не так свободна в излияниях своих чувств, как раньше. Не исключаю и того, что она до сих пор носит в своей груди обиду на меня за то, что я в далеком 1956 году по своей инициативе прекратил с ней любовную переписку и разрушил саму любовь.
Но я не в обиде на нее и не осуждаю ее поступки, точнее непоступки, не зависимо от того, нравится мне это или нет. Человек, который по-настоящему и глубоко любит другого человека, не осудит, а простит ему любой, даже сделанный во вред ему поступок. Больше того, он сам найдет веские причины, чтобы оправдать его, убедить себя и окружающих о благородных мотивах этого “неблагородного" поступка. Он не только простит все любимому существу, но и оправдает его. Таков закон любви, который на крутых поворотах судьбы, как на лакмусовой бумажке, проверяет, была ли эта любовь настоящей или была только ее подобием.
Так поступил и я. По какой-то не известной мне причине, Лиза, зная мой адрес, пока не написала мне, а ее ближайшие родственники ничего не сообщают и не пишут о ней, если не считать той одной-единственной фразы из первого письма Гюнтера. Ну и пусть будет так. Значит, моей Лизе так удобно, ей так надо, и я, конечно, не осуждаю и тем более не сержусь на нее. Я как безмерно любящий ее человек не только во всем согласен с нею, но и буду сам активно поддерживать и проводить в жизнь ту норму поведения, которую Лиза сама выбрала. Мне важнее ее личное благополучие, ее спокойствие и ее счастье, чем свое собственное желание и стремление что-то узнать о ней. Одна только мысль, что она, моя Лиза, жива и здорова, что она где-то, пусть далеко от меня, живет, дышит и ходит по земле, что это милое и бесконечно дорогое мне существо есть на белом свете, придает мне силы, уверенность и, может быть, какие-то надежды на будущее. Я начинаю заново понимать смысл своей жизни и предназначение своего собственного существования, неожиданно у меня появились новые благородные стремления и обострился вкус к жизни. Я почувствовал, что мое сердце забилось чаще и полнее, и что я сам стал лучше и чище. Вот так человек облагораживается не только самой любовью, но и ее прошлым отблеском. Так было, так есть и так будет всегда. Сейчас мне от Лизы ничего не надо и я ничего от нее не жду. Дай Бог, чтобы она была действительно здорова и счастлива. Да, да, действительно, счастлива. Я этого ей всегда желал и желаю сейчас. И хотя история нашей любви длится полвека, но она еще не окончилась и не закончится, пока мы оба живы и я не ставлю точку, а ставлю многоточие… История нашей любви продолжается, ведь Вюрфель-2 еще не сказал своего последнего слова, и он его скажет обязательно!
И сейчас, когда на меня наплывают приступы острой, порой невыносимой тоски и одиночества, я как и раньше поспешно выбегаю на крыльцо своего дома и со слезами на глазах посылаю в бездонную пучину ночного неба свой запоздалый и покаянный призыв:
“ЛИЗА, ЛИЗОЧКА, ЛИЗХЕН!
Я ПО-ПРЕЖНЕМУ ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!
ГДЕ ТЫ? ГДЕ? ОТЗОВИСЬ!..”
Красноярск, 15 декабря 1995 года
Источники иллюстраций
Все фотографии взяты из личного архива автора, схемы составлены автором.
В 6-й главе приведен отрывок и рисунки из газеты ГДР “Junge Welt”, номер 154.
Оглавление
1. Девушка из Хейероде
2. Комендантские заботы
3. Был дождь, был ветер, и была любовь
4. Два праздника в один день
5. Что сказал Вюрфель
6. Десять лет и вся жизнь
Послесловие автора