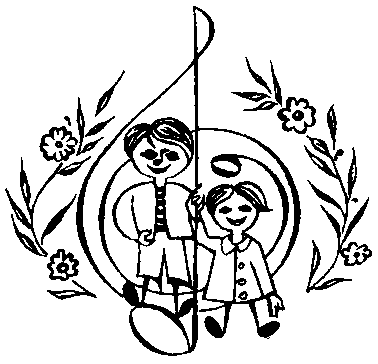ПИОНЕРСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КЛУБ

Издательство «Музыка» Москва 1971
Ответственный редактор О. О. ОЧАКОВСКАЯ
Составитель М. КАЛАКУЦКАЯ
Редактор И. ШАЛИМОВА
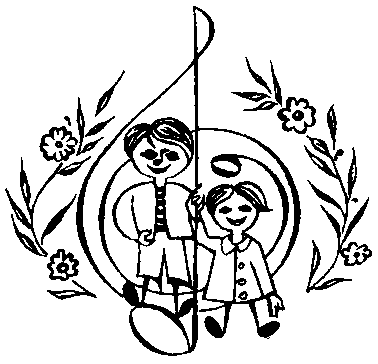
В. МУРАДЕЛИ.
КАК Я РАБОТАЛ НАД ОБРАЗОМ ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА В ОПЕРЕ «ОКТЯБРЬ»
Как-то осенью 1950 года мне позвонил главный дирижер Большого театра Самуил Абрамович Самосуд:
— Заходите ко мне, Вано Ильич. У меня есть для вас очень интересное, по-моему, предложение.
Самуил Абрамович дал мне прочитать либретто Владимира Луговского, повествующее об исторических событиях Октября 1917 года.
Это не было оперное либретто в привычном понимании этого слова. Передо мной лежала замечательная романтическая поэма «Октябрь».
Меня сразу захватило и содержание поэмы и музыкальное звучание стихов. В них слышался героический голос революционного народа России. Я почувствовал, что буду увлеченно работать над этим произведением, и с радостью согласился писать оперу «Октябрь».
Творческие встречи с Луговским, точные советы Самосуда постепенно определяли драматургические контуры будущего сочинения.
Когда я писал оперу «Великая дружба», события которой разворачиваются на Северном Кавказе, меня не очень волновал вопрос национальной окраски музыки, так как музыкальное творчество народов Кавказа мне было хорошо знакомо. Но когда я обратился к опере «Октябрь», где раскрываются образы русских людей, повествуется о революционных событиях в России, к опере, где должен быть достойно воплощен сценический образ вождя революции Владимира Ильича Ленина, вопрос о национальных особенностях музыки приобретал для меня первостепенное значение.

 А. Страхов. Фрагмент плаката «В. Ульянов (Ленин)».
А. Страхов. Фрагмент плаката «В. Ульянов (Ленин)».
И тут я вспомнил о разговоре с Самосудом, который был у нас, когда мы работали над «Великой дружбой».
— Какова будет национальная окраска вашей музыки? — спросил меня тогда Самуил Абрамович.
— А на каком языке я отвечаю на ваши вопросы? — в свою очередь спросил я.
— На русском, разумеется, — улыбнулся он.
— А с каким акцентом? — вновь спросил я.
— С явно кавказским акцентом, — рассмеялся Самуил Абрамович.
— Вот я и напишу русскую оперу с кавказским акцентом, — также со смехом ответил я.
А вот сейчас, думал я, нужно написать подлинно русскую оперу— «с русским акцентом». И хотя многолетняя работа над советской песней, в которой я стремился опираться на интонации русской революционной и народной песни, помогла мне в какой-то степени проникнуть в сферу русской песенной интонации, я все-таки немного страшился плыть к новым, хотя и необычайно заманчивым берегам.
Тяжелая болезнь Владимира Луговского помешала нам завершить работу над либретто. Только спустя десять лет, в 1960 году, я вернулся к опере. В содружестве с режиссером И. Тумановым и драматургом В. Винникозым был создан окончательный сценический вариант либретто. Оперу я закончил в 1961 году.
Впервые «Октябрь» был показан Ансамблем советской оперы Всероссийского театрального общества в том же году. Через год в исполнении творческих коллективов Всесоюзного радио под руководством дирижера Евгения Светланова опера прозвучала в открытом концерте.
В 1964 году в ознаменование дня рождения Владимира Ильича Ленина Большой театр Союза ССР поставил оперу «Октябрь» на сцене Кремлевского Дворца Съездов. Премьера состоялась также в Ленинградском оперном театре имени С. М. Кирова, в оперных театрах Новосибирска и Минска. 7 ноября 1967 года, в день пятидесятилетия Советского государства, опера «Октябрь» прозвучала в Улан-Баторе, столице братской Монголии.
Естественно, в небольшой беседе я не ставлю своей задачей подробно рассказать о том, как я обдумывал оперу, как писал ее и, наконец, как она увидела свет рампы.
Мне хочется рассказать только о том, как я работал над образом Владимира Ильича Ленина.
Создавая сценический образ вождя, я мог бы пойти тремя путями.
Первый путь: образ Ленина входит в сюжетную канву оперы, как персонаж немого кинофильма.
Второй путь: исполнителю роли Владимира Ильича поручается только литературный текст, как в драматических спектаклях.
И третий путь: образ Ленина раскрывается вокальными средствами.
Как быть? По какому пути идти?
К сожалению, в истории советского искусства примеров решения оперными средствами образа Ленина не было. Я не имел возможности воспользоваться творческим опытом советских композиторов в этом направлении. И все-таки я избрал третий путь. Я думал: если образ Ленина представлен как оперный персонаж, то он и должен быть раскрыт теми же музыкальными средствами, которые привлекает автор для характеристики других действующих лиц. Проще говоря, если персонажи поют, то и Ленин должен петь. Иначе создается впечатление, что либо оперными средствами невозможно разрешить задачу создания сценического образа Ленина, либо драматургу и композитору просто не удалось найти убедительных средств выразительности для воплощения образа вождя в оперном произведении.
Друзья, однако, не советовали мне поручать исполнителю роли Ленина вокальную партию.
И действительно, я сам не представлял себе Ленина поющим арии и дуэты. Но почему? Ведь я не чувствую неловкости, когда русский крестьянин Иван Сусанин поет свою предсмертную арию. В сцене письма Татьяны нас гораздо больше волнует условное вокальное выражение чувств, чем безусловное содержание письма.
Значит, нужно создать такой драматургический накал атмосферы вокруг образа Ленина, чтобы пение его было естественным эмоциональным результатом большой взволнованной мысли.
Может ли Ленин запеть «Марсельезу», «Варшавянку» или «Интернационал»? Конечно, может, отвечал я себе. Значит, надо искать.
Вот к каким результатам мне удалось прийти.
В первом акте оперы «Октябрь», когда в апреле 1917 года петроградские большевики встречают на Финляндском вокзале своего вождя, Ленин обращается к ним с призывом:
— Мир народам!
Народ повторяет призыв вождя.
— Фабрики рабочим!
— Земля крестьянам!
— Вся власть Советам!
Каждый раз слова Ленина повторяются в хоре народа.
И хотя Ленин еще не поет, его слова вплетены в музыкальную ткань оперы как составная часть его вокальной партии.
Но самая трудная задача в создании образа Ленина ждала меня впереди. «Разлив», шестая картина оперы, — кульминация произведения.
В Разлив приезжают соратники Ленина — посланцы петроградских большевиков. Владимир Ильич беседует с ними о подготовке вооруженного восстания. По либретто предполагалось, что Ленин будет разговаривать. Пение исключалось. Это решение, как нам тогда казалось, было вполне правильным.
 Сцена из оперы В. Мурадели «Октябрь».
Сцена из оперы В. Мурадели «Октябрь».
Однако меня все время мучила мысль: неужели сценический образ Ленина в опере будет представлен как действующее лицо из драматического спектакля?
Здесь я надолго задумался.
Известно, что Ленин очень любил музыку и хорошо знал ее. В юности у него был несильный, но красивый баритон, и он иногда в кругу семьи пел романсы и арии из опер. Брат Ленина, Дмитрий Ильич Ульянов, рассказывает, например, в своих воспоминаниях о том, что Владимир Ильич с увлечением исполнял арию Валентина из оперы «Фауст».
Но когда я представил Ленина поющим подобную арию в моей опере, я понял, что этого делать нельзя.
Даже в оперном жанре, где многие условности звучат как сценическая правда, я должен был искать такое музыкальное решение образа Ленина, которое не только вытекало бы из сценической правды, а продолжало бы жизненную правду реальной действительности.
Мне вспомнился разговор с моей женой Наталией Павловной Шиловцевой — уроженкой Саратова. Она рассказала, что сестра ее отца, Екатерина Ивановна, была участницей революционного кружка, возглавляемого Николаем Эрнестовичем Бауманом. Екатерина Ивановна не раз вспоминала о том, как участники кружка рассказывали о своих встречах с Владимиром Ильичем Лениным. Заканчивались эти встречи обычно пением революционных и народных песен. Владимир Ильич был душой вечеров, а подчас выступал дирижером импровизированного хора. Называла Екатерина Ивановна и песни, которые, по словом кружковцев, исполнялись Лениным и его друзьями.
Среди этих песен меня привлекла русская народная песня о реке Каме — «Камушка» (песню эту мне спела Наталия Павловна). В ней повествуется о тяжелой доле волжских бурлаков, об их вековечной мечте — обрести право на свободную жизнь. Сначала мне показалось, что слова «Камушки» — народные. Но вскоре я узнал, что автор этих стихов — великий русский поэт Н. А. Некрасов.
Меня особенно захватили следующие строки:
Эй, ветерок,
Дуй посильней,
Дай хоть часок
Нам повольней!
Известно, что в русской революционной литературе образ ветра символизирует борьбу трудового народа за свободу.
Что если, думал я, на озере Разлив питерские рыбаки запоют песню бурлаков; Ленин, услышав знакомую с детства песню, подхватит ее. Ведь революционные идеи, звучащие в этой песне, сродни и волжским бурлакам и питерским рабочим.
Я поверил в этот замысел и с чувством большого волнения написал сцену в Разливе.
В финале оперы «Октябрь», перед началом штурма Зимнего дворца, Ленин вместе с народом поет «Интернационал».
Приятно сознавать, что мои друзья, не советовавшие мне поручать исполнителю роли Ленина вокальной партии, больше не возвращаются к своим прошлым сомнениям.
Отрывок из книги В. Мурадели «Из моей жизни»
М. ДОБРОСЛАВСКИЙ. МУЗЫКА КРЕМЛЕВСКИХ КУРАНТОВ

Винтовая лестница ведет вверх. Там, высоко над головой, словно на небе раздаются ритмичные раскаты грома. Поднимаемся еще на несколько этажей, и перед нами массивная железная дверь — вход в гигантский часовой механизм. Это невидимая часть так хорошо всем нам знакомых Кремлевских курантов на Спасской башне Кремля. Здесь на шестидесятиметровой высоте в музыкальном отделении самых больших часов нашей страны расположился своеобразный оркестр из тридцати четырех колоколов. Будто солдаты стоят они под командой огромного «Бас-колокола», вес которого 500 килограммов.
Когда-то много лет кряду эти колокола своим величавым звоном прославляли царя и бога. Старые мастера научили их играть мелодию «Коль славен наш господь...». Каждые три часа, начиная с 1851 года, послушно звонили Кремлевские колокола.
Но наступил день, когда часы дрогнули от разрыва снаряда, и «ход царского времени» был остановлен навсегда.
Это случилось 2 ноября 1917 года. На Красной площади шли ожесточенные бои. Красногвардейцы и революционные солдаты под командованием Михаила Васильевича Фрунзе окружили Кремль, где засели остатки белогвардейцев и юнкеров. Они яростно отбивались, чувствуя приближающийся крах. Во время артиллерийского обстрела Кремля гаубичный снаряд попал в Спасскую башню, и стрелки часов замерли.
На следующий день Кремль был взят, и в Москве была провозглашена Советская власть. Как только в марте 1918 года Советское правительство переехало в Москву, по указанию Владимира Ильича Ленина началось восстановление Кремля.
 К. Юон. «Взятие Кремля».
К. Юон. «Взятие Кремля».
Особую сложность представляли Кремлевские куранты. Ремонт такого гигантского часового механизма был по тем временам загадкой.
В московских газетах появились объявления: всех, кто знал часовое дело, приглашали в Кремль. На Спасской башне побывало много часовых мастеров. Но, осмотрев механизм, все отказывались от ремонта.
Тогда обратились к знаменитым европейским часовым фирмам. Но они запросили за ремонт такую фантастическую сумму, что от их «заботливых» услуг пришлось отказаться. И снова начались поиски людей, которые сумели бы восстановить этот уникальный часовой механизм.
Наконец, кремлевский слесарь Николай Беренс и его сыновья Василий и Владимир решили взяться за ремонт. Много дней провели они в Спасской башне. Их смекалка и упорство заставили сдвинуться с места пудовые зубчатые колеса. Часы пошли. Но это была половина дела.
В воспоминаниях наркома имуществ Н. Виноградова есть такой эпизод. Однажды Владимир Ильич пригласил его к себе в кабинет и рассказал ему о своей мечте — сделать так, чтобы Кремлевские колокола разносили по всему миру звуки «Интернационала», возвещая о рождении первого в мире Советского государства. Надо заставить часы, — говорил Владимир Ильич, — играть нашу музыку.

Но как это сделать? Н. Виноградов по всей Москве разыскивал такого музыкального мастера, который бы мог разгадать тайну колоколов и «научить» их играть новую мелодию. Все было безуспешно.
Как-то поздно ночью, вернувшись домой, он поведал о своих поисках соседу по квартире Мише Черемных, студенту Художественного училища живописи, ваяния и зодчества (Миша был также большим любителем музыки). Юный художник сразу загорелся этим интересным делом и попросил Н. Виноградова разрешить ему завтра же отправиться в Кремль и осмотреть куранты.
«В огромном помещении мне представилось нечто, похожее на музыкальную шкатулку, только в сотни раз больших размеров, — вспоминает уже много лет спустя художник Михаил Черемных. — Передо мной был огромный медный барабан, усеянный дырочками и штифтами наподобие колышков. Барабан при вращении смещается вдоль своей оси и заставляет эти колышки нажимать на клавиши. От клавиш тянутся вверх длинные канаты. Они через систему рычагов задевают молотки, а те, в свою очередь, бьют по колоколам.
...Долго разглядывал я цилиндр барабана. Наконец обнаружил идущие по его краю цифры. «Должно быть, они обозначают номера колоколов», — подумал я. И тотчас же старательно срисовал схему барабана, отметив каждый колышек жирной точкой. В результате у меня получилась на бумаге своеобразная «партитура».
Мелодию «Коль славен» я знал. Поэтому расшифровать записанную партитуру не представило особого труда. Знал теперь и какой ноте, какой октаве соответствует каждый колокол. Достав на другой день новые ноты, я составил свою схему. Внешне она имела весьма необычный вид. Вместо нотных линеек — начертанные карандашом обыкновенные линии, вместо нот — черные точки, на первый взгляд расположенные без особого порядка. Не всякий даже самый опытный музыкант смог бы прочесть мою запись.
Далее оставалась только техника: переставить колышки барабана на новые места. В этом мне помогал кремлевский слесарь. Через две недели я доложил Виноградову об окончании задания. В соответствии с пожеланием Владимира Ильича куранты стали исполнять новые мелодии...»
Праздничные дни 1918 года. Первая годовщина Октябрьской революции. Ленин, Свердлов, Калинин, Бонч-Бруевич стоят на Драгунском плацу в Кремле. Над Красной площадью раздаются звуки «Интернационала». Кремлевские куранты, как и мечтал Ильич, «играют нашу музыку».
Д. КАБАЛЕВСКИЙ. О МУЗЫКЕ «ЛЕГКОЙ» И О МУЗЫКЕ «СЕРЬЕЗНОЙ»
ДВЕ ОШИБКИ
Мы очень привыкли к этим словам — «легкая» и «серьезная» музыка и часто запросто пользуемся ими в разговоре. А вот попробуйте-ка ответить на вопрос: что такое
легкая музыка и что такое музыка серьезная? Думаю, что это не так уж просто вам удастся. А может быть, и вовсе не удастся. Но вы не смущайтесь — это в самом деле непростой вопрос. Давайте попытаемся вместе на него ответить.
Начнем вот с чего. Мы уже знаем, что музыка, литература и все другие искусства неотделимы от жизни человека, являются важной ее частью. Поэтому в искусстве отражается все, абсолютно все, чем живет человек. И не только один человек, а целые народы и даже все человечество. Нет в настоящем искусстве ничего, что не было бы так или иначе связано с человеком, с его жизнью. И нет в жизни человека ничего, что не нашло бы своего отражения в искусстве.
А из чего состоит человеческая жизнь? Что в ней главное — «серьезное» или «легкое»? Ну, конечно, «серьезное»: неустанный труд, увлеченные занятия, большие мысли и глубокие чувства, верная дружба и чистая любовь, большая радость и такие же большие печали, события, вторгающиеся в жизнь человека, и события, потрясающие весь земной шар, борьба за свободу и справедливость, борьба за счастье, борьба за мир... Вот это все и служит источником большого, «серьезного» искусства, становится его содержанием, его смыслом.

Но есть все-таки в жизни человека и другая сторона. Есть в ней улыбка и смех, шутка и веселье, есть отдых и развлечение, есть желание потанцевать, побаловаться, побалагурить. Вот тут-то и возникает «легкое» искусство: юмористические рисунки и карикатуры, забавные рассказы и веселые стихи, развлекательные кинофильмы и эстрадные представления...
Возникает тут и легкая музыка. Ни одно другое искусство не занимает такого большого места в играх и развлечениях человека, так настойчиво не вторгается в часы его досуга, как музыка.
Музыка оказывается нашим незаменимым другом, когда мы хотим развлечься после утомивших нас дел, повеселиться, собравшись на вечер в школе, в клубе или просто дома на дружеской вечеринке. Без музыки мы не можем ни потанцевать, ни попеть. Музыка создает особо праздничную атмосферу зимой на катке, летом на спортивной площадке, в пионерском или в туристском лагере.
Во всех этих случаях музыка безраздельно господствует над всеми другими искусствами. Но всякая ли музыка окажется здесь на месте? Конечно, не всякая — это ясно каждому.
Вот захотелось потанцевать — для этого нужна специальная «танцевальная» музыка. Тут нам ни Бах, ни Бетховен не помогут. Не помогут и Глинка с Чайковским, как бы мы ни любили их музыку, как бы ни восхищались ею. В балетных и оперных спектаклях на эту музыку ставятся прекрасные танцы, но это ведь совсем не те танцы, которые мы с вами сегодня танцуем.
А в туристском походе захотелось спеть песню — в любом походе, даже на простой прогулке всем всегда почему-то петь хочется! — тут тоже ни Моцарт, ни Мусоргский не помогут. Нужны какие-то особые, свои, туристские песни. И они обязательно должны быть легкими, чтоб в пути легко пелись, и обязательно современными, чтобы каждое слово было понятным, сегодняшним, чтобы мелодия тоже дышала нашим временем.
Нужна легкая музыка и в цирке. Здесь она должна быть жизнерадостной, молодой и упругой, как упруго, молодо и жизнерадостно само цирковое искусство.
Нужна легкая музыка и в любом эстрадном концерте, где без нее окажутся скучными даже самые блестящие номера эстрадного искусства.
Наше время создало даже совсем новую область легкой музыки — джаз. Выйдя из недр народной негритянской песенности, джаз давно уже оторвался от своего первоначального народного истока и в разных странах мира стал приобретать свою особую национальную окраску. Джаз подчинил себе почти всю область легкой танцевальной музыки. Впрочем, этим он не ограничивается. Подобно тому, как в свое время музыка вальса из танцевального зала вторглась на концертную эстраду, превратившись одновременно из легкой танцевальной музыки в серьезную симфоническую, так сегодня джаз пытается, и иногда не безуспешно, занять положение в качестве серьезной музыки в концертных программах. Будущее покажет, насколько эти попытки окажутся плодотворными...
 Антуан Ватто. «Общество в парке».
Антуан Ватто. «Общество в парке».
Из легкой музыки вырастает наконец и высшая, самая богатая и развитая ее форма — оперетта. Ведь главное в оперетте, ее «душу» и составляет обязательно легкая, обязательно веселая и жизнерадостная музыка!
Вот видите, как много причин, объясняющих широкое распространение легкой музыки! Но есть здесь еще одна причина. Эта причина премного способствует тому, что легкая, развлекательная музыка распространяется гораздо шире, чем, если так можно выразиться, она имеет на это право. Причина эта заключается в том, что, отражая «легкие» стороны нашей жизни, причем отражая их в самой легкой, общедоступной форме, она далеко не всегда содержит в себе большие мысли и глубокие чувства.
Следовательно, и для того чтобы воспринять, усвоить такую музыку, от нас чаще всего не требуется ни напряжения мысли, ни напряжения душевных сил. «Развлекательность», «ритмичность», «внешняя красивость», «легкость» (а по сути — облегченность чувств и мыслей) — вот основные качества этой музыки, которую легко слушает, легко поет и под которую легко танцует любой, даже совсем музыкально не опытный, не просвещенный человек.
В этом, конечно, заключено и большое, неоспоримое достоинство легкой музыки — ее широчайшая доступность. Но не зря говорит народная мудрость: недостаток есть продолжение достоинства. И вот многие люди, встречаясь с легкой музыкой чуть ни на каждом шагу, начинают думать, что это-то и есть самое главное и самое лучшее в музыке. А привыкнув к этой мысли, начинают противиться всякой другой музыке, в слепоте своей и не догадываясь, что эта «всякая другая» музыка и есть настоящее музыкальное искусство!
Как же избежать этой пагубной ошибки? Для того чтобы ответить на этот вопрос, попробуем подойти к нему с другой стороны. Ведь встречается иногда и другая ошибка, другая крайность, когда человек очень любящий серьезное, великое музыкальное искусство, пренебрежительно относится к легкой музыке и даже иной раз вовсе отрицает ее. Это тоже плохо, потому что всякая односторонность, всякая ограниченность обедняет человека, его духовный мир.
Такая крайность встречается, правда, редко, потому что человек, знающий и любящий серьезную музыку, как правило, понимает толк и в музыке легкой, развлекательной. А вот человек, который...
Впрочем, для продолжения этого разговора я хочу пригласить вас познакомиться с одной кинокомедией, к которой, кстати, музыку пришлось писать мне самому. Называется эта кинокомедия...
АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ
Он не мог не сердиться. Он обязательно должен был сердиться. Ну посудите сами: почтенный музыкант, знаменитый органист, профессор консерватории, Антон Иванович всю жизнь признавал только самую серьезную, самую возвышенную, самую благородную музыку. И дочь свою Симочку, обладательницу прелестного голоса, музыкальную и чуткую певицу он воспитывал в таких же строгих правилах самого высокого, самого безупречного вкуса.
И вдруг, как гром среди ясного неба: Симочка — его гордость и надежда, Симочка — такая прекрасная исполнительница классического репертуара, мечтает стать... артисткой театра оперетты!.. Антон Иванович воспринимает это, как измену настоящему искусству, измену высоким идеалам, которым он посвятил свою жизнь, наконец, как измену ему — отцу, вложившему в любимую дочь всю свою страсть к музыке, все свои знания, весь свой многими годами упорного труда нажитый опыт. Для него это было ужасно!..
Но беда, нависшая над седой головой Антона Ивановича, этим не ограничилась. Бедный профессор! Катастрофа оказалась больше и страшнее, чем он предполагал: Симочка (о ужас!) влюбилась в молодого композитора — того самого, который и сочинил увлекшую ее оперетту, полную заразительно-веселой музыки, лихих танцев и острых шуток...
Этого Антон Иванович уже просто не мог перенести. Силы оставили его. Измученный волнениями и горькими мыслями, он заснул тяжелым сном в своем любимом старом кресле перед огромным, в тяжелой золотой раме, портретом Баха...
Великий Иоганн Себастьян Бах! Титан из титанов. Даже Бетховен склонял перед ним свою львиную голову. «Бах» — означает по-немецки — ручей. «Не ручьем, а морем надо было ему называться» — сказал Бетховен о своем гениальном предшественнике...
Всю свою долгую жизнь не расставался Антон Иванович с музыкой Баха. Он преклонялся перед ее величественной красотой, перед глубиной выраженных в ней мыслей, силой и благородством воплощенных в ней чувств. Бывало, что в сердце Антона Ивановича появлялись тревоги и сомнения, или ему просто становилось от чего-нибудь грустно на душе, или он, не знавший отдыха, слишком уставал от работы. Тогда он поднимал глаза к портрету своего божества, мысленно беседовал с ним, вызывая в своем сознании звучание его музыки, — и находил успокоение от всех тревог, ответы на все вопросы и сомнения, черпал новые силы для труда, для своего искусства.
Да, Бах — это божественный гений! Нет и ничего не может быть выше его!..
Антон Иванович спит мучительно-тревожным сном в своем любимом старом кожаном кресле...
Но что это происходит? Холст портрета зашевелился, в глазах Баха и на его губах появляется улыбка, грудь под старинным камзолом приподымается и начинает дышать... Через секунду великий Иоганн Себастьян, выйдя из рамы, уже стоит перед Антоном Ивановичем, достает из кармана старомодных шелковых панталон табакерку, засовывает в свой широченный нос понюшку табаку и, кажется, даже чихает. Потом как-то странно, почти игриво покачивая головой, прикрытой белым напудренным париком с пышными локонами, заводит совсем простой, по-домашнему доверительный разговор с почтенным профессором.
— Ну, разве же так можно! Огорчаться из-за таких пустяков! И зачем лишать себя удовольствия петь, играть и просто слушать веселую, легкую, например, танцевальную музыку!..
Антон Иванович не верит своим ушам. Неужели эти крамольные слова говорит великий Бах?!..
А великий Бах продолжает:
— Вы знаете, профессор, меня все считают очень серьезным композитором. И я с этим не спорю. Но кроме органных концертов, сонат, прелюдий и фуг, кроме ораторий, кантат и хоралов на религиозные, библейские сюжеты я очень люблю сочинять весёлую музыку, особенно музыку для танцев... Вы, должно быть, просто забыли об этом. Ну, вот послушайте...
Великий Бах садится за фортепиано и, хитро подмигнув пораженному Антону Ивановичу, бойко играет один из своих самых веселых танцев...
— Нет, профессор, вы положительно не правы. Вам угрожает опасность превратиться из серьезного музыканта в музыканта скучного. А вы ведь понимаете, что это вовсе не одно и то же. И не старайтесь превратить в скучных людей и в скучных музыкантов вашу прелестную дочку и ее... как бы это сказать... ну, словом, того милого молодого композитора...
Антон Иванович просыпается от резкого звука внезапно открывшейся двери. Перед ним стоит Симочка...
Я думаю, что вы уже сами можете представить, как дальше развивались события в доме Антона Ивановича.
Разумеется, суровый профессор примирился с Симочкиным стремлением к легкой, веселой музыке. Больше того — он примирился с самой легкой музыкой и даже полюбил ее.
Конечно, помог этому серьезный разговор о легкой музыке с божественным Бахом. Но помогла и сама Симочка. Она так серьезно отнеслась к своему первому выступлению в театре оперетты и проявила при этом такой безупречный вкус и такое удивительное для ее юного возраста мастерство, что Антон Иванович, кажется, впервые в жизни почувствовал, что по-настоящему серьезным музыкантом можно быть и при исполнении легкой музыки.
 Ян Верколье. «Юноша с виолой да гамба».
Ян Верколье. «Юноша с виолой да гамба».
Помог этому, конечно, и молодой композитор, ставший вскоре Симочкиным женихом. Слушая его легкую, веселую, полную увлекательных танцевальных ритмов музыку, Антон Иванович понял, что даже самая легкая музыка может быть тоже настоящей музыкой, если сочинявший ее композитор — серьезный музыкант с хорошим вкусом и настоящим мастерством...
Вот какая история произошла с Антоном Ивановичем...
КОФЕЙНАЯ КАНТАТА
Несмотря на то, что кинокомедия «Антон Иванович сердится» вышла на экран уже более четверти века назад, ее и сегодня можно увидеть на экранах кинотеатров и на телевизионном экране. Вероятно, это оттого, что споры о легкой и серьезной музыке и сегодня не затихают, особенно среди юношества и молодежи, а переданный через увлекательную форму музыкальной кинокомедии, сыгранной прекрасными актерами, спор этот становится очень наглядным и очень понятным.
Бах был введен в этот фильм как верховный арбитр в споре между Антоном Ивановичем и Симочкой не случайно: всем своим творчеством он учит нас разумному отношению к серьезной и к легкой музыке.
Он действительно был очень серьезным музыкантом, но никогда не был музыкантом скучным. Он действительно любил сочинять веселую, легкую музыку, но отлично понимал, что не она составляет главную часть музыкального искусства, как шутка не составляет главную часть жизни человека. А кроме того он и к легкой музыке относился всегда по-настоящему серьезно, никогда не снижая своего безукоризненного, высочайшего вкуса.
Но в своем разговоре с Антоном Ивановичем Бах все-таки пощадил бедного профессора, побоялся уж слишком поразить его и поэтому, говоря о своей симпатии к веселой музыке, не рассказал ему о самом своем большом «прегрешении» в этой области.
Он просто утаил от Антона Ивановича, что сам тоже написал оперетту! Ну, конечно, не такую, какие сочиняются в наши дни, то есть спустя 200 лет после его смерти. Тогда даже не существовало еще такой формы музыки, не говоря уж о таком названии. У Баха это была не оперетта, а кантата, то есть сочинение для солистов-певцов, хора и оркестра.
Это была одна из его более чем трехсот кантат. Кроме своего номера (211-й!) от прочих баховских кантат она отличается необычным названием — «Кофейная».
Что же послужило поводом для написания этого любопытного сочинения? А вот что: в ту пору, когда жил Бах, кофе, завезенное в Европу из Южной Америки, все еще считалось странным новшеством и частенько служило предметом раздоров между «отставшими от века» стариками и «идущей в ногу с веком» молодежью. Бах живо интересовался всем, что вокруг него происходило, и всегда готов был откликнуться на любое новшество. Как видите, даже к «кофейным спорам» своего времени он не остался безучастным.
Содержание кантаты очень незатейливо, но забавно. Строгий, бранчливый, угрюмый, как медведь, Стародум (вот ведь имя какое придумал Бах!), возмущен поведением своей дочки — юной Лизетты. Она решительно отказывается выполнить приказание отца, запретившего ей пить кофе.
— Папаша, — взывает она к Стародуму, — будьте же добрей! Я трижды в сутки по маленькой чашке кофе пить должна, не то костлявой буду я, как пересохшее жаркое!
Но Стародум неумолим. Чем только не пытается он воздействовать на строптивую Лизетту! Запрещает ей гулять... Не пускает ее в гости...
— И пусть! Зато я кофе не лишусь! — только и слышит он в ответ. Угрозы становятся все страшней:
— Останешься без модного кринолина!.. Ни с кем из знакомых не будешь говорить!.. Нарядной ленты для чепца не получишь!..
Ничто не помогает. Тогда Стародум произносит самую жестокую угрозу:
— Вовек ты не получишь мужа!..
Вот уж тут Лизетта не выдержала:
— О, кофе, сахар и печенье, простите вы! Ни чашки больше я не пью!
Стародум готов уже торжествовать победу. Но это торжество оказалось несколько преждевременным. Лизетта идет на хитрость: она распускает слух, что согласится выйти замуж лишь за того, кто позволит ей пить кофе — столько, сколько она пожелает...
— Привыкла кошка мышь ловить — девицы выпить кофе рады! — поется в последней части кантаты, и выговор в заключение получает не Лизетта, а папаша Стародум:
— Бранить папаше дочь не надо никогда!..
Ну, чем не оперетта?! Вот ведь каким весельчаком был великий Иоганн Себастьян Бах! А некоторые чудаки, по незнанию своему, представляют его себе музыкантом скучным, непонятным, не знавшим, что такое улыбка и шутка!
Воображаю, что случилось бы с Антоном Ивановичем, если бы он узнал, что Бах своей музыкой не только вмешался в спор Стародума с Лизеттой, но и решительно стал на сторону Лизетты...
Впрочем, ведь и в споре Антона Ивановича с Симочкой великий Иоганн Себастьян тоже был не на стороне папаши...
ДЕЛУ — ВРЕМЯ, ПОТЕХЕ — ЧАС
Не зря выходил Бах из тяжелой золотой рамы. Ведь беседуя с Антоном Ивановичем, он беседовал со многими миллионами кинозрителей, помогая им разобраться во многих сложных вопросах музыки, с которыми мы встречаемся постоянно, но найти верный ответ на которые вовсе не так просто, как это иногда кажется.
Я уверен, что если вы и не видели самого фильма (когда представится случай — обязательно посмотрите!), то даже по моему краткому рассказу о нем хорошо поняли главное из всего, что Бах сказал Антону Ивановичу. А заключается это главное в том, что всякая музыка — и самая серьезная, и самая легкая, — прежде всего, обязательно должна быть хорошей музыкой.
Между музыкой легкой и музыкой серьезной нет никакой стены и никакой непроходимой пропасти. Они не только существуют рядом, но часто сплетаются друг с другом и даже переходят одна в другую, как сплетаются и переходят друг в друга радость и горе, смех и слезы в жизни человека. Потому-то в глубоко-трагической опере Верди «Риголетто» может звучать удивительно легкомысленная песенка Герцога (вот прекрасный образец настоящей легкой музыки!), а в беззаботно-праздничное «Итальянское каприччио» Чайковского может проникнуть скорбная, почти трагическая мелодия, возможно отразившая тот факт, что во время сочинения «Каприччио», в дни карнавального веселья, композитор получил известие о смерти горячо им любимого отца...
Словом, «легкое» и «серьезное» в музыке сплетаются так же, как и в жизни. И уж если существуют в музыке непроходимая пропасть и стена, то искать их надо не между «легким» и «серьезным», а между хорошим и плохим!
И никогда не надо думать, будто серьезная музыка — это музыка «первого сорта», а легкая музыка — музыка «второго сорта». И та и другая должны быть «первосортными»!
Я уже говорил вам, что люди, знающие и любящие серьезную музыку, как правило, понимают толк и в музыке легкой, развлекательной, умеют в ней отличить хорошее от плохого. А вот тот, кто никакой другой музыки не знает и знать не хочет, кроме легкой, — даже в этом узеньком, облюбованном им мирке развлекательности никак не может разобраться — что же в нем хорошо, а что плохо?!..
Вот вели мы с вами разговор о песнях. Говорили о том, что музыка — это крылья песни, о том, что даже стихи самого Пушкина не поднимутся в песенный полет, если крылья слабы. Ну, а как же тогда понимать то, что иной раз летают по жизни явно плохие песни, плохие не только по словам, но и по музыке, то есть песни с хилыми, немощными крыльями?! Ведь все мы встречаем такие песни, не правда ли?!


Почему же они все-таки поются? Либо потому, что слишком привлекательны в них слова, и мы тянемся к ним несмотря на плохую музыку. Либо, наоборот, мелодия так увлекает, что остаются незамеченными плохие слова. А чаще всего (так бывает даже когда и слова, и мелодия не слишком хороши), когда по теме своей, по сюжету песня очень желанна нам, очень нужна.
Но жизнь таких песен очень недолговечна. От полета настоящих, хороших песен их полет отличается точно так же, как полет курицы отличается от орлиного полета. Тому, кто от песни, да и от музыки вообще, требует и ждет немногого, и курицын полет настоящим полетом показаться может: все-таки ведь взлетела!.. все-таки от земли оторвалась!.. А тот, кто смотрит с более высокой позиции, кто многого требует от музыки, кто уже научился хорошее в музыке отличать от плохого, тот уж курицу с орлом не спутает!..
Это касается, конечно, не только песен. Как важно научиться отличать неумелое бренчанье на гитаре, которое сегодня можно услышать повсюду — и на городской вечеринке, и на далеких туристских тропах, и у костров геологов, — от настоящей игры на гитаре, становящейся в руках музыканта инструментом прекрасным и богатым, способным не только очаровывать нас изяществом звучания легких песенок, но и волновать глубиной передачи самых содержательных произведений великих композиторов!
А разве не относится то же самое и к неумелому выдавливанию беспорядочных, пронзительных звуков из саксофонов, труб и тромбонов, которое выдается подчас за самую «современную», самую «модную» джазовую музыку, хотя и стоит бесконечно далеко от всякой музыки вообще!
Сегодня утром, когда я писал эту главу, мне принесли свежую почту. В одном из конвертов музыкальный руководитель пионерского лагеря «Орленок» переслал мне несколько писем, которые получил от пионеров, побывавших летом в «Орленке» и слушавших там его беседы о музыке. Хорошие письма. Видно, что не зря вел свои увлекательные беседы о музыке главный музыкант «Орленка». Ему удалось вызвать в своих юных слушателях интерес к музыке, любовь к ней и даже верное ее понимание. Одно из писем написано пионеркой Людмилой Ш. из города Рославля Смоленской области. Словно знала она, что я сижу сейчас над самой трудной главой своей книжки, и решила помочь мне поддержать веру в своих будущих читателей. Вот посмотрите, что она пишет: «Сейчас я часто спорю с нашими ребятами о музыке. Стараюсь доказать им, что надо любить классическую музыку, что она дает гораздо больше человеку, чем эстрадные песни и джаз. Но все равно человек должен слушать и то, и другое. Ведь он должен и веселиться, а то слишком скучно будет в мире».
Молодец, Людмила! Очень хорошо, очень верно написала! Конечно, и веселиться надо, но верно и то, что серьезная, классическая музыка дает человеку гораздо больше, чем любая, даже самая хорошая развлекательная музыка...
Я не сомневаюсь в том, что вы уже поняли смысл слов, которыми я назвал эту главку. Действительно, если мы условно назовем «делом» все серьезное, что есть в нашей жизни и в искусстве, а все, что в жизни и в искусстве есть легкого так же условно назовем «потехой», то не найти лучших слов для того, чтобы определить наше отношение и к жизни и к искусству, чем знаменитая поговорка: «делу — время, потехе — час»!
Глава из книги Д. Кабалевского «О трех китах и о многом другом».
 Альбрехт Дюрер. Фрагмент.
Альбрехт Дюрер. Фрагмент.
БЕТХОВЕН... АППАССИОНАТА...
Бетховен... Аппассионата...
И взорван порох тишины.
Мне самому понять все надо.
Мне объясненья не нужны.
Товарищ лектор, не спешите
Растолковать, что там к чему.
Пусть звезды кружатся в зените,
Ночную прожигая тьму.
Качнулся мощный взрыв аккорда—
И подо мною все быстрей
Земля плывет светло и гордо,
Вращаясь вкруг оси своей.
Товарищ лектор, в кои веки
Я слышу сам, я слышу сам,
Как перезванивают реки,
Как бродит эхо по лесам.
Я умоляю вас: не надо,
Не раскрывайте тайну мне...
Бетховен... Аппассионата...
Мы с музыкой — наедине.
М. Пляцковский
ВИКТОРИНА
1. В юности Владимир Ильич Ленин и его сестра Ольга нередко пели песню, в которой есть такие строки:
Там, за далью непогоды,
Есть блаженная страна:
Не темнеют неба своды,
Не проходит тишина...
Как называется эта песня и кто автор ее музыки и стихов?
2
. Один из соратников Ленина, впоследствии известный ученый, академик, был автором русского текста «Варшавянки». Он привез «Варшавянку» в Шушенское, к Ленину, и эта песня стала одной из самых любимых песен Ильича.
Кто этот революционер и ученый?
3. Назовите имя замечательного французского певца, сатирические куплеты и песни которого любил слушать Владимир Ильич в годы его пребывания в Париже.
4
. О каком произведении В. И. Ленин сказал: «Изумительная, нечеловеческая музыка. Я всегда с гордостью, может быть наивной, думаю: вот какие чудеса могут делать люди!»?
Кто автор этого сочинения?
Л. ГИНГОЛЬД. ЛЕТЯЩИЙ ВПЕРЕД ОРЕЛ
МИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ БАЛАКИРЕВ

Он только что появился в Петербурге — восемнадцатилетний пианист-виртуоз — и сразу же покорил любителей музыки своей блестящей игрой. Все чаще и чаще повторялось его имя: Милий Балакирев. На музыкальном небосводе северной столицы восходила новая звезда.
Бурный успех в свете, однако, мало прельщает юного провинциала. Он мечтает о другом — о творчестве, и у него уже есть собственные произведения. За спиной молодого музыканта два года занятий на математическом факультете Казанского университета. Теперь он оставил его, оставил ради музыки. Его музыкальные знания и навыки приобретены почти самостоятельно — нельзя же считать серьезной школой случайные уроки музыки, полученные им в детстве в родном Нижнем Новгороде! Он обладает феноменальной музыкальной одаренностью, почти фотографической музыкальной памятью, удерживающей во всех подробностях любое раз услышанное произведение. Он наделен неукротимой энергией и верой в свое призвание художника.
Юноша знакомится с Глинкой, которого боготворит. Он встречает горячее понимание и поддержку: «В первом Балакиреве, — говорит прославленный композитор, — я нашел взгляды, так близко подходившие к моим во всем, что касается музыки».
Он знакомится с Даргомыжским и часто бывает в его доме. На музыкальных вечерах, которые здесь регулярно устраиваются, не только исполняют новые произведения, но много и увлеченно говорят
о музыке, о ее выразительных возможностях. Даргомыжский пишет новые романсы. Перекладывая на музыку стихи, он стремится донести до слушателей каждую деталь поэтического образа, запечатлеть в мелодии живую интонацию человеческой речи. Все это интересно, ново, все это будоражит воображение, заставляет работать мысль.
Здесь, у Даргомыжского, завязываются знакомства, которые быстро переходят в тесную дружбу. На гостеприимный огонек стекаются все новые и новые музыканты. Появляется Цезарь Антонович Кюи. Этот человек имеет специальность
военного инженера. Но музыка влечет его все сильней, и он знает, что не сможет противиться этому влечению. Балакиреву очень импонирует его серьезный, сдержанный ум. Ему нравятся суждения Кюи о музыке — так понимать искусство может только настоящий художник.
Здесь часто бывает Мусоргский. Первое впечатление — блестящий светский офицер. Непринужденность, остроумие, бойкая французская речь. Но надо к нему приглядеться внимательнее, надо побыть с ним наедине, и тогда откроется совсем иной человек. Он поразит бездной фантазии, глубиной — порой почти пугающей, неповторимой самобытностью. Балакирев сходится с ним легко и сразу. Оба они нетерпеливы и пылки. Оба увлечены грандиозностью открывающихся им творческих задач. Балакирев дает Мусоргскому уроки композиции. Но их встречи в равной степени нужны им обоим.
Иногда к ним присоединяется Стасов. Балакирев познакомился с ним в первый же год своего приезда в Петербург. В Стасове все привлекательно: его душевная щедрость, широкая образованность, смелость общественных взглядов. Сколько они перечитали вместе! Начиная со «Что делать?» Чернышевского и кончая номерами запрещенного герценовского «Колокола», которые Стасов добывал неизвестно откуда. А потом — горячие споры, часто до утра, о будущем России, о судьбах закабаленного русского крестьянства. Так день за днем оттачивались взгляды, определялись общественные идеалы. Так утверждались мысли о роли музыкантов в общей борьбе русской интеллигенции за человеческие права народа.
Люди тянутся друг к другу. И Балакирев — центр этого притяжения, талантливый, блестящий, полный жизни и огня. Теперь встречи происходят чаще всего у него. Круг лиц, которые здесь бывают, невелик. И собираются они, чтобы работать — учиться, сочинять. Мусоргский, Стасов, Кюи, Гуссаковский, Лодыженский... Немного позже сюда придут еще двое. Совсем еще юный, шестнадцатилетний Римский-Корсаков, кадет Военно-морского корпуса, с трепетом переступит порог балакиревского дома. Он столько слышал о Балакиреве, что у него едва хватает мужества показать ему свои первые робкие сочинения. Но здесь его сразу принимают как равного. Бородин придет к Балакиреву уже вполне сложившимся, зрелым человеком. Ученый-химик, он увлечен своей научной работой, но не менее того — музыкой.
Так складывается кружок музыкантов, который войдет в историю русской музыки под названием «Могучая кучка». Балакирев — его признанный глава. Он — учитель, он — наставник начинающих композиторов. Неважно, что он одного с ними возраста. Безупречный художественный вкус, ясный аналитический ум, знание огромного количества музыкальных произведений сразу же определяют его исключительное положение в кружке. Но кроме того — его энергия, его неукротимая воля, все обаяние его сильной и властной личности. «Молодой, с чудесными, подвижными огненными глазами, с красивой бородой, говорящий решительно, авторитетно и прямо, каждую минуту готовый к прекрасной импровизации за фортепиано, помнящий каждый известный ему такт, запоминающий мгновенно играемые ему сочинения, он должен был производить это обаяние, как никто другой. Ценя малейший признак таланта в другом, он не мог, однако, не чувствовать своей высоты над ним, и этот другой тоже чувствовал его превосходство над собой. Влияние его на окружающих было безгранично». Так вспоминает о нем много лет спустя Римский-Корсаков.
Собираются регулярно. Огромную часть времени посвящают проигрыванию музыкальных произведений и тщательному скрупулезному их анализу. Его мог сделать лишь один Балакирев. Это — школа профессионального мастерства. Единственная школа, через которую прошли все члены кружка. Другая часть времени отдается показу собственных сочинений — пусть лишь отрывков, фрагментов, — обсуждению, исправлению. Многие произведения, написанные в эти годы, несут на себе печать коллективного творческого труда. И, конечно, неизгладимый след художественной личности Балакирева. Он не жалеет себя — своих сил, своих идей. Он щедро раздает их всем. Важно, чтоб ничто не пропало даром, чтоб все замыслы были реализованы.
Небывалое творческое единство. Всех этих столь разных людей объединяют общие взгляды на искусство, на жизнь. Все они — искренние демократы, остро ощущающие свою связь с родной землей. Все они считают своим художественным долгом воплотить в музыке образы народа, русского крестьянства. Именно этого требует сама жизнь России шестидесятых годов. Показать богатырскую мощь народа — и его горькое бесправие, раскрыть этические представления народа, издавна воплощавшиеся в его песнях, преданиях, сказках, воспеть скромную красоту родной природы... Говорить лишь о том, что значительно, что волнует современников. И говорить на музыкальном языке народа. Ведь Россия создала богатейший фольклор. Собирать, обрабатывать народные песни, чтобы на основе их развивать и собственное творчество. Балакирев целиком отдается работе в кружке. Здесь вся его жизнь, привязанности, его заботы.
 А. Михайлов. «Могучая кучка» (Балакиревский кружок).
А. Михайлов. «Могучая кучка» (Балакиревский кружок).
То, что сочинено, должно быть исполнено. Нужно постоянно знакомить публику с новыми произведениями молодых музыкантов. Но как? Доступ в концерты, организуемые императорским Русским музыкальным обществом, практически невозможен. Тогда рождается идея создать новое концертное учреждение. Впрочем, оно будет не столько концертным, сколько учебным. Это будет Бесплатная музыкальная школа — первое общедоступное музыкальное учебное заведение в России. Весь процесс обучения здесь будет новым. Балакирев мечтает освободить его от всякой школьной схоластики и рутины. Для этого нужно связать обучение с концертными выступлениями учащихся, с живой исполнительской практикой. Это даст вместе с тем возможность исполнять произведения молодых русских композиторов, которым так трудно проложить дорогу на концертную эстраду. Балакирев находит поддержку и помощь у своих друзей. Они берут на себя огромную педагогическую работу в школе. Хормейстер Ломакин становится руководителем хора.
В 1862 году Бесплатная музыкальная школа принимает в свои стены первых учеников. В этом же сезоне она дает первый концерт, и Балакирев выступает в качестве дирижера симфонического оркестра.
Может ли жизнь быть более насыщенной, более напряженной?! Но у Балакирева есть еще нечто самое главное, самое сокровенное — его творчество. Трудно понять, когда он успевает писать. Но именно в эти годы появляется увертюра «1000 лет», симфоническая поэма «Чехия». В это же время сочиняет он Увертюру на три русские темы.
 В. Фаворский. Фрагмент иллюстрации к «Слову о полку Игореве».
В. Фаворский. Фрагмент иллюстрации к «Слову о полку Игореве».
...Бескрайняя ширь русских просторов, песня, парящая где-то над ними. И вдруг среди этого приволья — лихая пляска. Она — словно взрыв молодецкой силы, словно всплеск дерзкой, безудержной народной удали. Фольклорные мелодии, которые лежат в основе произведения, поданы любовно, разработаны тщательно и тонко. Балакирев идет по пути, проложенному Глинкой его знаменитой «Камаринской». Оркестровая пьеса рисует жанровую сцену, но через нее раскрывается характер народа — могучий, привольный. А рядом — драматическая увертюра из музыки к шекспировскому «Королю Лиру». В сменяющих друг друга эпизодах проходят почти зрительно воспринимаемые образы: трагически одинокий Лир, отрекшиеся от него дочери, любящая верная дочь Корделия, мудрый шут, не покидающий короля даже в изгнании. Балакирев мыслил в музыке конкретными, почти видимыми образами — недаром давал он своим произведениям программные названия.
Он пишет блестящие концертные пьесы для фортепиано и романсы, проникнутые теплотой интимного чувства. Впрочем, даже в этот лирический жанр вводит Балакирев новые мотивы — свободолюбия, народной фантастики. Он пишет музыку русскую и восточную, навеянную образами Кавказа...
И вдруг все обрывается. Прежний Балакирев исчезает. Он порывает с друзьями круто, решительно, порывает с музыкой. Он находит себе скромную должность чиновника на Варшавской железной дороге. До неузнаваемости меняется весь его облик. Еще недавно атеист, он становится религиозным до фанатизма. К нему является гадалка, сеансы которой доводят его до состояния невменяемости, до галлюцинаций. Ничего не остается от его былых бунтарских настроений. Теперь он придерживается официальных монархических взглядов, исповедует крайний национализм. Всегда общительный, он становится замкнутым, нелюдимым. Метаморфоза эта потрясла его друзей, у одних вызвала горечь, у других — возмущение. Откуда этот внезапный слом? Что случилось с человеком?
Но был ли этот слом так уж внезапен? Кризис подготавливался постепенно. Никто из окружающих Балакирева людей не сумел разглядеть сложные глубинные процессы, которые незаметно подтачивали его психику и в конце концов его сломали. Все сплелось в сложный клубок. Бесконечные трудности с Бесплатной музыкальной школой. Если она еще продолжала существовать, то только благодаря нечеловеческим усилиям Балакирева. Но и он не всемогущ. В 1870 году наступает полный финансовый крах. Впрочем, Балакирев сознает, что это крах не только финансовый. Это крушение тех иллюзий, которыми он жил, иллюзий о возможном скором обновлении всей художественной жизни России. Вокруг него была глухая стена.
Но ведь у Балакирева были товарищи, друзья, у него был кружок — любимое детище? Балакирев чувствует, как распадаются когда-то крепкие связи. Он не может понять причины. Или не хочет? А ведь это так просто. Его ученики выросли, возмужали. Могли ли они по-прежнему терпеть его отеческую опеку? Они вместе вырабатывали творческие принципы, методы письма. Но ведь у каждого из них был свой голос, сильный и неповторимый. Они уже не могли, как прежде, в угоду балакиревскому вкусу вымарывать целые страницы своей музыки, не могли с трепетом внимать каждому его замечанию, каждому его слову. Балакирев не хотел этого понять. Ему было ясно одно: кружок гибнет, друзья изменили их общему делу.
Ну, а его собственное творчество? Наступило время оглянуться назад. Им немало написано, но чувствует ли он настоящую творческую удовлетворенность? Нет. Балакирев снова и снова произносит про себя это «нет». Постоянная занятость самыми разнообразными делами... И все-таки причина не только в этом. Причина в нем самом. Острое критическое чувство, вечные сомнения в достоинствах написанного замедляли творчество. Он видел: товарищи по кружку творчески его обогнали. Он, щедро раздававший им художественные идеи, теперь оказался в положении учителя, не нужного своим ученикам. Болезненно самолюбивый, властный, Балакирев не смог с этим смириться никогда. «До самой смерти говорил он, что только то, что мы писали под его крылышком, было хорошо», — вспоминал о нем позже Кюи.
Это был полный жизненный крах. Смерть отца послужила последним толчком. Нервно-восприимчивая психика Балакирева не смогла вынести удара.
Долгие годы проводит он в добровольной изоляции. И все-таки это не могло продолжаться вечно. Ведь в нем никогда не умирал большой музыкант. Настойчивые усилия друзей постепенно возвращают Балакирева к творчеству. С огромным трудом уговорили они Балакирева взяться за редактирование рукописей Глинки, которые они готовили к изданию. Сестра покойного композитора, Людмила Ивановна Шестакова, к этому времени уже старушка, на коленях умоляла его не отказываться от работы. И он не выдержал. А начав работать, уже не мог уйти от музыки.
Медленно возвращается Балакирев к творчеству. Сначала заканчивает произведения, работа над которыми была прервана долгими годами кризиса. И прежде всего завершает свою симфоническую поэму «Тамара». Она была начата еще в шестидесятые годы под впечатлением от поездки на Кавказ. Он привез тогда с собой восторженную любовь к этой стране. И народные мелодии — песни, танцы, инструментальные наигрыши. Балакирев решил написать оркестровую пьесу, использовав некоторые из этих тем, воплотить в ней яркие краски Востока, огненный темперамент его людей. Пьеса должна была рисовать картину народного празднества. Балакирев дал ей название «Лезгинка». Но шло время. По мере того, как пьеса продвигалась вперед, усложнялся ее замысел. Композитор решил связать рисовавшуюся его воображению картину со знаменитым стихотворением Лермонтова «В высокой теснине Дарьяла, где роется Терек во мгле, старинная башня стояла...». Сцена ночной оргии должна была возникать на фоне величественного и дикого пейзажа...
В начале 70-х годов работа оборвалась. И вот в самом конце этого десятилетия Балакирев снова берется за дело. Однако теперь иные мысли движут им, иные настроения. Среди искрящихся огней празднества появляется обольстительная восточная красавица. Она манит за собой, она зовет, но зов ее коварен, ее красота грозит гибелью. Счастье, которое кажется путнику таким близким, ускользает. Оно призрачно, недостижимо. Того, кто поверил в него, ждут лишь жестокость и зло.
Счастье недостижимо. Этот горький мотив звучит в романсах Балакирева. Счастье недостижимо, оно ускользает, точно синяя птица. И все-таки не одни только темные краски живут в творчестве композитора. Балакирев по-прежнему умеет радоваться величию и красоте природы, по-прежнему умеет рисовать полные жизни жанровые сцены. Но то и дело сквозь эти сочные зарисовки прорывается все тот же мотив горечи —словно художник оплакивает свои невозвратимые потери. У него и сейчас есть ученики, есть горячие приверженцы. Он работает в Придворной певческой капелле, в течение некоторого времени опять возглавляет Бесплатную музыкальную школу, выступает как дирижер. Но никогда уже Балакирев не смог занять того исключительного места в русской музыке, какое занимал когда-то. До конца своих дней не изжил он глубокой душевной уязвленности, даже ожесточенности. Он не смог понять новых течений в русской музыке, прошел мимо Скрябина, Рахманинова, словно и не заметив их. «Во всем — гордость, а за нею — глубокая горечь отравленного сердца», — таким увидел Балакирева молодой композитор Асафьев.
Балакирев умер в 1910 году, пережив почти всех своих старых друзей. Умер «одной из бесчисленных жертв общих условий русской жизни», — как написал о нем в некрологе критик и историк Булич, лично знавший композитора в последние годы его жизни. Но Балакирев остался жить в памяти людей не этим надломленным человеком, а молодым, смелым художником, прокладывающим дорогу новому русскому искусству, художником, который выпестовал и поддержал начинающих композиторов — гордость русской музыки. «Впереди всех летел орлом... Милий Балакирев», — так говорил о нем Стасов. Таким он и остался в истории русской музыки — летящим вперед орлом.
АЛЕКСАНДР УЛЫБЫШЕВ—ПЕРВЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ТВОРЧЕСТВА МОЦАРТА
Что за страшное, ошеломляющее зрелище — ночной пожар в деревне! Огненные языки, подгоняемые ветром, лижут стены, вскидываются, словно дикие фантастические звери, на крышу. С грохотом рушатся стропила, трещат оконные стекла, и, кажется, нет силы, которая могла бы остановить бешеный разгул стихии...
Горел старый барский дом в селе Лукине, бывшем нижегородском имении помещиков Улыбышевых. Было это в 1876 году, почти двадцать лет спустя после смерти Александра Дмитриевича Улыбышева, одного из первых русских литераторов, писавших о музыке, автора книг о Моцарте и Бетховене. Новые владельцы завели в имении жестокие порядки, и крестьяне в отместку подожгли помещичий дом.
Огонь уничтожил не только дом, сгорели и усадебные постройки, и театр, в котором Улыбышев когда-то устраивал концерты.
Концерты в Лукине, а позднее и в Нижнем Новгороде, куда, начиная с 1841 года, Улыбышев наезжал по зимам из деревни, составляли лишь малую часть его разнообразной и обширной просветительской деятельности. Жизнь этого нижегородского помещика — чиновника, писателя, музыканта, журналиста — заслуживает внимания. Расскажем о ней подробнее.
Александр Дмитриевич Улыбышев родился в 1794 году. Ранняя юность его прошла в Германии, где он посещал университет, слушая лекции лучших тогдашних профессоров. Музыка входила в занятия университета как обязательный предмет.


Улыбышев неплохо играл на фортепиано, альте и скрипке, разбирался в вопросах музыкальной теории. Постоянный посетитель концертов, он с увлечением слушал музыку; уже в эти годы его глубоко захватывает творчество великого композитора Вольфганга Амадея Моцарта. Юноша приобщается к искусству, научается любить прекрасное. Его часто можно было видеть в залах Дрезденской картинной галереи. Непревзойденная красота творений великих мастеров — Рубенса, Рембрандта, Тициана — заставляла его часами простаивать перед картинами.
В 1810 году семья Улыбышевых возвращается в Россию. Вот она, наконец, эта загадочная, малознакомая, но родная страна с ее огромными просторами, дремучими лесами, непроходимыми болотами, полноводными реками. Едут на лошадях — и нет конца дороге: еще так далеко до Петербурга! Александр с любопытством смотрит в окно дорожного возка. Мелькают деревни, усадьбы, постоялые дворы. Многое вызывает удивление. Ему непонятно: как же это так — великолепные усадьбы, парки, сады и тут же серые, нищие деревушки, покосившиеся избы, соломенные крыши! На полях согбенные фигуры крестьян. Крепостные люди...
Мрачное впечатление, которое произвела на молодого Улыбышева картина российской действительности, не покидает его и в дальнейшем. Напротив, оно все усиливается, становится острее и ярче. В Коллегии иностранных дел, где Александр работает с 1816 года, он встречает представителей передовой, талантливой молодежи: здесь будущий декабрист Вильгельм Кюхельбекер — «Кюхля», как ласково называют его товарищи; иногда заходит окончивший Лицей юный Александр Пушкин.
Молодые умы все больше начинают понимать, что царем и его приспешниками владеет лишь одно желание: убить все благородные порывы, задушить всякую живую мысль в России. В эти тягостные годы Пушкин писал в оде «Вольность» :
Увы! Куда ни брошу взор,
Везде бичи, везде железы,
Законов гибельный позор,
Неволи немощные слезы...
Приближалось страшное время — царствование Николая I. Все шире развертывалось революционное движение, чтобы 14 декабря 1825 года вылиться в восстание на Сенатской площади. Росла сеть тайных обществ. И когда сотрудник Коллегии Никита Всеволожский оказывается во главе общества «Зеленая лампа», многие его товарищи, в том числе Пушкин и Улыбышев, становятся членами этого общества. Обращаясь к ним, к своим друзьям и единомышленникам, Пушкин писал:
Для нас, союзники младые,
Надежды лампа зажжена...
Он имел в виду цвет надежды — зеленый цвет...
Улыбышев — активный член «Зеленой лампы». Он пишет яркие политические статьи, которые читаются на собраниях «Лампы». В этих статьях он восстает против страшных чудовищ, пожирающих страну, — крепостного права и царского произвола, призывает прекратить погоню за иностранщиной, поднять национальное самосознание русского народа и по-настоящему оценить русскую литературу, русское искусство. «Русские песни, — писал Улыбышев в одной из этих статей, — самые трогательные, самые выразительные, какие только можно услышать...».
«Зеленая лампа» прекратила свое существование еще до восстания 14 декабря. Следственная комиссия по делу декабристов пришла к заключению, что общество это «не имело политической окраски», и «оставила без внимания» само общество и его членов. Так беда миновала Улыбышева, и он продолжал свою деятельность в Коллегии иностранных дел, совмещая ее с заведыванием редакцией «Санкт-Петербургской газеты».
А музыка? По-прежнему ли он любит ее?
Бурные события, развернувшиеся в стране, не помешали музыкальным увлечениям Улыбышева. Имя его становится широко известным среди петербургских музыкантов. Он в курсе всей музыкальной жизни столицы: в журналах появляются его статьи и заметки на музыкальные темы, рецензии на концерты, в доме его устраиваются квартетные вечера.

В 1827 году он становится членом Петербургского Филармонического общества.
Активная музыкально-общественная деятельность Улыбышева в Петербурге продолжалась до конца 1830 года, когда он выходит в отставку и, награжденный чинами и орденами, уезжает навсегда в свое нижегородское имение Лукино.
Поля, луга, дубравы... Среди тихого деревенского уединения так хорошо думается о музыке, о любимом Моцарте. Александр Дмитриевич обременен многочисленными хозяйственными делами, но мысль о Моцарте никогда не оставляет его. Улыбышев пишет о нем книгу. «Она неотступно следовала за мною среди дум об урожаях ржи и овса, — писал он в предисловии к книге,—вместе со мною скакала по большим дорогам и, когда я возвращался домой, первая приветствовала меня на пороге...». Но вскоре ему становится ясно, что для такой работы ему не хватает знаний. И тридцатишестилетний помещик садится за учебу — читает литературу о музыке, изучает партитуры. Почти все книги и ноты он выписывает из-за границы; многого в условиях провинциальной жизни Улыбышев не может услышать в исполнении, и ему приходится «слушать глазами». Но ничто не может остановить его: со всем усердием и пылом исследователя он работает над «Новой биографией Моцарта» — так назвал Александр Дмитриевич свою книгу. Это был огромный творческий труд, творческий подвиг, образец целеустремленности и терпения.
Работа над книгой продолжалась десять лет. В 1843 году трехтомная «Новая биография Моцарта» выходит в свет. По словам музыкального писателя и критика Владимира Федоровича Одоевского, современника Улыбышева, она превосходила все написанные ранее книги о Моцарте «и глубиною мыслей, и знанием дела, и ученостью, и горячею любовью к искусству».
Книга русского писателя о Моцарте была написана по-французски. Но это не значило, что Улыбышев плохо знал или не любил русский язык. Нет, он знал его прекрасно и понимал всю его красоту. Но он понимал и другое: книга на подобную тему, вышедшая в России в первой половине XIX века и написанная по-русски, не найдет читателей. По-русски, — как писал один из его современников, — говорили со слугами, с приказчиками, с няньками; а дворяне и помещики, то-есть те, кто тогда интересовался музыкой, и думали, и говорили по-французски.
Прошло пятьдесят лет, и наступило второе рождение книги Улыбышева о Моцарте: она была переведена на русский язык Модестом Ильичем Чайковским, братом великого русского композитора. Петр Ильич интересовался работой брата над переводом, он считал эту книгу «в самом деле — замечательной».
В «Новой биографии Моцарта» Улыбышев рассказывает об огромной музыкальной одаренности Моцарта, о его величайшем творческом труде. Рассказывает и о мучительно трудной жизни композитора, о его бедности, об унизительной зависимости от сильных мира сего. Длительная болезнь, смерть, похороны в общей могиле, как хоронят бедняков, — таков итог жизни умершего в тридцатипятилетнем возрасте гения.
Разбирая произведения Моцарта, Улыбышев уделяет большое внимание его операм — «Свадьбе Фигаро», «Волшебной флейте», «Дон Жуану».
Увлеченно работая над книгой, Улыбышев продолжал устраивать концерты, писал статьи в петербургские и нижегородские газеты и журналы, руководил созданным им из лукинских крестьян хором, который исполнял в основном народные песни. В Лукине, как вспоминали старики, — «вся земля пела», а соседи не без зависти говорили: «Лукино село живет весело...»
И часто можно было видеть, как на широком лугу, раскинувшемся на берегу живописной речки Кудьмы, «лукинский барин» вместе с крестьянскими парнями и девушками водил хороводы.
Большой заслугой Улыбышева перед русским музыкальным искусством была отеческая забота о молодом, тогда еще малоизвестном музыканте, тоже нижегородце — Милии Алексеевиче Балакиреве.
«Люблю тебя, как сына», — писал Александр Дмитриевич одаренному юноше, будущему выдающемуся композитору. Можно считать, что «путевку в жизнь» Балакиреву дал Улыбышев.
Проходили годы. Надвигалась старость, начинали терзать болезни. 27 января 1858 года, ясным, морозным днем, траурный катафалк двигался по дороге из Нижнего Новгорода в село Лукино: хоронили Улыбышева.
Постепенно стала исчезать память о нем, о его работе, о той роли, какую сыграл он в истории отечественной культуры...
И тут вмешался случай.
Несколько лет назад учитель Богородской средней школы А. Головастиков нашел возле лукинской церкви в траве покрытую мхом и плесенью каменную плиту. Он разобрал надпись на ней: это было мраморное надгробие с могилы Александра Дмитриевича Улыбышева.
Учителя-краеведы А. Головастиков и В. Рождественский обратились в местный отдел культуры и в московскую «Литературную газету». Могила Улыбышева была приведена в порядок, лукинская школа стала называться школой имени Улыбышева, а пионеры взяли над могилой шефство. Звенят над нею их молодые голоса, — они часто приходят сюда, и в руках у них охапки полевых цветов.
А. Штейнберг

А. АЛЕКСЕЕВА. СУРОВАЯ ШКОЛА МАЛЕНЬКОГО БАХА

Впереди возвышалась широкая спина брата. Справа и слева темнели фигуры в черных камзолах. Себастьян плохо их различал, так как слезы застилали ему глаза. Он слушал звуки мессы. Они были простые и строгие, однообразно повторяющиеся и устойчивые, как деревянные скамьи, что стояли в церкви. Звуки эти не выражали и сотой доли того, что творилось в его душе. От них как бы притуплялись чувства. И Себастьяну уже казалось неизбежным все то, что случилось, — он верил, что душа отца переселилась в рай.
Но вот запели звонкие голоса, и пронзительное воспоминание о матери охватило Себастьяна. Она умерла совсем недавно: лишь семь месяцев назад. Почему сразу столько горя! Слезы плотной пеленой закрыли глаза мальчика, а из груди непроизвольно вырвался какой-то странный звук.
Старший брат строго взглянул на Себастьяна, и тот проглотил готовые вырваться рыдания. Через туман слез он смотрел туда, где лежал гроб, и не видел отца...
Заупокойная месса кончилась, и старший брат, взяв Себастьяна за руку, повел его из церкви. За ними двинулись многочисленные родственники.
А спустя несколько дней, так же крепко держа за руку, Иоганн Христофор Бах ввел младшего брата в небольшой серый дом с новой красной черепицей. Это был его дом в Ордруфе, где Иоганн Бах служил органистом в церкви.
Глядя в глаза Себастьяну, Иоганн сказал, внятно и четко произнося слова:
— У тебя нет отца и матери, но у тебя есть семья Бахов. Теперь ты будешь жить у меня, и я займусь твоим воспитанием. Ты знаешь желание отца — он хотел, чтобы ты стал музыкантом.
Себастьян закивал головой, как бы говоря: конечно, он и не представляет себе другого занятия. Все Бахи были музыкантами. Говорят, что даже далекий прадед, мельник Витус Бах, играл на цитре, пока мололась мука.

— Довольно предаваться горю, — продолжал брат. — С завтрашнего дня мы начнем заниматься скрипкой, потом клавесином и, конечно, органом. Кроме того ты, разумеется, будешь посещать здесь классическую школу.
Иоганн Христофор положил обе руки на плечи младшего брата. Мальчик понял, что разговор окончен.
...В доме было тихо. Свет с трудом проникал в узкое окно и слабо освещал стол, за которым сидел Себастьян. Уже второй час он читал учебник истории.
«В XIV веке семь крупнейших князей землями германскими владели: маркграф Бранденбургский, герцог Саксонский, король Чешский, пфальцграф Рейнский, архиепископы Кельнский, Майнцский и Трирский...
В 1517 году, в октябре месяце, 30 числа, Мартин Лютер выставил 95 пунктов, о реформации церкви говорящих...», — шептал Себастьян.
А за стеной в это время его старший брат готовился к музыкальным занятиям. Он облачился в оранжевый плисовый кафтан, застегнул его на все пуговицы, поправил банты на башмаках, попудрил парик и сел за клавикорды. Прозвучало несколько торжественных аккордов. Себастьян прислушался, подумав: «Сейчас будет хорал». Иоганн Христофор всегда в этот час играл до-минорный хорал.
Однако... за стеной послышалась необычная музыка. Вся маленькая фигурка Себастьяна Баха напряглась. Это не было похоже ни на одну из тех духовных арий и мотетов, которым учили его и которые он пел в церковном хоре. Какая гибкость мелодии, какой сложный аккомпанемент, какие живые, то спорящие, то мирно шествующие рядом звуки! Мальчик заслушался.
Но не прошло и четверти часа, как брат вновь играл знакомый хорал, и поразившая Себастьяна музыка не повторялась. А затем все смолкло, и дом снова наполнился тишиной.
Себастьян осмелился подойти и спросить брата: музыку какого композитора он исполнял?
— Я не хочу, чтобы ты слушал эту музыку, — отвечал Иоганн. — И больше этого не будет. — Но тут же, смягчившись, добавил: — Я слышал от господина учителя, что ты имеешь успехи в истории и латыни, что ты уже вырабатываешь четкий почерк. Я готов похвалить тебя.
Но сейчас и похвала, столь редкая в устах старшего брата, не радовала Себастьяна. Он досадовал на то, что не удастся больше послушать эту музыку, и непроизвольно поморщился. Брат заметил это. Пройдя в свою комнату, он взял тонкую книжку в кожаном переплете и протянул Себастьяну:
— Я принес новую книгу. Тебе полезно прочесть ее. Займись настоящим делом.
Себастьян открыл титульный лист и прочел черные готические буквы, тесно столпившиеся на середине страницы — словно монахи на богомолье:
«Уличные песни, песни кавалеров и горцев, превращенные в христианские, моральные и добропорядочные, дабы искоренить со временем дурную и соблазнительную привычку петь на улицах, в полях и домах негодные безнравственные песенки, заменив их тексты душеспасительными и хорошими словами».
По правде сказать, Себастьяну всегда нравилось, когда на улице пели веселые народные песни, и, если бы не запрет церкви, он тоже пел бы их.
Бах перелистал несколько страниц. Он читал глазами ноты, слова, призванные играть душеспасительную роль, а мысленно слушал ту музыку.
На другой день, лишь только брат ушел в церковь к литургии, Себастьян проник в комнату Иоганна. С трепетом подошел к тяжелому дубовому шкафу, осмотрел его. Дверцы не были застеклены. Железная решетка закрывала полки. За решеткой виднелась большая тетрадь в темном переплете. Это могли быть только ноты. Себастьян попробовал просунуть руку, она проходила.
Если свернуть ноты в трубочку, их можно вынуть из шкафа. И сделать это нужно так, чтобы никто не заметил.
План созрел тут же.
Ночью, когда все легли спать, Себастьян пробрался в кабинет брата. В темноте нащупал тетрадь, свернул ее и вытащил сквозь железные прутья. Зажег свечку, достал чистую тетрадь и пристроился на подоконнике возле высокого узкого окна.
Он прочел имена композиторов, чьи произведения были в заветной тетради: «Пахельбёль... Букстехуде... Фробергер. Прелюдии и фуги».
Три часа — с двух до пяти утра писал Себастьян. Свеча почти догорела. Мартовская ночь была длинна и сера до рези в глазах. Черные точки расплывались на нотном стане, становились маленькими, как букашки, неуловимыми. Но Бах должен был их поймать. И — где благодаря своему отличному зрению, где чутьем угадывая гармонию — он сумел переписать в свою нотную тетрадь шесть страниц. Три прелюдии и две фуги за одну ночь.
Начало было положено. Теперь он будет каждую ночь переписывать если не шесть, то хотя бы четыре страницы и месяца через два станет обладателем чудесной музыки. Однако уже через три дня хозяйка заметила исчезновение свечей и стала запирать их на ключ. Ночи были еще темные, без свечей нельзя было рассмотреть нотные знаки, и маленькому Баху пришлось отложить свою затею до летних дней.

В мае стало светлее, но зато и в доме стали просыпаться раньше.
Отчаянному смельчаку приходилось торопиться, чтобы успеть до того, как встанет хозяйка, снова очутиться в постели. Раза два, решив с вечера встать ночью и взяться за работу, Себастьян просыпал и открывал глаза лишь на рассвете: он спал крепко, как все десятилетние здоровые мальчишки. После этого он решил не засыпать с вечера. Он щипал себя, подкладывал под спину острые предметы, лежал с открытыми глазами, пока не начинало светать. Теперь глаза его напоминали красный мрамор: белки были изборождены кровавыми жилками. И нестерпимая резь то и дело заставляла среди дня прикрывать глаза.
 Неизвестный художник. «Серенада лейпцигских студентов».
Неизвестный художник. «Серенада лейпцигских студентов».
Иоганн Христофор был недоволен его видом, даже вызвал лекаря. Тот прописал капли для глаз, и Себастьяну как будто стало лучше.

Наконец, через полгода его тайный труд был завершен: Себастьян переписал все ноты. Теперь у него было сокровище! Вечерами, в те дни, когда Иоганн уходил на вечернюю службу, а Себастьяну не надо было петь в церковном хоре, он усаживался за клавесин. И звуки уносили его из привычных церковных мелодий куда-то в лес, на широкие луга, где светит солнце и шумят травы, — в мир всемогущей природы.
Это была музыка, которой он жаждал, когда умер отец.
И вдруг в один из вечеров, когда Бах упивался могучими аккордами Букстехуде, в доме неожиданно появился брат. Он остановился в прихожей, прислушался, медленно подошел к клавесину, взял в руки тетрадь с нотами, не сказав ни слова, унес ее к себе в кабинет и запер в стол. Затем вернулся.
— Себастьян, я недоволен тобой, — тихо проговорил он. — Но я не буду говорить о безнравственном способе, коим получил ты эти ноты. Я хочу сказать тебе, что та система обучения музыке, которую применяю я, есть система рода Бахов. Так учили твоего отца, так учили его братьев и меня. Новые композиторы, те, которых ты переписал, — Фробергер, Пахельбёль, Букстехуде — если играть их до срока, испортят вкус церковного музыканта, они легкомысленны. Старые же мастера развивают настойчивость. В этом заключается сила нравственного воздействия музыки. Повторяю: я недоволен тобой. И надеюсь, что слышал от тебя все это в последний раз.
Повернувшись на высоких каблуках белых башмаков, он добавил:
— Теперь мне ясно, почему у тебя были красные глаза. Тебе поможет не лекарь, но молитва...
Оставшись один, Себастьян кулаками растер брызнувшие из глаз слезы. Бросился к окну, чтобы крикнуть что-нибудь брату, взглянул — и не узнал его среди нескольких человек, проходивших под окном. Он плохо видел, он стал близорук!
Бах бросился к клавесину. Он почему-то вспомнил отца и матушку. Ах, как лихорадочно и много говорил перед смертью отец! Рассказывал то о Гансе из рода Бахов, который страшно и стойко умирал во время чумы после Тридцатилетней войны, то о том, как покинули Бахи Тюрингию и спасла их только вера в крепость семьи, то о терпеливой и рассудительной жене своей, матери Себастьяна... Как выразить все это в звуках? Тайну и близость душ людских и радость солнца. Движение светил на небе и гомон птиц на ветках поутру. Как передать все это?
Себастьян по памяти играл прелюдию Букстехуде, но она уже казалась ему в эту минуту мертвой по сравнению с той бурей чувств, которая разыгрывалась в нем.
Он стал импровизировать — и это не удовлетворяло его. Он уже узнал о мире новой музыки. Пусть не теперь и не на этом клавесине, а через много лет он выразит, непременно выразит те чувства, что владеют человеком, что пережил он, Себастьян Бах. А композиторы, так поразившие его, будут лишь ступеньками к той музыке мира, к той вершине, которая достойна Человека.

С. МОГИЛЕВСКАЯ. ПОВАРЕНОК ЛЮЛЛИ

Было это давным-давно. Так давно, что тебе это трудно представить. Тогда еще твоего дедушки не было на свете. И твоего прадедушки тоже не было на свете. И даже дедушки твоего прадедушки, и его — представь себе! — тоже не было на свете.
Так вот, в те далекие времена в Италии, в городе Флоренции жил мальчуган. Звали его Джованни Баттиста Люлли. Почему Джованни и почему Баттиста? Почему сразу два имени? А у итальянцев так бывает: детям частенько дают сразу два имени.
Однажды мальчуган Джованни Баттиста шел по дороге. Было ему тогда лет двенадцать. А может, чуть больше или чуть меньше. За спиной его висела гитара, а в карманах было пусто. Да и в животе не слишком густо. Поутру хозяин прогнал его. Дал хорошего подзатыльника и крикнул: «Таких лодырей мне не надо! Чуть солнце на небо — он хвать гитару, да за песенки! Отправляйся хоть на край света, только подальше от моей таверны...»
И теперь мальчуган шагал, сам не зная куда. А шагая, размышлял: «Неужто и петь нельзя, если хочется петь? Бедная моя старушка (это он так гитару называл), что нам с тобой делать? Куда голову приклонить? И поесть ведь тоже неплохо...»
А надо сказать, что мальчишка был один-одинешенек: ни матери, ни отца, ни братьев, ни сестер, ни бабушек, ни дедушек... Даже ни одной дальней тетушки у него не было! Вот и брел наш Джованни Баттиста по пыльной дороге, которая начиналась у ворот прекрасного города Флоренции, а где кончалась — это было ему неизвестно.
Шел он и шел, пока не увидел на обочине дороги камень. Он присел на камень, перекинул гитару со спины на колени, легонько провел пальцами по струнам и заиграл. Заиграл и запел.
Только не думай, что песенка его была грустна и печальна. Ничего подобного! У мальчишки был веселый нрав, и хоть в животе у него бурчало от голода, пел он веселую песню.
Вдруг вдали показалась карета.
«Ух ты, — тотчас сообразил хитрец. — А не катит ли ко мне густая похлебка с чесноком?»
Тут он запел и заиграл еще веселее, еще звонче.
А карета, и вправду, проехав мимо, взяла да и остановилась. С козел спрыгнул слуга и зашагал к мальчугану, сидящему на камне.
Джованни все видел: и что карета остановилась, и что прямо к нему идет слуга. Но вида не показал, глазом не моргнул. Играл себе да играл, пел себе да пел, все громче и громче, все быстрее и быстрее... Про себя же думал: «Эге, так оно и есть! Идет ко мне похлебка. Похлебка с чесноком! А может, монеты, которую мне бросит господин из кареты, хватит и на макароны?»
— Эй, ты!.. — крикнул слуга, остановившись рядом. — Оглох, что ли? Зовешь его, кричишь ему... — и изо всех сил потряс мальчишку.
Тогда только наш Джованни Баттиста оглянулся. Поднял на слугу глаза и спросил с самым искренним удивлением :

— Не меня ли вы кличете, добрый синьор?
— Поднимайся-ка, да поживее... Тебя требует его светлость, сам герцог Гиз.
Мальчишка был смел и боек, за словом в карман не лез. К тому же — ты помнишь? — в карманах у него было пусто.
— Герцог Гиз? — переспросил он. — А что это за птица? Впервые о таком слышу.
— Поговори мне! — и слуга влепил Джованни такую затрещину, что мальчишка чуть не слетел с камня. — Зовут, так иди, маленький оборвыш.
— Не надо так, синьор. Будет охота, я и сам отыщу дорогу к его светлости... как его там? К герцогу Гизу.
С этими словами он поднялся с камня, и побрел к карете.

Вот уж, что правда, то правда: никогда не знает человек, что ждет его впереди! И наш голодный, но веселый Джованни знать не знал и ведать не ведал, что в эту минуту решается судьба всей его будущей жизни. Знай он об этом, он не шел бы таким увальнем, еле переставляя ноги. Он помчался бы бегом. Говорю тебе, он бы во всю прыть побежал навстречу своей блистательной судьбе...
В те времена герцог Гиз был одним из самых знатных вельмож Франции. И сейчас он возвращался из Италии в свой парижский замок.
Герцог поднес к глазам лорнет. Окинул взглядом мальчугана с головы до ног. И пробормотал вполголоса, будто про себя:
— Живописен... Весьма... Его песни могут понравиться парижанам. А ну-ка, малыш, спой еще... Не ленись!
Люлли не заставил себя просить дважды. Это в животе и карманах у него было пусто, а голова и сердце были битком набиты песнями, одна лучше другой. И теперь он пел их одну за другой. И о жарком солнце пел. И о синем итальянском небе. И о цикадах, которые трещат без умолку. И о розах, и о виноградных гроздьях, созревающих на склонах холмов. Но больше всего у него было песен о человеческом горе и о человеческих радостях. Он мог бы петь до позднего вечера, а то и всю ночь напролет. Вот до чего Джованни любил свои песни и свою гитару!
Герцог — он понимал толк в музыке — уже не себе под нос, а довольно громко произнес:
— Гм... а мои музыканты многому бы могли обучить этого сорванца...
— О, ваша светлость... — веря и не веря тому, что услышал, прошептал Люлли.
— Кланяйся, кланяйся, дуралей, — между тем говорил ему на ухо слуга. — Кланяйся ниже, если хочешь за свои песни получить кругленькую монету.
Но Люлли было не до поклонов. Он глаз не сводил с лица герцога. Душа у него была полна смутных надежд.
— Уж не думаешь ли ты, маленький плут, — проворчал, посмеиваясь, герцог, — что я намереваюсь взять тебя с собой в Париж?
Люлли ничего не ответил, только молча потупился.
— Тем не менее, именно так. Я хочу взять тебя в Париж!
Люлли чуть не подпрыгнул от радости. А герцог продолжал, откинувшись на атласные подушки:
— Только устраивайся, как хочешь. Сдается мне, что на запятках моей кареты ты доберешься превосходно!
Так, на запятках кареты герцога Гиза, одним прекрасным летним днем из Флоренции в Париж отправился итальянский мальчуган Джованни Баттиста, которому суждено было стать знаменитым французским композитором — Жаном Батистом Люлли.
Но не думай, что так-то легко ехать на запятках кареты, да еще от самой Флоренции до самого Парижа. Не один и не два дня, а много дней продолжалась дорога. Но он был на редкость стойким и выносливым, этот итальянский мальчуган. Он ни разу не пожаловался. Наоборот: всякий раз, как герцог останавливался передохнуть и закусить в какой-нибудь придорожной таверне, Люлли пел ему песни, подыгрывая себе на гитаре. И всякий раз вокруг собиралась толпа зевак и слушателей, и частенько хозяин выносил ему миску горячей
похлебки:
— Подкрепись, мой синьорино!
Наконец они приехали.
«Ого, вот это хижина! — подумал Люлли, разглядывая великолепный замок герцога. — Одних окошек больше, чем звезд на небе...»
Но в ту самую минуту, когда карета остановилась у крыльца, управляющий доложил герцогу, что его любимый пес тяжко занемог. Герцог расстроился. Так расстроился, что начисто забыл о Люлли и его песнях. До самой ночи мальчик простоял у крыльца, надеясь, что о нем вспомнят. Куда там! У каждого свои дела, свои заботы. До него ли тут?..
Лишь на рассвете его заметил главный повар.
— Эге-ге-ге, — пробормотал он, разглядывая спящего мальчика.— А мне как раз нужен еще один поваренок.
И растолкав Люлли, он приказал ему идти на кухню.
Так и получилось — вместо музыкантов учителями Люлли стали повара, вместо игры на гитаре он день-деньской ощипывал перепелок и фазанов, вместо музыки он слушал, как булькает в больших котлах похлебка, как шипят на вертелах туши диких кабанов и оленей.
Но все равно голова у поваренка Люлли была полным-полна музыки, и песни его звучали с утра до вечера под низкими сводами кухни. Петь ему не возбранялось.
— Пусть себе горланит, — говорил главный повар герцога, — лишь бы руки исправно делали свое дело!
Возможно, так бы оно тянулось и тянулось, и никогда Франция не гордилась бы своим композитором Жаном Батистом Люлли, если бы не одно происшествие...
А случилось вот что: в гости к герцогу Гизу пожаловал сам король Франции Людовик XI. Хотя королю было не более восьми лет от роду, но королей всегда встречают по-королевски, даже если эти короли едва вылезли из пеленок.
В тот день еще затемно в кухне началась великая кутерьма — готовился великолепный ужин в честь маленького короля и его свиты. Не меньше десятка поваров возились около больших и маленьких медных кастрюль, орудуя ложками и поварешками. Не меньше двух десятков поварят ощипывали птицу, чистили артишоки и трюфеля. В очагах ярко пылал огонь. А среди груды фазанов, куропаток и перепелов, весь облепленный пухом и перьями, сидел наш Джованни. Вместе с другими поварятами он ощипывал птицу.
А по кухне расхаживал главный повар, он всех поторапливал, на всех покрикивал:
— Живей, живей, бездельники! У нас должен быть такой ужин, чтобы все повара Франции позеленели от зависти. Мы должны зажарить четырех диких кабанов и трех оленей! Мы должны приготовить пятнадцать паштетов из куропаток и перепелов! Мы должны поразить Париж фаршированными фазанами и пирогами с марципанами. Мы должны... А ну-ка, схожу узнаю, к которому часу готовится пир?
Чуть только главный повар переступил порог кухни, как все двадцать поварят и все десять поваров кинулись к Люлли:
— Бросай своих цыплят, Люлли!
— Джованни, вот твоя гитара!
— Залезай на бочку, Баттиста!
— Тарантеллу давай, Люлли, тарантеллу!
Откуда ни возьмись, в руках у Люлли — гитара, а сам он стоит на огромной бочке. То-то пошло веселье под низкими сводами кухни! Песня сменялась песней, а вскоре пустились в пляску все двадцать поварят и все десять поваров.
В самый разгар веселья вернулся главный повар.
— Ах вы, лентяи, бездельники, лежебоки! — заорал он. — Так-то вы готовитесь к встрече его величества короля Фрацции! А все ты, негодный мальчишка! Ты и твоя гитара!
Тут он выхватил из рук Люлли гитару и без промедления, одним махом запустил в огонь. Гитара сгорела мгновенно. Горстка пепла от нее осталась — вот и все.
Представить себе невозможно, как рыдал бедняжка Люлли! Нет у него больше его старой гитары, которая делила с ним и горести и радости. Была его верной спутницей. Шагала вместе с ним по каменистым дорогам Италии, под холодными порывами ветра, под жгучими лучами солнца. Помогала ему переносить побои хозяев. Теперь он — один-одинешенек на всем белом свете.
Между тем наступил вечер. В прекрасных залах дворца начался бал. В первой паре, чуть касаясь пальцами руки герцогини Гиз, выступал сам король Франции, мальчик в золотом камзоле с бриллиантовыми пуговицами.
Танцевали менуэт — плавный и грациозный танец. Дамы и кавалеры шли парами по блестящему паркету, останавливаясь и кланяясь друг другу.
И вдруг король остановился. Гневно топнул ногой и крикнул:
— Герцог Гиз, сейчас же подойдите ко мне!
Герцог, сломя голову, кинулся к королю. Все танцующие в замешательстве тоже прекратили танец и обернулись на окрик короля.
— Ваши музыканты никуда не годятся, — сердито проговорил король.
— Ваше величество, — начал было герцог, — мой оркестр — лучший в Париже, во Франции... Мои музыканты...
— А я вам говорю, ваши музыканты не умеют играть! Они все время сбиваются с такта.
— Позвать сюда первую скрипку! — крикнул герцог.
А бедный скрипач тут как тут. Скрипка в одной руке, смычок — в другой. Зуб на зуб не попадает от страха. Заикаясь, он бормотал:
— Это... это... это... какой-то другой оркестр мешает... Это... это... это... какой-то второй оркестр сбивает нас с такта...
— Хочу, чтобы второй оркестр сейчас же был наверху!
Герцог развел руками:
— Ваше величество, у меня нет и не было второго оркестра.
Но король крикнул: «Я приказываю!» — и слуги заметались по всему замку в поисках неведомого оркестра.
Осмотрели все комнаты, все залы замка — никого! Побывали на всех чердаках замка, а там только мыши и крысы. Сбегали в парк. Но в парке вовсю квакали лягушки да журчала вода в фонтанах...
Но вот среди гостей раздался шепот:
— Нашли второй оркестр! Ведут, ведут музыкантов...
И слуги пинками и подзатыльниками втолкнули в зал, прямо к ногам короля, мальчугана в поварском колпаке и замызганном фартуке. На чумазом лице поваренка еще были заметны следы слез, но глаза плутовски блестели. Он с любопытством разглядывал золотое великолепие зала. И по всему было видно, что он ничуточки не боится восьмилетнего короля Франции.
— Вот он, ваше величество! — низко кланяясь, проговорил первый скрипач оркестра, изо всех сил подтолкнув поваренка к королю.
У короля удивленно вздернулись брови.
— Но говорили об оркестре, а я вижу перед собою... — тут король весело засмеялся, — лишь одного музыканта! И довольно престранного к тому же...
Все придворные тоже принялись смеяться:
— Ха-ха-ха, вот так музыкант!
— Ха-ха-ха, это всего лишь поваренок!
Король нахмурился.
— Ведь я приказал, чтобы здесь был оркестр. Где он?
Тогда, скромно потупившись, Люлли сказал:
— Оркестр — это я!
И прибавил, ничуть не смутившись:
— Я и мои кастрюльки.


— Неужели? — спросил Людовик, с любопытством разглядывая бойкого поваренка.
Но вспомнив, что он король Франции, снова топнул ногой. Уже третий раз за этот вечер.
— Хочу видеть, как он играет на кастрюльках! Сейчас же! Немедленно!
— Нет ничего проще, ваше величество! Стоит лишь спуститься вам вниз в кухню. Или... или прикажите всем моим кастрюлькам подняться из кухни сюда, в этот зал.
При этих словах Люлли отвесил королю Франции самый изысканный поклон. Людовик засмеялся и сказал:
— Пусть все кастрюльки поднимутся из кухни наверх. Я приказываю!
— И скалки, и скалки, — подхватил Люлли. — Не забудьте про скалки... — крикнул он слугам, которые тотчас ринулись выполнять приказание короля. — А то чем же я буду выстукивать на кастрюльках мой гавот, ваше величество!
И вот тут-то и началось самое главное.
Когда слуги герцога притащили из кухни скалки и кастрюльки, поваренок Люлли, ничуть не смутясь тем, что они были изрядно закоптелыми, принялся устанавливать их на блестящем паркете зала. А когда они выстроились в том порядке, как ему было нужно, Люлли взял в каждую руку по скалке и спросил короля:
— Можно начинать, ваше величество?
Король, забыв, что ему нужно ответить по-королевски: «Я приказываю!», с нетерпением сказал:
— Начинай же, начинай поскорее!
И Люлли начал выстукивать деревянными скалками на медных кастрюльках свой знаменитый гавот.
Надо вам сказать, это была прелесть что за музыка. Веселая, звонкая и такая живая, что ноги всех придворных дам и кавалеров, да и самого короля Людовика, готовы были тут же пуститься в пляс.
Едва Люлли сыграл гавот до конца, как король воскликнул:
— Хочу еще раз!
А затем Людовик велел Люлли повторить гавот снова, уже в третий раз.
— Герцог Гиз, — король величественным жестом показал на бойкого поваренка, — пусть он...
Люлли, учтиво поклонившись, проговорил:
— Меня зовут Джованни Баттиста Люлли, ваше величество!
Король чуть нахмурился, но продолжал:
— Герцог Гиз, пусть Жан Батист Люлли немедленно переедет в мой дворец. Мне нравится его музыка. Я хочу слушать ее каждый день.
С этими словами он достал кошелек с золотыми червонцами и истинно королевским жестом швырнул его поваренку.
— Это тебе на бархатный камзол и кружевное жабо!
В этот вечер Люлли навсегда покинул кухню герцога Гиза. Он нежно простился со всеми двадцатью поварятами и со всеми десятью поварами. А главный повар поклонился ему ниже пояса.
— Как же мы будем без твоих песен, Люлли? — печально спросил самый маленький из поварят.
— Вы услышите их еще не раз! — весело ответил Люлли, пристраиваясь на запятках королевской кареты.
Композитор Жан Батист Люлли прожил долгую и блистательную жизнь. Он написал множество опер, балетов, танцев и песен. Его музыка пользовалась успехом не только среди придворном знати. Ее любил простой народ Франции, и его песни распевали и поварята возле жарких очагов, и угольщики в лесах Нормандии, и булочники, выпекающие хлеб, и виноградари, выращивая золотые и лиловые гроздья на холмах Бургундии.
Его музыка звучит и сейчас, много-много лет спустя, доставляя слушателям радость и наслаждение.
С. ТУТОРСКАЯ. СОЛДАТСКАЯ СУДЬБА ПЕСНИ

Холодным осенним днем 1942 года двое мужчин вышли из леса к маленькой украинской деревушке Лыса-Гора. На опушке пасли корову три иззябшие, перепуганные девочки. Незнакомцы подошли поближе. Помогли развести костер. Подсели к нему. Потом один из них, глядя в огонь, негромко запел:
Там вдали за рекой, у станицы родной,
Чуть рассвет над землей загорался,
Там немецкий обоз полетел под откос
И на собственных минах взорвался...
Партизаны посидели немного и ушли. А песня их в деревне осталась. Пели ее потихоньку, и ближе казалась победа.
Прошло много лет. И одна из этих девочек, теперь уже взрослая женщина, вспомнила о ней. Вспомнила, попробовала запеть, оказывается — слова-то забылись. Незаметно, по одному, выскользнули из памяти. Осталось лишь это четверостишие. А ведь столько воспоминаний связано с этой песней... Женщина — Ф. Мартынович — написала в газету «Известия»: может, кто вспомнит песню?
И вот пошла в редакцию ответная почта. Что ни письмо, то мгновение чьей-то судьбы. И в каждом — хоть строка из песни. Разные на конвертах адреса. Н. Радченко (Львов) впервые услыхала песню в фашистском лагере Равенсбрюке. Там пела ее тихонько женщина белоруска. В. Гаранина из Мелекесса припоминает: да, слышала. В эвакуации под Семипалатинском. А В. Березниченко из Орла пел ее и вовсе за тридевять земель от того места, где она, наверное, родилась,—на Дальнем Востоке. Запомнил несколько строк из начала:
В темной роще густой партизан молодой
Притаился в засаде с отрядом.
Под осенним дождем мы врага подождем,
Нам спешить — торопиться не надо...
Так, незримая, меняясь, то с новой строкой, то с новым четверостишием, переходила песня через линию фронта, летела на восток почтой полевой... Но прежде всего, наверное, несли ее от села к селу партизанские связные. Приносили, и везде становилась песня своей. Видно, было в ней что-то такое, что брало за душу. Может, слова, может, мотив, родной, знакомый еще со времен гражданской войны. Вот одно из писем, в котором как раз и рассказывается о таком появлении песни:
«Она — наша семейная реликвия, — пишет Мария Ермолаева из Витебска. — Она, как святыня... Лет мне, как и Ф. Мартынович, в 1942 году было совсем немного, девять всего. Но помню: мой двоюродный брат ушел тогда в партизаны. И от них немцам не было покоя ни днем ни ночью. В отместку каратели сожгли наше село и расстреляли многих наших, деревенских. Наша изба уцелела чудом, потому что стояла в стороне. Раз вечером слышим тихий стук в окно. Брат пришел с двумя товарищами.


Вошли в горницу, сели на лавку, у ног автоматы поставили... Брат говорит: «Дай, Маруся, гармонь». Приладил ремень на плече, растянул меха и заиграл, а играть он был мастер. И сразу тихо стало. Только ветер за окном шумел:
И летит над страной этот ветер родной,
И считает он слезы и раны,
Чтоб могли по ночам отомстить палачам
За позор и за кровь партизаны...
Вскоре узнали про брата: погиб он.
Когда я прочитала в «Известиях» письмо человека, который интересуется песней и ее автором, я стала кругом спрашивать, и вот сказали мне: «Слова к ней сочинила известная героиня-подпольщица Нина Озолина».
Но на другой день пришло письмо из Винницы. Местная журналистка Е. Горб сообщала, что в 1959 году записала эту песню в селе Павловске на Винничине от бывшей связной партизанского отряда имени Ленина Ольги Васильевны Слободенюк. Текст напечатали в том же году в местном фольклорном сборнике «Зацвела калина». Автором ее считался партизан, Герой Советского Союза Петр Каленикович Волынец. В апреле 1943 года, выданный полицаем, он погиб в неравном бою.
Так кто же все-таки автор ее? Может, это легче будет установить, если узнаем, печаталась ли песня раньше, до 1959 года? На этот вопрос отвечает в своем письме 3. А. Воскобойникова из города Данкова Липецкой области.
«Шел 1941 год, — пишет она, — мне было шестнадцать лет. Жили мы в деревне Хвощевке Хинельского сельсовета Брянской области.
Осенью в нашем районе вели тяжелые бои части шестой и шестнадцатой армий. Многие попали в окружение. И кто не сумел из него выйти, ушли в Хинельские леса. Однажды отец — он партизанил в наших лесах еще в гражданскую войну — разбудил меня, когда еще не начало светать. Он был уже одет, на столе стояла большая корзина. В нее он укладывал бинты, хлеб, вареные яйца, морковь. Налил в большую бутыль молока. Я поняла все без слов. Шли в сторону леса. У лесной просеки отец велел подождать его и, если покажутся немцы, дать условленный знак. Сам свернул в чащу и пропал. Ожидание было долгим. Вдруг возле куста на земле я увидела страницу газеты. Подняла — наша, советская! Я спрятала ее под пальто. Дома я показала отцу. Он увидел там стихи. Быстро пробежал слова и сразу запел на мотив старой песни гражданской войны «Там вдали за рекой...» Ее у нас в доме знали еще с тех времен, как отец ее привез в двадцатом году из партизанского отряда Ковпака. Потом мы с папой часто, не сговариваясь, принимались тихонько петь партизанскую: он, бывало, начинает, а я вторю. Пели мы и в лесу, и дома, коротая тревожные ночи.
Сейчас у меня растут дети. И часто просят меня спеть им ее...»
Прочитав это письмо, мы подумали: а вдруг цел этот номер газеты. Или помнит Зинаида Алексеевна ее название. Отправили в Данков телеграмму. И вот говорим с 3. Воскобойниковой по телефону.

— Нет, газета не сохранилась.
— Мы ищем автора песни. Ничем не можете нам помочь?
— Нет, к сожалению. В сорок втором отца расстреляли за помощь партизанам. И все, что было в нашем доме печатного, тогда уничтожили...
Выходит, наметился след и — опять исчез. Но вот новое письмо, а в нем новая ниточка. Пишет старый солдат из Казани К. Рукавишников:
«Я воевал в 1943 году на Втором Украинском фронте. У нас был один сибиряк. Он очень любил петь. От него я услышал ту песню, что вы ищите, — «В темной роще густой». Ее текст я носил за голенищем сапога. Он и сейчас у меня хранится. Посылаю вам слова. Кажется, их сочинил кто-то из наших известных поэтов».
Вот так неожиданность! Еще конверт. М. Романова из г. Артемовского Свердловской области вносит уже полную определенность:
«Эта песня называется «В темной роще густой», слова Василия Лебедева-Кумача. Я прочитала ее в газете в 1943 году...».
Оба оказались правы. Долгие наши поиски привели к маленькому сборнику песен и стихов, изданному в 1943 году «Военмориздатом». Автор ее действительно В. И. Лебедев-Кумач. Но, как будто не желая согласиться с этой очевидностью, письма утверждают свое.
«Я знаю точно: ее сложил наш партизанский поэт Н. Малов», — пишет бывший партизан Первого Молдавского партизанского объединения Н. Переходюк.
«Нет у этой песни автора. Народ ее сложил. Люди обыкновенные. Слагали строчка за строчкой», — утверждает М. Трофимова из Ряжска.
И не удивительно, что так думают. Может быть, и сам поэт не узнал бы своей песни, если бы услышал, как поют ее в некоторых селах и деревнях. Тех первых двух строк, которые запомнила в песне Ф. Мартынович, в авторской редакции вовсе нет. В Запорожье, как пишет Н. Коротченко, в первом куплете сочинили свою, совсем новую строку. В. Корнева из Уфы прислала нам иной вариант второго куплета. И уверена: именно ее текст самый точный. А сколько отдельных слов изменено, и не перечислишь. Перечитываем письма, сличаем отдельные тексты песни и удивляемся таланту народному — умению беречь песню, даже изменяя ее.
Трудно высказать большую похвалу поэту, чем сказать про его песню: нет, не он сочинил ее, она — народная. Так случилось и здесь.
Песни, как и люди, имеют свою судьбу. У этой песни — судьба солдата. И потому, наверное, она не умирает и никогда не умрет. Простая песня. Песня о любви к Родине.
В. ВИКТОРОВ. «НЕ ТОЛЬКО МАЛЬЧИШКИ...»
История одной песни

За стеклом в моем книжном шкафу стоит фотография, наклеенная на лист картона. На фотографии — памятник маленькой партизанке Ларисе Михеенко, установленный перед зданием школы. «От пионеров дружины имени Ларисы Михеенко Хотьковской школы номер 5 в день рождения песни» — гласит надпись.
Вот об этой песне и о том, почему и как она была написана, мне хочется рассказать.
Летом 1967 года композитор Кабалевский получил письмо из Хотьковской школы номер 5.
«Дорогой Дмитрий Борисович, — писали ребята, — просим Вас сочинить песню о Ларисе Михеенко, имя которой носит наша дружина». В конверт были вложены две тетрадные странички с заголовком «Юная героиня» — краткий рассказ о подвигах Лары Михеенко, ленинградской пионерки, расстрелянной фашистами в Псковской области в ноябре 1943 года. Ребята ссылались также на книгу писательницы Надеждиной «Партизанка Лара».
Дмитрий Борисович Кабалевский переслал мне письмо ребят и попросил написать стихи для песни.
Позже, когда я познакомился с пионерской дружиной Хотьковской школы, я узнал, что у них была своя песня о Ларе. Вернее, не совсем своя, и не совсем о Ларе.
Это песня композитора Жарковского на слова поэта Ваншенкина «Женька». Хорошая песня. И в судьбе Женьки много общего с судьбой Лары. Вот хотьковские пионеры и отредактировали эту песню — вместо имени безвестной Женьки появилось дорогое ребятам имя Ларисы Михеенко.
Но, конечно, дружина мечтала о своей собственной песне про Лару.
Я прочитал книгу Надеждиной, познакомился и с другими материалами о Ларисе.
И передо мной, одна за другой, развернулись картины из жизни маленькой партизанки.
Мирный довоенный Ленинград. Девочка учится, читает книги, танцует. Она мечтает стать балериной. В школьном музее имени Лары я видел под стеклом игрушку — маленькую балерину, сделанную самой девочкой...
Лето 1941 года. Захваченная врагами псковская земля, разоренные деревни. Лара, попавшая сюда в первые годы войны, совершает первый подвиг. Она прокалывает шины фашистским велосипедистам, которые собираются выслеживать партизан.
Служба в партизанской бригаде. Лара выполняет задания начальника разведки — выясняет расположение огневых точек.
Вот, задержанная фашистским патрулем, она совершает побег. Вот с подругами несет листовки в занятую врагом деревню. И снова — арест, на этот раз — последний...
В избу, где скрывалась Лара, ворвались фашисты. Спасая других, девочка осталась одна против врагов — в рукаве ее пальто была запрятана граната. Но граната подвела партизанку — не разорвалась...
Жизнь короткая, но яркая, как вспышка света! Трудно писать песню о жизни, которая сама — как песня!
Мы с Дмитрием Борисовичем работали около года.
И вот мы в гостях у хотьковских пионеров.
Огромный светлый зал полон ребят. Нас встречают очень радушно. Как-то сразу создается ощущение, что мы здесь не впервые, а были уже много раз, и что мы вообще не гости, а члены этой большой, веселой и очень дружной семьи.
Дмитрий Борисович садится за пианино. Он исполняет песню, а притихшее жюри из нескольких сот слушателей принимает нашу работу. Мы назвали эту песню «Не только мальчишки».
Кажется, песня ребятам нравится. Но этого композитору мало. Ему хочется знать, легко ли она запоминается, захочется ли ребятам ее повторить.
И вот уже весь зал вместе с нами поет сначала припев, а потом первый куплет, второй, и уже вся песня звучит в исполнении хора в несколько сот голосов.
Долго ребята не отпускали Дмитрия Борисовича от пианино. А потом они показали нам свою замечательную школу с залом искусства, ботаническим залом, прекрасными кабинетами и, конечно, повели нас в музей, имени Лары Михеенко, который является гордостью школы, да и не только школы.
Здесь есть бинокль, которым пользовалась девочка при выполнении боевых заданий, ложка, на которой нацарапано «Лара» — все это подарки музею от ее друзей-партизан. Много вещей подарила музею мама Лары, Татьяна Андреевна. А землю с Лариной могилы привезли сюда пионеры, участвовавшие в походе по местам, где сражалась героиня.
У музея своя пионерская дирекция, своя лекторская группа — нашу экскурсию вела ученица VII класса Галя Волкова.
Прощаемся мы с ребятами и учителями у памятника Ларе.
И пусть наша песня будет еще одним памятником этой чудесной девочке, героине минувшей войны.
НЕ ТОЛЬКО МАЛЬЧИШКИ
Песня о Ларисе Михеенко
Слова В. ВИКТОРОВА
Музыка Д. КАБАЛЕВСКОГО



1. Теперь о тебе пишут песни и книжки,
И многим ребятам знаком твой портрет.
Не только мальчишки,
Не только мальчишки
Пошли партизанить с тринадцати лет.
Припев: Ой, Лариса, карие глаза,
Ой, Лариса, светлая слеза.
Слово недосказано,
Песня не допета,
Только сосны знают,
Где ты, где ты, где ты...
2. Была ты веселой кудрявой девчонкой,
Разведчицей храброй в отряде была.
Граната-лимонка,
Граната-лимонка
В минуту ареста тебя подвела.
3. На Псковщине сосны стоят вековые,
Легенды звучат в мерном шуме ветвей.
Пусть слышит Россия,
Пусть слышит Россия
О мужестве маленькой дочки своей.
В. ЛЕВШИН. НОКТЮРН ПИФАГОРА

В некотором Арифметическом государстве жил-был маленький, но любознательный Нулик. Никогда не упускал он случая разузнать что-нибудь новое о числах, об их свойствах и зависимостях.
Не раз Нулик путешествовал в качестве юнги на фрегате отважного и мудрого капитана Единицы, который часто совершал рейсы по математическим морям и океанам.
[1]
Прочитайте запись из судового журнала, сделанную собственноручно юнгой Нуликом специально для читателей «Пионерского музыкального клуба» и названную им «Ноктюрн Пифагора».
16 нуляля
За одну ночь наш волшебный фрегат перенесся почти на 2500 лет назад, и мы очутились в Древней Греции, на острове, который называется Математа.
— Опять что-то математическое! — подумал я, но тут же у пристани увидел здание с колоннами, на фронтоне которого было написано: ПИФАГОРЕЙСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА.

Вот это здорово! Что может быть лучше музыки? Я готов ее слушать с утра до вечера. Одно только непонятно: остров называется Математа, да и сам Пифагор, как я знаю, был математиком, — причем же здесь музыка? Ведь математика и музыка, всякий знает, не имеют ничего общего.
— Ошибаешься, — сказал капитан Единица, услыхав мои рассуждения. — Ведь мы с тобой в Древней Греции, а здесь слово «математика», иначе «математа», означает просто-напросто «наука». И пифагорейцы, ученики великого Пифагора, занимались четырьмя науками: астрономией, геометрией, арифметикой и музыкой.
— Ну! — удивился я. — А я-то думал, что музыка — искусство.
— Правильно думал, — ответил капитан. — Музыка, конечно, искусство. Искусство, основанное на гармонии.
— Не только на гармони, — возразил я. — И на рояле, и на скрипке, и еще на этом... как его ... саксофоне.
Капитан засмеялся:
— Я же имел в виду не гармонь — музыкальный инструмент, а гармонию — науку о созвучиях, то есть о соразмерном слиянии музыкальных звуков.
— Слияние музыкальных звуков! Красиво сказано. Но при чем тут математика?
— Да при том, что гармония без математики не обходится. Это-то и показал Пифагор.
— Выходит, для того чтобы играть на скрипке, надо знать таблицу умножения?
Капитан проворчал, что это в любом случае не помешает, и тут же спросил:
— Задумывался ли ты над тем, отчего звучит скрипичная струна?
— Чего тут думать! Водишь по струне смычком, она и звучит.
— Но почему, почему она звучит?
— Ну, это уже философия.
— Что ж, Пифагор, между прочим, был и философом, — невозмутимо ответил капитан. — Но мы-то с тобой говорим о другом. Да будет тебе известно: струна звучит потому, что смычок заставляет ее колебаться. Колеблется струна — колеблется воздух, возникают звуковые волны. Звуковые волны попадают к тебе в уши и колеблют барабанные перепонки...
— Теперь понимаю, — обрадовался я, — почему моя мама говорит: «Ах, эта музыка так меня взволновала!». Всему причиной звуковые волны...
Капитан рассмеялся. Но долго смеяться ему не пришлось, потому что я тотчас забросал его вопросами.
— Почему одни звуки бывают тонкие, — спросил я, — а другие толстые?
— Ты хочешь сказать — низкие, — поправил капитан. — Высота звука зависит от многих причин. От толщины струны, от ее длины. Чем струна короче, тем звуки тоньше или, как говорят, выше.
— Вот и нет! — не согласился я. — У рояля-то струны неодинаковой длины, а вот у скрипки одна и та же струна издает самые разные звуки: писклявые — и-и-и-и! — и густые — у-у-у-у!
Капитан поморщился.
— Не утруждайся, пожалуйста, я уже понял. Лучше скажи, неужели ты не заметил, что скрипач, играя, прижимает струну пальцем? И значит, звучит при этом не вся струна, а только часть ее.
— Вот как! А я не знал...
— Эх ты! Это еще в Древнем Вавилоне знали.
— А что, Древний Вавилон древнее Древней Греции?
— Намного.
— Так при чем же здесь Пифагор?
Капитан поднял палец:
— Заслуга Пифагора в том, что он первый вычислил, на какие части надо разделить струну, чтобы получить звуки нужной высоты. И тут помогли ему арифметика и геометрия.
Час от часу не легче. Оказывается, музыка и с геометрией в родстве!
Тут капитан подвел меня к какому-то юному древнему греку, который раскладывал на столе орехи. Я поинтересовался, чем это он занимается.
— Гармонией, — ответил юный древний грек. — Я строю треугольник. Равносторонний треугольник из десяти орехов.
— Почему так мало? — огорчился я. — Я бы съел побольше.
— С меня достаточно и десяти, — улыбнулся тот. — Ведь 10 — замечательное число. Оно состоит из суммы первых четырех целых чисел: 1 + 2 + 3 + 4 = 10. Это же треугольное число!
— Треугольное число... Может, есть еще какие-нибудь — круглые или пирамидальные?
Вместо ответа мальчик разложил орехи треугольником: в первом ряду — один орех, во втором — два, в третьем — три, и, наконец, в четвертом — четыре.
Треугольник как треугольник. Но при чем здесь все-таки гармония?
Так я этого и не выяснил, потому что капитан, опасаясь, очевидно, как бы я не съел этот ореховый треугольник, увел меня к следующему столу, где другой юный древний грек делил целые числа. И что бы вы думали? Оказалось, что и он тоже занимается гармонией: ищет гармонию числовых отношений. Чудн
о!
— Ничего чудн
ого, — возразил грек. — В числах тоже есть своя гармония. И основана она на отношениях все тех же четырех чисел: 1, 2, 3 и 4.
Он поманил меня пальцем и благоговейным шепотом сообщил, что эти замечательные гармонические отношения обнаружил великий Пифагор.
Пифагор, Пифагор... У меня от этого имени уже в ушах стреляет: пиф-паф, пиф-паф! И я очень обрадовался, когда капитан схватил меня за руку и потащил к третьему столу. Длинному-предлинному. За ним работал уже не мальчик, а самый что ни на есть настоящий древний грек — старик с курчавой бородой.
— Гипп
ас, ученик великого Пифагора, — представился он.
Опять Пифагор! Я только вздохнул.
Побеседовав со стариком, мы узнали, что он возглавляет сейчас пифагорейскую школу.
На столе у Гипп
аса лежала длинная линейка.
— Наконец-то хоть что-то математическое, — подумал я. Но и Гиппас тоже, оказывается, изучал гармонию. На сей раз — гармонию звуков.
Бородач натянул на линейку струну, ущипнул ее, и она издала низкий гудящий звук. Потом он прижал струну пальцем ровно посередине и предложил мне ущипнуть одну из ее половинок. Я не заставил себя упрашивать. Струна издала звук потоньше.

— Выше на целую октаву, — сказал капитан Единица.
— Как вы говорите? — переспросил Гиппас. — На октаву? Да, да, по-вашему это как раз так и называется.
Он разделил правую половинку струны еще раз пополам и снова
предложил мне ущипнуть эту четвертушку. Струна зазвучала еще выше, и опять на целую октаву. Потом мы отделяли одну восьмую, одну шестнадцатую струны... И каждый раз получали звук на октаву выше предыдущего. У меня даже палец заболел от щипания.
— Долго это будет продолжаться? — спросил я.
— Совсем недолго, — успокоил меня Гиппас. — Пифагор разделил струну всего на семь октав. Правда, у него при этом получился остаток, но он так мал, что не стоит обращать на него внимания. Пифагор его попросту отрезал...
— Уважаемый Гиппас, — сказал я решительно, — скажите, наконец, кто вы — музыкант или математик?
— Что за нелепый вопрос, — загремел Гиппас, да так, что струна на линейке вздрогнула и загудела. — Все мы здесь музыканты-математики. Да, да! Ведь музыка и математика тесно связаны. И та и другая построены на соотношении чисел. Я уже добрых полчаса тебе об этом толкую. Октава, например, получается при делении отрезка струны пополам. Стало быть, это отношение 2:1...
— Допустим, — сказал я примирительно, — но что общего между музыкой и соотношением чисел в ореховом треугольнике?
— Это уже серьезный вопрос, — подобрел Гиппас. — Числа, образующие этот треугольник, имеют прямую связь с музыкой. Вот хоть отношение 3:2.
Гиппас разделил струну на три равные части и прижал пальцем на расстоянии одной трети от конца.
— Видишь, — пояснил он, — струна разделена на две части. Одна из них равна двум третям, другая одной трети. Значит, длина всей струны относится к большей ее части, как 3:2. Тронем большую часть струны, она зазвучит выше, чем вся струна...
— Теперь уже не на октаву, а всего лишь на квинту, — вставил капитан.
— Совершенно верно, — поклонился Гиппас, — по-вашему это называется квинтой. Снова отложим на меньшей части струны две ее трети — получим...
— Новую квинту! — подхватил я.
Гиппас просиял:
— Нет, ты определенно делаешь успехи. Еще раз разделим таким же способом меньшую часть струны. И так далее, пока не дойдем до конца. И окажется, что на струне, состоящей из семи октав, укладывается двенадцать квинт.
— Скажите! — восхитился я. — Точно двенадцать!
— Гм, гм!.. — закашлялся Гиппас. — В том-то и беда, что не совсем точно. Двенадцать квинт чуть-чуть длиннее семи октав.

Правда, разность между ними совсем ничтожна. Если хотите, я ее подсчитаю. Это очень просто. Сложим семь октав, семь отрезков струны:

А теперь сложим двенадцать отрезков, образующих квинты:

— Остается вычесть из большей суммы меньшую, — сказал я. — 0,99999-0,99218=0,00781. Да, разность и в самом деле очень мала...
— И все же, — возразил Гиппас, — это меня очень расстраивает.
— Очень вам сочувствую, — сказал я. — В ореховом треугольнике есть еще число 4. И вы, помнится, ничего еще не сказали о нем.
— О, отношение 4:3 тоже великолепное! — воодушевился Гиппас. — Оно дает... как это по-вашему?
— Кварту, — подсказал капитан.
— Да, да, кварту, — кивнул Гиппас. —Чтобы получить эту самую кварту, надо заставить звучать три четверти струны. И заметьте, что октава больше квинты как раз на кварту.
— Ну, это еще надо проверить! — усомнился я.
Гиппас насмешливо улыбнулся.
— Чего проще! Раздели отношение 2:1 на 3:2. И получишь...
— Получу четыре третьих, — быстро сосчитал я.
— А это и есть кварта, — подтвердил Гиппас. — Теперь, надеюсь, ты не сомневаешься, что все четыре числа этого орехового или, как назвал его Пифагор, совершенного треугольника находятся между собой в великолепнейшем гармоническом отношении?
— Понятно, — сказал я. — Но что такое октава, квинта и кварта, это мне, по правде говоря, еще все-таки неясно.
Гиппас почесал переносицу:
— Гм... как бы тебе это объяснить? Представь себе, что струна — это лесенка, состоящая из сорока двух ступенек. Представил? Так вот. То, что у вас называется октавой, это всего лишь восемь ступенек этой лестницы. Оттого, собственно, ее и называют октавой. Ведь по-латыни «окто» — восемь. Что же касается кварты, то она состоит из четырех ступенек, квинта — из пяти... Ведь «кварто» и «квинто» по-латински — четыре и пять. А вот разность между квартой и квинтой условились принимать за один музыкальный тон.
— А тон тоже можно выразить числовым отношением? — поинтересовался я. — А то без числовых отношений мне теперь музыка — не музыка.
Гиппас прямо вспыхнул от удовольствия.
— А как же! Стоит только вычислить, во сколько раз квинта (3:2) больше кварты (4:3).
— Ну, это легче легкого, — отмахнулся я. — 3:2, деленное на 4:3, равно 9:8. И, значит, одному целому тону соответствует отношение девяти к восьми.
— Что за мальчик! — расчувствовался Гиппас. — Между прочим,— добавил он, — числа 8 и 9 тоже за-ме-ча-тель-ны-е! Еще со времен Пифагора мы, его ученики, кроме чисел 1, 2, 3 и 4 очень полюбили другую четверку чисел — 6, 8, 9 и 12.
— Стойте! — закричал я. — Ничего не говорите. Позвольте мне самому разобраться, чем замечательны эти четыре числа. Возьмем сперва отношение 12:6. Оно равно отношению 2:1, то есть октаве. Точно так же отношение 12:8 равно 3:2, а это квинта. И, наконец, отношение 12:9 равно 4:3, то есть кварте. Верно я говорю?
— Верно, дорогой мой друг, — сказал Гиппас, обнимая и целуя меня. — Обидно лишь, что ты не сказал о числе 9. Ведь это же не что иное, как среднее арифметическое между числами 6 и 12.
— А ведь верно! — обрадовался я и тотчас вычислил:

— Гениально! — простонал Гиппас, утирая полой плаща слезы умиления. — Может, скажешь заодно, что такое число 8?
— Наверное, среднее геометрическое между шестью и двенадцатью, — неуверенно предположил я.
— Среднее-то среднее, да только не геометрическое, а гармоническое. И пора бы уж тебе знать, что средним гармоническим двух чисел называется их удвоенное произведение, деленное на их же сумму. Вот, смотри:

— Уважаемый гармонист, — пробормотал я, — у меня от ваших чисел голова идет кругом...
— Жаль! — огорчился Гиппас. — Ведь я не сказал еще о числе 12. Тоже весьма любопытное число, потому что именно двенадцать квинт уложил Пифагор в семи октавах... Вот, оказывается, какая глубокая связь между числами и музыкой! Впрочем, тебе это ни к чему...
— К чему, очень даже к чему! — горячо заверил я старца. — И огромное вам спасибо за интересную беседу.

Не без сожаления покинули мы с капитаном гостеприимный остров Математа и отправились обратно на фрегат. Всю дорогу сопровождала нас чудесная музыка — плавная, нежная. Только среди приятных звуков иногда вдруг прорывались фальшивые, воющие, будто завыла стая волков. Когда музыка кончилась, голос откуда-то с облаков объявил:
— По просьбе богини Артемиды дельфийский секстет монохордисток исполнил ноктюрн Пифагора.
— Все-таки молодчина этот Пифагор, — расчувствовался я. — Математик и композитор. Ноктюрны сочиняет. Только почему в этом ноктюрне завывают волки?
— Неужели ты не понимаешь, что все дело в разности? — удивился капитан. — В маленькой разности между семью октавами и двенадцатью квинтами? От нее-то и возникает волчий вой при некоторых созвучиях, а лучше сказать — несозвучиях.
— Но почему, — спросил я, — волки завывают только в ноктюрне Пифагора? Ведь в ноктюрнах Шопена никаких волков нет.
Капитан и тут оказался на большой научно-музыкальной высоте. Он объяснил, что Шопен писал музыку совсем для другого, не пифагорейского музыкального строя.
Оказывается, музыканты давным-давно искали способ избавиться от некрасивых созвучий. В этом помогали им многие известные математики — Эйлер, Лейбниц, Лаплас, Паскаль и даже астроном Кеплер. И все-таки никто не смог решить задачу так блестяще, как это сделал в середине XVII века органист Андрей Веркмейстер. Он вышел из положения просто и остроумно: чуть-чуть укоротил квинту. И все двенадцать квинт в точности уложились в семи октавах. А еще Веркмейстер выровнял интервалы между тонами, так что все они расположились равномерно. Капитан сказал, что такое равномерное отношение между тонами называется темперацией. Так вот, она-то и стала основой современного музыкального строя.
Первым темперацию принял великий немецкий музыкант Иоганн Себастьян Бах. И было это в XVIII веке. Бах даже написал замечательное сочинение под названием «Хорошо темперированный клавир».
— С тех пор, — заключил капитан, — почти все крупные композиторы стали пользоваться только этим музыкальным строем.
— Почему почти все? — спросил я.
— Видишь ли, — вздохнул капитан, — новое всегда с трудом пробивает себе дорогу. Великий Бах принял новшество сразу, а его великий современник Гендель так и не признал его.
Когда мы поднялись на фрегат, капитан повел меня в салон и открыл рояль, на котором любил играть в свободное время.
— Вот инструмент современного строя, — сказал он. — Видишь, квинта состоит из трех с половиной тонов (капитан одновременно нажал две клавиши:
до и
соль). А всего в октаве шесть целых тонов. Если число 6 умножить на 7, то есть на число пифагорейских октав, получится 42. То же число получится, если число квинт в пифагорейской струне (а это 12) умножить на три с половиной. Вот и выходит, что двенадцать квинт точно укладываются в семи октавах. А теперь давай-ка отложим от нижнего
до все двенадцать квинт, одну за другой.
Так мы и сделали. И что бы вы думали получилось? Через каждые три с половиной тона мы попадали на другую, ранее не использованную нами ноту:
до—соль—ре—ля—ми—си,—фа - диез-до - диез—соль -диез—ре-диез—ля-диез—фа и, наконец, снова
до!

— Если все тона этих двенадцати квинт свести в одну октаву, получится двенадцать полутонов хроматической гаммы, — закончил капитан. — В общем, хотя музыкальный строй Пифагора дошел до нас в измененном виде, мы все равно чтим этого великого ученого древнего мира: ведь он первый заставил математику служить музыке и объединил таким образом искусство и науку.
В эту ночь мне снился удивительный сон: Иоганн Себастьян Бах, размахивая дирижерской палочкой, яростно сражался со стаей волков. Волки жалобно выли.

ДОФАСИ И ЛЯМИ В «ПИОНЕРСКОМ МУЗЫКАЛЬНОМ КЛУБЕ»

Сегодня, ребята, я даю вам самые разные музыкальные задачи. Вы должны разгадать ребусы, чайнворд, шарады, ответить на вопросы.
Если они покажутся вам очень трудными, не смущайтесь. Чуть-чуть внимания, чуть-чуть настойчивости и вдумчивости — и победа будет одержана. Если же вы все-таки не сумеете ответить на все вопросы, откройте страницу 89. Там есть ответы. Но лучше подумайте еще. Не сегодня, так завтра, послезавтра вы найдете правильное решение.
Конечно, все вы знаете адреса ближайших библиотек. Зайдите туда, возьмите книжки о музыке, словари, поройтесь в них. Это очень интересно.
Ответ не забудьте прислать мне.

РЕБУСЫ
1. Так начинается известная советская песня:
 2. Композитор:
2. Композитор:


Одним ходом каждой шахматной фигуры расставьте буквы на нижних клетках доски в таком порядке, чтобы получилось название музыкального произведения для хора, солистов и оркестра.
ШАРАДЫ. Какие это оперы?
1. Наш первый слог легко узнаешь ты,
Плоды он нам приносит и цветы.
И без труда второй узнаешь слог,
В грамматике зовется он предлог.
2. Наш первый слог — одно из междометий,
Союз простой —
Наш слог второй,
И утверждение — слогтретий.
3. Первый слог и второй —
Инструмент духовой.
Третий слог — с давних пор.
Так зовется мажор.
ЧАЙНВОРД «ИСПОЛНИТЕЛИ»

1. Советский пианист. 2. Современный венгерский скрипач. 3. Пианист, создатель одной из крупнейших советских пианистических школ. 4. Французская певица XIX века. 5. Русская советская певица. 6. Скрипач и дирижер, профессор Петербургской консерватории. 7. Советский пианист. 8. Негритянский певец. 9. Русская советская певица. 10. Негритянская певица. 11. Певец, народный артист СССР, солист Большого театра. 12. Певец, народный артист СССР, солист Большого театра. 13. Бельгийский скрипач и композитор. 14. Пианист, основатель одной из крупнейших советских пианистических школ.

Мое задание труднее, чем у Дофаси. Я обращаюсь к тем из вас, кто уже знает ноты, умеет немного играть и петь по нотам, к тем, кто любит музыку, слушает ее в концертах, по радио, телевидению, читает книжки о музыке.
Ответы на мои вопросы шлите мне.
Лями
КТО АВТОР?
Этого концерта:
 Этой симфонии:
Этой симфонии:
 Этого марша:
Этого марша:
 НАЗОВИТЕ ПЕСНИ И АВТОРОВ ИХ МУЗЫКИ:
НАЗОВИТЕ ПЕСНИ И АВТОРОВ ИХ МУЗЫКИ:
 ПОИГРАЙТЕ С МАЛЫШАМИ
ПОИГРАЙТЕ С МАЛЫШАМИ


Переведите буквы с воздушных шариков в клетки под ними в таком порядке, чтобы получились названия танцев.
ОДНАЖДЫ
...Паганини опаздывал на концерт. Наняв извозчика, он попросил его быстрее ехать к театру.
— Сколько следует заплатить вам! — спросил он у извозчика.
— Десять франков.
— Вы шутите?!
— И не думаю. Возьмете же вы по десять франков с каждого, кто будет слушать сегодня вашу игру на одной струне!
— Хорошо, — ответил Паганини, — я заплачу вам десять франков только в том случае, если вы довезете меня до театра на одном колесе.

Итальянский композитор Доницетти славился тем, что писал оперы с невероятной быстротой. Однажды в его присутствии завели разговор о том, что Россини написал «Севильского цирюльника» за тринадцать дней.
— Каково ваше мнение, маэстро! — спросили Доницетти. — Не правда ли, это нечто исключительное!
— Полагаю, что это вполне возможно, — невозмутимо ответил тот, — Россини ведь всегда писал медленно.
Живя в Болонье, Дж. Россини написал революционную песню, воодушевлявшую итальянцев на борьбу за освобождение от австрийского ига.
Молодой композитор понимал, что ему небезопасно теперь оставаться в городе, занятом австрийскими войсками. Однако уехать из Болоньи нельзя было без разрешения генерала. Россини решился пойти к нему и добиться пропуска на выезд.
— Кто вы! — спросил австрийский генерал.
Композитор назвал первую попавшуюся фамилию и добавил:
— Я — музыкант и композитор, только не такой, как этот разбойник Россини, который сочиняет революционные песни. Я люблю Австрию и написал для вас бравурный военный марш, который вы можете дать разучить вашим военным оркестрам.
Россини отдал генералу ноты с маршем и получил взамен пропуск.
На другой день марш был разучен, и австрийский военный оркестр исполнял его на площади Болоньи. Это была та же революционная песня.
Жители Болоньи, услышав знакомый мотив, пришли в восторг и тут же подхватили его.
Можно себе представить, как был взбешен австрийский генерал и как он сожалел, что композитор уже за пределами Болоньи.
Россини как-то был в гостях у барона Дельмора, куда был так же приглашен известный поэт Альфред де Мюссе. По просьбе присутствовавших Мюссе прочитал свое новое стихотворение «Не забывай». Россини, обладавший феноменальной памятью, решил подшутить над поэтом и спросил его как бы невзначай:
— Чьи это стихи! Я что-то не припомню автора...
— Ваш покорный слуга, — ответил Мюссе.
— Да, полноте, — лукаво сказал Россини, — я их еще в детстве учил наизусть.
И без малейшей запинки повторил только что услышанное стихотворение Мюссе слово в слово.
Французский композитор Даниель Обер, автор опер «Немая из Портичи» и «Фра-Дьяволо», сказал как-то Рихарду Вагнеру:
— Прошло около тридцати лет, прежде чем я убедился, что совершенно лишен музыкального дарования.
Удивленный Вагнер спросил:
— И после этого вы перестали писать музыку!
— Нет, — ответил с усмешкой Обер,— ведь тогда я был уже знаменит.

В 1855 году Рихард Вагнер выступил в Лондоне как дирижер, исполнив две симфонии Бетховена на память. Публика встретила его сдержанно, так как дирижирование на память было в то время еще непривычным для слушателей. На следующем концерте Вагнер имел перед собой партитуру, и публика наградила его продолжительными аплодисментами. Однако когда Вагнер покинул эстраду, многие могли заметить, что на пульте стояла партитура «Севильского цирюльника» Россини и к тому же перевернутая «вверх ногами».


Во время гастролей в Лондоне дирижер Артур Никит, желая придать звуку трубы, дающий сигнал во время увертюры, как можно большую отдаленность, посадил первого трубача на галерку. Однако в нужный момент вместо сигнала раздался хриплый отрывистый звук. Никит не растерялся и подал знак второму трубачу в оркестре, который и сыграл требуемый сигнал.
В антракте дирижер накинулся на первого трубача:
— Что вы наделали! Почему не подали сигнала! Ведь вы могли сорвать мне всю увертюру!
— Простите, — смущенно пробормотал тот, — но едва я поднес трубу к губам, как явился капельдинер и вырвал ее у меня из рук, прибавив: «Что вы делаете! Как вам не стыдно! Ведь дирижирует знаменитый Никит!»

Все знаменитые скрипки на счету, и владельцы их известны. Рассказывают, что с Крейслером произошел однажды такой случай.
В комиссионной лавке в Антверпене Крейслер обнаружил скрипку, по виду которой было трудно определить ее происхождение. Судя по высокой стоимости инструмента, Крейслер понял, что хозяин разбирается в скрипках. Чтобы убедиться в этом, он вынул из футляра свою скрипку и предложил хозяину купить ее. Старик внимательно осмотрел инструмент и сказал, что он недостаточно богат, чтобы купить его за настоящую цену. Затем прибавил, что ему очень хочется показать господину свою скрипку Амати, которая, к сожалению, находится у него дома. «Я задержу вас всего несколько минут — мой дом рядом», — с этими словами он вышел.
Вскоре он вернулся в сопровождении полицейского и, указав на Крейслера, сказал: «Арестуйте этого человека, он украл скрипку Крейслера!» У знаменитого скрипача не было с собой документов, и он понял, что дело может обернуться неприятностью. Тогда он взял скрипку и сыграл свой «Прекрасный розмарин». Старик пришел в восторг и уверил недоумевающего полицейского, что перед ним сам Крейслер, так как никто, кроме него, не смог бы с таким блеском сыграть это произведение.
Забавный случай произошел на репетиции оперы Э. Направника «Франческа да Римини» в Мариинском театре. Желая блеснуть высокой нотой, известный тенор Н. Фигнер обратился к Направнику с просьбой разрешить ему в военном марше делать фермату на си-бемоль, то есть увеличить длительность ноты.
— А что будет с солдатами, марширующими под музыку! — спросил Направник. — Ведь им придется стоять на одной ноге, пока вы будете держать фермату.

Некий незадачливый композитор считал своим долгом выносить на суд Равеля каждый свой новый опус.
Однажды он явился к Равелю и, протягивая ему партитуру, произнес:
— Маэстро, вот мое последнее произведение.
— Ваше последнее произведение!! — воскликнул Равель. — В таком случае, я вас поздравляю!

Знаменитый румынский композитор и скрипач Джордже Энеску был также хорошим пианистом. Однажды, когда Энеску жил в Париже, к нему обратился его знакомый, весьма посредственный скрипач с просьбой аккомпанировать ему на концерте. После некоторых колебаний Энеску согласился. По пути на концерт он встретил своего друга, известного пианиста Гизекинга. Смеясь, Энеску рассказал ему о предстоящем выступлении и неожиданно спросил:
— Послушай, а почему бы тебе не пойти вместе со мной!
— Интересно, а что там буду делать я!
— Ну, хотя бы перелистывать мне ноты.
Друзья отправились вместе.
На следующий день в газете появилась рецензия: «Странный вчера пришлось нам слушать концерт. Тот, кто должен был играть на скрипке, играл на рояле; тот, кто должен был играть на рояле, перелистывал ноты; а тот, кому надлежало перелистывать страницы, почему-то играл на скрипке».

В Большом театре шел «Евгений Онегин». Несколько молодых артисток слушали спектакль за кулисами. Во время сцены письма Татьяны одна из них возмущенно сказала, что не понимает Татьяну: как она могла писать письмо Онегину, а не Ленскому! Стоявший вблизи певец Оленин — исполнитель партии Онегина — с улыбкой заметил:
— Милые барышни, не судите так строго Пушкина. Он ведь не знал, что Ленского будет петь Собинов.

Во время антракта дирижеру подали записку следующего содержания:
«Имейте в виду, что человек из вашего оркестра, ударяющий по маленькому треугольнику, ведет себя недобросовестно: он играет только тогда, когда вы на него смотрите».
Когда Энрико Карузо впервые прибыл в Америку, он подвергся атаке журналистов, которые забросали его самыми разнообразными вопросами. Один из них спросил певца, что он думает о торговых отношениях между Италией и Соединенными Штатами. Карузо ответил:
— Никогда над этим не задумывался. Но убежден, что о моем мнении по этому поводу я узнаю завтра в вашей газете.

Великий математик и физик Альберт Эйнштейн был хорошим скрипачом. Однажды, играя с известным пианистом Артуром Шнабелем, Эйнштейн не попал в такт, пропустив вступление. Разгневанный аккомпаниатор воскликнул:
— Вы что, считать не умеете, профессор Эйнштейн!


ОТВЕТЫ
Викторина.
1. Дуэт «Моряки» композитора Вильбоа и поэта Языкова. 2. Г. М. Кржижановский. 3. Монтегюс. 4. Соната «Аппассионата» Бетховена.
Ребусы.
1. «Все выше, и выше, и выше стремим мы полет наших птиц...»
«Авиамарш» композитора Ю. Хайта.
2. Чайковский.
«Мы сидели с тобой...», «Нам звезды кроткие сияли...», «Благословляю вас, леса...».
Музыкальная задача.
Оратория.
Шарады.
«Садко». «Аида». «Трубадур».
Чайнворд «Исполнители».
1. Гилельс. 2. Сигети. 3. Игумнов. 4. Виардо. 5. Обухова. 6. Ауэр. 7. Рихтер. 8. Робсон. 9. Нежданова. 10. Андерсон. 11. Нэлепп. 12. Пирогов. 13. Вьетан. 14. Нейгауз.
Кто автор!
Чайковский. Первый концерт для фортепиано с оркестром.
Бетховен. Пятая симфония.
Глинка. Марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила».
Назовите песни.
«Подмосковные вечера», музыка В. Соловьева-Седого.
«Священная война», музыка А. Александрова.
«Катюша», музыка М. Блантера.
Поиграйте с малышами
Мазурка. Вальс. Лезгинка. Краковяк. Полька. Менуэт.

 ДОРОГИЕ РЕБЯТА!
ДОРОГИЕ РЕБЯТА!
Мы — ваши старые друзья Дофаси и Лями — очень хотим, чтобы читатели «Пионерского музыкального клуба» знали, какие интересные книжки выпускает для детей издательство «Музыка». Эти книжки печатаются в серии «Рассказы о музыке для школьников».
Уже вышли и продаются в магазинах:
В. Брянцева. «Мифы Древней Греции и музыка».
О героях античных мифов вы знаете из учебников по истории древнего мира. А прочитав эту книгу, вы узнаете, как образы Орфея, Прометея живут в музыке вплоть до нашего — XX века.
В. Виноградов. «Крылатые песни».
Фольклорист, собиратель народных песен, наигрышей, танцев, сказок и легенд, — романтическая профессия. Вы это сразу почувствуете, когда откроете книгу В. Виноградова — известного советского музыковеда, отдавшего много лет жизни поискам сокровищ народного творчества.
Л. Гингольд. «В поединке с судьбой». Героические дни Людвига ван Бетховена.
Начав читать эту книгу, вы окажетесь вместе с Бетховеном в небольшом австрийском городке Гейлигенштадте под Веной, где композитор провел лето и осень 1802 года, узнаете о самых трагических днях в жизни великого музыканта, о том, как была создана Героическая симфония.
Е. Канн-Новикова. «Маленькая повесть о Михаиле Глинке».
Просто, живо и увлекательно написана биография гениального русского композитора. Книга издана уже два раза. Вы прочитаете ее с большим интересом.
Р. Лейтес. «Музыкальные сказки Шехеразады».
Все вы, конечно, читали знаменитые восточные сказки «Тысяча и одна ночь». О том, какие сюжеты этого замечательного собрания воплотил в своей музыке композитор Николай Андреевич Римский-Корсаков, сочиняя симфоническую сюиту «Шехеразада», вы узнаете из этой небольшой книжки.
В. Мурадели. «Из моей жизни».
Все вы, конечно, знаете и поете песни композитора Вано Ильича Мурадели, и прежде всего — «Бухенвальдский набат».
В этой книжке-беседе Вано Мурадели рассказывает вам, ребята, о своем детстве, о комсомольской юности, о своем творчестве.
Г. Пожидаев. «Дмитрий Борисович Кабалевский».
Композитор Дмитрий Борисович Кабалевский — ваш большой друг, ребята. Много времени, сил, энергии отдает он делу эстетического воспитания детей и молодежи. О его жизни и творчестве расскажет вам эта книга.
К. Хитц. «Петер в стране музыкальных инструментов».
Эта книжка — сказка для ребят, которые любят музыку.
Однажды мальчик Петер услышал мелодию, которая ему очень понравилась. А потом он забыл, потерял ее. И вот Петер отправился на поиски потерянной мелодии.
Путешествуя вместе с Петером, вы узнаете много нового и интересного о музыкальных инструментах, о нотной грамоте.
Книга эта переведена с немецкого.
Г. Соболева. «Жизнь в песне». Аркадий Ильич Островский.
Весь мир облетела песня Островского «Пусть всегда будет солнце». Песни Аркадия Ильича напоминают верных, испытанных друзей. Встреча с ними всегда радостна и приятна. Детские и молодежные, лирические и патриотические песни композитора звучат в эфире и на концертной эстраде, в грамзаписи и по телевидению.
О жизни и творчестве Островского, о создании и первом исполнении многих его песен вы узнаете из этой книги.
В скором времени издательство «Музыка» выпустит для вас, ребята, и такие книги:
С. Прокофьев. «Детство».
По радио и телевидению, в грамзаписи и на концертах вы, конечно, часто слышите музыку Сергея Сергеевича Прокофьева. Он был многогранно одаренным человеком: замечательным композитором, талантливым шахматистом, наблюдательным писателем.
Эта книга — отрывок из «Автобиографии» С. Прокофьева. Написана она просто, весело и остроумно.
Е. Канн-Новикова. «Хочу правды!» Повесть об Александре Даргомыжском.
Эта повесть расскажет вам о жизни и творчестве «великого учителя музыкальной правды». Жизненный путь композитора раскрывается в живых и образных сценах, написанных просто и доходчиво.


ПИОНЕРСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КЛУБ
Выпуск 10
Редактор И. Шалимова.
Художник А. Добрицын
.
Худож. редактор 3. Тишина.
Техн. редактор Т. Сучкова.
Корректор Г. Федяева.
Индекс 9—8
Подписано к печати 1/VI-71 г. Формат бумаги 70Х90
1/
16. Печ. л. 6,0. (Усл. п. л. 7,02).
Уч.-изд. л. 6,01. Тираж 50 000 экз.
Изд. № 6636. Т. п. 71 г. № 284. Зак. 5283.
Цена 46 к. на бумаге № 2.
Издательство «Музыка», Москва, Неглинная, 14. Волгоград, ул. КИМ, 6. ВОФ упр. по печати.
46 к.

Примечания
1
Подробнее о путешествиях и приключениях Нулика вы можете прочитать в книгах:
В. Левшин. Три дня в Карликании. М., 1964.
В. Левшин и Эм. Александрова. Черная маска из Аль-Джебры. М., 1965.
В. Левшин и Эм. Александрова. Путешествия по Карликании и Аль-Джебре. М., 1966.
В. Левшин. Фрегат капитана Единицы. М., 1968.
(обратно)
Оглавление
В. МУРАДЕЛИ.
КАК Я РАБОТАЛ НАД ОБРАЗОМ ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА В ОПЕРЕ «ОКТЯБРЬ»
М. ДОБРОСЛАВСКИЙ. МУЗЫКА КРЕМЛЕВСКИХ КУРАНТОВ
Д. КАБАЛЕВСКИЙ. О МУЗЫКЕ «ЛЕГКОЙ» И О МУЗЫКЕ «СЕРЬЕЗНОЙ»
БЕТХОВЕН... АППАССИОНАТА...
ВИКТОРИНА
Л. ГИНГОЛЬД. ЛЕТЯЩИЙ ВПЕРЕД ОРЕЛ
АЛЕКСАНДР УЛЫБЫШЕВ—ПЕРВЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ТВОРЧЕСТВА МОЦАРТА
А. АЛЕКСЕЕВА. СУРОВАЯ ШКОЛА МАЛЕНЬКОГО БАХА
С. МОГИЛЕВСКАЯ. ПОВАРЕНОК ЛЮЛЛИ
С. ТУТОРСКАЯ. СОЛДАТСКАЯ СУДЬБА ПЕСНИ
В. ВИКТОРОВ. «НЕ ТОЛЬКО МАЛЬЧИШКИ...»
В. ЛЕВШИН. НОКТЮРН ПИФАГОРА
ДОФАСИ И ЛЯМИ В «ПИОНЕРСКОМ МУЗЫКАЛЬНОМ КЛУБЕ»
РЕБУСЫ
ОДНАЖДЫ
ОТВЕТЫ
*** Примечания ***