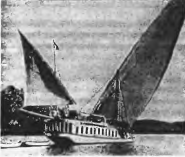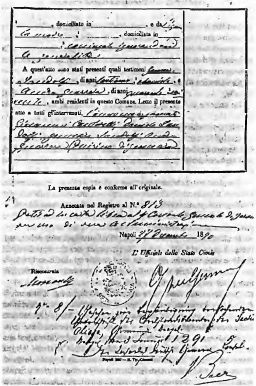Золото Шлимана
Филипп Ванденберг
Золото Шлимана / Пер. с нем. Е. П. Лесниковой, А. Л. Уткина, В. В. Ток, Л. И. Некрасовой под ред. М. В. Ливановой; Худож. А. А. Барейшин. — Смоленск: Русич, 1996.—592 с., ил.
ISBN 5-88590-462-6.
© 1995 by Gustav Н. Liibbe Verlag CmbH, Bergesch Gladbach
© Перевод. E. П. Лесникова, А. Л. Уткин, В. В. Ток, Л. И. Некрасова, 1996
© Русич, 1996
© Оформление. А. А. Барейшин, 1996
ПРЕДИСЛОВИЕ
Писать о нем — значит забыть обо всем остальном. Среди живших в девятнадцатом веке едва ли найдется человек, после которого осталось бы столько документальных свидетельств, отразивших все вехи его жизненного пути, сколько после Генриха Шлимана: 60 тысяч писем (некоторые утверждают, что 80 тысяч), 18 дневников, 10 книг, среди которых одна автобиографическая и бесчисленное множество статей в немецких, английских, американских, французских, итальянских и греческих газетах, что сделало поиск материалов для этой книги далеко не простым делом.
Все началось восемнадцать лет назад. Тогда я впервые написал о Шлимане. Книга «По следам нашего прошлого» рассказывала о «величайших приключениях в археологии», и трактовка образа Шлимана здесь не отступает от традиционных представлений. Спустя семь лет состоялась моя вторая литературная встреча с этим человеком. В моей книге «Потерянная Эллада» Шлиман был главным действующим лицом, и потому работа над ней велась с особой тщательностью.
Тогда, в 1984 году, я поразился тому, что Шлиман в действительности был совсем другим, непохожим на того, чей образ хотели навязать нам целые поколения писателей. Они взяли за основу своих произведений и признали неоспоримыми как составленные самим Шлиманом собственные жизнеописания, так и ту биографию, что в двадцатые годы вышла из-под пера немецкого писателя Эмиля Людвига по поручению вдовы Шлимана, Софьи.
Сам Шлиман подчас лгал безбожно. Целые этапы в его жизни — чистый вымысел, как, например, его юношеская любовь к Минне Майнке. Эта особа из высших аристократических кругов с трудом удержалась от желания начать процесс против Шлимана. А Эмиль Людвиг написал только то, что хотела опубликовать вдова. Например, легенду о том, что это она тайно вывезла «сокровище Приама» из Трои. Но при этом она забыла сжечь те письма, которые доказывают, что ее в то время не было в Трое.
Девяносто девять процентов всех писем Шлимана и их дубликаты написаны с учетом их будущей публикации. Они показывают приукрашенного Генриха, такого Шлимана, каким он всегда хотел быть. Лишь сотая часть всех личных писем действительно правдива, и только здесь перед нами предстает настоящий, неизвестный Шлиман. Отобрать эти документы было нелегкой задачей.
Что же касается стилистических особенностей многочисленных писем Шлимана и его сочинений, то здесь мы сталкиваемся с неуклюжестью неумелого автора и высокопарностью XIX века. Поэтому в целях большей четкости я отредактировал многие текстовые фрагменты, устранил грамматические ошибки и сократил бесчисленные пассажи. Это касается как американских путевых заметок и писем Шлимана на французском языке, так и греческих и латинских текстов античных авторов, которые я частично перевел заново. Без изменений я оставил только великолепный старомодный перевод «Илиады» Иоганна Генриха Фосса
1.
Характеристики действующих лиц и диалоги этой книги ни в коем случае не выдуманы. Они взяты из писем Шлимана или сообщений газет об определенных событиях; все происходило в точности так или подобным образом. Источники приводимых цитат даны в конце книги.
Сокровище Приама, не существовавшее в действительности, есть символ жизни Генриха Шлимана — великого человека, рост которого составлял 157 сантиметров
2, но который мог сдвинуть горы и был одержим одной-единственной идеей. Он был неутомимым трудоголиком, прожившим десять жизней, но все годы остававшимся одиночкой, посторонним, чудаком. И мои чувства к этому человеку колеблются от высочайшего восхищения до глубочайшего презрения. Но именно из таких противоречий и рождаются книги.
I. МАЙ 1945 ГОДА, БЕРЛИН В ОГНЕ
Вы, немцы, действительно плохо хранили ваши произведения искусства, прекрасные сокровища мировой культуры, и вы виноваты в том, что они так пострадали.
Но придет день, когда мы вернем эти произведения искусства туда, где их место, так как советский народ не рассматривает художественные сокровища как военные трофеи.
Генерал С. И. Тюльпанов, начальник отдела пропаганды советской военной администрации в Германии.
Все было так, как однажды в Трое. Стояла весна, но никто не замечал этого. Не было больше ни птиц, ни листьев, ни цветов. После ужасного воздушного налета 3 февраля 1945 года центр Берлина стал похож на испепеленную пустыню. В районе Тиргартен зияли глубокие воронки-кратеры. Бомбы превратили ухоженные когда-то скверы и парки в лунный пейзаж. На их месте теперь торчали обгоревшие, голые деревья с искореженными сучьями, похожими на почерневшие руки, беспомощно простирающиеся к небу.
Вопреки всем налетам, возле зоопарка уцелел высотный бункер
3 — неуклюжее семиэтажное сооружение с бетонными стенами толщиной в пять метров, с четырьмя зенитными башнями на плоской крыше; площадь его составляла 50 квадратных метров. Это был крупнейший музей и лазарет Берлина. Никто не мог сказать, сколько людей нашли укрытие на всех его мрачных, душных этажах. В крайнем случае здесь хватило бы места для пятнадцати тысяч. От бункера исходила ужасная вонь. Запах пота, крови и страха смешался с проникающими из перегруженной кухни первого этажа запахом вареных овощей, в основном репы.
Лишь немногие знали, что скрывалось за дверями комнат № 10 и № И на втором этаже. И худощавый мужчина, иногда выходивший в полумрак коридора, не отличался ничем необычным: он был высоким и худощавым, что не слишком бросалось в глаза (все недоедали в дни войны). Этим человеком был профессор Вильгельм Унферцагт; он был одет в темный костюм, носил никелированные очки и никогда не забывал запереть за собой дверь, выходя из помещения.
Профессор уже два месяца жил в надежно защищенном бункере «Ам Цоо». Он появился здесь 13 февраля с двумя чемоданами, вмещавшими все имущество: после пяти авианалетов подряд его «разбомбили», как говорили тогда о тех, кто оказался у горящих руин своего дома или разрушенной квартиры. У него остались только два чемодана с вещами, а также пальто и костюм, которые были на нем (такова была судьба миллионов, обычная в те дни).
Необычными были только обстоятельства, приведшие профессора в этот бункер, так как Унферцагт не мог сослаться на ранение, а также не имел никакого отношения ни к медперсоналу, ни к охране, которая должна была взять на себя защиту этого бастиона на окраине района Тиргартен. Унферцагт был директором Государственного музея доисторических времен и древней истории на Принц-Альбрехтштрассе и отвечал за сохранность одного из самых ценных достояний человечества — сокровищ Приама.
Обнаруживший этот клад Генрих Шлиман завещал его «немецкому народу» и лично принимал участие в выставке сокровищ в одном из берлинских музеев. Первая мировая война не причинила сокровищам никакого вреда, последующие репарации тоже пощадили их. Они считались «чудом света» и археологической сенсацией, как и обнаруженная лишь за двадцать лет до бомбардировок Берлина золотая маска Тутанхамона.
Теперь клад Приама находился в большом деревянном ящике размерами 60 х 85 х 50 сантиметров с надписью «MVF», в комнате № 10 бункера «Ам Цоо». Унферцагт упаковал предметы из золота в ящик еще 26 августа 1939 года, за несколько дней до начала войны, когда стали известны планы Гитлера относительно захвата Польши. Сперва ящики, в том числе и этот, были размещены в запасниках в подвале музея. В 1941, когда ситуация стала тревожной, Унферцагт поместил их в Прусский государственный банк. В конце того же года они очутились вместе с другими ценными экспонатами коллекции в бункере «Ам Цоо».
Унферцагт, будучи с 1926 года директором музея доисторических времен и древней истории, а с 1938 года членом НСДАП, с самого начала действовал самостоятельно и составил срочный план эвакуации 150 тысяч занесенных в каталоги экспонатов. План оказался очень своевременным. Музей на Принц-Альбрехтштрассе, где находился и главный штаб гестапо, был разрушен до основания.
СОКРОВИЩА В ШТОЛЬНЕ РУДНИКА
И вот профессор Унферцагт «сидит» на трех ящиках с золотом, пяти ящиках с ценными бронзовыми изделиями, оружием, кубками и жемчугом (25 других он переправил в солеварни Граслебена), на полудюжине ящиков с мелкими музейными экспонатами, обладавшими тем не менее значительной ценностью, а также на многочисленных ящиках с доисторическими скелетами; еще 25 — с самым различным содержимым — были доставлены сюда в спешке в перерывах между воздушными налетами союзников.
В общей сложности это была лишь часть коллекции, хотя и самая ценная. Большую часть экспонатов, сложенных в сотни ящиков с надписью «МѴБ», Унферцагт разместил в разных убежищах: подвале Берлинского городского замка, дворянском поместье «Перушен» в Силезии, шахте «Граф Мольтке» калийного рудника «Шенебек» и в штольне солеварни «Граслебен».
Спустя три недели после полного разрушения Дрездена в результате бомбардировки, унесшей 60 тысяч жизней, 6 марта 1945 года Гитлер поручил государственному секретарю рейхсканцелярии Гансу Генриху Ламмерсу вывезти из Берлина все ценности. Ламмерс в тот же день передал приказ фюрера под номером РК-1126 далее с указанием: «Существующее отныне определенное распоряжение фюрера обязывает все задействованные в этом вопросе инстанции привести дело к скорейшему завершению всеми имеющимися в распоряжении средствами».
Приказ фюрера дошел до Унферцагта в тот же день, когда американские войска под Ремагеном форсировали Рейн в восточном направлении, и потребовал от ответственного за берлинские музеи безотлагательных действий. Бункер «Ам Цоо», и особенно его лазарет, был вплоть до верхних этажей битком набит произведениями искусства и выставочными экспонатами из городских музеев. На четвертом этаже хранились многотонные рельефы Пергамского алтаря, там же находился бюст Нефертити. Сейчас не хватало рабочей силы для их отправки.
Тотальная война, объявленная Геббельсом 24 августа 1944 года, обязывала мужчин от шестнадцати до шестидесяти, не пригодных к борьбе за фатерланд, к «фольксштурму». Женщины в возрасте до пятидесяти лет были привлечены к работе в оборонной промышленности, а высвободившиеся таким образом мужчины отправлены на фронт. Рабочей силы почти не осталось. Транспортировка ценностей на автомашинах по берлинским улицам была, к тому же, чрезвычайно опасна. Автоколонны и поезда превратились в эти дни в мишень для союзнических бомбардировщиков.
Но в Берлине множество рек и каналов. Большинство музеев находится лишь в нескольких сотнях метров от причалов, а до выбранных убежищ можно добраться по водным путям. Профессор Унферцагт уже зафрахтовал баржу с соответствующим названием «Деус Текум» («Бог с нами») и направил ее в Шенебек-на-Эльбе. Баржа достигла своей цели 7 марта, несмотря на наводнение, задержавшее ее на несколько дней у местечка Ни-грипп.
Так как выгрузка ценностей (а от причала до шахты рудника было еще два километра) и возвращение речного судна потребовали бы по меньшей мере двух недель, Упферцагт был вынужден зафрахтовать еще одну баржу. При сложившихся тогда обстоятельствах это казалось практически невозможным. В Берлине царил хаос. Город горел. Почти ежедневно союзники совершали авиационные налеты. Последняя городская электричка шла только до Весткройца и Банхоф Цоо. Поездки частных лиц были запрещены (как и сомнения в окончательной победе, хотя взгляда из бомбоубежища было достаточно, чтобы понять, что происходит на самом деле). Театры закрылись; кинотеатры работали, но очень редко; журналы больше не выходили; газеты печатались крайне нерегулярно и ничтожно малыми тиражами. Лишь радио Великой Германии стойко продолжало вещание и обращалось к населению с пронзительно-отчаянными призывами «держаться до победного конца». У людей еще были продовольственные карточки, обещавшие им несколько граммов хлеба и немного мяса в день, но магазины оставались закрытыми. На улицах разыгрывались потрясающие сцепы: сотни людей разрывали на месте падших лошадей и несли домой мясо и кости. Кто мог в-такой ситуации всерьез говорить о спасении произведений искусства?
Бернхард Руст, рейхсминистр науки, воспитания и народного образования, снабдил Упферцагта документом следующего содержания.
Директор Государственного музея доисторических Времен и древней истории, господин профессор доктор Вильгельм Унферцагт, проживающий В Берлине (СВ-11, Принц-Альбрехтштрассе), проводит по поручению господина рейхсминистра Руста акцию по спасению и перенесению В другое место ценных коллекций государственных картинных галерей, библиотек и музеев и других уникальных предметов культуры и искусства национального значения. В нынешних условиях эта задача может быть Выполнена лишь при поддержке партийных и государственных инстанций и вермахта. Просьба оказать господину директору, профессору Унферцагту всяческое содействие В его трудной, проводимой В насущных интересах рейха работе и помогать ему, предоставляя транспортные средства, рабочую силу и строительные материалы.
Берлин, 8 марта 1945, рейхсминистр науки, воспитания и народного образования.
С помощью этого документа Унферцагту удалось достать второе грузовое судно — «Козель-1583» — и горючее для транспорта. «Козелъ-1583» принадлежал Эмилю Оберфельду, и состояние его было далеко от идеального. Но для выполнения подобной миссии эта баржа все же подходила, а против вражеских обстрелов не устояло бы и лучшее судно.
«Козель-1583» должен был взять на борт выставочные экспонаты других музеев, а также произведения искусства частных коллекционеров. Это обстоятельство, а также ухудшавшаяся с каждым днем обстановка заставили Унферцагта принять решение оставить три ящика с сокровищами Приама в бункере «Ам Цоо».
После войны профессора упрекали за его самовольное решение: оно имело далеко идущие последствия. Но при трезвой оценке положения даже последний рейс «Козеля-1583» можно было рассматривать как чрезвычайно рискованное предприятие. Это путешествие действительно стало опасным.
16 марта 136 тонн ценной клади было погружено на борт корабля. Большую часть составляли экспонаты музея доисторических времен и древней истории, а также музея античности, музея замка и этнологического музея; 60 тонн груза поступили из Государственной библиотеки, Академии наук и от частных лиц. 14 марта «Козелъ-1583» отошел от причала. Остались лишь профессор Унферцагт и три ящика с сокровищами Приама.
Вопреки ожиданиям, путешествие проходило без осложнений. 27 марта корабль достиг Шенебека, но не хватало рабочей силы для погрузки привезенного в железнодорожные вагоны и отправки дальше, в солеварню. Немногие рабочие, оставшиеся в распоряжении ответственных за транспортировку ценностей, должны были сгребать уголь, и для того, чтобы задействовать их, требовалось разрешение рейхсминистерства транспорта в Берлине.
Американские войска форсировали Рейн. Акт отчаянья защитников, взорвавших мост через Рейн под Ремагеном, оказался бессмысленным. Двенадцать дней практически не охраняемый «Козелъ-1583» стоял на приколе около Шенебека, но ничего не произошло. Пугающие сообщения поступали со всех сторон. На южном фронте русские продвинулись вперед по направлению к Вене. Гитлер, который с января поселился в бункере в саду рейхсканцелярии и наблюдал за своим приближающимся концом, издал «приказ Нерона»: «Все промышленные и транспортные сооружения, а также вся техника и средства связи, которые могут попасть в руки союзников, должны быть взорваны». Военный министр Альберт Шпеер сорвал исполнение безумного приказа и направил Гитлеру письмо, в котором говорилось; «У нас нет права на данной стадии войны самовольно предпринимать разрушительные действия, которые могли бы затронуть жизнь народа».
Ответ Гитлера Шпееру изобиловал цинизмом: «Если война будет проиграна, то и народ будет потерян; нет необходимости считаться с тем фундаментом, который будет нужен немецкому народу для его
дальнейшего крайне примитивного существования. Напротив, лучше самим все разрушить, так как народ показал себя слабым и, в конце концов, будущее принадлежит более сильному восточному народу. А если кто и уцелеет после такой борьбы, так это только неполноценные: лучшие погибли».
Было очевидно, что для несостоявшегося художника Адольфа Гитлера искусство означало больше, чем благо его истерзанного народа. «Ни один народ, — провозгласил он на нюрнбергском съезде партии в 1935 году, — не живет дольше, чем памятники его культуры! Если искусство и его произведения обладают таким сильным влиянием, то необходимость заниматься им тем важнее, чем отвратительнее и запутаннее становится общая обстановка».
Поэтому он с величайшим интересом следил за эвакуацией произведений искусства, и рейхсминистру транспорта не оставалось ничего другого, как приостановить загрузку угля в Шепебеке и использовать ту немногую имевшуюся в его распоряжении рабочую силу для транспортировки ценных музейных экспонатов.
ДУРНЫЕ ВЕСТИ СМЕНЯЮТ ДРУГ ДРУГА
Наконец, 9 апреля, начали разгрузку «Козеля - 1583», надеясь на то, что через четыре дня музейные сокровища будут надежно спрятаны от врага в шахте «Граф Мольтке». Но на второй день, когда разгрузка судна была завершена уже на две трети, Шенебек содрогнулся от тяжелых взрывов. Американские танки стояли на подступах к городу. На следующий день они заняли город и рудник. Сами того не желая, американцы стали владельцами ценных произведений искусства.
Как оказалось, профессора не подвело шестое чувство, когда он оставил в Берлине три деревянных ящика с кладом Приама. Захватить бункер «Ам Цоо» с его толстыми бетонными стенами было почти невозможно, и даже вражеские бомбы не могли причинить ему большого вреда. Все еще работали агрегаты аварийного энергоснабжения, еще не кончились запасы — но надолго ли их хватит? И, самое главное, что делать с сокровищами? Унферцагт не мог ждать, когда американцы или русские появятся у тяжелых железных дверей.
Сообщения, распространяемые радио Великой Германии, были чистой воды пропагандой. Из громкоговорителей почти беспрерывно раздавались лишь призывы держаться до победного конца, информация же о происходящем практически не поступала. Но не проходило ни одного дня без дурной веста; Рурская область пала, Кенигсберг пал, Вена пала. В тот же день, когда русские взяли Вену, в пятницу, 13 апреля, все радиостанции обошло сообщение: «Президент США Франклин Рузвельт умер!»
Только такие неисправимые оптимисты, как Геббельс (он велел открыть шампанское) еще верили в перемены. Геббельс обратился к Гитлеру со словами: «Мой фюрер! Я поздравляю вас! Рузвельт мертв! Звезды говорят, что вторая половина апреля принесет нам перемены». Геббельс питал слабость к гороскопам. Но надежды на то, что смена президента в Вашингтоне сможет остановить военные операции союзников, не оправдались. Скорее, наоборот.
Профессор Унферцагт сидел в бункере на своих ящиках. Вот уже почти 20 лет он был директором музея и с тех самых пор чувствовал себя хранителем сокровищ, самых драгоценных в истории человечества. Был вечер 19 апреля, четверг. Канонада слышалась и во внутренних проходах бункера. Из громкоговорителей гремел голос рейхсминистра пропаганды Йозефа Геббельса. Геббельс произносил речь в честь дня рождения Адольфа Гитлера, и каждый немец был обязан слушать ее. По сравнению с одиннадцатью предыдущими годами Геббельс говорил, пожалуй, спокойно, почти заунывно, но в своих высказываниях был патетичен, как никогда: «В тот момент военных событий, когда, как хотелось бы верить, все силы ненависти и разрушения с запада, востока, юго-востока и юга в последний раз наступают на наши фронты, чтобы прорвать их и нанести рейху смертельный удар, я, как всегда начиная с 1933 года, накануне 20 апреля обращаюсь к немецкому народу, чтобы поговорить с ним о фюрере. В прошлом мы переживали в этот день счастливые и несчастливые часы, но никогда дела не находились в таком критическом состоянии, никогда немецкому народу не приходилось защищать свою жизнь в условиях таких невероятных опасностей и обеспечивать защиту рейха от нависшей над ним угрозы ценой огромных, последних усилий».
Унферцагт обреченно обнял голову руками и смотрел перед собою в пустоту. Он сам был членом НСДАП, одним из восьми с половиной миллионов, знал лексикон нацистов и сразу же понял: это была лебединая песня, последнее значительное выступление Геббельса по радио. В то время как из громкоговорителя раздавались давно знакомые фразы о «мировом заговоре» и «противоестественной коалиции враждебных государственных деятелей», профессор думал лишь об одном: как спасти сокровища Приама.
Вильгельм Унферцагт вел в это время своего рода дневник, в котором отражал в скучных строках происходящее в бункере. Его жена Мехтхильд, с которой он познакомился после окончания войны — в 1946 году — и которая сегодня живет в Берлине, говорит: «Эти Записи — чрезвычайно краткие, ничем не приукрашенные свидетельства того, что Унферцагт переживал каждый день. Они запечатлели важнейшие события войны, возрастающее количество и тяжесть воздушных налетов на Берлин, подробности битвы за Берлин вплоть до капитуляции и потому, несмотря на свою форму, полны устрашающего реализма».
20 апреля, когда Гитлер, вопреки многолетней привычке, запретил всяческие поздравления, Унферцагт записал в дневнике: «Воздушная тревога и танковая атака. Бомбы над Берлином. Русские в Бернау и Штраусберге».
Хотя Унферцагт покидал бункер только на несколько часов, а Бернау и Штраусберг были так же далеки от Тиргартена, как Кенигсберг от Берлина во времена мира, передвижение врага не осталось скрытым от его глаз. Бункер «Ам Цоо» был многофункциональным сооружением: там размещались бомбоубежище для мирного населения, зенитная башня для шести 128-миллиметровых и двенадцати 20-миллиметровых орудий, а кроме того, командный пункт противовоздушной обороны. Тем же целям служили зенитные башни во Фридрихсхайне и в Гумбольдхайне. Все они были связаны общей подземной сетью проводов. Кроме того, в бункере была расквартирована военная телефонная станция — лучший источник информации тех дней.
— Хотя радио Великой Германии еще работало, его принимали не повсеместно, а радиус действия был различен, так как антенны постоянно разрушались при артиллерийских обстрелах. На средних и длинных волнах можно было слушать также передачи верховного командования вермахта и переговоры подслушивающих и передающих устройств в подвале министерства Геббельса на Брен-длерштрассе. Но все, что передавалось оттуда, подвергалось цензуре.
И все же профессор, сидевший на золотом кладе, знал обо всем, что происходило за стенами бункера.
Запись от 22 апреля 1945 года: «Гранаты в центре Берлина».
Запись от 23 апреля 1945 года: «Обстрел гранатами и воздушный налет на Шарлоттенбург».
В зенитном бункере «Ам Цоо» генерал-майор Зюдов устроил главный командный пункт 1-й дивизии противовоздушной обороны. На крыше было еще достаточно боеприпасов для орудий, но присутствие командования и наличие склада амуниции означало в данной ситуации скорее опасность, чем безопасность. Один пролетевший в дверной или оконный проем фаустпатрон мог бы вызвать катастрофические последствия. В бункере поселился страх. Все оставшиеся здесь раненые, дезертиры, защитники знали: они сидят в западне, возможности выйти не существовало. Орудийная канонада слышалась все ближе и ближе.
Запись от 26 апреля 1945 года, четверг: «Нервозное настроение, слухи».
Запись от 27 апреля, пятница: «Раненые в помещении для коллекций; слухи вокруг освобождения из блокады. Бомбы на вокзале Цоо».
Сколько времени еще пройдет, пока первые советские танки не покажутся перед бункером «Ам Цоо»? Несколько дней? Часов? Как поступят русские с оставшимися в бункере? Бункер был не только огромным лазаретом и музеем, но и укрепленным рубежом обороны защитников города.
В сообщении командования вермахта, распространяемом по радио или — так как электричества почти не было — повторяемом из громкоговорителей, установленных на машине, которая двигалась по разбомбленным улицам, говорилось: «28 апреля 1945 года… В героической битве за город Берлин немецкий народ еще раз демонстрирует перед всем миром свою фатальную борьбу против большевизма… Враг прорвал внутреннее кольцо обороны на севере, в Шарлоттенбурге, и на юге, в Темпельхоферфельде. В районе Халлешес Тор, Шлезишер Банхоф и Александрплац начались бои за центр города. Ось «восток-запад» находится под сильным огнем… Южнее Кенигсвустерхаузена дивизии 9-й армии продолжили наступление на северо-запад и отражали в течение всего дня массированные атаки Советов на флангах. Подошедшие с запада дивизии в ожесточенной битве на широком участке фронта отбросили врага на запад и подошли к Ферху. В районе Пренцлау Советы ввели в бой новые танковые и пехотные соединения и при сильной поддержке авиации глубоко прорвали линию фронта…»
В действительности все было гораздо хуже: правительственный квартал и рейхсканцелярия, находившиеся лишь в двух километрах от бункера, лежали в развалинах. Палачи и паладины уже отчалили или укрылись в своих бункерах. Йозеф Геббельс, последний оставшийся верным Гитлеру, терпеливо выжидал с женой и шестерыми детьми в бункере фюрера. Министерство пропаганды, находившееся на другой стороне Вильгельмштрассе, где последнее время жила семья Геббельса, было связано многочисленными подземными ходами со старой рейхсканцелярией и бункером фюрера. Гитлер и Геббельс отклонили предложение покинуть Берлин, хотя это было все еще возможно. Еще ночью 22 апреля с аэродрома Гатов поднимались самолеты в направлении Берхтесгадена, где на Оберзальберге Герман Геринг дожидался передачи власти. В ночь на 28 апреля летчик-испытатель Ханна Рейч в последний раз села за штурвал своего самолета. В багажнике лежали многочисленные прощальные письма, а среди них — письмо от Магды Геббельс ее уже взрослому сыну от первого брака Геральду, которое начиналось словами: «Мой любимый сын! Вот уже шесть дней, как мы находимся в бункере фюрера (папа, твои шесть маленьких братьев и сестер и я), чтобы завершить нашу национал-социалистическую жизнь единственно возможным почетным способом…»
СОКРОВИЩА НА ПОРОХОВОЙ БОЧКЕ
Подобные мысли были неведомы Унферцагту. Он хотел выжить, он хотел, чтобы «его» сокровища Приама пережили эту проклятую. войну в целости и сохранности. При этом он знал, что не сможет ничего сделать для этого, даже самую малость. Солдаты заняли позиции вокруг бункера, но сами сознавали, что оборона этого оплота станет лишь бесполезным затягиванием войны. Защитники из числа последнего призыва, находившиеся в окопах у зоопарка, ничего не могли противопоставить русским танкам.
Дневниковые записи Унферцагта оставались короткими и лишенными эмоций.
Суббота, 28 апреля 1945 года: «Обстрел башни и окрестностей».
Воскресенье, 29 апреля 1945 года: «Обстрел башни, сильное напряжение».
Понедельник, 30 апреля 1945 года: «Сильный обстрел башни».
По правде говоря, за этими скупыми словами стояла предотвращенная в последний момент катастрофа: обитатели бункера (а их точное количество было неизвестно и тогда, но, вероятно, оно равнялось" нескольким тысячам) сидели на пороховой бочке, так как бункер до краев был наполнен боеприпасами для орудий на крыше.
Зенитный бункер «Ам Цоо» так же, как и бункеры во Фридрихсхайне и в Гумбольдхайне, был построен во время войны для защиты от вражеских бомб. Но никто даже в страшном сне не мог представить, что перед этим бункером когда-либо появятся русские танки. Двери и оконные ставни из стального листа не устояли бы против танковых снарядов. В бункере даже не было бойниц для ближней обороны, а орудия на крыше могли, попасть во вражеские самолеты, но не в землю у зоопарка.
В тот день, 30 апреля, русские танки приблизились к бункеру на расстояние видимости. Русские знали, что не смогут пробить танковыми орудиями мощную бетонную громаду, поэтому взяли на прицел прямоугольные оконные проемы. Около полудня противотанковые гранаты пробили стальной лист оконных ставней на третьем и четвертом этажах, и часть находившихся там ящиков с амуницией взорвалось. Несколько человек было убито и ранено.

Бункер противовоздушной обороны вблизи Зоологического сада в 1945 году, вскоре после окончания войны. В последние месяцы войны здесь располагался арсенал, а также радио и телефонная станция, госпиталь и помещение для хранения предметов искусства. Среди бесценных шедевров там находились и сокровища Приама.
Во вторник, 1 мая 1945 года, территория Великого Германского Рейха еще насчитывала 1,8 квадратных километров: 1,6 километра от Вайдендаммбрюке до Принц-Альбрехтппрассе и 1,1 километра от Бранденбургских ворот до Берлинского замка. И между ними — свистящие пули, взрывающиеся гранаты, ревущие сирены, пыль и копоть. Теплый весенний день был забыт: 8-я гвардейская армия вошла в южную часть Тиргартена. Вот уже три дня зенитная башня у зоопарка находилась под ураганным огнем, но бастион из бетона выдерживал длительный обстрел. Число раненых, доставляемых санитарами с опасностью для собственной жизни, ежечасно росло. Жертвы были в ужасном состоянии, у многих не было рук и ног; война не делала исключения ни для женщин, ни для детей. Их крики звучали на лестничных клетках и в проходах, каждый квадратный метр был занят людьми.
Профессору, который с февраля обитал в бункере рядом со своими сокровищами, не оставалось ничего, как открыть решетки, за которыми на верхнем этаже хранились ящики с буквами «MFV». Площадь помещения № 11 в бункере «Ам Цоо» составляла 18 квадратных метров, на ней можно было разместить десять раненых. Унферцагт не спускал глаз с медперсонала, так как все врачи и санитары знали, что скрывалось в запечатанных ящиках, а грабежи в эти дни не являлись чем-то необычным.
«Они — здесь! Русские — здесь!» Это известие распространилось с быстротой молнии. Никто не знал, как русские вообще могли проникнуть в бункер. Но они стояли друг против друга: русские солдаты с автоматами и немецкие врачи, санитары, раненые и испуганные гражданские. Под вечер руководитель санитарного корпуса офицер Вернер Штарфингер огласил приказ: «Бункер будет сдан немецкой стороной без боя».
Было ли Штарфингеру уже известно к этому времени, что накануне — примерно в 15 часов — застрелился Гитлер, можно только гадать: имевшаяся в бункере техника, обеспечивавшая связь, свидетельствует в пользу такого предположения. Но остается фактом, что мирное решение не только предотвратило бессмысленные жертвы, но и спасло сокровища Приама от уничтожения. Гарнизон и охрана зенитной башни были уведены той же ночью русскими, занявшими бункер. Остались раненые, врачи, обслуживающий персонал и профессор Унферцагт. Утром следующего дня произошла волнующая встреча: неожиданно в комнату № 11 проникли три русских солдата с автоматами наперевес; один из них крикнул на ломаном немецком: «Где золото?»
У профессора захватило дух. Откуда русские знали о золотом сокровище Приама? Конечно, в бункере «Ам Цоо» среди тысяч объектов только эта комната была собственно музеем, но кто выдал, что именно он, профессор Унферцагт, обладал этим кладом?
Но профессор не поддался на провокацию. Унферцагт потребовал разговора с командиром и просветил его, сообщив, что в трех деревянных ящиках находятся экспонаты величайшей материальной и исторической ценности. И что это сокровище он передает под советскую защиту. Жена профессора говорит по этому поводу: «Унферцагт нисколько не задумывался при передаче находившихся в бункере музейных ценностей на попечение советского военного командования. Только действуя таким образом, он мог надеяться, что все останется целым и невредимым и позднее путем переговоров снова перейдет прежнему владельцу».
А что еще он мог сделать? В отличие от своих будущих критиков, Унферцагт был опытным специалистом в том, что касалось возврата произведений искусства бывшими противниками в войне. В течение шести лет после первой мировой войны он работал в так называемой «Рейхскомиссии по возврату ценностей». И Унферцагт верил, что передача сокровищ в руки Советов, по крайней мере, предотвратит попадание ценнейшего культурного наследия в руки разбойников и вандалов. Чтобы предотвратить последнее, русские в тот же день выставили охрану у дверей, за которыми хранились сокровища Приама и всего музея.
Меж тем недалеко от бункера плачевно заканчивалась вторая мировая война. Вслед за Гитлером добровольно распрощался с жизнью Геббельс — после того, как убил всю свою семью. Генерал Вейдлинг, комендант Берлина, 2 мая в О часов 40 минут выступил с речью по радио; «Говорит 56-й немецкий танковый корпус, говорит 56-й немецкий танковый корпус! Мы просим прекратить огонь! В 0 часов 50 минут берлинского времени мы посылаем парламентеров на Потсдамербрюке. Опознавательный знак — белый флаг на фоне красного света. Мы просим ответить. Мы ждем».
Пять раз посылалось это сообщение в эфир. Долгое, жуткое ожидание… Затем с "хрипами ответила радиостанция 79-й гвардейской стрелковой дивизии Красной Армии: «Поняли! Поняли! Передаем просьбу начальнику штаба».
В условленное время встретились генерал Гельмут Вейдлинг и генерал-полковник Василий Иванович Чуйков. Переговоры длились до утра 3 мая. Вейдлинг согласился на безоговорочную капитуляцию. По тем улицам Берлина, где еще можно было проехать, двигались русские машины с громкоговорителями и передавали приказ Вейдлинга немедленно прекратить все боевые действия.
Однако в тот же день гросс-адмирал Дениц, назначенный преемником Гитлера, отдал из далекого Фленсбург-Мюрвика следующий приказ: «Вермахт Германии! Мои товарищи! Фюрер погиб! Верный великой идее оградить народы Европы от большевизма, он посвятил этому свою жизнь и нашел героическую смерть. Вместе с ним ушел один из величайших героев немецкой истории. С глубоким благоговением и верностью мы приспускаем перед ним флаги. Фюрер назначил меня своим преемником на посту главы государства и Верховного главнокомандующего. Я принимаю командование над всеми частями вермахта, горя желанием продолжить борьбу с большевизмом до тех пор, пока не будут спасены от порабощения и уничтожены действующие войска и тысячи семей немецкого восточного пространства…»
4 мая 1945 года в бункере «Ам Цоо» появился советский комендант Берлина генерал-полковник Берзарин. Генерал интересовался не все еще находившимся в бункере лазаретом, а хранившимися здесь ценными экспонатами. Берзарин дал понять профессору, что все музейные сокровища, находящиеся в бункере, конфискованы и что все они будут после проведения экспертизы специальной комиссией отправлены в Россию. До этого времени он, Унферцагт, — директор музея в. зенитной башне и отвечает за сохранность и неприкосновенность всех произведении искусства и антиквариата. На дверь, ведущую в высотный бункер, была прикреплена табличка с надписью на русском языке примерно следующего содержания:
Собственность музея. Взята под охрану комендатуры. Выносить запрещено!
Нарушившие приказ предстанут перед военным трибуналом.
Комендант.
Унферцагт получил удостоверение на русском языке, которое на следующий же день было изъято русским солдатом: тот посчитал его подделкой.
ДРАМА В БУНКЕРЕ «ФРИДРИХСХАЙН"
Унферцагт оставался настойчивым. Он дал себе клятву не покидать бункер до тех пор, пока здесь оставались сокровища Приама, и его упорство было вознаграждено.
По-другому обстояли дела в высотном бункере «Фридрихсхайн». Эта расположенная на востоке крепость, как и бункер «Ам Цоо», служила складом для произведений искусства из различных берлинских музеев и тоже была захвачена Советами 2 мая 1945 года. Но, в отличие от бункера в Тиргартене, русские взяли этот бункер под единоличную охрану. В данных обстоятельствах русские солдаты не очень серьезно восприняли свою задачу (во всяком случае, так сообщали хранители музея Макс Киау и Герберт Айхорн, которым эта задача была доверена ранее), и, таким образом, двери захваченного бункера часто оставались открытыми — каждый, кто хотел, имел туда свободный доступ и был предоставлен сам себе.
В бункере «Фридрихсхайн» хранилась в то время 2141 картина (преимущественно большого формата), среди них семь полотен Рубенса, три — Караваджо, три — Ван Дейка, 437 скульптур, 2065 старинных золотых и серебряных кованых изделий и сотни предметов, найденных при раскопках античных городов. Когда изгнанный Советами музейный хранитель Киау приблизился 4 мая к бункеру, то нашел перед входом двух охранников, а из последовавшего затем разговора у него сложилось впечатление, что русские вообще не имеют понятия о том, что они, собственно говоря, охраняют. Солдаты разрешили ему короткую инспекцию помещений бункера, и Киау доложил генеральному директору государственных музеев Кюммелю: «В бункере "Фридрихсхайн" все в порядке!»
Через два дня, 6 мая 1945 года, Киау снова пришел сюда. Уже издали он заметил клубы дыма, валившие из дверных и оконных проемов. Чем ближе он подходил к бункеру, тем больше убеждался: случилось самое худшее. Бункер в Фридрихсхайне горел! «Мой Бог, — подумал Киау, — все это пережило войну, и вот теперь!..»
В бункере не работало электричество и стояла кромешная тьма. На него пахнуло жаром и чадом, но огня не было. Киау добрался до второго этажа. Деревянные стены и полки сгорели, мусор, оставшийся после пожара, и обуглившиеся остатки картин еще тлели и мешали определить истинные размеры нанесенного ущерба. Выгорел и большой лифт. Дым и жар затрудняли музейному хранителю проникновение на верхние этажи. Но у Киау сложилось впечатление, что огонь их не тронул. Занятые тушением пожара русские солдаты выглядели раздраженными и отправили Киау назад.
Киау помчался к профессору Кюммелю, тот разыскал русского майора Липскерова из местной комендатуры Целендорфа и попросил о помощи. 7 мая Кюммель с майором и его сотрудниками — доктором Гердой Брунс и Элеонорой Берзинг, прекрасно говорившей по-русски, — осматривали все и определяли размеры нанесенного ущерба.
Вот выдержка из сообщения Кюммеля, написанного полгода спустя:
«Мы нашли башню неохраняемой, доступной всякому русскому или немецкому мародеру (а как показал осмотр, они действительно наведывались сюда не один раз), внутри было темно и тепло. Нижняя часть башни, мало пострадавшая во время боевых действий, сгорела, очевидно, недавно, то есть спустя много дней после передачи русским; по какой причине — взрыва или поджога — оставалось неясным. Так как освещение было скудным, ничего нельзя было установить точно. Но с уверенностью можно было сказать, что здесь находилось еще много как пострадавших, так и уцелевших произведений искусства. Поэтому я умолял майора сперва позаботиться о том, чтобы никто не подходил к башне, и таким образом прекратить расхищение, а главное — не раздавить лежавшие на полу среди обломков экспонаты и предотвратить новый пожар, так как мародеры имеют обыкновение зажигать в темных помещениях факелы из бумаги, которые они беззаботно бросают потом недогоревшими. Но, к сожалению, ничего не было сделано…»
Макс Киау высказал предположение, что за поджогом скрываются отбившиеся от своих эсэсовцы или члены подпольного движения «Вервольф», которые в последней фазе войны действовали в соответствии с «тактикой выжженной земли»: в руки завоевателей не должно попасть ничего, кроме изголодавшихся людей.
Вокруг движения «Вервольф» ходили зловещие слухи. Предполагалось, что тела Гете и Шиллера, перевезенные в конце 1944 года в один из бункеров в Йене, при приближении русских должны быть взорваны по приказу могущественного гауляйтера и генерального уполномоченного по вопросам занятости Фрица Заукеля. Саксонский рейхснаместник Мартин Мучманн издал приказ уничтожить «Сикстинскую мадонну» Рафаэля и многие произведения Рубенса и Рембрандта из Дрезденской картинной галереи. В соляном руднике «Штайнберг» хранились австрийские сокровища, и гауляйтер Айгрубер объявил, что,
1 если Германия проиграет войну, он собственноручно бросит гранату в штольню рудника. Айгрубер уже берег для этого несколько бомб, замаскированных под деревянные ящики. Каким-то чудесным образом эти вышеназванные акции не были приведены в исполнение.
Только в бункере «Фридрихсхайн» катастрофа все же разразилась. Когда 18 мая двое музейных сотрудников снова появились здесь для контрольного обхода, это сооружение, хотя и охранялось русскими солдатами, продолжало активно посещаться гражданским населением, которому там нечего было искать. Когда оба музейных работника поднялись по лестнице наверх, они до смерти испугались: верхние этажи с хранившимися там уникальными произведениями искусства были сожжены и разорены.
Услышав упреки, русские солдаты только пожали плечами. Расследование показало: эта трагедия — самое серьезное по своим последствиям уничтожение произведений искусства в Германии во время второй мировой войны — произошла между 14 и 18 мая 1945 года, вскоре после капитуляции. Был ли бункер в этот момент неохраняемым, или русских подкупили, или причиной второго пожара стало неосторожное обращение с огнем полчищ мародеров, а может, это была целенаправленная акция — вряд ли когда-нибудь удастся узнать правду. Проведенное Советами позже расследование, результаты которого были оглашены в начале 1946 года, остановилось на версии о «поджоге, осуществленном группой поджигателей».
Невозможно было точно установить, сколько и какие именно произведения искусства были действительно
уничтожены или похищены. Среди предположительно уничтоженных в бункере «Фридрихсхайн» было и полотно «Святой Себастьян» Джованни Контарини из коллекции известного дворянского рода. Эта картина «выплыла» на аукционе Сотби в Лондоне в 1982 году. А выставки картин в московском Музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина и в петербургском Эрмитаже весной 1995-го подтвердили, что многое из того, что считалось безвозвратно утерянным, было десятилетиями скрыто в советских запасниках.
КАК ИСЧЕЗЛИ СОКРОВИЩА ПРИАМА
Разрушение обошло стороной бункер «Ам Цоо», где все еще хранились сокровища Приама. Огромная, невосполнимая потеря культурного достояния, ответственность за которую несла русская сторона, подействовала на нее как целительный шок и повлияла на дальнейшее поведение Советов, изменившееся в лучшую сторону.
По поручению советской комендатуры некоторое время спустя в бункер «Ам Цоо» прибыла комиссия экспертов. В нее входило 17 человек: военные, дипломаты, искусствоведы и музейные специалисты — многие из них были членами Академии наук СССР. Имя одного из сотрудников комиссии Унферцагт, по крайней мере, знал: Андрей Смирнов, тридцатишестилетний советский дипломат, начал свою карьеру в 1937 в Берлине молодым советником посла; позднее, с 1957-го по 1966-й год, он был послом в Бонне.
Тогда, весной 1945-го, Смирнов и сопровождавшие его лица потребовали от Унферцагта открыть все имевшиеся в бункере ящики. При этом был составлен список их содержимого на русском языке. Во всеобщем хаосе, царившем в бункере, не обошлось без краж.
Как и следовало ожидать, тон обращения победителей с побежденными был довольно грубым. Русские не терпели возражений и даже вопросов. Поэтому Унферцагту до последнего времени оставалось неизвестным место, куда день за днем начиная с 13 мая 1945 года переправлялись ящики. Из его дневниковых записей следует, что три ящика с кладом Приама профессор выдал русской комиссии лишь под конец. Это произошло 26 мая 1945 года.
Перед тяжелой железной дверью бункера стояли три советских грузовика зелено-коричневого защитного цвета. Белой краской были нанесены обозначения: С-69425, С-69398, С-69393. Русские солдаты погрузили три ящика с надписью «MVF» на последний грузовик, и конвой отправился в путь по «лунной пустыне» разбомбленного Тиргартена. Унферцагт вернулся назад в бункер, где соорудил себе на втором этаже временную квартиру. Он сел на один из оставшихся деревянных ящиков, который служил ему мебелью, и спрятал лицо в ладони.
Свидетель разгрузки произведений искусства в другом месте, ученый-искусствовед Ирене Кюннель-Кунце, вспоминает: «Вывоз экспонатов глубоко потряс всех, кто во время войны исполнял свой долг в музеях, перенес бомбежки и после окончания боев сразу же, несмотря на сложные условия, снова устремился в музеи. Изъятие каталогов, картотек, фотографий экспонатов и другой необходимой в работе документации повергло нас в состояние полной безнадежности.
Даже долгие переходы из восточных предместий в центр города, длившиеся семь часов и больше, — по завалам и трупам, в непосредственной опасности для жизни — были ничем по сравнению с этой потерей…»
ПОБЕДИТЕЛИ И ПОБЕЖДЕННЫЕ
То, что Советы называли «обеспечением безопасности», было тщательно спланированной акцией. Сам факт, что спустя несколько дней после капитуляции столь высокопоставленная комиссия проводила экспертизу, является тому доказательством. Причина такой спешки была ясна: Советы знали, что придется делить трофеи с союзниками, как только те войдут в город. Поэтому они перевезли все захваченные произведения искусства в Берлин, в свою штаб-квартиру в Карлсхорсте, где размещалась советская военная администрация. Карлсхорст был расположен на востоке Берлина
и стал позже резиденцией Советской военной комиссии и Верховной комиссии Советского Союза в ГДР.
В советском лексиконе эти набеги победителей получили, конечно, совсем другое название. Спустя 30 лет после окончания войны один из участников «акции по оказанию помощи» полковник Андрей Белокопытов вспоминает: «Оглядываясь назад, можно сказать, что важнейшим в нашей работе был моральный фактор. Еще не прогремел последний залп (работы по спасению Пергамского алтаря начались еще 13 мая), а уже разворачивалась деятельность во имя будущего, о чем на фоне миллионов смертей никто не отваживался думать. В полном смысле этого слова — своими руками, при постоянной угрозе жизни (бункер, в котором хранились художественные ценности, был частично заминирована наши солдаты откапывали произведения искусства. Бункер имел высоту две-двадцатиэтажногодома, на Одном из средних ярусов лежали плиты Пергамского алтаря. Вынести их без повреждения было почти нечеловеческой работой. Немецкие искусствоведы и специалисты пришли и предложили свою помощь».
Вот что отмечал в своем докладе в честь 40-летия освобождения немецкого народа от фашизма Гюнтер Шаде, бывший до поворотного момента единственным и бессменным генеральным директором государственных музеев Берлина: «Катастрофическая обстановка на берлинском музейном острове в течение 1945 года не могла в значительной степени измениться к лучшему, несмотря на усилия сотрудников. С приближением зимы возрастала связанная с холодной погодой опасность для картин, оставшихся в разрушенных музеях. Число проникновений в слабо охраняемые помещения и краж постоянно увеличивалось. Открытый со всех сторон музейный остров нельзя было оградить от расхищения собственными гражданами, поэтому гендиректор, профессор Карл Вайкерт, 122 раза был вынужден обращаться за помощью в районную комендатуру на Фридрихштрассе. В ответ на это последняя выставила военный пост для охраны произведений искусства».
А что же было на самом деле тогда, в мае 1945-
го? Ирене Кюннель-Кунце пишет: «На музейном островке стойко держались вместе с заведующим хозяйством и несколькими рабочими доктор Герда Брунс и профессор Банге. Молчание орудий не облегчило им задачу «защиты» музеев. День и ночь они были вынуждены сражаться против мародеров и умышленных разрушений и терпеть угрозы
в свой адрес. Иногда кто-то из нас оставался с ними на ночь, чтобы помочь и поддержать в такой тяжелой ситуации. В конце концов нервное напряжение стоило Банге жизни. Русские рассматривали его как ответственного за музеи и вновь и вновь допрашивали, веря в то, что он знает, где устроен тайный склад оружия. Его взяли и приве
ли в здание русской комендатуры, а через несколько дней освободили. Когда его схватили и увели
во второй раз, 30 июня 1945 года, на мосту через Шпрее он покончил жизнь самоубийством, приняв яд. Как сообщала русская охрана, его, умирающего, принесли в находившееся напротив здание комендатуры. Наши просьбы получить разрешение на его похороны не были услышаны советской комендатурой».
Из страха быть изнасилованными женщины носили очки, добытые ими неизвестно откуда. Ходили слухи, что русские солдаты сторонятся женщин в очках. Странно, но русских в очках действительно не было. «Фрау, пошли со мной», — подобная фраза, произнесенная русским, вызывала самый большой страх в те дни.
По улицам ездили грузовики с бочками масляной краски. Уцелевшие названия улиц солдаты переписывали русскими буквами. На перекрестках стояли русские женщины в сапогах и с оружием в руках и флажками регулировали движение, которого, вообще-то, и не было.
Берлин, вся Германия прекратили свое существование. У проигравших отобрали все, даже их собственное время — самую обычную для всего остального мира вещь. Приказ оккупационных властей и военной комендатуры Берлина от 20 мая 1945 года гласил: «До особого распоряжения в Берлине работают по московскому времени».
Ночами стало оживленнее. Голод гнал людей, как крыс, из руин их домов. Они шли грабить. В ход шло все, а если не попадалось ничего съестного, то искали что-нибудь похожее на дрова, например деревянные балки или сучья, для варки картофеля. Электрическое освещение было лишь на нескольких улицах, и то появлялось нерегулярно. Как было сказано, до тех пор, пока начнется подача газа, пройдет еще много времени (по официальным источникам, из-за повреждения газопровода, по неофициальным — чтобы умерло еще больше людей).
СУДЬБА ОДНОГО ПАРТАЙГЕНОССЕ
Огромное количество «ПГ» (принятое тогда сокращение для членов НСДАП) кончало жизнь самоубийством. Вильгельм Унферцагт был «ПГ». Он присоединился к движению в 1939 году — по словам его жены Мехтхильд, «под угрозой потерять свое место генерального директора берлинского музея, которое занял бы тогда член партии». Через несколько недель после передачи сокровищ бункера «Ам Цоо» Советам Унферцагт получил отставку от назначенного комиссарами нового генерального директора Герберта Драйера. Три недели спустя был смещен и Драйер: его имя тоже стояло в списках НСДАП.
Унферцагт был огорчен. Он не знал, что три ящика с золотыми сокровищами Приама уже 30 июня 1945 года, еще до вступления американцев в Берлин, были отправлены советским воен
ным самолетом в Москву. Он осознавал, что был последним немцем, видевшим сокровища, и это было известно другим.
После войны Унферцагт был вынужден отвечать на запросы со всего света о том, что произошло с сокровищами Приама. Его ответ всегда звучал одинаково: сокровища взяты под охрану Советами и обязательно будут однажды возвращены назад в Берлин в рамках акции по возвращению конфискованных произведений искусств.
Самым великим разочарованием в жизни Унферцагта стал тот факт, что, когда Советы в 1958 году передали ГДР 4 тысячи находок из раскопок Шлимана, клада Приама среди них не оказалось. На все запросы ответственные люди в Москве отвечали, что о нем ничего не известно. На газетные публикации, ставившие тот же вопрос, не последовало никакой реакции. На теме «Сокровища Приама» лежало табу.
Вильгельм Унферцагт больше не верил, что «его» сокровища когда-нибудь снова появятся на свет. Когда в 1961 году археолог, профессор Гарвардского университета Стерлинг Доу обратился
к Унферцагту с вопросом, есть ли шанс найти сокровища Приама снова, павший духом берлинец ответил: «На ваш запрос от 3 апреля 1961 года я с глубочайшим сожалением должен сообщить, что размещенные в зенитной башне «Ам Цоо» (а не в бункере «Фридрихсхайн») для защиты от авианалетов троянские находки, и особенно так называемый клад Приама, до сих пор нигде не появлялись. Есть основания предполагать, что они были вывезены вместе с другими золотыми находками из Государственного музея доисторических времен и древней истории в Берлине, и, таким образом, их следует считать утраченными».
Десять лет спустя, 17 марта 1971 года, профессор Унферцагт умер. Просматривая его личный архив, вдова сделала загадочное открытие: во множестве картонных коробок оказались полностью сохранившиеся микрофильмы. Выяснилось, что на пленках были засняты инвентарные листы руководимого Унферцагтом музея, а также все экспонаты многочисленной коллекции Шлимана.
Открытие поставило ряд вопросов, самым важным из которых был следующий: по какой причине Унферцагт скрывал эти столь важные для исследователей микрофильмы? Многие задумывались над тем, не явилось ли это личной местью профессора за то, что после войны он был смещен с поста директора музея. Или он хотел превратить самые важные фильмы в деньги по ту или эту сторону «железного занавеса»? Или у Унферцагта не хватало мужества вернуть эти фильмы после того, как по окончании войны он достал их из укрытия? Возможно, он боялся, что его могут заподозрить в сокрытии сокровищ Приама? Или вдруг Унферцагт не устоял перед искушением, проводя одинокие дни и ночи в бункере, и частично припрятал золото (что могло быть обнаружено благодаря инвентарным листам)?
Факт остается фактом: инвентарные листы еще до войны были засняты на пленку, и никто не мог ожидать, что именно эти фильмы переживут ад войны.
Благодаря обнаруженным фильмам деяния профессора после смерти предстали в ложном свете. Одна за другой появились газетные публикации, возлагавшие вину за исчезновение клада Приама на профессора Унферцагта; вершиной стало утверждение, что профессор вместе с некими нацистскими бонзами закопал сокровища и позже превратил золото в деньги.
Когда Мехтхильд Унферцагт в 1988 году впервые позволила заглянуть в дневниковые записи мужа, она, ‘конечно, преследовала цель реабилитировать его и опубликовать материалы, способные помочь объяснить сложившуюся ситуацию.
Во всяком случае, она была вынуждена констатировать: «Известно, что ценнейших ящиков с драгоценными металлами нет, как и прежде, хотя как раз по ним можно точно проследить весь процесс их хранения и спасения вплоть до передачи лично Унферцагтом советским оккупационным властям. Темным остается лишь то, что произошло потом…»
ТЬМА РАССЕИВАЕТСЯ
Политическая обстановка того давнего времени непосредственно повлияла на исчезновение сокровищ Приама, а новая политическая ситуация способствовала их обнаружению.
В течение 45 лет на официальном языке клад Приама считался «пропавшим без вести». Существовало лишь с десяток посвященных в тайну того, где он в действительности хранится. Таким образом, оказалось, что даже высокопоставленные музейные деятели, для которых было важным найти сокровища, не знали об их местонахождении. Борис Пиотровский, директор петербургского Эрмитажа, в запасниках которого, как долго предполагалось, находилось вожделенное золото, оправдывался еще в 1990 году, утверждая, что ничего не может сказать о местонахождении сокровищ и уверен лишь в том, что их нет в подвалах Эрмитажа.
Гласность и перестройка в Советском Союзе открыли новые возможности, и искатели сокровищ получили помощь с востока. Решающее значение имело открытие, которое сделали два искусствоведа из Москвы — Григорий Козлов и Константин Акиншин. Проводя исследования в Центральном Государственном архиве литературы и искусства, они наткнулись на документы о перевозке всех трех ящиков «MVF» за номерами 1, 2, 3, которые профессор Унферцагт передал русским 26 июня 1945 года.
4 Затем сообщалось об их передаче в 1945 году в Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве. Русский министр культуры Евгений Сидоров на официальный запрос немецкой стороны ответил «нет», утверждая, что сокровищ вообще нет в России.

Музей им. А. С. Пушкина в Москве. Здание построено в 1912 году*.
Архитектурное решение носит черты знаменитого Эрехтейона в
Афинах. Здесь, за железными дверьми, в течение полувека тайно
хранились сокровища Приама. Тайна эта была известна лишь немногим посвященным.
Преднамеренно ли, или же по недосмотру дипломатов, но во время своего официального визита
в Грецию в июне 1993 года Президент Российской Федерации Борис Ельцин обнадежил министра культуры Дору Бакоянис, заявив, что передаст сокровища Приама для выставки в афинском доме Шлимана «Илиоу Мелатрон». Таким образом, он поставил в нелепое положение своего министра культуры, который на только что начавшихся между Россией и Германией переговорах о передаче награбленного культурного наследия настаивал на том, что сокровищ Приама нет в России. музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, была вынуждена признать, что сокровища находятся в ее музее, но не в запасниках среди тысяч других экспонатов, а в отдельном помещении в отделе монет. К нему можно попасть только через один зал, вход в который надежно защищен железной дверью.
24 октября 1994 года эта железная дверь впервые открылась для специалистов из Германии. Был понедельник, и музей был закрыт для посетителей. Таким образом, профессор Вильфрид Менглин, искусствовед Клаус Гольдман, реставратор Герман Борн и переводчик Буркхард Герес незаметно для всех прошли в находившуюся в стороне комнату для совещаний на первом этаже, где были приняты директором музея Ириной Антоновой и заведующим отделом археологии Толстиковым. По большой лестнице они все вместе поднялись на верхний этаж. Там находилась маленькая боковая дверь, за ней — винтовая лестница, ведущая наверх.
«С биением сердца, — вспоминает Клаус Гольдман, — вызванным не только подъемом по лестнице, мы вошли в напоминавшее камеру помещение, в котором по обе стороны и в середине стояли ряды шкафов с витринами…» На небольшом столике лежали приготовленные белые перчатки. На стене висел портрет Шлимана, выполненный маслом. Сам Шлиман не смог бы поставить этот спектакль лучше.
Толстиков и его главный реставратор Трайстер внесли планшет и поставили его перед немецкими гостями на обтянутый зеленым фетром стол: перед ними лежали сокровища Приама, пропавшие без вести полвека назад и считавшиеся безвозвратно утерянными, овеянные легендами и сказаниями, бесценные, относящиеся к величайшим культурным достижениям человечества. Ученые сознавали важность этого исторического момен
та. Их охватило волнение.
Откуда исходит очарование этих сокровищ? Может быть, это воздействие чар золота? Или дело
в возрасте клада — более древнем, чем возраст Библии? Или в дыхании великой, героической истории времен Приама, последнего царя погибшего государства? Или в тайне, окружавшей великого, загадочного Гомера, поведавшего нам фантастические мифы о гибели Трои?
Конечно, все это так, но следует добавить и кое-что еще: человека и его судьбу. Как золотая маска Тутанхамона неразрывно связана с именем обнаружившего ее Говарда Картера, так и сокровища Приама неотделимы от истории раскопавшего их Генриха Шлимана. Более того: клад При
ама стал символом жизни Шлимана. Они оба были блестящими, сияющими славой и все же вызывающими споры. Золото Приама и Генрих Шлиман навсегда связаны, и представить себе одно без другого невозможно.
Сокровища Приама и Генрих Шлиман — это тема и главные «действующие лица» современной сказки, и, как во всех сказках, действие происходит в мире, полном чудес, в котором исполняются все мечты человека о счастье. Здесь вспоминается знакомый сюжет: мальчик-с-пальчик, несчастный
и маленький, который был беднее всех и меньше всех ростом, несмотря на это, достиг богатства и успеха. И, как все сказки, она мечтательная и романтическая, реалистичная и жестокая, фантастическая и до сих пор кажущаяся невероятной.
II. НАЧАЛО ВЕЛИКОЙ КАРЬЕРЫ
Моя комната, стоившая восемь гульденов в месяц, представляла собой убогое чердачное помещение без печки; зимой я дрожал от холода, а летом изнывал от жары. Мой завтрак состоял из ржаной каши, мой обед никогда не стоил больше четырех трехпенниговых монет, но ничто так не заставляет взяться за учебу, как нищета и перспектива в будущем избавиться от нее благодаря напряженной работе.
Генрих Шлиман. Гамбург, сентябрь 1841 года.
Этот вольный ганзейский город имел тогда мало общего
С сегодняшним всемирно известным центром. Но для девятнадцатилетнего юноши из Мекленбурга Гамбург стал открытием, городом, сделавшим его (как он сам об этом говорил) мечтателем, оказавшим на него такое сильное впечатление, что с тех пор Шлиман был готов жить только в больших городах.
Двадцать девять имперских талеров — ровно столько досталось ему в наследство от матери (эти деньги кончились вскоре после приезда). Скромного стартового капитала должно было хватить для начала карьеры. Первую ночь молодой Шлиман провел в двух милях от центра города, в дешевой гостинице «Хайдкруг». Но когда на следующее утро он проснулся, выглянул из окна и увидел силуэты городских башен, им овладели «величественные, неописуемые, полные ожидания чувства», чувства настолько могущественные, что заставили Шлимана на целый час забыть о том, что он стоял голым — просто стоял перед окном и не мог оторваться.
«О, вы должны увидеть это великолепие и элегантность, которые предстали моему взору! — писал он сестрам Вильгельмине и Дорис на шестидесяти четырех страницах своего письма. — Вы получили бы совсем другое представление о богатстве этого мира. Какая сутолока! Какое скопление людей, какая суета и деловая активность на улицах! Все бежит, течет, пробирается, торопится,
и все это вместе взятое представляет собой невероятный хаос». Далее он продолжает: «Неумокающие крики продавцов, предлагающих свой товар, неся его на голове и спеша по улицам, беспрестанный грохот повозок, почти непрерывным потоком проносящихся по улицам, бой часов и мелодичный звук колоколов со всех башен оглушают приезжего так, что он не может разобрать ни одного своего слова».
В этом хаосе, обрушившемся на молодого человека, Генрих сохранил ясную голову и твердую цель: сначала найти работу и пристанище, так как
с двадцатью девятью талерами в кармане далеко не уйдешь. Добряк Теодор Хюкштедт — торговец
из Фюрстенберга, для которого молодой Шлиман продавал сельдь и водку, — был готов поддержать его и составил рекомендательное письмо одному поставщику из Гамбурга с просьбой помочь найти место для юноши, не очень сильного, но очень услужливого. Так Генрих получил несколько адресов.
«В каждом доме кипит торговля, кругом огромные — от земли до второго этажа — щиты с изображением продаваемых товаров и продуктов. Сначала я расспрашивал одного за другим купцов, к которым имел рекомендательные письма (господ Марка, Освальда, Фессера и Фильхака, Конрада Варике и Прена), представлялся, передавал письма, и все мне дружески обещали посильно помочь в достижении моей цели…»
На следующий день Шлиману повезло. Молодой торговец Линдеман предложил девятнадцатилетнему провинциалу место приказчика на складе рыбного рынка. Но спустя три дня обессилевший Шлиман вынужден был прекратить работу. Перетаскивание мешков и вращение лебедки, с помощью которой тюки с товарами поднимали на пятый этаж, лишили его последних сил. Он боялся, что снова будет харкать кровью, как уже было несколько раз после тяжелого физического напряжения, и попросил другой, менее изнуряющей работы, но, к сожалению, Линдеману больше нечего было предложить, и Шлимана уволили.
Юноша снова отправился на поиски места и за несколько монет выполнял любую не очень тяжелую работу. Постоянную же службу найти по-прежнему не удавалось. Будучи низкорослым (около 160 сантиметров) и непропорционально сложенным (у него были короткие ноги), он слышал смех в свой адрес, когда представлялся.
Генрих считал, что должен закалять свое тело, и ежедневно купался в холодном Альстере, даже в ноябре. Последствия были катастрофическими: едва удалось найти место в порту у Э.Л. Дайке (без жалования, только за еду), как у него снова открылось кровохарканье. В течение недели удавалось скрывать болезнь, но затем его разоблачили и он снова потерял работу.
Хотя Шлиман не был расположен к роскоши, его наличность неудержимо таяла. Если он не хотел закончить свою жизнь бездомным и нищим, то надо было занимать деньги. Но кто даст болезненному помощнику торговца без места хотя бы один медяк?
Просить в долг у отца? Он был слишком горд
для этого! Нужда заставила вспомнить о дяде Вахенхаузене из Виппероу. Генрих написал ему душераздирающее письмо, кульминацией которого было заявление, что без помощи дяди его жизнь кончена.
Отчаянный призыв не остался без ответа. Дядя
из Виппероу прислал десять талеров (к Рождеству деньги следовало вернуть), но в то же время пожаловаться сестре Генриха на наглость ее презренного брата. Когда это дошло до него, Генрих дал священную клятву, что никогда в жизни не попросит у родственников «ни крошки хлеба».
ГАНЗЕЙСКИЕ МЕЧТЫ
С десятью талерами в кармане и без источника постоянного дохода Шлиман не мог широко развернуться. Единственное, что у него было, — это время, много времени, и он использовал его для наблюдений. Он впитывал в себя волнующую атмосферу большого города, и, конечно, два с половиной месяца, проведенные на Альстере, наложили на него больший отпечаток, чем длительное пребывание в любом другом месте: Генрих Шлиман стал ганзейцем, вернее — намеревался стать им.
Хладнокровные купцы и дельцы древнего ганзейского города невероятно притягивали помощника лавочника из провинции.’ Восхищение Генриха вызывало то, как они обращаются с деньгами и товаром, как покупают и продают не беря в руки ни товара, ни денег.
«Сливки общества», которых Шлиман видел, по крайней мере, издали, важные, полные достоинства господа и благородно одетые дамы удивляли его и будили потребность стать таким же. Они заставляли мечтать, а Генрих находился как раз в таком возрасте, когда мечты, если их лелеять, перестают казаться преизбыточными детскими фантазиями — они становятся реальными целями, которых можно достигнуть благодаря работе и усилиям.
Шлиман хотел стать ганзейцем, уважаемым купцом, который хорошо одевается, а утром отправляется на биржу, которому не надо ухаживать за женщинами, потому что они сами ищут его общества и не такие девчонки, как подруга его юности Минна Майнке из Анкерсхагена, — нет, гордые, взрослые женщины в волнующих нарядах. Конечно, он был маленьким и неприметным, но здесь, в Гамбурге, Генрих впервые осознал, что есть простое средство забыть о своем достойном сожаления виде — деньги.
Деньги делают человека красивым. Что особенного могут предложить господа Фессер и Фильхак, Марк, Вильгельм, Освальд, Варнке и Прен, кроме своего респектабельного положения? Они были низкорослыми, толстыми и, в отличие от него, очень старыми, и все же они называли самых красивых женщин своими. Эти несколько месяцев в Гамбурге помогли Шлиману понять, что только деньги и богатство в состоянии дать ощущение собственной значимости. Ему было девятнадцать, и он оставил надежду когда-нибудь подрасти, но теперь Генрих считал, что деньги смогут сделать
из карлика великана. Но с десятью взятыми в долг талерами в кармане он был очень далек от осуществления своих устремлений, и, к тому же, было
еще не совсем ясно, как он достигнет богатства. Он только был уверен, что добьется своего.
Он снял маленькую комнату возле портового рынка у болтливого домовладельца. Несчастный Генрих излил ему свое сердце, и из сочувствия
тот послал молодого человека в салон Петера Мюллера на Нойштедтер-Нойштрассе — извест
ное в городе заведение, в котором к услугам клиентов было четыреста «дам». За восемь серебряных грошей бедняга Шлиман мог глазеть целый вечер,
но даже эта плата за вход была для него непомерной. На эти деньги он мог прожить три дня. Поэтому он убедил кассира у входа, что явился сюда
ни в коем случае не для того, чтобы развлекаться,
а приехал из Мекленбурга, услышал об этом «вось
мом чуде света» и хотел бы только раз взглянуть, так сказать, в целях просвещения.
Трюк удался. Шлиман пробыл в салоне пять часов. Он с удивлением рассматривал помещение, праздничный зал со ста двадцатью люстрами и двумястами мраморными колоннами, с просторной галереей и паркетным полом из красного дерева. Происходившее в салоне Мюллера Шлиман описывал затем в письме своей сестре, причем в самых ярких красках: «В центре салона стоят господа, все в головных уборах, и никто и не думает снять шляпу; вокруг, в креслах, расположилось дамское общество и с нетерпением ожидает приглашения к танцу. Если ты еще не опьянен и не восхищен блеском и роскошью салона и доносящимися с галереи звуками музыки, то это произойдет при виде этих дам: ты действительно веришь, что вернулись старые волшебные времена мира фей. Чужестранца очаровывают не столько их сшитые из чистого шелка наряды, которые не стыдно будет надеть и жене кайзера, сколько их лица, ибо такую белоснежную кожу и нежную шею, такие щеки, подкрашенные карминовыми румянами, пылкие губы, изогнутые брови, подведенные китайской тушью, такие темные, как египетская ночь, локоны, уложенные вокруг прелестной головки, не часто увидишь в мире. Ошеломленный, я долго стоял перед дверью, пока не привлек к себе внимание, и, опомнившись, шагнул к другим сотням господ, стоявшим в центре зала».
То, что ярко накрашенные красавицы попросту были продажными дамами полусвета, Генрих в то время не хотел замечать. «Я даже не сомневался, — оправдывался он в одном из своих писем, — что все эти дамы, числом более четырехсот, были дочерьми знатных гамбургских семейств, и узнал, к своему ужасу, лишь несколько недель спустя, что все они предаются удовольствиям, проживают на Дамторвальштрассе, каждый вечер составляют дамское общество в этом известном салоне и по этой причине для приличных дам считалось непристойным приходить сюда. Господа же из знатных сословий, занимавшие высокое положение, почитали за честь развлекаться здесь, и даже великий герцог из Шверина посещал этот салон, находясь в Гамбурге».
Увиденное в салоне Мюллера произвело на Шлимана такое сильное впечатление, что с тех пор его интерес вызывали только женщины, обладавшие яркой внешностью. Их характер занимал его гораздо меньше, что в последующие годы стало для него роковым.
Спустя несколько недель Шлиман окончатель
но убедился в том, что был рожден не для мекленбургской провинции. Но он был реалистом (черта, отличавшая его, несмотря на мечтательность, с юношеских лет) и признавал, что виноград в Гамбурге для него слишком зелен, — во всяком случае, возможности быстро сделать карьеру пока не предвиделось. И впервые Шлимана охватило желание сменить место жительства, уехать.
«Переселение» — волшебное слово первой половины XIX века, единственная и последняя надежда для безработных, неимущих, стоящих вне закона. В то время, когда родился Шлиман, движение переселенцев приняло невообразимые масштабы: шестьдесят миллионов человек отправились
в XIX веке на нелегкие поиски новой жизни, в основном по ту сторону Атлантики. Только Америка была вынуждена принять за сто лет тридцать четыре миллиона переселенцев, и хотя треть из них, мучимая раскаянием и тоской по родине и такая же бедная, как и раньше, вернулась домой, это не могло удержать других от поисков счастья на чужбине.
ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА ГЕНРИХА — ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
С убогой юностью в Мекленбурге для Генриха было покончено, любимая мать умерла, для своего распутного отца у него осталось только презрение — что еще удерживало его в Германии? Со своим братом Людвигом, который уступал Генриху в интеллектуальном развитии, но в каком-то смысле был для него примером, он часто говорил о переселении и взвешивал шансы, которые появятся у него «по ту сторону». Насколько близкими были пароходы, на всех парусах берущие курс с Эльбы на Бостон или Нью-Йорк, настолько далекой оставалась Америка — далекой как мечта, ибо у целеустремленного молодого человека не было денег на билет.
В поисках новой, не слишком тяжелой работы на помощь несчастному юноше пришел случай. Среди рекомендательных писем, с которыми Генрих Шлиман приехал в Гамбург, было одно, составленное корабельным маклером Вендтом, школьным товарищем покойной матери Шлимана. Ему было жаль бедного юношу. Во всяком случае, Вендту удалось рекомендовать Генриха господам Деклизуру и Бевингу. После переписки на немецком, французском и английском языках, которая была своеобразным испытанием и завершилась, к удовольствию нанимателей, успешно, Деклизур и Бевинг выразили готовность взять молодого Шлимана на работу в одно из отделений своей фирмы, конечно, не в Гамбурге, Бремене или Ростоке, а в Ла-Гуайра (Венесуэла), на побережье Карибского моря. Принадлежащий фирме пароход «Доротея» стоит в порту, готовый к отплы
тию. О жаловании господа пока не желают распространяться. Оно будет обговорено на месте и в зависимости от выполняемой работы. Путешест
вие на пароходе до Южной Америки и еда в течение четырех недель — бесплатно, о постельном белье он должен будет позаботиться сам.
Предложение было для Шлимана неожиданным, но он, не задумываясь ни на минуту, принял его, хотя знал, что, возможно, ему придется продать свой единственный сюртук, чтобы приобрес
ти матрац из морской травы и два шерстяных одеяла. По одежке встречают — это Шлиман знал уже тогда. Девятнадцатилетний юноша без сюртука он был никто. Но жертва была необходима, если он хотел получить хотя бы один шанс. А молодой Генрих был уверен в себе: однажды он вернется из далекой Южной Америки с горой дорожных чемоданов.
Что касается «переезда» в Венесуэлу и всех обстоятельств этого плавания, то тут Шлиман противоречит сам себе. Один раз он сообщает, что
был нанят в качестве корабельного юнги и должен был выполнять тяжелейшую работу, в других записях говорится, что на борту «Доротеи» оказалось три пассажира: столяр из Гамбурга, его сын
и он, Генрих Шлиман.
Критики выражали сомнения по поводу того, не выдумана ли эта история с «переездом» и не отправился ли Шлиман на самом деле по суше в Голландию, где закончилось предполагаемое морское путешествие. Факты говорят о следующем: трехмачтовый пароход под названием «Доротея» действительно существовал и сошел со стапелей в 1841 году. В списках команды запланированного путешествия в Южную Америку стояло восемнадцать имен, среди которых имени Шлимана не оказалось. Списки пассажиров в то время еще не велись. Документы сообщают, что судно потерпело кораблекрушение у голландских берегов. Вполне возможно, что Шлиман узнал из газет, о происшествии с «Доротеей» и вплел это событие (как пожар в Сан-Франциско много лет спустя) в свою собственную биографию.
Этот факт, естественно, вызывает вопрос: зачем Шлиману надо было делать это? Ответ таков: здесь в полной мере проявляется черта, которая будет потом характеризовать Шлимана в течение всей его жизни, — склонность к грандиозным самоинсценировкам. И такого человека, который не мог просто добраться от Гамбурга до Амстердама, сама судьба занесет туда. Шлиман был кем угодно, — но только не верующим, однако он верил в свою сверхчеловеческую судьбу, которой был избран для сверхчеловеческих достижений.
КОРАБЛЕКРУШЕНИЕ У БЕРЕГОВ ГОЛЛАНДИИ
По версии Шлимана, изложенной им его сестрам Вильгельмине и Дорис, 28 ноября 1841 года в 4 часа утра «Доротея» вышла из порта Гамбург — в столь ранний час, хотя ночь была такой черной, что не было видно ни зги. И все же, писал Генрих, выстрелили пушки, желая удачи, — очень сомнительное заявление, принимая во внимание время суток и незначительные размеры корабля. Из-за неблагоприятного ветра пароход вынужден был стать на якорь у Глюксштадта и лишь 30 ноября взял курс на Куксхавен.
Вечером того же дня они вышли в открытое море и взяли курс на запад, но начался жестокий шторм. Он погнал по морю волны высотой с дом.
У Шлимана началась морская болезнь: «Шторм, а
с ним и моя болезнь, бушевал восемь дней, насту
пая то с севера, то с запада. Восемь дней я не брал
в рот ни крошки и покидал каюту только для отправления своих естественных потребностей. Дру
гим пассажирам было так же плохо, как и мне, и они стонали, как и я».
В хорошую погоду корабль достигал рукава канала за три дня. «Доротея» была в пути вот уже десять дней, но находилась «ближе к Гамбургу, чем
к каналу».
9 декабря. Шквал волн обрушивается на палубу. «Доротея» глотает воду. Работают насосы. Шлиман сидит на прикрепленном к полу стуле и пытается учить испанский.
10 декабря. Шторм идет с севера.
11 декабря. Ледяной шторм. 6 градусов по Цельсию. Снег. Чайки окружили корабль. Около полудня шторм становится еще сильнее. К вече
ру — ураган. Волны высотой с башню. 18.00 — разорван брамсель. 19.00 — юнга приносит чай и сухари. Он плачет и говорит: «В последний раз…» 22.00 — старший рулевой докладывает, что видит вдали свет. Капитан Юрг Зимонсен приказывает бросить якорь. Цепи рвутся.
Была полночь, когда капитан рывком открыл дверь в каюту и закричал: «Все пассажиры наверх! Смертельная опасность!» В этот самый момент раскачивающийся корабль вздрогнул от удара, окна каюты разлетелись вдребезги. Молодой Шлиман хотел одеться, но вода — холодная, ледяная — хлынула со всех сторон в каюту и он выскочил на палубу голым. Волна накрыла его и потащила к поручням. Ему удалось удержаться, привязав себя с помощью свисавшего каната.
На палубе было две спасательных шлюпки. Команда отчаянно пыталась приготовить их к спуску. Но еще до того, как шлюпки были спущены на воду, они наполнились водой, шлепнулись на вал и утонули. Не умокая, «как будто его тянула невидимая рука», звенел корабельный колокол. Корабль накренился и начал погружаться. Несколько членов команды бросились к такелажу. «Я тоже, — писал Шлиман, — подумал, что там безопаснее, отвязался и хотел двинуться вверх, когда со страшным шумом обломки покатались вниз по нижней палубе и я вместе с ними был увлечен в бездну. Но вскоре я вновь очутился вверху и смог ухватиться за проплывавшую мимо пустую бочку, край которой судорожно сжимал и вместе с которой меня отбросило в сторону. То подбрасываемого на сто футов в высоту, то швыряемого в ужасную бездну, меня в течение четырех часов мотало в беспамятстве, пока не прибило к отмели; низкие волны и малый уровень воды указывал на близость земли. Совсем окоченевший и полумертвый от измождения, я решил здесь дождаться смерти или спасения. Но ни того ни другого не последовало. Настало утро, и, к неописуемой радости, я увидел перед собой землю. Я хотел пешком добраться до нее, но не мог; я хотел кричать, но обессилел так, что не в состоянии был это сделать. Наконец меня заметали, и целая толпа зевак собралась на пляже…»
Шлиман был выброшен на берег крупнейшего из вестфризских островов около побережья Голландии. Он назывался Текстель и уже тогда жил, кроме прочего, разведением луковиц цветов, но в основном — доходами от морских курортов. Прогуливавшиеся по пляжу подобрали в песке потерпевшего кораблекрушение и отнесли в «Инзель-хауз», где его хозяин Йоханес Бранес принял Шлимана, дал ему горячего кофе и позаботился о его ранах. «Ужасные боли мучили меня, — вспоминает Генрих в письме сестрам, — и я громко мычал, так как два передних зуба были выбиты, а на моем лице и теле были глубокие раны. Я был словно парализованный, ноги сильно опухли».
Как утверждает далее в письме Шлиман, кроме него, в этой катастрофе уцелели только сам капитан и один матрос, и капитан поздравил его с «чудесным спасением». Это не соответствует фактам: голландские газеты хоть и сообщали о несчастье, но не упоминали ни об одной жертве. Что занимает здесь Шлимана, так это роковое стечение обстоятельств, о котором он постоянно напоминает и картину которого разворачивает перед читателем, даже подтасовывая факты, желая продемонстрировать, что он, Генрих Шлиман, избран провидением, чтобы совершить что-то необычное.
У него не было никакой мало-мальски приличной одежды, когда его выходили у Бранеса. И прежде всего у него не было ни одного пфеннига. Поэтому он продиктовал хозяину письмо в Гамбург (своему покровителю Вендту) с просьбой помочь и прислать немного денег. Письмо было адресовано консулу Мекленбурга в Амстердаме — с тем чтобы переслать дальше. Молодой Шлиман решил отправиться в этот город после четырехдневного восстановления сил, и там он хотел осмотреться.
Через Цуидерзее при штормовой погоде, когда вместо обычных двенадцати часов переезд длился три дня и три ночи, Шлиман 20 декабря добрался до Амстердама. «Всю дорогу я ужасно мучился. На корабле не нашлось для меня кровати, и я, будучи таким больным, с незаживающими ранами, был вынужден в ужасный холод постоянно лежать на скамье. Но надежды на лучший жребий в ближайшем будущем смягчали боль, и, твердо убежденный в том, что судьба, так чудесно спасшая меня и приведшая в Голландию, одарит меня хорошим и в дальнейшем, я терпеливо вынес все».
БАШМАКИ И ЧУЛКИ ОТ СТАРЬЕВЩИКА
Кажется, что уже по прибытии в Амстердам Шлиман похоронил свои планы переселения. Дорога привела его прежде всего к консулу Мекленбурга, резиденция которого находилась на берегу Амстеля, и тот с глубоким сожалением выслушал потерпевшего кораблекрушение земляка. Эдвард Квак — так звали консула — в первую очередь передал Шлиману десять гульденов и помог снять меблированную комнату. У старьевщика Генрих приобрел куртку, брюки, шляпу, чулки и башмаки, уже бывшие в употреблении. Теперь он выглядел просто прекрасно. По одежке встречают, пусть даже эта одежка была поношенной.
В его одиноком жилище незадолго до Рождества Шлимана свалила жесточайшая травматическая лихорадка. Хозяйка комнаты подумала, что это чума, и настоятельно рекомендовала квартиросъемщику поискать ближайший госпиталь. Квак поручился за пациента, сунул Генриху еще десять гульденов и велел поместить его в «Зикеннух». Там
в одной палате лежало сто два больных и «не проходило ни одного дня, чтобы не выносили три или четыре трупа».
Рождественские праздники в 1841 году были самыми печальными для молодого Генриха Шлимана. Но они укрепили его во мнении, что при наличии столь необходимой уверенности в себе найдется выход и в самой критической ситуации. Только нельзя отчаиваться. Из Гамбурга пришло сообщение, что Вендт высылает ему тридцать гульденов; одновременно он рекомендовал Шлимана торговой конторе «Хойяк и К°», где ему был обещан кредит на сумму в сто гульденов.
Одного этого сообщения хватило, чтобы ускорить процесс выздоровления Шлимана. На второй день после рождественских праздников Генрих отсчитал деньги на расходы по его содержанию в больнице — два с половиной гульдена — и направился к Хойяку. Хотя Шлиман был одет впол
не прилично, его сразу узнали. «Залепленное многочисленными пластырями лицо сказало им, кто я,
и патроны сразу же обратились ко мне по имени. Я был вынужден рассказать им историю от начала до конца; они с сочувствием выслушали и сказали, что Бог, должно быть, избрал меня для великих дел и они убеждены, что это несчастье станет предвестником моего счастья».
Предложить молодому человеку место Хойяк
не мог, так как стояла зима, а в это время судоходство прекращалось, и лишь весной можно было рассчитывать на крупные сделки, для совершения которых потребуется увеличить численность персонала. Генрих не пал духом, обратив внимание на свои познания в бухгалтерском деле и опыт ведения переписки на «четырех живых языках» (пятый, голландский, он был готов освоить за несколько недель).
Хойяк недоверчиво посмотрел на него и
засомневался в упомянутых способностях молодого человека, но на всякий случай протянул ему бумагу и перо и с усмешкой потребовал написать на четырех языках документ о вексельной сделке. Для решения поставленной задачи Шлиману не понадобилось и пятнадцати минут, и Хойяк был так ошеломлен, что тут же предложил ему место в своей конторе. Генрих попросил обещанный кредит в сто гульденов и откланялся.
«Кто мог быть счастливее меня? — вспоминает Шлиман. — Сразу после этого я пошел в приличный магазин готового платья и купил себе хороший сюртук, панталоны, жилет, несколько пар шерстяных чулок, рубашки и кое-что еще, снял комнату на Ньювекидс-Форбургсваль, 60, поднялся на пятый этаж, где я живу и сейчас, и уже на следующее утро отправился в контору моего патрона Л. Хойяка…»
Там работали преимущественно иностранцы: немцы, русские, шведы, испанцы — и Генрих почувствовал себя в этой разноязыкой суматохе значительно лучше. Совсем по-другому, нежели в Гамбурге или дома, в Мекленбурге, — более гибко и упорядоченно — было организовано рабочее время. Бюро открывалось в 10.00, хозяин появлялся в 11.00, до 15.00 работали в конторе, затем час на бирже, около 15.00 устраивали небольшой пере
рыв на обед, а затем, с 15.30 до 20.00, снова работали в бюро. Вторая половина дня в среду, субботу и воскресенье были свободными. Здесь дело было поставлено намного цивилизованнее и разумнее чем в конторах Гамбурга, с которыми он познакомился. Торговый дом «Хойяк и К°» (за этим «К°» скрывался прусский генерал — консул Вильгельм Хепнер) располагался на Кайцерграхт. В аристократический особняк вела мраморная лестница. В просторной конторе работали восемнадцать служащих и три ученика. Торговали главным образом зерном, товарами из колоний и индиго. К этому надо добавить банковские и спекулятивные сделки. «Хойяк и К°» имел тридцать одно собственное судно.
«По величине, — с гордостью замечал Шлиман, — ни один торговый дом Амстердама и, я хотел бы сказать, мира не сможет соперничать с
нами, так как нет такого другого дома, который имел бы столько обслуживающего персонала и такой большой оборот, как наш. Многие сотни тысяч гульденов ежедневно проходили через наши руки, О, какая разница по сравнению с Фюрстенбергом, где мы были счастливы, получая тридцать гульденов…»
Письмо от 20 февраля 1842 года, адресованное Вильгельмине и Дорис Шлиман, создает впечатление, что Генрих сразу же получил должность конторского служащего и, ухоженный и хорошо одетый, выполнял свою работу сидя за письменным столом. На самом же деле первым местом Шлимана могло быть только место ученика, кото
рый в основном выполнял функции рассыльного. В автобиографии, изданной второй женой Шлимана — Софьей — спустя полвека, намного честнее звучат слова Генриха, когда он пишет: «На моем новом месте я занимался тем, что ставил штампы на векселя и предъявлял их к оплате в городе, относил письма на почту и забирал оттуда корреспонденцию. Это механическое занятие было мне приятно, потому что оставляло достаточно времени, чтобы подумать о моем запущенном образовании. Сначала я стремился выработать удобочитаемый почерк, и за двадцать уроков, которые я брал у известного брюссельского каллиграфа Магне, это удалось полностью. Вслед за этим я усердно взялся за изучение современных языков, чтобы получить место получше. Мое годовое жалование составляло 800 гульденов, из которых половину я отдавал за учебу, а оставшаяся половина покрывала издержки на мое довольно скудное пропитание».
Меблированная комната на пятом этаже дома по Ньювекидс-Форбургсваль, 60 стоила восемь гульденов без отопления. В ней не было даже печки, и Генрих вынужден был арендовать у кузнеца чугунное страшилище за пять гульденов в сезон. Топить, если приходилось, надо было углем, но для ученика конторского служащего уголь был дорогим удовольствием. Иногда, добровольно признавался Генрих, он дрожал от холода в своей комнате, несмотря на двое штанов, две шерстяные рубахи и кошачью шкуру, в которую он закутывался и которую имел обыкновение не снимать даже днем.
Дела его в ту первую зиму в Амстердаме были плохи, даже если в письмах к своим сестрам он и не признавался в этом. Его завтрак состоял из ржаной каши, обед, как он писал позже в автобиографии, не стоил и двенадцати пфеннигов. «Но ничто так не заставляет взяться за учебу, как нищета и перспектива избавиться от нее в будущем благодаря напряженной работе».
ОДЕРЖИМЫЙ ЖАЖДОЙ ЗНАНИЙ И СКУПОЙ
Нелегко было молодому человеку из Мекленбурга добиться соблюдения требуемой дисципли
ны, так как на каждом углу подстерегали развле
чения. В театрах из-за большого наплыва иностранцев играли каждый вечер на пяти языках. На концерты, танцевальные и костюмированные балы зазывали большие пестрые плакаты, но повсюду вход стоил не меньше трех гульденов, что было» Шлиману «тогда не по карману». Генрих избегал даже маленьких, дешевых кофеен, где можно было легко познакомиться с амстердамскими девушками: он боялся попасть в такое положение, когда придется выкладывать деньги.
И так, в первые же месяцы его пребывания в Амстердаме проявилась та черта характера Шлимана, которая будет свойственна ему всю жизнь: болезненная склонность к экономии, скупость вплоть до самобичевания. Его единственным развлечением, как сообщает сам Генрих, было вечерами, когда контора закрывалась, гулять по городу и восхищаться ярко освещенными домами и улицами. Подчас он толкался вокруг Гарлемер Тор, откуда по железной дороге отправлялись паровые составы по маршруту Амстердам — Гарлем. Тогда он мечтал о большом, далеком мире, прежде всего — о далекой Японии, и внутренний голос говорил ему: «Тебе не следует оставаться в Европе, счастье ждет тебя далеко отсюда».
Еще не было и речи о Греции, Гомере и Трое или о том, чтобы учить греческий и латинский язык. Молодого Генриха сперва вовсе не заботило образование в классическом смысле: он учил языки, чтобы продвинуться в своей работе. «Таким образом, — пишет он в автобиографии, — я с особым усердием набросился на изучение английского языка, и нужда заставила меня выдумать метод, который в значительной степени облегчил изучение каждого языка. Этот простой метод состоял поначалу в том, чтобы читать вслух, не делая переводов, ежедневно по часу, чтобы писать рассуждения об интересующих тебя предметах, исправлять их с помощью учителя, выучивать наизусть, а на следующем занятии рассказывать то, что днем раньше было исправлено. Моя память была слабой, так как в детстве я ее совсем не тренировал, но все же я использовал каждую минуту и даже крал у работы время для учебы».
Шлиман ходил в церковь, что, вообще-то, не нравилось ему, сыну пастора, но Генрих преследовал при этом определенную цель. Речь шла об англиканской церкви, и он прислушивался к проповеди на английском языке и повторял про себя каждое отдельное слово. Таким образом Шлиман за полгода пребывания в Амстердаме сносно выучил английский язык, а в последующие шесть месяцев обратился к французскому.
Он тренировал свою память постоянно, уча
что-то наизусть, чему посвящал все время — идя по улице, стоя в очереди на почте, занимаясь вечерами перед тем, как лечь спать. Шлиман будто
бы знал наизусть весь роман шотландца Вальтера Скотта «Айвенго» и семейную сагу «Векфильдский священник» Оливера Голдсмита. Из произведений французской литературы он слово за сло
вом хранил в своей голове роман о любви и путешествиях «Приключения Телемака» теолога и писателя Франсуа Фенелопа и книгу «Поль и Вир
гиния» Жака-Анри Бернардина де Сан-Пьера. «Благодаря этим продолжительным, чрезмерным заня
тиям, — пишет Шлиман, — я настолько укрепил свою память в течение этого года, что мне чрезвычайно легко далось изучение голландского, испан
ского, итальянского и португальского языков
и требовалось не более шести недель, чтобы уметь бегло говорить и быстро писать».
К этим высказываниям надо подходить с осторожностью. Черновики и письма того времени доказывают, что Генрих ни в коем случае не был безупречен в вышеназванных языках, а также в английском и французском. Для этого следовало
быть гением, хотя Шлиман, без сомнения, обладал необыкновенным языковым талантом, распознал
его и бросил вызов своей памяти, добившись огромных успехов.
Большую роль в его судьбе сыграло решение выучить русский язык. Российская империя на востоке была важнейшим деловым партнером всех торговых контор Амстердама. Но ни один служащий не владел русским. И тут Генрих видит свой шанс. Работа мальчика на побегушках стала вскоре злить его, но прилежания и усердия было недостаточно дли повышения по службе или хотя бы увеличения жалования. И тогда он решил искать свое счастье в другой конторе. Ему был двадцать один год, и он не имел образования, поэтому прошло еще два года, прежде чем Генрих по чьей-то рекомендации нашел новое место. Шлиман стал бухгалтером и ответственным за корреспонденцию торгового дома «Шредер и К°» в Амстердаме на Херренграхт, 286. Его годовое жалование составило теперь тысячу двести гульденов.
Бернхард Хиндрих Шредер проявил строгость истинного хозяина, и ему принадлежит заслуга признания купеческого таланта Генриха Шлимана. Он дал ему суровое образование, не скупясь при этом и на письменные порицания. 3 июня 1846 года, Шредер — Шлиману: «Мы уже неоднократно говорили вам: не обещайте много и не давайте бессмысленных обещаний, которые не может выполнить ни один благоразумный купец. Далее: мы должны просить вас никогда не диктовать нам законов. Мы сами знаем, что должны сделать, а что может подождать. Вы позволяете себе вещи, выходящие за рамки приличий. Вы приписываете себе влияние и власть, с чем мы никак не можем согласиться и желаем, чтобы вы с вашим характером сангвиника никогда не заблуждались на этот счет…»
Шлиман согласился с критикой, так как высоко ценил Шредера как коммерсанта, но не принял ее близко к сердцу. И восемь месяцев спустя последовало другое предостережение, на этот раз от гамбургского совладельца фирмы Джона Генри Шредера: «Мы знаем вас и лелеем надежду, что позже вы станете образованным и приятным членом общества, после того как получите практические знания в торговой сфере, что чрезвычайно важно, займете почетное место в кругу купцов и в мире вообще и, таким образом, станете полезны тебе и своим друзьям. А сейчас прошу не обижаться на меня, но вы чрезвычайно переоцениваете свои силы, мечтаете о своих невероятных достижениях и преимуществах, позволяете недопустимый тон и предъявляете абсурднейшие претензии, постоянно забывая при этом, что наши дела и без вашего участия идут хорошо…»
Причиной его заносчивости являлась, конеч
но, его стремительная карьера. Если два года назад Шлиман исполнял роль посыльного, то теперь
он действовал самостоятельно в интересах торгового дома Шредера, в его бюро работало пятнадцать писарей, и в известном смысле он был действительно незаменимым для «Шредер и К°», так как
знал русский язык.
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТЕЛЕМАНА” ПО-РУССКИ
Изучение русского языка, как многое другое
в жизни Шлимана, было приключением. Все началось с того, что он обшарил все антикварные магазины Амстердама в поисках русских книг. Результатом его усилий стали словарь русского языка, грамматика и перевод «Приключений Телемака», которые Шлиман уже знал наизусть, хотя и на французском языке.
Учителя русского языка не нашлось во всем Амстердаме, и поэтому он усваивал самое необходимое с помощью своих книг. Меж тем Генрих продвинулся настолько, что мог читать русские тексты.
Два русских купца, прибывшие в Амстердам на аукцион индиго, помогли ему поставить произношение. Он уже мог общаться с ними. Но Шлиман признавал: «Так как не было никого, кто мог бы исправлять мои работы, они были, без сомнения, очень плохими. И я стал учиться избегать ошибок, выполняя практические упражнения, выучивая русский текст «Телемака» наизусть. Мне казалось, что я быстрее добьюсь успеха, если у меня будет кто-то, кому я мог бы рассказывать «Приключения Телемака», и я нашел одного бедного еврея, который за четыре гульдена в неделю каждый вечер приходил ко мне и в течение двух часов должен был слушать, не понимая ни единого слова».
Неделями и месяцами половина жильцов дома на Ньювекидс-форбургсваль, 60 учили вместе со Шлиманом «Приключения Телемака», ибо степы и потолки дома были тонкими, как бумага (во всяком случае, жильцы уверяли, что на первом этаже можно было слышать все, о чем говорили на третьем). Все дома в Амстердаме были построены таким образом. И поэтому Шлиману пришлось дважды менять жилье во время изучения русского языка. Переполняемый гордостью, он написал свое первое письмо по-русски Василию Плотникову — лондонскому агенту московского торгового дома «Индиго», принадлежавшего Малютину. И вскоре получил ответ тоже на русском языке. Шредер же не знал ни одного слова по-русски, другие господа из конторы также не владели им.
С рвением читал Шлиман все иностранные газеты, попадавшие ему в руки, оценивал содержавшуюся в них информацию, если она могла принести пользу делам Шредера, и входил в курс дела о возможных доходах и убытках в торговле сахаром из Суринама, с Явы и Гавайев, а также хлопком, рисом, табаком и индиго — снова и снова индиго! Шредер всеми силами старался притормозить жажду деятельности, обуревавшую молодого человека, сдерживать его все чаще проявляющуюся заносчивость.
Низкорослый Шлиман придавал большое значение одежде, но тот, кто полагает, что теперь он жил в роскоши (а Шредер добавил ему восемьсот гульденов к жалованию), глубоко заблуждается. Генрих так и не избавился от скупости, свойственной ему с юных лет, и оставался таким вплоть до смертного часа.
Вот счет его хозяйки за 11 и 12 мая 1845 года:
11 мая:
1 булочки — О,1;
1 хлеб — 0,2;
два раза джин — 0,13;
1/2 графина джина — 0,32;
12 мая:
2 и 1/1 унции масла — 0,25;
5 булочек — 0,22;
1/2 унция чая — 0,2;
5 унций сахара — 0,35.
Всего за неделю (включая плату за комнату) — 3,75 гульдена.
Шлиман жил под девизом: «Роскошь должна быть снаружи». Он тратил много денег на одежду, причем верхнюю одежду, не обращая при этом внимания на белье.
Его прямо-таки спартанская жизнь давала молодому Шлиману возможность посылать большую часть сбережений своей семье. Эта готовность помочь своим является одной из многих загадочных черт характера, которые не просто и не без проблем вписываются в его образ «скупца». Даже отца, которого он ненавидел, потому что считал виновным в ранней смерти матери, Генрих всячески поддерживал деньгами, он даже послал однажды этому пьянице два бочонка бордо.
Всю свою жизнь он оказывал финансовую помощь отцу, сестрам и братьям. Эти следовавшие через нерегулярные промежутки времени денежные переводы сопровождались подчас навязчивыми предостережениями и просьбами экономить.
В ту пору, в середине 40-х годов прошлого века, Шлиман хотел стать великим купцом и вести дела в России. Как и его патрон Шредер, Генрих хотел торговать и спекулировать товарами, что обещало большой доход, продавать же он хотел преимущественно индиго — этот синий порошок из Индии и Китая, который применяли для окраски в голубой цвет хлопка и шерсти.
Эта идея отнюдь не казалось какой-то нереальной. Первый биограф Шлимана Эмиль Людвиг, которому жена Шлимана Софья открыла все афинское наследие мужа, нашел среди многочисленных писем следующее послание русского купца Живаго.
«Из моей беседы с вами я понял, что вы желаете сделать карьеру купца в Москве… в качестве агента компании "Шредер и К°". Так как в нашем городе у вас нет знакомых и вы не знаете ни людей, ни московские влиятельные круги, вы очень осторожны и не желаете зря терять деньги. Учитывая эти трудности, я хотел бы сделать Вам предложение войти со мной в дело на следующей основе: мы открываем в Москве совместный торговый дом Живаго и Шлимана и я выделю из моего состояния сумму в 50–60 тысяч рублей серебром при условии, что вы станете агентом "Шредер и К°" и, возможно, других домов. Прибыль пополам, контракт на пять-шесть лет».
К тому времени адресату этого послания было двадцать четыре года. Почему он отклонил это великодушное предложение, осталось неизвестным. Но не было сомнений в том, что Генрих Шлиман добился успеха.
III. ГОЛУБЫЕ РУБЛИ, ЗОЛОТЫЕ ДОЛЛАРЫ
Сердиться на обстоятельства нецелесообразно: им нет никакого дела ни до чего. Но кто готов к обстоятельствам, с которыми сталкивается, тот спасен.
Еврипид.
Санкт-Петербург, конец января 1846 года.
За шестнадцать дней Генрих Шлиман проделал почти бесконечный путь от Амстердама до Санкт-Петербурга: шестнадцать дней в открытых сквознякам вагонах и иногда даже — в открытых санях.
Россия, сорока миллионная империя на востоке, была для европейцев таинственной и загадочной. Лишь купцы отправлялись иногда в трудный путь на берега Москвы-реки и Невы. Им предоставлялось широкое поле деятельности, рынок, ничем не уступавший центральноевропейскому. «В интересах "Шредера и К°" в Амстердаме, а также "Антона Шредера и К°" в Гавре, "А.Б.Ц.М. Шредера" в Триесте, "Св. ван Леннепа и К°” в Смирне, "Шредера и К°"в Рио-де-Жанейро, "Г.Х. Шредера и П.Д. Шредера" в Бремене, "Б.Х. Шредера" в Гамбурге Шлиман занялся своими делами, и «как здесь, так и в Москве, уже в первые месяцы… усилия увенчались успехом, который превзошел… величайшие ожидания» молодого человека, «равно как и ожидания… хозяев».

Разрешение, выданное Шлиману 10 сентября 1846 года. «Согласно указу царя Николая Павловича, предъявителю сего документа предоставлено право свободно разъезжать по России». Из этого документа становится ясно, что Шлиман не был подданным Российской империи. Полицейское описание Шлимана, в котором возраст его — 23 года — указан ошибочно, упоминает его прямой подбородок, средний рост, светлые волосы, светлые брови и отсутствие особых примет. Вверху на этом документе — штемпели полицейских управлений Гамбурга и Амстердама.
Шлиман, который прекрасно знал конъюнктуру мирового рынка еще по работе в торговом доме Шредера в Амстердаме, очень скоро заметил, что товары, которыми изобиловала Россия, в центре Европы имелись в ограниченном количестве и цены на них были гораздо выше. Товары из центральной Европы, напротив, могли продаваться в России с большой прибылью. Шлиман впал в настоящий торговый азарт и был вскоре, несмотря на — прибыльные сделки, остановлен Шредером: «Если вы хотите услышать мой совет и руководствоваться им, то я дам вам его. Вы живете в Санкт-Петербурге, время от времени совершая поездки в Москву, экономно устроились, не раздаете без нужды ни копейки и не тратите деньги главным образом на…»
Под третьим пунктом подразумевались, без сомнения, женщины легкого поведения, которых было особенно много в веселом городе Санкт-Петербурге. Там все еще действовал указ царя Александра I
5, запрещавший носить круглые шляпы и фраки. Для проведения приемов и частных вечеров требовалось разрешение царя, а за пределами столицы — разрешение губернатора.
Возможно, предостережение Бернхарда Шредера упало на подготовленную почву, а может, это было чистой случайностью, что Генрих Шлиман как раз в это время предпринял важный шаг, чтобы изменить свою жизнь. Его намерение удивляет тем более, что молодой, становившийся известным купец до этого мало думал о женщинах. Конечно, он глазел на разряженных дам полусвета в салоне Петера Мюллера в Гамбурге и сообщал об этом приключении своим сестрам. Он с благоговением относился к жене своего бывшего хозяина Вильгельма Хепнера, которая являлась дочерью руководителя фирмы Хойяка, «потому что она была юной, милой женщиной». Когда Хепнер уезжал по делам, Генрих два раза в неделю ходил к ней на обед. Других сведений о том, что Шлиман до этого времени близко общался с женщинами, нет. Его единственным развлечением в Амстердаме были, как он извещал сестер Дорис и Вильгельмину, вечерние прогулки; при этом он прежде всего восхищался освещением улиц и париками в одном салопе-парикмахерской, которые, прекрасно причесанные, вращались на чудесных цоколях.
НЕУДАЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВСТУПИТЬ В БРАК
Осознав свои петербургские успехи и даже став заносчивым, Генрих сделал неожиданный шаг: он написал знакомому придворному музыканту Карлу Эрнсту Аауэ, обрисовал ему свои выдающиеся финансовые успехи и обратился с просьбой передать отцу Майнке, что он просит руки своей подруги юности Минны.
Спустя четыре недели в Петербург пришел ответ: двадцатишестилетняя Минна за несколько дней до этого вышла замуж за землевладельца, который был старше ее почти на двадцать лет. Вероятно, Генрих и Минна в детстве пообещали друг другу пожениться, но после этого не виделись десять лет; Шлиман даже ни разу не написал ей, и Минна, должно быть, предположила, что он давно позабыл девушку из далекого Анкерсхагена. Это, как позже драматизировал Шлиман, был тяжелейший удар судьбы.
В автобиографии он пишет: «Я чувствовал себя полностью неспособным заниматься чем бы то ни было и слег совсем больным. Я непрерывно вызывал в памяти все, что происходило между мной и Минной в детстве, все наши сладкие мечты и громадные планы, для исполнения которых я видел сейчас такую блестящую возможность. Но как я сейчас мог думать о том, чтобы осуществить их без участия Минны? Я жестоко упрекал себя в том, что не попросил руки Минны еще до того, как отправился в Санкт-Петербург, но повторял себе снова и снова, что выставил бы себя тем самым в смешном свете: разве не был я в Амстердаме лишь приказчиком, находившимся в чрезвычайно несамостоятельном и зависящем от настроения моих патронов положении, и разве у меня была хоть какая-то гарантия, что мне повезет в Петербурге и что вместо успеха меня не ожидает полная неудача? Мне казалось невозможным, что Минна может быть счастлива рядом с другим мужчиной и что я возьму в жены другую. Почему жестокая судьба забрала ее у меня именно сейчас, когда я после шестнадцати лет стремления обладать ею наконец поверил, что добился ее? С нами на самом деле все произошло так, как часто случалось в мечтах: мы воображаем, что неумолимо следуем за кем-то, и как только думаем, что настигли его, он снова ускользает от нас».
Этот ложный удар судьбы имел для будущего Шлимана значение, которое трудно переоценить: кто знает, что произошло бы, если бы Генрих в 1847 году действительно женился на Минне. Можно предположить, что их брак удался бы и Шлиман не был бы женат ни на русской Екатерине Петровне Лыжиной), ни на гречанке (Софье Энгастроменос). Но именно эти две женщины повернули жизнь Шлимана в то русло, которое привело его позже к раскопкам Трои и открытию сокровища Приама.
Впоследствии Шлиман, без сомнения, преувеличивал свою любовь к Минне, которая после замужества носила фамилию Рихерс. Минна всю жизнь оставалась для него мечтой. Шлиман жил мечтами и имел обыкновение облегчать душу, сообщая о своих мечтах. Одно из его самых трогательных писем датировано 1861 годом (это было время, когда преуспевающий купец уже почти десять лет состоял в несчастном браке с Екатериной) и адресовано его другу по учебе в Фюрстенберге, Ленцу. С эти письмом он отправил в Фюрстенберг две фотографии: одну — для Ленца, другую — для Минны, написав: «Скажите фройляйн Минне, что она доставит мне огромную радость, если захочет прислать свою фотографию, которую я заключу в золотую рамку и повешу над моим письменным столом в конторе. Скажите ей, что ее фотография — портрет предмета моей первой любви и воспоминание о счастливейшем времени моей жизни — с этого момента станет прекрасным и драгоценнейшим украшением моего дома, и скажите ей далее, что я заслужил в подарок ее фотографию, так как ни время, ни расстояние не смогли погасить воспоминания о ней, а мысли о ней ежедневно занимают мою душу, будь я в центре урагана в бушующем океане или в суете торговли, во времена великой печали или в суматохе развлечений. Когда я был беден и несчастен, гордость запрещала мне справляться о ней. Надежда добиться ее, когда я стану богатым, придавала мне энергии и прокладывала путь к состоянию и уважению. Того и другого я достиг лишь зимой конца 1847-го — начала 1848 года и сразу же написал тогда Лауэ по поводу Минны, но получил приведшее меня в отчаянье сообщение, что Минна вышла замуж. Если бы этого не произошло, она бы уже тринадцать с половиной лет была бы мадам Шлиман, а в течение последних трех лет женой коммерческого советника и уважаемого гражданина России».
Б отчаянии Генрих Шлиман все больше уходил с головой в работу. В поисках новых рынков молодой, легкий на подъем купец отправился в Москву. Среди доселе неизвестных, «открытых» им товаров были селитра, нужная для изготовления взрывчатых веществ, поташ для производства мыла, строительный лес; он предлагал рейнские вина из Германии, драгоценные камни из России. Крупнейшую сделку удалось провести, конечно, с голубым красящим порошком индиго. Только в Петербурге было три крупных текстильных мануфактуры, а выпускаемая ими хлопчатобумажные ткани были защищены русским таможенными законами от иностранной конкуренции. Их потребность в красящем порошке едва ли можно было покрыть.
Чрезмерная активность Шлимана и его напряженные путешествия (переезды из Москвы в Петербург в открытых санях в сорокаградусный мороз) привели в конце концов к срыву. Когда не отличавшийся особой любовью к работе отец Шлимана узнал об этом, то подумал, что сын заразился холерой, и дал Генриху в письмах несколько советов на этот счет. Сын поблагодарил отца и уверил, что речь идет всего лишь о недомогании, вызванном непомерной нагрузкой. Холера, сообщал он, ему не страшна, он считает себя даже невосприимчивым к чуме, но если пробьет час, он с благодарностью вспомнит о рекомендованных методах лечения.
Чрезвычайной интенсивностью отличалась и переписка, которую вел Шлиман. Он был одержим страстью писать письма, поток его корреспонденции возрастал год от года. Известно четыреста писем, датированных 1846 годом, в 1847-м он сочинил шестьсот два большей частью длинных, на нескольких страницах послания на четырех языках.
16 февраля 1848 он сообщает отцу: «Стоя у моего конторского стола с раннего утра до позднего вечера, углубившись в вечные размышления о том, как сделать мой кошелек тяжелее путем удачной спекуляции — все равно, в ущерб или в прибыль моему конкуренту или поручителю, — я чувствую себя менее счастливым, чем тогда в Фюрстенберге, когда, стоя за прилавком, беседовал с перевозчиком рыбы о собаке с «деревенским» хвостом, или позже, когда еженедельно совершал путешествия из Ростока в Бентвиш к чудо-доктору».
В 25 ЛЕТ — ГЛАВА БОЛЬШОЙ СЕМЬИ
Преуспевающий купец был несчастлив. Вероятно, он все еще не мог опомниться от шока после замужества Минны. Его мучила тоска по дому. Минна была для него, конечно же, не только первой юношеской любовью — она была частью его родины, которая в далеком Петербурге оставалась для него недосягаемой. Во время деловых поездок, которые вели его из Петербурга в Любек, Гамбург, Бремен, Амстердам, Роттердам, Лондон, Ливерпуль, Манчестер, Гавр, Париж, Брюссель и, наконец, вверх по Рейну в Германию, он сознательно не заезжал на свою родину, в Мекленбург.
Едва достигнув двадцати пяти лет, но будучи уже хорошо зарабатывающим коммерсантом, Генрих считал себя главой семьи. Отец Шлимана вел жизнь человека, окончательно и бесповоротно скатывавшегося на дно, и не возражал Генриху; напротив, до тех пор, пока усердный сын материально поддерживал его, он платил ему восхищением и был готов принимать его доброжелательные советы.
В то время как к сестрам Генрих питал глубокую симпатию, к своим братьям он относился как настоящий диктатор. Сперва он вызвал в Петербург шестнадцатилетнего Пауля, чтобы сделать из него прилежного купца. Он хотел, как говорил сам Шлиман, через пять-шесть лет женить брата на маленькой русской девушке и объявил, что будет Паулю не только братом, но и отцом.
С Людвигом, который был только на год младше его самого, Генрих думал поступить так же. Он нашел ему место в конторе Шредера в Амстердаме, не желая, чтобы брат приехал в Петербург, так как отношения между ними были не лучшими. Генрих считал Людвига глупым, своенравным, чванливым и все же щедро поддерживал его в первые месяцы жизни в Амстердаме. Даже когда Людвиг против воли Генриха принял решение отправиться в Америку, он предоставил ему еще двести гульденов. Это было больше, чем стоимость билета второго класса. «Давай восстановим между нами прежние юношеские отношения и откровенно выскажем друг другу все, — писал в прощальном письме Людвиг, — может быть, я больше не увижу Европу».
Через Нью-Йорк, где он сделал короткую остановку, Людвиг Шлиман в апреле 1849 достиг Калифорнии, совершив полное приключений путешествие на корабле вокруг мыса Рог. За год до этого Соединенные Штаты Америки отвоевали Калифорнию у Мексики, и немного позже американцы объявили далекую землю тридцать первым независимым штатом. Случайно или нет, но как раз в это время у Сакраменто-Ривер было найдено первое золото. Сотни тысяч искателей счастья устремились туда со всего света. Брат Шлимана Людвиг объединился с шестью другими искателями приключений, купил мулов и лошадей и отправился со своими компаньонами в путь — к Тринити-Ривер, удаленной на триста миль от Сакраменто. Там, в Сьерра-Невада, жили индейцы. И они заставляли дорого платить за право добывать золото. Но все же после вычета всех затрат в первые два месяца Людвиг заработал 420 долларов, или 700 талеров — внушительную сумму, которую он отдал на хранение в банковский дом «Пристли и К°».
Генрих Шлиман, для которого ничего в жизни не значило больше, чем успех, услышав о заслугах младшего брата, пересмотрел свое мнение о нем. Если раньше он считал Людвига бездельником, то теперь тот стал внушать Генриху уважение. Шлиман даже не подозревал, как тяжело доставались золотодобытчикам Калифорнии их деньги. Две трети всех «ловцов удачи» сдавались через неделю. Лихорадка и чума уносили жизни множества европейцев. Такими же суровыми, как и климат, были обычаи. Золотоискатели не признавали ни права, ни законов. Воровство и несговорчивость при дележе добытого золота карались смертью через повешение. Людвиг Шлиман пишет о своей жизни золотоискателя:
«Здесь можно превосходно умереть!.. Необычайно редкий перепад температур вызывает у многих простуду. Первая половина ночи приятно теплая, затем спускается густой туман, а под утро стоит ледяной холод. Днем ужасно жарко, а с двенадцати до двух часов дня работать вообще невозможно. На руднике работают с рассвета до одиннадцати часов, потом идут в свою палатку, готовят еду, очищают золото и спят около часа. В половине третьего снова берутся за работу, и так — до заката. Я сильный и думаю, что смогу продержаться на руднике и в сезон дождей…
Сакраменто, 25 сентября 1849 года, "Сити-отель", девять часов вечера».
Несколько преувеличенно-восторженные сообщения брата об успехах («Вчера я видел двух моряков, и у каждого их них было по 40 фунтов золота!») заставили Генриха задуматься. Он почувствовал, что в Новом Свете открываются грандиозные перспективы, и попросил брата навести справки о состоянии банковского дела и налоговой политики в Соединенных Штатах Америки.
ГЕНРИХА ТЯНЕТ В АМЕРИКУ
Для такого потенциального инвестора, как Генрих Шлиман, Америка в середине прошлого века была действительно страной неограниченных возможностей. В Сан-Франциско проживало тогда 30 тысяч, а в Сакраменто — 16 тысяч жителей. Не только золотоискатели, но и спекулянты искали здесь свое счастье, покупали участки по сходной цене и продавали с прибылью. Кусок земли на Сакраменто-Ривер, приобретенный за 500 долларов, мог при небольшом везении уже через полгода стоить 30 тысяч долларов. Неудивительно, что Генрих недолго думал и принял решение вкладывать деньги в Америку.
Это решение далось ему сравнительно легко благодаря изменившимся отношениям со своими патронами. Шлиман объявил об уходе из фирмы Шредера, который урезал полпроцента оборота, и стал самостоятельным. Хотя он еще сотрудничал со Шредером, но на свой страх и риск. Ему не нужно было искать одобрения по поводу своего американского проекта, и он не должен был больше сносить критику старого Шредера.
Когда весной 1850 года переписка с братом вдруг прервалась, Генрих Шлиман забеспокоился. Что следовало предпринять? Путешествие в Калифорнию займет почти два месяца. 20 июля петербургский купец получил письмо из Нью-Йорка. Отправителем значился банкир Ц. Д. Беренс. В конверте лежала вырезка из газеты Сакраменто: «21 мая в Сакраменто умер от тифозной лихорадки господин Луис Шлиман. Шлиман — родом из Германии, зарегистрированный в Нью-Йорке — умер в возрасте двадцати пяти лет».
Людвиг по пути к золотоносному руднику пересекал на лошади реку и сорвался в воду. Хотя ему удалось выбраться на берег, у него не было запасной сухой одежды, и холодной ночью Людвиг простудился; высокая температура держалась двенадцать дней и двенадцать ночей. Без всяких подсобных средств — лошадь уплыла вместе с поклажей — Людвиг работал, пока не нашел две унции драгоценного металла, после чего отправился в Сакраменто. Лечение успеха не имело. Людвиг умер.
«Хотя я в моей жизни много всего перенес, выдержал и научился легко справляться с несчастьями, — писал Генрих в тот же день, когда получил весть об утрате, своему двоюродному брату Вахенхузену, — меня глубоко угнетает внезапная смерть моего любимого брата, и я не могу описать тебе мою боль и горе». Глубокие, на первый взгляд, переживания уже через несколько предложений кажутся сомнительным, когда Шлиман продолжает: «Людвиг, конечно, добился бы больших успехов благодаря своей невероятной активности и выдержке. Всего за несколько месяцев своего пребывания в Калифорнии он заработал по меньшей мере 7 тысяч талеров…» Для Генриха Шлимана жизнь измеряется лишь сальдо.
Было ли дело в деньгах, оставленных братом в Калифорнии, или в идее заработать в далекой Америке еще больше денег, чем в России? А может, существовала другая причина, почему Генрих Шлиман был готов так быстро покинуть Петербург? Этой причиной была блондинка (ее звали Софи Хекер) родом из Германии, жившая с родителями в Петербурге. Там Генрих и познакомился с Софи год спустя после разочарования, пережитого из-за замужества Минны. Он любил и обожал Софи, потому что она, как признавался Шлиман, владела тремя европейскими языками, великолепно играла на пианино, а к тому же, была очень экономной. Генрих писал Вильгельмине и Дорис: «Я нахожусь на вершине счастья. Какое сладостное вознаграждение после многих страданий! Так мы сможем разбогатеть…»
Генрих и Софи намеревались пожениться. О браке по любви с его стороны не могло быть и речи; скорее, это был брак по рассудку или брак-компенсация, потому что Шлиман не мог больше обладать Минной. К счастью для Генриха, на одном из многолюдных вечеров петербургского светского общества возник некий офицер, и Софи, не задумываясь, бросилась на его украшенную орденами грудь. Маленький Шлиман не мог ничего противопоставить блеску военной формы. После жестокой сцены ревности он сдался. В качестве утешения он приводил следующий довод: Софи «слишком молода и ветрена»; во всяком случае, он не страдал слишком долго, имея на примете другую эрзац-жену: «Это симпатичная, очень умная русская, имеющая очень мало денег, а точнее — почти ничего».
За профессиональным успехом Генриха скрывалось его фиаско в личной жизни. В двадцать восемь лет у него ни с кем не было прочных отношений. Именно теперь он был вынужден признать, что с его внешностью шансы в споре за женщину весьма невелики. Маленький рост, большая голова — тут не поможет никакой сюртук, даже из самого тонкого сукна, сшитый лучшим петербургским портным.
Он обратился с письменным запросом к нью-йоркскому банкиру Беренсу по поводу того, какие возможности предоставляются в Америке инвеститорам — якобы его, Шлимана, друг намеревается вложить за океаном тридцать тысяч долларов. Почему Шлиман отрицал свой собственный интерес, неясно. Может быть, он, санкт-петербургский купец первой гильдии, стеснялся того, что не имеет ни малейшего понятия о денежных сделках в Соединенных Штатах.
«Это молодой человек, — писал он о предполагаемом инвесторе, — полный энергии и обладающий наилучшими знаниями в купеческом деле, он и без денег мог бы преуспеть в Калифорнии; отправиться же туда с деньгами я считаю рискованным предприятием и опасаюсь, что мой друг лишится состояния…»
Едва Шлиман достиг определенного богатства, как его охватил панический страх потерять его по неосторожности. И советы сёстрам продиктованы этим же страхом. Генрих перевел им две тысячи марок, не преминув при этом высказать серьезное предупреждение: «Положите деньги в банк и экономно обращайтесь с ними, думая при этом, что рано или поздно придет "черный день". В человеческой жизни счастье слишком быстро сменяется несчастьем, радость — страданием…»
ДВЕ НЕДЕЛИ В АТЛАНТИКЕ, ПОКИНУТЫЙ И БЕСПОМОЩНЫЙ
Не дождавшись ответа Беренса из Нью-Йорка, с 50 тысячами рейхсталеров (30 тысяч долларов) в кармане 10 декабря 1850 года Генрих Шлиман отправился в путь, надеясь достичь Америки. Сперва он поехал в Амстердам, затем дальше, в Ливерпуль, где сел на пароход «Атлантики — современное комфортабельное судно водоизмещением три тысячи тонн, рассчитанное на сто пятьдесят пассажиров, с тремя салонами, паркетом из красного дерева и прекрасно оборудованными каютами. Но создается впечатление, что Шлиман враждовал с Посейдоном. 6 января 1851 года, когда Генриху исполнилось двадцать девять лет, на полпути между Ливерпулем и Нью-Йорком горделивый корабль попал в ураган; вечером, около половины восьмого, волной разбило штурвал, и лишенный способности маневрировать пароход стало уносить в суровое море. Четыре дня и четыре ночи капитан Вест и его команда пытались поставить временный парус, но это успеха не имело. Шторм гнал корабль назад, в восточном направлении. Так как нельзя было предвидеть, куда несет судно и как долго будет продолжаться их одиссея, капитан ввел строгие ограничения на расход продуктов. Вместо положенных четырех раз ели два раза в день. Таким образом команда с пассажирами могли прожить семьдесят дней.
Но уже 22 января, спустя две недели после катастрофы, на горизонте показалось побережье Ирландии. Капитан велел послать сигнал бедствия. Наконец буксир оттащил корабль в порт Куинстаун. 23 января Шлиман в полном здравии прибыл в Ливерпуль, откуда три недели назад отправился в путь. Он снял комнату в «Адельфин-отеле» и стал думать, что делать дальше.
Пароходство «Браун, Шипли и К°» вернуло пассажирам судна по тридцать пять фунтов, и Шлиман носился с мыслью отказаться от своего американского приключения. Он спас свои деньги и предпочитал сперва навестить Шредера в Амстердаме. Направляясь туда, Шлиман воспользовался наисовременнейшим изобретением — железной дорогой, которая доставила его сначала в Дувр. В вагоне он познакомился с мистером Дуком, судостроителем по профессии. Мистер Дук поспешил сообщить, что в Калифорнии можно получить необычайно высокие доходы. И так, Шлиман вновь передумал, но, верный своему решению, отправился в Амстердам, чтобы все обсудить со Шредером, мнению которого он все еще придавал большое значение, а затем собрался вторично отправиться в путь в направлении Америки.
Первого февраля на пароходе «Африка» Шлиман снова вышел в море. Корабль, перевозивший сто пятнадцать пассажиров, был далеко не таким комфортабельным, как потерпевший аварию «Атлантики, море было таким же суровым, как и во время первого путешествия, но 15 февраля, после обеда, на горизонте показался Нью-Йорк. В порту скопились тысячи людей, ожидающих сообщения о запаздывающем пароходе «Атлантики. Офицер с «Африки» еще до того, как судно причалило, крикнул в рупор: «"Аталантик" спасен!»
По пути к гостинице «Астор», самой большой и аристократической в Нью-Йорке, Шлиман слышал, как продавцы газет выдавали это сообщение за сенсацию. Генрих снял номер за два с половиной доллара в день, что включало полный пансион с завтраком, обедом, послеобеденным чаем и ужином. Изысканная американская кузня, когда на завтрак подавали ветчину и яйцо, на обед — лангустов, ростбиф и индюшатину, а вечером — холодные закуски, очень понравились мекленбуржцу, не избалованному ни домашней, ни русской кухней.
«Нью-Йорк, — писал Шлиман в своем американском дневнике, — очень равномерно застроенный, милый, чистый город и состоит из множества элегантных и даже гигантских зданий. Но он построен недавно и не выдерживает никакого сравнения с большими европейскими столицами. Дома в основном сооружены из кирпича и не оштукатурены. Самая элегантная и широкая из пролегающих здесь улиц — это Бродвей. Бродвей имеет три с половиной мили в длину и проходит по всему городу. Там расположены четыре театра. Все они маленькие и довольно плохо оснащены, так как ярко выраженная предпринимательская жилка американцев мало что оставляет на такие вещи, как театр. Единственное место, где можно развлечься, — это музей «Барнум», там можно получить удовольствие на любой вкус. Здесь охотно посещают концерты заезжих музыкантов, чаще всего негров, развлекающих публику музыкой, пением и всевозможными шутками. Я не могу сказать, что мне нравится этот способ развлечений, который доставляет янки большое удовольствие».
В написанном по-английски американском дневнике Шлимана мы находим также указания на то, что не только деньги привели его в Америку. Женщины уже дважды разочаровали его, и он надеялся найти наконец в стране неограниченных возможностей такую женщину, которая соответствовала бы его представлениям о слабом поле. Уже на второй день после приезда в Нью-Йорк он посещает в «Асторе» бал, на котором развлекаются «янки лэдиз». Что следует понимать под этим выражением, Генрих Шлиман не поясняет. Но, кажется, он очень пристально рассмотрел этих дам. И пришел к выводу, что прекрасная половина рода человеческого стареет в Америке очень быстро. В возрасте двадцати двух лет некоторые женщины выглядят старо и «изношенно». Американкой можно восхищаться только когда ей шестнадцать или
восемнадцать лет. Шлиман связывал этот факт с резкими перепадами температур и с тем, что американки не занимаются гимнастикой на свежем воздухе.
На третий день своего пребывания в Америке Шлиман признал: «Хотя прекрасная половина рода человеческого в Америке выглядит солиднее, чем во Франции, и во многом беззаботнее, чем в Англии, самыми характерными чертами дочерей Америки являются преувеличенная живость и склонность к вольностям и развлечениям».
Было ясно, что американка не подходит Шлиману в качестве жены. Поэтому он не стал понапрасну тратить свое время на эти мысли и окунулся с головой в урегулирование дел с наследством брата Людвига. Контора его бывшего партнера Беренса располагалась на Хьюстон-стрит, 335, и Беренс порекомендовал коммерсанту из Петербурга солидный банковский дом для развертывания его дела — «Джеймс Кинг и сын».
ЧЕРЕЗ ПАНАМУ В КАЛИФОРНИЮ
Для своего путешествия в Калифорнию Генрих выбрал путь, отличный от того, которым следовал его брат Людвиг: по железной дороге он отправился на юг, далее — по Панамскому перешейку, а затем — на корабле на северо-запад, в Калифорнию. Прямого сообщения между восточным и западным побережьем Америки еще не существовало. Таким образом, Шлиман через Филадельфию добрался до Вашингтона. Непосредственно по прибытии он отыскал Капитолий, где как раз заседал американский Конгресс. Последующие записи в американском дневнике Шлимана вызывают сомнение. Можно допустить, что гость из Германии присутствовал на заседаниях Конгресса и Палаты представителей, но то, что описанный визит к президенту Милларду Филмору действительно имел место, кажется совершенно невероятным. Какая особая причина была у Филмора, чтобы принять «господина Никто» из Петербурга? В 1851 году Шлиман не был ни настолько известен, ни настолько богат, чтобы президент Соединенных Штатов Америки мог интересоваться им. Более вероятным кажется то, что Шлиман (как уже было доказано ранее) сделал основой своих путевых заметок газетные статьи, так как он, к примеру, пишет: «С живейшим интересом и величайшим удовольствием я прислушивался к речам господина Генри Клея, сенатора из Кентукки, Хейла из Нью-Гемпшира, Мейсона из Вирджинии, Дугласа из Иллинойса и Дэвиса из Массачусетса. Главной темой дискуссии было недавнее восстание негров в Бостоне.
…Вечером, около 7 часов, я отправился к президенту Соединенных Штатов. Я засвидетельствовал ему свое почтение и объяснил, что моим большим желанием является увидеть запад его прекрасной страны. Он принял меня очень приветливо и представил своей жене, дочери и отцу, и мы беседовали полтора часа…»
Много лет спустя Шлиман писал, что его дневники были своего рода упражнениями в письме на иностранном языке. Это может служить объяснением причин возникновения сказочных рассказов, но не извинением за них. Ибо в последующие годы Шлиман выдавал эти сказки за правду.
Из Вашингтона Шлиман отправился с конной почтой назад в Филадельфию. Там 28 февраля 1851 года он взошел на борт «Крешент-Сити», парохода со ста восьмьюдесятью каютами для пассажиров и восьмьюдесятью местами на палубе, следовавшего в направлении Панамы.
Когда «Крешент-Сити» приблизился к побережью Сан-Доминго, в четырехстах семидесяти милях от заветной цели Шлиман перешел в своих дневниковых записях с английского на испанский: «Нет ничего ужаснее жары…» Шлиман хорошо переносил холод, высокую температуру воздуха он ненавидел. В такой зной он был вынужден пересекать панамские болота — опасное приключение, которого многие путешественники из Калифорнии избегали, огибая весь южноамериканский континент на пароходе.
На западном побережье Панамы Шлиман взошел на борт другого корабля, под названием «Орегон», направлявшегося в Сан-Франциско. Сто сорок пассажиров поочередно пытались воспользоваться сомнительными возможностями для умывания, которые едва ли заслуживали названия «ванная». Среди двадцати находившихся на борту женщин Шлиман отметил четырех, которые явно преследовали цель найти спутника жизни. «Без сомнения, — заметил он, — они найдут в Калифорнии то, что ищут, так как тот рынок неважно снабжен прекрасным полом».
На «Орегоне» находилось три живых быка. Они представляли собой мясные запасы для долгого путешествия на север, в Калифорнию.
«Среда, 19 марта. Последнюю ночь я спал на скамейке в столовой. На скамейках вокруг меня и на полу находились преимущественно женщины, которые по причине жары не могли спать в своих каютах. Утром, около половины пятого, вошел негр и сказал, что приготовил для меня ванну; и так, я направился на палубу и принял ванну…
Суббота, 22 марта. С раннего утра на горизонте появилась земля, и около десяти мы выгрузились в порту Акапулько. Акапулько выглядит как африканская деревня… есть лишь несколько домов из камня, в которых живут испанцы или американцы.
25 марта. 19 градусов 32 минуты северной широты, 106 градусов западной долготы. Пройдено 197 миль, Земли не видно. Сегодня мы находимся в Верхней Калифорнии.
26 марта. Прошлой ночью умер один из пассажиров. Сегодня утором его труп вместе со старым железом завернули в холст, затем во флаг Соединенных Штатов и положили на доски. Корабельный врач произнес короткую молитву, и мертвеца поглотило море. Сегодня стало намного прохладнее. В полдень мы достигли 21 градуса 30 минут северной широты и 109 градусов 4 минут восточной долготы. Пройденное расстояние — 209 миль.
Понедельник, 31 марта. Сегодня утром, в половине одиннадцатого, мы причалили в порту Сан-Диего, обычном небольшом местечке: несколько деревянных домов в гавани, еще несколько вдоль побережья и наибольшее скопление городских домов в четырех милях от корабельного причала. После полуторачасового перерыва путешествие продолжилось. Вечером мы миновали два острова, один из которых носит имя Каталина.
Вторник, 1 апреля. Утром около пяти часов мы прошли мимо чудесного острова Санта-Барбара, Позже увидели Санта-Круз, потом — Сан-Мигуэль, а потом — Санта-Роза, весь состоящий из высоких скал.
Среда, 2 апреля. Утром от лихорадки умер один пассажир — пожилой мужчина. Его завернули в холст и опустили в пучину, в то время как другой пассажир, Фегинсен, произносил траурную речь. Этим утром мы увидели калифорнийское побережье в густом тумане — возможно, знак того, что мы приближаемся к Сан-Франциско. После обеда, в половине третьего, мы вошли в Золотые Ворота. Более восьмисот трехмачтовых кораблей всех наций стояли на якоре перед самым городом…»
СРЕДИ ЗОЛОТОИСКАТЕЛЕЙ И АВАНТЮРИСТОВ
Сан-Франциско. Тридцать тысяч жителей, большинство домов построено из дерева, разрисовано пестрыми красками и заселено представителями всех мыслимых и немыслимых национальностей с Востока и запада. Шлиман остановился в гостинице «Упиоп», лучшей в городе, но только на один день: цена полного пансиона — семь долларов — показалась путешественнику слишком высокой. Зато на следующий день он нашел подходящую частную квартиру у доктора Стоуна.
Сначала через Золотые Ворота он отправился в Сакраменто — к могиле своего брата Людвига. Вид запущенной могилы с простым деревянным крестом больно задел гордость Шлимана. Он заказал надгробную плиту за пятьдесят долларов и велел посадить цветы.
Город Сакраменто, расположенный на реке с таким же названием, очень поправился молодому купцу из Санкт-Петербурга. В открывшейся взору сети улиц города с шестнадцати тысячным населением любой приезжий мог легко сориентироваться. Всего насчитывалось около пятидесяти пяти — правда, бесконечных — улиц: с востока на запад тянулись улицы от № 1 до № 31, а с севера на юг — от А до Z. Цветущие деревья и кустарники — обманчивое свидетельство здорового климата, как скоро выяснилось, — вводили в заблуждение. Шлиман принял решение в любом случае обосноваться в Сакраменто и вложить свои деньги в банковское дело — в специальный банк золотодобытчиков, десятки тысяч которых работали на Сакраменто-Ривер.
В середине мая Шлиман отправился в путь к золотоносным рудникам, чтобы увидеть, как живут мужчины, с которыми в будущем ему придется иметь дело; он уже много слышал о рудниках Юбы, о том, как разбогатели там некоторые золотоискатели. В Паркисбар он снял комнату в гостинице «Националь» — странном сооружении, состоявшем из деревянного каркаса, обтянутого парусиной. Условия жизни в этой «гостинице» были катастрофическими, но еда неплохой.
На быстрой Юбе началось наводнение. Поэтому работы были приостановлены, и Шлиман, не теряя времени зря, выслушивал обстоятельные рассказы о способах разведки золотоносных жил. «Каждый, — пишет он в своем дневнике, — имеет свою долю в руднике. Но обычно четыре или пять человек объединяются в компанию. Иногда владелец нанимает других рабочих. Тогда один рыхлит землю, двое других грузят ее на тележки и доставляют на просеивание. Еще один работник долгое время перетрясает ее. К ситу подводится вода с помощью насоса или длинного шланга, которые кладутся в реку в наиболее покатых местах, и течение гонит воду через шланги в сито. Наконец земля из сита сбрасывается на большую сковороду и раз за разом промывается дальше».
Промывка золота — это Шлиман признал сразу — была трудоемким, утомительным делом. Если же золотодобытчику или компании удавалось отвоевать у речного песка горсть золотой пыли, то затем надо было превратить добычу в деньги. Повсюду шатались скупщики золота и спекулянты и старались обмануть не знающих.

«Золотая лихорадка» в Калифорнии. Через три года после того, как на западе Соединенных Штатов впервые было обнаружено золото, Генрих Шлиман прибыл в Сакраменто. Там он основал «Банковский дом Генри Шлимана», менял золотые слитки на золотые монеты; дневной оборот составлял от 20 до 30 тысяч долларов. В течение года Шлиман удвоил свое состояние.
языка золотоискателей. Здесь Шлиман увидел свой шанс. Из американского дневника: «Так как моя последняя поездка в район рудников, связанная с изучением богатств этой земли и колоссальных ресурсов города Сакраменто, меня полностью удовлетворила, уже в начале июня я основал здесь банковский дом по приобретению валюты европейских стран и Соединенных Штатов и покупке золотой пыли».
Шлиман, который, обосновавшись в городе, до сих пор только давал взаймы деньги, занимаясь, как он говорил, смертельно скучным делом, взял на работу кассира-американца, слугу-испанца, снял из соображений безопасности и защиты от пожара один из немногих в Сакраменто каменных домов и купил сейф для денег весом в три тонны. В «Сакраменто Дейли Юнион» появилось следующее объявление:
Банковский дом Генри Шлимана
(В каменном доме на углу Йотштрассе-Фронтштрассе)!
Важен для торговцев и золотодобытчиков. Купит немедленно 3 тысячи унций лучшей чистой золотой пыли. 17 долларов за унцию. В обмен на золотые монеты или кредит в банке Дэвидсона-Ротшильда в Сан-Франциско, филиалы В США и Европе
Фирма процветала. Шлиман покупал золото ниже рыночной цены, платил наличными, а затем продавал его по рыночной цене. Это было непростым делом, так как среди обитателей Сакраменто-Ривер было много обманщиков. «Много золота, — писал Шлиман своему мекленбургскому другу Бальманну, торговцу зерном и маклеру из местечка Варен, сын которого выехал в Австралию, — подделывают путем позолоты меди и называют это фальшивым золотом, "богусом". Мошенники золотоносной страны ищут новичков, чтобы обмануть их. И поэтому очень благоразумным было первое время не торопиться с покупкой золота, не проверив его с помощью азотной кислоты. Если это настоящее золото, то кислота не оказывает на него никакого воздействия, если это богус, то он начинает шипеть и зеленеть. Как только ты освоился с золотым бизнесом, в этом уже нет необходимости. К взвешиванию и оценке взвешенного привыкаешь быстро, как — и ко всему, в чем заинтересован твой карман…»
Это одна из типичных ситуаций, нередких в жизни Генриха — теперь Генри Шлимана: в деле, о котором еще вчера не имел ни малейшего представления, он очень быстро становится сведущим и добивается солидной прибыли. «Золотой банк» в Сакраменто имел большой успех, а «мистер из Петербурга» стал любимой темой разговоров маленького города. Причиной успеха стала, во-первых, серьезность владельца нового банка по сравнению с хитрыми дельцами с Сакраменто-Ривер, а во-вторых, то, что золотоискатели, откуда бы родом они ни были, могли разговаривать с патроном на их родном языке.
Средний дневной оборот Шлимана в эти дни составлял от 20 до 30 тысяч долларов. Иногда после закрытия кассы он отправлял до 100 килограммов золотой пыли и слитков на корабль для доставки Дэвидсону в Сан-Франциско. При этом он жил в постоянном страхе, опасаясь нападения. В его письменном столе лежали два заряженных, с взведенными курками кольта. Он сам, его кассир и слуга всегда имели при себе охотничий нож и кольт, демонстрируя их окружающим. Похоже, когда Генри писал, что тем и другим он мог за пять секунд уложить пятерых, то подбадривал самого себя.
САН-ФРАНЦИСКО В ОГНЕ
«Сан-Франциско, 4 июля 1851. Ужасная катастрофа разразилась в городе: пожар, более сильный, чем все предыдущие, превратил город в руины.
Я прибыл сюда прошлой ночью, около половины одиннадцатого, и разместился в "Юпион-отель" рядом с Плаца. Проспав четверть часа, я был разбужен криками на улице: "Пожар! Пожар!" — а затем раздался жуткий звон аварийного колокола. Я быстро вскочил с кровати, выглянул из окна и увидел, что деревянный дом, находившийся всего в двадцати-тридцати шагах от гостиницы, горел. Я поспешно оделся и выбежал, но едва добежал до конца Клей-стрит, как увидел, что моя гостиница уже пылает. Чтобы избежать опасности, я бросился вверх по Монтгомери-стрит и взобрался на Телеграф-хилл — стометровую возвышенность на окраине города. Откуда открывался ужасный вид, и это был величайший спектакль, виденный мною когда-либо в жизни…»
Остаток ночи Генри провел в ресторане на Телеграф-хилл. Около шести утра он спустился в выгоревший город, встретил ошеломленных европейцев, потерявших свое имущество, в то время как местные жители не так трагично восприняли катастрофу: «Американцы не жаловались, а смеялись и шутили, как будто ничего не произошло…»
Приведенное здесь сильно сокращенное сообщение Генри Шлимана кажется преувеличенным и неправдоподобным, и можно предположить, что оно отчасти — по крайней мере, в том, что касается личных переживаний, — было выдумано им. С присущей ему склонностью все драматизировать Генри, очевидно, взял за основу газетные публикации «Сакраменто Дейли Юнион» от 6 и 7 мая, описывая событие, которое в действительности произошло на месяц раньше и широко освещалось на страницах газеты.
Это можно расценить и как доказательство того, что Шлиман выдумал и свой визит к президенту США, так как в то самое время, когда Генри отправился из Нью-Йорка в Вашингтон, «Балтимор Трибьюн» напечатала материал о президенте Филморе, его семье и Белом доме.
Упреки некоторых критиков Шлимана в том, что Генрих — патологический враль и поэтому нельзя верить ни одному из его высказываний, как и абсолютная достоверность, которую энтузиасты приписывали этому себялюбивому человеку, должны быть подвергнуты сомнению. Совершенно ясно, что Генрих Шлиман был грандиозным актером. Его потребность подчеркивать собственную значимость переходила все границы. И он, маленький человек из Мекленбурга, всю свою жизнь искал великие имена и значительные события, которыми украшал себя и на фоне которых мог встать во весь рост.
Калифорнийское приключение длилось не более года. Если Шлиман, несмотря на высокую прибыль, отказался от всего, у него, должно быть, имелись на то веские причины. Сам он никогда не говорил о конфликте со своим деловым партнером Дэвидсоном. Из писем явствует, что Дэвидсон обвинил Шлимана в манипуляции со взвешиванием золота с целью повышения прибыли. При этом не обошлось без ожесточенных объяснений между обоими. Но были и другие причины. Смерть брата Людвига глубоко задела Генри, и он жил в постоянном страхе перед чумой. Когда 4 октября он заболел желтой лихорадкой, то велел позвать к себе лучших докторов. Хинин, прописанный ему врачами, вылечил его через три. недели, которые он провел на рабочем месте — в бюро. С тех пор Шлиман делал ставку на хинин. Позднее, во время своих раскопок Трои, он регулярно принимал это лекарство в качестве профилактического средства. Приступы желтой лихорадки повторялись еще два раза, и Генри впал в панический страх. Он ни в коем случае не хотел повторить судьбу брата.
К страху пасть жертвой чумы прибавилась тоска по дому. Но что Генрих считал своей родиной? Ангерсхаген в Мекленбурге? Нет. Он доверился своему американскому дневнику: «Если бы в прежние годы я мог себе представить, что однажды заработаю хотя бы четверть моего теперешнего состояния, то посчитал бы себя счастливейшим из людей. Но теперь я чувствую себя самым несчастным, отделенный шестнадцатью тысячами километров от Петербурга, где все мои надежды и желания слились воедино в одном месте. И в самом деле: посреди урагана в ревущем океане, в опасности и бедственном положении, в вихре веселья здесь, куда позвали меня мои дела, перед моими глазами всегда моя любимая Россия, мой очаровательный Петербург… Если здесь, в Сакраменто, я могу в любой момент быть ограбленным или убитым, в России я могу спокойно спать в моей кровати, не боясь за свою жизнь и имущество, так как там тысячеглазое правосудие бдит за своими миролюбивыми жителями».
ЧЕМОДАН С ЗОЛОТОМ СТОИМОСТЬЮ В ШЕСТЬДЕСЯТ ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ
9 апреля 1852 года в «Сакраменто Дейли Юнион» появилось объявление следующего содержания:
Внимание!
Банковское дело «Генри Шлиман и К°» В Сакраменто-Сити передается сегодня Дэвидсону из Сан-Франциско и будет далее Вестись им. Все бумаги будут переданы Вышеназванному лицу.
Генри Шлиман и К°.
Когда появилось это объявление, Генри Шлиман находился уже на борту парохода США «Голден Гейт», «на всех парах и с попутным ветром» направлявшегося в Панаму. Против своего обыкновения делить каюту с другим путешественником из соображений экономии, он заказал отдельную каюту на верхней палубе. Стоило это шестьсот долларов. Он все еще чувствовал себя довольно больным. В свой американский дневник Генри записывает: «Несмотря на частые тяжелые болезни и серьезные кассовые ошибки, которые я полностью отношу на счет нечестности моих служащих, у меня есть все основания быть в общем и целом довольным успехом в Калифорнии.
Я уверен, что среди тех, кто покидает эту страну, едва ли найдется один из ста тысяч, который так хорошо справился со своим делом, как я».
Менее чем за год Генрих Шлиман удвоил свое состояние в размере 30 тысяч долларов. Теперь в простом дорожном чемодане Генрих Шлиман вез 60 000 долларов золотом. Пока он находился в отдельной каюте на корабле, он мог чувствовать себя уверенно. Но когда «Голден Гейт» стал на якорь за две мили от Панама-Сити, а пассажиры пересели на маленькие лодки и вместе с их багажом были доставлены на сушу, Шлиман ощутил страх.
В порту царила невероятная суматоха. Часто случалось, что местные носильщики завладевали чемоданом путешественника и навсегда исчезали. «Некоторые путешественники, — вспоминает Шлиман, — лишались таким образом всего состояния, которое приобрели в Калифорнии. Что касается меня, то я был готов к таким трюкам: сидел на своем багаже с револьвером в одной руке и кинжалом в другой и угрожал первому попавшемуся застрелить или изрезать его, если он притронется к моим вещам».
Твердость Шлимана возымела действие. С помощью двух носильщиков, которые производили хотя бы отдаленное впечатление заслуживающих доверия, он добрался до города, где сначала попросил совета у британского консула относительно того, как можно самым надежным способом переправить деньги на другой конец страны. Консул не очень успокоил иностранца, а напротив, сообщил, что кражи и убийства на труднопроходимых тропах Панамского перешейка — повседневное явление, и выразил готовность переправить лишь определенную часть состояния Шлимана. Ни утонченный господин консул, ни его неясное предложение не смогли убедить богатого купца: «Я предпочел сохранить золото при себе».
Последовавшие за этим дни и ночи, как признавал Шлиман, стали одними из самых ужасных в его жизни. Первую ночь вместе с другими пассажирами он провел в «Американ-отель». Гостиница была жалкой. От попутчиков воняло. По соображениям безопасности, в одном помещении спали двадцать человек, вооруженных ножами и револьверами. Шлиман прикрепил к чемодану веревки, которые, в свою очередь, привязал к кистям рук. Так он надеялся почувствовать малейшее прикосновение к чемодану.
Уставший как собака (в довершение всего начался бесконечный дождь), на следующее утро Шлиман нанял за сорок долларов погонщика с тремя мулами, который был готов перевезти путешественника и его багаж через горы. Несколько европейцев, возвращавшихся домой, присоединились к решительному немцу. На лодке и по железной дороге группа наконец добралась до атлантического побережья — все голодные, выжатые, обессиленные и покинутые местными провожатыми.
Шлиман и другие путешественники надеялись застать пароход «Крешент-Сити», но этим утром он уже отправился в направлении Нью-Йорка. С момента выхода из Панама-Сити беспрерывно шел дождь. «Ни у кого из нас не было сухой одежды, — писал Шлиман в дневнике, — и вообще ничего, чем можно было бы защититься от разразившейся с огромной силой стихии. Многих после перехода мучили лихорадка, озноб и понос. Некоторые умерли после нескольких дней ужасных страданий. Мертвые оставались лежать там, где умерли, так как ни один из нас не мог и не хотел хоронить их».
С 26 апреля по 8 мая Шлиман и другие путешественники с «Голден Гейт» стояли лагерем среди сплошных болот. Там у Шлимана на левой ноге открылась гнойная рана. Утром 8 мая выстрел пушки разбудил ожидавших, чей сон уже напоминал летаргический. С севера приближался пароход США «Сьерра-Невада», сопровождаемый тремя небольшими американскими судами. Шлиман купил билет в одноместную каюту за сто тридцать долларов. Он был рад возможности впервые за четырнадцать дней высушить свою одежду. Пароход взял курс на Кингстон, столицу острова Ямайка. Судовой врач обработал рану на ноге, и Шлиман быстро отдохнул от оставшихся позади тягот пути. 18 мая он высадился в Нью-Йорке. «Нью-Йорк является раем для человека, приехавшего из Калифорнии», — записал Шлиман в свой дневник. Прибыв в «Нью-Йорк-отель» на Бродвее, он с восхищением воскликнул: «О Нью-Йорк! Нью-Йорк!» Здесь, в гостинице, Генрих остановился только на одну ночь. Он нервничал из-за своего чемодана с деньгами, в котором вез все свое состояние. Уже на следующий день он сел на пароход «Европа», следовавший в направлении Ливерпуля. Переезд длился одиннадцать дней, и, как заметил Шлиман, сто двадцать пять пассажиров были утонченными людьми — лучшая публика, какую он только встречал на кораблях.
ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЕВРОПУ
На десять дней Шлиман остановился в Лондоне — городе, который любил и в который будет часто возвращаться. Сначала он поселился в «Мар-

Надгробный крест на могиле матери Шлимана Луизы Терезы Шли-
ман, урожденной Бюргер (1793–1831), на маленьком кладбище Ан-
керсхагена в Мекленбурге. Слева — руководитель музея Генриха
Шлимана в Анкерсхагене д-р Вильфрид Бёльке.
лейс-отель» на Трафальгарской площади. Но по рекомендации своего врача Коллера переехал на частную квартиру в Чисвик, где было намного спокойнее. Едва встав на ноги, Генрих Шлиман отыскал престижный банковский дом «Баринг Бразерс и К°», о котором спустя сто сорок три года будут писать все газеты мира. Он обменял золотые монеты, слитки и векселя. Освободившись наконец от бремени своего состояния, Генрих завернул в Париж, где отпраздновал счастливое возвращение после своего калифорнийского приключения. По возвращении в Лондон — его рана на ноге зажила — Шлиману пришло на ум ехать не прямо в Петербург, как было предусмотрено. На пароходе «Джон Булл» он отправился сначала в Гамбург, а оттуда по железной дороге — через Шверин в Росток.
На вокзале в Бюхове состоялась оговоренная в письме встреча с сестрами. Они направились на летний отдых в Рюген. Шлиман пишет, что не узнал одну из сестер, которую не видел с десятилетнего возраста. Генриху было теперь тридцать лет. Двадцать лет назад он в последний раз встречал своего дядю Фридриха Шлимана. Поэтому на следующий день он отправился в путь на почтовых лошадях через Висмар к дяде в Калькхорст. Но встреча прошла не очень сердечно. Шлиман предпочел поехать дальше, в Анкерсхаген — в мекленбургскую деревню, где прошло его детство. В путевом дневнике Шлиман назвал Анкерсхаген своим домом, местом своего рождения, хотя он появился на свет в Нойбукове. Почему он сделал это, остается неясным, как и еще кое-что в его заметках. Шлиман писал буквально следующее: «Невозможно выразить то чувство, которой родилось во мне, когда я увидел места, где провел счастливейшие годы моего раннего детства, где каждый дом, каждое дерево и каждый куст вызывали в памяти тысячи приятных воспоминаний. Наверное, в глазах ребенка все выглядит огромным, ибо церковная башня, которая казалась невероятно высокой и я считал, что она самая высокая в мире, липа посреди нашего сада, достававшая почти до облаков, в действительности предстали передо мной словно в миниатюре. Единственным исключением были тополь и вишня перед дверью дома. Вероятно, они так сильно выросли, что показались мне такими же, как и двадцать один год назад».
Как и все сельские мальчишки, Шлиман выцарапывал свои инициалы в различных местах. Он обнаружил их на оконной раме бывшего жилого дома и на стволе большой липы в саду дома священника, где сейчас жил викарий Конради. Могила матери на небольшом кладбище перед церковью Анкерсхагена находилась в очень запущенном состоянии. Но Генриха Шлимана это больше не заботило. На следующий день он навестил свою третью сестру, жившую у дяди Вахенхузена в Виппероу, и отправился в путь — в Росток. Там он сел на ближайший пароход, следовавший в Санкт-Петербург.
С пятьюдесятью тысячами рейхсталлеров в кармане покинул Шлиман Петербург. Спустя год он возвращался назад, удвоив эту сумму. Четвертого августа 1852 года Генрих Шлиман прибыл в Петербург на пароходе «Великий герцог Фридрих франц». Город на Неве был таким же достойным любви, как и год назад, но Шлиман стал совсем другим.
IV. Бегство от самого себя
Лицо богини счастья меняется, как лик луны: то увеличивается, то уменьшается, но никогда не бывает одинаковым.
Надпись на «Грюнес Тор» («Зеленых воротах») в Кенигсберге.
Тридцатилетним, маленьким, близоруким, с выпадающими волосами, но всегда хорошо одетым, высоко мнящим о себе и надменным, а прежде всего очень богатым — таким Генрих Шлиман возвратился в Петербург летом 1852 года. Он решил вновь вернуться на стезю коммерции, более того — показать купцам-старожилам русской столицы, как Шлиман, светский человек, делает дела. Он хотел стать первым крупным коммерсантом Санкт-Петербурга.
Чтобы продемонстрировать свою принадлежность к утонченному обществу Петербурга, он поселился в квартире на самой аристократической улице. Он снял весь третий этаж одного из городских дворцов — с двумя залами, семью комнатами, выходящими на улицу, пятью комнатами и кухней, выходящими во двор; к этому надо добавить просторный подвал, конюшню и каретный сарай. Самые дорогие магазины города занимались меблировкой его жилья. Только мебель для гостиной стоила тысячу рублей.
Это было необходимым условием проведения приемов и собраний большого общества, которые вдруг стали правиться Шлиману. Преуспевающий коммерсант связывал с этой роскошью определенную цель. Ему не давала покоя мысль жениться.

Петербург. Столица Российской империи и резиденция царя была в прошлом веке великой столицей искусств, науки, светской жизни. Именно здесь Шлиман и основал свою торговую империю, именно здесь он стал мультимиллионером.
как можно быстрее. Он страдал от одиночества и неразделенных чувств, но в первую очередь от того, что дважды его серьезное намерение потерпело неудачу.
Для избалованного успехом Шлимана не было в это время большего позора, чем отказ двух женщин. Вступление в брак в его глазах было не столько закономерным следствием проверенных временем любовных отношений, сколько символом соединения двух людей противоположного пола. Наличие у невесты определенного состояния, что до американского приключения он считал условием брака, имело теперь для Шлимана второстепенное значение.
Таким образом, он вдруг сильно заинтересовался младшей сестрой одного петербургского коммерсанта. Она была небогатой и не особенно симпатичной, но именно это и вызвало у Генриха своего рода страсть — если можно говорить о страсти в случае со Шлиманом. Два года назад она отклонила его серьезную попытку сближения. Однако при новой встрече двадцатилетняя девушка дала понять, что расположена к преуспевающему немецкому купцу.
Молодую даму звали Екатерина Петровна Лыжина. Не имевший до сих пор особого успеха у женщин, Шлиман, должно быть, был поражен благосклонностью доселе такой холодной, неприступной девушки. Он сразу же, не раздумывая, попросил ее руки. Сватовство и согласие Екатерины последовали так быстро, что даже ближайшие родственники с обеих сторон были ошеломлены этим известием.
«Когда вы получите это письмо, — сообщал Генрих в октябре 1852 года семье в Мекленбург, — я, и на то воля Господа, буду уже пятый день как женат и постараюсь, конечно, со своей стороны сделать все, чтобы моя жена была счастлива. И она действительно заслуживает счастья, так как она очень порядочная, простая, умная и рассудительная девушка, и я с каждым днем люблю и уважаю ее все больше».
Гордый Генрих поставил в известность о свадьбе всех своих родственников, друзей и знакомых, но о супруге Екатерине они узнали немного. Венчание по русскому православному обряду состоялось 12 октября в Исаакиевском соборе в Петербурге. Присутствовали только родные невесты. Можно предположить, что пышного. свадебного торжества не было. В этом случае Генрих, конечно же, хвастался бы, как и в случае с обстановкой квартиры. Но нет, мы узнаем о его свадьбе так же мало, как и свадебном путешествии. И о своей жене Шлиман рассказывал весьма скупо и лишь один-единственный раз отозвался с похвалой. Спустя несколько дней после свадьбы он снова был в своем только что открывшемся петербургском бюро и занимался своими делами.
СЕМЕЙНЫЕ СЦЕНЫ
Брак Генриха Шлимана с Екатериной Лыжиной с самого начала был колоссом на глиняных ногах. С обоюдного согласия, этот союз был браком по расчету. Генрих искал женщину для дома и постели, Екатерина рассматривала их совместную жизнь как желанное безбедное существование. Выйти замуж означало для нее подняться на несколько ступенек вверх по социальной лестнице. Речь о любви с обеих сторон заходила очень редко.
Но противоречие между скупостью одного и расточительностью другой оказалось неразрешимым. Екатерина любила праздники и приемы — Генрих признавал эти способы развлечения только в представительских целях, когда они были полезны для дела. Всю свою жизнь он охотно путешествовал — Екатерина же наотрез отказывалась покидать Петербург.
В соответствии с обычаями того времени — Шлиман, конечно же, ни разу не был близок с Екатериной до свадьбы. Став супругом, Генрих, который, казалось, унаследовал от отца запоздалую страстность, столкнулся с тем, что Екатерина уклонялась от любых попыток физического сближения. Похоже, что в первый год брака Генрих и Екатерина не имели сексуальных контактов. Иначе нельзя объяснить фразу Шлимана, в которой он горько жаловался: «По прошествий года моего брака я вынужден был силой производить на свет моих детей».
Об этом свидетельствует и чрезмерная озабоченность, с которой он набросился на дела. Он словно хотел компенсировать все свое разочарование еще большими успехами и большими деньгами и искал новых деловых связей. В конце года Шлиман открыл в Москве крупный филиал по продаже индиго. Он поставил своего прежнего агента, Алексея Матвеева, московским управляющим, а когда тот неожиданно умер, назначил на его место его слугу Ющенко, о котором Матвеев говорил, что хороший слуга с легкостью может стать хорошим управляющим, в то время как управляющий никогда не подойдет на роль слуги. Насколько в личной жизни Шлимана преследовали неудачи, настолько в делах счастье было на его стороне. Да, по всей видимости, фортуна сама проложила для сына пастора из Мекленбурга дорогу, по которой ему только оставалось идти. Едва он перешел на торговлю селитрой, тем белым порошком, который являлся основой для изготовления пороха и взрывчатых веществ, как в 1853 году разразилась Крымская война.
Поводом к войне, длившейся до 1856 года, стал ультиматум царя Николая I Турции с требование ем признать русское покровительство над православными христианами в Османской империи. Ультиматум был отклонен, и в сентябре 1853 года русские войска вошли в дунайские княжества. Вслед за этим западные державы заняли сторону Турции и оккупировали русский военный порт Севастополь.
Царь Николай I не дожил до конца войны, он умер в 1855 году. Для России Крымская война закончилась поражением. По мирному договору 1856 года, Россия должна была отказаться от протектората над христианскими дунайскими княжествами. Черное море стало нейтральной зоной, и царской России не разрешалось иметь здесь военный флот.
Тайного победителя в Крымской войне звали Генрих Шлиман. Он поставил треть использованного в этой войне пороха. Но угрызения совести по этому поводу его не мучили. Напротив, коммерческий успех дал стимул к новым делам.
В сентябре 1854 года Шлиман поехал в Амстердам, чтобы принять участие в аукционе по продаже индиго. Он закупил многие сотни ящиков с ценным красителем и отправил их вместе с несколькими сотнями других ящиков с купленными в Голландии товарами, а также с двумястами двадцатью пятью ящиками кофе в Кенигсберг и Мемель.
Согласно указания, Шлиман вынужден был выбрать прусские порты, так как русские были заблокированы из-за Крымской войны. Компания «Мейер и К°», с которой Шлиман давно сотрудничал, должна была осуществить разгрузку и переправку из Мемеля в Петербург по суше груза стоимостью в сто пятьдесят тысяч талеров.
Третьего октября 1854 года, на обратном пути из Амстердама, Шлиман остановился в Кенигсберге в «Отель де Пруссе». Там он провел неспокойную ночь. Транспортировка его товара в Восточную Пруссию была не лишена риска — стопроцентного риска с его стороны. Как всегда, он платил наличными. Утром он посмотрел из окна своего гостиничного номера на знаменитые «Грюнес Тор» («Зеленые ворота»). Ему в глаза бросилась надпись на башне, сделанная золотыми буквами по-латыни:
«Vultus fortunal variatur imagine lunal:
Crescit, deerelcit, constans persistere nescit». Шлиману не потребовалось много времени, чтобы перевести эти слова: «Лицо богини счастья меняется, как лик луны: то увеличивается, то уменьшается, но никогда не бывает одинаковым».
МЕМЕЛЬСКОЕ ЧУДО
«Я не был суеверным, — пишет Шлиман в своих воспоминаниях, — но все же эта надпись произвела на меня глубокое впечатление. И меня охватил щемящий страх, словно должно было случиться что-то ужасное». В тот же день он собрался и продолжил свое путешествие в направлении Тильзита. Шлиман переночевал на почтовой станции и на следующее утро двинулся дальше. На первой за Тильзитом станции вошел путешественник и сообщил, что днем раньше город Мемель и все портовые сооружения сгорели.
Шлиман решил изменить маршрут и отправился со следующей почтовой оказией в Мемель. «…Подъехав к городу, я увидел самые трагические подтверждения этому известию. Невероятным, похожим на церковный двор, на котором возвышались почерневшие от дыма стены и печные трубы, словно могильные плиты или символы прошлого всей Земли, предстал нашим взорам город». Большинство жителей в панике бежали из горящих домов, и когда он после долгих поисков нашел своего агента Мейера и спросил о местонахождении своих товаров, тот ответил, указав жестом в сторону: «Они там погребены».
Потеря ста пятидесяти тысяч талеров ни в коем случае не позволила Шлиману впасть в депрессию. «Сознание того, — писал он, — что я никому ничего не должен, стало для меня большим успокоением. Крымская война началась лишь недавно, торговые отношения были еще ненадежными, и поэтому я покупал только за наличные. Я мог рассчитывать, что господа Шредеры в Лондоне и Амстердаме предоставят мне кредит, и это был наилучший залог того, что со временем мне удастся возместить потерянное».
Но судьба распорядилась по-другому. С каретой спецпочты Шлиман отправился домой, в Петербург. По пути он жаловался попутчикам на свою долю. Один из путешествовавших долго смотрел на Шлимана, а потом спросил:
— Простите, как ваше имя?
Шлиман назвался.
Тогда незнакомец рассмеялся и сказал:
— Шлиман — это единственный, кто ничего не потерял!
Шлиман вопросительно посмотрел на него:
— О чем вы говорите?
— Да, — продолжал тот, — я главный приказчик фирмы «Мейер и К
0». Наши склады были уже полны, когда прибыл пароход с вашим товаром. Поэтому мы быстро соорудили новый сарай, и он единственный остался целым и невредимым.
Шлиман заплакал. «Неожиданный переход от тяжелого горя к большой радости, — писал он в воспоминаниях, — нелегко перенести без слез.
Я несколько минут стоял безмолвно. Это было сном. Казалось совершенно невероятным, что я один без потерь вышел из руин. И все же это было так!»
Пожар в Мемеле, пощадивший лишь несколько исторических зданий в городе, имел следствием недостаток товаров, на чем Шлиман мог сколотить капитал: «Я заключал крупные сделки по продаже индиго и красильного дерева, по военным поставкам (селитра, порох и свинец), и так как капиталисты боялись идти на масштабные сделки во время Крымской войны, я достиг значительной прибыли и в течение года удвоил свое состояние».
С зоркостью биржевого спекулянта следил Генрих Шлиман за политическим и экономическим положением в мире и делал соответствующие выводы. Мировое производство золота — анализировал он в 1853 году — с пяти миллионов фунтов стерлингов в 1845-м увеличилось к 1852-му до пятидесяти миллионов фунтов стерлингов, что было вызвано «золотой лихорадкой» в Калифорнии и Австралии. Промышленность и торговля не могли развиваться такими же темпами. Исходя из этого, он заключил, что золото подешевеет. Поэтому Шлиман расстался с благородным металлом. В письме Бальмапну он утверждает: «Если добыча золота не увеличится по сравнению с теперешней, то должно наступить — и оно придет — такое время, когда существовавшая веками система определения цены всех предметов с помощью этого металла прекратит свое существование».
Два года спустя он пересмотрел свое мнение и вновь взялся за торговлю золотом, обосновав это так: «Опасения, что золото вследствие его вывоза из Австралии и Калифорнии упадет в цене, полностью забыты, и, не оказывая никакого отрицательного влияния, растущая добыча этого металла стала невероятно мощным стимулом для торговли и промышленности, приобщила к цивилизации дикие народы, которые раньше не знали даже слово "золото", и вызвала за последние двадцать пять лет, благодаря расширившейся сфере обращения, такие перемены в отношениях между людьми, каких еще не было в истории».
За волной переселений, охватившей Германию и особенно скудные земли Мекленбурга, Шлиман наблюдал с точки зрения знающего коммерсанта и пришел к заключению, что мекленбургские товары должны упасть в цене. В помещичьих имениях скоро наступит нехватка рабочей силы, а оставшиеся будут претендовать на повышение заработков. Верный основному закону биржевика — покупать в момент понижения курса, а продавать в момент его повышения, — Шлиман носился с мыслью приобрести земельные участки в Мекленбурге и обратился за помощью к своему другу Бальмапну. Но тот не разделил его прогнозов. К тому времени цены в Мекленбурге еще не упали. Бальманн советовал подождать.
Отец Шлимана, с которым преуспевающий коммерсант обменивался письмами чаще, чем прежде, не оставлял сына в покое, пытаясь отговорить от спекулятивных сделок. Освобожденный от церковной службы пастор, с которым судьба обошлась немилосердно, не хотел понимать, что именно его сын был благословлен удачей. Успех Генриха с самого начала вызывал у него подозрения. Когда фортуна отвернется от сына — для него это был лишь вопрос времени. Отец Шлимана советовал вкладывать деньги в недвижимость: «Так твое состояние никогда не пропадет и принесет тебе хорошие и надежные проценты».
Отец Шлимана был озадачен не только благосостоянием сына. Пастор-неудачник уже не раз получал от него финансовые дотации и волновался за их дальнейшую судьбу: «Еще, слава Богу, есть время, чтобы защитить тебя от перемены вещей и сделать безопасной для тебя изменчивость фортуны!»
Сын великодушно относился к отговаривавшему его отцу, который переехал в предместье Данцига, где жил скорее как опустившийся изгой, чем как бывший пастор; но это касалось лишь финансовой стороны: одновременно сын унижал отца неприкрытой надменностью. Снисходительным тоном он обрисовывает отцу всю глубину его падения: «Я посылаю с сегодняшней
4 почтой распоряжение выдать тебе пятьсот прусских талеров — сумму, которую ты сможешь употребить на то, чтобы так прилично устроиться в окрестностях Данцига, как это подобает отцу Генриха Шлимана. Отдавая в твое распоряжение эту сумму, я ставлю условие: ты должен взять хорошую прислугу, чтобы в твоем доме с этих пор была чистота, чтобы тарелки, миски, чашки, ножи и вилки постоянно блестели, чтобы все прихожие и полы в.
комнатах трижды в педелю мылись, а еде была такой, как принято у людей твоего круга».
Любой другой отец, обладающий хоть каплей гордости, отправил бы эти пятьсот талеров назад, но только не старый Шлиман. Он взял все, что ему причиталось.
ПОЧЕМУ ШЛИМАН СТАЛ ТРУДОГОЛИКОМ
Без сомнения, гибельный пожар в Мемеле, который чуть было не лишил его состояния, заставил Шлимана задуматься. Конечно, было невозможно удвоить свой капитал за год, торгуя недвижимостью, но, с другой стороны, торговец недвижимостью мог спать намного спокойнее. Шлиман прислушался к совету одного богатого шваба, сделавшего себе состояние в Южной Америке, и загорелся желанием приобрести земли в Бразилии.
Невиданный размах коммерции, вызванный Крымской войной, сделал Шлимана трудоголиком. Деньги и прибыль становились его подлинной страстью, а сам он все больше напоминал больного. «Честно говоря, — писал он своему другу Бальманну в январе 1855 года, — алчность и корыстолюбие во мне сильнее, чем тоска по поместью в Мекленбурге, и пока продолжается война, нет возможности оторвать меня от золотого тельца».
Международные связи Шлимана помогали ему находить необходимые новые товары и транспортные пути, и только одного события опасался коммерсант больше всего: мира между Россией, Турцией и западными державами. Из письма Бальманну: «Неожиданно заключенный мир может принести мне убытки в 30 % в торговле селитрой, красильным деревом и свинцом. Чтобы восполнить такие потери другим способом, восемь дней назад я велел закупить в Лондоне и Амстердаме около пятисот пятидесяти ящиков индиго, так как при небольшом урожае в Ост-Индии этот товар не пропадет, если война будет продолжаться, но, должно быть, возрастет в цене на один шиллинг с каждого фунта, если нас осчастливит мир».
Деньги, деньги, деньги… Шлиман не мог думать ни о чем другом, кроме денег, и время от времени казалось, что уже одна мысль о деньгах делала его богаче. Пожар в доках Кронштадта навел Шлимана на мысль быстро скупить древесину, чтобы снова продать ее с прибылью. Когда в России стали известны намерения правительства издать новый свод законов, Шлиман предложил государственным чиновникам обеспечить их необходимой для печатания законов бумагой и получил заказ. Он может взяться за все, что захочет, и всегда добивается выгоды для себя.
В своих заметках он пишет: «Я знаю, что я жадный и алчный, мне следует остановиться в своей жажде денег. Во время войны я постоянно думал только о деньгах». Или жалуется: «Я хочу навсегда оставить все дела. Но кто знает, не почувствую ли я себя снова в своей стихии на ярмарке в Нижнем Новгороде, как пьяница, запертый в каморку с винными бутылками?..» Шлиман не только усерден в делах, но жаден до дел. Он осмеливался говорить, что хочет стать вторым Ротшильдом.
Любая страсть имеет свою причину. Жажда деятельности Шлимана (он с таким же успехом мог стать алкоголиком или игроком, но был слишком скуп), его патологическая любовь к деньгам объяснялась несчастным браком с Екатериной Лыжиной. Генрих безбожно страдал от их отношений, и если любую из своих мыслей он выражал без промедления, то потребовалось много времени, прежде чем он признал крах своей семейной жизни.
Сам факт, что от этого брака родилось трое детей: сын Сергей в 1855 году, дочь Наталья в 1858-м и дочь Надежда в 1861-м, — не есть доказательство того, что союз их был вполне реальным или даже гармоничным. Шлиман признавался, что насильно осуществлял свои супружеские права. «Моя беда в том, — писал он своему свояку, — что я, как сумасшедший, люблю свою жену и прихожу в отчаяние, когда вижу ее безразличие по отношению ко мне». Слова необычные для человека, который только в делах впадает в мечтательность.
Генрих и Екатерина просто были слишком разными, и ни один не проявлял ни малейшей готовности приблизиться друг к другу. Генрих, себялюбец, не мог; Екатерина, безразличная, не хотела. Екатерина компрометировала своего серьезного мужа-коммерсанта в обществе тем, что непристойно вела себя, бросалась на шею другим мужчинам, которые — и это вызывало особую боль! — были выше его ростом и, конечно, привлекательнее.
«Я мог бы найти тысячи других женщин!» — подчеркивает он в уже цитировавшемся письме свояку, по он влюблен в Екатерину. Однако тут же Генрих замечает: «Рассерженный несправедливыми упреками с ее стороны… я грубо ответил, что отправлю ее в сумасшедший дом, если повторится вчерашний скандал».
Жестокое разочарование в любви ощущается в строках его письма жене, написанном по прошествии двух лет со дня их свадьбы: «Дорогая жена! С ранней юности во мне жило страстное желание соединить свою жизнь с существом, которое будет делить со мной счастье и горе, радость и страдание. Но ох как ужасно противоречит теперешняя действительность моим радостным ожиданиям I Ты не любишь меня и не разделяешь моего счастья и моего горя, не думаешь ни о чем другом, кроме как об удовлетворении своих желаний и капризов, проявляешь безразличие ко всему, что касается меня. Постоянно противоречишь мне, обвиняешь меня в таких преступлениях, которые рождены только твоим воображением и одно упоминание о которых заставляет меня вздрагивать, а волосы становятся дыбом».
У окружающих, и прежде всего у своей семьи в Германии, Шлиман старался создать впечатление, что и его семейные дела, и бизнес одинаково благословенны. Он пишет тете Магдалене Шлиман в Калькхорст еще 31 декабря 1856 года: «Моя жена, слава Богу, чувствует себя хорошо и передает тебе и всей твоей семье сердечный привет. Наше семейное счастье упрочилось шестнадцать месяцев назад с рождением сына, которому мы дали имя Сергей; мальчик растет необычайно быстро и приносит нам много радости. Мы обзавелись кругом друзей, которые постоянно посещают наш дом по воскресеньям и чья склонность к наукам совпадает с нашей».
В действительности Шлиман тогда в первый раз задумался о разводе, но должен был сказать себе, что брак, заключенный в России по православным канонам, не может быть расторгнут. Ситуация была безвыходной прежде всего потому, что Екатерина наотрез отказывалась покидать Петербург. Таким образом, Генрих был вынужден окончательно похоронить свои планы купить поместье в Мекленбурге, осесть там и жить на проценты от своего состояния (в то время они составляли тридцать три тысячи талеров в год).
«Что я сделал не так?» — с этим вопросом обратился Шлиман к своим друзьям Бальманну и Вильгельму Хепнеру, ища помощи. Торговец зерном из Мекленбурга ответил сдержанно: «Единственная скверная ваша черта — неспокойный дух, для которого мир слишком тесен».
Прусский консул в Амстердаме выразился яснее: «Вы, надеюсь, не обидитесь на меня, если я скажу, что вы по самой сути не слишком привлекательны для женщин. Возможно, ваша жена не нуждается только во внешнем проявлении любезности. Если вы постараетесь отшлифовать все острые углы, будете более спокойным в своих мыслях, устремлениях и речах, то постепенно проявятся ваши положительные черты».
В 34 ГОДА — НАЧАЛО НОВОЙ ЖИЗНИ
Крымская война, к глубокому сожалению Шлимана, закончилась в марте 1856 года подписанием Парижского мира. Эта война сделала его миллионером. Тридцатичетырехлетний коммерсант стал теперь таким богатым, что мог вполне успокоиться. Но Шлиман умел делать почти все — он не мог только «ничего не делать». Он находился как раз в том возрасте, когда мужчина начинает задумываться о своей прошлой жизни, подводит итог и впервые спрашивает себя: «Это не может быть концом?!»
Если исходить из того, что заработанные к этому времени деньги были нужны Шлиману, чтобы позволить себе в будущем жить так, как ему хотелось, то настоящий Шлиман родился лишь в возрасте тридцати четырех лет. Генрих Шлиман глубоко проанализировал прожитые годы и пришел к выводу, что деньги, которые в минувшее десятилетие имели для него такое большое значение, — это еще не главное.
До того времени преуспевающий коммерсант мог представить себе все что угодно, но только не то, что его будущее может быть связано не с Россией, а с далеким от нее югом Европы. Мнение, что Шлиман с юношеских лет носился с мыслью раскопать Трою, лишено всяких оснований. До сих пор он изучил с присущей ему легкостью десяток языков, но о греческом и латинском, которые должны будут сыграть в его дальнейшей жизни значительную роль, не было и речи.
Скорее, из-за высокомерия он за шесть педель выучил современный греческий настолько, что мог общаться на нем. Во время этих занятий ему понравился древнегреческий, язык Гомера, и он нанял Теоклетоса Вимпоса — известного греческого священнослужителя, который давал ему уроки этого языка. Три месяца корпел Шлиман над стихами Гомера, после чего смог читать «Илиаду» в оригинале.
Из письма отцу несколько дней после окончания войны: «Я так хотел бы посетить страны на юге Европы, родину моего любимого поэта Гомера, потому что я говорю на современном греческом языке так же, как и на немецком».
Немного позже он пишет на древнегреческом Карлу Андресу — своему домашнему учителю, проживавшему у дяди Фридриха и тети Магдалены в Калькхорсте: «Прошло двадцать лет с тех пор, как вы в Калькхорсте обучали моего двоюродного брата Адольфа греческому. Я был в то время слишком мал, чтобы учиться, но всегда в самые трудные часы жизни у меня в ушах звучал божественный гекзаметр и стихи Софокла. Лишь сейчас у меня появилась возможность изучить этот чудесный язык, из которого я знал раньше только алфавит. Я хочу в Грецию, там я хочу жить. Как такое может быть, что существует такой замечательный язык?!»
1856 год стал решающим для будущего Шлимана. Критически настроенный читатель его писем того времени заметит, что происходит переосмысление ценностей; некоторые даже пытаются говорить об изменениях в характере. До сих пор Генриха интересовала только одна тема: как стать богатым. Но теперь, когда, казалось, он получил вожделенное богатство и мог жить только на проценты от своего состояния, перед нами предстает совсем другой человек. Если еще в марте этого года он с гордостью сообщает отцу: «Я считаюсь здесь, в Москве, самым хитрым, пронырливым и способным коммерсантом», — то в конце года прилежно извещает тетю Магдалену:' «Науки, и особенно изучение языков, стали моим всепоглощающим стремлением».
Яснее всего Шлиман выражается в письме от 15 января 1857 года своему школьному учителю в Нойштрелице, придворному музыканту Карлу Эрнсту Лауэ, сообщая, что страсть к наукам стала настолько велика, что он решился отойти от дел и посвятить «остаток» своей жизни наукам.
Молодой, преуспевающий, «создавший сам себя» миллионер очень страдал от «комплекса необразованности». И этот комплекс должен был с этого момента определить его жизнь. Деньги, которые в первой половине жизни значили для Шлимана много, если не все, теперь постепенно теряли свое значение. Да, он мог быть доволен достигнутым, но недостаток образования ощущался все острее, и Шлиман, и без того закомплексованный, болезненно осознавал это.
Ключевым событием его жизни стала речь на латинском языке, произнесенная его знакомым историком — профессором Фридрихом Лоренцом, президентом Кайзеровского педагогического института в Санкт-Петербурге, — по случаю юбилея этого учебного заведения. Напичканную формулировками из Цицерона речь молодой коммерсант с восторгом выучил наизусть. «Но сам написать такую речь я не могу и не смогу, к сожалению, никогда, так как у меня отсутствует фундамент, — жалуется Генрих своей тете в Калькхорст. — Если бы двадцать четыре года назад несчастная судьба не лишила меня вашей заботы, я попал бы в гимназию в Висмаре, а потом и в университет, тогда бы у меня была необходимая основа и, возможно, из меня получилось бы кое-что, так как в способностях у меня нет недостатка. Но теперь во всем, что касается науки, я останусь только профаном».
Лоренц принадлежал к небольшому кружку образованных мужей, с которыми все настойчивее стремящийся к знаниям коммерсант еженедельно встречался в своем доме в Петербурге, чтобы вести умные разговоры. Эти вечерние беседы у камина демонстрировали Шлиману его недостаточную подготовку, но, с другой стороны, высвобождали невероятную духовную энергию: например, Шлиман повторил однажды слово в слово доклад одного из членов кружка.
В ПОИСКАХ КУСОЧКА СЧАСТЬЯ
Шлиман серьезно обдумывал мысль вернуться с Лоренцом и своей семьей в Германию, выучиться там и начать новую жизнь. Но этому плану противились Екатерина и ее семья, вновь отклонившие его. И где-то в глубине не давала покоя торгашеская жилка Шлимана, который всегда и в любой ситуации хотел хорошо заработать.
Едва отбросив одну мысль, он хватался за новую. Из его упражнений в греческом, большей частью сохранившихся и написанных честнее, чем его письма, следует, что Шлиман в это время хотел бросить все и покинуть свою семью и Петербург. «Я больше не выдержу! — писал он на древнегреческом языке и жаловался на отсутствие образованных людей в своем самом ближайшем окружении; он хотел поехать в Грецию и жить там, а может быть, снова в Америке. — Если и там я не стану счастливым, то отправлюсь в тропики. Вероятно, там я найду счастье, за которым всегда гнался…»
Рассеянный, нерешительный, враждующий со своей судьбой, как будто он бедняк, а не мультимиллионер, искал Шлиман нового начала. Как мы видим, еще и в тридцать пять лет Генрих не сконцентрировался на своей главной жизненной цели. Во всяком случае, о Трое к этому времени речь в его записях не идет. «Я хочу, чтобы приказчиком у меня был грек. Но он должен уметь говорить по-русски, по-французски и по-немецки. У меня пристрастие к потомкам Гомера и Софокла».
Всегда преуспевающий, инстинктивно чувствовавший, как вести себя в делах, Шлиман переживал свой первый тяжелый кризис. В этом он не отличался от мужчин его возраста: «Я не могу дальше оставаться купцом! — почти в отчаянии пишет он. — В том возрасте, когда все ходили в гимназию, я был рабом и лишь в двадцать занялся языками. Поэтому мне не хватает базиса и стержня в образовании. Я никогда не смогу стать ученым, но я хочу наверстать кое-что. Учиться — это действительно мое самое большое желание, и мои надежды возрастают».
Если бы это зависело только от него, Шлиман еще в 1857 году распустил бы свою петербургскую контору и на другом месте, в другой стране начал бы заново, но этому противился клан Лыжиных — влиятельная семья Екатерины. Генрих, который обращался с директорами крупнейших европейских торговых домов как с юнцами, который, не задумываясь, торговался за каждый пятачок со своими деловыми партнерами, не отваживался возражать, когда родители жены, ее многочисленные тети и дяди предписывали ему, что делать, а чего не делать. А семья Лыжиных желала, чтобы он продолжил работу в петербургской конторе.
При этом у Шлимана, помимо личных мотивов, были серьезные экономические основания прекратить товарные сделки по импорту и экспорту. В 1857 разразился первый кризис мировой экономики. Появилось ранее невиданное количество банкротов. И Шлиман еще раз доказал свое чутье. «То, что сделки по импорту в этом году будут исключительно убыточными, — писал он Мерку в Гамбург, — полностью подтвердилось. Предвидя это, я в нынешнем году не импортировал ни одного фунта товара и стал самым везучим и получившим наибольшую прибыль из всех импортеров, так как, ничего не делая, зарабатываю невероятную сумму, которую я определенно потерял бы».
Вместо того чтобы вести дела, которые в это трудное время приводили только к убыткам, Шлиман предпочел поехать в Мекленбург. Там он встретился с торговцем зерном и маклером Бальманом, с которым переписывался вот уже много лет, чтобы осмотреться на рынке недвижимости. Шлиман пожаловался другу на свои тяготы. Счастье и несчастье в делах он пережил в полной мере. Выносить эти ежедневные волнения стало выше его сил. Шлиман писал Бальманну: «При этом я погибну морально и физически. Даже если бы я мог сейчас зарабатывать на торговле миллионы, я не стал бы продолжать».
Супруга Екатерина уже дала понять Генриху, что не последует за ним ни в какую деревню. Тогда у Шлимана появилась новая цель. Он попросил Бальманна подыскать земли на побережье Балтийского моря, лучше всего недалеко от большого города — такого, как Росток. Конечно, Росток — это не Санкт-Петербург, но море, оживленная торговля в городе и светские развлечения позволят сделать переезд не таким болезненным.
Шлиман поинтересовался у Бальманна, сколько слуг необходимо иметь для содержания поместья на Балтийском побережье. Завершая письмо, он беспокоился: «Смогут ли привыкшие жить в Петербурге сносить глупую гордость мекленбургской аристократии?» Почему в конце концов Шлиман отказался и от этих планов, остается неясным.
Во всяком случае, создается впечатление, что Шлиман вообще потерял интерес к торговле и промышленности. Мировой экономический кризис не прошел бесследно и для него. По некоторым данным, он потерял от трехсот пятидесяти тысяч до четырехсот тысяч рублей. Эти убытки не разорили его, но поглотили большую часть состояния. Тридцатишестилетний Шлиман признается школьному другу из Фюрстенберга Ленцу, что в самые тяжелые три месяца кризиса — между ноябрем 1857 года и февралем 1858-го — у него поседели волосы: «Кризис вызвал у меня отвращение к торговле».
Рискованные спекулятивные сделки больше не привлекали Шлимана. Он действительно предпочитает теперь жить на проценты от своего капитала: тем самым он отказывается от высоких прибылей, но может спать спокойно и все больше и больше времени посвящать римским и греческим писателям античности. «Будь я бедным, мне было бы скучно, — пишет он приятелю, консулу и купцу Вильгельму Хепнеру, в Амстердам, — если было бы невозможно заниматься ничем другим, кроме торговли. Я вижу многих здешних друзей, которых в это несчастливое время, когда дела покачнулись, неудовлетворенность подталкивает на рискованные спекуляции, в то время как я спокойно сижу дома, полностью удовлетворенный моими низкими процентами, и в тысячи раз больше счастлив, развлекаясь переводами Пиндара с древнегреческого на современный греческий, чем в те блестящие времена, когда зарабатывал капитал».
ЧЕМОДАННОЕ НАСТРОЕНИЕ НЕУТОМИМОЙ ДУШИ
Прежде всего, Шлиман не знал, что ему делать со своей семейной жизнью. Чтобы разобраться в самом себе, он решил сперва предпринять длинное путешествие, и ему не помешало даже то, что его жена только что родила их второго ребенка — дочь Наталью. Шлиман хотел уехать как можно дальше. Итак, в ноябре 1858 года он отправился, через Стокгольм, Копенгаген, Берлин, Франкфурт и Баден-Баден в Италию.
Он останавливался в Риме и Неаполе. Но уже на Сицилии, где он провел Рождество, у него появились сомнения относительно его предприятия. (Провести всю жизнь на колесах или бездельничать в Риме, Париже и Афинах невозможно для такого человека, как я, который привык с утра до вечера заниматься практическим делом», — писал он' своему петербургскому другу Бесову и спрашивал его, не готов ли тот основать с ним или с привлечением его капитала новый торговый дом «Бесов-Шлиман». Генрих неожиданно посчитал себя слишком старым, чтобы начинать все сначала как ученый. Будущее представлялось ему в образе ушедшего на покой совладельца торгового дома.
Не обращая внимания на эти мысли, он продолжил путешествие. Его следующей целью был Египет. Там он намеревался провести зиму, но не в какой-нибудь гостинице, а — как было принято среди богачей — в доме-лодке на Ниле. Аристократы и финансовые магнаты всего мира назначали тогда (в середине прошлого века) в зимнее время свидания на Ниле. Луксор и Асуан с их сухим, вечно весенним климатом были самыми популярными местами, где стояли на якоре лодки-дома.
Пребывание в Египте Генрих Шлиман использовал по-своему. Он пригласил учителя и стал изучать арабский язык. В Каире Шлиман подружился с двумя итальянскими авантюристами — братьями Джулио (графом) и Карло Басси из Болоньи. Он смог подвигнуть братьев на путешествие вместе с ним через пустыню в Иерусалим. На рынке в Каире они приобрели трех скаковых лошадей, двенадцать верблюдов для перевозки багажа и десять африканских рабов для сопровождения. Переход через пустыню длился девятнадцать дней и был связан с немалыми опасностями из-за разбойников с большой дороги.
В Иерусалиме Шлиман отпраздновал Пасху. Затем он расстался со своими попутчиками, с которыми еще много лет состоял в переписке. Его целью были места археологических раскопок — Петра и Баальбек.
Для рядового европейца путешествие туда было чрезвычайно опасным. Поэтому Шлиман переоделся англичанином-колонистом — их жестокости боялись на всем Ближнем Востоке. У трех «настоящих» англичан совершенно случайно была одна и та же цель, и, таким образом, небольшой караван отправился в путь. 26 мая 1859 года Генрих писал из Ливана своему отцу: «Я пишу вам это письмо из рощи четырехтысячелетних кедров, откуда Соломон брал древесину для своего храма. Четыре дня потребовалось мне, чтобы добраться сюда через горы. Все сегодняшнее утро я провел в вечных снегах. Путешествие в Петру закончилось успешно, так как в Хевроне мы установили контакт с печально известным предводителем разбойников Абу-Дахулом, и он лично должен сопровождать нас в Петру и вдоль Мертвого моря назад в Иерусалим. Петра со своими дворцами, театрами, тысячами похожих на дворцы гробниц, сияющих великолепными цветами и вырезанных из высокой скалы прямо от ее подножия, конечно, очень удивительна. Рядом с Петрой мы посетили на горе Аарон могилу Аарона, а также могилы Авраама, Исаака, Иакова в Хевроне. Из Иерусалима я отправился в Иерехон и Иордан, где, плавая и купаясь, чуть было не утонул, ибо с яростным неистовством бушует шторм в Мертвом морс. На Мертвом море мы посетили развалины Гоморры и Еп-Геди…»
Вернувшись в Иерусалим, Шлиман попрощался со своими английскими попутчиками. Он нанял двух местных слуг и управляющего. С двумя лошадьми и тремя ослами любитель приключений снова отправился в путь. На этот раз дорога вела в Самарию, Назарет, Кану, Тивериду и на гору Кармил, затем в Тир, Сидон и Бейрут.
30 мая Шлиман прибыл в Дамаск. Напряжение, жара и страшные антисанитарные условия ослабили маленького человека. Его долго мучила лихорадка. И все же Шлиман отправился на пароходе в Смирну, на Малоазиатское побережье, а оттуда продолжил путь в Афины. Здесь, в гостиничном номере, лихорадка уложила его в постель. Шесть дней и ночей, как сообщал Шлиман позднее, он находился в критическом состоянии. Именно тогда Генриха нашло письмо его секретаря из Санкт-П Петербурга.
ПРОШЛОЕ НАГОНЯЕТ ЕГО
Степан Соловьев, которому Шлиман продал свое петербургское дело, отказывался платить по закладной разделенную на четыре года сумму в восемьдесят две тысячи рублей серебром, утверждая, что предъявленные вексельные бумаги подделаны Шлиманом. Сообщение было подобно шоку. Тяжело больной Шлиман приказал перевезти его на почтовых лошадях в порт Пирей и перенести на носилках на ближайший направлявшийся в Константинополь пароход. «Смена климата спасла меня, — писал он консулу Вильгельму Хепнеру, — и я прибыл в Константинополь наполовину здоровым, а в Сулину — совсем выздоровевшим, оттуда двинулся вверх по Дунаю до Будапешта и дальше, в Прагу и Штеттин…»
Было еще лето, кода Шлиман возвратился в Петербург. Но город, которому он раньше отдавал всю свою любовь, перестал вдруг нравиться ему. Он стал чужим. Екатерина встретила мужа холоднее обычного, и все попытки спасти неудавшийся брак закончились провалом.
Процесс, который Шлиман начал против Соловьева, затрагивал в основном вопрос его чести. Как выяснилось, под руководством этого его преемника дела шли менее успешно, чем при Шлимане, и поэтому Соловьев посчитал, что половины стоимости закладной будет достаточно. Но Генрих настаивал на соблюдении договоров и выдвинул обвинение. Хотя он выиграл процесс в торговом суде, Соловьев подал апелляцию, подкупил многих секретарей суда и добился таким образом переноса процесса. Эти маневры заняли почти два года и сделали присутствие Шлимана в Петербурге необходимым. Чтобы не скучать и отвлечься, он занялся делами: купил пятнадцать тысяч тюков американского хлопка и многие другие товары на два с половиной миллиона рублей серебром и вновь получил солидную прибыль. Но, сообщал он Бальманну, крупные сделки больше не доставляли ему удовольствия.
Долг летописца-биографа сообщить, что в 1861 году Екатерина родила третьего ребенка — дочь Надежду. Странно, что ни в одном из своих многочисленных писем Шлиман не высказался по этому поводу. Впрочем, так же было и при рождении первой дочери, Натальи.
В отличие от прежней жизни, в этот период пребывания в Петербурге Шлиман ни в коем случае не вел себя как светский лев. Хотя он пользовался заслуженным уважением в обществе (в 1861 стал почетным купеческим судьей, а в 1864 — купцом первой гильдии), жизнь на виду доставляла ему мало удовольствия. Супруга Екатерина никогда не показывалась с ним на людях. Его день был наполнен встречами: понедельник и четверг были заняты выполнением обязанностей судьи, остальные дни посвящались торговой деятельности.
Шлиман вставал рано. Уже в семь он выходил из дома и направлялся сперва в спортивный клуб, где прежде всего занимался гимнастикой. «Климат и наш сидячий образ жизни, — считал Шлиман, — требуют движений любой ценой». В 8.30 начинался рабочий день в конторе. До 10 часов он разбирал внутреннюю почту, до 10.30 — зарубежную. Затем, до 14.00, — визиты и деловые разговоры. Короткий перерыв на не слишком обильный обед. С 15.30 до 17.00 — биржа.
Вечера Шлиман проводил за сочинением многочисленных писем или изучением языков. Для развлечений оставались вторая половины субботы и воскресенье. Шлиман был членом «Конькобежного общества», имел норовистую скаковую лошадь и совершал верховые прогулки даже зимой, в двадцатиградусный мороз. Летом его любимым занятием было плавание.
Но, несмотря на занятия спортом, Шлиман в сорок один год чувствовал себя стариком, выжатым до основания и потерявшим надежду на будущее счастье. «Минхеп, — обращается он за помощью к сестре Вильгельмине в письме от 13 марта 1863 года, — связанные с делами заботы и нечеловеческое напряжение подрывают мое здоровье. При моем горячем характере я могу много сделать, но достижения требуют постоянно волнения, которое нервирует меня и старит раньше времени».
Затем он задумывается над свои будущим: «Кроме того, я думаю, что с тех пор, как я вернулся из моего путешествия на Восток и в Испанию, я удвоил мое состояние и до конца года заработаю еще. Передать мои дела я не могу никому, так как действую на свой страх и риск, а следовательно, никому не доверяю настолько, чтобы передать полномочия. Поэтому, хорошо все обдумав, я решил в конце года начать ликвидацию дела и надеюсь до весны 1864-го продвинуться настолько, чтобы передать мои дела местному банкиру для окончательного завершения. Я думаю, что не перееду из Петербурга, но, как только освобожусь, буду много путешествовать и надеюсь достаточно часто навещать тебя. Ты помнишь, что я уже проводил ликвидацию в 1858-м и только в конце 1859-го продолжил свое дело, так как, чтобы защитить свою честь, я вынужден был оставаться здесь все время, пока длился процесс, и, чтобы чем-то заняться, я снова начал торговать. Таким образом, я могу сказать, что всем заслугам с конца 1859 года я обязан процессу».
Шлиман выиграл возобновившийся после пересмотра дела процесс, но
мир, которым когда-то был для него Петербург, не пришел от этого в порядок. Он уже погиб. Генрих давно искал адвоката и наводил справки о существующих возможностях расторжения русского православного брака. Ответ был один: это осуществимо только за границей. Но полученный за границей развод не был действительным в России.
Теперь Шлиману стало ясно, что если он хочет расстаться с Екатериной, то в России у него нет будущего. Но у него не хватало духу начать все заново. Конечно, в его голове роилось множество планов: владеть поместьем в Мекленбурге, жить для науки (но в то же время еще не для археологии), писать или путешествовать.
Наконец он решился на последнее. Со свойственной ему склонностью к монументальности и помпезности он подумывал не о путешествии в какое-то конкретное место на юг или на запад… Нет, его странствие продлится не несколько недель или месяцев — оно должно быть кругосветным и занять около двух лет.
ЗА 20 МЕСЯЦЕВ ВОКРУГ СВЕТА
Казалось, Шлиман хотел оставить позади все прошлое и освободиться из хитросплетений прежней жизни. Он даже объявил, что никогда не вернется в Россию, хотя при этом еще не знал, где вообще может осесть. Он даже не был уверен, что переживет это приключение. Поэтому он написал и оставил у Шредера в Лондоне завещание, распорядившись вскрыть его, если в течение шести месяцев от него не поступит никаких сообщений.
Сперва, в апреле 1864 года, Шлиман отправился на лечение в Аахен. С новыми силами он двинулся оттуда в направлении Генуи. Из автобиографии, написанной семнадцать лет спустя: «Итак, я поехал в Тунис, осмотрел руины Карфагена и поехал оттуда через Египет в Индию. По пути я посетил остров Цейлон, Мадрас, Калькутту, Бенар, Агру, Лукнов, Дели, Гималайские горы, Сингапур, остров Ява, Сайгон и пробыл два месяца в Китае, где побывал в Гонконге, Кантоне, Амойе, Фучжоу, Шанхае и дошел до Великой Китайской стены».

Путешествие Шлимана было довольно хаотичным, что не соответствовало его натуре. Он имел в виду только две цели, о которых мечтал с юных лет: Китай и Японию. Обе страны были окружены в прошлом веке чем-то таинственным, недоступным. Путешествие туда было больше, чем приключение, чем отважное предприятие, требовавшее предварительной подготовки и отряда провожатых. Странствуя в одиночку, Шлиман действовал очень легкомысленно. И он делал это сознательно, как бы бросая вызов судьбе.
Педантично, как бухгалтер, он вел дневник. С термометром, весами и складным метром в рюкзаке Шлиман делал часто скучные, похожие на бедекеровские записи и в своих объяснениях был похож на школьного учителя, поучающего группу европейцев. Расходам и ценам в этих записях уделялось не меньшее внимание, чем правам и обычаям других народов.
На борту английского торгового судна путешественник 13 декабря 1864 года достиг Калькутты. В Дели — это была следующая цель его путешествия — ходили поезда. Но дорога туда занимала больше двух дней и ночей и была связана с самыми различными опасностями. Прибыв в Дели, Шлиман нанял слугу и провожатого, который показал ему мечети и дворцы. Но он не задержался в городе долго. На севере его влекли покрытые снегами вершины Гималаев.
Вернувшись из поездки в Гималаи, Шлиман остановился на два дня в Бенаре, где плавал вверх и вниз по Гангу. Вдоль берегов в воде стояли многие тысячи людей. Они молились и самозабвенно совершали священное омовение. На местах массовой кремации сжигались трупы: для бедняков костры разжигались из коровьего навоза, для богатых — из ценного дерева. Никогда в жизни не видел он более разительного контраста между богатством и бедностью: спящие на улицах дети и богатые дамы в крупных золотых серьгах с драгоценными камнями, с украшениями на руках и ногах. Храм богини Друга населяли триста священных обезьян. А на лестницах, ведущих к Гангу, сидели брахманы в сияющих одеяниях. Они бормотали молитвы и раздавали народу цветы и венки.
Из Индии маршрут кругосветного путешествия Шлимана вел в направлении Явы. После трехнедельного путешествия по морю на пароходе из Калькутты Генрих 19 февраля 1865 года прибыл в Джакарту. Цветущее великолепие острова и богатые плантации чая, риса и индиго заставили его удивиться. Прогулка к вулкану Гедех высотой в триста метров имела тяжелые последствия. Из-за приступов лихорадки и боли в ушах пришлось делать операцию, во время которой был удален один из наростов, но ушная боль будет мучить Шлимана всю жизнь.
Об отпуске для восстановления сил Шлиман не хотел и думать. С ближайшим пароходом он отправился в Гонконг и прибыл туда 1 апреля. Гонконг принадлежал в то время Китаю. Дома имели только два этажа. В качестве платежного средства в государстве еще использовались монеты с дыркой, которые нанизывали на веревки и возили с собой. Но торговля процветала уже тогда. На улицах стоял аромат устриц, креветок и экзотических даров моря, которые готовились в обществен-них кухнях и стоили дешево. Хорошо одетый человек не толкался в людской толпе, а нанимал паланкин. Бесчисленные стоянки с двумя, четырьмя и более носильщиками преграждали дорогу.
Китайские женщины показались Шлиману привлекательными. В свой дневник он записал, что у них были сильно накрашены щеки, губы и брови, а черные волосы искусно уложены. К тому же, они носили темные шаровары, желтые или красные кофты и голубое верхнее платье. «Казалось, их рост; столь же миниатюрен, как и крошечные ножки, стянутые туфельками из черного шелка с толстыми белыми подошвами».
В КИТАЙСКОМ ТЕАТРЕ ШАНХАЯ
По морю он отправился дальше, в Шанхай, который был в то время самым привлекательным городом Китая. Крайне редко Шлиман отражал в записях свои личные впечатления, что оживляло путевые заметки. Исключением стало посещение театра в Шанхае весной 1865 года.
«28 мая, вечером, мы с господином Михелем — владельцем «Отель дес Колонис», где я проживал, — ходили в большой китайский театр. Мы должны были заплатить по одному пиастру за себя и по половине за трех слуг, которых взяли с собой. Представление здесь начинается в половине двенадцатого и заканчивается только в половине шестого или в шесть утра. Большой зал — 27 метров в ширину и 30 в длину — был освещен шестьюдесятью фонарями из стекла и кости и еще двадцатью люстрами, в которых горели большие красные сальные свечи, вверху они были толщиной в два дюйма, а внизу — наполовину тоньше. Вокруг каждого фонаря висели шесть кистей из красного шелка. Театр вмещал триста двадцать зрителей, но так как желающие подходили и подходили, зал заполнился только к часу ночи.
Твердо установленной программы не было. Вместо нее мужчина, принадлежавший, наверное, к труппе, показывал каждому зрителю кусок слоновой кости длиной 19 и шириной 14 сантиметров, где были перечислены пьесы, которые собирались сыграть актеры; одновременно он представлял залу книгу со ста пятьюдесятью страницами из голубого шелка, на которых были указаны названия трехсот пьес, которые актеры могли бы сыграть. Каждый зритель имел право за пиастр выбрать одну из них и попросить сыграть ее вместо тех, что были перечислены на куске слоновой кости. И действительно, через несколько минут нашлись восемь китайских купцов, которые заплатили восемь пиастров и попросили заменить шесть предусмотренных комедий и две драмы на восемь пьес, выбранных ими…»
Если принимать во внимание транспортные средства, существовавшие в 1865 году, то Шлиман мчался по Дальнему Востоку так, будто его подгоняли ведьмы. Главным средством передвижения был пароход, но также использовались и запряженные лошадьми повозки, и ослиные спины. Мелькали Сингапур, Джакарта, Бандунг, Сайгон, Гонконг, Фучжоу, Шанхай, Пекин, затем Великая Китайская степа и снова Пекин и Шанхай.
На повозке, запряженной мулами, Шлиман добрался до столицы Китая — Пекина. Этот город он представлял себе совсем по-иному: «Я думал, что в центре города моему взору предстанут чудеса, однако меня постигало одно разочарование за другим. Поскольку в Пекине нет гостиниц — разве что грязные, отвратительные постоялые дворы, — я вынужден был искать приюта в одном из буддийских храмов…»
Соответствует ли это высказывание истине, мы можем лишь гадать. Шлиман восхищался широкими улицами Пекина, но об их состоянии говорил лишь в уничижительных эпитетах: «Вряд ли здесь найдешь даже одну улицу, на которой бы не стоял хоть один полностью или частично разрушившийся дом. Так как от мусора и отбросов здесь предпочитают избавляться, вываливая их прямо на улицу, то все это горами скапливается тут же, а рытвины столь глубоки, что порой даже лошадью управляешь с трудом…»
Не раз Шлиману приходилось отбиваться и от совершенно нагих или кое-как прикрывавших наготу лохмотьями нищих. Множество их копошилось на бесчисленных помойках и свалках в поисках всего мало-мальски ценного, при этом они не брезговали и полусгоревшими кусками угля, и клочками бумаги. И над всем этим царил неумолчный гомон, лай бродячих собак, крики ослов, рев длинношерстных монгольских верблюдов, тянувшихся по улицам города караванами по семьдесят животных, связанных друг с другом веревками, продетыми через кольца в их носах.
Шлиман видел и преступников: на шее каждого была доска величиной в квадратный метр, а надпись сообщала, за что и на сколько их осудили. Подобные доски на шее не позволяли осужденным самостоятельно принимать пищу, поэтому им приходилось рассчитывать лишь на милосердие окружающих.
Насколько жестоко китайцы обходились со своими преступниками, настолько в большом почете пребывали у них умершие. Шлиман однажды увидел похоронную процессию. Хоронили простого торговца, его несли в гробу четырехметровой длины четыре десятка кули. Во главе процессии шествовали еще сто двадцать кули с белыми и небесно-голубыми знаменами в сопровождении скорбящих и дюжины музыкантов с барабанами, гонгами и позолоченными шестами.
«По пути, — пишет Шлиман, — мне довелось пройти мимо дворца императора, который обнесен двенадцати километровой стеной около восьми метров в высоту. Никто, кроме обитающих во дворце сановников высшего ранга, не имеет права заходить на территорию дворца. Более уместным было бы назвать это окруженное стеной место не дворцом, а тюрьмою императора, поскольку обычаи этой страны не позволяют ему покидать его».
В ОДИНОЧЕСТВЕ НА КИТАЙСКОЙ СТЕНЕ
К крупнейшему из всех сооружений мира, Китайской стене, Шлиман питал особый интерес. Так как она находилась вдали от традиционных торговых путей, всякое путешествие сюда было сопряжено с немалым риском. Наконец неутомимому страннику улыбнулось счастье, и он нашел для себя китайца-проводника, хотя и не из смельчаков, как это выяснилось впоследствии. Шлиман верхом, а проводник его на повозке, запряженной мулами, отправились в северном направлении.
В горах у границы с Маньчжурией стало ясно, почему в Пекине его отговаривали от этой поездки: большинство жителей, населявших эти высокогорные долины, ни разу в жизни не видели европейцев. «Одетый в человеческую одежду орангутанг или горилла на улицах Парижа, — писал Шлиман в своих путевых заметках, — вызвали бы меньший ажиотаж, нежели мое появление перед этими жителями гор».
Огромная толпа людей окружила этого европейского охотника за приключениями, когда он пожелал остановиться на ночлег в одной крохотной деревеньке, и даже вечером, когда он удалился в свою каморку, человек семьдесят любопытных прорывали бумагу, которой были заклеены окна, и просовывали головы внутрь, чтобы своими глазами увидеть мужчину с коротко остриженными волосами, который — весть эта мгновенно облетела всех и вся — сидел и писал пером слева направо, а не кисточкой сверху вниз.
Уже без своего проводника, который довольно быстро сбежал от него под каким-то предлогом, на следующий день Шлиман поднялся на Китайскую стену; иногда ему, по его собственным словам, приходилось даже «карабкаться на четвереньках». На это гигантское сооружение толщиной от шести до восьми, а высотой от восьми до двенадцати метров, возвышавшееся на скалах, взобраться было непросто. Только спустя пять с половиной часов он наконец достиг одной из башен стены.
Открывавшийся сверху вид заставил его позабыть о всех тяготах подъема. «Передо мной открылась, — вспоминает путешественник, — великолепная панорама; до этого мне уже приходилось бывать и на вершине вулкана острова Ява, и высоко в горах Сьерра-Невада в Калифорнии, смотреть с вершин гигантских Гималайских гор в Индии, находиться на высокогорных плато Кордильер Южной Америки, по ничто не могло сравниться с великолепием картины, раскинувшейся перед моим взором».
Через Пекин путешественник возвратился в Шанхай и ближайшим же пароходом направился в Японию, где 5 июня сошел на берег в Иокогаме, остановившись там в одном из колониальных отелей. Посыпанные гравием улочки этого города не произвели на него особого впечатления после всего увиденного в Пекине. Зато он не переставал восхищаться японскими правами и обычаями, совершенно одинаковыми прическами всех мужчин и творениями местных цирюльников — прихотливой роскошью причесок японок. Изумление его вызывала и та свобода и легкость, с которой японцы относились к различиям между полами: «Отсутствие в японском языке понятия для обозначения разницы между мужским, женским и средним родом здесь, видимо, уже воплощается в повседневной практике, поскольку в открытых с раннего утра и до позднего вечера общественных банях буквально по протолкнуться от людей обоих полов и всех возрастов, пребывающих в том самом костюме наших предков, который был известен им до вкушения от того самого злополучного яблока…»
Столица Токио тогда еще называлась Йедо и имела статус запретного города. Именно это и вдохновило Шлимана на поездку туда, и он при посредничестве американского консула сумел выправить себе разрешение на пребывание в Йедо в течение трех дней. Но там Шлиман не пользовался правом свободного передвижения: его постоянно сопровождали пять конных полицейских и шесть коноводов. «Здесь, в Йедо, я все равно что пленник», — жаловала Шлиман, однако подобные меры имели под собой веские основания. За несколько лет до этого иностранцы стали жертвами кровавой резни, устроенной местными фанатиками, и после этой драмы все иноземные дипломаты покинули город.
Но Шлимана все эти ужасы заботили мало. Этому низкорослому человеку мужества и храбрости было не занимать. Жадный до впечатлений, он носился по узким улочкам, заходя в чайные садики, школы икебаны, питомники для разведения шелковичных червей, большие магазины города и — вопреки воле своих охранников — посетил театр «Тайсибая» — двухэтажное деревянное здание, способное вместить от шести до восьми тысяч человек, однако без единого стула или кресла.
По истечении трех дней
путешественник возвратился в Иокогаму. В Японии Шлиман провел в общей сложности около трех недель. «Здесь, — писал он, подводя итог своим впечатлениям от Страны восходящего солнца, — начинаешь убеждаться, что все те потребности, которые мы у себя в Европе считаем насущнейшими, по природе своей совершенно искусственны и надуманны…»
В те времена для путешественника было почти невозможно попасть из Японии в Калифорнию прямым путем. Пассажирского морского сообщения между Дальним Востоком и Западом Америки тогда не существовало. Поэтому Шлиман 4 июля 1865 года сел на английский торговый пароход — небольшой сташестидесятитонный парусник «Куин оф Эйвон». Пункт назначения — Сан-Франциско.
Плавание это длилось целых пятьдесят дней, и было связано с рядом неудобств. Спал Шлиман в каюте размером два метра на метр тридцать, где из мебели имелись лишь кровать в виде ящика, комод и таз для умывания. Но теперь он уже не жаловался на отсутствие комфорта на борту, как это имело место во время его первого путешествия в Америку. Видимо, Япония преподала ему урок покорности и непритязательности.
Пятьдесят дней пути на борту «Куин оф Эйвон», проведенные в одиночестве, Генрих Шлиман использовал для написания путевых заметок на французском языке: «La Chine et le Japon au tempts present» («Китай и Япония дня сегодняшнего»), Нет сомнений в том, что уже во время этого путешествия через Тихий океан Шлиман пришел к решению опубликовать эти заметки в Париже, равно как и провести там же последние годы жизни.
Каких-либо сильных, неизгладимых впечатлений это путешествие вокруг света, которое он совершил с 1865-го по 1866 год, у Шлимана не оставило, разве что за это время ясно стало одно: свою будущую жизнь он пожелал посвятить науке.
В его изданной позднее автобиографии странствиям по Японии, а также занявшему пятьдесят дней путешествию через Тихий океан, пути от Сап-Франциско через Никарагуа и Мексику в Гавану и оттуда в Париж, куда он прибыл в январе 1866 года, уделяется меньше двух десятков страниц. Похоже, что это кругосветное путешествие он все принимал лишь как своего рода прелюдию к чему то еще более важному.
Его новая, настоящая жизнь должна была начаться лишь теперь, в 1866 году, в Париже.
V. ЗАПОЗДАЛОЕ СТУДЕНЧЕСТВО И ЛЮБОВЬ
Не тревожься: я никогда больше не стану пытаться обнять тебя. И любить тебя я буду лишь как женщину, которая мать детям моим, однако этой любви суждено навсегда остаться платонической.
Генрих Шлиман — жене Екатерине.
Я с охотой предприму путешествие в обществе светской дамы, однако не могу вообразить себе большей скуки, нежели путешествие в обществе какой-нибудь святоши, коей куда больше подошел бы монастырь, чем созерцание театра, каковым является наш мир.
Генрих Шлиман — кузине Софи.
Первого февраля 1866 года в Сорбоннский университет Парижа записался новый студент.
Фамилия:
Шлиман.
Имя:
Генрих.
Год и место рождения:
6 января 1822 года, Нойбуков.
Место жительства:
Париж, площадь Сен-Мишель, 6.
Гражданство: Семейное
российское.
положение: женат.
Учебные предметы:
1. «Французская поэзия XVI столетия».
2. «Арабский язык и поэзия» (профессор Дефремери, Коллеж де Франс и хрестоматии Козе-гартена).
3. «Греческая философия» (профессор Ш. Левек, Коллеж де Франс).
4. «Греческая литература» с коллоквиумом по «Аяксу» Софокла (профессор Э. Эггер).
5. «Петрарка и его странствия» (профессор Мезьер, продолжение курса).
6. «Сравнительное языковедение» (Профессор Мишель Бреаль).
7. «Египетская филология и археология» (Вик де Руже).
8. «Современный французский язык и литература (в частности, Монтень)» (профессор Гийом Гизо).
Генрих Шлиман имел твердое намерение начать что-то совершенно новое, как только возвратится из своего кругосветного путешествия. Он не стал возвращаться в Санкт-Петербург, приобрел для себя особняк за сорок тысяч франков, обставленный в соответствии с духом времени, и обосновался в нем. Так для него началась — вероятно, несколько своеобразная — студенческая жизнь.
И это была не просто прихоть пресыщенного миллионера, который решил позволить себе очередную дорогостоящую эскападу: напротив, Шлиман весьма серьезно относился к своей будущей учебе в университете. Он стремился покрыть тот дефицит образования, те лакуны в знаниях, которые не давали ему покоя еще со времени его бездарно проведенных юношеских лет. Само собой, в мире не было другого города, кроме Парижа, способного в ту пору изменить жизнь Шлимана (которому уже перевалило за сорок) к лучшему, привнести в нее что-то новое. Однако не приходится сомневаться и в его искренности, когда новоиспеченный студиоз пишет своей сестре Дорис: «…Париж, несмотря на всю его красоту, не может по-настоящему восхитить меня как путешественника, который объездил полмира и своими глазами видел чудеса Индии, островов Сунды и Кохинхина, Индокитай, Китай, Японию, Мексику. Что меня здесь интересовало и удерживало, так это лекции знаменитых профессоров в университетах на темы литературы и философии, занятия по иероглифике и так далее, а кроме того — музеи и театры, поскольку нигде более в целом мире подобных им не найти…»
Впрочем, уже довольно быстро этот тщеславный студент, талантливый от природы, должен был признать, что музы искусства и науки не терпят, чтобы их служители отвлекались на что-то еще, а требуют полной самоотдачи. Следует отметить, что студенческая зубрежка и умение учиться систематически никогда не были свойственны Шлиману и, хотя он аккуратно посещал все лекции, в этом плане изменилось немногое; он как был, так и остался человеком, чей уровень образованности не вышел за пределы среднего.
Путешественник предпочитал превратить свои путевые заметки в нечто более серьезное, издав их в виде книги. Он мечтал написать научный труд, однако серьезного исследования из этого обобщения не получилось. Книга «La Chine et le Japon au temps present» («Китай и Япония дня сегодняшнего») объемом в двести двадцать одну страницу крупным шрифтом на малоформатных картонных листах, вышедшая в свет в издательстве «Либрэри сентраль» в Париже (бульвар де Итальеп, 24), представляла собой легкий, местами даже беспомощно написанный отчет о поездке, не более того — однако и не менее. В конце концов, не следует забывать, что Дальний Восток в последней трети XIX века оставался во многом «терра инкогнита» (тайной за семью печатями) и уже поэтому возбуждал повышенный интерес. К великому сожалению автора, книжечка эта вышла настолько крохотным тиражом, что почти мгновенно была раскуплена, что уготовило ей участь библиографической редкости, чем она является и поныне.
Шлиман писал свою книгу на французском языке и собирался издать ее также и на немецком. Что же касалось перевода, то у него не было ни времени, ни особого желания заниматься им, и тогда он вспомнил о своем учителе Карле Андресе, у которого когда-то давно брал уроки и переписка с которым не прерывалась — оба до сих пор писали друг другу письма по-латыни. Прежний хозяин пансиона в Нойштрелице, где когда-то воспитывался Генрих, — Карл Эрнст Лауз — сообщил ему, что дела у Андреса идут неважно: «…Когда видишь, как этот человек в поношенной одежде и с лицом, на котором отражены скорбь людская, нужда и даже призрак голода, одиноко и согбенно бредет по улице, то душа начинает болеть…»
Обеспеченный студиоз взялся за перо и в своем письме по-латыни решил самолично осведомиться у Андреса о его житье-бытье. Вскоре он получил расстроивший его ответ: «Quodsi aliqua ex parte ad levandam tristem meam conditionem conferre po-teris…» («Если вы готовы хоть что-то пожертвовать ради облегчения моего скорбного положения, буду за это вам премного благодарен, и не поминайте лихом»).
Шлиман с присущим ему чувством целесообразности и порядка поручил бедному Андресу переложить его рукопись на немецкий и выплатил по завершению работы весьма щедрый гонорар.
«Я ЧУВСТВУЮ СЕБЯ НА СЕДЬМОМ НЕБЕ»
Свободно, без особых забот, как могло показаться, без бесконечных борений за хлеб насущный проходило время в Париже у этого студента-переростка. Вильгельм Хепнер, прусский консул в Амстердаме, получил от него однажды эйфорическое послание: «Нынче и биржа, и торговля далеки от меня в этом моем новом стремлении усовершенствовать себя посредством паук; я чувствую себя счастливым, как никогда прежде, и теперь ни в малейшей степени не могу себя представить купцом».
В действительности же студенческие годы Шлимана — это не более чем попытка бегства от своего прошлого и нерешенных проблем, с ним связанных. Разумеется, он не желает вновь возвратиться к своему изматывающему душу и нервы занятию. Однако в первую очередь он не желает больше возвращения в Санкт-Петербург, где его ждала бы встреча с его пребывающей в вечном недовольстве, постоянно ссыпающей его упреками, холодно отвергающей его женой. И при этом он любит эту холодную недотрогу, которая (в буквальном смысле) способна возвести до уровня трагедии любой намек на физическую близость, — ПО-СВОЕМУ до сих пор еще любит.
По окончании первого зимнего семестра в Париже Шлиман решил пройти четырехнедельный курс лечения в Самаре, на Нижней Волге. Такие ежегодные курсы лечения в тогдашние времена были неотъемлемой частью образа жизни избранного общества, однако они имели мало общего с настоящим лечением. То, что Шлиман выбрал для прохождения курса лечения именно Самару, а не Бад-Киссингеп, Карлсбад или курорты Франции, конечно же, имело свои причины. Путь туда шел через Петербург — ну как не завернуть в столицу! Дело в том, что Генрих хотел предпринять последнюю попытку наладить отношения с супругой Екатериной, и, прежде всего, вновь стать полноценным отцом для своих детей. Очень многое в его жизни зависело от возможности вырвать их из-под злобно-агрессивной опеки клана Лыжиных.
Появление Шлимана в Петербурге по пути в Самару было словно снег на голову. За два года отсутствия им не было написано Екатерине ни строчки. Причина была простой и в то же время весьма веской: жена будто бы отказала ему в прощальном объятии.
И теперь ради детей Шлиман надеялся достичь примирения, однако вместо этого встреча привела к серьезной и окончательной размолвке.
Генрих не переставал утверждать, что по-прежнему любит Екатерину, что бы между ними ни происходило. Она же, в свою очередь, ясно дала понять, что больше жить со своим мужем не может, что не имеет ничего против, если он заведет себе возлюбленную, — более того, Екатерина даже настаивала на таком решении.
На предложение Шлимана обосноваться с детьми в большом столичном городе — таком, например, как Париж или Дрезден, — в целях получения ими достойного образования (Шлиман считал школы Петербурга ужасными) Екатерина ответила взрывом ярости и новыми уверениями в том, что она никогда не уедет из России.
Шлиман был вне себя от гнева. Он даже угрожал, что прибегнет к силе закона, чтобы забрать у нее детей. Он же, в конце концов, отец! Но потом он, оставив все как есть, в отчаянии отправился в Москву, а оттуда, через Нижний Новгород, — в Самару.
О том, насколько серьезны были его намерения силой вырвать детей из Санкт-Петербурга, свидетельствует и дальнейший ход событий. Шлиман поехал к Каспийскому и Азовскому морю, а потом в Крым. Оттуда он отправился вверх по Дунаю и вскоре прибыл в Дрезден, чтобы осмотреть учебно-воспитательное заведение Краузе — прославленный пансион для сыновей и дочерей дворян. Не медля, он приобрел в Дрездене дом, более просторный, чем даже дом его семьи в Санкт-Петербурге. После завершения всех формальностей, связанных с приобретением дома, он возвращается в Париж.
Чем была занята голова этого человека после его возвращения, мы можем лишь догадываться. Шлиман — до сих пор баловень судьбы, счастливчик — впадает в глубокую депрессию. Он не желает понять, что брак его обречен, что семейная жизнь его разбита. Но если он и усвоил хоть один из тех уроков, которые ему не единожды преподносила жизнь, то прежде всего этот: не сдаваться никогда.
ВЫБОР ОТЧАЯНИЯ: «БРАК ИОСИФА»
По прошествии некоторого времени он предпринимает еще одну, на этот раз даже трогательную попытку завоевать Екатерину и детей. Он засыпает свою жену письмами, которые пишет по-русски: «Будь благоразумной: прими руку, которую я протягиваю тебе издалека, чтобы на долгий срок меж нами установилась дружба, длительная и прочная! Задумайся над тем, как страдает от этого разъединения наше имение, наши дети. Если это для тебя важно, я готов простить твоему брату все его несправедливые упреки в мой адрес. В Дрездене нас с тобой ждет прекрасная жизнь. Мы можем оставить за собой и наше жилье в Петербурге, чтобы у нас было где жить и там, мы сохраним и наш чудесный дом в Париже, обустроить который стоило сорок тысяч франков. Не тревожься: я никогда больше не стану пытаться обнять тебя. И любить тебя я буду лишь как женщину, которая мать детям моим, однако этой любви суждено навсегда остаться платонической. Когда я буду приезжать в Дрезден, мы горя знать не будем, потому как я превратился в настоящего парижанина: что ни вечер, я отправляюсь в оперу или послушать лекции знаменитых профессоров мира. А сколько я могу порассказать! Тебе никогда не надоест слушать меня. Ты будешь ждать каждого моего приезда в Дрезден с нетерпением невесты, ожидающей своего любимого. Мой статус парижского домовладельца обязывает меня жить в роскоши, и мои экипажи, мои скаковые лошади, моя одежда — все находится в полном соответствии с обстановкой нашего дома. Телеграфируй мне сразу же, как только эти строки дойдут до тебя, и объяви мне, что ты принимаешь руку друга. Твоя телеграмма станет моим талисманом в поездке в Дрезден».
Этот призыв отчаяния, предложение «брака Иосифа», попытки привлечь ее той роскошью, какой она не знает в Санкт-Петербурге, — все это так и осталось гласом вопиющего в пустыне. Ответом же Екатерины была резкая отповедь: «Никогда я не покину Россию, я не раз тебе это повторяла. Я никогда не покину Россию даже ненадолго. Как я могу любить тебя — человека, который предлагает мне такое?»
Генрих бесновался, но пока сдаваться не собирался. После того как его попытки подольститься к ней потерпели провал, он решил перейти к угрозам: «Тебе известно, — писал разъяренный Шлиман в Петербург, — что своими дикими, необузданными действиями ты лишаешь моих детей наследства? Да, да, они лишаются наследства! Клянусь, они ничего от меня не получат! Ты добилась своего: это последнее письмо, которое я пишу тебе. За двадцать лет упорного, беспрерывного труда я сумел заработать на каждого из моих детей по миллиону франков и с гордостью думал, что создам для них на земле рай небесный. Я бы с радостью ради блага любого из них не пощадил бы и собственной жизни!»
Конфликт этот совершенно выбил Шлимана из колеи. Забросив учебу, еще совсем недавно бывшую для него единственной радостью в жизни, он в октябре 1867 года на пароходе «Россия» отправился в Америку, увозя с собой среди прочего и локон своей кузины Софи, которая незадолго до этого прислала ему необыкновенно теплое письмо. Отправляясь в эту поездку, Шлиман, как обычно, объяснял ее чисто деловыми соображениями — какие, несомненно, присутствовали, — однако, по совести говоря, это была очередная попытка убежать от отчаяния.
В лондонской «Таймс» экономические эксперты прочили американским ценным бумагам плохие времена. У Шлимана в этих акциях было заключено состояние, и он пожелал на месте разобраться, что к чему. Несмотря на все свои семейные неурядицы, далеко не простофиля, Шлиман умел находить разумный выход из любой, даже самой безнадежной ситуации. Теперь все данные самому себе обещания, что он больше не станет заниматься коммерческой деятельностью, были враз позабыты.
Он пишет Дж. Шредеру в Лондон: «Как мне довелось услышать в здешней американской миссии, я мог бы получить американское гражданство, о желании приобрести которое я запрашивал в феврале 1851 года. В конце этой недели я намереваюсь на пару дней отправиться в Нью-Йорк, чтобы там обзавестись всеми необходимыми документами гражданина Соединенных Штатов Америки. Оттуда я планирую поехать через Чикаго и Цинциннати, затем — вниз по Миссисипи до Нового Орлеана, а уже оттуда — в Гавану, чтобы своими глазами посмотреть, каковы шансы южных штатов на восстановление…»
Идея Шлимана стать американским гражданином имела под собой чисто практические обоснования. Будучи подданным Российской империи, он не имел никаких шансов получить развод. В Америке же, напротив, существовали весьма либеральные законы на этот счет (а в отдельных штатах и вовсе свободные), и если для Шлимана и существовала хоть какая-то возможность законным путем расстаться с Екатериной Лыжиной, то делать это следовало окольными путями — через Америку.
ПЕРВАЯ ПОПЫТКА СТАТЬ АМЕРИКАНЦЕМ
Прибыв в Нью-Йорк, Шлиман первым делом стал хлопотать о получении документов, подтверждавших его американское гражданство, но это оказалось не так просто, и поэтому он решил пока посвятить себя делам финансовым. Как выяснилось, его опасения по поводу ценных бумаг были не напрасны. Однако железнодорожные акции, напротив, принесли ему десятипроцентную прибыль, и, ободренный этим, Шлиман решил прикупить еще ценных бумаг железнодорожных компаний. Чтобы составить верное впечатление о конъюнктуре компаний и ситуации на железнодорожных линиях, он сам под видом пассажира отправился в поездку и осмотрел участки Нью-Йорк Сентрал, Толидо — Кливленд, Мичиган Сентрал, Иллинойс Сентрал, Чикаго — Бэрлингтон — Куинси, Питсберг — Форт Уэйн и Чикаго.
В Чикаго Шлиман провел шесть дней. Он с удивлением узнал, что город этот, насчитывавший в 1838 году всего лишь три с половиной тысячи жителей, в 1867 году вышел на рубеж двухсотпятидесятитысячного населения. «Одно из многих чудес, которые довелось мне увидеть, — писал он консулу Хепнеру в Амстердам, — это как здесь поднимают дома вверх примерно на пять, а то и на все восемь футов, поскольку улицы расположены слишком низко и невозможно обеспечить «proper drainage»… вся эта процедура не прерывает нормальную жизнь нижних этажей». Здесь Шлиман подробно описывает поднятие целых рядов домов гидравлическими прессами, с тем чтобы под фундаментами легче было прокладывать канализацию.
Письму, отправленному путешественником на имя петербургского купца и консула Хене, имя которого лишь однажды промелькнуло в эпистолярном наследии Шлимана, вероятно, следует давать весьма сдержанную оценку. В этом послании Шлиман сообщает в Петербург, что после Чикаго он отправился в Сент-Луис, Филадельфию, Балтимор и Вашингтон. Там он имел встречу с тогдашним американским президентом Эндрю Джонсоном, министром финансов Мак-Куллоком и знаменитым генералом Улиссом Симпсоном Грантом, который всего за несколько месяцев до этого вступил в должность военного министра. Все вышеперечисленные особы, утверждал Шлиман, как могли, пытались успокоить его относительно экономического положения в Америке.
Общеизвестный факт, что Шлиман иногда был не прочь блеснуть, упомянув при случае имя какой-нибудь знаменитости; и эти якобы имевшие место встречи с теми, кто находился у кормила власти в Соединенных Штатах, видимо, должны были произвести соответствующее впечатление в Петербурге. Однако несомненно было и другое, о чем он рассказывает в своем письме к Хене: «Но вот что я увидел потом своими глазами: замершие в бездействии фабрики, упадок судостроения, нестабильность в легкой промышленности, полная разруха в южных штатах…» Именно поэтому к нему пришло решение о продаже почти двух третей своих ценных бумаг общей стоимостью в триста тысяч долларов. В качестве компенсационной сделки он решил приобрести акции и облигации «лучших железнодорожных компаний Соединенных Штатов».
Как всегда, Шлиман ведет дневник. Из Вашингтона он едет в Вирджинию, Алабаму, Теннесси, Миссисипи и Луизиану, где задерживается в Новом Орлеане на десять дней: «Новый Орлеан — красивый город, однако жизнь здесь никакая, поскольку обнищали все». Далее путь его лежит к берегам Кубы, где он делает длительную остановку в Гаване.
Вечером накануне своего дня рождения (Шлиману тогда исполнялось сорок шесть лет) он снова оказывается в плену у прошлого: «Сегодня в Петербурге Рождество. Не выпуская из рук брегета и прибавляя к нью-йоркскому времени по шесть часов пятьдесят минут, я постоянно высчитывал, сколько времени сейчас там, и в мыслях не расставался со своими маленькими любимцами Сергеем, Натальей и Надей. Я просто видел, как они смеются и радуются рождественской елке. Я чуть не плачу при мысли, что не могу разделить эту их радость. Сто тысяч долларов отдал бы я за то, чтобы провести этот вечер с ними. И мне понадобилось призвать на помощь всю мою выдержку и разум, чтобы не прорыдать весь день».
В этой дневниковой записи обращает на себя внимание следующее: его жена Екатерина не присутствует более в его мыслях. К зиме 1867-го — 1868 года Шлиман уже окончательно примирился с этим разрывом. И теперь он разведется с ней, чего бы это ни стоило. И тогда в Париже или еще где-нибудь, но только не в России, начнет новую жизнь.
ЛЮБОВНОЕ ПОСЛАНИЕ ИЗ КАЛЬКХОРСТА
Точно к началу зимнего семестра — 1 февраля 1868 года — Генрих возвращается в Париж. И судьба неожиданно преподнесла ему очередной сюрприз: среди своей почты он обнаружил письмо, написанное хорошо знакомым почерком. Его кузина Софи Шлиман, за которой он в 1841 году долго ухаживал, которую лелеял в мечтах и которой время от времени посылал ласковые письма, — эта Софи, в ту пору уже сорокавосьмилетняя дама, до сих пор пребывавшая в девичестве, решилась написать ему следующее письмо.
Дорогой Генри
Тысячу благодарностей тебе за Всю твою любовь, дорогой мой! Даже тогда, когда я не имела Возможности писать тебе, ты постоянно присутствовал В моих мыслях и молитвах. А не собрать ли тебе Все твои деньги и не обосноваться ли здесь? Если ты поселишься здесь, приобретешь недвижимость, то это будет надежным вложением, Ведь недвижимость В цене не падает. Летом мне очень бы хотелось поехать с тобой куда-нибудь Взглянуть на мир. Ну, Всего тебе хорошего, мой любимый и дорогой Генри, от твоей любящей тебя
Софи Шлиман.
Нельзя сказать, что Генрих был на протяжении своей жизни избалован нежным отношением к себе, и легко представить, как наэлектризовала эта весть одинокого бродягу. Те «огненные поцелуи», которые молодой Генрих запечатлел в Мекленбурге двадцать семь лет назад, и теперь не изгладились из его памяти. И локон, посланный ему в октябре, сопровождал его на протяжении всей поездки, заботливо хранимый. Однако он не позабыл и другое: Софи некогда отвергла его попытки сблизиться. Может, потому, что он был ниже ростом? Это страшно оскорбило его. Шлиман готов был стерпеть что угодно: жару, холод, боль, страдания, физические перегрузки — однако был не в силах выдержать одно: когда ему доставляли страдания душевные.
Письмо Софи пришло еще два месяца назад. А сейчас Генрих ответил на него высокомерным и недобрым посланием:
Дорогая Софи!
Сейчас ты Вдруг изъявила Желание совершить поездку со мной! Но, дорогая моя, я должен прямо заявить тебе, что твои добродетели слишком Высоки для меня. Когда я уезжал из Больтенхагена, ты даже не позволила мне обнять тебя! Ты даже до ближайшей почты не захотела меня проводить! Ты Всегда отказывалась даже подать мне руку! Так как Же ты сможешь В таком случае поехать с человеком, для которого дом — Весь мир? Я Весьма охотно отправлюсь В путешествие В обществе светской дамы, однако не могу Вообразить себе большей скуки, чем путешествие В обществе какой-нибудь святоши, которой больше подошел бы монастырь, чем созерцание театра, каким является наш мир.
Генри.
Из многих тысяч писем, которые Шлиман на-. писал в течение всей своей жизни, это вызывало у него самое горькое раскаяние. Причем послание так и не дошло до адресата: Софи умерла в тот самый день, когда Шлиман отнес свой ответ на парижскую почту.
Когда Шлиман получил письмо жены пастора Хагера, тети Софи, в котором она известила его о том, что произошло, он был безутешен в течении долгого времени. Генрих Шлиман возроптал на свою судьбу и себя самого. Больно было осознавать, что снова в отношениях с женщиной он действовал совершенно неправильно. Почему, не перестает он упрекать себя, он не обратился за советом к лучшим докторам? Вдруг Софи можно было бы спасти!
А тетю Хагер он засыпал упреками по поводу того, почему она ни словом никогда не обмолвилась о том, что Софи больна: «Не чувственная любовь, не брак по расчету связывали меня с этим добрейшим существом, а чисто платоническая привязанность, тяга, симпатия, благороднее которой быть не может… С какой бы радостью я совершил в ее обществе кругосветное путешествие…» И вдруг, без всякого перехода, прямо на середине своего скорбного послания: «Твои письма не франкированы — что это должно значить?»
Поздняя, запоздалая страсть к умершей кузине обрекла Генриха на бесцельное шатание по Парижу. Он принимал десятки приглашений, которые бы в обычных обстоятельства и не подумал принять, не вылезал из театров, присутствовал на бесконечных философских лекциях и докладах и, проливая слезы, скитался по улицам французской столицы, имея в нагрудном кармане миниатюрную золотую шкатулку, украшенную бриллиантами, где хранился локон волос Софи, с которым он не расставался в Америке, — «самая ценная из всех реликвий», «самая дражайшая из… драгоценностей».
В конце концов главного виновника Шлиман нашел в лице своей сестры Луизы. Еще в тот год, когда его женой стала Екатерина Лыжина, он всерьез думал о браке с Софи, однако именно она, Луиза, упоминала о якобы имевших место «странных замашках» Софи и отговорила брата от женитьбы на этой девушке. «Я был в восторге от нее! Софи, — писал он сестре Луизе, — была единственной женщиной, которая по-настоящему любила меня».
В это время глубокая скорбь и ярость, казалось, заставили Генриха Шлимана даже позабыть и свое юношеское увлечение — Минну Майнке. Теперь он был одержим желанием поставить на могиле «его» Софи памятник, который, по ЕГО представлениям, был бы достоин ее. С этой целью он послал своему кузену сто талеров, но с условием: «Ты в своих письмах, а также и устно больше никогда не проронишь и слова об этих горестных событиях, разве что тебе не хватит на все расходы этих ста рейхсталеров и ты обратишься ко мне за дополнительной суммой».
ЖЕНА ШЛИМАНА ЛЮБИТ МАДАМ R
Мысли Шлимана, обуреваемого жаждой истинной любви (а не плотской страсти, удовлетворить которую в Париже можно было на каждом шагу), вновь возвращаются к его жене Екатерине. Он не мог осознать, просто не мог поверить в то, что их брак разрушен окончательно и бесповоротно, и именно тогда, когда рухнули последние надежды на повторный.
Надломленный, охваченный отчаянием, беспомощный, словно влюбленный отрок, он взялся за перо и еще раз написал в Петербург,
Дорогая моя, любимая Жена!
Я больше не могу Жить без тебя и детей, поэтому я Желаю примирения между нами. Я плачу, когда пишу это письмо. Два года назад я отправился В сбое путешествие по свету. К прискорбию моему, должен признать, что тогда еще не был В состоянии осмыслить мир философски; тогда мне касалось, что Все счастье Жизни моей заключается в овладении многими иностранными языками, поэтому я даже сподобился и на изучение персидского. Дела мои пошли хуже. Кроме того, меня постоянно мучило одно: ты меня больше не любишь…
Жалостливый тон этого письма недвусмысленно свидетельствовал о том, что надежд вновь завоевать Екатерину у Генриха Шлимана больше не оставалось. Он писал, скорее, от желания обрести утешение, совершить некий акт самооправдания, от желания отречься от любой вины, объяснить себе самому всю безвыходность ситуации, в которой он оказался. В этом письме, где он вновь заявляет о своей искренней любви к ней, и впрямь есть одна фраза, которая вполне может служить объяснением того отвращения, которое эта женщина питала к своему супругу. «Отчего, — вопрошает Шлиман в письме, которое пишет по-русски, — ты так любишь эту мадам R.?» И тут же продолжает: «Если бы я уже тогда мог принимать это как данность, то мне, вероятно-, дружба эта могла показаться вполне естественной и я никогда бы не позволил себе никакой ревности…»
Письмо это позволяет прийти лишь к единственному заключению: жена Генриха Шлимана состояла в близких отношениях с женщиной, была сторонницей лесбийской любви. Проявлялась ли эта склонность еще в молодые годы или же сформировалась в зрелые — на этот счет мы можем только строить догадки. Сам Шлиман упомянул это обстоятельство лишь однажды, как бы вскользь, и, по всей вероятности, даже не вполне осознанно. Однако данное упоминание объясняет то стойкое отвращение, которое Екатерина питала к Генриху. А он к этому времени — весне 1868 года — был уже готов на что угодно. Он даже пришел к мысли о том, чтобы расстаться со своей студенческой жизнью в Париже, с роскошным особняком на площади Сен-Мишель: «В окружении всей этой роскоши я все равно чувствую себя нищим, потому что я лишен семьи». Но все эти уступки были напрасными, равно как и его постоянные заверения в том, что их отношения будут носить лишь чисто платонический характер. Генрих сформулировал это в своем последнем письме следующим образом: «Ты терпеть на могла филолога во мне — почему бы тебе не полюбить во мне философа?»
Ответ был таким: нет, Екатерина Ш. любит мадам R. И Генриху Шлиману оставалось лишь смириться этим.
VI. ПО СЛЕДАМ ГЕРОЕВ
Царь Одиссей предводитель кефалленян, возвышенных духом. Живших в Итаке мужей и при Нерите трепетолистом;
Чад Крокилеи, пахавших поля Эгилипы суровой,
В власти имевших Закинф и кругом обитавших в Самосе, Живших в Эпире мужей, и на бреге противолежащем, — Сих предводил Одиссей, советами равный Зевесу;
И двенадцать за ним принеслось кораблей красноносых.
Гомер, «Илиада», песнь II.
В свои сорок шесть лет Шлиман был и сказочно богат и в то же время нищ. Он не испытывал нужды в материальных благах, владел недвижимостью, имел акции, ценные бумаги и мог жить на одни лишь проценты со всего этого, однако его личная жизнь пошла прахом, и он был вынужден побираться, вымаливать милостыню сострадания, симпатии к себе. После того как Екатерина ответила решительным «нет» и на его последнее умоляющее письмо, Генрих должен был — если, конечно, не хотел быть окончательно уничтоженным — отыскать для себя путь к новой, совершенно иной жизни. И тот дух не покоя, который гнал его с насиженных мест, заставляя путешествовать, который всегда был готов предложить ему очередную идею, который ревниво следил за тем, чтобы все его планы исполнялись (даже те, которые с самого начала, казалось, были обречены на провал), — вновь помог этому мечтателю и деятелю в одном лице обрести новую цель, потребовавшую от него напряжение всех его сил: Шлиман решил посвятить себя археологии.
В вышедшей из-под его пера автобиографии об этом написано следующее:
«Наконец-то для меня стало возможным осуществить давнюю мечту моей жизни — увидеть воочию, посетив как-нибудь, места, где разыгрывались события, возбудившие столь живой мой интерес, родину героев, деяния которых восхищали меня и даровали утешение в детские годы. И вот в апреле 1868 года я наконец решился и отправился через Рим и Неаполь на Корфу, Кефаллению и Итаку с твердым намерением основательно изучить последнюю».
Если не брать во внимание приведенные в этом его высказывании даты и географические названия, то оно ни много ни мало — ложь чистейшей воды. В 1881 году, когда Шлиман писал эти строки, он уже сделал себе имя в археологии и его карьеру на этом поприще можно было считать состоявшейся. И поэтому с присущей ему склонностью к драматизации и всякого рода приукрашиванию действительности он попытался представить более ранние периоды своей жизни так, чтобы они выглядели преисполненными достоинства ступенями на пути к достижениям в области археологии. На самом же деле Шлиман в гораздо большей степени был обязан этой карьерой отнюдь не героям Древней Греции, а своей русской супруге Екатерине. Именно она была источником его отчаяния, а именно отчаяние и привело к абсурдной идее — сменить жизнь странствующего рантье на судьбу археолога.
Любовь к археологии у Генриха возникла лишь во время второго семестра учебы, которая, кстати, на нем и завершилась. Конечно, ему с детства была знакома греческая мифология, но считать, что уже тогда у него появилась мечта отправиться по следам греческих богов и героев, было бы неверно. Такая версия событий есть не что иное, как попытка представить действительность в новом свете, сделать из себя — в общем-то, дилетанта — настоящего ученого, ученого по призванию, чуть ли не с детства стремившегося заняться археологией. До сих пор всякий раз, когда Шлиману приходилось пересекать Средиземное море, он предпочитал оставлять Грецию в стороне от своих маршрутов, да и греческий был едва ли не последним в той довольно длинной череде иностранных языков, которыми он овладел.
Когда Генрих Шлиман, прибыв с Сицилии, 6 июня 1868 года впервые ступил на землю Греции в порту острова Корфу, в его багаже, весьма внушительном, нашлось место и для старых книг. Генрих питал особую любовь к старым изданиям, в особенности если это были древние классики. Среди взятых им с собой были «Одиссея» и «Илиада» Гомера, четырехтомник Плиния, полное собрание Страбона, а также греческая история в описаниях Фукидида и Ксеиофона.
Корфу, говорилось во всех источниках, — это воспетый Гомером чудесный остров СХЕРИЯ, на котором проживал блаженный народ мореплавателей, называемых феаками. Их царем был Алкиной. И корабли феаков без всяких рулевых, быстро и без происшествий добирались до любой точки мира. На одном из таких кораблей, если верить Гомеру, и велел Алкиной доставить на родину Одиссея.
С «Одиссеей» в руках Шлиман в течение двух дней странствовал по острову, пересекая его вдоль и поперек, делая для себя массу удивительных открытий: «Два маленьких острова (один в теперешней гавани, другой — в небольшом заливе на северной оконечности острова), если смотреть на них издали, очень напоминают корабли с туго натянутыми парусами. Нет сомнений, что один из них и навел Гомера на мысль о том, что это и есть корабль феаков, который и привез Одиссея на остров Итака и который по возвращении странника домой разгневанный Нептун превратил в каменную скалу».
В «Одиссее» Гомера (песнь XIII, 159–164) история эта звучит так:
Слово такое услышав, могучий земли колебатель
В Схерию, где обитал феакийский народ,
Ждать корабля. И корабль, обтекатель морей, приближался
Быстро. К нему подошел, колебатель земли
В камень его обратил и ударом ладони к морскому Дну основанием крепко притиснул; потом
ТАМ, ГДЕ НАВСИКАЯ НАШЛА ОДИССЕЯ
Если бы удалось перенести в действительность гомеровские поэмы и обнаружить места, где разыгрывались описываемые события, тогда бы творения слепого певца имели не только сугубо литературное значение: ими можно было бы воспользоваться в качестве своеобразного путеводителя. Такая точка зрения явно шла вразрез с традиционным научным подходом, а для Шлимана, видимо, послужила авторитетнейшей отправной точкой. Да, он нередко промахивался, да, подчас не чурался даже авантюрных замыслов — в этом его укорял не один критик, — однако никто не мог не воздать должное его таланту первооткрывателя.
К примеру, Генрих искал на Корфу место, где Навсикая, дочь феакского царя Алкиноя и его жены Ареты, стирая вместе со своими служанками белье, обнаружила потерпевшего кораблекрушение Одиссея — это одна из самых трогательных сцен «Одиссеи». По Гомеру, Навсикая и ее служанки стирали в небольших водоемах, специально для этого предназначенных, после чего расстилали одежды для сушки на покрытом галькой берегу («Одиссея», VI, 93–95). Шлиман заключил, что водоемы эти должны были очень близко располагаться от берега моря.
Жители Корфу рассказали ему об источнике Крсссида — ручье, протекавшем с запада и впадавшем в озеро Калихиопулос. Один из местных жителей проводил исследователя к этому месту, однако берега озера оказались под водой. Сняв одежду, Шлиман отослал проводника и отправился в одной рубашке через заболоченную местность. Никаких водоемов для стирки белья он не обнаружил, зато наткнулся на «два больших, кое-как отесанных камня», на которых, по словам жителей, прежде стирали белье.
В своей книге «Итака, Пелопоннес и Троя», посвященной этой поездке, Шлиман приходит к простому выводу; «Относительно того, что у Гомера это тот самый ручей, сомневаться не приходится, поскольку он единственный в окрестностях древнего города. Здесь, на острове, правда, есть еще один, но он находится в двенадцати километрах от старой Коркиры, в то время как ключ Крессида удален всего лишь на три».
Доказательств этой теории Шлиман так и не обнаружил. Ему вполне хватало того, что он увидел. В нем уже пробудился инстинкт первооткрывателя. В этот день и появился на свет археолог Генрих Шлиман.
Гомер стал для Шлимана кумиром. И для того, кто этому кумиру поклонялся, отныне отпали всякие сомнения в истинности его высказываний. И коль скоро Гомер назвал родиной находчивого страстотерпца Одиссея остров Итаку, то Шлиман был уверен в том, что именно остров в Ионическом море под названием Итака у западного побережья Греции и мог быть той самой — гомеровской — Итакой.
Шлиману не раз доводилось слышать высказывания критиков о том, что, мол, Итака — плод вымысла поэта. Они аргументировали это тем, что географическое описание Итаки, представленное Гомером, ни в коей мере не отвечает природным условиям реальной Итаки, следовательно, родина Одиссея должна находиться К ЗАПАДУ от острова Кефалления. С другой стороны, неугомонный исследователь прочел много трудов знаменитых археологов, которые признавали остров в Ионическом море под названием Итака родиной Одиссея; так считали Гандар, Вордсворт, Лилиенштерн, Боуэн, Лик и Константин Коллиадис.
И вот однажды, совсем как Одиссей, по пути следования к Кефаллении Генрих попал в сильную бурю, которые нередки здесь летом. Переход, который при спокойном море занимал не больше часа, затянулся на целых шесть, и стояла уже непроглядная ночь, когда Шлиман наконец сошел на берег в порту Св. Спиридона на юго-западе Итаки. Чудом в этой ночи он повстречал Панагиса Ас-проиераку, местного мельника, который изъявил желание проводить прибывшего и его багаж по горной тропе в Вафы — главный город острова. Остаток ночи Шлиман провел на жестком ложе, которым ему служил окованный железом сундук в доме мельника.

«КАЖДЫЙ ХОЛМ, КАЖДЫЙ РОДНИК НАПОМИНАЕТ ЗДЕСЬ О ГОМЕРЕ»
Ни гостиницы, ни даже постоялого двора в Вафах не было, но сестры Елена и Аспазия Триантафиллидис на девять дней сдали приезжему комнату с кроватью — более ему ничего не требовалось. «Все воспоминания здесь, — писал Шлиман, — связаны с героической эпохой: каждый холм, каждая скала, каждый родник напоминает здесь о Гомере и его "Одиссее", и в одно мгновение мы оказываемся в эпохе расцвета греческого воинства и греческой поэзии».
Итака очаровала Шлимана. Море, пейзажи, камни — все вокруг обрело вдруг дар речи. Гомер нашел в нем своего пылкого поклонника, страстного почитателя. Верхом на лошади и с «Одиссеей» в седельной сумке завоевывал Шлиман остров знаменитых греческих героев. Гомер служил ему провожатым, а там, где не мог выручить поэт, помогала собственная фантазия.
Так гласила «Одиссея» (XIII, 96— 105):
Пристань находится там, посвященная старцу морскому
Форку; ее образуют две ветви крутого
Брега, скалами зубчатыми в море входящего;
Он возбраняет извне нагонять на спокойную пристань Волны тревожные; могут внутри корабли
Месте без привязи вольно стоять, не страшась непогоды;
В самой вершине залива широкосенистая зрится Маслина; близко ее полутемный
Грот, посвященный прекрасным, слывущим наядами нимфам;
Много в том гроте кратер и больших двуручных кувшинов…
Что же говорит об этом месте Шлиман? «Детали местности описаны здесь настолько точно, что ошибиться невозможно, потому что перед небольшим заливом ясно видны две склонившиеся друг к другу крутые скалы — обе почти вплотную друг к другу; на обрыве горы Нелон, в пятидесяти метрах над уровнем моря, располагается и грот нимф… В нем очень темно, но проводник мой разложил из сухих веток большой костер, и я смог увидеть внутренность грота во всех деталях… С потолка свисало множество сталактитов самой причудливой формы, и сила воображения заставляла видеть в них урны, кувшины, даже ткацкие станы, на которых нимфы ткали свои пурпурные ткани».
С «Одиссеей» Гомера в руке Шлиман взобрался в страшную жару на гору Аэт — возвышенность высотой около ста пятидесяти метров, расположенную на сужающейся южной части острова Итака. На спускающемся террасами склоне исследователь обнаружил местами сохранившуюся стену, руины гигантского сооружения из грубо отесанного камня, а также остатки
башни. У Генриха Шлимана не было никаких сомнений: это должен быть дворец Одиссея!
«Жара стояла изнуряющая, — писал путешественник, — мой термометр показывал 52 градуса, меня мучила страшная жажда: ни воды, ни вина я не догадался прихватить с собой. На восторг от того, что я сказался на развалинах дворца Одиссея, был настолько велик, что я позабыл и про жару, и про жажду».
Отсутствие строгих научных доказательств Шлиман с лихвой возмещал интуицией, помогавшей ему искать исторические аналогии. Здесь не было ни одного камня, ни одного вида, который не мог бы рассказать свою историю: вдали, на севере, сквозь дымку проступали остров Левкадия и та отвесно падавшая в море скала, с которой бросались в море и разуверившаяся в счастье поэтесса Сафо, и поэт Никострат, и карийская царица Артемисия в надежде обрести утешение и избавиться от страданий.
Мысленно Шлиман уносился еще дальше; в своих записках он вспоминает о том, что у жителей острова Левкадия были и другие обычаи: согласно греческому историку Страбону, левкадийцы ежегодно, в праздник бога Аполлона, бросали с утеса одного преступника, которого приносили в жертву за все преступления народа. И вот, чтобы дать ему шанс, приговоренному привязывали к телу птичьи перья и даже живых птиц.
ПЕРВЫЕ РАСКОПКИ ШЛИМАНА
Ранним вечером Шлиман, под впечатлением всего увиденного и опьяненный своими мыслями, спустился с Аэта вниз, в Вафы. Там к нему подошел один крестьянин и предложил купить у него античную глиняную вазу и серебряную монету.
— Откуда у тебя это? — осведомился явно заинтригованный Шлиман.
Старик отмахнулся, будто хотел этим сказать, что, мол, это все ерунда и не стоит об этом долго рассуждать, и потом ответил:
— A-а… Из гробницы, что на скале, там, наверху! — и показал пальцем на Аэт.
— А что еще было в этой гробнице?.
— Ничего.
— Костей человеческих ты там не находил?
— Нет, — ответил крестьянин.
Шлиман не поверил. Но честно выложил ему за вазу и монету шесть франков.
Эта встреча вечером 9 июля 1868 разбудила в Шлимане дух археолога-исследователя. Он сам, своими руками желал начать раскопки, и лучше всего завтра, с утра. Генрих нанял четырех рабочих, кроме них — еще юношу и девушку для обеспечения сообщения с Аэтом, раздобыл лошадь для себя и ослика для доставки необходимого инструментария.
На следующее утро, около пяти часов, Шлиман и его небольшая экспедиция двинулись в путь. Их целью была вершина горы Аэт, где лежал в руинах дворец Одиссея, «Первым делом, — писал он, — я поручил четверым из моих помощников выкорчевать кустарник, после чего начать работы в северо-восточной части острова, где, по моему предположению, и росли те прекрасные оливы, из которых Одиссей соорудил себе брачное ложе и вблизи которых устроил свою спальню».
Из рисунков Шлимана видно, как наивен он был, приступая к своим первым раскопкам. Его позже высмеяли за эту наивность, однако именно она и принесла ему славу самого великого археолога современности.
Место, где Шлиман впервые воткнул лопату в землю, не обещало особого успеха: в верхнем слое почвы ничего, кроме битой черепицы, не было, а на глубине шестидесяти шести сантиметров лопаты уперлись в сплошную скалу: «Для меня всякая надежда найти какие-то серьезные археологические находки пропала». Неподалеку была предпринята и вторая попытка произвести раскопки. Результат трехчасовой работы — фрагмент стены из плит, скрепленных между собой белым как снег слоем цемента. Разумеется, Шлиману было известно, что цемент использовался только со времен Рима. Он пребывал в растерянности.
Чуть в стороне Шлиман обнаружил несколько камней, которые, если посмотреть на них с расстояния в пару метров, образовывали круг. Он попытался ножом соскрести верхний слой с одного из них, и вдруг через несколько сантиметров показался пепел с вкраплениями костей. Это очень насторожило Генриха. Ему не хотелось еще-раз оказаться в дураках, и посему он предпочел воспользоваться киркой: «Но едва я успел углубиться на несколько сантиметров, как повредил очень небольшую и очень красивую вазу, заполненную человеческим прахом». Шлиман решил копать дальше, но теперь уже более осторожно, и добрался еще до двадцати ваз самой различной формы; некоторые из них имели «весьма причудливую форму», причем пять из них были целы и невредимы.
Шлиман не мог скрыть гордости при виде этой своей первой археологической находки: «Пять лет жизни отдал бы я за то, чтобы хоть на одной из них’была какая-нибудь надпись, но их не было!» Ничто не указывало на характер этой находки — Шлиман вообще Не знал, что нашел. Но для такого человека, как он, эта находка, несомненно, должна была иметь огромную научную и историческую ценность. «…Вполне возможно, — совершенно серьезно заявлял он, — что в этих моих пяти урнах хранится прах Одиссея, Пенелопы и их прямых потомков».
Днем в тени оливы, во время дневной трапезы, состоящей из воды, вина и черствого хлеба, он размышлял: «Может быть, и я, вкушая дары острова Итака, сижу здесь на том же месте, где когда-то Одиссей оплакивал свою потерю — смерть любимого пса Аргоса, который умер от радости, снова увидев своего хозяина после двадцатилетнего отсутствия…»
Однако, несмотря на дальнейшие попытки произвести раскопки, Шлиман больше не обнаружил на этом выжженном солнцем острове никаких находок. В последний день своего пребывания на Итаке Шлиман побывал в деревне Экзоги. В этой деревушке, главным образом населенной рыбаками, он познакомился с одним матросом, итальянцем по происхождению, который пару десятков лет тому назад обосновался здесь и занимался тем, что подковывал лошадей.
Он поведал путешественнику о своих опасных морских приключениях, о многочисленных записях в вахтенных журналах и о том мире и покое, который обрел на этом небольшом островке. После этого он познакомил Шлимана со своей женой и двумя сыновьями. У жены его были черные волосы и темные глаза, и красотой она не уступала богине. Звали ее Пенелопа. Старший из сыновей носил имя Одиссей, младшего звали Телемахом.
И вот простой кузнец из какой-то островной деревушки Экзоги вольно или невольно стал для Шлимана примером, достойным подражания.
«Я убеждал его в том, что он с полным правом может считать себя счастливым человеком в отличие от тысячи других, что он через свои беды обрел мудрость, что он живет вдалеке от всех бурь и невзгод света, на красивейшем и известнейшем острове, среди любезных, милых и трудолюбивых людей, а чтобы его счастье стало еще более совершенным, Бог наградил его женой-красавицей, являющей собой образец добродетели; я выразил радость и изумление по поводу того, что он увековечил славу древних героев, обитавших на этом острове, дав в их честь своим детям их славные имена».
Оставался еще всего лишь какой-то год, и Шлиман сам должен был обрести СВОЮ Итаку и СВОЮ Пенелопу.
Из его путевых заметок: «Трогательным было мое прощанье с Итакой: остров уже давно исчез, а я все продолжал стоять и смотреть в его сторону. Никогда в жизни не забуду я тех девяти дней, самых счастливых в моей жизни, проведенных среди этих прямодушных, добрых и честных людей».
ГРЕЦИЯ — ОПАСНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
Через Патры Шлиман отправился дальше, в Коринф. Там он безуспешно пытался найти архитектурные памятники коринфского стиля, названного по имени этого города. Шлиману не удалось найти ни одного подобного сооружения. Но зато его глазам предстал Диолк — ровная дорога на узком участке суши, по которой в античные времена греки перетаскивали на роликах корабли через перешеек с берега одного моря на берег другого.
Небольшому городку под названием Коринф исполнилось как раз девять лет. В 1859 году землетрясение разрушило до основания воздвигнутый на руинах античного Коринфа город, и этот новый Коринф располагался в семи километрах к северо-востоку от руин старого. Никаких гостиниц здесь, естественно, не было, и Шлиман должен был довольствоваться каким-то старым постоялым двором и сном на скамейке, где чуть было не стал жертвой бесчисленных комаров; От них он спасся бегством на берег моря, и остаток ночи провел на песке.
Вообще, следует отметить, что сухопутное путешествие по Греции в XIX веке было опасным предприятием. Здешние дороги кишмя кишели грабителями, и легко можно было всего из-за полдрахмы расстаться с жизнью. В Коринфе Шлиману удалось обзавестись конвоем из двух вооруженных солдат и проводником, а также раздобыть вечно голодного жеребца. Шлиман собирался в Микены.
В качестве путеводителя он пользовался описаниями путешественника Павсания, вышедшими в свет в 180 году нашей эры. По словам этого Павсания, посетившего Микены, он видел развалины крепости и Львиные ворота, сокровищницы Ат-рея и его сыновей, а также гробницы тех, кто сыграл в «Илиаде» Гомера весьма значительную роль. В них покоились, если верить Павсанию, Атрей и его спутники, Кассандра вместе с сыновьями, колесничий Эвримедон, Электра, Эгист и Клитемнестра (Павсаний, 11,16).
Одно лишь перечисление этих имен уже возбудило страстное желание Шлимана начать здесь раскопки. Все эти люди принадлежали к героической эпохе, так привлекавшей искателя древностей. «От всех этих надгробий, — сокрушался он, — не осталось сейчас и следа». И тут же другая мысль: «Но раскопки, несомненно, позволят их обнаружить».
Через Аргос, который еще сто лет назад был одним из цветущих городов Греции, и древний Тиринф, крепость времен Микен, Шлиман добрался до Навплии, древнего города-порта, а в средние века — мощной венецианской крепости. Из Навплии уже на следующий день путешественник намеревался отплыть в Афины, но ближайший пароход туда отправлялся лишь через неделю. Шлиман два дня отдыхал в этой живописной местности и 28 июня 1868 года поздно вечером поднялся на борт парохода «Иония». Хотя он остался очень недоволен отсутствием комфорта на борту этого греческого парохода, «чрезвычайная любезность» его попутчиков помогла перенести тяготы пути.
В книге, которую Генрих Шлиман посвятил этому путешествию по Средиземному морю, он уделил прибытию в Афины и достопримечательностям этой древней греческой столицы всего одиннадцать строк. И Акрополь, и другие памятники интересовали его, по-видимому, лишь отчасти — во всяком случае, куда меньше, чем остатки стены на Итаке или Микены. Причина ясна: Шлиман видел себя лишь, в роли первооткрывателя, а что же было открывать в Афинах? Из его дневника: «А что же касается всех древностей столицы Древней Греции, о которых уже очень много написано знаменитыми учеными, сделавшими их предметом своих исследований, то я оставляю их описание специалистам».
А вот современная часть столицы Шлиману очень понравилась. Оживленные улицы, непосредственные люди, красивые женщины — все это прежде ему доводилось видеть лишь в Париже. К тому же, Шлиман владел языком этой страны и встретился в Афинах со своим старым знакомым — Теоклетосом Вимпосом, греческим теологом, вместе с которым они в Петербургском университете изучали древнегреческий. Вимпос был теперь профессором университета в Афинах и, кроме того, архиепископом Мантинейским и Кинурийс-ким (но это уже в последнюю очередь).

Афинский Акрополь времен Генриха Шлимана. Слева, на переднем
плане, — Одейон Ирода Аттического. Над ними — Пропилеи и фран¬
кская башня, относившаяся к более позднему времени, которую
Шлиман распорядился снести, взяв оплату всех работ на себя.
Вимпос был для Шлимана авторитетом, к которому ему невольно хотелось прислушаться.
Оба общались друг с другом лишь по-древнегречески (на языке Гомера), и Шлиман поведал этому благочестивому служителю церкви о своем несчастье, которое принес ему крах его брака. Впрочем, что касалось набожности этого архиепископа, то вряд ли его можно было упрекнуть в избытке последней — и мы еще в этом, убедимся. Однако этой встрече суждено было круто изменить жизнь Шлимана.
ДОИСТОРИЧЕСКАЯ ЗАГАДКА — ТРОЯ
Истинной целью поездки Шлимана была лежавшая на турецком берегу Троя — Илион, как называл этот город Гомер, — место, где развертывались битвы Троянской войны, вспыхнувшей из-за похищения прекрасной Елены Парисом. В отличие от Итаки, Коринфа и Микен, Троя, которая когда-то сыграла важнейшую роль в европейской истории, просто исчезла со всех географических карт. Эта доисторическая загадка словно была специально создана для первооткрывателя Генриха Шлимана.
В разгар летней жары, 9 августа 1868 года, Генрих прибыл в порт Каранлик. Взяв с собой проводника, он немедленно отправился туда, где прежде стояла Троя, — в долину реки Скамандр и ее притока Симоиза на юго-восточной оконечности Малой Азии. Этот путь на юго-восток шел по широким равнинам необжитой живописной местности, поросшей дубовыми и сосновыми лесами, изобиловавшей водными источниками.
В свое время два таких источника пустили не одного путешественника по ложному следу в поисках Трои. Вблизи селения Бунарбаши (ныне Пинарбаши), у подножия холма, из-под земли били ключи, которые, вероятно, могли быть упомянуты в «Илиаде» Гомера (песнь XXII, 147–156). Так утверждал французский исследователь Лешевалье еще в конце XVIII столетия, и с тех пор утверждение это никем не было опровергнуто.
У Гомера читаем:
Оба к ключам светлоструйным примчалися,
Два вытекают источника быстропучинного
Теплой водою струится один, и кругом
Пар от него подымается, словно как дым
Но источник другой и средь лета студеный катится, Хладный, как град, как снег, как в кристалл превращенная влага.
Там близ ключей водоемы широкие, оба из камней. Были красиво устроены; к ним свои белые ризы Жены троян и прекрасные дщери их мыть выходили В прежние, мирные дни, до нашествия рати ахейской.

Карта окрестностей
Трои. XIX век.
Когда уже ближе к вечеру Шлиман добрался до селения Бунарбаши, состоявшего из двадцати трех домишек, он был разочарован ветхостью этих лачуг, но великолепный пейзаж привел его в восхищение. «Должен признать, — писал он, — что я не мог сдержать волнения, когда моему взору предстала необозримая Троянская равнина, которая много раз появлялась в снах моих с самого раннего детства. Она показалась мне слишком длинной на первый взгляд. Троя лежала слишком далеко от моря, если верить тому, что селение Бунарбаши действительно было построено в прежних границах города, как это утверждают почти все археологи, которые приезжали сюда».
Несмотря на уже постигшие его при первых раскопках — всего несколько недель назад — неудачи, Шлиман тут же, с места в карьер, начинает раскопки в надежде обнаружить хотя бы несколько строительных камней или осколки разбитых глиняных амфор. С присущей ему наивностью и непередаваемым археологическим чутьем он был готов поставить под сомнение все, что наука знала в то время о Трое: «Когда я пристальнее осмотрел землю и нигде не сумел обнаружить ни строительного камня, ни изделий горшечников, то пришел к мнению, что при определении местоположения Трои была совершена ошибка… Мои сомнения еще более укрепились, когда я… посетил те самые водные источники у подножия холма, где находится Бунарбаши».
Дело в том, что представленное Гомером описание ничуть не подходило под описание обоих источников Бунарбаши. Шлиман, едва прибыв на это место, тут же обнаружил не два, а ТРИ источника, а после не очень длительных поисков в радиусе примерно полукилометра — еще ТРИДЦАТЬ ОДИН ключ. Местные жители говорили, что здесь существует около СОРОКА ключей, причем все они находятся в непосредственной близости от деревни, поэтому-то это место и назвали «Сорок глаз». А после того, как Шлиман при помощи термометра произвел замеры температуры воды обоих источников, его сомнения полностью отпали. Оба они имели совершенно одинаковую температуру — 17,5 градусов Цельсия. Но ведь описывая их, Гомер указывал на два таких источника — горячий и ледяной, температура в одном из них явно должна была превышать 40 градусов. Это окончательно убедило Шлимана в том, что перед ним не то место.
Так кто же из них ошибался? Гомер или исследователи нового времени?
Для Шлимана этот вопрос не стоял. Чем больше он приглядывался к грязным хибаркам селения Бунарбаши. чем точнее воспроизводил в памяти его географическое положение, тем сильнее становились его сомнения: удаленность от моря составляла четырнадцать километров — иными словами, от трех до четырех часов пути. Но, насколько он мог помнить «Илиаду», от того места, где бросил якорь корабль ахейцев, до крепости троянцев было не более часа пути — ведь греческие воины иногда по шесть раз на дню проделывали этот путь. Кроме того, возникал и еще один вопрос: неужели Ахилл действительно, как это описано у Гомера, мог, преследуя Гектора, трижды обежать вокруг крепости? Там, где скалистый утес нависает над Скамандром (Ксанфом), это абсолютно невозможно.
Неужели Гомер был всего лишь сказочником?
ШЛИМАН ВОСПРОИЗВОДИТ ТРОЯНСКОЕ СРАЖЕНИЕ
Шлиман был твердо убежден, что «Илиада» Гомера была не просто сказанием, легендой или мифом, а описанием исторических событий. Поэтому он со скрупулезностью бухгалтера сначала хронологически точно восстановил ход троянской битвы, описанной в гомеровской «Илиаде». Этот своеобразный график событий Шлиман надеялся наложить на топографию местности и выяснить расстояния между некоторыми географическими пунктами, упоминавшимися в произведении.
Согласно хронологии Шлимана, события в первый день битвы у Трои развивались следующим образом.
Ночью Зевс приказывает богу Сна направиться к Агамемнону, верховному вождю и командующему войсками греков, и потребовать, чтобы тот отдал своим людям приказ взяться за оружие. Он обещает, что они пойдут на Трою на следующий день (И, 8-15). На рассвете Агамемнон собирает греческих воинов и пересказывает их вождям свой сон. Для того чтобы испытать настроение войска, он предлагает всем вернуться на родину (11,48-140). Вначале греки готовы согласиться на это и уже направляются к кораблям (II, 142–154). Одиссей, царь Итаки, задерживает войска и уговаривает их остаться (II, 182–210). Начинается долгий спор между Одиссеем, мудрым Нестором и Агамемноном (11,284–393). Они приходят к решению остаться. Воины отправляются в лагерь и приступают к утренней трапезе (И, 394–401). Агамемнон приносит в жертву Зевсу быка и собирает вождей, чтобы они приняли участие в церемонии (II, 402–433). И снова Нестор держит речь, После этого Агамемнон приказывает войскам построиться в боевые порядки (II, 441–454). Войска перестраиваются и готовятся к битве перед лагерем в долине Скамандра (Ксанфа) (II, 464–475). Вестница Геры Ирида сообщила об этом троянцам, и они, вооружившись, стали с громким боевым кличем покидать Трою через городские ворота (11,786–810; III, 1–9). На равнине оба войска сошлись в жаркой битве (III, 15 и далее).
Вот что говорит Генрих Шлиман; «Эта равнина не могла быть слишком протяженной, потому что Елена, стоя у Скейских ворот, могла разглядеть греческих военачальников и назвать Приаму их имена. Греческое войско, таким образом, должно было находиться не более чем в километре, потому что с большего расстояния узнать человека невозможно, какой бы зоркостью ни обладал смотрящий».
Далее, согласно ходу событий: Парис, сын Приама, вызывает Менелая на единоборство. Брат Париса Гектор держит речь, с речью выступает также и Менелай, брат Агамемнона (III, 67–75, 86–94, 97-110). Гектор посылаете Трою гонцов, чтобы они доставили оттуда живых ягнят. Агамемнон с этой же целью посылает в лагерь греков Талфибия (III, 116–120).
Комментарий Шлимана: «Так как лагерь греков не мог находиться далее чем в километре от Скейских ворот, то оказывается (при условии, что Троя находилась на высоте Бунарбаши), что он располагался по меньшей мере в тринадцати километрах от места стоянки судов; тогда Талфибий не смог бы вернуться раньше, чем через шесть часов. Однако он отсутствует очень недолго; по крайней мере, Гомер даже не считает нужным точно указывать, сколько времени его не было».
Перед стенами Трои совершается обряд жертвоприношения, все дают торжественную клятву (III, 268–301). Происходит и единоборство. Менелай побеждает Париса, и его уводит с поля битвы Афродита, которая уже находится на стороне троянцев (III, 355–382). По ходу битвы троянцы сначала оказываются оттесненными к стенам города (V, 37). Раненых и убитых, а также трофеи: повозки и коней — каждая сторона направляет к себе в тыл; троянцы — в город, а греки — в лагерь (V, 325–633, 668–669). Греки отступают под натиском троянцев (V, 699–702).
Гектор направляется под стены Трои (VI, 111–115). На поле боя он снова видит Париса (VII, 1–7). Тогда Гектор вызывает самого храброго из греков на поединок (VII, 67–91). Девять героев принимают вызов. Жребий выпадает Аяксу, сыну Теламона (VII, 161–225). Вечером греки возвращаются в свой лагерь (VII, 313–320).
Так выглядел первый день сражения при Трое. Шлиман сделал из этого следующий вывод: «Таким образом, пространство между городом и лагерем греков пришлось преодолеть по меньшей мере шесть раз… а именно: дважды это должен был сделать гонец, который доставил ягненка, и самое малое четыре раза — само войско… Расстояние между лагерем греков и Троей должно было быть очень небольшим, меньше пяти километров. Бунарбаши находится в четырнадцати километрах от предгорий Сигея — если бы Троя располагалась на той же высоте, что и Бунарбаши, то… пробежать бы пришлось не меньше сорока восьми километров…»
Нет, у Бунарбаши ничего общего не было с Троей, и пусть остальные ученые утверждают, что хотят.
ВЫБОР ПАДАЕТ НА ГИССАРЛЫК
Когда Шлиман направлялся в Бунарбаши, он обратил внимание на еще одно место — холм под названием Гиссарлык, что в переводе означает «дворец». Холм этот, длиною двести тридцать метров и шириной сто шестьдесят метров, очень отличался от тех холмов, на которых стояло селение Бунарбаши. Здесь повсюду были разбросаны мраморные плиты и куски тесаного камня. Стоило ткнуть в землю носком сапога, как обнаруживалось большое количество глиняных черепков. Может быть, здесь и лежала засыпанная землей легендарная Троя?
Шлиман был не первым, кто предложил эту теорию. Еще за пятнадцать лет до этого американский консул в Дарданеллах Фрэнк Калверт, который в свое время занимался археологией, выдвинул смелый тезис о том, что воспетая Гомером Троя лежит под холмом Гиссарлык. За какую-то мизерную — скорее, чисто символическую — цену он купил часть этой земли и предпринял за свой счет раскопки, в результате которых в восточной части холма натолкнулся на слои из остатков стен храмов или дворцов, относившихся к различным эпохам, представлявших собой скопления сложенных кое-как (слоями) тесаных камней.
Через десять лет после своих первых открытий Калверт собирался возобновить работы и на сей раз вести их не стихийно, а по плану. Заручившись поддержкой Британского музея в Лондоне, директором которого был тогда Чарльз Т. Ньютон, уже осмотревший место предстоящих раскопок, консул хотел найти доказательства своей теории. Но в последний момент это предприятие рухнуло, поскольку не нашлось никого, кто согласился бы взять на себя расходы в сумме ста английских фунтов стерлингов.
«После того как я дважды тщательно обследовал Троянскую равнину, — писал Шлиман, — я полностью разделяю мнение Калверта, что эта плоская поверхность холма Гиссарлык и является местом, где прежде находилась древняя Троя, и что на этом холме возвышался некогда троянский акрополь — Пергам». И Шлиман принимает решение: «Я начинаю раскопки Трои».
То, что на это вполне могло не хватить и целой его жизни, не смущало исследователя. Расходы здесь никакой роли не играли. Не действовали и никакие научные доводы о том, что под холмом Гиссарлык нет и не может быть никакой Трои. Ничто не могло отвратить Шлимана от выполнения поставленной задачи.
Ориентируясь лишь по разбросанным кускам плитняка и остаткам стен, Шлиман пришел к выводу: «Чтобы добраться до развалин дворцов Приама и его сыновей, а также до храмов Минервы и Аполлона, необходимо убрать всю искусственно насыпанную часть холма. И после этого станет ясно, что крепостные стены Трои тянутся и на прилегающем плато, поскольку остатки дворца Одиссея, камни Тиринфа и укреплений Микен, а также огромная, еще не найденная сокровищница Агамемнона ясно доказывают, что сооружения героической эпохи отличались весьма внушительными размерами».
ГОМЕР, ГЕРОДОТ И ПЛУТАРХ ПОМОГАЮТ ШЛИМАНУ
Из этих записок видно, каким недюжинным талантом археолога обладал Шлиман, сумевший по виду разбросанных камней и качеству земли установить связь между Микенами и Троей. Помогали ему, конечно, «Илиада» Гомера, с которой он не расставался, и, кроме того, греческий географ и историк Страбон, историк Геродот из Галикарнаса — прекрасный знаток прибрежных районов Малой Азии, греческий писатель Плутарх с его биографиями знаменитых греков и римлян и античный историк Арриан и его произведения о времени Александра Македонского.
Шлиман сравнивал высказывания авторов, в разное время побывавших в этих местах, и из них, словно из кусочков мозаики, составлял целостную картину. Вначале ему надо было доказать, что Троя — это не плод воображения Гомера, а реально существовавший город, где разыгрывалось действие «Илиады».
Геродот (VII, 43), например, рассказывает о том, как персидский царь Ксеркс, перед тем как напасть на Грецию в 480 году до н. э., сделал с войсками привал на берегу Скамапдра и даже поднимался во дворец Приама, где принес в жертву илионской богине Минерве тысячу баранов. Это событие, произошедшее за 2350 лет до Шлимана, явно указывает на то, что акрополь Приама тогда был еще реальностью. Процитированное место из Геродота говорит нам и о том, каких размеров был этот акрополь, если в нем уместилась тысяча принесенных в жертву Ксерксом баранов.
Есть в литературных источниках и упоминания о пребывании в Трое Александра Македонского. Из Плутарха мы узнаем, что Александр Македонский назвал «Илиаду» «кладезем героических добродетелей», а переписанный отрывок из этого произведения всегда лежал у него под подушкой во время сна — вместе с мечом. Если верить достаточно серьезному историку — такому, например, как Арриан, — то Александр Македонский оставил в храме илионской Минервы свое оружие и забрал в поход освященное оружие, хранившееся там со времен Троянской войны. Шлиман делает из этого заключение: «Если принять во внимание, с каким уважением Александр Македонский относился к Гомеру и воспетым им героям, то он был твердо убежден, что Троя, где он совершил обряд жертвоприношения Минерве, стояла именно на месте прежнего города Приама».
С такой точкой зрения не согласен Страбон — греческий историк и географ, который, как не раз напоминает нам Шлиман, никогда не был в Трое. Страбон утверждал, что во времена Александра Македонского Троя была лишь крохотным клочком земли с крохотным храмом, Александр же основал Новый Илион, или Трою, которая была окружена стеной длиной в сорок стадий и располагалась невдалеке от акрополя Приама. Это также могло служить косвенным подтверждением правильности теории Шлимана о том, что Трою, которую имел в виду Гомер, надлежало искать не на месте селения Бунарбаши, а на Гиссарлыке, поскольку остатки стен Нового Илиона, располагавшегося севернее Гиссарлыка и не раз подвергавшегося разрушениям, можно было обнаружить и не прибегая к раскопкам.
Шлиман как ищейка носился вдоль и поперек, обследуя окутанные знойным маревом окрестности предполагаемой Трои. Жара и насекомые: блохи и клопы — досаждали ему. Поэтому он, как правило, предпочитал ночлег под открытым небом, а пища его состояла, в основном, из хлеба и воды.
В городке Енишаир на скалистом мысе Си-гей, который узкой полоской, словно рог, выдается в Эгейское море, исследователь как-то пожелал отведать мяса. Хозяин кофейни, куда зашел Шлиман, сначала недоуменно пожал плечами, потом куда-то исчез. Возвратившись, он в правой руке держал трепыхавшуюся, громко кудахтавшую курицу. «Вот и хорошо, через час обед будет готов», — успокоился Шлиман, но вид этой несчастной птицы, приговоренной к смерти от ножа, сильно умерил аппетит путешественника. Он отсчитал нужную сумму хозяину и отпустил ее на волю. А утолить голод он решил яйцами: Шлиман съел их восемь штук (все, что были в этом заведении) и целый каравай хлеба, запив все это вином с соседнего острова Тенедос.
«Когда я, — писал Шлиман, — с "Илиадой" в руке стоял на крыше одного из домов и оглядывал местность, мне казалось, что я вижу флот греков, их лагерь, Трою, акрополь Пергам на плоском холме Гиссарлык, слышу, как маршируют воины на равнине между городом и лагерем. В течение двух часов я представлял себе события, воспетые в "Илиаде"…»
Тогда, в августе 1868 года, Шлиману много о чем пришлось передумать. Забылись и так удручавшая его судьба семьи, и изматывающие операции с ценными бумагами, и иные коммерческие предприятия. Перед ним открывался новый, волнующий и незнакомый, фантастический мир. Пока еще этот мир был только стопкой листков между двумя обложками, описанных классическим слогом незрячего поэта. Но Шлиман твердо верил в реальность этого мира, который был лишь на время скрыт от глаз человеческих под землей холма Гиссарлык. Он вряд ли мог предполагать тогда, сколько еще ему потребуется времени, чтобы найти этому доказательство, зато знал наверняка, что отныне ему не ведать покоя, пока доказательство это не окажется у него в руках.
VII. ДРУГОЙ ЧЕЛОВЕК И НОВАЯ ЖИЗНЬ
Здесь я постоянно вращаюсь в обществе умных и красивых женщин, которые рады были бы исцелить меня от моих недугов и даже смогли бы сделать меня счастливым, если бы узнали, что я подумываю о разводе. Но, друг мой, плоть слаба, и я боюсь, что влюблюсь в какую-нибудь француженку и снова останусь несчастным — теперь уже на всю жизнь.
Генрих Шлиман — архиепископу Вимпосу.
Париж, сентябрь 1868 года. В окнах первого этажа респектабельного дома на площади Сен-Мишель день и ночь не гаснет свет. Возвратившийся из поездки по Греции, которая взбудоражила его больше, чем что-либо в его прежней жизни, Шлиман работает как безумный, желая перенести пережитое и увиденное на бумагу. «Итака, Пелопоннес и Троя»— так будет называться эта книга. И пояснение: «Археологические исследования». Стало быть, это будет научный труд, нечто совершенно отличное от его путевых заметок о поездке вокруг света. Видимо, она должна будет ознаменовать начало его карьеры исследователя, ученого, археолога. Теперь Шлиман непоколебимо уверен в том, что жизни его отныне и навек суждено проходить не в конторах фирм, залах бирж и складских помещениях, а на древних пепелищах, руинах дворцов и крепостных стен. И теперь он будет брать в руки не биржевые сводки, а книги античных авторов, и, конечно же, в первую очередь — Гомера.
Однако Шлиман пока еще не представляет собой законченный тип сведущего, опытного ученого, каким страстно желал быть, — он всего лишь эпигон, тот самый эпигон, который и присутствовал до сих пор на этих страницах. И вот теперь он в предисловии к своей «научной» книге впервые начинает повествование о себе. При этом он так хитро перекраивает и по-новому высвечивает факты своей биографии, что она действительно начинает походить на жизнеописание человека, сразу открывшего в себе призвание археолога (кем он и желает видеть себя).
«Едва я научился говорить, как мой отец стал мне рассказывать о подвигах героев, воспетых Гомером; они приводили меня в восторг, восхищали. Первые впечатления, какие обычно воспринимает ребенок, остаются с ним на всю жизнь. Несмотря на то, что в возрасте четырнадцати лет меня определили учеником к торговцу промышленными товарами господину Эмилю Людвигу Хольцу (это было в маленьком мекленбургском городке под названием Фюрстенберг) вместо того, чтобы дать мне возможность уйти в науку, к которой я всегда испытывал склонность чрезвычайную, я всегда сохранял в сердце моем любовь к этим прекрасным людям из глубокой древности, возникшую у меня в раннем детстве». Этими словами начинается книга.
Меньше чем три месяца спустя Шлиман закончил книгу «Итака, Пелопоннес и Троя», причем она должна была выйти в свет на французском языке. Однако, когда Шлиман завершил свой труд, он не мог не понять, что его тоже нельзя считать научным произведением, — скорее, это было чем-то вроде всегдашних его путевых заметок, только вот на сей раз маршрут дальних странствий определял не он сам, а «Одиссея» и «Илиада». Он быстро набросал нечто вроде предисловия, заявив в нем, что никогда не был снедаем тщеславным желанием написать книгу на такую тему и лишь тогда, когда своими глазами увидел, каким «чудовищным заблуждениям» подвержено большинство археологов, решил представить общественности свои опыты и впечатления.
Запись от 9 декабря 1868 года сообщает: «Я уже завершил свой труд по археологии, нашел для него издателя, и вот-вот книга будет отдана в печать, но поскольку мне приходится опровергать и Страбона,
и всех его последователей, то многие выступили в печати против моей книги. Однако меня это не пугает: у меня имеются все необходимые доказательства, ибо я в своей деятельности опирался на одни лишь факты».
И снова слова Шлимана были продиктованы исключительно его желанием, снова надежда опережала действительность, снова в нем заговорил эгоцентрик, слишком много о себе возомнивший. Как и в случае с первой книгой, ни один парижский издатель не заинтересовался его рукописью. А Шлиман был слишком горд, чтобы предложить свои материалы нескольким издательствам. Он предпочел тогда напечатать книгу за свой счет тиражом в семьсот экземпляров.
И вообще, результаты исследований гораздо больше удовлетворяли самого Шлимана, нежели ученых-специалистов из Сорбонны, которым он решил навязать свой опус, разослав его и не соизволив даже предварительно осведомиться, интересуются они им или нет. Кто же был этот человек, который делал такие авантюристические заявления? Какова его репутация? Кто стоял за этим выскочкой от археологии? Ученый мир оказался в явном неведении. Случай этот был беспрецедентным. А самому Шлиману весь ажиотаж и недоумение пришлись по душе — ему вообще были по душе не совсем обычные ситуации. И теперь действовать нужно было не мешкая.
ПЕРВЫЕ ПЛАНЫ РАСКОПОК ТРОИ
В американском консуле Фрэнке Калверте, который пребывал в Чанаккале у Дарданелл, Шлиман обрел влиятельного друга. И это не только потому, что Калверту принадлежала значительная часть земли, где Шлиману предстояло вести раскопки и под которой, по гипотезе Шлимана, располагалась древняя Троя, но и потому, что консул имел обширные связи, прекрасно разбирался в законодательстве страны и рад был предложить этому русскому немецкого происхождения, обитавшему в Париже, свою помощь при выяснении главного вопроса: «Ubi Troia fuit?» (лат. «Где стояла Троя?»).
Калверту были известны имена двух турок, которым принадлежала остальная земля на холме Гиссарлык, и он предложил Шлиману послать своего человека в Константинополь с целью получить разрешения от турецкого правительства на ведение раскопок. Его, Калверта, земля — в распоряжении Шлимана, а от турецких владельцев он надеялся получить лицензию.
Шлиман составил план, который был согласован и с Фрэнком Калвертом.
Раскопки Гиссарлыка должны начаться весной 1869 года. Для археолога, который не боялся ничего, кроме разве что блох да клопов, будет нанят в селении Чиблак дом, в котором проведут дезинфекцию; кроме того, его слегка отремонтируют и выкрасят снаружи. На самом месте раскопок следует установить палатку — об этом позаботится Калверт. Всего на работах будет занято 60–80 человек, преимущественно греков, которые имеют репутацию людей работящих. Размер оплаты — от восьми до двенадцати драхм в день, в зависимости от объема работы.
Калверт предложил доставить необходимый инструментарий: кирки, металлические лопаты, тачки и прочее — из Франции, поскольку на месте имелись лишь деревянные лопаты. Кроме того, он посоветовал Шлиману открыть счет в Оттоманском банке Константинополя для всех расчетов по затратам. «Оружия вы можете ввозить сюда сколько угодно и какое угодно, — писал Калверт археологу в одном из своих писем, — если оно придает вам уверенности. Что же касается меня лично, то я здесь не расстаюсь с винтовкой».
Перспективы стать археологом вернули Шлиману чувство собственного достоинства, которое уже понемногу начинало покидать его. Он хотел совершенно новой жизни, и для этого в первую очередь был необходим развод с женой Екатериной. Кое-как собравшись, он 2 января 1869 года отправился в Петербург.
Ни на какое примирение он не рассчитывал: оба уже были слишком ожесточены. Кроме того, Шлиману стало окончательно ясно, что он никогда не сможет смириться с тем, что Екатерина предпочитает женщин. Поэтому он предъявил госпоже Лыжиной своего рода ультиматум: «Либо ты отправляешься со мной в Париж, причем немедля, либо я за границей нахожу страну, где смогу с тобой развестись».
Реакцию Екатерины легко было предугадать: «Я остаюсь! Я никогда не уеду из Петербурга!»
Со слезами на глазах Шлиман простился со своими детьми — с Сергеем, которому только что исполнилось четырнадцать, и с восьмилетней Надеждой (его средняя дочь Наталья умерла Год назад в возрасте десяти лет).
На обратном пути Генрих разыскал своего двоюродного брата, советника юстиции Адольфа Шлимана. С Адольфом, жившим прежде в Калькхорсте, а с 1855 года ставшим уважаемым адвокатом в Шверине, у Шлимана со времен юности сохранились теплые, дружеские отношения. Он был единственным из числа родственников Шлимана, к чьему совету Генрих способен был прислушаться, и это даже несмотря на то, что Адольф тоже не был святым (много и неудачно играл, и дело иногда доходило до того, что Генриху приходилось оплачивать его карточные долги). Если бы не деньги Генриха, карьере Адольфа Шлимана давно пришел бы конец. И теперь настала очередь Адольфа помочь Генриху.
Доктора Адольфа Шлимана можно было причислить к весьма удачливым адвокатам; кроме того, в Мекленбурге у него имелись обширные связи. И то и другое могло очень пригодиться Шлиману. Генрих поделился с ним своими горестями по поводу расторжения брака с Екатериной. Однако его волнует и другая проблема: он собирается приступить к раскопкам Трои, не обладая никаким авторитетом в научном мире. И дело не в знаниях (знания-то у него есть), а в том, что ему действительно необходима ученая степень, чтобы его труды были восприняты всерьез. Генрих Шлиман, какой-то петербургский купец, совершит в глазах респектабельных профессоров святотатство, отважившись на раскопки Трои. А вот ДОКТОР Генрих Шлиман уже имеет право претендовать на что-то в области археологии и вызовет у этих «господ археологов» уважение.
В отношении предполагаемого бракоразводного процесса его двоюродный брат мог сразу дать нужный совет: наиболее перспективным ему представлялось обратиться в суд штата Индиана. Ну а что касается докторской степени, то он обещал подумать, что можно сделать, — во всяком случае, надежных связей в университете Ростока у него было предостаточно.
ДЕНЬГИ И СВЯЗИ И ДОКТОРОМ СДЕЛАЮТ
В мгновение ока Генрих Шлиман превратился в доктора философии. И хотя он не имел за плечами ни докторской диссертации, ни долгих лет учебы, ученая степень, которую он получил в течение какого-нибудь месяца, была, конечно, результатом скорее материальных, нежели творческих или интеллектуальных затрат — просто у этого человека было много денег. Нет никаких доказательств того, что степень эта была, грубо говоря, куплена им за деньги, однако все свидетельствует именно об этом, причем обстоятельства, предшествовавшие появлению доктора философии Шлимана, не лишены и некоторой доли комизма.
Несмотря на то, что получение ученой степени было для Шлимана делом первостепенной важности, сам он в то время, когда университет города Ростока рассматривал его кандидатуру, находился вдали от Европы. Своего научного руководителя (того, кто ходатайствовал за него) он и в глаза не видел — так же, как и ректора университета. В автобиографии Шлиман посвятил этому событию всего лишь одну-единственную фразу; «Один экземпляр этой работы ("Итаки") наряду с написанной на древнегреческом диссертацией я переслал в Ростокский университет; за них мне была присуждена степень доктора философии этого университета». Такое торжественное и важное для него событие, похоже, вызывало не очень приятные воспоминания у Шлимана.
Документы, которые позже поступили в Ростокский университет, говорят сами за себя. 12 марта 1869 года по поручению своего кузена Адольфа Шлимана Генрих Шлиман отправляет на имя профессора Ростокского университета Карстена некий пакет. Содержимое — две книги, две автобиографии и приложенное к ним письмо на немецком языке с вступлением по-латыни. Самое интересное, хотя и не делающее чести Шлиману обстоятельство заключалось в том, что скрывавшее латинский текст обращение содержало грамматическую ошибку: Шлиман пишет «Decane spec-tabilis!» («Глубокоуважаемый декан I»). Приводим письмо Шлимана полностью.
Decane spectabilisl
Осмелюсь предложить глубокоуважаемому декану по одному экземпляру двух моих трудов: <La Chine et le Japon au temps present* и dthaque, le Peloponnese et Troie — recherches archeologiques* (оба изданы В Париже, первый — В 1867 году, Второй — В нынешнем году) — и Вместо автобиографии приложить перевод на немецкийязык предисловия к моей последней работе (написанной на древнегреческом и латыни), содержащего автобиографические данные; и осмеливаюсь нижайше просить Ваше Превосходительство претендовать тем самым на соискание ученой степени доктора философических наук.
К Вышеупомянутому содержащему мои биографические данные предисловию я считаю необходимым добавить, что я родился 6-го января 1822 года в Нойбукове, (Мекленбург, Шверин), где отец мой был пастором, что я после завершения начального курса у частного учителя В Калькхорсте на День СВ. Михаила 1833 года поступил В гимназию города Нойштрелица, В четвертый класс; однако Же по истечении трех месяцев Ввиду несчастного положения отца моего вынужден был от учебы В ней отказаться, продолжив занятия В реальной школе, из которой был Выпущен на Пасху 1836 года после годичного обучения В первом классе Вышеуказанной школы.
Позже мне представилась Возможность Восполнить недостаток школьного образования и овладеть основными Живыми европейскими языками, а кроме того, древнегреческим и арабским — подробнее об этом упомянуто В предисловии, на которое я ссылался ранее.
В последних строках моего обращения я позволю себе Высказать пожелание: покорнейше прошу оповещать моего кузена — советника юстиции доктора Адольфа Шлимана, имеющего практику В Шверине, — обо Всех распоряжениях, исходящих от Вашего Превосходительства, равно как и обо Всех Вопросах относительно Возможных расходов, могущих Возникнуть В данной связи. Остаюсь В совершеннейшем почтении перед Вашим Превосходительством Ваш покорный слуга
Генрих Шлиман.
Карстен, декан философского факультета, уже был оповещен своим коллегой, специалистом по античности профессором Людвигом Бахманом, который также был в дружбе с Адольфом Шлиманом. И присуждение степени состоялось «in absentia» (в отсутствии соискателя).
Как именно Адольфу Шлиману удалось убедить профессуру философского факультета принять именно такое решение, остается лишь гадать. Во всяком случае, единогласного решения всех ученых факультета оказалось достаточно, чтобы начать процедуру. И степень могла быть присуждена на основании признанных научных заслуг.
И все же уважаемые господа профессора университета Ростока из кожи лезли вон, чтобы соблюсти внешние приличия. Карстен обратился 6 апреля 1869 года к коллегии:
«Господин Генрих Шлиман, кузен господина советника юстиции Шлимана, имеющего практику в Шверине, который уже был представлен нам последним, согласно данной апелляции, ходатайствует перед нами о присуждении ему докторской степени. Он представляет нам два своих печатных груда («La Chine et le Japon» и «Itaque, le Peloponnese etTroie — recherches archeologiques»), а также в качестве curriculum vitae — перевод предисловия к его работе на латынь и греческий. Первый труд представляет собой описание одного из путешествий и, видимо, может заслуживать несколько меньшего внимания, нежели второй, посвященный археологии, дать оценку которому я уполномочил господина Бахмана. И в этой связи мне хотелось бы просить вас, уважаемые коллеги, высказаться, может ли этот вопрос с присуждением степени быть решен положительно, поскольку мы имеем дело с филологическим аутодидактом, невзирая на отдельные формальности».
В действительности же эта процедура с присуждением Генриху Шлиману ученой степени доктора философии была не более чем фарсом. В то время как другие претенденты на эту степень вынуждены были месяцами ждать отзыва на свои работы, профессора Бахман, Карстен, Фриче, Репер, Шульце, Бартш, Реслер и Ширрмахер — восемь заслуженных людей науки — всего лишь за четыре дня, то есть с 8 по 12 апреля 1869 года, сумели прочесть произведение Шлимана «Итака» и еще по восемь страниц его автобиографии на латыни и греческом, и не просто прочесть, а дать им положительную оценку.
При этом даже сам Бахман, близкий друг Адольфа Шлимана, который давал обобщающую оценку соискателю степени и был по вполне понятным причинам настроен к последнему доброжелательно, не скупится на критику «самоучки столь высоких природных дарований». Он пишет: «Менее убедительно выглядят результаты исследований, проведенных автором, касающиеся местоположения Трои, двух протекающих в исследуемом районе рек и местоположения древнего Илиона. Солидное самостоятельное исследование, проведенное автором, снабженное многочисленными ссылками на соответствующие места «Илиады», изложено в весьма доступной и легкой для понимания форме. Однако здесь он, несомненно, заблуждается, даже если мы будем принимать во внимание ту конкретность данных, на которые он опирается в определении как вышеназванных мест, так и мест протекания Скамапдра и Симеиза. Генрих Шлиман представил нам на трех языках описание своей жизни и полученного им образования. Работа, написанная по-французски, читается очень хорошо, поскольку автор в совершенстве этим языком владеет; Vita на латыни в целом может быть оценена, несмотря на отдельные языковые огрехи, как весьма удовлетворительная; однако перевод оной на древнегреческий лучше бы отсутствовал вовсе, ибо очевидные затруднения автора при построении фраз и употреблении некоторых слов свидетельствуют о том, что соискатель не владеет в достаточной мере синтаксисом и не обладает умением выразить законченную мысль в античной форме».
Как бы то ни было, профессор Людвиг Бахман проголосовал за присуждение степени этому необычному одиночке. Жест этот был просто-напросто заранее подготовленным маневром, как это наглядно доказывает одно из писем, сохранившихся после смерти Адольфа: 12 марта, то есть в тот же день, когда Генрих отослал все документы для присуждения ему степени доктора в университет Ростока, Генрих написал и письмо своему двоюродному брату: «Прими мою самую искреннюю и сердечную благодарность за то, что так бесконечно добр. Своим отзывом господин Бахман невероятно польстил мне…»
Дня 27 апреля месяца 1869 года Генриху Шлиману за его труд «Liber Archaeologicus de Ithaca Insula Peloponneso et Troade» («Книга по археологии об Итаке, Пелопоннесе и Трое») была присуждена степень доктора. Диплом этот явно не делал чести Ростокскому университету.
Весть об этом застала Шлимана в Индианаполисе, столице штата Индиана. Туда он отправился по совету Адольфа, чтобы воспользоваться в высшей степени либеральными законами этого штата относительно возможностей расторжения брака. Как новоиспеченный «доктор философии и изящных искусств» реагировал на это молниеносное завершение всех формальностей, связанных с присуждением этой степени, неизвестно. Однако наводит на раздумья тот факт, что среди множества писем, которые писал тогда Шлиман и в которых зачастую речь шла о каких-то ничего не значащих пустяках, не обнаружилось ни одного, где удостоенный такой чести хоть как-то прокомментировал бы это, судя по всему, весьма важное событие в его жизни. Чего ради Шлиману было об этом умалчивать?
Для мелкого буржуа из Мекленбурга, постоянно страдавшего от дефицита образования, присуждение докторской степени действительно должно было сыграть очень важную роль, укрепляя сознание собственного величия. Как бы ни суетился Шлиман в вихре светской жизни, как бы практично ни распоряжался своим достойно нажитым состоянием, умея представить себя как коммерсанта в самом выгодном свете, он не упускал возможности лишний раз подчеркнуть факт присуждения ему ученой степени, без сомнения, ставший для него событием года, с тем, чтобы побороть комплекс неполноценности мелкого обывателя, так досаждавший этому маленькому человеку на протяжении всей его жизни. Шлиман любил прихвастнуть и при каждом удобном случае напустить на себя солидность, а докторская степень способна была, по его мнению, вознести его до высот, прежде немыслимых. Так что отныне во всем, что касалось сознания собственной значимости, воцарились гармония и порядок.
Сорокасемилетний Генрих Шлиман еще раз доказал себе, что деньги могут все, и, руководствуясь именно этим тезисом, устремился к своей следующей цели.
Для того чтобы воспользоваться американским брачным законодательством, ему требовалось получить американское гражданство. Важной предпосылкой этого являлось либо выданное федеральными властями свидетельство о рождении, либо подтверждение теми же властями факта пятилетнего пребывания на территории США. Ни то ни другое Шлиман предъявить не мог, однако достаточно толстая пачка долларов сделала свое дело и здесь: он стал американским гражданином и оставался им вплоть до самой своей смерти.
Свой американский паспорт Шлиман купил с помощью клятвопреступления. Едва ступив на американскую землю 27 марта 1869 года, он сразу же отправился в Нью-Йорк искать для себя поручителя. И спустя два дня таковой был найден. Джон Болан, житель Нью-Йорка (Мэдисон-авеню, 90) без долгих рассуждений согласился под присягой заявить в суде о том, что мистер Генри Шлиман, родившийся 6 января 1822 года в Нойбукове (Германия), проживал в течение пяти лет в Соединенных Штатах, из них один год — в штате Нью-Йорк, и всегда придерживался принципов конституции Соединенных Штатов.
Соответствующий документ был подписан вышеупомянутым Боланом 29 марта 1869 года, и уже в этот день Генри Шлиман стал американским гражданином. На следующий день в новом качестве он отправился в Индиану. 1 апреля он прибыл в Индианаполис — город с населением в сорок тысяч жителей, основанный полвека назад.
Ближайший отель на площади был довольно убогим заведением. Там Генри выдержал всего одну ночь, после чего снял для себя дом у железнодорожной линии и нанял слуг-негров и повариху-негритянку, к которой он сразу же проникся уважением, причем не столько по причине ее кулинарных изысков, сколько потому, что она ежедневно прочитывала три газеты (факт тем более удивительный, что в те времена в штате Индиана не имелось ни одной школы, где бы обучались цветные).
БРАКОРАЗВОДНЫЙ ПРОЦЕСС С ПЯТЬЮ АДВОКАТАМИ
На следующий день Генри Шлиман отыскал для себя трех адвокатов (позже, когда состоялся процесс, их потребовалось в общей сложности пять) с тем, чтобы начать процесс о расторжении брака с российской гражданкой госпожой Екатериной Петровной Шлиман, урожденной Лыжиной. С молниеносной быстротой были обговорены и вопросы, касавшиеся гонораров адвокатам, которые тут же распознали в нем очень расторопного дельца. Стражам законности было обещано пятнадцать тысяч долларов, что почти в пятнадцать раз превышало стоимость среднего дома; при неблагоприятном же исходе процесса им полагалось всего двести долларов. Прошение было подано Шлиманом 5 апреля и, как это предписывалось законодательством страны, опубликовано в газете «Индиана Уикли Стэйт Джорнэл» с призывом ко всему населению высказаться за или
же против истца.
Шлиман и сам готов был сделать все от него зависящее, чтобы не создалось впечатление, будто он явился в Индианаполис лишь для того, чтобы без проблем развестись. Поэтому он купил снятый им здесь дом под номером 473 на Иллинойс-стрит за тысячу сто двадцать пять долларов и стал владельцем фабрики по производству крахмала. За двенадцать тысяч долларов он приобрел треть акций этого предприятия.
Речь, естественно, шла лишь о бизнесе для отвода глаз, потому как Шлиман вовсе не собирался обосноваться в Индиане. Он жаловался Адольфу в письме от И апреля 1869 года; «Если приезжаешь сюда уже зрелым человеком, имеющим за плечами солидную карьеру в Европе и немалое состояние, и тем более если тебе когда-то выпало счастье насладиться двухлетней жизнью в Париже и в будущем ты собираешься посвятить свою жизнь красоте (скорее метафизике, чем реальности), то это не то место, где ты чувствуешь себя в родной стихии: наоборот, тебя постоянно гложет тоска по Европе…»
И здесь, в Индианаполисе, Шлиман вынужден был предаваться самому ненавистному из занятий — сидеть сложа руки и ждать. Но когда пришла долгожданная весть о присуждении ему степени доктора, его радости не было границ. Еще раз укрепившись в мысли, что все на свете покупается, даже почет и академическая карьера, он загорелся новой идеей: а почему бы в таком случае не обзавестись за деньги и любящей супругой?
Если ему в жизни чего-то и недоставало, так это женщины, которая бы одарила его своей любовью, и сейчас наступило время раз и навсегда решить эту больную проблему. Бракоразводный процесс с Екатериной свелся для него к обычной, хотя и дорогостоящей формальности, и посему можно было со спокойной совестью отправляться на поиски новой «половины».
Генри был не из тех людей, которые какое-то дело, тем более такое серьезное, как брак, были склонны предоставлять Его Величеству случаю. Вся его предыдущая жизнь была тщательно распланирована, поэтому поиски новой невесты тоже должны вестись не абы как, а с оглядкой, обдуманно, по плану.
Дожидаясь в Индианаполисе окончания своего бракоразводного процесса, Шлиман уже начинал торить пути к своему будущему. Хотя Париж, его непередаваемый аромат и особая атмосфера этой столицы на Сене всегда восхищали Генриха, он не сомневался, что этому городу никогда не суждено стать его второй родиной. А вот Афинам — расположенной у подножия Акрополя греческой столице с чудесными, легкими в общении людьми, ее населяющими, — было уготовано стать тем местом, где он проведет остаток своей жизни, и в первую очередь его воображение поражали черноволосые и темноглазые красавицы-гречанки.
Еще до отъезда в Америку Генри обратился к своему бывшему учителю греческого Теоклетосу Вимпосу с вопросом, не порекомендует ли он ему какую-нибудь женщину-гречанку. Вначале Вимпос предпочел не отвечать на это письмо своего друга, поскольку просьба, изложенная в нем, отдавала не совсем уместной в данном случае пикантностью: когда Шлиман недвусмыленно заявлял о своих планах «осчастливить» какую-нибудь женщину-гречанку, этот легкомысленный эллинофил-кавалер еще, по закону, был связан узами брака, а Теоклетос Вимпос (о чем не следует здесь забывать) являлся архиепископом Мантинейским и Кинурийским.
Это письмо к архиепископу, дошедшее до нас, показывает совершенно иного Шлимана, не похожего на того, которого мы знаем по другим эпистолярным свидетельствам. Здесь перед нами не трезвый, расчетливый, склонный к наставительности, высокомерный, очень вдумчивый человек, в совершенстве воплощающий тип миллионера-самородка, а неуверенный в себе, даже робкий, склонный к мечтательности, жаждущий любви юнец, позволяющий увлечь себя самым потаенным и глубоким чувствам.
«ГОСПОДИН АРХИЕПИСКОП, У ВАС НЕТ НА ПРИМЕТЕ ПОДХОДЯЩЕЙ ЖЕНЬІ ДЛЯ МЕНЯ?»
«Дорогой друг, — писал Генрих Шлиман Вимпосу, — я не могу выразить словами, как сильно полюбил ваш город и его жителей. Клянусь прахом матери, все помыслы мои будут направлены на то, чтобы сделать мою будущую жену счастливой. Клянусь вам, у нее никогда не будет повода для жалоб, я стану носить ее на руках, если она добра и преисполнена любви. Здесь я постоянно вращаюсь в обществе умных и красивых женщин, которые рады были бы исцелить меня от моих недугов и смогли бы даже сделать меня счастливым, если бы узнали, что я подумываю о разводе. Но, друг мой, плоть слаба, и я боюсь, что влюблюсь в какую-нибудь француженку и снова останусь несчастным — теперь уже на всю жизнь.
Посему прошу вас приложить к ответному письму портрет какой-нибудь красивой гречанки — вы ведь можете приобрести его у любого фотографа. Я буду носить этот портрет в бумажнике и тем самым сумею избежать опасности взять в жены кого-нибудь, кроме гречанки. Но если вы сможете прислать мне портрет девушки, которую мне предназначаете, то тем лучше. Умоляю вас, найдите мне жену с таким же ангельским характером, как у вашей замужней сестры. Пусть она будет бедной, но образованной. Она должна восторженно любить Гомера и стремиться к возрождению нашей любимой Греции. Для меня неважно, знает ли она иностранные языки. Но она должна быть греческого типа, иметь черные волосы и быть, по возможности, красивой. Однако мое первое условие — доброе и любящее сердце. Может быть, вам знакома какая-нибудь сирота, дочь ученого, вынужденная служить гувернанткой и обладающая нужными мне качествами?
Друг мой, я открываю перед вами сердце, как на исповеди. Кроме вас, у меня нет никого на свете, кому я мог бы доверить тайну моей души…»
В своем письме из Индианаполиса Генрих умолял друга дать ответ на его письмо и подчеркнул, что развод с Екатериной — дело нескольких дней.
Вимпос питал к Шлиману самые добрые чувства. Он верил в серьезность его намерений. Ему даже удалось получить фотопортреты двух желающих обрести мужа афинянок. Поскольку жених этот представлял собой блестящую партию — шутка ли сказать, миллионер, да еще обожающий Грецию! — архиепископ попытался подыскать подходящую кандидатку и из числа своих ближайших родственниц. У его кузины Виктории, жены афинского торговца сукном Георгиоса Энгастроменоса, был сын и две дочери, младшая из которых — Софья, еще ученица гимназии, — отличалась красотой и умом. Ей как раз только что исполнилось шестнадцать лет, и она была в сравнении с сорокавосьмилетним Шлиманом, конечно же, дитя, однако для Шлимана это не было преградой. Софья представала на снимке во «взрослом» платье своей старшей сестры. Эту фотографию Вимпос решил послать в Индианаполис вместе с портретами двух других афинянок.
Шлиман отреагировал так, как и ожидал Вимпос: обе старшие по возрасту женщины не смогли противостоять красоте и молодости Софьи Энгастроменос. В остальном Генри мог довериться лишь своему умению разбираться в людях и некоторой склонности к физиогномике. Одну из претенденток — Поликсену Гоусти, учительницу, — он характеризовал в своем ответном письме к архиепископу как своенравную, высокомерную, властолюбивую и злопамятную. Изучая портрет Софьи, Генрих, напротив, усмотрел общительную, способную на сочувствие, великодушную, воспитанную девушку, добрую хозяйку — и не ошибся ни в чем. Лишь ее возраст мог заставить его задуматься.
Если быть до конца честным — а иным он и не мог быть по отношению к своему другу Вимпосу, — то Шлиману следовало признать, что у него в течение шести лет не было интимных связей ни с одной женщиной. И, глядя на фотопортрет этой молодой девушки, у которой еще вся жизнь была впереди, он вдруг усомнился в наличии у себя известного запаса мужественности, игравшего столь важную роль в браке. Из его письма к Вимпосу: «…Как сильно ни любит женщина своего будущего мужа, она неизменно проникнется к нему презрением, если он окажется не в состоянии удовлетворить страсть плоти ее».
В своих пространных ответных посланиях архиепископ старался рассеять эти опасения Шлимана относительно будущего брака. Он даже согласился выполнить еще одну его просьбу и продолжал присылать ему портреты афинянок, среди которых была очень недурная собой девица по имени Хариклея и одна разбитная молодая вдовушка — Клеопатра. Но Шлиман остался верен своему выбору: Софья была лучшей из всех. Он по уши влюбился в эту молоденькую девушку и даже сделал с ее фотопортрета дюжину отпечатков и разослал своим родственникам и немногим друзьям, с которыми поддерживал отношения с младых лет.
И вот, сидя в одиночестве в своем большом доме в Индианаполисе, он денно и нощно часами разглядывал ее снимок и атаковал архиепископа в письмах многочисленными вопросами.
Кто такой, Вообще, этот Георгиос Энгастроменос? Есть ли у него состояние?
Сколько лет Софье?
Какого цвета у нее Волосы?
Играет ли она на фортепьяно?
Знает ли она иностранные языки? Если да, то какие? Хорошая ли она хозяйка?
Понимает ли она Гомера и других наших поэтов древности?
Готова ли она к тому, чтобы переехать В Париж и сопровождать мужа В поездках В Италию, Египет или В другие страны?
На все это Вимпос отвечал с величайшим терпением. В конце концов, он прекрасно знал Шлимана и понимал подоплеку его вопросов. Что касалось родителей девушки, то им, хотя и владевшим домом в Афинах и еще одним — загородным — в Колоносе, в целом приходилось испытывать определенные финансовые затруднения, и брак дочери с миллионером-американцем пришелся бы весьма кстати. Что же касалось самой Софьи, то ее никто ни о чем не спрашивал. В те времена замужеством дочерей ведали родители. А с таким более чем скромным приданым, какое могли дать за ней родители, шансы этой девушки сделать удачную партию были весьма невелики.
И вот 18 мая, когда трехмесячный срок, в течение которого он должен был получить официальный развод, достиг как раз половины, Генрих решил поставить в известность своего отца относительно планов на будущее:
«…Один архиепископ из Греции, бывший когда-то моим наставником в деле изучения древнегреческого, прислал мне на выбор несколько портретов жительниц Афин. Из них я выбрал Софью Энгастроменос, понравившуюся мне более остальных; полагаю, что и сам архиепископ этот, если бы не был облечен духовным саном и доселе пребывал среди нас, грешников, непременно бы женился на ней. Что же касается меня, то я имею твердое намерение, если все сложится благоприятно, в июле отправиться в Афины для женитьбы на этой девушке, после чего приехать и к вам, поскольку я, известный обожатель всего греческого, счастливым могу себя представить лишь идя по жизни рука об руку с гречанкой. Однако я намерен взять ее себе в жены лишь в том случае, если она имеет склонность к наукам, поскольку убежден, что молодая и красивая девушка может по-настоящему любить и почитать мужа старше себя лишь тогда, когда и сама испытывает любовь к миру науки — к тому миру, в котором он продвинулся значительно далее ее…»
НЕ СОВСЕМ ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД
А тем временем в Индианаполисе вовсю хлопотали нанятые Шлиманом адвокаты. Чтобы не дать суду, в чью компетенцию входило принятие решения по делу Шлимана, ни малейших шансов отклонить его апелляцию, они не останавливались ни перед чем ради получения своего баснословного гонорара: ни перед наймом лжесвидетелей, ни перед фальсификацией документов. Чтобы их клиент выглядел полноправным гражданином штата Индиана, они за деньги склонили к лжесвидетельству одного фермера из Форт-Уэйна. Этот человек под присягой подписал документ, что Шлиман в течение года проживал в Форт-Уэйне. В качестве доказательства несостоятельности брака суду были предъявлены письма на русском языке, из которых было видно, что Екатерина наотрез отказалась покинуть Россию и жить с ним в Америке. Переводы этих документов на английский были выполнены Генрихом Шлиманом, что же касалось самих бумаг, то они были сфабрикованы. Позже Генри призадумался о том, что эти фальшивки вполне могут быть распознаны, и весьма настоятельно просил своих адвокатов, чтобы те каким-нибудь образом изъяли их.
Выражаясь юридическим языком, бракоразводный процесс Шлимана, как и получение им американского гражданства, был сплошным обманом. Однако юстиция предпочла закрыть на это глаза, и Генрих Шлиман, американский гражданин, 30 июня 1869 года перестал быть супругом Екатерины Петровны Шлиман, урожденной Лыжиной, подданной Российской империи, — такое решение вынес суд Индианаполиса. Решение суда было вынесено в отсутствие ответчика. Шлиман отсчитал требуемый гонорар адвокатам, сдал свой дом в аренду и 15 июля покинул Индианаполис, отправившись в Нью-Йорк и решив при случае снова заглянуть сюда.
Однако в Индианаполис Генри уже никогда не возвратился. В 1873 году он поручил своим адвокатам продать его дом. Шесть лет спустя он через маклера по продаже недвижимости приобрел еще один дом в Индианаполисе, что подтвердило его право на американское гражданство. Дом этот позже унаследовала дочь Шлимана Надежда, которая потом всю жизнь сдавала его внаем. И уже в 1958 году этот дом за неуплату налогов пошел с молотка.
Благополучно освободившись от уз брака, лелея в сердце надежду взять в жены молодую и красивую женщину-гречанку, которая будет жить и его интересами, Генрих Шлиман 24 июня 1869 года взошел на борт французского пассажирского парохода «Сен-Лоран». Генри перенес это путешествие через океан, обладая «прекрасным аппетитом и столь же прекрасным пищеварением». Воды океана были недвижны. Над всей Атлантикой голубел высокий купол безоблачного неба. Шлиман пребывал в прекрасном настроении. На полпути от Нью-Йорка до Гавра он решил присесть за столик в своей каюте, чтобы написать ответ братьям и сестрам. Письмо от них он получил за два дня до своего отъезда (оно ждало его на почте).
Тон ответного письма был продиктован его традиционным высокомерием, которое вернулось к нему, как только открылись радужные перспективы новой жизни. Это было послание, автор которого предстает перед нами холодно-равнодушным, расчетливым субъектом, не способным думать ни о ком, кроме своей особы. При этом Шлиман предпочел благоразумно умолчать о том, что по уши влюбился в шестнадцатилетнюю девчонку, которую и знал-то по фотографии. О разводе он уже успел проинформировать свою семью. Теперь же он ставил своего шурина Мартина Пехеля, дядю Фридриха и сестру Дорис в известность о том, что через две педели собирается ехать в Грецию с целью подыскать себе жену: «Там девушки бедны как церковные мыши, видят в любом приезжем богача и тут же начинают за ним охотиться, как я, бывало, охотился на уток в Египте. И поскольку все, что само идет нам в руки, сильно падает в цене, там я буду иметь возможность хладнокровно оценить местных дам и как следует изучить каждую. А если я все же найду гречанку, чей возраст и здоровье позволят рассчитывать и на прибавления потомства, да еще с таким божественным характером, как у Дорис, способную на любовь и самопожертвование, знающую толк в древнегреческой литературе, мировой истории, археологии и географии, то — ТОГДА И ТОЛЬКО ТОГДА — возьму ее в жены, и можете быть уверены, что я при этом не потороплюсь и все как следует обдумаю, прежде чем сделаю свой выбор, — хвала Господу, выбор в Греции достаточно обширен и девушки там прекрасны, как египетские пирамиды…»
Эти напыщенные, самодовольные строки влюбленного показывают нам, каким ужасно бездушным и даже непочтительным мог быть Шлиман. Отцу и другу Вимпосу он уже давно откровенно рассказал о том, что влюбился, о своих истинных чувствах. Но может показаться, что чувства эти, как только легли на бумагу в виде слов, исчезли, улетучились неведомо куда, став просто листком в папке, «приобщенным к делу».
VIII. БРАК ВТРОЕМ: ГОМЕР, СОФЬЯ II ГЕНРИХ
Мы постоянно стараемся сделать друг друга счастливыми…
Софья Шлиман после их свадебного путешествия.
К сожалению, судьбе, видимо, не угодно одарить меня долгим счастьем в браке…
Генрих Шлиман полгода спустя после свадьбы.
Невысокий человек с редкими волосами вряд ли бы особенно выделялся в пестрой толпе гостей респектабельного афинского отеля «Д'Англеттэр», не будь он одет с вызывающей броскостью завзятого парижского бонвивана. Однако каждый раз, когда он входил в отель, в роскошном холле тут же начинали шушукаться. О нем сразу же заговорили; выяснилось, что этот красноречивый низенький человечек с большой головой не кто иной, как доктор Генри Шлиман — американец, живущий в Париже. Больше никто ничего определенного сказать не мог, по люди шептались, что, дескать, этот богатый как Крез холостяк преследует здесь, в Афинах, особую цель: найти для себя жену. И при этом не смотрит на приданое — лишь бы невеста была молода, хороша собой и недурно разбиралась в греческой истории. Поэтому не приходилось удивляться, когда площадь перед королевским дворцом, где располагался отель «Д'Англеттэр», буквально наводнили толпы матерей, пожелавших на всякий случай показать своих дочерей на выданье.
Еще до того, как отправиться к архиепископу или нанести визит семье Энгастроменос, Шлиман наскоро обозрел остальных кандидаток, предложенных ему Вимпосом.
Во всех этих дамах ему то внушал беспокойство их слишком высокий рост, то озадачивала их уже упорхнувшая молодость, то просто обескураживала их забитость, Шлиман был явно не из тех мужчин, которые с ходу бросаются завоевывать расположение женщины. Но одна из дюжины кандидаток, похоже, по-настоящему вскружила ему голову.
Звали ее Клеопатра Лемони, она была вдовой в возрасте, стремительно приближавшемся к тридцати, и обладала какой-то особой притягательной силой. Движимый отчасти сознанием сильно пострадавшей за годы фактического безбрачия мужской состоятельности, Шлиман начал задумываться о том, не сделать ли своей избранницей даму, уже успевшую вкусить все прелести брака, уже пережившую неукротимую страсть юности. Но после церемонного обмена любезностями Клеопатра предпочла не спешить с ответом этому жаждущему повторно сковать себя узами Гименея американцу, чем сама лишила себя весьма выгодного шанса стать женой миллионера.
Лишь на следующий день Генри отыскал своего друга Теоклетоса Вимпоса, уже поднявшегося достаточно высоко в церковной иерархии. Радость от встречи двух старых приятелей была несколько омрачена растущей нервозностью Шлимана.
— Где Софья? Когда я могу увидеться с ней? — настойчиво спрашивал он.
Вимпос, которого сразу же известили о прибытии друга, успокоил Шлимана: девочка сейчас в Колоносе, в загородном доме семьи Энгастроменос.
— В Колоносе? — Шлимана словно наэлектризовали. Ведь именно из Колоноса и происходил великий греческий поэт Софокл! А что, если это божественное предзнаменование?
Софья, разъяснил ему Вимпос, занята сейчас украшением цветами церкви Святого Мелетия к предстоящему завтра празднику.
И когда Вимпос и Шлиман появились у будущих тестя и тещи Шлимана в Колоносе, все семейство Энгастроменосов, включая и более дальнюю родню, собралось за большим столом. Генри с трудом смог отыскать в этой толпе Софью. Первые приветствия прошли формально-натужно, на легкость общения не могла отважиться ни одна из сторон, а что же касалось потенциальных жениха и его избранницы, то им не удалось улучить и минуты, чтобы обменяться хотя бы парой слов вдали от посторонних глаз. И вообще, поведение этой семьи, явно пытавшейся дать оценку мультимиллионеру из Парижа, крайне неприятно напомнило Генриху о петербургской родне Лыжиных. У него возникло почти непреодолимое желания бежать отсюда.
С какой-то ничего не значащей фразой (по словам Шлимана, он позже и сам не смог воспроизвести ее в памяти) Генрих вручил Софье свою книгу «Итака», которой был обязан степенью доктора. И все. Никаких цветов.
Первая встреча не принесла обоим ничего, кроме разочарования. Софья ожидала увидеть перед собой статного, солидного мужчину, заслуженного человека, профессора, который походил бы на тех уверенных в себе, импозантных мужчин, что так часто приходили в контору ее отца. А этот доктор Шлиман, напротив, оказался чуть ли не ниже ее ростом, а при чтении всегда нацеплял на нос какие-то странные маленькие очечки. Редкие, истончившиеся волосы его были коротко подстрижены, точь-в-точь как у учеников мореходной школы в порту Пирей. И вообще, он производил впечатление не очень здорового человека.
Сам Шлиман, в свою очередь, тоже с трудом мог узнать в Софье миловидную, проворную девушку, которая смотрела на него со всех двенадцати копий фотопортрета, и разглядеть в ней ту влюбчивость, которая так покорила его на снимке. Софья оказалась какой-то скованной, стеснительной и ни в малейшей мере не пыталась продемонстрировать свои знания, приобретенные за время обучения в гимназии.
На родителей Софьи, Викторию и Георгиоса Энгастроменос, как и следовало ожидать, доктор Шлиман произвел самое благоприятное впечатление. Слов нет, это был далеко не Аполлон, но ведь он имел такое колоссальное состояние, говорил на всех возможных языках и в греческой истории разбирался получше иного эллина. А вот Шлимана задело то, как они обхаживали его, всем своим видом желая показать, что он уже как бы вошел в их семью.
ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ ОБОРАЧИВАЕТСЯ КАТАСТРОФОЙ
За время трехдневной пытки общением с семьей Энгастроменос ему так и не удалось побеседовать с Софьей наедине. В бешенстве он возвратился в свой отель и тут же уселся писать девушке письмо: «Достопочтенная госпожа Софья! Прошу Вас, осведомитесь у своих родителей, возможно ли мне встретиться с Вами с глазу на глаз, без присутствия рядом всех тех, кто постоянно находится вокруг нас… Если по греческим обычаям девушке для знакомства с мужчиной не положено встречаться с ним наедине и присутствие Ваших родителей необходимо, то в таком случае вынужден просить Вас навеки забыть меня! Г.Ш.».
Оскорбленный жених запечатал свое гневное послание и отправил его с нарочным в Колопос. На следующее утро — это было 7 сентября — портье отеля «Д'Англеттэр» вручил ответ господину доктору Шлиману: не на шутку обеспокоенные отсутствием перспективного зятя родители пожелали организовать встречу Генриха и Софьи в афинском порту Пирей.
Первое свидание Генриха и Софьи закончилось катастрофой. Ни о каком взаимном обмене нежными словами и попытках сблизиться и речи быть не могло, поскольку Шлиман поспешил выступить в роли школьного учителя. Он устроил девушке экзамен по древнегреческой истории, заставил прочесть наизусть несколько отрывков из «Илиады» и в довершение всего задал вопрос в лоб: «Софья, почему вы хотите выйти за меня замуж?»
Дядя Теоклетос подготовил свою племянницу к каким угодно вопросам своего друга Генриха, но только не к этому. Что ей следовало ответить?
Стеснительный жених рассчитывал, что эта симпатичная девушка примется сейчас осыпать его заверениями в вечной любви, говорить слова почтения и благодарности, но все произошло несколько по-иному: «Все очень просто, господин Шлиман: так пожелали мои родители, ведь вы человек богатый».
Шлиман окаменел. Эти слова девушки он воспринял как пощечину. Еще раз он убедился, что всех женщин мира привлекали лишь его деньги. И эта Софья, несмотря на то, что она еще почти ребенок, видимо, не является исключением. Шлиман был горько разочарован. Быстро простившись, он возвратился к себе в отель с твердым намерением как можно скорее покинуть Афины и саму Грецию.
Оказавшись в своем номере и посмотрев в зеркало, Генрих спросил себя: «А что еще я могу предложить им, кроме денег?» При всем желании его трудно было назвать красавцем — скорее, карликом с признаками физической немощи. Умением вести беседу, если только она не касалась Гомера или греческой истории, он тоже не отличался: все его комплексы тут же давали о себе знать. Стоило ли удивляться, что Софья дала ему такой ответ?
Получив от Софьи откровенное признание, Шлиман вынужден был с горечью констатировать, что в жизни покупалось многое, но не любовь: мойры — богини судьбы, от которых зависит, какой выпадет человеку жребий, — показали себя дамами неподкупными. Подавленный, сраженный этим ударом, растерянный, Генрих взялся за перо: «Меня очень задело, дорогая Софья, что Вы, образованная, современная девушка, дали мне ответ, достойный рабыни. Я — честный, порядочный человек. И коли я пожелал взять Вас в жены, то это лишь потому, что хотел вместе с Вами заниматься археологией, вместе с Вами восхищаться Гомером. А теперь я завтра уезжаю в Неаполь, и может статься так, что мы с Вами не увидимся более. Если Вы действительно нуждаетесь в друге, то подумайте и обратитесь к преданному Вам Генриху Шлиману, доктору фил., площадь Сен-Мишель, 6, Париж».
Как и почти все письма Шлимана, это тоже было не до конца честным. Оно было написано, когда Генрих разрывался между надеждой и страхом потерять ее. Где-то глубоко в душе он надеялся, что Софья попросит у него прощения за свое девичье легкомыслие, заставившее ее произнести эти слова. А теперь он боялся, что этого не произойдет и что он будет вынужден сдержать свое слово и уехать.
«Все кончено!» Генрих обратился к другу Теоклетосу последней своей надежде, и поведал ему о своем горе. Вимпос не понял отчаянья Генриха. Он недвусмысленно дал ему понять, что от семнадцатилетней более дипломатичного ответа и ожидать не приходилось. Необдуманность — привилегия молодых, любовь же требует времени.
ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ — СПЕРВА ЛИШЬ НА БУМАГЕ
С той же прямодушной честностью, с которой Софья дала ответ на вопрос Генри относительно ее намерений выйти за него, реагировала девушка и на его прощальное послание, которое получила в тот же день. Судя по ее словам, она расстроилась, однако ни в коей мере не впала в отчаянье, что в ее положении было бы вполне объяснимо. «Дорогой Генрих! — ответила Софья. — Я очень сожалею, что Бы уезжаете. Вы не должны сердится на меня за то, что я Вам сказала сегодня после обеда. Я считаю, что подобный ответ вполне подходит для такой девушки, как я. И я, и мои родители были бы очень рады, если бы Вы завтра снова были у нас. Ваша Софья Энгастромепос».
Шлиман все же решил выждать день. Но откровенность, с которой Софья писала эти строки, не могла не тронуть его, и ему казалось, что между ними все же протянулась топкая ниточка взаимопонимания, того взаимопонимания, которого они никак не могли достичь во время их личной встречи. И в случае с его первой женой было так же. Доходило до того, что во время их встреч он осыпал ее страшными грубостями и упреками, а в своих письмах — нежностями. Нет, сейчас необходимо общение через письма, лишь оно способно растопить лед отчуждения, грозивший погубить эти только зарождавшиеся взаимоотношения.
Уже готовый к примирению, однако все еще весьма сдержанный, Генрих отвечает на это письмо: «Богатство, несомненно, может способствовать счастливому браку, но никак не может служить для него основой. Женщина, которая выйдет за меня замуж из-за денег, для того чтобы получить возможность разыгрывать из себя светскую львицу в Париже, пожалеет о том, что покинула Афины, потому что сделает несчастными и себя, и меня. Женщина, которая выйдет за меня замуж, должна ценить меня как человека».
Совершенно очевидно, что начало любовным отношениям между Генрихом Шлиманом и Софьей Энгастроменос было положено в письмах. То, чего никто из них не сказал бы другому в лицо, они могли поверять терпеливой бумаге. Все сомнения, страхи, стесненность, которые парализовали их при личных встречах, тут же исчезали, стоило им взяться за перо. С нежностью влюбленной девушки Софья ответила ему.
Дорогой господин Генрих!
С большим нетерпением я ожидала Вашего ответа на мое письмо, поскольку жаждала узнать, осталась ли В Вашем сердце еще та симпатия ко мне, которую Вы обнаружили Во Время нашей Встречи… Но Ваше сегодняшнее письмо очень расстроило меня. Читая его, я поняла, что Вы думаете о наших с Вами отношениях, и я молю Бога, чтобы он помог Вам Вернуть утраченную теплоту чувств ко мне. Вы пишете, что не изменили Вашего намерения покинуть Афины В субботу. В этом случае Вы лишаете меня Всякой надежды. А это печалит меня. И коли я не Вправе больше ничего от Вас потребовать, то тогда я хотя бы прошу Вас В последний раз нанести нам Визит. В надежде, что Ваша душа не позволит Вам отказать мне В этой просьбе, еще раз хочу засвидетельствовать мое безграничное к Вам почтение.
Софья Энгастроменос.
Откровенное и печальное письмо семнадцатилетней девушки рассеяло сомнения Шлимана. Если днем раньше это был впавший в депрессию человек, то слова Софьи снова возвращали его к жизни. Однако on все же не спешит с ответом. Лишь два дня спустя по просьбе Теоклетоса Вимпоса он дает холодно-высокомерный ответ; «Я более не тешу себя иллюзиями. Мне совершенно ясно, что молодая и красивая девушка не может просто так с первого взгляда влюбиться в сорокасемилетнего мужчину, который, к тому же, далеко не красавец. Но я считал, что женщина с характером, который схож с моим, и с похожим отношением к науке могла бы испытывать ко мне уважение. И лишь после того, как эта женщина провела бы подле меня годы, пребывая моей ученицей, я бы еще мог позволить себе надеяться, что она могла бы полюбить меня…»
Неизвестно, каким был этот день для Генриха Шлимана и Софьи Энгастроменос, но 18 сентября они решили пожениться, причем как можно скорее. Теоклетос Вимпос уже выяснил все тонкости свадебного ритуала по греческому православному обычаю. Добытое в Америке свидетельство о расторжении брака было действительным и в Греции, и венчанию ничего больше не препятствовало.
На вопрос, почему Шлиману понадобилось так спешно вести Софью под венец, трудно дать однозначный ответ, однако можно догадаться, что родственники Софьи, а их число доходило до двухсот человек, наверняка посодействовали тому, чтобы ускорить наступление дня свадьбы. Своей любимой сестре Дорис он послал в Мекленбург хвалебно-самоуверенное послание, какими и были большей частью его письма к родне.
«Рад сообщить, что 24 сентября я женюсь на Софье Энгастроменос. Это та самая, которую мне предложил архиепископ из Греции и плохую копию фотопортрета которой ты получила от меня из Индианаполиса. Так как о ее добродетелях, нежной душе и красоте архиепископ был самого лестного мнения, то я уже тогда, вдали от нее, в уединении Индианаполиса, влюбился в эту девушку…
Едва я приехал сюда, как тут же, подобию лесному пожару, распространились слухи, что я прибыл затем, чтобы найти жену-гречанку. Вследствие этого местные дамы устроили здесь на меня настоящую охоту, так что перед моими глазами прошли, по меньше мере, сотни полторы местных красавиц. Поскольку среди них я не обнаружил никого, кто бы даже отдаленно мог сравниться с Софьей, и поскольку она "выступила с матримониальным предложением, копию которого я прилагаю, то я решил 18 числа текущего месяца принять его. Мое решение основывается на том, что девушка имеет ангельский характер Дертхен [сестры Дорис] и мужчина рядом с ней всегда будет хранить верность и справедливо относиться к ней, беречь ее, будет почитать, как богиню.
И если когда-либо у Софьи окажется повод пролить хотя бы одну слезинку, тогда вы все с полным правом сможете считать меня мерзавцем
и целиком приписать мне вину за мой несчастливый первый брак. Софья говорит только по-гречески, но с энтузиазмом готова посвятить себя всем наукам, так что я от души надеюсь, что спустя четыре года она будет говорить на четырех языках. Во всяком случае, я готов к тому, чтобы оставаться ей учителем до конца дней своих, и даже если она и не достигнет того, чего удалось достигнуть мне, то она, по крайней мере, будет преклоняться передо мной».
Как повезло Софье, что она не смогла прочесть это написанное по-немецки послание, о котором даже и не знала! Письмо это лишний раз доказывает, что Шлиман собирался опекать свою вторую супругу как ребенка, что видел в ней всего лишь покорную служанку и слепую почитательницу. Девушка не знала и другого: отец ее был вынужден подписать нотариально заверенное соглашение о том, что ни Софья, ни ее семья не станут претендовать на состояние Шлимана. Софья могла рассчитывать на наследство лишь в том случае, если это будет четко оговорено в его завещании.
ВТОРАЯ ЖЕНИТЬБА ШЛИМАНА
Венчание состоялось в маленькой церквушке Святого Мелетия в Колоносе. Шлиман был в черном сюртуке и цилиндре, в белом жилете и белых перчатках. Выглядел он старше своего возраста, и виною тому были его глубоко посаженные глаза и густая эспаньолка. Да и невеста, хотя и была на тридцать лет моложе своего жениха, не производила впечатление семнадцатилетней. Ее волосы, разделенные прямым пробором, были гладко зачесаны назад и собраны на шее в узел. Белое и просторное подвенечное платье со шлейфом, спускавшимся почти до земли, придавали ей достоинство взрослой женщины, крайне редко встречающееся у ее ровесниц. Софья все время следила за тем, чтобы ненароком не встать настолько близко к Генриху, чтобы могло показаться, что она выше его. А такое впечатление вполне могло возникнуть, тем более, что на свадебной фотографии, если приглядеться, можно заметить, что невеста — сосредоточенная, строгая — чуть согнула ноги в коленях, чтобы ее низкорослый жених выглядел выше. И вообще, пара эта не производила впечатление счастливой.
Виктория и Георгиос пошли на безумные расходы, устраивая эту свадьбу. Они слишком гордились тем, что их дочь сделала такую превосходную партию, и никак не могли довольствоваться скромным свадебным застольем. Однако что касалось финансового положения их семьи, то тут Софья была в курсе дела и попросила Генриха помочь им деньгами, и уж Шлиман не поскупился, выложив сумму гораздо выше той, которая требовалась.
Допоздна две сотни гостей праздновали это торжество, после чего все расселись в экипажи и пролетки, чтобы отправиться в порт Пирей, где стоял уже готовый к отплытию на Сицилию роскошный пароход «Афродита». Но отплытия его ждали до трех часов утра. Последние прощальные слова — и вот Генрих и Софья Шлиман отправились навстречу своему будущему.
Это свадебное путешествие было не чем иным, как поездкой с целью пополнения образования молодой жены Шлимана и его самого. Генрих уже давно замышлял; нечто в таком роде. Для Софьи же — девушки, которая никогда раньше не выезжала за пределы окрестностей Афин, — это стало поистине событием в жизни. Генрих и Софья сошли с парохода в Палермо, чтобы отсюда отправиться на завоевание всемирно известных центров археологических раскопок в Агригенте, Сегесте, Селинунте, Геле и Сиракузах. И впервые в жизни Софья начинала осознавать, что ее теперь малочисленный, задавленный эксплуатацией греческий народ был когда-то властелином мира, что и Сицилия когда-то принадлежала Греции. И Неаполь, где они провели неделю, был основан греками.
В Риме молодая жена впервые поняла, как должна будет выглядеть ее супружеская жизнь с Генрихом Шлиманом. В течение семи дней Генрих провел Софью через два с половиной тысячелетия мировой истории. Римский форум, Колизей, Большой цирк, термы Каракаллы, Домус Ауэрея, мавзолей Августа, Пантеон, могила Цецилии Метеллы, рынки Траяна, Капитолий, Аппиева дорога, пирамиды Цестия, катакомбы, Ватикан, собор Святого Петра, множество других храмов — у Софьи голова шла кругом от всех этих достопримечательностей. Через неделю она была вынуждена признаться мужу, что у нее почти ничего не осталось в памяти от увиденного. Во Флоренции и Венеции, где они провели два дня из своего медового месяца, все было точь-в-точь, как в Риме и Неаполе.
Все эти три недели от Софьи ничего не требовалось, кроме как внимательно слушать. Слушать она, конечно, умела, и все пояснения Шлимана были ей действительно интересны, а если Софья умудрялась запоминать хотя бы десятую часть из того, что рассказывал Генрих, супруг ее радовался как ребенок, с удовольствием выслушивая то, что пересказывала ему семнадцатилетняя жена. Насколько же она отличалась от Екатерины! Она не перечила, не ставила никаких условий, — наоборот, от нее исходило чувство благодарности.

Софья Шлиман на
обложке «Иллюс-
триртер фрауэн-
цайтунг» (1880 год).
Где бы ни появля¬
лась вторая жена
Шлимана, она неиз¬
менно становилась
центром внимания.
Из письма Шлимана к сестре Дорис от 14 октября 1869 года, посланного из Флоренции: «Ни у меня, ни у нее нет ни малейших сомнений в том, что мы всегда будем жить счастливо, даже если Богу не будет угодно наградить нас детьми. Софья — любящая, преданная, покорная жена, прекрасное создание. К тому же, она образованна и на лету схватывает древнегреческий, историю и географию; что же касается других языков, то из них она пока не понимает ни слова…»
«…Даже если Богу не будет угодно наградить нас детьми…» — этот обрывок фразы, на первый взгляд, ничего не значащий, вероятно, все же нуждается в некотором уточнении. С чего бы это вдруг на Шлимана по прошествии первых двадцати дней брака находят подобные мысли? На это может быть лишь один ответ: Генрих, как он и опасался, все же страдал половым бессилием, что обнаружилось именно после свадьбы. Однако по всему видно, что Софья не собирается ставить это в вину своему мужу. А может быть, молодой и наверняка неопытной на брачном ложе девушке это обстоятельство пришлось как нельзя кстати? Во всяком случае, она уповает на то, что время поможет им обоим привыкнуть друг к другу.
РАДОСТИ И ГОРЕСТИ ПАРИЖА
В конце октября молодая пара отправилась через Мюнхен в Париж, где супруги должны были поселиться в особняке Шлимана на площади Сен-Мишель. Может быть, именно там и произошло физическое сближение обоих, потому что впервые Генрих и Софья заговорили о страсти, о счастье в любви. «Софья, — пишет Шлиман своим родственникам в Мекленбург, — прекрасная женщина, которая способна сделать мужчину счастливым: она, как и все греческие женщины, имеет врожденное чувство почтения к своему супругу. Она любит меня, как гречанка, — неукротимо, страстно, и я люблю ее не меньше. С ней я говорю только по-гречески, ведь это самый прекрасный язык на свете — язык богов».
И Софья тоже пишет в Афины своим родителям — Виктории и Георгиосу Энгастроменос: «Париж — это рай на земле, но еще прекраснее любовь между мной и Генрихом. Мы постоянно стараемся сделать друг друга счастливыми…»
Конечно же, молодая девушка из Афин не могла составить конкуренцию своим ровесницам-парижанкам (Афины были провинцией в сравнении с Парижем), но и Шлиману не нужна была эмансипированная, образованная, зрелая — словом, состоявшаяся женщина. Он выискал для себя это молодое, не знавшее жизни, неопытное создание, из которого, как из пластилина, можно было бы вылепить что угодно. Прежде всего молодая жена должна была освоить язык страны, в которой теперь жила. По четыре часа в день она добросовестно зубрила его в присутствии приходящего профессора из Сорбонны. И немецкий, бывший родным языком ее супруга, эта гречанка тоже должна была осилить, поэтому к ней в любое время дня готов был прийти и учитель немецкого.
Софья была добросовестной ученицей, однако у нее не хватало на все сил. К тому же, появились и тоска по дому, и растущее ощущение изолированности. Несмотря на то, что Шлиман постоянно вывозил свою супругу куда-нибудь, Софью нигде не покидало чувство одиночества и собственной неуместности. Вряд ли могли найтись здесь люди, говорившие на ее родном языке, так что в общении приходилось рассчитывать на помощь мужа. А ей ведь было всего семнадцать, в то время как Шлиман общался в основном с людьми даже старше его самого — с теми, кто годился ей в дедушки и бабушки. Результатом были желудочные колики, завершившиеся три месяца спустя приступом нервного истощения. Генрих призвал на помощь лучших парижских врачей. Заключение их было кратким: все недуги фрау Шлиман чисто психосоматической природы. А в качестве терапии они рекомендовали прежде всего покой, а еще лучше — поездку в Афины.
На эгоцентрика-Шлимана нервное расстройство Софьи подействовало, как шок. Но шок этот был ему во благо, потому что до сих пор ни врачи, ни друзья, ни родственники так и не сумели убедить его в том, что подобные методы воспитания и обучения своей жены недопустимы. «Через четыре года, — с гордостью заявил он, — она будет говорить на четырех языках!» Шлиман был убежден, что «из Софьи можно сделать нечто очень значительное». Однако теперь, совершенно неожиданно, ему стало ясно, что та суровость, с которой он привык относиться к своему здоровью, отнюдь не подходила для другого человека, тем более для такой юной девушки, почти девочки, которая в семнадцать лет впервые покинула родительский дом.
Шлиман, несомненно, любил Софью — насколько он вообще был способен искренне любить женщину. Он обожествлял ее, и в этом обожествлении без труда можно было усмотреть и обожествление себя. Но по отношению к своей внезапно захворавшей молодой жене Шлиман повел себя внимательно, тепло и участливо — в этих обстоятельствах проявились качества, прежде неизвестные в нем.
БЕГСТВО ОТ НЕМЕЦКО-ФРАНЦУЗСКОЙ ВОЙНЫ
С первого же дня после прибытия в Париж Шлиман ожидал, каким будет решение турецкого правительства относительно предоставления ему возможности вести раскопки на Гиссарлыке, но турки продолжали тянуть с этим. Состояние здоровья Софьи не улучшалось, и в середине февраля Генрих принял решение поехать вместе с женой в Афины.
Однако было бы неверно приписывать это решение Шлимана лишь заботе о состоянии здоровья его молодой жены. И у Генриха, и у Софьи была и другая причина как можно быстрее покинуть Париж. Как и прежде, Шлимана и здесь не подвела его политическая дальнозоркость. Он всегда оставался человеком, который регулярно читал газеты, черпая информацию не из одной, а из десятка изданий, — как местных, так и зарубежных. А тогда любому, кто обладал способностью к критическому осмыслению политической обстановки, становилось ясно, что между Францией и Германией назревает война. Что же происходило?
Для того чтобы понять истинную причину этого конфликта, необходимо вернуться на два года назад. В 1868 году королева Испании Изабелла II лишилась престола в результате заговора военных. В престолонаследники прочили принца из династии Гогенцоллернов. Французский министр иностранных дел Грамон, опасавшийся прусской гегемонии в Европе, выразил резкий протест против такого решения: Франция не потерпит того, «что чужая власть посадит на трон Карла V — своего принца, нарушив тем самым сложившееся равновесие сил в Европе и поставив под угрозу интересы и честь Франции».
Уже в течение нескольких месяцев во французской печати шла ожесточенная кампания против планов Германии. Министр иностранных дел Франции указал своему поверенному в делах в Берлине на необходимость добиться от прусского короля Вильгельма I официального отказа от претензий на испанский престол. Король Вильгельм, находившийся тогда на лечении в Бад-Эмзе, отклонил это требование. Бисмарк опубликовал соответствующую телеграмму короля. Эта «депеша из Эмза» послужила Наполеону III поводом для объявления войны Германии.
Немецкие войска нанесли Франции сокрушительное поражение. Сам Наполеон III вместе с девяноста тысячами своих солдат угодил в германский плен. Париж был подвергнут осаде. Голод и вспыхнувшая в городе гражданская война принудили правительство к капитуляции.
Этого ада сумели избежать Шлиманы, которые успели заблаговременно уехать. Их отъезд из Парижа походил, скорее, на бегство, потому что уже на борту парохода «Неман» Шлиман писал 17 февраля 1870 года (по пути из Марселя в Пирей) американскому консулу Фрэнку Калверту: «Прошу вас проинформировать меня при первой же возможности, получили ли вы разрешение на проведение раскопок… Если да, то, пожалуйста, пришлите мне список инструментов и приспособлений, необходимых для проведения раскопок, поскольку, в спешке покидая Париж, я позабыл снять копии с ваших писем, полученных мною прошлой зимой…»
По прибытии в Афины Шлиман тут же поспешил отшить свою жадную до денег новую родню. То же самое относилось и к его тестю и теще. Поселились они с Софьей все в том же отеле «Д’Ан-глеттэр» напротив королевского дворца, избегая не очень-то гостеприимного Колоноса. Виктория и Георгиос Энгастроменос, как и многочисленные дядюшки и тетушки, кумы и шурины, сильно расстроились по этому поводу, ибо рассчитывали в лице Шлимана обрести неиссякаемый источник дармовых доходов-. Однако он, если дело касалось предоставления кредитов и больших денежных вложений, вел себя весьма сдержанно. Как и все богатые люди, он был жаден — впрочем, если это касалось расходов Софьи, он без лишних расспросов оплачивал все ее счета, хотя у девушки не было ни драхмы на ее личном счете, которым она могла бы распоряжаться по своему усмотрению. Это оскорбляло ее.
Родители Софьи рассчитывали, что Шлиман согласится погасить их долги, насчитывающие солидную сумму, и, кроме того, выделит средства на расширение их предприятия, однако вынуждены были разочароваться. Энгастроменос утверждал, что у Шлимана была устная договоренность с Теоклетосом Вимпосом о том, что родители невесты получат сто пятьдесят тысяч франков в виде бриллиантов, сорок тысяч франков для расширения их торговли сукном, кроме того, еще двадцать тысяч должна была получить и младшая сестра Софьи, Мариго. Однако Генрих не сдержал слова, и никто не получил от него ни франка.
И семья Энгастроменос упрекала его в скупости, доходившей до болезни. Такого рода упрек Шлиману уже не однажды приходилось слышать в свой адрес. Но на этот раз он почувствовал себя задетым, поскольку это задевало Софью. Поэтому он послал своему тестю злобное письмо, назвав Энгастроменоса грешником, обвинив его в том, что тот попытался сбыть с рук дочь за сто пятьдесят тысяч франков. Лишь турки имеют скверный обычай продавать дочерей, но они-то не христиане! Шлиман грозился даже опубликовать статью о том, как его алчный тесть пытается выманить у него деньги.
И Шлиман так и не изменил своего решения не выплачивать семье Софьи, и даже самой скромной суммы. Это, непреклонно заявил он, заставило бы его поверить в то, что жену свою он купил за деньги. Вместо этого он предложил Энгастроменосу должность управляющего в афинском отделении одного из своих предприятий, твердый оклад и свое поручительство в случае, если его тесть пожелает взять кредит для приведения в порядок своего грозившего прийти в окончательный упадок предприятия, причем размеры этого кредита остаются на усмотрение Георгиоса Энгастроменоса.
ШЛИМАН — ДВОЕЖЕНЕЦ?
Едва он покончил с этим достаточно досадным недоразумением, как столкнулся с новым, еще более серьезным. Чтобы не волновать Софью, Шлиман умолчал о том, что накануне их отъезда из Парижа на его имя пришла жалоба от одного петербургского адвоката, пытавшегося опротестовать законность повторного брака Шлимана. В качестве основания он выдвинул утверждение о том, что бракоразводный процесс, состоявшийся в Индианаполисе, не имеет законной силы и вследствие этого Генрих по-прежнему считается законным супругом Екатерины Лыжиной.
Так как Шлиман предъявил доказательство своего американского гражданства, парижские судебные инстанции отказались от ведения этого дела и жалобу отклонили. Если исходить из законодательства Российской империи, Шлиман являлся двоеженцем, а это, согласно царским законам, являлось преступлением, которое могло повлечь наказание в виде ссылки в Сибирь. И теперь сама Екатерина Лыжина пыталась подать свою жалобу уже в афинские судебные инстанции через местного адвоката Фретоса, который, кроме того, был и греческим консулом в Ливорно.
Настойчивость, с которой его прежняя жена добивалась признания его развода недействительным, не на шутку обеспокоила Шлимана. С одной стороны, известие об этом распространилось в Афинах молниеносно — это не Париж! — и давало ненавистной родне Энгастроменос липший козырь в руки. С другой стороны, Шлиман опасался, что станут известны все его махинации с лжесвидетелями.
Его американское гражданство было основным пунктом, вокруг которого и кипели все страсти. Пока Шлиман был американцем, Екатерина ничего не могла требовать от него, однако он опасался, как бы его не лишили американского гражданства по причине длительного отсутствия на новой родине. Поэтому он послал в нью-йоркское адвокатское бюро ряд писем личного характера с просьбой переслать их в Индианаполис его адвокату. В этих письмах Шлиман проклинал холод нью-йоркской зимы и предупреждал, что ближе к весне снова приедет в Индианаполис.
В действительности же Екатерина была совершенно не заинтересована в сохранении этого брака, заключенного в 1852 году. Ее адвокаты видели
во всей этой шумихе лишь определенный тактический ход, чтобы принудить Шлимана выделить своей первой жене побольше денег. В конце концов обе стороны смогли прийти к соглашению: Генрих переписал на Екатерину дом в Санкт-Петербурге и обязался выплачивать своей бывшей супруге ренту в размере четырех тысяч рублей в год до конца жизни. Однако это разбирательство тянулось вплоть до 1871 года, когда суд в Петербурге наконец признал развод Шлимана действительным.
Дома, в Греции, здоровье Софьи быстро шло на поправку. Шлиман, которому наскучила жизнь в отеле, стал подыскивать для них дом в Афинах. Цены на землю в Афинах в 1870 году были баснословно низки, во много раз ниже парижских. Этому не приходилось удивляться: тогда в Афинах насчитывалось лишь шестьдесят тысяч жителей. Наконец Шлиман нашел для себя нечто подходящее в Одос Мусоне, прекрасном районе вблизи площади Синтагма. Он купил там особняк, обставил его дорогой мебелью и нанял прислугу. Генрих примирился с тем, что Софья была еще слишком слаба, чтобы сопровождать его в поездках. И поскольку разрешение на раскопки в Гиссарлыке до сих пор еще получено не было, он решил нанять небольшое судно с экипажем из четырех человек и отправился на поиски следов прошедших эпох на острова Киклады. Делос, Патрос, Наксос и Тэра (Санторин) очень привлекали его. В середине марта он возвратился, и теперь в дальнейшие его планы входило отправиться вместе со своей молодой женой в Малую Азию.
Родители Софьи всеми силами старались отговорить дочь из боязни, что это путешествие утомит ее. Однако Генрих был не из тех, кто ведет добропорядочную оседлую жизнь: «Так как у меня здесь нет подходящего серьезного занятия, я больше не могу сидеть в бездействии».
В ОДИНОЧКУ НА ПОИСКИ ТРОИ
Хотя официального разрешения на раскопки Шлиман до сих пор не получил, он все же решил отправиться в Трою, желая предварительно прозондировать там почву.
Над холмом раскинулось ярко-голубое весеннее небо — над тем самым холмом, который, по мнению Шлимана, скрывал древнюю Трою. Без конца он кружил вокруг этой покрытой цветами возвышенности. Пристальный взор его замирал на каждом всхолмлении, на каждом камне, которые казались ему хранителями какой-то новой тайны. Но чем дольше он предавался созерцанию, тем яснее становилось, что прежде, чем прийти к каким-то определенным, более или менее четким выводам, следовало произвести пробные раскопки.
Шлиман проклинал медлительность турецких властей и, повинуясь своему извечному духу противоречия, 1 апреля 1870 года решился нанять дюжину мужчин из окрестных селений, изъявивших желание за десять пиастров в день прорыть несколько траншей, которые могли бы дать ему представление о руинах Трои.
То, что вначале замышлялось как своего рода акция протеста против властей, очень скоро обернулось настоящим триумфом археолога. Шлиман убедился в правильности своих предположений. О результате первых пробных раскопок Шлиман сообщил одному советнику юстиции из Кольберга, вызвавшемуся сопроводить исследователя на Гиссарлык.
Шлиман писал советнику юстиции Плато: «Я велел прорыть на вершине холма глубокие, очень широкие траншеи и обнаружил развалины дворцов и храмов на руинах еще более древних зданий подобного типа, пока на глубине в пятнадцать футов не натолкнулся на гигантские стены шестиметровой толщины, представлявшие собой прекрасный памятник архитектуры. Углубившись еще на семь с половиной футов, я обнаружил, что стены эти находятся на других, имеющих в ширину восемь с половиной футов. Эти уже наверняка представляют собой стены дворца Приама или храма Минервы; к сожалению, у меня никак не закончится тяжба с двумя турками, которым принадлежит эта земля, и завтра я, к сожалению, буду вынужден прекратить здесь работы. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы выкупить для себя этот участок, и не успокоюсь до тех пор, пока целиком не выкопаю Пергам Приама…»
По настоянию турок (владельцев земельных участков) сюда прибыл американский посол в Турции Уэйн Маквиг, теперь уже земляк Шлимана, и вынудил его прекратить раскопки. Было это 22 апреля 1870 года. Все траншеи по требованию владельцев вновь были засыпаны, а самому искателю было настоятельно рекомендовано как можно быстрее покинуть пределы Турции.
После этой первой попытки произвести раскопки Шлиман сумел сделать предварительную оценку расходов на их проведение. Общую их стоимость он оценил в сто тысяч франков. Продолжительность раскопок при условии проведения работ силами ста рабочих — пять лет при ежегодной их продолжительности не менее трех месяцев. В письме Фрэнку Калверту Шлиман высказал намерение отыскать в Риме или Помпеях какого-нибудь «а pioneer in the excavating-business» (короче говоря, специалиста по раскопкам) и нанять его для работы на Гиссарлыке. Однако вскоре он, по-видимому, забывает об этом, хотя позже все же нанял одного инженера-француза, который занимался прокладкой железной дороги Пирей — Камия.
Тайком прорытая траншея имела в длину двадцать метров, ширину — четырнадцать с половиной, а глубина ее местами доходила до трех метров. Генри в пространном письме на имя президента «Institut de France» сообщал о том, что ему удалось обнаружить стену описанного Гомером храма Афины, остатки уничтоженных огнем сооружений Трои времен Гомера, урны с человеческим прахом и изображение Прекрасной Елены. Своему парижскому патрону он сообщал — видимо, чтобы приободрить себя, — что уже во время самых первых раскопок обнаружил дворец Приама.
Однако в письме, адресованном Калверту, Шлиман уже более сдержан: «Я не питаю никаких иллюзий относительно того, сколько В ЦЕЛОМ будут стоить раскопки дворца Приама…»
Главное, что сумел понять Шлиман из опыта своих первых раскопок, — это то, что остатки стен, скрывавшиеся под холмом Гиссарлык, были неодинаковы. Другими словами: Троя, предположительно, находилась под несколькими слоями более поздних поселений.
Или, возможно, существовала не одна Троя, а несколько? Может, было несколько городов, построенных в разное время на одном и том же месте? Вопросов возникало множество.
Обреченный на бездействие Шлиман оповестил через германские газеты о результатах своих первых раскопок. Он не без доли хвастовства сообщал на страницах газет о том, что действовал без разрешения турецкого правительства. Естественно, статьи эти не ушли от бдительного ока министра по делам общественности в Константинополе, в чьей компетенции было принятие решений по этому вопросу. Он остался недоволен таким положением дел и заявил во всеуслышание, что этот американец не получал официального разрешения на ведение археологических раскопок. В первую очередь во всем обвинили Калверта. Если раньше он неизменно сохранял лояльность по отношению к Шлиману, то теперь прореагировал следующим образом: «Я не могу не сообщить вам, что, по моему мнению, вы поступили крайне неразумно, начав хвалиться тем, чего вы добились. Теперь нам всем придется считаться с последствиями и запрашивать разрешение повторно, дождавшись, пока правительство поостынет».
ГЕНРИХА ТЯНЕТ В ПАРИЖ
Ввиду резко обострившихся отношений между Германией и Францией, Генрих Шлиман счел необходимым позаботиться о своей недвижимости, которой он владел в Париже. Софья осталась в Афинах.
«Мы все очень были бы рады, — пишет он одному из своих друзей, — если бы она снова была здорова. К сожалению, судьбе, видимо, не угодно одарить меня долгим счастьем в браке… Я не могу описать, насколько опечален этим несчастьем». В это же время он информирует и свою оставшуюся в Афинах супругу: «Поскольку я уже успел привыкнуть к семейной жизни, мое нынешнее монашеское бытие наградило меня бессонницей. Поэтому я встаю в половине четвертого, принимаю душ, выпиваю чашку черного кофе, отправляюсь в манеж, который завоевал известность твоими наездническими экспериментами, там беру лошадь и потом часа три езжу верхом в-Булонском лесу… Домой я возвращаюсь не раньше половины девятого, съедаю второй завтрак и остаток дня работаю…»
Издалека Шлиман пытался дать понять Софье, как он рассчитывает на то, что она отправится вместе с ним на раскопки Трои. «Ее самым большим счастьем, — писал он, — было бы когда-нибудь издать под именем
Софья Шлиман книгу о своих впечатлениях». За это он обещал ей привезти из Парижа дамское седло и сапоги для верховой езды, а еще колбаски и консервированные сардины.
Несмотря на войну, объявленную Францией Германии, Шлиман не изменил своих планов и отправился на морские купанья в Булонь-сюр-Мер. Предстоящие раскопки в Трое беспокоили его гораздо больше войн. Тем временем он вынужден был признать, что его слишком уж поспешная похвальба в печати принесла ему лишь вред. В день ставшего роковым для Франции сражения под Седаном, где вынуждены были сложить оружие армии Наполеона III и Мак-Магона, Шлиман писал письмо турецкому министру образования Саф-веду-паше, в котором извинялся:
«С энтузиазмом приветствуя гигантские реформы, поистине гениально проводимые Вами во благо человечества, беру на себя смелость обратиться к Вашему Превосходительству с просьбой принять от меня в знак величайшей признательности прилагаемую мной книгу [ «Итака»]. Эта книга повествует и о моих археологических исследованиях в Трое… Случай привел меня в апреле месяце сего года еще раз на холм Трои, и божественные строки Гомера, равно как и любовь к археологии, заставили меня отважиться на небольшие пробные раскопки на холме, и при этом я натолкнулся на дворец царя Приама и храм Минервы…
К моему великому сожалению, я узнал от господина Калверта из Дарданелл, что Ваше Превосходительство рассердились на меня, поскольку я проводил эти небольшие раскопки не удосужившись испросить официального разрешения на них у Вашего Превосходительства. Но едва этот холм, хранящий во чреве своем дворец Приама, поиски которого ведут все археологи на протяжении вот уже двух столетий, предстал глазам моим, моя преданность науке археологии и мой восторг лишили меня рассудка. Я трудился и в дождь так, словно надо мною было безоблачное летнее небо, я не ощущал ни голода, ни жажды, хотя случалось

Константинополь, столица Турции во времена Шлимана. В декабре 1870 года исследователь безрезультатно обращался во множество чиновничьих ведомств, чтобы получить лицензию на проведение раскопок Трои. Акция принесла не неожиданный успех: он выучил и турецкий.
и так, что у меня с утра и крошки во рту не было; каждый глиняный черепок, который я извлекал на свет Божий, был для меня все равно что листок в неисчерпаемой книге истории.
Я прошу у Вас прощения во имя нашей общей с Вами матери науки, которой Вы, как и я, посвятили жизнь свою, во имя той науки, которую мы одинаково ценим превыше всего остального на свете, во имя той науки, которую поставили под свою надежную защиту!»
О том, что принадлежавшую ему в Париже недвижимость сотрясают сейчас взрывы немецких снарядов, Шлиман даже не думал и в прекрасном настроении, окрыленный надеждами, возвратился в Афины.
Счастье показалось ему абсолютным, когда однажды вечером Софья произнесла; «Я беременна».
Шлиман был вне себя от радости.
— Мальчик должен носить имя Одиссей! — ликовал он.
Софья устремила на Генриха полный изумления взгляд:
— Кто сказал тебе, что это будет сын?
— Я это знаю, — ответил Шлиман. — Я абсолютно в этом уверен. Мальчик будет носить имя Одиссей, как и хитроумный царь Итаки.
Шлиман теперь относился к своей жене заботливо, был с ней предупредителен, как никогда. Для наблюдения за протеканием ее беременности он нанял доктора Веницелоса, получившего медицинское образование в Берлине, — профессора Афинского университета и лучшего гинеколога Афин.
Прошла осень, закончился год 1870-й, а разрешение на производство раскопок так и не было получено. В конце декабря Шлиман направился в турецкую столицу, чтобы там, уже на месте, при поддержке американского посла Уэйна Маквига вести переговоры с ответственными правительственными инстанциями. Словарный запас Шлимана в турецком насчитывал, по его собственной оценке, шесть тысяч слов, и он надеялся, что этого окажется достаточно, чтобы убедить и министра, и султана в серьезности его намерений.
Три недели ходил уже потерявший всякую надежду исследователь от одного представителя властей к другому. Его все принимали в высшей степени дружелюбно, однако, что было вполне в духе восточных традиций, откладывали решение вопроса то на следующий день, то на следующий месяц, то вообще на неопределенное время. Единственным успехом, о котором Шлиман с полным правом мог сообщить Софье, было то, что он за все эти недели сумел блестяще усовершенствовать знание турецкого языка.
«РАЗВЕ НЕТ У ТЕБЯ СУПРУГА, ДЛЯ КОТОРОГО ТЫ — БОГИНЯ?»
Однако Софья чувствовала, что Генрих оставил ее наедине с ее бедами. У нее складывалось впечатление, что для мужа гораздо важнее получение лицензии на раскопки, нежели то, что она ожидает от негр ребенка. Казалось, что она одновременно вышла замуж и за Гомера. Когда она написала мужу о своих сомнениях, он ответил ей упреками. «Я безутешен в моем горе, — писал он в ответном письме по-французски, — узнав о твоем настроении, твоей печали и отчаянии. Но, любимая моя, разве Бог не милостив к тебе? Разве нет у тебя супруга, для которого ты — богиня? Разве ты не стоишь на пороге исполнения всех твоих самых сокровенных желаний? Разве ты вдали от дорогих твоему сердцу Афин и столь любимой тобою матери? А в это время мои парижские друзья и вместе с ними еще два миллиона мужчин, женщин и детей не имеют даже дров, чтобы растопить печь, а на дома их падают зажигательные бомбы, и стены их, рушась, погребают под собой тысячи умнейших, милейших и дорогих существ, единственное преступление которых в том, что они дали оглупить себя этому каналье Наполе
ону!»
В сентябре 1870 года была провозглашена республика. Париж был взят в кольцо германскими войсками, применявшими артиллерию, чтобы добиться сдачи города. Газеты в Константинополе распространяли ужасные сведения о том, что творилось в Париже: люди умирали от голода и замерзали, большая часть города лежала в развалинах. 18 января 1871 года французская столица капитулировала. В войне, которая официально закончилась 10 мая 1871 года, со стороны Германии погибло 49 тысяч человек, с французской же стороны — 139 тысяч.
И хотя Софья забрасывала мужа письмами с просьбой остаться с ней в Афинах, Шлиман был непреклонен в своем решении лично отправиться в Париж. Четыре принадлежавших ему дома, сдаваемых внаем в общей сложности двумстам семидесяти семьям, что приносило доходы в несколько миллионов франков, являлись значительной частью его состояния.
Поездка во Францию не представляла сложности для американского гражданина. Однако для того, чтобы попасть в Париж, ему требовалось специальное письменное разрешение. Еще не позабыв горький опыт общения с турецкими инстанциями, Шлиман пошел на хитрость. В Ланьи он купил у почтового служащего Шарля Клейна форму и его пропуск. Позже под видом почтальона Шарля Клейна он благополучно миновал два саксонских поста и один прусский. Для совершения этой гусарской эскапады ему как нельзя кстати пришлось его знание языков, но не последнюю роль сыграло и то, что в те времена на документах, удостоверявших личность, отсутствовали фотографии владельца, С теми, кто останавливал его для проверки, Шлиман изъяснялся на прекрасном французском языке, называя военных «месье полковник» или «мой генерал». А польщенные таким обращением военнослужащие желали почтмейстеру счастливого пути.
«Если бы они раскрыли этот обман, — писал Шлиман своему двоюродному брату Адольфу в Шверин, — меня тут же арестовали бы и расстреляли». По его словам, Шлиман ни о чем другом не думал, кроме того, как добраться до места назначения, и инстинктивно искал дорогу к своему особняку. По пути Генрих говорил с людьми, и ему сообщили, что большая часть улицы лежит в развалинах. Но произошло чудо: ни один из принадлежавших ему доходных домов, как и его особняк, не пострадали. «Тогда я в порыве радости бросился целовать корешки книг моей библиотеки», — вспоминал позже Шлиман.
До начала апреля Генрих задержался в Париже, не забывая, однако, и своей главной цели — раскопок Трои. Ему удалось за это время разузнать, почему же турки с опаской относились к его планам. Дело было в том, что именно там, где Шлиман прорыл свои первые пробные траншеи, несколько лет назад был обнаружен клад из тысячи двухсот больших серебряных монет времен Антиоха Великого, и находка эта заставила турецких официальных лиц предположить, что на этом же месте в земле скрыты еще большие сокровища.
В ответ на это исследователь в присутствии американского посла Уэйна Маквига выразил министру Сафведу-паше готовность дать как устные, так и письменные заверения в том, что все обнаруженные им ценные находки из серебра и золота и каждую монету он незамедлительно передаст в распоряжение турецких властей, предложив, чтобы при раскопках всегда присутствовали два постоянных наблюдателя, которые бы осуществляли соответствующий контроль за ходом работ.
«Я даже был готов к тому, — писал Шлиман Фрэнку Калверту, — чтобы заплатить этому министру двойную цену всех найденных мною сокровищ, поскольку мною движет лишь одно желание — решить проблему местонахождения Трои. Я готов потратить на это все оставшиеся мне годы и любую, пусть даже самую крупную, денежную сумму, но земля эта должна быть моей, и пока этого не будет, я не начну раскопок, поскольку если я буду работать на земле, принадлежащей правительству, то я обречен на вечную битву с ним и всякого рода неприятности…»
Великодушное предложение этого американца дало толчок к жестким переговорам, где ни одна сторона не желала идти на слишком большие уступки другой. Слова Шлимана явно свидетельствовали о том, что он не простой искатель сокровищ, а ученый, исследователь.
Вернувшись в Афины, Шлиман, стараясь делать это по возможности незаметно, занялся скупкой земли в черте города и вскоре стал владельцем более десяти участков. Повсюду в Европе ни у кого не было денег, процентные ставки на кредиты были высоки, а земля подешевела, как никогда. Среди этих участков был один, расположенный на Одос Панепистимиоу, неподалеку от государственной библиотеки. За него Шлиман заплатил 68 000 драхм и пообещал Софье: «Однажды на этом месте я велю возвести дворец!»
7 мая 1871 года Софья произвела на свет здорового ребенка. Отец же не мог скрыть своего разочарования: это была девочка. Если он не имел возможности назвать своего сына Одиссеем, то у дочери должно быть имя, по крайней мере, хотя бы из «Илиады»! К самым благозвучным местам поэмы Гомера относилась сцена встречи Гектора со своей женой Андромахой перед битвой за Трою.
— Ее имя будет Андромаха, как у жены Гектора! — беспрекословным тоном заявил Шлиман.
Что могла возразить против этого ее мать? Она знала, что совершенно бессмысленно пытаться возражать Генриху, если он вбил себе в голову что-то.
Последние новости из Константинополя придали Шлиману бодрости. На таких условиях турецкое правительство не то что могло — оно было ОБЯЗАНО выдать этому настырному американцу лицензию на проведение раскопок. И осенью, обещал Шлиман, как только минует засушливая пора, он начнет то, о чем мечтал всю жизнь. Софья, которая чувствовала себя после родов бодро и обрела наконец душевное спокойствие, пообещала сопровождать мужа в Малую Азию с условием, что для ребенка будет нанята няня.
Генрих считал, что никакой другой няни, кроме как из Германии, у его дочери и быть не может. «Нет в мире нянь лучше немецких!» — провозгласил он и отправился в Мекленбург. Оттуда он собирался заехать в Берлин, чтобы попытаться установить контакт с профессором Курциусом. Курциус считался патриархом истории древнего мира и проявил интерес к троянскому проекту Шлимана.
Поиски няни для дочери привели Шлимана в Нойштрелиц: избранницу звали Анна Рутеник, она была незамужней дочерью одного адвоката и отличалась безукоризненными манерами. Шлиман пообещал ей поистине королевское жалованье, однако поставил условие, что Анна должна еще и учить девочку немецкому.
ОПЬЯНЕННЫЙ ПОБЕДОЙ БЕРЛИН
В конце июля Шлиман прибыл в Берлин. Он остановился в престижном отеле «Бельвю» на Потсдамерплац. Повсюду в городе царило праздничное оживление. Казалось, настала новая жизнь. Из некоторых окон до сих пор еще свешивались праздничные гирлянды, они же украшали и порталы многих зданий — следы недавно состоявшегося парада победы. Кайзер Вильгельм прошествовал через Бранденбургские ворота, его сопровождали верхом Бисмарк, Мольтке и Рон. Пруссия праздновала победу над Францией. В Версале была провозглашена Германская империя. Никогда еще Германия не была такой огромной и сильной.
Профессор Эрнст Курциус устроил свою резиденцию в одном из лучших дворцов города на Маттейкирхштрассе. Слово «резиденция» подходило как нельзя лучше для того импозантного, внушительного здания, где проживал профессор.

Когда Шлиман летом 1881 года прибыл в Берлин, город был охвачен
эйфорией победы в только что завершившейся войне.
Вверху: Лустгартен с собором (слева) и Берлинским замком (спра¬
ва). Внизу: Национальная галерея (справа) и Старый музей (слева).
Профессор с нескрываемым высокомерием, про-исходившим, вероятно, от сознания собственного величия, принял незнакомца в «голубой комнате». Эта расположенная на третьем этаже гостиная излучала уют. Обитые шелком стены над необъятной софой были увешаны девятью литографиями по мотивам картин Рафаэля. Тяжелые бархатные портьеры почти не пропускали света. На стоявшем напротив комоде тикали часы с маятником.
— Много наслышан о вас! — приветствовал гостя Курциус.
— Надеюсь, хорошего! — ответил ему Шлиман.
— А вы сейчас живете в Афинах?
— Да, господин профессор. Я взял в жены очаровательную афинянку. А дочери нашей только что исполнилось два с половиной месяца.
— Тогда поздравляю вас, господин Шлиман. Как же вы назвали вашу малышку?
— Андромаха, — ответил Генрих.
Профессор не мог сдержать усмешки, а Шлиман продолжал:
— Но я, откровенно говоря, ожидал, что это будет Одиссей, — мало того, я был в этом совершенно уверен и даже, будучи в Париже, накупил на две тысячи франков одежды для мальчика…
Курциус весьма непринужденно сменил тему:
— Я читал о ваших пробных раскопках, господин доктор. Скажите, вы действительно верите в то, что нашли Трою?
— Я своими глазами видел Трою и прикасался к тем камням, на которых сражались Ахилл и Гектор. Я прорыл всего лишь две траншеи и на глубине пятнадцати футов уже натолкнулся на остатки огромных стен. Вероятно, они принадлежат дворцу Приама. Я абсолютно в этом уверен.
В научных кругах профессор Курциус слыл ярым сторонником идеи о том, что Троя погребена у Бупарбаши. Эта точка зрения была отражена и в его книге о Малой Азии.
— И вы по-прежнему считаете, что Троя погребена под холмом Гиссарлык? — хмыкнув, вопросил седовласый профессор, будто желая сказать: «Только не ошибитесь, друг мой!»
Шлиман попытался разъяснить Курциусу, на чем основывается его убежденность: он тщательно изучил местность вокруг Бунарбаши, однако чем дольше там находился, тем сильнее росло сомнение в том, что Троя могла располагаться так далеко от моря.
— Ну как могли греческие воины, — горячо заговорил Шлиман, —
по нескольку раз на дню пешком добираться от своих кораблей до крепости неприятеля и обратно, если Троя располагалась бы у Бунарбаши? Как смог бы Ахилл заставить Гектора трижды обежать стены крепости, если там скалы совершенно неприступны для человека? Когда я сам однажды попытался на них взобраться, мне пришлось карабкаться на четвереньках, а на то, чтобы просто один раз обойти эту местность кругом, мне потребовалось целых два часа!
КУРЦИУС СЧИТАЕТ ГОМЕРА СКАЗОЧНИКОМ
Профессор пожал плечами. Как и большинство серьезных ученых того времени, он считал, что Гомер был великим поэтом, по
совершенно никудышным историком и не относился к тем авторам, кто в своих повествованиях опирался бы на реальные факты.
Шлиман, казалось, угадал ход его мыслей.
— По моему твердому убеждению, — продолжил он, — этот холм Гиссарлык и скрывает в своих недрах настоящую Трою. Я видел и тот камыш, который обнаружил Одиссей, и, как Одиссей, слышал крики цапель, которые до сих пор гнездятся в этой местности. Я целые дни просидел там на черном хлебе и воде из Скамандра. Это был апрель, и я проводил ночи под открытым небом, устраиваясь на ночлег на камнях, а подушкой мне служил томик Гомера, и мне иногда казалось, что античные герои так близко, что я могу даже прикоснуться к ним… — при этих словах в глазах Шлимана зажегся огонь.
Огонь этот словно придал Генриху молодости и юношеского задора, и именно поэтому застывший в неподвижности пятидесятилетний профессор показался по сравнению с ним глубоким стариком, хотя их разделяло всего каких-то десять лет, даже меньше. Курциус покачал головой.
— Шлиман! — воскликнул он. — Вы вообще понимаете, во что вы ввязались? Чтобы доказать вашу теорию — а ни о чем больше здесь речи идти не может! — так вот, чтобы доказать вашу теорию, вам придется снести всю эту гору!
Впервые за всю беседу на губах у Шлимана заиграла его обычная, чуть высокомерная улыбка. Он небрежно бросил:
— Раскопки крепости Приама обойдутся мне не менее, чем в сто тысяч франков. С той сотней человек, которых я нанял для этих работ, мне понадобится примерно лет пять. Для себя и для них я намерен возвести хорошие, прочные дома. Сейчас я как раз и направляюсь в Лондон, где у одной давно знакомой мне фирмы «Шредер и К°» приобрету штук двести тачек и необходимое количество совковых и других лопат.
Сейчас устами Шлимана вещал холодный, расчетливый коммерсант, предприниматель, который отдавал себе отчет в том, насколько огромна задача, вставшая перед ним. И, глядя на этого невзрачного человечка критическим взором, Курциус от души жалел, что не имел возможности увлечь его своими собственными планами. Человек такого энтузиазма и размаха, владелец такого состояния — да, ему самому такой человек пришелся бы как нельзя кстати.
Полжизни Курциус посвятил мечте раскопать античную Олимпию — святое место, где впервые зажегся олимпийский огонь. До сих пор планы его были обречены на неуспех по причине отсутствия денег, но, видя перед собой этого Шлимана, он вынужден был признаться самому себе, что, возможно, дело не только в деньгах: может быть, ему как раз не хватало именно энергии этого человека и присущего ему духа авантюризма?
Внезапно Курциус поднялся с кресла.
— У меня возникла одна мысль, — задумчиво произнес он. — В конце августа я собираюсь отправиться вместе с двумя моими коллегами в Малую Азию. Один инженер из Эссена, занимающийся там прокладкой дорог, натолкнулся у Бергамы, что к северу от Смирны, на какие-то остатки древних строений. В этой местности прежде лежал Пергамоп, древняя столица Пергамского царства. Во время строительства дороги от Константинополя в Смирну вдруг обнажились огромные мраморные плиты, и Турция не придумала ничего лучшего, как просто загрузить их в печь для обжига извести. И, если ничего тому не воспрепятствует, мы могли бы заехать и на Гиссарлык.
Прощаясь с Курциусом, Шлиман был совершенно уверен в том, что не сумел убедить этого человека в правоте своих гипотез. Этот профессор и дальше будет твердить, что Троя располагалась вблизи селения Бунарбаши, что именно там и следует ее искать, а то, что вытащит из земли этот Шлиман, копаясь в толще гиссарлыкского холма, будет интересовать его, Курциуса, лишь как нечто, имеющее к науке археологии весьма отдаленное отношение.
Однако, может, еще не все потеряно, и ему еще удастся убедить этого седоголового профессора, когда холм Гиссарлык предстанет перед его глазами?
Лучше всего было бы, конечно, сначала отправиться в Афины и уже оттуда — в Дарданеллы, чтобы дождаться профессора Курцпуса там, но Шлиман должен был отправляться сейчас в Лондон к Шредеру, у которого заказал на тысячи франков тачки и инструмент. Нужно как следует посмотреть, может быть, даже отобрать что-то еще и организовать доставку всего этого морем в Малую Азию.
БУНАРБАШИ ИЛИ ГИССАРЛЫК?
В Лондоне он, как это всегда бывало, если Шлиман оказывался в чужой столице, прямым ходом отправился в американское посольство. Это имело под собой две причины: во-первых, (таковы были правила), каждый американец должен был зарегистрироваться в посольстве; во-вторых, через посольство он мог получать почту. И на этот раз Шлимана ожидала толстая пачка корреспонденции. Самое важное письмо пришло от американского посла в Константинополе Уэйна Маквига с приложенной к нему долгожданной лицензией на проведение раскопок гиссарлыкского холма, подписанное министром Сафвед-пашой. Это было 12 августа 1871 года.
Шлиман поставил об этом в известность жену и в тот же день оповестил Фрэнка Калверта. Он писал, что намеревается в октябре, как только спадет жара, начать раскопки. В остальном он убедительно просил Калверта оказать всяческое содействие профессору Курциусу, который должен будет прибыть в Дарданеллы и, кроме того, заехать на Гиссарлык: «От всей души прошу вас встретить его, когда он прибудет к вам с кратким визитом или, что даже лучше, сообщить о его прибытии прусскому консулу и предупредить владельца отеля. И вам самому, я уверен, доставит удовольствие знакомство со столь знаменитым человеком…»
И хорошо, что Шлимана не было в Трое, когда туда прибыл Курциус. Эрнст Курциус появился там в сопровождении пяти экспертов: берлинского историка архитектуры Фридриха Адлера, профессора Б. Штарка из Гейдельберга с его ассистентом Густавом Хиршфельдом, а также Генриха Гельцера и майора прусского генштаба Регели, признанного специалиста-геодезиста.
Все шестеро хорошо одетых господ сошли на берег в порту Чанаккале, что у выхода из Дарданелл, 3 сентября. Калверт, встречавший их, тут же вызвался сопроводить господ из Германии в черных сюртуках на Гиссарлык.
— Но мы собрались в Бунарбаши! — заявил Курциус.
— Но Бунарбаши — это ведь не Троя! — Калверт не скрывал своего разочарования. — Разве Шлиман вам этого не говорил?
— Говорил, говорил, — ответил профессор. — Однако мы желаем вначале отправиться в Бунарбаши и получить представление о том, что находится там, а уже оттуда — и на Гиссарлык.
Профессор и его спутники наняли парусник и отправились на юг, к предгорьям Кумкале. Оттуда до Бунарбаши и обратно они добирались на ослах. Все они не могли скрыть разочарования, когда увидели неподалеку от минарета, который стоял как раз в центре селения, холм, кольцом окруженный разрушившейся стеной. Их взорам предстали лишь низкорослые деревья, трава и кустарник, покрытый побуревшей от летнего зноя листвой. И лишь там, где у западного подножия горы из покрытой пылью земли вырывались воды источника, зеленела трава.
Вшестером они взобрались на крутой холм. Оказавшись наверху, они зачарованно наблюдали закат солнца, и на том месте, где оно, казалось, вот-вот опустится в море, вода искрилась, словно бриллиант в свете мерцающей свечи. Темная в вечернем освещении зелень берегов змеей извивавшегося Скамандра оживляла выжженный пейзаж. Всем было трудно представить себе, как здесь, в этой Богом покинутой местности, могла когда-то гордо возвышаться золотом сверкавшая Троя.
С наступлением сумерек приезжие отыскали какого-то местного жителя — судя по всему, из зажиточных, — и он предложил им в качестве места для ночлега нечто вроде постоялого двора, который, по их мнению, больше походил на конюшню. Немцы единодушно решили расположиться на ночлег на голой земле.
— Как вы считаете, — осведомился Адлер у Курциуса, — это и есть та самая античная Троя?
Ответа профессора пришлось дожидаться довольно долго. Наконец он высказал свое мнение:
— Что касается ландшафта и места, я бы сказал, что да. Но сама по себе эта стена не может служить доказательством того, что перед нами действительно Троя.
— Возможно, — высказал предположение Адлер, — нам следовало бы все же взглянуть на раскопки этого Шлимана?
— Да что вы! — презрительно отмахнулся Курциус
— Но ведь и Калверт тоже убежден в том, что Трою следует искать у Гиссарлыка!
— Видимо, это потому, — возразил профессор, — что половина всей тамошней земли принадлежит ему. Это явно не во вред его гешефтам.
Никто из приезжих немцев так и не сумел заснуть в эту ночь: во-первых, они опасались разбойного нападения, во-вторых, вид, открывшийся с холма Бунарбаши, привел их в явное недоумение.
Абсолютно неожиданно прозвучали наутро слова Эрнста Курциуса:
— Мы обязаны, раз уж мы приехали сюда, взглянуть на то, что здесь накопал этот самый господин Шлиман.
И все шестеро, взобравшись на своих осликов, отправились на' север.
Даже если вырытые по распоряжению Шлимана траншеи были теперь большей частью засыпаны, структура почвы и освобожденная от земли часть сложенной из камня стены убеждали гораздо больше, нежели те руины, которые они видели в Бунарбаши. В разных местах кладка выглядела по-разному (не одно поселение оставило здесь свои следы). Но разве достаточно этого, чтобы прийти к однозначному утверждению: тут стояла воспетая Гомером Троя?
После возвращения в Дарданеллы Курциус и его коллеги снова увиделись с Фрэнком Калвертом. Консул засыпал профессора расспросами о том, продолжает ли он и сейчас, после того, как побывал в обоих местах и увидел все собственными глазами, придерживаться прежнего мнения.
Курциус ответил американцу не сразу, но ответ его был очередной пощечиной Шлиману и его теории: «Я считаю, что на месте предпринятых Шлиманом раскопок находится Новый Илион, который во времена римлян и Македонии достиг своего расцвета. Я не верю, что это древняя Троя, — она лежит в земле Бунарбаши!»
«МИР ДОЛЖЕН УБЕДИТЬСЯ В ТОМ, ЧТО ПРАВ Я»
Переполненный счастьем Шлиман с долгожданным фирманом — разрешением султана на проведение раскопок — возвращался в середине сентября в Афины. Сопровождала его Анна Руте-ник из Нойштрелица, будущая няня его дочери. Андромахе тем временем исполнилось уже четыре месяца. А вот что касалось Анны, то это была уже не Анна, а Навсикая — это имя она получила взамен прежнего.
Шлиман бушевал, распечатав и прочитав письмо от Фрэнка Калверта, в котором тот сообщал о визите берлинского профессора Курциуса и его пятерых спутников в Трою.
— Что там такое? — участливо осведомилась Софья.
Шлиман потряс письмом Калверта в воздухе. Софья заметила, что руки у мужа трясутся.
— Это все из-за этого Курциуса! Он как был, так и остался самонадеянным, высокомерным человеком!
Потом, расправив листок, он, пробурчав себе под нос несколько бессвязных слов, принялся читать вслух: «…Все, что я могу сообщить после его возвращения из Трои, это следующее: Курциус и его люди так и остались верны своей теории о том, что Троя располагается в Бунарбаши, несмотря на все мои попытки переубедить их. Мистер Хиршфельд (надеюсь, именно так пишется его фамилия), который учится в Афинах, считает, что степы, открытые вами (равно как и те, что откопал я), относятся к более позднему периоду, но не к древней Трое. Как вам известно, в этом наши с ним точки зрения совпадают. Я сказал ему, что, когда гиссарлыкский холм все же будет раскопан, мы обнаружим там стены легендарного города. Теперь пока еще несколько преждевременно приходить к какому-то определенному и окончательному мнению…»
Шлиман отбросил письмо в сторону, а Софья попыталась утешить супруга:
— Но ты же ведь не сдашься!
Генрих молча посмотрел на жену и, помедлив, ответил:
— Нет! Никогда и ни за что. Мир должен знать, что прав я.
IX. ТРОЯНСКОЕ СОКРОВИЩЕ
Будет некогда день, как погибнет высокая Троя, Древний погибнет Приам и народ копьеносца Приама. Зевс Эгиох, обитатель эфира высокоцарящий, Сам над главами троян заколеблет ужасным эгидом, Сим вероломством прогневанный: то неминуемо будет.
Гомер, «Илиада», песнь IV.
Чанаккале на Дарданеллах,
27 сентября 1871 года.
«Эфенди Шлиман! Эфенди Шлиман!» Портовые рабочие, поденщики и мальчишки в лохмотьях, которых полно было в порту Чанаккале, бегали взад и вперед, мозоля глаза этому низкорослому американцу, о котором в народе рассказывали всякие чудеса: он сказочно богат и голова его забита всякими сумасбродными идеями; он будто бы хочет раскопать сокровища именно в этой Богом проклятой Трое, о которой говорили, что если Бог хочет кого-то наказать, то посылает туда.
Ждали эфенди. Консул США Фрэнк Калверт по-восточному сердечно поздоровался со Шлиманом и сразу же выложил ему печальную новость:
— Пока нельзя начинать раскопки. Губернатор провинции, Ахмед-паша, поручил мне передать вам это.
Шлиман рассмеялся. Он расценил слова Калверта как шутку. Опустив руку в нагрудный карман своего сюртука, он, пошарив там, извлек сложенную бумагу.
— Вот, смотрите, это мой фирман, — торжественно произнес он, — документ от министра. Мне очень долго пришлось его ждать.
— Знаю, знаю, — заверил его консул, — губернатор и не ставит под сомнение подлинность вашей лицензии. Он просто обратил мое внимание на то, что в этом фирмане не сказано, в каком именно месте вам разрешено производить раскопки. Гиссарлык ведь довольно большой…
— Что значит «в каком именно месте»?
— Губернатор интересуется, распространяется ли действие этой лицензии на мой участок холма, или на тот, что в собственности у государства, или же на весь гиссарлыкский холм в целом?
— Разумеется, на весь Гиссарлык! — взбешенный Шлиман уже почти кричал.
— Но ведь ни то ни другое в фирмане не оговорено, — возразил Калверт.
Теперь Шлиман понял, что скрывается за этими вопросами Калверта: новая интрига Сафвед-паши, министра по делам народного образования! Исследователь еще в апреле 1870 года договорился о покупке участка на гиссарлыкском холме. Первая запрошенная владельцем цена составила тогда пять тысяч франков. Шлиман все же сумел сбавить ее до четырех тысяч.
В декабре того же года он отправился в Константинополь, чтобы поставить Сафвед-пашу в известность о том, что он достиг договоренности с владельцами о продаже этой земли и что скоро будет совершена соответствующая сделка. Все дело лишь в лицензии на раскопки. Шлиман вынужден был разъяснять министру, какое значение имеет Троя. Тогда он слышал имя Сафвед-паши впервые. Они не были незнакомы. Министр прислушался к горячим заверениям американца и предложил ему зайти через восемь дней.
Вернувшись, Шлиман узнал, что министр приобрел землю Гиссарлыка за шестьсот франков. Тогда же он предложил Шлиману: можно копать где угодно и сколько угодно, но с одним условием — все, даже самые незначительные находки, должны быть переданы ему, Сафвед-паше.
— Вот собака, обманщик несчастный! — возмущался Шлиман. —
Я обращусь с жалобой лично
к султану!
Я открою ему глаза на то, что делается у него в правительстве!
Подобная угроза звучала наивно. Везде и всюду в Османской империи каждому было известно о коррупции правительственных чиновников всех рангов. Это страшное явление даже вызвало настоящий кризис в государстве. Министр внутренних дел Гюсни-паша, военный министр Гуссейн Авни-паша, первый человек при дворе султана Эмин-бей и министр юстиции Мехмед Рюшди-паша уже были отправлены в ссылку. Последний вызывал у султана особенно сильную ярость. С другими было сложнее. Нынешний министр внутренних дел, например, вынужден был расхлебывать кашу, которую заварил его предшественник, на протяжении многих лет дававший своим любимчикам подачки из фондов тайной полиции. Военный министр прославился чудовищными растратами, зато жил в роскоши в собственном дворце. А Эмин-бей, самый влиятельный человек при дворе, исхитрялся так умело пользоваться преимуществами своей должности, что одно время его месячное жалованье достигало невиданных размеров и составляло восемнадцать тысяч талеров.
— Что мне делать? — несколько успокоившись, спросил консула Шлиман. — Не могу же я все начинать сначала!
Фрэнк Калверт посоветовал другу обратиться к новому временному поверенному США в делах в Турции Джону П. Брауну, человеку образованному и известному своим широким кругозором. Браун сам написал книгу о старом и новом Константинополе и уж наверняка поддержит замысел Шлимана. А пока, до окончательного выяснения всех обстоятельств, можно заняться необходимой подготовкой к раскопкам.
АГАМЕМНОН И ГЕКТОР С ЛОПАТАМИ И МЕТЛАМИ
Уже на следующее утро Шлиман отыскал в близлежащем селении восьмерых безработных греков и предложил им потрудиться на раскопках. В день они должны были получать девять пиастров — или же один франк восемьдесят сантимов — и работать шесть дней, с понедельника до субботы. Чтобы-не прерывать работу и в воскресенье (трудиться в этот день у греков считалось грехом), Шлиман нанял еще восьмерых турок. Николаоса Зафироса, который из всех греков был наиболее сообразительным и расторопным, он назначил своим слугой, телохранителем, секретарем и бухгалтером в одном лице и платил ему за это тридцать пиастров в день.
В его распоряжении находилось приблизительно сто человек рабочих. Самой большой трудностью для исследователя было запомнить все эти незнакомые имена и фамилии. Поэтому греческие рабочие получили новые благозвучные имена: Эней, Агамемнон
г Лаомедон или Гектор, в то время как турки должны были довольствоваться такими (напоминавшими, скорее, клички), как Дервиш, Монах, Пилигрим, Капрал или Учитель.
Сам Шлиман расположился в находящейся к востоку от Гиссарлыка деревушке Чиблак. Там он снял маленький домик-мазанку, в котором имелась всего одна убогая комнатушка, где стояли стол, стул и железная кровать. Окно было застеклено, а черепичная крыша хорошо защищала от дождя — осенью в этой местности нередко лило как из ведра.
Но сейчас над иссушенной землей Трои стояла летняя жара. В самый первый вечер Шлиман, едва стало смеркаться, отправился к огромной куче земли под названием холм Гиссарлык. В ушах звенело от стрекота цикад. В воздухе носились стаи оглушительно каркающих птиц. Темный, таинственный и казавшийся неприступным холм возвышался перед ним, словно гомеровский гигант Полифем прилег на голую землю передохнуть и раскинулся во сне, закутанный в темный плащ со складками из земли и огромными камнями вместо пуговиц.
Где начать? Глаза Шлимана блуждали по уснувшему крепким сном чудовищу. И чем пристальнее он. всматривался в эту необозримую груду земли,чем ярче становились картины, возникавшие перед его глазами: храмы и дворцы из белоснежного мрамора, сотни ступеней широких лестниц, алтари, укрепленные дороги и площади, украшенные чудесными скульптурами и драгоценными вазами, — Троя, город героев Гомера. Нет, этот город, который Гомер не уставал воспевать в своих песнях, не мог просто так исчезнуть, погрузившись в бездну ада! Илион не мог не оставить доказательств своего существования, и он, Генрих Шлиман, найдет их.
«Если действительно является фактом то, — писал он позднее в своем дневнике, посвященном археологическим раскопкам, — что горы, которые вдруг вырастают прямо из-под земли, будучи распаханными и превращенными в поля, могут постепенно просто исчезнуть (как, например, гора Вартсберг у деревни Анкерсхаген в Мекленбурге, которая мне, тогда еще ребенку, казалась самой высокой горой мира, а за сорок лет исчезла неизвестно куда), то, значит, можно считать фактом и то, что холмы, на которых в течение тысячелетий одни здания сменяли другие, вырастая на развалинах прежних, должны быть весьма массивными и высокими. И гора Гиссарлык как раз являет собой яркий пример тому».
На следующий день Шлиман, обреченный на безделье, вновь неотступно находился возле большого холма. И третий день мало чем отличался от первого и второго. Он раз за разом обходил холм, пока наконец мысленно не представил себе первую прорытую здесь траншею. Над ним курлыкали журавли и кричали аисты, косяком направлявшиеся к югу. Они были предвестниками осени, а осень была в Трое холодной, мокрой и очень неприветливой — конечно, казалось невозможным вообразить это сейчас, в столь иссушающую жару. Однако стоял уже октябрь, и каждый потерянный, проведенный в бездействии день болью отдавался в душе.
Из дневника Шлимана от 3 октября 1871 года: «Нетерпение и безделье убьют меня».
Заболоченные земли вокруг Трои кишели мириадами комаров. От них не спасали ни стены домов, ни сетки, и как бы Шлиман ни пытался избавиться от них, они проникали повсюду. Поэтому исследователь предпочитал проводить ночи на воздухе. Еще во время своего путешествия через Панамский перешеек Шлиман узнал одно чудесное средство против болотной лихорадки, которая здесь постоянно уносила человеческие жизни, — хинин. Он верил в этот белый порошок, как в Бога, и ежедневно принимал как минимум чайную ложку хинина.
Эти ночи, которые он проводил без сна, казалось, никогда не кончатся. В голове его роились тысячи мыслей. Разум его терзали сомнения: он ли прав со своей теорией о местонахождении Трои
или же верна точка зрения других ученых, таких,
как Курциус и Адлер пытавшихся его переубедить,
и — как знать? — может быть, и справедливо? Ведь он уже опубликовал отчет о своих первых пробных раскопках Трои в таких известных, солидных газетах, как лондонская «Таймс» и «Аугсбургер Альгемайне Цайтунг»… Сомнения его росли с каждым днем, а он еще и не приступал к раскопкам.
ДОЛГОЖДАННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ
8 октября 1871 года Шлиман обращается к временному поверенному в делах Соединенных Штатов Америки в Турции — мистеру Джону П. Брауну:
«Ради Бога, сделайте, пожалуйста, все, что в Вашей власти, чтобы ускорить дело, поскольку бездеятельность в этом кишащем насекомыми месте морально и психически грозит уничтожить меня. А в Афины я возвратиться не могу, не проведя здесь раскопок в течение — самое малое — шести недель. В газетах уже столько написано о моих предстоящих работах, что вся пресса представит меня в виде болтуна, достойного лишь осмеяния, если положение не изменится».
В правительственных кругах Константинополя между тем завоевывал авторитет новый министр. Кямал-паша — так его звали — был тем человеком, который, судя по всему, больше интересовался наукой, нежели получением взяток. По его распоряжению, губернатору провинции Чанаккале поступило указание, гласящее, что фирман, полученный Шлиманом, дает ему право на проведение раскопок на всей территории холма Гиссарлык. Известие это дошло до Шлимана вечером 10 октября.
Ахмед-паша, губернатор провинции, поставил над этим нетерпеливым археологом, как и было оговорено в лицензии, одного служащего в качестве наблюдателя за ходом раскопок. Человека этого звали Георгиос Саркис, он был армянином по происхождению и занимал пост второго секретаря судебной канцелярии губернатора. К великому негодованию Шлимана, ему вменяли в обязанность платить своему церберу из собственного кармана ежедневно двадцать три пиастра.





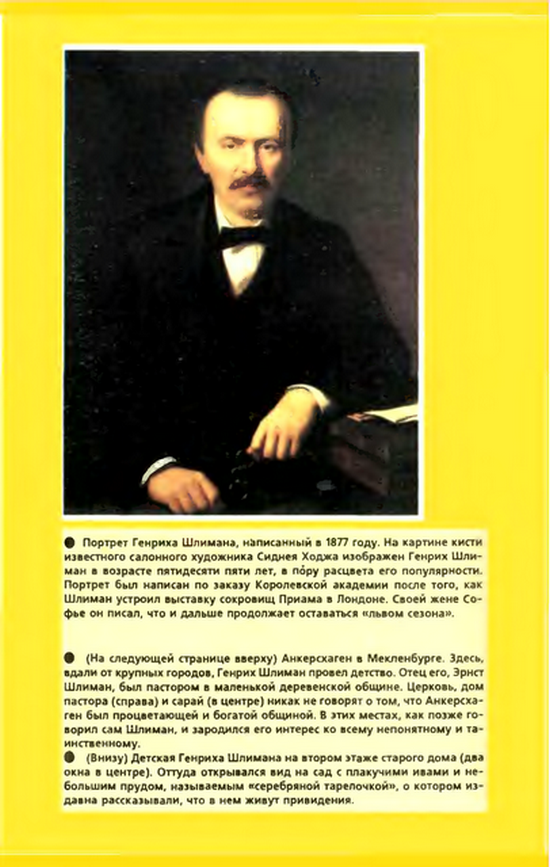



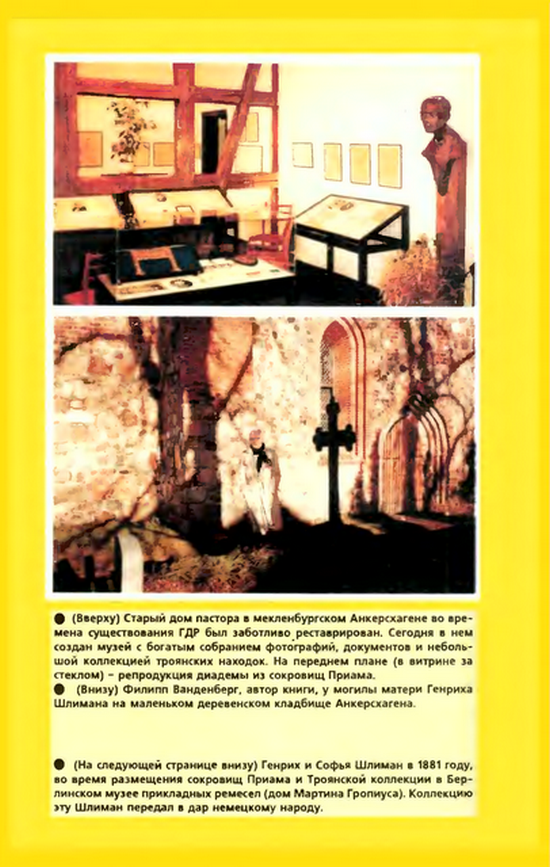


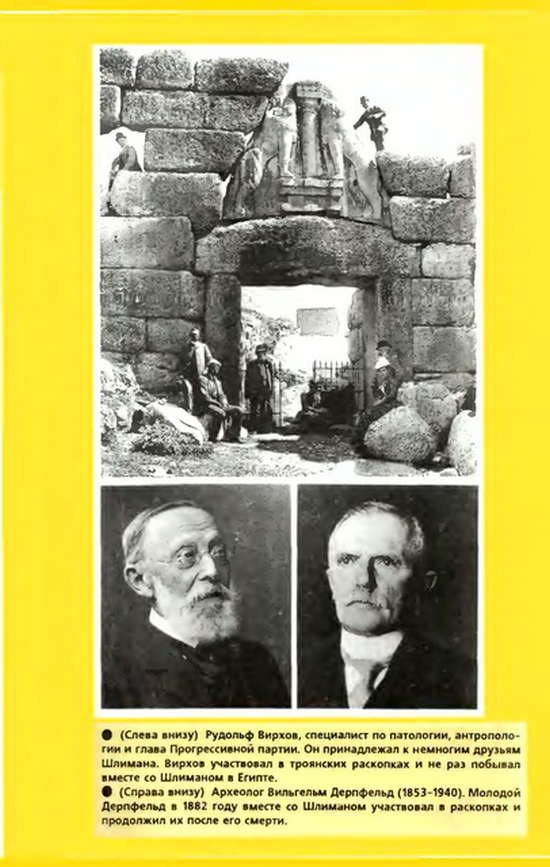



«Я наконец, — пишет Шлиман в отчете о ходе раскопок, — начинаю раскопки И октября силами восьмерых рабочих, число которых на следующий день я увеличиваю до тридцати пяти, а 13 ноября — уже до семидесяти четырех человек, ежедневный их заработок составляет девять пиастров (один франк восемьдесят сантимов). Так как я, к сожалению, захватил с собой из Франции лишь восемь тачек, а недостающие изготовить здесь, на месте, не представляется возможным, то приходится для перемещения вырытого грунта использовать пятьдесят две корзины. Хотя это кое-как получается, но все равно дело идет слишком медленно, поскольку накопанная земля должна быть перемещена на довольно значительное расстояние; кроме того, на это уходит слишком много физических сил. Одновременно с этим я применяю для перевозки грунта и четыре повозки, запряженные волами, каждая такая повозка обходится мне в двадцать пиастров ежедневно. Я работаю с большой энергией и иду на любые расходы, чтобы, по возможности, еще до наступления зимних дождей, которые могут начаться в любой день, добраться до культурного слоя и тем самым решить самую большую загадку: действительно ли гора Гиссарлык представляет собой крепость Трою, в чем я, собственно, и не сомневаюсь».
У Шлимана было достаточно времени, чтобы как следует присмотреться к территории, на которой предстояло вести раскопки. Примерно в
двадцати метрах от первой траншеи он распорядился начать рыть вторую, длиной шестьдесят метров, идущую от северо-западной оконечности холма на юг. Идея его состояла в том, чтобы сделать как бы поперечный разрез горы, — так, чтобы на внутренней стороне четко обозначились несколько слоев, уже наметившихся при пробных раскопках.
Гордость всех троянцев, большой храм Афины непременно должен был располагаться, по мнению исследователя, на самом высоком месте горы. Если он доходил отсюда до скалы, скрытой в земле и служившей прежним поколениям фундаментом, то он пройдет сквозь троянские слои.
Теоретически Шлиман был абсолютно прав, но исходил из неправильной предпосылки — заблуждения, которое потом чуть было не поставило под вопрос возможность проведения раскопок Трои как таковых. Исследователь считав само собой разумеющимся, что Троя Гомера, которую историки относили приблизительно к 1250-м годам до н. э., представляет собой древнейший и, следовательно, самый нижний слой. Разве мог он предполагать, что Троянская война, так проникновенно описанная Гомером, оставила свои следы в самом новом (или ближайшем к поверхности) культурном слое этого холма? Что до Илиона Гомера, то здесь существовали, по меньшей мере, шесть поселений под одним и тем же именем.
Шлиман, который стремился отрыть Трою Гомера, сам усложнил себе задачу, пытаясь сравнять с землей гиссарлыкский холм. При этом он местами забирался на глубину до шестнадцати метров. Троянская же война оставила свои следы на глубине от семи до десяти метров от поверхности.
Вследствие этого работа приняла гигантские масштабы. Сюда следует добавить, что осколки битого камня в верхних слоях были сравнительно невелики и поэтому не составляло труда убрать их.
Иное дело — каменные глыбы нижних слоев. Рабочие, извлекавшие их из земли и вывозившие затем на повозках, запряженных волами, работа
ли на пределе. Если вначале они склонны были видеть в раскопках лишь относительно легкий способ заработать, считая их каким-то несерьезным делом, то постепенно начинали роптать. Они считали, что Шлиман недоплачивает им, и вот снача
ла отказались работать возчики, а потом дело дошло и до того, что турки стали обвинять во всем греков. Самочувствие Шлимана ухудшалось, возникло подозрение на малярию. Но вдруг словно Божье благословение снизошло на эту землю, и все стало по-другому.
ГОРСТОЧКА КАМНЕЙ ЗА ВОСЕМЬ ДНЕЙ РАБОТЫ
«Гора Гиссарлык на Троянской равнине,
18 октября 1871 года. Дождь. Холод. Тяготы, связанные с раскопками в этой дикой местности, — записывает Шлиман после недели работ в своем "Отчете о раскопках в Трое", — где отсутствует все самое необходимое, невероятны и с каждым днем становятся все ощутимее, поскольку из-за обрыва разрез удлиняется по мере углубления в землю и с каждым метром вывозка вынутого грун
та становится труднее: его нельзя просто сбрасывать вниз с обрыва, потому что вскоре его все равно придется убирать. Поэтому приходится ссыпать его подальше — по обе стороны от того места, где начало разреза упирается в крутой склон горы. Извлечение из земли и перевозка огромных каменных блоков, на которые мы то и дело натыкаемся, доставляет много хлопот, и на это уходит масса времени, потому что, если приходится доставать очередную глыбу и перемещать ее к краю обрыва, все мои люди вынуждены бросать свою работу, чтобы успеть поглазеть, как очередной огромный каменный блок с грохотом катится вниз и потом замирает внизу — уже на равнине. И сам я, поскольку нахожусь здесь один, не в состоянии проследить за работой каждого из моих рабочих, чтобы от него была максимальная отдача».
Мизерный результат восьми дней изнурительной работы поколебал даже такого упрямца, как Генрих Шлиман; пара корзин ракушек, несколько комьев обожженной земли и горсть камней с непонятными надписями. Итог работы он представлял себе по-другому.
Об этой первой неделе раскопок Шлиман пишет далее: «Моя дорогая жена — жительница Афин, обожающая Гомера и знающая "Илиаду" почти наизусть, — с утра до вечера на раскопках. О том, как мы живем здесь, в этом аду, и как вынуждены ежедневно, чтобы не подцепить малярию, принимать по утрам по четыре грамма хинина, я уже вообще не говорю».
Почти все без исключения биографы Шлимана без оглядки принимали его утверждение о том, что Софья присутствовала на раскопках. Даже Эмиль Людвиг, которому, по настоянию Софьи, было поручено стать официальным биографом Шлимана, изо всех сил поддерживал эту легенду, утверждая, что Андромаха, дочь Шлиманов, не признала свою мать, когда они со Шлиманом после трехмесячного отсутствия вернулись в Афины.
В действительности же Софья в тоске и ожидании пребывала дома, в то время как Генрих копался в земле Трои. Доказательством тому служат два письма, которые Шлиман не успел уничтожить
и которые и по сей день хранятся в афинской библиотеке Геннадиоса.
Автором первого является Анна Рутеник (или Навсикая) — няня из Нойштрелица. Письмо это, написанное на нижненемецком диалекте, отправлено из Афин как раз 11 октября (1), то есть в тот день, когда Генрих начал свои раскопки в Трое. И
в нем говорится следующее:
«Вы уж не обессудьте, что я вам решила написать пару слов. Просто я хотела вам сообщить, что мне здесь очень нравится, и все потому, что ваша малютка-жена такая добрая. Она прилежно учит немецкий, и мы с ней вместе занимаемся хозяйством и горя не знаем.
Но у меня есть одна большая просьба, и я ее вам сразу же хочу выложить. Знаете, когда жене вашей чуть взгрустнется (а это с ней бывает: вы-то ведь вон как далеко), то мне бы иногда хочется сыграть что-нибудь для души на фортепьяно и ее развеселить, да и сама фрау Шлиман с охотой бы подучилась на фортепьяно. Но это невозможно, потому как у нас фортепьяно нет… И вот я решилась вам об этом написать и любезно просить вас позволить нам позаимствовать у кого-нибудь на время за плату такую вещь, как фортепьяно. Смею надеяться, что вы нам в этой просьбе не откажете
и не будете меня считать такой уж нескромной».
Следующее письмо датировано 13 октября 1871 года — и, судя по указанию места (Троя), отправлено оттуда. Это письмо Генриха Шлимана своей «горячо любимой Софье»: «И несмотря на то, что дождь лил как из ведра, я вчера вместе с семидесятые четырьмя рабочими и четырьмя повозками работал с шести утра до шести вечера. Сегодня в моем распоряжении всего сорок пять человек. Раскопки проходят чрезвычайно тяжело, но я из всех сил стараюсь, чтобы они продвигались быстрее… Жизнь здесь — ужас: грязь непролазная и, вообще, сплошные лишения. Я от души рад, что ты не отправилась со мной. Летом тебе еще можно будет поехать на раскопки. А сейчас ты бы здесь и двух дней не выдержала, несмотря на всю твою любовь к Гомеру».
ПОЧЕМУ ГЕНРИХ ШЛИМАН ГОВОРИЛ НЕПРАВДУ?
Почему Генрих Шлиман лгал? Почему в своем отчете он утверждал, что Софья присутствовала на раскопках с самого начала? Почему ему понадобилось брать на себя риск, ведь это высказывание могло поставить под сомнение истинность и остальных его утверждений?
Как это происходило уже достаточно часто, Шлиман позволил своей фантазии и здесь, в этой исключительной ситуации, воспарить над действительностью и тем самым попытался приблизиться к своему эстетическому идеалу, к исполнению давно лелеемых им надежд хотя бы мысленно. С самого начала своего первого (неудачного) брака он мечтал о том, что когда-нибудь отправится вместе
с любящей женой по следам Гомера. Теперь же
он не сомневался в любви Софьи к нему, по его девятнадцатилетняя супруга пока оставалась дома
с ребенком и многочисленной прислугой, ей надлежало заниматься изучением языков и истории (кстати, она не знала «Илиаду» наизусть, в чем
нас так страстно пытается уверить Генрих). И, вообще, суетная жизнь, которую вел Шлиман, явно была ей не под силу, с переездом в Афины ситуа
ция не улучшилась.
Может быть, Генрих надеялся таким образом увлечь свою молодую жену и в будущем все же склонить ее к участию в осуществлении его честолюбивых замыслов? А может, просто не понимал, не желал понять, что его надеждам не суждено сбыться, — по крайней мере, в отношении раскопок Трои?
А может, он уже просто потерял веру в то, что его планы выполнимы, потому что всего через неделю раскопок этот свято веривший в Гомера исследователь почувствовал себя так же, как Тезей в лабиринте Миноса? Первые дни приносили с собой лишь необъяснимые, невероятные, бессмысленные, непознаваемые, не вяжущиеся друг
с другом события, и то воодушевление, с которым он отважился на этот поход на Гиссарлык, улетучилось неизвестно куда.
У Шлимана исчез аппетит, его донимали рези
в животе. При свете единственной свечи он до рассвета сидел сгорбившись за крохотным деревянным столом, записывал, вычерчивал, подсчитывал, пытаясь привести в какое-то подобие порядка этот хаос из битого камня и остатков стен. Но тщетно. Неужели это место, которое он принял за ложе гомеровской Трои, — просто какая-нибудь каменоломня или мусорная свалка истории? Или же Троя действительно лежит южнее, у Бунарбаши?
В последующие дни на его раскопках было занято около восьмидесяти рабочих. Траншея, ширина которой в разных местах колебалась, уже протянулась почти до половины горы, и глубина ее местами доходила до четырех метров. Шахта колодца, заполненная доверху мусором, была первым признаком существования здесь цивилизации, однако при более пристальном рассмотрении Шлиман должен был констатировать, что камни ее были скреплены раствором, то есть имели отношение, в лучшем случае, к римской эпохе. Его вывод подтвердился и найденными позже монетами с изображением головы Минервы и Фаустины, Аврелия и Коммода.
«Глубже, глубже!» — подгонял Шлиман рабочих. — «Вы должны копать глубже!» — указывал он на груду мусора. Ничто не должно было укрыться от его зорких глаз. Он сам был готов взяться за лопату и кирку, лично проверять каждую лопату выкопанной земли, и высокий голос этого маленького человека, отдававшего распоряжения на всех языках, то тут, то там раздавался на гиссарлыкском холме.
Дело сдвинулось с мертвой точки, когда землекопы все чаще стали натыкаться на остатки стен, глыбы которых не имели цементной связки. Разбитая мраморная плита (65 сантиметров в длину и около 37 в ширину) имела надпись по-древнегречески и относилась к какому-то царю — возможно, к царю Пергама. Находка датировалась III в. до н. э. В этот же день и на следующий были обнаружены еще две разбитые плиты с надписями на древнегреческом языке — вероятно, более позднего времени.
И хотя находки эти и не имели отношения к гомеровской Трое, они были следами пребывания греков в Малой Азии и тем самым указывали на период, когда эта территория находилась во владении греков. Впервые с начала раскопок Шлиман нашел время снова забраться на холм Гиссарлык и устремить задумчивый взгляд вдаль.
«Вид с горы Гиссарлык великолепен: передо мной раскинулась во всю ширь прекрасная Троянская равнина, которая после недавно пролившихся здесь грозовых дождей вновь покрыта травой и желтыми одуванчиками; уже в часе пути в направлении на север — северо-запад находится Геллеспонт. Полуостров Галлиполи здесь завершается острым мысом, на котором находится маяк. Слева лежит остров Имброс, над которым видна покрытая сейчас снегом Ида на острове Самофракия, а чуть дальше к западу, на Македонском полуострове, виднеется знаменитая гора Атос, или Монте-Санто, на северо-западной стороне которой до сих пор можно разобрать следы большого судоходного канала, который, по Геродоту (VII, 22–23), был вырыт по приказу Ксеркса, чтобы корабли могли избегать изобилующего штормами окружного пути вокруг мыса Атос».
НЕОЖИДАННЫЙ ЭКСКУРС В КАМЕННЫЙ БЕК
Понедельник, 30 октября 1871 года. Шлиман устремил бессмысленный взгляд в траншею. Ничего: обломки, мусор, какие-то камни на глубине четырех с половиной метров. Посреди всего этого — примитивные каменные орудия: отбойники, топоры и даже заостренные каменные пластинки, служившие ножами. «Мне показалось, что все эти орудия остались от нашествия варваров, которые властвовали здесь очень недолго. Однако я ошибался, поскольку к среде слой каменного века стал еще большее мощным и на протяжении всего вчерашнего дня было то же самое».
Растерянность и сомнения его росли. Шлиман энергично качал головой. О всемогущие боги Олимпа! Но ведь царь Приам не жил в каменном веке! Троянцы были народом высокой культуры и эстетики! Они не могли пользоваться каменными топорами, как дикари, жившие здесь больше десяти тысяч лет тому назад!
«Многое из того, что мне удалось найти в этом пласте каменного века, мне совершенно не ясно, — писал Шлиман. — Поэтому я считаю необходимым описать как можно более подробно все мои находки в надежде, что кто-то из моих уважаемых коллег сумеет разъяснить мне все эти темные места».
Причину этой растерянности, вызванной обнаружением среди культурных отложений мощного слоя каменного века, следует искать в упрощенном подходе Шлимана к данной проблеме. Спору нет, с точки зрения логики, он прав: слой троянской, более высокоразвитой культуры должен был залегать над слоем, относившимся к примитивной культуре неолита. Однако здесь, углубившись на четыре с половиной метра, он вдруг оказался уже в каменном веке, где не было и следа троянской цивилизации.
Шлиман размышлял, прикидывал, сомневался в правоте своей гипотезы и начинал осмысливать все заново. Из письма консулу Фрэнку Калверту: «С утра в среду мы снова натолкнулись на следы эпохи каменного века. С тех пор ничего больше не находим, и это страшно беспокоит меня… Просто дико предположить, что я, производя раскопки на вершине горы, на глубине четырех с половиной метров вдруг натыкаюсь на каменный век, в то время как в двадцати метрах в сторону на пятиметровой глубине обнаруживаю остатки римской стены. И в этом месте даже на восьмиметровой глубине не обнаруживается никаких реликтов каменного века».
Четырьмя днями позже в письме от 11 ноября 1871 года на имя Джона П. Брауна Шлиман пишет: «Я уже не знаю, что обо всем этом и думать. Я просто ума не приложу, почему на семиметровой глубине нахожу останки людей, живших за полтора тысячелетия до Рождества Христова, тогда - как считал, что должен натолкнуться на остатки того, что здесь находилось за три тысячи лет до нашей эры. Кто знает, может, я вообще еще не добрался до того слоя, в котором присутствуют следы Троянской войны? И потом, эти примитивные каменные массы! Они достигают трех метров толщины! И это там, где Гомер ни слова не говорит о каких-то там каменных топорах, а везде упоминает бронзу и железо!»
Далее он продолжает: «Но всей этой неразберихе меня с толку не сбить! Наоборот, она служит толчком к тому, чтобы я продолжил работы до тех пор, пока не обнаружу что-то похожее на нетронутую землю, чего бы это ни стоило, — даже если я встану перед необходимостью углубиться на двадцать метров… Видите, на какие лишения приходится идти, чтобы добраться до правды».
Дело в том, что Генрих Шлиман в своих размышлениях совершил две существенных ошибки. Сегодня, когда археология шагнула так далеко вперед, все это кажется даже смешным. Но следует помнить, что классическая археология в то время была еще на стадии детства и Шлиман был одним из пионеров в этой области.
Шлиман исходил из того, что холм Гиссарлык состоял из располагавшихся равномерно один над другим нескольких однородных слоев. Эта точка зрения была в корне неправильной: другие культурные отложения могли иметь иные, нежели троянский слой, границы залегания и мощность. И, что самое важное, эти культурные слои нельзя было уподобить страницам книги, располагавшимся одна над другой. Скорее, они покрывали холм, как срезанная сбоку шляпка гриба, однако обнаруживали при этом скрытую от глаз разницу уровней, и археолог, приближавшийся к центру горы снаружи, наталкивался на одной и той же глубине на различные слои. Лишь сама догадка Шлимана была правильной: не середина холма являлась центром Трои — высшая ее точка расположена в стороне от центра.
Он предполагал, что именно там стоял храм Афины, где царица Гекаба и троянские женщины вымолили благословение для своего города. И где-то перед ним должен был стоять и царский дворец Приама. Какова была его величина и в какую сторону он был обращен, — об этом Шлиман представления не имел.

Не раз упоминаемые Гомером крепостные стены — огромные сооружения Посейдона и Аполлона — также ввели в заблуждение исследователя. Он верил Гомеру, который утверждал, что до того, как здесь
был возведен царский дворец, холм был необитаемым, и, исходя из этого, считал, что стены Посейдона должны были стоять на голом месте. Лишь позже выяснилось, что Гомер ошибся и вместе с ним ошибся Генрих Шлиман.
ПРОБЛЕСК НАДЕЖДЫ НА СЕМИМЕТРОВОЙ ГЛУБИНЕ
Заглянуть в сферы обитания греческих богов стало возможным 6 ноября. На глубине семи метров рабочие вдруг заметили, что слой каменного века внезапно кончился, уступив место совершенно другому, относящемуся к более высокой ступени развития. Сердце у Шлимана готово было выскочить из груди. Хотя он не мог сделать из увиденного никакого конкретного вывода, факт оставался фактом: под слоем каменного века вдруг стали попадаться иглы, ножи, копья и боевые топоры из меди. Оружие отличалось тонкостью обработки, что могло быть лишь результатом деятельности представителей высокоразвитой культуры. «Вследствие этого я должен не только опровергнуть утверждения, что уже добрался до периода каменного века, а признать, что достиг бронзового, потому что найденное оружие и инструменты слишком уж тщательно обработаны».
Неужели Ахилл, Гектор, остальные герои Трои совсем затуманили его разум? Или же вода из Скамандра, которую он только и пил в течение многих недель, оказывала на Шлимана такое же воздействие, какое оказывает на людей подземная река Лета, стирающая из памяти весь предыдущий опыт? Именно так и можно подумать, зная, что раскопки велись абсолютно вопреки всякой логике: «Чем глубже я копаю от семи метров вниз, тем чаще встречаются мне следы высокой цивилизации». Даже обоюдоострые ножи из вулканического стекла находил Шлиман. По его мнению, ими и сейчас вполне можно было даже побриться.
И в самом деле, качество обработки найденных предметов повышалось по мере продвижения вглубь гиссарлыкского холма. Показались первые глиняные сосуды; они были одноцветными и без всякий украшений, но такими изящными, что в порыве чувств исследователь окрестил их «бокалами для шампанского, только с ручками». Кроме того, он обнаружил глиняные урны высотой более метра.
С 19 ноября осенние дожди стали настолько частыми, что и думать было нечего о какой-то упорядоченной, регулярной работе. Территория, где шли раскопки, стала походить на болото. Рабочие начали жаловаться на лихорадку и простуду. К счастью, Шлиман располагал большим запасом хинина. Слухи об этом чудо-порошке исследователя быстро разнеслись по всей округе, так что на уже стававший традицией ежедневный прием хинина крестьяне из близлежащих сел приводили с собой занемогших верблюдов, лошадей и мулов.
После того как стало ясно, что погода уже не улучшится, Шлиман принял решение прекратить раскопки до следующего года. Тяжелое решение, если принять во внимание успехи последних дней. 22 ноября исследователь достиг глубины, на которой залегали огромные тесаные блоки, подобные которым он видел в Микенах. Неужели они были остатками тех самых долгожданных камней из фундамента троянской крепости? Один из таких каменных колоссов показался Шлиману порогом портала. Чтобы убрать эту скалу, потребовалось шестьдесят пять рабочих и три часа работы.
Хотя общее число как доисторических, так и римско-греческих находок было велико, исследователя это не удовлетворило. Из почти тысячи находок девятьсот пятьдесят принадлежали к доисторической эпохе, но ни одна из них не указывала на принадлежность к Трое Гомера. Шлиман ожидал обнаружить и какие-то письменные свидетельства, которые враз отмели бы все сомнения, но не был уверен, имелись ли таковые вообще. Хотя Гомер не раз использовал греческое слово «дтар-hein», которое в классические времена имело значение «писать», у Гомера слово это означало не «писать», а «выцарапывать, вырезать».
«Однако, — писал Шлиман, — я твердо убежден, что письменность в Трое существовала, и надеюсь уже к следующей весне доказать при помощи надписей и других памятников, что я обнаружил долго разыскиваемые остатки Трои».
Два дня спустя измученный, но счастливый исследователь покинул место раскопок у Гиссарлыка. И хотя он работал всего лишь в дне пути от Афин, Шлиман не мог сразу же возвратиться в Грецию, а был направлен в карантин, который должен был длиться в течение одиннадцать дней. Для этого подходил остров Саламис, расположенный чуть в стороне от берега; здесь афиняне укрывались во время Персидских войн. Шлиман воспринял это требование без всякого возмущения и протеста; более того — он с гордостью сообщает своему двоюродному брату Адольфу с Саламиса: «Я не мог написать тебе из Трои, поскольку работа отнимала все мое время и силы…» А вот одного из своих компаньонов он уверяет в следующем: «Успех в Трое доставил мне в тысячу раз больше радости, чем самая удачная из моих сделок за всю мою жизнь».
СТРАХ ОПОЗОРИТЬСЯ
В середине декабря Шлиман возвратился в свой дом на Одос Моусон. Андромахе между тем исполнилось уже семь месяцев, а для Софьи не прошли даром уроки Навсикаи: она заметно улучшила свой немецкий.
Софья сразу поняла, что в поведении ее супруга что-то переменилось. Он стал задумчивее, серьезнее, чем раньше, часто уединялся в своем скудно обставленном рабочем кабинете, усаживался на неудобный деревянный стул и часами неподвижно сидел так, уставившись в пространство перед собой.
— Что с тобой? — осторожно поинтересовалась как-то Софья.
Шлиман не отвечал.
— Может быть, дело во мне? Что-то не так?
Генрих покачал головой:
— Нет, к тебе это отношения не имеет, дорогая моя супруга! — он достал из кармана «Илиаду», которую постоянно носил с собой, и, раскрыв книгу на одной из страниц, показал Софье. — Я все еще считаю, что это далеко не книга сказок. Но никогда не подозревал, что для меня окажется таким трудным делом доказать очевидное.
Софья в ответ лишь сочувственно кивнула. Ее первое впечатление оказалось верным. Генрих теперь жил лишь в мире гекзаметров Гомера. Однако затеянное предприятие явно оказывалось грандиознее, чем он полагал.
— Чем я могу тебе помочь? — спросила Софья.
Генрих рассмеялся в ответ, но в смехе этом слышалась горечь:
— Ты мне помочь не можешь! Никто мне не может помочь! Для меня существует лишь одна возможность: я должен пойти раз и навсегда выбранным путем, пусть даже он грозит мне тем, что в один прекрасный день я могу оказаться осмеянным на весь мир.
— Ну что ты говоришь! — Софья обняла Генриха. — Или ты уже не веришь в свою идею?
Шлиман лишь пожал плечами в ответ.
До глубокой ночи засиживался Шлиман в своем кабинете все последующие дни, делая наброски, зарисовки, рисунки на основе прежних эскизов и тщетно пытаясь усмотреть логику в последовательности всех этих встретившихся ему разнородных культурных слоев разных эпох. Однако чем больше эскизов он делал, чем больше задумывался об истории Трои, тем более непонятными казались ему результаты его раскопок. Генрих испытывал тревогу. Он боялся, что его поднимут на смех, а именно этого он опасался больше всего. Эти тщеславные типы от науки только и ждали, когда он, какой-то доморощенный выскочка, на чем-нибудь споткнется. А это означало бы для него сокрушительное поражение, крах всей его жизни.
И вот, пребывая в неуверенности, пытаясь все же обратить на себя внимание достойных мужей науки и втайне рассчитывая заручиться их поддержкой, Шлиман решает обратиться к Эрнсту Курциусу. Это было 6 января 1872 года.
«Я с величайшим нетерпением жду ответа на вопрос о том, что же я обнаружил в виде колоссальных руин на глубине десяти метров (или тридцати трех английских футов); кое-где уже на глубине пяти метров начинали попадаться огромные тесаные камни. Я твердо убежден в том, что это руины Пергама Приама, потому что если он когда-то и существовал, то находиться должен был лишь на той самой горе, где я провожу раскопки,
и я не сомневаюсь, что он существовал. Однако эти каменные блоки имеют такие исполинские размеры, что я не вижу возможности проводить раскопки дальше, существенно не расширив мою траншею, которая к настоящему моменту имеет уже в длину шестьдесят метров. Поэтому я собираюсь расширить ее до восемнадцати метров. Однако это работа гигантского масштаба, для которой мне необходимо будет провести линию узкоколейки.
Если мне все же удастся обнаружить руины Пергама Приама на этом холме, в чем я ни на минуту не сомневаюсь, то мне придется еще на протяжении многих лет проводить там раскопки; если же моим планам не суждено осуществиться, то мне очень хотелось бы раскопать акрополь в Микенах и, кроме того, могилу Клитемнестры.
Убедительно прошу вас прочесть мои отчеты о троянских раскопках и затем сообщить мне, что вы обо всем этом думаете».
Ответ Курциуса состоял всего из пяти бесцеремонных строчек. Позже до Шлимана доходили слухи, что Курциус даже смеялся, получив его письмо. Да, у Генриха не было пока доказательств его теории существования Трои, но как мог и Курциус доказать правомерность своей точки зрения?
Шлиман был разочарован и возмущен. Он продолжал искать понимания в научном мире, у многих профессоров: мюнхенского археолога Генриха фон Брунна, теолога Эрнста Ренана, с которым дружил, и Эмиля Бюрнуфа из Французской археологической школы в Афинах. Но никто из вышеперечисленных так и не отважился принять на веру гипотезу какого-то выскочки, человека со стороны. Шлиман был обречен или в одиночку оказаться под градом обвинений, если его теория не подтвердится, или, тоже в одиночку, пожинать плоды своих открытий.
Во время холодной и сырой афинской зимы, которую он провел, главным образом, за изучением научных трудов по истории и археологии, он с нетерпением ждал прихода весны и того благословенного дня, когда сможет возобновить раскопки в Трое.
«К моему сожалению, — писал он в середине февраля Фрэнку Калверту, — должен вам сообщить, что мистер Курциус так и застыл на уровне своей убежденности в том, что античная Троя находится в Бунарбаши… И это его "Veni, vidi, vici внушает мне отвращение». Шлиман имел в виду краткий визит Курциуса в Трою и его насмешки в адрес некоего профессора, то есть Шлимана, который, видите ли, «за час совершил больше открытий, чем способнейшие из людей, посвятившие жизнь изучению Трои».
78 545 КУБОМЕТРОВ ТРОИ
К подготовке своей новой археологической кампании Шлиман отнесся весьма скрупулезно. Теперь он уже знал, что его ожидает, и поэтому просчитывал и прикидывал все как предприниматель: 1 апреля 1872 года в раскопках должны участвовать сто рабочих. Джон Латэм, директор строившейся железной дороги Пирей — Афины, предоставил Шлиману на время двух своих лучших смотрителей: Теодоруса Макриса из Мити-лен и Спиридона Деметриоса из Афин. Каждому Шлиман платил жалованье сто пятьдесят франков
в месяц. В качестве кассира, счетовода, слуги и повара оставался уже достойно зарекомендовавший себя во время первого этапа раскопок Николаос Зафирос из турецкой деревушки Ренкои. За-Зафиросполучал, как и в прошлом году, свои тридцать пиастров (или шесть франков) ежедневной платы.
«Кроме того, — писал Шлиман в своем новом дневнике раскопок, — господин Пиат, который руководил постройкой железной дороги из Пирея в Ламию, оказал мне любезность, послав ко мне на месяц одного из своих инженеров — Адольфа Лорана, которому я установил плату в пятьсот франков, взяв на себя все путевые расходы. Конечно, еще предстоят существенные затраты, в результате которых ежедневная стоимость моих раскопок составит сумму не менее трехсот франков».
Расходы были настолько велики, что Шлиман отправился на эти раскопки, твердо намереваясь «в основном решить в течение этого года троянский вопрос». Успех этому предприятию должна была обеспечить траншея длиной 70 метров и глубиной 14 метров (ширина ее могла варьироваться), которую было намечено проложить с севера на юг. Инженер-строитель Адольф Лоран вычислил, что общий объем грунта, который было необходимо переместить, составляет 78 545 кубометров. Шлиман рассчитывал натолкнуться на четырнадцатиметровой глубине на материковое скальное основание Трои.
Уже в самый первый день боги сделали и первый предупреждающий знак: из-под каменных обломков гиссарлыкского холма стали выползать бесчисленные ядовитые змеи, которые повергли рабочих в панику. Среди этих змей была особая разновидность — маленькие коричневые пресмыкающиеся (их здесь называли «антелион»), укус которых был смертелен для человека. Может быть, Лаокоон, троянский жрец, и пал жертвой именно их?
По прошествии трех недель раскопки продвинулись на пятнадцать метров вглубь горы, но ни о каких материковых скалах и речи не было. По подсчетам Лорана, было вынуто 8 500 кубометров земли. Семь дней, на что особенно сетовал Шлиман, были потеряны по причине дождей, праздников и беспорядков. Под «беспорядками» Шлиман подразумевал демонстративный отказ землекопов выйти на работу. Поводом для этого послужил запрет Шлимана на курение во время работы. Ответом Шлимана было увольнение зачинщиков и новый набор рабочих из соседних деревень. Одновременно с этим он решил увеличить продолжительность рабочего дня на один час, и теперь раскопки начинались в пять утра и заканчивались в шесть вечера.
На западном склоне холма, в самом высоком его месте, Шлиман распорядился построить для себя деревянный дом. В нем имелось три комнаты: спальня, рабочий кабинет и гостиная. Крыша была сделана из водонепроницаемого войлока. В правом крыле находились складские помещения, где хранились инструменты и найденные при раскопках предметы. Там же была устроена и кухня — ежедневно в половине второго рабочие получали горячую пищу.
Между тем траншея на холме Гиссарлык достигла опасной глубины. Часто происходили осыпания почвы и камня. Однажды на раскопках появился некий грек по имени Георгиос Фотидас, он был родом с Паксоса, но последние семь лет провел в Австралии, где работал на шахтах и строительстве туннелей. А теперь тоска по дому привела его назад в Грецию. По причине своего легкомыслия, а также из патриотических побуждений он женился на пятнадцатилетней гречанке
и теперь срочно искал работу.
Шлиман, не раздумывая, нанял Фотидаса.

Вначале раскопки Трои проходили безрезультатно. Стены, изобра¬
женные в центре, Шлиман считал «башней Илиона, воротами и раз¬
валинами большого здания». На плоской вершине — холма Трои ви¬
ден деревянный домик исследователя, слева от него — склад,
служащий также и кухней, справа — ранняя постройка (жилой дом,
возведенный турками).
Его задача состояла в том, чтобы следить за безопасностью земляных работ.
А поскольку грек этот продемонстрировал и недурные каллиграфические способности, он занимался еще и перепиской документации, записывал надиктованные Шлиманом статьи, которые тот рассылал в различные журналы и научные общества.
Несмотря на большое количество археологических находок, в первые недели работы Шлиман ни на шаг не продвинулся к своей главной цели. Все чаще рабочие натыкались на блоки из ракушечника. Многие камни лежали один на другом, очень напоминая остатки стен зданий, рухнувших в результате какой-то катастрофы. Попадались и серебряные заколки для волос, множество разбитых урн для захоронения праха, сосудов для воды, медных гвоздей, ножей; были обнаружены также тяжелое копье и масса самых разных предметов из слоновой кости. Не раз Шлиман находил на мраморных плитах изображения сов, в которых угадывались человеческие черты.
Шлиман писал в дневнике: «Бросающееся в глаза сходство этих изображений сов с такими же, обнаруженными на многих вазах и кубках и представлявших собой совиные головы в своего рода шлемах, убеждает меня в том, что все идолы и все совиные головы в шлемах являются изображением одной и той же богини… Самый главный вопрос — кто же эта богиня, лик которой встречается здесь так часто и всегда отдельно от других изображений на вазах и кубках? Ответ таков: она может быть лишь богиней-покровительницей города Трои, это должна быть илионская Минерва (Афина), что полностью совпадает с данными Гомера, который не раз упоминает о богине Афине с лицом совы».
Вместе со своими ста двадцатью рабочими, каждый из которых за день перелопачивал добрых четыре кубометра грунта, Шлиман сумел продвинуться в своих раскопках достаточно далеко. «Однако, — писал он 25 апреля 1872 года, — завтра начинается греческая Пасха, которую, к сожалению, здесь празднуют шесть дней и, соответственно, не работают».
ГОМЕР ТОМУ СВИДЕТЕЛЬ
Первого мая при благоприятной температуре двадцать градусов Генрих Шлиман продолжил раскопки. Непосредственно ему подчинялись восемьдесят пять рабочих, остальные пятнадцать находились в распоряжении Георгиоса Фотидаса. В то время как под руководством Шлимана траншею копали с севера, навстречу ему в южном направлении двигалась группа Фотидаса.
Рабочие, которые отныне орудовали лопатами за десять пиастров (или два франка) в день, теперь не находили вообще ничего, а Шлиман стоял на краю траншеи, из которой тянуло запахом гнили, и, уставившись вниз, бормотал про себя никому не понятные стихи. Впрочем, что было рабочим до этого: платит он прекрасно, так что пусть себе не то что стихи бормочет, а даже оперные арии во всю глотку распевает.
«Илиаду» Шлиман знал почти наизусть. Теперь он сравнивал все, что представало перед его взором, со стихами велеречивого Гомера. В то время как в Бунарбаши он, обращаясь к описаниям Гомера, на каждом шагу сталкивался лишь с противоречиями, здесь обнаруживалось все большее число подтверждений словам поэта. «Я твердо убежден, — писал он в дневнике раскопок 11 мая, — что любой из приверженцев отжившей свой век теории о том, что Трою следует искать на высотах Бунарбаши, проклянет эту теорию, стоит ему лишь одним глазом взглянуть на произведенные мною раскопки: тамошний акрополь и город, границы которого определены остатками уничтоженных пожаром стен, вряд ли смог бы вместить в себя население в две тысячи душ; и количество мусора там также более чем скромно, местами даже в центре акрополя можно наткнуться на голые скалы. Между этим маленьким городом и Буиарбаши обнаруживается неровная скальная поверхность, на которой не то что городу, а даже деревне не хватило бы места… Материк Гиссар-лыка вряд ли расположен на два десятка метров выше, чем поверхность непосредственно у подножия горы, однако и сама поверхность, и в особенности граничащая с горой часть ее за тридцать одно минувшее столетие существенно поднялись. Но даже если бы этого и не произошло, все равно возведенная на этом холме Троя заслужила бы таких эпитетов Гомера, как «возведенная у выступа горы», «высокоположеиная», «открытая всем ветрам» (в особенности справедливо последнее: моя главная беда здесь — постоянные ветры, да и во времена Гомера вряд ли было по-другому)».
На следующий день, когда Шлиман как раз инспектировал ход работ на южном склоне, на холм вдруг взбежал перепуганный рабочий. «Доктор! Доктор! — кричал он издали. — Беда! Большая беда!»
Шлиман знаком приказал Фотидасу следовать за ним, и оба поспешили туда, откуда доносились крики. Подойдя ближе, Шлиман понял, что произошло: одна из стен, выложенных из огромных камней, не выдержав нагрузки, обвалилась. Огромные глыбы увлекли за собой многие тонны гальки, и этим камнепадом отбросило в сторону шестерых рабочих — именно это и спасло людям жизнь, иначе они неизбежно оказались бы погребенными под гигантскими глыбами. Шлиман записал в своем дневнике: «Я до сих пор не могу без содрогания подумать о том, что стало бы с раскопками и со мною лично, если бы эти шестеро оказались раздавленными падающей стеной. Вот тогда меня бы уже не спасли ни деньги, ни заверения…»
В нижних слоях Гиссарлыка рабочие стали находить многочисленные пифосы — огромных размеров кувшины для хранения продуктов; их диаметр составлял около метра, а высота — около двух метров.
Подвалы в античное, а в особенности доисторическое время были почти не известны, поэтому все продукты, подлежавшие длительному хранению, помещались в такие сосуды из обожженной глины. Если их обрызгивали водой, то она, испаряясь, вызывала понижение температуры. Это позволяло держать в пифосах скоропортящиеся продукты питания, даже в жару остававшиеся холодными. Семь таких неповрежденных сосудов Шлиман отослал в дар Оттоманскому музею в Константинополе, три решил оставить на месте раскопок.
И хотя не проходило и дня, чтобы кто-нибудь из рабочих не извлекал из пепла и мусора тысячелетий мало-мальски ценный экспонат (за каждую находку рабочие получали особую надбавку), Генрих Шлиман был недоволен. Ежедневные расходы возросли до четырехсот франков. «Они слишком велики, — жаловался Шлиман, — для расходов частного лица». И хотя он нашел «в сто раз больше», чем в прошлом году, до сих пор не было обнаружено никакой надписи, которая бы послужила убедительным доказательством того, что раскопки эти проводились именно в том месте, которое скрывало воспетую Гомером Трою. На всех сосудах, чашах, мисках и черепках присутствовали лишь символы. Чаще всего повторялась свастика — арийско-индийский символ счастья. Неужели эти троянцы действительно не знали письменности?

Несколько десятков глиняных сосудов для хранения припасов —
так называемых пифосов — были отрыты вблизи дома Шлимана.
Семь из них, которые сохранились лучше остальных, Шлиман ре¬
шил отправить в Оттоманский музей в Константинополе. Сосуды
эти, снабженные хитроумно задуманной системой охлаждения, вы¬
полняли у древних роль холодильников.
Через два месяца после возобновления раскопок внимание Шлимана привлек пласт осевшего грунта в форме четырехугольника размером тридцать четыре на двадцать три метра. Это могло возникнуть лишь вследствие раскопок. Еще несколько столетий назад здесь недурно поработали турецкие искатели мрамора. А сейчас обнаруживались лишь отдельные мраморные блоки. Они использовались в основном в качестве строительного материала при возведении домов и кладбищенских памятников и плит.
НОВЫЕ ЗАГАДКИ БОГА СОЛНЦА ГЕЛИОСА
И вот 13 июня была обнаружена самая ценная до сих пор находка — плита из карийского мрамора длиной два метра и высотой восемьдесят шесть сантиметров. На ней присутствовало изображение Гелиоса, вокруг головы которого застыл солнечный нимб; бог на своих четырех бессмертных конях неутомимо скакал через космос. Два поля с тремя насечками на обеих сторонах горельефа указывали на то,
что это была за находка. Специалисты называют такой орнамент с тремя насечками триглифом, а располагающееся между ним украшенное орнаментом поле — метопом. Триглифы и метопы — это типичные архитектурные детали фризов дорических храмов. И изображение бога Солнца точно так же ввело Шлимана в заблуждение, как и очень многое, обнаруженное за время этих раскопок, ни разу не упоминавшееся у Гомера. Нет, с Троей Гомера эта плита ничего общего не имела. Все стилистические особенности указывали, скорее, на связь с эллинической культурой.
Тем не менее, находка свидетельствовала о том, что прежде на этом месте стоял храм. Если принять во внимание широко разветвленные родственные связи, господствующие в греческой мифологии — каждый с каждым здесь родственник, — можно было допустить, что это изображение имело отношение к храму илийской Минервы, фундамент которого Шлиман уже считал обнаруженным. 18 мая он сделал в своем дневнике следующую запись: «То, что я обнаружил этот предмет искусства на крутом склоне горы, в то время как он должен бы находиться на противоположной стороне, над входом в храм, можно объяснить лишь тем, что турки, которые занимались здесь поисками камня для могильных плит, сознательно отбросили эту плиту, поскольку на ней изображены живые создания, что запрещено Кораном».
Так называемый метоп Гелиоса — в наши дни он украшает берлинский Пергамский музей — рассорил Шлимана с его старым другом Фрэнком Калвертом. Исследователь пожелал установить часть мраморного фриза в саду своего афинского дома. Но поскольку находка эта была обнаружена на участке, принадлежавшем Калверту, тот заявил права на половину ее стоимости. После осмотра находки Калверт назвал цену в пятьсот английский фунтов стерлингов. Шлиман клялся и божился, что цена этому от силы пятьдесят фунтов, однако «великодушно» заявил, что готов заплатить эту сумму в качестве компенсации — за вычетом одного фунта на транспортные расходы при доставке плиты в ближайший порт. Так и произошло.
Но во время переговоров с парижским Лувром Шлиман оценил метоп Гелиоса в четыре тысячи фунтов. Когда Калверт узнал об этом, он назвал Шлимана обманщиком.
Июль уже шел к концу, и горячие ветры (не было дня, чтобы столбик термометра опустился ниже тридцати градусов) окрасили Трою в желтокоричневый цвет. Засушливый период года избороздил иссохшуюся почву трещинами. А те, кто вел раскопки на гиссарлыкском холме, закрывали рот и нос смоченными водой повязками, чтобы защититься от пыли.
И снова настроение Шлимана достигло нулевой точки. Он чувствовал себя выжатым как лимон, был на пределе своих сил. К отрицательным факторам следовало добавить и возраставшие день ото дня расходы. Чтобы отвлечь крестьян, из которых, в основном, состояла его группа, от уборки урожая, он вынужден был довести дневную оплату их труда до двенадцати пиастров, что было на треть больше первоначально предложенной им суммы. Кроме того, он работал теперь уже со ста пятьюдесятью землекопами.
«Через двенадцать дней, — писал он профессору Эрнсту Курциусу, от которого все еще не терял надежды получить поддержку, — я собираюсь завершить прокопку горы; откапывание стены я планирую оставить до 1 марта, потому что у меня нет больше сил (и виной тому эти постоянные ветры, которые гонят в глаза мелкую пыль, ослепляющую нас; кроме того, здесь свирепствует особая троянская лихорадка, которой заболевает ежедневно несколько человек моих рабочих; до сих пор я лечил их хинином). Прежде расходы мои составляли триста франков в день, сейчас они увеличились до четырехсот. Но это неважно, я открываю новый мир…»
Высокие слова должны были скрывать его глубокое разочарование. До сих пор Шлиман так и не сумел извлечь из земли ни единого доказательства в пользу его гипотезы относительно нахождения Трои. «Косвенных улик» имелось в достатке, но вот доказательств — ни одного. О Трое у Шлимана были собственные представления: величественные, мощные стены, прекрасные храмы и покрытые куполами дворцы. Все это должно было свидетельствовать о несметных богатствах царей и их счастливых подданных. Разве сам Гомер не был потрясен этим ослепительным великолепием, несметными сокровищами, блеском богато отделанного оружия, искрящимися драгоценностями красавиц-женщин?
СТЕНЫ ГОМЕРА
После долгих недель боги наконец вняли мольбам исследователя: на глубине десять с половиной метров вдруг показались стены двухметровой толщины и высотой в три метра. Разбросанные вблизи их камни натолкнули Шлимана на мысль, что первоначально высота этих стен была больше. Тот факт, что каменная кладка осуществлялась без применения раствора, говорил о том, что сложены они были в доисторическую эпоху. Было ли это нижней кладкой, лежавшей в основании троянского храма? Или же это было частью возведенной Аполлоном и Посейдоном кольцевой стены?
Пока Шлиман строил догадки и тешил себя надеждами, Фотидас принес весть о новой находке на южном склоне холма — фундаменте башни размерами двенадцать на двенадцать метров. То, что речь шла именно о башне, Шлиман заключил из огромной толщины стен. Когда попытались углубиться дальше, было установлено, что башню эту возводили непосредственно на скале.
Шлиман, до сих пор веривший, что Троя Гомера представляла собой самый древний и, следовательно, самый нижний из культурных слоев, не сомневался в том, что наконец-то натолкнулся на памятник архитектуры времен Ахилла и Гектора. Мысленно он воспроизвел в памяти «Илиаду» Гомера, это были поиски следов троянской башни в тексте поэмы. В песне III он обнаружил их. В стихах говорилось о Прекрасной Елене, которая в сопровождении своих служанок появилась перед Скейскими воротами, где Приам держал совет с правителями Трои (III, 145–157).
Несмотря на хинин, болотная лихорадка продолжала свирепствовать среди рабочих-землекопов. Однако прекратить работы сейчас казалось Шлиману немыслимым, и эта «троянская лихорадка» свалила практически всех занятых на раскопках рабочих. Сам Генрих уже даже не отваживался появляться на солнце. Ему казалось, что голова его тут же лопнет от боли. По ночам, когда он, мучаясь от духоты, возлежал на своей железной кровати, его донимали приступы лихорадки, а с равнины доносилось тысячеголосое кваканье лягушек. И Шлиман, уподобившись страстотерпцу Одиссею, тоже затыкал уши, чтобы не слышать этих «концертов».
Шлиман не сдался и тогда, когда болезнь свалила и всех троих смотрителей, и, кроме того, его слугу Николаоса. Рабочие заболевали десятками, но каждый раз Шлиман нанимал новых. Боги с Олимпа дали ему знак, и теперь надо было продолжать идти по следу. В эти дни хворей и безумной работы Николаос Зафирос оставался его единственной опорой. Этот человек, сам мучимый периодическими приступами малярии, разносил письменные распоряжения и приказы Шлимана, а однажды даже совершил казавшееся невероятным: сумел нанять за деньги греческий корабль «Таксиарх», организовал его заход в бухту Каран-ли, где судно стало на якорь, и сумел погрузить на него метоп Гелиоса, который незадолго до этого без всякой охраны умудрился туда доставить в повозке, запряженной волами. Два дня спустя «Так-сиарх» благополучно прибыл со своим уникальным грузом в порт Пирей.
Генрих Шлиман не понимал, что такое усталость, решительно не желая признавать, что он уже не молодой человек: в ту пору ему уже исполнилось пятьдесят, а выглядел он старше, так как был измотанным, высохшим, исхудавшим. И теперь, впервые за свою жизнь, он вынужден был признаться, что переоценил свои силы. «Дни мои сочтены, — признался он как-то в момент депрессии в одном из писем профессору Курциусу, — а мне так бы хотелось перед смертью раскопать и храм дельфийских оракулов, и акрополь в Микенах, и могилу Клитемнестры, а кроме того, предпринять большие раскопки в Делосе». И тут же вполголоса он добавляет: «Но раз больше никого нет, чтобы раскапывать Трою, то я просто буду вынужден продолжить работы там с 1 марта 1873 года…»
ШЛИМАН ГОТОВ ВСЕ БРОСИТЬ
Самое лучшее было бы сейчас, по мнению Шлимана, если бы раскопки взяло на себя какое-нибудь иностранное правительство или международная организация. С одной стороны, такие мысли Шлимана объяснялись растущим удорожанием работ, что было связано со все новыми непредвиденными сложностями, которые приносил каждый новый день раскопок; с другой стороны, к нему на помощь в этом случае могли бы прийти специалисты по археологии и древним надписям. Сам он с каждым днем все больше чувствовал, что не в состоянии продолжать эту гигантскую работу.
Курциус был первым, к кому обратился Шлиман с подобным предложением. В случае, если такая передача раскопок под чью-то официальную эгиду осуществилась бы, Шлиман обещал передать безвозмездно все возведенные там постройки, а также инструменты, оборудование и необходимые для производства земляных работ приспособления. «Теперь очистить эти "стены богов" Трои особого труда не составляет, поскольку такие работы могут быть связаны в случае необходимости и с открытой мною "большой троянской башней"».
Чтобы попытаться развеять опасения Берлина относительно поисков источников финансирования, Шлиман писал: «Видит Бог, эти раскопки с лихвой окупятся уже извлеченными из земли доисторическими предметами, не говоря о том, какую ценность представят для науки откопанные кольцевые стены Трои». Шлиман, что весьма благоразумно, и словом не обмолвился об имевших место договоренностях с турецкой стороной, в соответствии с которыми тот, кто проводит раскопки, полностью берет на себя их финансирование, в то время как ему полагается лишь половина всех обнаруженных находок. То есть…
То есть, как решил исследователь, ему следовало тайком припрятывать лучшие из находок. Так это и произошло с метопом Гелиоса. Когда Шлиман, полумертвый от усталости, прибыл в середине августа в Афины, он обнаружил, что выставленная в его саду мраморная плита уже вызывает восхищение многих почитателей.
Софья не разделяла восторгов мужа по поводу важности археологических открытий, у нее были иные заботы. Казалось, Генрих постарел на много лет. Щеки его впали, глаза утратили живой блеск, он едва мог держаться на ногах и ложками поглощал хинин.
— А к чему это все? — решительно спросила мужа Софья.
— К чему? — с возмущением переспросил Генрих. — Ты спрашиваешь меня, почему я веду раскопки Трои? Потому что я все же не теряю надежды, что за все мои страдания, лишения и муки жизни в этой дикой местности цивилизованный мир предоставит мне право распорядиться плодами моих открытий и перекрестить это священное место.
— Ты хочешь назвать его своим именем?
— Моим именем? — Генрих, не выдержав, рассмеялся. — Нет, не моим именем! Я верну холму Гиссарлык древнее, данное Гомером имя — я назову его Троей, или Илионом, а крепость — Пергамом Трои, и никогда больше никто не произнесет другого названия.
Лежа в постели, куда уложила его болезнь, Шлиман писал статьи для лондонской. «Таймс» и «Аутсбургер Альгемайне» и быстро поправлялся. Через неделю Генрих снова уже был на ногах. Он вынашивал новые планы. С Троей он закончил. Троя была открыта. То, с чем там теперь предстояло разобраться, было уже делом исследователей древности.
Его всерьез интересовали Дельфы, Делос и Микены. В надежде получить лицензию на раскопки этих исторических мест он пообещал греческим властям мраморную плиту с изображением Гелиоса, все свои троянские находки и, кроме того, двести тысяч франков. «А в том случае, если здешнее правительство откажет мне в праве на раскопки, — писал Шлиман в одном из своих писем, — тогда я вообще не стану принимать во внимание Грецию, ничего ей не оставлю, просто продам скульптуры и продолжу раскопки в Турции».
Но правительство молодого греческого государства было все же менее коррумпированным, нежели турецкое. Греки решили продемонстрировать национальную гордость, ибо Шлиман был для них не более чем богатым американцем, женившимся на молодой гречанке. Во всяком случае, власти никак не отреагировали — к великому недовольству Шлимана, который вновь своими помыслами обратился к Трое.
В сопровождении грека-землемера Сисиласа и фотографа по фамилии Зильбрехт 10 сентября Шлиман вновь отправился в Трою. Он хотел попытаться на основе откопанных остатков стен составить план троянской крепости и городских укреплений. Кроме того, необходимо было подготовить к зимним холодам дома на вершине холма, о чем совершенно забыли вследствие поспешного отъезда в августе. В отчете Шлимана об этом имеются следующие строки: «С ужасом я убедился, прибыв на место, что оставленный мной сторож бездействовал и огромную часть больших камней, откопанных мною, неизвестно куда растащили. С помощью этих камней я в нескольких местах выложил подобие стен, чтобы воспрепятствовать смыву зимними ливнями выкопанного грунта. Сторож оправдывался, что якобы камням этим найдено достойное применение — на строительстве колокольни в христианской деревне Енишаир и домов в турецком селении Чиблак. Я прогнал его и взял на его место охранника, вооруженного ружьем, который, надеюсь, будет более преданным и физической силы которого убоятся те, кто отважится похищать камни. Что меня больше всего разозлило, так это то, что похитители не погнушались даже двумя огромными камнями из отрытого на южном склоне великолепного памятника архитектуры времен Лизимаха, — у меня нет сомнений в том, что это укрепление исчезло бы, повремени я с приездом еще хотя бы неделю».
Тем более важным показался исследователю точный план всех откопанных к этому времени остатков стен, составлением которого занимался Сисилас. Зильбрехт фотографировал, а Шлиман сличал все фрагменты стен с описаниями Гомера. Однако этим летом его влюбленность в Гомера сильно пошла на убыль по причине тяжелого физического труда. Кто свежим глазом читал «Илиаду», тот видел в Трое огромный, прекрасно обустроенный город с высокими домами до небес. Но все то, что появилось в результате раскопок, производило странное впечатление, поскольку выглядело весьма жалким, совершенно не соответствовавшим торжественно-приподнятому стилю Гомера. И даже самому Шлиману было трудно поверить в то, что процветавшая некогда троянская культура не оставила ни одного письменного памятника. «Если в Трое была письменность, — заметил Генрих в конце года, — то я наверняка найду надписи на стенах руин обоих храмов. Однако относительно этого я не питаю особых иллюзий, потому что до сих пор во всех слоях, оставленных четырьмя народами, обитавшими здесь до греческой колонизации, мне не удалось обнаружить даже следа каких-либо надписей».
ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА
Скорее из злости на греческое правительство, нежели из глубокого убеждения, что все же обнаружит в Трое находку всей своей жизни, Генрих Шлиман продолжил раскопки в начале 1873 года. Он отправился в Трою, как значилось в его позже опубликованных воспоминаниях, 31 января в сопровождении жены.
Однако и это снова было не более чем попыткой ввести читателя в заблуждение. Софья оставалась дома, в Афинах. А сопровождали Шлимана лишь смотритель Георгиос Фотидас, один албанец с острова Саламис, которого он тоже нанял в качестве смотрителя, а потом решил отправить домой по причине профессиональной непригодности, художник, которому предстояло делать зарисовки всех найденных экспонатов, и еще Георгиос Барба Цигораннис, капитан корабля с острова Эвбея, командный тон голоса которого приводил Шлимана в истинное восхищение. Хороший смотритель, часто поговаривал Шлиман, оказывается гораздо полезнее десятка обычных рабочих. И вообще, считал он, талант вовремя дать нужную команду присущ лишь морякам.
В деревнях, расположенных поблизости от Трои, поползли слухи о том, какие высокие требования стал предъявлять этот помешанный на Гомере американец: он орал на всех, как погонщик рабов, не давал рабочим права на перекур и не оплачивал невыход на работу по болезни, а просто кормил их всех каким-то белым порошком. В этом году у Шлимана из-под носа полторы сотни рабочих увел один торговец из Смирны, плативший в день от двенадцати до двадцати трех пиастров за поиски корня солодки, из которого добывался лакричный сок.
Не успел Шлиман завербовать в селениях Калифатли, Енишаир и Нео-Хори сто двадцать человек рабочих (за дневную плату в девять пиастров), как разразилась непогода, принесшая с собой холод. Столбик термометра упал ниже нуля, в доме замерзла даже вода в умывальнике. Ни о какой работе, разумеется, и речи быть не могло. Шлиман с горечью заметил: «К вечеру у нас не осталось ничего для согрева, кроме одного лишь энтузиазма и веры, что мы все же сумеем откопать легендарную Трою».
Какое-то время он даже хотел вообще не начинать раскопок, а возвратиться в Афины и спокойно дождаться весны. Но вскоре Шлиман отказался от этой идеи, остался и стал обсуждать со своими помощниками ход предстоявших работ.
Понедельник, 24 февраля 1873 года. Над Троей дует легкий весенний ветерок. Шлиман поручил ста пятидесяти восьми рабочим освободить от насыпи обнаруженную в прошлом году большую стену из грубого, неотесанного белого камня в северо-восточной части холма. Если он в самом начале полагал, что это остатки защитной стены, принадлежавшей древней городской крепости, то небольшая надпись на древнегреческом в корне изменила его мнение. Надпись эта гласила: «То hieron» («Святилище»). Святилище! Шлиман раздумывал. Под этим можно было понимать лишь храм Афины!

Троянский холм после трехгодичных раскопок начала 70-х годов
прошлого столетия. Хорошо видна гигантская траншея глубиной 14
метров и длиной 70 метров, которую Шлиман проложил с севера на
юг через всю зону раскопок.
Стена, которую удалось отрыть на следующий день, в длину имела 87,7 метра. Это была северная продольная стена храма, которая, как доказывали различные слои камня, была воздвигнута на прежнем храме, а тот, в свою очередь, — на еще более древнем святилище. По протяженности это было самое внушительное из всех зданий в Трое. Шлиман писал в своем отчете о раскопках: «С самого начала я искал это святилище, игравшее такую важную роль; чтобы обнаружить его, мне пришлось убрать с красивейших мест Пергама сто тысяч кубометров мусора. И вот теперь я обнаружил его именно на том месте, на котором предполагал. Я искал этот новый храм, возведенный — предположительно — Лизимахом, потому что верил, не переставая, что на глубине под ним обнаружу более древний храм — храм Минервы — и именно там может скрываться ответ на вопрос относительно Трои».
Минерва была римским аналогом греческой богини Афины, дочерью отца всех богов Зевса, богиней мудрости и понимания, готовой прийти на помощь покровительницей греческих героев. Минерва считала сов священными птицами, и именно многочисленные терракотовые совы и указывали путь Шлиману. Здесь, у подножия наружной стены, были обнаружены тысячи глиняных осколков с изображением сов.
15 марта 1873 года. «Ночи стоят холодные. Столбик термометра очень часто опускается в предрассветные часы до точки замерзания, в то время как дневное солнце уже понемногу начинает досаждать и нередко термометр в полдень показывает до восемнадцати градусов Реомюра в тени. Начинают появляться первые листья на деревьях, а сама Троянская равнина уже покрыта весенними цветами. Уже в течение двух недель раздается кваканье миллионов лягушек из близлежащих болот, и уже восемь дней, как прилетели аисты. К неприятностям здешней жизни на дикой природе относятся и ужасные крики бесчисленных сов, которые гнездятся в дырах раскапываемых мною стен. В этих криках есть
что-то таинственное и ужасное, в особенности они не дают покоя по ночам».
Шлиман поглощен раскопками. Он велит рыть лопатами то там, то здесь, однажды даже поручает копнуть и на некотором расстоянии от холма. Не выпуская из рук «Илиады», он что ни день поглощен новой идеей. Так, он возвращается к отрытой в прошлом году в западной части холма башне и велит вырыть четырнадцатиметровую квадратную шахту. «Сама возможность, — пишет он, — видеть перед собой эту башню (некогда так высоко расположенную, что она возвышалась не только над равниной, но и над лежащей южнее возвышенностью), в то время как ее вершина теперь находится на глубине многих метров, стоит кругосветного путешествия».
Уже на глубине в два метра рабочими были обнаружены руины большого здания греческого периода. Оно, скорее всего, размышлял Шлиман, принадлежало состоятельному человеку, так как полы в доме были из красных отполированных каменных пластин, а это делалось лишь в богатых домах.
Те камни, которые не имели явно выраженных признаков обработки или не подходили ни к одной из обнаруживаемых кладок, Шлиман бросал в расположенные во множестве вокруг гиссарлыкского холма кучи извлеченного мусора. Оттуда местные жители могли брать камни в качестве строительного материала, которого здесь не хватало. «Глядишь, и поднимется в этой бедной деревеньке Чиблак мечеть с высоким минаретом, а в другой, под названием Епишаир, — колокольня христианской церкви, выстроенная из моих илионских камней».
ПОСЛЕДСТВИЯ КРАЖИ ПРЕДМЕТОВ ИСКУССТВА
Консул Калверт чувствовал себя — и не без оснований — обманутым в результате этой акции Шлимана с горельефом Гелиоса, в особенности после того, как Шлиман стал похваляться, что настоящая цена этого предмета искусства была намного выше той, которую он назвал Калверту и которую ему заплатил. Калверт не собирался отзывать свое разрешение производить раскопки на принадлежавшей ему территории (он наверняка получил за него солидную сумму), однако желал отомстить по-другому.
Он, с самого начала являвшийся горячим сторонником теории Шлимана относительно местонахождения Трои, теперь усомнился в ее правильности.
В газете «Левант Геральд» Калверт высказал мнение, что ни один из обнаруженных до сих пор культурных слоев не мог быть Троей, описанной Гомером. Тот пласт, который на двухметровой глубине непосредственно следует за греческими обломками, должен быть более чем на тысячу лет старше событий Троянской войны.
Утверждая это, Калверт не так уж и заблуждался Шлиман, однако, никак не желал этого принять. Такого просто НЕ МОГЛО БЫТЬ. Шлиман угрожал консулу, что «порвет с ним дружбу до конца дней своих». Он писал: «Заявляю открыто, что, в то время как цивилизованный мир с нетерпением ждет моих дальнейших открытий после трех лет непрерывных раскопок, мой труд в этих адских погодных и природных условиях ваши клеветнические статьи представляют в черном свете I»
А между тем слухи о хищении метопа Гелиоса достигли Константинополя. Доктор Детье — француз, директор исторического музея в этом городе — призвал правительство аннулировать лицензию Шлимана. Шлиман оправдывался: он, в конце концов, обнаружил эту мраморную плиту с горельефом на участке, принадлежащем Калверту, и откупил у владельца принадлежавшую ему часть.
Подстегнутый этими событиями, Шлиман удвоил усилия. Теперь на него уже работало сто-шестьдесят рабочих, раскопки велись одновременно в трех, а то и четырех местах; было обнаружено множество терракотовых изделий, в основном кувшины, различные сосуды и посуда. Веспа в этот год выдалась на редкость теплая, и Шлиман в одном из своих писем предложил жене приехать на пару дней в Трою.
С тех пор как на свет появилась дочь, Софья проявляла еще меньший, чем прежде, интерес к научным эскападам своего супруга. Она сносила их без ворчания лишь потому, что длительные отлучки Генриха предоставляли ей возможность время от времени отдыхать от его бесконечных поучений. Шлиман же, напротив, не терял надежды, что Софья проведет с ним лето, участвуя в его раскопках Трои. Андромахе уже исполнилось два года, и немецкая няня пользовалась полным доверием родителей.
В конце марта Софья впервые взошла на гиссарлыкский холм. Шлиман чувствовал себя на вершине счастья. Целый день он решил потратить на то, чтобы вместе со своей супругой обойти и осмотреть все выкопанные стены и объяснить все. В одном из двух домиков, построенных на самом высоком месте холма, Софье была предоставлена отдельная комната, Фотидас позаботился о том, чтобы молодая жена археолога ни в чем не испытывала недостатка.
Разумеется, и для Софьи нападки Калверта на ее мужа не прошли даром. Слухи о том, что турецкие власти собираются отнять у доктора Шлимана лицензию на проведение раскопок, достигли и Афин.
— Ах, тебе следовало бы оставить этот камень бога Солнца здесь, — вздыхала она. — Он приносит нам одни лишь несчастья!
Шлиман ответил:
— Я купил у Калверта эту плиту. Я не понуждал его отдать мне ее даром. Он согласился, когда я предложил ему пятьдесят фунтов, и он получил эти пятьдесят фунтов. Вот так. А что до турецкого правительства, то ему вообще не должно быть дела до всего этого. Эта плита лежала на участке Калверта.
— Но Калверт чувствует себя обманутым!
— Обманутым? Ну, в таком случае, он плохой купец! — Генрих громко рассмеялся. — Кроме того, он понятия не имеет об «Илиаде».
Софья понимала, что в подобной ситуации противоречить Шлиману не имело никакого смысла. Он пылал ненавистью к Калверту, а когда он был взбешен, то очень часто перегибал палку, причем позже не сожалел об этом и не имел привычки извиняться.
— Он понятия не имеет об «Илиаде», — повторил Шлиман, повысив голос. — Он считает, что герои Гомера обходились каменными топорами и примитивными орудиями. А что сделал Гектор, чтобы взломать закрытые ворота ахейцев? Калверт считает, что он тут же схватился за топор и пилу. Но в песни XII «Илиады» имеется точное описание, как это было. Он поднял огромную каменную глыбу, швырнул ее в ворота, и они с треском распахнулись. Если бы мистер Калверт взял себе за труд прочесть Гомера, он бы наверняка заметил, что такие слова, как «молоток» и «клещи», во всей «Илиаде» встречаются лишь однажды и лишь в связи с богом огня Гефестом.
«ПОЖАР! ПОЖАР!»
Софья кивнула. Было уже поздно. До глубокой ночи сидели они перед маленьким примитивным камином, который Шлиман распорядился соорудить в своем деревянном домике на троянском холме. Прежде чем они отправились в выходящую окнами на север спальню, Генрих подложил в очаг побольше дров. Ночи здесь были холодные. Около трех часов ночи Шлиман внезапно проснулся. В пос ему ударил едкий дым. Открыв дверь в комнату, он увидел бушующее пламя. Деревянный пол у камина был охвачен огнем.
— Софья! Пожар! Мы горим! — закричал Генрих и бросился в спальню. Схватив свою еще спавшую супругу, он вынес ее на улицу, потом снова побежал в дом. Потушить огонь Шлиману не удалось. Но Фотидас, который спал в соседней комнате, тоже проснулся и привел подмогу из соседнего дома. Для тушения пожара не было воды, и люди в отчаянии пытались забросать пламя песком и землей, однако весь огонь ликвидировать таким образом не удалось. В конце концов тяжелыми кувалдами и кирками они взломали пылавшие доски пола и выбросили их в окно, и это спасло деревянное строение от уничтожения.
Присутствие Софьи словно окрылило Шлимана. Он решил инсценировать для своей жены «Илиаду», проявив при этом незаурядные режиссерские таланты. Он заставил подняться из пепла тысячелетий античных героев и, словно театральные декорации, раскрыл перед ней улицы и здания; реквизитом служили кувшины и сосуды, орудия и украшения. Софья олицетворяла благодарную публику. Великий режиссер стал свидетелем ее безграничной радости, снискал аплодисменты и был избавлен от критических замечаний. С раннего утра и до позднего вечера Софья сопровождала мужа в его обходах зоны раскопок. Она от всей души старалась приспособиться к игре его буйного воображения, силой фантазии построить великолепное здание всего лишь из трех лежавших на земле каменных блоков.
5 апреля 1873 года: «Самой интересной находкой этой недели был дом, отрытый на глубине семи и восьми метров на большой башне под греческим храмом Минервы, в котором теперь уже освобождены от грунта восемь комнат. Стены его состоят из небольших, скрепленных между собой землей камней и, похоже, относятся к различным временным отрезкам — часть их непосредственно покоится на камнях башни, а другие, в свою очередь, построены недавно, как, например, эта, покрытая слоем мусора в двадцать сантиметров. Другие тоже покрывает подобный слой, но уже в метр толщиной… В том виде, в котором он предстает сейчас перед нами, дом этот обнаруживает очевидное сходство со строениями в Помпеях… Рядом с этим домом и в его самых больших помещениях я обнаружил много человеческих костей; в частности, два целых скелета явно принадлежат воинам, поскольку найдены они были на семиметровой глубине и имеют медные шлемы на черепах, а рядом с одним из скелетов я обнаружил большое копье…»
16 апреля 1873 года: «Со времени моей записи от 5-го числа сего месяца в моем распоряжении находились в среднем сто шестьдесят рабочих и было обнаружено множество чудесных предметов. Среди всего стоит отдельно упомянуть открытую на глубине девяти метров — почти вплотную к моему дому, на большой башне, — улицу Пергама шириной в пять метров. Она вымощена каменными плитами длиной от 118 до 150 сантиметров и шириной от 89 до 134 сантиметров. Она идет в юго-восточном направлении, очень круто спускаясь к равнине… Эта прекрасно вымощенная улица наводит меня на мысль о том, что неподалеку должно находится какое-нибудь значительное здание. Поэтому я сразу поставил сотню человек, чтобы они убрали глыбу земли на северо-востоке шириной двадцать четыре метра, длиной тоже двадцать четыре метра и высотой десять метров…»
Эти записи явно свидетельствуют о подлинном чутье Шлимана на находки. В чем оно заключалось, откуда пришло к этому человеку — однозначно объяснить невозможно: речь идет о совершенно особом таланте, о сверхъестественном даре, специфической способности обнаруживать сокрытое, что доступно лишь весьма немногому числу людей. Свойство это заключается в умении соединять фантастику и реальность так, что этот сплав образует прочную основу для всего нового, доселе не виданного. Фантазия, которой позже так злоупотреблял Шлиман, составляя свою биографию или описывая путешествия и поиски, фантазия, так лихо подменявшая у него действительность, была одновременно самым сильным его стимулом и самой надежной путеводной нитью. в его археологических изысканиях.
Генрих Шлиман был убежден, что эта великолепная, мощенная каменными плитами дорога — а именно такой она предстала его взору — непременно должна вести к главному сооружению троянских укреплений. «Чтобы доказать это, — писал он в своем дневнике раскопок, — я, к величайшему своему сожалению, вынужден распорядиться о сносе трех больших, стен последнего из обнаруженных домов. Однако мои надежды целиком оправдались, свидетельство чему — достигнутый результат, поскольку я обнаружил не только большие двойные ворота, отстоявшие друг от друга на 6,13 метра, но и медные запоры их… Теперь я осмелюсь утверждать, что обнаруженные мною большие двойные ворота вполне могут оказаться Скейскими воротами…»
Часами Шлиман стоял перед глубокой траншеей, вырытой вдоль дороги. Глядя на прямоугольные остатки стен, он в мыслях своих — камень за камнем — достраивал величественное сооружение, за которым в небо устремлялась троянская крепость.
К нему подошла Софья. Она могла догадаться, что происходило сейчас в душе Генриха. Она понимала, что он был сейчас далеко, за две тысячи лет отсюда, и поэтому не осмелилась заговорить с ним.
СКЕЙСКИЕ ВОРОТА
После долгого, казавшегося бесконечным молчания Генрих взял Софью за руку и кивнул на остатки стен. «Вот здесь, — благоговейно произнес он, — разыгрываются самые захватывающие сцены "Илиады". И, словно во сне, начал он цитировать Гомера; это были стихи из песни III:
Скоро они притекли ко вратам возвышавшимся Скейским. Там и владыка Приам, и Панфой. и Фимет благородный, Клитий, божественный Ламп, Гикетаон, Ареева отрасль, Укалегон и герой Антенор, прозорливые оба,
Старцы народа сидели на Скейской возвышенной башне, Старцы, уже не могучие в брани, но мужи совета, Сильные словом, цикадам подобные, кои по рощам, Сидя на ветвях дерев, разливают голос их звонкий: Сонм таковых илионских старейшин собрался на башне. Старцы, лишь только узрели идущую к башне Елену, Тихие между собой говорили крылатые речи: «Нет, осуждать невозможно, что Трои сыны и ахейцы Брань за такую жену и беды столь долгие терпят: Истинно, вечным богиням она красотою подобна!»
Эта возвышенная декламация была прервана громким криком подоспевшего на коне всадника, который приближался к холму со стороны Кумкале, размахивая над головой конвертом, словно добытым в бою трофеем.
— Телеграмма из Афин для мистера и миссис Шлиман! — еще на скаку кричал он.
Генрих разорвал конверт, не посмотрев даже, кем была отправлена телеграмма. Для него все было ясно: турецкое правительство потребовало прекращения археологических раскопок. Все! Это означалось конец его троянского сна.
Потребовалось какое-то время, чтобы Генрих смог снова вернуться к действительности. Оказывается, телеграмма была адресована госпоже Софье Шлиман в Чиблак, через Чанаккале. Короткий текст был таков: «Отец при смерти. Приезжай немедленно. Мать».
Не говоря ни слова, Генрих подал телеграмму Софье. Прочитав ее, она разразилась слезами.
Шлиман обнял жену.
— Я поеду с тобой, — сказал он. Произнести эти слова ему было нелегко.
И Софья почувствовала это, несмотря на свою боль. Поэтому она ответила ему:
— Нет, Генрих! Ты останешься здесь. Именно сейчас, в такую трудную минуту, присутствие твое необходимо здесь, как никогда раньше. Кто знает, придется ли тебе вернуться сюда, если ты сейчас решишься уехать!
У Шлимана свалился камень с души. Нельзя было сказать, что его с Георгиосом Энгастроменосом связывала сердечная дружба. Энгастроменос был просто слабаком-деспотом, склонным к похвальбе неудачником — короче говоря, человеком, которого он не выносил и показал это ему с самого начала. Софья, напротив, очень любила своего отца. Она никогда не видела в нем коммерсанта, которого постигла неудача, — только жертвовавшего всем ради семьи
отца. И она была обязана ему всем, даже тем, что у нее был такой муж. Именно по воле отца Софья вышла замуж за Генриха. Сама бы она ни за что бы не отважилась на такой шаг.
Генрих проводил Софью до Чанаккале, где она отправилась первым же рейсом на Пирей. Когда Софья Шлиман прибыла в Афины, ее отец уже умер.
«Моя горячо любимая жена! — писал Шлиман, узнав о смерти тестя. — Утешься, дорогая моя, мыслью о том, что вскорости все мы последуем за твоим прекрасным отцом. Утешься ради блага нашей любимой доченьки, которой нужна мать и без которой все ее земное счастье будет ничто. Утешься и думай о том, что твои слезы уже не вернут тебе твоего отца и что он, добрый, порядочный человек, уже далек от суеты, забот и мук этой жизни и наслаждается истинным, чистым счастьем
той жизни и сейчас намного счастливее нас с тобой, оплакивающих его. Если же горе твое по покинувшему нас будет неутешным, то с ближайшим же пароходом приезжай сюда, ко мне, и я смогу найти средства и способы подбодрить тебя. Без тебя наши раскопки замерли, и мы думаем со слезами радости на глазах о твоем скором возвращении…»
Способна ли была Софья в своем горе заметить, что Генрих стал называть себя во множественном числе, словно коронованные особы: «МЫ думаем со слезами радости на глазах о твоем скором возвращении»?
Как и всегда весной, множество болотных калужниц окрасили троянский пейзаж в желтый цвет. Но Шлиман не замечал их. До боли в глазах он с утра и до вечера всматривался в остатки стен, которые постепенно высвобождали из-под земли его рабочие. Его теории и предположения становились все более смелыми, а высказывания — все более точными и определенными. В том месте, где дорога продолжалась, уже за Скейскими воротами, он обнаружил великолепное здание и немедля сделал вывод: «Местоположение этого здания — непосредственно над воротами, на искусственном возвышении, — а также его прочность и основательность показывают, что оно было самым величественным в Трое и могло быть лишь домом Приама».
Доказательств этому утверждению Шлиман предоставить не мог. Он руководствовался лишь своими чувствами. Скейские ворота в «Илиаде» играют, можно сказать, ключевую роль. Это было место, где происходили самые важные встречи и прощания, где оставшиеся в городе — стояли охваченные страхом. Отсюда наблюдали за ходом сражений. Скейские ворота являлись символом Трои — таким же символом, каким для Берлина были Бранденбургские ворота. И так же, как Бранденбургские ворота стали для Германии символом ее послевоенного могущества, так и Скейские ворота являют собой символ Троянской войны и «Илиады» Гомера.
Приам, дворец которого обнаружил Шлиман за двубашенными воротами, предстает в «Илиаде» как один из главных героев. Он, сын Лаомедона, был женат на Гекабе, однако имел и несколько внебрачных связей, результатом которых было рождение многочисленных детей; некоторых из них звали такими яркими именами, как Гектор, Кассандра, Парис, Полидор и Поликсена. Смерть его была такой же яркой, как и его жизнь: после захвата Трои греками он бежал на алтарь Зевса и был убит там Неоптолемом.

Раскопки Скейских ворот и дворца Приама — если предположить, что это действительно были именно эти сооружения, — дали Шлиману доказательства его теории местонахождения Трои. Два главных постулата этой теории гласили: «Илиада» Гомера основывается на исторических фактах; место, где шли сражения Троянской войны, находилось под холмом Гиссарлык, в его недрах.
Никто из серьезных исследователей не решился бы назвать отрытые Шлиманом остатки стен дворцом Приама. Более того: в этих стенах не было найдено ничего, что свидетельствовало бы в пользу такого заключения. Хотя Шлиману удалось обнаружить на раскопках несколько глиняных ваз с изображением совоголовой Афины и, кроме того, несколько топоров из диорита, четыре кубка и обломки большой урны вместе с фрагментами ритуальных сосудов, заключить на основании этого, что речь идет о дворце царя Приама, можно было лишь обладая слишком живой фантазией или же одержимостью мифомана. Шлиман же в достаточной степени обладал и тем и другим.
«К моей радости, — не без самоуверенности писал он археологу и директору музея, профессору Александру Конце, — могу сообщить вам, что ваши взгляды и взгляды ваших уважаемых коллег оказались верными и на дороге, вымощенной каменными плитами, обнаружились двое ворот, удаленных друг от друга приблизительно на шесть метров… Перед первыми воротами располагается большое здание, руины которого и осколки камней трехметровым слоем покрывали ворота… Оно в любом случае может быть лишь домом Приама. А ворота — Скейскими…»
В письмах и газетных статьях Шлиман раструбил о своих успехах на весь мир. И неожиданным результатом стало то, что поднятая шумиха не позволила турецким властям решиться на аннулирование лицензии Шлимана на раскопки.
После конфликта с Фрэнком Калвертом Шлиман приостановил раскопки на принадлежавшем консулу северном участке, потому что, как Шлиман выразился, он не мог больше сотрудничать с Калвертом. Истинной же причиной было то обстоятельство, что ценных находок на участке Калверта попадалось значительно меньше, чем на земле, принадлежавшей правительству.
ТРОЯНСКАЯ КРЕПОСТЬ — РОГ ИЗОБИЛИЯ
Впервые Шлиман был доволен находками на раскопках. Уже 24 мая в очерке в газете «Аугсбургер Альгемайне» он сообщал о том, что «полностью выполнил задачу» и 15 июня «навсегда» прекратит раскопки Трои. Троянская крепость, по словам Шлимана, — «неисчерпаемый, богатейший рог изобилия не виданных доселе, занимательнейших предметов быта и религиозных культов троянского народа и его потомков, и они вместе с памятниками неувядаемой славы, обнаруженными… здесь, открывают новый мир для археологии…»
«Но когда, взглянув на план Трои, — писал Шлиман, — вдруг испытываешь разочарование и видишь, вопреки своим ожиданиям, что Троя слишком мала и не соответствует великим деяниям, воспетым в «Илиаде», и что Гомер с его поэтическим даром сильно преобразил ее в своих произведениях, необходимо, с другой стороны, обрести удовлетворение в осознании того, ЧТО ТРОЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СУЩЕСТВОВАЛА, ЧТО ТРОЯ ЭТА ОТКРЫТА И ЧТО ПЕСНИ ГОМЕРА ИМЕЛИ В ОСНОВЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ.
Открытием Трои я обязан моему вдохновению, энтузиазму и любви к греческой филологии, и в особенности — к Гомеру. Поэтому я завещаю все обнаруженные мною троянские предметы древности греческому народу, среди которого на склоне лет я решил обосноваться. Я всегда готов с удовольствием продемонстрировать находки гостям в любое время, когда буду пребывать в Афинах».
Когда Шлиман 24 мая писал эти строки, он еще не мог предполагать, что величайшая находка его еще впереди. Она сделает его знаменитым за одну ночь — именно так, как он этого желал всегда.
Вокруг находки этой всегда было множество слухов, сомнений и всевозможных домыслов. Можно даже подумать, что Шлиман предвосхитил своими открытиями последующие важные археологические находки — такие, как глиняные таблички Богазкей, бюст царицы Нефертити или золотая маска Тутанхамона. Все эти реликвии и по сей день окружает аура чего-то таинственного и преступного, до сих пор об их открытии ходят самые настоящие легенды.
Рассказ о поисках Трои отличается от остальных историй, сопутствующих выдающимся открытиям, лишь тем, что именно тот, кто обнаружил сенсационные находки, и предоставил миру самые различные версии их появления. В своих письмах, газетных статьях и книгах «Троянские древности» и «Автобиография» Шлиман предлагает изумленному читателю с полдюжины вариантов изложения известных событий, и почти невозможно попять, что же в действительности произошло между 31 мая и 7 июня 1873 года.
Нет никакой определенности и в отношении точной даты открытия. Самая ранняя дневниковая запись Шлимана об этой находке датирована 31 мая. Неизвестно, однако, каким календарем пользовался Шлиман — григорианским или греческим. В его книге о Трое сообщение о находке появляется лишь 17 июня, то есть тогда, когда исследователь уже прекратил работы.
Совершеннейшей неправдой является и утверждение Шлимана о том, что его супруга неотлучно находилась в Трое во время всех раскопок и даже оказала ему помощь в сокрытии сокровищ и вывозе их за пределы страны. То, что Софьи не было рядом как раз в момент совершения им важнейшего открытия, Генрих просто не желал принять. И, как мы уже не раз могли убедиться, это вполне соответствует одной из черт его характера — стремлению как бы время от времени поправлять судьбу, которая не совсем соответствовала его представлениям о ней.
ПРАВДА О ВАЖНЕЙШЕМ ОТКРЫТИИ ШЛИМАНА
Ближе всего к истине содержание той записи Шлимана, которая была сделана им спустя несколько дней после открытия. Очень странно, но он написал обо всем в тоне, совершенно лишенном каких бы то ни было восторженных интонаций, которыми так отличаются все более поздние сообщения Шлимана. Можно лишь догадываться, почему это так. Возможно, потому, что Шлиман пожелал зафиксировать на бумаге совершенно трезвую, объективную оценку, которая бы обеспечила ему признание ведущих профессоров, до сих пор относившихся к его исследованиям скептически либо вовсе отвергавших их.
«За домом [Приама] я обнажил лежавшую на глубине восьми-десяти метров троянскую кольцевую стену, идущую от Скейских ворот, и наткнулся на большой медный предмет весьма необычной формы, который привлек мое внимание тем, что своим блеском весьма походил на золото. Этот медный предмет оказался в твердом как камень слое красной золы и кальцинированных отложений толщиной от 1,5 до 1,75 метра, на котором располагалась упомянутая мною стена толщиной 1 метр 80 сантиметров и высотой 6 метров. Она состояла из крупных камней и земли и, вероятно, была построена вскоре после разрушения Трои. Чтобы не разжигать страсти моих рабочих и спасти находки для науки, нужно было поторопиться, и, хотя еще было далеко до завтрака, я сразу же решил объявить «paidos», а пока мои рабочие закусывали и отдыхали, сумел вырезать сокровище при помощи большого ножа, что потребовало многих сил и представляло угрозу для жизни, поскольку большая стена, которую мне предстояло раскопать, в любой момент могла рухнуть на меня. Но вид стольких ценнейших для науки предметов вселил в меня безрассудную храбрость, и я уже не мог думать ни о какой опасности.
Оттащить с этого места найденное сокровище я бы не смог, если бы не помощь моей дорогой жены, которая завернула вырезанные из земли предметы в свою шаль и смогла унести».
Несомненны попытки Шлимана подчеркнуть ценность найденных им предметов для науки — материальная сторона для него не играла особой роли. Однако не следует преувеличивать и его научные устремления: просто теперь он получил возможность доказать этим почтенным профессорам — и в первую очередь вспоминается Эрнст Курциус, — что они больше не могут обращаться с ним как с глупым мальчишкой и должны признать его археологическое дарование и научную репутацию.
С самого начала для Шлимана было совершенно ясно, что клад, обнаруженный вблизи дома Приама, будет иметь особую ценность. Кто, как не царь Трои, должен обладать несметным количеством посуды, цепной серебряной и золотой утвари и оружия? И то, что сокровища эти лежали похороненными под полутораметровым слоем золы, послужило для исследователя лишь еще одним косвенным доказательством. Неужели верные царю троянцы попытались спасти от врага все эти ценности, когда город уже был охвачен пожаром?
Сохранить найденные предметы в тайне оказалось делом весьма нелегким. Всего насчитывалось 8833 предмета; в основном это были очень небольшие по размерам предметы, которые необходимо было отправить отсюда. Липп, 83 из них были покрупнее. Остальные же представляли собой маленькие листики, звездочки, кольца и пуговицы из золота, фрагменты ожерелий и диадем, которыми Шлиман по понятным причинам вынужден был заняться позже.
Чад всем возлежал овальный медный щит диаметром в пятьдесят сантиметров, в центре которого располагался шип размером с кулак и по краю которого шло окаймление высотой в четыре сантиметра. Когда Шлиман осторожно поднял его, он увидел медный котел, а потом медную пластину длиной сорок четыре сантиметра и шириной шестнадцать сантиметров. Под воздействием огня поверхность ее сморщилась, пошла волнами, и именно жар огня приплавил днище серебряной вазы к этой медной пластине.
Пятым предметом, который Шлиман извлек из золы, была шарообразная емкость типа фляжки из чистого золота весом в четыреста граммов. Рядом с ней лежал кубок весом в двести двадцать

Эти небольшие находки впервые указали Шлиману на сокровища Приама. Исследователь сначала распорядился зарисовать каждый предмет в отдельности, затем снабдил его своим особым номером. Представленные на снимке украшения: серьги, заколки для волос, шпильки, кольца и подвеска — имеют номера от 836 до 850.
шесть граммов, также изготовленный из чистого золота. Оба предмета составляли гарнитур.
При помощи ножа Шлиман очищал предметы от затвердевшей земли. Он очень боялся повредить их при этом, но, с другой стороны, время не терпело. Прятал Шлиман эти вещи также в одиночку, и не по указанной им причине — «чтобы не разжигать страсти рабочих и спасти находки для науки». Нет, не поэтому. Для него с самого начала было ясно, что это сокровище он должен заполучить для себя лично и тайком вывезти его из страны.
Археолог поместил все предметы в корзинку и отнес их в свой деревянный домик, находившийся всего в нескольких шагах. Потом спокойно продолжил работу. Ему тут же попался еще один предмет из золота, и Шлиман вначале даже не знал, что с ним делать. По форме он напоминал кораблик, по обеим сторонам которого имелись два ушка. Два отверстия — на корме и на носу этого кораблика — и прекрасное знание Гомера привели археолога к разгадке: он нашел «depas amphikypel-Іоп», очень редкий сосуд для питья, из которого гость и хозяин пьют одновременно.
Из его записей того же дня: «Далее я обнаружил там шесть предметов из чистейшего серебра в форме больших лезвий, один конец которых был закруглен, а другой обрезан в форме полумесяца… Поскольку все эти предметы были найдены лежащими в виде четырехугольной кучи на кольцевой стене, то кажется очевидным, что прежде они хранились во дворце Приама в деревянном сундуке, как это упоминается в «Илиаде». Я еще более убедился в этом, когда рядом я обнаружил медный ключ длиной десять с половиной сантиметров, пятисантиметровая бородка которого очень походила на те, которые имеют современные ключи от касс в банках. Очень странно, что ключ этот имел деревянную ручку, а конец ключа, согнутый под прямым утлом, как это бывает у кинжалов, не оставляет никакого сомнения относительно предназначения этого предмета».
Голова Шлимана заработала. Кусок металла
в форме ключа — это привело в движение его фантазию. Ожили сцены прошлого, битва за Трою. Вот что говорит исследователь: «Вероятно, кто-то из семьи Приама второпях собрал сокровища
в деревянный сундук, понес его, и у него даже не было времени достать ключ, но на стене путь ему преграждает огонь или же враг, и он вынужден бросить сундук, который тут же оказывается за-

В своей книге о Трое, которая вышла 1881 году, Генрих Шлиман поместил эту гравюру, показывающую, как носили диадему из сокровищ Приама. Он велел специально изготовить эту гравюру, хотя имелось достаточно фотографий, изображавших его жену Софью с диадемой на голове. Причина проста; гравюра впечатляла больше.
сыпанным красным пеплом и камнями рушащегося дворца. Может быть, именно этому несчастному, пытавшемуся спасти сокровища, принадлежали и те найденные мною несколькими днями позже неподалеку от того же места, где я ранее обнаружил сокровища, предметы: шлем и толстостенная серебряная ваза высотой в восемнадцать сантиметров и диаметром в четырнадцать сантиметров, в которой находился очень красивый янтарный кубок высотой одиннадцать сантиметров, диаметром девять сантиметров. Шлем этот был поврежден, но его, вероятно, все же можно восстановить, поскольку у меня есть в наличии все его части. И обе верхние составляющие целы.
О том, что сокровища кидали в сундук в страшной спешке, а собиравшему их грозила опасность, свидетельствует и содержимое большой серебряной вазы, на самом дне которой я нашел две великолепных золотых диадемы и четыре серьги тонкой работы из золота; сверху лежали пятьдесят шесть золотых сережек весьма причудливой формы и восемь тысяч семьсот пятьдесят золотых колец, просверленных призм и кубиков, золотых пуговиц и так далее; затем шли шесть золотых браслетов и на самом верху лежали оба маленьких золотых кубка».
ЗОЛОТАЯ ДИАДЕМА
Диадемы и налобные украшения приобрели из всех находок наибольшую известность: Шлиман велел сфотографировать свою жену в этих драгоценностях и ее снимки обошли весь мир, будучи опубликованными во всех крупнейших газетах. Меньшая диадема состоит из золотой цепочки длиной пятьдесят один сантиметр, которая накладывается на лоб. У висков располагаются подвески длиной от восьми до тридцати девяти сантиметров. Они выполнены в виде крохотных листочков, а нижний конец — в виде головы совы, символа покровительницы Илиона. Лоб покрывают в общей сложности семьдесят четыре золотых цепочки длиной всего в десять сантиметров, которые также представляют собой мелкие листки деревьев. Самый нижний ряд листьев уже побольше — около двух сантиметров в длину.
Вторая золотая диадема выполнена в том же стиле, что и первая, однако разница в размерах вызывает предположение, что она принадлежала другому лицу. Налобная часть в ней на четыре сантиметра длиннее. От висков спускаются цепочки (семь с каждой стороны), состоящие из одиннадцати листочков, на конце которых — совиная голова. Их длина была всего двадцать шесть сантиметров, что значительно короче, нежели в первом головном уборе. Между височными цепочками располагаются лобные цепочки; их сорок семь, каждая длиной десять сантиметров, и самая нижняя также несет символ покровительницы Илиона.
Сложнее всего Шлиману было скрыть четыре тонких серьги, из которых парными были лишь две, а две другие весьма отличались. Все серьги имели в длину от восьми до девяти сантиметров и сохранились лишь в виде отдельных частей. Мно
го времени ушло на их реконструкцию.
Шесть браслетов отличались тонкостью и изяществом исполнения; два из них представляли собой просто замкнутые обручи толщиной в четыре миллиметра, третий обруч, тоже замкнутый, шириной семь миллиметров, был украшен. Два других браслета были разомкнутыми и на концах имели украшения в виде головы. «Царевны, которые носили эти браслеты, — писал Шлиман, — должно быть, имели чрезвычайно маленькие ру
ки — настолько маленькие, что даже десятилетней девочке с трудом удалось бы их надеть».
Проводя эти тайные раскопки, Генрих Шлиман вынужден был работать с ситом для просеивания грунта: он желал убедиться, чтобы в земле не осталось никаких мелких золотых изделий. Самыми маленькими были шарики и цилиндрические предметы диаметром в три миллиметра, кото
рые прежде были нанизаны на тонкую проволоку.

Один из первых снимков сокровищ Приама, сделанный в 1873 году, на котором представлена вся коллекция.
Вверху: восстановленные серьги и диадемы; внизу, большие сосуды с украшениями. Самые мелкие из экспонатов были длиною всего в несколько миллиметров, и приходилось отсеивать их из земли при помощи сита.
Хотя все они находились в одной большой вазе Шлиман не мог исключить, что ваза эта могла упасть, а все миниатюрные золотые изделия рассыпаться.
В своем отчете о раскопках он сделал заключение: «Сокровища хранились прежде в каком-каком-то сундуке, поскольку все предметы лежали вплотную друг к другу в виде четырехугольной кучи Видимо, кто-то из царской семьи в страхе и отчаянии в день гибели Трои попытался спасти эти ценности и вынести их из осажденной крепости. Однако неподалеку от ворот ему помешал либо враг, либо наступающее пламя, и сокровища оказались погребенными под золой и осколками черепицы и камней».
А ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ ЭТО СОКРОВИЩА ПРИАМА?
Критики Шлимана выдвинули гипотезу, что эти находки археолога, которые он назвал «сокровищами Приама», представляли собой не что-то единое, обнаруженное в одном вместе, а множество разрозненных предметов, которые исследователь обнаруживал постепенно, в течение всего трехлетнего периода раскопок. Шлиман, по их мнению, просто тайно собирал эти ценности, а потом вдруг решил огорошить всех сенсационной находкой, выложив все сразу и вместе.
Нет сомнений, что подобная мистификация была бы очень даже в духе Генриха Шлимана. Значит, Шлиман — просто хвастун, который водит весь мир за нос?
О том, что Шлиман не инсценировал обнаружение сокровищ, говорит письмо (причем, на первый взгляд, малозначительное), посланное им его издателям Ф. и А. Брокгаузам. В конце мая исследователь направил в Лейпциг один из своих многочисленных отчетов о раскопках, сопроводив его просьбой опубликовать текст в нескольких номерах «Лейпцигер Альгемайне Цайтунг». В этом отчете речь шла о других различных находках. Пос
ле того как Шлиман обнаружил сокровища, он очень опасался, что турецкое правительство снова обратит на него свое пристальное внимание и
он может лишиться их.
Через три дня после того, как он нашел сокровища, Шлиман писал Брокгаузу: «Я здесь, во дворце Приама, обнаружил предметы в высшей степени важные, которые поставили меня перед необходимостью раскопать все строения, где они были найдены, для чего мне потребуется еще четырнадцать дней. Поэтому я посылаю вам телеграмму с просьбой не публиковать пока мои материалы в «Альгемайпе Цайтунг», поскольку они тут же будут перепечатаны турецкими газетами и следствием этого может стать отзыв моего фирмана.
Мне хотелось бы оставить за собой право сообщить вам точную дату позже — тогда, когда опубликование этих материалов уже не будет представлять опасности для меня. Сам факт наличия у меня этих предметов окажется достаточным, чтобы послужить надежной гарантией стабильности нашего предприятия».
Это письмо к Брокгаузу показывает, что клад свалился на Шлимана как снег на голову. Если бы он действительно инсценировал его нахождение, то уж, конечно, не стал бы создавать себе дополнительные проблемы с преждевременным отсылом отчета в издательство.
А между тем сокровища Приама лежали, уложенные в шесть плетеных корзин, в деревянном домике Шлимана на вершине троянского холма. Еще никому не было известно об истинном значении этих находок — даже тем рабочим, которые, без сомнения, присутствовали при их обнаружении. Когда Шлиман отдавал распоряжение о том, чтобы продолжить работы в северной части холма, надеясь найти там еще очень многое, его мучил один-единственный вопрос: как незаметно переправить сокровища Приама в Афины?
Ни сам исследователь, ни его супруга Софья ни разу не делали никаких публичных заявлений относительно того, каким образом золото с холма Гиссарлык попало в Афины. Свою же прежнюю версию о том, что жена помогла ему переправить их, сам же Шлиман позже пересмотрел в беседе с директором Британского музея Чарльзом Т. Ньютоном. Он честно признался ему, что привлек к этому свою жену лишь для того, чтобы увлечь ее будущими раскопками в Греции. Генрих и Софья Шлиман были единственными, кто знал людей, стоявших за всей этой акцией, но они никогда их не выдали.
Что же в действительности произошло тогда, в середине июня 1873 года?
После разрыва с Фрэнком Калвертом, который — и не без оснований — считал себя обманутым Шлиманом, Генрих решил сблизиться с братом Калверта, Фредериком. И оба прекрасно понимали друг друга — во всяком случае, об этом свидетельствуют их многочисленные письма. Фредерик Калверт жил в небольшом местечке под названием Тимбрия, где и получил одно из писем Шлимана: «К сожалению, должен поставить вас в известность о том, что за мной следят и я должен быть готов к тому, что турецкий представитель власти, который по непонятным причинам вдруг разозлился на меня, произведет у меня дома обыск. ‘Посему осмелюсь просить разрешения оставить у вас шесть моих корзин и мешок, и ни в коем случае не допускайте, чтобы турки даже прикасались
к ним…»
Имелась ли в виду под этим обыском, который должен был произвести турецкий представитель Амин-эфенди, обычная проверка или же турецкое правительство в Константинополе каким-то образом прознало о находке, остается тайной. Когда Амин-эфенди появился на следующее утро
в домике археолога, сокровищ там уже не было.
Неясна и роль Фредерика Калверта в этом рискованном предприятии. Якобы именно он доставил шесть закрытых корзин с надписью «Фрукты и овощи» вместе с мешком на борт корабля, отправлявшегося в Афины. Адресатом как будто бы значилась Софья Шлиман. Однако эта версия вызывает вопрос: неужели Генрих Шлиман решился отправить этот груз таким рискованным способом? И еще: возможно ли, как позже утверждал Шлиман, чтобы Фредерик Калверт не знал о том, что было в этих корзинах?
Факт остается фактом: когда Шлиман в середине июня 1873 года возвратился в Афины, сокровища Приама уже находились в его доме. Не следует исключать и того, что Шлиман сумел подкупить и Фрэнка Калверта, и Амина-эфенди, потому что позже, когда против них обоих стали выдвигать множество обвинений, Шлиман решительно принял их сторону.
Узнав, что против Амина-эфенди готовится процесс, он решил обратиться с письмом к Сафвед-паше, желая снять обвинения со служащего. Никто, утверждал Шлиман, не мог быть лучшим наблюдателем на раскопках, чем Амин-эфенди. А если ему и удалось тайком вывезти сокровища, то это лишь потому, что раскопки велись одновременно в пяти разных местах. Не мог же Амин присутствовать одновременно на всех пяти площадках!
«Если бы вы могли видеть, в какое отчаянье впал этот бедняга, когда узнал от рабочих о том, что я обнаружил сокровища, в каком возмущении ворвался ко мне в комнату и приказал именем султана открыть все ящики и все шкафы, после чего я, не говоря ни слова, вышвырнул его за дверь, — вы бы явно посочувствовали ему от всей души».
СОМНИТЕЛЬНАЯ СЛАВА ЗОЛОТА
Разумеется, Шлиман поступил бы гораздо умнее, если бы с самого начала утаил свою находку, какое-то время не заявлял о ней и не вызывал шумихи во всем мире. Но такого рода сдержанность никогда не была в его характере. Он стремился делать все свои удачные шаги достоянием широкой публики. Так как же мог он утаить самую важную находку в своей жизни?
Первые его сообщения о сокровищах Приама появились в «Аугсбургер Альгемайне» и «Лейпцигер Альгемайне Цайтуиг», затем к ним присоединилась лондонская «Таймс», и потом уже эта сенсация обошла все известные издания. В отличие от его очерков об открытии Трои, обнаружение сокровищ вызвало интерес самого широкого круга публики, а не только специалистов. В конце концов, исследователь заявлял о том, что стоимость обнаруженных им троянских сокровищ составляет один миллион франков! Не было ни одного еженедельника, ни одного ежемесячника, который бы не написал о сенсационных находках.
Шлиман мгновенно стал известным на весь мир. Он купался в лучах славы. «Мне льстит, — с гордостью писал он Чарльзу Т.
Ньютону, — что я открыл для археологии новый мир…»
Едва только греческие газеты сообщили о находках Шлимана и о том, что хранятся они в его доме, как уже на следующее утро перед домом на Одос Моусон собрались толпы людей. Все желали увидеть сокровища. Сначала это столпотворение даже поправилось Шлиману, однако прошла неделя, а оно все не прекращалось, и ему пришлось закрыть доступ в свой дом кому бы то ни было из любопытствующей публики. Шлиман признался издателю Брокгаузу, что потерял сон с тех пор, как сокровища Приама оказались у него дома.
Он уже был готов к тому, чтобы доверить хранение троянского золота Национальному банку Греции, но потом решил все же воздержаться, не желая рисковать, ведь в этом случае сокровища могли стать доступными для властей. Из Константинополя тем временем пришло требование турецкого правительства: оно желало конфисковать клад до выяснения прав на владение им. Но Шлиман опередил турок и пустился на хитрость. Он распределил сокровища по шести ящикам, которые снабдил печатями, и спрятал их у многочисленной родни своей жены, потребовав строжайшего молчания до тех пор, пока конфликт этот не будет улажен.
«Более ста фирманов, — писал Шлиман своему лейпцигскому издателю Брокгаузу, — выдано турецким правительством за десять лет, и во всех без исключения поставлено одно и то же условие: половину найденного сдать. До сих пор я был единственным человеком, от которого турки хоть что-то получили: я отослал семь пифосов и четыре мешка с каменными орудиями, в то время как от других они не сумели получить ничего… Да и здесь мое нарушение условий фирмана привлекло такое внимание лишь потому, что я вблизи Константинополя извлек из глубины самый знаменитый из всех кладов и, ни от кого не таясь, во всех газетах перечислил найденные мною предметы».
В действительности турецкое правительство в первую очередь интересовала стоимость всех этих сокровищ. Их историческая ценность играла для турков второстепенную роль. Широко известно было, что на берегах Босфора мало значения придавали реликвиям прошлого. Шлиман не без оснований досадовал по поводу того, что «найденные… предметы в этой закрытой для публики конюшне, каковую представляет собой турецкий музей, навеки будут потеряны для науки».
Молодое греческое государство, напротив, большое значение придавало воспитанию у своих сограждан чувства национальной гордости, рассматривало раскопки Трои как возвращение грекам кусочка их живой истории и с самого начала проявило интерес к сокровищам, выразив готовность взять на себя их экспонирование в каком-нибудь из музеев. Шлиман не отказывался от таких предложений, однако выдвинул определенные условия. На эти трехлетние раскопки он потратил немалую часть своего состояния (Шлиман говорил о сумме в полмиллиона франков). Теперь он желал получить эти деньги назад. Однако Греция была страной бедной, и такая сумма превосходила возможности правительства.
С другой стороны, не только деньги волновали Шлимана. Было нечто такое, что казалось ему важнее, — слава. Уже вкусивший плодов славы, которую принесли ему сокровища Приама, он желал воздвигнуть себе памятник. Он предложил греческому правительству основать в Афинах музей, который бы носил его имя. За это греческое правительство должно было предоставить ему разрешение произвести раскопки двух городов: Микен и Олимпии.
Собственно говоря, в качестве места проведения расколок Микены представляли для Шлимана больший интерес. В конце концов, уже первые находки на гиссарлыкском холме показали, что между Троей и Микенами существовали культурно-исторические связи. Однако он вдруг замахнулся на лицензию и для Олимпии. Именно она дала ему возможность отвесить оплеуху этому самодовольному пруссаку Эрнсту Курциусу, который никогда не воспринимал всерьез ни его исследования, ни его самого. Для старого профессора такие раскопки в Олимпии были бы венцом всей его жизни, а прусское правительство уже послало соответствующий запрос относительно возможности раскопок Олимпии.
«Мое предложение, — писал Шлиман в письме на имя директора музея в Шверине Фридриха Шлие, с которым его связывала давняя дружба, — было встречено в парламенте с ликованием, однако министерство настроено против меня, Все мои успехи вызвали в кругах археологов ужасную зависть, и право проведения раскопок в Олимпии будет отдано прусскому правительству, которое также в них заинтересовано. Мне пообещали лишь Микены, а за них я не отдам своих сокровищ, потому что меня такое решение оскорбляет и я вообще не желаю вести там раскопки…»
ШЛИМАН ХОЧЕТ УЕХАТЬ ИЗ АФИН
Когда Георгиос Калифоурнос, греческий министр по делам общественности, сообщил самоуверенному американцу о решение правительства, тот впал в ярость. Он никак не мог взять в толк, почему правительство решило вопрос не в его пользу. Страна, которую он так любил, государство, которому он так доверял, враз стало для него ненавистным. И уже тогда, в июле 1873 года, Шлиман принял решение найти для сокровищ Приама новую родину где-нибудь в Европе. Да, он теперь даже допускал мысль о том, что ему придется распроститься с Грецией.
Его друг Фридрих Шлие получил археологическое образование в Немецком археологическом институте в Риме. Во всем, что касалось Италии и тамошних порядков, он был человеком информированным. Разгневанный решением Афин, Шлиман обратился к директору музея Шверина за советом, можно ли ему рассчитывать в будущем на Италию: «Мне кажется, если я обращусь к итальянскому правительству с предложением разрешить мне провести раскопки на Сицилии и построить себе дом в Палермо или же Неаполе, а все то, что я обнаружу, оставить там и завещать итальянскому народу, то меня встретят радушно и мне не придется при этом обещать им сокровища Приама. Но я готов завещать троянскую коллекцию итальянскому народу, если мне это потребуется для достижения договоренности».
Насколько серьезно относился к такой идее Шлиман, доказывает и его письмо директору Британского музея Чарльзу Т. Ньютону, в котором высказывается мнение, что раскопки в Трое дают ему право претендовать на благодарность всего цивилизованного мира, и в первую очередь Греции: «Поэтому я и хочу порвать с Грецией и в будущем буду производить раскопки в Италии, где, я уверен, буду желанным гостем…»
В Константинополе реакция на кражу троянского золота поначалу была умеренной. П.А. Детье, директор Оттоманского музея, немец по происхождению, написал Шлиману примирительное письмо. Он не выдвигал никаких требований на владение сокровищами Приама и лишь просил передать ему несколько совиных голов, обнаруженных Шлиманом во время раскопок в Трое. Шлиман отказался предоставить эти предметы. Вместо этого он предложил продолжить в течение последующих трех месяцев раскопки в Трое силами 100–150 рабочих и ВСЕ найденные при этом предметы передать турецкому правительству. Турция же должна в ответ на это признать его право на все до сих пор обнаруженное им, равно как и право на сокровища Приама.
Этот план был настолько простым, насколько и изощренным, и американский посол в Константинополе Джордж К. Бокер столкнулся со значительными трудностями при доведении его до сведения соответствующих государственных инстанций. Шлиман пытался заручиться поддержкой и турецкого министра по делам общественности Джевед-паши, указывая на то, что он, Шлиман, знает в Турции по меньшей мере пятьсот мест, где можно производить раскопки, и с большим удовольствием предоставит в распоряжение турецкого правительства свои знания и опыт.
Между тем случившееся в Трое, прежде всего благодаря статьям и очеркам Шлимана, разрасталось до уровня скандала. Турецкое правительство не могло занять никакой иной позиции, кроме непримиримой, и не собиралось идти со Шлиманом ни на какой компромисс. По поручению своего правительства заместитель министра образования, в ведении которого был Оттоманский музей в Константинополе, подал в суд на американского гражданина Генриха Шлимана. Требование, фигурировавшее в обвинении, было таково: либо возвращение сокровищ, либо финансовая компенсация в размере шестисот двадцати пяти тысяч франков. Кроме того, правительство Константинополя требовало от греческого правительства конфискации некоторых из ценных бумаг Шлимана, хранившихся в Греции, в Национальном банке, до окончания судебного разбирательства. Требование это было удовлетворено.
Генрих Шлиман был слишком большим реалистом, чтобы не признать, что он сам поставил себя в это в высшей степени двусмысленное положение. Ему следовало подумать о том, что его право на владение сокровищами может быть оспорено. Однако сокровища эти стали для него смыслом всей его жизни. И он отважился на новую хитрость. Сначала это было задумано как хитрый маневр с предложением своей помощи, но позже маневр этот поставил исследователя в весьма стесненное положение.
То, что Шлиман вел нечестную игру, доказывают два письма, которые были обнаружены в хранилищах библиотеки Геннадиоса, относящейся к «Американской школе классических паук». В этой библиотеке собрано все эпистолярное наследие Шлимана, из которого прочитана и исследована лишь ничтожно малая часть. Обе задачи (как прочтение всех документов, так и их исследование) ставят любого, кто на это отважится, перед довольно сложными проблемами, связанными прежде всего с огромным количеством документов (восемьдесят тысяч единиц хранения), а также перед необходимостью расшифровывать местами весьма неразборчивое готическое письмо, которым пользовался Шлиман, ведя переписку на доброй дюжине языков.
УЖАСНОЕ ПОДОЗРЕНИЕ
Постоянно обнаруживаются документы, прежде остававшиеся без внимания, которые, однако, имеют очень большое значение. В качестве примера можно привести переписку Шлимана на французском языке со своим парижским агентом П. Береном, которому было дано право распоряжаться банковским счетом Шлимана и решать все вопросы, связанные со сдачей в аренду двухсот семидесяти квартир в доходных домах Торода на Сене. Два письма бросают на Шлимана и на сокровища Приама мрачную тень ужасного подозрения. Приводим два этих письма в немецком переводе.
Лично В pуки
Афины, 28 июня 1873 года.
Дорогой мсье Верен!
Кажется, божественное проведение наградило меня за мою длительную, тяжелую работу В Трое, поскольку Всего за несколько дней до своего отъезда я обнаружил сокровища Приама, состоящие из шестидесяти серег, двух диадем, большого сосуда и трех кубков из чистого золота, а также многих других предметов из серебра, представляющих огромную ценность для науки.
После опубликования сообщений об этих находках я вынужден, к моему великому сожалению, констатировать, что турецкое правительство носится с мыслью Взыскать с меня В судебном порядке половину стоимости Всех сокровищ. Я обо Всем этом напишу В своей книге, которая Выходит через несколько месяцев. Разумеется, я В состоянии и сам защититься от суда. Я заявлю о том, что приобрел эти сокровища за деньги и лишь для того, чтобы получить известность, сам распространил слухи о том, что обнаружил их при раскопках дворца Приама. Сейчас я Весьма обеспокоен и прошу Вас сообщить мне, есть ли В Париже какой-нибудь ювелир, Внушающий абсолютное доверие. Такое доверие, чтобы я смог поручить ему снять копии со Всех предметов. Они должны Выглядеть совершенно не отличимыми от античных, и, естественно, на них не должно быть личной пробы ювелира. Но он ни В коем случае не должен предать меня и Выполнить Все работы за приемлемую цену. Может быть, он смог бы изготовить и серебряную Вазу из гальванизированной меди, которую можно было бы потом подвергнуть чернению? Прошу Вас, упоминайте, обращаясь к нему, лишь предметы, которые были якобы обнаружены В Норвегии и, ради Всех святых, не произносите при нем слова «Троя».
Повторяю, тот ювелир, к которому Вы должны будете обратиться, должен Внушать полное и * абсолютное доверие. С Выражением своего уважения к Вам
Доктор Шлиман.
P.S. У меня здесь много работы, и я, к моему Великому сожалению, не смогу приехать В Париж ранее конца августа.
Это письмо Шлимана наталкивает на различные догадки и дает повод к рассуждениям. Выражение «ргіѵее» («лично в руки»), которое доселе никогда не употреблялось археологом, служит явным указанием на взрывоопасный характер этого послания. Что замышлял Шлиман? Самые ярые из его критиков утверждали, что сокровища эти существовали лишь в его фантазии и что троянское золото было изготовлено по его эскизам.
Хотел ли он передать турецкому правительству копии, а оригиналы сохранить у себя? Или же он собирался — как можно попять из его письма к Берену — признаться всему миру, что он обманщик и изготовил эти сокровища для того, чтобы стать знаменитым?
Разумеется, последний вариант менее всего соответствовал характеру Шлимана: Генрих был не из тех, кто привык терпеть неудачу. А когда она случалась, он в этом не признавался. Но прежде всего такого рода признание означало бы конец его карьеры исследователя.
Послание Берена последовало с обратной почтой: он отвечал на полученное за два дня до этого письмо Шлимана, в котором речь идет о сдаче внаем свободных квартир.
Париж, 8 июля 1873 года.
Мсье!
Имею честь сообщить Вам, что получил оба Ваших письма, от 26 и 28 июня.
Уже за два дня до того, как я получил Ваше первое письмо, я осмотрел Все пустующие квартирны, а сегодня занимаюсь просьбой, изложенной В Вашем Втором письме.
Я очень рад, что Ваши длительные и забравшие столько Ваших сил попытки увенчались успехом, и понимаю Вашу радость. Мне думается, мсье Фроман-Мерис — ювелир с мировым именем — может быть тем человеком, который обеспечит необходимые гарантии и секретность, которые необходимы Вам. Я Встречался с ним, но не сообщал никакой конкретной информации, и он считает, что сможет скопировать любой предмет за приемлемую цену.
Я могу сказать, что бы делал на Вашем месте, однако последнее слово, разумеется, за Вами, и В этой связи мне хотелось бы добавить, что В таком Важном деле было бы, несомненно, лучше, если бы Все эти предметы были переданы лично из рук В руки Во Время Вашего предстоящего Визита В Париж.
Глупо, если произойдет так, что, несмотря на Всю соблюдаемую мной секретность, из-за какой-то случайности Ваша так называемая тайна Вдруг окажется раскрытой. Вы бы наверняка подумали, что это именно я не уделил этому должного Внимания, и мысль эта не дает мне покоя. Я со Всей откровенностью изложил Вам свои опасения, однако независимо ни от чего я нахожусь В Вашем полном распоряжении и готов Выполнить Все Ваши указания — по Возможности — как подобает.
Я не Вижу необходимости подчеркивать, что эти копии никогда не займут место оригиналов, и не могу судишь о том, насколько оправданны Ваши Худшие опасения относительно турецкого правительства, поскольку не знаком с законодательством этой страны.
Об остальном пока сообщить нечего.
У нас здесь В гостях король и королева, и по этому noводу устраивают большие празднества. Что Же, тем лучше: В таких случаях Всегда больше работы и больше денег В кассах наших купцов — им они не помешают.
Мсье, примите мои самые искренние поздравления.
П. Верен.
Ювелир Эмиль Фроман-Мерис владел на улице Сен-Оноре, 372 в наиболее респектабельном районе Парижа столь же респектабельным магазином. Он считался самым престижным ювелиром в избранном парижском обществе, и конфиденциальность, соблюдаемая этим человеком, ценилась клиентами не меньше, чем его золотые изделия.
Однако Верен не пришел в восторг от такого рода просьбы своего патрона. Он был бы рад вообще не иметь никакого отношения к замышляемому Шлиманом обходному маневру. В своем ответном письме он изъясняется весьма туманно из боязни быть втянутым в большой скандал, чего будучи банкиром и маклером по недвижимости, он никак не мог себе этого позволить. Поэтому он и настаивал на личной встрече Шлимана и Эмиля Фроман-Мериса.
Однако этой встречи не произошло. Письма Шлимана убедительно доказывают, что с июня 1873 года по апрель 1875-го он не покидал Греции. Может быть, он боялся риска, связанного с преодолением бесчисленных таможенных барьеров. Да и в Афинах, в конце концов, были ювелиры не хуже Фроман-Мериса.
В статье в газете «Левант Геральд» консул Фрэнк Калверт высказал мысль о том, что хотя Шлиман действительно обнаружил большое количество украшений на гиссарлыкском холме, однако сосуды, кувшины и кубки из чистого золота были заказаны им у одного ювелира. Правда, доказательств этому Калверт не представил. О том, что консул имел зуб на Шлимана, мы уже слышали, и все же утверждения Калверта наводят на некоторые размышления: когда Шлиман осенью 1878 года опять начал раскопки Трои, на другом месте он снова обнаружил серьги, походившие на те, что были найдены в 1873 году. Однако золотой посуды, походившей на ту, что относилась к сокровищам Приама, найдено не было.
Был ли Шлиман обманщиком, плутом, мистификатором, человеком, который не останавливался ни перед чем, если речь шла о том, чтобы выставить себя перед всеми купающимся в лучах славы?
X. КАК СОКРОВИЩА ПОПАЛИ В ГЕРМАНИЮ
В чем можно упрекнуть тех, кто принимает или носит орден? Да, я всегда рад помочь доброму человеку, если тот испытывает потребность получить орден. Если я вас правильно понимаю, мысли ваши обращены к ордену «Pour le merite». Но ведь это все равно, что игра в кости…
Рудольф Вирхов — Генриху Шлиману.
Немцы с самого начала настороженно отнеслись к открытию троянских сокровищ. Серьезные ученые реагировали на сенсационное сообщение с завистью, скепсисом и высокомерием. Прежде всего их возмутил этот выскочка, вдруг решивший посвятить себя истории древнего мира и отправившийся на раскопки, чтобы при помощи лопаты и солидного счета в банке попытаться перекроить античную историю. Над ним потешались такие признанные авторитеты, как профессор Эрнст Курциус, Ульрих фон Виламовиц-Мел-лендорф и Адольф Фуртвенглер. А Шлиман очень зависел от благосклонности этих людей и понимал, что без них ему ни за что не добиться признания в Германии.
3 февраля 1872 года Шлиман писал Эрнсту Курциусу: «Я срочно прошу вас отписать мне, что вы думаете обо всех этих находках, и сообщить мне, будет ли вам удобно, если я… раз в неделю буду информировать вас о своих раскопках… Дело в том, что у меня нет недостатка ни во времени, ни в средствах, однако часто не хватает совета такого человека, как вы…»
Курциус не желал принимать всерьез этого чужака и его сокровища. В отличие от барона фон Бюлова, он еще 1877 году продолжал величать Шлимана сапожником, который из лоскутов пытается сшить туфли, халтурщиком и мошенником. Ни в какую Трою Курциус не верил, он вообще ни во что не верил, кроме Олимпии.
Адольф Фуртвенглер — отец известного композитора Вильгельма Фуртвенглера, один из известнейших археологов XIX столетия, а с 1884 года берлинский профессор — неоднократно выслушивал просьбы Шлимана хоть раз взглянуть на его троянские находки и прежде всего на фрагменты глиняных сосудов, потому что Шлиман считал, что «сравнительный анализ в керамике играет ту же роль, что и в филологии». Фуртвенглер был на этот счет другого мнения. В одном из писем профессор писал своей матери: «Шлиман был и остается полоумным и заблуждающимся человеком, ни малейшего понятия не имеющим о том, что вообще он раскапывает… И несмотря на его любовь к Гомеру, он остается спекулянтом и торгашом. От этого ему не освободиться никогда…»
Даже Ульрих фон Виламовиц-Меллендорф, самый популярный и отличавшийся наиболее прогрессивными взглядами историк своего времени, и тот не находил для Шлимана добрых слов. Вот строки из его письма родителям: «Вы спрашиваете о сокровищах Приама, и очень хорошо, что вы сможете услышать правду вместо того, чтобы прислушиваться к трепотне журналистов, потому что царство Приама находится там же, где и небесный Иерусалим, ад, воспетый Данте, богемский лес Шиллера, замок короля Лира и остров, где правит Брунгильда…»
Не отставал и основанный в 1848 году берлинский сатирический еженедельник «Кладдер-дач». Вот что он писал в год открытия золотых сокровищ:
Господин Шлиман, как слышно, продолжил свои исследования и на месте бывшего Военного лагеря перед Троей, и здесь божественное привидение не изменило ему — работе сопутствовал успех. Из множества обнаруженных здесь предметов, как мы считаем, Вкусам дилетантов наиболее подойдут следующие:
1. Дышло с прилагаемым к нему хлыстом, явно от повозки, на которой Афина имела обыкновение проезжать В лагерь греков.
2. Коробка египетских спичек, отмеченных призом на международной Выставке В Мемфисе В 1400 году до н. э., которыми Ахилл поджигал костер, на котором сжигали Патрокла.
3. Многочисленные хирургические инструменты, а также несколько сосудов с надписью: «Наружное, аптека Махаона В Трое», — несомненно, относящиеся ко Времени Жизни обоих эскулапов (Махаон — сын Асклепия, одного из Врачевателей В стане греков, сражавшихся против троянцев; упоминается В «Илиаде»),
4. Бонбоньерка с надписью снаружи: «Paris»7,- и с портретом Женщины Внутри. Под портретом подпись: «La belle Helene».8 Существуют некоторые неясности с переводом предыдущих слов. Все это явно предоставляет собой трофей из квартиры Париса, который он однажды преподнес своей Жене В

На рисунке того времени Шлиману шестьдесят семь лет. Перед нами вовсе не карикатура на этого низкорослого человека: изображение явно сделано с натуры. Даты жизни (1822–1890) подставлены позже.
подарок Вместе с портретом; Выброшен позже за ненадобностью самим Же обладателем трофея.
И это еще не все. В том же самом году этот же журнал — а журналы в прошлом веке по силе воздействия были сравнимы с сегодняшним телевидением — решил подшутить над Шлиманом, опубликовав некую «частную депешу»:
Отправитель — доктор Шлиман*.
Только что посреди Рейна обнаружил сокровища нибелунгов. При этом едва не утонул, но — благодаря доброму провидению — спасен. К сожалению, принадлежащий моей Жене плед продырявился, а десять золотых — длиною В метр — ножей плюхнулись В Рейн. Кроме того, найдены: корона короля Альбериха и, что особенно странно, фотография Зигфрида — Вид сзади. На снимке очень хорошо Видно известное, не защищенное рогом место. Подробности позже.
ШЛИМАНА ПОСТИГЛА УЧАСТЬ ВАГНЕРА
Можно лишь представить, насколько сильно задевали подобные нападки Шлимана, этого ранимого, вечно пекущегося о своей репутации человека, по крупицам создававшего себе биографию исследователя. Ведь он же вымолил себе докторскую степень, добился ее, собрав в кулак всю свою настойчивость и упорство, можно сказать, купил ее за деньги, и все же эти немцы никак не желали принимать его всерьез, а считали дурачком, парвеню от науки, несчастным выскочкой. «Явный недостаток знаний в области археологии у Шлимана, — писал археолог Артур Эванс с оттенком сочувствия, — всегда претил врожденному систематическому трудолюбию немцев». Шлимана постигла участь Вагнера: одна половина немцев обожала его, другая ненавидела, и в то же время равнодушным к нему не оставался никто.
Как же страдал этот человек, который даже свои личные письма составлял в напыщенном, насыщенном цветистыми оборотами стиле и снимал
с каждого копию перед тем, как отправить по назначению, чтобы сохранить их для потомков! Как же должен был страдать Шлиман, если какая-нибудь «Франкфуртер Цайтунг» отказывалась публиковать одну из его статей, в которой он тщился доказать всю серьезность своих открытий или если уже цитированный нами сатирический еженедельник писал о нем и его открытиях в стихотворной форме следующее:
Сокровища найдены — как радуюсь я!
Ура Генриху Шлиману!
Гомеру — ура!
Холдрио.
Не однажды Шлиман впадал в депрессию, усомнившись в смысле и результатах своих трудов. Своему немецкому издателю Брокгаузу он как-то написал, что нападки, которым он регулярно подвергается, навели, его на мысль и вовсе позабыть немецкий язык.
Но все это были лишь слова. В глубине души Шлиман страстно желал опубликовать результаты своих исследований именно в Германии, на своей старой родине, и именно на немецком языке. И, поскольку Брокгауз не особенно верил в успех его произведения о раскопках Трои, ибо археология тогда еще не снискала той славы и популярности, какая последовала после раскопок Пергама и Олимпии, он медлил с изданием «Отчета о раскопках Трои с 1871 по 1873 год» Шлимана. Лишь тогда, когда Шлиман выступил с предложением финансировать издание всей тысячи экземпляров из собственного кармана, издатель пошел на это. Книга появилась 1 января 1874 года.
Для фотоальбома, который должен был прилагаться к книге, Шлиман заказал у афинского фотографа Панаго Зафиропулоса около ста тысяч снимков
9 — весьма дорогое предприятие, если вспомнить о технических сложностях того времени. Впоследствии же было продано всего лишь около пятисот экземпляров альбома.
А Шлиман пожинал лишь критические плоды. Специалисты обрушились на него за ненаучный характер печатных трудов, широкая же публика, для которой, собственно говоря, и писал Шлиман, нашла его книгу довольно скучной. Мнения рецензентов вряд ли сильно отличались от этих суждений. Во Франции, где исследователь тоже решился издать книгу за свой счет, дела обстояли не лучше. Оставалась Англия — страна, которая всегда высоко ценила любителей-дилетантов и отважных авантюристов; именно она была последней надеждой утолить его жажду славы и признания, а вовсе не Греция, во имя которой он, как сообщал Шлиман в одном из своих писем министру культуры, не покладая рук работал.
Нет, никак нельзя было сказать, что греки обошлись с ним снисходительно, — они обошлись с ним, как с уголовным преступником, устроив на него охоту в его собственном доме, предприняв там обыск, и все лишь потому, что поверенный в делах Турции в Афинах потребовал именно таких мер, когда стало известно, что сокровища вывезены из Турции.
Если не принимать во внимание раскопки стен древней Трои, то «трофеи» Шлимана состояли не только из одних лишь золотых находок.

Лондон в 1870 году. Здесь археолога Генриха Шлимана приняли с
распростертыми объятиями. Уильям Гладстон, британский премь-
ер-министр с 1868-го по 1874 год, лично пригласил Шлимана сде-
лать доклад в Бэрлингтон-Хаус.
Среди них было гораздо больше керамических и бронзовых изделий, посуды и оружия, что представляло для науки ничуть не меньшую ценность, нежели золотые украшения. Бее эти предметы заняли более чем три сотни корзин и множество ящиков, и ими можно было бы заполнить целый музей.
У первооткрывателя Трои был план основать в Афинах музей имени Генриха Шлимана. И нужные для этого двести тысяч золотых франков он готов был пожертвовать греческому правительству. Исследователь наивно полагал, что инициатива эта будет с восторгом встречена в Афинах, однако его ожидало горькое разочарование. Министр культуры ответил археологу в чрезвычайно вежливых выражениях — настолько вежливых, что можно даже подумать, будто он желал посмеяться над незадачливым исследователем: «…Мы с огромным удовольствием ознакомились с вашими предложениями и должны тщательно изучить все возможности того, как воспользоваться ими… Мы имеем все основания порадоваться тому, что Греция привлекает людей вашего ранга».
Шлиман был глубоко оскорблен, более того — его привела в ярость та высокомерная холодность, с которой он столкнулся в Греции. При этом нам совершенно непонятно, как он не сумел распознать в такой позиции политической подоплеки — древнего, как мир, конфликта между Турцией и Грецией. Из того, что его намерения не нашли понимания, он сделал лишь один вывод: в Афинах не желали иметь музей, который бы носил его имя. А на отказ от такого условия он не пошел бы никогда. Он полагал: «… Зависть греческих ученых не знает государственных границ, и они готовы распять меня на кресте, поджарить на огне и насадить на вертел».
ЛЮБОВЬ И ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ АНГЛИИ И ПРЕЗРЕНИЕ ГЕРМАНИИ
Его очерки в лондонской «Таймс» вызвали куда больший интерес, нежели публикация тех же самых очерков в немецкой прессе. Во всяком случае, почтенное Лондонское общество любителей древностей, пригласившее Шлимана сделать на Британских островах доклад, имело в своих рядах таких знаменитостей, как Чарльз Т. Ньютон — директор Британского музея — и Уильям Гладстон. Гладстон, «великий старец», с 1868-го по 1874 год — британский премьер-министр (и пост этот он занимал — с перерывами — в общей сложности еще три раза), был значительной величиной в области древней истории и известным специалистом по Гомеру. В 1858 году он опубликовал свой трехтомный труд «Studies of Homer and the Homeric Age» («Исследования о Гомере и его эпохе»).
То, что именно Гладстон пригласил Шлимана сделать доклад в Бэрлингтон-Хаус (там состоялась еще и церемония чаепития) и вдобавок сопроводил его выступление чрезвычайно лестной речью, подействовало весьма ободряюще на непризнанного ученого. Он заявил в одной из немецких газет: «В Лондоне меня в прошлом году принимали в течение семи недель и относились ко мне так, словно я для Англии завоевал целый континент. Насколько же все по-другому обстоит в Германии! Там я слышу одни лишь оскорбления из уст всей этой пресловутой ученой когорты и нападки со всех сторон, в особенности со страниц прусских и продаваемых в Пруссии газет».
Профессор Оксфордского университета Макс Мюллер, немец по происхождению, с самого начала заинтересовавшийся раскопками Шлимана, отыскал для исследователя благосклонно настроенного к нему друга; к тому же, именно Мюллер и вдохновил Шлимана представить сокровища Приама в Англии на обозрение широкой общественности. Лишь так можно было заставить общественность заговорить о его работе, чего и хотелось Шлиману.
Шлиман медлил с выставкой, хотя англичане по мере сил шли ему навстречу, ведь его заветным желанием было выставить троянское золото в Берлине. Однако там все ведущие ученые были настроены против него, и возглавлял эту кампанию корифей античной истории Эрнст Курциус. Курциус опасался — и не без причин, — что этот выскочка возьмет да и отодвинет в тень его, Кур-циуса, заслуги и его работу.
Эрнст Курциус — историк, археолог, филолог и воспитатель будущего кайзера Фридриха ІII — был одержим тем же, по сути, демоном, что и Шлиман, только он мечтал произвести раскопки Олимпии. Уже именно поэтому оба они с самого начала были соперниками, если не сказать — врагами. Во всяком случае, этот берлинский профессор никогда не упускал возможности поставить на место этого анкерсхагенского дилетанта из Мекленбурга, ни в какую не желая признавать его заслуги перед исторической наукой.
Другое дело — Англия! Здесь Гладстон, будучи и как политик, и как исследователь гораздо более знаменитым, нежели Курциус, всерьез заинтересовался этим сумасбродным выскочкой-археологом и ввел его в высшие круги лондонского общества, и Шлиман наконец добился того, к чему так стремился все долгие годы: он стал кем-то.
«Никогда еще в жизни моей, — писал он Софье в Афины, — не доводилось мне видеть такого богатого убранства помещений и столь хорошо одетых людей. Здесь сошлась вся знать Лондона. Сколько знакомств я завязал — Гладстон всем представлял меня! Наконец, уже поздно ночью, около часа, был подан ужин. Ужин этот стоил, самое малое, двадцать тысяч франков! Представь себе: прекрасные гроздья винограда — и сколько угодно!»
Оказавшись в центре внимания, Шлиман решил не упускать возможности насолить этой берлинской клике ученых и дал согласие на проведение первого показа своих сокровищ в лондонском музее «Саут-Кенсингтон». Однако для воплощения этого проекта в жизнь ему потребовалось значительное время, и между его раскопками и демонстрацией находок прошло в общей сложности четыре года. В ноябре 1877 года Шлиман лично открыл показ сокровищ, выставленных в двадцати четырех витринах, и экспозиция эта, и как и следовало ожидать, имела сенсационный успех.
Именитое общество сделало его своим почетным членом. Имя Шлимана не сходило с газетных страниц в разделе светской хроники. И такого рода популярность была ему, наверное, не менее дорога, нежели сами сокровища Приама, сделавшие его знаменитостью. Он пишет Софье: «Я все еще продолжаю быть львом сезона, ну а ты была бы львицей».
И «салонный лев» с гордостью заявлял, что одно из информационных агентств не устает снимать его и даже заплатило в виде гонорара сорок английских фунтов стерлингов за эксклюзивное право на публикацию его фотографий. Художник Сидней Ходж, один из самых знаменитых в избранном обществе портретистов, обратился к Шлиману с просьбой («конечно же, без всяких там гонораров») позировать ему.
Ходж выполнил портрет исследователя для Королевской академии и (так, во всяком случае, рассказывал потом сам Шлиман) действительно сделал себе имя, написав великого Шлимана.
Казалось, судьба решила воздать Шлиману должное: сокровища Приама принесли ему известность. Впервые в жизни ему не пришлось покупать популярность за деньги. Теперь он снискал

Шлиман делает доклад, выслушанный с огромным вниманием, на заседании Лондонского общества любителей древностей. В один день он стал известным всей Англии. В течение семи недель исследователь появлялся всюду и чувствовал себя так, «словно завоевал для Англии новый континент».
славу и мог купаться в ее лучах. Лорды и герцоги наперебой звали его к себе на чаепития, и, если судить по его письмам из Лондона, это было самое счастливое время в его жизни.
Однако для того, чтобы счастье было абсолютным и совершенным, ему не хватало Софьи. Но та, как обычно, оставалась в Афинах и болела. И потребовалось огромное количество писем и телеграмм с точнейшим указанием времени прибытия и убытия пароходов и поездов, чтобы заманить ее в Лондон; не обошлось даже без чуть ли не приказа искупаться на прощанье в море, несмотря на ледяную воду.
Шлиман задумал оказать своей супруге честь особого рода. Он не скупился на намеки, что его успехи стали возможны лишь благодаря помощи жены и даже, похоже, согласился принять от Королевского археологического общества медаль лишь при условии, что такая же будет вручена и его супруге Софье. И Софья, таким образом, пожаловала в Лондон, а Шлиман прекрасно сумел инсценировать чествование, и из этого вышло очень недурное шоу.
Наступило 8 июня 1877 года. В скромно освещенном зале библиотеки Лондонского общества любителей древностей за большим квадратным столом восседали уважаемые люди. Газовые лампы, шипя, излучали яркий свет. Генрих и Софья заняли места лицом к публике. За этим спектаклем напряженно следила тысяча пар глаз. Генрих Шлиман, пятидесяти шести лет, в черном сюртуке и пенсне, читал свой доклад. Однако еще больший, нежели доклад археолога, интерес вызвало выступление Софьи: двадцатишестилетняя женщина читала английский текст с листа и то, что она прочла здесь, явно было написано рукой ее мужа.
Очень мило и в весьма незамысловатых выражениях она описала раскопки так, как их могла видеть женщина, перед которой неожиданно встала серьезная задача — присматривать за толпой землекопов. Завершила она свое выступление призывом к английской аудитории учить своих детей сначала новогреческому, а потом уж и древнегреческому.
Хотя пребывание Шлимана в Лондоне и не обошлось без курьезов (когда Софья, например, появилась на одном греческом банкете в лавровом венке), успех его — как в научных кругах, так и среди широкой публики — был безусловным, а отзвуки его не могли не докатиться до Берлина.
УМНЫЙ ХОД ВИРХОВА
Со времени приезда в Берлин в 1875 году у Шлимана появились не только критики его, но и друзья, а среди них — врач по специальности, физиолог и политик Рудольф Вирхов. Они не только обладали внешним сходством (оба были маленького роста), но и происходили из мелкобуржуазной среды, над которой сумели подняться; во всяком случае, они мгновенно почувствовали взаимопонимание и симпатию. Шлиману сразу понравился этот человек: в нем не было и следа того высокомерия, с которым относилось к нему большинство берлинской профессуры.
И все-таки, почему же Шлиман столь высоко ценил Вирхова?
Вирхов родился в Средней Померании. Родители его были бедны, как и родители Шлимана, и, чтобы иметь возможность получить образование, он решил выбрать специальность военного врача, поскольку в этом случае обучение было бесплатным. Конечно, военный врач — это не такая уж престижная специальность, однако благодаря выдающемуся научному дарованию и достижениям прежде всего в области изучения патологии Вирхову удалось подняться очень высоко. В то время, когда Шлиман в Санкт-Петербурге достиг пика своей торговой и коммерческой деятельности, Вихров, уже завоевавший международное признание как специалист в области медицины, основал в Берлине первый институт патологии.
И вообще, если что-то и разделяло обоих, то это отношение к политике. Шлиман являл собой ярко выраженный пример аполитичности. Вихров, в противоположность ему, был убежденным республиканцем. «Будучи естествоиспытателем, — говорил он, — я могу быть только республиканцем, потому как осуществление тех требований, которые обусловлены законами, исходящими из самой природы человеческой, выполнимы только при республиканской форме государственного устройства». Либерал Вирхов, депутат ландтага Пруссии и рейхстага Германии, слыл ярым противником Бисмарка.
Во взаимоотношениях со Шлиманом Вирхов чувствовал себя даже кем-то вроде его душеприказчика во всем, что касалось семьи и брака. «Ваша жена, прощаясь со мной, пребывала в возбужденном состоянии, — писал он. — Ей необходимо ваше быстрое возвращение, и уже сейчас она опасается, как бы вы в течение лета вновь не отправились куда-нибудь. Я хотел бы дать вам совет: следовало бы уделять ей больше времени. Она явно чувствует себя отринутой и, поскольку постоянно окружена либо нездоровыми, либо излишне нервными членами семьи, находится в постоянном напряжении, и нет ничего, что отвлекло бы ее, рассеяло ее мрачные думы. Именно возможности переключиться на что-то приятное так недостает ей. Все эти великие события, свидетельницей которых она стала, и, кроме того, ее воспитание предъявляют к ней непомерно высокие требования, и вы обязаны позаботиться о том, чтобы она имела и соответствующее окружение…»
Никому из членов семьи Шлимана не дозволялось высказывать свои критические замечания по поводу его семейной жизни. А вот из уст Вирхова он готов был выслушать их, хотя и не принимал близко к сердцу. На протяжении многих лет Вирхов был человеком, которому Шлиман доверял, с которым откровенно беседовал и который являлся как бы его рупором в Германии. На Вихрова посылались бесконечные, полные обиды на весь мир письма, источавшие жалость Генриха к самому себе.
15 августа 1876 года: «Хочу предложить вашему вниманию статью "Тиринф", отосланную мною в лондонскую "Таймс”,— она уже на следующей неделе должна быть опубликована. Поскольку немецкие газеты упоминают мое имя с тех пор, как начались раскопки в Трое, лишь в уничижительном тоне, публикуют лишь пасквили на меня, решительно отказываясь при этом опубликовывать мои ответы, то теперь я вынужден писать в "Таймс" и время от времени в "Академию", и свое произведение о Тиринфе я тоже пишу по-английски, поскольку в Англии меня уважают и любят».
Ответ Вирхова от 11 января 1877 года: «Ваши сетования в адрес немецкой прессы, мне кажется, не совсем справедливы. Вполне возможно, что некоторые выступления носят характер нападок. Но в общем и целом мне кажется, что есть тенденция к повсеместной объективности, и можете быть уверены, что всеобщее участие на вашей стороне. Мы, которые занимаемся тем, что постоянно изучаем себя, счастливы от того, что исследователь наконец все же обретает счастье на этой исхоженной вдоль и поперек земле, и от всего сердца поздравляем вас с достижением выдающихся результатов».
Между тем в Берлине все же сообразили, что допустить показ троянских сокровищ Шлимана в Лондоне было делом непозволительным. Вирхов взял на себя роль того, кто, так сказать, склеил бы побитый фарфор, причем побитый, главным образом, по вине Курциуса. Проницательный Вирхов прекрасно понимал, каким образом он сможет восстановить подпорченное реноме Берлина в глазах Шлимана. Он был членом Германского антропологического общества, и не надо было обладать особым ораторским талантом, чтобы убедить состоявших в этом обществе в «необходимости» сделать Шлимана своим почетным членом.
И хотя изыски Шлимана имели к антропологии (науке о человеке) такое же отношение, как сокровища Приама к последнему царю Трои (то есть ровным счетом никакого), присвоение этого первого германского почетного титула уже ставшему знаменитым исследователю в ноябре 1877 года на сессии общества, состоявшейся в Констанце, было прекрасным способом прославить, в первую очередь, само это общество. На древней латыни президиум превозносил «творческую энергию и пламенный порыв к знаниям», которые позволили Шлиману добиться огромных успехов в исследовании греческой древности и эпосов Гомера.
Этот умный «шахматный» ход Вирхова трудно переоценить, поскольку он заставил Шлимана заново обдумать свое отношение к Германии и свое чувство любви-ненависти к ной. Именно Вирхов дал Шлиману возможность получать награды и почетные титулы и в Германии, создав соответствующий прецедент. А Шлиман больше всего на свете любил награды и почетные титулы. Если смотреть критически, то и клад Приама был не более чем сверкающей медалью, которую он с гордостью готов был носить на груди как символ своей славы.
Тем временем процесс, который начало против него правительство Турции вследствие незаконного вывоза археологических находок,
завершился. Шлиман был приговорен к штрафу в размере более десяти тысяч франков, и следует сказать, что исход этого процесса был явно благоприятным для него. Теперь он мог на вполне законных основания оставить эти сокровища у себя — обстоятельство, игравшее немаловажную роль. В духе своего традиционного великодушия, если речь шла о крупных суммах (что касалось мелких, то он был, скорее, скупым), он даже пожаловал турецкому министру Сафведу-паше пятьдесят тысяч франков в пользу Оттоманского музея в Константинополе. Турецким правительством деньги эти были с благодарностью приняты, а драгоценности теперь с полным правом принадлежали Генриху Шлиману.
Теперь стало окончательно ясно, насколько предусмотрительно поступил Шлиман, организовав выставку в Англии. В противном случае исход процесса вполне мог быть иным. Не исключено, что его вынудили бы вернуть сокровища. А вот этого он допустить никак не мог. В Англии, которая не имела никакого отношения к тому способу, которым эти ценности были добыты, он обрел то место, где он мог быть совершенно спокоен за их судьбу. А после того, как был объявлен приговор турецких властей, он вообще избавился от забот о судьбе своих находок.
Лондонская выставка стала настоящим магнитом для публики, однако исследователь с самого начала знал, что кладу Приама никогда не остаться в этой стране на вечное хранение. Нет, он должен был снискать себе славу там, где добыть ее было труднее всего и где она ему была дороже всего, — в Германии.
Непризнанный гений, богач, известный на весь мир, принимаемый в высшем обществе, пробовал использовать и лесть, и ярость, если речь заходила о вещах, имевших для него принципиальное значение. Но неужели какие-то безвестные кабинетные ученые и издатели всяких листков, которые он и не прочел-то ни разу, не были для этого человека пустым местом? Иногда (чрезвычайно редко и, к тому же, очень ненадолго) он обретал то величие и снисходительное равнодушие, которое свойственно великим, и мог написать, что, дескать, и Нерона ругали так же, как его, и что подобная участь всегда уготована избранным.
Но буквально сразу же он заигрывает с мюнхенским ученым, специалистом по древней истории Генрихом фон Брунном, критически отозвавшемся о его слабостях: «Я был бы вам бесконечно обязан, если бы вы мне сообщили, в чем же эти слабости состоят: это дало бы мне возможность стать лучше, ведь всегда так трудно познать себя. Я твердо верю в то, что нигде себя не скомпрометировал и лишь рассчитывал получить признание на родине. Вы же для меня непререкаемый авторитет, и любое ваше суждение я принимаю как догму. Если вы мне не ответите, я навсегда утрачу веру в себя».
Он позволял себе и плакаться в жилетку издателю «Йенаер Литератур Цайтупг», в которой его книга о Трое была названа «сбивающей с толку мистификацией»: «Считаю необходимым приложить к моему письму и ответ на это и прошу вас непременно опубликовать его в вашей литературной газете в том виде, в каком он попадет в ваши руки…
Я готов оплатить все расходы, связанные с публикацией, и с первого числа сего месяца подписаться на ваше издание. Если же вы не намерены принять к публикации мою статью в предлагаемом мною виде после того, как вы решились поместить безобразные сплетни обо мне, то в этом случае вы не только лишитесь моей превосходной статьи, но и потеряете в моем лице одного из подписчиков вашего издания и я больше вас знать не пожелаю».
ДАР НЕМЕЦКОМУ НАРОДУ
Хотя выставка сокровищ в Лондоне с самого начала была ограничена в сроках проведения, тем не менее закрытие ее через три с половиной года стало для всех неожиданным. Англичане не меньше, чем немцы, были удивлены, когда Шлиман заявил во всеуслышание, что намерен преподнести клад Приама (разумеется, на определенных условиях) в дар немецкому народу.
Летом 1880 года он завершил работу над своей большой книгой «Илион», которая два месяца спустя появилась в Англии и Германии, однако теперь ситуация изменилась: Шлиман начинал завоевывать признание в Германии, в то время как некоторые из английских газет выступили против него. Огорченный и раздосадованный, Шлиман жаловался своему другу Вирхову:
«В "Атенеуме", а также в одной из ливерпульских газет и еще в двух других, одна из которых "Таймс", были напечатаны весьма похвальные отзывы об "Илионе", а "Дейли Ньюс”, "Пэлл-Мэлл Газетт" и "Сэтэрдэй Ревью", напротив, изрыгали на своих страницах ужасную хулу и самым беспощадным образом высмеивали книгу. В особенности отличилась "Сэтэрдэй Ревью": их там почему-то очень позабавило, что я пожелал найти упомянутые Гомером бокалы с двумя ручками и тому подобное. Но как бы там ни было, весь мир будет благодарен мне за то, что я правильно сумел истолковать последние слова и теперь с толкованием этим согласны все в Германии».
Вдобавок к этому Макс Мюллер — профессор Оксфордского университета, специалист по санскриту и эксперт по вопросам сравнительного языкознания, которого Генрих до сих пор причислял к своим друзьям, — поставил в известность, что он, как и прежде, высоко ценит его работу как археолога, однако же не разделяет его одержимости Гомером.
С другой стороны, даже Курциус расщедрился на добрые слова
в адрес этого невесть откуда явившегося в науку дилетанта. К тому же, берлинский профессор весьма успешно потрудился на раскопках в Олимпии и теперь начал понимать, как тяжело переносить несправедливую критику.
Вирхову, таким образом, была отведена ключевая роль в осуществлении тайно лелеемых обеими сторонами планов доставить сокровища Приама в Германию. А дружба их еще более укрепилась после того, как Вирхов в 1879 году принял участие в раскопках Трои. Теперь же Шлиман самым бесстыдным образом воспользовался именем известного ученого в своих целях. Разумеется, Вирхов не мог не понять, что Шлиман не прочь прикрыться им как щитом, однако ради сохранения возможности привезти сокровища Приама в Германию ему ничего не оставалось, как делать хорошую мину при плохой игре.
Генрих Шлиман оповестил Вирхова о том, что он, дескать, готов доставить клад Приама при условии «оплаты всех расходов» в один из берлинских музеев и оставить его там в качестве дара немецкому пароду. При этом он выдвинул ряд почти невыполнимых требований, которые со временем становились все более непомерными.
Высчитав все с точностью до мелочей, гениальный торговец собою Генрих Шлиман поставил следующие условия: издатели Эдуард и Арнольд Брокгаузы, неизменно причислявшиеся к его почитателям, должны к началу 1881 года опубликовать его официальное заявление о том, что он собирается преподнести сокровища в дар Германии. Затем на Вирхова была возложена задача убедить магистрат Берлина в том, что он, Шлиман, является идеальной кандидатурой для присвоения ему звания почетного гражданина Берлина: «Как только о моих намерениях станет повсюду известно, это вызовет сенсацию и всякое подобие зависти улетучится, а я советую вам воспользоваться этим для того, чтобы добыть мне звание почетного гражданина Берлина, поскольку получить его позже мне будет намного труднее».
Столица Германской империи доселе удостоила подобной чести лишь двух ученых: в 1856 году ее почетным гражданином стал Александр фон Гумбольдт, а год спустя — Август Бек. Вероятно, Шлимана именно это и привлекало — вдруг оказаться на той же ступени, что и великий Александр фон Гумбольдт. Естественно, Шлиман прекрасно понимал, что цена этому весьма высока, но, с другой стороны, и он ведь вложил в то, чтобы добраться до этих самых сокровищ Приама и других находок, целое состояние (шестнадцать тысяч фунтов стерлингов, или стоимость пяти-шести домов); он выдержал долгий процесс, стоивший ему сто пятьдесят тысяч франков (включая все судебные издержки и оплату штрафа). И господа из магистрата, которые будут принимать соответствующее решение, должны поверить, что он, будучи по паспорту американцем, сердцем же был и остается немцем и что этот поступок «сделает его врагом всей американской нации».
ВСЕ НОВЫЕ И НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Но и этого Шлиману было мало. На всех ужинах и приемах его до сих пор лицезрели с «голой грудью» — у него не было ни одного ордена. Поэтому он потребовал от Вирхова дойти, если потребуется, идо самого кайзера Германии, чтобы тот наградил его орденом «Роur lе меritе». Макс Мюллер ведь уже получил такой орден Вихров имел хорошие контакты с домом кайзера. И, откровенно говоря, всучить орден какому-то парвеню было намного проще, нежели найти среди ста двадцати шести членов магистрата Берлина необходимое большинство тех, кто без оглядки преподнес бы Шлиману титул почетного гражданина Берлина.
Проявляя поистине ангельское терпение, Вирхов пытался вразумить своего непонятливого друга, объясняя, что в магистрате «люди тяжелые» и потребуется здорово потрудиться, чтобы подвигнуть их на подобные действия: «Должен сказать, что мне кажется, что этот знак высокой признательности выглядел бы уместнее тогда, когда передача ваших сокровищ уже была бы осуществлена, а сами они стали бы доступны для обозрения широкой публики».
Однако Рудольф Вирхов не все учел, имея дело с этим хитрым торговцем и прожженным скрягой Генрихом Шлиманом. Вдруг выяснилось, что необходимо принять в расчет и мнение его вечно недомогавшей супруги, которая пожелала оставить клад Приама в Греции. Потребовалось проявить немалое искусство убеждения, чтобы уговорить Софью все же принести сокровища в дар немцам.
Париж, 6 января 1881 года.
«Гранд-отель», Бульвар Капуцинов, 12.
Дорогой друг!
Как я уже сообщал Вам устно, моя Жена настаивала на том, чтобы я доставил троянскую коллекцию В Афины и украсил ею наше палаццо. Мысль принести ее В дар немецкому народу повергла ее В отчаяние, и она ежедневно телеграфирует мне об этом. Так как она человек нездоровый и нервный, я склонен опасаться самого худшего. Вы понимаете, насколько Важно для меня Всеобщее признание, однако здесь на карту поставлена Жизнь моей Жены и мое семейное счастье… Не могли ли Вы способствовать тому, чтобы магистрат города Берлина присвоил звание почетного гражданина также и моей Жене. И Вообще, сделайте Все от Вас зависящее, чтобы и некоторые другие знаки отличия стали доступны нам… и Вы таким образом спасете мою Жену и мое счастье…
Впрочем, даже не дожидаясь твердого обещания «устроить» ему орден и спасти тем самым его семейное счастье, Шлиман очень торопится с отправкой сокровищ из Лондона. Ему стало известно, что многие служащие музея имели ключи от шкафов и витрин, где были выставлены сокровища Приама, и он опасался, что их похитят. Опасения эти были не напрасны: в прошлом столетии в Лондоне действительно произошло несколько скандальных ограблений, а сокровища Приама, к тому же, не были застрахованы.
Совершенно неожиданно Шлиман обращается в транспортную фирму «Элкан и К°» с просьбой обеспечить транспортировку сокровищ в Берлин. Из письма Шлимана к генеральному директору одного из берлинских музеев Рихарду Шене: «Сокровища… застрахованы на четыре тысячи фунтов, оставшаяся часть — на ту же сумму, хотя стоимость их в сто раз больше». То ли Шлиман проявлял мелочность, назвав такую сумму, то ли компания отказалась застраховать сокровища, которым предстояла отправка морем, остается неизвестным.
17 января 1881 года сорок ящиков с сокровищами Приама и троянской керамикой совершенно незаметно для глаз общественности прибыли в Берлин. Исследователь к этому времени уже снова был
в Афинах, и Рихард Шене телеграфировал ему туда: «Сорок ящиков благополучно прибыли. Золотые изделия депонированы в Рейхсбанке. Все идет, как задумано. Шене.»
В соответствии с пожеланиями Шлимана, сокровища Приама должны были быть показаны широкой публике лишь летом 1881 года. Хотя для них в Этнологическом музее отвели специальные помещения, которые должны были впоследствии носить его, Шлимана, имя, подготовительные работы затянулись и вследствие этого было решено выставить сокровища сначала в музее прикладных ремесел.
Теперь Шлиман выдвинул новые условия: он потребовал под сокровища металлическую витрину, не доступную для потенциальных грабителей. При этом он мотивировал свое желание тем, что лондонский музей «Саут-Кенсингтон» охранялся весьма тщательно, и потребовал соответствующих мер безопасности от Берлина: «Поскольку у вас нет ни констеблей, ни детективов, которые постоянно дежурят у экспонатов, то здесь весьма необходим железный шкаф, который бы открывали по утрам и закрывали по вечерам».
Кайзер Вильгельм I лично и письменно выразил благодарность Шлиману за передачу троянских древних находок Германии и выразил надежду на то, что Шлиман и далее продолжит свое бескорыстное «служение делу науки на благо фатерланда. Кроме того, кайзер Вильгельм обещал дарителю в новом музее столько залов, сколько потребуется для достойного представления сокровищ, и все эти залы будут носить его имя.
Это послание от кайзера заставило Шлимана позабыть о многих неприятностях. Он словно взмыл в облака: Вильгельм I поблагодарил его от имени немецкого народа! В мгновение ока были забыты все его прежние упреки немцам в том, что они, дескать, не умеют быть благодарными. И тут же этот мещанин проявил свою обычную заносчивость, постоянно сменявшуюся приступами мучительного самоедства.
Не прошло и двух недель после получения им благодарственного письма кайзера, как Шлиман в довольно бесцеремонном тоне обратился к директору музея Шене: тот должен организовать его награждение орденом «Pour le merite» — в конце концов, он честно заслужил его. И вообще, следовало бы ему в будущем позаботиться и о других наградах — «их ведь так много».
Шене тоже был вынужден сделать хорошую мину при плохой игре. Он не мог отважиться перечить человеку, который только что сделал Германии такой подарок, и ходатайствовал перед кайзером о награждении Шлимана орденом Короны 2-й степени; высочайшее пожалование (после одобрения рейхсканцлером Бисмарком и министром культуры Путткамером) ожидалось летом, когда археолог прибудет в Берлин на открытие выставки. К тому времени должен был решиться и вопрос относительно присвоения ему звания почетного гражданина Берлина.
Шлиман прибыл в Берлин в сопровождении Софьи в середине июня 1881 года. Супружеская чета остановилась в роскошном отеле «Тиргартен». Приглашение следовало за приглашением. Кроме того, Генрих и Софья занимались распаковкой сорока ящиков и подготовкой сокровищ к показу в музее прикладных ремесел, и работать им приходилось по двенадцать часов в день. Помогали им при этом пятеро писарей и многочисленные служащие музея. Шлиман брюзжал по поводу обстановки в музее, но прежде всего его недовольство вызывало недостаточное газовое освещение.
Рудольф Вирхов тем временем пустил в ход все свои связи для того, чтобы его друг получил-таки желанный титул почетного гражданина Берлина. «Когда эти сто двадцать шесть членов магистрата будут голосовать, — предостерегал он, — всегда найдутся упрямцы, и добиться большинства будет на так-то просто. Но охотно сделаю все от меня зависящее и от души надеюсь на лучшее».
ШЛИМАН У ЖЕЛАННОЙ ЦЕЛИ
И вот успех! Несмотря на то, что мнения разделились, большинство все же высказалось «за», и Шлиману (о его жене Софье уже речи не шло) было пожаловано звание почетного гражданина Берлина. Имя Шлимана под номером 40 было занесено в Книгу почетных граждан Берлина после имен рейхсканцлера Бисмарка, генерал-фельдмаршала фон Мольтке и какой-то местной знаменитости по фамилии Коххан.
7 июля 1881 года в тринадцать часов в отель, где проживали Шлиманы, прибыли бургомистр Берлина Макс фон Форкенбек и представитель магистрата доктор Штрасман, чтобы передать Шлиману грамоту о присвоении ему почетного звания. В ней было написано следующее.
Мы, магистрат королевской столицы и места резиденции правительства города Берлина, настоящей грамотой признаем, что по соглашению с подставившими свои подписи под данным документом членами магистрата решили присвоить господину доктору Шлиману — тому, кто способствовал своим дерзновенным замыслом и настойчивым трудом на приводимых под его руководством раскопках созданию новой (гомеровской) археологии; тому, кто не пожалел собственных средств, чтобы сделать достоянием немецкого народа собранные им свидетельства троянской культуры и представить их на Выставке, которой суждено стать неотъемлемой частью нашей имперской столицы, отныне превратившейся Во Вместилище прекрасных, Воспетых классикой, бесценных памятников; — тому, кто В сбоем умении соединить идеалы и устремления с упорным трудом стал примером для Всех наших соотечественников, — звание почетного гражданина нашего города. Свидетельством тому является настоящая грамота за нашими подписями, скрепленная большой печатью города.
Берлин, 4 июля 1881 года.
Вечером состоялось торжественное собрание в Большом зале берлинской ратуши. Мест в зале не хватило для всех желавших хоть одним глазом взглянуть на этого странного маленького человечка и его одетую во все черное жену. И хотя никто еще не видел воочию сокровищ Приама, это лишь подогревало интерес берлинцев. Шлиман — первооткрыватель, археолог, миллионер — был именно тем человеком, который олицетворял тогдашний дух времени.
Не отставали и те, кто произносил напыщенные речи, адресованные этому человеку и составленные в духе церемонии, виновником которой он стал. Все готовы были угодить Шлиману и говорили лишь то, что он желал слышать. Дело доходило порой до смешного. Даже сам Вирхов не остался в стороне, заявив: «Вы, уважаемый друг, возвратились в родные пенаты, проведя на чужбине больше, чем может вместить жизнь человеческая, посвятив себя там настойчивому, тяжкому труду. После того как вы слабым, почти беспомощным юношей без средств к существованию покинули фатерланд, вы возвращаетесь сюда крепким, сформировавшимся человеком, которого судьба наградила женой и детьми, не обошла богатством, и, кроме того, владельцем редчайших из редкостей, которые вы собственной рукой извлекли из темного чрева земли. То, что когда-то в порыве мечтательности вырвалось из уст отрока, познало радость свершения руками мужа. Вы препоручаете немецкому народу на вечное хранение в нашем городе следы той древней культуры, о которой ранее поведали нам лишь сказания и стихи… и уже одного этого оказалось достаточно, чтобы выразить вам нашу благодарность. Но мне кажется, что я выражу мнение городских властей, сказав, что они, присвоив вам это высокое звание, руководствовались стремлением выразить нечто более важное, а именно: признание усилий зрелого коммерсанта, пожелавшего из лишенных всякой корысти побуждений пожертвовать во имя утверждения идеала огромную долю своего состояния на покрытие тех издержек, с которыми неизбежно связано такое стремление; эта награда за то, что такой человек, достигший наивысшего, плоды трудов своих приносит к ногам родины, от которой он столь долгое время пребывал вдалеке…»
Две недели спустя Шлиманы выехали на лечение и отдых в Карлсбад, где в это время собирались сильные мира сего. А открытия выставки пришлось дожидаться еще почти полгода. 4 февраля 1882 года утренний выпуск «фоссише Цай-тунг» сообщал: «Коллекция Шлимана будет, по имеющимся данным, открыта для обозрения ежедневно, кроме понедельника, начиная с пятницы 7 февраля, с 10 до 3 часов». Наплыв посетителей был неописуемый.
В этом же году Генрих Шлиман в сотрудничестве с Вильгельмом Дерпфельдом начал новую серию раскопок Трои. Обнаруженные в ходе раскопок предметы должны были, согласно достигнутой договоренности, отойти турецкому правительству. Хотя Шлиман и придавал значение этой работе, однако обходился с находками весьма небрежно. А в Оттоманском музее Константинополя тем временем громоздилось свыше сотни ящиков с находками из Трои, в основном с керамикой и орудиями. Когда Шлиман услышал о том, что множество предметов было расхищено, он обрушился на посла Германии в Турции Йозефа-Марию. фон Радовица с требованием, чтобы Германская империя выкупила троянские раритеты — хотя бы часть их — у турок.
С Радовицем у Шлимана были весьма тесные отношения, возникшие после того, как тот собственноручно вручил Шлиману благодарственное письмо кайзера Вильгельма. Радовиц был частым гостем в доме Шлимана в Афинах; иногда он даже не прочь был отпустить шутку по поводу этих визитов, говоря, что вынужден был пройти через «детальное обозрение более чем тысячи древних горшков из Трои». Однако послу удалось выкупить около двадцати пяти ящиков с троянскими находками у турецких властей. Перед тем как они были добавлены к уже переданным берлинскому музею, Шлиман организовал их реконструкцию из имевшихся фрагментов, наняв в Афинах пятерых реставраторов — «художников», как он назвал их. Плодами этой работы были искусно восстановленные, весьма ценные глиняные сосуды и скульптурные произведения малых форм.
В декабре 1886 года на Кениггрецерштрассе (ныне Штреземанштрассе) был открыт Этнографический музей, где находились залы имени Шлимана. Сам первооткрыватель на этой церемонии не присутствовал. Теперь он уже достиг того, чего так жаждал, и предпочел провести зиму в теплом Египте. Один. Супруга его Софья пребывала в одиночестве в Афинах.
Сокровища Приама и остальное собрание троянских находок оставались до 1922 года в отделе древней истории Этнографического музея. Общее число экспонатов составляло 8455 предметов и без каких-либо потерь и потрясений пережило первую мировую войну. В 1922 году Этнографический музей был переведен в новое помещение. Старое строение Гропиуса опустело, и теперь сокровища Приама оказались в том же самом здании, которое уже использовалось для их временного хранения. Музей с сокровищами Шлимана получил название «Музей доисторических времен и древней истории».
То, как Генрих Шлиман обошелся с сокровищами Приама, как использовал их для прославления своего имени, вызывает самые разноречивые мнения и оценки, однако проливает свет на личность исследователя, который, по его же словам, жил лишь ради науки, и, к тому же, способно, пусть частично, но объяснить секрет его невиданного успеха.
Шлиман, герой эпохи грюндерства, рано осознал — следовало бы сказать: на столетие раньше — важную и неоценимую роль рекламы. А реклама, как и наш герой Шлиман, всегда старается затушевать недостатки продаваемого товара. «Продаваемым» же «товаром» в данном случае был сам Шлиман. Живи он сегодня, этого героя из благословенной, взлелеянной в мечтаниях страны Мекленбург (о которой Бисмарк однажды сказал, что если когда-нибудь мир наш погибнет, то Мекленбург погибнет только три месяца спустя) вознесли бы до небес уже за одно то, что он сумел так прекрасно подать себя.
История троянских сокровищ — это и история изнуренного комплексами эгоцентрика, некромана-мародера, обирающего трупы, одержимого мифами психопата, героя и подонка, и жизнь его являет собой не что иное, как роман — эту небывалую смесь фантастического и реального, преподнесенную им самим. Иными словами: сначала была идея всей его жизни, потом Шлиман попытался воплотить ее в жизнь.
Софья Шлиман, как и все и вся в его окружении, была «продуктом» своего мужа; она продолжила эгоманию мужа, переиначив ее на свой лад, когда в 1925 году доверила самому заметному из модных писателей того времени Эмилю Людвигу написание биографии покойного Шлимана, и не просто какого-то там жизнеописания, а вполне солидной биографии. Уроженец Бреслау, Людвиг жил на Лаго-Маджиоре и уже был автором нескольких жизнеописаний — Вильгельма II, Бисмарка, Гете и Наполеона. Стал он и почитаемым биографом Шлимана. Предисловие было написано британским исследователем, который осуществил раскопки Кносса и (в смысле коммерческого подхода к жизни) был родственной Шлиману душой, — сэром Артуром Эвансом. Воспоминания о судьбе Шлимана вызывали у него «тревожные ассоциации», ибо тот «встретил у себя дома холодный, даже враждебный прием», так возмутивший автора предисловия, в то время как «популярность Шлимана в образованных кругах Англии была всегда чрезвычайно высокой». Жизнеописатель Людвиг обращался с объектом своего повествования — великим Шлиманом — чуть ли не с благоговейным трепетом, которого не мог не испытывать, ибо речь шла о человеке, к руке которого он имел честь быть допущенным чуть ли не с дошкольного возраста. Людвиг приходит к такому заключению: «Все вокруг него было романтичным». Но эта была романтика с явным налетом психической патологии, романтика, в которой Шлиман спасался бегством и о которой сам же говорил: «Я должен вести раскопки, они для меня жизнь».
Шлиман — человек, не имевший примера для подражания, характер, который не с кем сравнить. Кто он: негодяй, гений или же просто достойный сочувствия?
XI. ШЛИМАН В ЗЕРКАЛЕ ПСИХОАНАЛИЗА
Шлиман был больным, как болен бывает алкоголик, растлитель малолетних или наркоман. Он не понимал разницы между тем, что является правильным, а что нет. Однако мы должны благодарить этот его недуг: именно он и возвеличил его.
Уильям М. Калдер, американский историк.
Не сохранилось ни единого снимка Шлимана — одного из самых выдающихся людей XIX столетия, — на котором он был бы изображен в детстве или в молодости. Самая ранняя его фотография (вернее, дагерротипный портрет), случайно была обнаружена в Мекленбурге. Она сохранилась у супруги местного лесничего. 11 августа 1861 года тридцатидевятилетний коммерсант оставил эту фотографию ей, надписав: «На память о Генри Шлимане, Санкт-Петербург». С этой женщиной, которая позже вышла замуж за лесничего, Шлиман встречался в годы своего ученичества у торговца в Фюрстенберге и, судя по всему, помнил о ней.
Эта любительская фотография, сделанная в 1861 году, лучше любых письменных свидетельств характеризует своеобразие натуры этого человека. Перед нами карикатура на нувориша: невысокий (ростом метр пятьдесят шесть) мужчина облачен в вычурно-дорогие одежды; у белоснежного стоячего воротничка — черная бабочка; темное пальто на волчьем меху явно размера на три больше и достает ему почти до пят, так что едва видны носки туфель; рукава настолько длинны, что скрывают пальцы; на голову он водрузил слишком просторный цилиндр, который поддерживают оттопыренные уши.
Молодое для мужчины тридцати девяти лет — даже, пожалуй, моложавое — лицо выдает решительность. Широкие брови и узенькие темные глаза усиливают это впечатление. Резко контрастирует с ними эспаньолка, а усы спускаются с верхней губы, закрывая нижнюю, — в то время явный признак фатовства, а может быть, беспомощная попытка добропорядочного обывателя представить себя этаким светским кутилой, прожигателем жизни.
На обратной стороне фотографии, напоминающей почему-то почтовую открытку, каллиграфическим почерком выведено:
фотография Генри Шлимана, прежде ученика у господина Хюкштедта В Фюрстенберге, ныне петербургского купца первой гильдии, потомственного почетного гражданина Российской Империи, судьи В торговом суде Санкт-Петербурга и директора Императорского государственного банка Санкт-Петербурга.
«Прежде ученика у господина Хюкштедта, ныне…» — между этими словами лежали два десятилетия, а для Шлимана еще и целый мир. В нескольких строках ощущается удовлетворенность достигнутым, гордость, но уж никак не чувство собственного достоинства, которое скорее подобало бы такому человеку, как Шлиман, в данной жизненной ситуации.
Он не был простым человеком — для этого ему явно недоставало прямолинейности и внутренней упорядоченности. Переменчивость настроения, ненависть, беспомощность, ярость и страсть — вот что определяло его жизнь. Очень многое в его поведении является результатом компенсаций и сублимации. Психологи (для них это не составляет труда) толкуют его страсть к раскопкам как попытку исследовать и свое собственное убогое прошлое и победить его. Конечно, нельзя с ходу отбрасывать такую точку зрения, но она, вероятно, все же слишком проста, чтобы объяснить мотивацию поведения этого человека, его поистине гипертрофированную способность к самовнушению, его способность плодить химеры и жить ими.
В 1866 году — тогда Генрих Шлиман уже жил в Париже и посвятил себя изучению языков и философии — великовозрастный студент написал прусскому генеральному консулу в Амстердаме Вильгельму Хепнеру письмо, содержание которого так и осталось неизвестным. Хепнер, совладелец торгового дома «Хойяк и К°», двадцать пять лет назад снабдивший потерпевшего кораблекрушение Шлимана одеждой, ответил следующее:
«У меня невольно возникло желание перечесть заново ваше письмо. Какой же интересный вы человек! Вы живой пример силы воли и выдержки и в то же время человек, богатству которого во всем — и в земном, и в духовном — невольно позавидуешь, поскольку и удовлетворенность, и покой, вероятно, свойственны вам больше, чем кому-либо. И я не могу не поздравить вас от всего сердца, друг мой, со всем, что вы сумели достигнуть, и, должен признаться, чрезвычайно горжусь близким знакомством с вами».
«Какой интересный человек!..» Такая реакция Хепнера была реакцией большинства людей, которым приходилось встречаться со Шлиманом. Десять лет спустя, в октябре 1876 года, Артур Мильхефер, в ту пору еще молодой стипендиат археологического института в Афинах, встречался с Генрихом Шлиманом. Он охарактеризовал его как «одну из самых заметных и необычайных личностей, которых когда-либо знала археологическая наука», поскольку имел возможность наблюдать за Шлиманом на протяжении многих недель в Микенах и Афинах. «Его речи всегда излучают энергию и воодушевление, и тогда его простая, не отличающаяся особым темпераментом манера говорить, по которой в нем до сих пор угадывается уроженец Мекленбурга, становится слегка патетической», — так писал Мильхефер о Шлимане. Газеты же склонны считать, что голос его был тонким, высоким и не особенно приятным.
Мильхефер называет Шлимана «необычайной личностью» и готов склонить перед ним голову. В своих «Воспоминаниях о Генрихе Шлимане» он пытается дать оценку этому характеру:
«Кажущиеся противоречивыми черты этого энтузиаста (если не сказать — мечтателя) и разностороннего практика соединили в одном лице реалиста и непреклонного идеалиста с неуемной энергией.
Шлиман сам выдвинул на передний план эту особенность своей личности; всю свою прежнюю жизнь, столь разные дороги, по которым вела его юность, равно как и быстрое и смелое его становление в качестве миллионера, он сам рассматривает лишь как промежуточную ступень к осуществлению своей конечной цели. И в этот период, на протяжении двух десятилетий исследовательской деятельности, он остался прежним, несмотря на все перипетии жизненного пути. Его сильные и слабые стороны произрастают из единого источника, и интерес к этой личности не ослабевает».
ИСТИННЫЕ ПРИЧИНЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЕГО ХАРАКТЕРА
Тот, кто стремится выяснить истоки противоречивого характера этого человека, должен окунуться в его детство. Жизненный путь любого человека, мотивация его поведения корнями своими уходят в первичный уклад и атмосферу, царившую в его родном доме. И Генрих Шлиман в этом смысле являет собой весьма показательный пример. Жизнь его определялась деформациями в семье и комплексами, с этим связанными: его эдипов комплекс и комплекс кастрации развились в условиях перманентного недостатка материальных средств. Но прежде всего это был комплекс необразованности, возникший у выходца из мелкобуржуазной среды по причине страха перед падением в пропасть асоциальности. Данные аспекты и представляют собой истинные отправные точки при формировании характера человека, который в своей яркой неоднозначности стал одной из самых замечательных, известных и в то же время спорных фигур своего времени.
Жизнь Генриха Шлимана с самого начала представляла собой бегство от действительности, поиски эрзац-счастья, разбег для преодоления притяжения земли и перехода в призрачный мир. И в этом смысле для сына мекленбургского пастора оставалось не очень много возможностей: он мог превратиться в заурядного пьянчугу, который колотил бы свою жену, мог бы стать примерным отцом семейства или же пойти в монахи и удалиться в какой-нибудь монастырь (что само по себе оставляло надежду побороть душевный хаос при помощи песнопений и молитв) — большего в этом местечке для такого человека, как он, предусмотрено не было.
О том, чтобы стать коммерсантом, дельцом, не говоря уж об исследовании эпосов Гомера, и речи быть не могло: эти перспективы терялись где-то в заоблачных высотах. И когда Шлиман позже утверждал, что с самого раннего детства вынашивал идею раскопать на свет Божий Трою и, чтобы создать для этого соответствующий финансовый базис, стал купцом, то это не что иное, как ложь от начала и до конца, один из многих примеров столь свойственной ему лжи, поскольку Шлиман лгал вдохновению и в первую очередь тогда, когда речь заходила о его биографии, которую он стремился представить так, чтобы она ни на йоту не отличалась от той прекрасной сказки, автором которой был он сам.
Генрих Шлиман был мастером по части конструирования легенд и на протяжении всей жизни прежде всего тщательно выписывал свой собственный портрет, временами кое-где ретушируя его. Однако тот, кто оставил так много письменных свидетельств, как Шлиман, всегда подвергается опасности допустить ошибку, сознательно или неосознанно представляя миру свои вымышленные истории.
Все, кому приходилось заниматься документами Шлимана, относившимися к его жизни, в один прекрасный день приходили к одному любопытному, даже поразительному заключению: до того, как ему исполнилось сорок шесть лет, Шлиман никогда и нигде не высказывал ни одной мысли, которая бы подтверждала его намерения стать археологом, а уж тем более посвятить себя раскопкам Трои. Даже начавшийся за два года до этого период его обучения включал в себя никак не античную историю, а языки, литературу и философию.
«Я родился, — такими словами Шлиман начинает свою преображенную в романтическом духе биографию, — 6 января 1822 года в городке Нойбуков в Меклепбург-Шверине, где отец мой, Эрнст Шлиман, был протестантским пастором и откуда он в 1823 году в том же качестве был переведен’в общину Анкерсхагена — деревушки, расположенной в том же гроссгерцогстве, между Вареном и Пенцлином. В этой деревне я провел восемь последующих лет моей жизни, и заключенная во мне склонность ко всему таинственному и чудесному превратилась благодаря чуду, связанному с этими местами, в настоящую страсть. В саду нашего дома время от времени «являлся» дух предшественника моего отца, пастора Русдорфа, а сразу же за садом был небольшой пруд, называемый еще «серебряной тарелочкой», из которого по ночам выходил призрак женщины с серебряной чашей в руках. Кроме того, невдалеке от деревни располагался небольшой, опоясанный рвом холм (вероятно, это был могильный холм времен язычества, так называемый курган), в котором, по преданию, престарелый разбойник-рыцарь захоронил свое любимое дитя в золотой колыбели. Предполагали, что рядом с развалинами древней круглой башни в саду владельца поместья зарыты несметные сокровища, и вера моя в существование всех этих сокровищ была настолько твердой, что каждый раз, когда отец мой начинал свои жалобы по поводу безденежья, я с удивлением спрашивал, почему бы ему не выкопать серебряную чашу или древнюю золотую колыбель и не разбогатеть таким образом?»
НЕНАВИСТЬ К ОТЦУ
Лучшего начала сентиментального романа, действие которого развертывается «под сенью листвы дерев», вряд ли придумаешь. Однако в действительности все обстояло по-иному. Тот же самый автор, который написал эту сказочку, в другом месте рисует безысходную картину разрушенной семьи эпохи позднего бидермейера. Среди документов, составляющих наследие Шлимана и хранящихся в библиотеке Геннадиоса, обнаружилась тетрадь для занятий, в которой Шлиман (ему было в ту пору лет сорок) записывал свои упражнения по итальянскому языку. Содержание этих экзерсисов недвусмысленно свидетельствует о том, сколь мучительно автор их, уже степенный отец семейства и удачливый коммерсант, страдал от болезненных воспоминаний детства.
«Мой отец был пастором, — говорится там. — У него было много детей и мало денег. Человек это был безалаберный, сибарит, к тому же, распутник. Он не гнушался вступать в безнравственные отношения со служанками, которых предпочитал жене. С женой своей он обращался бесчеловечно, и одним из моих самых ранних детских воспоминаний были его брань и оскорбления, которым он осыпал ее. Чтобы отделаться от нее на время, он бесконечно брюхатил ее, а во время ее последней беременности обращался с ней особенно жестоко. И произошло так, что нервное расстройство, которым она издавна страдала, в конце концов убило ее. Отец мой изобразил неутешное горе и организовал пышные похороны той, которую по своей низости и подлости свел в могилу».
То, что Генрих ненавидел своего отца и позже не упускал возможности унизить его, ясно из его многих писем. «Я ненавижу этого человека, он внушает мне лишь отвращение, — писал он своим сестрам, — мне ужасно стыдно, что я сын этого прожженного негодяя». В тридцать три года, когда Генрих уже купался в деньгах, он пожаловал своему спившемуся, неимущему отцу пятьсот талеров при условии, что кто-нибудь перемоет в его доме всю посуду и три раза в неделю будет отскребать полы. Ну мог ли сын сильнее унизить своего родителя?
Объяснение налицо: Генрих мстил — и мстил всю жизнь — своему отцу, виновному в смерти его любимой эдиповой любовью матери Луизы. И если в других своих письмах сын высказывался об отце прямо-таки трогательно, то это делалось совершенно сознательно, поскольку данные свидетельства предназначались для последующих публикаций. Ему необходимо было сохранить свое реноме.
Генрих Шлиман жил на сто лет раньше, чтобы признаться в своем жизнеописании в том, какое искореженное было у него детство. Потому что, если и было что-то еще на белом свете, что вызывало у него большую ненависть, чем его отец, так это несмываемое пятно собственной отчужденности. Генрих Шлиман был типичным ребенком устремленной к всеобщей гармонии эпохи би-дермейера — того короткого периода в немецкой истории, когда под покровом идиллической умеренности и сдержанности уже зрели те экономические, общественные и духовные силы, которые определили дальнейшую динамику XIX столетия.
Несомненным является и то, что если Генрих Шлиман, едва обретя способность размышлять, оказался в тисках глубокого кризиса идентичности, то вина за это целиком ложится на его отца. Психиатры, которые в свое время занимались изучением его характера, даже высказывали мнение, что именно поиски идентичности и явились в итоге причиной того, что он стал археологом. Что же привело его к этому кризису и к деформации личности?
ЧЕЛОВЕК ПО ИМЕНИ ГЕНРИХ ШЛИМАН ПОЯВЛЯЛСЯ НА СВЕТ ДВАЖДЫ
Факты таковы: существовал и еще один человек по имени Генрих Шлиман — сын тех же родителей и живший в то же самое время и в том же самом месте. Второй Генрих Шлиман был своего рода компенсацией. А произошло это так: в 1813 году школьный учитель Эрнст Шлиман женился на Луизе Бюргер, дочери директора школы в мекленбургском городке Штернберг, где он преподавал. Вместе с ней он переселился в Нойбуков, где его хорошенькая жена в течение восьми лет наградила его пятерьми детьми. Первых четверых из них звали Генрих, Элиза, Доротея и Вильгельмина.
Когда в семье родился пятый ребенок (это произошло 6 января 1822 года), восьмилетний Генрих, первенец, был неизлечимо болен. Отец Эрнст, который был пастором в Нойбукове, дал пятому ребенку то же имя, что и первому, — Генрих. В местной церковной книге он собственноручно сделал следующую запись из четырех имен: «Иоганн Людвиг ГЕНРИХ Юлиус». А его первенец Генрих умер спустя два с половиной месяца, 24 марта.
Когда позднее второй Генрих узнал об этом, мир для него рухнул. Мальчик спрашивал себя, а уж не он ли сам тот умерший брат, и с той поры стал испытывать загадочную и болезненную тягу ко всему связанному со смертью, в первую очередь — к могилам. Когда семья его переехала ближе к Анкерсхагену, то Генрих, в отличие от других детей, большую часть времени проводил на расположенном напротив дома пастора кладбище и на развалинах замка рыцаря-разбойника Хеннинга фон Хольштайна, где водились ужасные привидения.
В возрасте девяти лет, именно тогда, когда Генрих стал понимать свою роль «сына взамен», его постиг самый страшный удар за всю его жизнь — смерть матери вскоре после рождения девятого ребенка, Пауля. Шестидесятилетний Шлиман посвящает этому событию одну-единственную фразу: «Это была для меня невосполнимая потеря и, наверное, самое большое горе, которое только могло обрушится на меня и моих шестерых сестер». Эти лишенные эмоций слова обычно склонного к эмоциональности автора говорят о том, что он и в почтенном возрасте так и не смог окончательно оправиться от этого удара.
Еще в детские годы Генрих Шлиман узнал, что смерть его матери не была естественной. Официальная причина смерти — «нервная горячка» — указывает на неврастению, то есть патологическую возбудимость психических функций, сопровождающуюся патологическим состоянием истощения. Другими словами, пастор из Анкерсхагена методично доводил жену до могилы. И хотя ему никогда никто не предъявил официального обвинения, в глазах Генриха он был и остался убийцей.
Пьяница в сутане избивал свою слабую здоровьем жену, изводил ее бесконечными зачатиями, хотя Луизу лишило последних сил появление на свет седьмого и восьмого ребенка. И брюхатил он ее с почти садистским наслаждением, чтобы заполучить возможность безнаказанно распутничать на стороне. Помимо пьянства, которое поставило его семью на грань финансового краха, множились его любовные истории, самая мерзкая из которых разыгрывалась под крышей его собственного дома на глазах у жены.
Эрнста Шлимана привлекли пышные формы еще не достигшей совершеннолетия дочери каменщика из Анкерсхагена. Эта особа,
у которой имелся внебрачный ребенок и которая отличалась грубовато-простецкими манерами, была хорошо известна всей деревне по причине
своей чрезвычайной доступности. Именно это и привлекало похотливого пастора, который, вопреки желанию жены, нанял дочь каменщика домашней прислугой. И, что совсем не удивительно, прислуга эта общалась, в основном, с главой семьи, а не с хозяйкой. Об этом говорил весь Анкерсхаген. В конце концов Луиза все же выбросила эту неряху из дому.
С тех пор пастор превратил жизнь жены в ад. Своей сожительнице он снял в одном из близлежащих мест комнату. Когда развеселая жизнь этой пары стала предметом слухов и пересудов, девушку выставили вон. После этого они сделали местом своих встреч деревенскую гостиницу в Зерране, а потом переместились к брату Эрнста Шлимана, Фридриху, в Калькхорст.
Каждый раз, приезжая домой, пастор тиранил всю семью. Маленький Генрих испытывал безграничную и бессильную ненависть к извергу-отцу. Настанет время, и он прочтет последнее письмо своей матери к Элизе, старшей сестре Генриха, которая в то время находилась на воспитании у родственников. В нем пасторша с умилением благодарила дочь за «все хорошее», которая та сделала ей. Она писала: «В те дни, которые наступят, ты постоянно будешь думать о том, что я борюсь со смертью. А когда тебя известят о ней, то не скорби обо мне долго, а поспеши порадоваться за меня, что кончились мои страдания в этом, таком неблагодарном ко мне мире, где смирение, просьбы и обращенные к Богу безмолвные мольбы о переменах в жестокой судьбе моей ничего не меняют… Если Богу угодно будет помочь мне благополучно пережить этот горестный год и жизни моей суждено измениться так, что. я вновь выйду к людям бодрой и преисполненной радости, то обещаю тебе быть веселой и при чепце… Я должна закончить, потому что режут свиней и я должна там быть, а мне так противно это».
Имеет ли в виду Луиза под «горестным годом» свою девятую беременность или же саму гнетущую атмосферу ее дома, неясно. Однако ясно то, что к концу 1830 года она утратила жизненную энергию. А ей было всего тридцать шесть лет.
ЦИНИЧНЫЙ НЕКРОЛОГ
22 марта 1831 года мать Генриха умерла. Похоронили ее недалеко от дома, где ей было суждено провести самые тяжкие дни своей жизни.
Алкоголик-пастор воспринял уход из жизни своей жены и матери семерых детей (двое к тому времени умерли) как нельзя более цинично. На следующий день он поместил в местной газете «Мекленбург-Шверинишен Анцайген» бесстыдновозвышенный, пропитанный ложью и жалостью к себе некролог.
Вчера я пережил самый несчастный день В своей Жизни, когда неумолимая смерть унесла мою Верную спутницу, с которой меня связывали узы брака В течение почти семнадцать лет, заботливую мать моих малолетних детей — Луизу Терезу Софью, урожденную Бюргер. Она, незабвенная супруга и мать, скончалась от последствий сильной нервной горячки Вчера утром, В 5.30, на тридцать седьмом году Жизни, после того как 13 января с. г. благополучно разрешилась здоровым мальчиком, нашим девятым ребенком. И теперь я, преисполненный глубочайшей скорби, стою В окружении сирот моих, по малолетству не способных осмыслить Величину их утраты, и молюсь: «Боже, даруй усопшей за Всю ту любовь и нежную заботу, обращенные ко мне и к детям моим, счастливое и радостное блаженство, не покидай меня и детей моих и пролей Живительный бальзам на наши исстрадавшиеся, израненные сердца» Слова эти я посвящаю Всем моим и моей покойной супруги родным и близким и Всем тем, у кого В сердце пробудится сочувствие к чужому горю и страданиям, и ниспошли на меня, Боже, сознание того, что они по мне и детям моим обронят тихую слезу скорби.
Шлиман, пастор Анкерсхагена.

Минна Майнке, в замужестве Рихерс. После выхода в свет автобиографии Шлимана она, мать троих дочерей, с удивлением узнала, что, оказывается, была когда-то первой юношеской любовью Генриха. Когда она пригрозила, что подаст жалобу, Шлиман был вынужден извиниться и признаться, что хотел при помощи этой вымышленной истории обессмертить ее имя.
Никто в Анкерсхагене или близлежащих деревнях не помнил, чтобы в местной газете помещали такой обстоятельный некролог. Больше всего мекленбуржцев возмутила лживость их пастора. Он окончательно дискредитировал себя и свою семью.
Но самого Эрнста Шлимана это, казалось, не особенно беспокоило. Едва его супругу приняла земля, как он тут же привел в пасторский дом свою наложницу — в качестве экономки, как он выразился. Люди открыто выказывали свое возмущение. По воскресеньям вместо того, чтобы идти в церковь, они собирались перед домом пастора и молотили в кастрюли и сковороды.
Это было тяжелые времена для молодого Генриха. «Смерть моей матери, — писал он, — совпала и с другим событием, после которого все наши знакомые вдруг отвернулись от нас и прекратили всякие отношения с нами». Генриху выпала участь одиночки, ищущего, жаждущего мечтателя, и эти нанесенные ему в детстве раны не зажили никогда.
И все же это время вынужденного одиночества было важным для Генриха, и не только потому, что он мог сколь угодно долго предаваться фантазиям: оно, кроме того, не давало угаснуть его ненависти к своему беспомощному положению и питало его замыслы — отомстить, и отомстить при помощи головокружительного взлета.
Распутная жизнь отца наложила на Генриха и его братьев и сестер клеймо изгоев. Другим детям не позволялось играть с ними. Сам он, как замечал впоследствии Шлиман, не особенно был удручен этим обстоятельством, вот только запрет на общение с Минной воспринимался им «в тысячу раз болезненнее», чем даже смерть матери.
Такое признание озадачивает, если принимать во внимание сильную привязанность Шлимана к матери, однако не следует забывать о том, что это высказывание принадлежит человеку, которому тогда было под шестьдесят, и приведено оно в его тщательно отполированной автобиографии. А в ней эта девочка, его ровесница, занимает место гораздо более важное, нежели это было в жизни Генриха Шлимана. Минна была его школьной подружкой, ей даже нравились его ухаживания — при условии, если такое понятие применимо к девятилетнему мальчику, — льстила первая любовь, однако событием в жизни Генриха Минна так и не стала. В своей взрослой жизни он никогда не стремился к женщинам типа Минны.
Минна Майпке, скорее, лишь ОДИН из примеров всех этих бесконечных сознательных преувеличений, недооценок, смутных намеков, инотолкований и лжи, которыми полно его жизнеописание. Самоуверенный, тщеславный Шлиман пользовался этими людьми, представляя их отношение к нему как изначально позитивное лишь для того, чтобы эффектно украсить этим свою биографию. И был ли это Миллард Филмор, президент Соединенных Штатов, или Минна Майнке, дочь ничем не примечательного мелкого помещика из деревни Царен, роли не играло — главным становилось то, насколько та или иная персона могла высветить на портрете Шлимана все лучшее, а если получится, то и восславить его.
Точно так же, как Шлиман никогда не имел личной встречи с президентом США Филмором (его правдоподобный отчет об этом просто-напросто списан с газеты), и эта трогательная история первой полудетской любви к Минне есть всего лишь поэтически переосмысленная реминисценция, имеющая целью рассеять всякого рода смутные подозрения, что этот радикал-одиночка страдал, ко всему прочему, еще и неспособностью любить и мог рассуждать лишь о любовных терзаниях Гете, но не о своих собственных.
Минна являлась для Шлимана не более чем средством для достижения цели. Но известно это было лишь им двоим. В 1880 году Шлиман извинился перед спутницей своих молодых лет, которая в 1847 году вышла замуж за землевладельца Августа-Фридриха Рихсрса и стала матерью троих дочерей. Впрочем, извинение это было просто повторным бесстыдством. Вот что Шлиман пишет Минне Рихерс:
«Ты получишь мой "Илион". Если ты обнаружишь, что я несколько преувеличил значение нашей с тобой дружбы пятидесятилетней давности, то не должна обижаться на меня, а приписать все лишь моей старой привязанности. Если принять во внимание то, как сложилась впоследствии моя жизнь, то эти мои откровения пойдут лишь во благо тебе, поскольку нет такой немецкой женщины, которая бы не пожелала бы быть увековеченной подобным образом…»
Ответ Минны Рихерс, написанный в примирительном тоне, доставили уже с обратной почтой, хотя ее супруг Август-Фридрих поначалу был в шоке и наверняка вынашивал планы потребовать внесения ясности. Племянница Минны, Ида Фрелих, с которой они были очень близки, выболтала ей. о намерениях мужа. Когда Шлиман приводил доказательства того, что она всегда оставалась в сердце его, или же когда позволял себе заходить слишком далеко в своих фантазиях, то, по мнению Иды, Минне не следовало корить его за это. «В сказках и легендах всегда — или почти всегда — появляется некая дочь короля, которая вдохновляет героя на великие дела, в жизни же наших великих государственных мужей или поэтов мы на каждом шагу встречаемся с влиянием женщины. Почему же, в таком случае, образ женщины не может повлиять и на доктора Шлимана, которого тоже не обошла слава?»
И Минне уже ничего больше не оставалось, как почувствовать себя польщенной. Из ее ответного письма от 4 января 1881 года:
Дорогой Генрих, ты действительно оказал мне большую честь, упомянув меня В твоей автобиографии. Твоя Живая, юношеская фантазия идеализировала образ маленькой Минны Майнке и наделила ее неординарными чертами характера и большими дарованиями. Тебе повезло, что ты не Встретился с нею позже, поскольку она стала обычной, скучной особой, которая Вряд ли смогла сохранить В Воспоминаниях то, что так разукрасил твой поэтический дар. Это Верно, что ты Все «слегка преувеличил», как ты сам Выразился В твоем письме, и за это ты, мой старый друг, достоин скорее порицания, нежели похвалы от меня…
Твоя подруга Минна Рихерс.
ВЫДУМАННАЯ ЛЮБОВЬ
Что могло заставить Шлимана пойти на выдумывание пылкого любовного романа юности, которого и в помине не было?
Составляя свое первое жизнеописание, Шлиман понял, что его изменчивой жизни всегда катастрофически недоставало любви. Он должен был признать, что на протяжении своих первых пятидесяти лет жил без этого чувства. То, что прежде он принимал за любовь, было не что иное, как плотские утехи, имевшие, правда, целью обзавестись отпрысками и даже создать иллюзию безупречной семейной жизни. Запланированная цель — первый брак — была достигнута, однако не принесла удовлетворения Генриху Шлиману. О любви и речи быть не могло.
Что касается первой жены Шлимана, Екатерины Петровны Лыжиной, с которой он прожил почти семнадцать несчастливых лет, то ей в автобиографии Шлимана не посвящено и сотой доли того, что уделено Минне Майнке. Причина проста: Екатерина принудила бы Шлимана к откровению. Минна же, являясь, по сути дела, фикцией, ни к чему его не обязывала. Виртуоз-археолог был мастером похоронить, если это было необходимо, любые неприглядные для него факты и выставить свой характер — бесспорно, ущербный — в выгодном свете.
Для Генриха Шлимана Минна Майнке была несбыточной мечтой, образом идеальной женщины, до которого не дотягивала даже Софья, его вторая жена: «Минна, к ее чести, всегда понимала меня и всегда всерьез и с оптимизмом воспринимала мои великие замыслы и планы на будущее. Между нами возникла теплая симпатия, и мы — по-детски наивно — клялись друг другу в вечной любви и верности… Само собой разумелось, что мы, когда станем взрослыми, поженимся и тогда непременно разгадаем все таймы Анкерсхагена, сумеем вырыть и серебряную чашу, и золотую колыбель, найдем несметные сокровища Хеннинга и его могилу, а потом уже отправимся на раскопки города Трои. Ничего более прекрасного не могли мы себе представить, кроме жизни в вечном поиске следов прошлого. Благодарение Богу, твердая вера в существование Трои никогда не покидала меня, как бы ни оборачивалась для меня моя насыщенная событиями жизнь! Однако лишь на исходе жизни моей, в пору ее осени, и уже без Минны, вдалеке от нее, по прошествии пяти десятилетий суждено было моим детским мечтаниям воплотиться в реальность».
Внушает сильное сомнение тезис о том, что. Минна Майнке способствовала построению Шлиманом этого фантастического мира и совершению его бегства от действительности. В ретроспективе Минна представляет собой лишь символическую фигуру, олицетворение его надежд и чаяний, образ благородной богини гомеровского мира. Как страдал Генрих от того, что родители запретили Минне общаться с этим мальчишкой-изгоем из пасторского дома! Часами, пишет Шлиман, он рыдал над портретом одной из своих родственниц лишь потому, что на дагерротипе она обнаруживала сходство с Минной. «Будущее, — писал Шлиман, — предстало передо мной мрачным и угрюмым, даже все тайны Анкерсхагена и самой Трои вдруг перестали больше манить меня».
И это тоже вымысел. В 1833 году у Шлимана и мысли не было о Трое. Минна, конечно же, не могла не заметить его особой склонности к ней, но о том, чтобы он проливал из-за нее слезы любви, и речи быть не могло. Нет, в те времена Генрих куда сильнее был увлечен своей ровесницей — кузиной Луизой, которой он даже приписывал «пламенные лобзанья». В автобиографии же рассказ о вполне земных отношениях с Луизой уступает место трогательным, романтичным, но выдуманным историям с Минной Майнке в роли главной героини.
Отношение Шлимана к женскому полу было с самого начала ущербным. И при этом история его жизни была историей вечных поисков любви. Истинную же привязанность он испытал лишь будучи в зрелом возрасте. А до этих пор перед нами одно только достойное сочувствия жалкое подобие мужчины — как изображенный на той самой петербургской фотографии добропорядочный обыватель, который из кожи вон лез, чтобы произвести впечатление бонвивана.
То, что все эти попытки изобразить из себя эдакого «видного мужчину» оказывались неубедительными и жалкими, было хорошо известно Шлиману. Трудно было представить себя таковым, имея рост метр пятьдесят шесть, короткие руки и ноги и слишком крупную голову. Но ведь и Цезарь, и Кант, и Наполеон тоже были низкорослыми и, несмотря на это, пользовались огромным успехом у женщин.
Для Генриха такие понятия, как любовь и дружба, с самого начала были неразрывно связаны со славой и деньгами. Слава и деньги определяли ЕГО специфическую привлекательность. Его авантюра с Софи Хекер из Петербурга, где он потерпел фиаско, до сих пор давала о себе знать. Лишь когда Шлиман добрался, наконец, до богатства, он смог отважиться на покорение женщин, и, естественно, объект был выбран исключительно неподходящий. Первое предложение молодого немца было Екатериной Петровной Лыжиной отклонено. Ну а когда уже не оставалось никаких сомнении в том, что он действительно сделался богатым, тогда она решила ответить «да». С этого начался их жуткий брак.
То, что Екатерина никогда по-настоящему не любила Генриха, факт очевидный (Екатерина имела склонность к лесбийской любви). И возможности исполнить «свой супружеский долг» Шлиману нередко приходилось добиваться при помощи силы. Это им воспринималось как нечто само собой разумеющееся, поскольку его петербургский брак с самого начала представлял собой сделку и условия этой сделки должны были соблюдаться.
ЧЕЛОВЕК, СНЕДАЕМЫЙ СЕКСУАЛЬНЫМИ СТРАХАМИ
Поскольку Генрих Шлиман в своих поздних письмах довольно свободно высказывается на сексуальные темы (однако никогда не касался их до своего первого брака), можно предположить, что Екатерина была первой женщиной, с которой у него была интимная связь. С необъяснимой откровенностью Генрих сообщал о своих связанных с сексуальной жизнью опасениях в ту пору, когда ему предстоял второй брак после восьмилетнего холостяцкого периода: будучи уже сорока семи лет от роду, он опасался, что окажется не в состоянии удовлетворить сексуальные желания своей молодой жены Софьи.
Перспективы заключенного Шлиманом в 1869 году второго брачного союза выглядели ничуть не лучше, чем в первом случае. Никаких изменений во взглядах Шлимана на брак не произошло. Он по-прежнему рассматривал его как своего рода сделку, договор, где права и обязанности поделены между сторонами, и выбирал себе жену, можно сказать, по фотокаталогу. Когда он писал братьям и сестрам о своем решении жениться, это очень напоминало по тону сообщение о том, что он приобрел для себя, например, летний домик в Греции: «Греческий архиепископ, мой бывший учитель, послал мне портреты нескольких афинянок, из них я выбрал Софью Энгастроменос, которая понравилась больше остальных… Я заказал двенадцать копий фотографии Софьи и одну из них посылаю вам…»
В противоположность Екатерине Софья была «любящим, преданным, послушным, прекрасным созданием», как писал Шлиман сестре Дорис, и, вероятно, именно это создание и ответственно за постепенное превращение Генриха из коммерсанта в любящего, чуткого супруга. Действительно, его напыщенные письма, полные заверений в любви, отнюдь не убеждают нас в том, что и второй брак поначалу был лишь сделкой, преследовавшей определенную цель. Однако напыщенные письма Генрих писал и своей первой жене Екатерине, но, тем не менее, брак этот закончился катастрофой.
К моменту второй женитьбы Шлиман уже кое-чему научился, а именно — такту. И все же в поведении его до сих пор чувствовался дух отталкивающей, деляческой расчетливости. Вот что он пишет своему школьному приятелю Вильгельму Русту: «У нас с этой женой пока только дочь, Андромаха, потому что у бедняжки уже четыре раза случался выкидыш, а в течение двух последних месяцев — даже два, и посему я любыми средствами должен снова поставить ее на ноги».
Шлиман впервые в жизни стал вести упорядоченную половую жизнь — в том возрасте, когда его приятель Руст, по его же словам, «уже утратил способность к оплодотворению». Пятидесятишестилетний Шлиман никак не мог понять проблему Руста и советовал своему другу и банкиру: «Все это следствие твоего длительного сидения, поскольку все семя у тебя перешло в жир, однако оно снова возобновится, как только ты попытаешься похудеть, больше двигаясь. У меня тоже временами исчезает способность к оплодотворению вследствие огромного душевного напряжения, однако с удвоенной силой восстанавливается, как только я даю себе чуть-чуть передохнуть».
Следует добавить, что Генрих и Софья совершенно не подходили друг другу ни внешне, ни по характеру. Одна из знакомых Шлиманов, жительница Дрездена Хелена Шельберг; встретила супругов, когда те отдыхали в Санкт-Морице летом 1885 года. Софья Шлиман произвела на Хелену очень сильное впечатление:
«Она была очень красивой женщиной, на полголовы выше своего мужа, с густыми, черными волосами. Я никогда не видела, чтобы она смеялась».
Гостья из Дрездена часто играла с Андромахой Шлиман, особенно они любили играть в «раскопки Трои». Для этого на игровой площадке прятали шоколадку, потом искали ее. Однажды на площадку пришел пожилой мужчина, и Хелена сказала Андромахе: «Вон, смотри, твой дедушка пришел!» Андромаха, которая хорошо говорила по-немецки, возмутилась: «Это мой папа!»
Этот неравный брак стал — во всяком случае, для Генриха — исполнением намеченных им жизненных целей. Софидион, как ласково-уменьшительно он называл свою жену, из этакого симпатичного дополнения превратилась в его партнера, спутницу жизни, пройдя путь от объекта сексуального желания до настоящей возлюбленной. После первого приступа нервного истощения Шлиман вынужден был признать, что его молодая жена еще слишком молода, чтобы усваивать ту воспитательно-образовательную программу, которую он для нее подготовил, и что он собственными руками чуть было не погубил и свой второй брак.
Не может быть сомнений в том, что он выбрал своей второй женой женщину на тридцать лет моложе, чтобы иметь возможность сформировать из нее то, что желал. Однако он был вынужден отказаться от этих честолюбивых планов, равно как и от попыток сделать Из Софьи свою помощницу во время раскопок Трои. Не могло быть речи и о том, чтобы эта молодая афинянка запросто цитировала наизусть почти всю «Илиаду» или «Одиссею». И постепенно Софидион превратилась в такой же воображаемый предмет любви, каким была Минна Майнке. Впрочем, и вся жизнь Шлимана была сплошной фикцией.
Этот стареющий мужчина действительно по-своему любил свою вторую жену. Если сравнить изящный, склонный к метафорам и преувеличениям язык его заверений в любви, адресованных Минне Майнке или Екатерине Лыжиной, со стилем того послания, которое он отправил Софье 28 сентября 1890 года (она тогда проходила курс лечения в Германии), то сразу же бросается в глаза разительная перемена в чувствах Шлимана. Из добрых нескольких тысяч писем, которые ему пришлось написать в жизни, это самое яркое и изящное.
Афины, 28.9.1890 года.
Моя любимая Софидион!
…Как страстно я Желаю, чтобы Боги снизошли к нам и позволили бы отпраздновать не только эту годовщину нашей свадьбы, но и еще двадцать одну такую годовщину В будущем, пребывая В здоровье и благополучии. Сегодня, оглядываясь назад на многие годы, прошедшие Вместе с тобой, я Вижу, что Парки даровали нам много дней не только горьких, но и наполненных сладостной радостью. Мы, люди, склонны смотреть на прошлое сквозь розовую пелену, забывая при этом Все, что было недоброе, и В памяти нашей храним лишь доброе. У меня нет подходящих слов, чтобы Восхвалить наш брак. Ты Всегда была для меня любящей супругой, добрым товарищем и надежным советчиком В трудные дни, Верной спутницей и матерью; такой другой не сыщешь. Я Всегда испытывал радость, Видя тебя В таком драгоценном ореоле добродетелей. Посему уже сегодня обещаю тебе, что останусь мужем для тебя на Вечные Времена.

«Эней выносит на плечах своего отца Анхиза из горящей Трои» — репродукция из «Мировой истории для детей» Георга Людвига Йеррера. Именно она, как впоследствии утверждал Шлиман, уже в молодые годы натолкнула его на мысль раскопать гомеровскую Трою. Вымысел, как и многое в автобиографии Шлимана.
СОБСТВЕННАЯ РЕЛИГИЯ ШЛИМАНА
Непредсказуемость характера Шлимана, не позволяющая однозначно типизировать его, имеет и другие, неожиданно положительные стороны. В автобиографии он пытается создать впечатление, будто бы отец отправил его к дяде Фридриху в Калькхорст, чтобы он смог забыть историю несчастной любви к Минне. В действительности же пастору не оставалось ничего другого, как рассовать своих детей по родственниками, поскольку у него не было средств на содержание семьи. Злопамятные жители Анкерсхагена обвинили своего опустившегося пастора в том, что он запустил руку в церковную кассу, после чего Эрнсту Шлиману пришлось распрощаться со своим приносившим стабильный и неплохой доход местом.
Дядя Фридрих тоже был пастором, как и отец Генриха, Эрнст, и можно прийти к мысли, что первые четырнадцать лет жизни, которые Шлиман провел в пасторских семьях, смогли повлиять и на его будущее, однако это не так. Ни распутный образ жизни отца, ни благочестивые речения дяди ни в коей мере не сказались на отношении Генриха к религии.
Отвратительная натура его отца, с кафедры анкерсхагенской церкви проповедовавшего умеренность и благочестие, а на деле впавшего в порок, вполне могла бы превратить Генриха в воинствующего богоборца, антиклерикала или же просвещенного нигилиста, что произошло, к примеру, с его современником Карлом Марксом, в возрасте шести лет вынужденным перейти из иудаизма в протестанство, а позднее ставшим убежденным атеистом. К Генриху Шлиману все это неприменимо. Ханжество его отца не нанесло его душе неизлечимых ран, и он не стал ни верным приверженцем церкви, ни горячим ее противником — он создал свою собственную религию.
Первой его библией стала «Мировая история для детей» Георга Людвига Йеррера, которую он в восемь лет получил в подарок на Рождество. И самой захватывающей в этой книге, как позднее писал он, была репродукция, изображавшая Энея, который выносит на плечах из горящей Трои своего отца Анхиза. На первые вопросы мальчика о том, что же за события изображены на этой картинке, давал ответы отец, а позднее — учитель Карл Андрес, которому Генрих до конца дней своих хранил верность.
Нет, Шлиман был кем угодно, но никак не благочестивым в христианском смысле. И при этом слово «Бог» нередко слетало у него с языка. Говоря «Бог», Шлиман имел в виду божественное про-видение. Бог олицетворял для него судьбу, которая заранее предопределена каждому человеку. Церковные институты, равно как и служители церкви, внушали ему такое же отвращение, как и его отец. Своим благочестивым сестрам Дорис и Вильгельмине он писал в 1842 году (Генриху исполнилось тогда двадцать лет): «Что касается веры моей, то об этом не беспокойтесь, поскольку в Бога я верую, но мне нет никакого дела до бредней пасторов, монахов и попов, которые изобрели все эти ритуалы.
Я поступаю правильно, честно смотрю людям в глаза и верую, поскольку разум дал мне такую способность».
В этом же смысле можно интерпретировать и слова Шлимана из его автобиографии. Там в связи с одним событием в октябре 1854 года говорится: «Божественное провидение не раз защищало меня самым чудесным образом, и нередко лишь случайность спасала меня от верной гибели». Как уже сообщалось, при пожаре Мемеля Шлиман имел на складах этого города товаров на сто пятьдесят тысяч талеров и не сомневался, что это богатство уничтожил огонь. К своему изумлению, он узнал, что лишь его склады и пощадил пожар. Этот эпизод не был использован Шлиманом в качестве предлога для обращения в христианскую веру, а, скорее, явился подтверждением того, что судьба уготовила ему совершенно особую роль.
До определенного возраста Генрих Шлиман вообще не думал о Трое как о высшем смысле своего «религиозного» предназначения, а видел во всем лишь свой коммерческий успех. И прошедшему в Анкерсхагене детству также не придается какого-то особого значения. В 1851 году, когда Шлиман сразу после путешествия в Америку впервые предпринял попытку описать собственную жизнь, тема гомеровской Трои не затрагивалась, а детство периода Анкерсхагена он упомянул лишь затем, чтобы нагляднее показать те высоты, которых достиг: от полунищего ребенка до процветавшего дельца.
31 декабря 1868 года в Париже Генрих Шлиман заканчивает рукопись, которой снова уготовил роль своего жизнеописания, где рассказывает о первой поездке в Грецию. И к этому периоду (ему тогда было уже сорок семь лет) он. принял решение начать новую жизнь, жизнь исследователя и археолога. Однако лишь теперь, восемнадцать лет спустя, детство вдруг стало играть для Шлимана какую-то заметную роль.
ПОПЫТКА ОБЪЯСНИТЬ ЕГО МИФОМАНИЮ
«Когда я, — начинает Шлиман автобиографический отрывок своей вышедшей в свет в 1869 году книги "Итака", — в 1832 году в возрасте десяти лет в шверинской деревушке под названием Калькхорст вручил своему отцу в подарок к Рождеству написанное на плохой латыни сочинение о главных событиях Троянской войны и приключениях Агамемнона и Одиссея, я не мог предполагать, что через тридцать шесть лет предложу на суд публики свой труд на ту же самую тему, — после того, как собственными глазами имел счастье лицезреть место, где разворачивались боевые действия, и родину героев, имена которых обессмертил Гомер.
Едва я научился говорить, как отец мой стал рассказывать о великих деяниях гомеровских героев. Я любил эти рассказы, они приводили меня в восхищение. Первые впечатления, которые получает ребенок, остаются с ним на всю жизнь…»
Далее Шлиман приводит целый ряд ярких детских воспоминаний с целью объяснить корни своей мифомании. Степень правдивости его утверждений здесь играет подчиненную роль: даже если Шлиман и сочинил одну-две сцены (что вполне вероятно), это не столь важно, хотя также помогает лучше понять его характер.
Одиннадцатилетпий Генрих, находившийся под опекой своего дяди Фридриха, сначала посещал как пансионер гимназию Нойштрелица, однако тремя месяцами позже вынужден был вернуться в реальную школу, поскольку его отец не мог или не желал платить за учебу. В реальной школе Генрих явно не блистал в числе первых учеников. Его табель 1835 года отнюдь не обнаруживает в нем гения-полиглота и не говорит в пользу его выдающихся дарований по истории или географии. А по латыни, которой, наряду с греческим, было суждено стать его вторым родным языком, ученик вообще получил неудовлетворительную оценку.
Реальная школа В Нойштрелице. Свидетельство от Пасхи до дня. СВ. Михаила 1835 года.
Выдано Генриху Шлиману.
Поведение: хорошее.
Религия: зачтено.
Геометрия:
зачтено, однако при большей усидчивости усваивает быстрее.
Физика и химия:
явно недостаточные знания, но должен работать самостоятельно.
Естественная история:
знания удовлетворительные, проявляет интерес.
География:
сносные.
История:
удовлетворительные.
Немецкий язык:
сочинения в большинстве написаны прилежно.
Французский язык:
удовлетворительные.
Латинский язык:
неудовлетворительные, переводы поверхностные и высокопарные.
Английский язык:
сносные.
Рисование:
медлителен.
Чтение:
незначительные.
Каллиграфия:
значительные успехи.
Пропущено:
22 урока.
Честолюбец и гений Генрих Шлиман пока еще не родился, он появится на свет гораздо позже, а то, что мы видим сейчас, вряд ли сильно отличается от того, что было со многими другими гениями. Во всяком случае, явно недостаточное образование было для Генриха вторым тяжким ударом судьбы после смерти матери. Пока Генрих Шлиман весьма сомнительным путем не сумел добиться присуждения ему ученой степени доктора, он страшно страдал от недостатка образования. И вину за это возлагал целиком и полностью на обстановку в семье.
Неважно, в действительности ли имел место приведенный ниже эпизод, взятый из его жизнеописания 1868 года, или же был вымыслом автора, — важно,
что он хотел этим сказать. А сказать он хотел следующее: пусть я из низов, пусть у меня не было возможности получить хорошее образование, но моя любовь к античности проявилась уже в детском возрасте.
В интерпретации Генриха Шлимана эта история выглядит следующим образом: «В маленькой лавчонке…мои обязанности сводились к тому, чтобы вразвес продавать сельдь, сливочное масло, водку, молоко, соль, растирать картофель для подготовки к перегонке, подметать пол в лавке и так далее, и общался я там всегда лишь с представителями низших классов.
С пяти утра до одиннадцати вечера я находился в лавке и не имел ни секунды на то, чтобы заняться самообразованием, и я быстро забывал то немногое, что выучил в детстве, однако охоты к учению не терял. Никогда не терял я этой охоты и всю мою жизнь буду помнить о том, как однажды в лавку зашел один пьяный помощник мельника. Он был сыном протестантского пастора в одной из деревень близ Тетерева, и его исключили из гимназии незадолго до ее окончания по причине дурного поведения. В наказание за это отец решил отправить его в ученье к мельнику. Недовольный судьбой своей, этот молодой человек предался пьянству, которое, однако, не заставило его забыть Гомера, потому как он мог прочесть наизусть около ста песен с полным соблюдением ритма. И хотя я не понял из процитированного им ни слова, этот звучный язык произвел на меня глубочайшее впечатление и растрогал меня до слез, которыми я оплакивал несчастную судьбу свою. Трижды я просил его прочесть мне эти божественные стихи, наградив его за это тремя стаканчиками водки, на которые ушли все мои немногие пфенниги, составлявшие тогда мое жалкое состояние».
Почти невозможно представить, что эта почти кинематографическая сцена могла иметь место в действительности. Однако это подтверждал и Герман Нидерхефер, бывший помощник мельника. Этот горемыка получил в 1844 году должность писаря общины в Виденхагене, собирал деньги за проезд по дорогам и женился на женщине, которой удалось отвратить его от бутылки. В шестьдесят пять лет он удалился на покой и продолжал цитировать стихи Гомера.
ФИАСКО ШЛИМАНА В РОЛИ ОТЦА
К строгости, в которой воспитывался сам Шлиман, он стремился и воспитывая собственных детей. Нежности, постоянно присутствовавшей в отношениях его первой жены Екатерины Лыжиной с детьми, Шлиман не принимал, считая ее вредной для них. Эта его позиция заставляла детей искать прибежища у матери, а отец стал для них воплощением зла. Как и все «сверхотцы», Шлиман еще до своего отъезда из Санкт-Петербурга вынужден был признать, что все честолюбивые планы, вынашиваемые им в отношении сына Сергея, потерпели крах, поскольку со стороны сына не наблюдалось никаких попыток пойти ему навстречу; что Сергей был мальчиком избалованным, непослушным, флегматичным и его, как и его мать, не интересовало ничего на свете; что никакого второго Шлимана из него никогда не выйдет. Однако во всем, что касалось материального обеспечения сына, Шлиман неизменно проявлял щедрость и понимание и не оставлял попыток предстать в его глазах примером для подражания.
О том, насколько серьезным было его желание переделать своего сына, свидетельствует письмо, написанное 30 мая 1873 года, то есть незадолго до обнаружения сокровищ Приама, в котором он сообщает восемнадцатилетнему Сергею об успешных раскопках:
«Как и следовало ожидать, вследствие твоего неправильного воспитания у тебя нет и быть не
-может понимания всего великого, прекрасного, возвышенного. Но, возможно, когда-нибудь у тебя будет сын, и ты соблаговолишь дать ему достойное воспитание, чтобы он мог понимать прекрасное и возвышенное и восхищаться классической древностью. И если это будет так, то пошли его в Трою, чтобы он мог воочию увидеть раскопки своего деда, которым на вечные времена суждено стать местом паломничества жаждущей знаний молодежи. Пошли его и в мои горячо любимые Афины, и пусть он посмотрит на "Музей Шлимана", основать который мы пока еще только замышляем, собираясь возвести его из железа и мрамора, и который мы завещаем греческому народу вместе со всей нашей коллекцией древностей…»
Мог ли молодой человек любить такого отца? Позднее Сергей отправился в Париж. Он изучал юриспруденцию и в конце концов просто спился. А в 1940 году, в разгар войны, погиб от голода.
«Жена номер два» Софья и дети от этого брака относились к Шлиману с величайшим почтением, даже благоговели перед ним. Это вполне соответствовало его желаниям. Он стремился в своем семейном кругу культивировать образ великого, равнодушного к мелочам этой жизни, далекого от нее археолога-исследователя, которому дела нет до таких земных вещей, как здоровье и благополучие домочадцев. И при этом от Шлимана исходило какое-то беспокойство, характерное для него еще в молодые годы и не покинувшее его и на закате жизни. Даже находясь на отдыхе в Санкт-Морице, он поднимался в четыре часа утра, отправлялся на прогулку, после чего занимался корреспонденцией. Ежедневно он собственноручно относил на почту целые стопки писем.
Шлиман много и охотно говорил. Для этого у него имелись две причины. С одной стороны, он любил слушать самого себя, был весьма общительным и словоохотливым человеком, с другой — пытался таким образом избавить себя от неудобств, связанных с рано наступившей глухотой. Под ее воздействием страсть к говорению развилась у Шлимана в самый настоящий комплекс: когда говорил он сам, отпадала необходимость переспрашивать. По причине глухоты он часто избегал разговоров на улице или же во время светских приемов. И люди стали приписывать это его высокомерию.
Подчас в характере Шлимана обнаруживаются шизофренические черты. То он ведет себя как педантичный делец, трезвый коммерсант и отвратительный скряга, то предстает перед нами в роли транжира, расточительность которого не знает границ, то играет роль непонятого мечтателя. Здесь он реалист и материалист — там фантазер, живущий в своем собственном, осененном Гомером мире.
Шлиман сам сознавал свою раздвоенность. Но знал ли он о том, что за всей этой двуликостью Януса скрывались мучительные, терзавшие его сомнения, остается вопросом. Своей тетке Магдалене Шлиман, живущей в Калькхорсте, с которой у него были доверительные отношения, Генрих написал в конце 1856 года, то есть в период пика его успехов на деловом поприще, честное письмо, в котором вынужден был, однако, признать, что брак его обречен на гибель, и при этом недвусмысленно указывал на все противоречия в своем характере, не вдаваясь, впрочем, в причины.
«…Науки, — писал он, — и, в особенности, изучение языков стали для меня настоящим пристрастием, и, используя для этого любую свободную минуту, мне удалось в течение двух лет изучить польский, славонский, шведский, датский, кроме того, в начале года — новогреческий, позже — древнегреческий и латынь, и теперь я бегло могу говорить и писать на пятнадцати языках. Эта больная страсть к изучению языков мучит меня днем и ночью и постоянно заклинает меня изъять мое состояние из переменчивого мира торговли и удалиться либо в деревню, либо в какой-нибудь университетский город (например, в Бонн), окружить себя учеными и без остатка посвятить жизнь наукам; однако эта страсть вот уже несколько лет не может победить две других во мне: жадность и стяжательство. И, к сожалению, в этой неравной борьбе последние две страсти-победительницы ежедневно увеличивают мое состояние».
В те времена Шлиман еще был далек от загадочных развалин гомеровской Трои. Вопреки его собственному утверждению о том, что герои Гомера поразили его воображение еще в детские годы, мифомания Шлимана сформировалась лишь намного позже, в 1868 году. Давайте вспомним: первая книга ставшего впоследствии таким знаменитым исследователя старины не коснулась ни Трои, ни ее героев, не коснулась она и самой Греции, а носила название «La Chine et le Japon au temps present» («Китай и Япония дня сегодняшнего»).
Однако все, что когда-либо захватывало Шлимана, не исключая и страсти ко всему античному, превратилось у него в конце концов в манию, в гротеск. Вероятно, свою роль здесь сыграл и его маленький рост. Этим объясняется и вырождение всех его проектов в гигантоманию: идеи его становились мировоззрением, жизнь — героическим эпосом, фирма — империей, поездки — кругосветным путешествием, богатство — роскошью, дом — дворцом.
ДОМ — ЗРЕЛИЩЕ, КАК И ВСЯ ЕГО ЖИЗНЬ
Дом этот, стоимостью, вероятно, около восьмисот девяноста тысяч франков тоже был зеркалом его характера. Его на Одос Панепистимоу возвел для Шлимана саксонский архитектор Эрнст Циллер; это был дворец «а-ля Голливуд» (чуточку "Ренессанса, чуточку от Помпей, кич и фантазия), но в любом случае зрелище это производило впечатление.
«Илиоу Мелатрон» — эта надпись сияла золотыми буквами между лоджиями второго и третьего этажей. Гомеровское словосочетание дословно означает «троянская мансарда». Шлиман переводил иначе: «Хижина Илиона». В газетных же статьях появлялось другое название — «Дворец Илиона». «Илиоу Мелатрон» был такой же блестящей инсценировкой, как и вся жизнь его хозяина. За помпезным фасадом, который мог затмить даже фронтон дворца греческого короля, скрывалось здание-концепция, своего рода философский символ — во всяком случае, о том, что дом этот предназначен для жилья, тот, кто задумывал его, помнил наверняка в последнюю очередь. Гость оказывался в своеобразном, расплывчатом, лишенном очертаний, фантастически гипертрофированном мире Генриха Шлимана, в кошмарном сне и мире чудес одновременно, где как в капле воды отразился противоречивый, двойственный характер этого человека.
Окруженный садами, уставленный статуями и украшенный фонтанами, «Илиоу Мелатрон» превращался в музей-дворец, в мемориал, который гораздо уместнее было бы назвать «Б память о Генрихе Шлимане». Над входом, расположенным на первом этаже, который своей колоннадой и нишами в стенах напоминал музей, величественно смотрелась копия обнаруженного в Трое метопа Гелиоса. Широкая бело-мраморная лестница вела на второй этаж, где располагались помещения для проведения светских мероприятий, среди них — бальный зал, вмещавший 300–400 человек, обеденный зал и многочисленные гостиные (в общей сложности двадцать пять помещений). Полы
и стены украшала мозаика в помпейском стиле. Между колоннами и пилястрами помещались миниатюрные скульптурные изображения самого археолога, и над каждой дверью и каждым проходом сияли начертанные крупными буквами гомеровские цитаты и изречения «Семи мудрецов»: «Познай себя», «Размышление есть все», «Превыше всего чувство меры», «Невежество обременяет», «Ничего не преувеличивать».
Как известно, Шлиман руководствовался этими сентенциями отнюдь не всегда. Он с самого начала заявил архитектору Эрнсту Циллеру, что деньги никакой роли не играют. На одну лишь роспись стен, которая была выполнена по иллюстрациям изданной в 1829 году в Берлине книги «Самые прекрасные орнаменты и замечательные картины Помпеи, Геркуланума и Стабии», ушло целое состояние. Живущий в Вене художник Юрий Субик занимался этим в течение целого года. Сам владелец дома вдоль и поперек исколесил всю Европу в поисках мебели в стиле классицизма. Частично мебель была изготовлена и по проектам самого Шлимана, в особенности стулья.
В «Илиоу Мелатрон» были стулья, на которых сидеть мог один лишь хозяин. И никто из гостей не понимал почему. Между тем, ответ был очень прост: у стульев этих были такие же короткие ножки, как и нижние конечности самого Шлимана.
И вообще, все стулья в этом доме годились для чего угодно, только не для того, чтобы сидеть на них: они радовали глаз, по были неудобными. Аскет Шлиман ненавидел удобные стулья и кресла, он предпочитал стоять. Все книги и письма он писал стоя у бюро в своих рабочих кабинетах, находившихся вместе с библиотекой на третьем этаже — над бальным залом. С Софьей, мнение которой при обустройстве дома в расчет не принималось, у них дело дошло до скандала, поскольку Генрих наотрез отказался поставить в доме удобное кресло с высокой спинкой. Даже сам архитектор Эрнст Циллер, которому ранее не приходилось возводить такие дорогостоящие дворцы,
признавался, что дом этот, несмотря на всю его роскошь, обречен оставаться холодным и неуютным. Хотя здесь и имелся бальный зал с более чем сотней позолоченных кресел, в нем нельзя было найти ни одного уютного уголка. Кстати сказать, ни одного бала в «Илиоу Мелатрон» так и не состоялось.
Позаботились и о том, чтобы достойно обставить и помпезный будуар, однако он никак не подходил Софье, а всего лишь отвечал шлимановской концепции этого помещения. Ветряк, установленный в саду, подавал воду в расположенную на третьем этаже ванную комнату, и, как и следовало ожидать, у Шлиманов было заведено принимать лишь холодные ванны. Одно слово «гигиена» приводило Генриха в истинный восторг. И если он не вещал о Гомере или не распространялся на какие-нибудь древнеисторические темы, то пел дифирамбы гигиене.
Гостей своих Шлиман предпочитал принимать в библиотеке. Именно это помещение было самым уютным в доме, от него, казалось, исходило тепло. Стены его были выдержаны в красных, характерных для Помпей тонах. У трех стен до половины их высоты располагались книжные полки, у четвертой — мраморный камин, на нем стоял бюст Гомера, который ежедневно украшали свежей оливковой ветвью. Над камином висел большой фотографический портрет Софьи Шлиман в греческой народной одежде и с троянской диадемой. Рядом с портретом можно было увидеть дипломы археологических обществ и академий. В центре помещения стояли три стола, две витрины с коллекцией греческих монет и обычный стол с газетами и журналами. Книжное собрание Шлимана ограничивалось, в основном, тематикой античной классики. Кроме того, археолог ценил Бульвера, Диккенса, Гюго, Расина, Гете, Шиллера, Лейбница
и Канта.
У Шлимана было два рабочих кабинета: один зимний, другой летний. Окна кабинета, где он работал в холодное время года, выходили на юг, окна второго кабинета — на восток. Над входом в этот кабинет были написаны слова Пифагора; «Кто не изучил геометрию, тот пусть остается за дверями 1»
В газетном очерке 1884 года один из американских гостей описывал, как ему удалось-таки попасть в кабинет Шлимана: «В то время, пока мы сидели (в библиотеке) у стола и просматривали Последние выпуски английских газет, подали кофе. В этот же момент открылась дверь зимнего кабинета. Вошел доктор с пером в руке и стал говорить с нами о запасах продовольствия, которые он намеревался отослать в Трою для очередного сезона раскопок. После этого доктор Шлиман пригласил нас в свой кабинет.
Здесь стояло несколько письменных столов, в центре высилось бюро, поскольку доктор привык работать стоя. У стен были расставлены шкафы с древностями, над ними висели наиболее значительные из дипломов, присужденных доктору. Он показал нам несколько писем: одно от Гладстона, другое от кайзера Вильгельма, а третье от одного купца (предположительно из Ла-Гуайры), который когда-то — в молодые годы — назначил Шлиману жалованье сорок пять фунтов в год. Письмо это пострадало при кораблекрушении, и морская вода окрасила его в лимонно-желтый цвет, но Шлиман заботливо хранит его и с гордостью показывает каждому из своих гостей в качестве примера того, откуда началась его карьера. Здесь же он хранит и фотографии, сделанные еще на его родине…»
ДРЕССИРОВАННАЯ СОБАЧКА СОФЬЯ
«Илиоу Мелатроп» никогда не нравился Софье Шлиман. Она не переставала тосковать по дому своих родителей, хоть и скромно обставленному, но уютному: «У меня нет даже удобного дивана, на котором я могла бы отдохнуть», — жаловалась Софья матери. После этого госпожа Энгастроме-пос приобрела Софье диван. Шлиман пришел в ужас по поводу столь «бесполезного предмета мебели». Когда Софья, чтобы задобрить супруга, подарила ему кресло, он тут же распорядился поставить его куда-нибудь подальше — с глаз долой.
Любая другая женщина использовала бы такое своевольное, часто доходившее до бесстыдства поведение своего мужа как предлог для того чтобы расстаться с ним навеки. Но Софья терпеливо сносила все его эскалады. Она была приучена терпеть; к тому же она ведь любила Генриха. "Прежде всего, она была влюблена в его гениальность. Лишь гениям, — часто повторяла она, — дозволя
ется подобное поведение». И она терпела его оскорбления и унижения, его скаредность, равно как и его внезапные приступы расточительства.
Мультимиллионер Генрих Шлиман, у которо
го было свыше пятидесяти сшитых в Лондоне костюмов, столько же пар обуви, двадцать шляп и три десятка тростей, требовал от своей жены, чтобы
та вела расходную книгу. Все траты раз в неделю контролировались. Рыская по Европе в поисках роскошных люстр и других предметов обстанов
ки для нового дома, он допустил, чтобы Софья с неприлично малой суммой денег оставалась в Париже. Она была в то время беременна и едва сдерживала ярость. Однажды она даже заявила, что плюнет этому Шлиману в лицо, как только увидит его, однако дальше слов дело не пошло. Стоило Шлиману оказаться перед ней, как она тут же становилась мягкой словно воск, желание возражать исчезало и она повиновалась ему, как дрессированная собачка. Дело доходило до из ряда вон выходящих сцен: если она, случалось, отвергала какое-то из вин, которое приходилось по вкусу Генриху, тот специально клал под ее бокал золотую монету, и если она все же выпивала вино, то имела право оставить эту монету у себя.
Стоило им расстаться даже на два дня, как оба тут же начинали забрасывать друг друга страстными любовными посланиями. Из них сохранились лишь немногие: Софья не желала, чтобы они были опубликованы.
Генрих — Софье: «Целых четыре дня от тебя нет никаких вестей. Даже по отношению к своему злейшему врагу так не поступают!»
Софья — Генриху: «Душа моя, что же это за жизнь! Все время мы в разлуке! Тебе не кажется, как было бы прекрасно, если бы ты всегда был рядом с твоей бедной женой, которая боготворит тебя и которой супружеская жизнь знакома лишь по сновидениям?»
Но, возвратившись в «Илийоу Мелатрон», он продолжал свой психический террор, требовал от Софьи соблюдения определенной манеры речи, запрещал ей употреблять такие, по его мнению, неточные слова, как «возможно», «примерно» или «почти». Шлиман каждый день ошарашивал свою супругу очередным, вновь изобретенным требованием, новой манией, новым запретом или новой привычкой, которые отметали напрочь все предыдущие.
Дух захватывало от темпа жизни этого эксцентричного человека. Ежедневно он — как бы между прочим — писал по двадцать писем. Цезарь, во многом служивший для него примером, был знаменит тем, что мог одновременно делать несколько дел. И каждый, кто впервые встречался со Шлиманом, поражался тому, как ретивый Генрих старался не отстать от знаменитого римлянина. Во время еды, которой, к великому сожалению его супруги, Генрих уделял поразительно мало внимания, он занимался просмотром корреспонденции, принимал журналистов, декламировал на древнегреческом отрывки из собственной биографии
или же цитировал «Илиаду». Бывали дни, когда его застольные выступления длились по три часа.
Грекомания Шлимана временами превосходила воображение. Те анекдоты, которые в изоби
лии посвящали ему сатирические издания и главной темой которых были Троя и одержимость археолога ею, оказывались не такими уж и далеки
ми от истины. Шлиман, например, брал под свое покровительство многих детой из Мекленбурга при условии, что сможет дать им новые имена из «Или
ады» или «Одиссеи». И Навсикая Майер, внучка его бывшего хозяина Теодора Хюкиптедта из Фюрстенберга, получала ежегодное вспомоществова
ние в размере ста марок.
Прямо-таки с миссионерским рвением раздавал Шлиман направо и налево гомеровские имена. Его дочь, которая родилась в 1871 году, получила имя Андромаха. 16 марта 1878 года в Париже появился на свет Агамемнон. Почему Генрих при этом игнорировал древненемецкие имена, остается загадкой. В конце концов это пристрастие привело к тому, что любой человек из ближайшего окружения Шлимана подвергался его диктату в выборе имен. Привратник, который всю жизнь был Деметриосом, получил от Шлимана имя Беллерофон, садовник вынужден был стать Приамом, а двух девушек, ухаживавших за детьми, нарекли Поликсеной и Данаей.
И насколько серьезно он относился к этому, показывает его письмо, написанное в 1879 году другу Вирхову. Супружеская чета находилась на лечении в курортном местечке Бад-Киссинген. Гекаба, немка-няня и компаньонка Шлиманов, только что отказалась от места, и Шлиман просил Вирхова, чтобы он кого-нибудь присоветовал взамен «фройляйн Гекабы». Меллиен, дочь одного из Вирхов предложил Марию берлинских адвокатов.
Явно обрадованный, Шлиман тотчас ответил ему:
«Фройляйн Меллиен, судя по данному вами описанию ее внешности, способностей и талантов, вполне бы нам подошла, и мы готовы назначить ей жалованье в размере тысячи пятисот марок и взять на себя ее дорожные расходы. Единственное, на чем мы настаиваем, следующее:
1) она обязуется оставаться у нас в течение двух лет, если только не пожелает выйти замуж — в этом случае она в любое время может уйти от нас;
2) она все время, пока будет находиться у нас, станет носить другое имя; если ей не подойдет имя Гекаба, то она может быть Клитемнестрой, Лаоди-кой, Бризеис, Навсикаей, Тиро, Гиппкастой или же зваться любым другим гомеровским именем, но только не Марией, поскольку мы все же живем в греческом мире…»
ШЛИМАН И ДЕНЬГИ
И в том, что касается отношения Шлимана к деньгам, он переходит все разумные человеческие пределы. С одной стороны, он до конца жизни оставался мелочным, даже скупым человеком — по сути своей, мелким лавочником, которым стал по окончании реальной школы в Фюрстенберге. И в то же время он выбрасывал деньги на ветер. Его афипское обиталище «Илиоу Мелатрон» проглотило столько денег, что на них вполне можно было бы застроить домами целую улицу. Вот как выразился по этому поводу сам Шлиман: «Всю свою жизнь я вынужден был ютиться в маленьком домишке, а оставшиеся годы желаю провести в большом».
Когда Генрих Шлиман появлялся в Париже, чтобы проверить ход своих дел, проконтролировать поступления денег за наем принадлежавших ему двухсот семидесяти квартир на депозиты парижских банков, он имел обыкновение останавливаться в «Гранд-отеле» на бульваре Капуцинов, одном из самых роскошных и престижных. Если же Софья без него отправлялась куда-нибудь, что вообще-то происходило нечасто, то он резервировал для нее комнаты лишь в среднего класса гостиницах и всегда требовал, чтобы ему предъявлялся счет за проживание. Более того, у него хватало совести требовать от Софьи, чтобы она отказывалась от слишком дорогих, по его мнению, завтраков в отелях и отправлялась поесть по утрам в какое-нибудь из близлежащих кафе.
И сам Шлиман явно находился в состоянии перманентной войны, которую он вел против всех без исключения отелей и ресторанов. Не было, наверное, в мире такого ресторана, который показался бы Шлиману дешевым. И хотя для себя он всегда выбирал апартаменты пороскошнее, тем не менее, не гнушался и тем, чтобы время от времени переночевать в самой дешевой каморке где-нибудь в мансарде, где, по традиции, обитала гостиничная прислуга.
Будучи на раскопках в Тиринфе, шестидесятичетырехлетний миллионер предпочитал ходить в кофейню «Агамемнон», поскольку чашечку черного кофе там «до сих пор отпускали по старой цене в десять лепт, или восемь пфеннигов», тогда как «остальные ужасно подняли цены». Вопреки обыкновению во время раскопок жить не в гостиницах, а в частных домах и скудно обставленных комнатенках, в период тиринфской экспедиции Шлиман жил в «Гранд-отель д'Этранжерс» в На-вплии. И то лишь потому, что владелец отеля предложил ему особый тариф: шесть комнат за шесть франков в сутки, причем при условии, что Шлиман будет приносить свою еду (и тот даже ужинал у себя в номере). Кухня отеля предлагала своим гостям овощи, сыр, рыбу, баранину, а Шлиман относил к повару собственные банки с консервированной чикагской тушенкой, мясной экстракт Либиха и бутылки с вином, которое он приобретал у лондонской фирмы «Шредер и К°», естественно, по себестоимости.
Еда для Шлимана значила мало. Она служила ему, главным образом, для насыщения. Его происхождение и странствия приучили его к неприхотливости в еде. Лишь позднее, уже к концу 70-х годов и только в Англии, он понял, что такое настоящий званый ужин. А до этих пор Шлимана вполне устраивала непритязательная домашняя пища его родины — Мекленбурга: оладьи на сале, свиные уши с горохом, суп, представлявший собой одновременно и первое и второе блюдо, и тому подобное. Один из отдыхавших на курорте Варне-мюнде вспоминал в 1891 году в статье, появившейся в газете «Мекленбургер-Штрелитцер Ландесцай-тунг», что Шлиман во время отдыха на этом морском курорте тщетно пытался заинтересовать свою супругу собственными кулинарными пристрастиями. Эта затея кончилась провалом, равно как и попытка посвятить Софью в премудрости нижненемецкого диалекта.
Даже на его претенциозных ужинах, куда приглашалась дипломаты и профессора со всего мира и сам король Греции Георг I, меню оставалось очень скромным; в этом было даже что-то весьма чужеродное для культурного человека, европейца. Один из гостей вспоминал: «Что касалось кулинарии, блюда, скорее, были выдержаны во вкусе обитателей древней Трои, нежели предназначены для желудков современных людей». Гораздо важнее еды для археолога, который вовсю дымил сигарами и сигаретами, был регулярный прием хинина.
Письма и документы Шлимана не оставляют сомнений в том, что Генрих, скорее, был прирожденным купцом, нежели археологом. Еще в молодые годы он проявил себя мелочным скрягой, трясущимся из-за каждого гроша, и остался таким до конца дней своих. Сестрам Дорис и Вильгельмине он в начале 1842 года сообщал в письме о том, как распорядился наследством, доставшимся ему от матери, от которого после вычета всех долгов осталось двадцать девять рейхсталеров.
Квартирная плата — 5 рейхсталеров
Занятия бухгалтерией
и английским — 20
К этому же две книги — 4
Стоимость бумаги
для занятий и т. д. — 10
Водные процедуры
у д-ра Т. Ф. Фика — 11
Нос. платки — 10
Счет портного — 13
Счет сапожника — 6
Долг портному, когда
я еще был у Отто — 9,32
Всего-: 88,32 рейхсталера
Эта педантичность, разумеется, объяснялась нищетой в молодости, однако и с возрастом ему не удалось избавиться от нее. Тратя на раскопках в Трое по четыреста франков в день, он подводил финансовые итоги строительства домика для себя на гиссарлыкском холме: «Все вместе стоит, включая, водонепроницаемую крышу из войлока, тысячу франков, поскольку дерево здесь очень дешево и можно купить доску в три метра длиной, двадцать пять сантиметров шириной и в один дюйм толщиной всего лишь за два пиастра, или же сорок сантимов». До сих пор создавалось впечатление, что перечисление расходов по скрупулезности даже превосходило описание самих раскопок.
Переписка с его издателями Эдуардом и Арнольдом Брокгаузами за восемнадцать лет насчитывала не менее девятисот писем, из них сто восемьдесят были написаны только за один 1880 год. Но в них речь шла не столько о содержательной стороне его книг, сколько об отчетах, тиражах, расходах на них и их сбыте. За право печатать произведение Шлимана, которое открыло для археологии новый мир, издатель Брокгауз должен был найти квалифицированного переводчика для перевода книги на английский и французский языки, однако только «за очень низкую оплату». А две тысячи экземпляров своей книги о Трое Шлиман обязывался распродать «в мгновение ока».
Из этих писем становится ясно, что Генрих не брезговал и тем, что подкупал газетных рецензентов: «Но есть и другие, рецензии которых в значительной степени облегчают продажу, но я ведь и плачу им значительные суммы». С другой стороны, Шлиман мог неделями вести нудную переписку из-за каких-нибудь пары марок прибавки к гонорару, который не превышал и ста марок.
РАСТОЧИТЕЛЬ И БЛАГОДЕТЕЛЬ
Поскольку это «благотворно влияло на дух и тело», Шлиман в 1886 году предпринимает трехмесячную поездку по Египту, куда отправляется без жены, в сопровождении лишь своего слуги Пелопа. Софья не могла отважиться оставить детей одних. В Каире путешественник нанял корабль вместе с командой, заплатив в общей сложности девять тысяч марок. В то время за такие деньги можно было купить дом. Эти чрезвычайно высокие расходы Шлиман прокомментировал следующей фразой: «Тешу себя мыслью, что если я, как предполагаю, раскопаю что-нибудь на Крите, то это окупится троекратно».
Шлиман сам говорил, что ему всегда помогало скорее везение, нежели рассудок, и самая, видимо, большая в жизни глупость, когда он бросил место в Петербурге и отправился в Калифорнию, закончилась самой большой удачей. По этой причине у него постепенно развилось чувство своего рода покорности провидению — чувство, которое, в общем, было чуждым ему и которое заставляло его жертвовать отнюдь не пустяковые суммы на благотворительные цели, прежде всего — во благо своей мекленбургской родины, где его школьный товарищ Вильгельм Руст, банкир и коммерсант, нередко выступал в роли нарочного для передачи денег.
Немалую досаду вызывали и просьбы о предоставлении денег, которые Шлиман получал в избытке после того, как его репутация богача — причем не без его участия — стала общепризнанным фактом. К нему обращались его однокашники и те, с кем он играл в детстве, те, которых Шлиман уже не мог вспомнить, самые дальние из дальних родственники, оказавшиеся в беде. Многим Шлиман отказывал, как, например, мельничихе Луизе Плесе, обратившейся к нему в 1859 году. Эта решительная особа с мельницы Узерина, что у Нойштрелица, мать четверых детей, решила испросить у него триста талеров: сто — на то, чтобы ее уехавший в Америку муж Вильгельм смог устроиться там, и еще двести на то, чтобы «добраться с детьми до Америки»: «Для нас очень неловко обращаться к вам, вы и сами это сможете почувствовать, но нам не раз приходилось слышать о том, какое чуткое и отзывчивое у вас сердце». Шлиман и Плесе могли знать другу друга по школе в Нойштрелице, но это все же не могло воодушевить Генриха на то, чтобы послать деньги.
Другие же — такие, как поденщик Фридрих Зурвайер, бедный портной и могильщик Фриц Веллерт или же учитель Карл Андрес, которому Шлиман обязан своим знанием латыни, — получали от него пожизненную финансовую поддержку. В 1862 году Андрес написал ему письмо-просьбу на латыни. Он был уже на грани голодной смерти и представлял себе то высшее общество, в котором теперь вращался его бывший ученик в Санкт-Петербурге. «Вспомните, пожалуйста, — писал он Шлиману, — если вы находитесь в таком обществе, о своем старом учителе, который в нужде своей находит силы задуматься о словах Вергилия: "Не чурайся беды, а смело встреть ее”. Те люди в правительстве, которые облечены ответственностью, пообещали мне, что у меня скоро дела пойдут лучше, но все медлят и тянут с моим делом, а мне только и остается, что повторять: "Лучше меньше, да сразу"».
В апреле того же года портной Фриц Веллерт уже отправил своему благодетелю письмо с благодарностью, так как тот «вытащил его из нищеты». Без его помощи Веллерт не смог бы устроить для своей второй дочери обряд конфирмации, что в мекленбургской деревушке было равносильно позору: «Вы нас из такой нужды вытащили… Времена здесь очень тяжелые, так что я все, что зарабатываю, трачу на жизнь, а у меня жена и дети».
Братьев и сестер, прежде всего любимую сестру Дорис, Генрих всегда щедро одаривал. За четыре тысячи рейхсталеров, чего было достаточно для приобретения солидного земельного. участка, Дорис благодарила его словами: «Горячее, искренне спасибо Богу и тебе, мой дорогой Генрих! Сердце мое подсказывает мне слова: "Пусть Бог ниспошлет тебе богатство, чтобы ты оставался опорой для твоих близких". Ведь Бог наградил тебя любящим сердцем, а это такое счастье, мой дорогой Генрих, — сознавать, что близкие твои благодаря твоему усердию и труду избавлены от забот!»
Шлиман оказался благодетелем и для своего племянника Адольфа (который был на пять лет старше самого Шлимана) и предоставил ему сумму, которую тот просил у него. Влиятельный советник юстиции был по натуре своей игрок и в 1869 году проиграл в карты столько, что уплата этого долга неизбежно разрушила бы финансовое благополучие его семьи. Генрих помог этому горе-игроку, своему племяннику, однако лишь при условии, что отныне тот не прикоснется к картам.
Шлиман вообще любил предоставлять деньги на определенных условиях. Это давало ему чувство морального превосходства. Племянник Адольф не должен был притрагиваться к картам, отцу его следовало соблюдать чистоту и порядок, портному Воллерту не дозволялось пить ни капли, а сестре Дорис нужно было откладывать на черный день. Все, кому он давал деньги, обязаны были быть — как и он сам — экономными во всем, не иметь вредных привычек, избавиться от дьявола, азартных игр и пьянства.
При этом Шлиман сознательно не замечал негативных черт своего характера. Но кто бы отважился высказать это в лицо такому богачу, обязанному своим богатством лишь самому себе! Его первой жене Екатерине это обошлось дорого. После нее существовал лишь один человек, который действительно высказал Шлиману в глаза все, что думал о нем. Это был банкир Джон Генри Шредер. Он писал тогда еще двадцатипятилетнему Шлиману, работавшему на него в Гамбурге:
«Вы совершенно лишены знания о людях и мире, только и можете, что болтать без умолку и слишком много обещать, вы вечно гоняетесь за какими-то призраками и ловите их в мире своих фантазий, а в действительности — никогда. Если вы считаете, что добились своей цели, то это не дает вам основания стать грубым и высокомерным по отношению к своим друзьям, которые думают о вашем же благе, к тем, кто проявляет к вам истинный интерес и способен высказать вам правду в глаза, причем для вашего же блага. Вместо того чтобы быть им за это благодарным, вы начинаете чваниться и грубить… Потрудитесь стать практичным человеком и выработать в себе приятные, скромные манеры общения и не забивайте себе голову замками на песке и т. д. и т. п., а принимайте мир и людей такими, какие они есть».
При критическом рассмотрении, Шлиман не воспользовался ни одним из этих полезных советов Шредера, и, как кажется, именно это и есть тайна его успеха.
ХII. МИКЕНЫ. ЗОЛОТАЯ МАСКА АГАМЕМНОНА
Три для меня наипаче любезны ахейские града:
Аргос, холмистая Спарта и град многолюдный Микена.
Их истреби ты, тогда для тебя ненавистными будут;
Я не вступаюсь за них и отнюдь на тебя не враждую. Сколько бы в гневе моем ни противилась их истребленью, Я не успела б и гневная: ты на Олимпе сильнейший.
Богиня Гера — своему супругу Зевсу («Илиада», песнь IV).
7 августа 1876 года: «Начал большое дело с семьюдесятью шестью рабочими, которых поделил на три группы: двенадцать человек я поставил на Львиные ворота, чтобы освободить вход в акрополь, сорока трем человекам велел в 40 футах от ворот разбить раскоп 113 на 113 футов, оставшихся восемь человек я поставил на южной стороне расположенного вблизи Львиных ворот дома, где хранились сокровища, чтобы прорыть траншею и обнаружить вход…»
Микены были последним решительным шагом в жизни археолога Генриха Шлимана. Микены? Но — именем Зевса! — почему именно этот город? Что искал человек, раскопавший Трою, в Микенах?
В отличие от Трои, которая еще в глубокой древности считалась пропавшей на века, а ее поисками занимались многочисленные странники', завоеватели и искатели приключений, Микены никогда не переставали существовать. Пусть от них сохранились лишь руины, но циклопическая степа этого легендарного города во все времена восхищала людей. Во «Всеобщей истории» Диогена Сикулуса, современника Юлия Цезаря, мы читаем: «Город этот, когда-то наделенный властью и богатством, который подарил миру стольких знаменитых людей и которому суждено было пережить так много, был… разрушен и остался до нынешних времен безлюдным».
Двумя столетия позже грек Павсаний родом из Малой Азии, подробные описания которого можно назвать своеобразным бедекером древности, уделил Микенам гораздо больше внимания. В своем «Описании Эллады» (II, 16: 5–6) он сообщает:
«Микены были разрушены ахейцами из зависти. Поскольку ахейцы не приняли участия в персидском походе, Микенцы послали в Фермопилы восемьдесят человек, которые вместе со спартанцами участвовали в сражениях. И их героизм пошел им во вред, поскольку вызвал зависть ахейцев. Однако, несмотря ни на что, ворота сохранились до сих пор и, что еще важнее, уцелела и стена. Над воротами стоят львы; стена эта — явно дело рук циклопов, построивших и стену в Тирин-фе для Проита. В развалинах находится источник, называемый Персея, и подземный дом Атрея и его сыновей, где они хранили свои сокровища. Здесь же погребен и Атрей, и те, кто вернулся с Агамемноном из Трои, кого принимал у себя и убил Эгист…»
Эти несколько строк подействовали на Шлимана подобно электрическому разряду. Если Павсаний видел могилы отца Агамемнона, Атрея, и других воинов, участвовавших в троянской битве, то это доказывало, что Троянская война действительно имела место и что были и герои этой войны. Но как Шлиман мог подтвердить свидетельство Павсания? Существовал лишь один путь: он должен был найти в Микенах дворец царя Агамемнона или же какую-нибудь из упомянутых могил. Тогда у него будут неопровержимые доказательства, что эпос Гомера не фантастика, а исторический источник.
Еще во время первой поездки в Грецию, в 1868 году, Шлиман носился с мыслью проверить здесь, в Микенах, свою троянскую теорию. Во время раскопок в Малой Азии он даже пытался получить от греческих властей соответствующее разрешение на проведение раскопок на Пелопоннесе. Но сокрытие троянских сокровищ и, как результат, негативное отношение к нему Греческого археологического общества сильно уменьшили его шансы. Шлиман должен был после того, как уладил конфликт с турецкими властями, заниматься выбиванием новой лицензии для Трои.
Еще за два года до этого афинская бюрократия достаточно потрепала Шлиману нервы (это было в 1874 году). Тогда он вместе с Софьей отправился в Микены, за одну ночь нанял с десяток рабочих и заставил их заложить в юго-восточной части акрополя тридцать четыре шурфа глубиной до пяти с половиной метров. Эти шестидневные пиратские раскопки — а другими их не назовешь, потому как никаких лицензий на них Шлиман не получал, — были прерваны представителями полиции, действовавшими по распоряжению министра общественного порядка. Найденное в результате этих раскопок (речь шла, в основном, о черенках глиняной посуды и стеле, лишенной всяких украшений), было весьма скромным трофеем. Однако акция эта возымела неожиданный эффект:
она доказала властям, что в Микенах действитель
но нечего было искать.
Не похоже, чтобы Шлиман сознательно поступил так, по тем не менее остается загадкой, почему в общем-то уже достаточно опытный исследователь решает копать именно на юго-восточной стороне. И все же это решение упрямца, не принесшее успеха, способствовало тому, что Шлиман двумя месяцами позже сумел добыть лицензию. «Раскопки акрополя в Микенах разрешены господину Шлиману. Точно так же он получает право первым обнародовать результаты раскопок. О раскопках могилы Атрея правительство оставляет за собой право принять решение позже. Наблюдение за раскопками препоручается одному из служащих (эфору). С ним господин Шлиман улаживает все вопросы относительно начала работ, числа рабочих и так далее».
Прошло еще два года, прежде чем Шлиман мог начать эти раскопки. Сокровища Приама и размещение их в европейском музее отняло у Шлимана очень много времени. После великодушного поступка Шлимана турецкое правительство заявило, что будет поддерживать дальнейшие раскопки в Трое. Даже Великий визирь Махмуд Медим-паша лично обещал содействие Шлиману.
СМЕРТЕЛЬНЫЙ БРАГ СТАМАТАКИС
Но по известным причинам исследователь предпочел заняться осуществлением именно микенского проекта, несмотря на то, что условия были почти неприемлемыми: так, например, Шлиману не позволялось использовать более пятидесяти рабочих одновременно.
Присматривать за ним должен был назначенный министром культуры Георгиосом Милессесом эфор Панагиотис Стаматакис, рекомендованный Греческим археологическим обществом.
Шлиман возненавидел Стаматакиса с первого взгляда. Иметь рядом надсмотрщика, который будет следить за каждым твоим шагом с утра до ночи, — это приводило Шлимана в бешенство. Отношения между ними были крайне напряженными, поскольку Шлиман не придерживался условий подписанного договора. Уже в первый день он нанял вместо пятидесяти разрешенных рабочих шестьдесят трех, две недели спустя раскопки в Микенах ведут уже сто двадцать пять мужчин, нанятых в деревнях Кутсподи, фихтия и Харвати. Кроме того, Шлиман появился на месте раскопок вместе с женой, и Софья — как этого хотел всегда ее муж — была вторым самостоятельным руководителем работ. Но самой важной была все же ее роль посредника между чересчур тактичным греком и неугомонным американцем.
Генрих и Софья сняли в ближайшей деревне Харвати дом и наняли лошадь. За дом, лошадь и фураж Шлиман заплатил сто шестьдесят две драхмы вперед. Рабочие получали две с половиной, а погонщики ослов — восемь драхм. Работы начинались утром — в шесть — и продолжались часто до девяти часов вечера. Но для Шлимана день и тогда еще не заканчивался. Часто они спорили со Стаматакисом из-за разных мелочей до двух часов ночи. Но это была та жизнь, которую и любил Шлиман: раскопки, приключения и Софья рядом с ним; Спал он мало, не больше четырех-шести часов.
В то время как Софья в черном костюме и широкополой шляпе начала свои первые раскопки примерно в ста метрах западнее Львиных ворот, чтобы расчистить засыпанный вход в гробницу Клитемнестры, Шлиман был занят другими делами. Для него важнее всего было найти гробницу Агамемнона и место погребения его свиты. Он хотел доказать, что предводитель ахейского войска не был выдумкой Гомера. И к этому делу археолог подошел столь же необычно, как и пять лет назад к поискам Трои.
О Микенах и богатстве легендарных ахейских царей ходило не меньше легенд, чем о гомеровской Трое. И в первую очередь разного рода слухи ходили вокруг огромных гробниц разрушенного города, которые опустели еще в античный период. Павсаний описывал их как «подземные сооружения, в которых хранились сокровища». Это было ошибочное предположение, как выяснилось позже, но Шлиман верил Павсанию: «Доказательством того, что подземные сооружения служили сокровищницами, являлось то, что Микены и Ор-хомен были единственными городами Греции, обладавшими такими сокровищами, и также единственными городами, которые Гомер характеризует эпитетом "златообильные"».
Жители близлежащих деревень называли «гробницей Агамемнона» самое большое из подземных куполообразных сооружений. Шлиман отказывался этому верить. С одной стороны, он был убежден в существовании царской сокровищницы, а с другой — считал невозможным, чтобы именно Агамемнон приказал возвести это самое богатое и огромное подземное сооружение.
«Сохранившееся строение, — пишет Шлиман в своем отчете, — было сокровищницей, и она, по всей видимости, отличалась необычайной красотой. Вход в нее украшен, а внутреннее помещение отделано металлическими пластинками. Она могла принадлежать только самому Атрею, богатейшему и могущественнейшему правителю "золотых" Микен, а даже не кому-нибудь из его сыновей. Агамемнон бесцельно растратил богатство Атрея во время похода в Малую Азию, большую часть своего правления провел за пределами своего царства и вернулся домой без денег и власти, так что после его смерти Микены не были больше вторым по значимости городом в Аргосе. При таких обстоятельствах маловероятным является то, что "гробница Агамемнона" была такой роскошной».
СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В МИКЕНАХ
Шлиман верил Гомеру, и поэтому имел все основания считать, что у Агамемнона не могло бытъ самой богатой из микенских гробниц. Агамемнон, сын Атрея из рода Танталов, был женат на Клитемнестре, дочери спартанского царя. От их брака родилось трое детей: Ифигения, Электра и Орест. В то время как Агамемнон годами находился в Трое, Клитемнестра развлекалась с пылким любовником по имени Эгист. Но и Агамемнон тоже не скучал. После завоевания Трои он взял к себе дочь Приама, Кассандру, сначала как рабыню, но затем она стала его возлюбленной и он привез ее домой, в Микены. Там ждали Клитемнестра и Эгист. Они коварно убили Агамемнона и Кассандру. И то, что они после этого построили для убитого великолепную гробницу, кажется неправдоподобным.
О гробнице Кассандры Павсаний не говорит ничего конкретного. Он пишет о своих исследованиях в Микенах: «Клитемнестра и Эгист были похоронены немного поодаль от крепости; в пределах ее это сделать было невозможно: там лежали Агамемнон и те, кого убили вместе с ним».
Повинуясь инстинкту археолога, который еще в Трое вывел его на верный путь, Шлиман начал раскопки внутри крепостной стены — южнее Львиных ворот. Он обосновал свое решение тем. что Павсаний, упоминая стену, имел в виду не крепостную стену города, а вал, окружавший его верхнюю часть. Таким образом, Шлиман снова выступил против ученых, считавших, что Агамемнон должен быть похоронен где-нибудь в нижней части города, а Клитемнестра и Эгист — за городской стеной. Шлиман доверял Павсанию больше, чем профессорам: «О том, что Павсаний имел в виду именно стену крепости, свидетельствует его указание на то, что Львиные ворота являются ее составной частью».
Этот маленький намек, казалось, до сих пор упускали из вида многие исследователи. На расстоянии десяти метров от Львиных ворот Шлиман начал раскопки. Недалеко от негр с малой группой работала Софья.
— Земля твердая как камень! — жаловалась она вечером того же дня. — Может пройти полгода, пока мы расчистим доступ в сокровищницу.
Генрих махнул рукой. У него дела шли не лучше. Его лопата сразу же наткнулась на утрамбованный каменистый грунт. Да еще эта невыносимая летняя жара!.. Работа продвигалась очень медленно.
— Теперь я, наконец, знаю, через что ты прошел в Трое, — сказала Софья, прихлопнув несколько мух, огромное количество которых населяло их дом в Харвати.
— Проклятье! — выругался Шлиман. — Хотя, в общем, все не так уж плохо, как это было в долине Трои, — добавил он, затем насыпал из баночки в стакан немного хинина и долил воды. — Вот это, — он поднял стакан, — лекарство от многих болезней. Выпей!
Софья залпом выпила все до дна.
— Как ты справляешься со своими восемью рабочими? — поинтересовался Шлиман.
— Это не так просто, — ответила Софья. — Они с большой неохотой позволяют женщине командовать собой.
— Я знаю, — Шлиман стал серьезным. — Но кто не подчиняется, пусть убирается вон. При этом я не могу себе позволить уволить хотя бы одного человека — напротив, мне нужно еще больше людей.
— Но ведь это будет нарушением договора! — взволнованно воскликнула Софья.
— Конечно, — Генрих кивнул. — К тому же, мы будем работать по воскресеньям. Я плачу еще полдрахмы каждому. Кроме того, я попробую нанять новых рабочих.
В дверь постучали. Вошел Стаматакис. Шли-май закатил глаза, и Софья взяла мужа за руку, пытаясь успокоить.
Панагиотис Стаматакис был высоким и худым. Темный цвет лица и пышные усы придавали ему дерзкий вид, при этом самого Стаматакиса никак нельзя было назвать дерзким — напротив, он был крайне тактичным человеком. Грек принес с собой журнал раскопок, в который заносились записи обо всех проводимых работах, и прежде всего, конечно, о находках. Стаматакис приходил каждый вечер.
Не удостоив грека даже взглядом, Шлиман указал ему на деревянный ящик в углу комнаты;
— Пара медных монет (на одной стороне изображение головы Геры, на другой — колонны), пара глиняных черепков с рисунками в виде зигзага — это все. Могли бы и не приходить!
Стаматакис осмотрел каждую находку и занес их описание в журнал. Потом попрощался и ушел.
— Терпеть его не могу! — ругался вслед Шлиман.
«Я СТОЛКНУЛСЯ С СЕРЬЕЗНЫМИ ТРУДНОСТЯМИ»
Он пододвинул к себе лампу и начал писать в дневнике: «Я столкнулся с серьезными трудностями у Львиных ворот, и все из-за больших каменных блоков, которые преграждают вход. Их, очевидно, сбросили со стен на нападавших врагов, когда акрополь был захвачен в 468 году до н. э. аргивянами. Завал входа, скорее всего, произошел именно в это время, т. к. щебень, в котором лежат блоки, не является наслоением разных эпох, а, по видимому, постепенно вымывался из расположенных выше террас. При входе в ворота, сразу слева, я раскопал каморку, которая, без сомнения, служила доисторическому привратнику квартирой. Потолок ее сделан из огромной, толстой каменной плиты. Каморка не достигает и полутора метров в высоту и, вероятно, не совсем соответствовала бы вкусу нашего привратника, но в тот героический век о комфорте не имели никакого понятия, уж тем более рабы, а если о нем не знали, то и не замечали его отсутствия…»
Генрих отложил перо в сторону и забарабанил пальцами по деревянному столу.
Софья посмотрела на мужа:
— Ты недоволен сегодняшними раскопками?
— Недоволен? Нет, ни в коем случае! Сегодня мне стало ясно, что Микены после разрушения аргивянами были отстроены заново.
— Но разве Страбон и Павсаний не нашли здесь лишь руины? Разве они оба не утверждали, что Микены не были восстановлены после разрушения?
Генрих подошел к деревянному ящику с глиняными черепками.
— Тогда получается, что Страбон и Павсаний ошиблись. Хотя я и не могу точно определить по этим черепкам время нового заселения Микен, я предполагаю, что новые Микены были основаны в начале IV в. до н. э., поскольку нет культурных остатков классического периода, а все прежние находки относятся к македонскому периоду до II века. Но, собственно говоря, это как таковое меня не интересует.
— Я знаю, — ответила Софья, — ты думаешь только об Агамемноне. Я уверена, ты найдешь его гробницу.
Генрих погладил руку жены.
Утро следующего дня. Как только был расчищен слой щебня, относившегося к новым Микенам, были найдены фигурки зверей и предметы из бронзы, колеса и наконечники стрел из свинца и железа, а также жернова от ручной мельницы, обломок гребня и украшенный фрагмент кости с отверстием, который, как определил Шлиман, был обломком лиры. Напряжение возрастало.
Следующий день не принес особого успеха. Но во время раскопок в Трое Шлиман научился не отчаиваться, если после дней, щедрых на находки, удача изменяла ему. Шлиман подгонял людей, требовал больше работать, обещал увеличить дневной заработок на полдрахмы, нанял еще рабочих. В целом на раскопках их теперь трудилось уже больше ста.
Двумя днями позже: «На глубине 3–3,4 метра, иногда 2 метра, я обнаружил стены, построенные циклопами. Они выложены из необработанного камня без использования глины или цемента и находятся на глубине 20–24 футов (около 6,3–7,5 метра) на естественной скале». Это должны быть Микены Агамемнона!
Находки и остатки стен классического периода Греции не вызывали
у Шлимана особого интереса. Он искал Микены Гомера, которые к тому времени уже не существовали. Одну из таких стен он обрушил, что привело к конфликту с Панагиотисом Стаматакисом.
— Я запрещаю вам делать это! — возбужденно кричал тот. — Это нарушение всех предписаний. Вы снесли стену без моего разрешения!
Шлиман, карлик по сравнению с долговязым эфором, был вне себя от ярости:
— Но ведь это произошло на ваших глазах! Если вы потеряли бдительность, то вызовите второго эфора!
— Он не нужен! — возразил Стаматакис. — Если вы будете придерживаться договора, я со всем справлюсь один. Ведь, согласно договору, вы должны вести раскопки только с половиной занятых сейчас людей.
Шлиман дал рабочим знак прекратить раскопки.
— Я сыт по горло, — прорычал он, — я больше ничего не хочу! — и ушел с рабочими в Харвати.
Эфор не знал, как это понимать. Когда он на следующее утро прибыл на место раскопок, работы снова шли полным ходом. Шлимана не было. За раскопками наблюдала Софья. Подойдя ближе, Стаматакис убедился, что за это время разобрали еще одну стену классического периода.
— Стена! — растерянно пролепетал эфор. — Шлиман снова снес стену…
— Да, он снес и эту стену! — вызывающе бросила Софья. — Вы не имеете права упрекать моего мужа. Он, в отличие от вас, ученый. Эта стена относилась к римскому периоду и мешала дальнейшим раскопкам. Я хотела бы попросить вас в будущем оставлять при себе ваши замечания. Мой муж очень обидчив, и, если вы будете его злить, он прекратит работы.
Сверхкорректный инспектор не мог понять эту супружескую пару и, тем более, ее самоуправства. Стаматакис сообщал министру культуры Георгиосу Милессесу в Афины: «Вы должны знать, что он рушит все, что принадлежит Риму и Греции, чтобы очистить эллинские стены. Если мы находим римские или греческие вазы, он смотрит на них с отвращением, а черепки просто выбрасывает… Он обращается со мной так, словно я варвар… Если министерство мной недовольно, прошу отозвать меня, ибо здоровье не позволяет мне выполнять дальше мои обязанности. До девяти вечера я наблюдаю за раскопками, а потом еще должен до двух ночи сидеть со Шлиманом и регистрировать все находки,. Я позволил ему брать домой некоторые предметы, которые он хотел бы внимательнее изучить… За все эти уступки, которые мы сделали, Шлиман сказал бургомистру, что очень доволен нами».
БОРЬБА ЗА РАСКОПКИ
Министр послал телеграмму префекту Арголиды: тот не должен позволять сносить какие-либо стены — независимо от того, к какому периоду они относятся, — и в случае необходимости может прибегнуть к помощи полиции. Кроме того, министр дал приказ не следить столь скрупулезно за соблюдением договора, но количество рабочих требовалось ограничить, запрещалось также про-изводить раскопки в нескольких местах одновременно.
Префект Арголиды попросил помощи у местного
бургомистра. Вместе они направились на место раскопок, чтобы помирить Стаматакиса и Шлимана. «Но это невозможно, — сообщил префект министру. — Стаматакис и Шлиман долго кричали друг на друга.
И последний полон решимости прекратить работы, если не уберут этого эфора».
В телеграмме министр Милессес настоятельно просил археолога пойти на уступки и придерживаться договора. Но Шлиман отказался принять это к сведению. Он взялся за перо и написал Милессесу полное обиды письмо: «Господин министр, мы с женой переносим всякого рода лишения, причем я постоянно рискую своей жизнью, поскольку нахожусь весь день под палящим солнцем; я трачу здесь ежедневно четыреста франков из любви к науке и к Греции… чем привлекаю тысячи иностранцев. И поэтому подобная телеграмма недостойна Вас и недостойна того, чтобы быть прочитанной…
Я уже много несправедливостей претерпел в Греции! В то время как другие вывозили из страны предметы античности, я подарил ей бесценные сокровища Трои… Излишне говорить, что всю свою жизнь я всячески старался быть полезным Вашей стране».
То, что Генрих Шлиман не осуществил свою угрозу и не прекратил раскопки в Микенах, было заслугой Софьи. Молодой женщине, которая вызывала к себе уважение, решительно выступив на стороне мужа, удалось даже примирить на пару дней двух вечных спорщиков. Она добилась у министра Милоссеса некоторых уступок, касающих
ся места раскопок и числа рабочих, но все же неделю спустя произошёл конфликт.
Терпение Шлимана лопнуло. Вечером он составил следующий текст телеграммы: «Министру культуры Георгиосу Милессесу, Афины. Чиновник создает ужасные трудности. Прекращаю раскопки. Уезжаю с женой в Америку. Шлиман».
Решение это не было серьезным. Но, как сказал он жене, телеграмма сделает свое дело. Софья должна была отнести ее на почту.
Обычно Софья выполняла все его приказы. Но в этом случае она засомневалась. Если она правильно оценивает ситуацию, то министр примет отставку Шлимана. И тогда всему наступит конец…
Вместо того чтобы поехать на почту в Навплию, Софья отправилась в Афины. Телеграмму она порвала. Нужно было вторично переговорить с Милессесом. Мужу она телеграфировала; «Хочу проверить, все ли в порядке дома. Жди письма».
В это время в Микенах продолжались раскопки. Шлиман и Стаматакис не разговаривали друг с другом. Если что-то нужно было сообщить, они использовали в качестве посредника одного из смотрителей. В некоторых местах Шлиман углубился уже на десять метров, но нигде не было и следа гробницы Агамемнона. Неужели он ошибся?
Шлиману очень не хватало Софьи, не хватало ее подбадривающих слов, их бесконечных разговоров и ночных споров. Если бы не она, он давно бы уже от всего отказался. Вернувшись вечером в Харвати, он сел писать письмо Софье: «Моя любимая, я получил твое письмо и две твои телеграммы, из которых узнал, что ты делаешь все возможное, чтобы заменить нашего врага разумным человеком. И пусть Афина Паллада направляет твои стопы и увенчает твои старания успехом. Известие, что ты не приедешь, лишило меня последних сил, ведь я ждал тебя сегодня. Жду твоего возвращения в ближайшие восемь дней, так как работа здесь без тебя совсем не идет!»
ТАЙНА КАМЕННЫХ КОЛЕЦ
9 сентября 1876 года. После того как дальнейшие раскопки не принесли никакого результата, Шлиман начал копать в другом месте. При этом он наткнулся уже на малой глубине на расположенные в земле каменные плиты в форме колец. Внутреннее кольцо из плит было окружено внешним, которому археолог ранее не придавал никакого значения. Его диаметр составлял около тридцати метров. В промежутке между рядами камней лежал слой архаичных глиняных черепков, среди них — многочисленные обломки терракотовых статуэток Геры.
Шлиман не особенно радовался этой находке: он предполагал, что плиты в форме колец были фундаментом относящегося к царскому дворцу строения. Но Шлиман искал не дворец, а гробницу Агамемнона. Первоначальное разочарование, однако, быстро улетучилось, когда возле внутреннего кольца были найдены три могилы. Ни одна из надгробных стел площадью в один квадратный метр не имела надписи, что было первым свидетельством их доисторического происхождения. Первая из них при подъеме разломалась, но ее легко можно было сложить. Верхнюю треть украшал геометрический орнамент в виде спирали, а в центре можно было различить сцену охоты: охотник на мчащейся колеснице и его помощник с ножом. На двух других были изображены геометрические фигуры и воины на боевых колесницах.
Запись в дневнике Шлимана: «При внимательном рассмотрении скульптурных изображений на стелах я обнаружил поразительную точность и симметрию во всех спиральных орнаментах. И я пришел к выводу: такое произведение искусства могло относиться к школе, существовавшей на протяжении нескольких столетий. Но люди и животные изображены настолько примитивно и неумело, словно это была первая попытка древних художников воссоздать живое существо. Между тем животные на стелах и львы над Львиными воротами очень похожи: тот же стиль…» Был ли это верный след?
Шлиман сам себя подбадривал: «Главное теперь не пасть духом! Ведь мы работаем еще только четыре недели! Подумай о Трое! Ты не имеешь права остановиться сейчас! Вперед!» Мужество было необходимо: предположение, что вслед за стелами он найдет могилы, оказалось ложным. Шлиман все больше убеждался, что он наткнулся не на места захоронений, а на агору — рыночную площадь. Оба концентрических круга плит обрамляли укрепленную агору. В «Илиаде» есть многочисленные упоминания о «священном круге из тесаных камней», на которых сидели старейшины и герои. Предположить, что под этим местом находится гробница Агамемнона, не мог даже самый смелый в своих фантазиях археолог — такой, как Генрих Шлиман.
По этой причине он уделил особое внимание расчистке гробницы Клитемнестры и двух домов севернее и южнее крепостного кольца — тому, чем раньше занималась Софья. Инстинкт археолога, который еще никогда не подводил его, подсказал, что нужно продолжать раскопки возле агоры. И Шлиман оставил там маленькую группу рабочих.
Когда Софья вернулась в Микены, Генрих был в необычайно хорошем настроении. Находки не давали особого повода для радости, но благодаря ходатайству Софьи министр Милессес отозвал эфора.
— Им нужно только пригрозить, — сказал Генрих. Он не знал, что жена порвала телеграмму.
— А Агамемнон? — спросила Софья осторожно.
Генрих покачал головой:
— Ничего. Никаких следов.
— Но надгробные стелы, они ведь были, не так ли?
Шлиман пожал плечами:
— Сначала я был абсолютно уверен, что мы найдем могилы. Но теперь… Может быть, камни перенесли сюда позже? Может быть, они первоначально находились совсем в другом месте? Вне сомнения, колонны гробницы старше тех камней, из которых сложены крепостные стены.
— А что, если сокровищница все же была гробницей Агамемнона…
— Да нет же! — прервал ее Шлиман. — Она была «на некотором расстоянии от стены», как пишет Павсаний. Это указание не подходит ни для одной из гробниц. Кроме того, он ведь ясно сказал, что золотые сокровища Микен находятся в подземных хранилищах.
Взгляд Шлимана блуждал по огромной площади раскопок, которая своими размерами достигала троянских.
Несколько ночей подряд погруженный в себя Шлиман в одиночестве сидел над своими картами, планами и записями. Снова и снова он перечитывал то сообщение Павсания о Микенах, то «Илиаду» Гомера и пытался их сопоставить. Одно-единственное слово, может быть, неправильный перевод его могли стать ключом к разгадке.
Этими одинокими ночами Шлиман доверял только своему дневнику. Софья не должна была знать, какое отчаяние он испытывал. «Я не знаю ни одного примера в истории, — писал Шлиман при свете керосиновой лампы, — чтобы акрополь когда-нибудь служил местом захоронений, за исключением маленькой постройки с кариатидами в афинском Акрополе, которая была гробницей Кек-ропа, первого правителя Афин. А сейчас мы точно знаем, что Кекроп — это миф чистой воды. Но здесь, в микенском акрополе, гробницы — это не миф, а очевидный факт.
ПРИЕЗД КОРОЛЯ БРАЗИЛИИ
Девятого октября Шлиман прервал работу в Микенах. Правительство Турции попросило археолога срочно приехать в Трою. Дон Педро де Ал-кантара II, король Бразилии, великий почитатель науки и искусства, во время своего визита в Турцию выразил желание осмотреть раскопки Трои. Шлиман не Медлил ни минуты: что может быть лучшей рекламой для него и его проектов, как не экскурсия короля экзотической страны по руинам Трои?
В то время как Софья держала оборону в Микенах, Генриху удалось пробудить интерес короля к героям Гомера. Его Королевское Величество выразил желание увидеть родной город Агамемнона.
— Король приезжает! — сообщил Генрих своей жене, когда в конце месяца вернулся из Харвати.
— Куда? — спросила Софья.
— Сюда, в Микены!
Софья схватилась за голову:
— Боже мой, живой король! И когда?
— Послезавтра. Мы будем ждать Его Величество дона Педро де Алкантара II к завтраку.
— Здесь, в этой убогой хижине?
Генрих многозначительно улыбнулся:
— Нет, это было бы действительно недостойно короля. У меня есть идея получше: в сокровищнице Клитемнестры, на месте твоих первых раскопок!
Волнение было написано у Софьи на лице.
— Мне нужно идти, — воскликнула она, — я должна подмести пол, украсить стены, соорудить столы и стулья. Бог мой, а сколько людей приезжает с королем? Пятьдесят? Сто?
Генрих попытался успокоить жену;
— Не волнуйся! Дон Педро приедет с пятью-шестью сопровождающими. И вообще, он очень обходительный и скромный человек.
В этом году лето необычайно рано стало прощаться с Арголидой. Когда 25 сентября утром дон Педро прибыл в Микены, шел сильный дождь. Софья украсила внутреннее помещение сокровищницы цветами и свечами. На трех простых деревянных столах были постелены белые скатерти. На столе стояли чай и кофе, хлеб, сыр, мед и фрукты из близлежащих деревень. Король был в восторге и поцеловал Софье руку.
Фотографии и сообщения об этом обошли весь мир. Так же, как однажды раскопки Трои, теперь всеобщее внимание привлекли к себе Микены Гомера, родина Агамемнона.
Несмотря на ненастье (Генрих, Софья и рабочие стояли по колено в грязи), Шлиман не собирался сдаваться и хотел найти хоть что-нибудь относящееся к Агамемнону. Между тем начался ноябрь. Надежда на хорошую погоду таяла с каждым днем.
Закутавшись в длинные пальто, надев широкополые шляпы для защиты от дождя, Генрих и Софья стояли на верхней части крепостного кольца и следили за работами.
— Мы должны приостановить раскопки до следующего года, — охрипшим голосом сказала Софья (вот уже несколько дней ее мучила простудная лихорадка).
Шлиман покачал головой:
— Следующего года не будет, СофидионІ Если мы остановим наши работы без видимого результата, министр не даст разрешения на раскопки в 1877 году. Стаматакис позаботится об этом. Но ты, дорогая, должна с завтрашнего дня оставаться дома. Береги себя!
Теперь Шлиман наблюдал за раскопками один.
Число рабочих не превышало половины от прежнего. Уже несколько дней подряд появлялись незначительные находки: бронзовые кольца, меч, черепки сосудов с фрагментами росписи, маленькая рыбка из окаменевшего дерева, просверленный шар из стекла и флюорита и маленькая линзообразная гемма из агата, оникса и стеатита. Все это было найдено случайно и в разных местах и не могло с точностью указать местонахождение гробницы гомеровского героя.
ГРОБНИЦА ТОНЕТ В ГРЯЗИ
В начале декабря археологи обнаружили четвертую стелу. Было это случайностью или нет, но как раз в то же время нашли золотые пуговицы и маленькие резные золотые пластинки. Золото означало, что найдено что-то существенное. Теперь Шлиман не сомневался, что его ждут более крупные и важные находки.
Он приказал перенести стелу в Харвати и продолжать раскопки на этом месте. Уже через час лопаты и кирки наткнулись на что-то твердое. ЦІлиман просил действовать осторожнее. Постепенно из земли показалась каменная прямоугольная плита, длина которой равнялась семи метрам, ширина — трем.
Каменная кладка была сверху открыта и наполнена щебнем и землей. «Копая дальше, я иногда находил черную золу и в ней очень странные предметы: то деревянную пуговицу, покрытую листовым золотом, то кубок из слоновой кости в виде бараньего рога, различные костяные украшения и маленькие золотые пластинки».
Разбросанные находки свидетельствовали о том, что гробница уже разграблена. Из-за непрекращающегося дождя она скоро оказалась заполненной грязью, которую приходилось вычерпывать ведрами. Болела уже не одна Софья. Одного за другим болезнь косила оставшихся рабочих.
Показавшаяся скала не была основанием гробницы: последняя уходила вниз еще на пять метров
и, таким образом, находилась на глубине более восьми метров от поверхности земли. Уже был виден слой гальки, который позволил предположить, что грабители не проникли так глубоко.
В связи с этим Шлиман отпустил больше половины своих и без того малочисленных людей. Чем меньше будет свидетелей возможного открытия, тем лучше. На следующий день руками сняли гальку, камень за камнем. Стаматакис скептически наблюдал за ходом работы. Разве может что-нибудь быть скрываться под слоем гальки? Шлиман не обращал на это внимания, продолжая свою кропотливую работу. И он был первым, кто увидел в грунте человеческий скелет, в метре от него еще один и далее третий.
«Очевидно, — писал Генрих в своем отчете, — все трое, лежавшие под этой стелой, были сожжены в одно и то же время: масса пепла от их одежды и дров для сжигания тел, а также цвет нижнего слоя камней и следы огня и дыма на четырехсторонней кладке — все это не вызывает сомнения; таким образом, налицо бесспорные доказательства существования трех костров для сжигания тел».
Предположение было ошибочным. Пепел, в котором лежали скелеты, — это все, что осталось от деревянных балок, которыми первоначально закрыли гробницу, и от деревянных погребальных конструкций. Правда, на дальнейшие исследования эта ошибка не оказала никакого влияния.
Из-за продолжавшегося дождя стало невозможным убрать этот пепел. День и ночь дождь лил как из ведра, и гробница снова заполнялась жидкой грязью. На следующий день Шлиман заметил на скелете что-то блестящее: золото! «На каждом из скелетов я нашел по пять диадем; они выполнены из тонкого золота, их длина составляет девятнадцать с половиной дюймов, ширина — четыре дюйма; они остроконечные…» Шлиман приказал закрыть гробницу.
Сообщал ли Павсаний что-нибудь о пяти гробницах? Генрих понятия не имел о том,
что он обнаружил. Стаматакиса он послал к начальнику полиции Наврлии с просьбой предоставить в его распоряжение троих охранников. Полицейские прибыли на следующий день. Запись в дневнике от 6 декабря 1876 года: «Впервые после завоевания Микен аргивянами в 468 г. до н. э., то есть спустя 2344 года, в акрополе снова есть гарнизон, сторожевые огни которого ночью далеко видны в долине Арголиды. Они напоминают нам о тех кострах, которые постоянно поддерживались, чтобы сообщить о возвращении Агамемнона из Трои, которые предупредили Клитемнестру и ее возлюбленного…»
Обессиленный, но абсолютно уверенный в том, что ни один жаждущий золота грабитель не подойдет к гробнице, Шлиман верхом отправился в Харвати. По дороге домой он повстречал четырех студентов археологического института из Афин. Одним из них был Артур Мильхефер. Это была его первая встреча со Шлиманом, и он не мог тогда предположить, что однажды ему придется написать некролог о Генрихе Шлимане, который вызовет большой интерес у читателей «Дойче Рундшау».
— Есть среди вас археолог, господа? — крикнул сидевший на лошади Шлиман.
Мильхефер ответил, что они студенты и что сочли бы за честь, если бы им разрешили посмотреть раскопки в Микенах.
— Вы не смогли бы выбрать лучшего момента! — оживился тот. — Я как раз обнаружил гробницу с гремя скелетами.
— Это гробница Агамемнона?
Шлиман пожал плечами:
— Может быть, а может быть и нет.
Позже Мильхефер вспоминал: «Шлиман был среднего роста, немного сгорбленный. Большая голова, здоровый цвет лица. Волосы и усы коротко подстрижены».
В распоряжение студентов был предоставлен дом одного бывшего рабочего. Он был, правда, без особых удобств, но, по крайней мере, у парней была крыша над головой. Мильхефер вспоминает, как однажды их пригласили к ужину: «Его собственная хижина была не хуже и не лучше других. Это прямоугольное строение, разделенное дощатыми стенами на кухню, спальню и жилую комнату. Последняя служила также библиотекой, гостиной и столовой. Здесь мы и собрались; на ужин была приготовлена какая-то дичь… На физическую усталость, которая накопилась в нем после знойного лета, Шлиман не обращал особого внимания: гораздо больше тревог ему доставляли трудности, связанные с греками, а также отсутствие признания со стороны немцев…

Все невзгоды с ним делила его супруга Софья. Тогда она оставалась в постели из-за легкого приступа лихорадки, и поэтому наше знакомство можно было назвать заочным: мы ее не видели, но ее звонкий голосок принимал участие в нашей беседе, и ему не мешали ни тонкая перегородка, ни болезнь».
Поздно ночью Шлиман пошел вместе с гостями в дом к Стаматакису, где хранились все находки. Молодые люди с интересом разглядывали каменные фигурки, глиняные черепки и золотые изделия. При этом им бросилось в глаза, что грек обращался со Шлиманом «с нескрываемой неприязнью, что оставило… неприятный осадок».
Устроив пикник на построенных циклопами стенах, студенты отправились на следующий день назад в Афины. Но как только их корабль покинул порт, штормовой ветер, бушевавший уже несколько недель, уступил место штилю. Целую неделю корабль дрейфовал в заливе Арголикос.
«ПЯТЬ! ДОЛЖНО БЫТЬ ПЯТЬ ГРОБНИЦ!»
В то же самое время (Шлиман был вне себя от радости, что ветер и дождь стихли) археологи наткнулись на вторую гробницу в пределах крепостной стены. Она находилась немного западнее первой и была в два раза меньше ее. Заполнение земляных проходов было схоже с заполнением первой гробницы, а лежавшая в нем галька позволяла надеяться, что гробница не разграблена.
— Пять! Должно быть пять гробниц! — Шлиман произнес это, словно заклинание, и указал рукой в южном направлении. Прошло немного времени, и была найдена третья гробница.
Вторая и третья находились на расстоянии десяти метров друг от друга. Шлиман поднялся на стену и посмотрел вниз. Он сравнил план, который держал в руке, с тем, что видел внизу, и затем поставил на плане крестик.
— Это должно быть здесь, — и, приостановив работы над третьей гробницей, приказал копать на указанном месте.
Уже не в первый раз Стаматакис, наблюдавший за подобной сценой издалека, сомневался, в своем ли Шлиман уме. Он не мог понять, что происходит в этой голове, и, как и другие, не верил ссылкам на Павсания. Этот сумасшедший вне себя от радости, что нашел три гробницы! Но Шлиман не успокоился, пока не обнаружил четвертую и руины пятой гробницы — севернее второй и западнее первой. Но будут ли они такими же нетронутыми, как первая?
Открывать гробницы Шлиман не спешил. Он хотел, чтобы в это время рядом с ним была Софья. Она поддержит в работе. Кроме того, он потребовал увеличить число охранников, нанял еще шестьдесят рабочих и пригласил специалиста из Греческого археологического общества.
Двумя днями позже на месте раскопок появилась Софья в сопровождении вице-президента археологического общества Спиридона Фендиклеса. Тот воздал должное интуиции великого археолога. Шлиман решил тотчас же продемонстрировать ее в действии.
Четвертая гробница показалась ему самой интересной. Она имела семь метров в длину и шестъ метров в ширину и была вдвое больше, чем первая и вторая.
Командовали Генрих и Софья. Десять рабочих осторожно сделали в указанном месте вертикальный разрез. На шестиметровой глубине — первая находка: Софья обнаружила жертвенный алтарь из камня в форме барабана с круглым отверстием в центре. Кроме того, были найдены четыре сосуда из бронзы и один из золота, украшенный изображением дельфина.
ЧЕРЕП В ЗОЛОТОЙ МАСКЕ
На следующий день все были спокойны, но напряжение, казалось, повисло в воздухе. Шум и крики, которые обычно сопровождали раскопки, смолкли. Шлиман сократил число работающих в четвертой гробнице в два раза. С раннего утра они с Софьей разгребают гальку — ложками, ножами и попросту голыми руками. Охранники оцепили всю территорию. Шлиман стал еще серьезнее. Он копает, разгребает, снова копает, словно в трансе, не говоря ни слова. Ни разу Софья не услышала ответа на свои вопросы.
Расчистка гальки, кажется, длится вечность. Под ней — светлая, комковатая глина. На первую гробницу совсем не похоже… Работают лопатами. Слой толщиной примерно в четыре с половиной сантиметра. Запись в дневнике: «На расстоянии фута до гальки раскопки идут легко, мы только приказываем рабочим, где нужно копать. Но дальше мы работаем сами, и эта работа очень трудная и мучительная, особенно при дождливой погоде. Мы стоим на коленях и осторожно убираем землю и камни, стараясь ничего не повредить и не упустить».
— Есть! — Шлиман замер. Под его руками из-под земли показались кости. Он воспользовался ножом. Кости скелета или то, что от них осталось, сохранить практически невозможно. При поднятии наверх они под тяжестью собственного веса превращаются в прах.
В то время как Шлиман был занят расчисткой скелета, Софья обнаружила невдалеке мечи, сосуды из бронзы, фрагменты украшений и, наконец, — у нее даже затряслись руки — серебряную голову быка в натуральную величину с золотыми рогами.
А Шлиман уже расчищал череп погребенного. Инструменты, прикасаясь к нему, издавали металлический звон. Безобразный, он имел странную форму. Проглядывали толстые веки, выступила узкая переносица, высокие скулы — все это было совсем не похоже на обычные кости черепа. Прошло некоторое время, пока Шлиман догадался: на лице мертвеца лежала золотая маска, деформированная многотонной тяжестью камней.
— Агамемнон! — прошептал он. — Это Агамемнон!
Всю долгую бессонную ночь Шлиман провел питая иллюзии и думая, что нашел гробницу Агамемнона. Но следующий день несколько охладил его детский восторг. В шахте гробницы показался второй скелет, затем третий, четвертый и — днем позже, на еще большей глубине — пятый. У последнего была самая богатая из трех золотых масок. Два черепа оставались открытыми.
— Я ошибся, — с волнением в голосе проговорил Шлиман. — Не тот, первый, был Агамемноном. Агамемнон должен быть здесь!
Но Шлиман не уверен, он близок к отчаянию. Гомер ничего не упоминал об обычае хоронить мертвых в золотых масках!
Запись в дневнике: «К сожалению, черепа этих пятерых были сильно повреждены и их не удалось спасти. У двоих, лежащих головой на север, лица покрыты большими золотыми масками; одна из них очень сильно повреждена грунтом и камнями, и пепел к ней так крепко прилип, что невозможно сделать хорошую фотографию. Если маску долго разглядывать, то можно различить черты лица. Это большое, овальное лицо молодого человека с высоким лбом, длинным прямым носом и маленьким ртом с узкими губами. Глаза закрыты. Хорошо видны ресницы и брови».
Вторая маска сильно отличается от этой: широкое лицо с большими щеками, маленьким лбом, рот тоже маленький, полные губы, глаза закрыты. Третья также не похожа на две другие. По словам Шлимана, «маска, покрывающая лицо одного из положенных головой на восток покойников, была сделана из более толстого золота. Черты лица отличаются. По морщинам вокруг большого рта с узкими губами видно, что это. был пожилой человек. У него высокий лоб и большие глаза. Глаза открыты, ресниц и бровей нет, К сожалению, нос на маске расплющен камнем».
Под влиянием мифов у Шлимана было другое представление о героях Гомера. Те, кого он здесь нашел, были обычными людьми, без всякого божественного сияния, которое приписывалось Агамемнону и его окружению. За найденными масками не скрывались идеализированные герои — это были простые смертные, выглядевшие по-разному.
ТЕЛЕГРАММА КОРОЛЮ: — АГАМЕМНОН НАЙДЕН! —
Несмотря на все колебания и сомнения, которыми Шлиман не раз делился с Софьей, он не изменил своего мнения о том, что найденная гробница принадлежит Агамемнону. 28 ноября 1876 года из Навплии была отправлена адресованная королю Греции Георгу I телеграмма: «В величайшей радости сообщаю Вашему Величеству, что нашел гробницы, которые, согласно Павсанию, являются гробницами Агамемнона, Кассандры, Эвримедона и их спутников, которые были убиты во время пира Клитемнестрой и ее любовником Эгистом. Вокруг гробниц выложена каменная кладка, которая делалась лишь для высоких особ. В гробницах найдены бесчисленные сокровища из чистого золота. Их одних хватит, чтобы заполнить огромный музей, который будет самым чудесным в мире и привлечет в Грецию в будущие тысячелетия великое множество людей со всего света. Поскольку я работаю из любви к науке, то не претендую на эти сокровища, которые с величайшим удовольствием передаю Греции, Такова воля Бога, эти сокровища станут краеугольным камнем необъятного национального богатства».
Жизнь давно лишила Шлимана скромности, но трудно даже представить себе, в каком высокопарном тоне была составлена телеграмма, которую счастливый археолог послал королю днем позже. Ведь уже на следующий день, 29 ноября, Шлиман сделал самое величайшее из всех открытий в Микенах.
В то время, как он сам занимался четвертой гробницей, рабочие обнаружили севернее первой, прямо у стены, пятую шахту и начали раскопки. Конечно, Шлиман ожидал найти человеческий скелет и традиционное содержимое гробницы. Но находка превзошла все Самые смелые ожидания.
В волнении Шлиман опустился на колени перед останками высокого человека. Давившая сверху земля сплющила скелет на три-четыре сантиметра. Но все черты можно было распознать. Только череп мощно выступал из земли, словно камень. Он был покрыт золотой маской, толстой, искусно выполненной. И она сохранилась лучше, чем все другие. Генрих позвал на помощь Софью, и они вместе попытались ее очистить. Закончив работу, Шлиман сидел, уставившись на маску, и не мог произнести ни слова.
— Мы… — начала медленно Софья спустя какое-то время, — мы думаем об одном и том же…
Генрих взглянул на нее:
— О чем ты думаешь, Софидион?
— О том, что мы только сейчас нашли Агамемнона. Это — Агамемнон!
Маска изображала лицо старого бородатого человека с длинным, тонким носом. Близко посаженные глаза были закрыты, брови сдвинуты и расчесаны. Изящные, но полные губы, крупный рот. Возле ушей — бакенбарды. И только у этого античного героя были ухоженные усы, пышные концы которых поднимались вверх в форме полу-месяца, словно напомаженные.
Золотое лицо даже в смертельном сне излучало силу и власть. Оно выражало непреклонную волю и сознание собственной значимости, хотя сама голова была непропорционально маленькой. Если долго смотреть, то перед глазами возникал живой человек, гордый и властный. Это был сверхчеловек, один из тех, кого описывал Гомер в «Илиаде».
С обеих сторон маски Шлиман обнаружил на мочках ушей дырочки. Видимо, в них продевали проволоку или нить, чтобы закрепить маску на лице покойника. Генрих попытался поднять маску вместе с черепом. Софья вскрикнула: череп превратился в его руках в пыль.
В молчании и благоговении они опустились на колени перед последними доказательствами бренности человеческого бытия. Прошло несколько минут. Шлиман поднялся и подал золотую маску наверх, где ее принял Спиридон Фендиклес. О том, чтобы вытащить скелет, не стоило даже и думать, поэтому они занялись богатым содержимым гробницы. Это были копье и два бронзовых меча, великолепный кубок из золота с резной отделкой вверху и с изображением рыбок на цоколе и в середине, а также светло-зеленая египетская ваза и красный осколок сосуда с изображением женских фигурок.
Пока они занимались пятой гробницей, в долину прискакал посыльный. Он привез телеграмму от короля Греции.
Господину доктору Шлиману, Арголида.
Имею честь сообщить Вам, что Его Величество получил Вашу депешу и поручил мне поблагодарить Вас за Ваше рвение и любовь к науке и поздравить Вас с замечательным открытием. Его Величество надеется, что Ваши труды увенчаются успехом.
Секретарь Его Величества короля Греции
А. Калинскис.
Официальный тон ответа королевского секретаря обидел Шлимана.
— Король может и не знать, что мы здесь открыли… — пробормотал он.
ОСТАНКИ, ПОХОРОНЕННЫЕ ПОД ЗОЛОТОМ
Шлиман уже раскаивался в том, что сам же отказался от микенского золота. Раскопки были еще не закончены. Запись в дневнике: «Земля в первой гробнице подсохла благодаря хорошей погоде, поэтому я продолжил там раскопки и добрался наконец до ее основания. Таким образом, гробница достигала с северной стороны 17,5 футов (5,5 метра), а с юго-восточной — 17 футов (5,2 метра) в глубину… Лежащие в этой гробнице тела необычно крупные, и кажется, что пришлось силой засовывать их сюда, в эту маленькую шахту. И хотя голова одного из них покрыта массивной золотой маской, череп его рассыпался сразу же после соприкосновения с воздухом, и, кроме костей ног, почти ничего не удалось спасти. То же было и со вторым телом, убранство которого было разграблено еще в древности. Но у третьего, лежащего головой на север, прекрасно сохранилось под тяжелой золотой маской круглое лицо; не было заметно следов волос, но хорошо просматривались глаза и рот, который под давлением приоткрылся и показывал тридцать два красивых зуба».
Создавалось впечатление, будто этот микенский мертвец, усохший до размеров ребенка, был египетской мумией. На это указывала желто-коричневая краска, которая значительно отличалась от белесого цвета других тел. Тяжесть камней сдавила тело на три сантиметра. На груди лежала золотая бляшка, украшенная волнообразной резьбой, другая, простая и круглая, из золота, лежала на лбу, еще две — на правом глазу и правом бедре.
Шлиман боялся, что тела под воздействием воздуха и дневного света рассыплются. Поэтому он послал за художником Периклесом из Навплии. Последний в тот же день зарисовал находки. «Новость о том, — писал Шлиман, — что обнаружено довольно хорошо сохранившееся тело мужчины из героической мифической древности, покрытое золотыми драгоценностями, молниеносно распространилась по Арголиде, и тысячи людей из Аргоса, Навплии и разных деревень приходили сюда, чтобы взглянуть на это чудо».
Хотя некий беспорядок в первой гробнице создавал впечатление, будто она была разграблена еще в древности, именно здесь были найдены самые богатые сокровища: около тысячи золотых пуговиц, искусно украшенные золотые кубки, золотая кисть длиной двадцать сантиметров, бронзовые мечи с золочеными эфесами, круглые и прямоугольные золотые пластинки, непонятно для чего использовавшиеся, маленький флакончик из горного хрусталя, серебряные щипцы и два осколка серебряной вазы, кубок на высокой ножке из алебастра? — ваза из терракоты и две маски. В целом вес найденного Шлиманом в пяти гробницах золота (в период между 23 ноября и 3 декабря) составил тринадцать килограммов.
Кто, кроме микенских царей. мог обладать таким количеством золота? И кто, если не Агамемнон, был самым богатым и самым могущественным из них? О нем говорит Гомер («Илиада», IX, 149–156):
Семь подарю я градов, процветающих, многонародных: Град Кардамилу, Энопу и тучную травами Геру, Феры, любимые небом, Анфею с глубокой долиной, Гроздьем венчанный Педас и Эпею, град велелепный. Все же они у приморья, с Пилосом смежны песчаным; Их населяют богатые мужи овцами, волами, Кои дарами его, как бога, чествован, будут И под скриптом ему заплатят богатые дани.
Теперь, когда Шлиман нашел гробницы героев Гомера, когда он обнаружил действительно нечто важное во всей этой головоломке «Илиады», археолог мог позволить себе погреться в лучах славы: ведь он открыл неизвестную культуру. Ученые всего мира до сих пор считали, что Троянская война — это выдумка слепого поэта. Теперь, думал Шлиман, даже самые ярые скептики отбросят свои сомнения.
После экспертизы скелетов и регистрации находок он установил наличие останков двенадцати мужчин, трех женщин и двоих детей. Предположительно, они были убиты и сожжены в одно время. По мнению некоторых критиков, Шлиман обнаружил гробницы, принадлежащие к разным периодам. Поэтому археолог особо подчеркивал сходство типов захоронений и один и тот же стиль выполнения украшений. Он считал невозможным, «чтобы троих или пятерых членов богатой царской семьи, умерших в разное время, похоронили в одной и той же гробнице».
ШЛИМАНА МУЧАЮТ СОМНЕНИЯ
После тщательной экспертизы многочисленных находок и сопоставления их с сокровищами Приама снова появились сомнения. Относятся ли сокровища из гробницы Агамемнона и золотые драгоценности Трои к одному времени?
«Отсутствие орнамента на троянских ювелирных изделиях ручной работы, — писал он, — сосуды без росписи с вырезанным или выдавленным на них орнаментом и, наконец, отсутствие железа и стекла убеждает меня, что руины Трои намного древнее микенских…
Я думал, что Гомер лишь следуя старой традиции, установленной его предшественниками, изобразил осаду и разрушение и сделал своих современников действующими лицами той драмы. Я никогда не сомневался, что царь Микен по имени Агамемнон, его колесничий Эвримедон, принцесса Кассандра и ее спутники были убиты самым подлым образом… И хотя в этих гробницах я обнаружил очень высокую, с точки зрения технического развития, цивилизацию, все найденные предметы были ручной работы и отсутствовало железо. Кроме того, Трое была известна письменность, я нашел там много надписей с использованием букв древнего кипрского алфавита и на языке, который, насколько мы можем судить, очень похож на греческий, в то время как в Микенах еще не знали письменности… В Микенах существовала высокоразвитая цивилизация, тогда как в это же время в Трое только лишь зародились искусства, но, независимо от этого, письменность появилась в Трое на целую тысячу лет раньше, чем в Греции узнали об алфавите».
Хотя Шлиман неоднократно заблуждался, что могло повредить его славе историка (на которую он никогда и не рассчитывал), это едва ли умалит его заслуги археолога. Упрямый, он и здесь был исследователем-одиночкой. В этом проявлялось его величие, и он знал это. Из его слов можно сделать заключение, что он ожидал даже провокации: «Как я уже упоминал, в связи с этим возникли противоречия с Ликом, Додвеллом, О. Мюллером, Эрнстом Курциусом, Прокешом и другими…» Факт остается фактом: деятельность Шлимана дала толчок серьезной научной дискуссии вокруг культуры Микен и троянской эпохи.
Историк древности Эрнст Мейер, который тридцать лет назад издал сообщение Шлимана о Микенах, считал по этому поводу следующее: «Значение раскопок Микен будет столь же важным, как и исследовательская работа Шлимана в Трое. Сегодня мы говорим об эгейской культуре, которая объединяет в себе черты микенской (элладской) и миносской (критской), троянской (западно-малоазиатской) и культуры эгейских островов (циклопической). Это создает целостную историческую картину культуры Восточного Средиземноморья, близлежащих областей суши и его островов».
Ведя раскопки в Трое, Шлиману пришлось самому позаботиться о сокровищах Приама. В Микенах же археолог всякий раз останавливал раскопки, обнаружив что-либо, чтобы это не разворовали. Он выполнил свою часть задачи. Ответственность за дальнейшую доставку находок в Грецию Шлиман переложил на Стаматакиса.
Генрих и Софья покинули Микены в разное время. Софья отправилась 2 декабря, Генрих двумя сутками позже, туманной ночью, отплыл на пароходе из Навплии. Их внезапный отъезд, да еще и порознь, дал повод для разного рода слухов. Газета «Неологос Афенон» сообщила 9 декабря о прекращении раскопок и о том, что Панагиотис Стаматакис «через несколько дней» доставит сокровища в Афины, где они будут помещены на хранение в Национальный банк.
Шлиман, продолжала газета, уехал вместе с профессором Спиридоном Фендиклесом. От Харвати до Навплии они следовали в экипаже. Среди багажа находился солидный ящик с надписью «Археологическому обществу». По сообщению корреспондентов, в ящике находились глиняные сосуды и черепки, которые археолог передал вышеуказанному обществу, вице-президентом которого был Фендиклес.

Гробницы Микен в начале раскопок в 1876 г. В том же году Шлиман
наткнулся здесь на пять шахт со скелетами в золотых масках. Его
предположение, что это гробницы времен троянской войны, было
позже опровергнуто: они оказались на триста лет старше. Гравюра
взята из книги Шлимана о Микенах.
Цитата из газеты: «Но поскольку огромное число людей не очень этому верит, то, может быть, археологическому обществу следовало бы для успокоения общественности дать официальное разъяснение по поводу содержимого этого ящика и того, кому и зачем он предназначался».
ВЕСЬ МИР ГОВОРИТ О МИКЕНАХ
Шлиман уже не раз публиковал свои работы и решил теперь познакомить весь мир с Микенами и найденными сокровищами доисторического периода. С 27 сентября 1876 года по 12 января 1877 года он опубликовал в лондонской газете «Таймс» в общей сложности четырнадцать страниц отчета о раскопках, в том числе — пять телеграфных сообщений.
К великому неудовольствию ученых, Шлиман, естественно, распространял свои собственные теории, в которых ориентировался исключительно на произведения Гомера и других классиков. При внимательном рассмотрении выяснилось, что некоторые места не сходятся. Но Шлиман обладал безграничной фантазией и сумел сгладить нежелательные противоречия.
Случаю было угодно, чтобы Стаматакис нашел в следующем году шестую гробницу. Она была такой же маленькой, как и вторая, и находилась севернее первой, в пределах крепостной стены. Она была уже разграблена, и ни останков человека, ни чего-либо другого в ней не оказалось. Стаматакис нашел лишь несколько мелких предметов из золота, бронзы и алебастра.
Шлиману казалось, что мир рухнул. Павсаний ведь говорил только о пяти могилах. Кто же ошибся! Павсаний или Шлиман? Или это были вовсе не гробницы гомеровских героев?
Шлиман отреагировал на открытие Стаматакиса в свойственной для него манере: он не упоминал его имени до самой смерти и никогда больше не появлялся в Микенах.
Но вопрос оставался открытым: что же раскопали Софья и Генрих?
В отношении возраста находок Шлиман ошибся дважды — это касается и Микен, и Трои. Гробницы рядом с Львиными воротами не относились ко времени троянской войны, они были на триста лет старше и существовали, следовательно, с XVI в. до н. э. Это означало, что ни одна из золотых масок не принадлежала Агамемнону.
Шлиман обнаружил царские гробницы. Они послужили доказательством того, какими огромными богатствами обладала эта страна еще за три века до начала Троянской войны. На основании анализа керамических находок было установлено время их изготовления — средне и позднемикенская эпоха, то есть период с середины XVI до начала XV в. до н. э. Таким образом, Шлиман нашел гробницы первых царей Микен.
В 1876 году Шлиман в порыве переполнявших его чувств заявил в газете «Таймс»: «Я нашел гробницу, которая, согласно преданию, принадлежит Агамемнону». Годом позже под давлением результатов научных исследований он сбавляет тон: «Никогда мне не приходило в голову сказать, что я нашел гробницы Агамемнона и его спутников. Я просто пытался доказать, что это те гробницы, о которых писал Павсаний, гробницы наших героев».
Противоречия, в которых запутался Шлиман, были находкой для его недоброжелателей. И снова Эрнст Курциус стал во главе критиков, объявивших ему войну. Археолог, раскопавший Олимпию, осмотрел обнаруженную гробницу, как только Шлиман покинул Микены; затем он поехал в Афины, чтобы подвергнуть экспертизе микенское золото, и, наконец, сделал уничтожающий вывод: золотые маски, заявил он, не имеют ничего общего с классическим периодом древности. Золото слишком топкое, и Агамемнон, получается, был просто нищим. А может быть, в случае с этой находкой речь идет о лике Христа византийской работы?
Сильнее оскорбить открывателя Трои и Микен берлинский профессор просто не мог. Шлиман был в ярости и решил отомстить. В газетной статье он, со своей стороны, раскритиковал раскопки в Олимпии, которыми руководил Курциус. Он, писал Шлиман, не только не нашел там ничего ценного, но и впустую разбазарил деньги немецкого правительства. Генрих на его месте и с третьей частью выделенных средств достиг бы больших результатов.
Затем он высмеял и других ученых, для которых Курциус был папой римским в делах археологии и выступление против которого считалось чуть ли не святотатством. И даже директор музея Александр Конце, который ранее питал к Шлиману добрые чувства, поставил теперь его работу под сомнение, заявив, что Троя — это якобы и не Троя, а клад Приама будто бы римского происхождения.
Самым толстолобым противником из всех оказался офицер прусской артиллерии в отставке, тщеславный психопат по имени Эрнст Беттихер, который, уйдя на покой, занимался тем, что рассылал разного рода бредовые публикации по журналам и газетам. Самозванец решил воспользоваться популярностью Шлимана и в журнале по этнологии и газетенке «Аусланд» поместил свои «изыскания». Найденная Троя — это, дескать, не гомеровский Илион, а огромное кладбище-крематорий. И Шлиман раскопал вовсе не храм и дворцы, а замурованные шахтовые гробницы.
«Эти позорные сочинения отнимают у меня все силы», — признавался Шлиман своему другу Рудольфу Вирхову. Он начал сомневаться даже в дружбе последнего: ведь Вирхов был издателем того самого журнала по этнологии, в котором вышла вся эта чушь. «Если в Германии сейчас царят эти безумные идеи Беттихера, — жаловался Шлиман, —
превратившие огромный город с бессмертной славой в пустынное место безымянных захоронений, то
я не стану больше посылать туда свои находки, там их и так уже достаточно много».
Он был разочарован неадекватной реакцией ученых на свои открытия; «Я думал, что открыл новую эру в археологии». Эти слова будут признаны верными лишь спустя много лет.
Несмотря на все, Шлиман не пал духом. Он жил в собственном маленьком и добром мирке. И когда Софья в 1878 году родила сына, он дал тому имя легендарного царя Микен, чей череп под золотой маской рассыпался в его руках, — Агамемнон.
ХIII. ТРОЯ И ТИРННФ. ОШИБКИ и РАЗОЧАРОВАНИЯ
Все прежние, попытки набросать план дома гомеровского правителя были в известной степени неудачными, поскольку Гомер не давал подробного описания зданий в своих городах, лишь местами встречаются краткие сообщения. Оставалось еще много вопросов, на которые блестящий ум исследователя не мог найти ответа.
Вильгельм Дерпфельд, ассистент Шлимана.
Вместе с аистами Шлиман вернулся в Трою в конце февраля 1879 года. Одна мысль снова и снова гнала его сюда: Микены, родной город Агамемнона, были огромных размеров, так неужели великая Троя была такой маленькой?
Большинство представителей мира науки все еще были настроены против Шлимана. Конечно, блеск троянского и микенского золота сделали его знаменитым, в глазах широкой общественности он, естественно, был настоящим ученым-археологом, но враждебность коллег больно ранила его. Чтобы выиграть в борьбе с профессорами, нужны не золотые сокровища, а исторические доказательства. Что касалось подтверждения подлинности Трои с исторической точки зрения (здесь, в первую очередь, важна идентификация определенных строений), он вынужден был признаться, что все основывалось только на вере Гомеру. Шлиман должен был найти новые, достоверные доказательства.
И поскольку он знал, как трудно будет это сделать, предстояли многолетние раскопки. Только в прошлом году, ожидая продления лицензии
на раскопки Трои, Шлиман начал копать на Итаке
и надеялся обнаружить следы славного прошлого страдальца Одиссея, найти хотя бы его крепость. Но он наткнулся лишь на несколько стен, построенных циклопами, и на глиняные черепки, по которым ничего невозможно было определить.
После нескольких безуспешных недель археолог, который на это время остановился в доме богатого островитянина Аристидеса Дендриноса и его красавицы-жены Праксидии, так и не нашел ничего нового. Как и раньше, Шлиман снова спасается в мире своих фантазий: «Я рекомендую всем почитателям Гомера посетить Итаку, ведь больше нигде в греческом мире воспоминания о героическом времени не сохранились с такой чистотой и свежестью. Здесь каждый залив, родник, каждая скала, холм и оливковая рощица напоминают нам о божественном поэте и его бессмертной "Одиссее". И одним махом мы перенесемся на сотни поколений назад — в тот выдающийся период греческого рыцарства и поэзии».
На ученых и профессоров эти замечания не произвели никакого впечатления. Для них имели значение только факты. Чтобы убедить экспертов, Шлиман разослал великодушные приглашения посетить Трою. На севере-западном склоне холма Гиссарлык он построил маленькую деревушку: каменный дом с кухней и комнатой для гостей, барак для жандармов, которых Шлиман нанял для обеспечения безопасности его самого и ста пятидесяти рабочих, склад, служивший также столовой, небольшой музей для находок, позже передававшихся турецкому правительству, и прочие сооружения.
ШЛИМАН ПРЕУВЕЛИЧИВАЕТ: НОВЫЕ СОКРОВИЩА
Выданный в 1878 году новый фирман предусматривал передачу двух третей всех находок Оттоманскому музею в Константинополе. «Сейчас я большей частью работаю на раскопках огромного здания, расположенного западнее и северо-западнее ворот, а также над расчисткой подхода к ним с северо-востока, — писал Шлиман в своем докладе, изданном в 1881 году под названием "Илион". — Как я уже упоминал, это большое строение могло быть домом последнего правителя Трои, поскольку в нем самом и рядом с ним мной и моими рабочими найдены многочисленные сокровища, конфискованные затем полицией; кроме того, было найдено много глиняных сосудов. Сейчас моя уверенность возрастает, поскольку я снова обнаружил в доме три маленьких и одно большое украшение…»
«Сокровища», о которых говорил Шлиман, были найденными во время раскопок глиняными черепками и оружием из бронзы, по качеству не сильно отличающимися от клада Приама. Археолог, как всегда (а теперь и еще и намеренно), преувеличивал, чтобы придать раскопкам большее значение. Откровенно говоря, открытия 1878 года не были особо важными. Но зато Шлиману удалось расчистить обширные участки развалин крепостной стены и других строений, которые позволяли судить о прежних размерах Трои.
Он трудился теперь над тремя расположенными друг над другом слоями поселений, и это оказало существенное влияние на дальнейший ход работ. Шлиман уделял все внимание крепостным стенам восточнее и юго-западнее Скейских ворот, северо-западнее и севернее дворца Приама и восточнее огромного рва.
«Важно было сохранить дома сожженного города, и я раскапывал руины трех верхних городов горизонтально, постепенно, слой за слоем, пока не наткнулся на легко узнаваемый кальцинированный грунт развалин третьего слоя. После того как весь исследуемый участок оказался на одинаковом уровне, я начал с конца раскапывать один дом за другим и таким образом потихоньку вышел к северному склону, где и сбросил грунт. Так я смог сохранить все дома третьего города, не повредив их стен».
В следующем году Шлиман занимался огромной окружной стеной и холмами с гробницами. Он предполагал, что под двумя большими и четырьмя маленькими холмами у подножия Гиссарлыка, как и в Микенах, находятся сокровищницы.
Разрешение на раскопки этих холмов было заслугой немецкого посла, графа Хацфельда, и английского посла в Константинополе, сэра Генри Лейарда. Оно пришло в один день с письмом профессора Вирхова, согласившегося на участие в раскопках Трои.
БИРХОБ И ШЛИМАН — ТАКИЕ ПОХОЖИЕ И ТАКИЕ РАЗНЫЕ
— Чудесная встреча! Доброе предзнаменование! — приветствовал Шлиман берлинского профессора. — Ведь кого еще в мире могли бы заинтересовать раскопки этих холмов, если не вас, и кто мог бы бытъ более полезен науке, если не вы? В том, что раскопки пока не дали никаких результатов, виновата лишь неопытность исследователей. И я надеюсь найти в гробницах не более и не менее как ключ к хронологии Трои.
Вирхов приехал в Афины в конце марта вместе с бывшим директором Французской археологической школы Эмилем Бюрнуфом. Для Шлимана их приезд был равноценен новому золотому кладу. Присутствие Вирхова и Бюрнуфа придало его работе блеск подлинно научного исследования. Профессор занимался изучением флоры, фауны и геологии на троянской равнине. Бюрнуф, известный’ также как художник и инженер, чертил планы и карты и рисовал виды различных гробниц.
Вирхов и Шлиман — одного возраста, оба маленького роста, обладавшие сходным кругом интересов, но разными характерами и разным уровнем образования, — хорошо понимали друг друга. Вирхов был и оставался единственным человеком, к чьей критике прислушивался Генрих. Профессору удалось отвлечь его от Гомера и направить мысли в реалистическое русло. И если Шлиман говорил теперь не о «Скейских», а о «Больших воротах», не о «дворце Приама», а о «доме правителя города Трои», то в этом была заслуга маленького человека с бородой и хитрыми глазками за никелированными очками — заслуга антрополога Рудольфа Вирхова.
После своего возвращения с раскопок в Трое профессор прочел интересный доклад в обществе антропологии, этнологии и древней истории. В том, что касалось методов проведения раскопок, он стоял на тех же позициях, что и Шлиман. Его техника разреза и зондирования была революцион-

Сокровищница Ми-имя в Орхомене. Следуя описаниям Гомера, который назвал Орхомен вслед за Троей и Микенами «златообильными», Шлиман искал со 120 рабочими — часть из них были женщины — спрятанные сокровища. Но особого успеха это предприятие не принесло. Или Гомер ошибся, или грабители гробниц их опередили.
ной в сравнении с другими и вызвала в кругах специалистов большой скандал. Вирхов защищал Шлимана очень умело. Вне сомнения, заявлял он, такие методы, а особенно широкий разрез через весь холм Гиссардык, нанесли большой вред верхним слоям, ведь там можно было обнаружить куски мрамора и развалины храмов греческого периода.
Но далее он продолжал: «Между тем, для Шлимана этот храм не представлял никакого интереса, потому что принадлежал к более позднему периоду, и я, осмотрев большую часть обломков, могу сказать следующее: я думаю, что, сохрани он их, они вряд ли бы заинтересовали специалистов по истории искусства или науки.
Я признаю, что это своего рода святотатство. Разрез господина Шлимана прошел как раз посреди храма, его части были отброшены по обе стороны и частично снова засыпаны, и будет трудно восстановить его. Но, вне всякого сомнения, если бы Шлиман убирал слой за слоем, то не был бы сейчас на том уровне, на котором находится (что и было его основной задачей) и где обнаружена основная часть находок».
Вирхову и Шлиману так хорошо работалось вместе, что последний предложил гостю «бросить все свои дела» и раскопать с ним до конца Трою, а потом и Тиринф, и Спарту, и Дельфы. Он обещал ему гонорар не меньше, чем профессорская зарплата, — включая и дополнительные выплаты. Вирхов отказался. Он опасался за свою репутацию профессора в случае перехода на службу к этому подозрительному американскому миллионеру.
Его отказ никак не повлиял на их дружбу. Свидетельство тому — обширнейшая переписка, шестьсот писем, в которых они рассказывали друг другу о своих семейных делах, о проблемах, о политике и, конечно же, обсуждали вопросы археологии и истории. Письма эти — своего рода зеркало 80-х годов прошлого столетия.
Шлиман вернулся в Афины с новыми находками, среди них были серьги, браслеты, цепочки из золота и серебра. Он уже давно перешагнул пятидесятилетний рубеж: ему исполнилось пятьдесят семь. Осознавая это, он вновь ощутил жажду деятельности. Не обращая внимания на состояние собственного здоровья и здоровья жены, Шлиман поставил перед собой новую цель — Орхомен, древняя резиденция царя Миния.
Орхомен, лежащий под деревушкой Скрипу, был крупнейшим и главным городом Беотии. Это третий могущественный град, который Гомер наряду с Троей и Микенами награждает эпитетом «златообильный».
Снова Павсаний указал ему дорогу, ведущую
к несметным сокровищам Миния в Орхомене. Но сокровищница, похожая на сокровищницу Атрея в Микенах, не выдержала испытания временем. Она обрушилась и была разграблена. Чтобы проникнуть внутрь, Шлиман нанял сто двадцать рабочих. Впервые у него работали женщины. Им можно было меньше платить, и они действовали аккуратнее мужчин при расчистке грунта.
Несмотря на большие расходы, археологические раскопки были очень скромными по своим результатам. Шлиман, которого теперь поддерживали востоковед Арчибальд Сайс и архитектор Эрнст Циллер, был рад и тому, что находил под вечер пару черных или красных глиняных черепков. Разочаровавшись, он приостановил раскопки.
ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА С ВИЛЬГЕЛЬМОМ ДЕРПФЕЛВДОМ
В Афинах Шлиман нашел заявление молодого немца с просьбой принять участие в раскопках. Его написал доктор Вильгельм Дерпфельд, он работал в Немецком археологическом институте.
Дерпфельд? Шлиману это имя показалось знакомым. Не тот ли это Дерпфельд, который руководил раскопками Курциуса в Олимпии? Шлиман вызвал его к себе, в свой «Илиоу Мелатрон».
Долговязому молодому человеку захотелось стать маленьким-маленьким, когда слуга Беллерофон поприветствовал его на греческом словами из Гомера и проводил по мраморным ступеням к входу. Из отделанного белым мрамором холла лестница под сводом вела наверх. Повсюду стояли античные вазы и скульптуры. Каждая дверь походила на княжеский портал, а внутренняя отделка комнат — на убранство храма.
В «святилище» — одном из рабочих кабинетов Шлимана — хозяин дома принял гостя скорее вежливо-корректно, чем дружелюбно. От маленького человека исходил тот же холод, что и от всего дома. И так же, как и дом, он очаровывал.
— Вы архитектор, господин Дерпфельд? — спросил Шлиман.
— Да, господин доктор, я учился у профессора Адлера.
— И вы раскапывали для Курциуса Олимпию?
— Да, господин доктор.
— Вы из Берлина?
— Нет, господин доктор. Я родился в Бармене.
— Сколько вам лет?
— Двадцать восемь.
— В этом возрасте я заработал в Америке свои первые деньги как золотоискатель, — он сделал паузу. — И вы хотите работать со мной?
— Я думаю, что мог бы быть вам полезным.
— Так. Значит, вы так думаете… Вы следите за спорами вокруг Трои?
— Да, господин доктор.
— И что вы думаете о Трое?
— Многие сомневаются, что те маленькие строения третьего слоя, которые вы назвали в своей книге «Илион» гомеровской Троей, действительно являются домами царя Приама и его сыновей.
Шлиман в задумчивости кивнул:
— Видите ли, Дерпфелгд, я тоже в этом сомневался. И чем дальше думаю, тем более непонятным мне кажется, почему Гомер описывает Илион как большой город, когда это была только деревня. Поэтому я хочу раскапывать дальше.
— Вы оказали бы мне великую честь, если бы позволили помочь вам.
В октябре 1881 года Шлиман получил от турецкого правительства новый фирман на раскопки Трои. Лицензия распространялась только на холм Гиссарлык. Кроме Дерпфельда, Шлиман взял с собой еще одного архитектора. Его звали Йозеф Хефлер, он был родом из Вены. Дерпфельд привез троих греков, присматривавших ранее за работами в Олимпии. Николаос Зафирос, работавший со Шлиманом уже двенадцать лет, снова стал главным смотрителем. Кроме того, Генрих привез из Афин свою кухарку Иокасту и слугу Одипуса.
1 марта 1882 года. Под руководством смотрителей и двух архитекторов сто шестьдесят рабочих начали раскопки с двухсот пятидесяти шурфов и траншей. Целью этой гигантской работы было внести ясность в расположение слоев на холме Гиссарлык. После долгих разговоров с Дерпфельдом который и восхищался, и критиковал археолога, Шлиман пришел к выводу, что только так они смогут доказать, что это слой гомеровской Трои.
И все же в своей книге «Илион», вышедшей в 1881 году, Шлиман настаивает на первоначальной точке зрения, что стены, среди которых он нашел клад Приама, принадлежат Трое Гомера. Вирхов, Бюрнуф и, прежде всего, молодой Дерпфельд значительно поколебали эту его уверенность. «Я не мог себе представить, — писал Шлиман, — что божественный поэт, который с достоверностью очевидца набросал нам очень похожий план не только Троянской равнины с ее возвышенностями, реками и гробницами героев, а и всей Троады в целом с ее многочисленными городами и местечками, с ее Геллеспонтом, мысом Лектоном и Идой, Самофракией и Имбросом, с ее Лесбосом и Тенедосом, со многими природными феноменами страны, — вдруг показал нам Илион как большой, цветущий, богатый город, хотя в действительности это был маленький городишко, который… едва ли насчитывал три тысячи жителей. Но если бы Троя была небольшой крепостью, как нам показывают руины третьего слоя, то сто человек завоевали бы ее за пару дней, а значит, Троянская война с ее десятилетней осадой или была просто выдумкой, или имела какую-то существенную причину».
СОМНЕНИЯ НАСЧЕТ ДВОРЦА ПРИАМА
Шлиман не верил, что Гомер взял сюжет из жизни «маленькой крепости» и, преувеличив значимость событий, создал трагедию. Троя была одним из важнейших городов в царстве дарданян, а оно, в свою очередь, — одним из самых могущественных в Малой Азии. Жалкие развалины стен, которые Шлиман раньше называл «дворцом Приама», не могли быть царской резиденцией одной из богатейших стран.
Дерпфельд, который был моложе Шлимана на тридцать лет, с самого начала стал для него просто находкой. Ученый-архитектор приобрел в Олимпии неоценимый опыт и знания, был гениальным чертежником и картографом. Ведь в Трое все нужно было привести в систему.
Спустя три недели после начала раскопок Дерпфельд писал своему учителю в Германию: «Раскопки ведутся иначе, чем в Олимпии: во-первых, потому, что многие города лежат друг над другом и разрушаются, если хочешь расчистить расположенные ниже, а во-вторых, потому, что Шлиман очень беспокоится о том, чтобы рабочие спокойно трудились на отведенных им местах… Мы, архитекторы, привыкли к олимпийской технике раскопок. Но мы хорошо ладим, и мне не на что жаловаться».
Вильгельм Дерпфельд был удивлен при виде неподдельного энтузиазма, которым буквально горел его шестидесятилетиий руководитель: «Должен признаться, я никогда еще не встречал такого энергичного человека, как господин Шлиман. Он не отдыхает ни минуты. Встает утром в 4.30 и скачет верхом к морю, чтобы искупаться… В 7.30 он уже за работой, и так — за исключением перерыва на обед — до захода солнца».
Прошли четыре недели, и сомнения Дерпфельда подтвердились: третий слой не мог быть гомеровской Троей. Когда он сообщил об этом «ученику Гомера», тот попросил больше никому ничего не говорить. Это могло повредить его славе.
Дерпфельд не сдержал слова. Умоляя о молчании, он написал берлинскому профессору Фридриху Адлеру: «Сожженный город, который Шлиман называет Троей, — это лишь убогая деревушка, построенная после разрушения Трои на ее руинах… В отличие от третьего города с многочисленными маленькими домиками, во втором было лишь четыре-пять зданий, которые четко просматриваются; то же писал и Гомер».
Шлиман был вынужден признать, что ошибся." Правда, его ошибка касалась не местонахождения Трои, а только расположения нужного слоя. Но ее последствия оказались слишком серьезными: на нет была сведена теория о кладе Приама, найденном, по мнению Шлимана, в гомеровской Трое. Описанный поэтом пожар тоже не мог больше служить аргументом: Дерпфельд на основании новых раскопок доказал, что «второй город», как и третий, также уничтожен ужасным пожаром».
«Я ОШИБСЯ»
Это признание было для Шлимана более тяжелым ударом, чем если бы он потерял все свое состояние. Первым, кому он рассказал о поражении, стал его друг Рудольф Вирхов. Как вести себя, когда вновь поднялась волна критики? Шлиман писал Вирхову 1 мая 1882 года: «Никогда еще Ваше присутствие здесь не было так необходимо… Жду Вашего совета, но больше всего поддержки…»
Не дожидаясь ответа Вирхова, несколько дней спустя он обратился к директору Берлинского музея Рихарду Шене. Это было смелое решение, ведь с Шене его не связывала такая дружба, как с Вирховом. Ошибка вполне могла стать достоянием общественности. Но возможно ли вообще скрыть?
Шлиман писал Шене на грани отчаяния, собрав все свое мужество: «Я ошибся в книге "Илион", когда посчитал два нижних слоя Гиссарлыка, глубина которых составляет более семи метров, принадлежащими к очень старым поселениям; В. Дерпфельд, мой отличный архитектор, доказал, что эти слои — остатки только одного поселения. И вновь я, Вирхов и Бюрнуф заблуждались, когда решили, что глубокий слой золы принадлежит одному городу: Дерпфельд доказал, что там два поселения… Второй большой город, в котором есть нижняя часть, крепость с двумя богатыми храмами и два-четыре настоящих строения, вне сомнения, является тем знаменитым Илионом, похожим как две капли воды на Илион Гомера».
Раскопки Дерпфельда, конечно, означали для Шлимана личное поражение, поскольку молодой исследователь своей точной работой вскрыл много недостатков. Но после нескольких недель совместного труда стало ясно, что его помощь приносит существенную пользу общему делу.
Энтузиазм, с которым трудились Шлиман и Дерпфельд, привлек внимание турецкого инспектора, назначенного министром просвещения. Бедер Эддин-эфенди высказал неудовольствие по поводу того, что на раскопках работал фотограф, а Дерпфельд с помощью мензулы готовил картографические чертежи в масштабе, превосходящем обычные. Политическая ситуация была напряженной. И подозрение инспектора, что американец и ассистент-немец готовят на случай войны планы крепости Кумкале, не осталось без последствий.
В крепости Кумкале был телеграф. Им и воспользовался Эддин-эфенди, чтобы донести правительству в Константинополь на Шлимана и Дерпфельда Джемаль-паша, военный губернатор Дарданелл, и командующий артиллерией в Константинополе Саид-паша долго протестовали против решения правительства закрыть раскопки; им удалось добиться значительных уступок, и остался лишь запрет на фотографирование, составление схем и измерительные работы.
Складывалась комичная ситуация: как только археологи покидали свои дома, Эддин следил за тем, чтобы они ничего не рисовали и не делали никаких записей. «Такое чудовище, как он, — бушевал Шлиман, — это настоящая чума в археологии!»
С марта по июль 1882 года все наброски и чертежи раскопок делались по памяти на основании простых наблюдений. Многие размеры определялись на глаз. Жалоба Шлимана в немецкое посольство осталась без внимания, и только ходатайство немецкого канцлера, князя Отто фон Бисмарка, принесло некоторое облегчение в работе. Теперь, по крайней мере, разрешалось делать замеры в гробницах, то есть под землей.
«Жизнь без тебя невыносима», — писал Шлиман жене в Афины. Софья с детьми немедленно приехала в Трою. В их распоряжении был домик для гостей. Но тут началась эпидемия малярии. Шлиман отослал жену с детьми обратно в Афины. 22 июля он писал своему старому другу Вильгельму Русту: «Три недели назад уехала моя жена, я еще долго работал на Гиссарлыке и тоже подхватил эту ужасную малярию, от которой не спасли и тридцать гран хинина…»
ПРЕКРАЩЕНИЕ РАСКОПОК В ТРОЕ
Шлиман прервал раскопки в Трое. Условия, которые создало турецкое правительство, лишь ускорили принятие этого решения. Нужно было позаботиться о своем здоровье. Несмотря ни на что, он был доволен достигнутым. Обнаружены богатые находки; с помощью Дерпфельда удалось доказать, что Троя была гораздо больших размеров, чем считалось. Шлиман подвел итоги сезона 1882 года: «Пересмотрев результаты пятимесячной троянской кампании 1882 года, я убедился, что в далеком прошлом на равнине Трои стоял большой город, позднее разрушенный вследствие ужасной катастрофы; на холме Гиссарлык находились только его акрополь с храмами и несколько других больших строений, в то время как нижняя часть города располагалась в восточном, западном и южном направлениях — на территории позднего Илиона. Этот город полностью отвечает гомеровскому описанию священного Илиона… Моя работа в Трое отныне закончена; она длилась более десяти лет — время, которое было связано с легендой этого города. Разрешить спор вокруг Трои, продолжающийся уже несколько десятков лет, я предоставляю критикам; это их дело — свое я закончил…»
Еще окончательно не оправившись от болезни, Шлиман снова отправляется в путь. С женой и детьми он решил посетить городок детства — мекленбургский Анкерсхаген — и вспомнить время своей юности. И хотя они могли бы найти дом получше, Генрих непременно хотел посетить старенький домик священника. Там жил его кузен, пастор Ганс Беккер, со своей семьей. Пастора вовсе не обрадовал их будущий приезд, хотя Шлиман обещал заплатить ему три тысячи марок за четыре комнаты и еду для жены, детей, гувернантки и няни.

Тиринф. Стены этого города, достигавшие 7 м в толщину и 20 м в
высоту, были очень похожи на строения в Трое и Микенах. В марте
1884 г. Шлиман вместе с Дерпфельдом начали здесь раскопки и
обнаружили доисторический царский дворец.
Беккер оставил письмо капризного миллионера без ответа — возможно, он не поверил в серьезность его финансового предложения. Но Генрих осуществил свою мечту с помощью старого друга Вильгельма Руста и провел лето в Анкерсхагене.
Все это время за ним настороженно наблюдала дочь пастора, Августина Беккер. Она слышала много странного об этом человеке. Но его чудачества превзошли все мыслимые ожидания. Так, например, детям трудно было общаться с отцом, потому что тот из принципа говорил с ними на древнегреческом, в то время как Андромаха и Агамемнон владели только новогреческим. С другой стороны, этот миллионер, человек, создавший самого себя, был очень великодушен и раздавал дорогие подарки. Особо щедро он подавал милостыню.
Шлиманы жили скромно, ели на ужин гречневую кашу и вставали в четыре часа утра. Затем глава семейства в течение трех часов совершал верховую прогулку и купался в озере Борнзее. После завтрака он занимался переводами своих книг, «Трои» и «Илиона», или правил гранки, или же писал письма. Чернила он не посыпал песком, как это было принято, а высушивал. «Песок, — считал Шлиман, — оскорбляет адресата».
В домике пастора в Анкерсхагене Генрих ежедневно принимал знакомых и друзей: Нидерхоффера, Руста, Андреса и Минну, подругу юности. Появлялись также братья, и сестры, и многочисленные родственники. Больше всего их интересовала его темноглазая жена Софья, фотографии которой в драгоценностях из клада Приама обошли весь мир. Разговоры велись только на нижненемецком диалекте.
Все, кого Шлиман встречал в Анкерсхагене, восхищались его неутомимостью. В свои шестьдесят лет он не бездельничал ни минуты. Его день был расписан, до секунды. Шлиман жил с точностью часового механизма. Слова «покой» он просто не знал.
В Оксфорде Шлиман получил в том же году почетное звание доктора. Награда эта досталась ему благодаря содействию Арчибальда Генри Сайса, с которым его связывала дружба. Сайс был родом из Оксфорда и некоторое время участвовал в раскопках Трои.
ТИРИНФ, ТВОРЕНИЕ ЦИКЛОПОВ
На карте Гомера оставались еще два белых пятна — Тиринф и Крит. Из-за бюрократического вмешательства и по материальным причинам Шлиману пришлось отказаться от прежних планов по исследованию Кносса на Крите с целью поиска троянско-микенской культуры. Он обратил свое внимание на расположенное южнее Микен поселение.
Тиринф, удаленный на два километра от залива Арголикос и на четыре километра от Навплии, был построен еще в третьем тысячелетии. Руины мощной крепости походили на циклопические стены в Микенах. Гомер, Пиндар и Павсаний с восхищением говорили об этом гигантском сооружении. «Стена, — писал Павсаний, — единственное, что полностью сохранилось среди развалин. Она сложена из красивых каменных блоков, каждый из них настолько огромен, что даже самый маленький невозможно сдвинуть с места с помощью мула».
Такой же загадкой, как и строительство пирамид, стало то, каким образом в доисторический период на каменном плато могли быть возведены стены двадцатиметровой высоты и толщиной шесть-семь метров. Неудивительно, что народ приписывал это чудо великанам, схожим с богами, — тем неуклюжим циклопам, обладавшим нечеловеческой силой и имевшим один глаз посреди лба.
17 марта 1884 года Шлиман и Дерпфельд вместе с шестьюдесятью рабочими из Кофиньона, Кут-сиона, Лалука Арии и Харвати начали раскопки. Мягкая зима уступила место весне. В Арголиде цвели деревья, луга наливались зеленью. Дом, который снял Шлиман, оказался слишком грязным, поэтому они с Дерпфельдом переехали в «Гранд-отель д'Этранжерс» в Навплии. Его хозяин, Георгиос Мошас, сделал скидку за шесть комнат и полупансион.
Шлиману исполнилось уже шестьдесят два года, но он был в поразительно хорошей форме. Генрих ежедневно вставал в 3 часа 45 минут, выпивал четыре грана хинина для предотвращения малярии и бежал в порт, где ждал рыбак, который вывозил его на середину залива. Там Генрих купался десять минут. В кофейне «Агамемнон» Шлиман пил чашечку черного кофе, потом скакал верхом четыре километра в Тиринф, чтобы успеть позавтракать с Дерпфельдом, сидя на основании колонны (хлеб, овечий сыр, апельсины, солонина).
«Нашей первой большой задачей, — писал Шлиман, — было снятие грунта до уровня пола, который занимал все высокое плато акрополя и скрывался под обломками кирпича, обвалившейся кладкой и перегноем. При этом выяснилось, что найденные в 1876 году стены из огромных камней являлись лишь нижней частью или фундаментом огромного дворца».
Кроме того, Шлиман собирался в этом сезоне заняться раскопками средней террасы, где, по мнению Дерпфельда, находились хозяйственные помещения. Здесь лежал слой толщиной шесть метров. Для поиска строений в нижней части крепости прорыли поперечные и продольные траншеи. Шлиман хотел также расчистить ведущую ко дворцу с восточной стороны рампу. Это оказалось самой дорогостоящей затеей, потому что огромные каменные блоки, которые упали со стен, разрушали и отбрасывали обломки в сторону.
Шлиман и Дерпфельд были идеальными партнерами. Шлиман ценил знания и умение работать своего молодого ассистента, а тот, в свою очередь, восхищался его опытом и, прежде всего, буйной фантазией, которая постоянно искала связь между гомеровской эпохой и ведущимися раскопками. Молодого Дерпфельда привлекало умение патрона заставить говорить древние камни.
Едва показались очертания дворца и обозначились границы внутреннего двора и залов с колоннами и жертвенным алтарем, как Шлиман вскочил на самый огромный из каменных блоков, поднял руки, словно хотел взлететь, и начал с пафосом декламировать стихи Гомера из IV песни «Одиссеи»:
Дому любезного Зевсу царя удивилися оба:
Все лучезарно, как на небе светлое солнце иль
месяц,
Было в палатах царя Менелая, великого славой… Голод свой утолили роскошной едой и питьем
изобильным:
Голову к спутнику тут приклонив, чтоб подслушать другие
Речи его не могли, прошептал Телемах осторожно: «Несторов сын, мой возлюбленный друг, Писистрат благородный,
Видишь, как много здесь меди, сияющей в звонких
покоях;
Блещет все златом, серебром, янтарями, слоновою костью;
Зевс лишь один на Олимпе имеет такую обитель; Что за богатство! Как много всего! С изумленьем
смотрю я».
ДВОРЕЦ, КАК ЕГО ОПИСЫВАЛ ГОМЕР
Царский дворец в Тиринфе был удивительно похож на те, которые описывал Гомер: мегароп («мужской зал»), за ним малые женские покои и, наконец, комната с роскошной ванной. «Да здравствует Афина Паллада! — ликовал Шлиман в письме к Рудольфу Вирхову. — Под ее покровительством я нашел занимавший всю верхнюю часть крепости исторический дворец».
Ответ Вирхова был не менее восторженным: «Ура! Троекратное ура!»
Дерпфельд же сообщил об этом профессору Фридриху Адлеру по-деловому: «Я сижу на старых стенах Тиринфа, над которыми сейчас тщательно работаю. Многочисленные стены, подъемы, основания колонн все еще засыпаны грунтом. Ты бы поразился правильности застройки. Здесь еще много всего удивительного. Нижняя часть стен сложена из бутового камня с использованием глины, верхняя — из кирпича. Комнаты завалены частично обожженным, частично необожженным или слегка обожженным кирпичом. Дверные проемы и утлы выложены из больших, правильной формы блоков. От колонн сохранились только круглые базы… Еще не расчищенные подъемы вырезались из большого камня в виде куполов и были немного кривыми (как и те четыре блока в Микенах). Все стены покрыты слоем известковой штукатурки толщиной в один-два сантиметра, которая местами еще сохранилась. Некоторые ее куски (отвалившиеся от стены) покрыты прекрасной росписью с использованием красной, голубой, желтой, белой и черной красок. Встречается изображение старинных орнаментов (например, почти точная копия потолка Орхомена с изображением спиралей и розеток). Важнее всего найденный фриз, очень похожий на микенский. Это великое счастье, что почти все степы сохранились до полуметровой высоты и в углах стоят большие четырехгранные блоки… Теперь с уверенностью можно составить основной план».
Раскопки Тиринфа впервые позволили судить о том, как выглядели дворцы героев — например, Менелая, Одиссея и других. До сих пор они существовали только на словах, только в описании Гомера. Троянские стены, с этой точки зрения, принесли лишь разочарование. Дерпфельд писал в изданном в 1886 году сообщении о раскопках: «Теперь из всех находок Тиринфа четко выделяется сетка фундаментов древнего царского дома. Мы видим мощные стены с башнями и воротами, можем через украшенные колоннами пропилеи пройти внутрь дворца, узнаем окруженный залами с колоннами мужской двор с большим алтарем, видим внушительных размеров мегарон с прихожей, заходим в ванную и, наконец, в женские покои с отдельным двориком и многочисленными комнатами. Эта картина возникает перед глазами читателя, например, в сцене возвращения Одиссея и его сватовства…»
В этом сообщении рассудительного архитектора явно чувствуется влияние Шлимана. Тот на два месяца покинул раскопки и передал все руководство Дерпфельду. Необычное, абсолютно неожиданное решение! На то было несколько причин.
Шлиман сильно подорвал здоровье, и теперь его силы были на исходе. «Я выдохся, — признавался он в письме, — и у меня появилось настойчивое желание оставить раскопки». Собственно говоря, Шлиман потерял всякую надежду найти в Тиринфе что-нибудь значительное. Все обнаруженные глиняные сосуды, кубки и кувшины относились, по мнению Дерпфельда, ко времени до Троянской войны. Так что интерес Шлимана пропал еще и по этой причине. Тем не менее, построенный в XIII веке до н. э. дворец вызывал большой интерес у ученых. Дерпфельду удалось доказать, что гигантское сооружение было уничтожено в 1200 году до н. э. землетрясением и ужасным пожаром. Следы этой катастрофы обнаружены и в Микенах. Это стало концом великой эпохи.
ОСТРОВ ЦАРЯ МИНОСА
Попытка Шлимана отойти от раскопок оказалась безуспешной. Он не мог примириться с тем, что кто-то делает это за него, хотел и должен был продолжить работу. «Боги мне свидетели, — писал он старому другу Вильгельму Русту, — я с удовольствием провел бы с семьей лето в Нойштрелице; но мои дни сочтены, и я хотел бы успеть с раскопками на Крите…»
Даже самый суровый критик Шлимана (а их было предостаточно) вынужден признать, что во всех этих разбросанных раскопках упрямого сумасброда существовала система: его троянские теории нашли свое продолжение в Микенах, а великая микенская культура эхом отозвалась в Тиринфе; единственное, чего не хватало, — это доказательства, что корни сказочной гомеровской эпохи находились на Крите.
Вместе с Дерпфельдом в мае 1886 года Генрих Шлиман поехал на Крит, чтобы разведать местность вокруг Кносса, владения царя Мипоса, купить участок земли и получить разрешение на раскопки. Крит в то время принадлежал Турции. Губернатор острова, Сартински-паша, сначала вовсе не возражал против планов американца. Иностранный туризм не повредит острову. А насчет продажи холма, на котором виднелась лишь груда старых развалин крепостных стен, нужно договариваться с его владельцем.
Последний утверждал, что на холме росли две с половиной тысячи оливковых деревьев и оценил возможный ущерб в сто тысяч золотых франков. Это в десять раз превышало истинную стоимость. Шлиман отказался. Но поскольку Кносс был ему необходим, он попросил о помощи главу Критского археологического общества и директора музея в Гераклионе — доктора Йозефа Хацидакиса. Ха-цидакис, зная ту медлительность, с которой принимались решения, посоветовал Шлиману поехать домой.
Состояние здоровья его было тяжелым. Он заболел воспалением легких, кроме того, возобновились прежние боли в ухе. Поэтому Шлиман не вынес бы тяжелой зимы в Афинах.
— Мы должны поехать на зиму в Египет, — сказал он жене. — В Луксоре и Асуане вечная весна. Лучшие семьи из Европы приезжают туда зимой.
— А дети?
— Мы возьмем их с собой, заботливая мамочка!
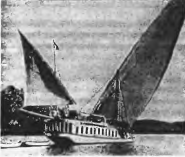
Для своего путешествия по Египту в конце 1886 г. Шлиман нанял яхту с командой из тринадцати человек. В конце января 1887 г. он прибыл в Абу-Симбел. Путешествовать на яхте так же удобно, как и дорого. Судно, изображенное на этой фотографии, принадлежало другу Шлимана — англичанину Генри Сайсу.
Софья подумала и согласилась. Генрих был счастлив.
Но в день отъезда она отказалась от поездки:
— Я не поеду с тобой. Поезжай один!
— Почему, Софидион? — разочарованно спросил Генрих. — Климат Египта пойдет тебе на пользу, поверь мне!
Софья настаивала на своем:
— Я не могу и не хочу! Я боюсь шторма. Кроме того, это плохо для детей — быть так долго вдали от дома. Будет лучше, если ты поедешь один.
Шлиман привык к такому поведению жены. После последней беременности (это было восемь лет назад) она часто болела. Вирхов, которого Генрих просил о помощи, поставил диагноз: хроническое заболевание. Для возобновления менструации он рекомендовал горячие ванночки для ног с горчицей и каплями раствора железа, против болей в желудке — ледяные компрессы и прием слабого раствора серной кислоты (если возможно, из аптеки) по одной чайной ложке на стакан воды, кроме того, усиленное питание, больше желтка, немного вина или пива и растирания холодной водой.
ПО СЛЕДАМ ФАРАОНОВ
Итак, Шлиман в одиночку отправился в Египет. Он нанял комфортабельную яхту и команду из тринадцати человек. Для путешествия по суше на борту было пять ослов.
Хорошо отдохнувший, 10 января 1887 года он прибыл в Асуан, затем преодолел пороги Нила и в конце января вошел в Абу-Симбел. Из далекой Нубии Генрих сообщал своему другу Русту: «Хотя двадцать восемь лет назад я уже совершал путешествие по Нилу, сейчас мне все кажется таким неизведанным и я заново знакомлюсь с Египтом и Нубией, потому что тяжелая работа, выпавшая на мою долю, все стерла из памяти. Прежде всего должен тебе сказать, что это самая чудесная поездка, которую я когда-либо совершал: красивое безоблачное небо, прекрасный весенний воздух, сменяющие друг друга пейзажи, величественные храмы из далекой древности — все это оказывает благотворное влияние на тело и душу…»
За три месяца путешествия по Египту Шлиман купил множество древнеегипетских предметов, среди них триста ваз, которые отослал затем из Каира для «Музея Шлимана» в Берлине. Несколько недель его яхта простояла на якоре в Луксоре, в гомеровских Фивах «со ста вратами». Когда температура поднялась до 20 градусов, он осмотрел храмы на восточном и западном берегах Нила и, конечно же, гробницы фараонов — настолько они были известны.
В Каире жалкое состояние мумий, которые несколько лет тому назад были перевезены из Долины фараонов в музей Булака, вызвало негодование Шлимана. «Во имя науки, — писал он 19 февраля Антропологическому обществу, — прошу вас сделать что-нибудь для сохранения находящихся в музее Булака в развернутом состоянии мумий могущественных фараонов, среди них мумии Рамзеса II и Тутмоса III; территории, завоеванные ими, простирались за 36-градусную широту, что составляет расстояние от Стокгольма до первого порога Нила в районе Асуана. Очень жаль, что мумии в таком ужасном виде! И поскольку подобное кощунство однажды уже произошло, то существует опасность его повторения, и нужно что-нибудь предпринять, чтобы не допустить этого, иначе они исчезнут в ближайшее время. Я думаю, их следует поместить в стеклянные гробы, которые бы герметично закрывались».
Был бы Шлиман моложе, он бы, вне сомнения, посвятил свою жизнь изучению Египта. Владычество фараонов, высокая культура уже в то время, когда герои Гомера еще и не родились, околдовали Шлимана. Но ему было шестьдесят пять, силы потихоньку убывали.
Между тем, он последовал за своей грандиозной мечтой, сравнимой разве что с поисками гомеровской Трои: Шлиман хотел найти в Александрии затерянную могилу Александра Великого.

Сфинкс в Гизе. Романтика пустыни. Вместе с Рудольфом Вирховым
Шлиман за пятьдесят два дня изъездил Египет вдоль и поперек. За
время, проведенное вместе, его друг, по словам самого Генриха,
помолодел на двадцать лет.
Дерпфельд в это время занял пост первого секретаря Немецкого археологического института в Афинах и не мог, таким образом, помочь на раскопках h Египте. Поэтому Шлиман обратился к своему старому другу Вирхову, связь с которым прервалась два года назад (все из-за пустяка: из-за того, какие места за столом отвели Генриху и Софье во время конгресса Антропологического общества). И хотя Шлиман тогда поклялся, что их дружбе «навсегда пришел конец», он пригласил Вирхова в это путешествие по Египту и на раскопки в Александрии.
Вирхов, не относившийся серьезно к их ссоре, принял приглашение, но выехал в Египет лишь спустя четыре недели. Шлиман в конце января 1888 года начал поиски могилы Александра в центре города — возле вокзала Рамле. Разрешение на раскопки дали высшие чины в правительстве. Но как только он наткнулся на фундамент христианской церкви, разразился скандал. Египетское правительство потребовало прекратить работы. Взамен этого археологу была предоставлена в распоряжение территория на окраине города, где находился дворец Птолемеев. Шлиман вырыл в песке шурф глубиной двенадцать метров. Кроме одной, все находки были незначительными. Когда Вирхов прибыл в Александрию, Генрих сообщил ему, что приостановил раскопки в связи с сенсационной находкой: он раскопал мраморный бюст Клеопатры (VII) — той самой, которая погубила Гая Юлия Цезаря и Марка Антония.
И вновь не оказалось очевидцев этого события, и снова Шлиман остановил раскопки после столь значительной находки, а все эти обстоятельства опять послужили для разного рода грязных слухов. Но как бы там ни было — обнаружил ли Шлиман Клеопатру сам или купил этот бесценный предмет у какого-нибудь феллаха, — она осталась одной из важнейших находок той эпохи.
Пятьдесят два дня продолжалось путешествие Шлимана и Вирхова по Египту. Для Генриха это было возвращение в прошлое, образовательная, исследовательская поездка и, конечно, отдых. О своем
друге Шлиман сказал, что тот за эти дни стал моложе на двадцать лет, хотя их корабль по пути и обстреляли бандиты. Сам же он чувствовал себя не на много лучше, чем раньше. Сухой климат Египта не исцелил его легкие, воспаление которых он подхватил еще в Микенах и на высотах Гиссарлыка.
В начале мая они вернулись в Афины. В багаже археолога находился белый мраморный бюст Клеопатры. Шлиман признавался, что просто влюбился в изображение легендарной царицы.
— Я хотел бы, чтобы Клеопатра до конца моих дней стояла в моем кабинете, — сказал он.
Но никто не знал, что этот конец уже так близок.
XIV. СМЕРТЬ В НЕАПОЛЕ
Исполнителям завещания я рекомендую украсить мою гробницу мотивами из Орхомена и Помпей, предварительно заключив контракт на эту работу с художником.
Из завещания Генриха Шлимана.
«Pseustai hoi Kretes, eis aei pseustai…» («Критяне были и остаются лжецами…») — Шлиман с возмущением бросил письмо доктора Хацидакиса на стол.
Врач с Крита писал, что сбил цену за участок в Кноссе до семидесяти пяти тысяч франков, просил дать задаток в пять-восемь тысяч франков и полномочия для дальнейших переговоров. Сам Шлиман должен пока воздержаться от поездки на Крит, поскольку его приезд может привести только к ненужному взвинчиванию цены на землю.
Своими наглыми требованиями критянин ставил Шлимана в унизительное положение, и это задевало его как коммерсанта. Шлиман решился все же приобрести все имение за навязываемую безумную цену, так как предполагал, что на этой территории находится доисторический дворец царей Кносса. Но когда он узнал, что большая часть земли уже продана, а Хацидакис требует передать все будущие находки музею Гераклиона, Шлиман отказался от покупки. Он сделал это скрепя сердце. Через пять дней после своего шестидесятисемилетия Шлиман признался другу Вильгельму Русту: «Я хочу завершить труд всей моей жизни большим делом — раскопками древнего доисторического дворца царей Кносса на Крите, который три года назад я, кажется, обнаружил».
Неудача с проектом на Крите была для Шлимана, может быть, даже и кстати, потому что главным, по сравнению с работами на Кноссе, в данный момент было его намерение заставить замолчать вновь набиравших силу критиков его троянских раскопок. Эрнст Беттихер, капитан артиллерии в отставке и заклятый враг Шлимана, сумел атаковать его, ставшего всемирно известным археологом, главным образом, благодаря публикациям в газетах — то есть его же собственным оружием. Даже такие серьезные издания, как «Кельнише Цайтунг», «Дойчес Филологенблатт» и «Корреспондентсблатт дер Дойчен Антропологи-шен Гезелынафт», сочли возможным напечатать полные ненависти тирады Беттихера. Не отходя от письменного стола, капитан непрерывно трубил, что Троя — это на самом деле город мертвых и не имеет никакого отношения к Илиону или Гомеру. Для многих казалось интересным выпускать упрямого старика на трибуны научных конгрессов и обсуждать его нелепые высказывания.
Необъективная критика Беттихера ставила под сомнение дело всей жизни Шлимана. Он давно признался самому себе в том, что часто заблуждался, что сокровища Приама — это не сокровища Приама, а стены предполагаемых гомеровских дворцов нужно отнести совсем к другой эпохе. Но Беттихеру удалось поставить под сомнение и всю его теорию Трои, историческую достоверность существования героев Гомера и факт Троянской войны. Все это слишком чувствительно задевало ученого. И он задумал отмщение.
Летом 1889 года Генрих Шлиман поехал в Париж. В этом году во французской столице было большое столпотворение. Париж стал местом про-ведения Всемирной выставки. Кроме того, праздновалось столетие штурма Бастилии. Главным объектом внимания была башня, специально построенная к открытию выставки, ставшая символом того, что может достигнуть окрыленный смелыми фантазиями простой одиночка.
— Густав Эйфель создал помпезную железную конструкцию, затраты на которую поглотили 7,8 миллиона франков. Французское государство вложило всего лишь 1,5 миллиона франков. Уже в первый год техническое чудо дало прибыль, и она обильно потекла в карманы Эйфеля и компании, имевших право получения дохода в течение двадцати лет. Еще до открытия башни Генрих Шлиман поднялся на это сооружение до второй площадки, которая, как он с восхищением отметил, находилась на высоте, «в четыре раза превышавшей высоту башни анкерсхагенской кирхи».
В ПАРИЖЕ С ВИРХОВОМ
Встреча с Вирховом в Париже принесла неудовлетворенность. Берлинский профессор советовал проявить к Беттихеру терпимость, назвал его ненормальным болтуном, на которого не стоит тратить время.
Вирхов и Шлиман были почетными гостями Международного антрополого — археологического конгресса, проходившего во время парижской выставки. Однажды утром Шлиман появился перед зданием, где проходили заседания, в сильнейшем волнении. Размахивая маленькой книжкой, он сунул ее Вирхову под нос.
— Что это, дорогой друг? — удивленно спросил Вирхов.
— Вот, почитайте! Почитайте! — лицо Шлимана побагровело.
Книга называлась «Le Тгоіе de Schliemann, une Necropole a incineration». Автор — Эрнст Бетти-хер.
Вирхов покачал головой:
— Этот человек опаснее, чем я думал. И какая наглость — выпустить эту книгу на французском языке во время конгресса в Париже! Момент выбран очень точно.
— «Троя Шлимана — это крематорий-некрополь»! — яростно стонал Шлиман. — «Вся Троя — кладбище»! Может быть, этот господин объяснит мне, где жили троянцы, если Гиссарлык был сплошным кладбищем!
— Мы оба знаем, что это глупость, — попытался успокоить своего друга Вирхов. — Он просто неисправимый упрямец.
— Упрямец? Он превращает в пепел дело моей жизни. Я ему этого не позволю!
— Что вы хотите предпринять, дорогой друг? Вы же не можете заткнуть ему рот!
Шлиман спрятал голову в плечи. Он действительно не знал, что делать. Происшедшее так глубоко задело археолога, что он почти потерял сон. И вот 13 сентября возникла спасительная идея. Из письма другу Вирхову: «Я трижды восславил Афину Палладу, когда сегодня утром, в половине четвертого, неожиданно придумал отличный способ заставить этого парня навсегда умолкнуть. Средство состоит в том, чтобы немедленно начать под-готовку работ в Трое, провести туда две узкоколейки для вывоза мусора, построить такие же, как раньше, деревянные дома, создать себе в помощь генеральный штаб из натуралистов, архитекторов и археологов и пригласить Беттихера как ассистента-консультанта».
Серьезные затраты на это предприятие не волнуют Шлимана. Беспокоит его только здоровье. Левое ухо совсем не слышит, правое болит, он страдает от внезапных приступов глухоты. Изможденное тело маленького человека нуждается в отдыхе.
Шлиман никогда особенно не заботился о здоровье. Напротив, он постоянно подвергал себя крайним перегрузкам и попросту игнорировал симптомы болезни. На сорок девятом году жизни у Шлимана начали дрожать руки. Причиной был ленточный червь. Паразит мучил Шлимана одиннадцать лет. И только после изгнания его с применением сильных медикаментов дрожание рук прекратилось.
В шестьдесят один год у Шлимана стали заметны явные признаки истощения организма. После шестой экспедиции в Трою он сообщил своему издателю Брокгаузу, что «ужасно переутомился и должен отложить все работы, потому что иначе машина выйдет из строя». Уже в возрасте пятидесяти трех лет — перед раскопками Микен — у него появились тревожные мысли. «Мои годы сочтены», — заметил он в 1875 году, но затем он обнаружил золотую маску Агамемнона и его пошатнувшееся здоровье заметно улучшилось.
Теперь же к глухоте присоединились сильные боли. Боль в ушах доставляла беспокойство еще со времени его первой поездки в Америку. В 1864 году, во время кругосветного путешествия, на Яве ему прооперировали ухо, в клинике Батавии был удален нарост. Сейчас его снова мучил тот же недуг. Но Шлиман не мог найти времени для лечения. Он страдал ужасно, но Троя была ему важнее.
«В ШЕСТЬДЕСЯТ СЕМЬ ЛЕТ ВЫ УЖЕ НЕ ЮНОША»
Сырая, холодная погода, характерная для Трои в ноябре, была губительна для Шлимана. Но ни просьбы Софьи, ни увещевания Дерпфельда, Вирхова и Хумана, согласившихся принять участие в Троянской конференции (таково было ее официальное название), не смогли заставить Шлимана отказаться от своих планов.
Карл Хуман, нашедший Пергамский алтарь, жил в близлежащей Смирне. Зная все трудности раскопок поздней осенью, он высказал серьезные опасения:
— В шестьдесят семь лет вы уже не юноша. Просто удивительно, что боги так благоволят к вам, как бы одаривая вас вечной молодостью! Вам нужно только не искушать их, вызывая совершенно ненужный гнев пиро-некрополомана Беттихера. Этот господин явно запутался, он одержим своими идеями, и вряд ли удастся вам или кому-то другому переубедить его. Но в данной ситуации колоссальная заслуга этого человека заключается в том, что из-за него вы хотите продолжить свои исследования в Трое. За это ему можно многое простить!
Хуман предоставил своему коллеге Шлиману самого лучшего смотрителя — Яниса Лалоудиса «Он проявил себя как честный человек, пользующийся большим авторитетом у рабочих. Хорошо руководит ими, прекрасно разбирается в людях и знает каждому цену, ведет списки, делает четкие зарисовки, везде сам во всем участвует, делает гипсовые слепки, плотничает с младых лет; каменотес из Тиноса».
В намерения Шлимана входило заманить своего главного врага и критика Беттихера в Трою, с тем чтобы под руководством независимых специалистов тот составил себе представление об археологических реалиях. Но Шлиман недооценил две вещи, которые ему следовало бы знать: троянскую осень и упрямство отставного капитана.
Осень разразилась непогодой, ледяными ветрами, ливнями, так что во время подготовки к его новой кампании Шлиману приходилось часто часами бродить по колено в воде. Из письма от 10 ноября 1889 года к Софье: «Так как поставленная палатка пропускала воду, я быстро пошел домой. Но вся дорога до Чиблака представляла собой один глубокий стремительный поток, по которому я… с трудом продвинулся за полтора часа на небольшое расстояние…»
Несмотря на это, Шлиман провел все необходимые подготовительные работы перед «маленькой гиссарлыкской конференцией», как назвал это мероприятие ученый. Для оплаты дорожных расходов Беттихера он перевел на счет в Берлинский банк Роберта Варшауера тысячу марок. Но Беттихер потребовал семь тысяч двести марок. Только после того, как Дерпфельд, находившийся в то время в Берлине, пригрозил, что сообщит во все газеты о его беззастенчивых притязаниях, капитан в отставке согласился принять выделенную сумму.
ВСТРЕЧА ЭКСПЕРТОВ В ГИССАРЛЫКЕ
Кроме Беттихера, Шлимана и Дерпфельда, в конференции приняли участие архитектор Георг Ниман из Венской академии наук и археолог и картограф майор Бернхард Штеффен из Берлина.
Сам Шлиман во время встречи умышленно держался в тени. Возможность показывать развалины и давать пояснения он предоставил своему сотруднику Вильгельму Дерпфельду. После шести дней скрупулезной проверки в присутствии независимых свидетелей Штеффена и Нимана произошло объяснение с Беттихером. Последний продолжал отстаивать свои старые взгляды, несмотря на то, что Дерпфельд наглядно продемонстрировал ему целый ряд несоответствий.
— Если вы не хотите поверить тому, — сказал Дерпфельд, — что видите своими глазами, то все мы только зря теряем здесь время.
Беттихер ответил с вызовом:
— Ну, если вы так считаете…
Дерпфельд продолжал:
— Вы публично обвинили господина Шлимана и меня в том, что мы якобы фальсифицировали чертежи и даже снесли остатки стены.
Беттихер раздраженно парировал:
— Я сказал это только в интересах выяснения истинности научной гипотезы. Я не вижу в этом оскорбления. Во всяком случае, я не хотел оскорбить ни вас, ни Шлимана…
В дискуссию вмешался Шлиман:
— Господин Бетгихер, я требую, чтобы вы публично отказались от ваших обвинений и извинились! Так же публично, как вы назвали меня лжецом!
Капитан в отставке коротко ответил:
— Нет!
Шлиман, не ожидая другой реакции, так же коротко сказал:
— Лошади для вас поданы.
Беттихер повернулся и, не попрощавшись и не подписав подготовленного протокола по итогам шестидневных дискуссий, вышел.
Шлиман сообщал Вирхову: «Мне было страшно неприятно видеть, как он обращался с доктором Дерпфельдом, самым лучшим в мире знатоком древней архитектуры, словно с тупым подмастерьем, и как тот все терпел, чтобы только прийти к общему соглашению».
Вирхов — Шлиману: «История с Беттихером выходит за рамки моих представлений о характере этого господина. Здесь, как мне кажется, можно отметить одно смягчающее обстоятельство: за всеми его многочисленными высказываниями явно скрывается нездоровая психика. Впрочем, я никогда с ним не разговаривал и поэтому мне следует воздержаться от выводов. Но
я не могу не констатировать, что он слишком циничен, чтобы удержаться в рамках нормального рассудка. Я могу только посоветовать в дальнейшем с ним не связываться».

Конференция в Трое в 1890 году. В центре — супруги Бабен. Инже-
нер К. Бабен, эксперт по раскопкам, представлял Академию словес-
ности Парижа. Справа от мадам Бабен — Генрих Шлиман. Слева от
мсье Бабена — Вильгельм Дерпфельд.
Беттихер выехал в Константинополь и возобновил там нападки на Шлимана и Дерпфельда. В «Левант Геральд» он опубликовал новую статью, в которой «после проверки обстоятельств на месте» повторил свои упреки и клеветнические обвинения.
Шлиман, почти совсем глухой и очень больной, видел только один способ заставить замолчать строптивого психопата Беттихера: выставить на посмешище всему миру его высказывания. Поэтому он пригласил в Трою ведущих ученых-археологов на международную Троянскую конференцию, которая должна была состояться весной. Если бы ему удалось убедить дюжину признанных экспертов в правоте своего дела, никто бы не стал уже обращать внимания на глупые газетные статьи не на шутку разошедшегося артиллерийского капитана.
21 января 1890 года Шлиман писал в Лейпциг Брокгаузу: «Тем самым будет достаточно сил и средств, «чтобы отстоять правду перед полусумасшедшим борзописцем».
Шлиман распорядился построить на Гиссар-лыке деревню из довольно комфортабельных домов для ожидавшихся гостей (рабочие вскоре окрестили ее Шлиманополисом), а в дополнение к двум имеющимся была проложена еще одна узкоколейка. Приглашения на открывавшуюся 25 марта недельную встречу экспертов были разосланы в Грецию, Германию, Францию, Америку и Турцию.
За исключением краткого отсутствия на Рождество, Шлиман провел зиму в жгучем холоде на Гиссарлыке (внутри его дома температура частенько опускалась до нуля градусов). Шлиман, конечно, знал, что это было слишком вредно для его здоровья, но он также знал, что конференция может быть для него последней возможностью отстоять себя и свою Трою.
СПОРНОЕ ДЕЛО О ТРОЕ
На встречу экспертов 25 марта в Гиссарлык прибыли тайный советник доктор Вирхов из Берлина, тайный советник доктор санитарной службы В. Гремпер из Бреслау, профессор археологии Ф. фон Дун из Гейдельберга и доктор Карл Ху-ман, директор Королевских музеев в Берлине. Из Константинополя приехал генеральный директор Оттоманского музея Хамди-бей, из Дарданелл — американский консул Фрэнк Калверт, от Смитсонского университета в Вашингтоне — директор Американской школы классических исследований в Афинах доктор Чарльз Уолдстейн, от Академии словесности в Париже — инженер К. Бабен, известный своими многолетними раскопками с М. Дьелефуа в Сузах. Эрнст Беттихер приглашен не был.
Ученые мужи заседали педелю, сделали заключение по троянским раскопкам (достаточно критическое, хотя все они прибыли сюда на средства Генриха Шлимана) и 31 марта 1890 года подписали следующее заявление.
1. Руины Гиссарлыка расположены на крайней Вершине тянущейся с Востока на запад горной цепи, переходящей В долину Скамандра. Этот пункт, с которого хорошо просматривается равнина и Въезд В Геллеспонт по другую ее сторону, очень удобен для сооружения укрепленной позиции.
2. Здесь Видны стены, башни и Ворота, представляющие собой укрепсооружения различных эпох.
3. Обозначенная красным цветом В книге «Троя» (рис.ѴІІ) и «Илион» (рис.ѴІІ) опоясывающая стена Второго поселения имеет основание из известняка, заложенное большей частью под углом; над ней поднимается Вертикальная стена из необожженного кирпича. На некоторых участках опоясывающей стены на кладке из кирпича-сырца сохранилась даже штукатурка. Ранее были открыты три башни этой стены, сохранившие еще Верхние строения из необожженного кирпича. Они расположены В Восточной части, где каменное основание имеет наименьшую высоту и, следовательно, меньше всего нуждается в укреплении стены контрфорсом.
4. Поперечный разрез этой стены, произведенный продолжением траншеи XZ, доказывает отсутствие «коридоров», о существовании которых делались утверждения. Что касается местонахождения кирпичной стены, то это единственное, что могло вызывать предположение о наличии «коридоров» В стенах зданий А и В, располагавшихся на некотором удалении друг от друга. Эти две стены относятся к двум различным зданиям.
5. Гиссарлыкский холм никогда не застраивался 8 виде террас — способом, при котором отдельные выступы сажаются по мере увеличения высоты. Здесь Же наоборот: каждый вышележащий слой с остатками строений занимает большую площадь, чем находящийся непосредственно под ним.
6. Обследование отдельных слоев насыпи показало следующее: 8 самом нижнем слое видны лишь несколько параллельных стен. Там нет ничего, что могло бы свидетельствовать о сжигании умерших. Второй слой, представляющий большой интерес, состоит из руин строений, самое крупное из которых идентично дворцам Тиринфа и Микен. В следующих затем слоях расположены друг над другом Жилые помещения, построенные в различные периоды. Во многих из них находились большие кувшины (пифосы). И, наконец, 8 верхнем слое видны фундаменты греческо-римских зданий и многочисленные части строений этого периода.
7. Многочисленные пифосы, которые просматриваются в третьем слое, располагаются еще 8 их первоначальном вертикальном положении — где по отдельности, где скоплениями. Во многих из них содержится большое количество В той или иной степени обуглившейся пшеницы, гороха, масличного семени, но никаких человеческих останков — ни обычных, ни кремированных. На стенках пифосов нет никаких следов Воздействия сверхвысоких температур.
8. Мы делаем заявление от имени Всех, что не нашли ни В одной части руин каких-либо признаков, которые могли бы свидетельствовать о сжигании умерших. Следы Воздействия огня, имеющие место В различных слоях (самые значительные — Во Втором) «сгоревшего города», являются В основном результатом Пожаров. Сила пожара Во Втором слое была так Велика, что необожженные кирпичи частично запеклись, а Внешняя их поверхность даже остекленела.
В заключение мы свидетельствуем, что содержащиеся В книгах «Троя» чертежи полностью соответствуют действительности и что мы Во Всем разделяем Взгляды господ Нимана и Штеффена, изложенные ими В протоколе конференции от 1–6 декабря 1889 года.
Подписали: Бабен, Калверт, Дун, Гремплер, Хамди-бей, Хуман, Вирхов, Уолдстейн.
Гиссарлыкское заявление разочаровало Шлимана. Оно никак не подтверждало его теорию Трои и оставляло открытыми многие вопросы. В то же время оно и не опровергало концепцию Шлимана. Отвергнуто было только утверждение Бетти-хера о крематории-некрополе. Таким образом, археолог добился своей ближайшей цели.
В тот же день Шлиман отправил текст заявления в лондонскую «Таймс», «Кельнише Цайтунг», «Националь Цайтунг» в Берлине, «фоссипіе Цайтунг Берлин», «Тэглихе Рупдшау Берлин», «Фрайе Прессе Вин», «Альгемайне Цайтунг» в Мюнхене и «Берлинер филологише Вохеншрифт».
СТРАННОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ ШЛИМАНА
Все ученые, за исключением Вирхова, разъехались. Вирхов и Шлиман (обоим было тогда по шестьдесят восемь лет) задумали подняться в горы Ида, на высоту 1767 метров. Это была не критская Ида, а расположенная южнее Трои горная цепь, одна из вершин которой, Гаргорос, считалась местом бракосочетания Зевса и Геры и местом, где Парис сделал свой знаменитый выбор.
Впервые Вирхов обратил внимание на странное поведение своего друга. Как и все знавшие Шлимана, он объяснял это глухотой. А она к тому времени так усилилась, что нужно было повторять ему все по два раза, да еще очень громко. Вирхов уже привык к этому и не испытывал трудностей. Но тут Шлиман заговорил беспорядочно. Каждое второе предложение он начинал гомеровским восклицанием: «Слава Афине Палладе!» — и, более того, понес что-то о встречах с богами и о богатых сокровищах и дарах.
Чрезвычайно неохотно он позволил Вирхову осмотреть себя.
— Я здоров! У меня все в порядке! — возбужденно кричал он. — А уши у меня всегда болели. Слава Афине Палладе!
Вирхов нервно поправил очки.
— Дорогой друг, — начал он осторожно, — слуховой проход левого уха у вас полностью закрыт. Я предполагаю, там появились новообразования. И правое ухо ненамного лучше. Вы поняли, что я сказал?
Шлиман кивнул. Но Вирхов сомневался, что эти слова дошли до его друга.
Вирхов почти кричал:
— Я рекомендую срочную операцию! Срочную! Этот нарост может затронуть мозг.
— Я еще вполне хорошо слышу! — резко возразил Шлиман. — Слава Афине Палладе! Я чувствую себя хорошо. Я еще никогда не чувствовал себя так хорошо. Зачем операция? И даже прекрасно, что я слышу не все, о чем болтают люди.
— Я говорю серьезно, — уговаривал Вирхов, — вам нужно прооперироваться в Германии. Подумайте о своей жене и детях!
— Оперироваться? — Шлиман уставился в пустоту. — Слава Афине Палладе! Мне не нужна операция.
Вирхов не отступал:
— Я знаю профессора Германа Шварце в Галле. Он считается самым лучшим отиатром в мире…
— Нет времени. Нужно откопать Трою. Может быть, позже, через год, я поеду в Галле!
Шлиман не догадывался, что своей несговорчивостью сам открывал двери смерти, не знал, что опухоль уже подобралась к мозгу.
Руководство раскопками в Трое он теперь поручил своему ассистенту Дерпфельду. И снова пошел на большие расходы, чтобы найти свою Трою.
Его ждало разочарование. Но ученый понял, что Дерпфельд был прав, ведя поиски Трои в шестом слое. Стены этого слоя были намного мощнее, чем на том месте, где он искал Трою. Но главное — по типу кладки они имели сходство со стенами Тиринфа и Микен.
В отличие от Шлимана, Дерпфельд копал не спускаясь с холма в долину, а, наоборот, поднимаясь снизу на холм. Это имело неоценимое преимущество: таким способом можно было избежать смешения слоев и вести работы все время в одном слое.
Раскопки в долине показали, что размеры Трои были гораздо больше, чем предполагал Шлиман. Периметр одной только крепостной стены составлял пятьсот сорок метров. Найденная керамика и следы пожаров доказывали, — что гомеровская Троя существовала. Но царский дворец на вершине холма относился не к гомеровскому периоду. Этот дворец, Пергамос Трои, за ее историю в несколько тысячелетий много раз разрушался и снова отстраивался на том же месте и из тех же камней. Следов же дворца Приама — никаких. А сокровища Приама?
Дерпфельд, которому однажды июньским вечером Шлиман задал этот вопрос, задумчиво покачал головой. Он знал: ничто не может огорчить старого Шлимана больше, чем сомнение в существовании сокровищ Приама. Поэтому он предпочел промолчать.
Шлиман сумел правильно оценить реакцию коллеги и возразил только:
— Ну хорошо, пусть тогда это будут сокровища господина Шульце…
«Сокровища господина Шульце» — это единственная шутка Генриха Шлимана, которая дошла до нас. На протяжении всей своей жизни Шлиман был чрезвычайно серьезным человеком. Он никогда не смеялся — во всяком случае, нет ни одного его портрета, на котором было бы заметно даже подобие улыбки. Это позволяет предположить, что слова о сокровищах господина Шульце вовсе и не были шуткой, потому что в конце 1889 года у Генриха Шлимана появилось еще больше странностей, чем было до сих пор.
Его мучили галлюцинации, постоянные мысли о смерти, обнаружились симптомы шизофрении — явное следствие опухоли головного мозга. Погоня за навязчивой идеей, которой он посвятил всю жизнь, теперь перешла в ту стадию, когда неживое оживало, реальное становилось нереальным. Погруженный в себя, глубоко задумавшись, Шлиман блуждал по троянским холмам, встречался с богами и героями и снова находил сокровища, которым приписывал выдающееся значение (четыре богато украшенных топора, не имевших отношения к Трое).
По письмам Шлимана можно судить о том, что мучило и терзало его в последний год его жизни. Пессимизм и чрезмерное тщеславие, прозрение и иллюзии, скрытность и болтливость сменяли друг друга. Его поведение выражалось иногда в гротескных формах, близких к умопомешательству. Из письма Рудольфу Вирхову: «Когда я восьмого числа (июль 1890 года) обнаружил необыкновенный по ценности клад, даже более значительный, чем клады Микен, я в умилении пал ниц, благоговейно целовал стопы богини, страстно моля ее о дальнейшей милости и сердечно благодаря за снизошедшую милость».
Под кладом необыкновенной ценности Шлиман подразумевал топоры. Директору музея в Берлине Александру Конце Шлиман писал: «Случилось то, что в конце июня я увидел стоявшую передо мной богиню Палладу, державшую в руках сокровища, что повергло меня в глубокое волнение. Непроизвольно я упал перед ней на землю. Я плакал от радости, гладил и целовал ее ноги…»
Прусскому министру культуры и генеральному директору Прусских королевских музеев в Берлине Шлиман послал «секретное донесение» об обнаружении топоров и доверительно сообщил Вирхову, что даже его жена Софья не знает о новой находке.
Он проявил необычную активность в общении с греческим королем Георгом I. Шлиман писал ему, что продолжает работы в Трое и нашел там список жителей македонского периода. «Перепись содержит очень много неизвестных, встречающихся здесь впервые имен. Например, мужские имена: Уаилоуполис, Эйкадиас, Ноумениос, Тифомаркос, Ойфес, Протофлес Аттинос. Женские имена: Скамапдротика, Ламприс, Никогерис, Мюкиппа, Асинна… Было бы замечательно, если бы эти имена снова вошли в употребление. Каждая дама с гордостью стала бы носить троянское имя и зваться, к примеру, Скамапдротикой».
Канцлеру князю Отто фон Бисмарку он писал: «Имею честь сообщить Вашему Высочеству, что в связи с жестокими нападками моего многолетнего оскорбителя капитана в отставке Бетти-хера я был вынужден 1 ноября прошлого года возобновить раскопки, которые после краткого зимнего перерыва продолжал до настоящего времени… К сожалению, 1 августа я вынужден прекратить работы. Но если буду жив, то продолжу их со всей решительностью 1 марта 1891 года…»
ЗАПЛАНИРОВАННЫЙ КОНЕЦ
Но работы уже не возобновились. Шлиман, самолично составивший план собственной биографии и прошедшийся уверенной рукой по всем его пунктам, с юных лет игравший главную роль в придуманной им сказке, почувствовал, что эта роль ему уже не по силам. В его разбухших ушах гремели голоса богов и героев, которые слышал лишь он. Шлиман почти не воспринимал на слух окружавший его мир. Эйфория, которая звала его в гомеровское царство, постепенно переходила в депрессию. Он думал о конце.
Как и следовало ожидать, Генрих Шлиман точно предусмотрел все детали на случай своей смерти. Его обширное завещание, несколько раз уточненное, лежало у нотариуса. Генрих приобрел участок земли на Центральном кладбище Афин недалеко от Акрополя. Ведущий архитектор Эрнст Циллер, построивший «Илиоу Мелатрон», в течение пяти лет готовил проект мавзолея Шлимана, стоивший 70 тысяч франков. Была достигнута договоренность об увековечении его имени с издателем Брокгаузом в Лейпциге и Королевским музеем в Берлине. Сын Агамемнон должен был позаботиться о деле его жизни.
Его слава — Генрих Шлиман знал это — сделала его бессмертным. Жизнь и смерть имели второстепенное значение. Маленький великий человек больше смерти боялся бесславия.
При осмотре в Немецком госпитале в Константинополе доктор фон Меллингер поставил диагноз: двухсторонний экзостоз. В левом ухе болезнь зашла так далеко, что требовалось удаление всего органа. А правое нужно было срочно оперировать.
Шлиман реагировал спокойно. В начале сентября он советовался с Вирховом: «Есть ли хотя бы в какой мере опасность для жизни, чтобы успеть привести дела в надлежащий порядок на случай, если я не вернусь?»
Вирхов рекомендовал поторопиться. Но прошло еще почти два месяца, пока Шлиман решился на поездку в Галле. Операция была сделана 13 ноября 1890 года и длилась сто пять минут. Для обезболивания использовался хлороформ. Профессор Шварце решился оперировать сразу оба уха. Нарост в правом ухе врач удалил через слуховой проход. С левой стороны опухоль была слишком большой и проникла очень далеко. Поэтому Шварце отсек левое ухо, соскоблил нарост и пришил ухо на место.
Страдая от сильной боли, Шлиман два дня спустя сообщал об удачной операции Вирхову: «После операции я ничего не чувствовал и не видел, кроме стола, где мне пришлось лежать. Стол ничем не отличался от тех, на которых препарируют трупы…» И Брокгаузу: «Конечно, я был бы очень рад видеть вас, но не в состоянии принять, так как совершенно глух, а голова опутана толстым слоем повязок».
Хотя из-за сильной боли ему трудно было разговаривать, 13 декабря, вопреки воле врачей, Шлиман покинул клинику в Галле. Он поехал в Берлин, чтобы просмотреть новую экспозицию «Коллекции Шлимана» в этнологическом музее, в воскресенье за завтраком встретился с Вирховом, a в 13 часов с Потсдамского вокзала отправился в Париж, чтобы обсудить дела со своим агентом и управляющим доходными домами.
Париж, 15 декабря. Зима заявила о себе необычно рано. Улицы продувались ледяным ветром. Температура воздуха — минус 18 градусов. Из-за ложно понимаего чувства тщеславия Шлиман вместо повязок прикрывал уши простым шарфом. Беспокоясь всегда больше о здоровье своей болезненной жены, чем о своем, он писал Софье в письме (очевидно, последнем): «Получил шесть твоих писем, рад, что тебе лучше. Это для меня самая важная новость. Наконец-то ты поправилась, твое тело здорово, ты можешь нормально ходить, не утомляясь. Пусть Андромаха взвешивает тебя каждую неделю. Я не могу привезти тебе большую скатерть: нет места. Мы купим ее здесь, в Париже, вдвоем. Правое ухо, совсем зажившее, простыло во время отъезда из Галле, потому что я забыл заложить его ватой. Поэтому я снова ничего не слышу и пойду завтра к врачу. Я уверен, что нет ничего страшного и в среду вечером смогу уехать. Я хочу пробыть два дня в Неаполе (музей)».
Два дня спустя Рудольфу Вирхову: «Слава Афине Палладе, я уже слышу правым ухом и надеюсь, что и левое поправится. Сердечно поздравляю вас всех с Рождеством и Новым годом. Пусть новый год принесет благополучие и радость вашей семье. Надеюсь, что смогу выехать сегодня вечером в Неаполь».
Это был последний привет старого друга.
ОДИНОКАЯ СМЕРТЬ МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА
Спрашивается, что нужно было Генриху Шлиману в Неаполе? Железнодорожная линия из Парижа в Афины через Неаполь — кратчайший путь домой. Шлиман уже заказал билет на поезд из Неаполя в Афины. В пути его мучили сильные боли, поэтому он решил показаться врачу в Неаполе и только через неделю ехать дальше. Софье он послал телеграмму: «Подождите отмечать Рождество до моего приезда. Нужна медицинская помощь. Не беспокойтесь. Генри».
В Неаполе Генрих Шлиман поселился в «Гранд-отеле». Он давно был знаком с его владельцем Хаузером. И именно Хаузер порекомендовал врача, доктора Коцолиии. Коцолини хотел положить пациента в свою клинику, по Шлиман заупрямился.
Таблетки и инъекции на некоторое время улучшили его состояние. Едва только боли уменьшились, Шлиманом овладело странное беспокойство. Он не мог больше сидеть в отеле.
— Я хочу еще раз посмотреть Помпеи I — заявил Генрих врачу.
Но тот настойчиво отговаривал:
— Очень холодно и ветрено! В вашем состоянии это риск.
Шлиман не поддавался на уговоры, и Коцолини решил сопровождать строптивого пациента. В канун Рождества 1890 года Шлиман и Коцолини бродили вдвоем по безлюдным, продуваемым сквозняками руинам Помпей. Экскурсия в давно минувшую эпоху была приятна Шлиману, как весенняя прогулка. Разговаривать ему было трудно. Двое мужчин молча шагали по вымершему городу. И только потом Коцолини пришло в голову, что его тяжело больной спутник в руинах разрушенного города искал свою смерть.
Рождественский вечер Генрих Шлиман провел одиноко и безучастно в фойе отеля. Отсутствующим взглядом он уставился в пустоту. Разговаривать он уже не мог. Время от времени поглядывал на входную дверь, как будто ожидал кого-то. В полупустом отеле раздавались рождественские песнопения. Шлиман их не слышал. В одиночестве старик блуждал по своему прошлому. Потом он поднялся и ушел в свою комнату.
В эту грустную рождественскую ночь в «Гранд-отеле» Неаполя состояние его здоровье трагически ухудшилось. Утром в первый день Рождества Шлиман незаметно вышел из отеля и направился к доктору Коцолини. Недалеко от Пьяца делла Санта Карита он без чувств упал на улице.
«Guarda, chec'e un ubriako!» («Пьяный!») — возмущались прохожие. Кто-то сообщил в полицию. Полицейские доставили Шлимана в ближайшую больницу, где его отказались принять. У лежавшего без сознания незнакомца не было с собой ни документов, ни денег — только рецепт, выписанный доктором Коцолини.
Коцолини опознал больного: это великий Генрих Шлиман, раскопавший Трою, нашедший сокровища Приама. Между тем Шлиман пришел в себя и настойчиво дал понять Коцолини, что его нужно безотлагательно доставить в отель.
Четверо мужчин несли маленького человека через холл «Гранд-отеля». Голова его свесилась на грудь, лицо было серым, глаза закрытыми.
Свидетелем происходящего был один из гостей отеля, впоследствии стяжавший всемирную

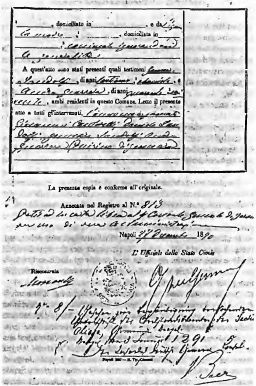
Выписка N 29 из книги регистрации актов о смерти города Неаполя за 1890 год.
Отделом «Uffiziale dello State Civile» состав лен акт о смерти Энрико Шлимана за N 183.
славу, — Генрих Сенкевич, лауреат Нобелевской премии и автор «Quo vadis». Сенкевич наблюдал эту сцену, сидя в кресле в холле гостиницы.
К нему подошел Хаузер:
— Знаете, кто этот больной?
— Нет, — ответил постоялец.
Хаузер произнес таинственно:
— Это великий Шлиман!
— Бедный великий Шлиман! — ответил Сенкевич. — Он раскопал Трою и Микены и заслужил бессмертие, а вот теперь сам лежит на пороге смерти.
Состояние Шлимана было крайне тяжелым. Доктор Коцолини пригласил в «Гранд-отель» врача, профессора фон Шроена. Профессор поставил диагноз: двусторонний гнойный отит, перешедший в воспаление мозговой оболочки (менингит) и односторонний паралич.
Профессор срочно созвал консилиум из семи специалистов. В соседнем с комнатой Генриха Шлимана помещении врачи совещались о том, что делать. После многочасового обсуждения они пришли к заключению: необходима трепанация — вскрытие черепа.
Но операция уже не понадобилась. Пока восемь врачей совещались, в соседней комнате отеля умер Генрих Шлиман. Это было 26 декабря 1890 года в 15.30. Одинокая смерть независимого одиночки…
«Шлиман скончался!» — срочное сообщение телеграфного агентства казалось неправдоподобным. Берлинское телеграфное бюро «Герольд» запросило Вирхова: «Только что получили сообщение из Лондона следующего содержания: "Как стало известно из Неаполя, во время консилиума врачей, принявших решение о трепанации черепа, внезапно скончался от воспаления мозга и осложнения на легкие известный археолог Генрих Шлиман. Шлиман имел намерение выехать во вторник в Афины". Убедительно просим ответить, получено ли вами подобное извещение».
Софья Шлиман стойко встретила скорбную весть: «Мою тяжелую утрату отягощает горькая мысль о том, что меня не было с ним в его последний час. Если бы он написал, что плохо себя чувствует, с какой радостью я поспешила бы к нему! Но нет… Заботливый человек, он не хотел пугать меня и всегда был так уверен в своем крепком организме, что не сообщал мне о своих болезнях…»
МИР ПРОЩАЕТСЯ С ВЕЛИКИМ ЧЕЛОВЕКОМ
Тело Шлимана было забальзамировано профессором фон Шроеном и помещено в морг английского кладбища в Неаполе. Вильгельм Дерпфельд и старший брат Софьи, Панагиос, организовали его доставку в Афины. 4 января 1891 года в «Илиоу Мелатроне» состоялась траурная церемония.
Еще при жизни Шлиман продумал инсценировку этого акта до малейших деталей. В центре зала для приемов был помещен открытый гроб. В головах стоял бюст Гомера. В гробу, по обе руки умершего, лежали две книги: «Илиада» и «Одиссея». Вильгельм Дерпфельд произнес такую надгробную речь, которой никто от него не ожидал. Создавалось впечатление, будто on читал текст, только что составленный его патроном.
Почившему ученому, столь часто и нещадно ругаемому при жизни, было посвящено много лестных слов. Кайзер Германии и король Греции выразили соболезнование. Послы Германии, Америки, Франции, Греции и Турции признали в покойном Шлимане земляка, своего человека. И каждый был по-своему прав. «Имя Шлимана, — отметил его друг Вирхов, — стало хорошо известно людям всех национальностей. Никогда не должно быть забыто, как этот — в лучшем смысле слова — создавший самого себя человек, разыскавший в результате многолетнего упорного труда за границей богатые сокровища, посвятил остаток жизни решению труднейших научных задач с помощью приобретенных им средств, добровольно передав в дар своему отечеству самую дорогую часть своих находок, единственную, которой он мог свободно владеть!
…У него были великие планы и великие достижения. Он умел преодолевать неблагоприятные обстоятельства постоянным, неутомимым трудом и при всей интенсивности деловой жизни не отказался от идеалов, зародившихся в его сердце еще в детские годы. Своих успехов он добился собственными силами. И при всех превратностях судьбы оставался верен себе. Его постоянной заботой было стремление к новым знаниям».
Семидесятипятилетний Эрнст Курциус, постоянный противник Шлимана, с присущей этому возрасту мудростью решился на самокритику. «Нередко высказывалось суждение, — сказал он примирительно, — что ученые-специалисты выказывают благородную отчужденность в отношении работы непрофессионалов. Но профессора, сердца которых привержены правде, не хотят и не должны обосабливаться в закрытую касту. Большая заслуга нашего Шлимана как раз и состоит в том, что он своим существенным вкладом пробил брешь в этом деле. Сейчас частенько говорят, что живой интерес к классической древности, одухотворенный эпохой Лессинга, Винкельмана, Гердера и Гете, уже угас. Но с каким напряженным вниманием весь просвещенный мир по эту и по ту сторону океана следил за успехами Шлимана! Разве мы не знаем, что когда в газете "Таймс" были поставлены под сомнение результаты его исследований, в Лондоне собрался стихийный митинг, чтобы безотлагательно обсудить этот вопрос, как будто это была злободневная проблема политической жизни! Количество столетий, отделяющих нас от прошлого, не является мерилом его значимости для пашей духовной жизни. Самое далекое может стать для нас самым близким, значительным и духовно родным.
Значение Шлимана и его трудов возрастали параллельно друг другу. Результаты его работ намного превосходят все его планы. В глазах простой публики он был кудесником с волшебной палочкой, отыскивающим лежащие в глубоких потемках сокровища. А представители ученого мира должны быть благодарны ему за то, что выходит далеко за рамки ценности всех редких находок и серьезно углубляет наши общеисторические познания.
Много тайн нужно еще раскрыть. Сама Троя и ныне являет собой арену серьезных разногласий. Но дорога проложена, занавес открыт, сброшено покрывало, закрывавшее основание гомеровского мира. Мы благодарны за это Генриху Шлиману».
Престарелый Уильям Гладстон, обращаясь к Софье, писал: «В начале пути он боролся с неверием и равнодушием, но они рассеялись, как туман в лучах солнца, когда всем стало ясно огромное значение его исследований. История его детства и юности так же замечательна, как и события его дальнейшей жизни, потому что с начала и до конца их направляла единая цель».
Софья Шлиман, болезненное создание, стала вдовой в тридцать восемь лет. Она последовала за свои мужем в мир иной через сорок два года. О своем будущем и о будущем детей Софье не пришлось беспокоиться: Генрих предусмотрел все в своем завещании. Агамемнон Шлиман стал дипломатом. Будучи бездетным, он прожил в Париже до 1954 года в ранге греческого посланника. Андромаха, жена афинского адвоката Леона Меласа, умерла в 1962 году.
Сокровища Приама, завещанные Генрихом Шлиманом немецкому народу, через четыре тысячи лет после их сокрытия, сто двадцать лет после их обнаружения и пятьдесят лет после их последнего исчезновения стали объектом спора нескольких наций.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Завещание Генриха Шлимана10
Я, Генрих Шлиман, гражданин Соединенных Штатов Америки, официально проживающий в городе Индианаполис, штат Индиана (Соединенные Штаты Америки) и постоянно проживающий в Греции, в собственном доме в Афинах, 10 января одна тысяча восемьсот восемьдесят девятого года, будучи в здравом рассудке и твердой памяти, составил и собственноручно подписал настоящее завещание следующего содержания:
1. Объявляю моими наследниками моих четверых детей, а именно: моих двоих детей от первого брака — Сергея и Надежду Шлиман; моих двоих детей от второго брака — Андромаху и Агамемнона Шлиман.
2. Завещаю моему сыну’ Сергею Шлиману (1855 года рождения) как его долю наследства мой дом на рю д'Об-рио, 7,картье дю Тампль, и мой дом на рю де А’Аркад, 33, картье де ля Маделэн в Париже; а также — единовременно 50 000 (пятьдесят тысяч) франков золотом.
3. Завещаю моей дочери Надежде, родившейся в июле 1861 года, как ее долю наследства мой дом на рю де Кале, 6, близ рю Бланш в Париже и мое владение на Бьюкенен-стрит, 161, в Индианаполисе (штат Индиана), а также единовременно 50 000 (пятьдесят тысяч) франков золотом. Документы на владение вышеуказанными домами находятся на хранении у нотариуса Альберта Лаверне (рю Тэту, 13, Париж). Заявляю, что ни один из этих домов не отягощен долгами. Свидетельство на мое вла-
дение в Индианаполисе прилагается к данному завещанию. Это владение также не имеет долгов.
4. Так как все три дома в Париже всегда удачно сдавались
внаем и приносили отличный доход, советую моему сыну Сергею и моей дочери Надежде не продавать их, а оставить управление ими за Полинисом Береном (Париж, шоссе д'Онтен, 25), который в течение двадцати трех лет управлял ими в полном согласии со мной. Если моя дочь Надежда захочет продать владение в Индианаполисе, то она должна послать поверенного, полномочия которого подтверждены американским консульством, к моим банкирам компании «Л. фон Хоффман» в Нью-Йорке, которые до настоящего времени управляли им через моего агента.
5. Адреса моих детей Сергея и Надежды находятся в банке Я. Е. Гюнцбурга в Санкт-Петербурге.
6. Завещаю моим двум детям Андромахе (родилась в мае 1871 года) и Агамемнону (родился в марте 1878 года) как долю их наследства все мое остальное движимое и недвижимое имущество, которое будет в наличии после моей смерти, за исключением моего дома «Илиоу Мелатрон» и относящегося к нему земельного участка на Одос Панепистимоу в Афинах, так как я завещал этот дом и прилежащий к нему участок со всем имуществом, библиотекой и всеми археологическими ценностями (без коллекций троянских находок) моей теперешней жене Софье Шлиман, урожденной Энгастроменос, согласно акта о дарении N 31854, составленного нотариусом Георгиосом Антониадесом (акт прилагается к завещанию).
Я завещаю эту часть наследства моим детям Андромахе и Агамемнону при непременном условии, что они добросовестно выплатят установленные по этому завещанию специально оговоренные завещательные отказы и оставшиеся после выплат суммы перечислят моим детям Сергею и Надежде.
7. Моей первой женой была Екатерина, урожденная Лыжина. Этот брак был расторгнут в Индианаполисе (штат Индиана) в июле 1869 года согласно прилагаемому свидетельству о расторжении брака вместе со свидетельством об американском гражданстве. Завещаю Екатерине, урожденной Лыжиной, единовременно 100 000 (сто тысяч) франков золотом. Ее адрес известен банкиру Гюнцбургу в Санкт-Петербурге.
8. Для покрытия расходов на содержание и воспитание Андромахи и Агамемнона до их совершеннолетия выделяю по 7000 (семь тысяч) франков золотом ежегодно.
9. Я передаю окончательно в «Коллекцию Шлимана» в здании нового Этнологического музея в Берлине все собрание троянских археологических находок, из которых бронзовые предметы размещаются в двух шкафах моего кабинета, а все остальное — в залах или комнатах на первом этаже моего дома в Афинах. В свое время я получил разрешение греческого министерства на вывоз моей троянской коллекции за пределы страны. Оригинал этого разрешения отправлен в министерство иностранных дел в Берлине; копия находится в вышеупомянутом шкафу моего кабинета.
10. Завещаю моей сестре Луизе Пехель, супруге Мартина Пехеля в Даргуне (Мекленбург), единовременно 50 000 (пятьдесят тысяч) франков золотом. Эта сумма должна быть выплачена ее детям, если она умрет раньше меня.
11. Моей сестре Дорис Петровски в Ребеле (Мекленбург)
— единовременно 50 000 (пятьдесят тысяч) франков золотом.
12. Моей сестре Элизе Шлиман, адрес которой можно получить у других моих сестер, единовременно 50 000 (пятьдесят тысяч) франков золотом.
13. Эрнсту Майнке из Нойштрелица (Мекленбург) — единовременно 2000 (две тысячи) франков золотом.
14. Госпоже Минне Рихерс из Фридланда (Мекленбург)
— единовременно 5000 (пять тысяч) франков золотом.
15. Фритцу Вахенхузену из Ребеле (Мекленбург) — единовременно 4000 (четыре тысячи) франков золотом.
16. Моему брату Вильгельму [?]11 Шлиману проживающему в Берлине, Грюнштрассе, 16, — единовременно 25 000 (двадцать пять тысяч) франков золотом.
17. Доктору Вильгельму Дерпфельду в Афинах — единовременно 10 000 (десять тысяч) драхм банкнотами.
18. Профессору А. Г. Сайсу, Куинз Колледж в Оксфорде (Англия) — единовременно 10 000 (десять тысяч) франков золотом.
19. Марии и Иоганне Вирхов в Берлине, Шеллингштрассе, 10, — единовременно 10 000 франков золотом, которые должны быть поделены между ними,
20. Берлинскому обществу антропологии, этнологии и древней истории, президентом которого является Рудольф Вирхов, — единовременно 10 000(десять тысяч) франков золотом.
21. Моей крестнице Бризейс Коумантареос в Афинах — единовременно 5000 (пять тысяч) драхм банкнотами.
22. Археологическому обществу в Афинах — единовременно 5000 (пять тысяч) драхм банкнотами.
23. Евангелистекой больнице в Афинах — единовременно 1000 (одну тысячу) драхм.
24. Приюту для бедных в Афинах — единовременно 1000 (одну тысячу) драхм.
25. Детскому приюту «Хазикоста» в Афинах — единовременно 1000 (одну тысячу) драхм.
26. Фонду для нуждающихся детей «Парнас» в Афинах — единовременно 1000 (одну тысячу)драхм.
27. Фонду для нуждающихся женщин в Афинах — 1000 драхм.
28. Каждому из братьев моей жены — Иоаннссу и Пана-гиотису Энгастроменос — и моему зятю Иоаннссу Су-нисиосу — единовременно 5000 (пять тысяч) драхм (под драхмами я везде подразумеваю банкноты).
29. Я желаю, чтобы мои бренные останки, а также останки моей жены Софьи, наших детей и их потомков покоились в мавзолее на самом возвышенном участке греческого Центрального кладбища в Афинах. Прилагаю проект архитектора Эрнста Циллера и договор о строительстве мавзолея, заключенный с ним на сумму 50 000 (пятьдесят тысяч) драхм (банкнотами). Мы пришли с ним к единому мнению о сооружении крыши усыпальницы в виде сводчатого купола. Исполнителям завещания я рекомендую украсить мою гробницу мотивами из Орхомена и Помпей, предварительно заключив контракт на эту работу с художником. Я желаю, чтобы руководство работами по сооружению надгробия были поручены майору Дросиносу. В случае, если это будет невозможно, исполнители завещания должны будут назначить другого дельного и добросовестного управляющего.
30. Настаиваю, чтобы в первую очередь были выплачены указанные в параграфах 2,3 и 7 суммы Екатерине, бывшей Шлиман, и моим детям Сергею и Надежде. Если не будет достаточных сумм в наличии, исполнители завещания — банк «Джон Генри Шредер и К12> в Лондоне — должны будут продать необходимое количество хранящихся у них ценных бумаг.
31. Одновременно должны быть сделаны ежегодные выплаты в соответствии с параграфом В, а также выплаты
— на мавзолей Шлимана, причем я настаиваю на том. что все эти выплаты должны быть произведены из моих постоянных доходов и подлежащих оплате и ликвидации ценных бумаг. Таким образом, наследники будут получать перечисления на расчетный счет вплоть до окончательного погашения их завещательных отказов.
32. Я желаю, чтобы мой дом в Париже (бульвар Сан-Мишель, 5) был передан в безраздельное владение моему сыну Агамемнону. Доля Андромахи должна быть погашена деньгами или ценными бумагами.
33. Я желаю, чтобы исполнители моего завещания сразу после моей смерти затребовали копии моих текущих счетов в банках Я. Е. Гюнцбурга в Санкт-Петербурге и Эмиля Эрлангера в Париже. — Что касается оставшейся у Я. Е. Гюнцбурга части моего состояния, я желаю, чтобы она была использована в соответствии с вышеуказанными распоряжениями на выплаты Екатерине, бывшей Шлиман, и моим детям Сергею и Надежде. Состояние, оставшееся у Эмиля Эрлангера, должно быть направлено на выплаты всем другим наследникам.
34. Доходы от моего дома в Париже (бульвар Сан-Мишель. 5) должны быть предоставлены в распоряжение исполнителя завещания для выплат наследникам. Мой получатель этих средств в Париже обязан раз в три месяца перечислять доходы по квартплате за указанный дом банку «Джон Генри Шредер и К°» в Лондоне или «Роберт Варшауер и К°» в Берлине. Тем самым я постановляю, чтобы оба банка и в дальнейшем оставались распорядителями моих наличных средств и облигаций, за исключением моих греческих акций и облигаций, депонированных в Национальном банке Греции.
35. Деньги, поступающие на сдачу наследственной доли в аренду, должны депонироваться в банк «Джон Генри Шредер и К°» в Лондоне и «Роберт Варшауер и К» в Берлине на покупку долгосрочных ценных бумаг ісоп-solides)12 с процентной ставкой 21,2 (двадцать один и две десятых) по согласованию между опекунами моих детей и исполнителями завещания. Последние обязаны предоставить выписку из этого параграфа вышеназванным банкам.
36. Назначаю управляющим и распорядителем моего дома в Париже (бульвар Сен-Мишель. 5), вышеупомянутого Полиниса Берена, проживающего в Париже (шоссе д'Онтен, 25), и оставляю в его распоряжении в качестве его денежного содержания 3 (три) процента чистого дохода от всех квартирных платежей, обязав его один раз в три месяца предоставлять исполнителям завещания счета для проверки.
37. Исполнителями настоящего завещания я назначаю в Афинах господина Маркоса Рениреса, (управляющего Национального банка Греции), господина Пулоса Каллегаса (младшего управляющего этого же банка), и профессора Штефаноса Штрайта. Если кого-либо из них к моменту исполнения завещания не будет в живых, оставшиеся в живых должны подобрать на его место другого. Эти три человека как исполнители обязаны через шесть месяцев предоставить детальное описание поступающей каждому доли его законного наследства. В качестве компенсации их усилий назначаю каждому из них оплату 3000 (три тысячи) драхм за первый год и 2000 (две тысячи) драхм за каждый последующий год их деятельности. В их обязанности входит тщательная проверка поступлений от управляющего Берена и банковских счетов «Джон Генри Шредер и К°» и «Роберт Варшауер и К°». Этих трех исполнителей завещания я назначаю (после моей супруги), опекунами моих несовершеннолетних детей. Именно в связи с неопытностью моей жены в денежных вопросах я предоставляю ей в помощь в качестве консультантов вышеназванных исполнителей, с тем чтобы без их одобрения моей жене не было разрешено продавать или закладывать какое-либо из моих владений. Кроме того, без согласия исполнителей она не может одалживать или брать деньги в долг по каким бы то ни было счетам. Я предусматриваю эту меру для того, чтобы выделенных на воспитание детей средств было достаточно до достижения моим сыном Агамемноном совершеннолетия.
38. Как было сказано выше (параграф 34), мои греческие акции и свидетельства депонированы в Национальный банк Греции. Документы на них находятся в железном сейфе моего кабинета. Национальный банк получает также по ним проценты. Исполнители завещания должны их запрашивать один раз в полугодие.
39. Чтобы не допустить нарушения этого завещания, я постановляю: если кто-либо из моих детей захочет оспорить законность или исполнение завещания, он будет лишен причитающейся ему части наследства. Тем самым вина за неполучение наследства будет лежать на нем самом.
40. Каждый, согласно данному документу наследующий свою долю, должен в законодательном порядке засвидетельствовать, что согласен с моим завещанием и не будет претендовать на оставленное мной состояние, за исключением того, что ему предназначено. Я еще раз подчеркиваю, что назначенные мной согласно параграфа 6 наследники совместно с исполнителями и опекунами должны добросовестно выплачивать установленные завещательные отказы и денежные суммы Сергею и Надежде.
41. Ставлю в известность исполнителей завещания, что согласно договору, заключенному мной с издателями «Харпер бразерз» в Нью-Йорке, последние обязаны отчислять мне 10 (десять) процентов от продажной цены с каждого экземпляра (prix de detail)13 моих книг «Илион» и «Троя». А также согласно договору, заключенному мной и издателями «Чарльз Скрибнерз санз» в Нью-Йорке, последние обязаны отчислять мне 12 (двенадцать) процентов от продажной цены каждого экземпляра моей книги «Микены» и 10 (десять) процентов от розничной продажи моей книги «Тиринф». Сообщаю также, Что мне принадлежит половина прибыли от продажи моих книг «Микены» и «Тиринф» издателем Джоном Мурреем (Лондон, Элбимал-стрит, 50). Он распространяет также мои произведения «Илион» и «Троя». Он должен вычесть у меня 50 (пятьдесят) процентов комиссионных, остаток от стоимости обоих произведений принадлежит мне. Этот, а также оба вышеназванных издателя в Америке должны дважды в год предоставлять мне отчисления. Я также ставлю в известность, что участвую в половине прибыли от продажи немецкого изда-
ния шести моих произведений («Микены», «Орхомен», «Илион», «Поездка в Троаду», «Тиринф» и «Троя») у издателя Ф. А. Брокгауза. Кроме того, уже имеется договоренность об издании еще одной книги, которая будет содержать обзор всех моих работ. Таким образом, Брокгауз должен предоставить счет на половину прибыли от продажи этих семи книг. Он занимается также распространением моих книг «Итака, Пелопоннес и Троя», «Троянские древности» на немецком языке, «Троянские древности» на французском языке и «Атлас троянских древностей» на французском языке, — выручка от которых за вычетом издержек причитается мне.
41. Кроме того, мои дети Сергей и Надежда, о которых говорилось в параграфах 2 и 3 данного завещания, получают по 50 000 (пятьдесят тысяч) франков золотом*.
42. В случае замужества моих дочерей и необходимости выделения им приданного оно должно быть изъято из части причитающегося им наследства.
Я собственноручно составил и записал это завещание в Афинах 10 января 1889 года.
Генрих Шлиман.
ДОПОЛНЕНИЕ № 1
Подтверждаю мое собственноручное завещание от десятого января тысяча восемьсот восемьдесят девятого года данным собственноручно составленным и подписанным мной дополнением, согласно которому я завещаю Этнологическому музею в Берлине для «Коллекции Шлимана» великолепную женскую скульптуру (бюст) из мрамора, которую я нашел при раскопках в мегароне Птоломеев в Александрии, стоящую в настоящее время на камине моей рабочей комнаты.
Афины, четырнадцатого января тысяча восемьсот восемьдесят девятого года.
Генрих Шлиман.
ДОПОЛНЕНИЕ № 2
Подтверждаю мое собственноручное завещание от десятого января тысяча восемьсот восемьдесят девятого года и собственноручное дополнение от четырнадцатого ян-
В авторском тексте параграф 41 повторяется дважды. варя тысяча восемьсот восемьдесят девятого года данным собственноручно составленным и подписанным мной дополнением, согласно которому я завещаю выдающемуся ученому Георгу фон Штрайту, сыну Стефаноса фон Штрайта, профессора в Афинах, единовременно сумму 10 000 (десять тысяч) драхм (банкнотами). Одновременно я аннулирую параграф 18 моего завещания, по которому я завещал профессору А. Г. Сайсу (Куинз Колледж, Оксфорд, Англия) 10 000 (десять тысяч) франков золотом.
Афины, двадцатого января тысяча восемьсот восемьдесят девятого года.
Генрих Шлиман.
ГЕНРИХ ШЛИМАН И ЕГО ВРЕМЯ
1822 Родился в Нойбукове (Мекленбург) 6 января;
Ж. Ф. Шампольон дешифровал иероглифическую надпись на Розеттском камне.
1823 Переезд в Анкерсхаген.
1831 Смерть матери.
1832 Отстранение от должности отца; смерть Гете.
1833–1836 Гимназия в Нойштрелице; переход в реальное училище.
1836–1841 Годы ученичества в Фюрстенберге. 1841 — ученичество в Гамбурге; кораблекрушение у берегов Голландии; родились Домье и Ренуар.
1842–1846 Ученичество; работа бухгалтером у Б. X. Шредера в Амстердаме; изучение иностранных языков, в том числе русского.
1847 Собственный торговый дом в Санкт-Петербурге; Либих изобретает мясной экстракт; родился Пауль фон Гинденбург.
1850–1852 Деловая поездка и пребывание в Америке.
1852 Женитьба на Екатерине Петровне Лыжиной
(дети: Сергей, 1855 — ?; Наталья, 1858–1868; Надежда, 1861 — ?); филиал в Москве.
1855 В России восходит на престол Александр II.
1858–1859 Путешествие по Востоку.
1864 Ликвидация фирмы в Санкт-Петербурге; в Лондоне К. Маркс основывает I Интернационал.
1864–1866 Учеба в Сорбонне в Париже (языки, литература, философия); кругосветное путешествие —
Египет, Индия, Китай, Япония, Америка.
1867 Первая книга — «Китай и Япония дня сегодняшнего» на французском языке; первая пневматическая почта в Париже; США покупают у России Аляску за 7,2 миллиона долларов.
1868 Первое путешествие по следам Гомера — Греция и Малая Азия; на Гиссарлыке принято решение откопать Трою.
1869 Шлиман намерен стать археологом. Вторая книга — «Итака, Пелопоннес и Троя»; март —
Шлиман становится гражданином США; заочное присуждение ученой степени Ростокским университетом; женитьба на Софье Энгастроменос (дети: Андромаха, 1871 — 1962, Агамемнон, 1878 — 1954); Толстой написал «Войну и мир».
1870 Резиденция в Афинах; смерть отца; разведочные раскопки на Гиссарлыке; битва при Седа не; родился Ленин.
1871–1873 Первый — третий этап раскопок в Трое; 30 мая 1873 года найдены сокровища Приама; 1873 — Наполеон III скончался в Англии; союз трех императоров Германии, Австрии и России;
1874 — третья книга — «Троянские древности»; незаконные разведочные раскопки в Микенах; процесс о сокровищах Приама; основание Немецкого археологического института в Афинах.
1875 Поездки с лекциями по Европе; завершение судебного процесса материальной компенсацией Турции; встреча с Рудольфом Вирховом; небольшие раскопки в Италии и на Сицилии;
Эрнст Курциус и Вильгельм Дерпфельд ведут раскопки в Олимпии.
1876 Микены: найдено 6 шахтовых захоронений; золотая маска Агамемнона.
1878 Четвертая книга — «Микены»; раскопки Хумана в Пергаме.
1878–1879 Четвертый и пятый этап раскопок в Трое; сотрудничество с Вирховом.
1880–1881 Пятая книга — «Илион»; освящение дома
«Илиоу Мелатрон»; принесение в дар немец кому народу Троянской коллекции; шестая книга — «Орхомен»; седьмая книга — «По ездка в Троаду»; первый трамвай в Берлине;
убит царь Александр II; Эмиль Бругш находит захоронения с сорока мумиями царей.
1882 Шестой этап раскопок в Трое (с Вильгельмом
Дерпфельдом); Великобритания оккупирует
Египет.
1884 Восьмая книга — «Троя»; раскопки в Тиринфе; спор с капитаном Беттихером; провал планов в Кноссе; начало немецкой колониальной политики.
1886 Девятая книга — «Тиринф»; раскопки в Орхомене с Дерпфельдом; большое египетское пу-
тешествие; смерть Людвига II Баварского; в
Нью-Йорке установлена статуя Свободы; пер вый автомобиль в Германии.
1888 Раскопки в Александрии; путешествие по Египту с Вирховом; Вильгельм II становится императором Германии, Нансен пересекает Гренландию.
1889 Пребывание на Крите; первая Троянская конференция; скандальное дело "Майерлинг"; первая автомобильная выставка в Париже.
1890 Вторая Троянская конференция; седьмой этап раскопок в Трое; десятая книга — «Отчет о раскопках Трои в 1890 году»; с Вирховом по Троаде; 13 ноября — операция в Галле; 26 декабря — смерть в Неаполе; смерть Винсента ван Гога.
СЕМЬЯ ШЛИМАН
Первый брак Эрнста Иоганна Адольфа Шлимана (1780–1870)
с Луизой Терезой Софьей Бюргер (1793–1831).
Дети:
Иоганн Иоахим Генрих (1814–1822),
Каролина Луиза Элиза Августа (1816–1890),
Софья Фридерика Анна Доротея (1818–1912), Фредерика Юлиана Вильгельмина (1819–1883), Иоганн Людвиг Генрих Юлиус (06.01.1822 — 26,12.1890), Карл Фридрих Людвиг Генрих (1823–1850).
Франц Фридрих Людвиг Теодор (1825–1826),
Мария Луиза Хелена (1827–1909),
Пауль Фридрих Ульрих Генрих (1831–1852).
Второй брак Эрнста Шлимана с Софьей Бенке (1814–1890).
Дети:
Карл (1839–1842),
Эрнст (1841–1899).
Первый брак Генриха Шлимана с Екатериной Петровной Лыжиной.
Дети:
Сергей (1855—?),
Наталья (1858–1868),
Надежда (1861—?).
Второй брак Генриха Шлимана с Софьей Энгастроменос.
Дети:
Андромаха (1871–1962),
Агамемнон (1878–1954).
Родственники:
Кристиан Людвиг Фридрих Шлиман (Калькхорст) — брат отца, дядя Генриха;
Магдалена Шлиман, супруга Фридриха, тетя Генриха;
Адольф Шлиман — двоюродный брат Генриха;
Фердинанд Шлиман — двоюродный брат Генриха;
Софи Шлиман — кузина Генриха;
Луиза Шлиман — кузина Генриха;
Ганс Беккер — кузен Генриха.
ЭГЕЙСКАЯ И ГРЕЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ
2600–2000 до н. э.
Раннеминойская эпоха, раннеэлладский период, западно-малоазиатская культура (слой I–V в Трое).
2000–1550
Среднеминойская эпоха (древнейшие остатки дворцов Кносса, Маллии, Фаистоса); среднеэлладский период.
1800 Троянский слой VI.
1550–1150 Позднеминойская эпоха (дворцовые сооружения Кносса, Феста, Агиа Триада, Маллии, Арханеса, Като Зарко); XIV–XIII столетие до н. э. — позднемикенский период (купольные гробницы); около 1200 года — разрушения в слое VII-А Трои (Троянская война); позднеэлладский (раннемикенский) период (шахтовые захоронения в Микенах).
800-500
Период архаики. Греческая колонизация. 776 год — учреждение Олимпийских игр; господство аристократии; цари в Спарте и Кирене; новые архонты в Афинах.
740
Спарта завоевывает владычество на Пелопоннесе.
621
Драконовское законодательство в Афинах.
594 Конституция Солона в Афинах.
560-510 Тирания в Афинах (Писистрат и его сыновья Гиппиас и Гиппарх); Поликрат на Самосе.
520
Культовые сооружения акрополя в Афинах.
509 Клисфен: новое законодательство.
500-336 Классический период.
493-490 Поход персов против греков.
490
Афинянин Мильтиад побеждает персов при Марафоне.
480
Битвы с персами при Фермопилах и Саламисе.
477 — 404
Афины во главе Аттического союза.
444-429
Период расцвета Афин (Перикл).
415
Конец господства Афин.
356-336
Филипп II Македонский (отец Александра Великого) создает единое македонское государство и основывает Балканское царство, к которому присоединяется Греция (338 год — поражение греков под Херонеей).
336-323
Александр Македонский основывает мировую империю.
333 Битва при Иссе.
323 Смерть Александра Македонского; диадохские войны.
215-205
Первая Македонская война; Филипп V против союзников Рима эолов, спартанцев и Пер-гама.
200- 197
Вторая Македонская война.
171-168
Третья Македонская война. Победа римлян под Пидной, Македония разделяется на семь республик.
149
Возвышение Македонии.
148
Македония и Греция под римским владычеством.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ШЛИМАНА
1. La Chine et le Japon au temps present, Paris 1867
2. Ithaka, der Peloponnes und Troja, Leipzig 1869
3. Trojanische Alterthfimer. Bericht fiber die Ausgrabungen in Troja, Leipzig 1874
Atlas trojanischer Altertiimer, Leipzig 1874 (Abbildungsband)
4. Mykenae. Bericht fiber meine Forschungen und Entdeckungen in Mykenae und Tiryns, Lei pzig 1878
5. Ilios. Stadt und Land der Trojaner,Leipzig 1881
6. Orchomenos. Bericht fiber meine Ausgrabungen im bootischen Orchomenos, Leipzig 1881
7 Reise in der Troas im Mai 1881, Leipzig 1881
8. Troja. Ergebnisse meiner neuesten Ausgrabungen auf der Bau-stelle von Troja, in den Heldengrabem, Bunarbaschi und anderen Orten der Troas im Jahre 1882, Leipzig 1884
9. Tiryns. Der prahistorische Palast der Konige von Tiryns, Lei p-zig 1886
10. Bericht fiber die Ausgrabungen in Troja im Jahre 1890 Leipzig 1891
ИСТОЧНИКИ
Внутри глав источники указываются только при их первичном упоминании.
I. МАЙ 1945 ГОДА. БЕРЛИН В ОГНЕ
Сокровище в штольне рудника
Mechthilde Unverzagt, Jahrbuch PreuBischer Kulturbesitz; John Toland, Adolf Hitler
Дурные вести сменяют друг друга
Heinrich Fraenkel, Roger Manveil, Goebbels
Драма в бункере «Фридрихсхайн»
Otto Kiimmel, Bericht fiber die von den Staatlichen Museen zu Berlin getroffenen Mafinahmen zum Schulze gegen Kriegsschaden vom
11. IL 45, Archiv des Deutschen Archaologischen Institute
Победители и побежденные
Gfinter Schade, Neue Museumskunde 2/85, Jg. 28; Irene Kfihnel-Kunze, Bergung — Evakuierung — Riickfiihrung
Тьма рассеивается
Klaus Goldmann, Antike Welt 4/1994
11. НАЧАЛО ВЕЛИКОЙ КАРЬЕРЫ
Кораблекрушение у берегов Голландии
Ernst Meyer (Hg.), Heinrich Schliemann, Briefwechsel «Приключения Телемаха» по-русски
Emil Ludwig, Schliemann
III. ГОЛУБЫЕ РУБЛИ, ЗОЛОТЫЕ ДОЛЛАРЫ
Неудачное предложение вступить в брак
Ernst Meyer (Hg.), Heinrich Schliemann. Selbstbiographie; Ernst Meyer (Hg.), Heinrich Schliemann. Briefwechsel
Две недели в Атлантике, покинутый и беспомощный
Shirley H. Weber, Schliemann's first visit to America
IV. БЕГСТВО ОТ САМОГО СЕБЯ
Семейные сцены
Ernst Meyer (Hg.), Heinrich Schliemann. Selbstbiographie
Мемельское чудо
Ernst Meyer (Hg.), Heinrich Schliemann. Briefwechsel
Почему Шлиман стал трудоголиком
Emil Ludwig, Schliemann
В китайском театре Шанхая
Franz G. Brustgi, Heinrich Schliemann; Wolfgang Richter, Heinrich Schliemann. Dokumente seines Lebens
V. ЗАПОЗДАЛОЕ СТУДЕНЧЕСТВО И ЛЮБОВЬ
Выбор отчаяния: «брак Иосифа»
Emil Ludwig, Schliemann; EmstMeyer (Hg.), Heinrich Schliemann Briefwechsel
VI. ПО СЛЕДАМ ГЕРОЕВ
Там, где Навсикая нашла Одиссея
Heinrich Schliemann, Ithaka, der Peloponnes und Troja
VII. ДРУГОЙ ЧЕЛОВЕК И НОВАЯ ЖИЗНЬ
«Господин архиепископ, у вас нет на примете подходящей жены для меня?»
Emil Ludwig, Schliemann
Ѵ1П. БРАК ВТРОЕМ: ГОМЕР, СОФЬЯ И ГЕНРИХ
Объяснение в любви — сперва лишь на бумаге
Emil Ludwig, Schliemann
Вторая женитьба Шлимана
Wolfgang Richter, Heinrich Schliemann. Dokumente seines Lebens
Курциус считает Гомера сказочником
Philipp Vandenberg, Das versunkene Hellas
IX. ТРОЯНСКОЕ СОКРОВИЩЕ
Агамемнон и Гектор с лопатами и метлами
Heinrich Schliemann, Trojanische Altertumer
Шлиман хочет уехать из Афин
David A. Traill, Priam's Treasure
X. КАК СОКРОВИЩА ПОПАЛИ В ГЕРМАНИЮ
Дар немецкому народу
Emil Ludwig, Schliemann; Joachim Herrmann, Die Korrespondenz zwischen Heinrich Schliemann und Rudolf Virchow
Все новые и новые требования
Wolfgang Richter, Heinrich Schliemann. Dokumente seines Lebens
XI. ШЛИМАН В ЗЕРКАЛЕ ПСИХОАНАЛИЗА
Человек по имени Генрих Шлиман появился на свет дважды
Emil Ludwig, Schliemann
Циничный некролог
Wolfgang Richter, Heinrich Schliemann. Dokumente seines Lebens
Человек, снедаемый сексуальными страхами
Ernst Meyer (Hg.), Heinrich Schliemann. Briefwechsel
Дом — зрелище, как вся его жизнь
Neustrelitzer Zeitung 1884, Nr. 10/13, Nachdruck aus der gne-chischen Zeitschrift «Hestra»
XII. МИКЕНЫ. ЗОЛОТАЯ МАСКА АГАМЕМНОНА
Смертельный враг. Стаматакис
Heinrich Schliemann, Mykenae
«Я столкнулся с огромными трудностями»
Emil Ludwig, Schliemann
Гробница тонет в грязи
Philipp Vandenberg, Das versunkene Hellas
Шлимана мучают сомнения
Ernst Meyer, Vorwort zu: Heinrich Schliemann, Mykenae
XIII. ТРОЯ И ТИРИНФ. ОШИБКИ И РАЗОЧАРОВАНИЯ
Шлиман преувеличивает: новые сокровища
Ernst Meyer (Hg.), Heinrich Schliemann. Selhstbiographie. Heinrich Schliemann, Troja, Wolfgang Richter, Heinrich Schliemann Doku mente seines Lebens; Pausanias, Beschreibung Griechenlands. Homer, Odyssee, IV, 44–47, 68–75; Philipp Vandenberg, Das versunkene Hellas; Heinrich Alexander Stoll, Abenteuer meines Lebens. Heinrich Schliemann erzahlt
XIV. СМЕРТЬ В НЕАПОЛЕ
«В 67 лет Вы уже не юноша»
Ernst Meyer (Hg.), Heinrich Schliemann. Briefwechsel
Встреча экспертов в Гиссарлыке
Philipp Vandenberg, Das versunkene Hellas
ПРИЛОЖЕНИЕ
Перевод завещания Генриха Шлимана заимствован из произведения Иоахима Германна
Heinrich Schliemann. Wegbereiter einer neuen Wissenschaft, Berlin (Akademie Verlag] 1990, S. 237–243, entnommen.
ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ
Отдел иллюстраций Прусского культурного наследия, Берлин: иллюстр. 1, 14, 23, 28, таблица 1, 3, И, 12, 18, 19, 20, 26, 31, 32, 37, 38, 39.
Галина Андрусовова-Влчекова, Братислава; таблица 4, 5, 6, 7.
Архив искусств и истории, Берлин: иллюстр. 12, 13, 15, 16, таблица 8, 15, 16, 17, 25, 28.
Отдел иллюстраций издательства Зюддойчер Ферлаг, Мюнхен: иллюст. 2, 4, 6, 9, 10, 19, 20, таблица 9, 27, 29, 33, 35, 36.
Фото доктора Вильфрида Бельке, Анкерсхаген: табл. 13.
Немецкий археологический институт, Афины: табл. 30, 40.
Музей Генриха Шлимана в Анкерсхагене: форзацный лист, иллюстр. 3, 18, 21, 29.
Фото Филиппа Ванденберга: иллюстр. 5, табл. 14, 22, 23.
Генрих Шлиман. Итака, Пелопоннес и Троя: иллюстр. 7, 25.
Оригинал русского паспорта Генриха Шлимана (иллюстр. 3) находится в библиотеке Геннадиоса, Афины.
Оригинал свидетельства о смерти Генриха Шлимана (иллюстр. 29) находится в собственности профессора Георгиоса Кор-реса, Афины.
СОДЕРЖАНИЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ………………………………………………….. 3
I. МАЙ 1945 ГОДА, БЕРЛИН В ОГНЕ………………………………..6
Сокровища в штольне рудника Дурные вести сменяют друг друга…. ’Сокровища на пороховой бочке’Драма в бункере ♦Фридрихсхайн» • Как исчезли сокровища Приама • Победители и побежденные • Судьба одного партайгеноссе • Тьма рассеивается
П. НАЧАЛО ВЕЛИКОЙ КАРЬЕРЫ……………………………………..46
Ганзейские мечты Последняя надежда Генриха — переселение • Кораблекрушение у берегов Голландии • Башмаки и чулки от старьевщика • Одержимый жаждой знаний и скупой • «Приключения Телемака» по-русски
III. ГОЛУБЫЕ РУБЛИ, ЗОЛОТЫЕ ДОЛЛАРЫ……………………74
Неудачное предложение вступить в брак-В 25 лет — глава большой семьи-Генриха тянет в Америку'Две недели в Атлантике, покинутый и беспомощный Через Панаму в Калифорнию • Среди золотоискателей и авантюристов • Сан-фран-циско в огне • Чемодан с золотом стоимостью в шестьдесят тысяч долларов'Возвращение в Европу
IV. БЕГСТВО ОТ САМОГО СЕБЯ…………………………………….. 112
Семейные сцены Мемельское чудо'Почему Шлиман стал трудоголиком В 34 года — начало новой жизни • В поисках кусочка счастья • Чемоданное настроение неутомимой души-
Прошлое нагоняет его'За 20 месяцев вокруг света'В китайском театре Шанхая'В одиночестве на китайской стене
V. ЗАПОЗДАЛОЕ СТУДЕНЧЕСТВО И ЛЮБОВЬ……………….155
♦Я чувствую себя на седьмом небе» Выбор отчаяния: «Брак Иосифа»'Первая попытка стать американцем'Любовное послание из Калькхорста • Жена Шлимана любит мадам R.
VI. ПО СЛЕДАМ ГЕРОЕВ………………………………………………….. 175
♦Каждый холм, каждый родник напоминает здесь о Гомере» Первые раскопки Шлимана • Греция — опасное предприятие Доисторическая загадка — Троя'Шлиман воспроизводит троянское сражение • Выбор падает на Гиссарлык 'Гомер, Геродот и Плутарх помогают Шлиману
VII. ДРУГОЙ ЧЕЛОВЕК И НОВАЯ ЖИЗНЬ………………………206
Первые планы раскопок Трои-Деньги и связи и доктором сделают'Бракоразводный процесс с пятью адвокатами'«Господин архиепископ, у вас нет на примете подходящей жены для меня?» Не совсем честный развод
VIII. БРАК ВТРОЕМ: ГОМЕР, СОФЬЯ И ГЕНРИХ…………….232
Первое свидание оборачивается катастрофой Объяснение в любви — сперва лишь на бумаге • Вторая женитьба Шлимана-
Радости и горести Парижа • Бегство от немецко-французской войны • Шлиман — двоеженец? • В одиночку на поиски Трои-Генриха тянет в Париж'«Разве нет у тебя супруга, для которого ты — богиня?» • Опьяненный победой Берлин' — Курциус считает Гомера сказочником • Бунарбаши или Гиссарлык? • «Мир должен убедиться в том, что прав я»
IX. ТРОЯНСКОЕ СОКРОВИЩЕ…………………………………………281
Агамемнон и Гектор с лопатами и метлами Долгожданная лицензия 'Горсточка камней за восемь дней. работьі'Почему Генрих Шлиман говорил неправду? • Неожиданный экскурс в каменный век'Проблеск надежды на семиметровой глубине • Страх опозориться • 78 545 кубометров Трои • Гомер тому свидетель' Новые загадки бога Солнца Гелиоса• Стены Гомера-Шлиман готов все бросить-Третья попытка • Последствия кражи предметов искусства • «Пожар! Пожар!» • Скейские ворота • Троянская крепость — рог изобилия • Правда о важнейшем открытии Шлимана • Золотая диадема • А действительно ли это сокровища Приама? • Сомнительная слава золота-
Шлиман хочет уехать из Афин • Ужасное подозрение
X. КАК СОКРОВИЩА ПОПАЛИ В ГЕРМАНИИ?……………….374
Шлимана постигла участь Вагнера Любовь и признательность Англии и презрение Германии'Умный ход Вирхова'Дар немецкому народу Все новые и новые требования • Шлиман у желанной цели •
XI. ШЛИМАН В ЗЕРКАЛЕ ПСИХОАНАЛИЗА…………………..409
Истинные причины формирования его характера Ненависть к отцу Человек по имени Генрих Шлнман появлялся на свет дважды • Циничный некролог • Выдуманная любовь • Человек, снедаемый сексуальными страхами Собственная религия Шлимана • Попытка объяснить его мифоманию • Фиаско Шлимана в роли отца'Дом — зрелище, как и вся его жизнь'Д-рессированная собачка Софья-Шлиман и деньги • Расточитель и благодетель
XII. МИКЕНЫ. ЗОЛОТАЯ МАСКА АГАМЕМНОНА…………..466
Смертельный враг Стаматакис Семейные отношения в Микенах' «Я столкнулся с серьезными трудностями»' Борьба за раскопки'Тайна каменных колец-Приезд короля Бразилии-
Гробница тонет в грязи'«Пять! Должно быть пятъ іроб-ниц!» • Череп в золотой маске • Телеграмма королю: «Агамемнон найден!» • Останки, похороненные под золотом • Шлимана мучают сомнения Весь мир говорит о Микенах
ХШ. ТРОЯ И ТИРИНФ. ОШИБКИ И РАЗОЧАРОВАНИЯ…. 512 Шлиман преувеличивает: новые сокровища Вирхов и Шлиман — такие похожие и такие разные • Первая встреча с Вильгельмом Дерпфельдом* Сомнения насчет дворца Приама'«Я ошибся» • Прекращение раскопок в Трое'Тиринф, творение циклопов • Дворец, — как его описывал Гомер'Остров паря Миноса-По следам фараонов
XIV. СМЕРТЬ В НЕАПОЛЕ………:………………………………………542
В Париже с Вирховом «В шестьдесят семь лет вы уже не юноша» • Встреча экспертов в Гиссарлыке'Спорное дело о Трое-Странное преображение Шлимана• Запланированный конец-Одинокая смерть маленького человека'Мир прощается с великим человеком
ПРИЛОЖЕНИЕ…………………………………………………………………573
Книга- почтой
Фирма «Русич-сервис» 117574, Москва, а/я 183 тел. 421-91-08
(высылаем каталог в вашем конверте)
Научно-популярное издание
Ванденберг Филипп
Золото Шлимана
Технический редактор Т. А. Комзалова Корректор 3. Н. Смольякова
Подписано в печать с готовых диапозитивов 10.04.96. Формат 84ХЮ8'/з2- Бумага типографская. Гарнитура Centurion. Печать офсетная. Усл. — печ. л. 33,08. Тираж 15 000 экз. Заказ 487.
Фирма «Русич». Лицензия ЛР № 040432. 214016, Смоленск, ул. Соболева, 7.
При участии ТОО «Харвест». Лицензия ЛВ № 729. 220034, Минск, ул. В. Хоружей, 21 —102.
Отпечатано с готовых диапозитивов заказчика в типографии издательства «Белорусский Дом печати». 220013, Минск, пр. Ф. Ско-рины, 79.
1
В русском переводе данной книги Ф. Ванденберга «Илиада» цитируется в переводе Н. Гнедича, «Одиссея» — в переводе В. А. Жуковского. (Здесь и далее прим, peg.)
(обратно)
2
" Далее в тексте неоднократно приводится и другая цифра: 156 сантиметров.
(обратно)
3
В дальнейшем для краткости используется название «бункер "Ам Цоо"».
(обратно)
4
Ранее в тексте была указана дата «26 мая 1945 года».
Немного позже Ирина Антонова, директор
* Инициатором создания музея стал профессор Московского университета И. В. Цветаев (1847–1913), отец поэта Марины Цветаевой. Значительные средства на строительство выделил Ю. С. Нечаев-Мальцов (1834–1913), меценат, владелец знаменитых стекольных заводов в г. Гусь-Хрустальном.
(обратно)
5
В действительности подобный запрет издал отец Александра I — Павел I (1796–1801).
(обратно)
6
В тексте завещания Г. Шлимана упоминается несколько иной адрес: бульвар Сен-Мишель, 6.
(обратно)
7
Имя греческого героя и название столицы Франции в своем немецком написании совпадают.
(обратно)
8
" Прекрасная Елена.
‘ В немецком языке слово «schlau» означает «хитрый».
(обратно)
9
Цифра указана автором.
(обратно)
10
Составлено на греческом языке, перевод на немецкий язык Луизы Галлер.
(обратно)
11
В авторском тексте к знаку (?) не дается пояснения.
(обратно)
12
Сохранено в немецком переводе.
(обратно)
13
Сохранено в немецком переводе.
(обратно)
Оглавление
Золото Шлимана
Филипп Ванденберг
ПРЕДИСЛОВИЕ
I. МАЙ 1945 ГОДА, БЕРЛИН В ОГНЕ
СОКРОВИЩА В ШТОЛЬНЕ РУДНИКА
ДУРНЫЕ ВЕСТИ СМЕНЯЮТ ДРУГ ДРУГА
СОКРОВИЩА НА ПОРОХОВОЙ БОЧКЕ
ДРАМА В БУНКЕРЕ «ФРИДРИХСХАЙН"
КАК ИСЧЕЗЛИ СОКРОВИЩА ПРИАМА
ПОБЕДИТЕЛИ И ПОБЕЖДЕННЫЕ
СУДЬБА ОДНОГО ПАРТАЙГЕНОССЕ
ТЬМА РАССЕИВАЕТСЯ
II. НАЧАЛО ВЕЛИКОЙ КАРЬЕРЫ
ГАНЗЕЙСКИЕ МЕЧТЫ
ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА ГЕНРИХА — ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
КОРАБЛЕКРУШЕНИЕ У БЕРЕГОВ ГОЛЛАНДИИ
БАШМАКИ И ЧУЛКИ ОТ СТАРЬЕВЩИКА
ОДЕРЖИМЫЙ ЖАЖДОЙ ЗНАНИЙ И СКУПОЙ
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТЕЛЕМАНА” ПО-РУССКИ
III. ГОЛУБЫЕ РУБЛИ, ЗОЛОТЫЕ ДОЛЛАРЫ
НЕУДАЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВСТУПИТЬ В БРАК
В 25 ЛЕТ — ГЛАВА БОЛЬШОЙ СЕМЬИ
ГЕНРИХА ТЯНЕТ В АМЕРИКУ
ДВЕ НЕДЕЛИ В АТЛАНТИКЕ, ПОКИНУТЫЙ И БЕСПОМОЩНЫЙ
ЧЕРЕЗ ПАНАМУ В КАЛИФОРНИЮ
СРЕДИ ЗОЛОТОИСКАТЕЛЕЙ И АВАНТЮРИСТОВ
САН-ФРАНЦИСКО В ОГНЕ
ЧЕМОДАН С ЗОЛОТОМ СТОИМОСТЬЮ В ШЕСТЬДЕСЯТ ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ
ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЕВРОПУ
IV. Бегство от самого себя
СЕМЕЙНЫЕ СЦЕНЫ
МЕМЕЛЬСКОЕ ЧУДО
ПОЧЕМУ ШЛИМАН СТАЛ ТРУДОГОЛИКОМ
В 34 ГОДА — НАЧАЛО НОВОЙ ЖИЗНИ
В ПОИСКАХ КУСОЧКА СЧАСТЬЯ
ЧЕМОДАННОЕ НАСТРОЕНИЕ НЕУТОМИМОЙ ДУШИ
ПРОШЛОЕ НАГОНЯЕТ ЕГО
ЗА 20 МЕСЯЦЕВ ВОКРУГ СВЕТА
В КИТАЙСКОМ ТЕАТРЕ ШАНХАЯ
В ОДИНОЧЕСТВЕ НА КИТАЙСКОЙ СТЕНЕ
V. ЗАПОЗДАЛОЕ СТУДЕНЧЕСТВО И ЛЮБОВЬ
«Я ЧУВСТВУЮ СЕБЯ НА СЕДЬМОМ НЕБЕ»
ВЫБОР ОТЧАЯНИЯ: «БРАК ИОСИФА»
ПЕРВАЯ ПОПЫТКА СТАТЬ АМЕРИКАНЦЕМ
ЛЮБОВНОЕ ПОСЛАНИЕ ИЗ КАЛЬКХОРСТА
ЖЕНА ШЛИМАНА ЛЮБИТ МАДАМ R
VI. ПО СЛЕДАМ ГЕРОЕВ
ТАМ, ГДЕ НАВСИКАЯ НАШЛА ОДИССЕЯ
«КАЖДЫЙ ХОЛМ, КАЖДЫЙ РОДНИК НАПОМИНАЕТ ЗДЕСЬ О ГОМЕРЕ»
ПЕРВЫЕ РАСКОПКИ ШЛИМАНА
ГРЕЦИЯ — ОПАСНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ДОИСТОРИЧЕСКАЯ ЗАГАДКА — ТРОЯ
ШЛИМАН ВОСПРОИЗВОДИТ ТРОЯНСКОЕ СРАЖЕНИЕ
ВЫБОР ПАДАЕТ НА ГИССАРЛЫК
ГОМЕР, ГЕРОДОТ И ПЛУТАРХ ПОМОГАЮТ ШЛИМАНУ
VII. ДРУГОЙ ЧЕЛОВЕК И НОВАЯ ЖИЗНЬ
ПЕРВЫЕ ПЛАНЫ РАСКОПОК ТРОИ
ДЕНЬГИ И СВЯЗИ И ДОКТОРОМ СДЕЛАЮТ
БРАКОРАЗВОДНЫЙ ПРОЦЕСС С ПЯТЬЮ АДВОКАТАМИ
«ГОСПОДИН АРХИЕПИСКОП, У ВАС НЕТ НА ПРИМЕТЕ ПОДХОДЯЩЕЙ ЖЕНЬІ ДЛЯ МЕНЯ?»
НЕ СОВСЕМ ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД
VIII. БРАК ВТРОЕМ: ГОМЕР, СОФЬЯ II ГЕНРИХ
ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ ОБОРАЧИВАЕТСЯ КАТАСТРОФОЙ
ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ — СПЕРВА ЛИШЬ НА БУМАГЕ
ВТОРАЯ ЖЕНИТЬБА ШЛИМАНА
РАДОСТИ И ГОРЕСТИ ПАРИЖА
БЕГСТВО ОТ НЕМЕЦКО-ФРАНЦУЗСКОЙ ВОЙНЫ
ШЛИМАН — ДВОЕЖЕНЕЦ?
В ОДИНОЧКУ НА ПОИСКИ ТРОИ
ГЕНРИХА ТЯНЕТ В ПАРИЖ
«РАЗВЕ НЕТ У ТЕБЯ СУПРУГА, ДЛЯ КОТОРОГО ТЫ — БОГИНЯ?»
ОПЬЯНЕННЫЙ ПОБЕДОЙ БЕРЛИН
КУРЦИУС СЧИТАЕТ ГОМЕРА СКАЗОЧНИКОМ
БУНАРБАШИ ИЛИ ГИССАРЛЫК?
«МИР ДОЛЖЕН УБЕДИТЬСЯ В ТОМ, ЧТО ПРАВ Я»
IX. ТРОЯНСКОЕ СОКРОВИЩЕ
АГАМЕМНОН И ГЕКТОР С ЛОПАТАМИ И МЕТЛАМИ
ДОЛГОЖДАННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ
ГОРСТОЧКА КАМНЕЙ ЗА ВОСЕМЬ ДНЕЙ РАБОТЫ
ПОЧЕМУ ГЕНРИХ ШЛИМАН ГОВОРИЛ НЕПРАВДУ?
НЕОЖИДАННЫЙ ЭКСКУРС В КАМЕННЫЙ БЕК
ПРОБЛЕСК НАДЕЖДЫ НА СЕМИМЕТРОВОЙ ГЛУБИНЕ
СТРАХ ОПОЗОРИТЬСЯ
78 545 КУБОМЕТРОВ ТРОИ
ГОМЕР ТОМУ СВИДЕТЕЛЬ
НОВЫЕ ЗАГАДКИ БОГА СОЛНЦА ГЕЛИОСА
СТЕНЫ ГОМЕРА
ШЛИМАН ГОТОВ ВСЕ БРОСИТЬ
ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА
ПОСЛЕДСТВИЯ КРАЖИ ПРЕДМЕТОВ ИСКУССТВА
«ПОЖАР! ПОЖАР!»
СКЕЙСКИЕ ВОРОТА
ТРОЯНСКАЯ КРЕПОСТЬ — РОГ ИЗОБИЛИЯ
ПРАВДА О ВАЖНЕЙШЕМ ОТКРЫТИИ ШЛИМАНА
ЗОЛОТАЯ ДИАДЕМА
А ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ ЭТО СОКРОВИЩА ПРИАМА?
СОМНИТЕЛЬНАЯ СЛАВА ЗОЛОТА
ШЛИМАН ХОЧЕТ УЕХАТЬ ИЗ АФИН
УЖАСНОЕ ПОДОЗРЕНИЕ
X. КАК СОКРОВИЩА ПОПАЛИ В ГЕРМАНИЮ
ШЛИМАНА ПОСТИГЛА УЧАСТЬ ВАГНЕРА
ЛЮБОВЬ И ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ АНГЛИИ И ПРЕЗРЕНИЕ ГЕРМАНИИ
УМНЫЙ ХОД ВИРХОВА
ДАР НЕМЕЦКОМУ НАРОДУ
ВСЕ НОВЫЕ И НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
ШЛИМАН У ЖЕЛАННОЙ ЦЕЛИ
XI. ШЛИМАН В ЗЕРКАЛЕ ПСИХОАНАЛИЗА
ИСТИННЫЕ ПРИЧИНЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЕГО ХАРАКТЕРА
НЕНАВИСТЬ К ОТЦУ
ЧЕЛОВЕК ПО ИМЕНИ ГЕНРИХ ШЛИМАН ПОЯВЛЯЛСЯ НА СВЕТ ДВАЖДЫ
ЦИНИЧНЫЙ НЕКРОЛОГ
ВЫДУМАННАЯ ЛЮБОВЬ
ЧЕЛОВЕК, СНЕДАЕМЫЙ СЕКСУАЛЬНЫМИ СТРАХАМИ
СОБСТВЕННАЯ РЕЛИГИЯ ШЛИМАНА
ПОПЫТКА ОБЪЯСНИТЬ ЕГО МИФОМАНИЮ
ФИАСКО ШЛИМАНА В РОЛИ ОТЦА
ДОМ — ЗРЕЛИЩЕ, КАК И ВСЯ ЕГО ЖИЗНЬ
ДРЕССИРОВАННАЯ СОБАЧКА СОФЬЯ
ШЛИМАН И ДЕНЬГИ
РАСТОЧИТЕЛЬ И БЛАГОДЕТЕЛЬ
ХII. МИКЕНЫ. ЗОЛОТАЯ МАСКА АГАМЕМНОНА
СМЕРТЕЛЬНЫЙ БРАГ СТАМАТАКИС
СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В МИКЕНАХ
«Я СТОЛКНУЛСЯ С СЕРЬЕЗНЫМИ ТРУДНОСТЯМИ»
БОРЬБА ЗА РАСКОПКИ
ТАЙНА КАМЕННЫХ КОЛЕЦ
ПРИЕЗД КОРОЛЯ БРАЗИЛИИ
ГРОБНИЦА ТОНЕТ В ГРЯЗИ
«ПЯТЬ! ДОЛЖНО БЫТЬ ПЯТЬ ГРОБНИЦ!»
ЧЕРЕП В ЗОЛОТОЙ МАСКЕ
ТЕЛЕГРАММА КОРОЛЮ: — АГАМЕМНОН НАЙДЕН! —
ОСТАНКИ, ПОХОРОНЕННЫЕ ПОД ЗОЛОТОМ
ШЛИМАНА МУЧАЮТ СОМНЕНИЯ
ВЕСЬ МИР ГОВОРИТ О МИКЕНАХ
ХIII. ТРОЯ И ТИРННФ. ОШИБКИ и РАЗОЧАРОВАНИЯ
ШЛИМАН ПРЕУВЕЛИЧИВАЕТ: НОВЫЕ СОКРОВИЩА
БИРХОБ И ШЛИМАН — ТАКИЕ ПОХОЖИЕ И ТАКИЕ РАЗНЫЕ
ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА С ВИЛЬГЕЛЬМОМ ДЕРПФЕЛВДОМ
СОМНЕНИЯ НАСЧЕТ ДВОРЦА ПРИАМА
«Я ОШИБСЯ»
ПРЕКРАЩЕНИЕ РАСКОПОК В ТРОЕ
ТИРИНФ, ТВОРЕНИЕ ЦИКЛОПОВ
ДВОРЕЦ, КАК ЕГО ОПИСЫВАЛ ГОМЕР
ОСТРОВ ЦАРЯ МИНОСА
ПО СЛЕДАМ ФАРАОНОВ
XIV. СМЕРТЬ В НЕАПОЛЕ
В ПАРИЖЕ С ВИРХОВОМ
«В ШЕСТЬДЕСЯТ СЕМЬ ЛЕТ ВЫ УЖЕ НЕ ЮНОША»
ВСТРЕЧА ЭКСПЕРТОВ В ГИССАРЛЫКЕ
СПОРНОЕ ДЕЛО О ТРОЕ
СТРАННОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ ШЛИМАНА
ЗАПЛАНИРОВАННЫЙ КОНЕЦ
ОДИНОКАЯ СМЕРТЬ МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА
МИР ПРОЩАЕТСЯ С ВЕЛИКИМ ЧЕЛОВЕКОМ
ПРИЛОЖЕНИЕ
ГЕНРИХ ШЛИМАН И ЕГО ВРЕМЯ
СЕМЬЯ ШЛИМАН
ЭГЕЙСКАЯ И ГРЕЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ШЛИМАНА
СОДЕРЖАНИЕ
*** Примечания ***







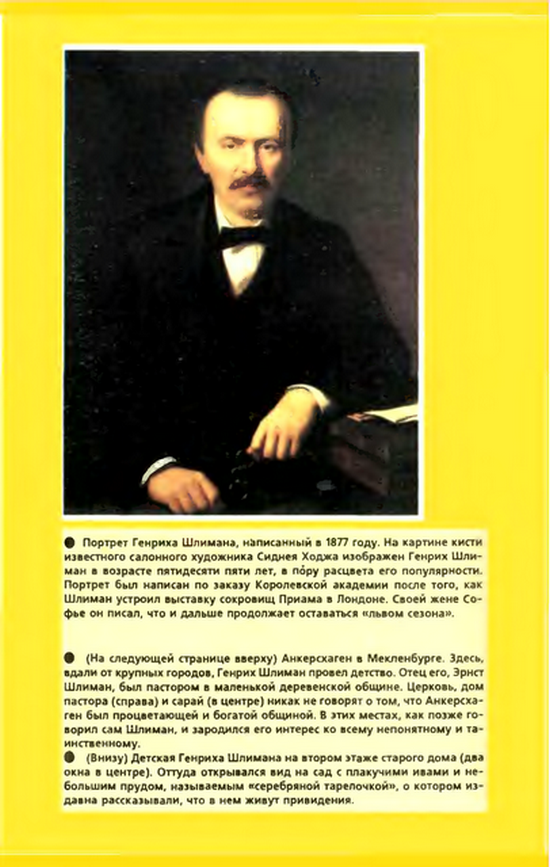



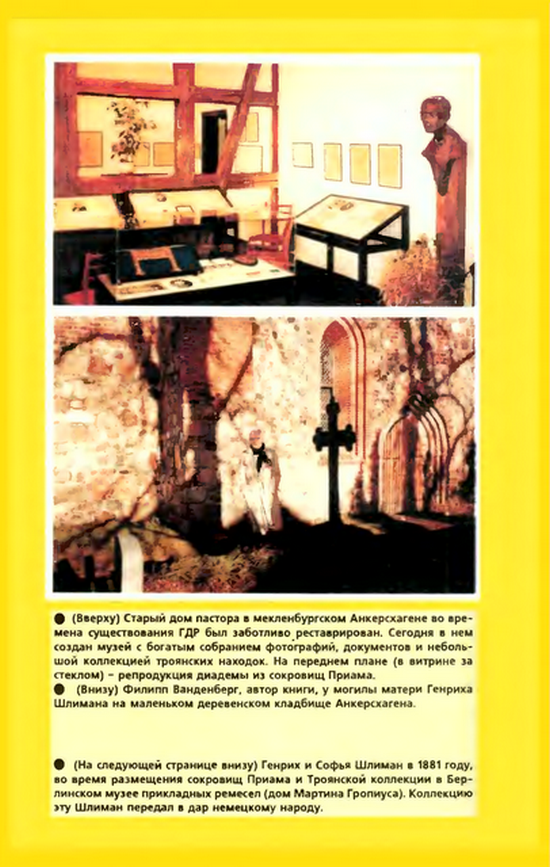


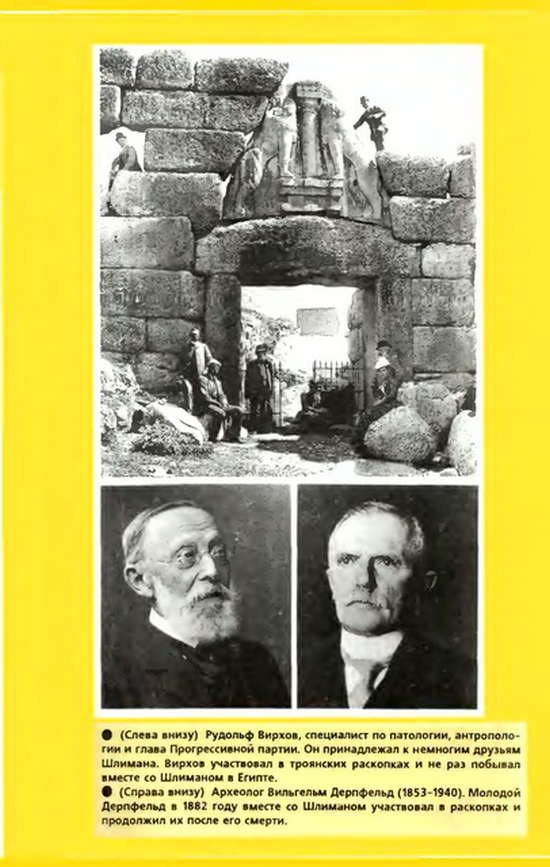


 «Я наконец, — пишет Шлиман в отчете о ходе раскопок, — начинаю раскопки И октября силами восьмерых рабочих, число которых на следующий день я увеличиваю до тридцати пяти, а 13 ноября — уже до семидесяти четырех человек, ежедневный их заработок составляет девять пиастров (один франк восемьдесят сантимов). Так как я, к сожалению, захватил с собой из Франции лишь восемь тачек, а недостающие изготовить здесь, на месте, не представляется возможным, то приходится для перемещения вырытого грунта использовать пятьдесят две корзины. Хотя это кое-как получается, но все равно дело идет слишком медленно, поскольку накопанная земля должна быть перемещена на довольно значительное расстояние; кроме того, на это уходит слишком много физических сил. Одновременно с этим я применяю для перевозки грунта и четыре повозки, запряженные волами, каждая такая повозка обходится мне в двадцать пиастров ежедневно. Я работаю с большой энергией и иду на любые расходы, чтобы, по возможности, еще до наступления зимних дождей, которые могут начаться в любой день, добраться до культурного слоя и тем самым решить самую большую загадку: действительно ли гора Гиссарлык представляет собой крепость Трою, в чем я, собственно, и не сомневаюсь».
У Шлимана было достаточно времени, чтобы как следует присмотреться к территории, на которой предстояло вести раскопки. Примерно в
«Я наконец, — пишет Шлиман в отчете о ходе раскопок, — начинаю раскопки И октября силами восьмерых рабочих, число которых на следующий день я увеличиваю до тридцати пяти, а 13 ноября — уже до семидесяти четырех человек, ежедневный их заработок составляет девять пиастров (один франк восемьдесят сантимов). Так как я, к сожалению, захватил с собой из Франции лишь восемь тачек, а недостающие изготовить здесь, на месте, не представляется возможным, то приходится для перемещения вырытого грунта использовать пятьдесят две корзины. Хотя это кое-как получается, но все равно дело идет слишком медленно, поскольку накопанная земля должна быть перемещена на довольно значительное расстояние; кроме того, на это уходит слишком много физических сил. Одновременно с этим я применяю для перевозки грунта и четыре повозки, запряженные волами, каждая такая повозка обходится мне в двадцать пиастров ежедневно. Я работаю с большой энергией и иду на любые расходы, чтобы, по возможности, еще до наступления зимних дождей, которые могут начаться в любой день, добраться до культурного слоя и тем самым решить самую большую загадку: действительно ли гора Гиссарлык представляет собой крепость Трою, в чем я, собственно, и не сомневаюсь».
У Шлимана было достаточно времени, чтобы как следует присмотреться к территории, на которой предстояло вести раскопки. Примерно в 


 Все невзгоды с ним делила его супруга Софья. Тогда она оставалась в постели из-за легкого приступа лихорадки, и поэтому наше знакомство можно было назвать заочным: мы ее не видели, но ее звонкий голосок принимал участие в нашей беседе, и ему не мешали ни тонкая перегородка, ни болезнь».
Поздно ночью Шлиман пошел вместе с гостями в дом к Стаматакису, где хранились все находки. Молодые люди с интересом разглядывали каменные фигурки, глиняные черепки и золотые изделия. При этом им бросилось в глаза, что грек обращался со Шлиманом «с нескрываемой неприязнью, что оставило… неприятный осадок».
Устроив пикник на построенных циклопами стенах, студенты отправились на следующий день назад в Афины. Но как только их корабль покинул порт, штормовой ветер, бушевавший уже несколько недель, уступил место штилю. Целую неделю корабль дрейфовал в заливе Арголикос.
Все невзгоды с ним делила его супруга Софья. Тогда она оставалась в постели из-за легкого приступа лихорадки, и поэтому наше знакомство можно было назвать заочным: мы ее не видели, но ее звонкий голосок принимал участие в нашей беседе, и ему не мешали ни тонкая перегородка, ни болезнь».
Поздно ночью Шлиман пошел вместе с гостями в дом к Стаматакису, где хранились все находки. Молодые люди с интересом разглядывали каменные фигурки, глиняные черепки и золотые изделия. При этом им бросилось в глаза, что грек обращался со Шлиманом «с нескрываемой неприязнью, что оставило… неприятный осадок».
Устроив пикник на построенных циклопами стенах, студенты отправились на следующий день назад в Афины. Но как только их корабль покинул порт, штормовой ветер, бушевавший уже несколько недель, уступил место штилю. Целую неделю корабль дрейфовал в заливе Арголикос.