ТОМ ЭГЕЛАНН
ХРАНИТЕЛИ ЗАВЕТА
И умер там Моисей, раб Господень, в земле Моавитской, по слову Господа. И погребен в долине в земле Моавитской, против Веф-фегора, и никто не знает места погребения его даже до сего дня.
Пятая книга Моисеева
Склеп мой открыт, и солнечные лучи падают в темноту. Взгляд Хоруса делает меня святым, а Осирис, который благословенно живет после смерти, обнимает меня.
Египетская Книга мертвых
Торе Пёс вошел туда, где было тело короля Олафа, и стал хлопотать над ним, уложил и распрямил его и прикрыл тканью.
И когда вытер кровь с его лица, то увидел, что лицо короля прекрасно, щеки румяны, как будто тот спал, а лицо даже яснее, чем при жизни.
Снорри Стурлусон

Египетский анх.

Руна Т — тюр.

Христианский крест.

Пентаграмма.

ПРОЛОГ
Один только шаг между мною и смертью.
Первая книга Царств
Потому и премудрость Божия сказала: пошлю к ним пророков и Апостолов;
И из них одних убьют, а других изгонят.
Евангелие от Луки
ЕГИПЕТ
1360 год до Рождества Христова
Медленно поднес он чашу с ядом к своим губам.
Ниже дворца сквозь марево с трудом просматривались мерцающие волны Нила. На ясном небе полыхало солнце, словно котел с кипящей медью. Вдали, над пустыней, дрожащая дымка пыли образовала серо-коричневый купол.
Струйками по шее и спине сбегал пот, песок прилип к коже и образовал на ней корку.
Хотя яд смешали с медом и вином, напиток от этого не потерял своего вяжуще-горьковатого вкуса. Ему предложили самому сделать выбор, как умереть. И теперь они окружили его — визири, жрецы, чиновники и генералы — и ждали, когда он опустошит чашу. Не было только фараона и царицы. Но они и не собирались приходить.
Белый голубь промелькнул мимо окна и быстро полетел к солнцу. Проводив голубя взглядом, он поднес чашу к губам и осушил ее.
ДРЕВНЕИСЛАНДСКИЙ ПЕРГАМЕНТ
1050 год
(В 1240 году включен в состав «Кодекса Снорри»)
Берегись, читающий эти тайные руны. Муки Дуата,[1] Хеля[2] и Ада ждут того, кто без позволения раскроет загадки этих знаков.
 Избранником являешься ты, охраняющий тайну ценой своей чести и жизни. Твои божественные покровители Осирис,[3] Один[4] и Христос наблюдают за каждым твоим шагом. Слава тебе, Амон![5]
Избранником являешься ты, охраняющий тайну ценой своей чести и жизни. Твои божественные покровители Осирис,[3] Один[4] и Христос наблюдают за каждым твоим шагом. Слава тебе, Амон![5]
НОРВЕГИЯ
1070 год
Старый викинг закашлялся и посмотрел в оконце своей холодной монастырской кельи на склоне горы. Со стороны океана надвигался туман, но он его не замечал. У воды среди камней и выброшенных на берег водорослей чайки устроили крик, окружив гниющие останки туши тюленя.
Он откашлялся, обхватил негнущимися от подагры пальцами перо и написал:
Один, дай мне силы.
Руки мои дрожат. Скрюченные пальцы больше похожи на когти орла. Ногти заострились и обломались. Из груди моей вместо дыхания вырываются свист и хрипы. Глаза, которые когда-то могли разглядеть сарыча в поднебесье или корабль на самом краю горизонта с верхушки мачты, теперь застил вечный туман. Только наклонив лицо к пергаменту, так что отчетливо слышен скрип пера по хорошо выделанной коже и ощущается запах дубильной кислоты, смешанный с моим собственным дыханием, я, хоть и с трудом, различаю слабый след чернил. Но это неизбежно, когда медленно приближаешься к позорной смерти.
Браге, дай мне силы запечатлеть мои воспоминания на выбеленном пергаменте. Больше сорока лет прошло с того дня, когда моему повелителю и королю — человеку, которого называют теперь
Óláfr hinn helgi, Олаф Святой, — нанесли удар мечом в битве при Стиклестаде.
[6] Я был его оруженосцем и другом. Он так и стоит у меня перед глазами, бесстрашный и твердый в вере, а Кальв наносит ему смертельный удар. Он нашел своего Бога, мой король.
Чтобы не перечить моему господину, я принял крещение во имя Иисуса Христа. Однако втайне, как и встарь, поклонялся богам, доставшимся мне от предков. Я так и не осмелился признаться Олафу, что изменял вере. Оставаясь наедине с собой, я молился Одину и Тору, Бальдру и Браги, Фрею и богине Фрейе.
[7] Мои боги помогали мне всю мою жизнь. А что сделал Иисус Христос для моего короля? Где был Бог, которого они называли Всемогущим, когда Олаф сражался за Него при Стиклестаде? Мои же боги сохранили мне жизнь и позволили дожить до возраста, когда тщедушное бренное тело почти рассыпается на куски, внутренности сгнили, а мясо отваливается от костей. Никогда Валгалла
[8] не распахивала предо мной своих врат. Почему мне не было позволено умереть в битве? С того самого дня, как мы с Олафом, тогда еще два молокососа, отправились в свой первый поход викингов, я не раз смотрел смерти в глаза в чужих краях. Но валькирии никогда не останавливали на мне свой выбор. Я еще чувствую жажду крови и помню ярость, которая вскипала во мне каждый раз при приближении к чужому берегу, ужас в глазах противника, вздымающиеся груди и обнаженные бедра женщин, над которыми мы надругались. Мы бились храбро — так, как нас учили отцы и деды. Сколько человек мы убили? Больше, чем пальцев на руках у тысячи человек. Я и сейчас вижу перед собой взгляд тех воинов, которых я разрубал во имя короля Олафа. Мы брали в плен мужчин и женщин, которых потом продавали как невольников и наложниц. Поджигали дома и, уходя, оставляли деревни в руинах. Таков был обычай.
Незадолго до смерти Олаф почувствовал угрызения совести. Он молил своего Бога о прощении. Его Бог не уважал приносящие славу битвы. Если приверженцы этого Бога складывали молитвенно свои руки и шептали волшебные слова, то Он прощал им грехи, которые их мучили. Но только если они поклонялись Ему. Какое лицемерие! Я никогда не мог понять этого Бога и Его Божественного Сына. Поэтому я по-прежнему приносил жертвы Одину и Тору. И еще Браге, богу поэзии и искусства скальдов.
[9] Меня называли скальд Бард. Ни одно из моих скальдических стихотворений не записано. Мои лучшие стихи живут в устах других людей.
В вырубленном в скале монастыре, где я живу уже почти двадцать лет, ко мне относятся как к святому. Раз уж я был близок и к королю, и к египтянину Асиму, то здесь думают, что часть их святости перешла на меня. Теперь оба покоятся в тайной гробнице Асима вместе с сокровищами и древними свитками, которые мог прочитать только Асим.
Двадцать пять лет миновало с той поры, когда мы были молодыми, до дня, когда жизнь покинула Олафа Святого под палящим июньским солнцем в битве под Стиклестадом, и все эти годы я был его верным спутником. Сейчас я стар. Сижу здесь и записываю на самом лучшем пергаменте, какой только можно получить в этом монастыре, острым пером и лучшими чернилами тайну, оставшуюся от той жизни, которую я провел вместе с моим королем. Перед смертью я должен рассказать историю о походе воинов в царство солнца, к храму чужих богов.
Старик еще раз выглянул за оконце. Туман полностью окутал монастырь. Чайки затихли. Затем снова посмотрел на написанное. Руны заполняли белый пергамент симметричными рядами. Он с трудом поднялся и побрел к оконцу, опустил руки на подоконник и погрузился в воспоминания. Терпкий соленый воздух моря и ветра всегда наводил его на мысли о годах юности, когда он стоял на носу корабля викингов «Морской орел» рядом с королем Олафом. Волосы трепетали на ветру, а взгляд был направлен в сторону неведомых стран.
РУНИЧЕСКАЯ НАДПИСЬ
ЦЕРКОВЬ УРНЕС
Священный культ
Амона-Ра
достойные ХРАНИТЕЛИ
знают великую тайну
этих рун
ВАТИКАН
1128 год
Лицо кардинала Бенедиктуса Секундуса казалось мертвенно-бледным в мелькании света от коптящего жирового светильника. Положив перед собой на стол пачку листов пергамента, он стал сверлить архивариуса взглядом:
— Почему об этом тексте мне стало известно только сегодня?
— Ваше Преосвященство, этот коптский документ был среди бесчисленного количества прочих, которые Ватикан конфисковал более ста лет назад. С тех пор они лежали нетронутыми в архиве. Пока префект Сканнабекки не приказал произвести разборку и составить их опись. Этот документ лишь один из многих, которые нам недавно перевели. Мы даже не подозревали… — Архивариус замолк, с испугом перевел взгляд с кардинала на стоявшего в темном углу Клеменса де Фиески, рыцаря из ближайшего окружения папы, и закончил: —…о характере этого текста.
— Кто записал текст на коптском?
— Один египтянин, Ваше Преосвященство…
— Нетрудно догадаться.
— …некий жрец…
— Хм!
— …по имени Асим.
— И где же оригинал?
— Насколько нам известно, папирус находится в… э-э-э… Норвегии.
Взгляд кардинала затуманился.
—
Noruega, — повторил архивариус. — Это снежная страна. Далеко на севере.
—
Noruega. — Кардинал взял себя в руки, чтобы скрыть свой гнев. — Каким образом собрание священных текстов могло оказаться там, у этих…
варваров?
— Это нам неизвестно, — прошептал архивариус.
— Мне, видимо, нет нужды говорить, насколько важно для Ватикана вернуть оригинал?
— Поэтому-то я и пригласил вас сюда, Ваше Преосвященство.
Кардинал повернулся к Клеменсу де Фиески:
— Я хочу, чтобы ты отправился туда и нашел оригинал! В этой самой стране…
Noruega.
Клеменс де Фиески вышел из тени и слегка поклонился.
— Ваше Преосвященство, — вмешался архивариус и, перелистав листы пергамента, нашел нужный, — информация египтянина дает лишь очень приблизительное…
— Найди его! — прервал его кардинал, продолжая смотреть на де Фиески. — И привези сюда.
— Ваше Преосвященство! — отозвался де Фиески и еще раз поклонился.
Пламя светильника затрепетало от взмаха его плаща. Они услышали затихавшие шаги и затем звук закрывшейся двери.
— Де Фиески
должен найти оригинал! — воскликнул кардинал, обращаясь больше к себе, нежели к архивариусу. — Если манускрипт попадет в чужие руки…
— Этого не должно случиться.
— Ни слова! Ни одному человеку! — Кардинал обвел взглядом зал с многочисленными полками, на которых громоздились свернутые в трубки пергаменты, манускрипты, документы, письма и карты, и затем сложил в молитве руки. — Господи, помоги нам найти этот папирус, — прошептал он и оставил архивариуса трястись от страха под светом чадящего жирового светильника.
НАДПИСЬ НА МОГИЛЕ
МОНАСТЫРЬ ЛЮСЕ
1146 год

HIR: HUILIR: SIRA: RUTOLFR
Здесь покоится преподобный Рудольф

ИЗ «КОДЕКСА СНОРРИ»
1240 год
Досточтимый ХРАНИТЕЛЬ
который истолкует загадки рун
Ты сможешь найти рунический камень
в последней могиле у рунической розы
где покоится епископ Рудольф
ИСЛАНДИЯ
1241 год
В ту ночь, когда его пришли убивать, он долго стоял в своем дворе и смотрел на звезды. Что-то тревожило его. Некое предчувствие. Он поежился от холодного северного ветра. Перед этим он больше часа просидел в теплой воде купальни возле своего дома, потом вытерся, оделся. Над крышей дома он видел луну, колеблющуюся из-за пара, который поднимался от купальни. Он запустил пальцы в седую бороду и ткнул ногой пожелтевшую траву. Он никак не мог понять, отчего на душе у него скребли кошки. Ему еще так много нужно сделать! Годы его не тяготили, совсем нет. Он был здоров и подвижен, как теленок. М-да. По небу пронеслась падающая звезда. «Вот как, — подумал он, — это предзнаменование?» Он вдохнул в легкие холодный воздух и затаил дыхание. Где-то залаяла собака. В конюшне заржала лошадь.
Потом мир опять замер.
— Да-да, — прошептал он, — да-да-да.
Он вошел в дом и стал подниматься по лестнице, седьмая ступенька всегда скрипела. Закрыв за собой дверь спальни, он тяжело опустился на кровать поверх меха, который служанка недавно чистила. Так он и заснул одетый, прислонившись головой к необструганной доске стены.
Ржание лошадей.
Громкие крики.
С треском и грохотом распахиваются ворота.
Кто-то выкрикивает имя. Его имя.
Эти звуки вплелись в его сновидение. Ресницы задрожали. И внезапно он совершенно проснулся. Одним движением поднялся, ухватился за стойку кровати, чтобы не упасть.
Снаружи доносились шум и крики. Он посмотрел в оконце и во дворе увидел мужчин в полном вооружении, с факелами в руках. Среди них можно было угадать освещенного мигающим светом факелов Гиссура. Он замер. Гиссур! В минуту слабости он дал позволение своей дочери Ингебьорг выйти замуж за этого негодяя! Пусть так вышло, ну и что? Гиссур… Неужели именно этот червячок грыз его? Он враждовал с Гиссуром. Но чтобы вот так? Хотя если говорить честно, то ничего другого нельзя было и ожидать от мерзавца, который всеми силами пытается выслужиться перед норвежским королем.
Сердце сильно забилось, но он не хотел признаваться, что боится. «Не может же смерть прийти в такую ночь, — подумал он, — в эту мирную звездную ночь».
Он открыл комод и покопался в вещах, нашел секретный механизм тайного отделения. Замочек щелкнул. Рука обхватила трубку. Никогда и ни за что этот пергамент не должен попасть в руки Гиссура и бесчестного норвежского короля. Он сунул трубку себе под рубаху, незаметно пробрался по узкой лестнице, выбежал в переулок за домами и поспешил к священнику Арнбьорну.
Старик сидел на кровати, подтянув одеяло до подбородка, и смотрел на него широко раскрытыми испуганными глазами. Он облегченно вздохнул, когда в полумраке признал хавдинга.
[10]
— Кто там?..
— Гиссур и его люди!
— Гиссур?! — Священник перекрестился и сполз с кровати на пол. — Спрячься! Я знаю где! В погребах. Там есть каморка.
— Обещай мне сделать кое-что! — Слова прозвучали необычно. Спокойно. Повелительно. Без признаков страха. Он вынул трубку с пергаментом. — Арнбьорн, слушай меня внимательно!
Арнбьорн сидел с открытым ртом:
— Да?
Он протянул пергамент. Какое-то время оба держались за кожаную трубку.
— Если к утру меня не будет в живых, ты, Арнбьорн, должен будешь выполнить одно мое поручение. Ничего важнее в твоей жизни еще не было.
Священник молча кивнул.
— Ты должен передать пергамент Тордуру Хитроумному. — Он вперил взгляд в священника. — И еще, ты никогда никому не должен говорить об этом. Никогда ни единого слова!
— А что сказать… Тордуру?
— Он все поймет.
Тордур был еще одним хранителем в Исландии. Если можно было довериться кому-то на этой земле, так Тордуру Хитроумному, сыну брата.
И, только сказав это, он выпустил трубку из рук.
— Охраняй его ценой собственной жизни! Даже если тебе выколют глаза. — (Священник вскрикнул и отпрянул.) — Сохрани пергамент и никому не говори, что он у тебя есть и даже что ты что-то про него знаешь! Обещай мне это, Арнбьорн, именем Господа!
Священник несколько помедлил, задумавшись о том, что ему могут выколоть глаза, и затем ответил:
— Клянусь!
— Я надеюсь на тебя, друг мой. Да пребудет с тобой мир, священник Арнбьорн!
Сказав это, он покинул священника и выбежал в ночь. Мороз полоснул по коже. Раздавались окрики спутников Гиссура, обыскивавших двор, конское ржание и топот, собачий лай и громкие голоса обезумевших обитателей дома, протестовавших против бесчинств дружинников. За сарайчиком был вход в погреба, он открыл дверь. В кромешной тьме он бежал, пригнувшись, по узкому проходу, то и дело дотрагиваясь до выложенных камнем стен. Метров через десять-двенадцать наткнулся на деревянную дверь. «Вот дьявол!» Вытащил ключ, открыл дверь и вошел в каморку. В нос ударил запах прелого зерна и забродившего медового питья. Он спрятался, протиснувшись в щель между бочками с зерном, которые стояли вдоль стены.
«Они не уйдут, пока не найдут меня», — подумал он.
Обнаружив его, они под радостное улюлюканье оттолкнули бочки и вытащили его из укрытия.
При свете факелов он увидел пять человек. Узнал Арни Язву и Симона Крутого. Но Гиссура, этого мерзавца, среди них не было.
Позади, в темном туннеле, он заметил священника Арнбьорна.
— Господин, — прокричал священник со страхом, — они обещали пощадить тебя!
— Вот и хорошо, — сказал он так тихо, что священник вряд ли услышал его.
— Заткнись, старик! — крикнул Симон Крутой Арнбьорну.
— Гиссур обещал сохранить тебе жизнь! — не унимался священник. — Он сказал, что примирение состоится только после вашей с ним встречи…
Вдруг Арнбьорн замолк, догадавшись, что его обманули и что он предал своего хавдинга.
Кто-то из преследователей засмеялся.
— Где пергамент? — крикнул Симон Крутой.
— Куда ты его спрятал? — прорычал Арни Язва.
И они думали, что он расскажет?!
Симон Крутой приблизил к нему лицо:
— Послушай, ты же знаешь, что мы найдем его. Даже если для этого придется разнести здесь все в пух и прах.
Так продолжалось некоторое время. Наконец они потеряли терпение.
— Рубить голову будешь ты! — крикнул Симон Крутой Арни Язве.
Воины смотрели на священника.
— Ну говори же! — завопил Арни Язва.
В этот момент
он чувствовал только абсолютное спокойствие. Им овладело сознание того, что жизнь подошла к концу — его богатая драматическими событиями жизнь, за которую ему было не стыдно. Жизнь почти такая же, как те, которые он воспевал в своих сагах.
— Не смей, — твердо сказал он.
— Руби! — повторил Симон Крутой.
Он не испугался. Он только хотел умереть с честью. Он не хотел уходить из жизни с лицом, изуродованным топором и мечом. Удар в сердце был бы гораздо более почетным.
— Не смей, — повторил он властно и посмотрел своим убийцам прямо в глаза.
Первым нанес удар Арни Язва. Он попал в сонную артерию. Кровь брызнула из раны. «Есть еще во мне сила и стойкость», — подумал
он со вспышкой гордости. Опустился на землю. Остальные стали наносить удары без разбору. Из туннеля доносились жалобные стоны священника Арнбьорна. «Лишь бы он сдержал слово и передал пергамент Тордуру Хитроумному», — была его последняя мысль.
Вот так, в окружении врагов, купаясь в собственной крови, расстался с жизнью Снорри Стурлусон.
[11]
РУНИЧЕСКАЯ НАДПИСЬ
ДВОРЕЦ МЬЕРКОЛЕС
1503 год
Торд высек эти руны далеко от родных краев
Через бурные моря и далекие горные страны
через леса и вершины
несли мы святыню
для охраны которой мы были рождены
ВАТИКАН
1503 год
Папа Юлий II изумленно посмотрел на недавно назначенного кардинала Джулиано Кастанью.
— Пожалуйста, повтори, — недоверчиво повторил папа. —
Где находится папирусный манускрипт?
— Святой отец, я знаю, что это кажется совершенно невероятным… Но посланец королевы Изабеллы доставил письмо сегодня утром. Как вы видите по печати отправителя, письмо подлинное.
Папа взял свиток с письмом, печать была сломана. Читая, он качал головой. Закончив чтение, протянул письмо кардиналу:
— И речь идет о папирусных оригиналах текстов Священного Писания, которые мы имеем только в переводе на коптский язык?
Кардинал кивнул.
— О тех папирусах, которые твой предшественник Секундус пытался найти почти четыре сотни лет тому назад? — спросил папа.
— Непостижимо.
— Но каким образом тексты оказались
там?
— Эта история, — сказал кардинал, — столь же непостижима.
Папа посмотрел на звездный потолок Сикстинской капеллы.
[12]
— Надо что-то делать с этим потолком, — пробормотал он, затем перевел взгляд на кардинала и вздохнул. — Если об этом станет известно, наступит катастрофа! Для Церкви. Для Ватикана. Для всего мира.
— Я могу предложить смелое решение нашей проблемы.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
МАНУСКРИПТ
…Там они убили трех священников и сожгли три церкви и отплыли домой.
Снорри
Рыцарь-тамплиер — воистину бесстрашный рыцарь, потому что его душа защищена кольчугой веры, так же как его тело защищено доспехами из железа.
Бернар Клерво
Бесспорная истина — все то, что сказано рунами.
«Речи Высокого»[13]
УБИЙСТВО СВЯЩЕННИКА
ИСЛАНДИЯ
2007 год
1
Преподобный Магнус мертв. Он плавает лицом вниз, как будто сделал глубокий вдох и теперь ищет что-то на дне купальни. Не очень длинные волосы, плавающие в воде, образуют вокруг головы венец. Белые как снег руки качаются на волнах.
— Магнус?
Голос мой совсем слабый и испуганный.
Одежда колышется вокруг, словно бурые водоросли в море в момент отлива. На дне поблескивают монеты, которые бросили туда туристы.
Я еще раз выкрикиваю его имя. Откуда-то доносится крик ворона.
Стою не шевелясь. Вероятно, я пытаюсь оттянуть неизбежный момент, когда придется вытащить его из горячей воды источника и взглянуть в его безжизненные глаза.
Едва ли он упал туда случайно. Купальня не очень глубокая. Магнус легко мог бы подняться.
Кто-то убил его. Кто-то утопил преподобного Магнуса.
Упершись коленом в камень, я хватаю его лодыжки и тяну из воды, слегка пахнущей серой. Он тяжелый. Одежда мокрая. Когда я переворачиваю его на бок, изо рта начинает течь вода. Я пробую найти пульс, но он давно исчез. Лицо покрасневшее, отечное. Глаза широко открытые. Пустые.
— О Магнус, — шепчу я, — что они с тобой сделали?
А может быть, не шепчу, а только думаю. Беру своей рукой его руку. И дрожу. По его бороде стекают капли. Одежда прилипла к грузному телу.
Круглая купальня обрамлена рядом неровных камней. Из щелей между камнями торчат упрямые стебли травы. Над пустынной местностью дует ветерок.
Я выпускаю его руку и звоню по телефону 112.
2
В ожидании полиции я бегу к дому священника, чтобы проверить, не украден ли манускрипт.
Дверь открыта. Я пробегаю через прихожую и гостиную, попадаю в кабинет. Здесь мы сидели накануне вечером и рассматривали ломкий пергамент. «Кодекс Снорри» — так называл преподобный Магнус это странное собрание кодов, текстов, карт и оккультных символов. Было уже около двух, когда ночь одолела нас. Я помню, как осторожно он сложил манускрипт и запер его в ящике конторки. Ключ висел на связке, которая была прикреплена цепочкой к его поясному ремню.
Теперь связка ключей с оборванной цепочкой вставлена в замок открытого ящика.
«Кодекс Снорри» исчез.
Собрание старинных текстов украдено.
Я представляю себе, как это было. Они держали его голову под водой. Произносили угрозы. Он наконец сдался и против своей воли сказал, где пергамент. Ясное дело. Я поступил бы точно так же. Кто-то из бандитов вбежал в дом. А найдя кодекс в ящике конторки, эти дьяволы опустили его голову под воду. Он сопротивлялся, потом перестал дышать. И тогда они оставили его в воде, словно он был самым обыкновенным утопленником.
Захлебнувшимся в «Бассейне Снорри».
[14]
3
Тишину прорезают звуки сирены.
Стая воронов взмывает вверх и с жалобными криками исчезает за каменной грядой. Полицейская машина и карета «скорой помощи» мчатся с такой скоростью, что приходится удивляться, смогут ли они вовремя остановиться. Видимо, они не знают, что необходимость в бешеной скорости отпала много часов тому назад.
Я машу руками машинам полиции и «скорой помощи» и показываю на купальню.
Мигают синие фонари. Сирены внезапно замолкают, сначала одна, потом другая. За передними стеклами я вижу лица — скептические, напряженные, растерянные.
«Преподобный Магнус?»
«Умер?»
«В «Бассейне Снорри»?»
«Убит?»
Они не могут в это поверить. Рейкхольт — самое мирное место на земле. Предыдущее убийство в Рейкхольте произошло 765 лет назад. В ночь на 23 сентября 1241 года Снорри Стурлусон был убит людьми Гиссура Торвальдссона по приказу короля Норвегии Хакона Хаконссона.
На данный момент единственный человек, который знает, что между этими двумя событиями есть связь, — это я.
НАЧАЛО
1
— Я нашел что-то невероятное, Бьорн!
Преподобный Магнус был священником. Он пытался спасти людей от гибели. Сам я археолог и пытаюсь спасти прошлое от забвения.
Я возвращаюсь в прошлое, всего только на два дня назад, прокручиваю пленку назад клавишей
fast rewind.[15] Итак, субботнее утро.
Преподобный Магнус стоял, улыбаясь в лучах солнца, когда я сворачивал на стоянку в Рейкхольте, во владении Снорри в Исландии. Как сейчас, вижу его через лобовое стекло автомобиля — он в прекрасном настроении, полон ожидания и абсолютно живехонький. Я остановил машину. Преподобный Магнус открыл дверь. Мы неловко обнялись, как это обычно делают мужчины, немного опасаясь, что обнаружится наша взаимная симпатия.
— Спасибо, что приехал, Бьорн. Спасибо! Не пожалеешь!
— Когда расскажешь о своей находке?
— Скоро, Бьорн, скоро!
Мы встретились впервые три года назад на симпозиуме, посвященному хавдингу и автору саг Снорри Стурлусону. Преподобный Магнус сделал доклад о сходстве средневекового Снорри и античного Сократа, которые обладали мудростью и распространяли знания. А я рассказал о критическом отношении Снорри к королю биркебейнеров
[16] Хакону Хаконссону.
Вот так мы подружились.
Неделю назад он позвонил мне и пригласил в Исландию. Мне было некогда. Я участвовал в раскопках на месте королевской усадьбы Харальда Прекрасноволосого в Кармёе. Но преподобный Магнус не желал ничего слушать. Я
должен приехать. Он кое-что нашел. Кое-что историческое. Если бы я его не знал так хорошо, то подумал бы, что у него крыша поехала. Но преподобный Магнус был степенным сельским священником, которого очень редко можно было вывести из себя.
— Так что же ты нашел?
Держа в руке чемодан, я шел на расстоянии нескольких шагов за преподобным Магнусом, следуя за ним вверх по дорожке к Центру Снорри — исследовательскому центру рядом с церковью и музеем. Магнус передвигался вразвалку, словно ноги были для него коротковаты. На большой стоянке было только две машины: внедорожник «БМВ» преподобного Магнуса и моя, взятая напрокат.
— Кодекс! Собрание пергаментов…
— О чем?
— …написанных на самой лучшей телячьей коже! Собрание рукописных манускриптов с мистическими текстами и стихами, картами и распоряжениями, символами и кодами.
— О чем они? Какой эпохи? Кто написал?
— Терпение, друг мой, терпение!
Преподобный Магнус рассказывал медленно. «В соответствии с моим метрономом души», — как он говорил обычно.
— Почему ты попросил приехать именно меня?
— Но, Бьорн, это само собой разумеется.
Я не знаю, имел он в виду, что я был его другом, или намекал на некое событие, происшедшее несколько лет назад. Я был контролером во время археологических раскопок, когда мы обнаружили ларец Святых Тайн — золотой ларец, содержавший старинный манускрипт, который обеспечил мне некоторую известность в академических кругах.
Преподобный Магнус открыл дверь в выделенную для меня, как для исследователя, квартиру. Поставив чемодан в прихожей, я ухватился за его рукав и потащил в комнату, где толкнул на стул:
— Вот так! Рассказывай!
Его лицо, если отбросить бакенбарды и сеточку морщин, можно было принять за лицо ребенка. Он торжественно и церемонно откашлялся, как будто собирался произнести проповедь.
— Позволь своему старому другу изложить эту историю хронологически.
— Ну давай же!
— Все началось две недели назад. У нас в приходе умер человек. Это был парализованный старик. Так что смерть его не была неожиданной. После похорон меня попросили помочь семье, в доме которой он жил, разобрать его обширное собрание документов. У этого старика была страсть — генеалогия. История родов. Его собрание включало современные труды и публикации, а также древние исландские генеалогические списки и манускрипты. Семейство, давшее кров старику, очень активно участвует во всех делах прихода. Они мои друзья. Старик завещал им все свое имущество. И вот, когда исландская компания «DeCODE Genetics», использующая генетические исследования для биофармацевтических методик создания лекарств, предложила за это собрание два миллиона, они попросили помощи.
— Зачем оно «DeCODE Genetics»?
— Исландия является уникальным банком генов. Генетическая история большей части населения может быть прослежена от самого времени «занятия земель», когда Исландия была заселена. Компания «DeCODE Genetics» надеялась, что собрание старика бросит свет на генеалогию неизвестных ранее родов. Мой друг хотел посоветоваться со специалистом, чтобы его не надули, чтобы «DeCODE Genetics» не присвоила того, что по праву принадлежит Институту исландских рукописей в Рейкьявике.
— И что же ты нашел?
— Его коллекция была уникальной. Это правда! Очень старые книги. Письма. Пергаменты. Манускрипты. Некоторые распадались на отдельные листы. Карты. Документы о передаче земель. Среди документов я нашел составленную в 1453 году родословную династии Инглингов, к которой принадлежал Снорри.
Я попытался вставить вопрос, но движением руки он остановил меня:
— Листая один из пергаментов, я обнаружил, что кожаный переплет был с бугорком. И тогда… — он виновато кашлянул, — я разорвал один подгнивший шов, чтобы посмотреть, что там внутри.
—
Что ты сделал?
— Послушай! Под переплетом я нашел еще более старый текст.
— Ты повредил переплет?
— Собрание пергаментных листов было сшито как книга, образовав кодекс.
— Разрезать антикварную вещь — это вандализм. И ты это знаешь.
— Я сделал что-то ужасное, Бьорн?
— Безусловно! Ты должен был передать пергамент специалисту по консервации, чтобы тот вскрыл кожаный переплет.
— Но это еще не все.
— То, что ты разрезал переплет, — это уже очень плохо.
— Что-то было в тексте. — Его взгляд стал туманным и мечтательным. — В словах, в рукописи, в геометрических фигурах…
— И что ты сделал?
— Ты ведь знаешь, я честный и добропорядочный священник!
— Магнус, что ты сделал с кодексом?
Он стыдливо покосился на меня:
— Я засунул пергамент под куртку и принес домой. — Его взгляд блуждал по полу. — Я украл его, Бьорн.
2
Позже в тот же вечер, когда с гор подул холодный порывистый ветер, преподобный Магнус показал мне кодекс. Мы сидели за потрескавшимся столом в одной из комнат его дома, всего в нескольких шагах от Центра Снорри.
Его лицо исказилось словно от боли.
— Что тебя мучит? — спросил я.
Он с грустным видом покачал головой.
— Тебе стыдно, что ты украл пергамент?
— Это еще не все. Я… Нет. Не теперь, Бьорн. Может быть, в другой раз.
Из ящика конторки он вынул шкатулку, завернутую в серую бумагу и старые газеты. Он долго разворачивал один слой бумаги за другим. Собрание пергаментов было в на редкость хорошем состоянии. Кончиками пальцев я погладил светло-коричневую кожу:
— Так что же это? — Мне показалось уместным заговорить шепотом.
Очень бережно я открыл манускрипт. Первые пять страниц были исписаны рунами. Потом я дошел до части, где на более светлой коже были выведены латинские буквы, а под ними три символа, нанесенные красными чернилами:
Египетский
анх. Руна
тюр. Христианский
крест.
На следующей странице две карты: Южной Норвегии и Западной Исландии.
И пентаграмма.
— Священная геометрия, — сказал преподобный Магнус.
Только этого недоставало!
— Если честно, — сказал я задумчиво, — я никогда не мог ответить на вопрос, чем является священная геометрия — мифологией или наукой.
— А может быть, она посредине?
— Кто из нас священник: ты или я?
В университете у нас был однажды заезжий лектор, который сумел убедить даже такого скептика, как я, что наши предки подверглись воздействию идей греков и египтян в области математики, астрономии, географии, геодезии, а также наук, которые составляют основу картографии. С помощью фотографий, сделанных из космоса, и карт он доказал, что почти все средневековые святыни и важнейшие сооружения были заложены в соответствии с географическими, геометрическими и математическими образцами.
И все же…
Преподобный Магнус вновь открыл страницы с латинскими буквами:
— Посмотри! Такой рисунок букв называется каролингский минускул.
[17] Это основа печатного шрифта наших дней. Создание его означало целую эпоху в каллиграфии.
Я посмотрел на него взглядом, который, насколько я знаю, раздражает людей в особенности потому, что сила его возрастает из-за толстых стекол очков. Преподобный Магнус приложил палец к двум крохотным значкам в самом низу листа и протянул мне лупу:
— Видишь две буквы «S»?
— Да.
— Теперь понимаешь?
Но я абсолютно ничего не понимал.
— «S. S.» Рядом с каролингским минускулом. Бьорн, ну как ты не понимаешь? «S. S.» — это же Снорри Стурлусон! Латинские буквы написал сам Снорри!
Я изумленно смотрел на текст. А за окном жалобно завывал ветер.
— Текст написал собственноручно Снорри, — продолжил преподобный Магнус.
— Ты уверен?
— Это просто невероятно, Бьорн!
Если преподобный Магнус прав, то собрание пергаментов неоценимо и непременно войдет в мировую историю. Снорри вряд ли писал что-то собственноручно. Он диктовал. В окружении бригады писцов Снорри создавал свои труды о королях викингов и мифы о богах. Исследователи все еще бурно спорят, написал уточнение на полях исландского
máldagi — письменного контракта — собственноручно Снорри или кто-то из его писцов.
— То, что Снорри лично написал части это текста, а не поручил это даже самому доверенному из писцов, означает, что содержание неминуемо должно быть невероятно щекотливым и секретным, — сказал преподобный Магнус.
— Но зачем он перемешал собственные пергаменты и тексты с более старыми манускриптами, написанными рунами?
— Если бы знать…
Мы осторожно перелистывали пергамент.
— О чем этот текст? — спросил я.
— Распоряжения. Правила. Пророчества…
Преподобный Магнус перевернул страницу и показал древнеисландский текст:
Первосвященник Асим сказал, что наступят такие времена, когда ХРАНИТЕЛИ доставят СВЯТОГО обратно к месту упокоения, под священное солнце, в священный воздух, в священную пещеру; и минет тысяча лет; и половина из них пройдет в тумане разрухи и лжи; и из большой армии ХРАНИТЕЛЕЙ останется только трое; и они будут верными, чистыми сердцем, и их число будет три.
— И что это значит? — спросил я.
— Понятия не имею. Но по меньшей мере слова можно разобрать.
— Что ты хочешь сказать?
— Значительные части текста вообще не прочитать!
— Неизвестный язык?
— Некоторые тексты написаны с использованием какого-то шифра.
— Что?!
— Ты мне веришь, Бьорн?
— Шифра?!
Преподобный Магнус понял, что мне потребуется время переварить его утверждение.
— Почему ты удивляешься? Коды употреблялись тысячелетиями!
— Но ведь это же Снорри?!
— Если он хотел написать что-то секретное, то был вынужден закодировать сообщение!
Магнус открыл последнюю страницу пергамента и показал мне красивый каллиграфический почерк, в изящной рамке стихотворные строки. Я попытался прочитать. Но даже мне, потихоньку поднимающемуся вверх по служебной лестнице старшему преподавателю, владеющему древнеисландским языком, текст показался абракадаброй.
— Тридцать три слова на шести строчках, — сказал он. — На первый взгляд нечитаемый текст. Поэтому я стал искать значение числа тридцать три.
— И что ты обнаружил?
— Иисус прожил тридцать три года. Тридцать три — главное число в магической нумерологии. Тридцать три — священное число масонов.
— Во времена Снорри не было масонов.
— Вот именно! Поэтому я считаю чистой случайностью, что текст состоит из тридцати трех слов. — Он самодовольно рассмеялся и перевернул страницу. Показал пальцем на текст из восемнадцати слов. — Абракадабра!
— Можешь взломать код?
— Я не могу. А ты?
Я покачал головой:
— Но я знаю человека, который может.
3
Я не уверен, кто мне Терье Лённ Эриксен: друг или просто коллега? Как и я, он социальная амеба. Он старший преподаватель и исследователь на кафедре общего языкознания и скандинавистики Университета Осло. Его работа посвящена изучению процесса трансформации древнескандинавского языка в норвежский, шведский, датский и исландский. Я, пожалуй, даже могу высказать предположение, что Терье — языковой гений. Его хобби — дешифровка текстов. Когда ему было шестнадцать лет, он самостоятельно, без консультаций с Томасом Филиппсом, раскрыл код, использованный в переписке между шотландской королевой Марией Стюарт и ее соратниками, находившимися на свободе.
Когда я позвонил Терье и объяснил, в какой связи мне нужна его помощь, он не смог скрыть своей радости. Одно слово за другим, одну строчку за другой я продиктовал ему весь текст Снорри. Преподобный Магнус наблюдал за мной с плохо скрываемой улыбкой, говорившей, что он ни за что не поверит, будто кто-то сможет разобраться в средневековом коде Снорри. Включая моих хитроумных друзей.
4
Сон без сновидений чем-то напоминает смерть, если не считать маленькой детали, что человек все-таки просыпается. Так бывает со мной в утренние часы, когда я раскрываю глаза с солнцем в душе и мелодией из «Ромео и Джульетты» Прокофьева, звучащей из моего мобильного телефона.
— Есть хорошие новости! — крикнул Терье в трубку.
— М-да? — промычал я, пытаясь прогнать из голоса сонливость.
— Я разобрался, в чем тут дело!
— Не говори, что ты занимался расшифровкой всю ночь!
— Не поверишь, какой это забавный код!
— Забавный?
Зажав телефон между плечом и ухом, я приоткрыл окно. Ветер северной Атлантики тут же резко понизил температуру в комнате.
— Рунический код очень простой. С-4, то есть Цезарь-4.
— Цезарь-4?
— Шифр Цезаря со сдвигом. Это название простейшего кода, которым пользовался Цезарь, чтобы обмануть шпионов, когда посылал важные сообщения своим генералам. Цезарь заменял каждую букву алфавита другой, которая стоит на определенное количество знаков дальше. С-4 означает, что каждая буква текста заменяется буквой, которой стоит на четыре знака алфавита дальше. Таким образом, вместо латинской «А» пишется «D», вместо «В» буква «Е» и так далее.
— Это значит, что у тебя есть перевод?
— А зачем бы еще я стал звонить? Давай начнем с первого стиха. — Он откашлялся и начал чтение:
Ищи ответ в крестовой саге
ибо это число — магическое
число — слова Господа
И найдешь ты это число
на древе жизни и в потерянных племенах
Число причастий покажет тебе путь дальше
— Ой! — выдохнул я.
— Невероятно, правда?
— Пожалуй, да.
— Ты понимаешь, о чем идет речь?
— Не совсем.
— Тогда давай посмотрим.
Крестовая сага…
— Как раз это я понял. «Сага о Святом Кресте». Последняя сага, которую Снорри писал перед смертью.
— Именно так. Идем дальше.
Ибо это число — магическое. Число — слова Господа. Число Господа — это, по-видимому, десять заповедей.
Древо жизни — намек на каббалистику и иудейский мистицизм, которые связаны с явлением Бога в мире в десяти стадиях.
Потерянные племена — что это может быть, кроме десяти потерянных племен Израиля?
— Десять, — сказал я. — Число десять снова и снова.
— Ты попал в точку!
— А
число причастий?
— Это семь. Семь причастий. Теперь понял?
— Абсолютно ничего не понял.
— Просто ты еще не проснулся. Который теперь час в Исландии? Текст говорит о двух числах: десять и семь!
— Это я уже усвоил. Но что из этого следует?
— Бьорн, ты действительно еще дрыхнешь! Чтобы понять сообщение, ты должен вести поиск в «Саге о Святом Кресте» с помощью любых комбинаций из семи и десяти, слов, букв…
— Комбинаций из семи и десяти?
Последняя сага Снорри Стурлусона — наименее известная и менее всего оцененная. Сага написана как сказка, как басня, и многие исследователи сомневаются, был ли ее создателем Снорри. Она рассказывает о мифическом вожде викингов Барде, который во время похода в Йорсалаланд похищает крест Иисуса. Вернувшись домой в Норвегию, он высаживает крест в землю, так что вырастает целый лес крестов. Далее Снорри описывает, как Норвегию наводняют крестоносцы, тамплиеры, иоанниты и папские воины. Снорри, по-видимому, писал «Сагу о Святом Кресте» в 1239 году, сразу после возвращения из Норвегии, где он был во второй и в последний раз. Он сбежал от борьбы за власть между ярлом Скуле и королем биркебейнеров Хаконом Хаконссоном. Вот так они жили, да и умирали тоже, в те далекие
времена.
Комбинации из семи и десяти…
— А второй текст, там что?
— Тоже непонятно. Я расшифровал его. Но не смею анализировать и истолковывать. Текст написан для читателей, имеющих знания, которых нам не хватает.
Он прочитал свой черновой перевод:
Достойный ХРАНИТЕЛЬ
который читает эти тайные слова
Только ты должен знать что священная руническая роза Асима
и скрытые тайные руны на церковном кресте
приведут тебя к священным гробницам
и к самой святой изо всех
самой первой могиле
Достойный ХРАНИТЕЛЬ
который истолкует загадки рун
Ты сможешь найти рунический камень
в последней могиле у рунической розы
где покоится епископ Рудольф
Достойный ХРАНИТЕЛЬ
который поймет эту темную историю
Только ты узнаешь что рунический камень
приведет тебя к тайным рунам
в деревянной трубке красиво звучащим на доске у алтаря
5
— Я ужасный человек!
Преподобный Магнус сидел с сонным видом и пил кофе у окна кухни, когда я вбежал к нему с переводом, сделанным Терье. Как и многие из нас, преподобный Магнус был меланхоликом и обожал самоистязание. По собственному опыту я знаю, что никакой спешки нет, если ты поддался меланхолии. Я налил себе только что заваренный кофе с большим количеством гущи и присел к кухонному столу.
— Послушай, — сказал я и положил в рот кусочек сахара. — То, что ты называешь
воровством, всего лишь временное заимствование. В интересах науки.
Его вздох возвещал приближение Судного дня.
— Магнус, завтра я сам поеду в Институт древних рукописей и сообщу о находке манускрипта. Они проявят понимание. И тогда грех будет снят с твоих плеч.
— Ты думаешь, что милосердный дар прощения имеет границы?
— Послушай…
— Ты знаешь меня не так хорошо, как думаешь. Я… я…
— Говори! Не может быть все так плохо!
— Надо отдать манускрипт в Институт древних рукописей.
— Конечно. Отдадим, когда разберемся с ним. Я поговорю с ними завтра. И тогда институт и Господь перечеркнут все, что ты сделал.
— Бьорн, ко мне придут. Завтра.
— Придут?
— Кажется, я проболтался.
— Кто придет?
— Ученые. Из Института Шиммера. Они хотели посмотреть на пергаментные манускрипты.
— Ты сообщил в Институт Шиммера?
Я уже имел с ними дело во время моих приключений, связанных с ларцом Святых Тайн, на поле около монастыря Вэрне в Эстфолле. Институт Шиммера, расположенный в каменистой пустыне на Среднем Востоке, является главным центром исследований в области теологии.
— Я не могу этого объяснить. Пока не могу. Они направили ко мне экспертов.
— В таком случае надо поторопиться. Ты не должен отдавать им кодекс!
— Они хотят только посмотреть на него.
— Так они
говорят. Они будут предлагать тебе целое состояние.
Он хотел что-то сказать, но вместо этого только покачал головой.
— У меня есть новость, которая, быть может, тебя развеселит. — Я вынул листок с переводом текста, который Терье расшифровал для нас за одну ночь, и прочитал текст. Потом показал место с указанием на «Сагу о Святом Кресте».
— Черт побери! — воскликнул он. Он влил в себя остатки кофе и сплюнул гущу. — Приступаем! У нас полно работы!
Перевод текста «Кодекса Снорри», сделанный Терье, так возбудил преподобного Магнуса, что мне пришлось почти бежать за ним от его дома до Центра Снорри. Он отпер боковую дверь. Мы прошли через церковь, спустились в музей в нижнем этаже. В стеклянной витрине, у стены, лежал оригинал «Саги о Святом Кресте». Преподобный Магнус открыл витрину и вынул манускрипт.
— Снорри написал эту сагу вскоре после того, как открыто стал перечить королю Хакону и спасся от биркебейнеров бегством в Исландию, — сказал он.
— Этот текст вызывает споры.
— Все, что написал Снорри, вызывает споры. События, которые он описывал, происходили за века до него. Возможно, мы читали его повествования не так, как надо. Но мог ли Снорри испытывать потребность рассказать что-то, что было бы очевидным не для всех?
Преподобный Магнус положил книгу на длинный стол, и мы тут же склонились над манускриптом. Он показал три символа —
анх, тюр и
крест:
— Это те же самые символы, что и в кодексе. А видишь пометки на полях? Небольшие добавления за пределами текста? Тот же почерк! Основной текст, инициалы, украшения сделаны писцами. Но как обстоит дело с заметками на полях, они принадлежат Снорри? Как правило, пометы исчезают, когда текст копируют. Копиисты воспринимают пометы как дефект и помарки.
6
Весь этот день и вечер допоздна мы с преподобным Магнусом перелистывали оригинал «Саги о Святом Кресте». Методически перебирали варианты, буква за буквой, знак за знаком. Если у людей с университетским образованием вообще есть что-то за душой, так это терпение. Периодически я звонил Терье в Осло, чтобы услышать совет. Порой преподобный Магнус вскрикивал от восторга, увидев красивый инициал или бесспорную аллитерацию.
— Посмотри! — закричал он. — В тексте на полях упоминается Тордур Хитроумный.
— Кто?
— Племянник Снорри. Он объединил исландских хавдингов и получил такую власть, что король Хакон вызвал его в Норвегию, где тот и умер от пьянства.
В другом тексте на полях мы прочитали упоминание о
священной пещере. Остальная часть предложения была стерта до того, что кожа стала прозрачной.
Священная пещера?
7
Примерно к девяти вечера мы наконец достигли результата.
Терье, безусловно, прав. Ключом к следующему коду были числа десять и семь. Если начинать с инициала в тексте и после него брать каждую десятую букву основного текста, а затем по методу Цезаря заменять каждую из этих букв на букву, которая находится на семь знаков дальше в латинском алфавите, то получишь следующее сообщение:
Число зверя
указывает путь
вдоль скалистой стены
от Лёгберга
к Скьяльдбрейдуру.
ГОЛОС ИЗ МОГИЛЫ
1
— Так, значит, это вы нашли преподобного Магнуса мертвым?
Начальник полиции Боргарнеса выглядел так, будто всю жизнь питался только прокисшими рыбными фрикадельками и большими глотками запивал их тухлым рыбьим жиром. Все в нем — глаза, волосы, кожа, голос — серые. Говорит он по-датски с исландским акцентом, что напоминает речь норвежца, имеющего какой-то дефект речи. На столе, за которым он сидит, царит идеальный порядок, здесь же разместилась фотография в рамке, запечатлевшая его супругу вместе с сыном и королевским пуделем. Он рассматривает меня, тыча шариковой ручкой в схему на столе.
— Да, — говорю я.
— Полное имя?
— Бьорн Белтэ.
— Норвежец?
— Да.
— Год рождения?
— Тысяча девятьсот шестьдесят восьмой.
— Профессия?
— Археолог. Старший преподаватель в Университете Осло.
— Что вы делаете в Центре Снорри?
— У меня был исследовательский проект вместе с преподобным Магнусом.
— Почему вы думаете, что преподобного Магнуса убили?
— Потому что он лежал в купальне…
— Ему могло стать плохо.
Что-то мешает ему признать, что скромный служитель Господа в Рейкхольте был убит. Рейкхольт — тихое местечко. Немногочисленные жители — люди мирные и богобоязненные. Только туристы и ученые посещают забытый богом поселок с красивой церковью, музеем и фундаментом усадьбы Снорри.
— Произошла кража, — говорю я.
Тишина наполнена взаимным недоверием. Он испытующе смотрит на меня. Я стал белым как мел. Глаза с красными прожилками спрятались за толстыми стеклами очков. Я близорук, и у меня слабая нервная система. Для начальника полиции допрашивать меня — сущее мучение. Я понимаю, что он
не хочет признать, что преподобный Магнус был убит. Как будто убийство — это больше того, что он в состоянии вынести.
— И что же, — спрашивает он, — было украдено?
— Очень старый манускрипт.
— Хотите сказать, что преподобный Магнус был убит из-за какого-то манускрипта?
— Не из-за какого-то. Мы называли его «Кодекс Снорри».
— Это что такое?
— Собрание пергаментов с текстами середины десятого века и последующих примерно двухсот лет.
Тишина.
— Написанных Снорри? — Мускул сдвинул одну бровь.
— Это длинная история.
— Я так и думал.
За окном летает морская чайка, которая вдруг устремляется вниз, высмотрев, где можно перекусить.
— Манускрипты Снорри, насколько мне известно, находятся в собрании исландских рукописей в Институте Аурни Магнуссона
[18] в Рейкьявике, — говорит он.
— Не все, — поправляю я его. — Часть текстов хранится в Копенгагене, Упсале, Утрехте.
— И еще один у преподобного Магнуса в Рейкхольте?
— Он нашел его примерно неделю назад.
— И о находке было сообщено?
— Сегодня. Потому-то я и ездил в Рейкьявик. А вернувшись, нашел его мертвым.
— Как вы полагаете, кто украл кодекс?
— Те, кто убил преподобного Магнуса.
— Почему его украли?
— Чтобы продать, я думаю. Коллекционеры за манускрипт, написанный рукой Снорри, могут назначить высокую цену.
— Вот как.
Я развожу руками и про себя думаю, как хорошо, что из Рейкьявика уже едет группа детективов. Убийство и исчезнувший памятник культуры — дело не для начальника полиции Боргарнеса.
— А ваш совместный исследовательский проект… — начал он.
— Его тему тоже довольно сложно объяснить.
— И все-таки попробуйте.
— Мы разрабатывали теорию о том, что Снорри оставил в тексте какое-то зашифрованное сообщение.
— Зашифрованное?
— Какой-то код. Карты. Священную геометрию.
— Вот как.
Он не имеет ни малейшего представления о том, что я говорю.
— Мы думаем, — поясняю я, — Снорри хорошо знал, что наши предки размещали важнейшие объекты — церкви, монастыри, большие усадьбы, крепости — в соответствии со священной геометрией, основанной на пифагорейской и неоплатонической философии и математике. Они использовали свои знания, заимствованные из Античности, во всем — от создания карт до конструирования судов викингов и деревянных церквей.
Во взгляде начальника полиции недоверие. Он перестает писать. Я говорю не обо всем. Многое я опускаю. О многом
не могу рассказывать. Потому что не знаю. Потому что не понимаю. Я ничего не говорю о коде, который мы с преподобным Магнусом сумели взломать накануне. Кое-что я хочу сохранить для себя.
— Я не археолог, — говорит начальник полиции, — и не историк. Но даже если предположить, что подобное открытие будет чрезвычайно интересным для вас, исследователей и ученых, я не могу допустить, что кому-то ради него захочется совершить убийство.
На этот раз молчу я. Потому что думаю точно так же.
В течение полутора часов я даю показания. Впрочем, я больше запутываю, чем объясняю. Вопросы начальника полиции сыплются один за другим. Он ничего не может понять. Не могу понять и я.
В середине допроса входит детектив из столичной криминальной полиции. Он бросает прозрачный пластиковый мешок на стол перед начальником полиции. В нем очки преподобного Магнуса. Местные подчиненные начальника полиции не смогли обнаружить их на дне купальни. Начальник смущен. Оба переходят в соседний кабинет. За стеной я слышу их возбужденные голоса. Потом они возвращаются, и допрос продолжается. Детектив садится у окна и слушает. То и дело он устремляет на меня взгляд, словно хочет проверить, не сумасшедший ли я. Через некоторое время он спрашивает меня, где я был, когда умер преподобный Магнус. Я рассказываю, что был в Рейкьявике у профессора Трайна Сигурдссона в Институте Аурни Магнуссона.
Сразу после этого меня ведут в камеру. Я арестован? Сижу в камере три четверти часа, после чего за мной приходят. Только теперь детектив из Рейкьявика жмет мне руку и называет себя. Когда исландец называет свое имя, это звучит так, будто он набрал полный рот шариков.
— Нам пришлось проверить, действительно ли вы являетесь тем, за кого себя выдаете, и сможет ли кто-нибудь подтвердить вашу историю.
— Вы думаете, что это я утопил преподобного Магнуса?
Ни один не отвечает. Наконец начальник полиции говорит:
— Мой коллега из криминальной полиции полагает, что лучше всего предоставить вам статус подозреваемого, чтобы у вас были все права, которые дает этот статус.
Его слова брошены в котел, где уже закипает негодование. Респектабельного начальника полиции, стоящего на охране закона, столпа местного общества, только что одолел старший полицейский, приехавший из столицы. Я начинаю чувствовать известную симпатию к этому начальнику полиции. Баланс сил изменился. Теперь этот человек на моей стороне. Нас двое против одного.
Допрос продолжается.
Я рассказываю меньше того немногого, что знаю сам. Периодически полицейские записывают какие-то мои слова при явном отсутствии интереса ко мне, из чего сам собою напрашивается вывод, что ни полиция Боргарнеса, ни столичная криминальная полиция никогда не смогут разобраться в хитросплетениях этого дела.
Придется заняться им самому.
2
В Рейкхольт я приезжаю вечером.
Полиция огородила пасторскую усадьбу желтой пластиковой лентой. От порывов ветра лента издает скребущий звук. Я иду дальше, к «Бассейну Снорри».
И резко останавливаюсь.
Полицейские машины уехали. «Скорая» увезла тело преподобного Магнуса в Институт судебной медицины в Рейкьявике, где патологоанатомы разрежут его на кусочки, чтобы выяснить причину смерти.
Зато журналисты все еще тут. Они хотят зафиксировать недосказанное. Тележурналист со Второго канала, купаясь в ярких лучах двух ламп, что-то говорит в микрофон. Журналисты и фотокорреспонденты из газет «Моргунбладид», «Фреттабладид» и «Верденс Ганг» толпятся вокруг места преступления. К счастью, они меня не замечают. Они нетерпеливо и бесцельно перебегают с места на место вокруг купальни.
Все это время у меня перед глазами стоит преподобный Магнус. Я пытаюсь найти смысл, какое-то объяснение его смерти. В конце концов я отправляюсь обратно в свою квартиру в Центре Снорри.
3
Я замечаю это сразу. Здесь кто-то побывал.
В квартире порядок точно такой же, как при моем уходе. Но у меня острый взгляд. А я всегда точно знаю, куда и как положил свои вещи. Такие, как ноутбук. Листки с записями. Правый носок с дыркой на пятке.
Кто-то здесь побывал и что-то вынюхивал. Но ничего не украл. Кроме душевного спокойствия.
Конечно, это могли быть полицейские. Возможно, в Исландии они имеют право обыскивать квартиру главного подозреваемого и не говорить ему об этом. Но я не исключаю и того, что это могли быть убийцы преподобного Магнуса.
Я совершаю обход, чтобы убедиться, что я дома один. Задергиваю шторы. Заглядываю под кровать и в шкафы. Проверяю мобильный телефон, лежащий на ночном столике.
Поступило два сообщения. Одно голосовое, другое — фотография. Отправитель обоих — преподобный Магнус. Голосовое отправлено в 13:42. Видимо, совсем незадолго до того, как он умер.
— Привет, Бьорн, это я, — говорит голос из могилы. Я слышу, что он взволнован и немного удивлен.
— Те самые иностранные ученые? Из Института Шиммера? Они идут ко мне от автостоянки. Целая компания. Я пошлю тебе фото. — Он делано смеется. —
Ты знаком с некоторыми учеными — можешь кого-нибудь узнать? Только дело в том, что… Нет, пожалуй, не сейчас. Я хотел, чтобы ты знал только это. Увидимся!
На нечетком фото, снятом через стекло, автостоянка. На заднем плане виден черный внедорожник. Фигуры четырех человек, направляющихся к дому. Один из них — настоящий великан.
Начальник полиции говорит, что уже поздно. Он зайдет ко мне завтра утром. А сегодня просит переслать фото.
4
Утреннее солнце заливает ландшафт таким ярким светом, что кажется, будто Рейкхольт — передержанная фотография. Вдали виднеются вулканы среди гор. Пар геотермальных источников сначала поднимается прямо вверх, потом порывом легкого бриза его относит в сторону.
Я закрываю дверь и выхожу на площадку перед Центром Снорри. Тишина.
Однажды, когда я пришел в дом, где провел детство Леонардо да Винчи, на склоне горы в Тоскане, меня охватило глубокое чувство, когда я подумал, что этот пейзаж — склоны с волнующимися кронами олив и рядами виноградников — видел и Леонардо. Точно так же было сейчас в Рейкхольте. Именно эти вершины обрамляли горизонт, когда Снорри перебрался сюда в свои двадцать семь лет. К этому времени он уже был могущественным хавдингом.
На стоянку въезжает полицейский автомобиль. Шины шуршат по щебню. Начальник полиции проехал долгую дорогу по пустынной местности от Боргарнеса до Рейкхольта, чтобы конфисковать мой мобильный телефон и более внимательно осмотреть место преступления. А заодно, что тоже вполне возможно, проверить, не собрал ли подозрительный альбинос Бьорн все свои пистолеты и арабские ятаганы и не исчез ли он во мраке ночи. А быть может, дело в том, что я параноик. Во всяком случае, он подходит ко мне, протягивая правую руку, с гримасой, которую можно истолковать как улыбку. Мы рассматриваем друг друга в резком утреннем освещении. Он только что побрился, кожа скул красная, с заметными раздражениями. Он просит меня передать ему мобильный телефон, чтобы можно было зафиксировать и проанализировать речевое сообщение и фотографию.
Он спрашивает, кто эти ученые. Я говорю, что не имею ни малейшего представления.
— Мы их найдем! Когда вы ехали из Рейкьявика вчера, не заметили ли вы по дороге автомобиля, похожего на тот, что заснят на фото?
Когда едешь из Рейкьявика в Рейкхольт, то ландшафт заставляет думать, что ты попал на Марс. На внедорожниках ездит половина исландцев. Как вообще можно отличить одну машину от другой?
— У нас есть свидетельские показания, которые совпадают с этой фотографией, — продолжает он. — Черный «блейзер» видели вчера отъезжающим отсюда с большой скоростью… — он проверил по блокноту, — в 14:00. Прокатная фирма в Рейкьявике выдала один «блейзер» нескольким иностранцам. Два наших сотрудника уже ждут там, когда машину будут возвращать.
— Иностранцам?
— Арабам. Из Арабских Эмиратов, если верить паспортам. — Короткая пауза. — Как по-вашему, есть основания предполагать, что между преподобным Магнусом и арабами была какая-то связь?
Ложь бывает многоликой. Она может быть искажением истины. А может быть утаиванием части информации. Я смотрю на начальника полиции и говорю, что не вижу никакой связи между преподобным Магнусом и кем бы то ни было из Арабских Эмиратов.
Но жуткие подозрения начинают пробуждаться во мне. Сотрудники-предатели в Институте Шиммера. Коллекционеры. Богатые эксцентрики, готовые на все, лишь бы отхватить кусок чего-нибудь имеющего историческое значение. Я ничего не говорю начальнику полиции. Он меня не поймет. Я и сам-то почти ничего не понимаю.
После отъезда начальника полиции я звоню одному знакомому в Институт Шиммера. Объясняю, что произошло, и спрашиваю, кого именно они послали. Он заявляет, что вообще никого не посылали.
— Чтобы исследовать такую уникальную находку, — говорит он, — надо было направить профессора Османа, профессора Роля, профессора Данхилла, профессора Финкельштейна, профессора Филиппса и обязательно профессора Фридмана. Но, скорее всего, мы попробовали бы уговорить преподобного Магнуса доставить кодекс сюда, к нам в Институт.
5
В середине дня я возвращаюсь в Рейкьявик. Дорога извивается мимо заброшенных усадеб и загонов для овец, иногда мелькают установки по извлечению тепла из термальных источников. Вдали виднеются горы и вулканы, которые, кажется, вот-вот проснутся.
Время от времени дорога делает внезапный непонятный поворот. Строители дорог в Исландии испытывают большое уважение к подземным гномам-невидимкам, которые живут внутри огромных камней, во множестве встречающихся в пустынной местности. И потому когда инженер-строитель прокладывает здесь прямую как стрела линию дороги и вдруг наталкивается на камень, в котором, как всем известно, несомненно, обитает семья гномов, дабы избежать грядущей вселенской катастрофы, он непременно изменит направление дороги и пустит ее в обход камня.
В зеркале заднего вида появляется машина. Черный «блейзер». Но не исключено, что это просто какому-то рядовому и вполне мирному исландцу пришло в голову прокатиться на собственном «блейзере». Или же шаловливым гномам захотелось сыграть со мной шутку.
Черный «блейзер», который мелькал у меня в зеркале, обгоняет меня, и оказывается, что это всего лишь темно-синий «фольксваген-туарег».
У каждого свои демоны.
Я не буду перечислять моих. Но я их знаю так же хорошо, как вы знаете своих. Они дремлют где-то внутри, между кишечником, печенью и почками и прочим инвентарем, который позволяет реагировать на мир, ходить и вообще жить. И только по ночам они иногда высовывают свои мерзкие морды.
У меня никогда не было проблем с алкоголизмом. Но антидепрессанты я заглатываю, как фруктовые леденцы. Кто-то называет их пилюлями счастья, но они не делают тебя счастливым, нет, они только прикрывают острые зубы страха. Поймите меня правильно. Я не сумасшедший. Но мои нервы иногда выкидывают коленца. Приступы страха сродни любой другой болезни — диабету или камням в мочевом пузыре. Но люди смотрят на тебя совсем по-другому. Они тут же отшатываются от тебя.
Вот как? Нервы? Они улыбаются сочувственно, но на их лицах читается испуганное выражение. Как будто у тебя из рукава высунулся окровавленный топор…
Пару раз я ложился в больницу. Для того, чтобы мне стало немного лучше. Я не называю эту больницу «психиатрическим отделением» — слишком уж холодно звучит. В то же время я не использую слов «дурдом» или же «санаторий». «Нервная клиника» — вот правильное для нее название. Именно там находится мое маленькое «гнездо кукушки».
Там мы созреваем под наблюдением и контролем, под колпаком загнанного внутрь страха, словно под колпаком для лучшего сохранения сыра.
Я могу стать настоящим Сатаной. Я это знаю. Мне трудно подчиняться. Поэтому я не стал профессором. Авторитеты и правила только провоцируют меня. Другие люди тоже провоцируют. И сама жизнь провоцирует меня.
Иметь дело со мной довольно трудно.
У меня есть сводный брат, которого я вижу крайне редко, и отчим, которого я всячески пытаюсь избегать. Он мой начальник на кафедре Университета Осло.
Мама умерла в прошлом году. От лимфолейкоза.
Мои преследователи исчезли.
Через несколько миль, уже за шлагбаумом, дорога становится шире, асфальт положен недавно, он еще черный.
Трасса до Рейкьявика не имеет ни единого изгиба, связанного с трогательным уважением гномов. Невидимые горемыки, чьи каменные жилища разрушены жестокими бульдозерами по причине только самим строителям понятного преклонения перед прямой линией, бездомные и мстительные, носятся по пустынной местности и устраивают всяческие пакости.
Поэтому я машу им из окна. Я всегда испытываю симпатию к тем, кто не такой, как другие.
6
Институт Аурни Магнуссона, в котором хранится собрание древних исландских рукописей, расположен на окраине университетского городка. Большинство посетителей вздрагивают, впервые увидев серый фасад университета. А я испытываю теплое дуновение счастья: я вернулся домой.
Профессор, доктор наук Трайн Сигурдссон сидит, склонившись над письменным столом, на котором грудой лежат книги и рукописи, и моргает, что-то читая, при этом губы его шевелятся как при беззвучных заклинаниях. Имя профессора и многочисленные титулы весом этак тонны в три выгравированы на бронзовой табличке, которая вот-вот упадет с его письменного стола. Он поднимает голову, когда я стучу в приоткрытую дверь.
— Бьорн! Прими мои соболезнования! — Он поднимается и жмет руку. — Да-да-да, — говорит он куда-то в пространство.
Исландия объявила национальным праздником день, когда получила первые манускрипты из собрания Аурни Магнуссона. Незадолго до своей смерти в 1730 году Магнуссон завещал все это собрание Копенгагенскому университету. И только в 1970-е годы Исландия получила его обратно. В тот день по телевидению шла прямая трансляция. Рабочие не работали, школьники не учились. Домашние хозяйки, рабочие, студенты и все лентяи толпились в порту, когда в Рейкьявик прибыл корабль с Арнамагнеанским собранием. Они очень любят стоять на страже всего своего родного, эти исландцы.
— Есть какая-то связь с обнаруженным им кодексом? — спрашивает Сигурдссон.
Газеты посвятили убийству целые страницы. Но полиция ничего не сообщила им о пропавшем манускрипте.
— Кодекс украден, — говорю я.
— У вас осталась копия?
Я качаю головой.
Некоторое время мы сидим и обсуждаем, какие такие тайны Снорри мог спрятать в своем тексте. Я говорю о разнице между тем, что собственноручно писал Снорри, — к этому Трайн относится весьма скептически — и более древним руническим текстом. На листе бумаги я изображаю символы, многократно повторенные в манускрипте.
Анх. Тюр. Крест. Пентаграмма.
—
Анх, — пытаясь разобраться, в чем тут дело, говорит Трайн, — это иероглиф для передачи египетского слова «жизнь» — символ вечной жизни, возрождения.
Тюр — рунический знак из системы старших рун,
[19] используется в имени древнескандинавского бога закона и войны Тюра. Латинский
крест — Crux ordinaria — символ христианства и мученической смерти Иисуса. Пентаграмма — пятиконечная звезда, для христиан это знак черной магии, в древности же он считался священным геометрическим знаком.
— Теория, выдвинутая преподобным Магнусом и мной, состоит в том, что в своих сагах Снорри зашифровал какую-то информацию.
— Да, но в факсимильных изданиях и рукописных копиях оригинальных пергаментов весьма обычны сокращения и изменения, допущенные переписчиками. То же касается и заметок на полях.
— Значит, есть вероятность того, что часть текста была утрачена?
— Или же, наоборот, в него что-то добавили. Факсимильное издание текстов Снорри было выпущено в Упсале. Есть, конечно, и неизвестные бумажные копии, сделанные, в свою очередь, со средневековых копий, уже в какой-то мере отличающихся от изначального текста. Если сравнивать самые последние версии с оригиналом, причем сравнивать каждое слово, то можно получить интереснейшую информацию. Но это работенка — будь здоров.
— Кабы знать, что именно следует искать. Мы с преподобным Магнусом пытались найти доказательства контактов между древнескандинавской и египетской культурой. Хотя бы какое-то доказательство того, что суда викингов, деревянные норвежские церкви и средневековые карты были созданы с использованием древней науки египтян.
Трайн сидит у окна и смотрит куда-то вдаль. На стене рядом с ним висит фотография скульптурки, изображающей мужчину, который держится за свою длинную бороду, формой напоминающей перевернутый
анх. Бронзовая фигурка, датированная примерно 1000 годом, была обнаружена неподалеку от Эйя-фьорда в 1815 году. Наконец Трайн оборачивается ко мне и произносит:
— А тебе никогда не приходило в голову, что все это самое обыкновенное жульничество? Что некто в Средние века изготовил некий кодекс, дабы надуть кого-то из знакомых?
Естественно, такая мысль меня посещала. В коллекциях любого музея есть немало фальшивок. Я открываю коробку и выкладываю на стол факсимильное издание «Саги о Святом Кресте».
— А знаешь, — говорит Трайн, — многие ведь не верят, что Снорри имел к этому тексту хоть какое-то отношение.
— В нем скрыт код.
Взгляд Трайна застывает.
— Мы с преподобным Магнусом расшифровали этот код, — продолжаю я.
— Код?
— Я полагаю, что где-то в Тингведлире имеется священная пещера.
Трайн весело смеется:
— Священная пещера? В Тингведлире? Да вы…
— И я примерно знаю, где она.
— Что-что ты знаешь?.. — Он чуть не лопается от смеха. — Ни за что в это не поверю.
Пришло время нанести последний удар, и я показываю ему фрагмент текста, содержащий прямое указание на местонахождение пещеры.
Число зверя
указывает путь
вдоль скалистой
стены от Лёгберга
к Скьяльдбрейдуру.
— Послушай, — останавливает меня профессор, — ты явился сюда шутки со мной шутить?
7
В тот вечер я поселяюсь в гостинице «Лейв Эйрикссон»,
[20] расположенной прямо перед церковью Хатльгримма в Рейкьявике.
За окном гудит уборочная машина на пустынной тихой улице. Церковь Хатльгримма купается в ярком белом освещении. Фасад напоминает зубцы айсберга, плывущего по пустынному морю.
Не спеша я иду к вегетарианскому ресторану
«У ближайшей травинки», где съедаю суп и овощную лазанью.
Вечером мне в номер гостиницы звонит начальник полиции Боргарнеса. Ему принесли данные вскрытия.
— Преподобный Магнус умер от инфаркта.
Я молчу так долго, что он наконец спрашивает, на линии ли я.
— От инфаркта? В купальне около дома?
— Он мог упасть туда. В легких преподобного была обнаружена вода, но ее слишком мало, чтобы сделать вывод, что он утонул. У него отказало сердце.
— Но что он делал в купальне? Полностью одетый? И как быть с украденным пергаментом и «блейзером»?
— Разумеется, мы продолжим расследование. Но инфаркт не уголовное дело.
Он этого не говорит, но я понимаю, что отныне эпизод с фотографией и сообщением преподобного Магнуса имеет чисто академический интерес.
— И что же, вы думаете, стало причиной инфаркта? — язвительно спрашиваю я.
— Конечно, ему могли угрожать. Но доказать связь между инфарктом и
предполагаемой кражей кодекса весьма трудно.
Когда полицейский называет кражу «предполагаемой», становится очевидным, что он не очень уверен в том, что она произошла на самом деле. И я могу его понять.
В гостинице я пытаюсь разобраться в своих записях и найти логику во всем, что мы уже знаем. Может быть, арабы — члены банды, которая специализируется на выслеживании и краже культурно-исторических ценностей для рынка нелегальных коллекционеров? На Среднем Востоке имеется немало безумно богатых нефтяных шейхов с подвалами, битком набитыми художественными сокровищами, которые любой музей с гордостью мог бы выставлять в своих надежно защищенных витринах. И все же многое в этом деле смущает меня. Я не вижу целостной картины. Хронология и различные исторические линии пока представляют собой хаос.
Однако я слишком устал, чтобы сосредоточиться. Я засыпаю, лежа на кровати. Полностью одетый. Не почистив зубы и не умывшись. Во сне я вижу неодобрительный взгляд мамы с небес.
ТИНГВЕДЛИР
1
Черная как уголь вертикальная стена лавы вздымается к небу. Острые зубцы торчат на фоне облаков, летящих с запада. В ущельях тут и там с шипением вырываются столбы подземного пара. Выступающие скальные фрагменты образуют рваные лавовые монолиты. Пар из-за соприкосновения с морозом поднимается над озером и болотистой низменностью в обрамлении серебра. Внизу у колоссальных горных масс, рядом с маленькой деревянной церковью, приютилась горсточка домов, которые словно пытаются прижаться друг к другу, чтобы согреться. Здесь Северо-Американский и Европейский континенты тянут к себе Исландию каждый в свою сторону — так в Тингведлире образовался разлом между двумя тектоническими плитами.
— Ну, давай посмотрим, — говорит Трайн снисходительно, — где же твоя пещера с сокровищами?
Я с неудовольствием гляжу на многокилометровый разлом.
Никому из посетителей Национального парка в Тингведлире не удается избежать особого настроения, вызываемого очарованием местных красот. Именно здесь в 930 году, в непосредственной близости от разлома, под открытым небом впервые был созван альтинг — самый древний парламент на земле. Отсюда законоговорители смотрели на местность с голыми лавовыми формациями и обломками скал, кустами и тощими деревьями. Между рекой и ручейками они ставили на траве свои палатки во время тинга.
[21]
Мы с Трайном вновь смотрим на записанный мной расшифрованный текст Снорри:
Число зверя
указывает путь
вдоль скалистой стены
от Лёгберга
к Скьяльдбрейдуру.
Трайн показывает на недавно сооруженный деревянный помост около одной скалы:
— Это Лёгберг — Скала законов. Отсюда провозглашались законы и все свободные мужчины могли изложить свое дело. Вот здесь стояли эти герои-великаны из наших книг по истории, здесь вместе с другими законоговорителями, приехавшими на альтинг, правил Снорри. — Трайн прикрывает глаза от солнца ладонью и смотрит по сторонам. — Если хорошо поискать, — говорит он язвительно, — то мы сейчас увидим где-нибудь большой красный крест, да?
Он отворачивается от меня и начинает смеяться.
Трайн собрал группу студентов-археологов, которых заворожили разговоры о необходимости сохранять тайну, об обете молчания и перспектива присутствовать при событии почти что историческом, и они согласились помогать в наших поисках. С лопатами и ломами за плечами мы маршируем по дорожке вдоль лавовой черной стены. Нас можно было бы принять за гномов из «Белоснежки и семи гномов», только нас гораздо больше семи и все весьма рослые.
Солнечные лучи вырываются из-под облаков. Еще рано, и почти нет туристов. Только группа американцев бросает на нас равнодушный взгляд, предполагая, что мы, скорее всего, уборщики, которых муниципалитет набрал среди воров-карманников, приговоренных судом к общественным работам.
Трайн собирает всех студентов там, где пересекаются две дорожки. Затем мы все вместе идем к Скале законов.
— А это Скьяльдбрейдур — Гора скальдов, — говорит Трайн и показывает на гору вдали.
— Число зверя — 666. Из Апокалипсиса Иоанна Богослова. Не слишком ли это прямолинейно?
— Для нас, пожалуй, да. Но Снорри писал тогда, когда лишь немногие умели читать. Еще меньше людей могло дешифровать коды. А чтобы быть знакомым с таким понятием, как число зверя, надо было быть очень начитанным.
— То есть он писал закодированные сообщения…
— …предназначенные для людей образованных, понимающих, какой ключ к коду надо использовать при дешифровке. Для тех, кто обладал таким же понятийным аппаратом, что и сам Снорри. Для тех, кто мог прочитать и понять зашифрованный текст. Число зверя — для нас это очень простая загадка. Но в тринадцатом веке Откровение Иоанна Богослова не было чтением для всех и каждого.
Мы начинаем отсчитывать 666 шагов от Скалы законов. Студенты-археологи идут за нами цепочкой, как утята за мамой-уткой. Мы шагаем по лавовым камням, кустикам травы. Высоко над нами кружит стая птиц. Облака скользят вдоль зубцов вулканических гор.
Через четыреста шагов мы останавливаемся. Я взрываюсь:
— Если бы здесь была пещера, мы нашли бы ее давным-давно!
— Все дело в том, насколько хорошо она скрыта. Говард Картер
[22] нашел гробницу Тутанхамона в египетской Долине царей через десятки лет после того, как там начали искать ее другие археологи.
Через шестьсот шагов нам приходится сделать выбор — идти направо или налево, чтобы обойти нагромождение лавовых камней. Мы идем вдоль скалы.
Сделав еще шестьдесят шесть шагов, останавливаемся.
Мы пришли.
Но здесь ничего нет.
2
Скала высотой десять-пятнадцать метров нависает над нами. Под лавовой стеной огромные камни, покрытые мхом, кое-где торчат промерзшие кустики.
Я еще раз перечитываю указание. Число зверя, другими словами 666, указывает дорогу вдоль скалы от
Лёгберга — Скалы законов к
Скьяльдбрейдуру — Горе скальдов. Мы с Трайном с неудовольствием смотрим друг на друга.
— Пещеры нет, — констатирую я. И раздраженным пинком отбрасываю лавовый камень.
— Снорри мог использовать естественный грот в стене и затем завалить его камнями, — говорит Трайн. — Именно таким образом закрывали вход в гробницы египетских царей.
— Люди, хорошо знающие здешние места, наверняка удивились бы, если бы увидели, что один из гротов завален камнями.
— Хорошо знающие здешние места? Да посмотри же ты по сторонам! Неужели можно представить более безлюдный и удаленный от цивилизации уголок? Во времена Снорри здесь было еще более пустынно, если, конечно, это вообще возможно. Да, самые могущественные исландцы приезжали сюда, в Тингведлир, но только один раз в год. Если бы какую-то пещеру вдруг завалило, они бы только плечами пожали.
— Разве не было в высшей степени рискованно прятать что бы то ни было в пещере в этих местах?
— Напротив, Тингведлир в древние времена был наделен магическим значением. Для Снорри, если он хотел что-то скрыть, это место было идеальным.
Мы смотрим на кучу камней под лавовой стеной.
— А может быть, вход в грот находился в углублении или в щели в скале ниже уровня поверхности земли? — говорит Трайн.
— И потом засыпан?
Мы еще раз смотрим на кучу камней.
3
Вместе со студентами начинаем разбирать эту кучу.
Самое первое, чему должен научиться археолог, — это терпение. Археология — профессия для людей терпеливых, основательных и уравновешенных. В этой профессии, что ни говори, очень мало взлетов, зато много земли, глины, запутанных инструкций по регистрации находок и составлению каталогов. Только один раз в двести лет кому-то выпадает на долю найти гробницу Тутанхамона или Трою.
Через час упорной работы мы углубились на один метр. Пока ничего.
Передавая камни по цепочке друг другу, мы перекидали несколько тонн лавовых камней, прежде чем одна из студенток, которую я не преминул выделить среди других, вдруг издает крик. Работа останавливается. Крупные камни и щебень шуршат под моими ногами, когда я бегу к ней.
На оголившейся поверхности скалы кем-то вырублена прямоугольная ниша глубиной десять сантиметров.
Я вычищаю из нее землю и мох. По студенческой группе проносится вздох изумления. Я глотаю комок в горле.
На поверхности высечены три символа.
Анх, тюр и
крест.
4
Мы уводим студентов к автостоянке и морочим им голову, говоря, что будем продолжать работу завтра. Они протестуют. Хотят раскопать пещеру. Ясное дело. Они хотят знать, что нашли. Не надо переносить на завтра. Я их понимаю. Но они нам не нужны. Само их присутствие и чрезмерное любопытство усложнят и затянут работу. Трайн говорит, что оставшуюся часть дня мы потратим на всяческие измерения и подготовку дальнейших раскопок. Профессорские манеры придают его словам убедительности.
Разочарованные, недовольные студенты уезжают в Рейкьявик. Я стою с Трайном, пока последний микроавтобус не исчезает за горизонтом. Потом мы возвращаемся к гроту в скале и продолжаем отбрасывать камни.
Несколько часов уходит на то, чтобы освободить вход в пещеру. Еще через полтора часа проход расширен настолько, что сквозь него может пробраться человек.
Трайн привязывает к камню у входа нейлоновую веревку. Я бросаю конец в пещеру. Прочно ухватившись за веревку, протискиваюсь через щель и спускаюсь вниз, ставлю ноги на неровный пол грота.
Пещера не очень велика. Сверху через отверстие проникает слабый солнечный свет.
Трайн спускается быстрее. Я поддерживаю его обеими руками.
Мы в естественной пещере лавовой горы. Пещера имеет глубину четыре-пять метров и ширину — два-три. Мы включаем лампы, закрепленные на голове. Лучи колеблются и прыгают по черным стенам. Трайн идет спотыкаясь и показывает вперед. У западной стены располагается похожее на алтарь сооружение из хорошо пригнанных лавовых камней. Поскольку алтарь изготовлен из того же материала, что и стены, соединений практически не видно. Наверху продолговатого лавового сооружения покоится тяжелая гладкая каменная плита.
Мы встаем по обеим сторонам плиты и поднимаем ее. Под ней обнаруживается полое пространство, а внутри черный как уголь ларец.
Мы осторожно ставим ларец на край алтаря. Я тру по поверхности пальцем.
— Пыль? Сажа? — спрашивает Трайн.
— Ни то ни другое. — Я тру сильнее. Мое предположение оказывается верным. Появляется подлинная поверхность. — Ларец, — говорю я, — сделан из чистого серебра.
5
Мы обертываем серебряный ларец брезентом и выносим наверх, потом переносим к месту стоянки. В багажнике нашей «тойоты-ленд-крузер» мы прикрепляем ларец ремнями.
Мы так увлечены, что не говорим ни слова.
Трайн поворачивает на шоссе, ведущее к Рейкьявику. Дорога прямая как стрела. Не видно ни одного автомобиля. Со скоростью сто тридцать километров в час мчимся по пустынному лунному ландшафту. Озеро Тингведлира мерцает слева. На горизонте — зубцы вулканических гор.
Впереди на дороге возникает стоящий поперек «шеви-блейзер». Мы только что преодолели холм.
По бокам двое. Руки обоих опущены и скрещены — странная поза, как будто их снимают для рекламы кинофильма. В слепящем солнечном свете мне кажется, будто каждый держит по пистолету.
Трайн реагирует молниеносно:
— Держись!
Не медля ни секунды, он на полном ходу круто поворачивает и съезжает с шоссе на камни. Я вскрикиваю. Трайн стискивает зубы и смотрит прямо перед собой, как будто глубоко внутри его мирно спал герой кинобоевика, а теперь вдруг проснулся, словно он был получившим профессиональную подготовку солдатом спецназа, который в последние пятнадцать лет лишь притворялся, что изучает исландские манускрипты, а сам готовился к секретным операциям.
В облаке пыли мы уносимся от «шеви-блейзера» и от шоссе. Машину трясет, и шины грохочут по неровной поверхности.
За облаком пыли мелькают фары «блейзера».
Трайн умудряется править среди огромных камней.
— Мы едем по остаткам старой грунтовки между Рейкьявиком и Тингведлиром! — кричит он.
У нас есть преимущество: мы едем первыми и имеем хороший обзор, но «блейзер» не отстает.
— Звони один-один-два! — кричит Трайн.
Дрожащими руками вытаскиваю телефон. К счастью,
связь есть. Когда оператор наконец понимает, что я говорю по-английски, а не на ломаном исландском, что за нами гонятся вооруженные люди, он посылает в нашу сторону патрульную машину. Хотя указать адрес в этой пустыне — дело безнадежное.
«Блейзер» всего в нескольких метрах от нас. Внезапно он сворачивает в сторону. Они задумали нас обогнать.
Огромный камень я замечаю раньше водителя «блейзера». Он не успевает среагировать. Раздается металлический скрежет, машина переворачивается и оказывается на камне колесами вверх.
Мы едем еще несколько километров по старой грунтовой дороге, потом перебираемся на заасфальтированную, которая приводит нас на главное шоссе до Рейкьявика.
Звонок из полиции раздается, когда мы уже около университета. Нас спрашивают, куда мы пропали.
Что они не нашли нас — понять можно.
Но почему они не нашли «блейзер» — это беспокоит меня.
6
В университете нам разрешают воспользоваться пустой лабораторией. Один из сотрудников, друг Трайна, помогает открыть ларец.
Внутри мы обнаруживаем обернутый тканью и закутанный в вату короб из твердых пород дерева, а в нем шесть больших пергаментных свитков, связанных кожаной лентой и защищенных несколькими слоями мягкой ткани.
С невероятной осторожностью мы раскрываем первый свиток. Он в поразительно хорошем состоянии. Листы пергамента покрыты двумя колонками маленьких симметричных значков. Я пытаюсь прочитать текст, но значки мне неизвестны, хотя и напоминают что-то знакомое. Взгляд Трайна тоже скользит по страницам. Колонки написаны на двух языках. Язык левой, скорее всего, похож на коптский — язык, на котором говорили и писали на территории Египта примерно с 200 и вплоть до 1100 года. Правая колонка напоминает иврит.
Трайн проводит по пергаменту кончиками пальцев, нюхает его и рассматривает значки:
— Полагаю, манускрипту тысяча плюс-минус сто лет.
Он сворачивает документ и кладет его в коробку. Мы несем ларец по винтовой лестнице в подвал, где самые ценные из старых манускриптов хранятся в надежно защищенных сейфах при неизменной температуре и влажности. За толстой тяжелой стальной дверью хранится письменная история Скандинавии, разложенная рядами по метровым стеллажам, тщательно упакованная в бумагу, в плоских коробках.
Мы ставим ларец с пергаментными манускриптами из Тингведлира в надежный сейф подвала Института Аурни Магнуссона.
7
День получился долгим. Полицейские. Журналисты. Ученые. Все снова и снова хотят услышать эту историю.
Когда позже я возвращаюсь на такси в гостиницу, мне звонит начальник полиции Боргарнеса.
Ими только что зафиксировано проникновение в снимаемую мной квартиру при Центре Снорри. Вероятнее всего, взлом был совершен уже вчера, сразу после того, как я уехал в Рейкьявик. Начальник полиции откашливается и говорит:
— Я пообщался с полицейскими в Рейкьявике. Принимая во внимание все обстоятельства, они решили прислать сегодня вечером к вашей гостинице патрульную машину. На случай непредвиденных осложнений.
Такси останавливается около гостиницы. Я расплачиваюсь с шофером. И думаю: ««На случай непредвиденных осложнений» — звучит угрожающе».
РУНИЧЕСКИЙ КОД
1
Я люблю гостиницы. В них всегда чувствуешь себя как дома. Здесь никто не пристает к тебе с ненужными расспросами. А когда ты уходишь из номера, горничная спокойно, без всякого брюзжания, заправляет твою постель и наводит порядок. Так что когда ты, усталый и измученный, отпираешь дверь в номер, там уже чисто и прибрано.
С улыбкой на лице я открываю дверь и вхожу в номер 206.
Их двое.
Арабы.
Один из них огромный, мускулистый детина весом минимум килограммов сто. Глаза как две черные дыры. Я узнаю его. Это тот гигант, который был на фото, присланном мне преподобным Магнусом. Он сбрил волосы на голове, но сохранил торчащую бородку и два кустика бровей. На щеках и подбородке — черные пятна однодневной щетины.
Второй — невысокий, плотного сложения, похож на сжатую пружину. Лицо измученное, как будто он всю жизнь ходит в обуви, которая ему мала.
Оба одеты в хорошо выглаженные темно-серые костюмы.
И оба у меня в номере.
Коротышка ждет у дверей. Гигант сидит на стуле у окна.
Мертвая тишина. Стрела страха пригвоздила меня к стене у открытой двери. Есть несколько причин, почему я не поворачиваюсь, не бросаюсь в коридор и затем вниз по лестнице. Одна из них та, что у меня трясутся коленки так, что колышется все тело. Другая — пистолет, который коротышка направляет на меня.
Даже на полутораметровом расстоянии я, благодаря толстенным, как бутылочное дно, стеклам и интересу с детских лет к стрелковому оружию, узнаю «глок».
— Please,[23]— жалобно произношу я.
Коротышка захлопывает дверь.
Я ощущаю слабый аромат лосьона для бритья и сигары.
— Добрый вечер, господин Белтэ, — говорит коротышка по-английски. Его голос сух, как ветер в пустыне.
Мое сердце бьется так жестко и быстро, что только свист раздается в ушах. Я задыхаюсь.
Знаком он посылает меня к гиганту на стуле. Я покорно делаю несколько нетвердых шагов.
— Что вы хотите? — Жалкая и обреченная на провал попытка взять ситуацию под контроль. Голос у меня дрожит, и кажется, что я рыдаю.
Гигант проводит рукой по моему лицу. Кожа у него такая шершавая, словно он не раз сиживал на ветру в пустыне во время песчаных бурь.
— Где они?
— What?
[24] — Я делаю еще одну попытку, только чтобы оттянуть неизбежное. Во рту так сухо, что язык прилип к гортани.
Коротышка машет пистолетом и повышает голос:
— Where are the scrolls?[25]
Scrolls. Свитки.
На долю секунды у меня мелькает мысль, не притвориться ли, что я не понимаю, о чем речь. Но только на долю секунды. Сознание того, что они могут сделать со мной, превращает меня в трепещущий листок осины, в сгусток ужаса.
— У меня их нет!
Голос мой дрожит. Руки дрожат. Колени дрожат.
Человек на стуле поднимается. Он еще больше, чем я представлял себе. Гора мускулов. Он машет мне. Когда я оказываюсь достаточно близко, он берет меня за рубашку и прижимает к себе. Я чувствую его дыхание. Наверное, за обедом он ел непрожаренное мясо с кровью. Я вижу поры его кожи и бездонные колодцы глаз. Он хватает мою левую руку. И отгибает назад мизинец.
— Где свитки? — спрашивает еще раз человек с пистолетом.
За окном устремляется к небу церковь Хатльгримма во всем своем неземном великолепии. Внизу, на улице, пешеходы сопротивляются сильному ветру.
Он нажимает на палец сильнее. Боль невыносимая.
— Где?
Я издаю стон. Громкий и пронзительный. Без всякого выражения гора мускулов смотрит мне прямо в глаза. И еще дальше отгибает палец.
В этот момент я готов признать почти все. Что знаю, где находятся свитки. Что я глава группы сатанистов, которая приносит в жертву маленьких детей. Что являюсь подручным Аль-Каиды. Что я двойной агент ЦРУ, ФСБ, МИ-5 и МОССАДа. Но мне так больно, что я не способен ни думать, ни говорить.
— Where are the scrolls?
Вероятно, я сумасшедший. Во всяком случае, я слышу, как ломается мой мизинец. С резким кратким звуком, как если бы я наступил на сухую ветку в лесу. Я кричу. Язык пламени перелетает из руки в голову.
Он отпускает мою руку. Я подхватываю ее здоровой рукой и рыдаю. Кисть горит.
— Я сожалею, что так получилось с этим священником, — говорит человек с пистолетом. — Но мы не будем медлить… — Он смотрит на меня, чтобы убедиться, слушаю ли я его. — Тебя мы изуродуем или убьем. Мы должны завладеть свитками!
Гигант кладет свою медвежью лапу мне на горло. Его указательный палец скользит по адамову яблоку. Он не нажимает. И все же у меня появляется ощущение тошноты, я едва дышу.
Если бы я был персонажем кинофильма, я, наверное, выбросился бы из окна. Пробив стекло. Люди делают что угодно, лишь бы избежать опасности. Но я всегда был размазней. Я боюсь высоты. И осколков стекла. У меня, знаете, всегда бывают проблемы, если случается порезаться до крови, сломать руку или ногу.
Я вовсе не собираюсь жертвовать жизнью ради «Свитков Тингведлира». Уже приготовившись сказать, что свитки находятся в бронированном хранилище Института Аурни Магнуссона, я бросаю взгляд на улицу.
Прямо напротив гостиницы останавливается полицейская машина.
В моем взгляде, должно быть, появился какой-то намек на надежду. Гигант поворачивается и смотрит в окно. Отпускает меня. Я глотаю воздух. Его коллега тоже подходит к окну. Коротышка говорит что-то, что я воспринимаю как
mokhabarat. Гигант отвечает
shorta.
Внизу на улице из патрульной машины выходят двое полицейских. Спешить им абсолютно некуда.
Арабы смотрят на меня, как две гиены, у которых отняли их лакомый полусгнивший кусок падали.
Я издаю жалобный стон.
Молниеносными движениями они прикрепляют мои руки к спинке кровати клейкой лентой и заклеивают рот скотчем.
Не говоря ни слова, гигант угрожающе смотрит мне в глаза.
Затем они исчезают.
2
К тому времени, когда полицейские, услышав стоны, ворвались в номер гостиницы, арабы давным-давно спустились по пожарной лестнице на задний двор и испарились в одном из тихих проулков позади гостиницы.
В глазах у меня плывет. Полицейские удаляют с моего лица скотч и помогают мне лечь в постель. Кому-то сломанный мизинец может показаться довольно смешным и даже банальным делом! Только не мне!
Полицейские вызывают подкрепление. Лежа в постели, я слышу звуки сирен подъезжающих машин полиции и «скорой помощи». Вскоре в гостинице набивается полным-полно полицейских и детективов. Молодой дежурный врач прикладывает к моей груди холодный стетоскоп и слушает сердце, которое бьется с бешеной скоростью. Он вкладывает ноющий распухший палец в бандаж и заматывает пластырем мизинец вместе с безымянным. Затем делает перевязь для руки и дает мне обезболивающее. Медсестра ласково гладит меня по щеке. Детективы задают вопросы. Я показываю гиганта на фотографии и делаю предположение, что коротышка — один из тех, кто на заднем плане и кого нельзя идентифицировать по фотографии. Полицейские что-то записывают в свои блокноты с таким привычным видом, словно в Исландию каждый день приезжают буйные арабы, охотящиеся за культурными ценностями и ломающие пальцы беспомощным ученым.
Проходит несколько часов, я рассказал им все, что знаю. «Скорая помощь» уехала в больницу, но меня в ней не было.
Двое полицейских остаются в гостинице: один у моей двери, другой внизу, у портье.
Ночь проходит беспокойно. Вселенная рухнула в тартарары, остались лишь мой мизинец и боль.
3
— Бьорн Белтэ?
Женщина в дверях прижимает к груди конверт и беспокойно переводит взгляд с полицейского на меня.
Я только что поднялся снизу, где завтракал. Под присмотром полицейского.
— Мы с мужем друзья преподобного Магнуса, — продолжает она на смеси датского и норвежского. Потом уточняет: —
Были друзьями. Мы являемся членами приходского совета в Рейкхольте, — объясняет она. — Мой муж поет в церковном хоре. Можно войти?
В ней нет ничего особо тревожного. Тем не менее полицейский «просвечивает» ее с головы до ног своим рентгеновским взглядом.
Я впускаю женщину и закрываю дверь.
— Мой муж ждет в машине, — говорит она, проходя в номер. Она вряд ли привыкла бывать в номерах гостиницы наедине с посторонними мужчинами. Стоит посредине комнаты и прижимает к груди конверт. — В тот день, когда умер преподобный Магнус…
— Да?
— Он пришел к нам утром. И сказал, что, если с ним что-то случится, мы должны передать вам вот это. — Она протягивает конверт, весь обклеенный скотчем, понижает голос и говорит: — Нельзя, чтобы письмо попало в руки полиции.
— Спасибо.
— Мы пытались связаться с вами.
— К сожалению, я был занят.
— Мы слышали по радио, что вы нашли пещеру в Тингведлире.
Она смотрит на меня, будто ждет, что я дам какое-то объяснение.
— Большое спасибо. Преподобный Магнус был бы очень благодарен.
Пока я молча улыбаюсь, она кивает и повторяет, что муж ждет в машине. Я еще раз благодарю ее. Она уходит.
4
Я разрываю конверт и вынимаю листок.
Простите меня, но я ничего не могу с собой поделать и громко смеюсь. Преподобный Магнус остался самим собой. Даже перед смертью.
В тексте три строки. Написанные рунами.
На первый взгляд текст кажется абсолютно непонятным. Я знаком с руническими знаками, но и на второй, и на третий взгляд все равно в нем нет смысла.
Сверху на листочке написано:
G88C3
Под этим следует текст:

Я долго смотрю на текст и пытаюсь найти смысл. Но даже тогда, когда я знак за знаком продираюсь через текст, он остается непонятным. Нечитаемым. Не имеющим смыла.
Надпись руническими знаками зашифрована.
Возможно, он опасался чего-то. И потому оставил сообщение для меня у друзей, которым доверял. От этой мысли мурашки побежали у меня по телу. По-видимому, преподобный Магнус чувствовал, что ему угрожает смертельная опасность.
Что же он такое знал, чего никому не выдал?
Читая текст, я чувствую в нем наличие некой схемы. Совершенно очевидно, что преподобный Магнус сделал в своем послании сдвиг знаков по системе Цезаря, но на сколько знаков и в каком направлении?
Из своего гостиничного номера я звоню моему волшебнику-шифровальщику и диктую ему рунический текст.
— G88C3, — бормочет он. — Это и есть, очевидно, ключ к коду.
У меня в голове мелькает светлая мысль.
— G88! Это официальное обозначение Кюльверского камня! — кричу я.
Кюльверский камень был найден у могильника около усадьбы Кюльвер на шведском острове Готланд в 1903 году. Известняковая плита содержала алфавит старших рун.
[26] Заменяем рунические знаки на буквы латинского алфавита и получаем следующий текст:
iii.ndдёёо.hþd
rёtwpgdt: uёp dÞb
sдёёþwu: dёp oёutpёhgs
— Мы приближаемся к разгадке, — говорит Терье. — Этот код не особо сложный. СЗ. Неужели это всего лишь Цезарь-3?
Попробуем. Если следовать правилу Цезаря о сдвиге на три знака вперед, мы получаем следующий текст:
www.gmail.com
Username: din mor
Password: min lidenskap
— Вуаля! — говорит Терье. — Новенький с иголочки электронный адрес на сайте gmail.com: имя пользователя — имя твоей мамы, пароль — страсть Магнуса.
Ах, Магнус, ах, хитрец!..
Я благодарю Терье за помощь, вхожу через свой ноутбук в Интернет, набираю адрес почтового сайта. Вписываю имя своей матери, а затем — большую страсть Магнуса, но это вовсе не Снорри, как можно было бы предположить, a
foie gras[27] — два слова, которые, чтобы стать паролем, должны писаться слитно.
В почтовом ящике лежит только одно письмо.
В строке «Тема» написано:
Бьорну.
Текст короткий:
«Shit happens![28] Удачи, Бьорн! Я с тобой. Твой друг Магнус».
Я открываю приложение. Некоторое время сижу и молча смотрю.
Преподобный Магнус прислал мне отсканированную и оцифрованную полную версию «Кодекса Снорри».
5
Я провожу в Исландии еще несколько дней.
Меня все время сопровождают двое полицейских в форме, которые самим фактом своего присутствия мешают мне делать то, что, собственно, надо делать.
У меня и Трайна непрерывно берут интервью газеты и телевизионные каналы по поводу обнаружения грота и серебряного ларца с манускриптом, который получил название «Свитки Тингведлира». Название не случайно. В 1947 году один пастух нашел в Кумране, недалеко от Мертвого моря, в пещере, древние свитки. В течение последующих десяти лет пастухи, бедуины и археологи обнаружили еще не менее 850 свитков с уникальными библейскими текстами. Эти свитки вошли в историю как «Свитки Мертвого моря».
Я переслал электронную копию «Кодекса Снорри» Трайну и попросил его пока сохранять в секрете, что она у нас есть. В том числе и от полиции. Знаете, на всякий случай.
«Свитки Тингведлира» находятся в надежном месте — бронированном подвале Института Аурни Магнуссона. Ни динамитом, ни взрывчаткой «Семтекс», ни газовым резаком арабы не смогут вскрыть стальную дверь.
Трайн и руководство института пригласили трех специалистов — двух лингвистов и одного историка — для перевода текста.
Сам я решаю вернуться в Норвегию. Полиция не возражает. Напротив, они рады. Рано утром мои провожатые отвозят меня в аэропорт и следят за тем, чтобы я в целости и сохранности взошел на борт.
Представляю, с каким чувством облегчения, оттого что отделались от меня, они машут руками вслед моему взлетающему самолету.
ПЕНТАГРАММА
НОРВЕГИЯ
1
В моей квартире кто-то побывал.
Я живу в многоэтажном доме в районе Грефсен. Три комнаты и кухня. Слишком много для одиночки вроде меня, но отсюда открывается изумительный вид на Осло.
Для меня мой дом — моя крепость. Стоит мне войти в квартиру и закрыть за собой дверь, как наступает полная изоляция от внешнего мира. От профессиональных проблем. От навязчивых женщин. От жестоких убийц.
И вот кто-то побывал в квартире в мое отсутствие. Ноги, как две свинцовые колоды, приросли к коврику в прихожей. Я осторожно вынимаю ключ из замка и закрываю входную дверь. Ставлю чемодан на половик ручной вязки, который купил на базаре в Стамбуле.
Дверь в кабинет приоткрыта. Я знаю наверняка, что закрыл ее, когда уезжал в Исландию. Я всегда закрываю все двери, уходя из квартиры. Это на случай, если вдруг начнется пожар или меня зальют соседи сверху.
Я не дышу. Может быть, они еще здесь?
Взглядом окидываю прихожую. Не шевелюсь.
Где-то на лестнице хлопает дверь. Я вздрагиваю.
Возьми себя в руки, Бьорн! Их нет, конечно. Они в Исландии. Они не могут быть одновременно в Исландии и Норвегии.
И снова вспоминается остекленевший взгляд преподобного Магнуса, когда я вытаскивал его из купальни. А затем два араба, посетившие мой номер в Рейкьявике.
Тишина заполняет всю квартиру. Что делать? Бежать? Оставаться? Вызвать полицию? «В квартире грабители?» — спросят они. «Не знаю» — отвечу я. «Дверь взломана?» — спросят они. «Нет, — отвечу я, — но у меня неспокойно на душе». Дежурный службы 112 вздохнет и попросит меня позвонить в криминальную полицию, если я обнаружу признаки взлома, с обязательным условием, что при этом будет что-то украдено.
Я распахиваю дверь в кабинет. Ожидаю увидеть все вверх дном. Но нет, все в полном порядке. Точно в таком, как в момент отъезда.
Почти в таком.
Левая сторона клавиатуры компьютера сдвинута на один-два сантиметра к краю письменного стола. А я оставляю ее всегда параллельной краю.
В комнате порядок. Но они положили книгу Лакснесса «Исландский колокол» справа, а не слева от «Лолиты» Набокова. В моем собрании CD с записями «Pink Floyd» они по ошибке поместили «Wish You Were Here» рядом с «Ummagumma». Кроссворд на маленьком стеклянном столике в углу между диванами — где седьмое слово по вертикали не разгадано — лежит вверх ногами. Карандаш для кроссвордов лежит под углом, а не прямо.
Они побывали в спальне, и в кухне, и в тесной, переполненной вещами гардеробной комнате. Я не знаю, нашли они что-нибудь или нет. Я не знаю даже, что они искали.
Выложив все из чемодана и запустив стиральную машину, я вынимаю из холодильника банку пива и опускаюсь на диван.
Я еще не успел открыть банку, как звучит телефонный звонок. Трайн. Он рассказывает, что у него дома и в институте были взломы. К счастью, ничего не нашли. К бронированному подвалу даже не пытались подступиться.
Я прошу его обратиться в полицию и говорю, что нам лучше не общаться по телефону, потому что его могут прослушивать.
Долго копаюсь, прежде чем мне удается открыть банку пива. Я обычно обкусываю ногти, поэтому у меня всегда проблема, как засунуть палец под алюминиевое кольцо. У каждого свои заморочки.
Дрожащей рукой прикладываю банку к губам и начинаю пить.
Я вовсе не герой. Но я упрямый. И я думаю, что всего этого, черт бы их побрал, с меня хватит.
Звоню в полицию. Они там вряд ли поверят хотя бы одному моему слову. Меня переключают на криминальную полицию. Запинаясь, я рассказываю обо всем, что случилось в Исландии, — о преподобном Магнусе, об арабах, об археологических находках. Говорю, что, как мне кажется, кто-то побывал в моей квартире. Слушая себя самого, я представляю себе, как они вписывают слово «психиатрия» в журнале регистрации.
Но происходит нечто неожиданное.
— Ах ты боже мой! — говорит полицейский.
Может быть, он что-то обо мне слышал. Может быть, его ослепили мои регалии и упоминания о Снорри. Даже полицейскому может не хватать немного приключений и драматизма в его скучных буднях.
— Мы пришлем к вам нашего сотрудника, — говорит он четко и решительно.
2
Сотрудника они прислали прямо на загляденье, в юбке чуть ниже колен и облегающем джемпере, который подчеркивал пышную грудь.
В первую секунду я решил, что она хочет мне что-то продать. Но затем замечаю у нее висящее на шнурке полицейское удостоверение.
Зовут ее Рагнхиль, по должности она старший полицейский. Я кипячу воду для растворимого кофе, мы усаживаемся в гостиной. Рассказываю ей обо всем, что случилось в Исландии, о причинах, по которым мне кажется, что у меня был взлом. Она не смеется, не закатывает глаза. Когда я заканчиваю свой рассказ, она обследует дверные рамы и замки. Я говорю, что воры были большими профессионалами. После того как я показал ей все признаки взлома — клавиатуру, книги, CD, кроссворд и карандаш, — она загадочно улыбается и говорит, что я, оказывается, весьма наблюдательный джентльмен.
Несколько позже появляются два сотрудника из их технического отдела, которые тут же обходят всю квартиру со своими метелками и пластиковыми пакетами, собирая улики.
Полицейские работают у меня несколько часов. Ничего не находят. После ухода техников Рагнхиль встает, чтобы попрощаться; мы ни на йоту не продвинулись в нашем деле.
— Как видите, очень мало данных, чтобы мы могли предоставить вам охрану, — говорит она. — Но постарайтесь быть осторожным. — Она протягивает мне визитную карточку со множеством телефонов. Ручкой приписывает на карточку номер мобильного телефона. — Это мой личный. Но только на такой случай — ну, сами знаете.
После ухода Рагнхиль я запираю дверь на замок, потом на цепочку. Отпиваю из банки пиво. Пиво уже выдохлось и стало теплым.
Зазвонил телефон. На этот раз никто ничего не говорит. И тем не менее я услышал чье-то дыхание, прежде чем положили трубку.
Кто-то проверяет, дома ли я.
Втискиваю самый минимум одежды и предметов туалета в сумку и бросаюсь к автомобилю. Есть люди, которые будут долго думать, прежде чем назвать мою Боллу автомобилем. У меня никогда не было потребности украшать себя роскошными автомобилями. Болла — это «Ситроен-2CV». Жестяная банка с мотором от швейной машины. Но в ней есть душа, шарм и синтетическое масло.
На Болле я уезжаю из Грефсена. За мной никто не гонится. Это хорошо, потому что еду я не слишком быстро. Но несомненно, что наблюдение за мной ведется. Они знают, где я нахожусь.
3
Директор института профессор Трюгве Арнтцен — большое дерьмо. Я знаю это точно. Более двадцати пяти лет он является моим отчимом.
После смерти мамы исчезли все и без того хрупкие узы вымученной вежливости и наигранной терпимости.
Профессор заполучил права на маму, причем в весьма подержанном виде, когда папа упал со скалы, на которую его всеми силами заставил взобраться профессор. Мне тогда было двенадцать лет. С того времени я освоил, что пытаться оспаривать закон всемирного тяготения опасно для жизни. Несколько лет тому назад я узнал, что в действительности это папа пытался убить профессора. Потому что у того была любовная связь с моей мамой. Вместо этого жертвой крепления стал папа. Как прав был преподобный Магнус:
shit happens!
Мне известны странности профессора. Как, например, то, что он пташка ранняя и приходит на работу рано. Он говорит, что успевает сделать очень много, до того как весь мир проснется. Я спал в своей машине, в подземном паркинге, прямо под камерой слежения.
Профессор пребывает в своем кабинете, когда я стучусь. Увидев меня, он кривит физиономию, как будто кто-то выжал у него во рту лимон:
— Бьорн? Я думал, что ты в Исландии.
— Да, я там был.
Я добросовестно рассказываю ему о главных событиях поездки, о которых он уже, несомненно, знает. Умалчиваю обо всем, что может восприниматься как нарушение правил. Профессор Арнтцен — богоданное воплощение блюстителя правил. Но я сумел довести его до такого состояния, что он позволяет мне спокойно работать «над проектом». Ни один из нас не уточняет, что это за «проект». Он смотрит на меня туманным взглядом и просит периодически докладывать, как обстоят дела.
Ну, сами понимаете.
4
Цицерон сказал, что одиночество не страшно для того, кто целиком захвачен предметом своего исследования. Я всегда захвачен предметом своего исследования. Но по этой причине носить бремя страстей нисколько не легче. Их только легче забыть.
Я запер дверь в мой крохотный университетский кабинет, где я сижу зажатый между книжными полками и шкафом, в котором систематизированы мудрые мысли других людей. Кручу в пальцах карандаш. Смотрю попеременно то из окна, то на календарь, висящий передо мной на стене. Пытаюсь понять, что узнал преподобный Магнус, почему он так боялся людей, выдававших себя за ученых из Института Шиммера. Знал ли он, что они совсем не из Института Шиммера? С кем же тогда он разговаривал? Что заставило его отсканировать целиком древний документ и после этого придумать рунический код, чтобы показать мне путь к нему?
Я распечатал на глянцевой высококачественной бумаге «Кодекс Снорри» и теперь перелистываю его. За ровными колонками рун и латинских букв, за символами и картами явно спрятаны еще какие-то сообщения и намеки. Части текста зашифрованы, но многие куски читаются легко.
Какая тайна заставила Снорри написать от руки текст, адресованный будущим поколениям?
Первые три страницы написаны на более темном и более старом пергаменте, чем остальные. Рунами германцы писали в течение первого тысячелетия после Рождества Христова во всей северной части Европы. С распространением христианства руны постепенно были заменены латинским алфавитом, но несколько столетий руны и латинские буквы использовались наравне друг с другом.
Один знак за другим, одно слово за другим я перевожу рунический текст. Он представляет собой что-то среднее между сборником правил, клятв и намеков. Если перевести на норвежский язык, то текст начинается так:
Берегись, читающий эти тайные руны. Муки Дуата, Хеля и Ада ждут того, кто без позволения раскроет загадки этих знаков. Удались от пергамента богов.
Ибо так обстоят дела: в скрытом мире богов охраняем мы священную тайну. Сила рун скрывает пророчество в тумане знаков.
Избранником являешься ты, охраняющий тайну ценой своей чести и жизни. Твои божественные покровители Осирис, Один и Христос наблюдают за каждым твоим шагом. Слава тебе, Амон!
Еще более странно стихотворение, которое написано рунами, но явно является переводом с древнеегипетского языка.
КЛЮЧ
Придворные царского двора идут на запад
вместе с Царем Осириса Тутанхамоном.
Они восклицают: О царь! Приди с миром!
О бог! Защитник страны!
Ключ?
После рунического текста идет несколько страниц, которые сам Снорри заполнил латинскими буквами, картами и рисунками двести лет спустя после создания предыдущего текста. Что-то написано им при помощи шифра, что-то легко поддается прочтению.
Короли и ярлы, хавдинги и рыцари, скальды и люди, давшие клятву, объединяются в священном кругу ХРАНИТЕЛЕЙ Божественной тайны.
Только избранные и посвященные должны понимать скрытые слова и темные знаки.
Я представляю себе Снорри в комнате переписчиков в Рейкхольте. Эта комната освещена сальными свечами и светильниками с ворванью,
[29] стоящими вдоль стен на высоких скошенных конторках или висящими под потолком. Видимо, он выгнал всех переписчиков, чтобы остаться одному. Перед Снорри лежит белый мягкий пергамент, прочно закрепленный на поверхности конторки. Перо в руках очищено и заострено. Он начинает писать ровным гармоничным почерком, следуя слегка намеченным линиям. В середине страницы он рисует пентаграмму. Знак, отгоняющий злых духов… Во времена Снорри считалось, что от зловредных духов, нарушающих сон, можно избавиться, если нарисовать на двери пятиконечную звезду.
Даже в современном кабинете с компьютером, телефоном, телефаксом и магнитной скрепочницей я ощущаю мощь пентаграммы. Уже пять тысяч лет пятиконечная звезда сияет на небе оккультизма. Египтяне рисовали вокруг звезды круг, получался знак
дуат, который указывал на подземный, потусторонний мир. Арабы использовали ее для магических и ритуальных действий. Пифагорейцы считали, что пентаграмма выражает математический идеал, потому что — хотите верьте, хотите нет — «золотое сечение», то есть пропорция 1,618, скрывается в линиях пентаграммы. Для иудеев она символизирует Пятикнижие Моисея. Для христиан этот знак представляет черную магию и пять ран Иисуса. И наконец, если повернуть звезду острием вниз, то сразу появляется символ сатанистов.
На пятой странице манускрипта я нахожу карту Южной Норвегии, от Тронхейма и далее на юг. Карта не особенно точная. Во времена Снорри карты в лучшем случае базировались на приблизительных данных и даже просто догадках. Самая старая известная нам карта Норвегии — карта Наси 1427 года. Ее создал самый первый из скандинавских картографов датчанин Клаудиус Клавус, который до того несколько лет прожил в Риме и разъезжал по странам с кардиналами и секретарями папы. И тем не менее у меня в руках неопровержимое доказательство того, что Снорри создал карту восточной части Норвегии на двести лет раньше, и его карта, в свою очередь, была скопирована с еще более древнего пергамента с руническими знаками.
Уже много часов я изучаю текст и рисунки. Я перевожу и рунический текст, и текст, записанный Снорри латиницей, и усиленно пытаюсь найти код. Я тщательно изучаю карту Норвегии, но смысл по-прежнему ускользает от меня.
Позавтракав — два куска хлеба с сыром гауда, салат из брюквы с морковью и чашка чая, — я звоню начальнику полиции в Боргарнес, чтобы узнать, нет ли новостей. Есть. Камера слежения на заправке в Саурбере зафиксировала подозреваемых. Фотография распространяется по сети Интерпола. Норвежская полиция уже получила копию.
— Арабы как сквозь землю провалились, ха-ха, — весело произносит он. Потом становится серьезным и дает очень поверхностную информацию о расследовании, чтобы я подумал, что что-то узнал, хотя на самом деле мне ничего не сообщили.
Только я положил трубку, как мне позвонила Рагнхиль из полиции Осло. Она получила фотографию из Исландии и просит опознать подозреваемых. Она послала мне фото по электронной почте и будет ждать у телефона, пока я не открою сообщение и приложение.
Снимок камеры наблюдения черно-белый, но удивительно четкий.
На фото с заправки я узнаю тех двоих, что вломились ко мне в гостиничный номер в Рейкьявике. Омерзительного коротышку. И гиганта, сломавшего мне палец.
— Это они, — говорю я.
— Мы их найдем. Теперь, когда у нас есть фотография, мы можем работать.
Я прошу Рагнхиль немного подождать. Кроме ее письма, в почте висит еще одно непрочитанное сообщение.
Отправитель: <Не установлен>
Дата: <Отсутствует>
Адресат: bjorn.belto@khm.uio.no
Копия:
Тема: Бьорн Белтэ — прочитай!
Дорогой Бьорн Белтэ, ты не знаешь, кто я. Но я с тобой познакомился. Я сожалею, что мои помощники причинили тебе боль и испугали. Я их нанял выполнять мои поручения и не могу управлять ими каждую секунду.
Преподобный Магнус обнаружил в Исландии кодекс, которым мои помощники теперь овладели. Но ты тоже сумел найти манускрипт, который средства массовой информации, с их безграничной бездарностью окрестили «Свитками Тингведлира».
Я готов пойти далеко — очень далеко, — чтобы заполучить этот манускрипт. Независимо от того, где он находится: все еще в Исландии или уже в Норвегии.
Мне не хочется тебе угрожать. И все же ты заставляешь меня использовать такие методы, к которым я предпочел бы не прибегать.
Прошу тебя: передай «Свитки Тингведлира» моим людям, когда они снова придут к тебе. Твое желание пойти нам навстречу будет щедро вознаграждено. Под «щедро» я имею в виду денег больше, чем ты можешь себе вообразить. Всю оставшуюся жизнь ты сможешь прожить в немыслимой роскоши.
Если же ты предпочтешь воспротивиться мне, берегись: за твою жизнь никто отныне не даст и ломаного гроша. Мои люди получили ясные инструкции. Я не хочу причинять тебе зла, но для меня нет ничего важнее, чем завладеть манускриптом из Тингведлира. Мои люди уполномочены делать абсолютно все, что потребуется для достижения результата. Позволь мне не входить в детали.
Скулы у меня свело, во рту пересохло.
Я получил в своей жизни не очень много писем с угрозами. Если честно, то это первое.
Дрожащим голосом я читаю письмо Рагнхиль. Она просит меня сделать две вещи — распечатать письмо и переслать его ей по электронной почте.
Нажимаю на клавиши, чтобы распечатать. Ничего не происходит. Я раздраженно нажимаю на мышь. Несколько раз.
Ничего.
Тогда я пытаюсь переслать письмо — экран начинает дергаться. Письмо на экране запрыгало, как будто каждый пиксель оторвался от своего соседа и все бросились бежать в рассыпную.
Через короткое время от письма не осталось и следа.
— Письмо исчезло, — говорю я.
— Этого не может быть.
Я еще раз проверяю входящие письма. Письмо по-прежнему находится на верхней строчке. Я кликаю его. В ту же секунду строчка исчезает.
— Проверь среди удаленных!
Там тоже ничего.
— Кликни «Восстановить удаленные элементы».
Опять ничего.
Она говорит, что то, что я описал, невозможно технически. Электронное письмо не может исчезнуть с экрана адресата. Подобное может случиться только с приложением, которое задерживает антивирусная программа.
— Это было вордовское приложение?
— Нет, самое обыкновенное электронное письмо.
— Кто-то поработал с твоим компьютером и заложил шпионскую программу.
— Они были здесь?
Здесь?
— Если у них есть программы, которые в состоянии уничтожать электронные письма в Outlook, то они обладают очень большой компетенцией в области электроники. В этом случае они вполне могли послать тебе письмо, даже такое, которое само перейдет в СПАМ и затем разрушится. Но тогда в твоем компьютере должна быть автоматически установленная скрытая программа.
— Там не был указан отправитель.
— Адресом отправителя и датой очень легко управлять. Теоретически возможно обнаружить сервер, с которого послано письмо, но и это вряд ли поможет: наверняка они отправили письмо с чьего-нибудь плохо защищенного сервера.
Рагнхиль просит меня как можно точнее записать текст письма, как я его запомнил.
Через полчаса она приезжает ко мне вместе со специалистом из технического отдела, чтобы увезти компьютер. Но я сомневаюсь, что они найдут что-нибудь.
5
Ближе к вечеру я отпираю дверь и выхожу из кабинета. Меня охватил страх. Распечатку «Кодекса Снорри» я положил в прозрачный пластиковый пакет и сунул под рубашку. Пластиковый пакет приклеился к мокрой груди.
Быстро иду по длинному коридору, потом спускаюсь по лестнице в подвал, выхожу на улицу с задней стороны института. Солнечные лучи острыми иголками впиваются в глаза. Надеваю поверх своих очков солнцезащитные. В воздухе ощущается приближение осени.
В Блиндерне я сажусь в метро и еду в центр. Не спеша подхожу к крытой парковке, где оставил свою Боллу.
Один из них сидит на лестнице напротив входа и делает вид, что читает газету «Верденс Ганг». Но он все время смотрит на стеклянную дверь, которая открывается и закрывается автоматически.
Больше всего меня пугает, что у парковки много входов. И если они следят за одним входом, значит, наблюдатели есть и у всех других. Так сколько же их?
Я сворачиваю за угол и решаю оставить Боллу одну в окружении врагов на шахматном поле Р2.
Кто мои преследователи? Неужели преподобный Магнус мог обратиться к подпольным коллекционерам? Богатые иностранцы могут зайти далеко, чтобы захватить сокровища, не соблюдая общепринятых каналов продажи. Но убивать?!. Ради пергамента, которому 800 лет?!.
А может быть, ради той информации, которая скрыта в тексте?
Еду на трамвае в Скиллебек и ныряю в подворотню недалеко от дома Терье.
Терье Лённ Эриксен появляется через полчаса с небольшим. В сумке на плече, которую он носит со студенческих пор, у него жестяная коробка для завтраков, школьный термос семидесятых годов и номер газеты «Дагбладе», который он читал в трамвае. Он неспешно продвигается по улице, слегка наклонившись вперед. У Терье мелкие зубы и большие уши, лысина, блеск которой компенсируется длинными кудрявыми волосами по бокам и внушительной бородой.
Увидев меня, он останавливается и скалит зубы:
— Бьорн! Проблемы с бабами?
Мы, любители иронии, создали свой особый язык, в котором самые жуткие оскорбления носят вполне дружеский характер. Терье прекрасно знает, что у меня, как и у него, не было женщин уже много лет.
Эту ночь я провожу у Терье. Его очень увлекла идея дать приют человеку, который прячется от загадочных преследователей.
Я не исключаю, что, по его мнению, мне это приснилось. Пусть так и будет. Это лучше и для него, и для меня.
6
С мальчишеских лет я испытываю тягу к ведьмам.
Сомнительная тяга — это правда. Мои устремления никогда не шли по протоптанным дорожкам разума. Сначала, когда я был совсем маленьким, ведьмы пугали меня. У них черные накидки, длинные носы и противные волосатые бородавки. Они кипятят в котлах свое вонючее варево и летают верхом на метле, издавая жуткие пронзительные крики. Когда я стал старше и мои гормоны хотя и не очень быстро, но, так или иначе, начали выползать из скорлупок, я интуитивно понял, что ведьмы испускали некое странное эротическое излучение, от которого у меня начинали дрожать колени. А еще появлялся дикий страх.
Поэтому теперь я стою и ловлю губами воздух на коврике перед дверью Адельхейд Гейерстам.
— Бьорн Белтэ? — спрашивает она, склонив голову набок.
Паралич, появившийся от этого заклинания, у меня постепенно исчезает.
— Адельхейд?
— Входи-входи!
Адельхейд Гейерстам в точности соответствует моему представлению о том, как должна выглядеть настоящая ведьма. Властность и чувственность неразрывно слились в ней. Губы ее блестят, а голубые и холодные глаза манят и магнетизируют.
Она живет в Лиллехаммере в своем «вороньем гнезде», обдуваемом всеми ветрами, с облупившейся белой краской, с садом с неухоженными яблонями, запущенными кустами смородины и горами удобрения, на которые давно никто не обращает внимания.
Она проводит меня через прихожую, где я вешаю пальто на крючок, в дом. Спрашивает, как я себя чувствую после поездки на поезде. В развевающихся одеждах, едва прикрывающих ее формы, она порхает впереди меня по коридору, который ведет в комнату, битком набитую африканскими барабанами, шкурами зебр, деревянными масками, копьями, перьями страуса и львиными когтями.
Адельхейд протягивает большую керамическую кружку с травяным чаем:
— Как я рада, что ты пришел. Давно пора! Общепризнанные науки никогда не понимали священной геометрии! Ты — первый профессор, пришедший ко мне.
Вместо того чтобы сказать, что я всего лишь ничтожный старший преподаватель, который пришел по личной нужде, я прихлебываю ее травяной чай, отдающий вкусом уличной травы с добавкой скончавшихся своей смертью комнатных цветов.
Адельхейд написала четыре раскритикованные книги по истории священной геометрии и влиянию оной на размещение скандинавских монастырей, церквей, захоронений и дворцов.
— По всей Скандинавии можно найти примеры священной геометрии. И тем не менее многие ученые рассматривают нашу науку как чистое суеверие. — Голос звучит горячо.
Когда она кладет свою руку на мою, ее жемчужный браслет и бижутерия погромыхивают. Если честно, то неожиданное прикосновение действует на меня.
Она продолжает, прежде чем я успеваю задать вопрос:
— Вдоль побережья Норвегии, от Ругаланна до Нурфьорда, возведено шестьдесят каменных крестов, которые доказывают влияние кельтов на христианизацию Норвегии в девятом — одиннадцатом веках. Ведь Олаф Святой пожал плоды из того, что раньше посеяли кельты. Как ты думаешь, местоположение этих каменных крестов, а некоторые из них достигают высоты трех-четырех метров, выбрано случайно?
— Я вообще не думал на эту тему.
— Проведи линию от монастыря Утстейн под Ставангером до Тёнсберга, а потом до Нидароса. Разве случайность, что эти две линии образуют угол девяносто градусов?
— Хм…
— Разве случайность, что орден цистерцианцев основал монастыри Люсе в 1146 году, Девы Марии на Главном острове в Осло-фьорде — в 1147, Мункебю в Тронхейме — в 1180 и Таура в Тронхеймс-фьорде — в 1207-м?
— Вряд ли.
— А разве случайность, что от монастыря монахов-августинцев Утстейн такое же расстояние до Осло, что и от монастыря Люсе? Что совершенно такое же расстояние в 275 километров отделяет монастырь Халснёй, основанный августинцами в 1163 году, от Тюнсберга и Тёнсберг от Утстейна?
— Мм…
— Все древние святыни Норвегии подчиняются математической логике, которая показывает, что наши предки использовали знания и вдохновение древних греков и египтян. И неужели же случайность, что священные города Берген, Тронхейм, Хамар и
Тёнсберг на средневековых картах были размещены так, что получалась пентаграмма?
Я похолодел. Я ведь еще не рассказал Адельхейд, зачем пришел. И все же она предупредила мой вопрос.
— Мне не хочется пугать тебя и устраивать мелодраматические сцены, — говорю я, — но в Исландии одного священника убили из-за того, что я сейчас тебе покажу.
Я кладу перед ней копию «Кодекса Снорри».
— Это часть «Свитков Тингведлира»?
— Нет, этот текст носит название «Кодекс Снорри». Он привел нас к гроту около Тингведлира. Снорри сочинил последнюю часть, написанную латинскими буквами. А руны, вероятно, написаны за несколько сотен лет до него. Карты и магические символы были предположительно внесены в кодекс в промежутке между 1050 и 1250 годом.
Несколько секунд она обдумывает сказанное.
Со священным трепетом Адельхейд перелистывает страницы и изучает карты и символы.
—
Анх! Пентаграмма! Но это же невероятно!
Я передаю вкратце содержание рунического текста и говорю, что текст или карты, вероятнее всего, имеют еще скрытый смысл.
— Вот здесь, — говорю я и перелистываю страницы, — карта Южной Норвегии. Хотя она и не полностью совпадает с данными современной географии, невозможно постигнуть, что кто-то был в состоянии создать такую точную карту за сотни лет до того, как картография стала настоящей наукой.

— Ты нашел на карте пентаграмму?
Я смотрю на нее, потом опускаю взгляд на карту.
— Пентаграмма и карта составляют единое целое, — объясняет она. — В качестве исходной точки надо взять священные города того времени. Нидарос, ныне Тронхейм. Бьёргвин, ныне Берген. Хамар. Тёнсберг.
Говоря это, она ставит на карте по маленькой точке у каждого из названных мест. Проводит линию от Бергена до Тронхейма. И от Бергена до Хамара, где Николас Брейкспир, ставший позже папой римским под именем Адриан IV, основал епископат примерно в 1150 году. Затем от Тронхейма до Тёнсберга, самого старого города Норвегии и политического центра в Средние века.
— Если бы тут было еще две линии, — говорит она, — то была бы пентаграмма.
— Но мне кажется, что на северо-западе нет никакого религиозного центра. — Я показываю на недостающую точку координат, которая находится где-то наверху.
— Не скажи. В этом районе находится немало мистических мест. Например, грот Доллстейн. Мой коллега, исследователь Харальд Соммерфельдт Бёлке, изучил связанные с ним легенды. Грот обращен к океану на высоте шестидесяти метров в скале на западной стороне острова Саннс-эй в провинции Мёре-ог-Румсдал. Если верить легенде, на этом острове король Артур возвел летнюю резиденцию. Так вот, как говорят, в гроте спрятано сокровище. Фактически там целых пять залов, или гротов, соединенных узкими туннелями. Длина пещер — сто восемьдесят метров, а в старину люди думали, что от пещеры есть ход под дном моря вплоть до самой Шотландии. Крестоносец Рагнвальд, ярл Оркнейский, который взял имя воспитанника Олафа Святого, Рагнвальда Племянника с Оркнейских островов, побывал в пещере в 1127 году в поисках сокровища, которое, как тогда считали, было спрятано в пещере.
Адельхейд проводит две последние линии. Сердце громко стучит. Как по волшебству, на карте Норвегии появляется пентаграмма.

Получается, что в строжайшей тайне кто-то, имевший познания о магии цифр, географии и геометрии, заложил в XII веке соборы в Нидаросе и в Хамаре, замок Тёнсберг и Бергенский собор.
— Лишь немногие сегодня знают, что значительное количество святых мест Скандинавии размещено в соответствии со строгими законами математики и геометрии, — говорит Адельхейд.
Она подходит к книжным полкам, вынимает один том и раскрывает на странице со сделанной с самолета фотографии погребальных курганов Старой Упсалы в Швеции.
— Видишь, курганы и находящиеся рядом церкви и замки, имеющие в своей основе круг, расположены относительно друг друга под определенным углом? — Она показывает на изображения ярко-красным ногтем.
В другой книге она открывает карту Борнхольма, датского острова в Балтийском море.
— Если наложить на остров пентаграмму, можно увидеть, что церкви, замки и все святыни тамплиеров располагаются на вершинах и линиях пентаграммы. — Она вынимает еще одну книгу. — Исландцы Эйнар Паульссон и Эйнар Биргиссон документально доказали, что большие усадьбы, церкви и важные поселения, начиная со времени создания «Книги о занятии земли» в 1688 году, строились в соответствии со священными геометрическими принципами. Представь себе колесо, символизирующее горизонт и созвездия зодиака на небе. Спицы в этом колесе стали именовать, исходя из движения солнца, а все вместе представляет собой космическую карту, которая показывает, что исландцы, совершенно очевидно, имели обширные познания в египетской космологии.
Я пригубил травяной чай, он почти остыл.
Адельхейд нашла на полке еще несколько книг:
— Такие же образцы и загадки ты найдешь и здесь, в Норвегии. Исследования Бодвара Шеллерупа и Харальда Соммерфельдта Бёлке, которые описали свои находки в увлекательных книгах, подтверждают, сколь распространенной была священная геометрия в Норвегии в прошлом. Не забудь, что викинги далеко не только кровожадные насильники. Они были глубоко верующими и ищущими людьми. И они высоко ценили симметрию и гармонию в жизни. Посмотри только на форму прекрасных судов викингов. Посмотри на рунические знаки. Когда викинги хотели построить на местности какие-либо важные сооружения, они соблюдали геометрию священных линий и форм.
— Но ведь в конечном счете это всего лишь какой-то сумбур из черточек и координат, — говорю я и показываю на карту.
— Думаю, более точное указание места прячется в тексте. Возможно, в зашифрованном виде.
В полной растерянности я смотрю на текст. Я его просматривал столько раз, что не могу даже вообразить, будто в нем есть скрытые коды, которые я еще не обнаружил.
7
Уже в поезде по дороге в Осло я вижу на мобильном телефоне восемь пропущенных вызовов и четыре голосовых сообщения. У меня обычно выключен звуковой сигнал. Мне не хочется становиться рабом мобильных телефонов.
Все вызовы с одного и того же номера. От Рагнхиль.
Когда я звоню, то слышу искренний вздох облегчения.
— Бьорн, куда же ты пропал?
— Что-нибудь случилось?
— Мне надо с тобой поговорить. Немедленно. Где ты?
— Еду в Осло.
— Мы тебя встретим.
В полицейском управлении района Грёнланн Рагнхиль ждет меня, морщины на лбу демонстрируют ее озабоченность.
— Мы идентифицировали одного из арабов, — говорит она, сидя за столом и протягивая мне фото, снятое камерой наблюдения в Исландии. Ногтем указательного пальца Рагнхиль тычет в изображение гиганта.
— Это он сломал мне палец.
— Охотно верю. В Интерполе на него целая библиотека. Его полное имя Хассан ибн Аби Хаким.
— Хассан…
Она перекидывает на мою сторону стола пачку фотографий Хассана. На многих он в военной форме. На других одет в эксклюзивного покроя костюмы, которые сшиты, чтобы вместить его колоссальную мышечную массу.
На черно-белой фотографии Хассан возвышается — с гордой улыбкой — над огромной братской могилой.
— Он иракец. — Рагнхиль протягивает мне перевод информации, присланной из Интерпола.
ИНТЕРПОЛ
Радиограмма
Номер радиограммы: 7562 Дата: 2007-11-17 14:13:48
Отправитель: ЛИОН Номер: SN Дата: 17/11/07
Время: 14:13:48 Срочность: СРОЧНО
От: I-247-G° 14 Куда: НОРВЕГИЯ, ОСЛО
Тема: Ответ на 17/11/07 GD/VG/OKK
СЕКРЕТНОЕ СООБЩЕНИЕ № 26/11 ОТНОСИТЕЛЬНО: Хассан ибн Аби Хаким
Имя объекта: Хассан ибн Аби Хаким
Возможные уменьшительные имена: Неизвестны
Дата рождения: Неизвестна
Год рождения: 1963
Место жительства: Неизвестно
С 1985 по 2003 год Хассан ибн Аби Хаким — офицер Республиканской армии Саддама Хусейна, с 1992-го — офицер Специальной республиканской гвардии Ирака, также известной как «Золотая гвардия».
В период 1986–1989 годов принимал участие в операции «Аль-Анфаль», в ходе которой были разрушены несколько тысяч курдских деревень, уничтожены, в частности с использованием химического оружия, несколько сотен тысяч курдов.
Объект был одним из руководителей военной операции 1988 года. В ходе этой операции была проведена газовая атака на курдский город Халабья, в результате которой погибло около 5000 человек.
По данным ЦРУ, объект был одним из руководителей операции «Аль-Анфаль», направленной на уничтожение курдского народа…
МИ-5 считает, что он, будучи офицером Республиканской гвардии, лично уничтожил от 3000 до 4000 человек.
С 2003 года объект зарабатывает на жизнь в качестве «свободного военного советника» с базой в Абу-Даби. На практике предположительно выступает в роли наемного убийцы.
По данным французской разведки, начиная с 2006 года объект работает на неустановленного работодателя в Саудовской Аравии.
Израильская разведка МОССАД, несмотря на неоднократные попытки, не сумела подтвердить личность работодателя объекта, которым предположительно является шейх Ибрагим аль-Джамиль ибн Закийи ибн Абдулазиз аль-Филастини.
— Теперь мы, по крайней мере, знаем, кто он, — говорю я.
Я пытаюсь скрыть ужас под наигранным равнодушием.
Капитулировать мне даже не приходит в голову. Наоборот, во мне растет упрямое желание одолеть своих противников в бою. Одолеть тех, кто очевидно сильнее. Одолеть палача по имени Хассан. Я упрям как осел. Человек здравого ума, вероятно, уже сдался бы. Но я? Ни за что! Глубоко внутри меня сидит, ссутулившись, какой-то упрямец, который страшно любит добиваться ответов на заданные вопросы и готов разобрать все часы на свете, лишь бы выяснить, что собой представляет время. Любопытство и упрямство владеют мной сильнее, чем испуг.
Рагнхиль смотрит на меня так, как когда-то смотрела мама.
— Будь осторожен, Бьорн, — говорит она.
Мне выдают «тревожную кнопку».
Несколько дней меня будет сопровождать мой личный телохранитель — полицейский с наушником в одном ухе, в солнцезащитных очках и с настороженным взглядом.
Кроме того, мне вернули компьютер. Программы, которые Хассан и его люди каким-то образом инсталлировали, таким же странным образом сами себя уничтожили или же сделались невидимыми среди прочих программ. Единственное, что удалось установить, — это то, что компьютер был в контакте с сервером в Карибском регионе, который, в свою очередь, имеет связь с сервером в Абу-Даби.
8
В университете я занимаю кабинет коллеги, который сейчас находится в отпуске. Телохранитель сидит на стуле в коридоре и читает газету «Верденс Ганг», томясь в ожидании появления посланников Республиканской гвардии.
А я тем временем звоню Трайну в Исландию.
По голосу я слышу, что его что-то мучит. Он пытается подобрать слова, которые представили бы его не в слишком плохом свете. Говорит, что ощущает за собой слежку. Кто-то постоянно наблюдает за ним, перелистывает его бумаги, когда он уходит по делам, рыщет по дому в его отсутствие. Он говорит об этом со смехом, но тем самым еще больше убеждает меня в том, что Трайн беспокоится, не буду ли я о нем плохо думать.
Я рассказываю о Хассане. О полицейском, сидящем в коридоре и охраняющем меня. Обо всем, что случилось после моего возвращения в Норвегию. И я прошу его позвонить в полицию.
— Они охотятся за нами, Трайн, — говорю я.
Звук такой, будто он попытался проглотить целиком яйцо.
— Вообще-то, я надеялся, что это только мои фантазии.
— «Свитки Тингведлира» в надежном месте?
— Да. Мы их переместили в…
— Стоп! Ничего не говори.
— Но…
— Телефон, возможно, прослушивается.
Он замолкает. Надолго.
В конце мы договариваемся, что я перезвоню ему по телефону одного из его коллег с другого телефона в моем институте.
На более надежной линии Трайн рассказывает, что ученые из Института Аурни Магнуссона перевезли «Свитки Тингведлира» в лабораторию на выставке древних рукописей в Доме культуры в центре Рейкьявика, причем на всякий случай сообщили, что там будет проходить реставрация фолианта XV века
Codex Flatöiensis («Книги с Плоского острова»).
Голос Трайна дрожит от гордости — он осуществил операцию прикрытия: в главном зале Института Аурни Магнуссона в обстановке величайшей секретности четыре студента-археолога работают над копией XVIII века «Круга земного» Снорри Стурлусона.
— Твои сотрудники уже обнаружили что-нибудь новое относительно «Свитков Тингведлира»? — спрашиваю я.
— На первый взгляд это список Библии.
— Что значит «на первый взгляд»?
— Ну, — помедлил он, — в одной колонке помещен текст на коптском языке. Другая колонка написана на древнем варианте иврита, который называют классическим, или библейским, ивритом. Перевод на коптский язык расположен рядом с оригиналом, написанным на иврите. На древнем иврите написан Ветхий Завет. Язык этот не очень отличается от современного иврита. Есть небольшие различия в грамматике, и стиль в прежние века был более архаичным.
— Но верно ли, что
это список Библии?
— Переводчики пока в растерянности. Вероятно, это альтернативный манускрипт. Части текста представляют собой копию книг Моисея. Другие фрагменты совершенно неизвестны. Мы еще не очень далеко продвинулись в переводе. Пока что мы сделали пробные переводы из разных мест документа.
— И что?
— Если честно, я не знаю, что и думать. Возможно, все это совершеннейшая чепуха. Либо шутка монаха-еретика или переписчика, который позволил себе вольности при переписывании Библии. И даже если текст окажется неточным переводом книг Моисея, я не знаю, что об этом думать.
— Почему?
— Если бы список был на тысячу лет старше, мы имели бы в руках мировую сенсацию.
Septuagintaen — дохристианский перевод Ветхого Завета — был написан в Александрии в Египте между III и II веком до Рождества Христова.
Codex Vaticanus («Ватиканский кодекс») — один из старейших сохранившихся манускриптов с текстом Библии — относится к IV веку после Рождества Христова. Вариант Библии
Codex Sinaiticus («Синайский кодекс») был скопирован между 330 и 350 годом.
Vulgata («Вульгата») — первый авторизованный Римско-католической церковью перевод Библии на латинский язык — была написана около 400 года. «Свитки Тингведлира», Бьорн, были скопированы в эпоху викингов. А копия Библии XI века, как ты сам понимаешь, имеет чисто научный интерес, не более того. Такие, как ты и я, могут сидеть над ним и заниматься исследованиями в течение долгих лет, но нельзя забывать, что этот список был сделан с того, что к моменту его появления уже существовало тысячу лет. Кроме ученых, «Свитки Тингведлира» больше ни для кого не представляют интереса. Тем более непонятно, почему Снорри спрятал эту копию в пещере Тингведлира.
— Вопрос состоит в том, что это был за оригинал, положенный в основу этих свитков?
— А вот этого-то мы никогда не узнаем.
Я рассказываю ему о визите к Адельхейд. Мы несколько минут заняты обсуждением священной геометрии. Наши аргументы возвращают нас к египтологии и мифологии. Эта связь увеличивает сумятицу. Какое отношение Египет имеет к истории норвежских викингов и к Снорри? Думая о Египте, я представляю себе Клеопатру в тени пирамид. Но когда Клеопатра вошла в мировую историю со своими соблазнительными глазами, пирамидам в Гизе было уже 2500 лет, а Египет как великая держава находился на последнем издыхании. Создание Египетского государства состоялось на 5000 лет раньше. В течение трех тысяч лет Египтом правили фараоны, чьи имена давно забыты, и те могущественные цари, чьи имена до сих пор у всех на устах: Вазнер, Ири-Хор, Ква-а, Хотепсехемви, Хаба, Хеопс, Ментухотеп, Хамосе, Аменхотеп, Тутмос, Хатшепсут, Рамзес, Сети, Ксеркс… Вожди и полубоги своего времени. Но Древний Египет фараонов исчез незадолго до рождения Христа. Приемный сын Юлия Цезаря Октавиан вторгся в Египет в 30 году до Рождества Христова. Клеопатра покончила жизнь самоубийством. В том же году последний египетский фараон, семнадцатилетний сын Клеопатры Цезарион, был казнен. С этого момента страной управляли иностранцы. В середине VII века в Египет вторглись арабы-мусульмане, вытеснившие отсюда византийцев и персов. В эпоху викингов Египет был исламским халифатом.
9
Все последующие дни я тщательно штудирую текст Снорри в поисках кода или хотя бы намека на то, о чем говорила Адельхейд. Но ничего не нахожу.
Меня лишили моего телохранителя, официально по причине «экономии ресурсов» и «оценки степени опасности», но, скорее всего, только для того, чтобы этот бедняга не помер от скуки.
Утром я покидаю квартиру Терье и отправляюсь в свой временный кабинет через подвальные помещения, неиспользуемые лестничные клетки и коридоры на чужих этажах.
Я слышу в своем телефоне какое-то потрескивание, мне приходят загадочные сообщения, и я внушаю себе, что это устанавливаются шпионские программы, которые будут фиксировать мое местоположение, а также все, что я ввожу в компьютер, и все, что я ем на завтрак.
Я безуспешно пытаюсь забыть о своих преследователях и сосредоточиться на работе.
Терье и Адельхейд помогли мне понять, что надо искать. И каким именно образом делать это. Остальное — терпение и полет фантазии.
Большую часть времени я трачу на соединение букв в разных комбинациях и чтение текста вертикально, горизонтально, по диагонали и справа налево.
Я абсолютно уверен: решение прячется где-то здесь, среди мириадов букв и значков.
10
Решение приходит ко мне рано утром в понедельник.
Капли дождя стекают по окну моего кабинета, образуя сетку. Кажется, что в голове у меня промокшая под этим дождем вата.
Именно в этом состоянии расслабленности я делаю открытие.
Больше всего меня раздражает — и по виду, и по содержанию — часть теста Снорри рядом с греческими буквами альфа и омега, которые он написал очень крупно красными чернилами. Между этими буквами помещено весьма туманное высказывание о жизни и смерти. И поскольку эта часть раздражает меня больше всего, я трачу на этот фрагмент больше всего времени. Греческие буквы
Α и
Ω начинают и завершают кусок хорошо читаемого, но по смыслу совершенно бессодержательного текста. Альфа и омега обозначают начало и конец. Если буквы
Α и
Ω говорят о начале и конце сообщения, я должен сосредоточить свои поиски на этой ограниченной площади текста. Здесь сотни знаков, но некоторые начертаны немного толще других.
Я смотрю на первые и на последние буквы в тех строчках, которые расположены между альфой и омегой. И вдруг прочитываю под знаком
Α в левых крайних буквах, а над знаком
Ω — в правых крайних буквах два географических названия и еще одно слово.
Если перейти с древнескандинавского языка на современный норвежский, то первая часть ребуса выглядит следующим образом:
 Под
Под знаком
Α крайние левые буквы каждой строчки образуют слово DØSO — ДЁСО и следующее за ним слово KORS — КРЕСТ.
Точно так же я прочитываю название RØYKENES — РЁЙКЕНЕС, составленное из последних букв каждой строчки
над знаком Ω.
В энциклопедии я тут же нахожу, что Дёсо — населенный пункт рядом с городком Ос в Хордаланне, в трех милях к югу от Бергена. Название произошло от слова
dys — могильник, связанного, в свою очередь, с древними каменными курганами-могильниками, которым вот уже полторы тысячи лет. Они до сих пор сохранились в этих местах. Я нахожу карту. Рёйкенес — название места, где кончалась монашеская дорога в нескольких километрах от Дёсо.
Монашеская дорога?
Напряженно смотрю на карту.
Ставлю точку на Дёсо, другую — на Рёйкенесе и провожу вертикальную черту.
Крест.
Неужели Снорри хочет сказать, что теперь, используя получившуюся линию, надо дорисовать крест?
Я провожу горизонтальную линию креста. Правый конец оказывается в лесу.
Левый попадает… в монастырь Люсе!

Этот старинный монастырь цистерцианцев, о котором ходит много легенд, прекратил свое существование в 1536 году. Но существующий до сих пор парк с руинами монастыря пользуется популярностью у туристов. А когда-то монахи в тишине и трудах наслаждались здесь чистейшей ключевой водой.
Монастырь Люсе…
Ну конечно!
Вдохновленный открытием, я продолжаю разбираться в лабиринте знаков. Теперь работа идет быстрее. Некоторые буквы написаны жирнее других, и это выделение упрощает обнаружение новых слов, спрятанных среди других слов и предложений. Так, например, в строке, если ее передать на современном норвежском языке:
Konge, vi vil døfor deg, Valhalls norner spinner
Король, мы умрем за тебя, норны Валгаллы прядут пряди
выделяется слово
kildevann — ключевая вода:
Konge, vI viL Døfor dEg, ValhAlls Norner spiNner
Между R и S в двух вертикальных рядах нахожу строчку, где я, если читать справа налево, усматриваю слово
sinister. Sinister — на латинском языке
левый. Между S и К обнаруживаю слова
Salmons segl — Соломонова печать (то есть пентаграмма) и
obelisk — обелиск. Выше читаю, только справа налево:
est meter nord — восток встречается с севером. Но вот что самое потрясающее. В двух местах есть имя
Olav den Hellige — Олаф Святой, в оригинале на древнескандинавском языке
Oláfr hinn helgi.
В современном норвежском варианте диаграмма выглядит так:

Я смотрю на мелькающие буквы и слова. Конечно, я могу предположить, что Снорри здесь всего лишь развлекался. Но ведь можно также — чисто теоретически — предположить, что я нашел указание на местонахождение утраченной могилы Олафа Святого.
Многие думают, что Олаф Святой — вождь викингов, который провел христианизацию Норвегии и погиб во время битвы под Стиклестадом в 1030 году, — похоронен в Нидаросском соборе в Тронхейме.
Но это не так.
После битвы под Стиклестадом, где Олаф был пронзен мечом, крестьянин Торгильс со своим сыном Гримом бродили по полю брани в поисках тела короля. Перед битвой они дали обет Олафу позаботиться о нем, если тот погибнет. Найдя тело, они обернули его в льняную ткань и положили в гроб, который спрятали под деревянный настил лодки. На лодке они поплыли до Нидароса — этот город сегодня называется Тронхейм, — затем вверх по реке и выгрузили гроб с телом в сарае. Простой деревянный гроб они захоронили на песчаном берегу реки Нид-Эльв, напротив торгового местечка. В последующие месяцы местные жители стали свидетелями невероятных событий, чудес и знамений. Епископ Гримшель по вызову приехал в Нидарос из округа Мьёс. Спустя год и пять дней после битвы под Стиклестадом крестьянин Торгильс показал, где он похоронил короля. В присутствии епископа и членов Государственного совета гроб был вырыт и вскрыт.
У короля Олафа был вид спящего человека. Ногти, волосы и борода у него выросли, а на щеках играл легкий румянец. Из гроба, если верить Снорри, исходило благоухание. Тело было выставлено в церкви Святого Климентия. А затем его положили в новый гроб, обитый дорогими тканями, который получил наименование «рака Олафа». Позже дополнительно изготовили еще два саркофага. Один был отделан золотом, серебром и драгоценными камнями. Саркофаг длиной в два метра и шириной и высотой в восемьдесят сантиметров венчала крышка, оформленная в виде крыши дома с коньком и портиком, закреплявшаяся на саркофаге при помощи защелок. Внутри него находилась рака Олафа. Со временем появился третий саркофаг, использовавшийся как футляр для двух других.
Однако теперь никто не знает, где находится рака Олафа.
Некоторые полагают, что рака или то, что от нее осталось, находится под Нидаросским собором. Другие высказывают мнение, что она замурована в стене замка Стейнвиксхольм, поблизости от Тронхейма. Историки считают, что раку разбили, когда архиепископ Олаф Энгельбректссон в 1537 году
[30] передал ее в замок Стейнвиксхольм. Тогда все ценное было изъято и отправлено в Копенгаген на переплавку.
В сентябре 1540 года казначей датского короля Йокум Бек сделал запись о приеме 95 килограммов серебра, 70 украшений из горного хрусталя в серебряной оправе и 11 драгоценных камней, которые остались после того, как рака была разбита.
Рака Олафа ушла из истории и появилась в легендах.
11
Прежде чем выйти из кабинета, я звоню Рагнхиль в полицию, чтобы сообщить ей, что на несколько дней уеду из города.
— Куда? — спрашивает она.
— Нас наверняка подслушивают.
— Полиция должна знать, где ты находишься, Бьорн.
— Хассан хочет этого же.
— Пришли мне сообщение.
— Посмотрим.
— Не делай глупостей.
Обещаю, скрестив пальцы.
Если я действительно найду могилу около монастыря Люсе, то не буду посвящать в это ни Управление по охране памятников, ни университет, ни полицию. Теоретически то, что я собираюсь совершить, называется преступлением. Закон об охране памятников прошлого содержит много параграфов. Но у меня нет ни терпения, ни времени, чтобы соблюдать правила игры, которые выдумали бюрократы.
— Есть что-нибудь новенькое? — спрашиваю я.
— Хассан и его люди прибыли в Осло на следующий день после тебя. Из Исландии. Конечно, с фальшивыми паспортами. В центр из аэропорта ехали на поезде. Дальше все следы обрываются. Ни в одной гостинице их нет.
— Но кто же был в моей квартире, если они приехали
после меня?
— Видимо, здесь, в Осло, у них есть помощники.
— Они снимают квартиру?
— Получается, что так. Возможно, у своих друзей из Саудовской Аравии или Ирака.
— Вы их проверили?
— В Норвегии, Бьорн, живет около двадцати тысяч иракцев и примерно сотня выходцев из Саудовской Аравии.
Мобильный телефон я оставил в кабинете. Ведь аппаратура, позволяющая отслеживать местонахождение мобильника, может быть и у Хассана.
ГРОБНИЦА
1
В холодном отблеске вечерних солнечных лучей руины монастыря выглядят так, как будто время законсервировало их.
Необыкновенной красоты крытая галерея с двойными колоннами отбрасывает длинную тень. Сверху на галерее и на остатках разрушенных стен и фасадов толстый слой травы и мха.
— Красиво, правда? — спрашивает Эйвин Скогстад.
— Жемчужина! — соглашаюсь я.
Эйвин стоит, сложив руки на груди, и смотрит на руины, как строитель, впервые в жизни заложивший камень собственного дома. Это начинающий исследователь в Бергенском музее, в отделе истории культуры. Я познакомился с ним на конгрессе по церковному искусству и иконографии в 2003 году. Эйвин вырос в Осе и в детстве каждый год проводил лето у бабушки с дедушкой, живших неподалеку от монастыря Люсе. Он как-то сказал мне, что именно эти руины пробудили в нем интерес к истории и археологии. Когда я позвонил ему с вокзала и сказал, что я в Бергене и прошу его поехать со мной в монастырь Люсе, для него это было все равно как если бы десятилетнему мальчишке предложили бесплатно покататься на всех аттракционах в парке развлечений.
— С монастыр-рем Люсе связано невер-роятно много всякого р-рода р-ребусов, — говорит он, раскатывая каждый звук «р». У Эйвина страсть к торжественному стилю речи.
Стоя против солнца, он моргает ресницами и ждет моей реакции. Я обещал рассказать ему, зачем приехал. Но время еще не пришло.
Нас окружает мрачный еловый лес.
— Расскажи мне о монастыре, — прошу я. Это вежливая просьба начать ту лекцию, которая все равно прозвучит, независимо от того, попрошу я или не попрошу.
— С удовольствием! — Он принимает позу гида, окруженного любознательными туристами. — По распоряжению Сигурда, епископа Сельянского, монастырь Люсе был создан в 1146 году монахами, прибывшими из монастыря Фаунтен в Англии, и освящен в честь Девы Марии, — громко произносит он и поправляет свои запотевшие круглые очки.
— Почему здесь, в дремучем лесу?
— Да оглянись ты, человек! Орден цистерцианцев боготворил покой, созерцание, тишину. Стремился к эстетическому, методическому и практическому. Они хотели возделывать землю, и им нужна была ключевая вода. Здесь идеальное место.
— Ты что-то сказал о ребусах?
— Бьорн, что ты знаешь тамплиерах?
— Довольно много, — вынужден признаться я.
Мы — те, кто увлечен тамплиерами и тому подобными делами, — настоящие маньяки и имеем только одну врожденную страсть.
— Орден тамплиеров в Средневековье был христианским военным орденом, его создали крестоносцы в 1119 году для защиты европейцев-пилигримов, направлявшихся в Иерусалим. Властитель Иерусалима разрешил этому ордену устроить резиденцию на Храмовой горе в Иерусалиме, напротив руин храма Соломона.
— Тамплиеры заложили основы банковского дела. Орден стал в конце концов таким богатым и могущественным, что французский король зверски уничтожил всех его членов.
— В пятницу тринадцатого.
— В 1307 году, — сказал я только для того, чтобы показать, что я тоже что-то знаю. — Говорят, что члены ордена охраняли что-то имеющее историческое значение. Возможно, тело Христово. Священный Грааль. Части Библии…
— Одним словом — знание. А известно ли тебе, что связи между тамплиерами и цистерцианцами довольно многообразны.
— Например?
— Они побратимы. Основаны примерно в одно время. Но есть между ними и более тесная связь. Речь идет о Бернаре Клервоском.
— Бернаре Клерво? Святом Бернаре? Французском аббате?
— На Пасху 1146 года — в том же году был основан монастырь Люсе — Бернар Клервоский дал сигнал к началу Второго крестового похода. Святой Бернар остается одним из самых известных церковных авторитетов. «Голос совести» — так его называли. Он был, по-видимому, главным при создании ордена цистерцианцев. Если бы не он, вряд ли мы сейчас любовались бы руинами этого монастыря.
— А что за связь между орденами?
— Бернар был племянником одного из основателей ордена тамплиеров и сам стал его высоким опекуном и церковным покровителем. Благодаря Бернару Клервоскому орден тамплиеров был официально признан Церковью на экуменическом соборе в Труа в 1128 году. Именно это признание привело к росту финансового благополучия ордена тамплиеров и поддержке его зажиточными семействами всей Европы. В 1139 году орден был подчинен лично самому папе римскому, о чем говорится в булле папы Иннокентия II
OmneDatum Optimum.[31] Священники, возмутившиеся тем, что христиане должны сражаться за веру с мечом в руках, были поставлены на место защитительным памфлетом святого Бернара
De Laude Novae Militae,[32] в котором он отстаивал свой парадокс «убивать во имя Иисуса». Бернар Клервоский сформулировал также правила поведения членов ордена тамплиеров.
История переполнена необъяснимыми совпадениями и перекличками. Почему монастырь Люсе был основан здесь, на самом краю цивилизации, монашеским орденом, имевшим связи с тамплиерами? И является ли таким же «случайным» событием передача монастыря Вэрне в Эстфолле, осуществленная по приказу короля Сверре в 1190 году, ордену иоаннитов, который мы также знаем под именем Мальтийского или ордена госпитальеров?
Я смотрю на руины монастыря. Морской ветер качает еловые ветки.
Неужели король Олаф захоронен где-то здесь, в монастыре Люсе, благодаря тому что верные ему норвежцы с помощью цистерцианцев и тамплиеров спасли земные останки короля, осуществившего христианизацию страны? Неужели подлинную раку Олафа перенесли из собора в Нидаросе еще до перестройки собора в середине XII века? И значит, датчане уничтожили всего лишь копию раки Олафа в XVI веке?
Мой взгляд скользит поверх руин. На дереве сидит молчаливый ястреб, его крылья колышутся от дуновений ветра.
2
В тот вечер, посвятив Эйвина во все, что мне было известно о «Кодексе Снорри» и следах, которые привели меня к монастырю Люсе, я рассказываю ему и о моих преследователях. Единственное, о чем он меня спрашивает, — это на кого, по моему мнению, они работают.
Он пригласил меня пожить с ним в пустой квартире в цокольном этаже дома, где он провел свое детство; от дома до монастыря можно доехать на велосипеде. Мы засиделись допоздна, изучая текст Снорри и книги о монастыре, которые Эйвин взял с собой.
— В тексте говорится о печати Соломона, — говорю я и разворачиваю карту, — то есть о пентаграмме.
— Тут очень трудно найти что-то похожее на пентаграмму, Бьорн.
— Путеводной звездой может оказаться слово «обелиск», которое в тексте так или иначе связано с печатью Соломона.
Эйвин с изумлением смотрит на меня:
— В этой местности есть целых два могильных камня. Два обелиска, смысл которых историки так и не смогли понять.
Он показывает на карте точку в нескольких сотнях метров к юго-западу от монастыря Люсе и другую, к северо-востоку от него.
— Если это две точки пентаграммы, — я рисую круг, проходящий через обе точки, — то надо найти еще три обелиска примерно
здесь, — я отмечаю примерное место, —
здесь и
здесь.
На следующее утро мы встаем с первыми лучами солнца и едем к автостоянке около монастыря. Эйвин одолжил мне резиновые сапоги, и теперь мы оба шлепаем нехожеными тропами по лугам, лесам и пригоркам.
Через полчаса мы находим первый могильный камень, наполовину закрытый кустарником на краю редкого лесочка. Полуметровый обелиск грубо обработан.
— Историки-краеведы никогда не связывали существование этих камней с монастырем, — говорит Эйвин.
Мы двигаемся дальше по лесу, поднимаемся на пригорок, переходим через ручей. Сапоги хлюпают по болотистой почве. Приближаясь к месту, где должен быть второй могильный камень, мы сбавляем темп и на несколько метров отходим друг от друга. Шаг за шагом мы прощупываем почву. Судя по всему, мы пропустили обелиск. Мы разворачиваемся, отходим друг от друга еще дальше и продолжаем поиск.
Я обнаруживаю камень совершенно случайно. Мне приходится снять сильно запотевшие очки. И пока я вытираю их полой куртки, глаза видят неясные очертания обелиска. Я громко кричу и надеваю очки. Обелиск исчез. Я растерянно осматриваюсь по сторонам. Вижу стволы деревьев, кустарник, поросшую мхом скалу и ветки на земле. Снимаю очки и в сером тумане опять вижу какие-то очертания. Надев снова очки, я смотрю в ту же точку и вижу могильный камень. С изумлением констатирую, что обелиск составляет единое целое со скалой. Некие каменотесы удовлетворились тем, что обработали часть существующей скалы.
* * *
В течение дня мы находим все пять обелисков, расположенных в форме пентаграммы вокруг монастыря Люсе.
На следующие два обелиска мы, можно сказать, натыкаемся, но потом битых три часа ищем последний. Эйвин тщательно фиксирует на карте местности каждый камень.
Затем мы едем на нашу временную научную базу в цокольном этаже дома бабушки и дедушки Эйвина и жарим свежую рыбу, которую купили в Осе.
Итак, у нас есть могильные камни, пентаграмма, но нет гробницы.
После обеда мы с Эйвином сидим, держа в руках по бутылке холодного пива.

Одной из подсказок в замысловатом кроссворде Снорри было выражение: «Восток встречает север». Мне приходит в голову, что это, возможно, описание того, где встречаются идущие на восток и на север линии пентаграммы. Но только указание это весьма расплывчатое, потому что местом встречи востока и севера может быть несколько точек. Поэтому нам придется пройтись по всем линиям пентаграммы и посмотреть, не прояснится ли что-нибудь на местности.
3
На следующий день едва мы начали двигаться по первой из пяти линий, оси А — Е, как я обнаруживаю полуразвалившуюся каменную постройку.
На опушке леса, на небольшом расстоянии от нас, где линия А — В пересекает линию D — С во внутреннем пятиугольнике пентаграммы, видны остатки какого-то сарая, частично закрытые елями и кустарником.
— Ничего интересного, — заявляет Эйвин.
— Странное место для хозяйственной постройки, слишком удаленное.
— Брось, сарай и сарай, видимо, для хранения сельхозинвентаря. Правда, директор Центра охраны памятников культуры говорил, что раньше это вроде бы была надстройка над колодцем.
— Колодцем?
Я хватаю Эйвина и тащу его за собой.
— Парень, да что с тобой? Успокойся! Орден цистерцианцев сходил с ума по свежей воде.
Мы перешагиваем через корни и валуны.
— Главный колодец был в монастыре, а это всего лишь запасной колодец на случай, если в главном иссякнет вода. Однако, если верить сохранившейся информации, этот колодец пересох задолго до главного.
— Его никогда не изучали? — спрашиваю я.
— Изучали?! — Эйвин пожимает плечами. — Изучали монастырь! Первые раскопки были в 1822 году, но, конечно, во дворе монастыря, а не здесь. С тех пор раскопки происходили много раз. Но я не знаю, рассматривалась ли эта каменная надстройка над колодцем как часть развалин монастыря. Надстройка над колодцем была, конечно, осмотрена во время раскопок в монастыре в 1888 году. Но повторяю, колодец находится слишком далеко от самого монастыря.
Я улыбаюсь, уверенно и самодовольно.
— Бьорн, ну посмотри же ты вокруг! Ты видишь где-нибудь могилу?
Я смотрю вокруг. И не вижу ни одной могилы. Но я умный.
— Что? — шепчет он, когда больше не может выносить моего пристального взгляда.
— Эйвин, что мы ищем?
— Могилу. Могильный курган. Нечто очень большое, что может вместить гроб с телом Олафа Святого. А раз он был королем Норвегии, да к тому еще и святым, когда его привезли сюда и захоронили спустя сто лет после смерти, то мы ищем очень внушительный могильный курган. А это, — он показывает на остатки надстройки над колодцем, — всего лишь куча камней!
— Это колодец!
— Вот именно. Сотни лет тому назад… — Тут по его лицу я вижу, что он наконец сообразил. — Колодец… — повторяет он и смотрит на меня.
4
Цифровым фотоаппаратом я делаю серию снимков, чтобы увековечить обнаруженный нами колодец.
Из машины мы приносим рабочие рукавицы и начинаем разбирать камни. Мы трудимся очень осторожно, но все равно я трепещу оттого, что мы можем повредить древний памятник.
Бьорн Белтэ — вандал от культуры!
Если следовать канонам, мы должны были бы ходатайствовать о разрешении, и,
возможно, нам позволили бы вскрыть колодец. Через год или два. Ни закон о сохранении памятников культуры, ни блюстители его на местах не особенно настроены спешить с разрешениями, когда речь идет об охотниках за кладами. Мои коллеги осудят меня, и будут правы.
В середине работы я останавливаюсь и говорю Эйвину:
— Когда все закончится, я возьму на себя ответственность за содеянное. Тебя тут не было. Ты мне не помогал. Ты ничего об этом не знал.
Эйвин опускает глаза. Конечно же, он хочет разделить со мной честь и славу открытия. Но он знает, что рискует карьерой.
А мне на карьеру наплевать.
К счастью, не очень холодно и не очень сыро. Немногочисленные туристы быстро пробегают по парку с руинами, и нам никто не мешает весь день. К моменту, когда наступила темнота, мы уже подняли и переместили несколько тонн поросших мхом камней и дошли до твердой поверхности из спрессованных мелких камешков.
5
Мы возвращаемся сюда еще до рассвета. У нас на головах шахтерские фонари, которые мы выключаем, как только первая полоса света появляется среди верхушек деревьев на востоке.
При помощи лома, кувалды и молотков мы освобождаем один камень за другим. Потребовалось пройти три слоя камней, прежде чем мы доходим до сгнивших деревянных столбов, которые явно служили опалубкой.
К середине дня мы наконец разбираем достаточно широкий проход.
Чтобы избежать несчастного случая — нас может завалить камнями на дне колодца, — Эйвин остается ждать меня наверху, а я обматываюсь канатом и спускаюсь вниз. Шахтерский фонарь на голове освещает круглую каменную стенку колодца, покрытую зеленой плесенью. Камни большие, хорошо обработанные. Если считать, что это всего лишь запасной колодец, то монахи и строители монастыря проделали поразительную работу.
При глубине в пять-шесть метров диаметр колодца около метра. Резиновые сапоги тонут в слое ила. Я кричу Эйвину, что благополучно добрался до цели. Затем начинаю осматривать мокрые позеленевшие и покрытые мхом стены.
Ничего.
Конечно, я не ожидал увидеть тут же, на дне колодца, могильный склеп. Но надеялся увидеть хоть
что-нибудь.
Рукавицей начинаю счищать мох со стены колодца. Спустя некоторое время обнаруживаю, что один из камней светлее других. Мрамор? Стеатит?
Я свечу на него своим фонарем. На камне много царапин и каких-то меток. Я наклоняюсь к нему.
Сначала трудно разглядеть, что собой представляют эти метки. Я продолжаю очищать поверхность камня. Вот теперь я вижу.
Наверху на камне выбиты или вырезаны три знака.
Анх, тюр и
крест.
Эйвин спускает мне пластиковую бутылку воды. Дрожащими руками я мою камень. Но других знаков не видно. Я фотографирую три знака и прошу Эйвина поднять меня наверх.
В квартиру на цокольном этаже мы возвращаемся возбужденные. И долго обсуждаем, что будем делать. Нет сомнений, что колодец скрывает вход в погребальную камеру. Сообщить начальству? Заявить в Управление по охране памятников?
Отвечать надо, само собой разумеется, только «да».
Но только не сейчас.
Мы знаем, что потеряем всякую возможность контролировать события, если привлечем других. Раскопки будут продолжаться всю зиму, всю весну. У меня нет времени ждать.
6
Вечером мы ставим долгоиграющую виниловую пластинку с «Supertramp»
[33] и обсуждаем вероятную связь между викингами и Египтом.
— Хотя нет документов, не исключено, что викинги поднимались вверх по Нилу, — говорит Эйвин. — Викинги имели огромный опыт передвижения по рекам. Тысячи викингов путешествовали на запад, но еще больше — на восток. Они плавали под парусами, гребли и волокли волоком свои корабли по России, преодолевая по нескольку тысяч километров, вплоть до Черного и Каспийского морей.
— Но были ли они в Египте?
— Викинги
совершали набеги по всему Средиземноморью, в том числе бывали в Северной Африке. Так почему же они стали бы делать исключение для Египта?
У него есть доказательства. Сигурд Объехавший Мир получил свое прозвище, потому что участвовал в Крестовых походах и дошел до Миклагарда (так викинги называли Константинополь) и Иерусалима. А еще есть история о Харальде Суровом, сводном брате Олафа Святого. Ему было пятнадцать лет, когда он принял участие в битве при Стиклестаде, остался жив и бежал на юг, в Византию. Здесь он стал военачальником в гвардии византийского императора, был в любовной связи с женой императора и участвовал во многих сражениях, в частности в Северной Африке. По словам Снорри, он участвовал в захвате восьмидесяти африканских городов. Снорри пишет, что Харальд был в Африке много лет и завоевал много имущества, золота и драгоценностей. Его суда были доверху набиты золотом и драгоценностями, когда они возвращались домой.
— Уже в IX веке викинги доплывали до таких отдаленных мест, как Средиземное море и Африка, — говорит Эйвин. — Об этих походах рассказывают саги и арабские хроники.
— Но там ничего не говорится о Египте!
— Какой же ты зануда! Викинги были воинами, которые никого не боялись! Почему они должны были бояться плыть по Нилу? В 844 году экспедиция из военных судов с несколькими тысячами человек дошла до Северной Испании, поплыла вдоль берегов Португалии и напала на Лиссабон, испанский Кадис и ряд городов вдоль берегов рек в Южной Испании. Они доплыли по реке Гвадалквивир вплоть до Севильи. Это был опасный и смелый маневр! Они грабили город целую неделю. Убивали и насиловали, жгли и грабили, разрушили большую городскую стену и сожгли мечети.
Мусульманскому эмиру Абд аль-Рахману пришлось послать свои лучшие войска из Кордовы, чтобы мавры могли восстановить контроль. Викинги бежали на юг и напали на Северо-Африканский халифат, а потом поплыли домой с награбленным добром. Спустя пятнадцать лет туда вернулся флот еще больших размеров. Набег продолжался три года, и во главе, судя по описаниям, стояли вожди викингов — Хостейн и Бьорн Железный Бок. Тысячи викингов более чем на шестидесяти больших кораблях разграбили все в долине Роны, в Галисии, Португалии, Андалузии и Северной Африке. Они поплыли на север вдоль восточного берега Испании, побывали на Майорке и по реке Эбро поднялись до Памплоны в Стране Басков. Взгляни на карту! Река Эбро извивается вот здесь, в сотне километров от восточного берега Испании, вплоть до Памплоны. Там они похитили короля Гарсия Иньигуеса. Когда они плыли домой, у них было 70 000 золотых монет. Потом они поплыли на северо-восток вдоль берегов Испании и Франции к Провансу и затем в Италию, где напали на Пизу. Потом они ограбили город Луна, причем они думали, что это Рим. Добыча была огромная. Вожди викингов были очень довольны. Эти богатства послужили стимулом для потомков повторить подвиг. По прошествии ста лет они тоже отправились в поход. Флот из сотни больших кораблей с восьмью тысячами человек на борту разграбил Галисию и Леон на территории христианской Северной Испании, бушевал в Сантьяго-де-Компостела и Катоире. Ну так как, Бьорн, ты все еще думаешь, что такие воины испугались бы плавания по Нилу?
7
Перед тем как лечь, я звоню Трайну в Исландию. Он говорит, что пытался связаться со мной.
Три неустановленных лица вошли в главный зал Института Аурни Магнуссона и набросились на четырех студентов-археологов, которые работали там для камуфляжа. Все четверо были избиты и прикованы к радиаторам отопления. Негодяи унесли с собой копию «Круга земного», сделанную в XVIII веке.
По-видимому, они думали, что это «Свитки Тингведлира».
— Трайн, Рейкьявик перестал быть надежным местом.
— Я тоже так считаю.
— Рано или поздно они определят, куда ты запрятал свитки.
Он тяжело дышит.
— Мне надо позвонить, — говорю я.
— Кому?
— Я знаю человека, который нам поможет.
8
На следующее утро мы возвращаемся к колодцу с новым снаряжением: большим количеством толстых канатов, дрелью и тремя батарейками к ней, зубилами, ломами, карманными фонарями и рабочими комбинезонами.
Мы закрепляем два каната на большом дереве и спускаемся вдвоем. Каменная кладка кажется прочной как скала. Но при помощи дрели и зубил мы отделяем белый камень с тремя символами. За ним обнаруживается еще одна каменная кладка. Теперь, когда мы освободили один камень, нам легче выбивать камни под ним. Вскоре перед нами отверстие во внешней стене размером в один квадратный метр. Теперь можно приступить к работе на внутренней стене. Проходит больше часа, уже использованы два сверла и три батарейки, и наконец последний камень поддается. При помощи ломов мы сталкиваем его внутрь в какое-то пространство за шахтой колодца.
Отверстие проделано.
Поток терпкого сырого воздуха устремляется к нам из отверстия и шипит, словно появляется джинн из кувшина после тысячелетнего заточения.
— Теперь есть хоть какая-то вентиляция, — говорит Эйвин.
Я освещаю камеру. Пустое пространство с каменными стенами.
— Что-нибудь видишь? — спрашивает Эйвин.
— Ничего.
— Ну так приступим!
Нет нигде людей более напористых, чем в Бергене.
Я вползаю первым. Эйвин идет следом.
То, что я воспринимал как камеру, оказывается концом овального сводчатого туннеля, обложенного камнями, как и сам колодец. Диаметр туннеля примерно два метра, так что оба идем выпрямившись. Шаг за шагом мы продвигаемся вперед по воде и грязи. Воздух влажный. Лучи фонариков дрожат в темноте. Стены покрыты зеленой плесенью, по которой проползает иногда паук, когда на него падает дрожащий луч света.
Через пять минут мы попадаем во внутреннюю камеру, здесь расстояние до потолка и стен на два-три метра больше. От обрамленной камнями площадки налево вверх уходит гранитная лестница, но сам туннель идет дальше вперед.
— Это явно подъем к колодцу или тайному выходу, — говорит Эйвин.
Мы решаем пройти по туннелю до конца, прежде чем поднимемся по лестнице.
Туннель кончается мощной каменной стеной.
— Мы сейчас, вероятно, под монастырем Люсе, — говорит Эйвин. — Может быть, этот ход был секретным путем на случай бегства?
Все наше снаряжение осталось в колодце, поэтому мы даже не пытаемся вскрыть стену и идем к лестнице.
Это место примерно в середине туннеля. В таком случае оно находится в точке, где пересекаются линии
внутренней пентаграммы, в то время как колодец в пересечении
внешней.
Мы поднимаемся по лестнице. Наверху стена. Опять. Какую-то странную роль играют эти стены в моей жизни.
Лестница привела нас на узкую площадку, в помещение, которое кончается солидной конструкцией из больших, хорошо обтесанных камней, соединенных с поразительной точностью. Пять штук в ширину, десять в высоту.
В свете наших головных фонарей мы видим один ряд египетских иероглифов и два ряда рун. А над ними
анх, тюр и
крест.
Мы бежим к колодцу, берем ломы и возвращаемся на площадку.
Чтобы не повредить красивый орнамент, украшения и текст, мы начинаем работу внизу справа. Сначала работаем зубилом. Камень пористый. Когда зубило проходит насквозь в пустое пространство, мы молотком выбиваем первый камень. Удалив два камня по высоте и два по ширине, получаем отверстие, через которое можно пробраться внутрь.
9
Потеряв дар речи, в благоговении я стою и смотрю.
Гробница имеет пять стен и свод, опирающийся на пять каменных колонн. В центре стоит возвышение высотой в полтора метра.
На возвышении покоится каменный саркофаг.
Гробница! Я едва в состоянии понять это сам. Мы нашли гробницу!
— Невообразимо! — шепчу я в волнении Эйвину.
Мы с Эйвином стоим, прижавшись к стене у самого входа. Лучи света от наших фонарей прыгают взад и вперед в темноте гробницы.
Она имеет форму Пентагона — пятиугольника, который повторяет то, что получается при пересечении линий пентаграммы. Колонны размещены в пяти точках пересечения линий, идущих от углов.
Леденящий холод. Сюда проникает сырой болотный запах из туннеля. Стены, потолок и крыша удивительно сухи. Два-три камня упали на пол, но во всем остальном помещение выглядит в точности таким, каким его, очевидно, покинули восемьсот-девятьсот лет тому назад.
Медленно переступая, мы подходим к саркофагу в центре. Руническими знаками, высеченными на каменной крышке, написано:
HIR: HUILIR: SIRA: RUTOLFR

«Здесь покоится преподобный Рудольф», — перевожу я мысленно.
Ниже на крышке написано:
RUTOLFR: BISKUP

— Епископ Рудольф, — шепчу я, словно все еще хочу показать уважение к тишине и покою, которые сам же давно нарушил. — Один из епископов, которые сопровождали Олафа во время его возвращения из Англии в Норвегию перед христианизацией страны.
— Так это не Олаф Святой?
— Нет.
Открытие и великолепное зрелище слишком сильно действуют на меня, чтобы я мог почувствовать разочарование. Хотя мне хотелось бы, чтобы мы увидели на возвышении раку Олафа, а не каменный саркофаг.
Мы с Эйвином беремся каждый за свой край гроба и осторожно отодвигаем в сторону.
На скелете красная мантия епископа со сгнившим горностаевым воротником. Кости пальцев обхватили епископский жезл. Череп в продолговатой и острой епископской шапочке лежит боком внутри митры.
Епископ Рудольф…
Неожиданно для меня самого на глаза наворачиваются слезы.
— Бьорн? — Эйвин дергает меня за рукав.
Светом фонаря на голове он указывает мне на что-то слева от нас. Сначала я вижу только отблески света. Потом обнаруживаю четыре керамических кувшина.
— О боже! — говорит Эйвин.
Каждый кувшин наполнен драгоценностями и египетскими статуэтками из золота и алебастра. Кошки, амулеты, жуки-скарабеи, бог-шакал Анубис, сказочные животные, кобры… Лучи фонарей блестят на темно-красных драгоценных камнях. Эйвин хватает фигурку бога Хоруса с птичьей головой.
— Оставь ее, — говорю я. — Мы должны сохранить как можно больше вещей нетронутыми, чтобы наши коллеги смогли изучить их.
— И это говоришь
ты? — смеется он.
Пыль на стенах скрывает надписи, сделанные рунами и египетскими иероглифами. Надгробная надпись украшена орнаментом из скандинавских и древних египетских значков. Мы долго ходим по темному залу и рассматриваем надписи на стенах. Под пылью видны значки и рисунки.
Внизу на возвышении обнаруживается мраморная пластина, покрытая сотнями значков.
Руническая надпись.
С помощью ножа я вырываю камень из объятий пьедестала и счищаю пыль. Осторожно кладу на пол. По краям камня — драгоценные камни.
Сверху три символа.
—
Анх, тюр и
крест, — бормочет Эйвин.
Своим фонарем я освещаю знаки и перевожу с древненорвежского языка:
Благословен будет Олаф Святой наш добрый король.
Наконец-то текст, который можно прочитать.
— Вот уж это я возьму с собой!
По лучу света, который падает мне прямо в лицо, я понимаю, что Эйвин смотрит на меня.
— Мы обязаны доложить обо всем, что нашли, — говорит он наконец.
— Ясное дело. Но незачем говорить о камне с рунической надписью.
— Рано или поздно его пропажу обнаружат.
— Конечно, я его верну. Когда все выясню. А может быть, они подумают, что здесь когда-то побывали грабители.
— Так оно и есть.
ИНТЕРЛЮДИЯ
ИСТОРИЯ БАРДА (I)
Они топтали эти священные места своими нечистыми ногами, выкопали алтарь и разграбили все сокровища в святом храме. Некоторых жителей они убили, других, заковав в цепи, увели с собой.
Алькуин. О нападении викингов на монастырь Линдисфарне
Чужаки приплыли на рассвете, когда дыхание Амона-Ра окрасило небо розовым цветом. (…)
Я смотрел на чужеземные корабли, плывшие по реке, — длинные стройные корабли, с огромными парусами и головами хищных драконов на носу.
Асим, жрец египетского культа Амона-Ра
По ночам на своем жестком ложе в монастырской келье он часто вспоминал годы своей викингской юности, проведенные в походах вместе с королем Олафом. В полудреме он пытался получше закутаться в одеяло из грубого домотканого сукна, и воспоминания превращались в образы, запахи и звуки, заполнявшие холодный мрак кельи. Иногда, когда сон не приходил, он с трудом подходил к оконцу и прислушивался к дыханию океана и шуму прибоя, бившегося о шхеры. Вот так, дрожа от холода, почти ничего не видя, он стоял на сквозняке и думал о безвозвратно ушедших днях. Зрение было таким слабым, что ему даже не нужно было закрывать глаза, чтобы увидеть флот кораблей викингов, которые…
Отрывки из истории Барда[34]
…плыли по пенящимся верхушкам волн в сопровождении облака брызг. Вместе с королем Олафом я стоял на носу корабля «Морской орел» и издавал громкие крики навстречу ветру. Я стирал рукавом соленые капли с лица. Король со смехом повторял за мной крики. Водяные капли вокруг нас серебром сверкали под солнечными лучами. Корабль мелкими толчками, с шумом от удара волн о дубовый борт продвигался вперед. Огромный парус боевого корабля извивался под ударами свежего северо-западного ветра.
Королевский корабль «Морской орел» был прекрасен, на носу и на корме были вырезаны головы драконов. Мы называли его «дракаром», то есть кораблем с драконом. Ловкие руки норвежских мастеров вырезали злых драконов, жутких змеев и ужасных морских чудовищ для передней и задней части корабля. Мачта была высокой и стройной. Полосатый парус ловил ветер и гнал нас по водной поверхности вперед. За кораблями, словно драконы, привязанные веревочкой, стаями летали чайки и крачки и приятные на вкус морские птицы. Мы с Олафом отвернулись от ветра и посмотрели назад, на палубу. Люди на корабле большей частью дремали под горячими лучами солнца. Кое-кто играл в кости или в карты, кто-то рассказывал истории о своих подвигах в кровавых битвах. Судя по жестикуляции, парень по имени Горм рассказывал о стройной женщине, с которой он переспал. Гигант по имени Торд стоял у поручней и мочился в море. Наверху на мачте два парня ссорились из-за завязанного узла. Один из мореходов отмечал положение корабля на пергаментной карте. Потом он отметил точку на солнечном компасе с указателем в форме полумесяца. Олаф свистнул, сунув пальцы в рот, и показал кормчему, что надо немного повернуть на восток. Потом он кивнул Ране, дядьке, которого ему навязала мать, когда много лет тому назад мы впервые отправлялись в поход викингов. Олаф сунул руку в мою пышную шевелюру, подергал волосы и сказал:
— Я вижу, что тебе понравилось плавать в открытом море, Бард.
Я плюнул через поручни и ответил:
— А кому же не понравится, мой король?
Мы были ровесниками, Олаф и я. Мы называли его королем, хотя у него не было государства. В жилах короля-воина текла настоящая кровь викинга. Олаф Харальдссон принадлежал к королевскому роду. Харальд Прекрасноволосый был его прапрадедом, а отцом был Харальд Гренске, маленький князек из Вестфолла, обожатель женщин, которого заживо сожгла шведка Сигрид Сторроде, когда ей надоели его назойливые приставания. А в это время жена Харальда Гренске, Аста, вынашивала в чреве сына Олафа. Ее новый муж Сигурд Сюр был полной противоположностью Харальда: Харальд — викинг всегда и во всем, буйный любитель схваток, а Сигурд — миролюбивый, степенный и экономный земледелец, который предпочитал заниматься землей, скотом и ненавидел кровопролития. В юном Олафе больше было от отца. Мальчишкой он с презрением смотрел на отчима-земледельца и за спиной матери издевался над ним.
Обхватив рукой потертый штевень, я посмотрел сначала на запад, на мерцающую полоску горизонта, потом на дымку, которая скрывала берег на востоке. Я прислонился плечом к внутренней стороне изгиба и смотрел на чужую страну, которую называли Аль-Андалуз,
[35] ею управляли мусульмане. Насколько сильное сопротивление мы встретим? «Пусть они только появятся», — подумал я и дерзко рассмеялся. Я не боялся никого. С того самого момента, как мы отплыли из Норвегии, побывали в Дании и отправились далеко на восток, грабительский поход нашего флота викингов пользовался милостью богов. Нас никто не мог победить. В Швеции, на берегах и на островах Балтийского моря мы грабили и сражались длительное время. Потом мы снова направили наши паруса в сторону Дании, там мы присоединились к флоту датского вождя Торкеля Хойе, брата ярла Сигвальда, который готовился к большому походу. Два наших вождя, Олаф и Торкель, поплыли вместе вдоль берегов Ютландии и разбили там большой флот. Победы на Балтике, в Дании и потом в Нидерландах внушили нам чувство уверенности в себе. Вместе с Торкелем Хойе и его людьми мы поплыли по Каналу.
[36]
В Англии мы присоединились к большому войску датчан и осенью разбили лагерь около Лондона. Король Этельред перепугался. Он заплатил Олафу и Торкелю сорок восемь тысяч фунтов, чтобы избежать разграбления страны. Мы погрузили на наши корабли более чем одиннадцать миллионов серебряных монет! Настоящее богатство! За одну только такую монету можно было купить корову или раба. Затем Олаф и Торкель расстались. Торкель переметнулся и стал вассалом у короля Этельреда, а Олаф поплыл во Францию. В Нормандии правил герцог Ричард II, по прозвищу Добрый. Западная часть Нормандии была фактически норвежской. После десяти лет оккупации норвежский рыцарь Рольф Пешеход стал герцогом, за это викинги должны были защищать Нормандию от всех врагов и грабителей. Рольф Пешеход, которого французы звали Ролло, был сыном Рагнвальда, ярла Мёре, который остриг волосы у Харальда Прекрасноволосого, когда вся Норвегия была объединена в одно государство. Рольф Пешеход был прадедом герцога Ричарда, а сам Ричард дедом того человека, которого теперь называют Вильгельм Завоеватель, — это он завоевал корону Англии четыре зимы назад. Олаф вежливо отказался от приглашения Ричарда провести время в Руане, но пообещал вернуться к нему после похода. И мы отправились в южные страны. В Бретани мы соединились с войском ирландских викингов. Потом мы двинулись на юг, вдоль берегов Франции в сторону Галисии, по пути вступая в сражения. Мы захватывали богатства и рабов. В Тви получили четыре килограмма золота за обещание не грабить город. Мне стыдно признаться, но только обещания мы не сдержали. Наша страсть к золоту вела нас все дальше на юг. Без всякой жалости мы нападали на города, где рассчитывали найти добычу. Сейчас у нас мощный флот. Олаф отбыл из Норвегии с пятью боевыми кораблями. А затем мы собрали почти четыреста разных судов: больших кораблей, средних маневренных боевых кораблей, транспортных судов и юрких лодочек, на которых передавались сообщения с корабля на корабль. «Морской орел» имел экипаж свыше ста человек: гребцы, мореходы, разведчики, корабельных и парусных дел мастера и воины. В общей сложности армия Олафа состояла из двадцати тысяч бесстрашных викингов.
«Бард, — сказал король, — мне сегодня приснился странный сон». Снаружи под яркими лучами солнца крутился под дуновениями ветра золотой песок. Люди, спешившие по узким улочкам, стены которых были выбелены известью, закутывались в белые одежды, чтобы защититься от колючего южного ветра, дувшего из пустыни. Я исподтишка взглянул на моего повелителя. Олаф лежал, повернув голову и плечи к каменной стене, обе ноги на постели. А я сидел на скрипучем деревянном стуле и пил кислое вино из глиняной кружки, покрытой толстым слоем грязи. Солнце сияло через отверстие вверху на стене. Олаф сел на постели. «Может быть, со мной разговаривал бог», — сказал он. «Какой бог?» — спросил я. Сам я втайне поклонялся Одину и другим богам наших предков. Но во время нашего похода по Европе мы много слышали о других могущественных богах, в особенности много о том, кого называли Белый Христос. Он умел, как говорили, превращать воду в вино, а один хлеб — во много хлебов. Кроме того, он делал больных людей здоровыми и был способен ходить по воде, хотя не совсем понятно зачем. Но я не понимал этого Белого Христа. Он был бог или человек? Как мог его отец, который был богом, зачать в женщине ребенка, не возлежав с ней? Разве ребенок человека, рожденный от бога, не становится полубогом? Учение Белого Христа, как мне казалось, нужно только трусливым слабакам. Рассказывали, что он предлагал своим сторонникам подставить своему врагу другую щеку, вместо того чтобы снести ему голову. Трусливые разговоры для божьего сына. Самого Белого Христа распяли на кресте, он погиб смертью мученика где-то там, в стране иудеев. Допустим. Но ведь если он был богом, он легко мог бы справиться с римскими солдатами. Говорят, что он проснулся от смертельного сна через три дня. В свое время я видел много трупов на полях сражений. Хотел бы я увидеть покойника, который очнулся бы, побыв три дня на этой жаре.
Король по моему взгляду понял, что я забыл про то, что нас здесь двое, засмеялся и сказал: «Мне приснилось, что ко мне подошел человек, такой, на которого сразу обращаешь внимание, потом что у него был горящий взгляд. Он сказал, что мне надо вернуться домой и стать королем Норвегии на вечные времена». Король поднял голову и посмотрел на меня, чтобы увидеть, как я отнесся к таким перспективам. «А кто этот человек?» — спросил я. Мне не хотелось возвращаться домой. Я мечтал о плавании на восток, через пролив Норва,
[37] отделявший Европу от пустынных земель на юге, Великой Пустыни,
[38] потом по большому морю, может быть, даже до земли иудеев, где Христос жил тысячу лет назад. Король улыбнулся мне, как будто угадал то, о чем я думал, и сказал: «Я его не знаю, но я сказал ему правду: «Домой вернусь! И королем Норвегии стану! Но не сейчас!»»
Успокоившись, я поднял кружку с вином. «Бард, — сказал король, — сейчас я тебе доверюсь, я скажу, куда мы направляемся». — «В страну иудеев?» — спросил я. Он покачал головой. «Мы плывем в Огромную страну арапов, — сказал король, — в пустынную страну, которую называют Египет». — «О такой стране, — ответил я королю, — я никогда не слышал ни единого слова». Король ответил, что этой стране тысяча лет. Улицы в ней вымощены золотом и драгоценными камнями, ее берегут забытые боги, ее расчленили иноземные властители и племена, она разделена на две половины огромной рекой под названием Нил. «Зачем нам эта страна?» — спросил я. «Нам нужно взять там некое сокровище», — ответил король, усмехнувшись. «Сокровище?» — повторил я и почувствовал, как радостно забилось сердце. «Сокровище, — сказал король. — Оно спрятано в скалах позади одного храма, в гробнице за другой гробницей, а та за третьей гробницей». Я ничего не понял из сказанного. Король ответил, что самое главное, чтобы он сам понимал. «А откуда ты все это знаешь?» — спросил я. И король стал рассказывать.
Один из его предков, Хакон Добрый, сын Харальда Прекрасноволосого, воспитывался у короля Англии Адальстейна. У короля Адальстейна было много друзей. Из-за его связей с другими королевскими домами и знатными людьми Европы регулярно прибывали в больших количествах реликвии и манускрипты из Римской империи, в частности, был доставлен меч первого римского императора-христианина Константина Великого и копье Карла Великого. Среди присланного были вещи и манускрипты, оставшиеся от Марка Антония, от которого родила ребенка царица Египта Клеопатра после смерти Цезаря. Среди манускриптов был один текст на папирусе и карта. Они могли привести к гробнице, наполненной бесценными сокровищами, священными документами и одной вечной святыней.
Никто тогда при дворе не обратил внимания на эти египетские документы. Но Хакон Добрый был любопытен и с помощью умевших читать и писать монахов, живших при дворе короля Адальстейна, сделал копию и перевел текст на англосаксонский язык. По-прежнему никто не интересовался этим текстом. Один из монахов язвительно обронил: «Сокровищ такого рода полным-полно в «Тысяче и одной ночи»». Хакон Добрый все-таки взял с собой перевод, когда вернулся в Норвегию, чтобы вместе с епископом Глестонберийским ввести христианство в этой стране. Рассказывают, что Хакон говорил на англосаксонском языке как настоящий англичанин, но совершенно забыл родной норвежский язык, который ему теперь пришлось учить с самого начала. По неизвестным причинам Хакон потерял интерес к документам из Древнего Египта. Сделанная монахами копия вошла в состав собрания семейных драгоценностей Хакона. Королю Олафу было всего лишь восемь лет, когда его мать Аста показала ему англосаксонский пергамент с картой огромной реки, которая должна привести к сокровищнице. Я спросил короля: «А сейчас копия и карта при тебе?» Рассмеявшись, Олаф кивнул и сказал: «Я подумал, что пришло время выяснить, правда ли все это. Если кто-то в нашей семье с этим может справиться, так это я!»
В тот же вечер, проходя по одной из многочисленных улочек в районе порта в Карлсро,
[39] мы столкнулись с человеком, не похожим ни на кого из тех, кого мы видели в других местах света. Иссиня-черная кожа, небольшой рост, искусно уложенная прическа, и одежда, напоминавшая женскую. Арап. Этот человек и его свита отказались уступить дорогу Олафу, который после полуденного отдыха был усталым и разбитым. Охрана Олафа на месте расправилась со многими спутниками арапа, прежде чем они успели попросить о пощаде. Олаф выхватил меч, чтобы зарубить упрямца, но тот упал на колени и стал молить короля на каком-то неизвестном языке сохранить ему жизнь. Кто-то из охраны арапа перевел слова на латинский язык, а один из грамотеев в нашей свите перевел их на норвежский. Олаф помедлил, глаза его загорелись, когда он понял, что этот человек — египтянин. Король сказал: «Этот человек знает пустынную страну, он говорит на местном языке, он может нам помочь». Олаф сохранил арапу жизнь, но велел заковать его.
* * *
На следующий день мы поставили паруса и направили наши корабли к той стране, которую называют Египет. Арап был прикован к главной мачте. Много дней мы плыли на юго-восток. Добрый северный ветер привел нас в края, где на нас нахлынула жара.
* * *
Солнце полыхало. Горячий воздух был насыщен влагой. Большинство из нас сбросило одежду. Солнце обжигало плечи и спины. Все люди на палубе обратили взгляд в сторону земли. Прямо перед нами на островке возле города, который арап назвал Александрией, стоял маяк, такой огромный, что мы не поверили своим глазам. Башня маяка из белого камня — вероятно, это был мрамор — возносилась ввысь. Какой она была высоты? Я даже не пытаюсь угадать. И по сей день воспоминание об этом наполняет меня благоговением. Я попытался сосчитать окна на башне, но при каждом ударе волны о борт сбивался. Внизу на холме башня маяка была окружена низким четырехугольным укреплением. Подножие башни стояло в центре, а само укрепление было шире и длиннее, чем любой дом, какой я только видел в жизни. На самом верху огромной, вознесшейся до небес башни была еще одна, восьмиугольная башенка, а на ней еще одна, круглая и узкая. На самом верху блестело зеркало, которое собирало солнечные лучи. Даже Олаф, которого никогда ничего не удивляло, с изумлением смотрел на гигантское сооружение. «Почти как пирамида», — сказал он себе под нос.
* * *
Западный вход в дельту Нила был расположен чуть восточнее маяка. Поднялся ветер, и на волнах появились белые барашки. Птицы поменьше тут же улетели в сторону берега, но чайки и пеликаны с расправленными крыльями привольно парили, обратив голову навстречу ветру. «Морской орел» первым из всех вошел в дельту Нила. Тростник у берегов шумел под порывами ветра. Лодочки торговцев с гребцами или на парусах направлялись в нашу сторону, но, обнаружив множество огромных боевых кораблей, тут же ретировались.
Течение было сильнейшее. Среди тростника глаз мог различить каких-то чудовищ размером в восемь-девять аршин, которых можно было принять за драконов. Жуткая тишина, нарушаемая только криками птиц, кваканьем лягушек и стрекотом кузнечиков, господствовала над рекой и безлюдными берегами. На нас кто-то смотрел, но мы сами никого не видели. Когда мы на одном из следующих изгибов повернули, на нас напали, но этот крохотный отряд стрелял из плохоньких луков маленькими стрелами. Один из гребцов, по имени Арн, так рассердился на эту смешную атаку, что вскочил и стал последними словами поносить нападавших, грозя им кулаком. В тот же момент стрела пронзила его кулак и горло, и он рухнул на палубу. «Вот так тебя научили помалкивать», — сказал гребец, сидевший перед ним. Египтяне продолжали свои вялые атаки. Они выслали корабль, который толчками стал продвигаться вдоль наших бортов, но их неуклюжие, с глубокой осадкой, суда имели такое строение, что не могли причалить к нашим. Мы стояли наготове, вооруженные мечами, пиками и топорами. Воины с пиками в такт стучали по доскам палубы. Никто не осмеливался взять наши боевые корабли на абордаж. Олаф язвительно засмеялся. Но арап предостерег нас. «Эти булавочные уколы солдат с самоуверенными командирами — всего лишь нападение незначительных пограничных кордонов и таможенников, — так сказал он. — Настоящих воинов мы встретим позже».
Воины властителей Египта Фатимидов
[40] поджидали нас в бухте к северу от гарнизонов, расположенных рядом с городами-близнецами Фустат и Аль-Кахира,
[41] с мечетью Ибн-Тулун между ними. Почти молниеносно нас окружили суда и воины. Замельтешили сотни лодок с людьми самых разных национальностей. Некоторые были черны как сажа, другие чем-то напоминали народности, жившие вокруг Черного моря и в Византии. Арап рассказал, что флот властителей Египта состоял из судов, которые двадцать лет назад строились для войны с Византией. Поблизости от трех пирамид — высоких, как настоящие горы, — и огромной статуи — наполовину человека, наполовину животного — произошла жестокая схватка. Небо почернело от стрел. Мы маневрировали так, чтобы наши корабли «Морской орел» и «Ворон Одина» оказались по обе стороны самого большого из египетских кораблей. С громкими криками мы перескочили на палубу их корабля.
Египетские воины ростом были меньше нас, и, хотя они прошли боевую подготовку, им не хватало мужества и огня. Когда мы, орудуя мечами, отвоевали себе палубу, большинство из них предпочло прыгнуть в реку и поплыть к берегу, что свидетельствовало об их трусости и бесчестье, потому что гигантские ящерицы, размером с бревно, тут же подплыли к ним и начали жадно поедать плывущих. А мы тем временем подвели корабли к берегу и бросились на штурм. На суше наш противник действовал более организованно и дисциплинированно. Но мы воевали, очевидно, не так, как, по их мнению, должны были воевать их враги. Их войско состояло из подразделений. Некоторые имели легкое вооружение, другие — тяжелое. Некоторые были верхом на конях, другие — верхом на странных, похожих на коней, животных с длинной шеей и горбом. Арапы сражались бок о бок с людьми такого же цвета кожи, как у нас, и коротышками с большими носами и черными как уголь волосами. Египтяне стояли рядами, один ряд за другим. Первый ряд вставал на колени, а задний рад выпускал тучу стрел. Потом первый рад вставал и тоже стрелял в нас. Если кто-то в первом ряду падал, его заменял бедолага из заднего ряда.
Когда начался дождь стрел, мы защитились от него, сделав стену и крышу из наших щитов. Только очень немногим из нас не повезло. Они упали. Во время нескольких таких атак мы стояли в сомнении, когда же наконец на нас нападут. Но потом не выдержали и, когда Олаф отдал приказ, бросились им навстречу. С воплями и криками, словно в нашем войске были берсерки и вернувшиеся из Валхаллы погибшие воины. Тут наши враги отбросили стрелы и луки и вытащили мечи и заточенные с двух сторон копья. Их мечи были предназначены для ближнего боя, но мне опять показалось, что они сражались иначе, чем мы. Один коротышка стал нападать на меня. Я подставил ему щит. Он атаковал еще раз, но я изловчился и отрубил ему руку. Только тогда он оставил меня в покое. Подбежал еще один арап, но сразу отскочил, когда я взмахнул мечом и издал вопль. В ту же секунду появился черный гигант с острыми костями, которые он воткнул себе для украшения в ноздри, губы и щеки. В одной руке у него был меч, в другой — топор. Наконец-то достойный противник. Я закрылся щитом и проткнул ему живот моим мечом. Это его не остановило. Топором он ударил по моему щиту, а мечом — по плечу. Я рассек его пояс и выпустил кишки наружу. Только тогда гигант понял, что схватка проиграна. Со стоном он опустился на колени. Я поклонился и поблагодарил за хороший поединок. Потом отрубил ему голову.
Воздух дрожал от криков и стонов и острого запаха крови. Я стал высматривать себе нового противника. Войско египтян стало организованно отходить. В ближнем бою мужество покинуло их. В рукопашной они сражались плохо, как бы нехотя. В этой первой схватке мы потеряли всего лишь несколько сотен человек.
Когда войско египтян с позором покинуло место боя, мы продолжили плавание по реке. Вскоре нас встретило новое войско, снова состоялась схватка — сначала на реке, потом на суше, и снова все повторилось. После короткого сражения египтяне отступили. А мы продолжили свой путь.
* * *
День за днем мы плыли на юг вверх по Нилу. Протяженная река дала жизнь и пропитание людям, жившим в домах из камня, глины и тростника. Подобно огромной змее, она извивается по негостеприимной пустыне, где только что и есть песок, камни и скалы. Олаф был в восторге от подробной и точной карты. Каждый поворот реки был обозначен на той карте, которую монахи скопировали со старого египетского папируса. Кормчие, привыкшие к открытому морю и свежему северному ветру, то и дело жаловались. Не успевали они свернуть налево, как приходилось поворачивать направо. И так все время. Иногда корабль садился на мель. Кое-где нужно было пробираться по зеленой жиже. По берегам люди собирались толпами, чтобы посмотреть на незнакомые им корабли. Вдоль берега бежали маленькие дети. Нам попадались многочисленные торговые суда, которые послушно уступали нам дорогу.
Плыли мы днем и ночью. По вечерам лежали на палубе на спинах и, глядя на бездонное небо, ели неведомые сладкие фрукты, которые мы доставали на берегу. Лунный серп лежал почти горизонтально. Все было очень странно. Множество насекомых, странных звуков и запахов из пустыни.
* * *
Однажды очень ранним утром мы подплыли ко дворцу. Очень подробное описание в древнем манускрипте, казалось, было сделано только день назад. Вход в канал, который охраняли два каменных шакала, и огромный храм расположились у склона горы. Олаф перевел взгляд с берега на дворец и дальше вверх по скале. «Вот мы и добрались», — сказал он. Мы стояли рядом и смотрели на карту с извилистыми черточками. В жизни все было так, как указано на карте. «А люди где?» — спросил я. «Спят, наверное», — ответил Олаф. Я возразил: «Должна быть охрана!» Олаф сказал: «Охранники внутри и священники — это и есть их охрана. Другой им не надо. Никто не знает об этой гробнице, хотя прошло две с половиной тысячи лет со дня похорон». — «Давненько дело было», — согласился я.
Мы подошли ближе к берегу, спрыгнули в воду и пешком двинулись к храму. Идущие за нами были окутаны облаком пыли и песка. Я шел вместе с Олафом по дороге для молящихся, которая вела к храму, когда один тщедушный египтянин решительно преградил нам дорогу. Без всякого страха он встретил взгляд короля. Олаф спокойно улыбнулся. «Уйди с дороги, арап!» — проговорил король. Но египтянин стоял на месте. Это было для него делом чести. Выражение лица и одежда подсказали мне, что он был священником или считался святым. «Уйди!» — повторил Олаф. Я шепнул королю, что чужеземец вряд ли понимает наш язык. «В таком случае он поймет
вот это», — сказал Олаф и вынул меч из ножен. Маленький арап не пошевельнулся. Олаф махнул мечом. Из раны на песок брызнула кровь арапа. Но он даже не вздрогнул. Во взгляде его мелькнуло нечто. Египтянин произнес несколько слов, которых мы не поняли, и упал на колени. Мне показалось, что его слова прозвучали как проклятие. Неожиданно для меня Олаф вложил меч в ножны. «Мы возьмем его с собой! — сказал он и посмотрел на египтянина, стоявшего на коленях. — Он может нам пригодиться, — проговорил король, обращаясь скорее к себе, чем ко мне. — Именно так».
Наверху, у обрыва, собралась группа людей с оружием. Олаф помахал нашим воинам, шедшим сзади, и послал их вперед навстречу защитникам храма.
* * *
Вместе с Олафом и группой его самых верных воинов я вошел в пустой храм, где чувствовался слабый аромат благовоний. Мозаичный пол, все стены украшены изображениями богов. Вход в усыпальницу был скрыт ковром, висевшим за алтарем. Мы сдернули ковер и опрокинули алтарь. За ними обнаружилась каменная кладка с изображениями таинственных фигур животных и символами, которые не были похожи ни на руны, ни на буквы. Олаф отдал шести самым сильным из своих людей приказ пробить отверстие в прочной кладке. Времени потребовалось много. Когда отверстие стало такого размера, что мы смогли пробраться в него, мы спустились по длинной узкой лестнице. Воздух был влажный и теплый, пахло плесенью и камнем. Мы зажгли факелы, взятые в храме. В конце лестницы был туннель, который привел нас к первой гробнице. Олаф вошел в нее. Я неотступно следовал за ним.
Факелы осветили довольно большой зал. В середине стоял пустой саркофаг в окружении деревянных фигур и четырех небольших глиняных кувшинов с драгоценностями. «Это уже что-то», — сказал я королю. «Да-да», — ответил король. Стены были украшены красочными фигурами богов и очень красивыми символами. От мысли о том, что гробница стояла вот так на протяжении нескольких тысяч лет, у меня закружилась голова. А может быть, из-за жары и спертого воздуха. Мы вызвали носильщиков, которые понесли кувшины к кораблю. Олафу не терпелось, и острым камнем он нарисовал на стене контур, где наши силачи должны были проделать дыру. Они снова начали долбить стену кувалдами. Грохот обрушился на наши уши. Эхо носилось взад и вперед. Наконец мы получили доступ и стали спускаться еще по одной лестнице в следующую гробницу. Она была в точности такая же, как первая. Такой же величины, все та же жара. Здесь тоже в центре стоял саркофаг. И здесь тоже стояли четыре красных глиняных кувшина, полные мелких драгоценностей. Король стал изучать древнее египетское описание, чтобы определить, где должен находиться вход в третью и последнюю гробницу.
Последняя стена была еще прочнее первых двух и составляла единое целое с гробницей. Тем не менее Олаф определил, что скрывалось под камнями. Силачи подняли свои кувалды. «Начинайте», — повелел им король. И они приступили к работе. Железо врубалось в стену со звоном. Вокруг нас сыпались осколки камней. От работавших несло едким потом. По двое они продолжали наносить удары, пока стена наконец не поддалась и не рухнула. «Вот как надо рубить!» — похвалил их король.
За отверстием нас ожидала еще одна, совсем узкая, глубокая и крутая лестница. «Если так будет продолжаться, — сказал Олаф, — то мы попадем прямо в ад». Никто из нас не засмеялся. С поднятыми факелами мы пошли по узким ступенькам. Шаг за шагом мы приближались к последней гробнице. В конце лестницы начинался туннель, который вел вглубь горы. Примерно через сто метров туннель стал расширяться. Мы прошли коридор с колоннами. И вот мы на месте. Наше упорство принесло плоды.
* * *
Самая дальняя гробница была полна сокровищ. Сапфиры, смарагды и алмазы. Подсвечники и футляры для факелов из чистого золота. Черные кошки из алебастра, птицы из сверкающих камней, большие жуки, отлитые из металла или вырезанные из камня. Мы нашли глиняные кувшины, полные свитков с письменами. «За все это нам надо благодарить твоего отца Хакона Доброго», — сказал я. Король ответил, улыбаясь: «Мне есть кому подражать». Вокруг нас ходили люди, собирая все то, что по виду могло иметь ценность, как то: золото, украшения, драгоценные камни. Статуи и фигуры из простого камня и гипса мы не трогали. Носильщики принесли с кораблей ящики из-под рыбы и стали наполнять их драгоценностями. Тяжелые предметы и жара перестали нас раздражать теперь, когда мы нашли сокровища. Многие из работавших ликовали. Лестницы были такие узкие, что по ним приходилось передвигаться по очереди, иначе там было не разойтись. Когда все ценное было унесено, Олаф приказал взять красивый золотой ларь, в котором находилось шесть кувшинов с папирусными манускриптами. Я не понял, зачем ему тексты на языке, которого он не понимал, но он очень любил собирать старые рукописи и рассказы — наш король Олаф. Нельзя забывать также, что ларь был из чистого золота.
В центре гробницы, между четырьмя резными деревянными столбами, стоял большой каменный гроб. С большим усилием мы отодвинули тяжелую крышку. Внутри обнаружился кварцевый саркофаг. В саркофаге — золотой гроб, на поверхности которого скопился толстый слой пыли. Внутри золотого мы увидели гроб из кипарисового дерева, украшенный цветным стеклом и драгоценными камнями. Мы вынули кипарисовый гроб и открыли его. В нем находился еще один саркофаг, из золота, на его крышке был изображен мужчина, а внутри него — тело, завернутое в льняную ткань. «Спящее божество», — сказал Олаф. Мне казалось, что этот уродец не очень похож на божество; У меня перед глазами всегда стояли могучие боги, такие как Один и Локи.
[42] Мы положили золотой саркофаг, с мумией внутри, обратно в кипарисный гроб.
«Мы возьмем его с собой», — сказал Олаф. Я попробовал протестовать. Как бы то ни было, на этот раз мы добыли больше золота и драгоценностей, чем во время любого другого похода. А мысль о том, что мы нарушим покой бога чужой страны — каким бы уродливым он ни казался, — обеспокоила меня. Но Олаф был непоколебим. Ему привиделось, что он найдет спящее божество, сказал он, и это божество будет ему помогать всю оставшуюся жизнь. «Слушаюсь, господин», — только и сказал я. Я знал, что король в таком настроении никогда не даст себя переубедить. Мы стали смотреть по сторонам. «Хотелось бы мне вот так же упокоиться на веки вечные, когда
придет мой час», — сказал Олаф. На что я язвительно заметил, что грабители когда-нибудь тоже придут и нарушат его вечный покой, как это сделали мы.
И тогда Олаф сделал нечто странное. Он снял с себя ожерелье, тяжелую цепь из чистого золота, с подвешенным к ней изображением руны
тюр. Символ бога войны Тюра должен был поддерживать силы и мужество Олафа во время битв. Он положил цепь в пустой саркофаг. Я хотел спросить его, зачем он это сделал, но сдержался. Никто не сказал ни слова. Мы молча вдыхали спертый воздух подземелья. В саркофаге лежала золотая цепь, словно золотая змея. Мы вышли из грота и оказались в объятиях жгучей утренней жары.
На рассвете, съев порцию каши и выпив чашу воды, он присел к своей конторке. Чернила издавали металлический запах, который одновременно и привлекал, и отталкивал.
Он с трудом мог припомнить, о чем накануне говорил с монахами, но воспоминания о времени, прожитом рядом с королем Олафом, всегда сохранялись в мельчайших подробностях. Он помнил рой мух над лужами крови, запах соленого моря и дым, выедавший глаза, когда они жгли города. Он помнил крики ужаса, все еще стоявшие в ушах, и вид далекого горизонта, от которого слепило в глазах. А вот то, что он ел вчера на обед, он совершенно забыл.
«Теперь Олаф находится среди павших воинов в Валгалле, — подумал он с горечью, — мне же века вековечные придется бродить во мраке ада, как обыкновенному замшелому покойнику».
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
СПРЯТАННАЯ ПОДСКАЗКА
Одина после смерти подвергли сожжению, и пламя было огромным.
Снорри
Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его 666.
Откровение Иоанна Богослова (Апокалипсис)
Я обязан Египту всем, Египет для меня всё.
Жан Франсуа Шампольон
РУНИЧЕСКИЙ КАМЕНЬ
1
С грохотом, который отдается по всей лестничной клетке, я ставлю чемодан с руническим камнем на пол.
Я вытаскиваю из кармана связку ключей.
Приезд домой — это риск. Но я пробыл в Бергене больше недели. Пора менять одежду. Взять несколько книг, которые я начал читать. И прихватить тюбик с мазью от раздражения кожи.
Старинный ригельный замок на входной двери открывается с резким щелчком. Затем я вставляю длинный ключ в замок с секретом, который когда-то некий ходивший по квартирам назойливый продавец всучил мне, прибегнув к лести и туманным угрозам о неназванных ужасах, которые выпадут на мою и моей квартиры долю, если я не куплю его замок. Я поворачиваю ключ. Замок открывается. По привычке я оставляю связку ключей в замке. Света в прихожей нет. На этот раз, уходя, они закрыли все двери. В том числе дверь в кабинет. Слабый свет проникает через замочную скважину двери гостиной.
Они здесь.
Чувство страха возникает где-то в желудке и начинает медленно подниматься вверх. Я затаил дыхание. Мои чувства говорят: Хассан здесь. Может быть, это из-за аромата лосьона для бритья и сигарного дыма, смешанных с резким запахом пота. Дрожащей рукой я держусь за ручку двери. Заглядываю в прихожую. Никого. И все-таки я чувствую их присутствие. Стою не шевелясь.
Сердце бьется так, словно хочет выскочить из груди и умчаться на лифте на первый этаж.
В голове проскальзывает мысль: «У них есть ключи. Или отмычка, такая совершенная, что вскрывает даже замок, который, по словам торговца, невозможно вскрыть».
«Бьорн, ты параноик!»
Мне кажется, что из комнаты доносится звук. Кто-то шаркнул по линолеуму. Но может быть, мне это только чудится.
В черном чемодане «Самсонит», купленном в Бергене, с кодовым замком, лежит рунический камень, завернутый в полотенца, рубашки и грязные подштанники. Никто о камне ничего не знает. Даже Управление по охране памятников. Знаем только мы двое: Эйвин и я.
«Возьми себя в руки, Бьорн, — твержу я себе. — Здесь никого нет. Они не могли ждать тебя почти две недели, пока ты был в Бергене. Они не знают, что ты приехал сегодня утренним поездом. Это невозможно! Не паникуй! Ну же, Бьорн, соберись!»
Свет в замочной скважине гаснет.
Альберт Эйнштейн уже в 1905 году установил, что время относительно. И это верно. Секунды и минуты в кресле дантиста или у стенки перед расстрелом идут с другой скоростью, нежели во время пребывания на морском курорте.
Дверь комнаты открывается.
Я перестаю дышать.
Глаза Хассана кажутся еще более холодными и мертвыми теперь, когда я знаю, кто он. На нем темный костюм с хорошо выглаженными брюками. Белая рубашка. Галстук. В руке пистолет. «Глок».
Между нами три-четыре метра. Он занимает все пространство двери. А я все еще на коврике у входной двери.
Из-за Хассана выглядывает еще одна голова. Я не знаю, как его зовут. Но он был в моем номере гостиницы в Исландии. Моя рука все еще лежит на ручке двери, поэтому я реагирую молниеносно.
Я захлопываю входную дверь, поворачиваю ключ в замке, хватаю чемодан с руническим камнем и бросаюсь к лифту.
Если хочешь убежать от хищника, будь умнее его. Поэтому я посылаю лифт на первый этаж, а сам бегу по лестнице вверх и останавливаюсь на следующем этаже.
И уже здесь я нажимаю на «тревожную кнопку» вызова полиции.
Пульс зашкаливает.
Через полминуты Хассан открывает дверь изнутри. Оба бегут вниз. Они не ждут лифта, а спускаются по лестнице с грохотом падающей лавины.
Ни жив ни мертв, стою жду.
Первая патрульная машина прибывает спустя пять-шесть минут. Вторая машина, с Рагнхиль, приезжает еще через несколько минут.
Хассана и след простыл. Он растворился в воздухе где-то тут, среди вилл района Грефсен.
2
Мой друг Терье приезжает за мной в полицейское управление через несколько часов.
Злодеи исчезли. И тем не менее мы едем кружным путем со скоростью, которая могла бы стоить Терье восьми проколов в его правах и штрафа, равного его скромной месячной зарплате.
Я рассказываю обо всем, что происходило в Бергене. Но он уже почти все знает из газет. Найденная в монастыре Люсе гробница стала яблоком раздора для хранителей древности. Сначала они были в диком восторге.
Неизвестная гробница XII века? В колодце у монастыря Люсе? Затем до них дошло, что я занимался раскопками гробницы самовольно, без разрешения официальных властей. И даже не обратился с просьбой о таком разрешении. И даже не сообщил никому об этом. Напротив, я вел себя как самый вульгарный грабитель. Вандал! Глава Управления по охране памятников и возмущенные профессора хотели обратиться с заявлением в полицию. К счастью, вмешался министр культуры. Более, чем кто-либо другой, он хотел избежать скандала. Как бы то ни было, это сенсация мирового масштаба. Мне милостиво позволили сохранить место в университете. Но до тех пор, пока особая комиссия по расследованию инцидента не закончит свою деятельность, я буду временно отстранен от работы. Ну что ж, тоже неплохо. Я ведь не рассказал им, что унес из гробницы рунический камень.
Эту ночь я провожу на диванчике у Терье. Мобильный телефон, который я взял в университете, звонит и звонит.
Номер мне неизвестен. Я не отвечаю. Вряд ли они смогли установить мое местопребывание здесь, в центре города.
Из чувства солидарности, а может, потому, что не хотел, чтобы его квартира стала мишенью для какого-нибудь башибазука, Эйвин позволяет мне воспользоваться принадлежащим его семье домиком в Спро, в районе Несодден, что в получасе плавания на теплоходе от причала Акер. Практически невозможно будет вычислить меня там, если кто-то вдруг пожелает пойти очень далеко, чтобы завладеть руническим камнем. Например, убить меня.
3
Дождь. Капли стучат по стеклу. Осло-фьорд холодный и темный. Я растопил печку.
Рунический камень, завернутый в шерстяную кофту и брезент, лежит в лесу в хоккейной сумке, которая спрятана между двумя огромными камнями в углублении, прикрытом сверху еще одним камнем.
Передо мной на письменном столе, обращенном в сторону фьорда и Лангоры, лежит фотография рунического камня в натуральную величину. Один мой приятель, работающий на кафедре геологии, осмотрел драгоценные камни, прикрепленные к нему. Они сами по себе стоят многих миллионов.
Если не считать Эйвина, Терье и этого геолога, никто даже не подозревает о существовании рунического камня. Но ясно, что рано или поздно кто-то из наших трудолюбивых муравьев, ныне работающих в гробнице, задаст себе вопрос, почему ниша на мраморном цоколе пуста.
Понять руническую надпись на камне не составляет никакого труда.
Текст на древнескандинавском языке написан рунами. Но к счастью, без всяких шифров. Знак за знаком, одно слово за другим я перевел пять строк. Текст восхваляет Олафа Святого с использованием аллюзий из скандинавской, египетской и христианской мифологии. По словам писавшего, Один, Осирис и христианский Бог заключили в давние времена договор о том, что их народы будут жить друг с другом в мире и гармонии. Да-да.
В переводе на современный норвежский язык это выглядит так:
Hellig er du sankt Olav vår konge god
Kristus sverd du svingte nådeløs og tro
fryktløs konge hellig helgen ære være
hvil deg i evigheten i Guds åsyn Hvite —
krist Osiris Odin du kongenes konge
(Благословен ты, святой Олаф, наш добрый король.
Мечом Христа ты размахивал без пощады, соблюдая верность Ему.
Бесстрашный король, честь и слава благословенному святому.
Покойся навек перед лицом Белого Христа, Осириса и Одина. Ты — король всех королей.)
Этот текст, как и большинство других рунических текстов, полон загадок. Будучи человеком медлительным, я вынужден потратить целых два дня на то, чтобы найти запрятанную нить. Ключ высечен в правом углу рунического камня: перевернутая буква «U» и две вертикальные черты: ∩||. Довольно долго я воспринимаю эти знаки как магическое заклинание. Но потом понимаю, что это просто-напросто египетское начертание цифры 12.
Я начинаю пробовать разные варианты с числом 12, используя его то в одной, то в другой комбинации, и внезапно нахожу решение. Если отсчитать двенадцатый знак от левого края на каждой строчке (включая знаки разделения слов, где в современном языке ставятся пробелы) и затем прочитать их все сверху вниз, то получится название:
Hellig er dU sankt Olav vår konge god
Kristus sveRd du svingte nådeløs og tro
fryktløs koNge hellig helgen ære være
hvil deg i Evigheten i Guds åsyn Hvite —
krist OsiriS Odin du kongenes konge
Urnes!
Деревянная церковь Урнес в районе Согн-ог-Фьюране была сооружена примерно в 1130 году и является самой старой из дошедших до наших дней деревянных церквей.
Строительство монастыря Люсе было начато в 1146 году, на шестнадцать лет позже.
Может быть, это чистая случайность. Но возможно также, что тут имеется связь. В XII веке на территории Норвегии было построено немало церквей и монастырей. Норвегия стала христианской страной и готовилась молиться новому богу.
Капли стучат по стеклу и сбегают вниз. За ними неотчетливо через запотевшее стекло виден парусник, который плывет против ветра. У меня есть одна странная особенность: я в чем угодно могу увидеть самого себя. В брошенной на землю обертке от мороженого. В последней оставшейся на блюде картофелине. В озорном гноме на исландской равнине. Или в паруснике, который упорно продвигается все вперед и вперед вопреки дующему навстречу ветру и большим волнам.
4
Поздно вечером в тот же день, когда я наблюдаю за торговым судном, плывущим по фьорду на юг, я слышу небесные фанфары труб и арф. Или, другими словами, слышу сигнал мобильного телефона, который мне одолжил Терье. Номер я дал только своим самым близким друзьям.
На дисплее я вижу номер мобильного телефона Эйвина. Он говорит мне, что вскрыта северная стена туннеля, та, около которой мы были вынуждены остановиться. Археологи проникли оттуда в ранее неизвестные части подвалов монастыря Люсе. Сначала они думали, что речь идет о складе зерна, но потом пришли к выводу, что там находился резервуар для воды.
— Резервуар?
— Более того, вода из резервуара могла заполнить весь туннель, ведущий к обнаруженной нами усыпальнице.
— Водяная ловушка?
Эйвин описывает, каким образом монахи в монастыре Люсе с помощью хитроумного механизма могли поднимать и опускать подземные ворота, чтобы регулировать уровень воды в туннеле между резервуаром и колодцем. Так они могли изолировать гробницу при помощи воды и, если нужно, утопить пришельцев.
— Так вот почему гробница расположена выше уровня туннеля, — догадываюсь я.
— Идеальная защита. Когда монастырь был действующим, в туннеле постоянно находилась вода. Гробница же сохранялась гарантированно сухой, поскольку всегда была на несколько метров выше уровня воды.
— Как ты думаешь, монахи имели какое-нибудь представление о том, что они охраняли?
— Только очень немногие. В анналах монастыря XIV–XV веков можно прочитать туманные намеки на то, что они охраняют Божественную тайну. Но как историки, так и, скорее всего, сами монахи думали, что это не более чем религиозная метафора. Со временем сведения о гробнице, по-видимому, исчезли из памяти. Даже три последних настоятеля, по всей вероятности, ничего об этом не знали. Когда монахи покинули монастырь в 1536 году, вряд ли им пришло в голову, что они оставляют гробницу, которая, собственно говоря, и была причиной того, что на этом месте был заложен монастырь четыре столетия назад.
— И тем самым рунический камень и тело епископа остались без присмотра.
— Невероятно!
— Эйвин, ведь это только начало.
Он поражен:
— Как — начало?
— Гробница в монастыре Люсе — всего лишь первая из пяти святынь.
— Пяти?
— Каждый конец пентаграммы указывает на местонахождение одной из гробниц.
— Значит, есть еще четыре?
— Монастырь Люсе вовсе не главная святыня. Будь она главной, мы должны были бы найти Олафа Святого, а не епископа Рудольфа. Никто не стал бы убивать преподобного Магнуса и совершать нападение на меня из-за рунической надписи и епископского жезла. Там есть что-то другое, гораздо более крупное…
— Какое еще
другое? И где
там? О чем ты?
— Я знаю
где. Но я не знаю точно
что.
— Что ты хочешь этим сказать?
— Я думаю, что я наткнулся еще на одну загадку.
— Еще одну? Бьорн, разве нам не хватает загадок?
— Рунический камень дает указание на место, которое вообще не имеет отношения к пентаграмме.
— О боже!
— Эйвин, как ты отнесешься к тому, чтобы мы отправились в очередную экспедицию?
5
Как человек обязательный, я звоню Рагнхиль и говорю, что меня не будет несколько дней.
— Бьорн, ты что…
— У меня с собой «тревожная кнопка».
— Ты же знаешь, чем дело кончилось в прошлый раз.
— Я нашел гробницу.
— Тебя отстранили от работы!
Интонация совершенно такая же, как, бывало, у мамы.
ДЕРЕВЯННЫЕ ЦЕРКВИ
1
Деревянная церковь Урнес высится на скале с видом на Лустер-фьорд, расположенный в глубинах гигантского Согне-фьорда. Колоссальные скалы поднимаются над самым протяженным фьордом Западной Норвегии. Шпиль и крыши бросают острые тени на каменную ограду, окружающую церковь. Далеко внизу поблескивает холодная вода фьорда. Где-то лает собака.
Как и большинство других, деревянная церковь Урнес имеет несколько скатов крыш, один над другим, а верхушка указывает дорогу в Царство Небесное. Грубые деревянные пластины крыш, коричневые от смолы. Украшения, сохранившиеся от двух более старых церквей, раньше стоявших на этом месте, демонстрируют последние потуги эпохи викингов. Деревянная резьба кружевами поднимается широкими и узкими завитушками, дугами и кружками.
— Бьорн!
В темноте церкви смешиваются запахи старого дерева и жженой сосновой смолы. Шепот Эйвина выдает плохо скрываемую надежду. Я подбегаю к нему. Он рассматривает узор на деревянной колонне. Среди тонких узоров я узнаю три символа:
анх, тюр и
крест.
Мы подзываем знаками Вибеке Вик из Союза любителей старины. Мы ни слова не сказали ей, что именно ищем, — если честно, мы этого и не знаем, — но стоило нам только намекнуть на то, что церковь Урнес может быть как-то связана с найденной в монастыре Люсе гробницей, Вибеке и Союз любителей старины с готовностью распахнули перед нами двери церкви. Вибеке провела нас по церкви, затем оставила одних для изучения деталей, а сама занялась какими-то делами у алтаря. Мы с Эйвином несколько часов рассматривали надписи, узоры и украшения.
— Ах это, — говорит она почти смущенно, когда мы показываем ей символы. — Наши музейщики думают, что резчик включил в украшения три символа, чтобы получить поддержку от разных религий. В те времена христианство еще только завоевывало свои позиции. Собственно говоря, эта странная комбинация символов присутствует во многих орнаментах на деревянных изделиях XII–XVI веков.
Мы с Эйвином начинаем самым тщательным образом изучать все детали вокруг символов. Эти символы свидетельствуют о том, что человек, вырезавший их, оставил еще один намек. Намек, который должен быть рано или поздно обнаружен. При этом не кем попало, а только тем, кто посвящен в тайну.
Среди мириадов фигур животных, мифологических символов и рунических знаков мы обнаруживаем такие слова, как
Олаф Святой и
королевский ларец, и надпись, которая в переводе звучит:
Мы, охраняющие Святого. Во многих местах находим число 50, которое обозначается то арабской цифрой, то римской — L. Мы видим формулировку
Слава мудрому арапу, которая может относиться к какому-то египтянину или другому жителю Северной Африки, упоминание о
пастыре папы, а также о
достойных хранителях священного культа Амона-Ра. Я не знаю, что и думать. Мне не приходилось раньше слышать ни о каких-то пастырях папы и приверженцах культа египетских богов в Норвегии. Эти непонятные египетские ассоциации можно связать только с египетскими намеками в «Кодексе Снорри».
— Молодые люди! — Голос Вибеке долетает к нам из дальнего угла церкви. — Мне пришла в голову мысль — не эту ли крипту вы ищете?
Она подняла дверцу в полу и крючком прикрепила ее к стене. В нос ударяет запах гнили, земли и почвенных вод. Я зажигаю фонарь и освещаю темное, облицованное камнем помещение под полом церкви.
Я вопросительно смотрю на нее:
— Крипта? Здесь? Разве такие подвалы вырывали не на клиросе, перед алтарем или в восточной части нефа?
— Знаете, этот подвал был обнаружен впервые только во время перестройки здания в XVII веке, — объясняет она. — Тогда пришлось удалить большую часть пола, потому что балка, на которой он покоился, почти сгнила. Крипта была спрятана таким хитроумным образом, что, только взломав весь пол, в нее удалось попасть. Изначально пол был сделан не так, как было принято в тот период. Во время строительства церкви пол настлали на сложную конструкцию из деревянных балок и зубцов, при помощи которых можно было изменить положение балки около алтаря, а она, в свою очередь, открывала проход в крипту. К сожалению, при перестройке прогнившая конструкция была уничтожена. И то немногое, что мы знаем об этом механизме, получено из двух рукописей, которые сохранились в поселке.
— То, что стены облицованы камнем, наверное, тоже не вполне типично?
— Обычно в усыпальницах просто выкапывали грунт и клали усопших на деревянные или берестяные поверхности. Усыпальница такого типа, как в нашей церкви, весьма необычна.
— Что нашли в крипте?
— Ничего. Она была пуста. Абсолютно пуста.
Эйвин, Вибеке и я спускаемся в тесное помещение. Но там ничего нет. Даже на каменных стенах не сохранилось ни одной надписи.
2
На следующий день мы продолжаем осмотр. Утром прохладно. Мы с Эйвином одеты в наши грязные шерстяные кофты. Вибеке порхает вокруг нас, как добрая фея. Около двенадцати вынимаем бутерброды, заготовленные нами в гостинице, расположенной на противоположном берегу фьорда. Мы делимся с Вибеке бутербродами, и за это она угощает нас кофе из большого термоса. Такая роскошь нам с Эйвином даже в голову не пришла.
Проходит еще несколько часов, и я обнаруживаю тайник.
Замаскирован он великолепно. Я обнаруживаю его — нельзя сказать, чтобы совсем случайно, но все же не без доли везения — с задней стороны капители одной из солидных несущих колонн. Капитель расположена на высоте четырех метров. Прямо под тайником находится кафедра 1690 года. С первого взгляда мне кажется, что в деревянном орнаменте я обнаружил не более чем образовавшуюся от времени трещину. Я простукиваю стену, чтобы понять, есть ли в колонне полость. По звуку определить это не представляется возможным.
Тогда я прослеживаю трещину сантиметр за сантиметром и обнаруживаю отчетливый прямоугольник — дверцу тайника. Призываю Эйвина и Вибеке, но они не видят даже трещины, пока я не провожу пальцем по периметру дверцы.
— Боже милосердный, — говорит Вибеке, — а мы-то думали, что знаем каждый квадратный сантиметр этой церкви.
С помощью складного ножа Эйвина я пытаюсь открыть дверцу, но она не поддается. Эйвин и Вибеке пробуют помочь мне, но даже красные длинные ногти Вибеке не способны проникнуть в щель, чтобы подцепить дверцу. Более того, ноготь на среднем пальце ломается.
— Может быть, дверцу по периметру посадили на клей?
— Тогда потребуется ножовка. И хорошо бы еще дрель, — шучу я.
Взгляд Вибеке говорит, что не по любому поводу можно шутить.
— А что, если спилить этот столб? — с хохотом вторит мне Эйвин.
Он не столь внимателен, как я, к безмолвному языку взглядов.
Почти целый час мы ищем какой-нибудь способ открыть тайник. Мы уже готовы отступиться, как вдруг Эйвин обнаруживает хитрый механизм замка.
В квадратике на противоположной стороне колонны вырезано три цветка, их лепестки представляют собой деревянные пробки. Вращая и покачивая разбухшие пробки самым коротким из лезвий складного ножа, я в конце концов вытаскиваю их.
— Головомойка мне обеспечена наверняка, — вздыхает Вибеке, но в глазах ее светится восторг.
Некоторое время мы размышляем, что делать с тремя отверстиями, которые слишком малы, чтобы в них можно было просунуть палец. Я вставляю в одно из них шариковую ручку и чувствую, как она на что-то натыкается. Но ничего не происходит. Только когда мы все трое одновременно засовываем в отверстия ручки, срабатывает внутренний механизм. Раздается треск. Механизм освобождает какой-то замок, и дверца тайника распахивается.
Я освещаю середину образовавшегося отверстия карманным фонарем. Внутри что-то виднеется — кусок дерева?
Помедлив, засовываю руку. Я опасаюсь, не встроен ли создателями тайника еще какой-нибудь защитный механизм, оберегающий его содержимое от грабителей.
Дотягиваюсь до деревянного предмета, обхватываю его и быстро вынимаю руку.
Она осталась целой. В руке я сжимаю небольшую дощечку с рунической надписью.
Вибеке в безумном восторге. От имени Союза любителей старины, муниципалитета округа Согн-ог-Фьюране, Управления по охране памятников и самого Господа Бога она благодарит нас и хочет забрать находку. Общими усилиями, приправленными большой порцией шарма, нам с Эйвином удается уговорить ее оставить на некоторое время дощечку для исследования. Мы обещаем вернуть ее в целости и сохранности, чтобы ее можно было выставить под стеклом витрины на радость Управления по туризму, руководства муниципалитета и пассажиров всех круизных судов.
Надпись, как и ожидалось, прочитать невозможно. Но, применив различные комбинации по системе Цезаря, мы обнаруживаем, что произведен сдвиг букв направо на пять знаков. Будучи дешифрованной и переведенной на современный язык, надпись выглядит так:
Урнес скрывал
священное
указание
50 лет
Пастырь папы
подойди к нам ближе
Достойные ХРАНИТЕЛИ
Священного культа
Амона-Ра
знают скрытую
в металле тайну рун
Б
— СЕЛФ-
Р
Г
Снова указание на пастырей папы и египетского бога солнца Амона-Ра. В Древнем Египте Амон и Ра были двумя могущественными богами, которые со временем слились в одного.
Человек, который вырезал руны более восьмисот лет тому назад, чувствовал полную уверенность, что если непосвященный, вопреки ожиданию, найдет палочку с рунической надписью, то ничего не поймет. Ребусы и закодированные тексты были неизвестной формой общения для большинства людей в то время. Только люди ученые и начитанные могли понять смысл, скрытый в таинственных рунических письменах. Тот же, кто знал, что он ищет, и понимал, где и как искать информацию, извлек бы смысл из переплетения рун.
На расшифровку записи, выполненной в форме креста, у нас уходит пятнадцать секунд. Буквы по горизонтали
СЕЛФ надо читать справа налево:
ФЛЕС, вертикальные же четыре буквы образуют слово
БЕРГ.
Флесберг.
3
Деревянная церковь Флесберг, окруженная каменной изгородью, была построена в конце XII века в долине Тумедал, округ Бускеруд, среди покрытых лесом гор. Вокруг — старинные крестьянские усадьбы. В 1732 году священник подал жалобу, что обветшавшая церковь «стоит со времен католиков», и тем самым добился, чтобы к церкви пристроили поперечный неф. Никто не знает, что тогда сделали с остатками материалов. В те времена, если было пригодно, дерево использовали в строительстве по нескольку раз, а нет — просто бросали в печь.
Мы с Эйвином скрепя сердце признаём, что шансы найти во Флесберге нечто уцелевшее с XII века минимальны.
Священник показывает свою церковь. Как и большинство священников, он очень любит ее. Но от Средневековья здесь осталось немного. Купель для крещения, несколько каменных крестов, боковина сиденья с резьбой и три стены нефа. Орнаменты западной входной двери — резные львы и драконы, змеи и вьющиеся растения — выполнены искусным мастером.
Но и после многочасовых поисков мы не обнаруживаем здесь ни тайников, ни рунических знаков, изображенных на спинках сидений или вплетенных в деревянный резной орнамент.
— Думаю, это вряд ли окажется полезным для вас, — говорит священник, когда мы пьем кофе, — но только один из наших колоколов висит здесь со времен постройки церкви.
Я вздрагиваю.
— В металле скрыта тайна… — шепчу я.
Эйвин и священник вопросительно смотрят на меня.
— В металле — что? — спрашивает Эйвин.
— Надпись на дощечке с рунами! Там написано:
Достойные ХРАНИТЕЛИ Священного культа Амона-Ра знают скрытую в металле тайну рун.
— Дощечка с рунами? — Священник смотрит на нас, ничего не понимая. — Амон-Ра?
— Ну конечно! — восклицает Эйвин.
Мы быстро поднимаемся по изношенным ступенькам колокольни. Едва переводим дыхание, оказавшись на самом верху. Священник открывает два окна, чтобы впустить свет.
Сразу определяем, какой колокол самый старый. Это совсем не сложно. В нижней части колокола полоской идет руническая надпись. Значки стерлись от времени, но их все еще можно прочитать. По крайней мере, таково первое впечатление. На многих старых колоколах текст идет справа налево, как заклинание. Но в данном случае даже чтение справа налево не помогает. Глядя на наши попытки истолковать текст, священник снисходительно улыбается и говорит, что в знаках нет никакого смысла.
— На протяжении столетий многие хотели прочитать этот текст, но никто не сумел. Рунические знаки на колоколе — всего лишь орнамент.
Эйвин фотографирует надпись, а я знак за знаком переношу ее в свою записную книжку.
4
Эйвин едет со мной в Несодден на взятом напрокат автомобиле. Все следующие дни мы занимаемся дешифровкой. И все это для того, чтобы убедиться, что мы тоже не в состоянии взломать шифр. Рунический текст не только написан с использованием кода, но еще и сами руны, из которых он состоит, имеют особую форму — это «руны-ветки».
Тайна «рун-веток» состоит в разделении рунического алфавита на три так называемые семьи. Древние мастера рунической письменности составили схему, которая, судя по всему, выглядела следующим образом:

Три строки, или три «семьи», получили нумерацию снизу вверх, чтобы как можно больше запутать желающих ее понять. Каждая руна входила в одну из трех «семей» и имела номер в своей «семье», то есть в горизонтальном ряду.
В соответствии с этой системой руна
А имела обозначение 24, то есть была во второй «семье» четвертой, а руна
В соответственно 12, то есть в первой «семье» второй.
Затем цифровое обозначение передавалось «руной-веткой». Руна
А, то есть 24, передается двумя ветками (обозначающими номер «семьи») слева и четырьмя справа от ствола:

По этой же системе руна
F передается деревом с тремя ветками справа и одной веткой слева от ствола, a
Y — с одной веткой слева и пятью справа.
У меня отношение к цифрам то же, что и к женщинам: ни тех ни других я не способен понять до конца. И хотя в принципе я понял систему тайных рун, все вместе выше моего понимания. Придется обратиться к Терье Лённу Эриксену.
Уговаривать его не надо. Вооружившись моими записями и фотографиями церковного колокола, он набрасывается на значки, как Шампольон — на Розеттский камень.
[43]
Сначала он разделяет текст на части таким способом, который ни за что не пришел бы в голову ни Эйвину, ни мне. Потом начинает анализировать структуру слов. Благодаря этому он обнаруживает, что текст состоит из двух элементов, которые повторяются трижды, и еще пяти отдельных слов, которые используются по одному разу.
Мастер рун комбинировал обычные руны и «руны-ветки» в тексте, который был написан справа налево.
— Я попробовал выяснить, не поможет ли нам руническое колесо, — говорит Терье, у которого есть фотография колеса с рунической надписью, находящегося в Бергенском музее.
Это колесо представляет собой механизм, который очаровывал и удивлял ученых с того момента, как был найден в деревянной церкви Гол, разобранной и перенесенной в 1882 году в Народный музей в Осло. Этот примитивный шифровальный механизм, предшественник знаменитого криптографического устройства Уитстоуна, состоит из трех деревянных пластин с двумя вложенными круглыми дисками разного диаметра, с нанесенными на дисках рунами как старшего, так и младшего рунического алфавита. При вращении дисков получались сочетания знаков в различных комбинациях.
И все же, вопреки всем стараниям Терье, и руническое колесо не помогло нам расшифровать текст.
Мы попытались применить метод Цезарь-8 с чтением справа налево на обычных рунах. Однако Терье обнаруживает смысл в этом тексте только после того, как был удален каждый второй знак:
REMIK NEKKOLK
Если прочитать справа налево, получается:
KLOKKEN KIMER
(КОЛОКОЛ ЗВОНИТ)
Гораздо больше времени уходит на «руны-ветки». Значки сопротивляются, вертятся и крутятся, смеются над ним, строят ему рожи. Но Терье, как и я, упрям и настойчив и в конце концов все-таки взламывает код. Мастер рун, этот великий хитрец, последовательно манипулирует количеством веток справа и слева от ствола по какой-то непонятной системе. И тем не менее трижды появляются слова:
RÅ ITMEF
При чтении справа налево получается:
FEMTI ÅR
(ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ)
Теперь у нас остались три слова или три названия — из пяти, восьми и трех знаков, — которые тоже прошли через какие-то преобразования. И Терье побеждает мастера рун. Попробовав различные сдвиги по системе Цезаря при чтении справа налево, он пробуждает к жизни три названия:
URNES FLESBERG LOM
(УРНЕС ФЛЕСБЕРГ ЛОМ)
Таким образом, расшифрованная надпись на церковном колоколе в своем окончательном виде выглядит так:
KLOKKEN KIMER
URNES FEMTI ÅR FLESBERG FEMTI ÅR L OMFEMTI ÅR
(КОЛОКОЛ ЗВОНИТ УРНЕС ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ
ФЛЕСБЕРТ ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ ЛОМ ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ)
5
До нашего отъезда на север, в Лом, я звоню Рагнхиль. Мне кажется, она раздражена. Новостей у нее нет. Но и я не говорю, куда мы едем. Она спрашивает, где мы. Этого я тоже не рассказываю. Я упрямый. Мне приходилось читать, что нас, если рассуждать теоретически, могут подслушивать, используя лучи, имплантаты или спутники на стационарной орбите. Но об этом я умалчиваю, чтобы не оказаться снова в психиатрической клинике.
— Чем меньше ты знаешь, — говорю я, — тем лучше для тебя и для меня.
— Я не понимаю твоего объяснения.
— Чем меньше ты понимаешь, тем легче тебе разобраться в моей ситуации.
— Бьорн, наш разговор лишен смысла.
И вот опять интонации как у мамы.
— Ты здесь? — спрашивает она после непродолжительного молчания.
— Да…
— Не забудь, полиция для того и существует, чтобы помочь тебе.
Я для того, чтобы помочь тебе.
Мне многое надо ей сказать. О моем скептическом отношении к авторитетам, властям, врачам и психиатрам, ко всем власть имущим, кто, черт их побери, чувствует себя гораздо выше всех прочих. Но я ничего не говорю. Слова застревают по дороге между мозгом и языком. Да и наплевать. Она все равно не поймет. Рагнхиль — послушное и лояльное колесико общественной машины.
Вместо всего этого я спрашиваю, не закончилось ли расследование. Она заверяет меня, что дело вовсе не закрыто. Заверение звучит не слишком убедительно. Она говорит, что не появилось никаких новых сведений. Они не знают, где искать и что выяснять. Так же как и я, полиция не может обнаружить никаких следов Хассана и его подручных вот уже несколько дней. Кто-то другой, возможно, почувствовал бы облегчение в связи с исчезновением злодеев, я же крайне обеспокоен этим фактом. Самый страшный хищник тот, которого не видно.
Я знаю, что они есть. Что они где-то рядом.
И они ищут меня.
6
Деревянная церковь в Ломе мрачно возвышается на фоне леса и зубцов скал. Жадный оскал вырезанных из дерева голов драконов обращен к небу, по которому тонкие ряды облаков мчатся над горным массивом Ютунхейм. Деревянная церковь, главная в приходе, была сооружена в конце XII века на фундаменте более старой церкви.
Уже четыре дня мы с Эйвином обследуем ее изнутри и снаружи, используя подсказки священника, звонаря и представителя Союза любителей старины.
— Если просочится хотя бы одно слово о том, чем мы занимаемся, — говорю я нашим добровольным помощникам, — то Лом потеряет свою первозданную тишину. В селение ввалятся орды газетчиков из Осло, и это еще не самое худшее. Телевизионные каналы будут вести прямые репортажи, заливая церковь в Ломе светом своих прожекторов.
Поставленные в тупик подобной угрозой, они обещают вести себя тихо и помалкивать в тряпочку.
Каждое утро мы выезжаем из гостиницы с робкой надеждой, что сегодня, именно сегодня мы наконец нападем на какой-нибудь след. И каждый вечер возвращаемся измученные и разочарованные.
Церковь многократно перестраивалась и подновлялась. Первоначальная деревянная обшивка утрачена. Деятели Реформации уничтожили всю католическую ересь. Изображения святых, запрестольные образа, тканевые украшения, святые чаши — все было выброшено, сожжено или утоплено в горной реке.
Вообще-то, тут много рунических надписей. Но в них нет никаких секретов. Эти надписи делали строители, которые объяснялись в любви и выражали романтическое настроение или обуявшее их желание. Сохранилось даже руническое послание, в котором Хавард выражал надежду увести Гудни от Колбейна. Но нет никаких признаков того, что древние
хранители оставили хоть какой-то след.
К концу четвертого дня священник рассказывает нам, что наши коллеги уже направляются сюда.
— Коллеги?
Я покосился на Эйвина. Ни один из нас не звал сюда никаких коллег.
Священник понимает, что тут что-то не так:
— Они сказали, что с ними эксперты, о помощи которых вы просили. Они хотели увериться, что вы еще не уехали.
Это Хассан…
Как он узнал, что мы здесь? Болла все еще стоит в многоэтажном паркинге. Мой мобильный телефон лежит дома.
Я напоминаю священнику о печальной судьбе его коллеги из Рейкхольта и советую ему позвонить ленсману.
[44] Немедленно. Мы спешно благодарим его за помощь и покидаем церковь. На заправке я звоню Рагнхиль в Осло и прошу ее оповестить ленсмана в Ломе на тот случай, если священник не отнесется к моим словам всерьез. Из Шелдена я звоню священнику, чтобы узнать новости. Голос его дрожит. Ленсман уже давно на месте. Подкрепления спешат из Рингебу.
— Что вы натворили? — спрашивает он с испугом.
Ответить мне нечего.
Мы с Эйвином едем назад, в Берген и Осло, через Согндал и Восс, где наши пути расходятся.
7
Иногда решение проблемы находится так близко от нас, что мы его не видим.
Если хочешь спрятать книгу, поставь ее на книжную полку. Если хочешь контрабандой вывезти редкую почтовую марку, приклей ее на конверт и пошли по почте.
— Бьорн, это я!
Эйвин кричит так громко, что мне кажется, он хочет сократить расстояние между Бергеном и Осло.
Холода окрасили в сероватые тона Осло-фьорд и острова. Я только вчера вернулся из Лома и погрузился в меланхолию. Я ненавижу неудачи. В таких случаях я чувствую себя ни на что не способным. У меня такое состояние, будто во мне бродят грозовые облака.
Плечом прижимаю к уху телефонную трубку. На другом конце провода, как положено в Бергене, возбужденно и торопливо кричит Эйвин:
— Ты здесь, Бьорн? Алло!
— Я сижу и размышляю.
— Размышляешь? Послушай, Бьорн! Мы обследовали не ту церковь!
Снизу со стороны фьорда сквозь туман доносится страшный шум от какого-то судна, который наводит на мысли о шуме в Лас-Вегасе.
— В Ломе была другая деревянная церковь! — Эйвин замолкает в ожидании моей реакции.
Холодный воздух вибрирует. От мерного басовитого постукивания двигателей в момент совпадения тактов стёкла на моем окне начинаются дрожать и звенеть. Потом шум уменьшается, и я забываю про огромного размера паром, направляющийся в Данию.
— Есть другая церковь, Эйвин?..
Белая пена за уходящим паромом. И в этот момент мне становится все ясно.
Другая деревянная церковь…
Легенда рассказывает, что когда Олаф Харальдссон совершал обряд крещения одной местности Норвегии за другой, то, находясь в долине Гудбрандсдал в 1021 году, уговорил Торгейра Старого в Гарму, около Лома, принять крещение и построить церковь во имя Господа. Торгейр Старый сделал то, что ему повелел христианский король. Он построил церковь, которая простояла сто восемьдесят лет. Церковь Торгейра Старого была предшественницей деревянной церкви Гарму, которую построили около 1200 года и разобрали в 1880 году. Разобрали… Поэтому ни Эйвин, ни я не подумали о ней.
— Сандвигская коллекция! — кричу я.
— Вот именно!
Через сорок лет после того, как деревянную церковь, стоявшую на месте церкви Торгейра Старого в Ломе, разобрали, церковь Гарму была вновь собрана в этнографическом музее на открытом воздухе «Майхауген» в Лиллехаммере.
8
Дует слабый ветерок. Я стою перед деревянной церковью Гарму и восхищаюсь красивым зданием с головами драконов и очаровательным шпилем.
Музей «Майхауген» был открыт в 1904 году. Он известен также как Сандвигская коллекция, так как зубной врач Андерс Сандвиг, начиная с 1887 года, коллекционировал предметы старины, а также постройки, усадьбы и вновь возводил их на территории музея. Когда снесли деревянную церковь Гарму, она была распродана на аукционе по частям. Сандвиг при поддержке Тронда Эклестуена купил все, что удалось найти. Таким образом, церковь Гарму была восстановлена частично из первоначальных элементов, частично из того, что подошло от других зданий и церквей.
Строители и музейные работники, восстанавливавшие церковь в 1920-е годы, тщательно помечали все, что было оригинальным. Поэтому мне хватило четырех часов для того, чтобы осмотреть церковь.
В невзрачном темном углу церкви я натыкаюсь на почти стершееся изображение Олафа Святого. Король, который ввел христианство в Норвегии, закутанный в красный бархат, стоя на колене, театральным жестом возносит крест к небу.
На широкой раме с резьбой я нахожу не только
анх, тюр и
крест, но и длинные ряды латинских букв и скандинавских рун вперемешку.
9
Закодированный текст, списанный с доски на стене в деревянной церкви Гарму, очень длинный. Два дня я пробую составить разные комбинации знаков без всякого успеха.
Я пытаюсь нащупать неким душевным радаром присутствие моих преследователей где-то поблизости от меня. В лодках, которые проплывают мимо меня по фьорду. На вертолете, который постоянно висит над моим домом. В машинах, которые проезжают по дороге мимо въезда в мой двор. Пытаюсь вычислить их в мужчинах, которые ловят рыбу на пристани, куда раньше причаливал паром из Осло.
Но они не нашли меня.
Я считал, что обнаружил ключ к решению. Но нет, это не так. На третий день я вызываю Терье, который тут же берет несколько совершенно незаслуженных им дней отгула и на пароме прибывает сюда, чтобы помочь мне. Мы пробуем разные варианты по системе Цезаря, но в рунических знаках не просматривается никакой системы. Терье растерян. Хотя мы не прочитали текст, он утверждает, что в тексте что-то не так. Структура знаков не обнаруживается.
— Это просто мешанина из случайных знаков, — расстроившись, говорит Терье.
На четвертый день мы нашли путь к решению. Или, лучше сказать, это Терье нашел путь к решению. Я доволен уже тем, что смог оценить то, что он сказал.
В тексте некая группа рун повторяется с частотой, которая намного превышает частотность сочетаний знаков в любом европейском языке. В современном языке, например, буква «Е» или знак, которым ее заменили в коде, будет повторяться гораздо чаще, чем более редкая буква «М». В любых языках наблюдается подобная закономерность.
Проблема с текстом из церкви Гарму состоит в том, что некоторые знаки повторяются с такой абсурдной частотой, что Терье задает себе вопрос: а что, если некоторые знаки поставлены в текст только для того,
чтобы ввести читателя в заблуждение? Если это так, то взломать код будет трудно, но, по крайней мере, ясно, почему некоторые рунические знаки встречаются слишком часто.
— Давай выбросим каждый второй или каждый третий знак, — предлагаю я.
К моему удивлению, эта идея нравится Терье.
Мы с Терье с энтузиазмом набрасываемся на решение проблемы.
Выбросив лишние знаки — шесть рун подряд, повторяющиеся бесконечно, — получаем текст, который все еще нельзя понять, но он уже похож на текст, который поддается дешифровке.
Метод шифрования напоминает те, что были раньше, только более сложный.
Древний специалист по кодам сначала использовал метод Цезаря и заменил каждую букву другой, которая стоит на несколько знаков дальше, потом написал слова справа налево. И в качестве дополнительного украшения — в каждом слове метод Цезаря у него индивидуальный.
Мы старательно находим древние слова
dylja, páfi, líkami, texti, hirð, heilagr. Но вместе они не дают никакого смысла. Шутник, писавший этот зашифрованный текст, разместил эти слова в неправильном порядке. Но эта перестановка следует логике: первое слово поменялось местами с десятым словом, второе — с девятым и так далее по спирали.
Теперь мы знаем логику. И вопрос только во времени и в терпении. В конце концов мы перевели текст на современный язык:
Инге ХРАНИТЕЛЬ высек эти руны через 200 лет после смерти Олафа Святого
Пастыри папы римского, иоанниты Вэрне и храбрые тамплиеры Иерусалима собрались здесь
Спрятана священная гробница, о которой сказал Асим
Немы наши уста
Священные тексты и спящий бог скрыты в безопасности у нашего родича по завету в стране где солнце заходит
Ньяль ХРАНИТЕЛЬ высек эти руны через 250 лет после смерти Олафа Святого

Священная руна тюр и магическая сила анха и сила креста охраняют грот Олафа и путь к нему
Листай Библию Ларса там где солнце встает
Если писавший руны Инге не был фантазером, то большая военная операция с участием солдат из Ватикана, членов Мальтийского ордена и ордена тамплиеров должна была проводиться в Норвегии приблизительно в 1230 году, через сто лет после строительства церкви Урнес и через пятьдесят лет после постройки Флесберга. А если такая огромная армия действительно была в Норвегии, как на это указывает текст, то
искали, пришельцы нечто более ценное, чем раку Олафа.
Что-нибудь из Египта?
Какая тут связь? Год 1230?
В 1230 году папой римским был Григорий IX — властолюбивый юрист, который подверг анафеме императора Фридриха II и сам стремился к власти, не только церковной, но и светской. Григорий IX отправил на костер немало еретиков. В одной из папских булл говорится: «Шлю проклятия варварам в
Noruega, которые оскверняют самое святое из всего святого».
Великим магистром ордена тамплиеров — вплоть до 1230 года — был Пьер де Монтегю. Великим магистром он был назначен во время неудачного Пятого крестового похода. Крестоносцы хотели вернуть себе Иерусалим и Святую землю, взяв под контроль мусульманский Египет. Одним из тех, кто отличился в битве под египетской Дамьеттой, был Великий магистр Мальтийского ордена Гарэн де Монтегю, умерший опять же в 1230 году.
Какая тут связь?
Священные тексты и спящий бог скрыты в безопасности у нашего родича по завету в стране где солнце заходит.
—
Родич по завету — это, видимо, Снорри Стурлусон в Исландии. Но
священные тексты — это «Кодекс Снорри»? Вряд ли. Более вероятно, что это «Свитки Тингведлира». Так что же делает этот текст священным? И черт побери, кто такой
спящий бог?
Это сообщение задает больше вопросов, чем дает ответов.
Через пятьдесят лет, в 1280 году, хранитель по имени Ньяль сделал приписку. Руны говорят, что грот Олафа и указания на то, где он расположен, защищены магией
анха, священной руной
тюр и силой
креста. Как понимать это утверждение? И как найти место,
где солнце встает, что должно означать восток? Кто такой Ларс? Как искать его Библию?
У меня кружится голова от двусмысленных указаний текста. Создается впечатление, что два разных указания ведут к двум разным целям. Священные письмена и спящий бог находятся под покровительством Снорри. А рака Олафа — и, возможно, что-то еще — находится здесь, в Норвегии. Там, где солнце встает…
Глаза у Терье и у меня наливаются кровью.
— Где ниточка, которая приведет нас к следующей деревянной церкви? — спрашиваю я.
— Хранители, которым было адресовано это сообщение, вряд ли знали намного больше нас. Поэтому текст должен содержать всю нужную нам информацию. Только мы ее не видим.
Продолжаем поиски. Как ни крутим формулировки, мы не можем найти в тексте скрытые слова. В середине ночи Терье ложится на диван и засыпает. А я продолжаю сидеть, грызть карандаш и делать бесконечные записи в своей тетради. Какую силу может иметь крест? Конечно, символическую. Религиозную. Есть ли какая-нибудь связь между символами
анх, тюр и
крест и местом, где солнце встает?
1030… 1130… 1180… 1230… 1280…
Какая связь между этими датами?
Мысли крутятся без остановки.
Несколько часов спустя я вдруг просыпаюсь. За окном бушует северный ветер, от которого содрогаются стекла. Во сне или в полусне, не знаю, у меня рождается догадка.
В шерстяных носках бегу к книжной полке, нахожу атлас 1952 года. Подхожу к столу у окна и листаю, пока не дохожу до карты Южной Норвегии. На диване похрапывает Терье.
Где солнце встает.
Это восток.
Сила креста.
Урнес, Флесберг, Лом.
У каждого из этих пунктов на карте я шариковой ручкой ставлю точку.
Четвертый пункт надо найти на востоке. Смотрю на карту и издаю невольный возглас.
Сила креста.
Где солнце встает.
Рингебу!
Я сижу и пытаюсь успокоиться. На протяжении ста лет хранители построили четыре деревянные церкви.
Урнес, Флесберг, Лом (Гарму) и Рингебу.
Если провести прямые линии между четырьмя точками, появляется
крест.
Христианский крест.
Crux ordinaria.
Сила креста.

10
На следующий день рано утром я отправляюсь на пароме в Осло.
Я уже позвонил священнику в церкви Рингебу и разбудил его. Когда он наконец как следует проснулся, кашлем изгнал из голоса неудовольствие и понял, что я устрою охоту на археологическую сенсацию в
его церкви, то превратился в моего покорнейшего слугу.
Я беру такси от причала в Акер-Брюгге и еду в университет за своей сумкой с необходимым оборудованием. С упорством параноика приказываю таксисту ехать до многоэтажного паркинга по всем боковым улочкам и внутриквартальным проездам, о которых только знаю. Брать автомобиль напрокат стало довольно накладно.
Смотрю на все въезды в паркинг.
Они прекратили наблюдение. Что само по себе уже подозрительно.
Еду на лифте на уровень Р2. Прежде чем выйти, ставлю сумку в двери лифта, чтобы обеспечить себе быстрое бегство. Выглядываю. Никого. Никто не стоит за колонной, не ждет меня. Никто не сидит, спрятавшись за газетой, в машине.
На этаже никого нет.
Очень подозрительно.
Беру сумку и, пригнувшись, двигаюсь вдоль дверей. Чувствую себя персонажем рисованного комикса. Осторожно приближаюсь к Болле.
Никого не видно.
У меня с собой карманный фонарь и рабочие рукавицы. Я тщательно проверяю, нет ли каких сюрпризов в машине за бампером, фарами, под капотом.
Нахожу передатчик GPS под левой передней фарой. Размером он со спичечный коробок и прикреплен так хорошо, что приходится поднапрячься, чтобы оторвать его. Передатчик прикреплен к красной мигалке черной изоляционной лентой.
Вот шельмы!
Но я продолжаю поиск.
Второй передатчик GPS прикреплен к насосу под капотом.
Очень довольный собой и тихо посмеиваясь, я прикрепляю передатчики GPS к серебристому «мерседесу» и синему «пежо», которые стоят рядом с Боллой.
Потом плачу огромные деньги за то, чтобы ради меня подняли шлагбаум, и уезжаю в сторону Рингебу, что в округе Оппланн.
11
Большая деревянная церковь с красной колокольней, построенная на склоне горы, возвышается над Рингебу неподалеку от языческого капища и места тинга.
Когда я выхожу из Боллы прямо напротив церкви, меня встречает священник, который явно долго ждал меня. Мы пожимаем друг другу руки. Я еще раз прошу прощения, что разбудил его с утра. Он уверяет, что за многие десятилетия его ни разу не будили по такому увлекательному поводу.
Священник Сигмунд Скарнес — толстенький приятный мужчина лет шестидесяти. В полном восторге он водит меня по церкви и рассказывает ее историю. Церковь Рингебу была построена до 1270 года и является блестящим примером того, насколько неохотно норвежцы расставались с верой в асов и переходили к вере во Христа. В верхней части росписи церкви еще можно найти остатки изображений скандинавских богов, позже закрашенные.
Одним из древнейших предметов в церкви, чудом уцелевших во время охоты деятелей Реформации на изображения богов, является скульптура святого Лаврентия. Красивая деревянная фигура, которая стоит с левой стороны от входа на хоры и держит в руках красную Библию, настолько женственна, что даже ввела меня сначала в заблуждение.
Крестильная купель из серого стеатита тоже сохранилась с древних времен. В верхней части кольцо из более темного камня обрамляет купель.
Когда Сигмунд Скарнес завершает свою экскурсию, я спрашиваю, нельзя ли мне походить одному и полюбоваться великолепием церковного убранства. Я рассказываю, не вдаваясь в детали, что ищу скрытое послание, которое, по-видимому, было оставлено для последующих поколений. Сигмунд Скарнес удаляется для работы над воскресной проповедью.
Из машины я приношу сумку с оборудованием. Цифровая камера, ноутбук, лупа, мощный карманный фонарь. Медленно и методично я двигаюсь по церкви. В особенности внимательно изучаю фигуру святого Лаврентия, поскольку в ней можно легко спрятать указания и знаки. Но я ничего не нахожу. Рассматриваю саму фигуру и пьедестал, к которому она прикреплена. Изучаю красную Библию. В предыдущем указании упоминалась Библия.
Сигмунд Скарнес подходит ко мне, чтобы убедиться, все ли в порядке.
— Ты, как я вижу, заинтересовался нашим святым Ларсом?
— Очень красивая статуя. — В этот момент до меня доходит смысл его слов. — Как вы его назвали?
— Вообще-то, его имя святой Лаврентий. Святой Лаврентий был казначеем и диаконом в Риме в третьем веке. Согласно преданию, беднягу сожгли заживо за то, что он раздавал церковные сокровища беднякам. Такая судьба! Считается, что его череп до сих пор находится в Ватикане.
— Но ты сказал — Ларс?
— Так называли его в этих краях. Святой Ларс.
Листай Библию Ларса там где солнце встает.
Текст из церкви Гарму намекает на святого Лаврентия!
Священник возвращается в ризницу к своей будущей воскресной проповеди, а я спешу к святому Ларсу. Цифровой камерой со вспышкой и без вспышки, при разном освещении снимаю и снимаю. Крупный план лица, плащ, красную ткань на левой руке и, не в последнюю очередь, Библию.
Листай Библию Ларса…
В темном углу церкви перекидываю картинки на ноутбук. Потом включаю программу обработки фотографий. Программа в состоянии превращать негатив в позитив, имитировать ультрафиолетовые лучи, изменять контрастность, размер, количество пикселей, цветовую гамму, искажать цвет, перспективу и угол съемки. Археологи и хранители произведений искусств часто используют эту программу, чтобы отфильтровать какие-то цвета и увидеть первоначальные движения кисти, которые были перекрыты красками при реставрации.
Изображения Библии содержат огромное количество информации.
Под восемью слоями краски я обнаруживаю контуры каких-то знаков, такие слабые, что они должны были быть практически не видны невооруженным глазом, уже когда их наносили. Не знаю, какого рода чернила использовали тогда — это может быть что угодно: от дистиллированного меда или луковичного сока до обработанного уксуса или мочи, — но только получилась бесцветная надпись, которую потом закрасили. Чтобы прочитать буквы, они должны были подогревать ее или покрывать особой проявляющей жидкостью (так, например, отвар красной капусты делает видимым то, что написано уксусом). Ну а в наше время достаточно воспользоваться дорогой и весьма совершенной компьютерной программой.
— Удалось что-нибудь найти? — кричит священник из ризницы.
— На это потребуется время.
Мне не хотелось бы лгать в Божьем доме. Но это не совсем ложь. Не вижу оснований рассказывать ему, что я только сию минуту обнаружил
анх, тюр и
крест, после которых шел короткий текст.
12
Пансионат, в котором я поселился, расположен в городке. Комната примитивная, но мои требования не очень высоки. Кто-то сдвинул некоторые мои вещи. Не слишком сильно, но достаточно для того, чтобы я заметил. Я задумался, знает ли Хассан, что я здесь. Но я отбрасываю эту мысль.
Я трачу остаток вечера на расшифровку кода, скрытого под краской. Если определить технику мастера кодировки — сдвинуть знаки и потом вставить произвольные знаки, чтобы ввести в заблуждение, — то дальнейшее больше вопрос терпения, чем ума.
Ровно в 23:27 текст оказывается расшифрован:
Как Дева Мария держит Иисуса внутри себя
так живот вмещает раку
Хвала тебе Фома!
Я долго сижу не двигаясь.
Не могу удержаться от смеха.
Древние хранители запрятали весточку внутрь фигуры, которая стала указателем.
13
Утреннее солнце светит холодным светом с по-утреннему бледного неба. Священник Сигмунд Скарнес, приветливо улыбаясь, идет мне навстречу по дорожке. Он делает вид, что очень озабочен, и показывает на ящик с инструментами у моих ног:
— Думаешь сносить мою церковь?
— Я узнал, где находится сообщение!
Напряженно и вопросительно он смотрит на меня.
— Внутри святого Лаврентия, — объясняю я.
— Вы уверены?
Внутри фигуры? Насколько я понимаю, она не полая.
Мы отпираем церковь и зажигаем свет. В церкви холодно и сыро. Через окна, имеющие в верхней части форму креста, падают косые лучи света. Сигмунд Скарнес набрасывает на плечи одежду. Пока он зажигает свет в алтаре и стеариновые свечи в кованых железных подсвечниках, я приношу ящик с инструментами и всю мою технику и ставлю в середину центрального прохода, прямо перед святым Лаврентием. Зубила, отвертки, молоток, банку растворителя уайт-спирит, фонарь, нож и тонкую ножовку.
Фонарем освещаю место, где фигура соединяется с деревянным пьедесталом. Старинные вещи ведь очень хрупкие. Не хотелось бы что-то испортить.
Около часа я провожу предварительное обследование. Уайт-спиритом осторожно удаляю отколовшуюся краску и клей между скульптурой и пьедесталом. Сзади меня священник и служительница беседуют — очень тихо, чтобы не мешать мне, — о предстоящем венчании.
По полу тянет холодом, когда кто-то открывает дверь и входит в церковь.
— Вы всегда желанные гости, — говорит Сигмунд Скарнес и идет к двери, — но, к сожалению, сегодня церковь закрыта.
В это время я фонарем освещаю щель между деревянной скульптурой и пьедесталом.
Один из вошедших что-то говорит.
Сигмунд Скарнес переходит на английский и спрашивает:
— Where are you from?
[45]
Низкий голос отвечает:
— From far away.
[46]
14
Хассан.
Из легких у меня исчезает воздух, из сердца — кровь, из мышц — сила. Я всхлипываю и ухватываюсь за деревянную колонну.
В среднем проходе между рядами сидений стоит Хассан и рядом четыре человека, которых я раньше не видел.
— Бьорн, — священник морщит лоб, — что-то не так? Кто они?
— Хелло, Бьорн, — говорит Хассан.
Я с ужасом делаю шаг в сторону алтаря.
— Бьорн! — Священник говорит строгим повелительным тоном, словно требуя объяснения тут же на месте, причем это объяснение должно быть удовлетворительным.
Один из пришедших с Хассаном тащит служительницу к скамейке. Она пытается сопротивляться.
— Ну, знаете! — возмущенно говорит она и получает удар по лицу.
Удар не очень сильный, но женщина замолкает. Из носа вытекает капля крови, собирается на верхней губе, потом падает на белую блузку, где приколота табличка с именем служительницы. Толчком ее заставляют сесть на скамейку.
Священник, ничего не понимая, с отчаянием смотрит на Хассана.
— Что им надо? — говорит он в пространство.
Один из людей Хассана закуривает.
Сигмунд Скарнес должен заявить протест — строгим голосом священника он хочет сказать, что курение в деревянной церкви в связи с повышенной пожароопасностью категорически запрещено, честно говоря, они и сами должны это понимать, — но я вижу, он осознает, что, что бы он ни сказал, этот человек ни за что не потушит сигарету.
Шаги Хассана глухо отдаются в церкви, он идет по проходу, подталкивая священника перед собой. Я слежу за каждым его шагом. В нескольких метрах от меня он останавливается:
— Где «Свитки Тингведлира»?
Голос хриплый. Но интонация не угрожающая. Он задал вопрос и ждет ответа. Он привык, что люди ему покоряются.
— У меня их нет.
— Но ты можешь сказать, где они.
— Они были в Исландии. Но у меня нет ни малейшего представления, где они сейчас.
— Вот как? Как поживает твой пальчик?
Я пытаюсь скрыть свой страх. Во рту пересохло. Один из подручных Хассана смеется. Непонятно, над его вопросом или над моей реакцией.
Хассан берет мою левую руку. Нежно, по-отцовски. Несколько недель назад я снял бандаж с мизинца. Врач сказал, что срослось хорошо.
Хассан испытующе нажимает на мизинец. Звучит мой стон, не столько от боли, сколько от ужаса. Но он неожиданно отпускает палец.
Двое подручных привязывают мои руки к круглому столбу.
Колени у меня обмякли, не держат тело.
— Бьорн, что они с тобой делают? — испуганно спрашивает священник.
Отвечать я не в состоянии.
Хассан с любопытством смотрит на фигуру святого Лаврентия:
— Вторая копия внутри?
Вторая копия?.. До меня доходит, что он имеет в виду. Что внутри деревянной скульптуры спрятана еще одна копия «Свитков Тингведлира».
Такая мысль мне в голову не приходила.
— Не думаю.
— Где «Свитки Тингведлира»?
Я тяжело дышу. Запах терпкого лосьона для бритья, исходящий от Хассана, смешивается с запахом дерева и смолы. Через дверь, словно откуда-то из другого мира, доносятся гудки локомотива.
— У тебя десять пальцев, — констатирует Хассан.
Я непроизвольно бросаю взгляд на свои бледные руки. Ногти выглядят непривлекательно. Я грызу их с детства. Рефлекторно сжимаю кулаки.
— А времени у меня много, — добавляет он. — Так где же свитки?
— Свитки хорошо спрятаны. Мне очень жаль, но их невозможно украсть.
Я пытаюсь произнести это по-деловому, как простую констатацию печального факта. Но вместо этого звучит голос рыдающего, скулящего труса.
— Я спрашивал не об этом.
Он кивает своим подручным. Сейчас начнется, думаю я. Легкие перестали функционировать. Как бегун-марафонец, я с трудом вдыхаю воздух. Сейчас потеряю сознание. Ну какая разница! Отключите меня, думаю я. Щелкните выключателем, выньте штепсель.
Я представляю себе, как они будут ломать мне пальцы, один за другим. Сначала мизинец. Потом безымянный. Средний. Указательный. Большой палец.
Затем перейдут на правую руку.
От ужаса я чувствую тошноту. Пусть я потеряю сознание, думаю я. К черту унижение. Пусть я потеряю сознание и очнусь, когда все кончится, когда Хассан засунет церковь Рингебу в свой карман и они уберутся.
Хассан и его подручные встают перед фигурой святого Лаврентия и начинают изучать ее. Тихо переговариваются между собой.
Священник растерян. Потом вопросительно смотрит на меня. Я качаю головой, чтобы предупредить его.
Хассан пробует раскачать фигуру. Второй вынимает из ящика с инструментами зубило.
— Подождите! — восклицает священник.
Он, как и я, понял, что они затеяли.
Один из арабов всовывает зубило между фигурой святого Лаврентия и пьедесталом и начинает раскачивать.
Сигмунд Скарнес делает два-три шага к человеку, уничтожающему сокровище, которому восемьсот лет.
— Остановись!
Хассан бьет. Быстро и неожиданно. Кулаком попадает в висок. Удар настолько силен, что священник переворачивается и падает, задевая головой острый угол одного из сидений. Что-то трещит. Священник падает на пол и лежит без признаков жизни.
Как ни в чем не бывало, остальные раскачивают святого Лаврентия. Отлетают куски дерева. Я почти слышу, как беззвучно кричит святой. Самый маленький из арабов отрывает фигуру от пьедестала и протягивает ее Хассану. Тот поднимает ее высоко вверх как трофей.
Сейчас они перейдут ко мне, думаю я. Будут ломать пальцы. Один за другим.
Но они гораздо более изощренные.
Один из них подносит бутыль с уайт-спиритом к девятисотлетней крестильной купели и заполняет ее. Другой тащит за собой плачущую церковную служительницу.
— Ты вынуждаешь нас крестить ее, — говорит Хассан.
Крестить ее?
Один из негодяев всовывает пальцы в волосы пытающейся вырваться церковной служительницы и опускает ее лицо в уайт-спирит. Она сопротивляется.
— Где «Свитки Тингведлира»? — спрашивает Хассан.
Я с ужасом понимаю, что они подвергнут ее той же пытке, что и преподобного Магнуса. Это привело того к смерти в «Бассейне Снорри». Только здесь страшнее. В купальне была чистая вода. От уайт-спирита, попавшего служительнице в легкие, будет химическое отравление легких. Если только еще раньше они не утопят ее.
— Стойте! — кричу я. — Я скажу, где они.
Служительница с мокрыми волосами в панике хватает купель и отбрасывает ее. Уайт-спирит брызжет на горящие стеариновые свечи. И на курящего араба. Он вспыхивает как факел.
Мое сердце разрывается. С душераздирающим криком, весь объятый пламенем, он бросается бежать по проходу, запинается, падает и начинает корчиться. Хассан и другие арабы набрасывают на него пиджаки в отчаянной попытке погасить огонь. Араб кричит от паники и боли.
А я кричу, призывая на помощь. Языки пламени вокруг нас бегут по полу, по дорожке, поднимаются по сиденьям. Огонь начинает пожирать сухое дерево.
Руки мои все еще прикованы.
В этот момент срабатывает пожарная сигнализация и автоматическая система пожаротушения.
Хассан выпрямляется. Смотрит на меня. Как будто весь этот кавардак начался по моей вине. Под мышкой он держит святого Лаврентия.
В отчаянии я пытаюсь оторваться от столба. Вода льется и стекает с Хассана.
Мне кажется, он обдумывает, не вынуть ли пистолет, чтобы здесь же, на месте, отомстить мне за все. А может быть, он предпочтет оставить меня среди огня, чтобы обречь на мучительную смерть.
Звук сигнализации режет слух. Один из арабов говорит что-то Хассану. Тот отвечает. Они быстро идут к двери и уводят с собой из горящей церкви обожженного коллегу.
— Помогите! — слабым голосом кричу я.
Вокруг нас огонь и вода ведут бой.
Пламя охватило тот ряд скамеек, куда попало больше уайт-спирита. Языки пламени сражаются со струями воды, льющейся из автоматических огнетушителей. При каждом вдохе я кашляю от дыма.
Все еще рыдая, всхлипывая и кашляя, служительница освобождает меня.
— Что происходит? Что происходит? — плачет она.
Мы подхватываем священника и тащим его тяжелое тело по проходу, через дверь, вниз по каменной лестнице. На надежном расстоянии от горящей церкви укладываем на увядшую траву среди могильных памятников. Из двери церкви валит дым.
Успеваем заметить отъезжающий черный внедорожник «Мерседес GL». В заднем стекле между обожженным арабом и Хассаном мелькнула фигура святого Лаврентия.
Священник перестал дышать.
Глаза его полуоткрыты и смотрят на ту вечность, познанию которой он посвятил всю жизнь. Тонкие струйки крови текут из носа и ушей.
Мы с церковной служительницей безуспешно пытаемся наполнить его легкие воздухом и заставить сердце биться.
Но нам это не удается.
Служительница качает головой. На лице ее безмерное отчаяние.
Кончиками пальцев я закрываю священнику глаза.
На фоне продолжающей звучать сигнализации все громче сирены пожарных машин, которые едут снизу, из городка.
— Прости меня, — беззвучно говорю я и тихо плачу.
ЗАДАНИЕ
АНГЛИЯ
1
Иногда против воли и неожиданно к тебе являются посланцы из прошлого.
Эти привидения обретают плоть и кровь и восстают из ничего, хотя ты пытался их забыть.
Говорят, что от прошлого нельзя убежать. Можно только забыть. Спрятаться. Но они все равно всегда тебя найдут. Всегда.
2
Словно греческий храм или императорский дворец в древнем Риме, в сердце Лондона, на респектабельной улице Уайтхолл в районе Вестминстер, гордо возвышается облицованное мрамором здание фонда СИС.
[47] Широкая гранитная лестница ведет к двустворчатой двери из красного бука за семью массивными колоннами.
Фонд был создан в 1900 году для координации всевозможных исследований в общем банке знаний, что-то вроде ЦРУ в области науки. СИС поддерживает контакты с университетами и исследовательскими центрами всего мира.
Приемная СИС выглядит как музей для избранных. Все говорят негромко. Над панелями из хорошо отполированного красного дерева висят гигантские картины с сюжетами из древних времен и Средневековья. Друиды около Стоунхенджа. Моисей перед расступающимся морем. Убийство Цезаря. Иисус на кресте. Мария Магдалина, кормящая ребенка. Тамплиеры в храме Соломона. Рыцари короля Артура, поднимающие Священный Грааль в полнолуние.
Диана и профессор Ллилеворт ждут меня за стойкой из темно-красного тикового дерева.
—
Бьарн, — тихо говорит Диана. Обнимает меня и тут же отпускает. — Сколько лет, сколько зим.
Когда-то мы были очень близки. А лучше сказать, были любовниками — это слово точнее. Несколько блаженных недель я верил, что наконец-то нашел женщину своей жизни. Я помню ночь, проведенную в лондонском небоскребе, и нашу по-летнему сладкую любовь в усадьбе своей бабушки на берегу Осло-фьорда. Но внезапно она выбросила меня из своей жизни, как отгоняют надоевшую муху. Я давно заметил эксклюзивное золотое кольцо на безымянном пальце левой руки. Ни один из нас ни слова не говорит о том, что когда-то она жарко шептала мне в ухо
Бьарн, когда ее длинные пурпурно-красные ногти царапали по моей коже, а заодно и по моей душе.
Профессор Ллилеворт протягивает руку.
— Спасибо за все, что было, — произносит он формальную вежливую фразу и крепко жмет мою руку.
Что было… Эту историю я стараюсь забыть. Мы нашли старинный золотой ларец в руинах монастыря иоаннитов Вэрне. Профессор Ллилеворт был направлен от СИС для того, чтобы извлечь и заполучить ларец, а заодно отравить мое существование. Ллилеворт делано смеется, когда я напоминаю ему, как я похитил у него ларец Святых Тайн, ссылаясь на поддержку норвежских органов охраны памятников древности.
3
Именно профессору Ллилеворту я позвонил несколько недель назад, когда помогал Трайну найти надежное убежище для «Свитков Тингведлира». СИС прислал в Исландию самолет. Теперь переводчики и исследователи из университета Трайна работают над свитками совместно со специалистами фонда где-то в Лондоне. Я даже не хочу знать, где именно. Так надежнее.
Профессор Ллилеворт позвонил мне сегодня утром, когда я был у ленсмана в Рингебу. Пожар в церкви потушили. К счастью, автоматическая система пожаротушения и пожарные из Рингебу позаботились о том, чтобы начавшийся пожар не привел к катастрофическим последствиям.
— Откуда СИС узнал, где я нахожусь? — спросил я.
— Бьорн, мы
знаем, — ответил профессор просто.
— Чего вы хотите?
— Нам надо поговорить.
— Зачем?
— Узнаешь, когда прилетишь.
— Прилечу?
— Тебя будет ждать самолет в Гардемуене, — сказал профессор и повесил трубку.
Вот так работает СИС.
Закончив дела у ленсмана в Рингебу, я еду домой в Осло. Полицейские поднимаются вместе со мной в квартиру, где я принимаю душ и собираю в сумку одежду, не забыв про паспорт. Я беру с собой дощечку с рунической надписью из Урнеса, предварительно упаковав ее в футляр для флейты. Мне нужна помощь, чтобы датировать ее.
Рагнхиль везет меня в Гардемуен. По дороге я рассказываю обо всем, что случилось. Она говорит, что уехать на несколько дней за рубеж — хорошая идея.
На самолете СИС «Гольфстрим» я лечу из Гардемуена в Лондон. Уже стемнело, когда мы приземляемся. Лимузин довозит меня из Хитроу до Уайтхолла.
4
— Что они увезли из Рингебу? — спрашивает профессор Ллилеворт.
— Деревянную скульптуру святого Лаврентия.
В конференц-зале рядом с приемной три удобных кресла перед экраном, который Диана опускает с помощью беззвучно работающего мотора. Под потолком проектор.
— Вы можете сказать, что собой представляют «Свитки Тингведлира»? — спрашиваю я.
Профессор Ллилеворт складывает на груди руки:
— Это копия древнего библейского манускрипта.
— А что в нем такого исключительного?
— Это мы и пытаемся установить.
— Как свитки попали в Исландию?
— Нам это неизвестно, — отвечает Диана.
— Что-то мне не верится.
— У нас есть несколько гипотез на этот счет, — говорит профессор Ллилеворт.
— Буду рад услышать.
— Давай начнем сначала.
Это хорошее место, чтобы начать.
Диана управляет проектором с помощью пульта. На экране появляется фотография.
— Стюарт Данхилл, — комментирует изображение на экране Диана, — выдающийся археолог 1970-х годов.
Профессор Ллилеворт добавляет:
— В 1977 году он нашел ранее неизвестную гробницу в скалах за храмом Амона-Ра, недалеко от Долины царей, под Луксором. Вход в гробницу, замурованный и заштукатуренный, находился за алтарем храма.
На экране вместо портрета появляется древняя египетская настенная живопись с иероглифическими надписями по бокам.
— Это изображение из гробницы, обнаруженной Данхиллом, — говорит Диана.
— Роспись датируется 1025 годом плюс-минус десять лет, — поясняет профессор Ллилеворт.
— Египтяне не употребляли иероглифы в это время, — возражаю я. — Они писали на коптском или арабском языке. Или на греческом, если угодно.
— Правильно, но это была священная надпись, не предназначенная для человеческих глаз. Молитва, обращенная к богам. В этих целях, как тогда считалось, иероглифы имели больше силы. — В уголках губ профессора я вижу улыбку. — Поэтому они и пользовались старинными знаками.
— Сама гробница, — говорит Диана и показывает серию фотографий, — на тысячу лет старше. Фактически погребальный комплекс состоит из целых трех камер. Внешняя служила только прикрытием для внутренней камеры. Но — и здесь начинается самое интересное — за внутренней камерой, обнаруженной за алтарем, таилась еще одна погребальная камера.
— Кто был в ней захоронен?
— Мы не знаем, — отвечает профессор Ллилеворт. — В древних иероглифических текстах, которым много тысяч лет, усопшего и захороненного в этой гробнице попеременно называют то Еретиком, то Осужденным, то Святым.
— По всей видимости, — говорит Диана, — это был кто-то из царского рода, кто-то, кого осудили современники, но кого позже стали почитать потомки. Она показывает фотографии статуэток и барельефов. — Новые иероглифы в гробнице на две с половиной тысячи лет моложе старых.
— Что там написано?
Диана увеличивает иероглифы.
— Мы потратили много времени на то, чтобы расшифровать их, — говорит она. — Проблема в том, что в них нет особого смысла.
Профессор добавляет:
— Гробница была найдена Стюартом Данхиллом в 1977 году, но, поскольку сокровища и мумия уже исчезли, международный интерес она не вызвала.
— Гробница расположена вверху на скалах около Нила, к северу от Долины царей. — Диана щелкает пультом, и появляется снимок, сделанный на берегу Нила. Под синим небом видны безжизненные склоны скал. На плато стоит храм, больше похожий на дворец. — Тысячу лет назад от реки к храму вел канал.
— Более поздние сообщения, написанные иероглифами, кажутся не вполне понятными и даже смешными, — говорит профессор Ллилеворт. — Они утверждают, что гробница была разграблена, если привести египетский календарь к современному, тысячу лет спустя после Рождества Христова. А осквернили гробницу — и сейчас я скажу буквально словами, взятыми из настенных надписей, —
варвары из диких стран на севере.
— Тебе это о чем-нибудь говорит? — спрашивает Диана.
— Имеются в виду викинги?
— Именно к такому выводу пришел Стюарт Данхилл, — говорит профессор Ллилеворт. — К сожалению, коллеги-археологи не просто с недоверием отнеслись к его словам. Его осмеяли. Опозорили. Археологическое сообщество семидесятых уничтожило его как человека и специалиста.
— Конечно, мы знаем, что доказательств плавания викингов вверх по Нилу не существует, — говорит Диана. — Даже Снорри, не скупившийся на слова, когда хотел украсить королевские саги, ничего не говорит о походах викингов в Египет. Можно было предположить, что археолог, который обнаружил бы подобную погребальную камеру, должен был бы пользоваться почетом и уважением. Но для Данхилла это его открытие стало началом конца. Вместо того чтобы сообщить о находке в специальном журнале и документировать свои тезисы, как это принято, чтобы можно было их проверить, он продал историю в журнал
National Geographic. Он безапелляционно утверждал, что норвежские викинги совершили поход в Египет.
— Стюарт все делал неправильно, — говорит профессор Ллилеворт. — Он думал, что его будут почитать, как Говарда Картера наших дней, но озвучил слишком поспешные выводы, которые сделал на основе недостаточно проверенного материала. Коллеги, которые изучали эти иероглифы, пришли к другим выводам. Так, например, они истолковали слова
варвары из диких стран на севере как
воины императора Византии.
— Фиаско заставило его обратиться к алкоголю, — говорит Диана. — И он покатился вниз по наклонной.
— Он умер?
— Смотря как к этому относиться, — говорит Диана, грустно улыбаясь.
— Он пьет, — объясняет профессор Ллилеворт, — Начиная с 1979 года он живет и в каком-то смысле работает в Институте Шиммера.
— Парадоксально то, что за последние двадцать пять лет появилось еще больше намеков, которые делают вероятным и в известном смысле подтверждают тезис Стюарта о том, что викинги поднимались вверх по Нилу. Твои собственные находки тоже подтверждают эту гипотезу, — добавляет Диана и показывает снимки гробницы в монастыре Люсе.
От этих фотографий у меня мороз прошел по коже. Я даже не подозревал, что представители СИС были среди ученых, которые побывали после меня в гробнице. Но конечно, они должны быть там. СИС присутствует везде.
— Кто стоит за убийством преподобного Магнуса и священника в Рингебу? — спрашиваю я.
— Мы не знаем. Но у нас есть кое-какие подозрения, — говорит профессор Ллилеворт.
— После обнаружения гробницы в 1977 году распространилось много слухов о том, что за текст был начертан на ее стенах, — говорит Диана. — Коллекционеры всего мира желали получить о гробнице как можно больше информации. Например, точные копии или фотографии надписей и росписей из нее.
— И покупали они эту информацию по заоблачным ценам.
— Одним из самых активных коллекционеров, появившихся тогда, был некий шейх. Загадочный мультимиллионер. Шейх Ибрагим аль-Джамиль ибн Закийи ибн Абдулазиз аль-Филастини. Я не знаю ни одного человека, который хоть раз встречал бы его. У нас нет даже его фотографии. Он обладает одной из самых значительных коллекций древних редкостей в мире. Считается, что именно он владеет полным сводом
Codex Sinaiticus («Синайского кодекса»), рукописного пергамента Библии на греческом языке. Этот кодекс разбросан по всему миру: 347 листов находятся в Британской библиотеке, 12 целых листов и 14 фрагментов — в монастыре Катарины, 43 — в университетской библиотеке в Лейпциге и 3 листа — в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге.
— И возможно, один полный и неповрежденный комплект у шейха Ибрагима, — говорит профессор Ллилеворт.
— Шейх нанял ряд коллекционеров, антикваров, библиотекарей и ученых всего мира, чтобы быть в курсе новостей, связанных с походом викингов в Египет, — говорит Диана. — Почему? Мы не знаем. И не стоят ли люди шейха Ибрагима за убийствами в Рейкхольте и Рингебу? Этого мы тоже не знаем.
— Но исключить этого нельзя, — говорит профессор Ллилеворт. — Мы подозреваем, что организация шейха стояла за двумя убийствами в 1980-х годах. Именно так он захватил сделанную в древности александрийскую копию
Codex Vaticanus («Ватиканского кодекса»), которая считается одним из самых старых сохранившихся библейских манускриптов.
— Копию? Я и не подозревал, что существует копия.
— О многом в этом мире мы, ученые, не подозреваем.
— Ты знаком с теориями о параллельных мирах? — спрашивает Диана.
Я смотрю на нее широко открытыми глазами.
Она смеется:
— Двоемирие существует также и там, где речь идет об исторических артефактах. Один мир — это тот, в котором находимся мы. И еще есть коммерческий мир, состоящий из коллекционеров, воров, скупщиков краденого, посредников и продавцов. Они никогда не брезговали никакими средствами, чтобы заполучить самые ценные экспонаты. Манускрипты. Картины и художественные изделия. Первые издания книг. Археологические находки.
— И шейх один из таких людей?
— Худший из них.
— Он мифическая фигура, которая работает через сеть агентов и представителей во всем мире, — говорит профессор Ллилеворт. — Сам он отшельник, который спрятался где-то в пустыне и наслаждается своей коллекцией, своим богатством и верой.
— Но как же он узнал о пергаменте преподобного Магнуса? И о моих находках?
— Он знает
все, — отвечает Диана.
— Он имеет такие возможности, какие имеют только государственные спецслужбы. И у него не бывает угрызений совести.
— Почему он так отчаянно стремится завладеть «Свитками Тингведлира»?
— Работа над переводом только началась, — отвечает Диана, — но мы предполагаем, что «Свитки Тингведлира» являются копией на иврите и на коптском языке гораздо более древнего оригинального библейского манускрипта, который, возможно, даже древнее
Septuaginta (Септуагинты), самого первого собрания древнегреческих переводов Ветхого Завета.
— Зачем шейху этот текст?
— Может быть, он просто хочет
иметь его, — высказывает предположение Диана.
— Владеть им, — говорит профессор Ллилеворт.
Догадка кажется мне малоправдоподобной.
— Может быть, в нем есть какая-то новая информация, новые знания, — предполагает профессор Ллилеворт.
— Мы и вправду не знаем,
Бьарн, — говорит Диана.
Она так и не научилась произносить мое имя. Когда-то мне ее акцент казался чарующим.
Бьарн…
— Так что же мы делаем? Зачем вы меня вызвали сюда?
Диана и профессор Ллилеворт на мгновение опускают глаза.
— СИС хочет нанять тебя. Ты нам нужен! — говорит Диана и смотрит мне в глаза.
В те времена, когда СИС нашел ларец Святых Тайн, я был последним из тех, кто был им нужен. Я был норвежским контролером. Бледным и хитрым, вечно доставлявшим головную боль холеным британцам. Они искали золотой ларец с манускриптом, которому тысяча лет. А я им очень мешал. Не исключаю, что мое безграничное упрямство внушило им ко мне уважение. Если ты упрям, ты можешь найти решения, которые другому никогда не придут в голову. Я приобрел некоторое уважение в академических кругах. На конгрессах и семинарах иностранные ученые узнавающе кивают, когда встречают меня. Бьорн Белтэ. Норвежский археолог. Альбинос, который поставил на колени самого Майкла Мак-Малина. Великого магистра. Но это совсем другая история.
— Мы знаем тебя,
Бьарн, — говорит Диана. — Ты настойчивый. Решительный. Бесстрашный. Упорный.
«А кроме того, — и это ты тоже прекрасно знаешь, — наивный, доверчивый, тот, кого легко обмануть», — подумал я про себя.
— Деньги можешь не экономить, — говорит профессор Ллилеворт. — Ты получишь неограниченный бюджет. Мы будем пополнять твой счет любым количеством денег. Плюс гонорар, который никто не назовет скромным.
— Я даже не знаю, с чего начать.
— Начни со Стюарта Данхилла, — говорит Диана. — Отправляйся в Институт Шиммера и поговори с ним. Потом поезжай в Египет. Можешь ездить куда хочешь.
— Но… Что я буду делать?
— Узнай, что произошло тогда в Египте, — говорит профессор Ллилеворт.
— Причем раньше шейха Ибрагима, — говорит Диана.
ОПУСТИВШИЙСЯ УЧЕНЫЙ
СРЕДНИЙ ВОСТОК
1
У Стюарта Данхилла мертвенно-бледная кожа, тусклый взгляд, который он к тому же все время отводит в сторону, и вообще он производит впечатление человека, который утром долго спит, а днем прячется от людей, пьет и ждет наступления темноты.
Сейчас он сидит на стуле в самом дальнем углу библиотеки Института Шиммера, словно специально отыскал такое место в здании, которое более всего удалено от неприятностей мира. На его коленях лежит свежий номер «Таймс», который он даже не развернул.
Когда-то давно он, вероятно, был изысканным и весьма живым человеком. Сейчас его поседевшие волосы зачесаны назад. Черты лица Данхилла чистые и гармоничные, отчего он похож на опустившегося аристократа, который спустил огромное наследство и теперь живет из милости у своего небогатого собутыльника. Данхилл ненадолго поднимает на меня глаза, больные, с красными прожилками. Мне кажется, он пытается вспомнить, не встречались ли мы на каком-нибудь банкете, где напились до потери сознания, а потом забыли друг друга.
Я сажусь рядом на пустой стул. Не говорю ни слова. Он тяжело дышит. Мое присутствие само по себе вызывает у него явное неудовольствие. Когда-то я лечился в одной клинике, и тогда любой проходивший мимо санитар тоже вызывал у меня настоящую бурю
негодования.
— Я знаю, кто ты, — говорит он немного в нос.
Я слишком растерян, чтобы отвечать.
— И знаю, с какой целью ты приехал.
Не говоря ни слова, я протягиваю ему руку. Моя рука бледнее его руки. Но рукопожатие у него неожиданно крепкое.
— Извини, я немного выпил, Бьорн Белтэ. — Он произносит мое имя почти правильно. — Тот самый Бьорн Белтэ, который нашел ларец Святых Тайн.
— Золотой ларец нашли сотрудники СИС. Мое дело было его охранять.
— И ты охранял.
— Я делал свою работу.
— А теперь ты нашел «Кодекс Снорри», «Свитки Тингведлира» и гробницу в монастыре Люсе. Рискнешь сходить со мной в бар?
— Да, с удовольствием.
2
Институт Шиммера лениво дремлет в долине посредине негостеприимной каменной пустыни в окружении оливковых и фиговых рощ. Прямое как стрела шоссе пересекает долину полосой асфальта от одной стороны горизонта до другого. Склоны ближайших гор покрыты олеандрами и сандаловыми деревьями. Семьсот лет тому назад монахи построили в этом оазисе тишины монастырь. В начале 1970-х годов к выжженным солнцем зданиям монастыря были пристроены тысячи квадратных метров площадей из алюминия, стекла и зеркал. Архивы. Читальные залы и лаборатории. Гостиничное крыло. В этом огромном комплексе из старых и новых построек работают вместе теологи и философы, лингвисты и палеографы, этнологи, историки и археологи. Каждый из них является ведущим мировым специалистом в своей области. В архиве института находятся пергаменты, папирусы и документы начиная с дохристианской эпохи. Кто-то реставрирует древние документы, пергаменты и папирусные свитки. Кто-то переводит. Кто-то истолковывает.
А кто-то сидит в баре и пьет.
— Выдающийся археолог отличается от посредственного, — говорит Стюарт Данхилл, рассматривая мое искаженное лицо сквозь бокал с джин-тоником, — способностью увидеть логический ход там, где другие видят только хаос. Хороший археолог — в действительности детектив. Он умеет проникнуть в ум, в мысли тех, кем он занимается. Нам надо понять, как думали те люди, следы которых мы ищем. Эта способность у тебя есть. — Он встает и понижает голос: — Как ты думаешь, почему люди шейха позволяют тебе действовать? Да потому, что они знают, что твои шансы найти что-то выше, чем их собственные! Ты замечательный археолог. У тебя есть чутье! Ты обладаешь уникальной способностью,
Бьарн. Ты человек целеустремленный, упорный и талантливый. Поэтому ты справишься с задачами, которые поставишь перед собой.
— Откуда вы знаете, кто они?
— Откуда я знаю, что они работают на шейха? Это очевидно. Он единственный достаточно безумный и достаточно богатый человек, чтобы осуществлять такую операцию.
3
При следующей встрече в тот же вечер Стюарт Данхилл рассказывает мне, что он вырос в принадлежавшей к высшим слоям общества семье в Виндзоре. Он делится со мной своей влюбленностью в древнюю историю. Рассказывает, как интерес к событиям эпохи Моисея привел его в гробницу в районе Луксора в 1977 году. Но хохот коллег раздавил его, когда в журнале
National Geographic он выдвинул теорию о том, что викинги совершили поход в самое сердце Египта.
— Однако за это я должен благодарить только себя самого, — говорит он, погрузившись в глубокую депрессию после девятого или десятого джин-тоника.
— А что тогда произошло?
— Я сглупил. Меня так увлекли находки, что я захотел поделиться ими с миром. Немедленно. Мне казалось, что ждать невозможно. Я был молод и забыл, что у науки свои методы, свои традиции. И что их следует соблюдать. Сейчас я это понимаю. Мне надо было опубликовать сообщение о находке в общепризнанных солидных журналах. Документировать и подтвердить свои выводы, выложить все мои материалы, чтобы коллеги могли проверить каждую деталь. Как бы то ни было, я выдвигал совершенно новую теорию. Викинги в Египте… Мои факты были достоверными, но они предполагали свободную интерпретацию. Чтобы привлечь экспертов на свою сторону, нужно не только выдвигать убедительные аргументы против существующих теорий, но и документировать альтернативную гипотезу. Трудно, трудно, трудно… Переубедить специалистов в целой отрасли науки в правильности новой теории — на это требуется много лет. Даже когда ты прав.
— Что сказали специалисты?
— Они осмеяли меня, а когда смех улегся, отвергли предложенные мной аргументы, утверждая, что я понял иероглифы слишком буквально. Они считали, что
страна дикарей на севере — это в действительности Византийская империя, которая была в тот момент в расцвете сил и находилась в постоянном конфликте с Египтом. Они настаивали, что
варвары — это не египтяне, что европейцы по сравнению с египтянами — люди с
бледной светлой кожей и что
длинные до плеч волосы и бороды были тогда в моде почти во всей Европе. Даже описания и изображения длинных судов викингов они не восприняли всерьез. Профессора от Каира до Лондона уверяли, что египтяне рисовали стилизованные картинки под влиянием старых финикийских торговых и военных судов. Даже на самые бесспорные мои трактовки они отвечали своими альтернативными вариантами. Никто не принял моей теории.
— А как вы оказались здесь?
— Сначала я стал пить по-черному. Но к счастью, СИС узнал об этом и привел меня в чувство. Фонд финансирует мои исследования, — он поднял бокал с джин-тоником, — в этом институте.
— СИС?! — восклицаю я.
Ни профессор Ллилеворт, ни Диана ничего такого мне не говорили. Как это похоже на них! Они рассказывают только то немногое, что полагается знать.
— Ты знаком с Дианой?
Я отвечаю, что знаком.
— Милая девушка. В последние годы она уделяет мне много внимания.
— Вот как…
— Ты, должно быть, думаешь, что я здесь дурею от безделья и пью?
— Нет-нет.
— Не крути. Вижу по глазам. Но все это время я проводил здесь исследования. И вся информация по теме, которой располагает СИС на сегодняшний день, получена от меня.
— А конкретнее?
— Уже больше десяти лет нам известно о существовании документов, которые теперь называются «Кодекс Снорри» и «Свитки Тингведлира». Мы только не знали, куда они пропали. Пока твой друг, преподобный Магнус, не наткнулся на кодекс.
— А я думал, что ни то ни другое не было известно историкам.
— Большинству историков — да, не было. Мы работаем очень скрытно. В проекте участвуют археологи, историки, лингвисты и египтологи. Мы просмотрели документы, с которых Ватикан в последние десятилетия снял гриф секретности. Мы получили доступ к непрочитанным текстам в египетских музеях и архивах. Мы искали в древнескандинавских документах, в Исландии и Норвегии. Но никому не говорили, что именно мы ищем.
— Можно ознакомиться с тем, что вы нашли?
— Конечно. Завтра. Потому что теперь, дорогой Бьорн, я пошел в отключку.
В моей комнате в футляре от флейты лежит дощечка с рунической надписью из Урнеса. Четыре волоска, которые я сунул в щелку, закрывая футляр, еще на месте. Завтра я отдам ее в технический отдел.
Я сижу и смотрю телевизор. Пытаюсь отделаться от мысли, что они, конечно же, здесь. Мои преследователи. Хассан и его люди. Невидимые. Может быть, они смотрят на меня через микроскопическую видеокамеру, о которой я ничего не знаю. Может быть, они слышат мое дыхание, когда я ложусь спать.
4
В подвале под библиотекой Института Шиммера расположен архив. Он совсем не похож на темное пыльное помещение. Напротив, он идеально чист, купается в свете. В длинных рядах металлических шкафов на колесиках лежат документы, которые заставляют вспомнить о знаменитой Александрийской библиотеке.
Архив Института Шиммера вместил документы, которым больше тысячи лет: глиняные дощечки с надписями клинописью, папирусные свитки, негнущиеся пергаменты и манускрипты, написанные на пожелтевшей бумаге ручной выделки. Здесь можно найти фрагменты оригиналов текстов Библии, распоряжения императоров Тиберия, Веспасиана, Адриана и Цезаря, папирусные тексты, которые, возможно, читала Клеопатра, и военно-политические доклады, присланные из римской провинции Иудея о начале восстания евреев под руководством подстрекателя по имени Иисус. Здесь есть манускрипты, написанные римским историком Флавием Иосифом, и оригинал Первого послания святого апостола Павла к коринфянам.
Вокруг меня кишмя кишит учеными, которые, по сути, остались теми же школьниками, во время уроков занимавшими парты поближе к учителю, а на школьных балах — места на скамейках вдоль стен. Маленького роста мужчины с редкими волосами, в круглых очках. Высокие тощие женщины с прической конский хвост и взглядом, который направлен в самые глубины субтильных философствований метафизики. В дальнем углу дремлет старичок, который потратил всю свою жизнь на доказательства того, что некая ныне забытая иудейская секта в действительности имела тесные связи с группой агностиков, хотя все думают, что последняя была истреблена на сто лет раньше. Блещущие талантом молодые женщины, в платках, с пеналами и стипендиями от лучших университетов своей родины, вылавливают самые последние данные о преследовании катаров. Здесь теологи-христиане бок о бок сосуществуют с ортодоксальными иудеями и книжниками-мусульманами. И еще есть исследователи такого рода, как Стюарт Данхилл и я.
Алкоголик и альбинос.
Мы сидим рядом с аквариумом, где плавают разноцветные рыбки, которые, открыв рот, таращат на нас глаза. Именно таким я сам себя представляю, во всяком случае иногда.
Стюарт Данхилл принес штабель плоских коробок и рулон с двумя ручками и стал разворачивать его на длинном столе.
— Тора! Иудейское название Пятикнижия Моисея. Это копия, которой пятьсот лет. Другими словами, не очень древняя. Первоначально тексты писались на рулонах вроде этого. Они могли быть длиной в несколько метров. И только позже люди поняли, что удобнее воспроизводить и читать тексты в виде книг. Ветхий Завет первоначально был собранием религиозных и исторических текстов и законов на иврите, канонический текст которого был установлен две с половиной тысячи лет назад. Самая древняя из сохранившихся версий Ветхого Завета получила название «Септуагинта». Это перевод Библии на греческий язык, сделанный в Александрии более двух тысяч лет назад иудейскими книжниками, говорившими на греческом языке.
— А где хранится оригинал?
— «Септуагинта» находится в Ватикане. Но многие исходные тексты Ветхого Завета утрачены. А вместе с ними, к сожалению, исчезла возможность проконтролировать, подтвердить или опровергнуть то, что там написано. Или датировать важные библейские события. Но у меня есть кое-что интереснее.
Он раскрывает одну из коробок и вынимает копию и перевод пергамента с коптского языка.
— Мы наткнулись на это письмо, когда получили доступ к запыленным ящикам из Ватикана. Собственно говоря, мы искали копию «Септуагинты», которая, как считалось, относится ко времени папы Иннокентия Третьего. Такое поручение Институт Шиммера получил от комиссии кардиналов. А вместо этого наткнулись на это письмо. В 1013 году оно было отправлено из Руана халифу из египетской исламской династии Фатимидов, господствовавшей в Северной Африке с начала X века до 1171 года. Но письмо не дошло до адресата. Разведслужба папы перехватила его. Вот, — он протягивает мне лист из коробки, — английский перевод.
Его Высочеству Халифу аль-Хакиму би-Амру Аллаху,
Властителю Милостью Божьей, Единовластному Халифу Египта
С покорнейшим почтением шлю я, жрец Асим, великий визирь культа Амона-Ра, эти слова из плена. С верой в Аллаха, с надеждой выполнить дело моей жизни я нахожусь рядом со СВЯТЫМ и охраняю Его и Его сокровища в силу моих убогих возможностей. Куда приведет мой путь, я не знаю. Эти слова я пишу в комнате писцов герцога Ричарда в городе Руане в герцогстве Нормандия во Франции. Это лишь место привала, скоро наше путешествие к варварам за пределы цивилизации продолжится. Молю Аллаха, чтобы мои слова достигли Ваше Высочество, Властителя Милостью Божьей, Единовластного Халифа Египта, Халифа аль-Хакима би-Амру Аллаха, и нашелся спаситель СВЯТОГО.
Шлю поклоны
Асим,
Великий визирь культа Амона-Ра
— Асим! — кричу я. — Это имя из текста, который я нашел в деревянной церкви Гарму!
— Адресат письма халиф аль-Хаким би-Амр Аллах, который в это время правил в Египте, был человеком своеобразным, — говорит Стюарт. — Понятно, что из чувства страха Асим ссылается только на Аллаха, а не на всех богов, в которых он верил. Но халифа считали, и при этом совершенно справедливо, сумасшедшим. Он, в частности, запретил египтянам есть виноград и играть в шахматы. Он поставил себе задачей уничтожить больше христианских церквей, чем все другие властители в мире. Именно халиф аль-Хаким би-Амр Аллах разрушил храм Гроба Господня в Иерусалиме. 1013 год стал критическим для халифа. На Египет напали викинги. От их рук египтяне потерпели позорное поражение, которое совпало с кульминацией преследований христиан в стране.
— А что же, собственно, написано в письме этого Асима?
— Что Асим попал в плен к викингам. Но, сам понимаешь, официально заявить этого я не могу.
Он дает мне перевод другого текста:
…еще дальше к краю земли в ужасный холод царства смерти. Мы покинули царство солнца на цветущих берегах Яйла и направляемся к скудным каменным берегам царства снегов. Мы расстались с покровительством Амона-Ра, жаркое дыхание Осириса позади, мы покорились богам варваров. О боги отцов, дайте мне силу! Когда я был ребенком и ночные кошмары показывали мне вход в царство мертвых, то именно такую землю, холодную, скудную и дикую, я представлял себе в тумане смерти. Много дней плыли мы…
— Мы предполагаем, что это копия фрагмента письма, по-видимому написанного Асимом. Копия, как считается, была найдена вместе с пачкой писем и рукописей, оставшихся после смерти родственников Христофора Колумба. — Данхилл поднимает руки вверх, пытаясь предотвратить мои вопросы. — И не спрашивай меня ни о чем, потому что у меня нет ответа.
Он выкладывает на стол новые пергаменты и копии разных веков. В частности, список XVI века с произведения Снорри Стурлусона «Крестовая сага». Я читаю английский перевод пожелтевших документов об охоте Ватикана, ордена тамплиеров и ордена иоаннитов за некой святыней, об экспедициях, посланных папой в Норвегию в XII и XIII веках, и вспоминаю слова, написанные на стене в церкви Гарму:
Пастыри папы римского, иоанниты Вэрне
и храбрые тамплиеры Иерусалима собрались здесь
Спрятана священная гробница, о которой сказал Асим
— Так какой же вывод надо сделать из всего этого?
— Неужели не ясно?
— Что викинги побывали в Египте?
— Более того, они доплыли до самого храма Амона-Ра, разграбили гробницу и увезли с собой визиря Асима.
— И мы никогда об этом не слышали?
— Многое случалось в мире, о чем мы никогда не слышали.
— Поход викингов вверх по Нилу? Да об этом говорилось бы повсюду — от королевских саг Снорри до египетских хроник!
Стюарт Данхилл, улыбаясь, качает головой:
— Вовсе не обязательно. Если бы король Олаф решил, что поход вверх по Нилу надо сохранять в тайне, то ни у скальдов, ни у Снорри не было бы об этом сведений. Не забудь, что Снорри жил много лет спустя после тех событий, о которых он писал. Эпоха викингов была для него миром легенд. Чрезвычайно мало в те времена фиксировалось на письме. Пользуясь этим скудным материалом, он и писал свою историю, смешивая факты и вымысел.
— Да как же они могли скрыть такие события? Многотысячная армия викингов с огромным флотом плывет по Нилу…
— Ну и что? Ни один викинг не оставлял после себя наследства в виде документов. Не писал писем. Возможно, он рассказывал о своих приключениях за выпивкой или у костра во время жертвоприношения. И может быть, какой-нибудь местный скальд сочинял после этого потрясающую песню о его подвигах. Но от этого до книги по истории бесконечно далеко. — Стюарт нагнулся вперед. — Викинги не имели тесных связей с Египтом. Для них Египет был экзотической жаркой страной где-то очень далеко. Там же, где Иудея или Византия. Нил — всего лишь река наряду с другими. Как Сена или Волга. И только в XIX веке европейцы почувствовали очарование Древнего Египта. А викингам было наплевать на Египет.
— И все-таки они побывали в Египте?
— Экспедиции викингов проходили вдоль торговых путей, ведущих на восток через Гибралтар мимо североафриканского берега и далее до Александрии в Египте. Другая, более важная дорога проходила через Византию на юг к Иерусалиму и далее на юго-запад в Африку. Вспомним грабительские походы Харальда Сурового в Северной Африке. Многие викинги побывали в Египте — это несомненно, но их там воспринимали как воинов Византийской империи или скандинавских торговцев. Хорошо известно, что викинги торговали с арабами. В скандинавских центрах торговли и в могилах викингов обнаружено большое количество арабских монет. Белые соколы, например, пойманные в Гренландии, пользовались большим спросом у арабских шейхов.
— А что говорят египетские источники? Войско викингов напало ни больше ни меньше как на сам Луксор.
— Викинги не нападали на Луксор. Храм культа Амона-Ра находился к северу от Луксора, на той стороне реки, которая считалась царством мертвых. И даже для местных жителей этот храм был окружен мистикой и ужасами. Военное нападение на этот храм было гораздо менее значимым, чем если бы викинги поплыли дальше, к Карнакскому храму или к храму царицы Хатшепсут.
— Для армии поражение, вероятно, было очень болезненным.
— Унижение было грандиозное. Викинги встретили сопротивление главным образом на севере, со стороны гарнизонов двух городов-близнецов — Фустат и Аль-Кахира, нынешнего Каира. Для безумного халифа аль-Хакима би-Амра Аллаха поражение от вражеской армии было настолько велико, что он, судя по всему, приказал, чтобы о нем никто и никогда не говорил. Египтяне всегда вычеркивали из истории неприятные события и непопулярных властителей. Во все времена власть имущие манипулировали историей. Имена даже самых уважаемых царей удалялись из нее, если они впадали в немилость. Могущественные деятели выпадали из истории. Их имена переставали употребляться. Храмы и статуи разрушались или посвящались другим властителям. Лучшим примером является самый великий пророк Библии.
— Моисей?
— Если Библия точно отражает положение дел, то Моисей должен был иметь колоссальное значение для своего времени. Египтяне явно не могли относиться к нему равнодушно, независимо от того, кем они считали его: пророком, волшебником, освободителем, бунтовщиком или предателем. Но как оценивали его современники и последующие поколения?
— О нем в Египте вообще ничего не говорят.
— Правильно. Моисей был выброшен из истории.
— И какой вы делаете из этого вывод?
— Он или вообще никогда не существовал, или же попал в немилость к своим современникам.
— И к чему же привели вас все ваши рассуждения и гипотезы?
— К поиску того, что могло быть таким важным для жреца Асима, посвятившего жизнь охране какой-то святыни, и ради чего он решился написать письмо халифу своей страны?
— Щепка с креста Иисуса? — шучу я.
— Или что-то еще более святое.
— Более святое? — Я не понимаю. — О Стюарт, пожалуйста, избавьте меня от разговоров о мифическом Граале.
Неожиданно для меня он смеется:
— Грааль? Бьорн, Бьорн, Бьорн… Священный Грааль — это всего лишь средневековый миф. Нет. Сам подумай. Секте Асима была доверена священная миссия — охранять гробницу и то, что в ней было захоронено. Сокровища. Мумию. Письмена. Все, что находилось в ней. По данным египтян, Асим был жрецом с 999 года нашей эры в течение четырнадцати лет и потом исчез. Он был очень уважаемым и ученым священником, владел многими языками и знаниями многих наук. Он был астрологом и ясновидящим, магом и толкователем снов. Культ Амона-Ра уже в это время был религией с двухтысячелетней историей. Эта древняя египетская вера со временем переплелась с иудаизмом, христианством и исламом. У верующих было много богов, но даже в XI веке для секты старые египетские боги оставались самыми главными. Яхве был всего лишь одним из многих. Священники проводили жизнь в храме, который скрывал вход в погребальную камеру. Как раз в это время халифом в Египте был аль-Хаким би-Амр Аллах. Он загадочно исчез в 1021 году. Наполовину мусульманская секта друзов и по сей день почитает аль-Хакима би-Амра Аллаха как своего
владыку, который вернется спасителем мира и ислама. — Стюарт Данхилл молчит, потом продолжает: — О чем это тебе говорит?
— Не очень о многом.
— Я доверю тебе одну тайну. Ты знаешь, что я искал, когда нашел в 1977 году гробницу?
Я качаю головой.
— Я искал нечто, имеющее невероятную религиозную значимость. Нечто, спрятанное вместе с мумией и самыми большими сокровищами. — Он закрывает глаза. — Нечто, увезенное викингами совершенно случайно, просто потому, что оно находилось вместе с золотом и драгоценными камнями.
— И что же это?
— Очевидно, то, что может пролить новый свет на библейскую историю. Если верить главным иудейским книгам, таким как «Мишна», некая святыня была спрятана в погребальной камере
в пустынной местности под грядой скал. Например, в Долине царей…
— Вы не можете прямо сказать, что искали?
— Бьорн, ты не будешь надо мной смеяться, как все другие?
— Не буду.
— Мне хочется думать, что викинги увезли с собой ковчег Завета!
Взгляд его затуманился.
Только этого недоставало! Ковчег Завета!
Картина становится предельно ясной: каждый, кто мечтает найти ковчег Завета, лишен здравого смысла.
Ковчег Завета — святыня, которую можно было переносить. Библия описывает его как ларец длиной в два с половиной метра, изнутри и снаружи обложенный золотом, украшенный фигурами двух херувимов. Его благоговейно носили храмовые служители при помощи двух деревянных шестов, продетых сквозь золотые кольца. В ларце находились, в частности, таблички с десятью заповедями. Во время скитаний по пустыням его носили вместе со скинией.
[48] Потом ковчег Завета поместили в храм Соломона в Иерусалиме, но после разрушения храма в 586 году до Рождества Христова он исчез. Одни думают, что его похитил Навуходоносор Второй. Другие полагают, что ковчег спрятан под храмом Соломона и что именно ковчег Завета, а не Священный Грааль монахи ордена тамплиеров должны были защищать всю жизнь.
Кто-то, такие как Стюарт Данхилл, думает, что ковчег был спрятан в Долине царей.
А самые упрямые вроде меня считают, что он вообще никогда не существовал.
5
Бар имеет такой вид, как будто Институт Шиммера выкрал его из гостиницы «Вальдорф-Астория». Пианист-тапер играет попурри из хитов Элтона Джона. Стюарт Данхилл щелкает пальцами, и официант приносит нам два джин-тоника со льдом. Мы чокаемся. Несколько часов сидим и обсуждаем древнеегипетские сказания о богах и мифологию дохристианской эпохи. Наконец, совершенно обалдев, выходим подышать свежим воздухом.
В пустыне тишина, а у меня в голове эхом звучит мелодия, сыгранная пианистом, —
«Goodbye Yellow Brick Road…». Прохладно и темно. Мы не спеша идем по асфальту автостоянки, доходим до садов, где растут фиги и оливы. Вспоминаю, как я был здесь в прошлый раз. Луна тогда светила среди листьев, как японский бумажный фонарик. А теперь небо и звезды спрятались за тонкой пеленой облаков. Среди деревьев, припорошенных пылью веков, звучит слабый голос Стюарта:
— Мы можем только догадываться об общих очертаниях той или иной исторической тайны. Многие, каждый по-своему, прикоснулись к тайне ковчега. Тамплиеры. Иоанниты. Крестоносцы. Ватикан. Все эти мистические ордена и братства и могущественные объединения, о которых мы любим читать. Что они знали? Что они скрывали? И что пытались найти? Вероятно, каждый из них знал свой маленький кусочек истины, кусочек тайны. И этого им было достаточно.
— А удалось им хоть раз найти то, что они искали?
Стюарт Данхилл качает головой:
— Я не думаю, чтобы они знали, что именно ищут. Каждый имел перед собой кусочек тайны. Только если сложить все эти фрагменты воедино, можно увидеть целое. Но в этом-то и проблема. Каждый охранял свой фрагмент. Никто не делился с другими.
Мы молча смотрим в темноту и думаем об одном и том же.
— Ну хватит обо мне, — говорит Стюарт, — а как у тебя? Расскажи мне о находках в Норвегии.
Я рассказываю ему всю историю. Начинаю с убийства преподобного Магнуса и украденного «Кодекса Снорри». Рассказываю о «Свитках Тингведлира» из пещеры в Исландии. О Хассане и его подручных, которые гоняются за мной. По-видимому, они работают на шейха Ибрагима. О руническом коде преподобного Магнуса, который привел меня к электронному письму с копией украденного документа. Рассказываю о скрытых кодах в тексте Снорри, о том, как я взломал их с помощью своего воображения и хороших друзей. О том, как Эйвин и я нашли усыпальницу в монастыре Люсе. О камне с рунической надписью, который я спрятал и который привел меня сначала в Урнес, потом во Флесберг, Лом, Карму и Рингебу. В кармане у меня лежат тексты, которые мне удалось расшифровать. Я показываю их Стюарту. Он просматривает бумаги при слабом свете фонарей, подсвечивающих здание института. По его дыханию я определяю, как сильно он взволнован. Я рассказываю об убийстве священника из Рингебу, об украденной деревянной скульптуре и моей поездке в Лондон, а затем и сюда, в Институт Шиммера.
— Какая история! — говорит он. — А тот манускрипт, который вы нашли в Исландии, «Свитки Тингведлира», я надеюсь, в надежных руках?
— Конечно.
— В Норвегии? В Исландии?
— Мы пытаемся перевести их.
— Тебе помогают хорошие специалисты?
— Самые лучшие.
— Строго говоря, самые лучшие специалисты находятся здесь, в Институте Шиммера. Тебе следовало бы прислать пергамент сюда. Для консервации, обработки и перевода.
— Здесь все сделают хорошо. Но я не уверен, что это надежное место. Меня не удивит, если вдруг обнаружится, что шейх
владеет Институтом Шиммера. Именно отсюда звонили преподобному Магнусу, когда он нашел кодекс.
Стюарт молчит некоторое время, потом возвращается к теме:
— Ты и твои друзья продвинулись дальше, чем кто-либо другой. Вы обнаружили код там, где другие видели только текст. И более того, вы сумели взломать все коды!
— Но мы не нашли самую главную гробницу. И сейчас потеряли последнюю ниточку. Она находилась в скульптуре святого Лаврентия.
В темноте я улавливаю слабую улыбку Стюарта Данхилла.
— Ты воюешь с лучшими учеными мира и мистическим миллиардером. Но у тебя есть нюх и интуиция и поразительная напористость, которой нет больше ни у кого. Я восхищаюсь тобой, Бьорн. Это правда. Я восхищаюсь тобой.
Мои щеки краснеют.
Стюарт говорит:
— Если гробницу когда-нибудь найдут и раскроют эту тайну, то это будет только твоя заслуга. И не только я так думаю.
6
Весь следующий день я провожу в архиве Института Шиммера, где беру плоские картонные коробки с документами, пергаментами, свитками и листами папируса. Архивариус добросовестно регистрирует все, что я уношу к своему столу.
С дотошностью нейрохирурга я перелистываю старые тексты и двигаюсь вглубь истории. Мне попадается изощренное сочинение XIX века, которое проводит параллели между мистическим манускриптом Войнича XVI века — документом объемом в 272 страницы, написанным неизвестными знаками на неизвестном языке, — и такой же загадочной рукописью Леонардо да Винчи из миланской библиотеке «Амбросиана». Я вижу письма, отчеты и аккредитивы, аттестаты и приложения, указания и заметки, купчие и циркуляры. К большинству документов приложен английский перевод. На руках у меня шелковые перчатки, и периодически ко мне подходит хранитель архива, чтобы убедиться, что я не превращаю бесценные сокровища в папье-маше.
И все же я не нахожу ничего, что могло бы подтвердить, что кто-то, кроме священника Асима, сделал запись, свидетельствующую, что викинги совершили поход в Египет в 1013 году. Но ведь если бы такой документ существовал в принципе, Стюарт, несомненно, нашел бы его много лет тому назад.
7
Стюарт Данхилл и я договорились пообедать вместе около шести. В ожидании этого часа я решил зайти в технический отдел Института Шиммера, чтобы узнать, не прояснилось ли что-нибудь насчет привезенной мной рунической дощечки. Например, какого она времени. Из какого дерева сделана. Нет ли чего-нибудь внутри.
Технический отдел расположен в отдельном крыле, построенном в 1985 году, имеет всевозможные мастерские и специальное оборудование. Здесь проводится любая работа — от датировки артефактов радиоуглеродным методом до их реставрации и превращения тысячи обрывков, поступивших в лабораторию, в единый полноценный документ. Исследователи, в белых халатах и комбинезонах, у некоторых повязки на лице и защитные очки, сидят, согнувшись, над своими станками и хитроумными машинами.
Женщина-лаборант в зеленом синтетическом комбинезоне показывает мне, как пройти в технико-исторический отдел артефактов из дерева, бумаги и папируса. Я заглядываю в лабораторию, где два ортодоксальных иудея исследуют Тору, развернутую на многометровом алюминиевом столе. В следующей лаборатории группа реставраторов трудится над богато украшенным гробом. Я открываю дверь в прихожую, потом другую — в кабинет, где дама, стоящая у стола со скоросшивателями и разложенными листками, раздраженно спрашивает меня, нет ли у меня привычки стучать в дверь, перед тем как войти.
Третья лаборатория пуста.
Если не считать Ларса.
Святого Лаврентия.
Деревянной скульптуры, украденной из церкви Рингебу.
На верстаке лежит святой Ларс, прикрепленный ремнями и струбцинами, как будто кто-то захотел помешать ему в попытке убежать в пустыню.
Меня обжигает словно морозом, и дело не только в работе кондиционера. Я не могу понять, почему эта скульптура здесь, в Институте Шиммера. По-видимому, шейх Ибрагим вертит институтом как хочет. А это значит, что я в лучшем случае под наблюдением, а в худшем — рискую жизнью.
Я словно прирос к двери, в ужасе глядя на святого Лаврентия. Потом медленно начинаю идти по лаборатории. Скульптура из церкви Рингебу кажется неуместной на рабочем столе в Институте Шиммера. Вокруг разбросаны электрические пилы, дрели и буравчики. Несмотря на целый арсенал пыточных инструментов, работающие здесь явно обращаются с деревянной скульптурой очень бережно. Под ремни и зажимы подложены фетровые прокладки. Пилы и дрели используются самого высокого качества.
На экране на стене рентгеновская фотография. Я с удивлением рассматриваю ее. При просвечивании святого Ларса не обнаружилось ни больших, ни малых пустот, которые могли бы скрыть вложение. Совершенно ясно, что, получив эту фотографию, исследователи остановились.
Святой Лаврентий был сделан из цельного куска дерева.
Внутри ничего нет.
В изумлении я смотрю то на скульптуру, то на фотографию. Слова, написанные в Библии, гласили однозначно:
Как Дева Мария держит Иисуса внутри себя
так живот вмещает раку
Хвала тебе Фома!
Так почему же внутри ничего нет?
Под потолком я обнаруживаю камеру слежения. Неужели прямо сейчас кто-то внимательно смотрит на раскрывшего от изумления рот близорукого альбиноса Бьорна?
Я выхожу из лаборатории и останавливаюсь, чтобы прийти в себя. В эту минуту из-за угла появляются двое, мужчина и женщина.
Увидев меня, они останавливаются.
— Да? — спрашивает женщина.
— Вам помочь? — вторит ей мужчина.
Технический персонал всегда предпочитает, чтобы ученые сидели в читальном зале.
Во рту у меня пересохло. Я едва могу проговорить, что ищу лабораторию, где изучают руническую дощечку из Норвегии.
— Лаборатория четырнадцать.
Я благодарю их и ухожу.
Руническая дощечка лежит в прозрачном пластиковом пакете в закрытом стеклянном шкафу в пустой лаборатории с надписью «Лаборатория деревянных предметов». Я разбиваю локтем стекло и кладу дощечку в карман.
Под потолком в камере слежения загорается красная лампочка.
Едва переводя дыхание, я бегу из лаборатории тем же путем, каким пришел сюда. Каждую минуту может зазвучать сирена и голос в динамике закричит: «Держи вора!»
Но ничего не происходит.
Когда мне кто-то попадается навстречу, я сбавляю темп. Оглядываюсь назад, пробегая через двустворчатую дверь-вертушку в техническое отделение. Рысью пробегаю через фойе перед конференц-залом и выхожу в просторную приемную.
Я уже вижу Хассана. Вижу взвод солдат с винтовками, нацеленными мне в грудь.
Но меня никто не замечает. Жизнь в приемной идет своим чередом. Кто-то смотрит телевизор. Кто-то беседует. Кто-то стоит в телефонной будке. Кто-то читает газету.
И никто не поднимает головы.
Никто не кричит: «Вот он!»
8
Стюарт Данхилл занимает двухкомнатный номер в гостиничном крыле. Я громко стучу в дверь. Открыв дверь, он удивленно смотрит на меня:
— Уже? Разве мы договорились не на шесть?
Он готовится к обеду. На лице мыльная пена. Белая рубашка не застегнута.
Я протискиваюсь мимо и закрываю дверь:
— Они здесь.
— Кто здесь?
— Шейх. Хассан. Не знаю. Я видел святого Лаврентия! В одной лаборатории.
— Какого святого?
— Святого Лаврентия! Деревянную скульптуру!
— Здесь?!
— Я прямо из лаборатории! Искал руническую дощечку.
— Ты у кого-нибудь спросил…
— Вы с ума сошли? Институт Шиммера явно как-то задействован в этой истории.
— Институт? Приди в себя. Это респектабельное серьезное учреждение. Здесь никто не ворует исторические артефакты. И тем более здесь никого не убивают.
— Но почему тогда святой Лаврентий здесь?
— Этому наверняка есть какое-то разумное объяснение. Давай сообщим о скульптуре руководству. Прямо сейчас.
— Нет!
— Подумай. Может быть, в институте действительно есть предатель. Но ведь, может быть, их обманули. Или кто-то принес сюда скульптуру, не сообщив, откуда она и как ею завладели.
— Я никому не доверяю.
— Здесь работают сотни сотрудников. Институт не бандитское гнездо. Вот ты принес сюда руническую дощечку. Разве виноват был бы институт, если бы эта дощечка была украдена из музея?!
— Я хочу уехать.
— Бьорн, ты посреди пустыни!
— Я не могу оставаться здесь. Мне очень жаль!
— Бьорн…
В этот момент звонит телефон. Стюарт отвечает. Слушает. Кладет трубку. На ней остается мыльная пена.
— Я с тобой!
— Со мной?
Он достает из-под кровати чемодан.
— Стюарт, что происходит?
Данхилл быстро подходит к комоду, берет оттуда нижнее белье, носки и рубашки и бросает в чемодан.
— Кто звонил? Что сказал?
Стюарт останавливается.
— Звонили из СИС.
— Профессор Ллилеворт?
— Меня попросили позаботиться о тебе.
— Позаботиться?
— Я сделаю все, что в моих силах.
— Что-то случилось? В СИС узнали, что я нашел скульптуру?
— Сомневаюсь. Но шейх Ибрагим знает, что ты здесь. В СИС поступила информация, что люди шейха направляются сюда. В институт. И больше мы не болтаем о коррумпированных ученых. — Стюарт смотрит на меня. — Он послал сюда Хассана.
Прежде чем уехать, я кладу мобильный телефон в гофрированный конверт и пишу адрес моего университета. Я не знаю, как они узнали, где я нахожусь: через чип GSM или от кого-то из сотрудников Института Шиммера.
И все же. Хассан не дурак. Он не поедет следом за почтовой машиной. Главное сейчас — упредить его и внести зерно смятения в высокотехнологичное шпионское гнездо шейха.
9
Мы едем по пустыне на машине «мицубиси-аутлендер», которую Стюарт Данхилл то ли взял напрокат, то ли украл, не могу сказать точно.
Небо темное, звездное. Пустыня кажется бесконечной. Передние фары освещают два длинных углубления, которые только при очень большом желании можно назвать дорогой. Женский голос навигатора спутниковой системы GPS на щитке управления просит нас свернуть направо через триста ярдов. Мы почти готовы поверить, что едем по автобану.
— Куда едем? — спрашиваю я.
— Далеко.
— А куда?
— Раз уж все так получилось, я хочу показать тебе, о чем, собственно, речь.
— И это значит?..
— Мы едем в самое главное для нас место.
— И это?..
— Боже, ты такой умный и так медленно соображаешь!
— Так куда же мы едем?
— В Египет!
10
Час за часом мы едем по бесконечной темной пустыне, и вот наконец на горизонте ночь начинает сдавать свои позиции.
По дороге Стюарт разговорился, и я почувствовал себя студентом, который подошел к преподавателю кое-что уточнить, но вынужден выслушать целую лекцию. А может быть, он говорил, чтобы не заснуть. Держа одну руку на руле и размахивая другой, он рассказывает о патриархах Ветхого Завета, о том, как союз египетских государств оказывал влияние на культуру их племен.
— Патриархи принадлежали к пастухам-кочевникам, — говорит он, наблюдая восходящее солнце. — Иудеи, христиане и мусульмане почитают одного патриарха — Авраама. Его служанка Агарь родила от него сына Исмаила, ставшего одним из великих пророков мусульман. Супруга Авраама Сара родила от него сына Исаака, одного из прародителей Моисея и народа иудейского. После смерти Авраама Сара изгнала пасынка Исмаила, и, таким образом, семитская раса разделилась на арабов и иудеев.
Пока солнце встает и яркие лучи начинают освещать пустынный ландшафт, Стюарт рассказывает о сплаве культур племен и возникновении цивилизации. Покрышки шуршат о неровности дороги.
— Ветхий Завет возник в то время, когда племена древности создавали организованные государственные структуры. Авторы Ветхого Завета брали материал из уже хорошо функционировавших культур этого региона — Вавилона и Египта. Древнеегипетские научные тексты целиком вошли в состав мудростей Соломона. Посмотри только на администрацию Давида, со всеми этими министрами и пышными титулами, она всего лишь копия египетской государственной иерархии.
Я включаю кондиционер. Жара начинает нагревать крышу автомобиля. На заднем сиденье нахожу две бутылки с водой и протягиваю Стюарту одну из них. Вода теплая, но, несмотря на это, я отпиваю половину одним глотком.
Стюарт пытается отвернуть крышку бутылки.
— Во времена патриархов в Иудее главенствовал
рассказ, он передавался из уст в уста, из поколения в поколение. В Египте, в отличие от этого, обычной стала фиксация лучших рассказов на письме.
Он подносит бутылку ко рту и жадно пьет.
За окном автомобиля бесконечная каменная пустыня.
— Вы не устали? — спрашиваю я.
Нет, не устал.
— Когда британский археолог Лэйард в середине XIX века нашел в Ираке руины дворца ассирийского царя Ашшурнасирпала Второго, там обнаружились древние клинописные таблички времен ассирийской оккупации Вавилона. В рассказе о Сотворении мира — предшественнике того, что написано в книгах Моисея, — первый человек, мужчина, был создан в райском саду. А женщина была создана из его ребра. — Закашлявшись, Стюарт делает еще глоток, — Потом мужчина и женщина были изгнаны из рая. Они не послушались своего бога… — Он допивает остаток воды. — Даже потоп происходит из вавилонской мифологии. Эпос «Гильгамеш», которому три тысячи шестьсот лет, рассказывает о боге, приказавшем одному человеку приготовиться к наводнению. Этот человек спас себя, свою семью и много видов животных на борту ковчега, который оказался на суше, на высокой горе. Узнаешь историю?
Я включаю кондиционер на полную мощность.
— А Вавилонская башня?.. — продолжает Стюарт. — Ассирийский царь Асархаддон построил в Вавилоне башню, посвященную верховному богу Междуречья Мардуку, она должна была достичь неба. И как ты думаешь, что случилось? Победила сила тяжести. Башня рухнула.
— Послушайте, Стюарт, разве все это не подтверждает библейские рассказы?
— Можно рассуждать и так. А можно быть плохим мальчиком и сказать, что создатели Ветхого Завета не имели фантазии, чтобы сочинять собственные истории!
— Но в нем есть много всего другого, а не только эти ваши примеры.
Возражения провоцируют Данхилла:
— Большие и при этом центральные части Священного Писания являются компиляцией мифов и рассказов из более древних культур…
— Вот как!
— …искусно вплетенных в создание новой религии, вращающейся вокруг нового Единовластного Бога.
Некоторое время мы молчим.
Наконец Стюарт не выдерживает тишины:
— Даже у истории жизни Моисея есть предшественник. В вавилонских мифах мать аккадского царя Саргона, чтобы спасти ребенка, кладет мальчика в лодку из тростника и пускает ее по реке. К счастью, его находят. И усыновляют. — Стюарт стучит пальцами по рулю. — Вот
настолько оригинален самый важный рассказ всего Ветхого Завета.
Даже к жаркому пламени пустыни кое-кто умудряется приспособиться. Волосатые разноцветные гусеницы. Ослы. А еще иерихонская роза. В сырую погоду она плоская и зеленая. Но как только становится сухо, она съеживается в кулачок, чтобы сопротивляться стихии. Я узнаю себя в этой розе. Если засуха продолжается, роза отрывается от корней и катится по пустыне. Ветер гонит ее до тех пор, пока она не найдет себе нового влажного места и не пустит там корни. Лишь немногим она представляется красивой.
Я похож на эту розу.
11
Гораздо позже мы подъезжаем к пограничному городу, где платим за визу в Египет. Пересекаем границу и едем на юг по Синайскому полуострову вдоль залива Акаба до Шарм-эль-Шейха. Там садимся на паром и по Красному морю едем до Хургады. Опять едем на юг до порта Сафага, где присоединяемся к колонне туристских автобусов, идущей под сопровождением полиции через пустыню на запад к Луксору.
По дороге Стюарт делится со мной: он надеется, что наше совместное исследование поможет ему совершить прорыв в его научной работе.
— Взлет! Называй как хочешь! Месть! Реванш! Профессиональная реабилитация! Ты даже не представляешь, как много значило бы для меня, если бы я с твоей помощью смог доказать,
что моя теория верна. Что викинги
побывали в Египте.
К своему ужасу, я вижу, как по щеке у него катится слеза. Смущенно и подавленно я смотрю в окно автомобиля.
— Я думаю, — говорит Стюарт, — что «Свитки Тингведлира» содержат какое-то указание на то, что я прав. И что я был прав все эти годы.
В древних Фивах, ныне Луксоре, вымощенная камнями дорога, окруженная сфинксами, связывала Карнакский храм с Луксорским. Могущественные фараоны прогуливались здесь в запыленных сандалиях и обдумывали планы предстоящих войн, а потом шли во дворец есть финики и позорить своих сестер.
И по сей день эти два храма, с молельными домами и обелисками, сфинксами и гигантскими статуями, отбрасывают длинные тени на поля около реки.
Мы останавливаемся в гостинице «The Winter Palace»
[49] на главной улице
Corniche el Nile.[50] На западе, на противоположном берегу Нила, садится солнце. Красные отблески заката полыхают над скалами с храмами и захоронениями умерших фараонов и цариц.
Да, пребывание в Египте более экзотично, чем поездка в какой-нибудь Брандбу в пасмурный день.
ЗАБЫТАЯ ДЕРЕВНЯ
ЕГИПЕТ
1
Долина царей спит вечным сном, окруженная отвесными скалами.
Ощущение вечности — особая атмосфера этого места,
genius loki,[51]— присуще этой бесплодной долине. Здесь, как нигде, осознаешь, что время преходяще, а в истории есть взлеты и падения. В глубоких туннелях в скалах покоились могущественные цари в своих гробницах. Рамсес. Сети. Тутмос. Аменхотеп. Тутанхамон. За пятисотлетний период в долине появилось более шестидесяти гробниц.
По ущелью проносится ветер.
Вместе с сотнями туристов Стюарт и я едем в долину на мини-поезде. На лицо садятся мельчайшие частицы песка. Вокруг вздымаются к небу скалы.
Гробница, которую Стюарт хочет показать мне, находится высоко в горах, в узком ущелье. Вход с северной стороны. Внутри гробница сориентирована на восток. Такое расположение символизировало загробный мир.
С трудом переводя дыхание, мы взбираемся по длинной крутой лестнице, которая приводит нас к невзрачному и когда-то хорошо запрятанному входу. Охранник проверяет билеты и впускает нас в туннель. Воздух такой влажный и теплый, что я оттягиваю ворот футболки.
— Самым первым делом для любого царя было начать работы по сооружению своей гробницы, — говорит Стюарт. — Сотни людей на протяжении десятков лет строили эти гробницы. Сначала была грубая работа для каменотесов, вырубавших скалу. Потом появлялись художники с кистями и, наконец, священники с благословениями.
Спускаясь по узкой лестнице, мы идем боком, пропуская туристов, идущих вверх. Я стараюсь бороться с ощущением клаустрофобии. Воздух ужасно тяжелый. Когда грабители, а позже археологи вскрывали гробницы, спертый воздух мог попросту убить их. Артур Конан Дойл, автор книг про Шерлока Холмса, предложил даже теорию, что создатели могил оставили там смертельные споры, которые должны убивать всех, кто осмелится туда вторгнуться.
Неосознанно я начинаю дышать через нос.
С каждым шагом мы продвигаемся назад на сотни, нет, на тысячи лет назад во времени. Чтобы избежать износа от миллионов башмаков туристов, археологические власти уложили на землю деревянное покрытие. Длинной цепью мы идем все дальше вглубь скалы. Дышать очень тяжело, для этого приходится предпринимать неимоверные усилия. Воздух не доходит до легких. Но я ничего не говорю Стюарту. Не хочется выглядеть нытиком.
Потолок голубой с желтыми звездами. В первом зале две массивные колонны, на стенах изображения 741 божества. Огромная, высотой в несколько этажей, лестница ведет вниз, в овальный зал гробницы, с двумя колоннами и четырьмя боковыми помещениями.
Я слышу восторженный шепот туристов. Если нас так много, мы, вероятно, уже исчерпали весь запас кислорода? Кто-то толкает меня. Я оказался на пути туриста, который хочет сфотографировать изображение на стене. Улыбкой я прошу прощения. Он отвечает мне тоже улыбкой. Я оттягиваю ворот футболки.
— Что-то случилось, Бьорн?
— Вовсе нет, — заикаясь, говорю я.
Стены погребального зала представляют собой своего рода свиток папируса с текстом «Книги Амдуата» о загробном мире. На двух прямоугольных колоннах выдержки из «Литании Ра» и сцена, изображающая покойного, совокупляющегося с богиней.
В этом зале почти три с половиной тысячи лет тому назад получила упокоение мумия фараона Тутмоса III. Он был шестым фараоном в восемнадцатой египетской династии и считается сейчас одним из самых великих царей. Тутмос III правил пятьдесят лет и умер около 1425 года до Рождества Христова. Его гробница была открыта французским египтологом Виктором Лоре в 1898 году. Мумия Тутмоса III была найдена на семнадцать лет раньше вместе с пятьюдесятью другими мумиями в скалах около храма Хатшепсут, они были свалены в пещере Дейр-эль-Бахри.
Я дергаю Стюарта за рукав.
— Воздух здесь плохой, — шепчу я, — мы ведь уже все видели?
2
Мы покидаем Долину царей и едем на север вдоль скал по берегу Нила. Я открыл в машине окно и теперь жадно заполняю воздухом легкие. Стюарт спрашивает, уж не ловлю ли я мух. Напоминаю ему, что я вегетарианец.
Вскоре он сворачивает к огромному сооружению в скале, огороженному каменной стеной и колючей проволокой.
— Это храм древнего культа Амона-Ра, — говорит Стюарт. — Именно здесь побывали викинги. — Он открывает незапертые ворота и оставляет машину в тени дерева. — Вон там, — он показывает на равнину между скалами и Нилом, — когда-то был канал, который позже был засыпан земледельцами. — Он поворачивается в сторону храма. — А здесь главным был жрец Асим.
Две гигантские статуи, изображающие богов Амона-Ра и Осириса, охраняют широкую лестницу, которая приводит к площадке перед храмом. Мы идем по засыпанной песком дорожке в храм.
— Члены этой секты называли себя
«Покорные слуги Его Святейшества бога солнца Амона-Ра и хранители Божественного Завета», мы говорим о культе Амона-Ра. Секта существовала вплоть до XIII века. К этому времени тот святой, которого секта должна была охранять и которого похитили викинги, отсутствовал здесь уже двести лет. Даже самые упорные священники стали считать бесполезной тратой времени охрану того, чего давно не было.
— Ковчег Завета?
— Что-то там определенно было, — говорит он неожиданно тихо. — Может быть, ковчег, а может быть, что-то другое.
Мы рассматриваем каменные статуи и храм. Я пытаюсь представить себе жизнь в этом месте тысячу лет тому назад. Или две тысячи лет. Или три.
Потом поворачиваюсь: у меня перед глазами появляется огромный флот викингов.
— Правда, грандиозно? — говорит Стюарт.
Ну как это он читает мои мысли?
Ни храм, ни гробница не доступны для публики, но у Стюарта есть мандат от египетских властей и египетская пятидесятифунтовая купюра, смягчающая сердце сторожа, дремлющего у железных ворот. Входим в храм. Стюарт показывает дорогу в священный зал. Позади того места, где когда-то находился алтарь, я вижу решетку входа в погребальные залы.
Я делаю глубокий вдох, и мы входим.
В темноте Стюарт зажигает свой фонарь, я свой. Идем вниз по очень длинной лестнице, потом по туннелю и попадаем в первую камеру. Лучи света порхают по красивым росписям стен и надписям.
— Вот здесь я нашел новые изображения и те иероглифы, что рассказывали о нападении викингов тысячу лет тому назад, — говорит Стюарт.
Он показывает рисунки на стенах.
Длинный боевой корабль.
Длинноволосые, бородатые мужчины дикого вида, с голубыми глазами.
Мечи, топорики и щиты.
Головы драконов.
— Викинги, — шепчу я.
— Я тоже так думал. Викинги! А не воины и не корабли из Византии! Викинги! Но эти дьяволы только посмеялись надо мной.
Мы идем вниз еще по одной лестнице и попадаем во вторую камеру. Поскольку мы в туннеле одни и я знаю, что в любой момент смогу выбежать на свежий воздух, я подавляю чувство клаустрофобии. До поры до времени.
В самой глубине второй камеры мы видим остатки того, что было когда-то стеной. Проходим через отверстие в стене, спускаемся по узкой крутой лестнице и идем еще по одному туннелю.
В самом конце его находим последнюю камеру.
Самое святое из всего святого.
Пустые камеры, пустые кувшины.
Пустой саркофаг…
Здесь, в самой дальней камере, был похоронен неизвестный властитель, тот, кого называли СВЯТОЙ.
Кто это был? Почему его скрывали так тщательно?
Какие сокровища он имел при себе в гробнице?
Какие письмена?
Какие святыни?
И почему его охраняли две с половиной тысячи лет?
— Мы думаем, — говорит Стюарт, — что текст, который вы нашли в пещере Тингведлира, является копией и переводом оригинала, который некогда находился здесь.
В пустой камере Стюарт показывает мне настенные рисунки, надписи, орнамент и терпеливо объясняет их значение. Свет фонарей начинает слабеть, и мы направляемся к выходу.
Свежий воздух ласкает наши лица.
Мы проходим мимо спящего сторожа и молча, в задумчивости, идем к оставленному автомобилю.
Прежде чем завести мотор, Стюарт говорит, что хочет съездить вместе со мной в несуществующую деревню и поговорить там с несуществующим человеком.
3
Коптская монастырская церковь Святого Марка выполнена из песчаника, внутри ее пышный сад с журчащей водой и буйной растительностью. Судя по всему, точно такой вид она имела, когда монахи положили здесь последний камень и смыли с рук песок 1900 лет тому назад.
На крыше церкви возвышается позолоченный
анх.
Стюарт останавливает машину, но сопровождавшее нас облако пыли продолжает движение по парковке, словно это горячая и упрямая пыльная буря, только в миниатюре.
Монастырская церковь находится в Забытой деревне среди пустыни в нескольких милях
[52] от Луксора. Ни на одной карте Забытой деревни нет, некоторые туристические брошюры упоминают ее (при этом используются забавные обороты вроде «руины поселения в пустыне, которое никак не может умереть»). Официально она не существует. Египетские власти, начиная с XV века, отказывались признавать существование деревушки. Основанием послужил конфликт между монахами, племенем бедуинов и центральной властью о правах на владение источником, который поддерживает жизнь деревни. Когда власти в 1481 году потерпели поражение в борьбе с упрямыми жителями пустыни — эта проклятая деревня и монастырь находились, в сущности, у черта на куличках, в продуваемом ветрами и засыпаемом песками пекле, с их вонючими верблюдами, — они попросту вычеркнули ее из всех своих бумаг и списков. И по сей день никому не приходит в голову вернуть деревню в реально существующий мир. Мстительность власть имущих в Египте — качество долговременное. Деревня, первое название которой все давным-давно забыли, не имеет ни школы, ни ратуши, ни полиции, ни системы здравоохранения. Ребятишек отсюда возят на автобусе в Кену, где школа регистрирует их как не имеющих постоянного места жительства.
Местный врач, скорее, подпадает под категорию знахаря. В редких случаях, когда он сомневается в чем-то, он посылает своих пациентов в больницу в кузове старого грузовика, имеющегося в деревне.
— Дело в том, что у школьных знахарей, — он с презрением называет их так, сидя в кафе со своим кальяном, — оборудование чуть-чуть лучше, чтобы делать операции на мозге и пересаживать роговицу. — На мой же взгляд, дело еще и в том, что у говорящего слегка дрожат руки.
Как раз на окраине этого оазиса, в этом несуществующем скоплении построек из камня и высушенной глины, забытом и местной, и центральной властью, расположена церковь Святого Марка.
4
Ворота монастыря открываются.
Вид у человека такой, словно он живет в монастыре со времени его основания. Лицо напоминает высушенную солнцем изюминку. На голове — боже милосердный! — тюрбан. В тростниковых сандалиях он идет к нам навстречу и здоровается за руку, раскрывает беззубый рот. На внутренней стороне правой руки у него вытатуирован рисунок креста. Он произносит свое имя по-арабски, что я воспринимаю как грохот случайно собранных в кучку согласных, и, хотя Стюарт в машине назвал мне его, я так и не сумел это имя зафиксировать у себя в памяти. Поэтому назову его просто монахом.
Он приглашает нас в монастырь и с гордостью показывает спальни, трапезные, читальный зал, церковь и ухоженный монастырский сад. К моему большому удивлению, монах прекрасно говорит по-английски. Он получил образование в Кембридже, там же несколько лет преподавал.
— Хотя мы и чрезвычайно разные, — говорит монах с нежностью в голосе и смотрит на Стюарта, — у нас есть общее прошлое. У Стюарта и меня. Я был его научным руководителем по египтологии в Кембриджском университете.
Я изумленно смотрю на обожженное солнцем и иссеченное песком лицо и не могу представить себе этого монаха профессором в Кембридже. В то же время вынужден признаться, что есть много людей, которые не могут представить себе меня в роли старшего преподавателя Университета Осло.
Монах рассказывает, что в Египет христианство принес апостол Марк вскоре после распятия Христа. Самой первой организованной группой христиан в мире были именно копты. Монахи в монастыре Святого Марка настойчиво повторяют, что сам апостол участвовал в строительстве монастырской церкви. Глава коптской церкви до сих пор носит титул «папа Александрийский и патриарх Священного престола Святого Марка». А прежняя коптская церковь использовала
ansate — анх в качестве креста.
Когда египетских христиан в третьем столетии изгнали из городов, они бежали в пустыню. И построили здесь монастыри. Несколько сотен монастырей было основано в египетской каменной пустыне, в примитивных постройках и тенистых гротах. Монастырское движение отсюда распространилось на весь христианский мир.
Монах с дрожью в голосе сообщает мне, что самая большая реликвия, которая лежит на красной шелковой ткани в золотом ларце, — это шип из тернового венца Иисуса. А в серебряном, с чеканкой ларце восемь страниц — это, по-видимому, часть оригинала Евангелия от Марка и фрагмент на коптском языке Евангелия от Иоанна.
5
— Бог умер.
Мы сидим на деревянной скамье в тени галереи, окружающей сад, и пьем холодную воду из пластиковой бутылки.
Монах толкает ногой сандалию. Его лицо искажено гримасой боли.
— Умер? — переспрашиваю я.
— Осирис, — говорит он и поднимает вверх один палец. — Один. — Второй палец вверх. — Зевс. Птах. Вакх. Тор. Пан. Посейдон. Купидон. Ашторет. — Пальцы кончились, но он продолжает: — Беллона. Исида. Юпитер. Анубис. Бальдр. Небо. Локи. Амон-Ра. Афродита. Ваал. Ахийя. Фрейя. Хадес. Мулу-хурсанг. Ньод. Ллав Гиффес. Му-ул-лил. Фригг. Венера. Сутех, главный властитель долины Нила. Я могу продолжать еще десять минут. Что характерно для всех этих богов? Они определяли жизнь миллионов богобоязненных людей. Одни их имена заставляли мужчин трепетать от страха, а женщин склонять головы в знак молитвы. Им поклонялись народы. Мы соорудили в их честь прекраснейшие храмы. Рабы трудились как проклятые, чтобы построить дома, в которых мы могли восхвалять их. Во имя их рождались и гибли цивилизации. Происходили войны. Целые поколения священников и монахов посвятили свою жизнь тому, чтобы понять их, истолковать их, принести в их честь жертвы, поклоняться им.
Порыв ветра проносит по садовой дорожке пучок травы.
— А что теперь? — спрашивает он.
— Мы больше в них не верим.
— Все они умерли. Не все забыты. Но никто больше в них не верит. Никто им не поклоняется. Все они когда-то существовали, но теперь их божественная жизнь протекает в скучном забвении. Как боги они умерли.
По монастырскому саду дует бриз, который кажется мне вздохом.
— Я думаю, — продолжает монах, — что Бог тоже умер. Тот Бог, которого мы знали по имени Яхве. Иегова. Элохим.
Господь. Имен у Него было много. Признаков Его смерти тоже много. Пророчества Библии уже осуществились. Бог умер. Ницше был прав.
— Откуда вы это знаете?
Он грустно улыбается беззубым ртом:
— Оглянись вокруг себя!
Я оглядываюсь.
— Я говорю в переносном смысле. Есть ли в этом мире признаки живого, активного Бога? Есть ли хоть что-нибудь в нашей жизни, что свидетельствует, что Милосердный Бог опекает нас?
— Я не принадлежу к числу верующих.
— Как ты можешь жить на этой земле и быть неверующим?
— А почему я должен верить в Бога?
— Иисус — это путь, истина и жизнь.
— Пустая фраза! Почему ваша вера является более истинной, чем у буддистов и индуистов? Что делает вашего Бога более могущественным, чем Брахму? Иудеи и христиане, мусульмане и сикхи — все они искренне верят в
своего Бога, в
свою истину. Никто не прав? Или все правы? Ваш Бог осуждает всех других богов! В таком случае скажите мне: кто прав? Какая из имеющихся в мире религий является более истинной, чем другие? И какое христианское течение более приятно вашему Богу и Христу? Католики? Мормоны? Свидетели Иеговы? Протестанты? Баптисты? Пятидесятники? Адвентисты?
— Бьорн…
— Почему
я должен верить в Бога, который господствует над всеми народами земли и изо всех выбирает для себя племя кочевников на Среднем Востоке? А есть еще аборигены на Гавайях, иннуиты, аборигены в других местах. Почему ваш Бог сидит на небе и прижимает к груди одно малюсенькое племя?
— Пути Господа неисповедимы.
— Выбор Господа совершенно иррационален. То, что израильтяне верили в Него две-три тысячи лет тому назад, я понять могу. А вот то, что люди продолжают придерживаться этого суеверия до сих пор, выше моего понимания.
— Так рассуждают дураки.
— Вы сами говорите, что сердце Бога перестало биться.
— Бог умирает медленно, Бьорн. Он не может умереть за одну ночь. Если использовать толкования Библии, знамения и смысл пророчеств и молитв, мы придем к выводу, с которым ничего не остается, как согласиться, что умирание Бога началось в какой-то момент в XII веке и завершилось в конце XIX века. К настоящему моменту Бог уже сто лет как умер. Только мы не можем этого принять.
— Вы монах. Кому же вы поклоняетесь, если ваш Бог умер?
— Разве ты перестаешь любить маму и папу после того, как они умерли? Мы поклоняемся памяти о Боге. Памяти об Иисусе. Обо всех тех ценностях, которые они защищали, и обо всем, чему они нас научили.
— Так что же это значит, если вы правы? Есть ли другие боги, которые ждут своей очереди, чтобы занять место умершего Бога?
— Этого мы не знаем. Пока. Гностики — христианская секта, которую отцы Католической церкви заклеймили как еретическую, — никогда не были готовы признать, что наш Бог — Всемогущий самодержец. Напротив, многие думали, что Яхве — Бог низшего ранга, стремящийся к власти, и что его создания — Земля и люди — как раз доказывали его небожественную суть. Выше Яхве и других конкурирующих маленьких богов было более могущественное божество, настоящий Бог, находящийся выше всяких мелочей, происходящих здесь, на Земле. Понятно, что ни иудейские раввины, ни христианские Отцы Церкви никогда не признавали такого учения. Бог Ветхого Завета, как бы то ни было, заставил нас молиться Ему, и никому другому. Гм… Но как быть, если гностики были правы? Что, если Яхве Ветхого Завета был стремившимся к власти богом — аэоном, — который был истерически занят пустяками? Что, если Яхве был только одним из многих богов? Что, если существует созидательная сила, Истинный Бог, которого ни одна религия не сумела найти среди своих святых иллюзий? Возможно, пройдут сотни лет, прежде чем новый Бог станет настолько сильным, чтобы появиться перед нами, людьми, и выберет новых пророков, которых человечество станет слушать, кому станет поклоняться, из-за кого будет воевать. Ты — дитя неверия в Бога, государственного безбожия, равнодушного отношения к вечности и ко всему святому. Исходя из этого, можно сказать, что твои атеистические взгляды — результат отсутствия Бога в нашей жизни.
Несколько минут мы сидим молча, в тени, скрывающей нас от палящего солнца пустыни. Когда мы допили воду, монах показал нам дорогу в прохладный земляной подвал под монастырем. Мы проходим через многие помещения со стенами из земли и песчаника и наконец входим в железную дверь и попадаем в бетонный зал, освещенный мигающей лампой дневного света.
Монах открывает металлический шкаф и вынимает коробку, полную монет. Он протягивает мне горсть монет. Я смотрю. И к своему удивлению, обнаруживаю, что это серебряные монеты с норвежским королевским гербом.
— Как они сюда попали?
— Их сюда положили.
— В университете я прошел курс нумизматики. Если я не ошибаюсь, первые норвежские монеты выпустил Олаф Трюггвасон примерно в 995 году. На монетах есть надпись
ONLAF REX NORMANNORUM, что трактуется как
Олаф, король норвежцев. На лицевой стороне изображение короля со скипетром, на реверсе — крест и буквы
CRVX, то есть латинское слово
crux, что значит
крест. Считается, что мастер, изготавливавший монеты, приехал из Англии.
— Скандинавские торговцы изготавливали монеты и здесь, в Египте, а именно в деревне Миср, к югу от Александрии, на берегу Нила.
— Археологи обычно считают, что арабские монеты, найденные в Норвегии, пришли на север вместе с купцами, торговавшими в Византийской империи. Кроме этого, арабские монеты вообще использовались как интернациональная валюта. Я не знал, что викинги изготавливали монеты в Египте.
— Недолго. Есть кое-что еще, — говорит Стюарт и проскальзывает мимо монаха, кивая еще на один шкаф, притом гораздо большего размера. — Но за это я надеюсь получить от тебя «Свитки Тингведлира».
— Скоро…
Монах отпирает шкаф и вынимает деревянный футляр. Внутри лежит золотое украшение. Он протягивает мне цепь, которая весит немало. Подвеска изображает руну
тюр.
— Украшение эпохи викингов, — говорит Стюарт. — Попробуй угадать, где его нашли.
— Я не знаю.
— Украшение было найдено в пустом саркофаге в самой отдаленной, самой секретной погребальной камере храма Амона-Ра, — говорит монах.
6
В тот же вечер сразу после обеда я звоню профессору Ллилеворту в СИС из уличного телефона на расстоянии нескольких кварталов от гостиницы.
Связь отвратительная, уличный шум не дает возможности вести разговор. Но мне удается объяснить ему, что я совершил в целом удавшийся побег из Института Шиммера. Его вопросы тонут в какофонии мопедов, автобусов, криков торговцев овощами, которые расхваливают свои увядшие дыни, и дисгармоничных призывов муэдзинов, доносящихся с минаретов.
На обратном пути меня без всякого предупреждения завлекают в десяток мелких лавок, из которых по причине культурных и языковых недоразумений я каким-то образом умудряюсь выбраться с солидным запасом каменных фигурок скарабеев и кошек, металлических Анубисов, миниатюрных саркофагов с мумиями, а еще с папирусным плакатом со сфинксом в момент захода солнца и эссенцией духов «Nubian Nights»,
[53] перед которыми не устоит ни одна красавица.
Около гостиницы я обнаруживаю туриста, который делал фотографии в гробнице Тутмоса II. Он стоит и взглядом ищет кого-то, возможно свою очаровательную женушку с кредитной картой и большим желанием использовать ее. Увидев меня, он смущенно улыбается. Может быть, он видит меня не в первый раз, но не может вспомнить, кто я. Или же я не должен был заметить его.
7
На следующее утро мы со Стюартом прогуливаемся от гостиницы до Луксорского музея.
Вчера вечером Стюарт позвонил в музей и договорился о встрече с директором, своим хорошим знакомым и коллегой, с которым поддерживал связь на протяжении многих лет.
По пути Стюарт пытается уговорить меня показать ему «Свитки Тингведлира». Я отвечаю, что, как он должен понимать, с собой их у меня нет.
— Но ты же знаешь, где они? — брюзжит он. — Давай поедем туда.
Я понимаю, что его профессиональное любопытство неуемно, но это постоянное приставание начинает действовать мне на нервы.
Директор музея напоминает добродушную гориллу. У него пышная борода, кустистые брови, и даже из-под рубашки на груди торчат волосы.
— Стюарт! — рычит он и обнимает старого коллегу.
Они смотрят друг на друга со смехом и словно не веря, что оба еще живы.
— Он был моим ассистентом, когда я вел раскопки в гробнице Амона-Ра, — объясняет Стюарт.
— Ассистентом?! — смеется директор. — Я был твоим рабом!
В музее уже довольно много посетителей. Я смотрю, нет ли фотографа из гробницы. Но его нет. Конечно, его успели сменить.
— Лишь немногие знают — а еще меньше тех, кто этим интересуется, — что у нас в подвале есть коллекция папирусов, пергаментов и бумажных текстов, — говорит директор. Обращаясь к Стюарту, он добавляет: — Документы хранятся там.
Стюарт подмигивает мне.
— Документы? — спрашивает он.
В этот момент мы проходим мимо стеклянной витрины с фигуркой, которая заставляет меня резко остановиться.
Деревянная скульптура имеет размер примерно сорок сантиметров и изображает мужчину или бога, который обеими руками держит свою длинную бороду. По надписи на витрине, ей 3200 лет, она ранее была покрыта черной смолой — цветом бога Осириса. Найдена в одной из могил Долины царей. Скульптура очень похожа на ту, фотографию которой Трайн держал у себя в кабинете в Рейкьявике. Бронзовая фигурка, которой тысяча лет, с бородой в форме
анха, была найдена в 1815 году около Эйя-фьорда в Северной Исландии. Откуда привезли эту фигурку? Из Египта? А если фигурку из Эйя-фьорда сделал исландский викинг в XI веке, то откуда он черпал вдохновение? Может быть, он был на военном корабле Олафа?
Я спешу вслед за Стюартом и директором музея и спускаюсь по лестнице в подвал.
— Жрец Асим культа Амона-Ра был, если верить легенде, взят богами на небо живым, и случилось это однажды рано утром в 1013 году, — говорит, посмеиваясь и подмигивая Стюарту, директор музея. — Откуда возник неожиданный интерес к Асиму теперь, тридцать лет спустя?
— Мы работаем над одной теорией. Нам попались фрагменты манускрипта, который, возможно, написан им.
— Фрагменты манускрипта? Написанные Асимом? Увлекательно! Очень хочется на них посмотреть!
— Я пришлю тебе копии.
— Спасибо, друг мой. Прочитаю с удовольствием!
Директор открывает дверь в хранилище, предварительно отключив сигнализацию при помощи кода. В одном из стальных шкафов он берет два ламинированных листа размером А4. На первом листе перевод на египетский и английский языки текста, первоначально написанного на папирусе. На втором фотография оригинала, который находится в Каирском музее.
— Этот текст написал наш друг
мистер Асим. Это фрагмент описания похорон фараона, в большей степени журналистский отчет, чем религиозный гимн. Папирус времени Нового царства, с иероглифами и настенными изображениями. К сожалению, отсутствуют начало и конец.
…с самого раннего утра люди собирались вдоль пути, по которому пойдет процессия, вплоть до самой реки. Возбужденная толпа провозглашала хвалу Амону-Ра. На другом берегу Нила, на стороне мертвых, гробница стояла готовой уже почти десять лет. Только строители знали, где она. Фараон умер 70 дней назад. Осирис ждал. Профессиональные плакальщики, размахивая руками, громко кричали и осыпали себя и зрителей пеплом. Танцоры му, в набедренных повязках и шляпах с перьями, двигались в такт ударам барабанов. У берега реки, под дворцом, ожидала погребальная лодка с мумией в золотом саркофаге. Масса народу пришла в движение, когда лодка с рыдающими и восклицающими родственниками отчалила от берега. Сразу за ней последовала лодка с покойным. Позолоченный гроб стоял под разукрашенным балдахином, покоящимся на четырех столбах, покрытых резьбой. Гребцы, стоя, взмахивали одновременно в медленном темпе. Потом отчалили лодки сопровождения со священниками, офицерами, придворными, официальными лицами, танцорами и прислужниками, которые несли сокровища. Эти сокровища должны быть размещены в месте захоронения и последовать за умершим в загробный мир, где он будет жить как бог. Массы народу спустились к Нилу и сгрудились около стражников, наблюдая, как лодки пересекали реку. Ни один посторонний не получил разрешения переправиться на сторону мертвых. Место захоронения царя хранилось в тайне. На западном берегу гроб подняли на катафалк, также имевший форму лодки и снабженный полозьями. Служившие во дворце были удостоены чести тянуть катафалк с фараоном. За ним тянули другой катафалк, с кувшинами, в которых находились внутренности царя. Самые близкие родственники шли рядом с гробом. За вторым катафалком шли слуги с сокровищами, которые должны сопровождать фараона в его новой жизни, и с Книгой мертвых, с магическими формулярами и советами, которые помогут ему во время путешествия по царству мертвых. Медленно — по причине жары и большого веса — катафалк тянули от реки вверх по склону горы к месту захоронения. Монотонные удары барабанов эхом отзывались в скалах…
— Больше ничего нет, — говорит директор музея, увидев, что мой взгляд дошел до конца. Потом поворачивается к Стюарту. — Второй документ — письмо XIV века визирю Египта от префекта ватиканского архива. — Он кладет перед нами документ в прозрачной пластиковой папке. — Визирь, очевидно, послал в Ватикан запрос о существовании писем или документов, написанных Асимом. По-видимому, у визиря были большие связи, потому что префект ватиканского архива, который легко мог бы проигнорировать любой запрос под предлогом того, что это архив самого папы римского, тем более что запрос исходил от визиря из мусульманской страны, все-таки добросовестно ответил на запрос.
Я пытаюсь прочитать текст на латинском языке.
— В общих чертах префект подтверждает существование трех документов, написанных Асимом, — говорит директор. — Самый старый документ — письмо жреца
Его Высочеству Халифу аль-Хакиму би-Амру Аллаху, Властителю Милостью Божьей, Единовластному Халифу Египта…
— Копия его есть у нас в институте, — вставляет Стюарт.
— Второй документ — копия неизвестного оригинала, который изображает нападение языческих дикарей на храм и гробницу. А третий — копия фрагмента письма, отправленного во время путешествия, возможно взятого из того же письма, что и предыдущий документ. Он описывает поездку в страну, которую Асим, цитирую, называет «окраиной цивилизации».
Стюарт с улыбкой поворачивается ко мне:
— Окраина цивилизации…
— Очевидно, он имеет в виду Норвегию.
— «Языческие дикари…» — бормочет Стюарт. — Они никогда не называли так византийских воинов. Он изобразил здесь викингов!
— Это значит, что в архиве Ватикана имеются три документа, написанные Асимом.
— И если так, — говорит Стюарт, — то нам надо ехать туда и искать их!
АНТИКВАР
ИТАЛИЯ
1
В нескольких шагах от скопления туристов на Пьяцца Навона, в узком, выложенном брусчаткой переулке, соединяющем одну из сонных улочек с довольно оживленной магистралью, между багетной мастерской и салоном модистки, расположилась антикварная лавка, которая, если судить по старинной вывеске над окном, называется попросту и без затей — «Антиквариат». Карта Рима ошибочно утверждает, что переулок, извивающийся таким образом, что, стоя в начале, нельзя увидеть его конец, является тупиком. Местное население пользуется переулком для того, чтобы сократить дорогу до Виа дель Говерно Веккио, а заблудившиеся туристы думают, что попали в прошлое. Лавки на затерянной улочке имеют такой вид, будто в них никто не заходил со времен императора Нерона, а время волшебным образом остановилось.
За тусклым стеклом витрины антикварной лавки выставлены пыльные книги — бестселлеры минувших времен, которые когда-то покоряли массы людей, но уже давно прочно забыты. Под струей воздуха, выдуваемого кондиционером, висящим над дверью, словно привидения, колышутся помертвевшие листы открытой книги. В переулке около двери, на которой каллиграфические буквы, написанные выцветшими чернилами на желтом листке бумаги, возвещают дни и часы работы, стоят грустные останки забытого когда-то давно черного мужского велосипеда, прикованного к трубе.
Стюарт Данхилл нервно поправляет на себе блейзер:
— Войдем?
По дороге от гостиницы он рассказывал мне про человека, к которому мы шли. Луиджи Фиаччини — человек-легенда в подпольном мире антиквариата. Он знает всех, кто играет сколько-нибудь значительную роль в этом бизнесе. Торговцев антикварным товаром, библиотекарей, издателей, ученых, книготорговцев и коллекционеров. Он общается и с людьми с кристально чистой репутацией, и с теми, кто готов услужить и вашим и нашим, и с откровенными жуликами. С библиофилами мужеского и женского пола Милана и Флоренции, Вены и Парижа, Гамбурга и Лондона, Санкт-Петербурга и Москвы, Осло и Стокгольма, Копенгагена, Хельсинки и Рейкьявика, Нью-Йорка и Сан-Франциско, Гонконга и Сингапура, Буэнос-Айреса, Сантьяго и Рио-де-Жанейро, Сиднея и Кейптауна. Находясь на своей базе в Риме, Луиджи Фиаччини способствует продаже самых дорогих книжных собраний и отдельных книг. Он был посредником, когда копию V века Евангелия от Луки купила «Опус Деи». Слухи утверждали, что Луиджи сумел найти рукописный оригинал утраченной пьесы Шекспира «Победоносные усилия любви», за который некий коллекционер в Эмиратах выложил 50 миллионов долларов. Он же стоит за продажей одного из сорока ныне сохранившихся экземпляров Первого фолио Шекспира, которое вышло через семь лет после смерти автора, в 1623 году, купленного за 2,8 миллиона фунтов стерлингов. Стюарт слышал также, что Луиджи как-то участвовал в продаже на аукционе «Сотбис» в Лондоне одного их самых первых печатных атласов, а именно Атласа 1477 года, опирающегося на работы географа Клавдия Птолемея II века, за 26,5 миллиона крон.
Когда мы уже почти стоим у двери, мимо проходит мужчина. Наши взгляды встречаются на долю секунды, и у меня возникает ощущение, что я его когда-то видел. Но он ничем не выражает, что узнал меня, и я тут же забываю его, когда истерический звон колокольчика под потолком сигнализирует о нашем прибытии. Скромный фасад лавки с одним окном-витриной создает впечатление, что помещение внутри очень маленькое. Но в действительности магазин просторнейший. Сначала вы входите в узкую комнату с книгами, занимающими сверху донизу все четыре стены, и прилавком, на котором стоит старомодный кассовый аппарат. Дальше магазин расширяется и напоминает уже довольно большую библиотеку. Тысячи книг заполняют лабиринт стеллажей, коробок, столов и этажерок. Воздух насыщен запахами всего связанного с книгами: бумаги, бумажной пыли, переплетов, клея и почти что пота тех героев, которые ведут свои бои внутри книжных изданий.
Стюарт толкает меня в бок.
Я все время представлял себе Луиджи Фиаччини высоким и красивым, аристократического вида итальянским графом с седеющими волосами и мудростью во взгляде. Существо, которое, стоя спиной к нам, перекладывает книги и бормочет: «Momento, momento»,
[54] потом угловато поворачивается, чтобы посмотреть, кто ему мешает, маленького роста, с согнутой спиной, редкими волосами, большими мутными глазами, глядящими в разные стороны, — не хватает только горба, чешуйчатой кожи и очень длинного языка.
— Стюарт! — восклицает он.
— Луиджи! — отвечает тот.
Они жмут руки, как будто оба добросовестно пытаются избежать опасности причинить друг другу неудобство.
Стюарт представляет меня. Луиджи рассматривает меня с неприкрытым любопытством, которое могут позволить только люди с физическими недостатками.
— Мистер Белтэ! В моих кругах был большой шум, когда вами был похищен ларец Святых Тайн. Жаль только, что он не поступил на частный рынок. Вы стали бы миллиардером!
Его смех напоминает шелест книжных страниц под дуновением ветра.
Он гораздо ниже меня. Я замечаю, что роговица одного глаза повреждена.
— Да, я слепой на один глаз. И, как все циклопы, я прекрасно вижу одним глазом! — Он смеется громко, но его смех лишен своей главной составляющей, как будто это всего лишь звук, а не выражение ощущения веселья.
В юности Луиджи взял в зубы сигару и с тех пор никто не видел антиквара без нее. Он утверждает, что ведет свое происхождение от Леонардо да Винчи по побочной линии. Но мне кажется, что он, скорее, несчастный потомок испанского мавра, который согрешил с ослицей.
—
Momento, господа, — говорит он шепотом, бежит к двери, опускает жалюзи и запирает дверь.
Со страстью великого любовника он водит нас по лавке, которая организована по какому-то тематическому принципу, но я не могу понять какому. Он снимает с полок редкие книги — «Приключения Пиноккио» с автографом Карло Коллоди, ее автора, иллюстрированное издание XVIII века «Божественной комедии» Данте Алигьери, первое издание «Государя» Макиавелли и корректуру 1979 года книги Умберто Эко «Имя розы» с правкой, сделанной рукой автора.
Луиджи взмахивает руками и восклицает, с большим удовольствием посасывая сигару:
— У меня здесь тысячи самых красивых, самых замечательных книг, и каждая только умоляет: «Перечитай меня!»
Винтовая лестница, перегороженная тонкой цепочкой с надписью «Riservato»,
[55] ведет на второй этаж, где находится квартира Луиджи.
Она не слишком отличается от магазина — книги и здесь повсюду. В середине что-то вроде салона, низкий столик с кипами итальянских газет и журналов.
Он приносит с кухни кофейник.
— Я уже рассказывал тебе по телефону, — говорит он Стюарту, разливая кофе, — что копии письма Асима о путешествии в некую северную страну были весьма желанными объектами продаж на рынке коллекционеров начиная с XIX века. Мы не знаем, откуда взялись эти копии, но некоторые из них попали в секретный архив Ватикана. Копии — всего лишь несовершенные фрагменты, но, судя по всему, они имеют какой-то общий источник, который, очевидно, утрачен.
— Вы хотите сказать, — спрашиваю я, — что все имеющиеся относительно этого дела в Ватикане документы уже поступили в обращение?
— Ни в коем случае. Архив Ватикана неисчерпаем. Штука в том, как искать, есть ли у тебя влиятельное лицо, которое может помочь в дальнейших поисках. Хотя ученые и коллекционеры уже довольно хорошо изучили архив, никто из них по-настоящему не знает, что именно они хотят найти. Достаточно случайно пропустить один документ или прозевать ссылку, и все — нить потеряна и до цели не дойти. Кроме этого, только сейчас, — он еще раз взглянул на меня, — разрозненные куски информации начинают обретать смысл.
— А что именно мы можем надеяться найти?
— Один из фрагментов говорит о нападении на храм Асима. Другой — своего рода письмо во время остановки, описывающее путешествие к пропасти на край цивилизации.
— К форпосту цивилизации, — поправляет Стюарт.
— К форпосту. Конечно. Ватикан уже в XII веке установил, что этим форпостом является Норвегия. Но проблема в том, что никто не знает, о каком именно месте в Норвегии идет речь. — Он вопросительно смотрит на меня, но я пожимаю плечами. — Другая проблема в том, чтобы идентифицировать документы, связанные с этим делом.
— На большинстве из них есть метка.
— Метка? Как это понимать?
— Три символа:
анх, рунический знак
тюр и
крест.
Луиджи на секунду отводит взгляд:
—
Oh cazzo![56] Думаю, кто-нибудь обязательно наткнулся бы на манускрипты с этими символами, если бы они хранились в Ватикане.
— Нам ведь не обязательно иметь полный комплект, — говорит Стюарт. — Любые подсказки и намеки, маленькие и большие, помогут нам.
— И вы надеетесь найти их в секретном архиве Ватикана?
— Если нас туда пустят.
— Архив вовсе не такой секретный, как уверяет название. Есть люди, которые говорят, что слово
secretum означает «особый», а не «тайный». Уже с 1881 года архив частично открыт. Правда, надо написать ходатайство, но в наши дни полторы тысячи ученых в год имеют туда доступ.
— Безнадежная задача. И получить доступ, и найти.
— Ну отчего же? Многие сотрудники архива принадлежат к моему, назовем его так, цеху библиофилов. Они кое-чем мне обязаны. Я не только помогу вам получить туда доступ, я еще порекомендую вам одного очень сведущего архивиста, который знает, где искать.
Я с благодарностью жму ему руку.
— Интерес к манускриптам и картам Асима не стал меньше после 1977 года, когда Стюарт сделал свои сенсационные находки, — говорит Луиджи. — Но по причине свойственного всем людям высокомерия их отвергли так называемые научные круги, и дело перешло к частным ценителям.
— Он имеет в виду подпольных коллекционеров, — говорит Стюарт. — Ты сказал «карты»?
— Ну да, разве ты не знал? Принято считать, что есть как минимум одна карта, которую Асим послал в Египет, на ней указано место в Норвегии, где спрятаны мумия и сокровища. Возможно, карта находится как раз в архиве Ватикана, этого я не знаю. Но в любом случае ни один из охотников за сокровищами не воспользовался ею.
— Так ты занимаешься и картами тоже?
— Уж можете мне поверить! Подождите, подождите! — Он быстро спускается по спиральной лестнице и возвращается с кипой рулонов и папок в руках, осторожно кладет все это на стол. — Карты зачастую столь же ценны, как и рукописные документы. Речь идет о том, чтобы познать мир! О чести, выпадающей человеку за совершенные им великие открытия. Марко Поло. Христофор Колумб. Васко да Гама. Гудзон. Нансен. Амундсен. Хейердал.
[57] — Он разворачивает один лист. — Это факсимильная копия карты мира Меркатора
[58] 1569 года. На ней можно узнать Скандинавию, северную оконечность Шотландии, Исландии и части Гренландии, но многое здесь — чистая фантазия. Меркатор основывался на средневековых сведениях, полученных от одного странствовавшего по морю монаха, который в XIV веке написал книгу
Inventio Fortunata («Открытие Фортуната»). К сожалению, она утрачена. Винланд
[59] впервые был описан примерно в 1075 году известным географом и историком Адамом Бременским в книге
Descriptio insularum Aquilonis («Описание Северных
островов») — другими словами, всего лишь через поколение после того, как Лейв Эйрикссон определил местопребывание Винланда. «Карта папы Урбана» 1367 года делает намек на то, что далеко на западе в Атлантическом океане существуют большие острова — имеется в виду берег Америки. Вызывающая большие сомнения карта Винланда является, по-видимому, все-таки картой Америки. Пергамент датируется XV веком, но ученые не могут прийти к единому мнению о возрасте чернил. В коллекции сэра Томаса Филиппа есть карта 1424 года, которая показывает детали восточного берега Америки вплоть до Джорджии и Флориды.
— Только этого недоставало! — говорю я. — Америка! Давайте вернемся на наш континент.
— Как скажешь.
Я смакую крепчайший кофе и спрашиваю, не боится ли Луиджи воров.
— Как бы там ни было, — говорю я, — воришка заработал бы на этом антиквариате больше, чем на ограблении какого-нибудь банка.
— Что верно, то верно! — Луиджи подходит к перилам лестницы. В углублении виднеется кнопка. — Таких кнопок у меня в магазине пятнадцать штук. Сигнал поступит прямо в полицию. Они прибудут через несколько минут. В самых ценных книгах есть электронные датчики, и сразу раздастся звуковой сигнал, если кто-то поднесет книгу к двери. — Он стучит по стеклу витрины. — Бронированное стекло. Молотком не разбить. Если захочется проникнуть через стекло, нужно применять взрывчатку.
— Насколько мне известно, — осторожно и испытующе говорит Стюарт, — у тебя были контакты с шейхом Ибрагимом.
Луиджи резко поднимает голову, как зверь, почуявший опасность:
— У всех, кто имеет хоть какой-то вес в международном мире старых книг и манускриптов, бывали контакты с шейхом Ибрагимом.
— Насколько хорошо вы его знаете?
— Ни один человек, который говорит, что знает шейха хорошо, не знает его вообще.
— Вы что-нибудь продавали или покупали у него?
Луиджи долго смотрит на меня своим единственным глазом.
— В моем бизнесе деликатность — основа успеха. Кричать о клиентах, будь то продавцы или покупатели, — это неделикатно, как если бы врач-гинеколог встал посреди улицы и принялся раздавать фотографии своих пациенток.
— В сущности, мы хотим узнать, — говорит Стюарт, — почему шейх заинтересовался жрецом Асимом и сокровищами, украденными викингами. Он ищет сокровища в первую очередь? Или мумию? Или древние манускрипты в кувшинах?
— Шейх всегда интересовался древностями и манускриптами.
— А откуда вообще ему известна история об Олафе Святом и Снорри?
— Возможно, прочитал номер
National Geographic в 1977 году? — с улыбкой говорит Луиджи. — Вероятно, тогда у него и появился интерес.
— Ты можешь нам немного помочь, Луиджи? — спрашивает Стюарт.
— Надо покумекать.
Стюарт улыбается. Я подозреваю, что в языке Луиджи «покумекать» означает «выяснить все обстоятельства дела».
— Не думайте, что я иду на это ради ваших прекрасных глаз, — добавляет он неожиданно и четко, как будто хочет спустить нас с небес на землю, увидев наши довольные улыбки.
— Конечно, — говорит Стюарт. — Мне даже в голову не могло прийти, что ты не потребуешь ничего взамен.
—
Amico,[60] — со смешком говорит он, — ты меня знаешь. Мои мотивы — я говорю, как обстоят дела на самом деле, — мои мотивы исключительно корыстные. Мне представляется, что охота за сокровищем, предпринятая шейхом Ибрагимом, не является детской игрой в поисках идиотского документа некоего монаха XV века, которая даст барыш в несколько сотен тысяч. Шейх Ибрагим ворочает огромными суммами. А если речь идет об огромных деньгах, то я ничего не имею против того, чтобы поплясать вокруг золотого тельца.
2
Читальные залы в секретном архиве Ватикана длинные, узкие, со сводами, украшенными фресками, как в церкви. В центре стоят столы для работы, каждый рассчитан на двух-трех исследователей. Столов столько, что я отказываюсь даже от мысли сосчитать их. У одной стены стеллажи высотой в два этажа.
Дежурный библиотекарь ведет нас через несколько красивых комнат в зал с деревянными панелями, расписанными потолками и книжными полками из темных сортов дерева. За столами сидят ученые с бледными лицами и красными глазами, погруженные в свои маленькие облака пыли, склонившиеся над потрескавшимися книгами и расползающимися страницами документов.
Томасо Росселини, невысокого роста кругленький человечек с карими, как орех, глазами, которые с любопытством моргают под квадратными, в золотой оправе, стеклами очков, пытается лучше рассмотреть нас. Он ждет перед своим кабинетом.
— Так, значит, вы тоже друзья Луиджи, — говорит он заговорщически и жмет нам руки. В уголках губ прячется улыбка.
— А кто с ним не дружит? — обычной светской фразой отвечает Стюарт, отчего Томасо рассыпается абсолютно беззвучным смехом. Надо десятки лет работать архивистом или библиотекарем, чтобы в совершенстве отработать смех, которого не слышат окружающие.
Мы пытаемся сказать обычные вежливые фразы о том, как красив интерьер архива, как мы благодарны, что он уделил нам свое время, но он отметает все это нетерпеливым движением руки:
— Луиджи сказал, что вы ищете документы и письма, связанные с неким египетским жрецом культа Амона-Ра по имени Асим и с норвежским королем Олафом Святым. Позвольте мне, только ради моего любопытства, спросить зачем.
— Мы пытаемся установить наличие более тесных связей между скандинавской и египетской культурами, чем это предполагалось раньше, — быстро и несколько туманно говорит Стюарт. — Мы считаем, что скандинавские верования в асов возникли под влиянием как египетской веры, так и германской, и кельтской мифологии.
Томасо молча смотрит на нас, как будто винчестер его компьютера обрабатывает, классифицирует и переводит в архив полученные данные. Вряд ли мы первые исследователи, пришедшие к нему, чтобы получить доказательства безнадежной гипотезы.
— Я собрал довольно много ссылок в архиве на этих людей, данную тематику и смежные темы. Но по естественным причинам —
время! — я не изучал сами эти материалы. — Он протягивает нам три листка, заполненные буквами и цифрами. — Самые старые ссылки относятся к событиям 950-летней давности, но есть также документы, относящееся к XII веку и далее вплоть до начала XVI века.
Он объясняет нам, что мы сможем найти сами, а для чего нам потребуется помощь архивистов, и этого гораздо больше.
— Но я должен вас предупредить. Переведена только очень незначительная часть. В лучшем случае это переводы на латинский язык.
— Я владею латинским, греческим, коптским, арамейским, итальянским языками и ивритом, — говорит Стюарт. Видя наши изумленные взгляды, он добавляет: — Это лишь часть моего базового образования.
3
Томасо приводит нас в читальный зал и объясняет, что означают цифры ссылок. Значительная часть материала находится в подвальных помещениях с бесконечными рядами полок. Сотрудник архива долго подбирает нам заказ, мы несем две большие картонные коробки с коробочками, папками, протоколами и скоросшивателями в читальный зал.
Усаживаемся и начинаем читать.
Час за часом Стюарт и я листаем документы, которые частично затрагивают периферийные области интересующей нас загадки.
В одном документе я натыкаюсь на упоминание о письме, направленном
Великому магистру Стефаносу Сканабекки, где ключевыми словами были
Норвегия и
Доллстейн. Стюарт находит буллу, в которой папа Анастасий IV в 1154 году, незадолго до своей смерти, сделал город Нидарос резиденцией архиепископа, подчинив ему также Осло, Хамар, Берген, Ставангер, Оркнейские, Гебридские и Фарерские острова и Гренландию.
Есть многочисленные упоминания о документах, опубликованных в
Diplomatarium Norvegicum («Дипломатия Норвегии»), двадцатидвухтомном издании, содержащем двадцать тысяч писем норвежского Средневековья, некоторые из них написаны еще в XI веке.
В письме от 8 августа 1341 года епископ Бергенский просит дать разрешение Ивару Бордсону совершить плавание в Гренландию. Из моря информации я вылавливаю письмо, датированное ноябрем 1354 года, в котором король Магнус назначает Пола Кнутссона командором в официальной экспедиции, имеющей целью закрепить христианство в Гренландии.
Идем дальше, в документе 1450 года говорится о «нападении на варваров в Гренландии», при этом «некоторые дикари ускользнули».
В пачке документов о святом Магнусе я натыкаюсь на буллу папы Селестина III, канонизирующую святого Рагнвальда, ярла Оркнейского.
Более неожиданной является ссылка на пергамент 1131 года, в котором Клеменс де Фиески в письме кардиналу Бенедиктусу Секундусу — с упоминанием доклада 1129 года — доказывает, что этот Рагнвальд, по-видимому, опередил его и извлек из пещеры сокровища.
Пещера? Сокровища?
Де Фиески в своем письме предлагает Ватикану заключить секретный договор с кем-нибудь из рода Рагнвальда, кто находится в оппозиции к ярлу.
Эти сведения взволновали меня по нескольким причинам. Рагнвальд, ярл Оркнейский, — это тот крестоносец, который, если верить Адельхейд, искал сокровище в гроте Доллстейн.
А вот
нашел ли он, что искал?
Какую роль он играл?
Он был хранителем мумии, письменных текстов и драгоценностей, оберегавшим их от посягательств Ватикана, или же обыкновенным охотником за сокровищами?
В 1137 году, вскоре после посещения Доллстейна, Рагнвальд приступил к строительству собора Святого Магнуса в Киркволле на Оркнейских островах, чтобы увековечить память своего дяди Магнуса, погибшего мученической смертью. Во время реставрации собора в начале XX века строители нашли скелеты Рагнвальда и его дяди Магнуса, которые были замурованы под клиросом.
В руках каждый держал скипетр. На обоих скипетрах было три символа:
анх, тюр и
крест.
Согласно хроникам, Рагнвальд был убит своими родственниками в Кейтнессе, в Шотландии, в 1158 году во время междоусобицы. Письмо де Фиески свидетельствует, что его ликвидировали перебежчики по наущению могущественной конгрегации
[61] в Ватикане.
Убийство Рагнвальда заставляет меня вспомнить судьбу моего друга, преподобного Магнуса.
4
Еще через полтора часа Стюарт обнаруживает документ, датированный июнем 1128 года, мы читаем его, затаив дыхание.
В документе, на котором сохранились сломанная печать и шелковая лента кардинальской комиссии, сказано четко и определенно, что Ватикан получил информацию о том, что «варвары из снежной страны» прибыли в Египет и похитили «священную мумию, бесценные папирусные тексты и богатые сокровища».
— Разве можно сказать более отчетливо? — шепчет Стюарт. Глаза блестят.
Я думаю, что в этот момент самое главное для него — что он получит научную реабилитацию.
Согласно этому документу, два египетских представителя, халиф аль-Мустаршид и неназванный жрец, недавно посетили Ватикан и изложили свое дело. Визит совпал с тем, что было найдено и переведено столетней давности коптское письмо, которое пылилось в архиве Ватикана.
Судя по всему, сообщение египтян и содержание коптского письма произвели впечатление на папу. В том же году самая первая группа воинов во главе с рыцарем Клеменсом де Фиески направилась по приказу папы Иннокентия II в Норвегию.
Вместе с этим документом лежит письмо, датированное весной 1129 года, отправленное с посыльным некоему Великому магистру Сканабекки в секретную конгрегацию Ватикана, — по-видимому, упоминание об этом письме мы видели раньше. Это письмо от Клеменса де Фиески, который, не стесняясь, подписался под своим докладом: «Оруженосец Господа»:
Его Высокопреосвященству
Великому магистру Стефанусу Сканабекки
Святой престол и Римская курия
Ватикан
Господин,
Кардиналом Бенедиктусом Секундусом по поручению Святого Отца мне было приказано возглавить группу ученых и способных носить оружие мужей и отправиться с ней в Норвегию, к северу от цивилизации, чтобы по возможности найти следы священного папирусного манускрипта. Среди моих подчиненных были представители Ватикана, ордена тамплиеров, иоанниты Мальтийского ордена и доверенные представители египетского халифа. Халиф также приказал своим посланцам доставить назад мумию (забальзамированную по языческому египетскому обычаю) и все остальное содержимое гробницы мумии, предположительно золото, драгоценные камни и произведения искусства.
К сожалению, многое указывает на то, что норвежцы уже были предупреждены о нашем приближении. Мне не удалось выяснить, каким образом и кем. Возможно, это сделали иоанниты или те разведчики, которых кардинал Секундус заранее послал, чтобы помочь нам найти следы, или болтуны в монастырях и на постоялых дворах, где мы ночевали, передавшие полученную от нас во время расспросов информацию.
Пользуясь советами, которые мы получили в поселении в Дании, под названием Domus Mercatorum, или Купеческая Гавань,[62] где мы общались с торговцами и охотниками, которые много путешествовали по Норвегии, мы отправились в Осло — поселение на равнине богов под грядой скал, откуда можно было ехать верхом на северо-запад, сначала по цветущим долинам, потом через мощные горные цепи. Этот путь нам был рекомендован вместо плавания на север вдоль опасного и дикого скалистого побережья, где на пустом месте вдруг появляются огромные, как дом, волны, где в море живет морское чудовище, которое здесь называют «краке» и которое может утопить даже большой корабль.
Когда мы прибыли в Норвегию, на нас неожиданно обрушилась суровая зима, которая принесла снег в больших количествах и леденящий холод. Нам пришлось провести шесть месяцев в одном норвежском монастыре в ожидании, когда сойдет снег. Двое из наших людей умерли вследствие болезней, вызванных зимними холодами.
По картам столетней давности и описанию, данному египтянином Асимом, жрецом культа Амона-Ра, мы смогли обнаружить грот, который называется Доллстейн, или Доллстейнский грот, на острове вблизи северо-западного побережья. Описание Асима оказалось очень точным.
Чтобы не отнимать понапрасну Ваше драгоценное время, мой Господин, я не буду описывать все, что встретилось нам на пути в дремучих темных лесах, которые поднимались высоко в горы, куда нам нужно было идти, чтобы добраться до нашей конечной цели. Мне достаточно сказать, что мы неоднократно натыкались на враждебно настроенных дикарей, троллей и оборотней. Во время стычек с ними наша группа потеряла пятерых храбрых воинов.
Мы прибыли на остров Долл во второй половине дня и разбили лагерь на ровном месте, разожгли костер и зажарили несколько птиц. С нами был местный проводник, который обещал нам помочь в обмен на несколько монет и благословение Его Святейшества. С места нашего лагеря мы видели Доллстейн — огромную скалу на мысу с западной стороны острова у фьорда.
На следующий день, когда взошло солнце, мы поехали в сторону скалы верхом вдоль берега. Здесь мы стреножили коней и оставили двух человек сторожить их. Скала была крутой, гладкой, подниматься было трудно. Примерно через пару сотен шагов вверх лежит обращенный в сторону моря вход в грот, похожий скорее на спуск прямо в ад. Узкий, крутой и скользкий туннель ведет в темноту.
Мы освещали дорогу факелами и осторожно спускались по гладким камням. Воздух холодный и сырой. Наконец мы оказались в большом зале. Затем мы пошли дальше по узким проходам, перебираясь через высокие стенки. Вот так — целых пять гротов один внутри другого. В общей сложности вся пещера имеет глубину в несколько сотен шагов, но местные жители говорят, что система пещер тянется под морем и выходит наверх в Шотландии. Много рассказов ходит о большом сокровище, которое будто бы находится в пещере. Люди, живущие на побережье, говорят, что Рагнвальд, ярл Оркнейский, всего лишь два года назад был здесь на острове и искал сокровище.
Мы шли по гроту, пока это было возможно.
Ваше Высокопреосвященство, Великий магистр Сканабекки! С болью в сердце должен сообщить, что грот, несмотря на самое тщательное обследование его, оказался пустым.
С нижайшей покорностью,
Клеменс де Фиески
Оруженосец Господа
5
Через двадцать пять лет после первой кончившейся неудачей экспедиции папа Адриан IV — в прошлом Николас Брейкспир, который побывал в Норвегии и Хамаре в 1153–1154 годах, — создал особую комиссию, которая должна была разобраться в этой загадочной истории. Этот документ более чем намекает, что задачей Брейкспира в Норвегии было тайно заняться охотой за сокровищем.
Папа Александр III послал на север примерно в 1180 году новую группу воинов — как раз в это время строились деревянные церкви Урнес и Флесберг. Через пятьдесят лет, в 1230 году, туда пришла еще одна группа, направленная папой Григорием IX.
1230 год… Я вспоминаю надпись в деревянной церкви Гарму:
Пастыри папы римского, иоанниты Вэрне
и храбрые тамплиеры Иерусалима собрались здесь
Спрятана священная гробница, о которой сказал Асим
В папке, на которой значится написанное римскими цифрами число LXVII, лежит письмо, копию которого мне уже показывал Стюарт в Институте Шиммера, — письмо, которое жрец Асим послал из Руана халифу Египта, но дошло оно только до Ватикана.
Дрожащими от нетерпения пальцами мы перелистываем бумажные и пергаментные документы, которые добросовестные монахи в прошлом и архивариусы в настоящем опутали паутиной странных ссылок и непонятных намеков.
6
К концу второго дня, когда золотые лучи солнца уже начинают косо светить в высокие с широкими подоконниками окна, я нахожу папку из старой кожи. Хотя я не понимаю ни слова, открывая эту папку, я интуитивно чувствую, что нашел два коротких фрагмента истории Асима, о них говорилось в письме из секретного апостольского архива Ватикана, с которым мы столкнулись в Египте.
— Коптский язык, — говорит Стюарт.
Рядом лежит перевод на латинский язык, сделанный в 1523 году. Держа в руке оба документа, Стюарт громко читает:
Святой Осирис, они воняют! Словно нечистые животные — как больные свиньи и чумные горные барсуки, — они отравляют вокруг себя воздух вонью своего тела; ужасные запахи резкого пота, кислой отрыжки, газов из желудка, вонючих ног и немытых половых органов; от одежды несет запахами старой мочи и экскрементов, пота, крови и…
…бесстрашные, грубые и свирепые. С бешенством сражаются они с любым врагом. Даже при смертельной ране или отрубленной руке или ноге они продолжают сражаться. Мужественных воинов, умерших во время битвы, валькирии сопровождают в рай, который у них называется Валхалла, где погибшие становятся вечными воинами, которые без конца могут сражаться, трапезничать и выпивать…
7
Возбужденный и растерянный от находок древних текстов и загадочного их содержания, я выхожу на улицы Рима. Стюарт остался в Ватикане, чтобы сделать копии документов.
Солнце уже негорячее. Маленькие юркие мотоциклы зигзагами носятся между автомобилями, которые стоят в вечерних пробках. Вдали звучит колокол какой-то церкви, ясный и чистый, ему начинают отвечать другие колокола. В уличных кафе сидят туристы и римляне с крохотными чашечками кофе, стоящими на крохотных столах. На площади Венеция я продвигаюсь сквозь стаю голубей, которая раскрывается передо мной, как молния на одежде, и затем закрывается.
В груди продолжает расти беспокойство. Неужели сокровище Асима все еще находится в гроте Доллстейн, как об этом рассказывала Адельхейд? Или же Рагнвальд, ярл Оркнейский, забрал его и спрятал в соборе Святого Магнуса?
По параллельной улице на другой стороне площади полицейская машина пробивает себе дорогу звуковым сигналом. Где-то раздается автомобильный гудок. Новенький блестящий автобус изрыгает из себя туристов.
Я вспоминаю свое первое пребывание в Риме. Больше часа я пытался найти Тарпейскую скалу.
[63] Нашел, увидел, она
существует. Я часами ходил по Колизею, представляя себе громкие крики народных масс, и стоял на солнцепеке на руинах Римского форума. Бархатным теплым вечером ходил один мимо смеющихся парочек влюбленных, сидящих в уличных ресторанах Травестера.
Я резко останавливаюсь, когда передо мной из ворот выскакивает скутер и растворяется в потоке транспорта. Нахальный голубь, который только что нашел крошку хлеба, отказывается уступить мне дорогу, и я неосторожно выхожу на проезжую часть. Кто-то сзади хватает меня за шиворот и возвращает на тротуар, «Альфа-ромео» резко тормозит и дает сигнал. Я оборачиваюсь, чтобы поблагодарить незнакомца, который спас мне жизнь, но он уже убегает.
Из телефона-автомата я звоню Рагнхиль в полицию Осло, чтобы узнать новости.
— Так вот ты где теперь! — говорит она таким тоном, как будто я был сбежавшим преступником.
Рассказывает, что удалось обнаружить, где именно в Осло скрывались Хассан и его подручные. Торговец недвижимостью продал им квартиру в районе Фрогнер. Деньги были переведены со счета в Лондоне и выплачены наличными. Полиция нашла в квартире оружие и аппаратуру наблюдения. Обитатели квартиры исчезли.
Мысли бешено вертятся в голове. Я медленно шагаю к своей гостинице на холме Квиринал.
8
У портье для меня лежит приглашение, ламинированное, с красивыми буквами на толстой бумаге ручной выделки, на заседание в мужском клубе библиофилов сегодня вечером в 20:00.
Я поднимаюсь на гремящем лифте на свой пятый этаж.
Кто-то побывал в моем номере. Все выглядит в точности так, как когда я уходил из номера после уборки горничной. Постель убрана. Корзина для бумаг пуста. Но крохотные кусочки ниток, оставленные мной в молнии спортивной сумки и между книгами и бумагами на столе, исчезли.
Кто-то искал что-то, но не нашел.
Хассан? Он знает, что я в Риме? Почему же он не похитил меня?
Я стою возле окна, передо мной мозаика крыш и куполов церквей великого города. В тумане на другом берегу Тибра вижу контуры собора Святого Петра. Внизу на улице, прямо напротив входа в гостиницу, спрятавшись за газетой «Коррьере делла сера», стоит мужчина, прислонившись к фонарному столбу. В нем нет ничего особенного. Но, вероятно, именно поэтому у меня возникает подозрение.
«БИБЛИЯ САТАНЫ»
1
Мужской клуб Луиджи прячется за дверью из красного дерева на третьем этаже аристократического дома у Виа Кондотти, совсем рядом с площадью Испания, в маленьком проулке, который притворяется, будто живет в прошлом и не может определиться, к какой эпохе себя отнести. Один из братьев по ложе или лакей, не могу этого понять, впустил нас и тут же исчез. В комнате собрались двадцать-тридцать мужчин в темных костюмах. Большинство пьют коньяк. Дым от сигар такой плотный, что щиплет глаза.
— Бьорн! Стюарт!
Из одной группы выступает Луиджи. Он ставит коньячный бокал на подставку и кладет сигару в пепельницу.
— Господа, — кричит Луиджи, — позвольте представить вам Бьорна Белтэ. Все вы знаете, как он спасал ларец Святых Тайн.
Раздаются разрозненные аплодисменты.
— А это Стюарт Данхилл. Археолог, который обнаружил следы пребывания викингов в Фивах!
Стюарт делает поклон.
Луиджи идет по кругу и представляет нас членам клуба. Мы здороваемся с каждым за руку. Один из членов ложи библиофилов, Томасо, работает в секретном архиве Ватикана. Другой является владельцем одной из крупнейших в Италии сетей книжных магазинов. Многие, подобно Луиджи, антиквары, другие библиотекари, есть несколько писателей и директор издательства «Бомпиани», и еще люди, профессии которых теряются во мраке. Каждый шепотом произносит свое имя, которое тут же испаряется из моей убогой памяти.
Один из них пожимает руку особенно долго:
— Бьорн Белтэ, так вот вы какой.
Ему между шестьюдесятью и семьюдесятью годами. Он все еще поразительно красив, статен и привлекателен, длинные седые волосы зачесаны назад. Взгляд источает дьявольский жар. Глаза сине-зеленые, нос прямой, заостренный.
Он выпускает мою руку, ею тут же овладевает лысый толстяк, который бормочет, что он мой
ammiratore. Луиджи говорит, что это значит «поклонник».
— В электронном письме братьям я позволил себе сообщить, по какому делу вы сюда прибыли, — говорит Луиджи, — и я горжусь, что наша скромная группа нашла нечто, что, вероятно, поможет вам двигаться дальше. И мы надеемся, — добавляет он, — что и вы в свою очередь поможете
нам.
Голос его приобретает торжественное звучание, словно он произносит клятву. Благородные джентльмены с седыми висками поднимают бокалы.
— Позвольте мне сказать вам несколько слов о нашем клубе. И вы, и все, кто знает о существовании нашего эксклюзивного братства, знают, что это мужской клуб библиофилов. И это верно.
Naturalmente.[64] Однако в 1922 году он был создан с совершенно особой оккультной целью.
— Оккультной?
— Так люди в большинстве случаев поняли бы это.
— Потому что?..
Луиджи поднимает бокал с коньяком.
— Я скажу правду: мы ищем утраченную «Библию Сатаны».
В комнате становится так тихо, что отдаленные звуки улицы начинают проникать через окна. У меня в груди сейчас взорвется бомба страха.
— Вы сатанисты?
Взрыв хохота сотрясает стены.
Луиджи хлопает меня по плечу:
— Нет, нет, нет, друг мой. Мы не сатанисты. Мы не поклоняемся Сатане. Наш интерес к нему имеет чисто академический характер. Мы изучаем роль и функции Сатаны в Библии, в христианской и иудейской мифологии.
— Роль… Сатаны?
— Мы знаем, что существует утраченная библия — хотя, пожалуй, правильнее сказать, собрание текстов — дохристианской эпохи. Эти манускрипты рассказывают историю жизни, взгляды Сатаны, сформулированные его сторонниками, точно так же как Библия рассказывает о жизни и заповедях пророков и Иисуса.
— Боже!
— Причина того, что мы открываем тебе эту тайну, — это наша вера и надежда, что у тебя в руках находится манускрипт так называемой «Библии Сатаны».
Я задумываюсь. «Библия Сатаны» — звучит как языческое проклятие.
— Но почему вы так считаете?
— Дедукция, предположения, догадки. Один вариант «Библии Сатаны» был привезен за 500 лет до рождения Христа из Месопотамии в Египет и сокрыт в могиле одного Святого. Вполне возможно, что именно этот манускрипт твои предки-викинги увезли с собой.
— Но тогда мумия — сам Сатана?
Вновь по комнате прокатывается веселый смех.
— Почему вы предполагаете, что этот сатанинский манускрипт лежал именно в гробнице храма Амона-Ра? — спрашиваю я.
— Мне это пришло в голову, когда ты назвал три символа:
анх, тюр и
крест. Я вспомнил, что уже встречал когда-то такую комбинацию. Но я не смог вспомнить, где и когда. Поэтому спросил братьев.
Один из старейших, Марчелло Кастильоне, выходит из круга и вынимает из кармана лист бумаги.
— Это ксерокопия страницы дневника, который Бартоломео Колумб, брат Христофора, писал во время одного из своих путешествий по островам Карибского моря, — говорит Марчелло Кастильоне, немного спотыкаясь, но на правильном английском языке. Он протягивает мне лист, покрытый витиеватыми буквами с разными завитушками. — Ты вряд ли поймешь много, но я обращаю твое внимание
на это. — И он показывает в середине листа.

— Хм? — только и могу я произнести.
Я не знаю, имеет ли «хм» то же самое значение по-итальянски, что и по-норвежски, но, если судить по появившимся на их лицах улыбкам, я понял, что их веселит мое изумление.
— Так ты говоришь, что это написал брат Христофора Колумба?
Марчелло Кастильоне торжественно кивает.
— Непостижимо! — восклицает Стюарт. — Это нечто совершенно новое! Бартоломео Колумб! Почему он нарисовал эти символы?
— Никто не знает, — отвечает Луиджи. — Он называет эту комбинацию знаков «Печать Хранителей».
— Бартоломео Колумб упоминает в дневнике присланное с этой печатью письмо, которое его просили привезти в Европу, — говорит Марчелло Кастильоне. — Он не пишет ни слова о том, кто из живших на одном из недавно открытых островов в Карибском море просил его привезти это письмо. Но он пишет, кому оно адресовано. — Он специально делает паузу. —
Архиепископу Нидаросскому Эрику Валькендорфу в Королевстве Норвегия.
Я с трудом подавляю восклицание.
— Из других источников мы знаем, — говорит Луиджи, — что Колумб добросовестно выполнил просьбу и привез письмо в Европу, сначала в Лиссабон и Вальпараисо в Португалии, потом в Испанию. Он отдал письмо одному испанскому епископу, который не захотел играть роль почтальона. Даже ради коллеги в Норвегии. Подозрительный епископ, вероятно, взломал печать, вскрыл письмо и, испугавшись содержания, передал его представителю испанской инквизиции, которая подчинялась испанскому королю, а не Ватикану. И все же это письмо упоминается в картотеке ватиканского архива в 1503 году, это было при папе Юлии Втором. Спустя пятьдесят лет папская инквизиция ученых священников, которая носила название «Верховная священная конгрегация римской и вселенской инквизиции», назвала это письмо магическим тайным документом, колдовскими письменами, а это значило, что автор был еретиком.
— Между прочим, инквизиция в более мягкой и милосердной форме существует и по сей день, — добавляет Томасо. — Сегодня она носит название «Конгрегация доктрины веры» и входит в состав центрального управления Католической церкви.
— И вот мы спрашиваем себя, — говорит Марчелло Кастильоне, — что было в письме, которое настолько испугало епископа, что он не только не отправил письмо адресату, но и передал его в инквизицию.
— Письмо существует?
— Да. Не знаю. То есть может быть. Но где оно хранится — неизвестно, — признает Луиджи.
— Судя по всему, оно было украдено из ватиканского архива между 1820-м и 1825 годом, — объясняет Марчелло Кастильоне.
— Подозрение пало на видного иудейского теолога, жителя Праги, — продолжает Луиджи. — Он посвятил свою жизнь собиранию старых религиозных документов и особенно увлекался материалами о Сатане. Мы считаем, что он подкупил какого-то мелкого служащего ватиканского архива и тот похитил документ. Однако это не объясняет, почему практически не поддающийся прочтению документ XVI века с Карибского моря, адресованный норвежскому епископу, заинтересовал коллекционера, который специализировался на манускриптах и документах Среднего Востока.
— А что стало с его коллекцией?
— Он умер в 1842 году, перед смертью завещал все 4600 писем, документов и манускриптов фонду, которым стал руководить его сын Якоб. В 1934 году коллекция была конфискована и передана известному германскому магнату и нацисту Максимилиану фон Левински. Никто не знает, что случилось с коллекцией потом. Многие опасаются, что она исчезла во время бомбардировок Дрездена в феврале 1945 года, когда резиденция фон Левински была разрушена.
— А «Библия Сатаны»? — негромко спрашиваю я, все еще не улавливая связи.
Марчелло Кастильоне встает в позу, как будто пришел на собрание сомневающихся, которых сейчас будет обращать в свою веру.
— Разные конфессии имеют различное представление о Сатане. Слово «сатана» значит на иврите «противник» или «обвинитель». Сатана был высоко ценимым Богом архангелом, которого Бог затем низверг с Небес, — это падший ангел Люцифер.
— Он является орудием Бога, — говорит Луиджи, — так же как Иуда был орудием Иисуса. Кто-то воспринимает дьявола как символ зла. Для других он имеет физический облик зверя с рогами и копытами.
— Кто-то, как, например, иудеи, думает, что он окружен сонмом демонов, — говорит Марчелло Кастильоне. Голос и несколько умоляющий тон делают его похожим на проповедника в сельской часовне. — У иудеев есть два класса демонов, одни — похожие на сатиров сеиримы, другие — шедимы.
[65] В христианской традиции демоны не так физически выражены. Здесь они, скорее, злые духи. В XVI веке Иоганн Вейер, создатель подробной классификации демонов
Pseudo-monarchia Daemonum («Иерархия демонов»), сосчитал, что в аду 7 405 926 демонов, распределенных по 1111 легионам с 6666 членами в каждом из них.
Затем слово снова берет Луиджи:
— Глава всей этой нечисти Сатана был все годы фигурой неоднозначной. Кто он, собственно? Воплощение зла? Являются ли Сатана, Ангел смерти и Змей-искуситель одним и тем же персонажем? Сатана не занимает в Библии центрального места. Вопреки этому мормоны в своей священной книге «Драгоценная жемчужина» воспроизводят сцену встречи между Моисеем, Богом и Сатаной. Мормоны утверждают, что данная глава раньше входила в Библию.
— И в Ветхом Завете, и в Новом Завете Сатана был орудием Господа, который послал его испытать человека, — говорит Марчелло Кастильоне.
— Неизвестные ранее версии Первой и Второй книг Моисея появились в 1947 году в «Свитках Мертвого моря». В них теологи прочитали: «В день, когда Господь создает свет, Он создает также светлых и темных ангелов», — говорит Луиджи.
— Понимаешь? — спрашивает Марчелло Кастильоне. — Бог
сам создал ангелов зла. Можно с удивлением спросить: почему?
— Наше представление о Сатане менялось вместе с представлением о Боге. В Ветхом Завете иудеев Бог был строгим и карающим, — говорит Луиджи. — Постепенно к моменту рождения Христа эта картина изменилась. Бог стал милосердным. Многие люди считают, что в Новом Завете Бог другой, более мягкий. Прощение и терпение заняли больше места.
— Одновременно менялось и представление людей о Сатане, — продолжает Марчелло Кастильоне. — Он стал антиподом, прямой противоположностью Бога.
— Но даже и теперь Сатана не властвует в каком-то царстве, — говорит Луиджи. — Сатана не царствует в Аду. В Библии написано, что Сатана и его ангелы были
посланы в это море огня, когда их низвергли с Небес. Это значит, что Ад существовал до Сатаны. И только позже люди стали думать, что Сатана
господствует в Аду.
— Образ Сатаны, наполовину человека, наполовину зверя с рогами и копытами, создан не Библией, — говорит Марчелло Кастильоне. — Он возник в Средние века.
— Зачем?
— А потому, что его никто не боялся! — Марчелло Кастильоне рассмеялся. — Сатана никого не пугал. И Церкви потребовался жестокий дьявол, чтобы подчинять массы. Им нужен был ужасный тролль.
— Одним из создателей этого образа был монах Сен-Жерменского монастыря в Оксере, во Франции, — говорит Луиджи. — В XI веке Родульфус Глабер изобразил Сатану в образе невысокого человека с измученным лицом, изуродованным ртом, с бородой, как у козла, и торчащими волосатыми ушами. Зубы у него были как клыки у собаки, голова заостренная, а сам он горбатый.
— Позднее Сатана стал все больше походить на зверя и все меньше на человека, — рассказывает Марчелло Кастильоне. — У него появились рога, копыта и крылья. Кстати говоря, ты знаешь, почему появились крылья у ангелов? Художники стали пририсовывать крылья, чтобы объяснить простому человеку, каким образом они спускаются с неба на землю.
— Подумай только, — мечтательно говорит Луиджи, — если бы на самом деле нашли «Библию Сатаны»! Представь себе, что рассказ о Люцифере покажет истинное лицо дьявола. Архангел, который осмелился спросить Бога, почему тот издевается над людьми. Ангел, который пошел против Бога.
— А почему вы думаете, что мы нашли в Исландии именно эту «Библию»?
— Дедукция, — говорит Марчелло Кастильоне. — Намеки. Предположения.
— И математический знак, — добавляет Луиджи.
— Математический?
— Размещение Колумбом трех знаков —
анха, тюр и
креста — в системе девяти знаков в совокупности не было случайным.
На листе бумаги Марчелло Кастильоне выписывает:
Анх. Тюр. Крест.
Тюр. Крест. Анх.
Крест. Анх. Тюр.
— Дадим каждому символу числовое значение, — говорит Марчелло Кастильоне. — Число один обозначает единство во многих религиях на земле. Число два представляет двусторонность. Мужчина и женщина. Жизнь и смерть. А у числа три очень много религиозных значений: Троица, три волхва и три дара, которые они вручили Младенцу Иисусу, — значений так много, что я не могу назвать их все. А теперь сделаем следующее. Преобразуем комбинацию Бартоломео в цифры. Обозначим
анх цифрой 1,
тюр — 2,
крест — 3. Еще раз напишем, используя цифры.
1 2 3
2 3 1
3 1 2
— И теперь я должен связать эти цифры с Сатаной? — спрашиваю я.
— Используй дедукцию! — говорит Марчелло Кастильоне. — В Библии мы найдем эту связь в греческом оригинале Откровения Иоанна Богослова. Цифрами это передается как:
χξς. Словами как:
έξακόσιοι έξηκουτα έξ. Латинскими буквами то же самое так:
hexakosioi hexékonta hex.
— Хм. А если использовать наши европейские цифры?
— Ты хочешь сказать
арабские цифры? — хихикает Луиджи. — Просто. Сложи числа!
Марчелло Кастильоне еще раз пишет схему.

— 666! — восклицаю я.
— И по горизонтали, и по вертикали, — говорит Марчелло Кастильоне.
— Даже будучи написанным римскими цифрами, число 666 является магическим, — говорит Луиджи и пишет на ладони:
DCLXVI.
Если использовать каждую римскую цифру от 1 до 500 по одному разу, то получится такой ряд:
IVXLCD.
Если посмотреть внимательно, это то же самое число DCLXVI, только написанное справа налево.
— 666. Число зверя в Откровении Иоанна Богослова, — говорит Марчелло Кастильоне.
— Число, которое представляет Антихриста, — говорит Луиджи.
«И еще часть секретного указания в исландском «Кодексе Снорри»», — думаю я про себя. Но вслух ничего не говорю.
Мы покидаем мужской клуб среди ночи и молча бредем в гостиницу.
Когда я наконец засыпаю, мне снится жуткий кошмар, но на следующее утро я не помню абсолютно ничего. Единственным свидетельством ночного кошмара было постельное белье, мокрое от пота.
2
Приняв душ и побрившись, я звоню в Исландию Трайну и спрашиваю, есть ли в переводимом тексте что-нибудь, что говорило бы о том, что он может оказаться — здесь я медлю и откашливаюсь — «Библией Сатаны».
— «Библией Сатаны»? — со смехом повторяет Трайн. После большой паузы, словно он хочет дать мне возможность сказать, что я шучу, он отвечает: — Если честно, то я не имею ни малейшего представления о том, что существует какая-то «Библия Сатаны».
— Это гипотеза…
— Как бы там ни было, ничто не говорит о том, что в манускрипте есть какая-то чертовщина. — Короткий смех. — Но работы еще много. Мы ничего не можем исключить, пока не переведем все до конца.
После этого я выхожу на улицу и ранним римским утром иду, насвистывая мелодию из «Отверженных».
[66] От мелкого дождя тротуары стали серебристыми. Город еще спит.
Вчера вечером, когда мы уходили из мужского клуба, Луиджи попросил меня заглянуть к нему в лавку по дороге в Ватикан. Он хочет мне что-то показать. Так, чтобы никто не видел.
Стюарт ушел раньше в этот ватиканский «не совсем уж такой секретный» архив. Его уравновешенные манеры британского джентльмена исчезли, появилась жаркая бесшабашная страсть. Он чувствует, что вскоре мы сможем документально доказать поход викингов в Египет, а он напишет серьезную, доказательную статью и опубликует ее в научном журнале.
Mihi vindicta, ego retribuam, dicit Dominus. «Мне отмщение, и аз воздам, говорит Господь».
Мне кажется, что Луиджи не будет иметь ничего против, если его противники поплещутся немного в грязи во имя его самого и Господа.
3
Колокольчики весело звенят, когда я вхожу в антикварную лавку.
— Момента, моменто!
Луиджи выходит, слегка пошатываясь, глаза усталые, смотрят в разные стороны, на шее салфетка, он еще не закончил завтракать. Крепко жмет мне руку.
— Входите, входите, друг мой, — говорит он, запирая дверь и приглашая на второй этаж. — Благодарю за вчерашний визит. Надеюсь, мы вас не напугали? — Он усаживается в кресло.
В динамиках звучит чувствительный дуэт «Желаю слышать вновь» из оперы Бизе «Искатели жемчуга». С довольной улыбкой он откидывается в кресле.
— Красиво, правда? — спрашивает он. Некоторое время спустя до меня доходит, что он имеет в виду оперный дуэт. Его глаза становятся влажными. — Только музыка и женщины могут дать такую радость.
Я представляю себе женщин, с которыми Луиджи имел дело.
— Вы хотели мне что-то показать? — спрашиваю я.
Он поворачивается ко мне, и мне кажется, что он рассматривает меня слепым глазом.
— Вы меня спрашивали об интересе Ибрагима к Асиму? — начинает он. — Я кое с кем переговорил. Оказалось, что один из имевших допуск к секретным материалам сотрудников Ватикана продал во время войны и оригиналы, и копии из архива Ватикана. Сотрудник надеялся заработать не такое уж малое состояние, но, конечно, его разоблачили, многие материалы были прослежены и возвращены в архив. Однако неавторизованные копии продолжали циркулировать в кругу коллекционеров и ученых, и эти документы — или, лучше сказать, копии — были позже собраны вместе и получили название «Бумаги из Ватикана». В этих бумагах были копии некоторых фрагментов из Евангелия, некоторые некодифицированные гностические тексты, несколько папских булл о правоверности, а также несколько египетских текстов на коптском языке, которые, очевидно, включали и письма Асима. «Бумаги из Ватикана» сразу же приобрели совершенно мифическую славу в кругу коллекционеров. Они исчезли в пятидесятые годы, потом появились на подпольном аукционе в Буэнос-Айресе в 1974 году, за три года до того, как твой друг Стюарт совершил свое сенсационное открытие в Египте. Комплект был продан за полтора миллиона долларов. И как ты думаешь, кто был покупатель?
— Шейх?
— Совершенно справедливо. Шейх Ибрагим.
— Большое спасибо, Луиджи!
Я встаю и собираюсь уйти. Горю желанием продолжить поиски в ватиканском архиве. Честно говоря, сообщение о шейхе не было для меня неожиданностью.
— Но есть кое-что еще… — Луиджи понижает голос. — После заседания
нашего клуба меня задержал один из участников. Он поведал мне, что у него есть фрагмент древнего документа в довольно плохом состоянии, но два символа из трех —
анх и
тюр — на нем видны отчетливо. Он не имеет ни малейшего представления, о чем в нем речь или откуда он. Он купил фрагмент в 1987 году на подпольном аукционе в Сантьяго в числе документов, которые посланцы Ватикана конфисковали в Гренландии в 1450-е годы.
— В Гренландии?
— В Гренландии.
Луиджи подходит к полке, вынимает издание 1532 года книги Никколо Макиавелли «Государь». В середине книги спрятан фрагмент документа.
— Мой коллега спрашивает, заинтересованы ли вы в покупке этого документа?
Он прав, фрагмент в довольно плачевном состоянии. И тем не менее я прекрасно вижу
анх и
тюр. Кусок бумаги там, где должен был быть написан крест, оторван.
— Это так называемый «Скаульхольтский фрагмент», — говорит Луиджи.
Текст написан на древнеисландском языке, легко читается и представляет собой перечень подарков епископа Скаульхольтского Норвежской церкви в 1250 году.
— А как он оказался в Гренландии?
— Этого мы не знаем.
Из фрагмента видно, что среди подарков епископа были две деревянные фигуры. Некий исландский резчик по просьбе Тордура Хитроумного, племянника Снорри, вырезал эти две фигуры.
В перечне одна из фигур обозначена как святой Лаврентий Фома, другая — как святой Лаврентий Дидимус.
Меня молнией пронзает мысль.
Фома был одним из двенадцати учеников Иисуса. Полностью его звали Иуда Фома Дидимус.
На арамейском языке Фома значит «близнец», это же слово на греческом языке звучит как Дидимус.
Я потерял дар речи.
Было изготовлено две фигуры святого Лаврентия! И где-то существует точная копия скульптуры святого Лаврентия, находившейся в Рингебу. В записях все это было закамуфлировано тем, что святой Лаврентий имел двойное имя, вторая часть которого обозначала «близнец»! Скрытый под краской текст на Библии святого Лаврентия из Рингебу гласил:
Как Дева Мария держит Иисуса внутри себя
так живот вмещает раку
Хвала тебе Фома!
Последнее предложение было хитроумным намеком Хранителям, что ларец лежит в животе близнеца фигуры.
— Мой коллега назвал сумму в двадцать пять тысяч евро, — говорит Луиджи.
Мысли мои где угодно, но не здесь. Луиджи неправильно понимает мое молчание:
— Я очень сожалею. Таково требование продавца. В нашей сфере нет ученых или идеалистов, которые помогают друг другу. Мы — бизнесмены. Мой коллега предполагает, что либо ты, либо твой заказчик будет готов заплатить такую сумму. — Он медлит. — Если не заинтересуетесь вы, он предложит документ шейху Ибрагиму. — Увидев мой взгляд, он добавляет: — Ничего личного, просто бизнес.
Я ничем не выдаю, что уже прочитал и понял текст. Но я говорю истинную правду, что двадцать пять тысяч евро лично для меня очень большие деньги, поэтому я должен посоветоваться с моим заказчиком. Я выйду на улицу позвонить и вернусь минут через десять.
Луиджи закуривает толстенную сигару, как будто уже можно праздновать заключение сделки.
4
Я отпираю дверь магазина, динь-динь-динь, выхожу в переулок, спускаюсь к Виа дель Говерно Веккио, где нахожу телефон-автомат. Сначала я звоню Эйвину. Я быстро ввожу его в курс дела и прошу найти вторую фигуру святого Лаврентия.
— Ищи везде! В церквах, музеях, дворцах, усадьбах!
Затем набираю номер мобильного телефона профессора Ллилеворта. Он отвечает после того, как гудок прозвучал трижды. Я слышу, как он просит извинения и покидает заседание.
— Бьорн, что случилось? Почему ты уехал из Института Шиммера? И каким ветром тебя занесло в Египет? Я не понял ни слова из того, что ты мне тогда говорил.
— Сейчас я в Риме.
Я еще раз повторяю то, что пытался сообщить в какофонии Луксора, что мы сбежали из Института Шиммера, когда из СИС позвонили Стюарту и предупредили о появлении подручных Ибрагима, о путешествии через пустыню в Египет, а потом в Рим.
Пауза.
— Профессор?
— Стюарт сейчас рядом с тобой?
Голос его изменился.
— Он в Ватикане и продолжает поиски в архиве. Я только что был у одного антиквара, который просит двадцать пять тысяч евро за фрагмент текста, который доказывает, что у святого Лаврентия есть двойник, близнец. Как ты думаешь…
— Бьорн, слушай меня. Слушай очень внимательно!
— Да?
— Из СИС никто не звонил Стюарту Данхиллу.
Мимо едет огромный автобус и выпускает облако дыма.
— Мы не звонили Стюарту и не говорили, что шейх Ибрагим послал своих людей в Институт Шиммера.
— Но…
— Все это для нас новости. Мы ничего не знали и не знаем о передвижениях шейха Ибрагима или его людей.
— Но может быть, кто-то другой…
— Только Диана и я поддерживаем контакты со Стюартом. Я обязательно знал бы, если бы ему позвонила Диана.
По спине струится холодный пот. Какой-то проходящий мимо человек что-то раздраженно бурчит.
— Бьорн, ты здесь?
— Да.
— Ты слышишь, что я говорю?
— Но…
— Ни я, ни Диана не звонили Стюарту Данхиллу!
— Почему он лжет?
Профессор Ллилеворт вздыхает:
— Нам надо было тебя предупредить. Кое-кто в Институте Шиммера подозревает, что Стюарт Данхилл сотрудничает с шейхом Ибрагимом.
— О боже!
— В СИС никогда не верили слухам. А это подозрение не было ничем подтверждено. У нас ничего против него не было. Ничего! Кроме ощущения, что тут что-то не так. В СИС решили поддержать его. Встать на его сторону. Мы считали, что эти слухи всего лишь злонамеренные сплетни, которые тянутся с семидесятых годов…
— …и послали меня прямо ему в лапы.
— Бьорн, если бы мы знали… — Он останавливается. — Уезжай из Рима. Как можно скорее. Если Стюарт — человек шейха, то ты можешь быть уверен, что Хассан и его подручные где-то совсем рядом. Хоть ты их и не видишь.
— Они уже здесь.
— Уезжай!
— Почему они дают мне возможность спокойно действовать? Почему Стюарт делает вид, что он заодно со мной?
— Потому что ты им нужен. Стюарт приклеился к тебе, чтобы поживиться тем, что ты найдешь. И он, и шейх используют тебя. Уезжай, Бьорн! Садись на скоростной поезд до Милана и потом на самолет. Аэропорт в Риме может быть под наблюдением.
— Фрагмент текста. Двадцать пять тысяч евро. Что делать?
— Покупай! И пулей из Рима! Слышишь?
ПАЦИЕНТ (I)
1
В антикварной лавке никого.
— Луиджи?
Нет ответа.
— Луиджи? — зову более нетерпеливо.
Мой взгляд как-то воровато ползет вдоль полок — так мужчины моего типа подглядывают за женщинами.
Какой-то неясный звук.
— Луиджи, ты наверху?
Луиджи сидит в кресле в своей квартире. С первого взгляда может показаться, что он задремал. Голова отклонилась немного назад. Потухшая сигара на коленях.
— Луиджи, ты спишь? Извини, у меня мало времени.
В этот момент я вижу, что половины головы у него нет.
Со стоном я отступаю назад.
Человеческое тело теряет многое из своей божественной мистики, если по каким-то причинам в нем появляется отверстие. Когда выстрел обнажает мозг, то очень трудно представить себе, что серое вещество могло содержать мысли о вселенной, любовь к женщине и восторг от оперы.
В тарелке перед ним, рядом с заумным шедевром Макиавелли, лежит пепел — все, что осталось от документа.
Колени мои дрожат.
Хассан.
Здесь побывал Хассан.
У меня перед глазами сцена. Палачи, видимо, вошли в лавку,
динь-динь-динь, сразу же после того, как я вышел, чтобы позвонить. Вероятно, Луиджи крикнул им: «Моменто! — и пошел навстречу, — Si signori?».
[67] Тут он увидел пистолеты, они заперли дверь и велели ему подняться по винтовой лестнице. Его заставили сесть в кресло. «Давай садись, проклятый Квазимодо!» Хассан спросил, куда пошел
Бьарн Белта. А может быть, спросил, не продал ли этому Луиджи чертов
Белта «Свитки Тингведлира». Луиджи покачал головой. По-видимому, он сразу понял, чем это кончится. Холодно и спокойно он в последний раз затянулся сигарой и стряхнул пепел на рыхлый старый документ, который, очевидно, вспыхнул, словно хорошо высушенная бумага для сигарет. Он, вероятно, решил, что «Скаульхольтский фрагмент» очень ценный документ, и последним поступком на этой земле он воспрепятствовал тому, чтобы тот попал в руки шейха.
— Мистер Белтэ.
Я замираю. Словно меня внезапно разбил паралич. Ноги как будто налиты свинцом. Я знаю, что мне надо повернуться. Но я не могу.
Но вот объятия паралича отпускают меня. Со скрипом в костях я поворачиваюсь на голос.
Их двое. Они сидят на диване, наполовину закрытом от меня обеденным столом, на котором громоздятся готовые упасть книги.
Они меня ждали.
Этих двоих я раньше не видел. Арабы. Оба одеты в шикарные костюмы. У обоих вид довольных людей, которые знают, что они одержали победу. Оба сидят, удобно откинувшись на спинку дивана.
Мушкетеры шейха.
— Шеф начинает терять терпение, — говорит один на ломаном английском.
— Он хочет иметь манускрипт, — говорит второй.
— Вот как?
Я так боюсь, что мне приходит в голову притвориться дурачком, и это выходит очень естественно.
— Манускрипт?
— «Свитки Тингведлира», — говорит первый.
— Сколько был готов заплатить за них Луиджи Фиаччини?
Я бросаю взгляд на Луиджи:
— Вы всё не так поняли…
— Где они?
В этот момент я вдруг соображаю, что стою около перил, рядом с кнопкой сигнализации, связанной с полицией.
— Где они? — звучит вопрос повторно.
Моя рука медленно скользит вдоль перил и дотрагивается до кнопки.
— Здесь у меня их нет, — говорю я и нажимаю кнопку.
Я думал, что сигнализация действует бесшумно. Потихоньку передает сигнал в полицию. Но нет, вовсе нет. Только теперь я понимаю, почему Луиджи не нажал кнопку, когда они пришли.
Начинает выть сирена. На первом этаже что-то ужасно гремит.
Оба араба вскакивают. К счастью, им не приходит в голову, что сигнализацию включил я.
— Hurry!
[68] — кричит один и толкает меня вниз по винтовой лестнице. Слишком быстро.
Они толкают меня впереди себя, ноги не сразу попадают на ступеньки, и в тот момент, когда я обнаруживаю, что перед дверью появилась железная решетка, поскользнувшись, я начинаю падать.
Я пытаюсь задержаться, но не могу. Сильнейшая боль пронзает тело, когда нога под острым углом сталкивается с полом. Я не только чувствую, я просто слышу, как нога ломается.
Я кричу от боли, отчаяния и ужаса.
Арабы нетерпеливо тащат меня за собой. Словно я какой-нибудь мешок. Пытаюсь встать на здоровую ногу.
В глазах почернело.
Почти сразу же прихожу в себя. Арабы дергают решетку и что-то громко обсуждают.
Внезапно я вижу их. Двух полицейских снаружи. По-видимому, они оставили свою машину на улице: переулок слишком узок для автомобилей. Из-за воющей сигнализации мы не слышали их сирен.
Они изумленно смотрят на нас. На меня, лежащего на полу. На двух арабов, вытащивших пистолеты.
Полицейские исчезают.
Сразу после этого внутренняя сигнализация замолкает. Зато улицы Рима заполняются воем сирен.
Я плачу. Ничего не могу с собой сделать.
2
Для художника и печатника черный цвет — это цвет. Для физика черный цвет есть
отсутствие цвета. Говорят, что боль воспринимается людьми тоже по-разному, что мужчины никогда не смогли бы перенести боли, испытываемой женщинами при рождении ребенка. Я склонен с этим согласиться. Мы можем выдержать только простуду.
Нога очень болит.
Ощущение такое, будто кто-то воткнул мне в ногу сосульку до самого бедра. Я рыдаю как мальчишка. На короткие мгновения полностью теряю сознание. Но боль и позывы к тошноте вызывают меня к жизни.
За дверью мелькают полицейские. Кто-то заглядывает к нам с помощью зеркала на длинном стержне.
Арабы возбужденно спорят. Потом хватают меня за руки, за ноги и поднимают. Боль невыносимая.
3
Придя в себя, я обнаруживаю, что лежу на кожаном диване Луиджи на втором этаже. В мою ногу вонзил зубы изголодавшийся шакал.
Луиджи больше нет. Очевидно, тело перенесли в спальню.
Арабы заботливо подсунули под сломанную ногу несколько подушек. Так что какое-то количество порядочности еще осталось в этих бессовестных существах.
Звонит телефон. Ему позволяют звонить. Долго.
Наконец один из них сдается.
— Na’am! — рычит он в трубку. Слушает. — У нас заложник, — кричит он по-английски, — и мы требуем свободного проезда до аэропорта Леонардо да Винчи!
Он снова слушает. Лицо его темнеет. По-арабски призывает на голову говорящего сонм злейших огненных духов и швыряет трубку.
Я теряю сознание и уплываю в благословенный туман.
4
Я раскрываю глаза. Во рту засуха.
Сколько времени прошло? Минуты? Часы? Не имею ни малейшего понятия. Приступы боли стреляют в меня, как ледяные молнии.
— Воды, — едва могу выговорить я. — Water. Please.
[69]
Арабы равнодушно смотрят на меня. Ни один не двигается с места.
Я кашляю. Язык прилип к гортани.
— Please! I'm so thirsty!
[70]
— Shut up!
[71]
5
Стон.
Я пассажир на судне, которое тяжело скользит по волнам. Вверх-вниз, вверх-вниз… Море — это волны, которым нет конца. Меня накрыли влажным одеялом из вонючей ваты. Во рту мерзость. Вверх-вниз, вверх-вниз… Боль переплетается с тошнотой. Каждое движение в месте перелома вызывает тошноту. Обломки костей трутся друг о друга. Судно качается. Что-то воткнулось в ногу и режет ее. Пилит, тычет и вдруг обжигает, потом наступает широкая охватывающая боль. В ноге что-то стучит и взрывается. Нервы пламенеют от голени до бедра. Пульс стучит острыми болезненными ударами. Живот сжимает спазм. Вверх-вниз, вверх-вниз…
Один из арабов говорит по мобильному телефону. Я представляю себе, что он говорит с Хассаном. Я очень рад, что его здесь нет. Он ни за что не подсунул бы мне под ногу мягкие подушки. Напротив, он обхватил бы своими мощными руками место перелома. И нажал.
Меня тошнит.
Араб кладет трубку. Что-то говорит второму. Оба смотрят на меня. Немного спустя мобильный звонит снова. На этот раз отвечает второй. Он вне себя. Короткие взволнованные выкрики меняются вопросами и обвинениями. Так мне кажется. Я ни слова не понимаю.
Звонит телефон на столе. Полиция, думаю я. На этот раз они не отвечают.
6
Лодыжка распухла. Кожа трется о штанину. Каждая клетка, каждая мышца, каждая кость пульсирует. Меня мучит невероятная жажда. Я потею и дрожу из-за озноба.
Я думаю: «Небеса создают боль, невероятную боль, жуткую, непостижимую боль».
Темнота.
Свет.
Темнота.
Я уплываю в полубессознательном состоянии туда, где существует только одно: боль.
Сколько времени прошло? Не знаю, у меня нет представления о времени. Секунды, минуты и часы переплетаются и образуют бессмысленную паутину.
Весь кислород из космоса высосан. Я космонавт, который парит в безвоздушном космическом пространстве. Воздух в баллонах закончился. Я пытаюсь ухватить фал,
[72] но он выскальзывает из моих рук, и я удаляюсь от космического корабля.
После этого пустота.
7
Я прихожу в себя от безмерной тяжести, которая прижимает меня к дивану. Открываю глаза. Хватаю ртом воздух. Рот и нос заполняются мелким песком и строительным раствором. Легкие сжимают две стальные пластины. Язык приклеился к нёбу.
Меня тошнит. Но ничто не выходит наружу. Только непонятные сухие звуки, как из уст умирающего солдата.
— Воды, — шепчу я, — воды-воды-воды.
Но меня не слышат или не обращают внимания.
Рот широко открыт. Так легче дышать.
Темнота, свет, темнота….
8
Темнота наполняется звуками.
Голосами.
Я мигаю глазами.
Араб говорит по мобильному телефону. Он кричит. В бешенстве. В отчаянии.
Мы замурованы.
9
Мою ногу обмотали белым полотенцем.
И зажали вешалкой для брюк.
Голова кружится. В какой-то момент я вижу, что полотенце все в крови. Это значит, что у меня открытый перелом, думаю я. Вскоре смотрю еще раз. Полотенце белое. Ни капли крови.
Значит, привиделось, облегченно думаю я и опять теряю сознание.
10
— Он умирает! — кричит араб.
Я открываю глаза.
Араб стоит с мобильным телефоном в руке. Смотрит на меня и говорит. По-арабски.
«Умирает?»
Его слова — арабские — вертятся у меня в голове. Я не понимаю того, что он говорит. Я не знаю арабского языка. Видимо, все это мне только кажется.
От перелома умереть нельзя. Или все-таки можно?
Воды.
Water. Please.
Пожалуйста.
Воды.
Но мне ничего не дают.
11
С улицы доносятся звуки внешнего мира.
Стук сапог о мостовую.
Звуки вызова переговорных устройств.
Лай полицейских собак.
Отрывистые команды.
— Water, please!
— Shut up! You just shut up!
[73]
ИНТЕРЛЮДИЯ
ИСТОРИЯ БАРДА (II)
Сказываю вам, что так на Небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии.
Евангелие от Луки
Но, по упорству твоему и нераскаянному сердцу, ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога.
Послание к римлянам святого апостола Павла
Когда бушевал западный ветер, он иногда задувал пламя сального светильника на хлипком столике, который дали ему монахи. Одна ножка была короче других. Или три другие были длиннее первой — он так и не решил, как это лучше сказать. Несколько недель назад он подсунул под короткую ножку деревяшку, но кто-то из монахов, видно, вынул ее, подметая пол. Старик сидел, положив локти на стол и подперев руками подбородок. Глаза прикрыты. Он отчетливо слышал звучание хоралов в Руанском соборе в ту зиму, которую они провели в гостях у герцога Нормандского. Голос священника во время проповеди то затихал, то начинал снова греметь, словно качая на волнах утлый челн. Эхо летало…
Отрывки из истории Барда
…взад и вперед под сводами собора. Лучи холодного еще солнца проникали через окно и образовывали косые трепещущие колонны. Священник замолк. Кто-то закашлялся. Потом вступил хор из глубины собора. Нежные хоралы ощущались по-настоящему чувственно во всей их красоте. Никто из нас не понимал слов. И все же они были понятны. Мне это трудно объяснить. Я втягивал носом непривычные ароматы ладана, одновременно сладкие и терпкие. Все пространство заполнил голос мальчика. Звуки проникали в меня. Перед моим взором появилось лицо того мальчишки, которому я отрубил голову одним-единственным взмахом своего меча. Во все стороны брызнула кровь, воины вокруг в восторге рассмеялись. Но сейчас, в Руанском соборе, очень трудно было гордиться этим.
Король Олаф молча сидел на жесткой деревянной скамейке, склонив голову на ладони. Накануне вечером он доверился мне, что скучал по своей матери Асте. Он не видел ее уже много лет. Жива ли она? Родились ли у нее еще дети? Олаф был совсем мальчишкой, когда прижимался к матери, расставаясь перед походом. Теперь он был взрослым мужчиной. Королем. По дороге из собора Олаф был задумчив и неприступен. Я попытался заговорить с ним, но король отвечал односложно и безо всякого интереса. Он молча поднялся в свою комнату. «Надо подумать», — сказал он. Сам я оставался в зале, глядя ему вслед, затем отправился в библиотеку герцога. Многие пергамента в библиотеке герцога Ричарда были на скандинавском наречии. За годы походов я не перестал любить устную поэзию и письменные тексты.
Как и обычно, в библиотеке сидел египтянин Асим. Мы назвали его Асим Мудрый. Я чувствовал беспокойство рядом с ним. Я много раз вступал в неравный бой с людьми, которые были и выше, и сильнее его, но я видел, что этот невзрачный египтянин был в десять раз опаснее. В нем был ум богов и магические способности колдуна. Это я понял, когда на борту корабля «Морской орел» мы плыли из Египта в Руан.
Асим поднял голову. Он сидел за столом, держа перо в руке. Слева от него я увидел древний свиток, прямо перед ним белый чистый пергамент, на котором он выводил буковки. «Ты быть в церковь?» — спросил он на ломаном норвежском языке. Моя одежда все еще пахла ладаном. За то время, что он плыл с нами, он научился нашему языку. Кроме того, он много общался с рулевыми и разобрался в навигации и морском деле. Он знал ночное небо как свои пять пальцев и показал нам Полярную звезду, которая на его родном языке называлась совсем по-другому. «Церковь — красивый храм», — сказал Асим. «Что ты пишешь?» — спросил я и показал на свиток. Асим подозвал меня к себе знаком. Не сразу, но я подошел и присел около него на корточки. Слабый аромат ладана все еще оставался на моей одежде. Асим сказал: «С позволения твоего короля я делать копии тех текстов, которые были в гробнице у СВЯТОГО». — «Неужели ты понимаешь эти древние странные значки?» — спросил я. Асим рассмеялся. «Я говорить много языки, — запинаясь, сказал Асим. — Когда мне было пять лет, — добавил он, — я говорить не только родной язык, но еще иврит и арамейский язык. Потом я учить греческий и латинский и еще много языки. Теперь я учить твой язык! Молодой человек, — сказал Асим и положил руку мне на плечо, — без языки ты ничто. Если ты знаешь языки, тебе принадлежит мир».
* * *
Саркофаг с мумией был помещен в часовню недалеко от Руана. Десять дружинников Олафа стерегли часовню днем и ночью. Многие викинги уже уехали домой на кораблях, нагруженных сокровищами. Другие, как король, обосновались в Руане. Каждое утро Асим совершал длительную прогулку от дворца герцога до часовни, чтобы проверить, все ли там в порядке. Сокровища из могильной камеры по-прежнему находились в трюмах кораблей, стоявших в речной гавани, упакованные и под охраной. Самые жадные и безрассудные разбойники Нормандии не посмели бы украсть у короля, даже если бы знали, какие сокровища скрывались на борту его кораблей. Но король все держал в тайне. Сокровища обладали божественной силой, настолько огромной, что никто не должен был знать, что именно мы заполучили во время нашего похода. Нельзя было сочинять стихов об этом, нельзя было ничего записывать. Я сказал ему, что у наших воинов легко развязывался язык во время пирушек и рядом с женщинами, но Олафа это совершенно не беспокоило. «Мужчины любят похвастаться, — сказал король. — Но ведь никто мореплавателям не верит. Стихи и письменные документы — совсем другое дело. Они живут долго. Никто не должен знать, где мы были и что захватили». Так сказал Олаф. Так и вышло.
* * *
Шли недели. Король часами сидел с герцогом Ричардом. Герцог был крещен и поклонялся Христу. Олаф тоже стал склоняться к новому Богу. Для нас, его приближенных, это было грустное время. Гордый викинг оказался в плену. Тот Олаф, каким мы его знали на поле сражения, делал тщетные попытки вырваться на свободу. Король вел долгие разговоры с герцогом, архиепископом, с монахами в монастырях и монастырских школах. Они говорили о Боге Всемогущем, о Его Сыне Иисусе Христе, о христианстве и священной книге под названием Библия. Как раз в это время у меня появился серьезный интерес к сочинению стихов. Пока Олафа преследовал герцог, я был захвачен искусством рассказа Асима. Олаф был так погружен в свою новую веру, что в тени Христа от него скрылась преданность его оруженосца и друга. Так вот, король Олаф принял крещение во имя Иисуса Христа. Придворный епископ Ричарда, брат Роберт, причастил короля. Мы с Асимом наблюдали за церемонией с первого ряда скамеек. Олаф хотел крестить и меня тоже, но я попросил дать мне отсрочку.
* * *
В тот день, когда мы уезжали из Руана, король Олаф и герцог Ричард долго стояли на причале и, держась за руки, разговаривали. Наконец король опустился на колени и поцеловал руку герцога. Тысячи жителей Нормандии собрались на берегах Сены, чтобы стать свидетелями того, как мы, дождавшись попутного ветра, отправились в море. Море… Меня очень веселил жалобный вид Асима во время мучивших его приступов морской болезни. «Это еще что, — говорил я ему, — всего лишь легкий бриз, чтобы надуть ветром паруса, застоявшиеся за долгое время на берегу». Посмотрел бы он на Норвежское море во время осенних штормов!
Наш корабль бросало вниз между волнами с грохотом, от которого вздрагивал деревянный корпус. Огромные массы воды взлетали вверх и падали затем на наши головы. Соленая вода стекала с головы дракона на носу. Воины издавали радостные крики. Я засмеялся. Как мы были счастливы снова оказаться в море! Долгие мрачные месяцы в Руане начали играть на нервах не только у меня. А здесь, среди волн и ветра, мы наконец почувствовали себя живыми.
В Англии мы поступили на службу к королю Этельреду и соединились с Торкелем Хойе. После кровавой схватки с осевшими здесь данами
[74] король Свейн Вилобородый со своим войском отобрал страну у короля Этельреда. После нескольких лет войн на территории Англии король Олаф продал небольшую часть награбленного имущества, заплатил по-королевски остававшимся с ним воинам и отпустил их. Часть из них осталась в Англии свободными жителями. Другие поплыли домой на боевых кораблях. Двести-триста самых доверенных стали личной охраной короля. Олаф продал корабль «Морской орел» и купил два небольших торговых судна. Осенью мы отправились на север. Торговые суда были доверху загружены золотом, серебром, драгоценными камнями и прочими ценностями из Египта и других стран, где мы сражались. Целые сутки бушевал ужасный шторм. Мы с Олафом стояли на носу и смотрели на северо-восток. Наши торговые суда с трудом боролись с волнами. Они были и короче, и шире боевых кораблей и имели низкую осадку. Вскоре на горизонте появилась Норвегия. В это невозможно было поверить. Долгие годы были мы в походе.
Король Олаф уговорил четырех епископов — Гримхьеля, Сигурда, Рудольфа и Бернхарда — поехать с ним в Норвегию и помочь ему в распространении христианства. И вот сейчас они вместе со своей свитой подошли к королю для разговора. «Властитель», — обратился к Олафу епископ Гримхьель, низко поклонился и бросил недовольный взгляд на меня. Прошло несколько мгновений, прежде чем король понял намек Гримхьеля. Он улыбнулся: «Епископ Гримхьель, Бард — мой поверенный, все, что я слышу, может слышать и он». — «Как угодно королю, — ответил епископ и сказал, что у них был разговор с Асимом на языке, который они назвали латинским. — У себя в стране он являлся могущественным жрецом». Олаф кивнул в знак того, что ему это известно. Епископ поведал дальше, что, по словам Асима, мумия была спящим богом. «Идолом?» — испуганно спросил король, он тщательно соблюдал десять заповедей, о которых ему рассказывал герцог Ричард. Епископ Гримхьель протестующе поднял руки. «Напротив, властитель, Асим говорит, что его секта охраняла мумию две с половиной тысячи лет. Мы думаем, что Асим не очень хорошо знает, кем была эта мумия при жизни». — «Но вы-то знаете?» — спросил король. «Властитель, мы думаем, что знаем». Ветер подхватил длинные светлые волосы Олафа, и они затрепетали на ветру. «И кто же он?» — спросил король Олаф.
Он любил тень.
Сидя в тени в эти дни позднего лета, он частенько закутывался в шерстяной плащ и сразу становился невидим, вокруг него суетливо пробегали монахи, занятые своими многочисленными делами. Долго, очень долго мог он сидеть неподвижно — подальше от света, а в это время его мысли возвращались в молодые годы на много лет тому назад. В то беззаботное время, проведенное вместе с королем, когда смерть всем что-то сулила и никого не пугала. Когда переместившееся солнце прогоняло сонм теней и, словно мелкий песок, выдавливало из его глаз капельки слез, он с трудом вставал и искал тень в другом месте или шел в келью к свитку манускрипта на столе, наклонялся над ним и прислушивался к плеску волн, разбивающихся о камни внизу у стен монастыря.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
ПУТЬ В ВИНЛАНД
Чуть-чуть не попали мне в нос, сказал парень, ему выбили глаз.
Снорри
Когда я умру, похороните меня в гробнице, в которой человек Божий погребен; Положите мои кости подле его костей.
Третья книга Царств
Для короля с добрым сердцем золотой ларец изготовлен.
Стихи скальда
ПАЦИЕНТ (II)
1
Рассветает.
Лучи света проникают через жалюзи в квартире Луиджи.
Тупая боль неистребима и вечна.
Рука дрожит. Мои полуоткрытые глаза направлены на руку, она трясется не переставая.
Оба араба дремлют. Один сидит на стуле рядом со мной, другой лежит на софе.
В течение ночи они много говорили по телефону. По мобильному телефону — по-арабски. По городскому, стоящему на столе, — по-английски. Очевидно, вели переговоры с полицией.
Араб на софе вдруг захрапел.
Я засыпаю или теряю сознание. Точно сказать не могу.
За окном просыпается Рим.
2
От силы взрыва мой диван опрокидывается.
Воздушная волна вбрасывает в комнату тучу осколков оконного стекла. Меня защищает спинка дивана. И все равно такое ощущение, что кто-то схватил мою ногу и несколько раз повернул ее.
Через оконный проем с крыши дома в квартиру врываются полицейские. Я лежу за спинкой дивана, к тому же в полубессознательном состоянии и поэтому не вижу полицейских. Но я их слышу.
— Полиция! — звучат резкие голоса.
Раздается несколько выстрелов.
Я не двигаюсь.
Один араб что-то громко кричит. Я не понимаю слов. Но, судя по интонации, он сдался. Полицейские набрасываются на него. Голову и пистолет прижимают к полу. Полицейские кричат и отдают команды по-итальянски.
В этот момент трое полицейских в полном боевом облачении заглядывают за спинку упавшего дивана. На них шлемы, маски и пуленепробиваемые жилеты, в руках автоматы и фонари.
— Ostaggio! — восклицает один из них.
— Via libera! — восклицает другой.
Еще один наклоняется ко мне:
— Dottore! — Его голос перекрывает все другие. — Immediamente!
[75]
Внизу, на первом этаже, взрывают входную дверь. Решетка падает. Я слышу топот ног, поднимающихся по винтовой лестнице. Квартира Луиджи кишмя кишит полицейскими. Появились санитары «скорой помощи» в красных жилетах с отражающими знаками. И два врача.
Врачи пробуют заговорить со мной на английском языке. Где болит? Что со мной делали? Сколько мне лет? Получив ответы, делают обезболивающий укол и вводят внутривенно лекарство.
Приступы боли затихают. Лекарство убаюкивает меня и уносит в эйфорический мир счастья. В ушах звучит мелодия Бизе «Желаю слышать вновь».
После того как врачи зафиксировали сломанную ногу и положили меня на носилки, у меня появляется шанс взглянуть на арабов.
Один стоит ко мне спиной, в наручниках.
Другой лежит убитый, в луже крови.
Возникли проблемы со спуском носилок по винтовой лестнице. Носилки поднимают над перилами и ставят их на кронштейн. Внизу носилки водружают на каталку и вывозят меня из лавки туда, где много полицейских машин.
В воздух взмывает стая голубей. По узкому переулку проносится порыв ветра. Где-то рядом тяжело бьют часы.
3
Весь следующий день я лежу в больнице, погрузившись в блаженную наркотическую дремоту. Врачи загипсовали сломанную ногу. На мое счастье, перелом не так страшен, как я подумал из-за сильной боли.
В коридоре больницы дежурят двое вооруженных полицейских.
Стая одинаковых юнцов из полиции налетает на меня, чтобы допросить. Абсолютно у всех одинаковая внешность. Одинаковые имена. Они задают одни и те же вопросы. У меня впечатление, что каждое подразделение полиции и контрразведки просто обязано было прислать своего сотрудника, каждый является с переводчиком, оператором с видеокамерой и абсолютным непониманием того, почему такая непостижимо скучная вещь, как древний пергамент и шуршащий лист бумаги, могут стать причиной убийства.
Я рассказываю им то, что знаю.
4
На следующий день мне наносит визит профессор Ллилеворт. В шляпе и пальто он похож на богатого старого дядюшку, который целый день потратил на то, чтобы добраться в гости к племяннику из своего дальнего поместья на Британских островах.
В течение нескольких часов я ставлю его в известность обо всех событиях, которые произошли, после того как СИС направил меня в Институт Шиммера. Когда я упоминаю коллекцию фон Левински, Ллилеворт расцветает. Он только что дал поручение одной даме, которая будет помогать мне. Лора Кохерханс — историк, кандидат наук, защитившая диссертацию в Йеле. До того как СИС привлек ее к работе в штаб-квартире в Лондоне на должность главного специалиста отдела манускриптов, она считалась крупнейшим исследователем в области поиска манускриптов в вашингтонской Библиотеке Конгресса.
После ухода профессора Ллилеворта я сплю несколько часов. Просыпаюсь от звонка мобильного телефона, оставленного профессором Ллилевортом.
В трубке звучит голос Лоры Кохерханс, которая говорит, как положено по-американски, немного в нос, мягко и протяжно, словно подчеркивая что-то чувствительное и нежное.
— Ну конечно, мы найдем коллекцию фон Левински, — заявляет она после нашего короткого разговора.
— Как вы можете быть в этом уверены?
— Проблема тех, кто не может найти, в том, что они ищут недостаточно настойчиво!
Вот это по мне.
Лора рассказывает, что есть тысячи частных коллекций в мире, о которых ученые не имеют понятия, а они между тем содержат неизвестные науке манускрипты огромной культурной и исторической значимости.
— Как вы планируете искать исчезнувшую коллекцию?
— Так же, как и вы, я думаю. С помощью ума и воображения. А еще, когда нужно, — добавляет она с милым смехом, — с помощью подкупа.
— С чего начнете?
— С Дрездена. Потом обращусь в Государственный архив в Берлине. Ну а там поглядим, что мне удастся найти.
Еще несколько дней я лежу с зафиксированной ногой.
Когда меня в конце концов выпускают, то на ноге гипс, а еще мне дают костыли, которые нужно оплатить.
ОСТРОВ МОНАХОВ
НОРВЕГИЯ
1
Клочья тумана надвигаются с океана и закрывают изорванный ландшафт западного норвежского побережья. Где-то далеко над нами сияет солнце, но в это невозможно поверить. Сквозь туман я вижу контуры каменной четырехугольной колокольни, которая упрямо высится над руинами монастыря.
Крепко цепляясь за костыли, я стою около барачного городка, возникшего между монастырем и причалом. Прошло уже несколько недель с тех пор, как я, ковыляя, вышел из самолета, прибывшего из Италии. Перелом срастается. Мое временное отстранение от должности аннулировано. Специальная комиссия — с большими сомнениями и под политическим прессом — пришла к выводу, что вскрытие гробницы в монастыре Люсе без предварительного разрешения не должно в моем случае караться освобождением от должности.
Стараясь не привлекать к себе особого внимания, мы днем и ночью ведем подготовительные работы. Население Селье и местные строители, возводившие наше временное жилье, считают, что мы будем реставрировать церковь Святого Албануса.
Норвежские, шведские, датские, английские, французские, итальянские и немецкие археологи, историки и геологи снуют между палатками и городком. Министерство культуры и СИС объединили свои усилия. Здесь работает около сотни специалистов.
Ни Хассана, ни других подручных шейха я не вижу.
Но конечно, это не означает, что они не контролируют происходящее.
Говорят, что даже один слабый взмах крыла бабочки может довести до урагана. В полном соответствии с очаровательным постулатом из теории хаоса решение проблемы появилось вместе с подробностями о существовании
двух скульптур, упомянутых в «Скаульхольтском фрагменте», который Луиджи сжег непосредственно перед тем, как был убит.
Эйвин обнаружил местопребывание Дидимуса, однояйцевого близнеца святого Лаврентия Фомы, перекопав множество архивов, справочников и красивых глянцевых иллюстрированных книг. В течение 725 лет деревянная скульптура терпеливо ждала нас под силуэтами шпилей и головами драконов в деревянной церкви Боргунн в районе Лердал. Прихожане в Боргунне получили в подарок деревянную скульптуру под названием Дидимус от своих единоверцев из Рингебу в 1280 году.
Передняя часть скульптуры была соединена с задней восьмью деревянными гвоздями, скрытыми под мантией и в рукавах святого. Во внутренней полости скульптуры мы и нашли исписанный рунами ларец:
Эйрик ХРАНИТЕЛЬ укрыл ларец в церкви Урнес
через 100 лет после смерти Олафа Святого
Бард ХРАНИТЕЛЬ перенес ларец во Флесберг
через 150 лет после смерти Олафа Святого
Вегард ХРАНИТЕЛЬ перенес ларец в Лом
через 200 лет после смерти Олафа Святого
Сигурд ХРАНИТЕЛЬ скрыл ларец
внутри святого Лаврентия Дидимуса в церкви Рингебу
через 250 лет после смерти Олафа Святого
В ларце лежал пергамент с закодированным текстом, который Эйвин и Терье расшифровали, использовав копию рунического колеса:
Рагнвальд ХРАНИТЕЛЬ написал эти тайные слова
как это повелел сделать мудрец Асим
через пять лет после возвращения короля Олафа
Ищи гробницу глубоко в пещере
где Святая Дева и мученики причалили к берегу
и встретили благословение Господа
Здесь вечно будет покоиться тело СВЯТОГО

Трюм ХРАНИТЕЛЬ написал эти слова
через 25 лет после смерти Олафа Святого
Мудрец Асим
покоится подле Олафа Святого
бок о бок со СВЯТЫМ
и вечно будет охранять его
Пещера Суннивы.
А вовсе не грот Доллстейн, как все думали.
Гробница находится в пещере Святой Суннивы на острове Селье, в дальней части Норд-фьорда, в провинции Согн-ог-Фьюране. Здесь вплоть до 1170 года находилась резиденция епископа Гулатинга.
Через туман доносятся птичьи крики. Во всяком случае, я думаю, что это птичьи крики. Вокруг меня кипит бурная деятельность. Электронные вызовы по рации. На остров прикомандировали несколько полицейских. Их присутствие дает некоторую уверенность в безопасности на тот случай, если за ближайшим камнем прячется Хассан. После убийства священника в Рингебу и всех событий в Риме полиция присвоила нашему делу высший приоритет. Норвежская, исландская и итальянская полиция тесно сотрудничают, используя для этого каналы Интерпола. Во главе норвежской группы следователей стоит Рагнхиль.
Монастырь, открытый всем ветрам, раскинулся на равнине под крутым склоном гор. Когда-то давно монастырь Селье напоминал средневековую крепость с мощными стенами и башнями. Он был основан монахами-бенедиктинцами в XII веке. Но еще раньше на этом месте стоял небольшой деревянный монастырь. В пятидесяти метрах выше на горе есть площадка, где находятся руины церкви Святой Суннивы, которая приклеилась к скате, словно орлиное гнездо. Прямо напротив располагается пещера Михаила.
Пещера Святой Суннивы…
Блаженная Суннива была королевской дочерью, в конце X века спасшаяся бегством из Ирландии от одного язычника, который захотел покорить ее и ее родину. Суннива и другие благочестивые мужчины, женщины и дети в трех лодках без руля, весел и парусов дрейфовали, повинуясь ветрам и течениям, пока не попали на остров Селье. Здесь беглецы поселились в пещерах и землянках. Местные язычники, жившие на материке, смотрели на них с большим недоверием. Ярл Хакон послал к ним вооруженных людей, чтобы они сразились с теми, кого он принял за воинов. Суннива и ее соотечественники собрались в этой пещере и стали просить Господа о спасении. Легенда гласит, что Бог не остановил нападавших, но схоронил Сунниву под тоннами огромных камней. М-да. В последующие годы крестьяне и моряки стали свидетелями странного света, исходящего из пещеры. Когда позже король Олаф Трюггвасон и епископ Сигурд прибыли на таинственный остров, они нашли в пещере останки Суннивы и другие благоухающие кости, черепа и скелеты. Позже именно на этот остров высадился король Олаф Харальдссон, прибывший на родину, чтобы осуществить христианизацию Норвегии.
Пещера Святой Суннивы…
Неужели легенду о Сунниве сочинили, чтобы скрыть, что в глубине пещеры кроется гробница?
2
В середине дня туман исчезает.
Я сижу в штабном бараке и рассматриваю последние фотографии, снятые на месте работ. Пещера выглядит разгромленной, повсюду куски взорванных камней. С одной стороны пещеры удалены тонны камней, так обнаружилась вертикальная стена, сложенная из грубо отесанных огромных камней. В середине стены дугообразный портал, тоже заложенный камнями, но меньшего размера. На портале печать.
Завтра ровно в одиннадцать мы пробьем вход через этот портал.
Я слышу приближающиеся шаги и откладываю фотографии. Дверь открывается. Освещенная сзади лучами света, напоминающего божественное сияние,
она кажется богиней, спустившейся к нам, грешникам, с вестью о предстоящей вечной жизни в раю. Но это всего лишь Астрид, которая принесла мне кусок хлеба с огурцами и помидорами.
— Волнуешься? — спрашивает она, улыбаясь.
Она профессор, работает в Центре по исследованию археологических находок, является ведущим специалистом по руинам норвежских монастырей.
Внутри меня что-то обрывается.
3
Грохочущий сигнал сирены.
Я мгновенно просыпаюсь и сажусь на своей раскладушке. Странное воспоминание из моего сна, которое я не успеваю сформулировать, крутится в голове. Пытаюсь найти очки, потом нажимаю на выключатель, загорается свет. Сейчас половина третьего ночи.
Снаружи крики и беготня.
Быстро одеваюсь, хватаю костыли и выскакиваю в ночь. Сигнализация сразу же включила все фонари. В ночном тумане
окружающее купается в молочном свете. Воздух сырой и холодный. О берег бьют волны.
Хромая, спешу, насколько позволяют костыли, в штабной барак. Там уже собралось несколько человек, взволнованно расспрашивающих двух вызванных туда охранников. Те рассказывают, что еще один охранник лежит без сознания на узкой крутой каменной лестнице, которая ведет вверх, ко входу в пещеру.
Кому-то удается наконец отключить сирену.
В ту же секунду слышится урчание мотора отъезжающей лодки.
В течение следующего часа мы кое-что узнаём, хотя нельзя сказать, что все сразу становится понятным.
Кто-то проник в пещеру. Брошенные кувалды говорят о том, что эти люди собирались пробить портал и проникнуть в гробницу, которая, как мы думаем, там находится.
К счастью, мы по моей инициативе, поскольку я очень недоверчив, не оповещали о деталях, связанных с системой сигнализации и охраной. Поэтому они попали в элементарную ловушку — пересекли инфракрасный луч у металлических ворот перед входом в пещеру.
Прибежавшего охранника они сбили с ног.
Он медленно приходит в себя, пока мы несем его вниз, к баракам. Промываем ему рану, перевязываем лоб. Он помнит, что на него напали. Но не помнит, кто это был.
На следующее утро обнаруживается исчезновение трех коллег.
Это Джон Смит из Института археологии Оксфордского университета, Поль-Анри де Шанонсо из Института папирологии Сорбонны и Луиджи Бельцоне из Римского университета.
Я не очень хорошо знал их. Они держались несколько в стороне. В их функции не входило проводить какие-то работы в пещере. В особенности посреди ночи. Да еще кувалдами. Каким-то образом они проникли к нам на раскопки. Они явно были подручными шейха.
По данным ленсмана, их лодка стоит на приколе у Селье. Взятый ими напрокат автомобиль исчез.
Когда мы обращаемся в университеты, откуда они прибыли, оказывается, что туда они приехали совсем недавно. Стипендии для их работы там были предоставлены одним и тем же фондом, находящимся в Абу-Даби, в Объединенных Арабских Эмиратах.
4
В одиннадцать часов начинаем пробивать отверстие в каменной стене.
В пещере холодно и сыро. Мы стоим дрожащим полукругом в нетерпеливом ожидании вокруг рабочих, которые разбивают молотами каменную стену. Снаружи у входа под моросящим дождем томятся газетчики и телевизионщики.
Стена толстая, прочная, никак не хочет поддаваться. Но вот наконец зашатался один камень, затем другой. Мы выбиваем ломом камни поменьше, получается отверстие, в которое можно пролезть. Кто-то подает мне мощный строительный фонарь.
Когда я был ребенком и ручонками срывал обертку с рождественских подарков, то во мне всегда теплилась надежда, что вот этот,
именно этот подарок будет самым шикарным, великолепным, лучше всех, какие я получал в жизни.
Пробираясь через отверстие, я держу фонарь в руке прямо перед собой, чтобы осветить бездонное пространство за толстой каменной стеной. И вот теперь я наконец-то получаю ту самую, давно ожидавшуюся мной награду. Астрид подает мне костыли. Люди за моей спиной замерли. Я поднимаюсь, стряхиваю с коленей пыль. Останавливаюсь и тяжело дышу.
Ничто, абсолютно ничто не подготовило нас к тому, что ждет нас здесь.
ГРОТ
1
В отблеске света я пытаюсь оценить размер гробницы. Два ряда колонн из серого гранита отбрасывают на стенки тени. Лицо ощущает дуновение слабого ветерка.
Мрак столетий рассекается дрожащими лучиками карманных фонарей тех, кто вслед за мной проникает через открывшийся проем.
Грот заполнен египетскими сокровищами.
Под слоями пыли и паутины сверкают немыслимые богатства. Сундуки. Кувшины. Ларцы. Все покрыты золотом, серебром и драгоценными камнями. Светильники. Чаши. Дверцы. Орнаменты. Скипетры. Отшлифованные драгоценности. Алмазы. Рубины. Сапфиры. Изумруды.
Статуи египетских богов и фараонов выстроились в одну шеренгу в боковой пещере, как будто в ожидании начала представления. Многих я узнаю. Анубис. Тутмос. Атум. Аменхотеп. Хатор. Рамсес. Хорус. Ахенатон. Тот.
Впечатление ошеломляющее… Глаза полны слез.
Кто-то похлопывает меня по плечу.
Я прикусываю губу и прижимаю ладонь к каменной колонне около лестницы. Гладко отполированная поверхность холодна как лед. Волнение так велико, что я застываю на месте, опираюсь на костыли и смотрю прямо перед собой. Вслед за мной через отверстие в стене проползла Астрид. Так же как и я, она застывает с раскрытым ртом и смотрит в темноту.
На протяжении тысячи лет гробница была скрыта за тоннами гранита, за каменной стеной такой толщины, что составляла единое целое с горой. И вот теперь боги могут проснуться от своего долгого заколдованного сна.
2
Очень осторожно, одна ступенька за другой, я ставлю свои костыли вперед и спускаюсь вниз по лестнице. Все остальные с лампами, карманными фонариками медленно идут следом и громко переговариваются.
В середине пятиугольного погребального зала стоят два постамента — два хорошо обработанных каменных цоколя.
Один из них пуст.
На другом покоится рака Олафа — гроб Олафа Святого.
Не говоря ни слова, я оборачиваюсь и переглядываюсь с Астрид. Губы ее дрожат.
Полный благоговения, приближаюсь к раке. Многочисленные отвлекающие маневры обеспечили раке Олафа почти тысячелетний покой. Останавливаюсь. Держу в одной руке костыли, а другой осторожно счищаю пыль.
Кто-то из нас поднимает верхний футляр, не имеющий дна и защищающий серебряную раку. Под толстым слоем пыли серебряная рака, в которой находится деревянный гроб, за это время совсем почернела. На серебре украшения из золота и драгоценностей.
Силуэт раки Олафа в точности такой, каким я его видел на рисунках в книгах по истории. Рака имеет в длину два метра, в ширину и высоту примерно по метру. Крышка выполнена в форме крыши дома. Конек крыши с каждой стороны удлинен и украшен головами дракона.
Останавливаюсь и замираю в восторге перед ракой Олафа.
Когда раку очистят и законсервируют, она станет мировой сенсацией. Ее изображения будут мелькать на телевизионных экранах в США и Австралии, Японии и Буркина-Фасо. Она появится на обложках «Ньюсуика» и «Пайса». Рака Олафа с бренными останками названного святым короля викингов станет археологической сенсацией.
К нам подходят все новые и новые коллеги. Все говорят тихо, словно в церкви.
— Ковчег Завета! — раздается чей-то голос.
— Да брось ты! — выкрикиваю я. — Это рака Олафа!
Кто-то искусственно смеется.
Мой взгляд переходит с постамента, где стоит рака Олафа, на соседний, пустой.
Постамент для мумии? Где гроб?
Прихрамывая, иду в боковую пещеру. Два небольших каменных гроба покоятся на одном постаменте.
На крышке одного гроба рунами высечено
Bàrðr — это на древненорвежском языке —
Бард. На другом написано
Asim.
Асим…
Потрясенный, делаю шаг назад.
Асим! Египтянин! Жрец культа Амона-Ра. Значит, это правда, всё правда. Намеки Снорри. Теории Стюарта. Наши самые нелепые предположения. Все то, о чем мы догадывались, но чего не знали точно.
Всё — правда.
Немного позже, когда мы отодвигаем каменные крышки гробов, нас ожидает еще одно ошеломляющее открытие. В обоих гробах лежат скелеты, закутанные в полуистлевшую ткань. Кто-то пытался забальзамировать и мумифицировать тела усопших.
3
Прожектора заливают усыпальницу резким белым светом.
Только теперь я замечаю, что стена и потолок пещеры красиво расписаны. Под слоем пыли я угадываю длинные надписи, сделанные иероглифами, рунами и латинскими буквами. Я вижу поблекшие настенные изображения египетских, христианских и скандинавских богов, фигур и символов — благословенная смесь мифологии, астрологии и религии. На кресте в форме анха изображен Иисус, глядящий снизу вверх на всемогущего Одина. Вселенский червь обвивает земной шар, на котором изображена пентаграмма. Амон-Ра царит над входом в подземный мир, которым правит Сатана. Древо Иггдрасил бросает длинные тени на пирамиду Хеопса. Моисей разделяет бушующее море с помощью меча Мимунга. Богатая фантазия декораторов переплела веру в асов, христианство, иудейскую религию, египетскую мифологию с примесью астрологии.
Кое-какие тексты можно прочитать. Они рассказывают о вечно спящем боге, о святом Моисее и Одине, о языке звезд и о путешествии на край земли. Два стиха упоминают «хранителей».
4
Уже более недели с самого раннего утра до позднего вечера я провожу в гробнице.
Мы фотографируем и копируем искусную роспись в мельчайших деталях. Мы измеряем грот. Запечатлеваем его на фото со всех возможных точек. Регистрируем и ставим пометки на каждом артефакте, каждом кувшине, каждом камне.
Я счастлив, я полностью отдаюсь своим занятиям и стараюсь даже не думать о Хассане и шейхе Ибрагиме аль-Джамиле ибн Закийи ибн Абдулазизе аль-Филастини. Остров и грот круглосуточно охраняются полицией и еще частным охранным агентством.
Ученые, газетчики и телевизионщики всего мира явились сюда, чтобы посмотреть на усыпальницу. В середине дня мы впускаем их группами. Поскольку я люблю дождливые воскресенья проводить за просмотром National Geographic Channel,
[76] особенно благосклонно я отнесся к телевизионщикам именно этого американского канала. Они делают часовой документальный фильм. CNN проводит прямую трансляцию от входа в грот. Итальянский канал RAI планирует программу с рабочим названием «Захоронение в гроте». Завтра будет снимать арабский канал «Аль Джазира».
Поздно вечером мне звонит Рагнхиль из полиции Осло. Ей прислали сообщение из Исландии, где был схвачен один из подручных Хассана во время попытки проникнуть в дом Трайна. Негодяй снял дом у озера Ройдаватн в Рейкьявике через парижское риелторское агентство. Из Лондона в Рейкьявик прибыли три адвоката, чтобы поддержать хлопоты самой авторитетной адвокатской фирмы.
Я пытаюсь дозвониться до Трайна, но он не отвечает.
5
На вертолете перевозим раку Олафа с Селье в Берген. Машину от аэропорта Флесланн до лабораторий консервации Бергенского университета сопровождает полицейский эскорт.
Три недели уходит на то, чтобы вскрыть раку.
Серебряный гроб, выполненный по приказу Магнуса Олафссона, сына короля Олафа, в нескольких местах покрыт рельефами на религиозные мотивы. Боковые стенки и крышка раки украшены золотыми вставками, драгоценными камнями и отполированным горным хрусталем.
Долго и упорно открываем петли и крючки, скрепляющие крышку серебряного саркофага с его основанием. Вчетвером очень осторожно снимаем крышку.
Внутри находится деревянный гроб.
Некогда гроб был обит тканью, которая теперь полностью истлела. Сам гроб все еще крепок и не поврежден. Крышка прикреплена к гробу при помощи шестидесяти шести медных гвоздей.
Мы вынимаем гвозди один за другим, наконец крышку можно оторвать и затем полностью снять.
Тело Олафа Святого превратилось в мумию.
Мумия частично закрыта расшитой тканью. Руки скрещены на груди. В руках короля золотой скипетр. Выполненный в виде креста, с одного конца он имеет форму
анха, с другого — форму рунического знака
тюр.
Анх, тюр и
крест в одном.
Мы долго молча стоим и смотрим на останки святого короля. За окном поднялся ветер. Ветки деревьев дрожат от его порывов.
КОЛЛЕКЦИЯ ФОН ЛЕВИНСКИ
1
В дверь кабинета стучат.
Я вернулся в Осло. Уже несколько дней читаю отчеты различных подразделений, которые изучают грот и обнаруженные останки.
Раздраженно смотрю на дверь и молчу в надежде, что стук прекратится сам собой.
Явно опасаясь посланцев Ватикана, хранители примерно в 1230 году перевезли египетскую мумию из грота на Селье, а может быть, из временного убежища в деревянной церкви, к Снорри в Исландию. В Исландии мумию охраняли сто лет, сначала Снорри, потом Тордур Хитроумный. Но кто принял на себя обязанность охранять мумию после того, как Тордура вызвали в Норвегию, мы не знаем. Почему ее перевезли? И куда? И почему они оставили сокровища и раку Олафа на Селье?
В дверь снова стучат. Громче.
Я избавился от мании преследования, прикрывая ее уверенностью в себе и равнодушием. Ведь я выиграл. Шейх потерпел поражение. Легион убийц, шпионов, тайных преследователей наверняка отправился домой вслед за Хассаном, разочарованные поражением, нанесенным им норвежским археологом, старшим преподавателем университета Осло, человеком с большим букетом неврозов. Целыми днями я только и делал, что упивался чувством безмерного самодовольства.
— Бьорн? — (Дверь открывается). — Это всего-навсего я!
Трайн.
Я обнимаю его несколько более сердечно, чем любой доктор наук мог бы ожидать от ничтожного старшего преподавателя.
— Я пробовал дозвониться до тебя, — говорит он.
— Извини. Я выключил мобильный телефон. Он непрерывно звонил. Что ты здесь делаешь?
— Я привез кое-что, это, возможно, тебе пригодится. Потом поеду на Селье, чтобы собственными глазами увидеть грот. Такого рода событие бывает самое большее один раз в жизни.
Под рукой он держит большой портфель-«дипломат».
— Перевод библейского манускрипта?
Он качает головой:
— Работа еще продолжается. Много неясного. Текст местами совпадает, а местами не совпадает со старыми версиями Библии. Мы не исключаем, что какой-то монах-недотепа при переписке сделал свои вставки в копию существующей Библии. — Он открывает «дипломат» и вынимает большие фотографии какого-то старого манускрипта. — Я сфотографировал самые интересные страницы в размере один к одному. Качество первоклассное! Ты увидишь даже разные оттенки чернил.
— Что это?
— «Флатейский кодекс»! Самое большое и самое красивое собрание исландских манускриптов. А может быть, и вообще самый важный средневековый манускрипт Исландии. Двести пятьдесят страниц рукописного текста на тонкой, хорошо выделанной коже, с цветными буквицами и иллюстрациями. Текст начали писать в 1387 году…
— Трайн, — перебиваю я, — зачем ты принес с собой копии этих страниц?
— Дело в том, что «Флатейский кодекс» имеет в своем составе не только старые тексты. Помимо королевских саг, таких как саги об Олафе Трюггвасоне и Олафе Святом, здесь есть еще и историческая информация. Книга содержит, например, отличающуюся от общеизвестной версию саги об Олафе Святом. Раньше историки считали, что версия Снорри является самой точной. Но теперь мы больше верим в вариант «Флатейского кодекса». А показать тебе я хотел вот это. — Трайн перелистывает страницы. — Вот здесь, смотри. «Сага о гренландцах». — Он постукивает пальцем по пергаменту. На полях видны красиво раскрашенные три символа:
анх, тюр и
крест. — Эта сага, записанная на полях, никогда не воспроизводилась в более поздних копиях и переводах «Флатейского кодекса». Обычная история. Стоит обратиться к оригиналу того или иного манускрипта — и обнаруживаешь забытый или опущенный текст.
— Что тут написано?
— Не очень много. Очевидно, автор не хотел, чтобы его послание мог понять любой. В кратком виде текст на полях рассказывает о том, что в 1350 году хранители перевезли сокровище в надежное место в Гренландии.
Я молчу. Сокровище это, видимо, мумия и свитки.
Неужели есть еще одно захоронение в Гренландии?
В конце X века Гренландия была колонизирована Эйриком Рыжим, который сбежал после того, как его объявили вне закона и в Норвегии, и в Исландии. В течение нескольких сотен лет скандинавская колония процветала, пребывая в самых лучших отношениях с аборигенами. Но потом их отношения стали портиться. Последний норвежский корабль покинул Гренландию в 1368 году. Последний христианский епископ умер десять лет спустя. Если верить историкам, окончательно скандинавская колония прекратила свое существование в Гренландии в первой половине XV века. Некоторые историки полагают, что выходцев из Скандинавии переловили и продали в рабство пираты. Другие считают, что они доплыли до Канарских островов, где и осели, образовав племя высоких белокурых голубоглазых гуанчи. Кто-то утверждает, что они тихо-мирно вернулись в Исландию и Норвегию. А кто-то — что они попросту вымерли. Или поплыли на запад, в Винланд…
— Это в полной мере объясняет все намеки на Гренландию, с которыми мы уже сталкивались, — говорю я.
— Вот здесь упоминается «черная смерть». В 1350 году исландцы были в ужасе от чумы, которая опустошила Норвегию и всю Европу. «Черная смерть» не добралась до Исландии, но ты легко можешь представить себе возникшую там панику.
— И, убегая от чумы, хранители отправились в Гренландию!
— Похоже, что так и было.
— И остатки сокровищ находятся теперь там?
— Вовсе нет. — Трайн вынимает другие фотографии. — Вот здесь в «Скаульхольтской книге» XV века есть более поздняя приписка на полях. Из этого сообщения видно, что сокровище охранялось скандинавским населением Гренландии сто лет, то есть до 1450 года. И тут значительная часть населения была истреблена. Археологические находки скелетов, оружия и различных предметов в местах проживания говорят о том, что воины, напавшие на скандинавскую колонию в Гренландии, скорее всего, прибыли из Южной Европы. Возможно, из Ватикана. Но прочитай вот тут! Здесь черным по белому написано, что группа хранителей сумела спастись от преследователей и «отплыла в страну за горизонтом». Это интересная формулировка, повторяющаяся во многих текстах того времени. Она означает Винланд. Новые земли на западе.
— В 1450 году?
— Колумб наткнулся на острова в Карибском море лишь пятьдесят лет спустя.
— В Ватикане я нашел упоминание о боевых действиях в Гренландии в 1450 году. Если я ничего не перепутал, там написано, что нескольким варварам удалось ускользнуть. А через пятьдесят лет брат Христофора Колумба переправил в Европу некое письмо от неизвестной группы лиц, живших в Санто-Доминго. Это были хранители.
— Письмо у тебя?
— Мы ищем его.
— В это время многие южноевропейские экспедиции бороздили моря между Норвегией, Шотландией, Исландией и Гренландией. Представителей папы римского хорошо знали в этих местах по экспедициям 1360-х годов. Спустя сто лет здесь побывал и Христофор Колумб, правда, был он тогда рядовым матросом. Не исключено, что именно в эту пору у него зародилась мысль отправиться на запад.
— Все это значит, что мумию перевезли из Исландии в Гренландию, а еще через сто лет из Гренландии в колонию викингов — в Винланд.
— Похоже, что именно так и было.
2
В 14:00 я у докторши, которая снимает гипс. Без гипса нога кажется воздушной. Но я боюсь наступать на нее. Меня путает боль. Врачиха называет меня размазней. Я не понял, это она меня дразнит или думает так на самом деле.
В тот же день ближе к вечеру мне звонит Лора, исследователь из СИС, которая занимается поиском писем и коллекции книг, принадлежавших Максимилиану фон Левински. Судя по голосу, она очень взволнована.
— Я звоню из Берлина. Из Государственного архива!
— Вы что-то нашли?
— Думаю, я сумела проследить путь коллекции!
— Ого! В Берлине?
— Нет-нет! Но я поняла, где искать. Я уже была в Бонне, Штутгарте, Париже, Варшаве…
— Ну говорите же!
— Максимилиан фон Левински очень любил свою коллекцию и явно не хотел подвергать ее никакому риску. Он был высокопоставленным офицером вермахта и хорошо понимал, что война неизбежна. И тогда я стала думать: если бы я была Максимилианом фон Левински, что бы я сделала, зная это? Что бы вы сделали, Бьорн?
— Я захотел бы обезопасить коллекцию. Перевез бы ее в надежное место.
— А какое место было самым надежным в 1930-е годы?
— Хм. Какая-нибудь страна, которая не будет воевать?
— А что это за страна?
— Да много их…
— Но только одна из них кажется самым естественным выбором в тогдашней остановке.
— США?
— У фон Левински уже была зацепка в США. Его брат Уве фон Левински эмигрировал в Америку в 1924 году и обосновался в Чикаго, где возглавил американскую фирму, ставшую частью империи фон Левински.
[77]
— Так коллекция в США?
— Уверена. Нацистская Германия была бюрократизирована сверх меры. Даже такие столпы общества, как фон Левински, не могли избежать всех формальностей, чтобы вывезти ценности из Германии. Вот здесь-то я и обнаружила упоминание о коллекции. Последние четыре дня я провела в Государственном архиве. В таможенных описях 1935 года, которые по иронии судьбы уцелели, потому что были переведены в бомбоубежища задолго до войны, я нашла указание на документы, разрешающие вывоз коллекции Максимилиана фон Левински, которая вместе с его картинами и семейными реликвиями разного рода в 1935 году была отправлена в Чикаго!
— К брату?
— Максимилиан послал свои картины и книги к Уве. Хотя нигде нет подробного описания переправленной коллекции, я предполагаю, что Максимилиан фон Левински запрятал еврейскую коллекцию в богатую библиотеку.
— И никто этого не обнаружил?
— Ничего странного. Несколько тысяч документов занимают довольно много места. Особенно если учесть, что они были распределены среди тысяч роскошных книг, упакованных в солидные деревянные ящики, набитые тонкой древесной стружкой и газетами.
— Эта коллекция еще существует?
— Не просто существует. Я выяснила, где она находится. Вы не поверите, когда услышите.
— И где?
— У нас прямо под носом.
— Где именно?
— Максимилиан умер во время войны. Брат Уве никогда не разделял его страсти к старинным картинам и книгам. Более шестидесяти лет уникальная коллекция Максимилиана фон Левински стояла нераспечатанной в доме Уве фон Левински. Нераспечатанной! Когда Максимилиан умер, Уве даже не пожелал вскрывать ящики. Он поместил их на чердаке. Уве фон Левински умер в 1962 году, а его сын Альберт погиб в автомобильной катастрофе год тому назад. Детей у него не было. Наследники — мириады племянников, племянниц, а также двоюродных братьев и сестер Альберта — бросили беглый взгляд на ящики со старинными книгами и подарили коллекцию — держитесь! — Библиотеке Конгресса!
Когда мы заканчиваем разговор, в трубке дважды звучит щелчок.
Неожиданно раздается повтор фразы Лоры: «…на ящики со старинными книгами и подарили коллекцию…» — после чего звучит долгий гудок.
ПОГОНЯ
США
1
Когда я прилетаю в Америку, приближается ночь.
Вашингтон купается в бесконечном море света. Улицы и здания полыхают и мерцают. В иллюминатор видны миллионы автомобильных фар, образующие белые и красные полосы, вспыхивающие и гаснущие, как звезды на небе.
Лора Кохерханс ждет меня в зале прибытия. Я и представить себе не мог, насколько она хороша. Зато она явно не была готова к тому, что я альбинос. Для большинства женщин я, наверное, напоминаю что-то такое, что слишком долго вымачивалось в ванне. Наша первая встреча превращается в нечто похожее на хаос объятий и костылей.
Покинув здание аэропорта, мы попадаем в мокрую темноту, выхлопные газы и моросящий дождь с небольшой добавкой духов Лоры. Десять минут мы стоим в очереди на такси, потом мчимся в гостиницу по восьмиполосному шоссе с рядами нависших над дорогой светящихся зеленых знаков.
Гостиница — оазис в ночи.
Пикколо несет мой чемодан от портье до номера 3534, расположенного рядом с тем, куда уже въехала Лора.
Мы договорились пропустить по рюмочке в баре гостиницы, после того как я приму душ и распакую чемодан. Лора уже ждет меня, когда я выхожу из лифта. Эта женщина — нечто потрясающее! И в той части мозга, которая обычно изолирована от мира и заполнена всяким ненужным хламом, у меня рождается мысль, что женщина чисто генетически не может быть более совершенной. Я прислоняю костыли к стойке бара и вползаю на табурет рядом с ней.
— Привет, Бьорн!
Сидящие в баре с недоверием смотрят на нас. Еще бы — красавица и чудовище.
Я заказываю джин-тоник. Это единственный напиток, название которого я помню. Лора пьет какую-то красную жидкость, в которой плавает зонтик. Она говорит, что у нас уже есть договоренность с Библиотекой Конгресса на завтрашнее утро.
Один из мужчин в баре уставился на меня. Вероятнее всего, он пытается понять, почему прекрасная Лора общается с подобным мне существом. Но может быть, это агент, которого шейх направил вести за мной наблюдение.
Я откашливаюсь и спрашиваю Лору, не чувствовала ли она за собой… э-э-э, слежки… пока вела поиски коллекции фон Левински.
Она смеется:
— К сожалению, моя жизнь не столь драматична.
Ее смех задевает меня.
— В последнее время ты ни с чьей стороны не ощущала повышенного к своей персоне внимания? Большего, чем то, к которому ты привыкла? — нагло добавляю я, переходя на «ты».
— К сожалению, нет, — хихикает она. — Впрочем, да. Компьютерщик из Государственного архива в Берлине. Но только он не в моем вкусе.
Мужчина, не сводящий с нас глаз, похож на араба. Ему определенно пора побриться. Встретив мой взгляд в четвертый раз, он допивает рюмку и уходит.
Вскоре у нас с Лорой заканчиваются темы для разговора. Мы едем в лифте на четвертый этаж. Пока мы идем по длинному коридору, я мысленно представляю себе, что мы влюблены и идем в спальню.
Между номерами 3532 и 3534 Лора желает мне спокойной ночи и хлопает по плечу.
— Увидимся завтра, — шепчет она.
Несколько минут я стою возле окна и смотрю на улицу. Потом ложусь под накрахмаленную простыню. И чувствую себя письмом, которое положили в слишком маленький конверт.
Проходит много часов, прежде чем я засыпаю.
2
В Библиотеке Конгресса Лора занимала высокое положение в отделе редких книг и коллекций. В частности, она занималась каталогизацией коллекции Кислака — культурно-исторического собрания, состоявшего из более четырех тысяч редких книг, карт, документов, писем, картин и артефактов по истории Америки.
Некоторые страны делают все, чтобы их исторические документы были недоступны. В США дело обстоит иначе. Библиотека Конгресса предлагает не менее двадцати двух читальных залов для ученых, студентов и просто всех интересующихся.
Лора помогает мне пройти через пункт контроля — несколько тягостных минут мои костыли воспринимаются как смертоносное оружие — и зарегистрироваться в корпусе Джеймса Медисона.
[78]
Отсюда она провожает меня через подземный туннель в читальный зал, находящийся в корпусе Томаса Джефферсона
[79] и представляющий собой точную копию зала Независимости в Филадельфии, где была подписана американская Декларация независимости.
Лора приветствует своих старых коллег. Они восторженно выкрикивают свои имена, похлопывая меня по плечу и рассматривая с головы до ног. Некоторые смотрят с большим удивлением, как будто не могут понять, что за чудище она привела с собой. Лора представляет меня как одного из самых знаменитых археологов Европы. А я чувствую себя музейным экспонатом, сбежавшим из витрины.
Я привык к тому, что на меня смотрят. Кожа, волосы — все-все у меня белое. Когда я был маленький, другие мальчишки кричали мне вслед: «Белый медведь!»
Взрослые более осторожны. Но все, что не говорится, перекочевывает с языка в глаза, во взгляд.
Обычно, чтобы получить ту или иную книгу или рукопись, необходимо заполнить на них библиотечное требование. Но собрание фон Левински такое новое, что оно еще не прошло каталогизации. Поэтому Лора вступает в переговоры с Мирандой Картрайт, библиотекаршей, которая отвечает за эту работу.
Миранда — высокая, пышная, рыжеволосая. Она из тех всегда приветливых и осмотрительных женщин, которые любят улыбку и за словом в карман не полезут.
Как и я, она привыкла, что на нее то и дело бросают любопытные взгляды.
Она привыкла, что люди всегда что-то скрывают, не выполняют обещанное. Привыкла, что ее игнорируют, что она оказывается в стороне, когда жизнерадостные дети играют в веселые игры. Говорят, что, повзрослев, человек должен забыть о детских годах. Но конечно, это не так. Миранда никогда никому не говорит, что плачет во сне. Не рассказывает, что не раз сидела в ванне, наполненной водой, обнаженная, держа в руке бритву, которая одним махом могла бы освободить ее. Я это вижу. Она, как и я, очень похожа на обломки потерпевшего крушение корабля, плавающие в воде у причала и бьющиеся о сваи пирса. Презрение к себе она прячет под притворной радостью и смехом. Она, конечно, весьма наблюдательна. Еще бы! Мы, люди, обладающие повышенной чувствительностью, умеем читать чужие мысли. Поэтому ее улыбка сразу становится другой, наполненной нежным и искренним взаимопониманием, когда она жмет мою руку. Едва заметный кивок говорит, что она знает, насколько трудным, полным шипов было мое детство, понимает, что я, как и она, вечно изучаю себя.
— So welcome to Washington,[80] — произносит она с намеком на улыбку, в которой только я вижу глубину.
Миранда говорит, что библиотека приняла собрание фон Левински весной прошлого года, но работа по каталогизации всерьез началась только в этом году, на Пасху. Основу собрания составляют оригинальные произведения XVI–XIX веков, но в нем есть также рукописи, письма и книги Средних веков.
Я спрашиваю, не знает ли она о письме начала XVI века, посланного через Бартоломео Колумба с одного из островов Карибского моря.
— Весьма вероятно, что на этом документе вы могли обнаружить три символа:
анх, тюр и
крест. Текст понять невозможно, потому что он зашифрован.
— Какая прелесть! — восклицает Миранда. — Но к сожалению, такого рода вещи мы находим только во сне.
3
Ломом мы вскрываем один за другим деревянные ящики, в которые когда-то была упакована коллекция Максимилиана фон Левински. Под древесной стружкой находим мятые газеты, рассказывающие о том, как Германия готовилась к своему победоносному будущему.
Перелистываем толстые тяжелые книги, пропитанные запахом пыли и ушедших в небытие мыслей.
Копаемся в фолиантах, переплетенных в кожу, с экзотическими названиями городов и годов на титульных листах.
Тщательно рассматриваем непривычные для глаз протоколы
[81] и палеотипы
[82] — образцы типографского искусства самых первых лет, сборники проповедей, каталоги, карты, письма и энциклопедии.
Но письма, которое отправили хранители, найти не можем.
После того как мы закончили работу в Библиотеке Конгресса, Лора берет такси и отправляется в гостиницу, Миранда едет к себе домой, чтобы остаться наедине с собой.
А меня пригласили в ФБР.
Это организовала Рагнхиль. Когда я позвонил ей из аэропорта Гардемуен и сказал, что еду в США, она настояла на том, чтобы опеку надо мной взяла американская спецслужба.
Агент ФБР, к которому я вхожу, настроен ко мне скептически, к тому же он устал. Перед ним пачка факсов из Интерпола. Он читает про три убийства. Потом про драму с заложником в Риме. И все время бросает раздраженные взгляды на меня, как будто не в состоянии понять, зачем ему подбросили такую проблему — общение с близоруким альбиносом из Норвегии.
Я стараюсь незаметно наблюдать за ним. У него большое адамово яблоко, которое поднимается от ямочки между ключицами до подбородка каждый раз, когда он глотает слюну.
И тут я говорю волшебные слова:
— Вероятно, это террористы-исламисты.
Следующего движения адамова яблока достаточно, чтобы понять: мои слова попали в десятку. Он быстро набирает что-то на клавиатуре. Где-то в базе данных эти слова залягут и будут тикать, как бомба замедленного действия.
Явно против желания он медленно протягивает мне передатчик GPS и «тревожную кнопку». Агент объясняет принцип действия, но в потоке слов я не улавливаю, куда передается сигнал: в ФБР или в полицию Вашингтона. Как бы то ни было, с кнопкой я чувствую себя спокойнее: стоит мне нажать кнопку, ко мне мигом примчится помощь.
В этот вечер мы с Лорой ужинаем в одном из вегетарианских ресторанов. У официанта такой вид, словно он репетирует роль модели для будущей гранитной статуи. Лоре кажется забавным попробовать овощи, которые выдают себя за мясное блюдо. Говорит, что у них смешной вкус. Сам я предпочитаю спаржу, которая ни за что себя не выдает, а является обыкновенной вареной спаржей. Мы пьем калифорнийское вино и ключевую воду, которая почему-то называется «Водопад».
За окном на противоположной стороне улицы стоит черный автомобиль с тонированными стеклами. Я представляю себе, что там сидит наблюдающий за нами в бинокль человек Хассана. Может быть, он нас еще и фотографирует. Поэтому я изображаю улыбку и машу рукой. Лора спрашивает, с кем это я флиртую.
— Со своим отражением в окне, — отвечаю я.
Автомобиль все еще стоит, когда через час мы выходим из ресторана.
Мы медленно идем по шумной улице. Лора берет меня под руку. Мы столько выпили, что она начинает рассказывать мне о своем последнем возлюбленном. Звали его Роберт. Он не был готов связать себя узами брака. Разрыв был одной из причин того, что она переехала в Лондон.
Я периодически поворачиваю голову и смотрю, не едет ли за нами автомобиль.
Нет, не едет.
Они не дураки.
4
На следующий день мы продолжаем нашу охоту за письмом.
В алфавитном перечне документов, связанных с арестом Христофора Колумба, я натыкаюсь на серию текстов о поселениях скандинавов в Северной Америке. Самые важные их них относятся к открытию, сделанному норвежской археологической четой Хельге и Анне Стине Ингстад на месте поселения викингов в Л’Анс-о-Медоуз на Ньюфаундленде. Ингстады доказали существование Винланда. Но тут же я читаю о довольно спорных рунических камнях, о каменной башне, которая напоминает круглые скандинавские церкви, о находке монеты времен Олафа Тихого неподалеку от поселения индейцев в Норумбеге.
[83] Уже в XVI веке картографы Абрахам Ортелий
[84] и Герард Меркатор знали, что Норумбега получила название от скандинавских колоний. Когда Джованни да Веррацано
[85] в 1524 году наносил на карту восточный берег Америки — от Флориды до Ньюфаундленда, — на землях, расположенных в районе Нью-Йорка, он написал название Норманвилла, то есть «Норвежская страна».
Таким образом, скандинавские искатели приключений начали осваивать земли вдоль восточного побережья Америки задолго до того, как Колумб отправился в Карибское море.
Лора и Миранда работают медленнее меня. Я только перелистываю страницы в надежде что-то найти, а они заносят каждый том в реестр. Они тщательно фиксируют всю доступную информацию о книгах и документах в специальной компьютерной программе.
В конце дня мы с Лорой едем на такси в гостиницу. У меня во рту такой вкус, словно я жевал газету. Чувство усталости и опустошения так велико, что я не решаюсь рассказать Лоре, что, как мне кажется, за мной следят. Она просто рассмеется. Дело, конечно, не в том, что я увижу кого-то, если обернусь. Они профессионалы. Но я знаю, что они рядом.
5
Мы находим письмо на третий день.
Пергамент лежит вместе с конвертом, адресованным «архиепископу Нидаросскому Эрику Валькендорфу в Королевстве Норвегия» между страницами 343-й и 344-й в испанской книге XVI века об открытии Америки.
Под символами
анха, тюр и
креста уже хорошо известная нам комбинация рун и букв. Я не сомневаюсь, что они написаны тем же самым орденом хранителей, которые кодировали тексты в норвежских деревянных церквах за 350 лет до того.
Я свистнул Лоре. Она бросает взгляд на пергамент. Открывает рот, но не произносит ни слова.
Долю секунды я думаю, не совершить ли кражу. Как бы там ни было, это послание примыкает ко всем другим находкам, которые мы сделали. Но я тут же отказываюсь от этой мысли. Даже у меня есть границы. Мне нужно
содержание, а не сам пергамент.
Цифровым фотоаппаратом я делаю несколько снимков пергамента и рунического кода, потом машу Миранде:
— Нашел.
—
Oh ту god![86] Пергамент?
— Да. Документ доказывает раз и навсегда, что потомки скандинавских викингов уже жили на Американском континенте, когда ветер пригнал сюда Колумба.
— Вы понимаете, что тут написано? — спрашивает Лора.
— Нет, ни слова.
С зарумянившимися щеками Миранда убегает, спрятав пергамент в картонную коробку.
6
«Все страхи происходят оттого, что мы любим», — сказал доминиканский монах Фома Аквинский. Лично я добавил бы: «Выше этого стоит лишь боязнь боли и страх внезапной смерти».
Когда мы с Лорой выходим из Библиотеки Конгресса, нас встречает сильный холодный порыв ветра. И тут сквозь летящую пыль я замечаю
их.
В жарких саваннах Африки олени развивают избирательное зрение, когда на них нападают львы. Сейчас я понимаю, что это такое. Я выделяю четверых. Четверых мужчин. Они медленно начинают движение в нашу сторону. Словно настроенные на определенную температуру ракеты, они движутся к своей цели. С четырех разных сторон.
— Быстрее! — говорю я Лоре, хотя мне трудно поспевать за ней.
Я крепко вцепился в костыли. Так у меня будет хоть что-то для отражения атаки.
Между нами десять-пятнадцать метров. Хассана среди них нет. Но все они огромные. И все арабы. Одеты в прекрасные костюмы.
— Лора…
Она замедляет ход.
— Беги, Лора! Беги!
Лора моргает:
— Знаешь что, Бьорн!
Я останавливаюсь, засовываю руку в карман. Пальцы обхватывают «тревожную кнопку».
Лора демонстративно смотрит по сторонам, чтобы убедиться самой и убедить меня, что мне все привиделось. Она говорит, что я смотрел слишком много боевиков.
Этих она вообще не видит.
В элегантных костюмах, белых рубашках с туго завязанными галстуками, они приближаются к нам, как невидимые хамелеоны.
Я нажимаю «тревожную кнопку».
— Беги! — шепчу я в последний раз.
— Не валяй дурака.
Расстояние между нами сокращается до пяти метров. Я еще крепче сжимаю костыли. Но отлично понимаю, что полые костыли из легкого металла представляют собой лишь жалкое подобие оружия.
— Брр, сыро! — говорит Лора и плотнее закутывается в плащ.
Только тогда, когда один из арабов вплотную подходит к нам со спрятанным оружием, до нее доходит, что даже параноик иногда бывает прав.
На ее лице застывает гримаса ужаса.
—
Please, — говорит подошедший с акцентом, который кажется плохой пародией на речь кинозлодеев, — идем с нами!
Сердце усиленно бьется, в ушах свистит.
Что они сделают, если я позову на помощь? Пристрелят?
Двое хватают меня под руки. Двое других держат Лору.
Внешне это никак не похоже на похищение.
Нас ведут к авеню Независимости. Я не понимаю, почему никто не обращает внимания на происходящее. Эти люди такие спокойные и так хорошо натренированы, что очевидцы происходящего думают, что присутствуют при тайном аресте. Если они вообще что-то замечают.
Большой черный фургон с тонированными стеклами резко тормозит рядом с нами. Лору и меня вталкивают на заднее сиденье. Двое садятся рядом с водителем, двое остаются около нас с Лорой.
Автомобиль набирает скорость.
Арабы не произносят ни слова, пока мы едем по центральным улицам.
Я пробую узнать, кто они. Чем они занимаются. Как будто у меня есть хоть малейшие сомнения. Но не получаю ответа. Они даже не просят меня замолчать.
Все замирают, когда полицейский автомобиль с громкой сиреной догоняет нас перед светофором. Но автомобиль мчится дальше по авеню.
Я весь дрожу. Лора прерывисто дышит.
Водитель зигзагами продвигается среди множества машин. Через некоторое время он резко поворачивает направо и въезжает в подземный гараж какой-то гостиницы.
Лору и меня подводят к лифту, который привозит нас к номеру 4344. Наш спутник вставляет карту в замок. На двери загорается зеленая лампочка. Мы входим.
7
В глубоком кресле сидит Хассан, он нас ждал.
Даже когда он сидит, он кажется огромным. И устрашающим.
Мои колени начинают дрожать. Бог знает что он может сделать, если он недоволен и нетерпелив.
Он смотрит на меня, как будто он мой лечащий врач, а пациент пришел не к назначенному времени.
Нас обыскивают. Найдя «тревожную кнопку», они отбрасывают ее на диван, даже не рассмотрев толком, полагая, что это мобильный телефон.
Лору ведут к дивану. Я пробую броситься к ней — в безумной попытке защитить ее, — но гангстер удерживает меня.
Лора сейчас заплачет. Испуганными глазами она смотрит на меня. Такими же испуганными глазами я сморю на нее.
— Миссис Кохерханс, — говорит Хассан, — я рад, что вы нашли время нанести нам визит.
Лора рыдает.
8
Номер люкс — самый большой из всех, какие мне доводилось видеть в жизни. Из гостиной ведут еще три двери в соседние помещения, все двери закрыты.
Два негодяя держат меня, третий берет мои костыли.
Они то ли ведут, то ли тащат меня в одну из соседних комнат.
Там сидит Стюарт Данхилл.
Стюарт одним взглядом отсылает горилл из комнаты.
Молчание.
— Спасибо за все, что было, Бьорн.
Он жестом приглашает меня к дивану и креслам у окна. Я прислоняю костыли к плюшевому креслу и грузно опускаюсь на диван.
— Простите, что я исчез, не попрощавшись. — Я пытаюсь говорить холодно и сухо. Но на слух моя речь, вероятно, воспринимается как плач. — Я не был уверен, что меня не ожидает участь Луиджи.
Стюарт опускает глаза:
— Поверь мне, я действительно любил Луиджи.
— И тем не менее вы убили его.
— Не я, Бьорн, не я. Я всего лишь маленькая золотая рыбка, плавающая среди больших акул. — Стюарт качает головой. — Луиджи… Он начал самовольничать. Стал жадным. Ты знаешь, как это бывает. Вел двойную игру. Между тем Луиджи прекрасно знал, чем это грозит. Знал, насколько рискованно раздражать шейха. Но он обнаглел — и проиграл. Тот фрагмент, который он пытался продать тебе, он уже раньше обещал шейху. Были и другие случаи, когда он обманывал шейха. Шейх потерял терпение. А тут ему стало известно, что Луиджи вел с тобой переговоры о цене на «Свитки Тингведлира».
— Вздор!
— Это знаешь ты. И это знаю я. Но шейх — человек
подозрительный.
— Значит, вы и впрямь работаете на него?
— На шейха Ибрагима?..
Ответ повисает в воздухе.
— В конце 1970-х годов только он и СИС поддержали меня. Никто не хотел сотрудничать со мной, публиковать мои работы, я был на краю катастрофы, и шейх Ибрагим спас меня. Вместе с СИС он помог мне получить место исследователя в Институте Шиммера.
Через тонкую занавеску я вижу за окном дом напротив и людей, которые работают в большом офисе.
Где же ФБР?
— Я стал эмигрантом в профессиональном смысле, — продолжает Стюарт. — Подвергшийся всеобщему осмеянию алкоголик случайно наткнулся на решение одной из крупнейших загадок истории археологии.
— Это было не так уж и случайно. Ты знал, что искал.
— БОльшая часть того, что я тебе рассказал, была правдой. Поверь мне. А кое-что я говорил, чтобы защитить тебя… от них.
— Расскажи о нем. Кто этот человек, который гоняется за мной?
— Шейх Ибрагим?.. Кое-кто видит в нем религиозного лидера, другие — философа. Фанатика. Никто его не знает. Он родом из Эмиратов, где у него огромные нефтяные месторождения. Он невероятно богат. И он очень сложный человек. Его интерес к древним рукописям объясняется не только манией коллекционирования и деньгами. Как мусульманин, он хочет доказать, что Мухаммед единственный пророк. Он убежден, что рано или поздно иудеи и христиане должны будут признать Мухаммеда не только как одного из пророков, но и как самого истинного из всех пророков. Шейх — живой парадокс. Глубоко религиозный и в то же время маниакально увлеченный властью и богатством. У него самое большое в мире частное собрание произведений древнего искусства. Его библиотека колоссальна. Он всегда все считает, он циник, но в то же время он пожертвовал не один миллион на благотворительность: на ветеринарные клиники в Канаде, детские школы в Сомали — всего не перечислишь. Он прекрасно разбирается в искусстве, начитанный, думающий человек. И в то же время он беспринципный руководитель финансовых структур, владеющий целым рядом международных компаний. Шейх беспощаден. Он не брезгует никакими средствами, чтобы достичь своей цели. И нанимает людей, которые, как он знает, пойдут на все.
— Убийц.
Стюарт задумчиво кивает:
— И тебя. И таких людей, как я.
— Что есть в его библиотеке?
— Шейх обладает уникальной коллекцией древних манускриптов. Ранние копии текстов Библии и Корана. У него есть один из оригиналов Песни песней царя Соломона. Соломон ведь тоже один из пророков ислама.
— А как он узнал о Снорри? О преподобном Магнусе? Обо мне?
— С самого начала 1970-х годов шейх прочесывал рынок коллекционеров в поисках легальных и нелегальных манускриптов, писем, пергаментов, карт и документов. Так он наткнулся на список 1543 года с так называемой Ватиканской копии письма Асима, которое он пытался переслать из Нормандии египетскому халифу, но которое было конфисковано Ватиканом и долгое время хранилось в его архиве.
— Другими словами, это был не тот манускрипт, который мы нашли в Тингведлире?
— Да, другой вариант. Шейху перевели этот текст, и он обезумел в желании найти оригинал. Когда в 1977 году он услышал про мои находки в Египте, то понял, что тут есть связь.
— О каком оригинале ты сейчас говоришь?
— Неужели ты все еще не понял? Асим копировал папирусные тексты, которые викинги украли в Египте из гробницы и увезли с собой.
— А «Свитки Тингведлира»?..
— …копия этих текстов на иврите и новый перевод их же на коптский язык.
— Преподобный Магнус ничего про это не знал.
— Верно. Но по невероятной случайности он завладел древнейшим документом — «Кодексом Снорри», содержащим в себе намек, ниточку, которые шейх искал в течение двадцати пяти лет. В кодексе есть карта и коды, благодаря которым и были обнаружены гробницы в монастыре Люсе и в пещере Тингведлира, где Снорри спрятал созданную Асимом копию с папирусных свитков.
— Магнус не знал, что нашел.
— Не знал в точности. Он не мог прочесть текст, расшифровать знаки и карты, но он знал достаточно, чтобы понимать, что на черном рынке этот кодекс стоит много миллионов долларов. Поэтому-то преподобный Магнус и вступил в контакт с нами.
— Я тебе не верю.
— Преподобному Магнусу нужны были деньги. Хорошо, может быть, не ему лично, а его церкви. На новый орган. Вот он и решил продать кодекс нам.
— Все равно я тебе не верю.
— На протяжении многих лет преподобный Магнус обнаружил довольно большое количество пергаментов и документов, которые он продал шейху. Ни один из них не имел особого исторического значения или денежной ценности. Как ты думаешь, откуда у священника могут быть деньги на покупку внедорожника «БМВ»?
— ?..
— Я не думаю, что он продавал что-то в целях личного обогащения, — продолжает Стюарт. — Хотя ему и нравилось ездить на красивой машине. В первую очередь он хотел раздобыть деньги на церковь, исследования, прихожан и на союз друзей Центра Снорри. А может быть, это было для него более увлекательно, чем передавать исторические артефакты в Институт исландских рукописей.
Я все еще молчу.
— Я узнал о преподобном Магнусе в конце девяностых годов. Мы участвовали в конгрессе, проходившем в Барселоне, с темой «Первый период распространения и значение каролингского минускула в средневековых манускриптах». Я полюбил его.
— Вы его убили!
— Через несколько месяцев он обратился ко мне. У него были пергаменты, и он спросил, не хочу ли я на них посмотреть. Вероятно, он знал, что я связан с шейхом. Так началось сотрудничество. — Он опускает глаза. — То, что случилось на этот раз и привело к кошмарному концу, объясняется его раскаянием. Он решил, что, продавая такое сокровище, как «Кодекс Снорри», заходит слишком далеко. И он передумал. И тогда он позвонил тебе. Ему нужна была помощь, он был в отчаянии. Когда ты приехал к нему в Рейкхольт, он уже отказался от продажи. Он аннулировал сделку.
— И все же он вас смертельно боялся.
— Преподобный Магнус очень хорошо знал, что мы ехали к нему. Знал, чего мы хотели. Он утверждал, что у него больше нет кодекса. Что ты увез его с собой в Институт древних рукописей.
— Поэтому вы его и убили?
— Он умер от инфаркта. Прочитай отчет о вскрытии!
— Но вы же держали его голову под водой, черт побери!
— Хассан очень рассердился. Это в его характере. У него были полномочия предлагать преподобному Магнусу большие суммы. Но священник отказывался. Хассану пришлось… надавить на него. Хассан весьма серьезно относится к своим обязанностям. Но все-таки он не убивал священника. Да, он пытался заставить преподобного Магнуса сказать, где спрятан кодекс, но он не убивал его. В прямом смысле. Тот умер у него на руках.
Я не реагирую на его попытки оправдаться. Ему не по себе. Наконец я спрашиваю:
— Как вы узнали, что мы с Трайном были в Тингведлире?
— Хассан держал тебя под наблюдением, пока ты жил в Центре Снорри. Но когда ты переехал в гостиницу в Рейкьявике, он потерял тебя из виду. Они стали тебя искать. Мы знали, что ты общаешься по этому делу с профессором Трайном Сигурдссоном. Тогда мы позвонили в институт и сказали, что его разыскивает коллега. Секретарша в институте сообщила, где вы находитесь.
— А как было в Норвегии? Вы хорошо знали, где я.
— Это совсем не трудно, если у вас достаточно людей. Многие подручные шейха раньше работали в спецслужбах. В их распоряжении было всевозможное оборудование. Инфракрасные камеры наблюдения. Техника слежения GPS. Приборы, определяющие местонахождение мобильного телефона. Проблема в том, что ты часто не брал с собой мобильный. И вообще делал неожиданные вещи. За тобой нелегко следить, Бьорн.
— Вы нашли меня в Ломе. А мобильного телефона у меня с собой не было.
— Он был у твоего коллеги Эйвина.
— Почему вы не нашли меня в Несоддене?
— Мы знали, что ты там был. Но мы не смогли установить дом, в котором ты находился. Техника не настолько совершенна.
— Значит, это вас я видел…
— За твоей машиной мы следили с помощью GPS…
— Эти передатчики я нашел!
— Мы знали, что ты будешь искать. Поэтому на «ситроен» мы поставили четыре передатчика. Два, которые, как мы предполагали, ты найдешь. И два, которые ты не найдешь никогда. Благодаря этому мы нашли тебя в Рингебу.
— Там вы убили священника и подожгли деревянную церковь.
Он вздыхает:
— Это еще одна нелепая случайность.
— Случайность?! Я там был! Я сам видел все происходящее, Стюарт!
— Шейховы богатыри туповаты. Такие вещи бывают. К сожалению. Шейх разозлился, когда узнал об этом.
— Перестань. Убийцы и есть убийцы.
— Им очень хорошо платят за грязную работу.
— Но никто из вас не нашел того, что нашел я.
— Ты обладаешь уникальным талантом, Бьорн. Шейх поражен твоими способностями. У него в распоряжении батальоны специалистов, но все они, вместе взятые, не смогли обнаружить в знаках определенной системы. Может быть, дело в том, что ты норвежец. А может быть, твой мозг устроен так, что видит систему там, где другие ее не замечают. Несомненно одно: ты обладаешь особым талантом.
Я не реагирую на неуклюжие попытки подольститься.
— Мы избрали новую тактику, когда ты приехал в Институт Шиммера. Мы знали, что ты придешь ко мне. Что ни говори, а я самый крупный в мире специалист по проблеме плавания викингов вверх по Нилу. Поэтому, вместо того чтобы посылать своих бандитов в Институт Шиммера, шейх отдал распоряжение, чтобы тобой занялся я. Рассказав тебе почти обо всем, что я знаю, я завоевал — во всяком случае, на какое-то время — твое доверие.
— Получается, что у шейха никого не было в институте?
— Был я. И еще парень, который наблюдал за тобой в комнате. Мы спрятали в лампе камеру и микрофон. Он должен был только контролировать тебя, выяснять, что ты знаешь. Кроме того, шейх платил нескольким ученым, которые анализировали артефакты, в частности скульптуру святого Лаврентия.
— В последний вечер вы сказали, что шейх послал людей в Институт Шиммера?
— Это был трюк. Я извиняюсь. Когда я делал вид, что мне позвонили из СИС, что люди шейха уже в пути, это было всего лишь сообщение, что из чистки принесли мои вещи. То, что ты случайно обнаружил скульптуру святого Лаврентия и доверился мне, я использовал, чтобы еще больше сблизиться с тобой.
Я делаю глубокий вздох и замираю. Каким надо быть простофилей! Его можно было разоблачить во время первой встречи!
— Вы отвезли меня в Египет. В гробницу храма Амона-Ра. В Забытую деревню. В Рим. К Луиджи. Зачем?
Стюарт встает. Потом садится. Если бы я не знал его лучше, я подумал бы, что его мучат угрызения совести.
— А затем, Бьорн, что я надеялся использовать твои дедуктивные способности, благодаря которым ты мог бы пролить новый свет на вопросы, которые по-прежнему остаются без ответа. Я был в тупике! Я сидел с осколками стекла, которые в любой момент могли превратиться в кубок. Но только ты мог помочь мне в этом. Я давал тебе информацию и надеялся с твоей помощью двигаться дальше.
— Но вы все время искали «Свитки Тингведлира»?
— Конечно.
— Что же такое важное для шейха содержится в манускрипте?
— Этого я не могу рассказать.
— Институт Шиммера. Египет. Рим. Именно вы все время следили за мной.
— Шейх послал бригаду агентов, которые помогали мне. Но ты все время был под моей опекой, Бьорн. И поверь мне — я никогда не хотел причинить тебе вреда. Я хотел только использовать твой талант. А то, что гориллы шейха убили Луиджи, было ошибкой.
— Ошибкой…
— Конечно, они должны были дождаться, пока мы с тобой не покинем Рим. После его убийства у нас начались проблемы. Мы поняли, что теряем контроль над ситуацией. Меня окружали все новые и новые охранники и полицейские. Нам пришлось резко уменьшить активность. Но когда СИС и Управление по охране памятников собрали лучших мировых специалистов, чтобы обследовать пещеру Святой Суннивы, мы воспользовались случаем и подослали троих своих людей. К сожалению, они оказались неумехами.
— А здесь, в США?
— Бьорн, пойми же… Ты был обложен со всех сторон не хуже любого агента ЦРУ, подозреваемого в измене! У шейха всюду есть люди. В Институте Шиммера. В СИС. В Управлении по охране памятников. Мы прекрасно знали, что Лора работает на тебя. К тому же мы знали, что хранители когда-то перевезли мумию и тексты из Исландии и Гренландии в Винланд.
— А теперь? Что теперь?
— «Свитки Тингведлира» сделают тебя невероятно богатым человеком.
— Невероятно богатым…
Я повторяю эти слова с оттенком иронии. У меня отношение к деньгам то же, что к женщинам. Я испытываю желание заполучить их только в фантазии.
— Сам подумай. Жизнь в роскоши. Вилла и плавательный бассейн. Спортивные автомобили. Отпуск на Французской Ривьере и островах Карибского моря. Лучшие вина. Самая вкусная еда. Прекрасные женщины.
Обыкновенный человек задумался бы. А я рассердился. Он считает, что я всерьез взвешиваю его предложение.
— Шейх готов заплатить тебе за «Свитки Тингведлира» десять миллионов долларов.
— Десять миллионов долларов. — Я пытаюсь оценить размер суммы. — Что может сделать текст таким непостижимо ценным?
— Десять миллионов долларов!
— Я не знаю, где он находится.
Это не совсем ложь, а только крохотное искажение правды.
— Пятнадцать миллионов долларов? Если говорить правду, то…
ФБР не стучит в дверь. Они вносят дверь вместе с собой.
Дверь в номер люкс с колоссальным грохотом взламывается бревном-тараном. Раздается взрыв шумовой гранаты. Стук бегущих сапог. Громкие голоса.
— ФБР! Всем на пол!
В Риме я видел, как полицейская группа захвата врывается в помещение. Тактика во всем мире одинаковая. Они появляются, когда их меньше всего ждут. Молниеносно. Не зная пощады. А когда появляются, то ругаются напропалую.
— На пол! Всем на пол!
Мы со Стюартом сидим не шевелясь.
Дверь в нашу комнату открывается ногой. Вваливаются трое вооруженных мужчин.
— ФБР! Всем лечь!
Это не приказ. Это предупреждение о молниеносной и скорой смерти, если мы не сделаем того, что они говорят.
Словно тающий снег, я выплываю из стула и оказываюсь на полу.
— ФБР! — кричат они. Как будто мы не в состоянии с первого раза понять приказ.
Стюарт поднимает руки:
— Позвольте, это недоразумение…
— На пол! Лечь!
Стюарт неохотно опускается со стула на пол. Как будто это ниже его достоинства. Он смотрит на меня. Словно это я предал его. Потом раскидывает руки и ноги.
— Все чисто! — кричит один из вошедших.
Комнату наводняют полицейские. У некоторых вид межпланетных боевиков, высадившихся из космического корабля. На других куртки с большими желтыми буквами «ФБР». У одних в руках автоматы, у других — базуки, у третьих — пистолеты. В самом конце появляются агенты в штатском.
— Господин Белтэ? — обращается ко мне один из агентов.
— Это я.
— Нам надо побеседовать.
9
Остаток дня мы с Лорой проводим в беседах в ФБР.
Упрятать Хассана, Стюарта и их людей в тюрьму за убийства, покушение на убийство и захват заложников, совершенные на территории других стран, не так-то просто. Но все они, кроме Стюарта, арабы. Мусульмане. И это повышает шансы упечь их за решетку.
— Они террористы, — повторяю я снова и снова.
Я не знаю в точности, что будет со Стюартом и его спутниками. Но я чувствую себя спокойно уже оттого, что в ближайшие дни их наверняка не выпустят.
Закончив все дела с полицейскими, мы с Лорой, пошатываясь, выходим на улицу и погружаемся в вашингтонскую ночь. Перекусываем в суши-баре и на такси едем в гостиницу.
10
На следующий день я покупаю новый мобильный телефон, который мы регистрируем на имя одного из друзей Лоры. Я сообщаю номер ограниченному числу людей, которым доверяю. Терье Лённ Эриксен — один из них.
Следующие сутки уходят у нас на попытки расшифровать найденное письмо.
Я послал Терье фотографии старого пергамента, над каждой страницей которого мы сидим, пытаясь использовать разные ключи и комбинации. Письмо с острова в Карибском море написано несколько сотен лет спустя после зашифрованного текста из церкви в Рингебу, но код тот же.
Первое и второе слово в каждой тройке закодированы по принципу Цезарь-7 и Цезарь-8, а третье написано наоборот.
Это письмо представляет невероятно большой интерес.
Обращаясь к архиепископу Валькендорфу, авторы благодарят за ответ на предыдущее письмо, — очевидно, они не знали, кто был епископом в Тронхейме, не знали, что хранители все еще жили на их родине. Они подтверждают, что епископ ответил, использовав верные символы, — надо полагать, это были
анх, тюр и
крест, — и выражают сожаление, что не писали очень долго, но они только сейчас нашли надежное пристанище в деревне под названием Санто-Доминго на острове Эспаньола, в наши дни этот остров делят между собой Доминиканская Республика и Гаити. Здесь они встретили некоего европейца, которого они называют Бартоломео Колон, так он писал свое имя по-испански. Его брата звали Кристобаль Колон, а мы все знаем его под именем Христофор Колумб.
Они пишут, что после резни в Гренландии группа хранителей отправилась в страну, расположенную на западе, за линией горизонта. Пятьдесят последних лет они передвигались все дальше и дальше на юг, охраняя сокровище. Из старинных скандинавских преданий они знали, что их встретит восточный ветер, который вернет их назад в Европу.
По многу лет они жили в скандинавских поселениях, расположившихся вдоль восточного побережья Америки, также они поддерживали контакты с обитавшими здесь скрелингами.
[87] Уходя все южнее, они оставляли за собой камни с руническими надписями. Хранители умирали от старости или в схватках с аборигенами. Некоторые решали остаться жить в скандинавских поселениях, другие уходили к скрелингам. Хотя у них и рождались дети, группа хранителей в конце концов сократилась до десяти мужчин, четырех женщин и пяти детей. Они сообщили архиепископу, что решили доставить мумию обратно в Египет, как этого желал Асим.
Мы с Лорой снова и снова перечитываем перевод письма. Где продолжить наши поиски?
Санто-Доминго — сегодня самый старый город Карибского бассейна. Огромный город с более чем двухмиллионным населением. Неужели они остановились здесь? Или же отправились на корабле обратно в Европу? И мумия все-таки попала в Ватикан?
11
Мы находим в библиотеке горы книг, рассказывающих об истории Санто-Доминго. Начинаем искать.
В середине дня я звоню профессору Ллилеворту в СИС, чтобы спросить, не может ли он нам чем-нибудь помочь. Мы долго говорим, высказывая самые разнообразные предположения. По его голосу я понимаю, что ему вдруг пришла в голову мысль, связанная с Санто-Доминго.
— Вы уже обратили внимание на дворец Мьерколес?
У меня вспыхивает искра надежды. Я слышал раньше о легендарном дворце Мьерколес, находящемся в Санто-Доминго.
— Эстебан Родригес, о котором я кое-что слышал, весьма эксцентричный аристократ. Выясняйте! — говорит Ллилеворт.
В книге 1954 года «Десять самых великих дворцов мира» Лора находит главу о дворце Мьерколес. Этот прекрасный дворец, которому более пятисот лет, представляет собой здание в стиле ренессанс, расположен в большом парке, находящемся на окраине исторического центра Санто-Доминго. Если верить местным преданиям, дворец построил сам Христофор Колумб, но это вряд ли является правдой, потому что строительство дворца началось, когда он уже умер. А вот его брат Бартоломео действительно принял участие в его возведении, когда под дворец был выделен участок в джунглях рядом с тогдашним центром города. Сегодня дворец Мьерколес, подобно оазису, расположен в центре многомиллионного города.
Книга кратко рассказывает, что Родригесы, которым принадлежит дворец Мьерколес, старательно холят и лелеют свое прошлое. Что этот европейский род последовал за братом Христофора Колумба, Бартоломео, во время одного из путешествий к только что открытым землям, а богатство Родригесов есть не что иное, как остатки исчезнувших сокровищ ордена тамплиеров. По другой версии, Родригесов подкупила испанская королева Изабелла, чтобы они не смогли поведать миру тайну ее происхождения. По третьей, деньги на строительство дворца Мьерколес дал английский король Генрих VIII, чтобы Родригесы жили подальше от Европы после какого-то скандала. Еще одна теория предполагает участие Леонардо да Винчи, который якобы уговорил миланскую династию Сфорца построить дворец в Санто-Доминго, чтобы и в Новом Свете появился уголок аристократизма. Но если говорить правду, никто не знает точно, откуда происходит семья Родригесов, которая в XVI веке прибыла в Санто-Доминго, построила дворец Мьерколес, въехала в него и захлопнула ворота с таким треском, что он до сих пор звучит в истории.
Miércoles.
По-испански слово
miércoles значит «среда». Это слово происходит от имени римского бога Меркурия, того бога, который на германских языках назывался Вотан, в скандинавских — Один. В английском языке есть слово
Wednesday — «среда», которое является производным от
Wēdnes doeg, а в скандинавских
onsdag — «среда» — производное от
Odins dag, «день Одина».
Дворец Мьерколес.
Дворец Среды.
Дворец Одина…
Лора показывает мне черно-белую фотографию герба, принадлежащего прячущемуся от людей аристократическому роду Родригесов.
В окружении драконов, львов и взмахивающих мечами серафимов видны три символа.
Анх, тюр и
крест.
ИНТЕРЛЮДИЯ
ИСТОРИЯ БАРДА (III)
Король Олаф сражался дерзко и отважно. Он нанес удар Торгейру из Квистада, прямо поперек лица, и носовой щиток шлема сломался, голова ниже глаз была почти насквозь разрублена.
Снорри
Ты из Барбело, царства бессмертных.
Евангелие от Иуды
Он поежился от сырого воздуха монастырской кельи и плотнее закутался в плащ. Обмакнул только что заточенное перо в чернила. Вечерами, после того как солнце заходило за горизонт, он садился и писал при бледном свете двух сальных свечей, которые монахи меняли каждое утро. Вонь от горевшего сала смешивалась с резким запахом чернил и ароматами рыбы или вареной капусты и баранины, доносившимися снизу, из кухни. Иногда он слышал смех монахов, который всегда заставлял его улыбнуться. А потом он закрывал глаза, когда монахи собирались на вечернюю молитву. В тумане, шедшем с моря, скрывались и глаза, и скалы, и океан за оконцем. По вечерам он особенно часто вспоминал чувства, которые охватывали его и других воинов на корабле, когда они после долгих лет странствий наконец видели…
Отрывки из истории Барда
…родные берега, поднимающиеся над туманом. Мы дома! Даже король Олаф тяжело задышал от радости. Единственным человеком, который не испытывал никакой радости при виде гор и фьордов, был Асим. Он молча стоял, погруженный в тяжелую думу, возле поручней и мрачно смотрел на приближающийся берег.
После возвращения король Олаф отправился на юг, потом на восток вдоль берега к Вику вместе с сотней самых верных воинов. Затем он, властелин морей, пешком пошел к дому детства, к матери и отчиму.
Многое говорят люди о том, как он крестил Норвегию. Но я, стоявший рядом с королем все эти годы, мало что признаю из того, что рассказывают. Правда та, что встретила короля-объединителя разделенная страна. Лоскутное одеяло — не государство. Оно состояло из множества независимых частей, во главе которых стояли самоуправные князьки и царьки. Прежде чем добиться христианизации страны, Олаф должен был подчинить ее. Никакие ангелы ему не помогали, как об этом потом говорили в юго-западных областях. Врата небесные не открывались, как думают на западе. Христос Всемогущий не стоял рядом с королем. О нет. Христианизация была тяжелой работой. С карающим мечом! Олаф сумел уговорить князьков, предводителей и богатых крестьян в Опланде. Там Олафа признали королем. Постепенно он приобрел власть также в Викене, Агдере, Трёнделаге и Иннтрёнделаге. Получив контроль над Южной и Центральной Норвегией, он заключил мир с королем Швеции и женился на одной из его дочерей. Была роскошная свадьба! Олаф, мой господин, стал теперь королем всей Норвегии. В стране, где он хотел утвердить христианство, языческая вера в асов еще долго жила бок о бок с верой в Христа. Мои соотечественники, надо признать, молятся тем богам, от которых больше всего пользы. Местные тинги во всей стране приняли решение, что норвежцы должны перейти к вере в Христа и Всемогущего Господа. Князья в большей или меньшей степени почти все обратились в новую веру. Если не в душе, то во всяком случае внешне. Христианство процветало вдоль берегов морей. Внутри страны, вдали от моря, крестьяне продолжали упорствовать. Они предпочитали иметь дело со своими скандинавскими богами.
Король Олаф был неутомимым миссионером. Может быть, это и стало причиной, что подданные восстали против него. Когда его соотечественники стали противиться Слову Божьему, в Олафе пробудился старый викинг. Он сжигал капища и усадьбы, издевался над противниками и убивал врагов. Все это во имя Христа. Вводить христианство в Норвегии значило вытеснить старую веру и старых богов силой и угрозами. Слова Иисуса о сострадании и любви к ближнему не вызывали отклика у наших неотесанных соотечественников. Я вполне их понимаю. Я сам молился тем богам, которых Олаф хотел изгнать. Если бы Господь и Христос показали себя более могущественными, чем Один, чем его асы и ваны, норвежцы дали бы себя крестить. Власть — вот этот язык король Олаф понимал. Силой Олаф вынудил норвежцев принять христианские законы. Во время поездок по стране Олаф заставлял крестьян жить по новым законам. Многие протестовали. Заповеди Христа противоречили старым обычаям. Сопротивление королю Олафу, враждебность к нему возрастали.
* * *
На Селье Асим основал монастырь, в котором собрал людей, охранявших мумию и сокровища, привезенные нами из царства пустыни. Раз в три года я навещал его на том острове, сообщал новости о короле и выслушивал рассказы о его жизни.
Все относились к Асиму с чувством глубокого уважения. Он был для нас не просто священником или монахом. Асим был волшебником, колдуном, астрологом, пророком, общавшимся с богами. В монастыре Асим обучал придворных короля астрономии и астрологии, географии и истории. Он периодически посылал экспедиции по Норвегии. При помощи астрономических наблюдений и измерений на земле он собирал сведения о суше и море, реках и горах и постепенно составил карту Норвегии. Используя эту карту, люди короля могли теперь совершать поездки по королевству быстрее и надежнее, чем раньше.
Асим был человеком привычки. Каждое утро, когда поднималось солнце, он выходил на площадку перед гротом и смотрел на море. Монахи говорили, что он, скорее всего, ждет кого-то, кто когда-нибудь прибудет морским путем.
* * *
Враги Олафа объединились вокруг Кнута Могучего, короля Дании и Англии, который приплыл в Норвегию со всем своим флотом. Впечатляющее зрелище: надутые паруса и внушающие ужас головы драконов. Никто не осмелился поднять оружие на короля датчан. Напротив. Людям надоели угрозы и притеснения Олафа. Христианский король оскорбил многих своих гордых подданных. А Кнут, в отличие от него, обещал знатным людям власть, свободу и богатство. А своим главным союзникам дал много денег. Даже военачальники изменили Олафу.
Король впал в отчаяние. Дело его жизни терпело крах. Христианизация Норвегии стала совсем не триумфальной поездкой с Божественным ореолом. Король Олаф чувствовал себя брошенной собакой, когда пустился в бегство на восток. Он — король Норвегии! Викинг! Воин, который не раз смотрел опасности в глаза. Посланец Господа! Он бежал от могущественного короля Кнута и рассерженных крестьян.
Я тоже был с ним, когда король и его свита на конях мчались на восток через обширные леса. У короля Швеции Анунда он оставил жену Астрид и дочь. Дальше отправился сначала верхом, потом на корабле и оказался в стране Гардарике, в городе Новгороде, у великого князя Ярослава.
На тинге знатные люди провозгласили Кнута новым королем Норвегии. Хакон Эйрикссон стал его ярлом в Норвегии. Олаф был безутешен. Великий князь Ярослав предложил Олафу титул короля Булгарии. Король отказался. Он хотел только одного: вернуть себе полученное по наследству королевство — Норвегию.
Летом 1030 года Олаф получил радостное известие — ярл Хакон утонул во время кораблекрушения. Норвегия осталась без властителя! Обрадованный Олаф немедленно отправился в Норвегию. По дороге он с грехом пополам набрал войско из воинов, которых одолжил ему шведский король, часть шла по приказу, часть — по доброй воле. Позже к нам присоединился сводный брат Олафа, Харальд, со своими людьми. Мы ехали по дремучим лесам, пустыням и безбрежным водам. В некоторых местах мы разделялись, в другие въезжали вместе. По дороге мы узнали, что разведчики уже сообщили местному населению о возвращении их старого короля. Зажиточные крестьяне были лояльны к королю Кнуту и собрали внушительное войско. В основном оно состояло их жителей Иннтрёнделага, но были там знатные люди и богатые крестьяне из Западной и Северной Норвегии. Некоторые хотели отомстить Олафу за его жестокость, поддержка других была куплена королем Кнутом.
* * *
Уверенный в скорой победе, король Олаф гордо восседал на коне, въезжая в Вердален, в Северном Трёнделаге.
Июльское солнце припекало, мы были поблизости от Стиклестада. Нас было полторы тысячи человек. По небу лениво плыли облака, птички, пух от растений. Вдоль дороги на своих полях с лопатами и вилами стояли крестьяне и тяжелыми взглядами провожали нас. Подбежавшие к дороге дети смотрели на нас с испугом. Коровы мычали, обратив в нашу сторону пустой взгляд, свиньи хрюкали, куры хлопали крыльями и кудахтали, собаки рычали и тявкали.
На равнине под Стиклестадом два войска вступили в бой. Олаф привел свое войско на подковообразный холм, откуда было удобно наблюдать за противником, который подходил группами. К северу от нас находилось болото. На юге текла река, а справа напасть на нас противнику мешал овраг. Если они захотят начать атаку, им придется подниматься вверх по холму высотой пятнадцать метров, на котором Олаф собрал своих воинов.
Я ехал верхом рядом с королем и сказал ему с испугом: «Кажется, у врага воинов вдвое больше, чем у нас! Наш союзник Даг Рингссон еще не привел свою тысячу воинов, которая нам так нужна». Но король невозмутимо улыбнулся и ответил: «Господь и судьба на нашей стороне». Внизу на равнине тысячи воинов стали занимать позиции. Разведчики доложили, что у подножия холма самое малое пять тысяч человек: крестьяне, хавдинги и военачальники, которые повернули оружие против Олафа. Я крепко сжал рукоять меча. Если бы не удивительные способности и уверенность в себе короля, я думал бы только о том, что у противника большой перевес.
«Ты был мне хорошим оруженосцем и верным другом, Бард», — сказал король. Как сейчас, я вижу его в кольчуге и шлеме, в руках меч и боевой топор, белый щит с золотым крестом Христа. Орлиный взгляд. Я сказал: «Спасибо, великий король». Король кивнул и немного погодя произнес: «Помнишь, однажды, когда мы были в Карлсо, я рассказал тебе мой сон, как человек с горящим взором сказал мне, что я вернусь в Норвегию и стану королем?» Я кивнул и ответил, что помню. Король Олаф нахмурил лоб и сказал: «Когда недавно я спал на коленях у Финна Арнессона, мне приснилась лестница, которая привела меня прямо на небеса. А у ворот рая ждал человек с горящим взором». Король вопросительно посмотрел на меня. Я сказал, что такой сон можно истолковать как весьма дурной знак. Король засмеялся. «Вовсе нет, Бард! — сказал он. — Это предсказание!»
Олаф собрал самых сильных, самых храбрых своих воинов и нескольких испуганных скальдов, поставил их так, что образовалась стена из щитов. Впереди он поместил берсерков и грабителей, которые не прошли военной подготовки, но зато были необузданными и жаждали крови. Вокруг себя Олаф поставил шведских воинов, которых ему одолжил король Анунд Якоб, воинов, которые прибыли от великого князя Ярослава, и тех, кто пришел со сводным братом короля — пятнадцатилетним Харальдом из Опланда.
С возвышения мы ринулись с громким боевым кличем на ждавших внизу крестьян. Мне показалось, что уже начался Рагнарок.
[88] Бороться рядом с моим королем было совсем не страшно. Но при огромном перевесе сил противника единственное, что мы могли сделать, так это отсрочить совершенно неизбежное: смерть нашего короля.
Битва была жестокая, кровь лилась рекой. Мы с такой скоростью спустились по склону, что буквально ворвались в войско крестьян. Некоторые из них тут же побежали, другие стали сражаться. У одних в руках были пики, у других — боевые топоры и мечи. Тучи острых стрел неслись по воздуху. Кто-то бросал пики, кто-то камни. Раздавались вопли и крики у кого-то от приступа ярости, а у кого-то от боли и страха перед неминуемой смертью. Поле было залито кровью. Вонь от вывалившихся внутренностей стояла над полем смерти. Группа вокруг короля становилась все меньше. Я сражался с яростью, которой не чувствовал с тех пор, как мы с Олафом в первый раз отправились в поход викингов. Мне показалось, что только я один смогу спасти от смерти короля Олафа. Тор мужественно нес стяг короля перед ним во время битвы. Когда он был смертельно ранен, то с такой силой воткнул стяг в землю, что тот так и остался стоять. Вокруг брызгала кровь из открытых ран. Воины сражались кроваво-красными мечами и топорами. Один парень из Квистада, по имени Торгейр, напал на короля. Олаф рассек его голову пополам ниже глаз. Группа воинов — Кальв Арнессон, еще один Кальв, еще Олаф и Торе, по прозвищу Пес, — окружила короля. Олаф ударил по Торе Псу, но меч отскочил. Король несколько раз пытался ударить по Торе, но меч не повиновался. Разъяренный король обернулся к Бьорну Конюшему и приказал ударить. Бьорн взмахнул топором и ударил Торе по плечу. Торе закачался. И тут же поддел Бьорна на копье. Тем временем Кальв повернулся и сделал выпад в сторону Олафа. Меч проткнул тело. Король застонал. Даже я закричал, словно удар пришелся по мне. В этот момент подскочил Торстейн Корабел со своим топором и ударил Олафа по ноге, прямо над левым коленом. Король прислонился к камню и обратил взгляд на синее небо. Пальцы короля сжимали золотую рукоять острого меча. Он произнес, не разжимая губ, молитву, только видно было, как слегка шевелились его губы. Позолоченный шлем и кольчуга сверкали на солнце. Кровь лилась из раны на ноге, он прижал руку к ране. Между пальцами показалась кровь. «Король! Держись!» — крикнул я, а сам я сражался с парнишкой, у которого из плеча лилась кровь. Тут подскочил Торе Пес, старинный враг короля. «Олаф!» — прорычал он и выставил вперед копье, как будто ему вдруг захотелось познакомить оружие с его будущей жертвой. Без всякой жалости Торе Пес воткнул копье снизу под кольчугу и глубоко погрузил в живот короля. Мой противник и я одновременно опустили мечи. «Мой король!» — прошептал я, но шум от сотен, какое там, тысяч сражающихся воинов заглушал все. Олаф захрипел. Горлом пошла кровь, от боли он застонал. И по сей день меня мучат воспоминания о последних минутах короля Олафа. Он тяжело дышал. Кровь булькала при каждом его вздохе. Король посмотрел на меня. Мне показалось, что это была мужественная улыбка. Человек по имени Кальв встал над королем. Поднял меч. На секунду я увидел сверкнувшее лезвие. Меч попал королю в шею с левой стороны. Рана была смертельной. Из нее полилась кровь. В отчаянии я опустился на колени. Стаи воронов и ворон собрались на деревьях. Казалось, что шум битвы стих, я стал слышать хриплые крики голодных птиц. Король встретился со мной взглядом. Кивнул мне. С его губ сорвались хлюпающие звуки.
Вот так в битве под Стиклестадом умер мой повелитель, король викингов Олаф Харальдссон, — человек, которого мы все знаем под именем
Óláfr hinn helgi — Олаф Святой.
Он отвел перо от пергамента в своей келье в каменном монастыре. Закрыл крышку чернильницы и свернул листы пергамента. С глубоким вздохом откинулся назад.
Сорок лет прошло с того солнечного дня в Стиклестаде, когда умер король. И все равно он помнил каждую минуту с ясностью, которой ему так не хватало сейчас в старости. Июльское солнце, полыхавшее на небе, запахи крови и внутренностей, которые смешивались с ароматом полей, цветущих лугов и лесов, крики умирающих и восклицания тех, кто храбро сражался.
За окном чайки воевали с ветром. Волны тяжело бились о скалы.
«Вечное биение моря, — подумал он. — Его соленое дыхание».
* * *
Монахи нашли его после вечерней молитвы. Он лежал на топчане, сложив руки на животе, на лице улыбка. Они сразу поняли, что старый викинг умер.
Аббат, который тоже поклялся в верности старому египтянину Асиму, немедленно отправил посланца в Нидарос, чтобы сообщить об этой смерти главе братства.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ПОСЛЕДНИЙ ХРАНИТЕЛЬ
И сделали так Моисей и Аарон, как повелел Господь: поднял он посох, и ударил по нильской воде, пред глазами фараона и пред глазами придворных его, и превратилась вся вода, что в Ниле, в кровь.
Исход. Вторая книга Моисеева
Sufficientia Scripturae Sacrae
(Достаточность священных книг)
ДВОРЕЦ МЬЕРКОЛЕС
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
1
Жизнь полна звуков.
Снизу с улицы через закрытое окно доносится далекий монотонный шум от проезжающих автомобилей. Жужжит кондиционер. Где-то раскрывается дверь. Звучит смех. Дверь лифта говорит:
дзинь.
Я сижу на краю кровати в номере гостиницы, рядом разбросаны путеводители и карты. Гостиница не из дешевых, но это не я плачу за нее.
Я послал Лоре эсэмэску, что доехал. Она выполнила свое задание. Может быть, мне и хотелось бы, чтобы она тоже приехала в Санто-Доминго, но СИС счел для нее Лондон более надежным местом.
А мной можно и пожертвовать.
Стюарт, Хассан и его бандиты сидят за решеткой, пишет Лора. ФБР предъявит им обвинение в похищении людей а может быть, еще и в терроризме.
2
От гостиницы я еду на такси во дворец Мьерколес, расположенный практически в самом историческом центре города, по соседству с кафедральным собором Примада-де-Америка.
Дворец окружен таким большим парком, что среди вековых деревьев с трудом можно различить его очертания. То тут, то там виднеются пруды со сводами каменных мостов. Парк окружен четырехметровой решеткой из кованого железа, перемежающейся искусно выложенными из кирпича колоннами с фризами, украшенными барельефами на библейские мотивы.
Дворец Мьерколес начали строить в начале XVI века, но закончили лишь спустя четыреста лет. Если верить путеводителю, который я купил в аэропорту, дворец Мьерколес и парк послужили образцом, по которому создавался проект Версаля.
Сегодня во дворце Мьерколес хозяйничает Эстебан Родригес. Избегающий публичного внимания филантроп, который иногда упоминается в связи с событиями из жизни королевских особ Европы в качестве друга того или иного короля или князя, но который в основном прячется от огней рампы. Его семья финансирует больницы, храмы и школы в странах третьего мира через практически никому не известный фонд «Мьерколес», имеющий штаб-квартиру в Вашингтоне. Эстебан Родригес женат на Софии Гольдсмит, которая до встречи с Родригесом в 1958 году была восходящей кинозвездой в США. У них родились дети: Хавьер в 1964-м и Грасиэла в 1968 году.
На своих костылях я с трудом пробираюсь вдоль грандиозной ограды, чтобы попасть к главным воротам; они закрыты, за ними прохаживаются вооруженные охранники в нелепой форме. Я ищу звонок или переговорное устройство. Но похоже, что обитатели дворца Мьерколес не особенно любят пускать к себе торговцев, туристов или миссионеров. Я делаю попытку докричаться до охранника, но он привык игнорировать любопытных.
В конце концов я сдаюсь и отправляюсь назад в гостиницу.
Вечером я пишу от руки письмо на толстой гостиничной бумаге с водяными знаками и адресую его Эстебану Родригесу. Я рассказываю о себе, о моем поручении и всемилостивейше прошу разрешения встретиться с ним. Вероятно, лучше было бы попросить об аудиенции.
Я отдаю конверт портье и прошу направить его с посыльным во дворец Мьерколес. Вышколенный портье поднимает на пару миллиметров бровь и говорит:
— Конечно, сэр, незамедлительно.
3
Рано утром на следующий день меня будит стук в дверь.
Я надеваю на нос очки. Восемь часов. Натягиваю брюки и открываю дверь.
В коридоре трое. Я узнаю портье. За ним два брюнета лет тридцати с небольшим, в безупречных ручного пошива костюмах.
— Мистер Белтэ, — взволнованно говорит портье, — эти господа из дворца Мьерколес.
Господа делают легкий поклон. Один протягивает мне листок. Вверху герб рода Родригесов, отпечатанный золотом. Текст написан от руки:
Дорогой господин Белтэ,
надеюсь, что не буду слишком невежлив, если обращусь к Вам с приглашением позавтракать вместе со мной во дворце. Я посылаю двух верных мне людей, которые доставят Вас во дворец, избавив тем самым от сложностей, связанных с самостоятельным передвижением по городу в утренний час.
Преданный Вам,
Эстебан Родригес
У гостиницы меня ждет черный блестящий лимузин. Окна тонированные. Светлый кожаный салон.
Лимузин тут же пускается в путь, едва я опускаюсь на сиденье, и нарушает одно за другим все правила дорожного движения, какие только существуют в Доминиканской Республике. В результате мы уже через четверть часа подъезжаем к дворцу Мьерколес. Ворота открываются. Мы мчимся мимо охранников. За нами закрываются кованые ворота, которые изолируют нас от всего остального мира.
Мы едем по широкой грунтовой дороге через парк. В одном из прудов под кронами деревьев плавают четыре лебедя. Где-то вдали в парке я замечаю всадников на чистокровных лошадях.
Затем мы покидаем тенистую часть парка, и я наконец получаю возможность оценить
дворец Мьерколес.
Есть люди, которые утверждают, что если ты увидел один дворец, то ты увидел их все. Но я немею, глядя на дворец Мьерколес. Размер и украшения заставляют меня в очередной раз удивиться, кто были эти Родригесы, которые построили дворец пятьсот лет тому назад.
Пятеро лакеев в ливреях ждут, когда лимузин подкатит к лестнице шириной пятьдесят метров, ведущей на большую гранитную террасу перед главным входом. Меня приветствуют поклонами и провожают во дворец.
Холл высотой в три этажа, лестница такой ширины, что я лихорадочно думаю, где нашли такое количество мрамора. Меня ведут на второй этаж дворца мимо больших картин, рядов колонн по бесконечным коридорам и анфиладам. Наконец мы останавливаемся перед четырехметровой двустворчатой дверью, и лакеи с поклоном приглашают меня войти в зал.
Дверь за мной закрывается.
В середине зала накрытый для завтрака стол. Стол кажется очень маленьким в этом огромном зале.
На потолке роспись на религиозные сюжеты, обрамленная позолоченным орнаментом. На стенах зеркала тоже в позолоченных рамах. В конце зала за двумя французскими окнами выход на террасу.
Я медленно вхожу в зал. Открывается дверь. Я не слышу этого, но по щеке подул ветерок.
4
Он остановился на красной дорожке и смотрит на меня. Улыбается. Я изумлен. Мы стоим и рассматриваем друг друга.
Я встречал его раньше.
У Луиджи в мужском клубе в Риме.
Эстебан Родригес — это тот изысканный длинноволосый джентльмен, который долго держал мою руку.
— Вы? — спрашиваю я.
Его улыбка похожа на рану на лице.
— Я встречал вас в Риме, — говорю я больше для того, чтобы нарушить паузу, пока он идет ко мне.
Как и в прошлый раз, мы пожимаем руки. Как и в прошлый раз, он смотрит мне в глаза.
Эстебан Родригес зачесал волосы за уши, у него узкое, острое лицо. Он напоминает одного из кинематографических героев 1940-х годов, имя которого я не могу припомнить. Одет он так, словно ждет не дождется приглашения на ужин к Великому Гэтсби.
[89]
— Я давно наблюдаю за вами, — звучит его приятный баритон. По-английски он говорит с легким намеком на испанский акцент. — Вы — упорная бойцовая собака. Терьер. Питбуль. Вцепляетесь зубами и не отпускаете.
Он щелкает пальцами. Мгновенно материализуется служанка с двумя бокалами коньяка на подносе.
— День начинается хорошо, — говорит он.
Мы поднимаем бокалы. Коньяк, пощекотав горло, уютно обустраивается в желудке.
Он продолжает крутить бокал и вдыхать букет коньяка. Узкие ноздри вибрируют.
— А кто вы? — спрашиваю я. — Кем, собственно, являетесь вы?
— Кто я?.. — говорит он с игривой, наполовину вопросительной интонацией. — Большинство людей знает своих предков на четыре-пять поколений назад. Сколько человек знают о своих прапрадедах? Любители генеалогии могут проследить своих предков на несколько сот лет назад. Может быть, до XVI века. Самая старая церковная книга Норвегии относится к 1623 году. А у меня в библиотеке есть генеалогия, в которой я поименно могу назвать всех членов моего рода до 930 года.
— В Норвегии?
— Ну конечно.
Я долго смотрю на него. В моей голове постепенно выкристаллизовывается некая мысль.
За огромными окнами по деревьям гуляет бриз. Листья вздымаются вверх.
— Я родился здесь, во дворце, на четвертом этаже, в период между двумя мировыми войнами. Моя мать была кубинской аристократкой, общепризнанной красавицей и замечательной певицей. Мой отец увидел ее на одном балу и через курьера послал ей приглашение на завтрак. Конечно, она пришла. Никто не может отказаться от приглашения во дворец Мьерколес. Отец был блондином, с бледной кожей и голубыми глазами. У матери же были карие глаза, черные как уголь волосы и золотистого цвета кожа. Меня всегда удивляло, что гены отца победили гены матери. Но так всегда бывало в нашем роду. Есть в нас какое-то упрямство.
— Вы — хранитель, — говорю я.
Он медленно допивает остатки коньяка и закрывает глаза, вдыхая свежий воздух.
— Вы — последний хранитель!
— Я позволил себе вольность и рассчитался за вас в гостинице. Ваши вещи уже во дворце. Для вас приготовлена комната в гостевом крыле. Надеюсь, вы примете мое приглашение?
— Никто не может отказаться от приглашения во дворец Мьерколес.
Мы садимся за стол в центре зала. В ту же секунду появляется армия официантов с горячим хлебом, вареньем, яичницей и сыром. После того как мы поели и выпили только что выжатый апельсиновый сок, он показывает мне дорогу по длинным коридорам в комнату, которая по размеру больше, чем вся моя квартира в Грефсене. В середине комнаты на полу стоит мой чемодан. Между окнами большая кровать с балдахином, вероятно, она очень подошла бы для оргии, которую я, впрочем, могу вообразить себе только в фантазии. В комнате два салонных уголка в стиле Людовика XVI, ванная и туалетная комнаты, а также гардеробная. Тяжелые занавеси закрывают окна, выходящие в парк. У одной стены шкаф со стеклянными дверцами, заполненный книгами.
Я посылаю эсэмэску профессору Ллилеворту о моем местонахождении. Ответ по какой-то причине приходит с мобильника Дианы:
Дворец Мьерколес? Wow! Lucky you! Wish I was there![90]
Через несколько минут приходит ответ и от самого профессора Ллилеворта:
Тебе повезло. Не многих впустили во дворец Мьерколес. Передай привет Эстебану. Он один из постоянных спонсоров СИС.
5
После того как я вынимаю свои вещи и принимаю душ, Эстебан Родригес устраивает мне экскурсию по дворцу.
— Грэм Ллилеворт просил передать вам привет.
— А, профессор! Я подбрасывал СИС кое-какую мелочишку. Приятный джентльмен!
Несколько часов мы ходим по залам, маленьким и большим салонам и комнатам, разукрашенным спальням и будуарам. Все это соединяется лабиринтом из длинных, переходящих друг в друга коридоров и анфилад комнат. Периодически я останавливаюсь и сажусь. Костыли натирают руки, уже появились мозоли.
В одном месте мы слышим звуки предсмертной агонии, исходящей от кларнета.
— Приношу свои извинения, — говорит Эстебан, — сын горничной моей жены записался в самодеятельный оркестр.
Два расположенных рядом бальных зала, каждый из которых размером с концертный зал, пышно декорированы. Мы проходим через музыкальные комнаты с роялями «Стейнвей», пианино, клавикордами, органом «Хаммонд-В3» и позолоченной арфой. На стульчике перед пианино подремывает кошка, она приоткрывает глаза и с большим презрением смотрит на нас, словно она царица мира.
Но самое невероятное ждет нас в конце экскурсии. Это библиотека.
Библиотека дворца Мьерколес занимает все западное крыло дворцового комплекса. Она содержит не только тысячи книг эпохи Возрождения, барокко и романтизма, но также и тысячи рукописей, имеющих отношение к открытию европейцами Америки и последующей ее колонизации, начиная с XVI века. Эстебан Родригес показывает мне письма, написанные самим Христофором Колумбом и адресованные королеве Изабелле, духовным владыкам и аристократам.
— Идите сюда, — говорит он и подводит меня к одной витрине.
Под прочным стеклом я вижу пергамент, с годами кожа стала темно-коричневой.
— Это письмо, написанное одним из оставшихся в живых после резни в Гренландии. Его должны были доставить с группой охотников из Ньюфаундленда в Исландию, но посланец был убит индейцами, и письмо со временем оказалось в распоряжении одной семьи переселенцев из Европы. В письме рассказывается о бегстве из Гренландии, когда братство хранителей решило, что Ватикан выследил их и что судно, посланное папой римским, приближается к колонии.
Я медленно читаю текст на древненорвежском языке:
— «Мы пытались спасти священное сокровище в стране, находящейся на западе за линией горизонта».
— …в стране, находящейся на западе за линией горизонта, — повторяет он едва слышно.
— В США…
— Как знать. Не забудьте, что это происходило в середине XV века. Тогда не существовали ни США, ни Канада. Люди, пустившиеся в бегство с восточного берега Гренландии, шли по стопам Лейва Эйрикссона и скандинавских викингов. Они обогнули южную оконечность Гренландии, поплыли дальше вдоль ее западного побережья, пересекли Девисов пролив, подошли к Баффиновой Земле, продолжили путь к тому, что мы сегодня называем Лабрадор, Новая Шотландия, Мэн и Нью-Хэмпшир. Это Винланд…
Мы молча рассматриваем пергамент, мысленно представляя себе полное опасностей плавание в ледяных водах.
Далеко-далеко, почти неслышно жалуется кларнет.
— Бьорн, вы что-то нашли в Исландии.
Я настораживаюсь.
Он кладет мне на плечо руку:
— Это манускрипт — вы его прочли?
— Нет.
— Дайте я попробую угадать. Это был текст на иврите с переводом на коптский язык?
— Вы отлично угадываете.
— Вы не можете представить себе значение этого манускрипта.
— Три убийства. Одна сломанная нога и один сломанный палец. Упоминались пятнадцать миллионов долларов. Так что могу.
— Где он находится?
— Мы заняты его переводом.
— Но
где?
Сила, с которой он задает вопрос, убеждает меня, что ответа на вопрос он не знает.
— В надежном месте, — говорю я.
6
— Первый камень дворца Мьерколес заложил Бартоломео Колумб.
Близится вечер. Эстебан Родригес сидит, откинувшись, в плетеном кресле на одной из террас, выходящих в парк. Раскуривает сигару. Легкий ветерок сдувает с кончика сигары несколько крупинок пепла. Воздух пропитан ароматом мимозы. В потоках морского бриза парит крачка. Садовник включил поливальную установку, которая разбрызгивает благословенную влагу.
— Именно здесь, в Санто-Доминго, обосновались испанские колонизаторы, когда Христофор Колумб впервые прибыл в Америку.
— Если верить слухам, ваши предки прибыли сюда одновременно с ним.
— Вы заметили, что между этими событиями есть связь.
— Вы — последний хранитель!
Он делает затяжку.
— Санто-Доминго стал первым местом, где поселились европейцы в Новом Свете, если не считать более древних скандинавских поселений в Северной Америке. До сих пор историки увлечены спорами, к какому именно острову Колумб подошел сначала в 1497 году. Многие до сих пор отказываются признать тот факт, что Колумб знал о плаваниях викингов в Винланд.
— Вы имеете в виду его визиты в Исландию и Гренландию в 1477 году?
— Колумб и другие мореплаватели слышали рассказы тамошних рыбаков и охотников, которые поведали им о землях, находящихся на западе. Колумб думал, что они рассказывали об Азии, а не о неизвестном континенте.
— Хорошенькое недоразумение.
— Проблема в том, что он неправильно оценил размер земного шара. Колумб уже знал, как и все мореплаватели, что земля круглая. Однако он полагался на расчеты финикийского географа Маринуса из Тюра и считал градусы более короткими, чем они есть. А главное, он использовал итальянские меры длины, так что в миле получалось 1238 вместо 1830 метров, если использовать арабские меры. При таком неправильном подсчете у Колумба получилось, что окружность Земли равна примерно 25000 километров. Расстояние от Канарских островов до Японии у него равно 3700 километрам. В действительности же между ними 20000 километров. Его критики боялись не того, что корабли провалятся в бездну на краю земли, а того, что моряки умрут от голода и жажды задолго до прибытия в Азию.
— Вот так Америка воспрепятствовала путешествию моряков прямо в объятия смерти.
— А Колумб вернулся в Европу с триумфом. В полном убеждении, что сплавал в Азию. Только во время своего третьего плавания в 1498 году он вступил на Южно-Американский континент. В Северной Америке он не был никогда. В 1504 году Колумб вернулся в Европу и спустя два года умер в Валладолиде, в Испании.
— Я читал, что недавно нашли его могилу.
— Сначала Колумба похоронили в Валладолиде, потом перенесли останки в Севилью, а еще позже перевезли через море и захоронили в соборе Санто-Доминго. В 1795 году французы перевезли его останки в Гавану, а в 1898 вернули в собор в Севилью. В 1877 году здесь, в Санто-Доминго, нашли саркофаг с надписью
Дон Христофор Колумб. Таким образом историки пришли к выводу, что все это время перевозили останки другого человека.
— Так где же Колумб похоронен?
— Ошибались все. Он похоронен здесь. Во дворце Мьерколес.
У меня перехватило дыхание.
— Так хотели его родственники. Они договорились с королевским двором. Останки Колумба были опущены в могилу в парке дворца Мьерколес в 1569 году. А останки, которые все принимали за останки Колумба, принадлежали в действительности его сыну Диего.
— Я не вижу связи между Колумбом и хранителями.
Эстебан щелкает по сигаре, пепел тонкой пылью разлетается по полу. Ветерок колышет седую прядь волос, и он заправляет ее за ухо.
— Это длинная история, — говорит он наконец, — история, которой сотни, да нет, тысяча лет.
И он начинает рассказывать.
ИСТОРИЯ ХРАНИТЕЛЕЙ
1
Эстебан Родригес складывает кончики пальцев:
— Чтобы понять историю хранителей, надо прежде всего понять сущность египетского жреца Асима. Он был знатоком многих наук и религиозных верований. Он обучал ближних — сначала в Египте, потом в Норвегии — религиозным учениям, мифологии и магии. Учил читать по звездам. Предвидеть будущее. Говорить с умершими. Писать закодированные сообщения, использовать тайные знаки. Создавать карты. Истолковывать сны. Находить в природе священные геометрические фигуры. Асим был идеальным мистиком.
Эстебан откидывает голову и закрывает глаза. Потом внезапно наклоняется вперед и начинает буравить меня взглядом, так что я вздрагиваю.
— Асим объединял в себе такие черты, которые мы на Западе считаем несоединимыми. Будучи жрецом, он поклонялся старым египетским богам. Но Амон-Ра был, видимо, очень терпимым богом, потому что Асим поклонялся также Аврааму и Моисею, Иисусу и Мухаммеду. Он был астрологом и практиковал оккультное колдовство и магию. При этом он был очень начитан, говорил на многих языках и был знаком со многими науками своего времени. Он был человеком просвещенным и умным. А посвятил он свою жизнь одной-единственной цели: охранять гробницу со священной мумией, сокровищами и текстами, которые покойный унес с собой в могилу. Этой мумии ко времени жизни Асима уже было две с половиной тысячи лет, то есть больше, чем было бы останкам Иисуса, если бы они существовали сегодня. Поэтому, когда викинги завоевали храм и захватили все, что там было, они не просто надругались над верой Асима — они лишили его самой главной цели в жизни. Асим был готов пожертвовать жизнью ради мумии. Но когда он увидел, что пришельцев не одолеть, он решил отправиться вместе с вражеской армией, тогда он смог бы оберегать святыню, со временем вернуть ее вместе с драгоценностями и ларцом со свитками обратно в Египет и поместить мумию в место вечного упокоения — в гробницу.
— Амбициозный проект!
— Амбициозный человек!
— Каким образом Олаф нашел гробницу, если она была так засекречена?
— Один взбунтовавшийся и изгнанный жрец культа Амона-Ра во времена царицы Клеопатры начертил карту, причем не только с местоположением гробницы на Ниле, но и с указанием входа в храм, а также двух внешних камер, которые скрывали внутреннюю. По-видимому, он пытался втереться в доверие к римлянам. Но римляне вряд ли поверили предателю. Мы твердо знаем, что эта карта попала в Рим вместе с мужем Клеопатры, Марком Антонием. Потом она была переправлена, скорее всего случайно, в одном комплекте с подарками королю Англии Адальстайну. Он передал ее своему воспитаннику Хакону Доброму, а затем карта перешла к юному Олафу Харальдссону.
Эстебан трет переносицу, словно его мучит головная боль. Он отводит взгляд от меня и смотрит куда-то в пространство, отчего его облик незаметно полностью меняется. Он напоминает мне теперь одного из безнадежных идиотов в психиатрической больнице, глубоко опустившегося в бездну безумия.
— Находясь у герцога Ричарда в Руане, Асим написал слезное письмо египетскому халифу. Отсюда же он послал перевод на коптский язык папирусного манускрипта из гробницы. Несколько лет спустя, уже из Норвегии, он послал халифу еще один призыв о помощи и карту, которые были спрятаны внутри керамической фигуры. Но почтовое сообщение было не очень надежным. Призывы о помощи, карта и перевод древнего манускрипта были один за другим выслежены и захвачены разведкой папы, которая контролировала всю подозрительную почту.
Из коробки с тончайшими деревянными стенками Эстебан вылавливает еще одну сигару, которую раскуривает со всеми положенными церемониями. Прежде чем продолжить рассказ, он отдыхает, прикрыв глаза и наслаждаясь сигарой.
— Пока король Олаф насаждал в Норвегии христианство огнем и мечом, Асим сидел на Селье в ожидании прибытия соотечественников. В какой-то момент он, очевидно, понял, что никакие спасители не смогут найти дорогу к ледяной пустыне на далеком севере. Тогда он придумал план, как можно не только сохранить мумию, но и переправить ее в Египет.
— Какой план?
— Он создал братство, орден хранителей. Первыми хранителями были монахи-воины из монастыря Селье, которых Асим хорошо знал, и избранные люди из окружения короля, скальды, знатоки рун и викинги, в которых еще жила вера в асов. Асим считал, что охраняемая им мумия когда-нибудь вновь воскреснет и станет богом в человеческом обличье. Христиане же ожидали второго пришествия Иисуса Христа, а также короля Олафа Святого. Воспользовавшись этим хаосом религиозных представлений, магии цифр, астрологии и священной геометрии, мудрец Асим соединил египетскую мифологию с примитивной верой норвежцев в асов и пришедшим недавно христианством. Отсюда и появление символов
анх, тюр и
крест. Комбинация трех сакральных знаков должна была не только обозначить тайное братство хранителей, но также создать магическую защиту сразу трех религий. Асим обучал хранителей тонкостям, созданным им на основе трех религий, астрологии и эзотерическим наукам. Ученики полностью доверились мастеру и поклялись посвятить свои жизни охранению мумии Святого.
Эстебан делает глубокую затяжку и пускает дым в мою сторону. Я отгоняю от себя дым рукой.
— Асиму пришлось прибегнуть к магии. В египетской мифологии и в народных традициях важным считалось строить памятники в знак почтения к богам. Мир, как вы знаете, полон святынь, расположение которых имеет магическое значение, правда, зачастую мы не понимаем его. Асим обратился к звездам и создал гороскоп, в нем он соединил священную геометрию с расположением звезд. На основе не очень совершенной карты, которая была у него в распоряжении, Асим разместил на территории Норвегии пять гробниц таким образом, чтобы, если мысленно проложить между ними линии, на местности получилась пентаграмма, повторяющая по конфигурации созвездие Близнецов, тем самым он защитил эти гробницы с помощью сверхъестественной силы. Пещера Суннивы. Нидарос. Хамар. Тёнсберг. Бьёргвин. Последователи Асима — недавно окрещенные строители нации — в течение почти ста лет выполняли задуманный мастером грандиозный план. И вот огромные сооружения были построены, и в каждом скрывалась тайная гробница. Собор в Нидаросе. Собор в Хамаре. Тёнсбергская крепость. Монастырь в Люсе.
— А деревянные церкви? Как они соотносятся с этой идеей?
— Это совсем другая история. Я расскажу об этом позже. — Эстебан подходит к ящику, вынимает потертые бумажные листки с перфорированными краями, исписанные авторучкой. — Вот рассказ самого Асима. Не очень хороший перевод.
Сердце мое трепещет, когда он протягивает мне листки.
История Асима
Будь славен, Амон-Ра, всемогущий бог и властитель истины; будь славен, Осирис, властитель вечности; будь славен, Иисус, благословенный спаситель и Сын Божий; будь славен, Мухаммед, великий пророк Аллаха. Я — Асим, покорный слуга богов; главный священник храма для покорных слуг его святейшества бога солнца Амона-Ра, храма хранителей божественного пакта у стен Фив и царских гробниц. Эти строки я пишу, будучи пленником в стране страданий. Чистую правду говорю: я оказался рядом с краем света, в царстве вечного льда и холода, снега и камней, гор, которые устремляются в небо. В глубоких фьордах и непроходимых лесах господствуют страшные дикие люди, словно самые жуткие демоны царства смерти. И все же я думаю, богам доставит радость то, что я нашел новую гробницу для СВЯТОГО.
Вот, боги всех богов, мой рассказ.
Дикари прибыли на рассвете, когда дыхание Амона-Ра окрасило небо в красный цвет. Я, босой, стоял на холодной после ночи поверхности скалы и смотрел на чужеземные корабли, которые плыли по реке, — длинные красивые корабли с огромными парусами и головами страшных драконов. До самого дальнего северного мыса река была заполнена кораблями. Все новые и новые суда появлялись из-за поворота.
Я встал задолго до всех остальных. Смыл ночной пот водой из глиняного кувшина в самом прохладном уголке спального зала и поел свежих фруктов. Освежившись, я покинул храм, чтобы насладиться утром. На площадке остановился, увидев корабли. Я вопросительно посмотрел на небо. Почему меня не предупредили звезды? Почему меня не предостерегли боги? Какие чужеземные боги охраняли дикарей и помогали им? Они не могли быть более могущественны, чем мои. Амон-Ра. Маахес. Менту. Сехмет. Нейт. Почему они закрыли глаза и отвернулись от меня?
Эти дикари передвигались бесшумно, как кобры. Самые хитрые, самые опасные звери всегда бесшумны. Ты услышишь крокодила только тогда, когда он вонзит в тебя зубы, а змею — когда ее яд парализует тебя. С беспокойством я следил взглядом за кораблями. Они были гораздо быстроходнее наших речных судов. Как же сумели они пройти мимо крепостей и таможенных постов? Они явно были непобедимыми. Я понадеялся, что они поплывут дальше, в Карнак, или Долину царей, или куда-нибудь еще дальше на юг, в Сунет или Абу-Симбел. Но надежда исчезла, когда первые корабли спустили паруса и направились к берегу. Ряды длинных весел появились по бортам и стали двигаться в такт. Ни единого звука. Ни единого крика. Ни одного боевого клича. Только тишина. Демонические головы драконов надвигались на меня. Я вбежал в храм и послал священника Фенуку предупредить стражей в храме и людей в деревне. После этого я вновь поспешил на площадку. Внизу, у берега реки, дикари начали высадку. О могущественный Анубис, их было так много, тысячи и тысячи, все великаны; крупные, высокие, мускулистые мужчины с длинными неопрятными волосами, бородатые и усатые. У каждого меч, топор, пика и разукрашенный щит.
Всей армией, так что задрожала земля, они стали выпрыгивать на берег и подниматься вверх по склону, приближаясь к храму. Возглавлял армию чужеземцев высокий мускулистый юноша. Я не пошевелился. Я гордо стоял, высоко держа голову, сложив руки. Вот теперь мне на помощь должны прийти мои боги. Теперь вечные властители Египта должны принять на себя охрану СВЯТОГО. Юноша остановился в нескольких шагах от меня. Лицо его было широким, бледным, с легким румянцем, волосы каштановые, спутанные. Голубые глаза сверкали, как сапфиры на набирающем силу солнце. Тут наконец я понял, кто они. Из записок дипломата ибн Фадлана о его путешествии почти сто лет тому назад по реке Волге я прочитал о бесстрашных варварах, их называли «ар-русы». В своей географической книге аль-Джакаби говорит о дикарях, которые добрались до Севильи по великой реке Кордове. Это аль-Магус — огнепоклонники.
— Прочь! — громовым голосом сказал я и протянул руки к небу. — Вернитесь назад! Могущественные боги охраняют этот храм.
В Книге мертвых говорится о часе гнева. И вот час гнева настал. Юноша продолжал смотреть на меня. Когда он сделал шаг вперед, чтобы нанести удар, я стал готовиться к встрече со своими предками. Мои боги изменили мне. Но в момент гнева боги шепнули мне в ухо. Смерть — не героический поступок. Смерть — бегство от моего священного деяния. Если я умру, я не смогу служить СВЯТОМУ. Я должен подчиниться. Дело моей жизни состоит в том, чтобы охранять СВЯТОГО и все его сокровища. И поэтому, о могущественный Амон-Ра, я пал на колени здесь, на священной дороге, и поднял глаза вверх, чтобы встретиться со взглядом юноши. Поэтому, о великий Осирис, я приложил лоб и ладони к земле, чтобы обозначить подчинение. В знак покорной жертвы, священный лев Сехмет, я покорился вере нецивилизованных дикарей, прибывших с края света. Но страха, о священные боги, я не испытывал.
Юноша сохранил мне жизнь. Двое его воинов потащили меня к самому большому кораблю и привязали там к мачте.
Варвары были беспощадны. На площадке у входа в храм Амона-Ра собрались священники, вооруженная охрана и большая группа ремесленников с лопатами, мотыгами и топорами. Некоторые смело вошли в храм, чтобы защищать тайный вход в гробницу за алтарем. Другие вытащили оружие и отправились вниз, к кораблям на реке. Крепко привязанный к мачте, я беспомощно наблюдал, как дикари на куски разрубали тех, кто оказывал сопротивление. Один за другим пали наши мужественные защитники от ударов мечей и топоров варваров. Против этой стаи безбожников не помогала ни одна тактика, ни одно построение из тех, что мы тренировали на площади перед храмом. Бесполезны были выпады и движения рук, которые мы отрабатывали день за днем, чтобы удар меча давал максимальный результат; все пришлось отринуть при встрече с этими дикарями, которые наваливались всей мощью на своих противников, не оставляя врагу ни малейшего шанса. Битва была недолгой. Кровь моих воинов смешалась с песком и пылью. Миллионы мух налетели на лужи засыхающей крови и открытые раны умерших. Солнце пекло. Гнев Амона-Ра был бесконечен.
Когда дикари вынесли из храма саркофаг со СВЯТЫМ, я заплакал. Даже мои недостойные глаза никогда не видели сокрытого в самой дальней камере гроба, сделанного из кипариса. Четверо варваров спустились с гробом к реке, принесли на корабль и закрыли многими слоями мешковины, соломы и конопли, потом запаковали в тот материал, которым они чинили паруса. Под конец они обвязали все это канатами и опустили под палубу в трюм. От такого святотатства глаза мои наполнились слезами, а душа — скорбью. Варвары не тронули кувшины с мумифицированными внутренними органами СВЯТОГО, но зато украли все, что смогли унести из золота и драгоценностей, прекрасные фигуры, статую Анубиса, золотые шкатулки, золотые статуэтки, амулеты, украшения в виде скарабеев, магические фигурки, две модели кораблей и другие предметы, которые предназначались для СВЯТОГО в его загробной жижи. К великому ужасу, я успел заметить и запечатанный ларец со СВЯЩЕННЫМИ ПИСЬМЕНАМИ. Даже его они не оставили в покое.
Я оставался привязанным к мачте на большом корабле юноши с голубыми глазами вплоть до момента, когда мы вышли из Нила в открытое море. От башни Александрийского маяка мы поплыли на запад, туда, где солнце укладывается на ночь спать.
Для меня наступило ужасное время. Святой Осирис, ну как же от них воняет! Как от зверей — да, как от зараженных свиней и больных чумой горных барсуков! Они отравляют воздух вонью своего тела; бьющий запах жуткого пота, извержений из желудка, газов из кишечника, потеющих ног и немытых гениталий; их одежда исторгает запахи старой мочи и кала, пота, крови и гниющего мяса их жертв. Именно так описывал их ибн Фадлан: они грязны и равнодушны к исходящим от них запахам. Но у них есть и достоинства: они люди гордые и высоко ставящие честь, любят своих родичей и свое имущество. Двести лет они плавают по морям и рекам, грабят и нападают. Я понимаю, почему жители побережья их боятся. Они быстрые и беспощадные. Противник еще не собрал войско, а они уже успели высадиться на берег и опять исчезнуть — с украденным добром, женщинами и рабами. Их плоскодонные корабли имеют мелкую осадку, поэтому они могут подплывать к самому берегу. Их боевой дух не имеет границ. Они как жаждущие крови львы. Хитрые и находчивые. В битве бесстрашные, твердые и жестокие. С любым врагом сражаются яростно. Даже получив смертельную рану и лишившись руки или ноги, они продолжают сражаться. Мужественные воины, которые умирают во время битвы, в сопровождении валькирий попадают в рай, который они называют Валхалла, где погибшие в бою воины могут сражаться, трапезничать и бражничать в вековечные времена. А в конце наступит Рагнарок.
От рабов, которые приносили мне еду, я узнал много слов. Другие слова я вылавливал из разговоров, которые воины вели между собой. Я легко усваиваю языки. Когда мне было восемь лет, я владел языками шести стран, которые окружают Египет. В двадцать я говорил на двенадцати языках. У некоторых людей красивый голос, и они хорошо поют. Я родился со способностями к языкам.
Мы дни и недели тратили на то, чтобы плыть на запад, потом на север. В воздухе появилась прохлада. Вскоре меня освободили и разрешили свободно ходить по кораблю.
Эти дикари нападали на деревни, расположенные на побережье. Они грабили, жгли и убивали. В первый раз плавание закончилось в городе в глубине суши у реки, которая извивалась, как змея на песке, в точности как Нил. Оружие не вынималось. Они прибыли к друзьям. Город назывался Руан. Их хозяином был властитель, которого они звали герцог. У герцога мы пробыли всю холодную зиму. Отсюда я послал халифу письмо и копию СВЯЩЕННЫХ ПИСЬМЁН. Весной мы поплыли дальше через море к другой стране на западе. Здесь мы пробыли еще какое-то время.
Осенью мы отправились на край земли, в ужасные холода царства смерти. Из царства солнца с плодородных берегов Нила меня забросило на скудные каменные берега снежной страны. Мы покинули земли, благословленные Амоном-Ра, оставили позади горячее дыхание Осириса и подчинились богам варваров. О боги отцов, дайте мне силу! Когда я был ребенком и ночные кошмары открывали мне ворота царства смерти, то именно такой ландшафт — холодный, скудный и дикий — возникал передо мной под завесой тумана смерти. День за днем мы плыли вдоль грандиозных берегов страны, которую они называли «Норвегр», то есть «Северный путь». Скалы поднимались к небу и исчезали в облаках. Рваные скалы на островах и торчащие из воды шхеры окаймляли морские берега.
Однажды ближе к вечеру корабль подошел к острову — самому дальнему из группы островов. Я держался за поручни и смотрел на высокую округлую скалу на острове. Я узнал запах, который был мне знаком: земли и болот, леса и скал, травы и мха. Я вдыхал забытые запахи; они чем-то напоминали мою давнюю родину, когда Нил уходил с затопленных наводнением берегов.
Здесь наши небольшие суда причалили к двум бревнам, зафиксированным огромными камнями. Маленькая деревянная церковь была поставлена вплотную у крутого склона скалы. Пока король и епископы ходили молиться своему богу, мы с викингом, которого зовут Бард, поднялись вверх по склону. Высоко в скале, в месте, недоступном и невидимом снизу, был вход в огромный грот.
Спасибо, о могущественный Амон-Ра, что ты привел нас сюда.
Я никогда больше не уезжал из монастыря, который мы построили на острове в стране, где полумесяц на небе стоит, а не лежит.
В своем письме священникам в Египте я описывал свое долгое путешествие на север. Я рассказал, где я спрятал СВЯТОГО. Текст, написанный на коже животного, был запечатан печатью и в свернутом виде вложен в стеклянный сосуд, который был спрятан внутри керамической фигуры Анубиса, властителя подземного царства и бога бальзамирования. Двум верным мне монахам-воинам я дал золото из гробницы СВЯТОГО и послал их в ближайший из местных центров торговли, где они должны были договориться с кем-нибудь и совершить долгое путешествие на юг, вплоть до самого Египта, и доставить туда статуэтку Анубиса, в которой было спрятано сообщение. Не знаю, добрались ли они. Я их больше никогда не видел.
При них было стихотворение, которое мои соотечественники должны показать, когда приедут забирать СВЯТОГО, и которое ХРАНИТЕЛИ узнают. Только посвященные в Египте могут использовать слова из Книги мертвых. Люди, имеющие «Ключ», покажут его ХРАНИТЕЛЯМ в гробнице СВЯТОГО:
КЛЮЧ
Придворные царского двора идут на запад
вместе с царем Осириса Тутанхамоном.
Они восклицают: О царь! Приди с миром!
О бог! Защитник страны!
В это же время я дал людям задание устроить в скале гробницу. Скала была гораздо прочнее, чем в Египте, но, к счастью, грот уже имел форму зала. Работа продолжалась много лет. Подобно тому как это было в Египте, я велел сделать внутренний погребальный зал, а в середине его — каменный пьедестал, на котором покоился саркофаг СВЯТОГО. В соседней пещере я разместил все сокровища, которые король Олаф предоставил в мое распоряжение. Около стены в зале я велел подготовить еще один пьедестал для моего собственного гроба на случай, если я попаду в загробный мир раньше, чем наступит час освобождения. Вместе с пятью самыми талантливыми помощниками я расписал стены грота картинами и древними иероглифами, рисунками и рунами. Мы воздвигли внутреннюю стену с арочным порталом, который будет замурован и запечатан в тот день, когда последнее тело будет доставлено в окончательное место упокоения среди святынь пентаграммы. После этого и стена, и портал будут прикрыты многими тоннами камней, так что камни будут восприниматься как пол грота.
Холодное солнце ходило по небу. Здесь, на монастырском острове, мы мало обращали внимания на бурные события в жизни короля Олафа. Зимы были холодные. Мороз, как острый нож, врезался в тело. Я так никогда и не привык к беспощадным холодам снежной страны. В свободное время я переписывал священные тексты и переводил их на коптский язык. Дни проходили в преподавании, рисовании карт, глубоких раздумьях и соблюдении ритуалов. Где-то далеко в своей варварской стране король Олаф сражался за то, чтобы повернуть соотечественников к новому богу. Я теперь понял, кем был Олаф. Он воистину был святой человек. Король Олаф был вернувшимся на землю Иисусом. В облике Олафа Христос снова пришел через тысячу лет, чтобы основать Царство Божие на земле.
Когда до меня дошло сообщение о гибели короля Олафа в битве при Стиклестаде, я послал десять монахов тайно доставить сюда тело умершего. В Тингведлире захоронили гроб, в который было положено тело человека, внешне похожего на короля. На небольшом судне тело короля было привезено из Нидароса на Селье. Здесь я показал монахам, как египтяне бальзамируют и хоронят умерших. В окружении монахов я забальзамировал тело Олафа и попросил их сделать то же самое со мной, чтобы и я тоже мог встретиться с моими богами, когда покину этот мир. Мы возвели в погребальном зале еще один пьедестал, теперь король мог покоиться в красивом гробу рядом со СВЯТЫМ. И через тысячу лет они одновременно восстанут из мертвых.
Когда Олаф лежал в гробу, я собрал тридцать трех самых богобоязненных воинов, монахов, епископов и скальдов из окружения короля. И призвал их создать тайный орден ХРАНИТЕЛЕЙ. Ценой своей жизни они должны будут охранять СВЯТОГО, его писания и сокровища и тайну о месте его погребения. Каждый ХРАНИТЕЛЬ должен будет взять на себя обязательство найти достойного преемника, чтобы этот круговорот продолжался вечно. Я предложил им общаться друг с другом при помощи кодов, так чтобы ни один непосвященный не смог прочитать сообщение. На магической карте Южной Норвегии я изобразил священный символ и объяснил, что форма пентаграммы угодна богам. Все подчиняется гармонии пентаграммы, ее защищает божественная сила.
И еще я сказал ХРАНИТЕЛЯМ: в течение ближайших сотен лет надо построить четыре великие святыни. Под каждой из них они должны в глубочайшей тайне заложить гробницу. Тела тех, для кого построят гробницы, будут покоиться здесь, на острове, пока не закончится сооружение усыпальниц. Все вместе эти пять гробниц образуют священное единство в форме пентаграммы. На нашем острове самая важная из всех уже сооружена. Здесь будут покоиться король Олаф и СВЯТОЙ. В Тронхейме надо построить собор над могилой епископа Гримхьеля. В Хамаре соорудить собор над могилой епископа Бернхарда. В Тёнсберге построить крепость над могилой епископа Сигурда. А под Бьёргвином основать монастырь над гробницей епископа Рудольфа.
Эти слова посвящены тебе, великий Амон-Ра, тебе, Яхве, и тебе, Аллах!
2
Под сильным впечатлением от чтения рассказа Асима о событиях тысячелетней данности я протягиваю перевод Эстебану.
— Моя сестра перевела текст, как могла, в восьмидесятые годы, — говорит он.
— Она знает коптский язык?
— Беатрис знает много странных вещей.
— У меня все еще есть вопросы.
— Ничего удивительного.
— Я не понимаю, например, откуда лояльность, которую Асим выказал по отношению к королю Олафу. Он ведь не сбежал. Не выступил против короля, который, что ни говори, похитил его и разграбил гробницу. Напротив, создается впечатление, что Асим начал относиться к королю как к богу.
Эстебан кладет руки перед собой на стол.
— С Асимом что-то произошло. Может быть, по пути в Норвегию, может быть, в Руане, может быть, в монастыре на Селье. Судя по всему, король Олаф затронул в нем какие-то религиозные чувства. Факт остается фактом, Асим стал смотреть на короля как на пророка. Человека, который общается с богами. Не забудьте, Асим был магом, который видел связь между числами. Это было через тысячу лет после жизни Христа. Асим со временем заставил себя поверить, что король Олаф не просто пророк, а вернувшийся на землю Иисус Христос. А отсюда только один шаг до его следующего пророчества: и мумия СВЯТОГО, и Олаф воскреснут еще через тысячу лет, объединившись в мощном религиозном союзе.
— Он на самом деле в это верил?
— А когда религии были рациональными? Религии говорят о мечтах и устремлениях. В вере человек ищет тот смысл, которого нет в реальной действительности. Секта Асима хотела объединить все верования. Они хотели собрать все религии в одну. Всё в одном, провозглашал Асим, мы только по-разному истолковываем одни и те же истины. Для Асима было совершенно естественным мумифицировать Олафа и устроить его погребение вместе с мумией, которой несколько тысяч лет. Таким было его отношение к богам.
— Асим не был пленником. Разве он не мог вернуться в Египет вместе с мумией?
Эстебан несколько раз качает головой, потом отвечает:
— Теоретически он мог убежать с Селье. Но как? Совершить безопасное путешествие из Норвегии до самого Египта — вместе с сокровищем — было трудно. На суше ему встретились бы разбойники, местные власти, таможенные кордоны, обезумевшие князья и кровожадные помещики. А плюс к тому очень большое количество ведьм и троллей. Ему пришлось бы преодолевать огромные пространства, переправляться через реки и подниматься на высокие горы.
— А на море…
— …ему потребовался бы внушительный флот викингов, чтобы защищаться от пиратов, грабителей, таможенников и армад враждебных государств. — На лице Эстебана появилось подобие улыбки. — Но я думаю, что самым главным было предсказание, которое Асим нашел у звезд. Астрологическое предсказание того, что СВЯТОЙ и король Олаф одновременно воскреснут в Египте через тысячу лет.
Хотя сам я не верю ни в астрологию, ни в гадания, предсказание Асима наполняет меня странным чувством. Как будто я увидел в зеркале отражение того, кого нет.
— И вот прошла эта тысяча лет.
3
Эстебан ушел, чтобы сделать несколько срочных звонков. В его отсутствие я слушаю звуки парка и размышляю о загадочном Асиме. Огромный жук, размером с игрушечный автомобильчик, с шумом ползет по плиткам пола на террасе. Истеричная птица пролетает мимо меня. После возвращения Эстебана мы продолжаем говорить о хранителях. Эстебан знает больше, чем написано в истории Асима. Его библиотека явно обладает богатейшим собранием писем и документов, оставшихся от предков.
— Новых членов в братство отбирали очень тщательно, — говорит он. — Соблюдение тайны, лояльность, честное отношение к делу, уважение к древним норвежским идеалам сплотили братство хранителей. Но Асим был умен. Среди хранителей только единицы знали всю правду о великой тайне. Точно так же в разведке или криминальной банде каждый знает ровно столько, сколько он
должен знать. Сведения о гробнице на Селье имели очень немногие, их называли
семерка внутреннего круга.
— А коды?
— Коды были необходимы, чтобы обращаться к другим членам братства и хранителям следующих поколений. Каждый раз, когда мумию или какие-то сокровища переносили из деревянной церкви или гробницы, хранители оставляли сообщение, где они теперь находятся. Закодированное сообщение говорило, кто принял на себя ответственность за охрану. А код не мог расшифровать никто, кроме самих хранителей.
— Таким образом, коды существовали для внутреннего общения между хранителями?
— Пожалуй, можно сказать и так. Допустим, какой-то хранитель внезапно умер. Если бы он не оставил сообщение другим, входящим в эту цепочку, могла произойти катастрофа. Только
семерка внутреннего круга в любой момент имела полный контроль над происходящим, остальные хранители были исполнителями на месте и не знали о структуре братства. Они имели инструкции о том, чтобы делиться своими сведениями со следующим хранителем, которого завербовали, и хранителем по соседству. Таким образом, всегда был человек, обладающий конкретной информацией. Когда мумия и сокровища перемещались из некой церкви, хранитель писал закодированное сообщение, рассказывающее о передвижении. Сегодня хранитель послал бы эсэмэску или зашифрованное электронное письмо. В прежние времена они высекали руны на камнях.
— А как же хранители узнавали о кодах предшественников?
— Да так же, как и вы: они искали. Но в отличие от вас хранители в точности знали, что они ищут и где они ищут. Это было частью тайн братства. Коды, сообщения, инструкции, указания и подсказки выкладывались в тех местах, где хранители были обучены искать. Хранители оставляли указания — закодированными руническими текстами и шифрованными формулировками — другим хранителям: своим современникам и следующим поколениям хранителей. Хранители церкви Урнес,
например, знали, что мумия и сокровища были перевезены из их церкви в Флесберг около 1180 года. Но они не могли знать, что в дальнейшем произошло разделение — что-то увезли из Норвегии, а что-то переправили в церковь Гарму в Ломе. Допустим, дело было так. Глава братства в 1250 году знал, что война или болезни уничтожили почти всех хранителей, и дал хранителю из Урнеса распоряжение перевезти охраняемое в безопасное место. Хранитель из Урнеса, вероятно, не знал, где находится святыня, но хранитель, который его завербовал, должен был объяснить ему, что указание содержится на дощечке с рунической надписью в одной из колонн. Закодированная надпись рассказала ему, что надо отправиться во Флесберг. Слово «металлический» было указанием, что надо посмотреть на колокол, на котором он найдет тайные руны. В отличие от большинства людей он эти тайные руны умел читать. Помните текст на колоколе?
«Колокол звенит Урнес пятьдесят лет Флесберг пятьдесят лет Лом пятьдесят лет». Для хранителя текст был предельно ясным. По поводу пятидесяти лет я скажу позже. Но имеющий определенные знания о кодах хранитель отправлялся в Лом. Там он находил сообщение:
«Священные тексты и спящий бог скрыты в безопасности у нашего родича по завету в стране, где солнце заходит», то есть у хранителя Снорри в Исландии. Следующее указание есть там, где
«солнце встает». Так как все хранители знали, что расположение деревянных церквей напоминает крест, этот хранитель понял бы, что
Ларс находится в деревянной церкви в Рингебу и что следующий код надо искать в
Библии.
— Что-то вроде ребусного марафона через столетия…
— Ребусный марафон для посвященных. Каждый хранитель вербовал себе преемника. Объяснял ему, где находятся скрытые коды, как их расшифровывать. Так вот и получалось, что для большинства людей коды были непонятны, но хранитель не только мог найти текст, но и расшифровать его. Именно так новые поколения хранителей могли наблюдать за передвижением мумии и сокровищ из одной церкви в другую, из одного укрытия в другое.
— Что сделали бы хранители, если бы египетские священники приехали к Асиму?
— Хранители знали, что посвященные Асима имели ключ. Стихотворение. Молитву из египетской Книги мертвых, взятую со стены гробницы Тутанхамона:
Придворные царского двора идут на запад
вместе с царем Осириса Тутанхамоном.
Они восклицают: О царь! Приди с миром!
О бог! Защитник страны!
— Это текст из «Кодекса Снорри»…
— Ключ не был использован. Египтяне не прибыли. Зато прибыли посланцы Ватикана.
— Они опоздали.
— Совершенно справедливо. Ватикан свалил в кучу конфискованные манускрипты и карты и не стал в них разбираться. Прошло сто лет, и только тогда в Ватикане занялись их чтением. В 1129 году кардинал Бенедиктус Секундус направил рыцаря Клеменса де Фиески в Норвегию на поиски упоминаемой в манускриптах святыни. В 1152 году посланец папы Николас Брейкспир, который вскоре сам стал папой, чуть было не нашел гробницу в том Хамаре, где сам был епископом. В 1180 году папа Александр III направил еще одну группу. Через десять лет в Норвегии обосновались иоанниты, король Сверре Сигурдссон даровал им монастырь Варне. В 1230 году папа Григорий IX предпринял еще одну попытку.
— А как хранители узнали, что Ватикан напал на след грота на Селье?
— Они получили предостережение. Ватикан не сумел скрыть, что через Европу идет большая группа вооруженных лиц, сопровождаемая разведчиками и шпионами. Когда предостережение дошло, хранители поняли, что необходимо сменить место, во всяком случае на время.
— И это несмотря на то, что гробница на Селье была священной?
— Асим оставил много указаний, предусматривающих всевозможные случайности. Хранители знали, что делать. На основании астрологических предсказаний Асим решил, что, если возникнет опасность, мумию надо отправить в священный путь в соответствии с магическим числом 50.
— Что магического в числе 50?
— В Библии оно представляет собой число юбилея. В юбилей, или юбилейный год все грешники получали прощение, рабы и пленники отпускались на свободу, долги аннулировались. Хранители преданно следовали заветам Асима. Поэтому, узнав о приближении посланцев Ватикана, они расширили деревянную церковь Урнес — которую начали строить по распоряжению Асима — за счет тайной гробницы под полом. Церковь была построена ровно через сто лет после смерти Олафа. Через пятьдесят лет хранители перенесли мумию во Флесберг. И так далее.
— Ватикан ничего не узнал?
— В ситуации с деревянными церквами они не смогли разобраться. О гробнице в гроте тоже не узнали. Клеменс де Фиески пользовался не очень точной картой Асима и оказался у грота Доллстейн. Следующая экспедиция, посланная папой, правда, добралась до грота Суннивы на острове Селье. Но усыпальница была спрятана так хорошо, что они ее не нашли. Все шло в соответствии с детальным планом Асима вплоть до 1239 года. И тогда хранителей охватила паника. Король биркебейнеров Хакон Хаконссон подошел слишком близко к раскрытию тайны, и они переправили самое важное в другую страну.
— Самое важное?
— Золотую раку с мумией и шесть кувшинов с папирусными манускриптами.
— В Исландию…
— За два года до этого ярл Скуле завербовал в хранители Снорри Стурлусона. Снорри взял гроб и священный манускрипт с собой в Исландию. Одновременно он взял и пергаменты норвежских королей.
— Таким образом, кодекс, на который наткнулся преподобный Магнус в Рейкхольте, являл собой не что иное, как сообщение Снорри, адресованное будущим хранителям, его преемникам?
— Если точно, то Тордуру Хитроумному. Пергаментный кодекс состоял из написанных собственноручно Снорри подсказок, кодов и карт, которые он принял у хранителей в Норвегии.
— Собрание пергаментов давало при помощи кодов и карт информацию о тайниках, которые находились в Норвегии и Исландии. Вы сказали, что король Хакон Хаконссон чуть не обнаружил мумию и манускрипт?
— Когда кто-то рассказал об этой тайне королю Хакону, король натравил участника заговора Гиссура Торвальдссона на Снорри, чтобы узнать у него правду. Снорри ничего не сказал. И был убит.
— И хранителем стал Тордур Хитроумный.
— Снорри сам назначил Тордура Хитроумного хранителем. Хакон вызвал Тордура в Норвегию, чтобы выпытать у него все. Король устроил бешеную охоту за этими сокровищами. Свою дочь Кристину он выдал замуж за брата короля Кастилии и послал дипломатов к султану Туниса — и все это только потому, что надеялся получить доступ к сокровищам.
— Гроты… Деревянные церкви… Коды… Голова кругом идет.
— У вас. У нас. В наши дни. Но не забудьте, что перед вами лишь отдельные ниточки. Вы не знаете, как все это происходило в хронологической последовательности. Вы вырывали из прошлого отдельные куски, связанные, но не следующие один за другим. Например, копия манускрипта, которую вы нашли в Тингведлире, была спрятана там Снорри спустя двести с лишним лет после того, как ее сделал Асим. Деревянные церкви строились значительно позже возникновения гробницы на Селье.
— Вам известно, почему Снорри разделил сокровища на две части?
— Явно для того, чтобы лучше их сохранить. Он устроил погребальную камеру под своей усадьбой в Рейкхольте и поместил туда папирусные манускрипты и мумию. Сделанный Асимом перевод манускрипта был спрятан в пещере в Тингведлире.
— А остальные сокровища продолжали оставаться в деревянных церквах?
— В этот момент у хранителей был разброд и шатания. Части первоначального сокровища были разбросаны по миру. Но работу над четырьмя деревянными церквами хранители продолжали. Так же как и святыни пентаграммы, деревянные церкви образовывали в своем единстве священную схему. Египетский
анх. Рунический знак
тюр. Крест.

Грот на острове Селье некоторое время пустовал. Но около 1250 года сокровища были частично возвращены туда. Последняя путеводная нить — уловка с двумя фигурами святого Лаврентия в Рингебу и Боргунне — была завершением норвежской части операции прикрытия. Мумия и тексты — самое важное среди сокровищ — больше не были под контролем норвежцев.
— Не очень легко следить за всеми этими поворотами.
— Как раз чрезвычайная сложность операции прикрытия и привела к тому, что сокровища не попали в руки Ватикана.
— А потом мумию перевезли из Исландии в Гренландию, когда в Норвегию пришла чума.
— Совершенно правильно. Спустя сто лет пребывания святыни в Гренландии Ватикан снова напал на ее след. В 1447 году в южную часть острова прибыла папская экспедиция, хранители были предупреждены, пятьдесят мужчин и женщин на двух кораблях пустились в бегство. Остальная часть гренландской колонии была форменным образом уничтожена.
— Хранители поплыли в Винланд?
— На протяжении следующих пятидесяти лет колония скандинавских хранителей основала в Винланде пять поселений. Они двигались все дальше и дальше на юг. После них оставались камни с руническими надписями, длинные дома и каменные башни.
— А почему же они не вернулись в Норвегию или Исландию?
— Потому что приняли решение отвезти мумию назад в Египет. Со времен походов викингов они знали о ветрах, которые могли бы привести их на восток из тех мест, которые мы сегодня знаем как Флориду и Карибский бассейн, через Азорские острова в Европу и в Средиземное море. Поэтому они передвигались все дальше на юг в ожидании ветров, которые доставят их домой. Добравшись до Карибского моря, они вступили в контакт с аборигенами, поведавшими им о белых мореплавателях, которые появились на южных островах. Хранители, чьи корабли были такими старыми и ветхими, что вряд ли смогли бы выдержать плавание по Атлантике в штормовую погоду, понадеялись, что теперь вернутся в Европу с европейцами. Как раз здесь, в Санто-Доминго, они встретились с Бартоломео Колумбом. Отсюда они послали зашифрованное сообщение архиепископу Нидаросскому. Есть информация, будто вы нашли это письмо в Вашингтоне.
Я не отвечаю, и Эстебан продолжает:
— Архиепископ Эрик Валькендорф сам был хранителем в ордене, который к этому моменту стал малочисленным, и не очень хорошо понимал, что же такое он охраняет. Однако Валькендорф установил, что прошло ровно пятьсот лет после событий в Египте и оставалось ровно пятьсот лет до исполнения пророчества Асима — воскрешения мумии. И снова магия цифр. — Эстебан засмеялся. — Мои коллеги по мужскому клубу любят преувеличивать. Из чисел всегда можно сделать то, что тебе надо. Я думаю, что Бартоломео просто развлекался, копируя три знака в случайной последовательности. Даже если существует «Библия Сатаны», она ничего общего не имеет со всем этим.
— Что произошло с хранителями после встречи с открывателями Америки? Они вернулись в Европу?
— Кое-кто вернулся. Другие остались и занялись поисками сокровищ в Центральной Америке. Они наткнулись на невероятные богатства, золото и все такое, что было использовано для строительства дворца Мьерколес, а также заложило основу благосостояния моего рода.
— А мумия?
Он качает головой:
— Грустная история. Она исчезла в конце XVII века. Строго говоря, она рассыпалась. В это время уже никто особенно не хранил верность заветам Асима. Хранители привольно жили здесь во дворце.
— Мумия рассыпалась?
— Сохранились лишь фрагменты мумии да пыль в кувшине. Это все.
От разочарования глаза мои становятся влажными.
— Совершенно очевидно, что повлияли климатические условия. Из сухого жаркого климата в Египте попасть в холодный влажный воздух Норвегии. Море. Соленый воздух. Перевозки. Мумия не выдержала всего этого.
— А папирусные манускрипты?
— Некоторые из них до сих пор в нашем распоряжении. Несколько штук были преподнесены в дар Ватикану. Остальные в нашей библиотеке. Но в них нет ничего особенного. Они интересны только для исследователей. Фрагменты копий Библии, сделанных в V и VI веках, описания жизни в Египте, молитвы. Всякое такое. Я еще раз задам вам все тот же вопрос. Вы отдадите мне исландский манускрипт?
Я молчу.
— Он должен храниться здесь, во дворце. Вместе с другими документами.
— У меня его нет.
— А у кого он?
— Этот манускрипт — исторический артефакт, — говорю я уклончиво. — Отдавать его — преступление.
— Но манускрипт… — начинает он и обрывает себя. — Вы мне не доверяете? Вы не хотите завершить проект Асима?
— Проект Асима состоял в охране мумии. Мумии больше нет.
— Может быть, физически нет…
— Хранители не справились со своей задачей, — обрываю я его.
— Вы это знаете, ведь так, — говорит он немного погодя, — что вы могли бы стать одним из нас. Хранителем! В вас есть для этого данные! Именно таких людей, как вы, Асим, король Олаф и Бард собирали вокруг себя. Настойчивых. Бесстрашных. Преданных своим идеалам.
— Так он еще существует? Это вы хотите сказать? Орден хранителей существует и по сей день?
Его взгляд обращен внутрь, ко всему, что было когда-то.
— Теперь мы охраняем только воспоминания и тени прошлого.
БЕАТРИС
1
Двое слуг в ливреях стучатся в дверь. В это время огромные напольные часы, стоящие в коридоре, бьют восемь раз. Медленно переступая, я в сопровождении двух «пингвинов» следую по коврам коридоров в лабиринтах дворца Мьерколес. Каждое движение моих костылей — это шаг в глубь истории.
В столовой меня ожидают Эстебан Родригес и члены семьи, сидящие под люстрой, свет которой на некотором расстоянии вполне можно принять за северное сияние. София, супруга Эстебана, пожимает мне руку с улыбкой, которая, однако, не затронула ее глаз. Черноволосая красавица со взглядом, который невольно наводит на мысли о жрицах инков, когда они готовятся вырвать сердце из груди жертвы. Талантливые хирурги заключили ее лицо и тело в клетку прошлого, из которой ей уже никогда не выбраться. Сын Хавьер — загорелый плейбой с веселыми глазами и улыбкой, демонстрирующей белые зубы. Значительную часть года он живет в Бель-Эр и Сан-Тропе и все время выглядит так, будто только что вернулся с развеселого праздника с большим количеством бесплатного кокаина и девушек. Грасиэла унаследовала от матери неприступность и золотую красоту. Ей столько лет, сколько мне, но, как и ее мать, она выглядит намного моложе. Рукопожатие слабое, она тут же отдергивает руку, как будто ей противно дотрагиваться до меня.
Затем я здороваюсь с сестрой Эстебана.
Беатрис под шестьдесят, но во взгляде ощущается горячий блеск — характерная черта сильных красивых взрослых женщин, в которых прячется шаловливая юная дева. Каштановые волосы вьются и спускаются далеко вниз по спине. В носу сверкает крохотный пирсинг. Бриллиант. Фигура и формы свидетельствуют о том, что она проводит долгие мучительные часы в тренажерном зале. Она жмет мне руку очень крепко, не глядя в глаза.
— Значит, это вы нашли ларец Святых Тайн?
Рука ее теплая, даже горячая, и в этом пожатии я ощущаю всю страстность ее натуры.
— Строго говоря, я только охранял ларец.
Когда наши взгляды встречаются, я понимаю, что она прочла мои мысли. Я краснею, и мы все усаживаемся вокруг стола, такого длинного, что сюда можно было пригласить целый парламент.
Пока официанты, группа за группой, разносят экзотические
hors d'oeuvres,
[91] Эстебан рассказывает об истории дворца Мьерколес и череде достославных представителей рода Родригесов: о государственных деятелях и бездельниках, о рыцарях и карманных ворах, о благородных девах и нимфоманках, о святых и изгоях. Периодически он говорит колкости Беатрис. Она на его бестактности реагирует с большим достоинством, бросая ледяной взгляд. София не говорит ни слова. Она погружена в свой собственный мир. Хавьер с громким смехом рассказывает о вечеринке в «Кар Феррате», где Мик Джаггер
[92] плеснул шампанским в лицо некоему финансисту, который слишком явно покушался на жену хозяина. Хавьер говорит по-английски с испанским акцентом, от которого волосы встают дыбом. Смех носится по залу каскадами. София и Грасиэла тыкают вилочкой в блюда. Эстебан спрашивает у Беатрис, насколько она продвинулась с диссертацией. Она отвечает уклончиво и ищет поддержки у Софии, которая смотрит в сторону и механически жует. Из-за веселого хихиканья Хавьера я не улавливаю смысл в его рассказе о Джордже Митчелле,
[93] который пришел в обувной магазин на Пятой авеню.
Более двух часов мы сидим за столом и беседуем. Я чувствую себя чужим. Все остальные едят фирменные карибские блюда вроде
pelau — цыпленка в соусе карри — и
channa — рыбы с баклажанами. Мне подают сырые, жареные, вареные, приготовленные на гриле и маринованные овощи, о которых я никогда не слышал и которых не пробовал прежде. Пьем эксклюзивные вина из собственных погребов дворца. Я все время исподтишка посматриваю на Беатрис. Не знаю, замечает ли она это. Но мне кажется, что замечает. Она необыкновенно хороша. Если она читает мои мысли, то хорошо скрывает это. Может быть, она играет со мной. К счастью, у меня в мозгу есть такие регионы, куда я могу запрятать свои фантазии, чтобы они не стали общественным достоянием.
2
После обеда мужчины пьют коньяк и курят сигары, а женщины, стоя в соседней комнате, маленькими глоточками пьют портвейн. Потом мы собираемся в зале, который они называют фойе. В 22:00 Эстебан и София благодарят всех. После ухода родителей даже Грасиэла оттаивает. И я впервые слышу ее смех. Но через пятнадцать — двадцать минут Хавьер и Грасиэла тоже желают нам спокойной ночи и уходят.
Тишина. Только мы с Беатрис стоим у стеклянных дверей и смотрим на парк. Щекочет сознание того, что я с ней наедине, что, чисто теоретически, я могу подойти к ней, притянуть к себе, крепко обнять и почувствовать прикосновение ее тела.
— Может, пойдем глотнем свежего воздуха? — предлагает она, переходя на «ты» и бросая на меня взгляд, значение которого я не могу расшифровать. Видимо, она опять прочла мои мысли. Мне становится стыдно. Засмеявшись, она берет меня под руку и выводит на террасу. Мне хочется ее поцеловать, но странные поступки совсем не для меня. Мы усаживаемся в глубокие мягкие кресла. Между деревьями мерцают огни Санто-Доминго, напоминая далекую галактику. Слабо звучат звуки большого города. В парке любовные крики птиц, лягушек, сверчков и мелких зверьков.
— Ты мне поверишь, если я скажу, что когда-то была хиппи?
Я пытаюсь поднять бровь, но с мимикой у меня проблемы, поэтому это движение больше похоже на попытку отогнать муху.
— Я три года, начиная с 1966-го, жила в Сан-Франциско. В Хейт-Эшбери.
Summer of love. LSD. Flower power.[94]
Голос окрашен солнцем и теплом, которые идут из глубины, куда для чужаков доступ закрыт.
— Возможно, это было моим протестом против всего, — она делает широкий жест, — вот этого?
— Бедная богатая девочка? — говорю я более язвительно, чем задумал.
Ее улыбка превращается во что-то холодное и злое, видимо, я жестоко оскорбил ее. Но затем лицо Беатрис меняется и снова становится теплым и нежным.
— Я росла принцессой в королевской семье, у которой нет королевства и народа. Мой отец был алкоголиком, мама окружена любовниками, мой старший брат Эстебан… Ну да ладно…
Она смотрит на небо. Мы оба видим мигающие огни пролетающего самолета.
— Знаешь, Бьорн, моя семья никогда не была частью этих людей или этой культуры. Дворец Мьерколес мог быть расположен в Гайд-парке в Лондоне, или в Центральном парке на Манхэттене, или в Бомбее, или в Токио. И мы жили бы там так же изолированно и удаленно от мира, как и здесь.
Сам я вырос в выкрашенном в белый цвет «вороньем гнезде» в тихом переулке района Грефсен в Осло. Но я понимаю, о чем она говорит.
— Многие завидуют нашему богатству.
— Охотно верю.
— Но тут совершенно нечему завидовать. Наша жизнь не столь уж прекрасна.
— Богатые люди всегда так говорят.
— Звучит пресыщенно. Но это правда. Богатство что-то делает с тобой. И это «что-то» довольно плохое.
Она проводит рукой по волосам. В темноте ее гладкая кожа отливает золотом. Я не в состоянии осознать, что ей на двадцать лет больше, чем мне. У нее вид взбалмошного эльфа, у которого нет возраста.
— Все, что связано с хиппи, как ни парадоксально это звучит, было для меня спасением. Если бы не бунт, я погибла бы. Мне нужно было измениться, чтобы потом стать самой собой. Ты понимаешь, о чем я говорю?
— Думаю, что понимаю.
— Моя семья долго ничего не знала. Все думали, что я живу тихо и уединенно в интернате.
— А как им стало известно?
— Я попала в больницу. Передозировка. Врачи думали, что я не выживу. Директор вызвал мать и отца в Сан-Франциско. И как ты думаешь, что случилось? Этот пьяница и эта дама полусвета лишили меня наследства. Абсолютное лицемерие! Я оказалась недостойной. Все получил Эстебан. Именно
он!
Пристально глядя мне в глаза, она переводит дыхание, чтобы сказать что-то очень важное, но вдруг обрывает себя и смотрит в сторону. Когда она продолжает, то говорит совершенно не то, что хотела. Я раздумываю почему. Может быть, потому, что она меня еще плохо знает. Или ей тяжело произнести вслух то, что она хотела сказать.
— Пройдя курс лечения и сдав экзамены, я провела многие годы в Лондоне, Риме, Рио-де-Жанейро. Замужем никогда не была. Но и в одиночестве не жила. И только много лет спустя, после того как умерли мать с отцом, я вернулась сюда домой. Эстебан же так вжился в роль отца, что мне начинает казаться, будто это один и тот же человек.
— Почему тебе захотелось вернуться?
Она опускает взгляд.
— Потому, — говорит она подчеркнуто упрямо, — что я часть всего этого. Никто не может отнять этого у меня. Никто! Ни мать, ни отец, ни Эстебан. Особенно Эстебан. — Потом она смягчается. — А еще потому, что здесь мне работается лучше всего. В нашей библиотеке с историческими документами. И рядом с Библиотекарем, конечно.
— С кем?
— С коллегой. И другом. Ты с ним встретишься.
В приливе бессмысленной ревности я лихорадочно пытаюсь понять, не является ли этот человек чем-то большим для Беатрис, нежели просто коллегой и другом.
— Твой брат сказал, что ты работаешь над докторской диссертацией?
— Ха, откуда бы ему знать? Ну да, работаю. Я изучала теологию и историю в университете Беркли. Сейчас у меня статус приглашенного профессора в Университете Санто-Доминго, но в основном я работаю в библиотеке дворца.
Мы сидим и говорим до двух часов ночи. Все это время я представляю ее лежащей в моей постели, обнаженную, с волосами, рассыпавшимися по шелковой простыне, с горячим дыханием, сверкающими глазами, маленькими острыми грудями и пирсингом в пупке. Мы говорим о различиях между
new age[95] и религией, между жизнью людей в Южной и Северной Америке, о выходе первых людей из Африки и создании первых человеческих племен. Я представляю себе, как она обвивает своими ногами мои бедра, как она поддается моим движениям, царапая мне спину. Она рассказывает мне о своих друзьях из «
Grateful Dead» и «
Jefferson Airplane»[96] и о галлюцинациях, вызываемых ЛСД и мескалином. Я говорю — довольно двусмысленно, — что мне не нужны стимулирующие средства, чтобы добиться галлюцинаций. Она отвечает не менее двусмысленно, что знает это.
Когда мы желаем друг другу спокойной ночи, она обнимает меня и целует в щеку, как будто хочет сказать, что, если бы я был во Фриско в 1967 году, мы вполне могли бы… Или мне это только кажется. В сущности говоря, 1967-й — это год моего зачатия.
Ее прикосновения горят на моей коже, когда я укладываюсь спать.
3
Весь следующий день я провожу в библиотеке.
Я даже мельком не вижу Беатрис, Библиотекаря или Эстебана. Компанию мне составляют книги, письма, манускрипты и ящики со старинными картами Карибских островов и побережья Американского континента.
Библиотека расположена на первом этаже, широкие сводчатые окна выходят в парк. Из продолговатого вестибюля идут десять проходов. Некоторые заполнены книгами от пола до потолка, в других стоят шкафы и секции из ящиков, где документы, письма, карты и прочее систематизировано по географическому, тематическому и хронологическому принципу. В самом конце библиотеки есть большая тяжелая двустворчатая дверь с медной ручкой. Я берусь за ручку. Дверь заперта. На стене я обнаруживаю кодовый замок, устройство, считывающее рисунок пальцев, и сканер, определяющий цвет глаз.
Случайно я натыкаюсь на секцию, посвященную грабежам морских пиратов в Карибском море. Среди протоколов судебных заседаний и смертных приговоров я вижу ксилографии прославленных пиратов и каперов, которые позируют, словно короли. В трухлявой картонной папке лежат длинные письма предкам Эстебана от таких легендарных фигур мира пиратов, как Генри Морган, Френсис Дрейк и Черная Борода — Эдвард Тич. Деревянный ящик полон документов того времени, когда США состояли из тринадцати колоний: письма, договоры и даже один из первоначальных набросков Томаса Джефферсона к Декларации независимости. После завтрака, который я вкушал в одиночестве под зонтом от солнца на библиотечной террасе, я обнаруживаю скандинавский отдел с огромным количеством редких первых изданий книг и рукописей и язвительные письма, которые посылали друг другу Гамсун и Ибсен.
Ближе к вечеру в библиотеку заходит Эстебан. Он делает вид, что случайно наталкивается на меня, как будто он просто искал интересную книгу, чтобы почитать на сон грядущий. Но я не такой простофиля.
Я спрашиваю, что находится за запертой дверью. Он говорит, что там хранятся наиболее ценные и редкие книги и документы.
Но к чему такая охрана? Как будто какому-то вору придет в голову вынести из дворца Мьерколес хотя бы запятую…
— Бьорн, вернемся к манускрипту, который вы нашли в Исландии.
Опять.
— Скажите мне, — говорит он, — дело в деньгах?
Вопрос такой неожиданный, что я не нахожусь с ответом.
— В моем распоряжении средства, которые сделают вас более чем состоятельным человеком. Это даст вам возможность найти в жизни что-нибудь поинтереснее, чем работа старшего преподавателя университета Осло.
— Я люблю свою работу.
— Вы полюбите свою новую жизнь еще больше.
— Почему этот манускрипт так важен?
— Он сделает собрание более полным.
Это не ложь, но и не вся правда.
— Мне надо подумать.
Я не собираюсь ничего ему продавать. Но мне нужно время. Время, чтобы понять.
Он широко улыбается, словно мы только что подписали важный договор и теперь только и ждем, когда высохнут чернила.
Оказывается, я опять забыл мобильный телефон в ящике столика у кровати. Профессор Ллилеворт звонил мне восемь раз и в конце концов послал эсэмэску:
Хассана и Стюарта Данхилла освободили. У полиции к ним ничего нет. Позвони!
Профессор отвечает после первого же звонка. Он рассказывает, что районный суд Вашингтона освободил Стюарта и Хассана.
— Как это возможно?
— Суд решил, что у обвинения нет удовлетворительной доказательной базы.
Против них вообще ничего нет. Стюарт и Хассан не были вооружены в момент задержания. Адвокаты привели убедительные доказательства того, что их подзащитных пригласили как посредников для участия в переговорах по поводу продажи коллекции средневековых документов. О том, что кто-то взял в заложники меня и Лору, что некоторые лица из числа присутствующих были вооружены, они не имели ни малейшего представления.
— Хассан объявлен в розыск как военный преступник и убийца.
— Хассан умер.
— Умер? Что ты сказал?
— Официально такого человека нет. Паспорт, свидетельство о рождении, посольство Ирака и различные международные учреждения, включая Гаагский суд, подтверждают, что подозреваемый — Джамаль Абд аль Азиз. Кроме этого, адвокат предъявил официальное свидетельство о смерти Хассана.
— Но…
— Не задавай мне вопросов. Это говорит о том, что кто-то сумел договориться со всеми инстанциями. Даже портреты Хассана были изменены. Суд не поверил ни одному слову из того, что сказал обвинитель.
— Но ведь это чистой воды жульничество!
— Судья был непоколебим.
— Значит, судья был подкуплен. Сколько же денег ему дали?
Я спрашиваю профессора, куда направились Стюарт и Хассан. Но он этого не знает.
— Если тебя это утешит, то других членов группы задержали для дальнейшего разбирательства. У них было обнаружено незарегистрированное оружие, на ношение которого к тому же подозреваемые не имеют разрешения.
— Слабое утешение.
— Отнесись к этому спокойно, Бьорн. Они не могут знать, куда ты уехал.
— Это не очень успокаивает.
— Нам приходится уважать решение суда. Процессуальная защита бывает за нас, а бывает и против нас.
— А как с
моей защитой?
— Дворец Мьерколес для тебя сейчас является самым спокойным и самым надежным местом.
СВЯЩЕННАЯ БИБЛИОТЕКА
1
— Беатрис, можно тебя кое о чем спросить?
— Конечно.
Она пригласила меня к себе обедать. Мы сидим у окна в ее столовой. У нее есть собственная квартира, которая расположена в северной части дворца. Мы вдвоем. Только Беатрис и я. Если кому-то что-то пришло в голову, оставьте свои мысли при себе.
— Что находится за запертой дверью в библиотеке?
— Книги.
Повар приготовил вегетарианское блюдо: спаржа на пару, жареные помидоры и перец с начинкой из риса и пряностей. Беатрис ест перепелиную грудку в соусе из белого вина. Она улыбается и поднимает бокал. Я поднимаю свой.
Она явно не в себе. Пытается непринужденно улыбнуться, но видно, что ее что-то гложет. Она решается отбросить сдержанность, когда я доедаю последнюю спаржу. Сначала смотрит на остатки перепелиной грудки. Потом поднимает взгляд на меня:
— Ты собираешься отдать ему манускрипт?
Я медленно дожевываю. Спаржа принадлежит к числу моих самых любимых овощей. Ее ни в коем случае нельзя переварить при приготовлении, она должна оставаться слегка хрустящей.
— Кому? Я никому ничего не обещал.
— Эстебану. Он говорит, что ты приехал для того, чтобы продать ему этот манускрипт.
— Он все не так понял. Это он сказал, что ему нужен манускрипт. А я сказал, что подумаю. Точка. Это вообще не моя собственность. Почему я должен продавать то, что мне не принадлежит?
— Он готов размахивать у тебя перед глазами миллионами долларов.
— Меня не интересуют деньги.
— Он тебя обманет. Держи манускрипт как можно дальше от Эстебана.
Беатрис вытирает кончики губ салфеткой с фамильной монограммой.
— Если честно, Беатрис, я абсолютно не понимаю, что ты хочешь мне сказать.
Она смотрит в окно. Свет прожекторов высвечивает в синеватой темноте парка мерцающие деревья. Лампа на террасе привлекла множество насекомых и не отпускает их от себя.
— Все просто. Не доверяй Эстебану. Никогда.
— Он твой брат.
Она фыркает. В глазах появляется блеск ярости.
— Ты можешь вообразить себе жизнь в семье, которая состоит из предателей и лжецов?
Вообще-то, могу. Мама перед смертью спросила меня, простил ли я ее за происходившее в те дни, когда папа упал со скалы в Телемарке. Я гладил ее по щеке и сказал:
— Ну конечно.
Но это была неправда.
Ничего из этого я не рассказываю Беатрис. Пока. И все же она протягивает руку и кладет на мою. Изящную загорелую ручку на мою белую как снег ручищу.
— Эстебан говорит, что рассказал тебе все.
— Да. Хотя нет, пожалуй, не все.
— Нет, не все.
Некоторое время мы молчим.
— Когда ты смотришь на меня, — говорит она, — тебе, наверное, трудно представить себе, что я происхожу из древнего рода викингов. Нет-нет, не отвечай. Во мне карибские гены давно победили скандинавские. — Она сжимает мою руку и отпускает ее. — Очень нехорошо стыдиться своей семьи, своих предков.
— У тебя есть причина стыдиться?
— Ты даже не подозреваешь…
— А я гордился бы упорством твоих предков. Подумать только, они охраняли мумию на протяжении нескольких столетий.
Она смеется коротко и холодно, как уличная женщина рассмеялась бы в ответ на вопрос постоянного клиента, любит ли она его.
— Могу представить себе, что тебе наплел Эстебан.
— Думаешь, он лгал?
Открывается дверь. Шеренга официантов убирает тарелки и ставит на стол десерт: подогретые ягоды с ванильным мороженым домашнего приготовления. Наливают десертное вино в маленькие хрустальные рюмки и закрывают двери так тихо, что я оглядываюсь, чтобы убедиться, ушли ли они.
— Да. Лгал. Многое было правдой. Возможно, даже большая часть. Но в самом главном он лгал.
— Почему?
— Эстебан отравлен прошлым.
— Что это значит?
— Все мы — результат выбора наших предков.
— М-да. Но у нас, людей, ведь есть воля.
— Некоторых людей эта воля губит.
— Ты про Эстебана?
— Мой брат развращен изменами, двойной моралью и беспринципностью многих столетий.
Она с видимым усилием произносит каждое слово.
Я вопросительно и беспокойно смотрю на нее, обсасывая теплую ягоду малины. От внутреннего напряжения Беатрис покраснела.
— Что ты хочешь сказать, Беатрис?
Серебряной ложкой она перекидывает одну черничку в тающее ванильное мороженое. Глаза полны слез.
— А каким образом, по-твоему, мои предки построили такой дворец?
— Золото инков?
Тихий смех.
— Золото инков и ацтеков тоже тут есть, да. Хранители присоединились к конкистадорам и грабили, верные своей викингской крови, богатства и здесь, на островах Карибского моря, и на континенте. Леон. Веласкес. Кортес. Писарро. Де Сото. Де Коронадо. Мы были рядом с ними. Семейная легенда рассказывает, что мои предки нашли на Южно-Американском континенте Эльдорадо, легендарный город золота, что наши деньги пришли именно из Эльдорадо.
— А разве Эльдорадо не миф?
— Кто знает?.. Основа невероятного богатства моей семьи была заложена в XVI и XVII веках. Много золота было добыто во время грабительских набегов конкистадоров. Но немалые суммы мы получили и из Европы.
— От кого?
— От самого могущественного учреждения в Европе XVI века.
— И это?..
— Теперь я задам тебе вопрос. Как ты думаешь, на протяжении скольких столетий братство, которое ты называешь хранителями, сохранило верность заветам Асима и своей миссии?
Все последнее время я надеялся, что Эстебан — хранитель, человек, который честно и благородно выполняет миссию, выпавшую на долю предков.
— Мои предки — предатели, Бьорн. Они предали Асима, они предали всех, кто пожертвовал жизнью ради выполнения миссии.
— Как?!
— Многие люди считают, что Колумб привез в Америку европейское разложение, европейский упадок. Открытие европейцами Америки стало крахом аборигенов. Но также и крахом хранителей. Их увлекли деньги. Сила. Власть. Мы, Эстебан и я, тоже принадлежим к плебеям, к сброду. Карибские острова никогда не были целью хранителей. Они собирались вернуться в Европу. И все-таки остались здесь. А ты не задаешь себе вопрос — почему?
— Почему?
— Из-за жадности.
— Не понимаю…
— В каком-то смысле они продолжали быть хранителями. Но теперь они сохраняли завещанную некогда им тайну для нового работодателя.
— Кого же?
— Если ты сложишь два и два, то получишь ответ.
— У меня всегда были проблемы с математикой.
— Они остались здесь, в Санто-Доминго, во дворце, который был построен самыми лучшими архитекторами и инженерами Европы. Взяли себе испанские имена. Некоторые хранители остались в Санто-Доминго, во дворце Мьерколес.
Это мои предки. Другие вернулись на испанских торговых судах в Европу, где получили аристократические титулы, огромные поместья и много денег, больше, чем они могли себе представить. Несколько человек истинных хранителей осмелились протестовать, их убили. Самых честных убивала инквизиция по прямому приказу Ватикана. В живых оставались только те, кто изменил данным ранее обещаниям. Их потомки по сей день живут во дворцах Италии, Франции и Испании.
— И кто же стоял за всем этим?
— В то время, в первые годы после прибытия хранителей в Санто-Доминго, папой римским был Юлий II. Он остался в памяти потомков по многим причинам. Его называли папа-солдат. Он любил интриги и боролся за власть. В 1506 году он создал Швейцарскую гвардию, которая и по сей день охраняет Ватикан и папу. Он был инициатором строительства того здания собора Святого Петра, которое существует до сих пор. Он поручил Микеланджело украсить потолок Сикстинской капеллы. Микеланджело получил также задание создать надгробие папы со знаменитой статуей Моисея.
— Я по-прежнему не вижу связи.
— Если говорить прямо, это Ватикан.
— Но почему? Мы говорим, если мне будет дозволено напомнить, о мумии. О грабительском походе викингов. О неких папирусных манускриптах.
— Ни Асим, ни хранители не имели понятия о значении того, что охраняли. Ничего не зная, они охраняли мумию и тексты, которые совершат переворот в восприятии иудаизма, христианства и ислама.
Я не знаю, как реагировать. Слова Беатрис кажутся ошеломляющими, нереальными.
— Не обессудь, но все это больше похоже на абсурд.
Беатрис подцепляет десертной ложечкой черничнику и отправляет ее в рот.
— Что это за тайна, если у нее могут быть такие последствия? Мумия Бога? — спрашиваю я, пытаясь засмеяться, но получается что-то вроде сухого кваканья.
Беатрис отпивает из бокала и закрывает глаза. Неяркий свет стирает с нее морщины и делает той молодой, которая при свете луны танцевала в Хейт-Эшбери.
— Мне надо у тебя спросить кое о чем, Бьорн.
— Сколько угодно.
— Тот манускрипт… — Она останавливается, как будто не знает, сможет ли правильно выразиться.
— Да?
— Что ты о нем знаешь?
— Это копия и перевод XI века более старого оригинала Библии.
— Ты уже читал этот текст?
— Его продолжают переводить.
— Я надеюсь, что ты хорошо спрятал пергамент.
— Конечно. Он в надежном месте.
— У тебя есть копия?
Этот вопрос Эстебан не задавал мне никогда.
— Естественно.
От удивления у Беатрис открылся рот.
— Хочешь посмотреть? — говорю я и протягиваю ей руку.
В библиотеке я включаю компьютер и через Gmail.com выхожу на электронный адрес преподобного Магнуса. В его почте под названием «Кодекс Снорри» выложена оцифрованная версия «Свитков Тингведлира».
— О боже! — восклицает Беатрис, когда я показываю документ.
Ясно и отчетливо светится на плоском экране старинный пергамент.
— Библиотекарь не поверит своим глазам. Как ты думаешь… — Она молчит, потом продолжает: — Мне можно сделать распечатку?
Я нажимаю на иконку «печать». Она благодарно сжимает мое плечо. Большой лазерный принтер пробуждается к жизни. Когда весь документ распечатан, я говорю:
— Ты так и не ответила на мой вопрос.
— Какой вопрос?
Я киваю в сторону запертой двери.
— Ах, это. Идем.
Она тянет меня к двери, у сканера, распознающего входящих по радужной оболочке, останавливается и долго смотрит. Загорается зеленый огонек. Она набирает кодовый номер. Замок жужжит, и она открывает тяжелую дверь.
2
Мы попадаем в мир ушедшего, в мир загадок. Фрески на стенах и на потолке показывают главные события библейской истории. Если бы у меня не было информации, я подумал бы, что Микеланджело заходил сюда со своим мольбертом и кистями. Под куполом висят люстры. На полках и в нише стоят прекрасные иконы и шкатулки. Внутренним слухом я воспринимаю звуки григорианских церковных песнопений. На самой дальней короткой стене висит крест с изображением страдающего Христа.
Elí, Elí, lemá sabaktáni? — Мой Бог, мой Бог, почему ты меня покинул? В стеклянной витрине на высоком пьедестале я вижу терновый венец. Но ведь не может быть, чтобы это был тот самый венец. А спросить я не отваживаюсь. Под крестом на столе с белой скатертью горят высокие белые стеариновые свечи в
меноре — подсвечнике для семи свечей. Вдоль стен между фресками стоят шкафы со стеклянными дверями и ящиками. Окна в глубоких стенах закрыты надежными решетками из кованого железа. Под потолком камера слежения.
— Добро пожаловать в Священную библиотеку, — говорит Беатрис. — Здесь мы храним самые редкие и самые ценные сокровища.
Мы идем в библиотечный зал по ковровой дорожке, мягкой, словно мох в лесу.
Беатрис останавливается около одного из стеклянных шкафов. Вынимает кодекс в деревянном переплете. Я стою сзади и смотрю поверх ее плеча. Очень осторожно открывает книгу.
— Это оригинал манускрипта
De Transitu Virginis («Вознесение Девы Марии»), написанный примерно в 169 году святым Мелитием Сардинским. Поскольку Мария была Матерью Сына Божьего, вряд ли она могла умереть как простая смертная. Ее тело и душу после того, как закончились ее дни на земле, приняли на небесах.
Я благоговейно смотрю на красивые буквы, каждая из которых написана с любовью и верой.
Беатрис тянет меня к другому шкафу, открывает ящик. На шелковой подушке лежат две золотые монеты. Эти монеты приписываются Николаю Мирликийскому, или святому Николаю. В современном изложении это не кто иной, как Санта-Клаус. Однажды он спас мужчину и его трех дочерей от бедности и проституции, бросив к ним в окно и через печную трубу несколько мешочков золотых монет.
Из позолоченной шкатулки она достает золотую коробочку с ветхим документом, лежащим между двумя гладкими пластинками.
— Это приказ о казни Иисуса Христа, который написал Понтий Пилат.
— Как вам удалось достать все это?
— Мы всегда были в хороших отношениях с Ватиканом. Некоторые папы, кардиналы и епископы использовали нас в своих целях. Когда бушевали теологические дебаты, они предпочитали отделываться от документов, которые не хотели отдавать врагам. Дворец Мьерколес является более надежным местом, чем собственный архив Ватикана. Потерявшие веру архивариусы и кардиналы всегда представляли опасность для Ватикана. А на нас они могли полагаться.
— Совершенно непостижимо, Беатрис, совершенно непостижимо!
— Не все это пришло из Ватикана. Еще мы покупали манускрипты, письма, книги, кодексы и пергаменты как
официально, так и на черном рынке. Мы финансировали раскопки. Подкупали археологов, исследователей и искателей приключений. Купив все эти сокровища, мы, по крайней мере, воспрепятствовали их исчезновению.
— Для ученых и для публики не имеет ни малейшего значения, находятся они за запертыми дверями дворца Мьерколес или у шейха Ибрагима в Эмиратах.
— Шейх перехватил у нас из-под носа множество документов. Хотя он может сказать про нас то же самое. Подожди, я хочу представить тебе одного человека.
3
Он такой высокий, тощий и бледный, что, если бы свет падал сзади, его, наверное, можно было бы вообще не увидеть. Кожа белая как мел. У меня такая же. Может быть, именно поэтому я сразу чувствую к нему симпатию. Под пушком седых волос на голове я вижу рисунок из пигментных пятен. Нос заостренный, изогнутый, с торчащими из ноздрей волосами. Взгляд обращен внутрь себя, в тот мир, в который он никого не пускает.
Спальня его одновременно является кабинетом. Когда мы постучали, он пил свой вечерний чай у конторки, покрытой бумагами, книгами и документами.
— Это Библиотекарь, — говорит Беатрис. — Мы называем его только так: Библиотекарь.
Он протягивает жилистую руку. У меня такое ощущение, будто у меня в руке кости скелета.
— Я читал про вас, — говорит он слабым, тихим голосом, почти что шепотом.
Беатрис с нежностью кладет свои руки на его высохшие плечи:
— Мы старые друзья. Я знаю его всю мою жизнь. Он был моей первой нянькой. Потом стал моим другом, ментором. Он живет здесь, во дворце Мьерколес, с 1942 года, со времени, когда бежал из Варшавы…
— …мальчишкой, надо добавить, мальчишкой!..
— …и после Копенгагена, Бостона и Гаваны попал сюда. Мой отец пожалел его во время одного из редких порывов сострадания. Именно Библиотекарь пробудил во мне интерес к истории и теологии. Ко всему, что скрыто в старинных документах.
— Я понимаю так, что вы разделяете нашу преданность к сокровищам прошлого, — произносит Библиотекарь голосом, похожим на шелест страниц книги, забытой на скамейке в парке.
Когда наши взгляды встречаются, мне кажется, что он открывает дверь в свой внутренний мир. Словно завороженный я смотрю на бесконечный коридор с книгами, покрытыми пылью веков. Но иллюзия проходит, и я опять вижу только слезящиеся глаза с лопнувшими сосудами.
Он наклоняет голову:
— Беатрис приятный человек, ведь правда? Вы должны быть счастливы, что добились ее дружбы.
Я не знаю, что надо сказать в ответ. В его высокопарной манере ощущается доля иронии, он подвергает меня испытанию.
— Когда я жила за рубежом, — говорит Беатрис, — письма и телефонные звонки Библиотекаря держали меня в курсе всего, что происходит во дворце. Когда я ехала домой, то больше всего радовалась встрече именно с ним.
Библиотекарь вопросительно моргает, глядя на распечатку, которую Беатрис держит в руке. Она незаметно кивает. Он прикусывает нижнюю губу. Она протягивает распечатку. Трясущимися руками он берет пачку бумаги. Вынимает из кармана очки для чтения. Тяжело дыша, рассматривает листы. Взгляд скользит по строчкам.
— Наконец-то, — шепчет он несколько раз. Смотрит поверх очков на Беатрис. — Это оно!
4
Библиотекарь наливает три бокала хереса. Мы с Беатрис сидим на его кровати. Сам он располагается на высоком стуле у конторки.
— Король викингов Олаф не имел ни малейшего представления о том, что он похитил, — говорит Библиотекарь. От хереса на верхней губе остался влажный след. — Он, скорее всего, охотился за золотым ларцом, в котором были документы.
— Папирусный оригинал свитков, — говорит Беатрис, — находится здесь, во дворце Мьерколес.
— Эстебан говорит, что в ларце нет ничего интересного.
— Эстебан лжет.
— Можно на него посмотреть?
— Это не так-то просто. Доступ к нему имеют только Эстебан и я. Это гарантия сохранности. Каждый раз, когда открывается дверь в хранилище, это автоматически фиксируется. Эстебан будет знать.
— К сожалению, оригинал не является полным, — говорит Библиотекарь. — Сухой воздух пустынь Египта очень хорошо сохраняет папирус. Морской воздух Норвегии и Исландии менее, скажем так, благоприятен. Часть папируса уже разрушилась. Многое нельзя прочитать. Для того чтобы прочитать и перевести текст правильно, нам нужна неповрежденная копия из Тингведлира.
— Не пора ли вам рассказать, что же такое особенное есть в этом манускрипте?
— Это оригинал текста из Библии.
— Это я уже понял. Но что тут есть такое, чего боится Ватикан?
Библиотекарь встает и наполняет почти опустевшие бокалы хересом. Завинчивает пробку бутылки.
— Боится… Все не так просто. Тысячу лет тому назад Ватикан учитывал совсем другие обстоятельства, чем сегодня. Я не знаю, как бы действовал Ватикан, если бы сегодня обнаружился этот манускрипт. Но тысячу лет назад их охватила паника.
— Почему?
— Потому что Церковь на протяжении столетий распространяла идею, что слово Библии есть Слово Божие! — произносит Библиотекарь агрессивно. — А если Ватикан признает, что Библия есть… ну да, всего лишь собрание хороших, поучительных историй, написанных людьми, измененных людьми, собранных и отобранных людьми, то авторитет и вес Библии и Церкви пошатнется.
— Все теперь знают, что Библию не надо понимать буквально. Библия есть свидетельство чего-то более важного. Не многие люди верят буквально в Библию, как когда-то.
— Разве? Спроси гомосексуалистов. Спроси женщин. На протяжении двух тысяч лет взгляды Церкви вдалбливались в нас. Тебя удивит, как много людей принимает слова Библии за слова, которые Бог обратил к нам, людям, и чуть ли не сам водил пером. Но некоторые верующие воспринимают слова Библии как источник взаимопонимания, поклонения и созерцания, вдохновленного Богом и переданного людьми. И все же… Силы, вызвавшие Крестовые походы, инквизицию и рабство, процветают и по сей день.
— Я думал, что все это изменилось, начиная с Лютера.
— Ну-у… Вспомним слова Павла о гомосексуализме. Апостол, который проповедует необходимость любви, прощения и сострадания, осуждает гомосексуализм и срывает аплодисменты у многих Отцов Церкви. — У Библиотекаря пена на губах. — Как ты думаешь, что сказал бы Иисус о ненависти к гомосексуалистам, которую проявляют некоторые верующие?
— Спокойнее, — говорит Беатрис, наклоняется и похлопывает его по ноге.
— Павел жил в другую эпоху, — говорю я.
— Именно так! И это доказывает, что Библия — принадлежность ушедшей эпохи. Сегодня, да-да,
сегодня Церковь осуждает то же самое рабство, которое она длительное время безоговорочно поддерживала. А гомосексуалистов преследуют до сих пор с дьявольским усердием и ненавистью.
Библиотекарь тяжело дышит после взрыва возмущения и держится за конторку.
— С тобой все хорошо? — спрашивает Беатрис.
— Да-да-да!
— Он легко увлекается, — говорит она мне. — Но я с ним согласна. Библия — литературный и мифологический шедевр, который принадлежал своему времени, своему народу, своему миру. Сегодня мы можем сделать выбор: читать Библию как религиозную проповедь или как философский манифест. Как провозвестник Слова Божиего Библия может выступать только при наличии веры в это у читателя. Авторитет Библии зависит от силы и бесспорности текста.
Беатрис переводит дух.
Тут же вступает Библиотекарь:
— Наша Библия получила одобрение Отцов Церкви более полутора тысяч лет назад. На протяжении столетий папы и церковники, священники и проповедники объединились на основе непогрешимости Библии. Критиковать Библию — это все равно что отвергать Бога. Защищая и распространяя слово Божие, люди развязывали войны. Миллионы были убиты во имя Библии.
Когда у Библиотекаря начинается приступ кашля, я успеваю вставить свой вопрос:
— Каким образом «Свитки Тингведлира» могут поколебать ее авторитет?
Пока Библиотекарь переводит дыхание, Беатрис отвечает:
— Самый основополагающий документ из всех существующих, теологический фундамент иудаизма, христианства и ислама — Книги Моисея. Повествование о создании мира. История патриархов. Исход из Египта. Земля Ханаанская. Каин и Авель. Законы. Указы. Десять заповедей. Все эти рассказы образуют фундамент нашего культурного наследия и представления о мире. — Она постукивает кашляющего Библиотекаря по спине. — Моисей — один из самых влиятельных образов всей мировой истории. Половина населения земли основывает свою веру на его словах. Всемогущий Бог, выступающий в Книгах Моисея, — это тот Бог, которому молятся христиане, иудеи и мусульмане.
К этому моменту Библиотекарю удалось отдышаться, он быстро выпивает херес.
— Что было бы, если бы обнаружилось, что некоторые документы из тех, что составляют Ветхий Завет, являются фальшивкой? — спрашивает он.
— Фальшивкой? — как эхо, повторяю я. — Какой фальшивкой?
— Как бы вы отреагировали, если бы я сказал, что Книги Моисея есть сумма многочисленных древних текстов и преданий?
— Мне кажется, что это самое первое, что слышат студенты, приступившие к изучению теологии.
— Но забавно, как они скрывают это знание. Большинство людей как раз не знают, что Книги Моисея и многие другие части Ветхого Завета являются собранием вавилонских мифов, финикийских, хеттских и египетских сказаний, к которым добавлено изображение Единовластного Бога и создание монотеистической религии. И нового государства. Многие отметут все это как еще один миф. Теорию конспирации. А кто-то — специалисты, критически настроенные теологи и ученые — признает, что да, в конце концов Библия является уникальным собранием древних текстов в новом переплете и с новым названием.
— Но конечно, можно проигнорировать всю эту проблематику, если ты убежден, что Библия — Божие Слово, — говорит Беатрис.
— А еще можно рассматривать Библию как характерное для одной из культур изображение прошлого в мифологическом виде и надежду на идеальное будущее, — продолжает Библиотекарь. — Книга о неистребимой мечте о чем-то неземном и прекрасном. Еще хереса?
Я протягиваю бокал, он наполняет его до краев. У Беатрис еще полбокала вина, она защищает бокал рукой.
— А теперь представьте себе… — говорит Библиотекарь и отставляет бутылку в сторону, — представьте себе, что будет, если кто-то предъявит неопровержимые доказательства того, как возникали Книги Моисея и как создавалась новая религия.
— Какого рода доказательства?
— «Свитки Тингведлира»!
Беатрис и Библиотекарь смотрят на меня вопросительно-вызывающе.
— В мире два миллиарда христиан. Половина из них католики, — говорит Библиотекарь. — Полтора миллиарда мусульман. Четырнадцать миллионов иудеев. Для многих из этих богобоязненных людей Книги Моисея — фундамент Их веры. Ведь Моисей проложил дорогу для веры Иисуса и Мухаммеда.
— Поэтому так и важен этот манускрипт, — говорит Беатрис. — Он рассказывает историю по-другому.
— Папа ни при каких условиях не признает публично, что тексты, вокруг которых объединились Отцы Церкви, были неполными, — говорит Библиотекарь. — Он не может сказать, что Библию надо переписать. Это немыслимо! Он не может сказать, что в Книгах Моисея есть ошибки, которые надо исправить. Если бы он сделал это, он нанес бы удар в спину своим предшественникам, жившим на протяжении двух тысяч лет. Он признал бы, что Библия, несмотря на все свое литературное великолепие, не Слово Божие, а создание человека.
— Библия, — говорит Беатрис, — превратилась бы в хорошо написанную красивую книгу сказок, наполненную видениями умных людей о Боге и рае, о котором мы все можем мечтать.
— Но который является всего лишь фикцией, — говорит Библиотекарь.
ШЕСТАЯ КНИГА МОИСЕЯ
1
Мы перешли на террасу. Беатрис взяла с собой вино, толстую свечу и спираль от комаров, которая мучит меня больше, чем комаров. Библиотекарь вернулся в дом за бокалами.
— Почему он такой злой? — Я киваю в сторону двери и Библиотекаря.
— Во время войны он и его родители пытались спрятаться в одном костеле в Варшаве. Священник их выгнал. Он не хотел давать приют евреям. Мальчик-служка выбежал на улицу и позвал солдат. Его отца расстреляли прямо на лестнице перед костелом. Мать попала в концлагерь и там погибла. Библиотекарю удалось сбежать от солдат. Ему было десять лет.
Библиотекарь выходит с бокалами.
— Какие вы тихие, — замечает он вслух, открывая первую бутылку и разливая вино.
— Ты говоришь за всех нас, балаболка. — Беатрис зажигает стеариновую свечу.
— Я просто увлечен, — отвечает Библиотекарь.
Мы поднимаем бокалы.
Библиотекарь погружается в кресло и внимательно рассматривает цвет бургундского вина.
— Вы способны воспринять еще порцию моих поучений? — спрашивает он меня добродушно.
Я тихо смеюсь:
— У меня есть выбор?
— Нет, — говорит Беатрис.
2
Библиотекарь держит бокал за ножку, потом опускает его на стол.
— Нам легко думать о Библии как о чем-то однородном, Божественном и неизменном. Но ведь Библия есть результат целенаправленной редакционной и вполне человеческой обработки. Тексты Библии носят отпечаток личной веры редакторов, а также политической и теологической обстановки в момент их написания и более позднего объединения. Вообще не существует одной-единственной Библии, с которой были бы согласны все верующие. Иудеи, христиане, православные, католики, протестанты — все имеют
свою версию Библии. Так вот, если говорить коротко, «Свитки Тингведлира» представляют собой полную копию на иврите и перевод на коптский язык древних текстов. Можете назвать их черновым наброском будущей Библии. Исходным текстом. Позже разные авторы редактировали, обрабатывали и приспосабливали эти тексты, чтобы в результате получилась одна связная история.
— И эта история, — говорит Беатрис, — называется Книги Моисея.
У меня мурашки забегали по коже.
— «Свитки Тингведлира», — продолжает Библиотекарь, — это первоначальные тексты, которые легли в основу Книг Моисея.
— Эти оригиналы не только показывают, как рождалось Пятикнижие Моисея, каждая глава, каждая страница, — говорит Беатрис, — там есть и то, что было удалено.
— Ого! — Единственное, что пришло в голову из наиболее подходящего к данному случаю.
— А кроме того, — говорит Беатрис, — в текстах есть еще одна Книга Моисея.
— Еще одна? Как это?
Она пожимает плечами.
Библиотекарь делает глоток:
— В манускрипте есть Шестая книга Моисея.
3
Мне требуется время, чтобы собраться с мыслями. Неизвестная книга Моисея? Утверждение кажется безумным. Но в этом случае все встает на свои места. Стремление удержать все в тайне. Шейх и Хассан. Ватикан. СИС.
— Я знаю, в это трудно поверить, — говорит Библиотекарь.
Где-то далеко в городе звучит выстрел. А может быть, это просто глушитель с дефектами в какой-то машине.
— Все, что мы смогли прочитать, — сообщает Беатрис, — это некоторые отрывки из частично поврежденного оригинала, который находится здесь, во дворце. Поэтому «Свитки Тингведлира» невероятно важны. В них оригинальный текст сохранился полностью.
— Если верить имеющимся у нас фрагментам, Шестая книга Моисея рассказывает о детстве и юности Моисея. Эти новые правила того, как надо жить, окажут воздействие на иудаизм, христианство и ислам. Бог говорит нечто новое о том, кто Он, почему Он создал Землю и что Он ожидает от людей. Он делает намек на то, что существуют другие боги, но что именно Он создатель людей и Земли.
— Бог излагает положения, которые гностики
[97] и катары
[98] защищали гораздо позже, — подхватывает речь Библиотекаря Беатрис. — Шестая книга Моисея идет далеко в ослаблении Церкви и позиций ее служителей. Бог осуждает всех, кто по собственному усмотрению истолковывает Его неправильно. Истинная вера в Бога живет в каждом из нас. «Самый святой храм, — говорится там, — ты найдешь в своем сердце». Бог предостерегает Моисея от ложных священников, которые будут использовать Церковь в качестве базы для своей собственной власти.
— Шестая книга Моисея посвящает четыре главы Сатане и еще три известным и неизвестным архангелам и ангелам. Бог называет Сатану своим падшим сыном и говорит о нем с отцовской любовью. То, что мы понимаем под
злом, — это прежде всего отсутствие Божественного.
Я чуть-чуть пригубил из бокала и пытаюсь вникнуть в сказанное.
— Шестая книга Моисея изменит многое в восприятии других Книг Моисея, — говорит Библиотекарь. — Но кто-то — по каким причинам, это нам неизвестно — изъял ее. Если ее канонизировать, то это приведет к тому, что трем большим религиям мира придется приспосабливаться к ней.
— Каким образом?
— Это мы узнаем только тогда, когда прочитаем полный текст. Делать выводы на основании уже сделанных переводов было бы гаданием. Вот один пример того, — Библиотекарь вынимает из внутреннего кармана листок с коротким текстом и протягивает мне, — как мы зависим от «Свитков Тингведлира».
Когда ты молишься твоему Богу,
Он… (неразборчиво)… и ты
найдешь… (неразборчиво)… одно,
так же как Он… (неразборчиво)… создал.
Ты не должен… (неразборчиво)… уже нашел…
(неразборчиво)… и Он… (неразборчиво)…
— Разборчивый текст переведен с поврежденного папирусного оригинала, находящегося здесь, во дворце Мьерколес, — объясняет Библиотекарь. — Но для того, чтобы заполнить лакуны, то есть пропуски в местах, где папирус разрушен, нам нужна копия Асима. Текст бывает бессмысленным, когда в нем пропуски.
4
Моисей и израильтяне сорок лет ходили по пустыне в жаре. Я им очень сочувствую. Мое путешествие по пустыне изнуряет меня тоже. И оно еще продолжается.
Библиотекарь входит с переплетенным зачитанным экземпляром Ветхого Завета. Его длинные пальцы переворачивают тончайшие листочки.
— Самое первое, что надо сделать, если ты хочешь читать, понимать и истолковывать Книги Моисея правильно, — говорит он, — это признать, что Моисей их не писал.
Он читает:
И умер там Моисей, раб Господень, в земле Моавитской, по слову Господню. И погребен на долине в земле Моавитской против Веффегора, и никто не знает места погребения даже до сего дня. Моисею было сто двадцать лет, когда он умер.[99]
— Итак. Мог ли сам Моисей написать это? — спрашивает Библиотекарь. — Как он мог отражать свою собственную смерть и свои похороны?
Он перелистывает страницы.
Моисей же был человек кротчайший из всех людей на земле.[100]
Библиотекарь хихикает:
— Стал бы кротчайший из всех людей на земле так говорить о себе?
— Это ни о чем не говорит, — возражаю я. — Даже если допустить, что Моисей не писал все, что есть в книгах Моисея, он ведь мог написать
что-то.
— Многие именно так и думают, — говорит Беатрис. — Что был редактор, который приукрасил текст Моисея. Но в своем подавляющем большинстве теологи и священники в наше время согласны, что Моисей не писал Книг Моисея.
— Если будете их читать, — говорит Библиотекарь, — удивитесь обилию повторов, несовпадающих имен Бога и людей и версий одного и того же события, которые противоречат друг другу.
— В Первой книге Моисея есть
два совершенно разных рассказа о Сотворении мира, — говорит Беатрис.
— Два?
— Две истории, которые были соединены в одну, — говорит Библиотекарь. И громко читает:
В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною; и Дух Божий носился над водою.[101]
— Так начинается рассказ о Сотворении мира в том виде, в каком мы его знаем. Но не совпадающий с этим другой рассказ о Сотворении мира тоже включен в текст, он создан кем-то другим и соединен с первым. Соединение сделано так элегантно, что читатель не замечает, что рассказ опять начинается с самого начала.
— Где?
Библиотекарь перелистывает страницы и говорит:
— Смотри сам! Первая книга Моисея, глава вторая. Начинается
новый рассказ о Сотворении мира. Не надо быть теологом или лингвистом, чтобы заметить здесь начало нового повествования.
Он читает:
Вот происхождение неба и земли, при сотворении их, в то время, когда Господь Бог создал землю и небо. И всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла; ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделания земли; но пар поднимался с земли и орошал все лицо земли. И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою.[102]
— Ты слышишь, что это начало нового повествования о Сотворении мира и оно совершенно не зависит от первого? — спрашивает Беатрис.
— В первой версии, — говорит Библиотекарь, — Бог создает небо и землю, свет и тьму, море и сушу, растения, птиц, рыб, морских животных, сухопутных животных и, наконец, человека, мужчину и женщину. В таком порядке.
— А в следующей главе, — продолжает Беатрис, — порядок другой: здесь Бог создает сначала землю, небо и воду, после этого мужчину, потом растения, животных и птиц и, наконец, женщину — Еву.
— И так можно продолжать, — говорит Библиотекарь. — Прочитай истории о Ное. Они не совпадают! В одном месте Библия говорит, что Моисей пришел в Скинию —
до того, как сам сделал ее. В Книгах Моисея много противоречий.
— Неточностей, — говорит Беатрис. — Ошибок.
Библиотекарь энергично кивает.
А я отправляюсь в туалет.
5
Когда я возвращаюсь, Библиотекарь открывает еще одну бутылку вина. Какая-то ночная бабочка упорно бьется о фонарь на террасе. Сквозь листву светит луна. Порыв ветра с моря проносится над парком.
Я сажусь и отпиваю из бокала. Беатрис и Библиотекарь рассматривают меня, как будто решают вопрос, не пора ли им остановиться.
— В теологии сколько угодно «тайн», которые совершенно очевидны, — говорит Библиотекарь. Он делает глубокий вдох и продолжает: — Эти слабости Книг Моисея давно известны теологам, раввинам и священникам. Их объясняли тем, что под изложением прячется более глубокая истина. Уже в XVII веке критически настроенные теологи прямо говорили, что Моисей никак не мог написать этих текстов.
Беатрис прикасается к бокалу губами и смотрит на меня.
— Все это приводит нас к гипотезе об источнике, — говорит Библиотекарь.
— Теория JEPD, — добавляет Беатрис.
— И что это значит?
— JEPD — гипотеза, что Книги Моисея составлены из текстов четырех авторов. Соответственно в аббревиатуре J — от
яхвиста, Е — от
элохиста, Р — от
священника, D — от
автора Второзакония (Deuteronomium), — объясняет Беатрис.
Я хлопаю по комару, севшему мне на руку.
— Книги Моисея были начаты за 900 лет до Рождества Христова, и целый ряд разнородных книг были отредактированы и превращены в Пятикнижие Моисея примерно к 400 году до Рождества Христова, — говорит она.
— Авторы Книг Моисея в основе рассказывают одну и ту же историю, но с разными перспективами. — Библиотекарь собирает пальцы в тугой узелок. — Они меняли текст, учитывая политические и религиозные обстоятельства, и пытались подправить друг друга и предыдущую версию.
— Как ни странно, все эти разные и противоречащие друг другу рассказы объединились в один, — говорит Беатрис.
Неподалеку в крыле, где жила прислуга дворца, погас свет в одном из окон.
— Основываясь на знаниях из области теологии, истории, политики и языкознания, теологи разделили все главы и стихи Книг Моисея на части и соединили их по-своему, — говорит Библиотекарь. — В результате теологи пришли к выводу, что Книги Моисея состоят из большего количества довольно разнородных частей, о чем и говорится в JEPD-гипотезе.
— Так кто же написал Книги Моисея? — спрашиваю я.
6
Звонит мой мобильный телефон.
Сначала я не отвечаю. Я не раб телефонов. И мне очень интересно то, что говорят о Моисее. Потом я вспоминаю, что этот номер я давал только тем, кому по-настоящему необходимо связаться со мной.
Это профессор Ллилеворт. В СИС кое-что узнали. Он взволнован. Некий Джамаль Абд аль Азиз, он же Хассан, примерно час назад сел на самолет, направляющийся из Майами в Санто-Доминго.
— Откуда они узнали, что я здесь? — говорю я внезапно осипшим голосом.
— Разведка шейха, наверное, не из самых плохих.
— Что мне делать?
— Оставайся там. Это самое надежное.
— Надежное? Когда сюда прилетит Хассан?
— Я уже поговорил с Эстебаном Родригесом. Степень безопасности во дворце Мьерколес резко повышена.
Я рассказываю Беатрис и Библиотекарю о Хассане. Они согласны с профессором, что для меня опаснее бежать отсюда, чем оставаться.
— Они тебя все равно найдут, — говорит Беатрис. — Здесь ты, по крайней мере, в безопасности.
Я смотрю на большой темный парк.
— Здесь так много сигнализаций, — говорит Библиотекарь, — что человека обнаружат задолго до того, как он перелезет через ограду.
7
— Вернемся к Книгам Моисея, — говорю я и разом допиваю бокал. — Так кто же написал их?
Беатрис наливает мне вина.
— Теологи называют четырех авторов, но в действительности их больше, — говорит она.
—
Яхвист, который последовательно использует имя
Яхве, — самый видный из теологов и литературных корифеев Ветхого Завета, — говорит Библиотекарь. — Он жил примерно за 900 лет до Рождества Христова и определил основную структуру и гениальную рамку Книг Моисея. Он придал древним мифам и историям новую эпическую форму и теологический смысл. Перспектива, манера повествования, выбор слов, литературный стиль и религиозные взгляды показывают, что он был иудеем. Все его герои из Иудеи. Вероятнее всего, он был писцом при дворе в Иерусалиме, возможно, при дворе царя Соломона.
Элохист, который называет Бога
Элох, а не
Яхве, приписал текст на стороне израильтян к тексту яхвиста через 100 лет. Все герои элохиста были израильтянами, а не иудеями. Он заменил иудейскую перспективу израилитской.
Священник — имеется в виду группа священников из Иудеи времен строительства Второго храма — за 500 лет до Рождества Христова, за 87 лет до того, как Иерусалим попал в руки Вавилона. У священников были свои теологические и политические обстоятельства. Второзаконие
(Deuteronomium), Пятая книга Моисея, была написана за 600 лет до Рождества Христова, — говорит Беатрис. — Многие думают, что она была написана тем же автором, который написал Книгу пророка Иеремии в Ветхом Завете.
Внутри дворца хлопает дверь. Библиотекарь замолкает. В двери, выходящей на террасу, появляется Эстебан Родригес.
— Так вот вы где, — говорит он и смотрит на меня. — Ты уже слышал?
— Только что позвонил профессор Ллилеворт.
— Я только хочу сообщить тебе, что мы повысили безопасность во дворце. Вызвали дополнительных охранников и усилили охрану парка.
— Спасибо. Я искренне сожалею, что из-за меня пришлось проделать всю эту дополнительную работу. Может быть, мне лучше выехать…
— Даже не думай! — Он переводит взгляд с Беатрис на винные бутылки. — Ну хорошо. Не буду мешать. Приятно провести время. Я должен позвонить начальнику полиции.
Беатрис наклоняется ко мне и похлопывает по руке.
— Все хорошо, — шепчет она.
Услышав, что Эстебан закрыл дверь в коридор, Библиотекарь продолжает:
— Как ни удивительно, все противоречащие друг другу версии были отредактированы и сведены в одну. Представьте себе, что материалы какой-то жаркой газетной дискуссии будут раздроблены, а потом склеены в одну статью, которая как бы является аргументом в пользу одной точки зрения. Как единый текст Книги Моисея стали бесспорным авторитетом и объединили южное и северное царства, Иудею и Израиль, в религиозном, политическом и социальном отношении.
— Как все это оказалось в руках Асима?
— Различные тексты, которые позже стали Книгами Моисея, попали в храм Амона-Ра за четыреста лет до Рождества Христова. Они были завернуты рулонами, упакованы в какой-то материал, уложены в кувшины, которые были опечатаны и помещены в золотую раку. Историк Мането описывает в книге
Aegyptica («Египтология») на основании египетских архивов, сохранившихся в храме Гелиополиса, религиозную церемонию, во время которой золотая рака с папирусным манускриптом была помещена в гробницу и положена в ногах мумии.
— И здесь сохранилась нетронутой до 1013 года, — говорит Беатрис.
Я откидываюсь, смотрю на звездное небо и отпиваю вино из бокала, представляя себе, как это могло происходить.
ТРЕТИЙ ХРАНИТЕЛЬ
1
В темноте полно насекомых. Звуки автомобильных сигналов кажутся свистками паровозов в прерии. Мы пьем третью бутылку вина.
— И теперь, — говорю я наконец, прижимая бокал к груди, — отвечайте, почему вы рассказали мне все это?
— Мы тебя ждали, — говорит Беатрис.
— Меня?
— С тех пор как мы с Библиотекарем начали исследовать этот материал в конце шестидесятых годов, мы ждали третьего хранителя.
Пропасть отчаяния разверзлась передо мной и втягивает меня.
— Подождите, подождите! Что это значит?
— Ты, Бьорн, — говорит Беатрис, — и есть третий хранитель.
— Я совсем не хранитель.
— Мы не знали, что это будешь
ты. Но мы знали, что у третьего есть что-то особенное. Что-то выделяющее его.
— Это вы, — говорит Библиотекарь.
— Когда я услышала, что сюда, во дворец Мьерколес, пришел норвежец и что этот норвежец именно ты, мы это поняли, — говорит Беатрис. — Бьорн Белтэ… Человек, который спас ларец Святых Тайн.
— Беатрис и я должны выполнить миссию, — говорит Библиотекарь.
— И какую же?
— Завершить дело хранителей.
— Вы хотите сказать…
— Доставить мумию обратно в гробницу в Египет.
— Разве мумия еще существует? Эстебан сказал…
— Не надо слушать Эстебана! — обрывает меня Беатрис. — Он лжет, лжет и лжет. Мир заслужил, чтобы прочитать тексты в том виде, в каком они были написаны.
— Я не разделяю опасений Ватикана, — говорит Библиотекарь. — Верующие и дальше будут верить. Только теперь их вера приобретет другие масштабы. И теологам будет чем заняться в ближайшие сотни лет.
— Что значит, что вы ждали
меня?
Библиотекарь вынимает из кармана сложенный белый лист бумаги:
— Это перевод того, что Асим написал перед смертью, — астрологическое предсказание, пророчество, называй как хочешь.
Он протягивает листок. Я читаю:
И придет время, когда ХРАНИТЕЛИ доставят СВЯТОГО обратно к месту упокоения, под священное солнце, в священный воздух, в священную пещеру; и минет тысяча лет; и половина из них пройдет в тумане разрухи и лжи; и из большой армии ХРАНИТЕЛЕЙ останется только трое; и они будут верными, чистыми сердцем, и их число будет три; потому что три — священное число, и три угодно СВЯТОМУ, ибо три — столпы Бога: Иудаизм, Христианство и Ислам, и Святая Троица, три священных города ислама, три патриарха, три праздника пилигримов Шалош Регалим, три мудреца, три вождя Израиля во время хождения по пустыне: Моисей, Аарон и Мириам, три части Танаха и вечная истина: Небо, Ад и Чистилище.
2
Беатрис, глядя на меня, трет переносицу и говорит, что пора спать. Несколько секунд я думаю, что она хочет, чтобы я шел с ней. Но она тут же добавляет, что ужасно устала и что от вина у нее разболелась голова. Она встает и собирает пустые бутылки.
— Вряд ли случайность, что прошла ровно тысяча лет с того дня, когда мумию увезли с места ее упокоения, — говорит она.
— Или то, что прошло ровно пятьсот лет с тех пор, как хранители потерпели моральное поражение здесь, на островах Карибского моря, — добавляет Библиотекарь и задувает свечу.
— И теперь, — говорит Беатрис, — нас наконец трое.
МАВЗОЛЕЙ
1
— Идем, — говорит Библиотекарь.
Летучая мышь гоняется за насекомыми в темноте ночи. Прошло уже много времени с тех пор, как Беатрис вошла во дворец и оставила нас в темноте и тишине.
— Куда?
Библиотекарь неуклюже, по-стариковски, поднимается:
— Я тебе что-то покажу. Идем.
Мы оставляем толстую свечу, спираль от насекомых и пустые бокалы на столе и, войдя в дом, закрываем дверь на террасу.
2
Он приводит меня к Священной библиотеке.
— Минуточку, — шепчет он, пока сканер проверяет цвет радужной оболочки его покрасневших глаз.
Он набирает код, и я еще раз вступаю в библиотечный зал, больше напоминающий церковь.
Между стеллажами с надписями
Quardas nόrdicos, Tekstos santos[103] стоит шкаф, который он открывает. С полки с надписью
Aventuras de caballeros[104] он снимает прямоугольную картонную коробку. Открывает крышку и поднимает папиросную бумагу:
— Вот это наверняка тебя заинтересует.
Я с любопытством смотрю в коробку. На самой лучшей телячьей коже написанный рунами текст. Ряды скандинавских значков стоят красивыми симметричными столбиками. Я наклоняюсь и перевожу первые строки:
Один, дай мне силы.
Руки мои дрожат. Скрюченные пальцы больше похожи на когти орла. Ногти заострились и обломались. Из груди моей вместо дыхания вырываются свист и хрипы. Глаза, которые когда-то могли разглядеть сарыча в поднебесье или корабль на самом краю горизонта с верхушки мачты, теперь застил вечный туман.
— Этот текст мы называем «История Барда», — говорит он. — Его написал Бард, верный оруженосец и спутник Олафа Святого, в монастыре Селье через сорок лет после битвы при Стиклестаде.
— Бард?! — восклицаю я. —
Bárðr! Рассыпавшаяся в прах мумия в гробу рядом с Асимом в гробнице Селье.
— Необычный документ. По стилю не похож на те тексты, которые господствовали в то время.
— Как сюда попал этот манускрипт?
— Хранители, вероятно, прислали манускрипт, когда Снорри…
Распахивается дверь. Словно рассвирепевший полководец, который только что обнаружил предательство, в библиотеку врывается Эстебан в сопровождении двух охранников. Библиотекарь и я вздрагиваем. Незаметно — но, естественно, не так уж и незаметно — я протягиваю коробку с «Историей Барда» Библиотекарю.
— Что-то случилось? — спрашиваю я. — Хассан?
Эстебан что-то выкрикивает по-испански, я не понимаю ни слова. Побледневший Библиотекарь протягивает ему коробку с манускриптом. Эстебан бросает быстрый взгляд на надпись.
—
Historia de Bård, — говорит он. —
Porqué?[105]
—
Perdoneme, señor Rodriquez,[106] — шепчет Библиотекарь.
Эстебан резко поворачивается в мою сторону.
— Интересно? — спрашивает он звенящим голосом.
— Я успел прочитать только несколько строчек, — тихо отвечаю я. — Ты что-то узнал о Хассане?
Охранники хватают Библиотекаря за руки и выводят из библиотеки как простого арестанта.
— Что происходит? — говорю я.
Эстебан смотрит на меня своим ректорским взглядом.
— Я сожалею, если… — начинаю я.
— Пусть Библиотекарь сожалеет!
— Мы…
— Он намного превысил свои полномочия.
— Если ты показал мне текст Асима, я думал…
— Есть большая разница в том, что могу разрешить тебе я и что
Библиотекарь.
— Конечно. Я сожалею. Мы не хотели…
—
Bueno![107]— прерывает он меня. — Идем!
3
Мы выходим из дворца через боковой выход, идем по широкой каменной лестнице, потом по выложенной плиткой дорожке. Проходим мимо бьющих фонтанов, мраморных статуй, которые устремили свой взор в вечность. Парк напоминает дремучий лес, исчезающий в темноте. Я слышу в листве какой-то шорох, рычащие и пискливые звуки, издаваемые ночными животными, парк напоминает джунгли. Эстебан ведет меня теперь по гравиевой дорожке среди множества цветов. В середине пестрой лужайки стоит подсвеченный скрытыми лампами столб метровой высоты.
Камень с рунической надписью.
Я ощущаю кончиками пальцев знаки, которые минувшие столетия почти стерли. Один знак за другим, я перевожу про себя текст:

Торд высекал эти руны далеко от царства отцов
через бушующие моря и через далекие горы
через леса и через вершины несли святыню
с помощью богов рожденные охранять
как нам это повелел Асим
до солнечного острова
Эспаньола
1503
†
В центре парка, окруженный цветами и четырехметровой кованой решеткой с длинными черными острыми наконечниками, стоит белый мавзолей.
На стенах фризы из красного камня, окон нет. Купол из позеленевшей меди.
Мы останавливаемся у ворот.
— Иди за мной, — говорит Эстебан. Он вынимает из кармана пульт. На темном фоне появляется огромная решетка инфракрасных лучей. — Это для безопасности, — говорит он. — На случай, если кто-то, вопреки ожиданиям, проникнет через внешнюю ограду, мимо ловушек, камер наблюдения, инфракрасных лучей, детекторов и собак.
Он приближает глаз к сканеру, распознающему радужную оболочку входящего, и набирает код. Кованые ворота распахиваются.
Мы останавливаемся внизу гранитной лестницы, которая ведет к площадке перед входом. На фризе фронтона над большой двустворчатой дверью я узнаю три символа:
анх, тюр и
крест.
Мы поднимаемся по гранитной лестнице к двери. Старинные внушительные замки заменены кодовыми, вставленными в широкие дверные рамы. Эстебан набирает код, выжидает и набирает еще один.
Тяжелые двери беззвучно распахиваются.
Мы входим в вестибюль с мозаичным полом. Стены и крыша покрыты фресками внутри рам, вырезанных из дерева и обвитых декоративными ветками. Двери закрываются за нами. Внутренняя и внешняя двери, судя по всему, не могут открываться одновременно.
За следующей дверью обнаруживается широкая лестница, которая ведет на два этажа вниз, еще к одному вестибюлю. Здесь Эстебан еще раз дает считать сканеру данные со своей радужной оболочки и затем вводит еще один код.
Дверь открывается.
И мы входим.
4
Мои глаза разбегаются от потрясающей красоты мавзолея.
Высокий белый оштукатуренный купол со звездами покоится на четырнадцати мраморных колоннах. За первым рядом выступает второй ряд колонн. Ротонда и купол поразительно гармоничны. Если Священная библиотека и остальная часть дворца Мьерколес украшены с избытком, то мавзолей прост и чист. Непостижимо прекрасный и сияюще белый.
Снаружи гробница не кажется особенно большой. Но внутри она поражает внушительными размерами и изящными пропорциями.
В центре на плитах пола стоит метровой высоты возвышение с широкими ступенями, а на нем золотой саркофаг. В каждом углу по метровому подсвечнику с семью стеариновыми свечами.
С благоговением мы подходим к возвышению и саркофагу. Стук моих костылей кажется святотатством, поэтому я беру их под мышку и дальше иду без них. Мы поднимаемся на пять ступенек подиума.
Крышка саркофага открыта. Она покоится на четырех подставках из черного дерева.
В саркофаге лежит мумия со сложенными на груди тонкими руками.
Фигура замотана в льняную ткань. Форма головы продолговатая, заостренная.
— Это, — говорит Эстебан, — и есть Моисей.
Хотя я и сам это понял, весь воздух из моего тела улетучивается, остается тикающий, лишенный мыслей вакуум. Сердце бьется так сильно, что я начинаю задыхаться. От невероятности и торжественности происходящего глаза наполняются слезами.
— Моисей… — повторяю я с трепетом.
5
В мавзолее открывается внутренняя дверь. Входит Беатрис в сопровождении тех охранников, которые уводили Библиотекаря. Они встают у дверей и смотрят прямо перед собой. Беатрис шагает к нам.
Я растерянно перевожу взгляд с Беатрис на мумию и назад. Зачем она пришла? Мне казалось, что она давно легла спать. Зачем она взяла с собой двух охранников?
— Мне нужны «Свитки Тингведлира», — говорит Эстебан.
Хотя это звучит неожиданно, в словах есть странная логика. Сквозь нарастающие беспокойство и страх я ощущаю смысл того, почему Эстебан показал мне Книги Моисея и мумию.
— Ты хочешь знать, почему я тебя сюда привел, — говорит Эстебан. — Так вот, ты должен понять, что «Свитки Тингведлира» — часть единого целого. А целое находится здесь, во дворце Мьерколес.
Я вопросительно смотрю на Беатрис.
А она-то что здесь делает? Она отвечает мне холодным и вызывающим взглядом.
— Беатрис? — говорю я.
Она смотрит на брата.
— Хороша? — Он толкает меня в бок. — Конфетка? Ты думаешь, я не заметил, какими блудливыми глазами ты смотрел на нее?
— Где манускрипты? — спрашивает Беатрис. Ее голос лишен теплоты.
— Ты отдашь мне их, если я разрешу тебе переспать с ней? — смеется Эстебан. — Что скажешь, Беатрис? Стоят свитки того, чтобы ты трахнулась с бледнолицым?
Беатрис смотрит на меня.
— Я был очень терпелив с тобой, — продолжает Эстебан. — Согласен? Я был любезен и шел тебе навстречу. Дал тебе много шансов. Но мало-помалу я начинаю терять терпение.
— Я не знаю, где они, — говорю я. Голос мой дрожит.
— Может быть, я тебе верю. А может быть, и нет. Но в любом случае ты легко можешь это узнать.
Он делает сигнал двум охранникам, которые с топотом бросаются ко мне. На глазах Беатрис меня выводят из мавзолея и ведут по подземным недавно отремонтированным ходам с толстыми металлическими дверями. Когда мы оказываемся где-то под дворцом, открывается тяжелая деревянная дверь. Длинная каменная лестница за ней ведет в глубину подвалов.
— Куда мы идем? — запинаясь, спрашиваю я.
Беатрис сворачивает и уходит туда, где свет.
Меня толкают вниз, в темноту, откуда несет болотом и гнилью. По каменному полу царапают когти. Желтые глаза сверкают из темноты, когда один из охранников зажигает карманный фонарь.
— Куда мы идем? — снова спрашиваю я, понимая, что идем мы не к моей комнате с широкой мягкой постелью и
люстрой. Но я хочу получить ответ.
Коридоры в подвале длинные и сырые. Пол мокрый. Мы поворачиваем за угол и останавливаемся у массивной деревянной двери с железными полосами крест-накрест. По полу бежит ящерица, взбирается по стене.
Один из охранников открывает замок до смешного огромным ключом. Замок скрипит, как будто его не открывали уже несколько сотен лет. И это наверняка недалеко от истины.
— Я не хотел бы, чтобы ты плохо думал о моем гостеприимстве, — говорит Эстебан. — Я верну тебя наверх, как только ты пойдешь мне навстречу. А пока что условия жизни в подвале помогут тебе хорошенько подумать.
Он приглашает меня войти.
Какого черта! Я остаюсь стоять.
— Тебе надо знать, — говорю я чуть не плача, — что я страдаю клаустрофобией.
Один из охранников толкает меня в плечо, и я кубарем влетаю в камеру. Костыли стучат по полу. Пол каменный, холодный и сырой.
Дверь захлопывается.
ТЮРЬМА
1
В камере абсолютная темнота. Пахнет гниением, мочой, тухлой водой, мхом и останками тех, кто умер и сгнил здесь давным-давно.
Я распрямляюсь и бьюсь головой о каменный потолок. Кричу от боли. В темноте трудно сохранять равновесие.
Надо сосредоточиться, чтобы предупредить приступ клаустрофобии. Я знаю, главное — не впадать в панику. Один, два, три… Глубокие равномерные вдохи. Опасности нет. Здесь достаточно воздуха. Три, два, один… Я втягиваю воздух в легкие, до самых глубин.
Глаза мои привыкли к темноте, но я ничего не вижу. Абсолютно ничего.
Вытянув руки, делаю несколько шагов до стены. Она тоже из больших камней. Провожу рукой по волосам. На голове появилась шишка.
Дыхание пришло в норму, и теперь, кроме своей икоты, я слышу какой-то другой звук.
Я задерживаю дыхание и прислушиваюсь.
Кто-то дышит.
Я в камере не один.
2
Меня охватывает ужас. Превратившись в каменное изваяние, я стою у стены и слушаю слабое неровное дыхание другого существа.
Человек? Животное? Голем — жуткий урод, который живет в темноте уже четыреста лет и теперь сможет утолить свой голод?
Втягиваю шею в плечи. Икота продолжается как периодические разряды. Руки и ноги дрожат.
— Это всего лишь я, Бьорн.
Сердце замирает.
Я узнаю голос.
Это Библиотекарь.
Еще несколько секунд мое тело в парализующих объятиях страха. Потом воздух вырывается из легких.
Я сползаю по стене на пол.
— Эта тюрьма была сделана, чтобы содержать как рабов, так и пиратов, а еще мятежников и просто неугодных. Мы в нижнем подвале. Когда-то здесь сидели по пятнадцать-шестнадцать человек в одной камере. Некоторые жили по нескольку лет, прежде чем умирали. Теперь эти помещения используются как холодильник и склад.
Я его не вижу. Но, судя по голосу, он в трех-четырех метрах слева от меня.
— Я сожалею, что из-за меня вы влипли в эту историю, — говорю я.
— Это не из-за вас.
— Мне казалось, что Беатрис на нашей стороне.
— Конечно на нашей.
— Но… Беатрис пришла за мной вместе с охранниками. В мавзолей.
— Этому есть какое-то разумное объяснение.
— Вы не понимаете…
— Я понимаю!
— А Эстебан… Он не может обращаться с нами так.
— Король Эстебан может обращаться с кем угодно как угодно.
— Но ведь он нормальный человек и не…
— Нормальный?! Эстебан?! Да он сумасшедший!
— Я не хотел, чтобы мои поиски отразились на вас.
— Это моя ошибка. Надо было сообразить, что охранники видели нас через камеры наблюдения. Даже среди ночи.
— Не понимаю… Вы ведь его помощник!
— До настоящего момента я был идиотом, который ему подчинялся. А теперь дело о манускрипте решается между вами двумя. Теперь без меня легко можно обойтись.
— Но почему он… — я пытаюсь найти нужные слова, — подверг вас домашнему аресту?
— Потому что он мне не доверяет. Потому что он поймал меня на месте преступления. Он следил за мной годами. Но Беатрис охраняла меня. А тут он наконец поймал меня с поличным. Думаю, что в «Истории Барда» нет ничего, о чем вы не должны были бы знать. Он отреагировал на мое предательство. На то, что я показал манускрипт кому-то за его спиной.
— Почему он следил за вами?
— Я всегда был для него помехой. Он меня не переносил. Кроме этого, он ревнует.
— Вас?
В темноте слышны его вздохи.
— Дело в том, что Беатрис любит меня больше, чем его.
— Как это? Он — брат. Вы — друг. Это несопоставимо.
— Эстебан, — тихо говорит библиотекарь, — всегда проявлял к Беатрис больший, чем просто братский интерес.
Темнота еще больше сгустилась вокруг нас.
— Что вы хотите этим сказать?
— Вам известно, что египетские фараоны, стремясь сохранить божественное происхождение рода, женились на собственных сестрах. Клеопатра была замужем за родным братом, который к тому же был намного моложе ее. Принято считать, что фараон Ахенатон и его мать царица Тейя были в связи, и эта история легла в основу мифа об Эдипе.
— Вы хотите сказать, что Эстебан и Беатрис были в кровосмесительной связи?
— Я никогда не задавал вопроса.
— Эстебан ведь не фараон.
— У него такая же мания величия. И вообще мания. Много лет назад, перед своим отъездом в США, Беатрис призналась мне, что Эстебан надругался над ней. В тот момент она думала о суициде. Я смог отговорить ее от самоубийства, когда она рассказала мне это. Больше мы никогда не возвращались к этой теме. Я не знаю, продолжалось ли домогательство с его стороны, или он оставил ее в покое.
Я закрыл лицо руками:
— Почему вы рассказываете мне об этом?
— Чтобы вы поняли степень безумия Эстебана.
— Безумия…
— Пусть вас не обманывает психопатический шарм Эстебана. Он пропитан злобой.
Вдруг у меня мелькнула мысль: возможно, что-то не в порядке с самим Библиотекарем. Я не мог представить себе Беатрис в объятиях Эстебана.
— У Эстебана есть могущественные друзья, — говорю я. — Но когда все закончится, он узнает, что у меня они тоже есть.
— Дорогой мой Бьорн! — Он замолкает, потом продолжает: — Неужели вы думаете, что Эстебан выпустит нас отсюда живыми?
МОИСЕЙ
1
Ночью я сплю беспокойно.
Я сижу на холодном мокром каменном полу, прислонившись спиной к твердой стене. Сны и ужас тесно переплелись. Периодически я просыпаюсь, смотрю в сырую темноту и жадно хватаю губами воздух. Один психотерапевт научил меня как-то отгонять припадки клаустрофобии погружением в себя и сокращением частоты пульса. Три, два, один… Я и мое дыхание превращаются в одно. Но делать это нелегко.
Иногда я слышу какие-то звуки. Я представляю себе густую паутину под потолком, в которой сидят жирные пауки и ждут, когда какая-нибудь птица или крыса запутается в их липких сетях. Я пытаюсь заснуть и тем самым спастись бегством от действительности.
Я слышу тихое похрапывание Библиотекаря. Правда ли то, что он рассказал? Или же Эстебан посадил его в тюрьму, чтобы запугать меня? Может быть, Библиотекарь, Эстебан и Беатрис сговорились, в надежде обмануть меня? Может быть, сумасшедший как раз Библиотекарь и это он покушался на Беатрис? И как только я мог настолько ошибиться в этой женщине? Как мог я влюбиться в нее, столь же подлую и холодную, как и ее брат?
В полусне я представляю себе, что стал хранителем. Тем, кто выполняет миссию, от которой братство отказалось пятьсот лет тому назад. Я — Бьорн Белтэ — хранитель.
Тело болит. Невозможно принять позу сколько-нибудь удобную.
Я просыпаюсь, когда Библиотекарь мочится на стену. Я встаю и делаю то же самое.
Потом пытаюсь заснуть.
2
Я не знаю, что сейчас: утро, день или ночь. В темноте время потеряло всякий смысл. Даже вечный страх не скрывает муки голода.
В темноте я представляю себе пиратов и рабов, которые закончили свою жизнь в этой тюрьме. Я ощущаю терпкий запах их страха.
3
— Бьорн?
— Да?
— Давайте поговорим.
— Зачем?
— Чтобы не сойти с ума.
— О чем?
— О Моисее.
— Опять?
— Почему, на ваш взгляд, Ватикан выплатил роду Родригесов целое состояние только за то, чтобы они охраняли мумию Моисея и манускрипты на протяжении пятисот лет?
— Хороший вопрос. Если бы это действительно была мумия Моисея, Ватикан, скорее, построил бы собор в его честь. Такой, как собор Петра! Это же святыня для иудеев, христиан и мусульман всего мира.
— Нет, не построил бы, если бы оказалось, что он был совсем не тем, что,
по мнению Церкви, он собой представлял. Если Моисей не водил израильтян по пустыне сорок лет. Если он оказался бы непослушным египетским принцем, который воспротивился воле отца.
— Значит, написанное в Библии — неправда?
— Прошла почти тысяча лет с момента, когда Моисей, по-видимому, жил, до момента, когда его история была рассказана в Книгах Моисея. Тысяча лет. История претерпевает существенные изменения на протяжении тысячи лет.
Я согласен. Тысяча лет — большой срок.
4
Люди, потерявшие зрение, часто говорят, что другие чувства у них резко обостряются. Я понимаю, о чем они говорят. В темноте я слышу журчание воды где-то за стеной темницы и хрип в легких Библиотекаря. Чувствую запахи минувших времен и вонь мочи в углу. Ощущаю металл в собственном дыхании и бег крови в жилах. Я не вижу Библиотекаря, но вижу ауру вокруг него.
— В Библии события, происходившие в течение многих столетий, сжаты в бульонный кубик, полный драматизма, — говорит Библиотекарь. — И только тогда, когда все встает на свои места и обретает собственный темп и хронологию, факты и мифология встречаются.
— Как, например…
— Давайте возьмем десять великих бедствий Египта. Воды Нила превратились в кровь. Нашествие лягушек и насекомых. Вымирание животных. Моровая язва. Ливни с градом. Тьма Египетская. Помните?
— Да-да, я посещал воскресную школу.
— В библейские времена сильнейшее извержение вулкана разделило греческий остров Санторини на две части. В Средиземноморском бассейне произошло сразу несколько цунами. Огромное количество вулканического пепла достигло стратосферы и закрыло солнце. Опасные для жизни осадки привели к экологической катастрофе. Погибли тысячи людей и животных. Воды Нила были отравлены. Рыба дохла. Это, в свою очередь, привело к нарушению пищевой цепочки. Личинки насекомых перестали быть пищей для рыб. Из них появлялись насекомые в большем, чем раньше, количестве и становились прекрасной добычей для лягушек. Вы понимаете, к чему я веду? Все взаимосвязано.
— А что с Исходом?
— Историческая загадка. Все, что мы знаем об Исходе евреев из Египта, описано во Второй книге Моисея. Если при датировке исторических событий использовать археологические данные, можно установить, что Исход, видимо, происходил через несколько поколений после царствования фараона Тутмоса III, заложившего фундамент нового и могущественного Египта. Страна невероятно разбогатела. Правнук Тутмоса Аменхотеп III возвел во множестве роскошные здания: в Фивах он построил дворец Мальката, дальше на север, в дельте Нила, он приказал вновь построить разрушенный ранее город Аварис. Этот город получил название Пи-Рамсес, или Пифом и Рамсес, впрочем, эти земли больше известны под названием Госен. В Книгах Моисея написано, что «он построил фараону Пифом и Рамсес, города для запасов».
[108] И здесь библейская история и археология сближаются. Согласно Второй книге Моисея, рабы-израильтяне были участниками гигантского строительного проекта. Археологи нашли подтверждения того, что иностранцы-рабы работали при восстановлении Пи-Рамсеса.
— И что это значит?
— То, что Аменхотеп III — это и есть фараон, описанный в Библии. Он был отцом Эхнатона, который хотел заменить всех египетских богов одним Всемогущим.
— Тот же проект, что и у Моисея.
— Именно. И я знаю, кто такой Моисей.
ОБЕЩАНИЯ
1
Мы слышим из коридора звук тяжелых шагов.
Оба делаем вдох и замираем.
Слышим, как поворачивается ключ, замок ему плохо подчиняется.
Дверь открывается вместе со вспышкой яркого света. Библиотекарь и я, мы оба ослеплены. Закрываем глаза рукой от острых лучей карманного фонарика.
Когда я привыкаю к свету, я впервые рассматриваю свою тюрьму. Она невелика. Четыре на пять метров или около того. Библиотекарь сидит в дальнем углу. Стены — огромные гранитные блоки. Пол из плохо пригнанных каменных плит, отшлифованных поколениями пленников. Сводчатый потолок.
— Ты!
Один из охранников показывает на меня.
Я беру костыли. Библиотекарь тоже встает, но охранники отталкивают его и захлопывают дверь. Я слышу грохот за спиной — это он колотит по двери.
Охранники разрешают мне принять душ и воспользоваться туалетом. Возможно, запах тюрьмы въелся в мою одежду.
2
Они ждут меня у недавно отполированного стола эпохи рококо, из красного дерева. На Эстебане роскошный костюм. На Беатрис — ласкающее взор облегающее летнее платье.
—
Buenas dias![109]— говорит Эстебан. — Спал хорошо?
Я не отвечаю.
Беатрис смотрит на меня невидящим взглядом:
— Всем будет гораздо легче, если ты расскажешь, куда ты спрятал «Свитки Тингведлира». — Голос звучит холодно.
Я умею молчать.
— Ведь правда, она хороша? — Эстебан высовывает кончик языка. Лукаво улыбается и гладит ее голую руку. — Конфетка, правда? Доказательство того, что женщину создал Бог! А посмотрел бы ты на нее, когда она была молода! О-ля-ля!
У Беатрис на лице не дрогнул ни один мускул.
— У нас к тебе один вопрос, — говорит Эстебан.
— И если я отвечу?..
— Мы перестанем тебя мучить.
— И отпустите?
— Конечно.
— И Библиотекаря тоже?
— Конечно.
— А если я не отвечу?
— Ответишь! Ты же не дурак. У тебя будет время образумиться, — говорит Беатрис.
— Время?
— Поразмыслить. В подвале. Вместе с Библиотекарем.
— Как ты считаешь, что мне надо делать, Беатрис?
— Мне кажется, тебе надо сделать то, что говорит Эстебан.
— Я подумаю.
НАСЛЕДНЫЙ ПРИНЦ
1
После допроса меня ведут в тюрьму. Я прихватил с собой две булочки, два яблока и две бутылки воды.
Вонь бьет в нос.
Охранники вталкивают меня внутрь и оставляют наедине с темнотой и уроками истории Библиотекаря.
— Что там было?
— В допросе участвовала Беатрис.
— Вот как…
— Ты слышал, что я сказал.
— Да?
— Она участвует во всем этом.
— В чем?
— В операции Эстебана.
— Беатрис?! Никогда!
Сидя в темноте, мы жуем булочки и яблоки. Воду бережем.
Молча прислушиваемся к дыханию друг друга.
2
— Так кто же он? — спрашиваю я.
Я слышу, как Библиотекарь усаживается поудобнее и прочищает голос.
— Библейский Моисей не существовал никогда.
— И тем не менее ты знаешь, кто он? — Я фыркаю.
— Принц, которого мы знаем под именем Моисей, был египтянином королевских кровей. Он не был сыном раба. Редакторы Библии позже приспособили его к своей израильской версии. Как и многое другое в Библии, эта история изменена и приукрашена.
— Зачем?
— Им надо было формировать нацию. Объединять народ. Создавать религию. Им нужен был пророк. Им нужна была фантастическая история, которая вдохновила бы и подчинила народ.
— И тогда они выдумали Моисея?
— Гениальный ход! Придумав литературный образ, они создали его из реальных и вымышленных персонажей, мифов и исторических событий. Вот, к примеру, происхождение Моисея — сына раба, который стал принцем. Все мы знаем эпизод из Второй книги Моисея, где
дочь фараона находит младенца Моисея в Ниле «в корзинке из тростника».
[110] Проблема, однако, в том, что дочери фараона никогда не разрешили бы усыновить ребенка так, как об этом рассказывается в Библии. Кровные узы в семьях египетских фараонов были священны, и фараоны, когда нужно было, зачинали детей от сестер и дочерей, только чтобы сохранить чистоту крови. А чтобы полубожественная дочь фараона усыновила мальчика из семьи нищих рабов-евреев, это было невозможно.
— Как же возникла эта история?
— Рассказ об усыновлении мальчика ведет свое происхождение частично из аналогичной истории в вавилонской мифологии, частично из египетской истории. Многие фараоны брали в жены принцесс из других королевств, когда создавались политические союзы. У некоторых из них были собственные дворцы, и они носили почетный титул
tet-sa-pro. Как ты думаешь, что значит
tet-sa-pro?
В темноте я качаю головой.
— Бьорн,
tet-sa-pro значит «дочь фараона». Эти бедняжки жили в одиночестве и не могли иметь своих детей. Грустная жизнь. Если они заводили любовника, их казнили. Из исторических источников мы знаем судьбу одной такой женщины — сирийской принцессы Термут. Она жила в роли
tet-sa-pro во времена фараона Тутмоса III. Детей у нее не было. И тем не менее исторические источники говорят, что принцесса Термут воспитывала сына.
— Приемного?
— Да. Мы не знаем его имени, но знаем, что принцесса Термут получила право воспитывать его, потому что она была
tet-sa-pro. Соединив эту историю об усыновлении с вавилонским мифом о младенце, плывшем по реке на плоту из тростника, авторы Библии определили путь Моисея из лагеря рабов в египетский царский дом.
3
— Так кто такой Моисей?
— Взбунтовавшийся наследный принц.
— Эхнатон?
— Эхнатон взошел на трон вместо своего старшего брата.
— Что это значит?
Библиотекарь делает паузу.
—
Братом Эхнатона был Моисей, — медленно говорит он.
— Братом? Каким братом?
— Старшего сына Аменхотепа III, наследного принца, звали Тутмос. Он был также известен под именем Дьехутимос. Он представляет собой одну из самых больших загадок истории Древнего Египта.
— Я о нем даже не слышал.
— Именно. В то время как все его родственники стали знаменитыми — отец Аменхотеп III, мать Тейе, младший брат Эхнатон, даже Тутанхамон, сын или Эхнатона, или Аменхотепа III, — никто не слышал о наследном принце Тутмосе. Он мог бы войти в историю как великий Тутмос V. Вместо этого он исчез. Без элегий, без гимнов в его честь со стороны народа и семьи. Без объяснения. Наследный принц тихо исчез из истории.
— Почему?
— Он впал в немилость. На двадцать третьем году правления Аменхотепа III наследный принц Тутмос исчез из истории быстро и неожиданно. Как пушинка на ветру.
— Что же случилось?
— Грустная история. Наследный принц Тутмос был прославленным воином в армии отца и религиозным деятелем. Как и Моисей, он взбунтовался. Да, в историях наследного принца Тутмоса и Моисея так много общего, что это не может быть случайностью.
— Например?
— В Библии мы читаем, что Моисей убил одного египтянина, который издевался над рабом в Госене. Наследный принц Тутмос тоже вступился за раба, над которым издевались. Согласно альтернативной библейской истории, Моисей спасся бегством не в Медиан, а в Эфиопию. Там он храбро сражался и был провозглашен царем. В Коране прямо написано, что Моисей был царем Эфиопии. Книга иудеев Талмуд тоже называет Моисея царем.
— И что?
— Наследный принц Тутмос какое-то время был царем Эфиопии.
— И это делает его Моисеем?
— Есть и другие сходства. Моисей и наследный принц Тутмос были полководцами. Оба были глубоко религиозными. После успешного военного похода наследный принц Тутмос был назначен жрецом в храме Ра в Гелиополисе, на севере Египта, и был связан с храмом Пта в Мемфисе. Из этого религиозного центра — недалеко от Пи-Рамсеса — наследный принц Тутмос управлял всеми жрецами Верхнего и Нижнего Египта.
Библиотекарь кашляет. Я думаю о том, что он слишком стар и слаб, чтобы перенести много дней в холодной, сырой тюрьме.
— Вы понимаете, о чем я говорю, Бьорн? Наследный принц Тутмос был жрецом в тех местах, где его отец возвел заново Госен и где, согласно Библии, израильтяне были рабами фараона.
4
После короткой паузы, прочистив нос, Библиотекарь продолжает:
— Мы находим много других общих черт у наследного принца Тутмоса и Моисея в книге историка Мането
Aegyptica. Там говорится о восстании рабов в Аварисе, то есть Пи-Рамсесе, или Госене, при фараоне Аменхотепе III. Мането пишет, что фараона призывали очистить страну от
нежелательных и отправить их на работу в каменоломни Авариса, что он и сделал.
— Кто такие
нежелательные?
— Кто еще это мог быть, кроме презренного племени израильтян? Согласно Мането, рабы работали в каменоломнях много лет, прежде чем к ним пришел священник из храма Ра в Гелиополисе. Наследный принц Тутмос! Он отказался от своей египетской религии и своих египетских богов и стал молиться Богу Всемогущему. Мането пишет дальше, что этот священник раньше был воином — как и наследный принц Тутмос — и поэтому научил израильтян сражаться. Библия пишет, что египтяне «опасались сынов Израилевых».
[111] Мането рассказывает, что священник призвал израильтян к восстанию, помог многим из них бежать в свою страну. Видите сходство? Восстание рабов… Их сторонник из Египта… Бегство в свою страну…
— Исход…
— Именно! Столетия спустя авторы Библии превратили этот рассказ в эпическую драматическую историю о предательстве и мужестве, восстании и бегстве — бунт, чтобы найти Землю обетованную. Версия Библии, конечно, более величественная и гордая. Грандиозное массовое бегство… Бог, который активно вмешивается в события на земле… Величественный вождь калибра Моисея…
5
— И все это значит, что та мумия, которая лежит в мавзолее здесь, во дворце Мьерколес, и есть наследный принц Тутмос?
— Да. Мумия — наследный принц Тутмос. Сын Аменхотепа III и царицы Тейе. Паршивая овца в семье. Сорвиголова и бунтовщик.
— Что с ним стало после бегства рабов?
— Когда наследный принц Тутмос помог рабам-израильтянам бежать, он мужественно вернулся во дворец своего отца. К папуле. Ну ладно. Аменхотеп III не был добряком и все понимающим отцом. Он приговорил своего непослушного сына к смертной казни. Наследный принц Тутмос не только восстал против семьи и египетских богов, помогая рабам бежать. Нет, он еще и опозорил своего отца, царя Египта и египетское божество. За такое преступление прощения быть не могло.
— И его казнили?
— Так как он был царского рода, его не казнили публично. Для фараона предательство сына было государственной тайной, тем, чего никогда не было, пятном на чести семьи. Наследный принц Тутмос мог сам выбирать, как он будет умирать. Он выбрал яд. После того как он опустошил чашу с ядом и испустил дух, его тело подверглось бальзамированию и мумификации. Несмотря на то что он был предателем, он оставался царского, а значит, божественного происхождения. Но покоиться рядом с предками он не мог. Поэтому он был захоронен в тайной гробнице на западном берегу Нила, вдали от Долины царей и цариц. Он был спрятан за двумя погребальными камерами. А его имя было вычеркнуто из истории. Аменхотеп III приказал уничтожить все письменные упоминания о нем. Все памятные места сровняли с землей.
— И все же его не забыли?
— Принц оставил много письменных документов. Они являются частью ветхих папирусных манускриптов здесь, во дворце Мьерколес. В совокупности эти тексты составили основу новой веры. Помощники наследного принца — их было много — не забыли своего вождя. Они собрали тексты и более древние сказания. Они изучили его мысли и религиозные видения. Жрецы превратились в священников, которые почитали Единого Бога и отказались от египетских богов. Вот так наследный принц Тутмос вырос в религиозного лидера. Все больше людей стало поклоняться Всемогущему Богу наследного принца Тутмоса. Одно течение превратилось в иудаизм. Маленькое и очень своеобразное течение стало основой культа Амона-Ра. Мумия наследного принца Тутмоса, которую они охраняли, была их божеством. Другие авторы объединили многочисленные тексты, в том числе рассказы о жизни наследного принца Тутмоса. И вот так они создали новую мощную фигуру и дали ей имя Моисей.
ШЕЙХ
1
В темноте время идет медленно.
Мы с Библиотекарем обсуждаем теории о Моисее и истории хранителей. Много ли они знали? Много ли понимали? Каким образом проходившие столетия искажали эту историю?
Меня дважды уводят для разговоров с Эстебаном и Беатрис. Они просят меня сказать, где находятся «Свитки Тингведлира». Я боюсь, страх поглощает меня. Но я не говорю ни слова.
2
Когда в следующий раз за мной приходят, охранник надевает мне на голову капюшон. Страх переходит в панику. Дышу со страшной силой. Пытаюсь вырваться. Плачу как ребенок.
Охранники тащат меня по подвалу, несут по лестницам, по длинному коридору, вносят в комнату, привязывают к стулу. Я пробую вырваться.
Дверь закрывается.
— Помогите! — кричу я. — Помогите!
Пытаюсь прокусить зубами дыру в капюшоне.
— Паниковать не надо, — говорит Эстебан. — Ткань пористая. Пропускает кислород.
— Снимите!
— Дыши ровно.
— Снимите, говорю я!
— Ты крепкий орешек, Бьорн Белтэ.
— Сними с меня колпак!
— Скоро сниму.
— Я не могу дышать!
— Чуть-чуть потерпи.
— Немедленно!
— Конечно, ты можешь дышать.
— Пожалуйста, снимите! Пожалуйста!
— Если ты немного помолчишь и дашь мне сказать, я сниму.
В жаре и влаге под капюшоном я пытаюсь успокоиться. Три, два, один…
— Вот так-то будет лучше.
— Пожалуйста. Поторопитесь.
— Бьорн?
— Да.
— Ты встретишься с шейхом.
— Шейхом Ибрагимом?
— Лицом к лицу.
Мне кажется, монах, находящийся в монастырской часовне, чувствует присутствие Бога так, как я чувствую присутствие шейха в этой комнате, словно он вытесняет кислород.
— Так вы с ним заодно?
Эстебан смеется.
— Ну хорошо. Можно сказать и так. Почти никто в мире не встречал шейха.
Хочу вдохнуть воздух, а вдыхаю мое собственное дыхание. Представляя меня шейху, он тем самым подписывает мне смертный приговор. Так я это понимаю.
Эстебан развязывает веревку на шее и снимает с меня капюшон. Я ловлю губами свежий воздух, моргаю и ищу взглядом шейха. Но вижу я только Эстебана с капюшоном в руке. За окном темнота. Настенные часы показывают 23.30. Я дышу долго и глубоко. Из-за паники и клаустрофобии я весь покрылся потом.
— Где он?
— Он здесь.
Я растерянно смотрю по сторонам. Но в комнате только мы двое. Эстебан встречается со мной взглядом.
— Шейх — это я.
3
Я долго смотрю на него. Жду, что он начнет смеяться и скажет, что пошутил. Дверь раскроется, и шейх Ибрагим величественно вплывет во всем своем великолепии.
Но может быть, это правда.
Эстебан ходит вокруг моего стула.
— С того момента, когда я мальчишкой, — говорит он, — узнал от отца историю о хранителях, манускриптах и мумии, все в моей жизни было подчинено одной задаче: найти копию Асима, то есть «Свитки Тингведлира». Как ты знаешь, и я, и мой дворец находимся под покровительством Ватикана. В разных областях. Не в последнюю очередь в финансовой. Так что мне нужно было заниматься моим маленьким проектом параллельно. От отца я унаследовал страсть: довести коллекцию манускриптов во дворце Мьерколес до идеала. И я рано понял, что мне нужно альтер эго. Слишком многие знали, кто я. Начали бы задавать вопросы, если бы я появлялся на аукционах или бродил по крупнейшим антиквариатам, архивам и библиотекам мира. Поэтому я придумал шейха и дал ему целый штаб сотрудников.
— А почему именно шейха?
— Почему бы и нет? Ибрагим аль-Джамиль ибн Закийя ибн Абдулазиз аль-Филастини. Хорошо образованный, цивилизованный, богатый, избегающий внимания шейх с базой в Объединенных Арабских Эмиратах. Щедрый спонсор, даритель, занимающийся поддержкой, пожертвованиями и благотворительностью. Как шейх, я финансировал факультеты университетов и отделения научно-исследовательских институтов. Но все, что я делал, все распоряжения, которые я отдавал, преследовали только одну цель: добыть информацию, которая могла привести меня к тем пергаментам, которые ты нашел в Тингведлире. Я общался с исследователями и гангстерами. Нанимал ученых и антикваров. И всегда я действовал через подставных лиц. Всегда. Никто не встречался с самим шейхом. Никто не знал, кто он. Даже моя дорогая сестра Беатрис не знала, что я и шейх — одно и то же лицо. Он никогда не жил в одном доме больше недели. Никто никогда не знал, где он сейчас находится. Шейх оперировал через свою организацию. Это была паутина лжи и обмана. Фикция.
— Почему ты выдаешь мне эту тайну?
— Потому что я хочу, чтобы ты понял, насколько важно для меня завладеть «Свитками Тингведлира». Я хочу, чтобы ты понял, почему ты должен рассказать мне, где они.
— А если я не расскажу?
Он подходит ко второй двери, открывает ее и машет кому-то, кто там сидит в ожидании.
ХАССАН
1
В комнату, покачиваясь, вступает всей своей огромной массой Хассан. Хассан Громила.
— Если у нас не получится сотрудничество, — говорит Эстебан, — мне придется просить Хассана переубедить тебя. Но давай не будем доходить до крайностей. Я рассказал тебе правду в надежде доказать, насколько важно это для меня, как серьезно я работаю и то, что не остановлюсь ни перед чем,
ни перед чем!
Перочинным ножом Эстебан разрезает ленту, которой я был привязан к стулу.
— А если я расскажу, то ты отпустишь меня и Библиотекаря?
— Конечно.
Но мы оба знаем, что он не может допустить, чтобы его тайна вышла за стены этой комнаты.
Он втягивает воздух между зубами. И вынимает из ящика секретера то, что я сразу узнаю.
— Я любопытен, Бьорн. Расскажи мне, как ты вот из этого, — он кладет передо мной на стол «Кодекс Снорри», — узнал про пещеру в Тингведлире!
Вид пропавшего манускрипта преподобного Магнуса взволновал меня. Я представляю себе моего друга, сидящего за столом, слышу его голос.
— Я знаю, ты думаешь, будто мы украли кодекс у преподобного Магнуса. Будто мы убили священника. Но ведь он сам пытался продать его нам. Преподобный Магнус раздумал, но это меня не касается. Мы не собирались его убивать. Просто у него сдало сердце. Вот и все.
Эстебан бросает взгляд на Хассана. Огромный иракец смотрит прямо перед собой, ничего не говорит, как будто нет ни Эстебана, ни меня, а его мысли бродят по мировому пространству.
Все так просто.
Руками, дрожащими так сильно, что мне трудно держать кодекс, я листаю страницы и дохожу до последней, стихотворение с которой навело нас на оригинал «Саги о Святом Кресте», который, в свою очередь, привел нас к гроту. Эстебан радостно смеется. Потом переводит взгляд на Хассана, который хлопает глазами.
— Уже поздно. Хассан только прилетел. Думаю, что крупный разговор у вас начнется утром.
Меня пугает перспектива крупного разговора с Хассаном.
— Возможно, Хассан не слишком утонченный. Но эффективный. Подумай об этом на досуге. До того, как Хассан приступит к работе. Может быть, умнее будет согласиться на сотрудничество, прежде чем он сломает тебе еще несколько пальцев. А перелом на ноге уже сросся? Не следует его раздражать. Ломать — это мягкая техника Хассана. В Ираке он выдавил глаза человеку, который не хотел говорить. Руками. Я упоминаю об этом, потому что ты затягиваешь с ответом, который мне нужен. Ради тебя самого, Бьорн, гораздо умнее будет согласиться на сотрудничество.
2
Кьеркегор однажды сказал, что страх — это завтра. Я понимаю, что он хотел сказать.
Спать я не могу. Прижавшись спиной к каменной стене тюрьмы, я сижу и напряженно смотрю в темноту. Хотя я знаю, что прямо передо мной в нескольких метрах еще одна стена, я могу смотреть в бесконечное космическое пространство. Ничто не может смягчить мой ужас перед тем, что ждет меня на рассвете. Ужас охватил меня своими щупальцами. Все мысли только об одном — о Хассане.
Конечно, я могу сказать все, что знаю. Я не идиот. И не хочу жертвовать собственными пальцами, глазами или жизнью ради «Свитков Тингведлира». Но есть две проблемы. Они все равно убьют меня. И я не знаю, где свитки. Я могу предположить, что хранилище СИС находится где-то в Лондоне. Но свитки с таким же успехом могут пребывать и в Уэльсе в какой-нибудь идиллической деревушке с названием: Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch.
Почему бы и нет?
Что они сделают со мной, когда я объясню, что ничего не знаю? Сломают еще несколько пальцев только для того, чтобы убедиться в моей искренности? Они наверняка попросят меня позвонить в СИС. Что скажет профессор Ллилеворт или Диана, если я неожиданно позвоню:
Привет-привет, это Бьорн, — и спрошу: —
А где свитки? В лучшем случае они поймут, что я звоню под давлением. В худшем — откажутся отвечать. Как бы то ни было, ни свитков, ни ученых армия Хассана не обнаружит по указанному адресу, когда начнет стучать в двери стволами своих пушек. И я нисколько не сомневаюсь, что к тому моменту буду еще находиться в этой тюрьме, в темноте, когда они поймут, что я их надул.
Я всегда был трусом, когда дело доходило до боли. Зубные врачи. Респираторные заболевания. Волдырь на ноге. Сломанный ноготь. Я страдал больше остальных.
Одна мысль о боли, которую завтра причинит мне Хассан, доводит до тошноты. Сейчас разрыдаюсь. В груди начинаются спазмы.
А Библиотекарь негромко похрапывает.
ПЛАН
1
На этот раз я не слышу шагов. Я слышу звяканье в замке и упрямое сопротивление ржавого механизма, который борется с ключом. Меня охватывает страх. Перехватывает дыхание. Перестает биться сердце. Мозг отказывается работать, в нем осталась только дикая примитивная паника.
Дверные петли скрипят. Дверь открывается.
Дыхание не возвращается. Шея парализована.
В двери появляется прыгающий овал света от карманного фонарика.
В этот момент я точно знаю, что именно ощущают приговоренные к смертной казни, когда к ним приходят, чтобы отвести на электрический стул. Я начинаю жалобно выть.
— Тсс! — раздается голос.
Беатрис.
Беатрис со взъерошенными волосами и приятной улыбкой. Беатрис с притворной улыбкой.
Предательница Беатрис.
Почему они прислали именно ее?
— Быстро! — шепчет она.
Библиотекарь вскакивает.
— Беа! — кричит он и обнимает ее.
Я пытаюсь прийти в себя: тело и душа никак не могут договориться.
— Уф! Какой запах! — шепчет Беатрис.
Что происходит? Где же охранники? Хассан ждет за дверью?
В страхе и отчаянии я растягиваюсь на полу вдоль стены. Подальше от Беатрис и ужасов, которые, несомненно, пришли вместе с ней.
— Бьорн?
Я сжимаюсь, когда луч света от фонарика бьет мне по лицу как кнут.
— Ну же, Бьорн, — говорит Беатрис.
Ну же, Бьорн?
Я моргаю, глядя прямо в фонарик.
Она спрашивает:
— Дорогой мой, неужели ты не понял?
Не понял? Дорогой мой? Я не отвечаю.
Она входит в камеру. Протягивает фонарик Библиотекарю и помогает мне встать на ноги. Я дрожу. Мне стыдно оттого, что я дрожу. Перед лицом смерти я хотел бы сохранить достоинство. В последние минуты на этой земле я не хочу выглядеть дрожащим трусом.
Она кладет руки на мои плечи и смотрит мне в глаза. В близорукие глаза, которые, перед тем как меня убьют, выдавит Хассан.
— Бьорн?
Я смотрю в сторону.
— Ну же, друг мой.
— Что ты хочешь?
— Да послушай же…
— Ты будешь там?.. Когда Хассан начнет меня пытать?
Она обнимает меня:
— Бьорн, послушай. Ну, посмотри на меня. Бьорн!
Бьорн!
— Да?
— Я притворялась!
Притворялась. Говорит она.
— Я делала вид, будто заодно с Эстебаном.
Делала вид.
— Мне было совсем не трудно. Я хорошо играла свою роль. Вся моя жизнь — по сути, одна сплошная комедия, в которой Эстебан был моим партнером. Он… — Она хотела что-то сказать, но остановилась. — В тот вечер, когда Эстебан застал тебя и Библиотекаря в библиотеке, меня оповестил охранник, которому я немного приплачиваю за… Ну, скажем, за то, чтобы он был на моей стороне. В тот момент у меня не было выбора. Единственная возможность выяснить, что задумал Эстебан, виделась мне в том, чтобы убедить его в своей верности. Я предложила вызвать охранников в мавзолей, чтобы у него была возможность поговорить с тобой наедине перед тем, как бросить тебя в тюрьму. Он так обрадовался, когда я предложила мои услуги. Теперь он и я были против всего света… Эстебан — настоящий дьявол, но, когда речь идет обо мне, он полностью в моей власти. И так было всегда.
Последние слова она произносит с горечью.
— Откуда мне знать, что ты не притворяешься сейчас?
— Я думаю, что ты знаешь это, Бьорн.
— Зачем ты просила меня сообщить, где «Свитки Тингведлира»?
— Мне нужно было делать вид, будто я злая Беатрис. Снежная королева Эстебана.
— А если бы я сказал?
— Бьорн, я тебя знаю. Ты и словом бы не обмолвился.
— Она говорит правду, Бьорн, — шепчет Библиотекарь. — Ей можно доверять.
— И даже если ты когда-нибудь будешь вынужден выдать эту тайну, — говорит Беатрис, — для нас «Свитки Тингведлира» не самое важное.
— А что же тогда?
— Спасти мумию и оригиналы манускриптов.
Мой разум продолжает протестовать. Почему я должен ей верить? Но тело давно приняло объяснение Беатрис. Мышцы расслабились. Страх отступил. Я не мог устоять против нежного взгляда и ласкового прикосновения.
— Возьми, — говорит она и протягивает Библиотекарю пистолет.
— Все готово?
— Что готово? — спрашиваю я.
— Да, — отвечает Беатрис, игнорируя мой вопрос. — Никто ни о чем не подозревает. Я вела себя как обычно. Сделала маникюр, съездила в университет, позвонила друзьям — все как всегда. Эстебан ничего не заметил. Все подготовительные работы я провела.
— Подготовительные работы? — спрашиваю я, ничего не понимая.
— Наняла грузовое судно, в котором есть контейнер с особым температурным режимом, и несколько тонн сахара и кофе. Сухогруз отправляется в Италию.
Я вопросительно смотрю на нее.
— Судно называется
Desidéria, — отвечает она, глядя мне в глаза. —
Desidéria значит «желание».
Я по-прежнему ничего не соображаю.
— Зачем, — спрашиваю я, — нам везти сахар и кофе в Италию?
Беатрис и Библиотекарь молчат. Очевидно, думают, что я шучу.
— Я нашла два одинаковых автофургона и трейлер, — продолжает Беатрис. — Купила четырнадцать мешков батата и два бочонка с ромом домашнего приготовления. Подкупила таможенников, охранников и докеров в порту. Арендовала грузовой самолет, он ждет в аэропорту. Поговорила с профессором Ллилевортом из СИС, который помог мне связаться с группой быстрого реагирования, в прошлом профессиональных коммандос, они уже вылетели из Лондона. Все готово.
— Хорошая работа! — говорит Библиотекарь.
— О чем это вы? — спрашиваю я.
Оба смотрят на меня без всякой надежды.
— Послушай, Бьорн, — говорит Беатрис, — ты помнишь наш разговор?
— Какой разговор?
— Что мы должны отправить мумию назад в Египет. Что собираемся передать ученым папирусные тексты.
— Как это сделать?
— Надо украсть мумию и папирус. Нет, не украсть — вернуть. Мы, строго говоря, завершаем то, что должны были сделать хранители пятьсот лет тому назад.
— Идем? — Библиотекарь с нетерпением ждет у двери.
— Да, времени мало.
Беатрис смахивает с меня воображаемые пылинки. И протягивает костыли.
2
— Эстебан поставил вверху на лестнице охранника, — объясняет Беатрис. — Излишняя предосторожность. Он прекрасно знает, что убежать из тюрьмы невозможно.
Мы поворачиваем в противоположную от лестницы сторону. Подвал — это лабиринт узких темных коридоров. Мы все идем и идем. По полу бежит ящерица. В какой-то момент мне начинает казаться, что мы заблудились в катакомбах подземелья. Но Беатрис сворачивает то направо, то налево, будто знает все ходы и выходы как свои пять пальцев.
Я на своих костылях ковыляю вслед за ней.
В конце подвала мы попадаем на крутую лестницу — вряд ли шире, чем полметра, — она приводит нас на верхний этаж подвала. Мы идем по коридору к следующей лестнице и поднимаемся в холл перед библиотекой.
— Сначала мы берем папирус! С этого момента надо остерегаться камер слежения, — говорит Беатрис. — Охрана наблюдает за дворцом снаружи и изнутри с помощью сорока пяти телевизионных камер, которые передают изображение продолжительностью десять секунд каждое на пятнадцать мониторов.
Я считаю не очень быстро, но элементарная математика говорит, что у каждой камеры есть двадцатисекундная пауза.
— Времени у нас мало, — резюмирует Библиотекарь.
— В библиотеке две камеры, — говорит Беатрис. — Одна находится справа под потолком, другая — в центре зала. У обеих камер есть большая мертвая зона. Так что идите строго за мной. И не двигайтесь, пока я не дам знак.
ХРАНИЛИЩЕ
1
По сигналу Беатрис мы врываемся в библиотеку. Строго говоря, врываются Беатрис и Библиотекарь. А я ковыляю сзади на костылях, спотыкаюсь о край ковра и растягиваюсь в дверях, костыли со стуком падают на пол. Испускаю стон. Беатрис оборачивается и шикает на меня.
— Пока еще никто не знает, что я освободила вас, — тихо и назидательно говорит Беатрис. — Если кто-то об этом узнает, нам всем конец.
— Понял, — бормочу я.
В мертвой зоне камеры справа, между двумя фарфоровыми вазами, мы прижимаемся к стене.
Как только красный огонек на камере гаснет, мы быстро перебегаем вдоль книжных полок к следующей мертвой зоне библиотеки. Беатрис бежит сначала к сканеру, идентифицирующему личность входящего по радужной оболочке, потом к панели кодов, чтобы открыть дверь в Священную библиотеку. Не слышно ни сирены, ни шагов наших преследователей. Но сердце бьется так громко, что эхо должно быть слышно в Ки-Уэсте.
Мы закрываем дверь в Священную библиотеку и прижимаемся к стене прямо под камерой слежения. Когда огонек на камере гаснет, пересекаем всю библиотеку.
Мы в коридоре, который ведет в стальное хранилище. Здесь, к счастью, нет камер.
Беатрис приближается к сканеру, ждет, когда загорится зеленая лампочка, и набирает
код из шести цифр. Каждое нажатие кнопки сопровождается звуковым сигналом. Замок щелкает. Когда дверь раскрывается, в хранилище загорается приглушенный свет.
— Если Эстебан знает, чем мы тут занимаемся, то сейчас мы это обнаружим, — говорит она.
Я вхожу в хранилище. Все стерильно и холодно. В углу стоит кондиционер, который поддерживает нужную температуру и влажность. В центре помещения я вижу стальной стол с толстым стеклом.
Беатрис идет к столу, я ковыляю следом. Резиновые наконечники костылей скрипят о пол, выложенный плиткой.
Под сантиметровой толщины стеклом между точными датчиками, измеряющими температуру и влажность, лежат шесть папирусных свитков.
Во многих местах папирус потрескался и главным образом представляет собой отдельные фрагменты.
— Это, — говорит Беатрис, — и есть Книги Моисея.
Я благоговейно наклоняюсь над стеклом и смотрю на папирус с нечеткими значками, я их не понимаю.
Библиотекарь стучит по стеклу пальцами:
— Ватикану очень удобно, что они хранятся здесь, далеко от всяческих ищеек и прохиндеев-служителей, которые могли бы раскрыть тайну папируса. На протяжении пятисот лет Ватикан платил деньги роду Родригесов, чтобы свитки хранились в замке.
2
Пока мы с Библиотекарем услаждали себя в тюрьме беседами о Моисее, Беатрис готовила папирусы к предстоящей перевозке.
Сейчас она укладывает их в подходящие по размеру шелковые пакеты. Под стальным столом с толстым стеклом она спрятала алюминиевый ящик, обтянутый внутри мягкой тканью, с шестью подготовленными для папирусов отделениями. Во время пауз в работе камер Беатрис укладывает все шесть папирусов в отделения.
Алюминиевый ящик настолько легок, что Библиотекарь может нести его один. Мы покидаем хранилище и идем по коридору, предназначенному для слуг, где нет камер слежения с их неусыпным контролем. Оттуда мы идем по черной лестнице к подвалу, в котором риск встречи с кем-то из охранников минимален. Беатрис движется впереди, освещая дорогу карманным фонариком. За ней следует Библиотекарь с алюминиевым ящиком. Последним ковыляю я.
Мы снова проходим по узким темным ходам подвала. Я не могу понять, были мы уже здесь сегодня или блуждали по каким-то другим туннелям. Сеть пересекающихся ходов в подвалах заполнена сыростью и темнотой, отличить один ход от другого практически невозможно. И тем не менее Беатрис легко ориентируется. Когда в самом конце она открывает железную дверь со скрипом, который бывает только в кино, мы попадаем в подземный гараж, купающийся в ярком неоновом свете.
— Эстебан устроил здесь гараж в шестидесятые годы, — объясняет Беатрис. — Раньше здесь был склад.
Она открывает заднюю дверцу красного фургона с фирменным логотипом «Кока-кола» по бокам. Внутри стоят два крепких ящика — один большой продолговатый, другой маленький квадратный. Библиотекарь кладет свой алюминиевый ящик в маленький и насыпает поролон и древесную стружку.
В продолговатом ящике место как раз для раки с мумией.
Я прислоняю один костыль к фургону. Если нужно будет оказать помощь при переноске, потребуется свободная рука.
3
Из гаража мы вновь погружаемся в подземный лабиринт ходов, на этот раз с западной стороны дворца. Когда мы проходим через бордовую металлическую дверь, я узнаю роскошный коридор, ведущий в мавзолей.
С одним костылем, оказывается, идти гораздо легче. Я задумываюсь, почему ходил все это время на двух костылях. Итальянские врачи ничего не говорили о том, как долго нужно ходить на костылях. Норвежский врач, заменивший гипс перевязкой, вообще ни слова не сказал о костылях. Может быть, их следовало отбросить давным-давно? Это чертовски характерно для меня.
Мы останавливаемся около двойной двери-шлюза прямо под мавзолеем. Ни в коридоре, ни в шлюзе нет телевизионных камер наблюдения. Беатрис набирает код. Внутри шлюза мы должны дождаться, пока дверь сзади нас не закроется и не щелкнет. Беатрис проходит через проверку сканера, снова набирает код. Дверь открывается.
Мы поднимаемся по лестнице и входим в помещение сбоку от мавзолея.
— О’кей, — говорит Беатрис. Она поворачивается ко мне и делает глубокий вдох. — Теперь самое трудное.
— Что это значит?
— Внутри мавзолея две камеры, поэтому охрана всегда видит на своих мониторах одно из двух изображений. Нужно отключить камеры.
— Разве это возможно? Отключенные камеры сразу выдаст нас. А может быть, они не всегда смотрят на свои мониторы?
— Смотрят, уж поверь мне. Если отключить камеры, можно выиграть несколько минут. Они подумают, что это технический сбой. Один из них уйдет из центра охраны на втором этаже дворца и явится сюда посмотреть на камеры. На дорогу у него уйдет четыре с половиной минуты, если он будет идти быстро. Он обнаружит, что камеры отключены, а рака пропала. Через четыре минуты пятьдесят секунд он включит общую тревогу.
— Общую тревогу?
— Дворец имеет несколько систем сигнализации. Местная тревога объявляется только на отдельных участках и в центре охраны. Общая тревога хуже. Начинают звучать все сирены внутри и снаружи. Все ворота и двери автоматически закрываются. Зажигаются все прожектора и проблесковые огни вдоль ограды. Идет сигнал в полицию. Через четыре-пять минут полицейские окружают дворец, перекрывают главные дороги, ведущие из Санто-Доминго, прекращаются вылеты из аэропорта.
— В общем, это дает нам три минуты на то, чтобы вынести мумию из мавзолея в фургон, и полторы минуты, чтобы выехать из парка в город, — говорит Библиотекарь. — Мы едем через западные боковые ворота?
— Да, — говорит Беатрис. — Сегодня ночью на западных воротах дежурит Карлос.
Она кивает Библиотекарю, который открывает крышку коробки сигнализации.
— Сирена будет звучать очень громко, — предупреждает он. — Готова, Беатрис?
— Готова.
Она набирает код.
Библиотекарь держит палец около кнопки, которая отключает камеры.
Беатрис ведет обратный счет от пяти.
— Старт!
ВЫСТРЕЛ
1
Сирена разрывает тишину.
— Быстро! — кричит Беатрис, открывает дверь и гонит меня и Библиотекаря внутрь мавзолея.
Отзвуки сирены мечутся между стенами, полом и высоким сводом, вызывая ужасную какофонию. Метания огоньков стеариновых свечей порождают отблески света, тени и мягкие краски на белых мраморных колоннах.
—
Go! Go! Go!
Мы бежим, спотыкаясь, по блестящей плитке пола к пяти ступеням возвышения.
Словно по приказу, с благоговением застываем перед мумией.
Моисей… Наследный принц Тутмос… Взбунтовавшийся принц…
Закутанное в льняные ткани тело кажется очень хрупким. Сложенные крестом руки покоятся на провалившейся груди. Перевозить его — это кажется кощунственным вмешательством в его глубокий тысячелетний сон.
Беатрис опускает крышку. Вместе с Библиотекарем защелкивает замки.
— Торопитесь! — перекрикивает она безумный вой сирен.
Мы ухватываемся за золотые ручки — Беатрис и Библиотекарь с одной стороны, я — с другой — и вынимаем гроб из саркофага.
Я боялся, что нести будет тяжело. Но он почти ничего не весит.
2
Мы спускаемся с подиума, идем, пытаясь, насколько возможно, держать гроб горизонтально. Эхо от наших шагов заглушается воем сирены. Библиотекарь открывает дверь боковой комнаты и придерживает ее. Потом дверь захлопывается.
В ушах звенит. Сирена настроена на такую частоту, чтобы выводить из строя и слух, и разум.
Мы спускаемся по крутой лестнице, прилагая большие усилия, чтобы гроб сохранял горизонтальное положение. Библиотекарь и Беатрис поднимают гроб над головой, а я иду согнувшись, придерживая его в нескольких сантиметрах над ступеньками. Костыль тащится следом за мной и хлопает по каждой ступеньке.
Я все время жду, что мы наткнемся на охранника. Или — что еще хуже — на Хассана и Эстебана.
В двери-шлюзе сирена едва слышна. Беатрис приближает глаз к сканеру и ждет зеленой лампочки.
Ничего.
— Нас могут запереть в шлюзе? — спрашиваю я.
— Конечно, — говорит Беатрис. — Вся система управляется из единого центра.
— На это всегда уходит какое-то время, — говорит Библиотекарь.
Какое-то время…
Наконец загорается лампочка. Беатрис набирает код. Мы слышим гудение механизма, открывающего замок, и оказываемся в коридоре подвала. Одна из ламп дневного света на потолке мигает. Стучат наши каблуки по полу. В ушах звенит.
Когда Библиотекарь начинает открывать ворота гаража, я вдруг представляю себе, что за ними нас ждет взвод солдат с винтовками наготове. Но в гараже никого нет, ощущается слабый запах дизельного топлива и машинного масла. Под потолком звенит звонок, так во времена моего детства звенел звонок в школе, возвещая о наступлении перемены.
Мы подносим гроб к фургону с логотипом «Кока-колы». Беатрис открывает заднюю дверь.
3
Хассан сидит на откидном сиденье внутри машины.
Лицо каменное. Он похож на директора филиала банка где-то далеко за границей, вдали от мировых центров. Такого директора, который — по сугубо формальным причинам со ссылкой на инструкции с положенными печатями и подписями финансовых органов двух стран — отказывает в перечислении на твой счет денег, которые тебе позарез нужны.
Даже в темноте фургона блестит его голый череп. Торчат недавно подстриженные усы. На нем белая рубашка, синий галстук и отлично выглаженный серо-голубой костюм.
Библиотекарь, Беатрис и я стоим неподвижно. Никто из нас ничего не говорит. Мы смотрим на Хассана и ждем того, что сейчас неминуемо произойдет. Я крепко сжимаю золотую ручку гроба.
Он не вооружен. Его огромная фигура не требует таких пустяков, как стрелковое оружие. Он привык получать все, что захочет. Габариты приучили его к мысли, что его победить не может никто.
Но это не так.
4
Сначала я не понимаю, откуда звучит выстрел. Громкий хлопок, резко отдающийся в бетонных стенах пронзительным эхом. Беатрис и я вздрагиваем.
На лице Хассана появляется изумление. На белой рубашке и серо-голубом костюме вырастает красная роза, которая становится все больше.
В горле раздается бульканье. На губах появляется розовая пена.
С глухим стуком он падает на пол фургона. Откидное сиденье взлетает вверх.
Библиотекарь вынимает из кармана руку. Он держит пистолет, который дала ему Беатрис. Из дула идет дымок.
— Мне пришлось, — говорит он.
Мы ставим гроб на пол в гараже и пытаемся вытащить Хассана из машины. Но он слишком тяжелый. Хотя нас трое и мы очень стараемся, он не сдвигается с места.
— Нет для этого времени! — говорит Беатрис.
Оставляем его лежать.
— У меня не было выбора, — говорит Библиотекарь. И еще раз, более настойчиво: — Ведь так? У меня не было выбора.
— У тебя не было выбора, — хором говорим мы с Беатрис.
Поднимаем гроб, ставим в деревянный ящик, обкладываем древесной стружкой и пластиком.
Я стараюсь не смотреть на Хассана. Но он такой большой, что это почти невозможно.
— Не было выбора, — бормочет Библиотекарь.
БЕГСТВО
1
Беатрис выпрыгивает из фургона, обегает его и садится за руль. Библиотекарь и я перебираемся через Хассана, чтобы разместиться на откидных сиденьях прямо за ней. У меня на колене кровь.
С помощью пульта Беатрис открывает ворота гаража и быстро проезжает мимо припаркованных автомашин и бетонных столбов. Под колесом гремит люк канализации. Тут я вспоминаю, что забыл один костыль. Впрочем, не до него.
Шины визжат, когда Беатрис поворачивает. Ей приходится сбавить скорость перед выездом из гаража. Но вот мы уже во дворе дворца и по грунтовой дороге мчимся через парк.
— Отстаем от плана на полминуты, — говорит Библиотекарь.
Беатрис увеличивает скорость. Щебенка и песок стучат по металлу.
— Странно, — говорит Беатрис.
— Что? — спрашивает Библиотекарь.
— Если Хассан знал, что мы делаем, то Эстебан тоже должен был это знать. Где он? Почему он нас не останавливает?
Эта часть парка не освещена. Мириады насекомых мелькают в лучах фар. Беатрис мчится с бешеной скоростью. Темные стволы деревьев за окном машины превратились в черную стену. Какой-то зверек — кролик или белка — выскочил на дорогу и замер перед смертельными объятиями передних фар. Мы вот-вот раздавим его, но за секунду до этого он ныряет в кусты.
Беатрис так крепко держит руль в своих руках, что они побелели.
Между деревьями мы видим фонари вокруг парковки у западных ворот, возле будки охраны. Мы с Библиотекарем задергиваем занавески, отделяющие кабину от фургона.
Беатрис тормозит и опускает стекло. Охранник что-то со смехом спрашивает. Я улавливаю слово «кока-кола». Беатрис отвечает. Охранник смеется. Они говорят по-испански, и я не понимаю. Двустворчатые ворота дребезжат и скрипят, когда механизм начинает их открывать. Беатрис говорит что-то еще и смеется:
— Si, si, si! Bueno, Carlos. Buenas noches.[112]
В этот момент раздается сигнал общей тревоги.
Название очень точное. Шум и грохот легко могут убедить тебя в том, что только что разразилась третья мировая война. Звук сирены представляет собой что-то среднее между сигналом воздушной тревоги и гудком супертанкера и имеет такую силу, что разбудит всех жителей Доминиканской Республики, Гаити, Пуэрто-Рико, Ямайки и Юго-Восточной Кубы.
Через заднее стекло я вижу, что дворец Мьерколес и парк ярко освещены, как будто это гостиничный комплекс в Дубае. Ворота замирают. Потом начинают автоматически закрываться.
Беатрис нажимает на газ. Фургон двигается вперед и застревает между двумя створками ворот, которые скрежещут по металлу.
Охранник истерически стучит по задней двери:
— Стой!
Que pasa?[113] Стой!
Бешеное рычание мотора, звук покореженного металла — и мы на свободе.
2
Западная подъездная дорога, которая плавно сворачивает от ворот к проспекту, окружена невысоким забором и кустами мимозы, достигающей половины высоты кованой решетки. С огромной скоростью мы выезжаем на проспект.
Беатрис не смотрит по сторонам. Она мчится по проспекту. «Мерседес» цвета кокоса резко тормозит и разворачивается поперек дороги. Водитель свирепо гудит.
Беатрис разгоняется до ста двадцати километров в час.
— Люди подумают, что у нас страшная жажда, — говорит Библиотекарь.
К счастью, на дороге в это время не так много автомашин. Посередине вдоль проспекта растут огромные деревья. Вдоль ограды дворца Мьерколес мигают сотни красных огней тревоги.
На следующем перекрестке мы круто поворачиваем направо. За углом стоит совершенно такой же, как наш, фургон и тоже с логотипом «Кока-колы». За ним выстроились трейлер, «лексус», «форд-транзит» и два «хаммера».
Беатрис резко тормозит. Второй фургон «Кока-колы» выезжает на проспект и продолжает наш курс. Очень внимательно Беатрис ведет автомобиль по металлической аппарели и въезжает в трейлер. Ворота дворца Мьерколес полностью содрали логотипы «Кока-колы». Фургон остается внутри трейлера, двери закрываются, а мы — Беатрис, Библиотекарь и я — перебегаем в «лексус». Водитель трейлера заводит мотор, выпуская дизельное облако. Мы делаем круг по кварталу: трейлер, «лексус», «транзит» и два «хаммера» с солдатами спецназа из СИС, потом выезжаем на проспект.
Через несколько сотен метров нас догоняет кортеж, состоящий из машин полиции и охраны дворца Мьерколес. Словно легион римских воинов, он с шумом проносится по проспекту: черный «форд-экскьюшн», два «лендровера» и восемь полицейских машин с сиренами и проблесковыми огнями. Мы пропускаем их. Звонит телефон у Беатрис. Она слушает и улыбается. Отключив телефон, говорит:
— Самолет, который я арендовала, окружен полицией.
— Вот черт, не повезло, — говорю я.
— Напротив, — говорит Беатрис. — Они делают то, что я запланировала.
Пока воинство Эстебана едет за вторым фургоном с логотипом «Кока-колы», а верный брату Беатрис полицейский корпус окружает чартерный самолет в аэропорту, наша маленькая колонна сворачивает налево. От перекрестка-клумбы мы едем в порт.
3
Через десять минут мы на территории порта, на мысу около устья реки.
Водителя «лексуса» вызывает по рации водитель фургона, он говорит, что полиция и охранники дворца Мьерколес догоняют его. Они находятся сейчас далеко в сельской местности.
— В фургоне они обнаружат только четырнадцать мешков батата и два бочонка рома домашнего приготовления, — поясняет Беатрис. — И конечно, пятьдесят коробок с банками кока-колы.
Мы проезжаем мимо будки охраны, складских помещений, танкеров, кранов, контейнерной площадки и россыпи чего-то, напоминающего сахарную свеклу, кору и мелкий песок, предназначенный на экспорт.
— Ну вот, — говорит Беатрис, — мы и приехали.
«ДЕСИДЕРИА»
1
Перед нами, пришвартованная к причалу столь многими тросами, что кажется, будто ее удерживают против воли, стоит «Десидериа».
Это очень красивое судно. Надстройка освещена. На верхней палубе я вижу лица офицеров, которые кажутся бледными в свете корабельных фонарей.
Трейлер останавливается около судна, параллельно краю причала. «Лексус» и «транзит» встают рядом. «Хаммеры» отъезжают в темноту к ближайшему складу.
Мы выходим из машины. Из города, оставшегося позади, доносятся звуки сирены. Гавань пахнет нефтью, и соленой водой, и незнакомыми пряностями. Пеликан, проглотивший, если судить по виду, теленка, вразвалочку ходит по пирсу.
Беатрис выезжает на фургоне из трейлера и подъезжает к трапу. Докеры уже начали перегружать товар на борт. Беатрис хочет, чтобы именно мы перенесли ящики с мумией и манускриптом на борт и поместили в трюме в контейнер с терморегуляцией.
Библиотекарь открывает заднюю дверцу фургона. Резким движением поворачивается и смотрит. Я следую за его взглядом.
2
Три черных автомобиля с потушенными фарами подъезжают к причалу.
Останавливаются в нескольких метрах от нас.
Двери открываются.
Из черных автомобилей выходят восемь человек. Некоторых их них я знаю по дворцу Мьерколес. Одного видел в Исландии. Все вооружены.
Последним выходит Эстебан Родригес.
— Ты удивляешь меня, Беатрис, — говорит Эстебан.
С лицом уставшего от жизни человека он двигается в нашу сторону.
Беатрис стоит между Библиотекарем и мной и смотрит на брата.
— Я от тебя в восторге, — продолжает Эстебан.
— Перестань! — сквозь зубы говорит она.
— Мне даже в голову не могло прийти, что ты можешь быть такой предусмотрительной. Чартерный рейс самолета. Судно. Два фургона. Отвлекающие маневры. Твое притворное очарование и ложь, которыми ты угощала меня. Впечатляет! По-настоящему впечатляет!
— Я обманывала тебя всегда, Эстебан. Всегда.
Он продолжает медленно приближаться. Улыбка на лице искусственная.
— Между тобой и мной, Беатрис, всегда были особые отношения.
— Только в твоей безумной голове.
— Ну, Беатрис!
Он вытягивает руку. Она делает шаг назад.
— Уйдем отсюда, сестричка. Во дворец. И я обещаю, что все забуду. Ты знаешь, что я в любом случае заберу гроб и манускрипт. И ты прекрасно понимаешь, что у меня нет никакого выбора, когда речь идет о
них. — Он кивает в сторону Библиотекаря и меня. — Но ты и я, мы можем вернуться домой и забыть обо всем.
Беатрис не реагирует.
— Я человек разумный, — продолжает Эстебан. — Я все понимаю. Ты — женщина. Ты руководствуешься чувствами и наивным идеализмом. Я тебе все это прощаю, Беатрис. Только давай поедем вместе во дворец.
— С самого детства ты думаешь, что я тебя уважаю. Люблю. Но правда заключается в том, что я всегда тебя ненавидела.
— Беатрис…
— Ты прекрасно знаешь почему. Ты болен. Всегда был болен. Только ты этого не знаешь.
Слезы текут у нее по щеке.
— Давай вместе поедем домой, дорогая Беатрис. Домой во дворец.
— Никогда.
— Дворец — это твой мир. И я часть этого мира.
Его лицо и бросаемые на нас взгляды отражают бушующие в нем чувства. Голос становится ледяным:
— Если ты не поедешь добровольно, мне придется заставить тебя, Беатрис. Ты думаешь, я не знал, что ты готовишь? Неужели ты могла поверить, что я позволю тебе уехать на этом судне? Я не идиот. Я был в курсе ваших дел. Со мной восемь вооруженных человек. У каждого за спиной опыт участия в боевых действиях. В двух твоих «хаммерах» прячутся шесть охранников из СИС. Наверное, у вас тоже есть по пистолету? Да… Но шансов никаких. Все твои друзья будут обезврежены за пару секунд. Но с тебя, Беатрис, не упадет ни один волосок, это ты должна знать. Я никогда не причиню тебе вреда.
Пеликан на пирсе останавливается и поворачивается в нашу сторону. Рыгает и продолжает медленное движение.
— Я подозревала, что ты следишь за мной, — говорит Беатрис.
— Ты меня хорошо знаешь, голубка моя.
— Поэтому я приготовила еще один вариант плана.
Эстебан наклоняет голову набок.
— Такой вариант, которого ты не мог предусмотреть и к которому вряд ли готов.
На лице Эстебана удивление.
Пеликан размышляет, не подняться ли ему в воздух.
Словно по невидимому сигналу появляются они. Солдаты коммандос в боевом облачении. Десять-пятнадцать человек прятались на судне. Десять — на контейнерах. Четыре-пять — на крыше ближайшего пакгауза. В их арсенале я успеваю заметить всё — от автоматов и пулеметов до снайперских винтовок.
Эстебан растерянно смеется:
— Вот это, да, Беатрис, вот это да!
Пеликан расправляет свои метровые крылья и взлетает с пирса. Потом с плеском опускается на воду.
Эстебан смотрит на Беатрис, потом с улыбкой на устах подносит пальцы к губам и посылает Беатрис воздушный поцелуй.
3
Все происходит очень быстро.
Эстебан хватается за что-то в кармане. Его гориллы рефлекторно поднимают автоматы. Но солдаты коммандос проворнее.
Звучат выстрелы. Десять-двадцать хлопков в ночи.
Эстебан несколько секунд стоит неподвижно, потом падает. В луже крови он сворачивается во что-то похожее на зародыша.
Несколько конвульсивных движений, и он замирает.
Беатрис делает медленный вздох и рыдает.
Восемь охранников Эстебана мертвы. Ни один не успел сделать даже выстрела.
— Я не идиотка, я тоже не идиотка, Эстебан, — говорит Беатрис.
— Беатрис… — шепчу я.
— Тсс. Сейчас не надо.
Один из солдат коммандос в форме подходит к Беатрис.
— Очень жаль! — коротко говорит он. — Следовать плану?
— Да, делайте, как мы договаривались.
— Договаривались? — спрашиваю я.
— Мы уезжаем.
— Но…
Беатрис берет меня за руку:
— Тебе больше ничего не надо знать, Бьорн.
— Я хочу знать. Это всегда была моя проблема.
Улыбнувшись, она кивает.
— Что происходит, Беатрис?
— Мы уезжаем.
— А
это?
— Тела погибших будут похоронены на непосещаемом кладбище в десяти милях от города.
Этого никогда не было.
— А Эстебан?
— У нашего рода, как ты знаешь, есть собственный мавзолей. Во дворце.
— А полиция…
— С полицией все улажено.
— Как?
— Дворец Мьерколес подвергся сегодня вечером нападению. Бандитов, террористов — не знаю кого. Мой отважный брат пытался остановить их. Мне удалось ускользнуть в последнюю минуту. — Она бросает прощальный взгляд на тело брата. — Прощай, Эстебан, — говорит она.
4
Пока тела загружают в «хаммеры», мы переносим ящики с мумией и манускриптом на борт судна. Невозмутимые докеры перегружают горы чемоданов и коробок Беатрис из «форда-транзита».
Все происходит быстро и слаженно.
Кто-то подхватывает меня под руку и помогает подняться по трапу на борт.
Матросы отдают швартовы. «Десидериа» берет курс в открытый океан.
5
Через несколько минут я выхожу на палубу. Опираюсь локтями на поручни. «Десидериа» двигается на юго-восток. Двигатель ритмично стучит, корпус корабля дрожит.
Я в последний раз смотрю на Санто-Доминго. В городе море освещенных окон, мигающие рекламы, ряды автомобилей, которые оставляют за собой красный шлейф.
Бросаю костыль за борт. Он летит как вращающаяся стрела и исчезает в пучине.
Дверь открывается и снова захлопывается.
Мгновение тишины.
— Так вот ты где! — Беатрис говорит так тихо, что я почти не слышу ее.
Она спускает рукава на голые руки и прислоняется к моему плечу. Мне кажется, что она плачет. Я обхватываю ее талию. Судно мягко повторяет движения волн. На лицо попадают брызги. Морской воздух терпкий и соленый. После суток, проведенных в вонючей тюрьме, море приносит аромат надежды. Так мы стоим, прижавшись друг к другу, не говоря ни слова, и смотрим на город, который все удаляется, а огни пропадают в море и ночи.
ЭПИЛОГ
Я ушел из жизни, ни одной ошибки не нашли у меня, когда я стоял перед Осирисом и его судьями. Стою перед тобой, господствующим надо всеми богами. Направляюсь в страну мертвых, где царствует справедливость. Эта страна лежит за горизонтом, и я приближаюсь к священным вратам.
Египетская Книга мертвых
И наступят времена, когда ХРАНИТЕЛИ доставят СВЯТОГО назад в место его упокоения, под священное солнце, в священный воздух, в священную скалу.
Асим
ГАЗЕТА «НЬЮ-ЙОРК ТАЙМС»
ЛОНДОН (Рейтер) — Мумия, которая предположительно является останками библейского Моисея, и папирусный манускрипт, который, как утверждают, содержит Шестую книгу Моисея, сегодня были переданы египетским властям.
Международный коллектив ученых, чьей задачей будет изучение мумии и древнего текста, начнет свою работу в понедельник.
По нашим данным, к этой находке привело обнаружение древних гробниц в Норвегии и Исландии. Но какая связь существует между египетскими и скандинавскими археологическими находками, неизвестно.
Представитель Ватикана кардинал Т. К. Бертоне заявил, что о мумии и манускрипте им известно только из сообщений средств массовой информации. Он уверен, что эти «еретические заблуждения» будут в скором времени опровергнуты. Ватикан считает, что Книги Моисея в том виде, в каком они наличествуют в Библии, «дарованы Богом».
ВАТИКАН
2007 год
— Что вы хотите сказать? Что Ватикан имеет копии этого… этого
манускрипта? Так, что ли, кардинал?
Видя ярость папы, кардинал нервно задергал большим крестом, который висел у него на шее на золотой цепи.
— Святой отец, — сказал он, — наши предшественники похитили у жреца Асима копию этого манускрипта уже в XI веке. Когда в Санто-Доминго спустя пятьсот лет вдруг появились мумия и оригинал, папа Юлий II и кардинал Кастанья решили, что будет лучше всего, если все останется, как было раньше. И чтобы никто ничего не узнал.
Кардинал протянул папе ветхий листок с записью беседы папы Юлия II и кардинала Кастаньи.
— Но почему? — спросил папа.
— Они не желали брожения умов, Ваше Святейшество.
Папа смотрел на кардинала со смешанным чувством удивления и гнева.
— И это держалось в тайне…
— Конечно, святой отец!
— …в том числе и ото всех преемников Юлия II?
Кардинал проглотил слюну:
— Есть вещи, Ваше Святейшество, которыми Вашим смиренным подданным лучше заниматься, не оскверняя чистоту дел и помыслов великого человека.
ГАЗЕТА «КОРРЬЕРЕ ДЕЛЛА СЕРА»
ВАШИНГТОН (Рейтер) — Самое большое в мире частное собрание книг, документов, писем и карт преподнесено в дар Библиотеке Конгресса.
Собрание дворца Мьерколес в Санто-Доминго, состоящее из многих миллионов названий, поступило после смерти Эстебана Родригеса, наступившей при невыясненных обстоятельствах, и обнаружения так называемой мумии Моисея и оригиналов Книг Моисея.
По словам директора Библиотеки Конгресса Томми Маннинга, этот дар имеет неоценимое культурно-историческое значение.
ГАЗЕТА «ПАИС»
КАИР, Египет (Ассошиэйтед Пресс) — Главы государств более пятидесяти стран будут присутствовать завтра при захоронении так называемой мумии Моисея в первоначальной гробнице недалеко от древнего египетского города Луксор. На правах хозяина руководить церемонией будет президент Египта.
Мумия, которой более 3000 лет, будет находиться здесь до принятия решения, открывать гробницу для посетителей или же перенести мумию в Луксор, Каир или Иерусалим, о чем пока не договорились египетские власти и религиозные руководители страны.
Представители Ватикана и еврейских организаций на завтрашней церемонии присутствовать не будут. Исламские имамы также бойкотируют церемонию.
По словам представителя Ватикана, папа не может признать мумию земными останками ветхозаветного пророка Моисея. В папской булле говорится также, что вновь обнаруженные манускрипты являются «фальшивкой столетней давности, которую изготовили язычники, чтобы посеять сомнение и неверие».
Представитель Ватикана уверен, что группа ученых в скором времени разоблачит то, что он назвал «зловредным еретическим обманом».
ЕГИПЕТ
2007 год
Лучи прожекторов скользили по звездному небу, когда мумию вносили в ее первоначальную гробницу.
Церемонию передавали по телевидению на все страны мира. Внушительный ряд наиболее известных артистов выступал на большой сцене, построенной внизу у храма Амона-Ра.
На некоторых кадрах телезрители могли увидеть на трибуне блондина с толстыми очками на бледном лице. Он сидел между пожилой женщиной с пышной копной волос и сухощавым стариком с орлиным носом.
Бьорн, Беатрис и Библиотекарь были приглашены как почетные гости. Они получили отпуск в Институте Шиммера, где участвовали в работе группы ученых, которая занималась реставрацией и переводом древнеегипетских папирусных текстов.
Немного раньше в тот же день в гостинице в Луксоре Бьорн написал электронные письма Трайну, Терье, Эйвину, Лоре и всем другим, кто оказал ему помощь. «Дорогие друзья, — писал он, — это прозвучит, быть может, слишком высокопарно, но сегодня вечером будет наконец выполнено обещание, которое тысячу лет тому назад дали хранители. Мы были последними хранителями. Дело сделано».
В полночь церемония завершилась фейерверком. Тысячи ракет взмыли в небо и разлетелись сияющими огнями, полыхающими красками и россыпью серебра. Со своего гнезда высоко в скалах, над храмом, взлетел белый голубь и исчез в темноте пустыни, но этого никто не заметил.
ИЗ ШЕСТОЙ КНИГИ МОИСЕЯ
И когда Моисей вывел израильтян из Египта и показал им путь в землю Ханаанскую, как ему повелел Господь, он вернулся к фараону.
Во дворце его ждали фараон, чародеи, первосвященники и все придворные.
И упал Моисей на колени и сказал: — Господь повелел мне вывести народ Израилев из Египта, одну группу за другой! Это сделано!
Фараон сказал: — Но ты, отец мой, предал меня!
И тогда сказал Моисей: — Бог Израилев повелел мне, и я послушался его.
Тогда царь египтян рассердился и сказал: — Ты изменил мне, и твоему народу, и твоей стране, и приговор будет «Смерть!»
И тогда сказал Моисей: — Это слово царя.
И был Моисей царского рода, поэтому ему дали право самому выбрать, как он будет умирать, и Моисей выбрал смесь из яда, меда и вина.
Его увели от фараона в одно из помещений дворца и дали ему чашу, наполненную ядом, медом и вином.
И вдруг в помещение влетел голубь.
И тут же Моисей опустошил чашу. И в ожидании, когда яд начнет сковывать его сердце, сказал:
— Самый святой храм ты найдешь в своем сердце. Когда ты молишься твоему Богу, Он с тобой. Он всегда с тобой, и ты найдешь Его в себе, потому что ты и Бог — одно, так же как Он одно со всем, что Он создал. Ты не должен искать рая, потому что ты уже нашел его, и он внутри тебя.
И тут он упал.
Так умер Моисей, слуга Господа, во дворце фараона. И его тайно похоронили в гробнице у реки. И в этой скрытой гробнице Моисей будет покоиться вечно, потому что и по сей день никто не знает, где эта гробница.

У Бога нет религии.
Махатма Ганди

Том Эгеланн
Разорванный круг
ПРОЛОГ
Это слова, которые тайно сказал Иисус и которые записал я, Фома Иуда Петр.
Евангелие от Фомы — Пятое Евангелие, не включенное в Новый Завет. Рукопись обнаружена в Египте в 1945 году

Ближе к вечеру того дня, когда умирала Грета, пошел дождь.
Сквозь струйки дождя за голыми ветками кустарника я едва вижу фьорд, блестящий и холодный, скорее похожий на большую реку. Уже не один час я сижу здесь и смотрю на капли, текущие по оконному стеклу. Я думаю. И пишу. От порывов ветра на запотевшем стекле появляются изменчивые разводы.
Письменный стол я придвинул поближе к окну. Теперь можно писать, бросая взгляд на улицу. Во фьорде плавают комки гниющих водорослей. Волны лениво плещутся о прибрежные скалы. Слышны робкие покрикивания уставшей от жизни морской крачки.
Черные намокшие ветки дуба, растущего рядом с домом, торчат во все стороны. Кое-где видны редкие листочки, которые еще не поняли, что наступающая осень скоро приберет и их.
Когда папа умер, было лето. Ему исполнилось тридцать лет четыре месяца две недели и три дня. Я слышал, как он закричал.
Почти все считают, что это был несчастный случай.
В первое время после его смерти мама пряталась от мира за оболочкой тихой скорби. А после внезапной метаморфозы, которую я до сих пор не могу забыть, начала пить и перестала обращать на меня внимание. О ней стали судачить. В магазине я встречал сочувственные взгляды взрослых. Дети же распевали о ней безобразные куплеты. На асфальте школьного двора появлялись похабные рисунки с ее изображением.
Некоторые воспоминания остаются с вами навсегда.
Конечно, они уже побывали здесь, пока я отсутствовал. Обыскали каждую комнату. И уничтожили все следы ее пребывания. Словно ее здесь никогда и не было.
Но они не безгрешны. Не обратили внимания на четыре шелковых шнура, которые свешиваются со стоек кровати.
В свой дневник я записываю все, что случилось со мной этим летом.
Если бы не ноющие раны и сильное жжение, я мог бы подумать, что все события мне просто привиделись. Что все это время я просто находился в своей палате в клинике. Спеленутый смирительной рубашкой. Напичканный стесолидом. Возможно, я никогда не пойму, что со мной произошло тогда. Но это не важно. Воспоминаний мне хватит надолго.
Дневник мой — толстый том в плотном переплете из кожи. В нижнем правом углу обложки золотом вытиснено мое имя:
«Бьорн Белтэ».
Есть два вида археологии. Историческая. И интеллектуальная — раскопки в собственной голове.
Перо скрипит по бумаге. Я медленно разматываю паутину воспоминаний.
Часть первая
АРХЕОЛОГ
I
ЗАГАДКА
1.
Я сижу на корточках на одном из абсолютно одинаковых квадратных участков и занимаюсь поисками прошлого. Голову нещадно печет солнце. На руках мозоли, которые периодически напоминают о своем существовании резкой болью. Я весь в пыли и поту. От меня разит. Футболка прилипла к спине, словно старый заскорузлый пластырь.
Ветер и лопаты подняли в воздух огромное количество мелкого песка, который висит над полем серо-коричневым куполом. Пыль режет глаза. Во рту у меня сухо, лицо покрыто слоем грязи. Кожа кажется потрескавшейся коркой. Я издаю тихий стон. Невозможно представить себе, что когда-то я мечтал именно о такой жизни. Но ведь всем людям надо на что-то жить…
Я чихаю.
— Будь здоров! — звучит чей-то голос. Удивленно оборачиваюсь. Все заняты своим делом.
Раскопать прошлое очень нелегко. Сидя на глубине нескольких лопат ниже поверхности, я перебираю кончиками пальцев шершавую почву на носилках, стоящих передо мной. Тому культурному слою, до которого мы сейчас добрались, восемьсот лет. Смрад компоста бьет в нос. В своем учебнике «Археологический анализ древностей» — профессор Грэм Ллилеворт пишет: «Пребывающий в темноте слой земли посылает нам свою безмолвную весть». Как вам это нравится? Профессор Ллилеворт — один из самых заметных археологов мира. Но он слишком большой лирик. Приходится с этим мириться.
А сейчас профессор сидит в тени тента, натянутого между четырьмя шестами. И читает. Посасывает незажженную сигару. У него невероятно умный вид седовласого старца, полного помпезного достоинства. Иногда он переводит на нас взгляд, который говорит: «Когда-то мне тоже пришлось попотеть, но это было очень давно».
Я искоса смотрю на него через толстые стекла солнечных очков. Наши глаза встречаются, и на секунду-другую он задерживает на мне свой взгляд. Потом зевает. Тент вздрагивает от дуновения ветра. Вот уже много лет ни один человек с грязью под ногтями не осмеливался вызывающе смотреть на профессора.
— Мистер Белто? — обращается он ко мне преувеличенно вежливо. Я все жду того момента, когда какой-нибудь иностранец произнесет мое имя правильно.
Профессор знаком подзывает меня к себе. Как надсмотрщик на плантации, повелевающий рабом-негром. Я вылезаю из ямы и отряхиваю землю с джинсов.
Профессор откашливается:
— Нет ничего?
Я взмахиваю руками и становлюсь перед ним, комически изображая стойку «смирно», но это проходит мимо его внимания.
— Ничего! — выкрикиваю я по-английски.
С плохо скрытым презрением он осматривает меня и произносит:
— У вас все в порядке? Бледноваты вы что-то сегодня!
И начинает хохотать. Он ждет моей реакции, но напрасно.
Многие считают, что профессор Грэм Ллилеворт — злобный и властолюбивый человек. Ничего подобного. Его главное врожденное свойство — чувство превосходства над другими. Взгляд профессора на окружающий мир и на крохотных насекомых-людишек, кишащих у его ног, сформировался у него рано и затем застыл, словно бетон. Когда он улыбается, то в его улыбке читаются снисходительность и равнодушие. Когда слушает, то делает это из вынужденной вежливости (которую мать внушила ему палкой и угрозами). Когда говорит, легко поверить, что он выступает от лица самого Господа.
Ллилеворт смахивает пух, прилипший к его серому, с иголочки костюму. Откладывает сигару на переносной стол. Водостойкой тушью он обычно помечает заложенные шурфы.
[114] С каменным лицом, сняв крышку с флакончика, он ставит на схеме, лежащей на столе под тентом из простыни, крестик у шурфа 003/157.
Затем усталым взмахом руки отпускает меня.
В университете мы усвоили, что каждый из нас может выбросить на поверхность кубический метр земли в день. Гора промытой породы около сита показывает, что полдня прошли хорошо. Ина, студентка, промывающая всю землю, которую мы доставляем ей на носилках и тачках, не нашла ничего, кроме веретена и гребня, пропущенных кем-то в слое. Она стоит в луже грязи. На ней облегающие короткие шортики, белая футболка и огромные резиновые сапоги. В руке она держит зеленый садовый шланг с мундштуком.
Она очень мила. В двести двенадцатый раз за этот день я бросаю на нее взгляд. Но она ни разу даже не посмотрела в мою сторону.
Мышцы ноют. Я опускаюсь на походный стул в тени густого кустарника, который скрывает меня от августовского солнца. Это мой уголок, где я чувствую себя в безопасности. Отсюда видна вся территория раскопок. Я вообще люблю иметь широкий обзор. Если есть обзор, можно контролировать ситуацию.
Каждый вечер после сортировки и каталогизации находок я заверяю свою опись. Профессор Ллилеворт считает, что я слишком подозрителен, поскольку настаиваю на сверке находок в картонных коробках с этой описью. До сих пор я ни разу не поймал его на расхождении. И все равно я ему не верю. Я сюда прибыл для контроля. Мы оба это знаем.
Профессор начал будто случайно поворачиваться, определяя, куда я подевался. Я тут же посылаю ему веселое скаутское приветствие — два пальца у лба. Он не отвечает.
Мне лучше всего в тени. Из-за дефекта радужной оболочки глаз яркий свет вызывает взрыв искр в голове. Для меня солнце — диск концентрированной боли. Поэтому я часто щурюсь. Один ребенок как-то сказал мне:
— Можно подумать, что у тебя в глазах фотоаппарат со вспышкой.
Повернувшись спиной к контейнеру с нашим оборудованием, оглядываю всю площадь раскопок. Белые бечевки координат образуют квадраты, которые вскрываются один за другим. Ян и Ури стоят рядом с нивелиром и теодолитом,
[115] бурно обсуждают что-то и размахивают руками. Я начинаю в шутку внушать себе, что мы ведем раскопки не там, где надо. Что профессор сейчас засвистит в свой идиотский свисток и закричит:
— Стоп, мы ошиблись!
Но по их лицам я вижу, что они просто недовольны темпами работ.
Здесь тридцать семь археологов. У каждого руководителя раскопок (Яна, Теодора и Пита из Оксфордского университета, Моше и Дэвида из Еврейского университета в Иерусалиме и Ури из Института Шиммера) под началом группа норвежских студентов, специализирующихся на археологии.
Ян, Тео и Пит являются создателями совершенной компьютерной программы для археологических раскопок, основанной на спутниковом фотографировании земных структур инфракрасными лучами и локаторами.
Моше — доктор теологии и физики, он участвовал в работе группы специалистов, изучавших Туринскую плащаницу
[116] в 1995 году.
Дэвид — эксперт по толкованию манускриптов Нового Завета.
Ури — специалист по истории ордена иоаннитов.
[117] А я здесь для контроля.
2.
Когда-то давно я каждое лето жил у бабушки по папиной линии в усадьбе рядом с фьордом. Дом в швейцарском стиле был окружен садом, полным фруктов, ягод и цветов. В саду лежали нагретые солнцем каменные плиты, рос густой кустарник, было полно бабочек, птиц и
веселых шмелей. Воздух напоен ароматом смолы и морских водорослей. С середины фьорда доносилось пыхтение лодочных моторов. Вдали виднелось узкое пространство между Ларколленом и Булерне. За ним брезжила бесконечная гладь океана, а за горизонтом мне мерещилась Америка.
В километре с небольшим от усадьбы у дороги между Фулевиком и Моссом был расположен монастырь Вэрне. Он занимал две тысячи декаров
[118] с полями, лесами и историей, начало которой теряется в королевских сагах Снорри.
[119] В конце XII века король Сверре Сигурдссон подарил монастырь Вэрне монахам ордена иоаннитов. Иоанниты осветили задворки нашей цивилизации отблесками мировой истории Крестовых походов, а также культуры рыцарей-церковников. И только в 1532 году время монахов в монастыре Вэрне подошло к концу.
[120]
Жизнь состоит из ряда случайностей. И теперь профессор Ллилеворт производит раскопки на одном из полей этого монастыря.
Профессор утверждает, что наша цель заключается в поисках круглого замка эпохи викингов, по-видимому имеющего метров двести в диаметре и окруженного круглым же земляным валом с деревянным частоколом. Ллилеворт якобы обнаружил его карту в одном из захоронений викингов в Йорке.
Поверить в это трудно. Да я и не верю.
Профессор Грэм Ллилеворт явно ищет что-то другое. Что именно, я не знаю. Сокровища — слишком банально! Захоронение с кораблем викингов? Остатки раки святого Олафа? Может быть, монеты из Хорезма — царства к востоку от Аральского моря? Свиток из телячьей кожи с текстом Снорри? Серебряную чашу для жертвоприношений? Магический камень с рунической надписью? Я могу только гадать. И еще добросовестно выполнять миссию сторожевого пса.
По материалам этих раскопок профессор собирается написать учебник. Финансирует исследования некий английский фонд. Владельцу земельного участка выплатили немалую сумму за возможность покопаться на его поле.
Я до сих пор не понял, как профессору Ллилеворту с его археологическими группами захвата удалось пробраться на норвежскую территорию. Видимо, действует все то же старое доброе правило — без друзей никуда, особенно без могущественных друзей.
Иностранцам, вообще-то, трудно получить разрешение на археологические исследования в Норвегии. А профессор Ллилеворт не встретил никакого сопротивления. Напротив. Директор Инспекции охраны памятников восторженно аплодировал ему. Университет с радостью предоставил самых лучших студентов-археологов для участия в раскопках. Допустили к работе в Норвегии и его помощников-иностранцев. Задобрили представителей местной власти в районе раскопок. Все — ну в самом лучшем виде. А потом выискали меня в кабинете отдела древностей Исторического музея на улице Фредериксгате. На роль контролера. Указующего перста норвежских властей. Меня, близорукого ассистента-археолога, отсутствия которого в течение нескольких месяцев в институте никто и не заметит. Чистая формальность, знаете ли, — перед профессором почти извинялись за мое присутствие, но правила есть правила.
В комнате бабушки в усадьбе стоят часы деда и тикают — исключительно в свое собственное удовольствие. С раннего детства я полюбил эти часы. Они всегда врут. В самое неожиданное время вдруг начинают бить. Без восьми минут двенадцать! В три минуты десятого! В двадцать восемь минут четвертого! Старый механизм самозабвенно раскручивает свои пружинки и колесики и возвещает: «А мне плевать!»
Почему кто-то вообще решил, что все остальные часы в мире идут правильно? Или что время можно зафиксировать движением стрелок? Я обычно думаю не очень быстро. Это связано с моей работой. Когда извлекаешь из земли древний скелет женщины, которая пятьсот лет назад прижала к себе ребенка и так и не выпустила его из рук, время словно замирает.
Порыв ветра приносит с собой соленый запах моря. Солнце уже не такое горячее. Я ненавижу солнце. Мало кто знает о том, что на этом огненном шаре идет непрерывная ядерная реакция. А я знаю. И радуюсь, что через десять миллионов лет все это кончится.
3.
В прозвучавшем над раскопками крике слышатся восторг и изумление. Профессор Ллилеворт зашевелился под своим тентом. Словно дряхлый сторожевой пес, он насторожился и выжидает, обдумывая, стоит ли поднимать лай.
Археологи редко громогласно радуются находкам. Иногда мы что-то обнаруживаем. Но бурно проявлять свой восторг ниже нашего достоинства. После тщательной консервации и каталогизации большинство ломаных монет и веретен попадает в какую-нибудь светло-коричневую коробку в дальнем углу темного хранилища, где годами ждет своего часа. Лишь немногим за свою карьеру удается найти предмет, который будет выставлен в витрине под стеклом. Думаю, со мной согласятся почти все специалисты: последняя по-настоящему грандиозная археологическая находка в Норвегии была сделана в Усеберге в 1904 году.
[121]
Кричала Ирена, студентка отделения классической археологии. Талантливая, замкнутая девушка. Я мог бы даже влюбиться в нее.
Ирена входит в группу Моше. Сегодня утром она вскрывала остатки стен фундамента, имевших форму октагона — восьмигранника. Вид девушки пробуждает во мне неясное воспоминание, но оно не успевает четко оформиться.
Никогда раньше я не видел профессора Ллилеворта в таком напряжении. Несколько раз в течение часа он выходил из-под тента, чтобы взглянуть на ее работу.
Ирена выбралась из раскопа и, стоя на краю, возбужденно машет рукой профессору.
К ней бегут другие студенты.
Профессор свистит в свой свисток.
Пффффффф-ррррррр-ииииииит!
Волшебный свисток. И все, вздрагивая, застывают на месте, словно изображения на старинной восьмимиллиметровой кинопленке, застрявшей в киноаппарате.
Все послушно ждут.
Но на меня свисток не оказывает никакого воздействия. Я подбегаю к Ирене. Профессор приближается с противоположной стороны. Он пытается остановить меня взглядом. И свистком.
Пффф-ррр-иит!!! Но не успевает. Я оказываюсь у края первым.
Это ларец.
Продолговатый ларец.
Длиной в тридцать-сорок сантиметров. Красно-коричневое дерево слегка подгнило.
Профессор резко тормозит у самого края. Несколько мгновений я даже надеюсь, что он в своем сером костюме свалится вниз. Это было бы бесспорным унижением. Но я не из тех, кому везет.
От быстрого бега он запыхался. Улыбается. Рот открыт. Глаза широко распахнуты. Полное впечатление, что сейчас он испытывает оргазм.
Я слежу за его взглядом. Направленным на ларец.
Профессор очень медленно садится на корточки, левую руку кладет на край и спрыгивает в раскоп.
Все присутствующие издают изумленный возглас.
Кончиками пальцев — мягких пальцев, предназначенных для того, чтобы брать бутерброды, держать бокалы с шампанским и сигары да еще ласкать шелковистые груди стеснительных барышень из Кенсингтона, — он начинает разгребать землю вокруг ларца.
Профессор Грэм Ллилеворт пишет в своем учебнике «Методы современной археологии», что тщательное описание каждой находки является ключом к правильной интерпретации. «Терпение и тщательность принадлежат к числу важнейших добродетелей археолога», — утверждает он в книге «Добродетели археологии», профессиональной библии студентов-археологов. Ему следовало бы понять, что он слишком торопится. Нам некуда спешить. Если что-то пролежало в земле сотни или тысячи лет, то следует потратить несколько лишних часов, чтобы быть точным и осторожным. Необходимо зарисовать ларец сверху и сбоку. Сфотографировать его. Измерить длину, высоту и ширину. И только тогда, когда все возможные детали описаны, можно аккуратно извлечь находку с помощью совка и чайной ложки. Кисточкой смести грязь и песок. Законсервировать деревянный предмет. А если предмет металлический, то обработать его раствором карбоната. Все это известно профессору.
И на все это он сейчас плюет.
Я спрыгиваю к нему. Все остальные уставились на нас так, будто профессор только что распорядился копать без перерыва, пока не покажется мантия Земли.
[122]
Руками.
Срок — до обеда.
Я торжественно, преувеличенно громко откашливаюсь и сообщаю профессору, что он слишком увлекся. Но он меня не слышит. Сейчас для него мир не существует. Даже когда мой голос приобретает властные нотки и я именем норвежских археологических властей приказываю ему остановиться, он продолжает неистово разгребать землю. С тем же успехом я мог бы сказать, что меня послал сюда Волшебник страны Оз.
Когда ларец откопан почти целиком, профессор хватает его обеими руками и начинает трясти. От ларца отваливается небольшой кусок дерева.
У многих вырывается крик. Ужаса, изумления. Этого нельзя делать! Я так ему и говорю. С любой археологической находкой надо обращаться очень осторожно.
Слова от него отскакивают как от стенки горох.
Он держит ларец прямо перед собой. Тяжело дыша, пристально разглядывает его.
— Не пора ли, — произношу я ледяным тоном, скрестив руки на груди, — описывать находку?
«Его королевское высочество» продолжает смотреть на ларец с восхищением. И с неуверенной улыбкой. Потом говорит куда-то в пространство с самым безупречным оксфордским произношением:
— This. Is. Fucking. Unbelievable!
[123]
— Пожалуйста, передайте мне ларец, — вежливо требую я.
Он поднимает на меня невидящие глаза. Я откашливаюсь:
— Послушайте, Ллилеворт! Вы, конечно, понимаете, что мне придется доложить об этом событии. — Мой голос приобретает холодное, официальное звучание, я сам перестаю его узнавать. — Отдел древностей и директор Инспекции по охране памятников вряд ли одобрят такое поведение.
Ни слова не говоря, Ллилеворт выбирается из раскопа и трусцой бежит к палатке. С костюма слетает пыль. Мы, все остальные, перестали для него существовать.
Но я так легко не сдамся. Я бегу за ним.
Экзальтированный голос профессора Ллилеворта звучит за гладкой полотняной стеной палатки. Я отодвигаю занавеску. В полумраке сквозь темные стекла очков я не сразу замечаю широкую спину профессора.
— Да! Да! Да! — запыхавшись, орет он в мобильный телефон. — Майкл, слушай меня. Мы нашли ларец!
Больше всего меня поражает сигара в его руке. Уж он-то превосходно знает, что табачный дым может помешать определению возраста находки радиоуглеродным методом.
В его голосе звучит истерический смех.
— Старина Чарльз был прав, Майкл! Не могу поверить! Черт побери, не могу поверить!
На раскладном столе рядом с ним стоит ларец. Я делаю шаг вперед. В тот же момент в пространстве материализуется Ян, словно некий дух, стерегущий сокровищницу фараона. Он крепко хватает меня за плечо и выводит из палатки.
— О господи, почему ты… — Я запинаюсь. Голос дрожит от волнения и возмущения.
Ян бросает на меня косой взгляд и опять исчезает в палатке. Если бы он мог хлопнуть дверью, он бы так и сделал. Но дверная занавеска только слабо закачалась.
Почти сразу выходит профессор. Он обернул ларец. Изо рта торчит дымящаяся сигара.
— Будьте любезны, отдайте ларец! — говорю я. Только для того, чтобы сказать. Но меня никто не слышит, никто не воспринимает всерьез.
Личный автомобиль профессора Ллилеворта — вытянутое сверкающее гоночное чудо. «Ягуар XJ6» цвета бордо. Двести лошадиных сил. Разгоняется до ста километров за девять секунд. Кожаные сиденья. Безупречный руль. Кондиционер. Похоже, там, в глубине мотора, под хромом и краской металлик, брезжат зачатки человеческой души и самосознания.
Ян проскальзывает в автомобиль на место водителя, наклоняется и открывает дверь профессору. Тот садится и кладет ларец на колени.
Мы все стоим в грязных футболках и джинсах, опираясь на лопаты и масштабные линейки, с песком в волосах и земляными разводами под глазами, и с изумлением наблюдаем за ними. Но они нас не видят. Мы сделали свое дело. Нас больше не существует.
«Ягуар» медленно выезжает с территории раскопок. Оказавшись на шоссе, он издает громкий рык, из-под колес вздымается облако пыли.
И он исчезает.
Мы погружаемся в тишину. Только ветер чуть-чуть шевелит кроны деревьев и студенты тихо переговариваются между собой. В этой тишине мне в голову приходят две мысли. Во-первых, меня надули. От досады я так сильно стискиваю зубы, что на глазах выступают слезы. Вторая мысль еще хуже. Я всегда был человеком послушным и обязательным. Винтиком, но необходимым, хорошо запрятанным в глубине винтиком, который никогда не должен подводить свой механизм. Норвежские органы охраны памятников доверили мне функцию контроля. И я этого доверия не оправдал.
Но черт меня побери, если профессор Грэм Ллилеворт ускользнет с этой находкой. Теперь дело не в отношениях между Ллилевортом и отделом древностей. Или между ним и Инспекцией по охране памятников. Или между ним же и прокуратурой.
Теперь нас осталось только двое: Ллилеворт и я.
У меня нет «ягуара». Моя машина больше напоминает надувную резиновую игрушку для купания, позабытую ребенком на пляже. Розовая, марки «Ситроен 2 CV». Летом на ней можно ездить с откинутой крышей. Я дал ей имя Болла. Мы живем с ней душа в душу, если это вообще возможно в отношениях между человеком и механизмом.
Сиденье скрипит, когда я сажусь за руль. Надо приподнимать дверцу, чтобы замок защелкнулся. Рычаг переключения передач похож на зонтик, который какая-то истеричка в порыве ярости воткнула в торпеду. Я включаю первую скорость, жму на газ и пускаюсь в погоню за профессором.
На автомобильных гонках я бы представлял собой жалкое зрелище. Болла разгоняется до ста километров целую вечность. Но ведь я все равно прибуду к месту назначения. Только несколько позднее. Мне не к спеху. Сначала я поеду в отдел древностей, чтобы доложить обо всем профессору Арнтцену. Потом в полицию. Нужно сообщить о происшествии таможенникам в Гардемуене. И еще на паромный причал — «ягуар» затеряться никак не может.
Я откидываю крышу машины летом, потому что люблю, когда ветер треплет ежик волос на моей голове. Тогда я могу помечтать о прогулках в кабриолете под беззаботным небом Калифорнии, о жизни загорелого пляжного красавца, окруженного девушками в бикини, купающегося в море кока-колы и поп-музыки.
В школе меня прозвали Белый Медведь. Конечно, потому, что Бьорн значит «медведь». Но в еще большей степени потому, что я альбинос.
4.
Когда в мае профессор Трюгве Арнтцен спросил меня, не хочу ли я принять полномочия контролера раскопок у монастыря Вэрне на это лето, я только на одну десятую воспринял это предложение как возможность проявить себя. На девять десятых это был повод выбраться из замкнутого пространства комнаты. Не обязательно быть психом, чтобы внушать себе, что четыре стены, пол и потолок каждую ночь сближаются на несколько сантиметров.
Профессор Арнтцен — муж моей матери. Я бы не хотел использовать в данном случае слово «отчим».
За долгие годы общения со студентами профессор успел забыть, что каждый человек — индивидуальность. Студенты превратились для него в однородную массу. Со временем профессор привык к академическому единообразию, стал нетерпеливым и раздражительным. Отцовское наследство сделало его чрезвычайно богатым. И весьма высокомерным. Очень немногие студенты его любят. Подчиненные на него клевещут. Я их прекрасно понимаю: сам его терпеть не могу. Для этого у нас всех есть свои причины.
Сейчас я в центре Осло, в бешеном столпотворении, сопровождающем конец рабочего дня. Лето клонится к концу. Душно, в воздухе парит.
Я барабаню пальцами по рулю. И пытаюсь понять, куда едут все остальные. Кто эти люди? Что им тут понадобилось в этот час? Черт бы их всех побрал! Смотрю на часы и вытираю пот со лба. Хотел бы я остаться на дороге один! Об этом мечтает каждый из нас. Всех поразило коллективное безумие автомобилизма. Только никто этого не замечает. Это и есть главный признак сумасшествия.
Дверь профессора Арнтцена закрыта. Кто-то стащил семь букв с таблички на двери. И как ребенок, я стою и зачарованно читаю: «Про ее ор югве Ар цен».
Выглядит как тибетское заклинание.
Только собираюсь постучать, как слышу голоса за дверью. Подождем. Отхожу к окну. Подоконник покрыт пылью. Под окном, перед светофором, останавливаются машины, пешеходы едва двигаются из-за жары. На служебной автостоянке музея машин почти нет.
Похоже, я слишком торопился, когда ставил свою Боллу. Обычно я бываю внимательнее. Но сверху я все вижу. Очевидно, главное преимущество Господа Бога заключается именно в том, что он всегда имеет полный обзор. Между темно-серым «мерседесом» и маленьким «саабом-турбо» стоит «ягуар» цвета бордо.
Я осторожно прикладываю ухо к двери.
— …precautions!
[124] — доносится до меня голос профессора Арнтцена.
Он говорит по-английски. Интонации униженные. Надо быть очень могущественным человеком, чтобы унизить этого профессора.
Я догадываюсь, кто там.
Другой голос что-то произносит, но мне не разобрать что. Это Ян.
Арнтцен: Когда он приедет?
— Завтра утром, — отвечает низкий голос. Это профессор Ллилеворт.
Так я и думал.
Арнтцен: Приедет сам?
Ллилеворт: Конечно. Но он все еще дома. Самолет на техосмотре. А то бы он прилетел уже сегодня вечером.
Ян (смеясь): Не терпится. Очень взволнован!
Ллилеворт: Ничего странного!
Арнтцен: Он сам хочет вывезти?
Ллилеворт: Конечно. Через Лондон. Завтра же.
Ян: Я все-таки думаю, что лучше забрать ларец с собой в гостиницу. До его приезда. Мне не нравится, что это останется здесь.
Ллилеворт: Нет-нет-нет. Подумайте сами. Полиция будет искать его именно у нас. Если альбинос выкинет какой-нибудь номер…
Арнтцен: Бьорн?..
(Смех.) Успокойтесь! Я его обуздаю.
Ян: А может быть, все же взять…
Ллилеворт: Самое надежное место для ларца здесь, у профессора. Несмотря ни на что.
Арнтцен: Никто не будет искать его у меня. Гарантирую.
Ллилеворт: Пусть будет так.
Ян: Ну, если вы настаиваете…
Ллилеворт: Безусловно.
Тишина.
Арнтцен: Значит, он был прав. Все время. Был-таки прав.
Ллилеворт: Кто?
Арнтцен: Де Витт.
Ллилеворт молчит, потом произносит: Старина Чарльз.
Арнтцен: Он всегда был прав. Ирония судьбы, вы не находите?
Ллилеворт: Лучше, если бы он был сейчас с нами. Ну что же. Мы все-таки нашли этот ларец!
Судя по интонации, разговор заканчивается. Они собираются уходить.
Я отскакиваю от двери и на цыпочках быстро пробегаю по коридору.
На синей табличке на моей двери белыми пластиковыми буквами написано: «Ассистент Бьорн Белтэ». Кривые буквы напоминают неровный ряд зубов.
Я запираю дверь и переношу неустойчивый конторский стул зеленого цвета поближе к окну. Отсюда я могу вести наблюдение за «ягуаром».
Ничего не происходит. Транспорт медленно движется по улице. «Скорая помощь» с трудом объезжает другие машины.
Через несколько минут я вижу на стоянке Яна и профессора Ллилеворта. У Яна прыгающая походка. Сила тяжести действует на него совсем не так, как на всех остальных людей. Ллилеворт плывет, как массивный супертанкер. Руки у обоих ничем не заняты.
Немного погодя появляется профессор Арнтцен. Через левую руку перекинут плащ, в правой — зонт. Ларца нет и у него.
На нижней ступеньке лестницы он поднимает голову и смотрит в небо. Он всегда так делает. Вся его жизнь состоит из ритуальных мелочей.
Около «мерседеса» он останавливается и начинает искать ключи. Он феноменально небрежен с ключами и постоянно их теряет. Пока ищет, переводит взгляд на мое окно. Я застываю. Отблеск оконных стекол делает меня невидимым.
Через полчаса я звоню ему домой. К счастью, снимает трубку он, а не мама. По-видимому, он сидел у телефона и ждал звонка.
— Сигурд? — кричит он.
— Это Бьорн.
— Бьорн? Вот как. Это ты?
— Мне надо с тобой поговорить.
— Ты звонишь из Эстфолда?
— Мы что-то нашли.
Пауза.
Потом он переспрашивает:
— Да?
— Ларец.
— Вот как?
Опять пауза.
— Неужели?
Каждое слово будто вязнет в смоле.
— С которым смылся профессор Ллилеворт!
— Смылся?
Профессор не очень хороший актер. Он не может даже изобразить удивление.
— Я подумал, что он, возможно, свяжется с тобой.
Новая пауза.
— Со мной?
Он пытается взять инициативу в свои руки:
— Ты видел, что это за ларец?
— Деревянный.
— Старый?
— Из слоя двенадцатого века. Но очевидно, ларец еще старше.
Он судорожно выдыхает.
— Я не успел осмотреть его, — продолжаю я. — Но мы обязаны выразить протест.
— Протест?
— Ты что, не слышишь меня? Он сбежал с ларцом! Это касается не только Инспекции по охране памятников и нас. Я — буду звонить в полицию.
— Нет-нет, никаких поспешных действий, успокойся. У меня все под контролем. Забудь об этом!
— Пойми, они сбежали с ларцом! И руководство раскопками тоже было ниже всякой критики. Я напишу, докладную! Ллилеворт мог с тем же успехом проводить раскопки при помощи динамита и экскаватора.
— А ты… что-нибудь предпринял?
— Пока ничего.
— Хорошо. Предоставь все мне.
— Что ты будешь делать?
— Спокойно, Бьорн! Я внимательно во всем разберусь. Больше не думай об этом.
— Но…
— Мне надо позвонить. Успокойся. Все будет в порядке. Поговорим завтра.
Возможно, все это пустяки. Ларец. Он пролежал в земле восемьсот лет. Вряд ли человечество много потеряет, если эту находку контрабандой вывезут из страны. Словно мы ничего и не обнаружили.
Возможно, у профессора Ллилеворта большие планы. Может быть, он думает продать ларец какому-нибудь арабскому шейху и получить за него целое состояние. Или подарить Британскому музею, который в очередной раз прославится академическим триумфом за счет чужой культуры.
И все это произойдет при безоговорочной поддержке профессора Арнтцена.
Я ничего не понимаю. Это не мое дело. Но я злюсь. Я был контролером. Меня провели. Пригласили в уверенности, что меня, подслеповатого альбиноса, легко обмануть.
5.
За Вороньим Гнездом, где я вырос, лежало заброшенное, заросшее поле. Мы называли это место Конский пустырь. Рядом был обрыв, и зимой я любил прыгать с него, как с трамплина. В весеннюю распутицу устраивал велосипедный пробег по раскисшим от грязи тропинкам. Летом забирался на деревья и, словно белка, сидя на ветках, подглядывал за девушками и парнями, которые приходили сюда пить пиво, курить гашиш, развлекаться друг с другом под прикрытием высокой травы. В свои одиннадцать лет я был самым настоящим шпионом.
Семнадцатого мая 1977 года среди зарослей рябины была изнасилована одна девушка. Это произошло средь бела дня. Вдали звучала музыка, раздавались крики «ура» и хлопки китайских фейерверков.
[125] Неделю спустя, тоже днем, была изнасилована еще одна девушка. Об этом довольно подробно писали в газетах. А еще через два дня кто-то поджег сухую траву. В этом не было ничего необычного. Дети из соседних поселений иногда жгли здесь хворост. Но на этот раз никто так и не остановил распространение пламени. Пожар охватил весь пустырь, часть леса и оставил после себя выжженную дымящуюся пустошь. Абсолютно непригодную для изнасилований. Все подозревали, что между этими происшествиями есть какая-то связь.
В школе мы долго говорили об этом. Полиция произвела расследование. Мы придумывали поджигателю прозвища: Сумасшедший Пироман, Король Огня, Мститель.
До сих пор никто не знает, что поджигателем был я.
У профессора было много разных возможностей, чтобы спрятать ларец. Но большинство мест я исключаю. Я знаком с его образом мысли.
Он мог спуститься в главное хранилище. Мог запереть ларец в несгораемом железном сейфе. Но он этого не сделал. Ведь у всех есть доступ в хранилище. А он не хотел делиться ни с кем.
Один из главных парадоксов жизни состоит в том, что мы не видим того, что на виду. Так думает профессор. Он знает, что именно в отчаянных поступках доля риска минимальна. Хочешь спрятать книгу — поставь ее на книжную полку.
Он спрятал ларец в своем кабинете. В запертом шкафу. За какими-нибудь коробками или папками. Я абсолютно уверен в этом. Моя интуиция безупречна. Я могу представить себе действия профессора так же отчетливо, как если бы видел их на киноэкране. Эту способность я унаследовал от своей бабушки.
Дверь кабинета профессора заперта, но меня это не остановит. Когда он уезжал в Телемарк на раскопки в 1996 году, он дал мне на время ключ и забыл об этом. Как и о многом другом.
Его кабинет вдвое больше моего. И несравненно величественнее. Посередине, на ковре, имитирующем персидский, возвышается письменный стол с компьютером, телефоном и чашкой для скрепок, сделанной моим сводным братом на уроках труда. Офисное кресло с высокой спинкой оснащено гидравликой. Рядом стоят стулья и столик, где профессор пьет кофе со своими гостями. У южной стены расположился стеллаж, набитый знаниями.
Я опускаюсь в кресло, которое встречает меня мягким пружинящим дружелюбием. В воздухе чувствуется резкий запах сигары Ллилеворта.
Я закрываю глаза и пытаюсь сосредоточиться. Обращаюсь к интуиции. Так я сижу несколько минут. Потом открываю глаза.
Взгляд падает на архивный шкаф. Это серый алюминиевый шкаф с тремя горизонтальными ящиками и общим замком на самом верху справа. Я подхожу и тяну на себя верхний ящик.
Заперто. Конечно.
Ножницами или отверткой можно легко взломать замок. Но это вряд ли потребуется. Под скрепками в чашке на письменном столе я нахожу ключ. Запасные ключи профессора лежат повсюду. К лампе на письменном столе подвешены ключи от «мерседеса» и виллы.
Я отпираю, потом открываю верхний ящик. Зеленые вертикальные папки заполнены документами, письмами и контрактами. В среднем ящике я нахожу вырезки из иностранных журналов, систематизированные по алфавиту и по темам.
Ларец лежит в глубине самого нижнего ящика. Позади всех папок. Он завернут в мягкую ткань. Вложен в пластиковый пакет от «Лорентцена». Пакет находится внутри полосатой сумки. И сверху все это прикрыто стопкой книг. Держа сумку в руке, я убираю все остальное на место. Запираю ящики. Кладу ключ под скрепки.
Пододвигаю кресло к письменному столу. В последний раз окидываю кабинет взглядом — все ли на месте? Ничего не забыл? Потом выскальзываю в коридор и захлопываю за собой дверь. Коридор темный. И бесконечный. Смотрю сначала в одну, потом в другую сторону. Медленно крадусь к своему кабинету.
Позвольте, позвольте, господин Белтэ, что это вы позабыли в кабинете профессора? И что это у вас в руках?
Мои шаги гулко звучат в пустом коридоре. Стук сердца тоже слышен. Я оборачиваюсь.
Господин Белтэ? Куда это вы направляетесь с ларцом? Вы украли его у профессора?
Я ловлю воздух ртом, пытаюсь идти как можно быстрее.
Стойте! Немедленно остановитесь!
Успел! Голоса продолжают раздаваться у меня в голове. Я рывком распахиваю дверь и вваливаюсь в свой кабинет. Прислоняюсь к двери и тяжело дышу.
Осторожно вынимаю ларец из сумки и пакета, разворачиваю. Руки дрожат.
Находка оказывается неожиданно тяжелой. Два хлипких запора удерживают красноватую подгнившую крышку. Дерево превратилось в труху. Сквозь щели видно, что лежит внутри. Там еще один ларец.
Я не специалист по металлам. Но сейчас это не важно. Без всякой экспертизы видно, из чего сделан внутренний ларец. Это золото. Даже пролежав столетия в земле, оно испускает теплое желтоватое сияние.
Я ощущаю, как на меня надвигается что-то страшное.
Смотрю через грязные стекла окна на улицу и жду, пока сердце успокоится.
6.
Два года назад я провел шесть месяцев в клинике для душевнобольных.
Мне повезло. Я получил место в том отделении, куда раньше ходил на групповую терапию. Время остановилось в этом месте. Узор линолеума не изменился. Стены были того же бледно-зеленого цвета, без всяких украшений. Звуки и запахи те же. Все так же сидел в своем кресле-каталке Мартин и восемнадцатый год подряд вязал все тот же шарф. Огромное произведение вязального искусства хранилось у него в высокой корзине под крышкой. Мартин кивнул мне, как будто я всего лишь ненадолго сбегал в киоск. А мы ведь даже никогда не разговаривали. Он узнал меня, посмотрел благожелательно, словно считал своим другом.
Мама даже не знала, что меня положили в больницу. Она так легко огорчается. Поэтому я сказал ей, что отправляюсь на раскопки в Египет.
Пришлось послать на Главпочтамт в Каире большой конверт формата А4, где лежало шесть конвертов поменьше, каждый с адресом. И письмо с просьбой о помощи. Я не знаю арабского языка. Поэтому я положил туда двадцатидолларовую купюру. Универсальный язык. Некий любезный почтовый служащий все понял и поставил штамп:
Cairo, Egypt.[126] Мой ход был очень тонким. Как в криминальном романе. Я предполагал, что оттуда будут посылать по одному письму в месяц. Мне казалось, что это абсолютно понятно. Но на всякий случай я написал названия месяцев на каждом конверте, справа вверху. И все же почтовый служащий отправил все письма сразу. Идиот. Вымышленные события шести месяцев: замечательные археологические находки, романы с египтянками, исполнявшими танец живота, экспедиции в пустыню, песчаные бури, путешествия верхом на перекошенных одногорбых верблюдах — оказались спрессованными в
одну неделю. Можно только поражаться моей фантазии и легковерности мамы. Ведь я сумел убедить ее, что все так и было. Возможно, в тот момент она была не вполне трезва.
Терапия помогла мне встать на ноги. У врачей есть свои отработанные приемы. С их помощью я сумел расправить свою жизнь, как расправляют одежду, повесив ее на плечики.
Ничего экзотического в моей болезни не было. Никаких занятных фантазий типа «я Наполеон». Никаких голосов в голове. Только жизнь в абсолютной и беспросветной мгле.
Сейчас мне лучше.
7.
В ужасе мчусь я по улицам Осло. Теперь я вне закона. Заходит солнце.
«Дельта Фокстрот 3–0. Подозреваемый едет на „Ситроене 2CV“. Немедленно задержать».
В течение какого-то времени в зеркале заднего вида мелькала «тойота». Когда она наконец свернула на боковую улицу, я вздохнул с облегчением.
Подозреваемый совершил кражу ценного артефакта. Он может быть опасен, если попадет в безвыходное положение. Проезжая мимо холма Святого Ханса, пристраиваюсь за микроавтобусом, который едет подозрительно медленно. Я напряженно смотрю в зеркало заднего вида и в то же время слежу за смутными силуэтами в микроавтобусе. Мало ли что. Однако мне удается в целости и сохранности добраться до кольцевой магистрали. Выстрелов не прозвучало. Пока.
Наконец впереди появляются многоэтажки. Дома не очень привлекательны, но мне их вид приносит облегчение. Я всегда радуюсь, когда возвращаюсь домой.
Я вырос в большом нелепом белом доме, окруженном яблоневым садом, на маленькой улице на окраине. Трамвай, пожарная часть, жизнерадостные соседи.
Рядом с родительской спальней располагалась застекленная веранда, на которую я мог выбираться из детской через маленькое оконце. Я часто так и делал, когда не мог заснуть. На дверях веранды, ведущих в спальню родителей, были натянуты тонкие тюлевые занавески, через которые я мог наблюдать за всем происходящим внутри. Ночные шпионские вылазки наполняли меня сладостными щекочущими ощущениями и радостью, что меня никто не видит. Однажды вечером я глядел, как в хитросплетении теней своей спальни мама и папа танцевали обнаженными. Гибкие воспламененные тела, завораживающие руки и губы. Я стоял неподвижно, ничего не понимая, опьяненный магией ночи. Внезапно мама повернулась и посмотрела прямо на меня. И улыбнулась. Но, очевидно, не разглядела моего лица среди складок занавески, потому что тут же отвернулась от окна и утопила папу во вздохах и ласках.
Мне кажется, я бы смог заинтересовать Фрейда.
В саду у двух невзрачных яблонь лежала куча компоста. Компост источал резкий запах, одновременно привлекательный и отталкивающий. Когда папу хоронили, то из могилы доносился точно такой же запах. Почувствовав дух, исходивший из мрака могилы, я понял, что запах компоста означает еще и смерть и обещание новой жизни. Тогда я не сумел выразить это словами, но мое открытие пугало и завораживало.
Всю свою жизнь я был очень чувствителен к запахам. Поэтому я избегал заходить в подвал, из которого несло тлением, плесенью и еще чем-то неприятным. Под трухлявой, полускрытой в траве дверцей подвала позади нашего дома в мире и спокойствии плели свою паутину пауки. Тончайшие сети кружевными пологами висели на каменных ступенях лестницы. Когда папа, пробравшись сквозь заросли крапивы, отпирал висячий замок и открывал дверцу, миллионы крохотных существ издавали беззвучный крик и бросались спасаться от яркого света. В подвале клубились ядовитые облака могильного смрада. Мне казалось, папа ничего не замечает. Но я-то знал, что скрывается во влажном, источающем дух разложения мраке. Привидения. Вампиры. Оборотни. Одноглазые убийцы. Все эти уродливые создания населяли мальчишескую фантазию, и только на солнце опять появлялся Винни Пух.
Я до сих пор могу вызвать в памяти запахи детства. Залитого водой поля в дождливый день. Земляничного мороженого. Нагретой солнцем пластмассовой лодки. Холодной весенней земли. Маминых духов и папиного крема для бритья. Именно из таких мелочей складываются самые дорогие воспоминания.
Остается радоваться, что я не родился собакой.
Рогерн, мой сосед с нижнего этажа, — поклонник ночи. Он ненавидит солнечный свет. Как и я. Глаза его потемнели и устали от жизни. У него черные до плеч волосы. На серебряной цепочке на шее висит перевернутое распятие. Рогерн — бас-гитарист рок-группы под названием «Наслаждение Вельзевула».
Я звоню в дверь и долго жду. Хотя квартира небольшая, мне всегда кажется, что звонок застает Рогерна в самых дальних подземных переходах древнего замка и он вынужден бегом подниматься по длинным, освещенным факелами спиральным лестницам, чтобы добраться до двери.
Рогерн — хороший парень. Подобно мне, он спрятал все страшные мысли на самом дне своей души. Они лежат там, в глубинах, и терзают его, пока нарыв не лопнет и кровь не занесет инфекцию в мозг. Это видно по его взгляду.
Не знаю почему, но я нравлюсь Рогерну.
— Бог ты мой! — восклицает он с радостным смехом, когда наконец открывает дверь.
— Я тебя разбудил?
— Ничего. Выспался. Ты уже вернулся?
— Соскучился по тебе! — ухмыляюсь я.
— Ах ты, чертова водяная крыса!
В зеркале, висящем в прихожей, я вижу себя. Да, надо было переодеться и умыться. Поднимаю сумку с ларцом:
— Можешь кое-что спрятать у себя?
— Что-что? — звучит как «чё-чё?».
— Сумку.
Он моргает.
— Не слепой. Чё в ней? — Он гогочет. — Героин?
— Всего лишь старье. Из былых времен.
Для Рогерна «былые времена» включают в себя крылатых драконов, патефоны и мужчин в напудренных париках. Одним словом, примерно 1975 год.
— Мы сделали новую запись, — говорит он гордо. — Хошь послушать?
Честно говоря, я совсем не «хошь». Но совесть не позволяет мне отказаться. Иду за ним в комнату. Занавески задернуты. Отблеск красных ламп делает комнату похожей на лабораторию фотографа. Или на публичный дом. На круглом столе из красного дерева стоит серебряный канделябр с семью черными стеариновыми свечами. Огромный ковер на полу украшен колдовскими знаками внутри круга. На стенах, над диваном, явно приобретенным на блошином рынке, висят плакаты с изображениями Сатаны и жутких сцен ада. Рогерн несколько странно представляет себе домашний уют.
У продольной стены возвышается черная громада домашнего кинотеатра, напоминающая алтарь неведомого божества, которому поклоняется хозяин. В нем CD-проигрыватель с программным управлением, цифровой PPL-тюнер с системой поиска, усилитель с савбуфером и системой позиционного звука, эквалайзером и двойной кассетной декой для быстрой перезаписи. Рядом чернеют, как скалы, четыре динамика.
Рогерн взмахивает пультом. Стереоустановка пробуждается к жизни фейерверком цветодиодов и дрожащих стрелок. В CD-проигрывателе открывается окошечко, словно волшебная дверь в арабских сказках.
Рогерн нажимает на кнопку «PLAY».
И мир взрывается.
В тот же вечер у себя в душе смываю под ледяной водой пыль и пот и охлаждаю обгоревшую полоску кожи на затылке. От мыла мозоли начинают гореть.
Иногда душ имеет ритуальное значение. После долгого дня можно смыть с себя все неприятности. Меня охватывает усталость. Кажется, сны сегодня мне не будут сниться.
8.
У мамы есть одна особенность. Она всегда производит впечатление человека приветливого и бодрого, позвони ей хоть в половине четвертого ночи.
Сейчас как раз половина четвертого ночи.
Я набираю номер маминого телефона. Сначала отвечает профессор. Голос сонный. Говорит неразборчиво. Сердито. Все-таки что-то человеческое в нем есть.
— Это Бьорн.
— Что? — Он не расслышал.
— Позови маму.
Он принимает меня за моего сводного брата. Стеффена. Того ночью никогда не бывает дома. На его жизненном пути всегда встречаются девушки, которые не переносят одиночества в постели.
С ворчанием профессор передает телефонную трубку. Кровать начинает скрипеть, мама и профессор садятся.
— Стеффен? Что случилось?
Голос мамы. Никаких сомнений. Звучит так, как будто она всю ночь сидела и ждала звонка.
В красном бальном платье. С идеальным маникюром, помадой на губах и уложенными волосами. С вышивкой на коленях и рюмкой на расстоянии протянутой руки.
— Это я, — произношу я в трубку.
— Малыш Бьорн? — Оттенок паники в голосе. — Что с тобой?
— Я… Я сожалею, что разбудил вас.
— Что случилось?
— Мама… Нет-нет, ничего. Я…
Мама тяжело дышит в трубку. Она всегда думает о самом худшем. Об автокатастрофах. Пожарах. Вооруженных психопатах. Она решила, что я звоню из отделения интенсивной терапии больницы Уллевол. Что меня сейчас повезут на операцию. Врачи разрешили позвонить. На случай, если операция будет неудачной. Опасность чего весьма велика.
— Ой, мама, я и сам не понимаю, почему позвонил.
Я так и представляю себе эту картину. Мама, испуганная и взволнованная, в красивой ночной рубашке. Ворчащий профессор в старомодной полосатой пижаме. Борода торчит клоками. Оба полусидят в постели. Спиной прислонились к мягким подушкам в шелковых наволочках с монограммами ручной работы. На ночном столике горит лампа под абажуром с кисточками.
— Малыш Бьорн, расскажи мне, что случилось. — Она все еще убеждена, что произошло что-то ужасное.
— Все в порядке, мама.
— Ты дома?
Я угадываю ход ее мысли. Может быть, я лежу в луже собственной рвоты. В грязном пансионе. Может быть, проглотил пятьдесят таблеток рогипнола и еще тридцать валиума, запив литром дешевого красного пойла. Сижу и кручу в руке зажигалку.
— Да, мама. Я дома.
Мне не следовало звонить. Я иногда сам не свой. Когда просыпаюсь ночью, отвратительные мысли лезут мне в голову. Навязчивые идеи, как зубная боль, терзают меня в темноте с особенной силой. Но мне не надо было мучить маму. Во всяком случае, в половине четвертого ночи. Мог бы принять таблетку валиума. Вместо этого я набрал мамин телефон. Как будто надеялся на утешение.
— Я лежал. И думал. И захотел услышать твой голос. Больше ничего.
— Ты уверен, Малыш Бьорн?
Я начинаю различать нотки раздражения в ее голосе. Как бы то ни было, сейчас ночь. Они спали. Я мог бы подождать до утра. Но мне понадобился ее голос.
— Мне жаль, что я вас разбудил, — повторяю я.
Она в замешательстве. Я не имею обыкновения звонить в середине ночи. Видимо, что-то не так. Что-то такое, о чем я не хочу рассказывать.
— Малыш Бьорн, хочешь, я приеду к тебе?
— Я только хотел… поговорить.
В трубке слышно ее учащенное дыхание. Словно ей позвонил посторонний мужчина и сделал нескромное предложение.
— Вот как? — протягивает мама. Это единственный намек на ночное время, который она позволяет себе.
— Я не мог заснуть. И стал думать про то, что будет завтра. Мне захотелось поговорить с тобой.
Я жду, что она все поймет, почувствует внезапный порыв ледяного полярного ветра.
— Завтра вторник? — спрашивает она.
Нет, не поняла. Или притворяется дурочкой.
Рядом фыркнул профессор.
Я почти ничего не знаю о мамином детстве. Она никогда не желала говорить о нем. Но понять, почему папа влюбился в нее, нетрудно. Она была совсем не такой, как другие девушки в гимназии. В ней было что-то дерзкое и загадочное. Он ухаживал за ней все время обучения в гимназии. В конце концов она сдалась. На выпускной фотографии видно, что животик у нее увеличился.
В полумраке мама до сих пор выглядит как выпускница. Она легка и очаровательна, словно царица эльфов, танцующая в лунном свете.
Иногда я размышляю, что изменилось в маме с возрастом. До войны ее родители, мои дедушка и бабушка, жили на севере в домике с кружевными занавесками и клеенкой на столе. Стены пронизывал северо-восточный ветер. Маленький, я видел фотографию. Домик расположен далеко от других построек, на мысу. Кухня, где они по ночам писали в раковину, комната и спальня на чердаке. Уборная во дворе. В доме всегда было чисто и прибрано. Немцы превратили их дом в маяк. Бабушка и дедушка успели унести только фотоальбом и кое-какую одежду. Бабушка жила некоторое время в Северной Швеции, пока дедушка строил новый дом на мысу, вдававшемся во фьорд. Но прежняя жизнь уже никогда не вернулась. Потом родилась моя мама. Однако и это не помогло. Война изменила деда. Он с бабушкой и мамой переехал в Осло к своему брату. Но там никому не нужны были ни психически нездоровый рыбак, ни женщина, которая разделывает рыбу за семь секунд, лечит воспаления травами и разговаривает в темноте с умершими.
На каждом повороте их жизненного пути им встречалось какое-нибудь «но».
Тело дедушки обнаружили в море, около причала, когда маме исполнилось четыре годика. Расследование проводилось весьма поверхностно, дело было прекращено. Бабушка получила место экономки в одной
зажиточной семье в Грефсене. Всегда подавленная, она бессловесно выполняла свои обязанности. Только заглянув ей в глаза, можно было понять, что она полна гордого достоинства.
Нового мужа она не нашла. Относилась к пяти фотографиям дедушки как к настоящим иконам. В шкафу лежала его рубашка, которую она не успела постирать до его смерти. Рубашка была рваная, пропахшая потом и запахом рыбы. В этой рубашке для нее сохранился муж.
Мама не была столь же преданной.
После смерти отца она вычеркнула его из своей памяти и своего прошлого. Finite. The End.
[127] Уничтожила фотографии. Сожгла письма. Раздала одежду. Он перестал быть реальным существом. Мы никогда не говорили о нем. Словно он никогда не существовал. В результате маминых усилий Воронье Гнездо было полностью очищено от всяких воспоминаний о папе.
И я остался совершенно один.
В первый раз, когда мама позволила профессору переночевать в Вороньем Гнезде (дело было довольно поздно в пятницу), я спрятался в своей комнате. Чтобы не слышать их смеха и звона бокалов. Мама заглянула ко мне пожелать спокойной ночи, но я сделал вид, что сплю.
Ночью, услышав скрип лестницы, я выполз на веранду. И мой горящий взгляд проследил через занавеску, как мама и профессор прошмыгнули в спальню, заперли дверь и сбросили на пол одежду.
А в углу, неподвижный, невидимый, стоял папа.
Профессор с мамой выпили. Профессор был в игривом настроении. Мама пыталась на него шикать.
Сердце у меня в груди билось, как зверь в клетке, — от ужаса и страшных предчувствий.
В течение нескольких недель я наказывал ее тем, что перестал с ней разговаривать.
Потом были другие игры…
Через полгода после смерти отца мама вышла замуж за профессора. Коллегу и лучшего друга папы. Простите мой несколько натужный смех.
В тот год, когда родился мой сводный брат, мама и профессор продали Воронье Гнездо. Я не стал переезжать к ним. Когда я сказал маме, что буду снимать комнату, мне показалось, что она облегченно вздохнула. Так человек, одолевший самый трудный участок пути, оглядывается назад с чувством выполненного долга. Она начинала жизнь с нуля.
9.
Мама и профессор живут на белой кирпичной вилле в Бугстаде. Они называют ее Нижний Хольменколлен. Дом высотой в два с половиной этажа выглядит так, как будто его спроектировали и построили за три недели непрерывной пьянки. За свой проект архитектор получил несколько премий. По мне же, дом — хаос из закутков, спиральных лестниц и потайных шкафов, в которых мама прячет свой арсенал полупустых бутылок. На склоне, обращенном к дороге, в огромных количествах произрастают желтые цветы лапчатки, швейцарский рододендрон, розы Лили Марлен. Но их ароматы перебивает сильный запах гербицидов.
[128] Перед виллой — идеально ровная лужайка. За домом на специально привезенных из Шотландии каменных плитах под навесом стоят качели с подушками такого размера, что в них можно утонуть, огромный гриль, изготовленный одним другом профессора, и фонтан с изображением ангела, который одновременно рыгает и писает и при этом со смехом смотрит в небо. За садом следит садовник, он приходит на виллу каждую пятницу. Тогда же приходят девушки из бюро по уборке помещений. У мамы в этот день много хлопот.
Когда она открывает дверь и видит, что на крыльце стою я, невредимый и веселый (хотя и несколько бледноватый), она всплескивает руками. Я обнимаю ее. Хотя это не в моих привычках. Ласки надо дозировать. Кроме того, я ненавижу запах маминого зубного ополаскивателя, который должен заглушать запах алкоголя в ее дыхании. Мне не особенно хотелось сюда приезжать, но надо было ее успокоить. И напомнить, какой сегодня день.
Кухня светлая и большая. Сосновые половицы перевезены из усадьбы в Хаделанне. Мама варит кофе.
— Будешь чистить рыбу? — спрашиваю я в шутку, глядя на газеты, разбросанные профессором по столу.
Мама пренебрежительно смеется. Она, конечно, готовит сама, но грязную работу за нее делают другие. Она выключает приемник, стоящий на подоконнике. Мама жить не может без передачи «В девять утра». Как и без много другого.
— Ты всегда заставляла других чистить рыбу вместо себя, — произношу я. Это намек. На то, что случилось много лет тому назад. Ей должно быть стыдно.
— Слушай, только что звонил Трюгве, — говорит она.
Она следит за моей реакцией. Но ответа нет.
— Он очень взволнован. Просил, чтобы ты перезвонил ему. Что ты натворил, Малыш Бьорн?
— Натворил? Я? — переспрашиваю я с интонацией маленького лорда Фаунтлероя.
[129]
— Во всяком случае, позвони ему.
— Попозже.
— Это очень важно.
— Я знаю, о чем речь.
— Он в ярости.
— Потом позвоню, — лгу я.
— У нас вечером будет бифштекс. Вчера купили у мясника потрясающе нежную говядину.
Я засовываю палец в рот и издаю неприличный звук.
— Дурачок! Придешь? Я запеку картофель с сыром и брокколи.
— У меня сегодня много дел.
— Давненько такого не было. Скажи, в чем причина? Друзья?
— Я зашел только извиниться.
— Глупости.
— Я был сам не свой.
— Да что случилось?
— Ничего. Абсолютно ничего.
Я выпиваю с ней чашку чая. Мы болтаем о том о сем. Она большой мастер таких разговоров. Мои намеки становятся все более прозрачными. Но она не улавливает их смысла. Даже тогда, когда я говорю, что схожу на могилу.
Сегодня исполнилось двадцать лет со дня смерти папы. Возможно, она вспомнит об этом в течение дня.
В то лето умер не только папа. Мама тоже лишилась своей жизни. Ее существование свелось к тому, чтобы сделать жизнь удобной для профессора и моего сводного брата. Она стала послушной хлопотливой служанкой. Она следит за тем, чтобы девушки из бюро по уборке вытирали пыль между клавишами рояля в музыкальной, комнате. Ей звонят то мясник, то торговец рыбой, когда им перепадает что-нибудь по-настоящему первоклассное и дорогое. Она стала надежной опорой для своего профессора. Его драгоценной супругой. Его прекрасной хозяйкой. Его вечно юной и безотказной любовницей. Она замечательная мама для его сыночка. Всегда готова помочь ему. Подбросить лишний стольник, когда он отправляется на гулянку. И подтереть пол, когда, пьяный в стельку и блюющий, он вваливается в прихожую на рассвете.
Иногда немного материнской заботы перепадает и мне. По отношению ко мне ее совесть нечиста. И меня это вполне устраивает.
10.
— Ты по-прежнему вегетарианец? — спрашивает Каспар Скотт.
Необыкновенно красивый мужчина. Мое собственное отражение в зеркале не внушает мне ничего, кроме чувства неполноценности, Каспар же наделен редкой, почти женственной красотой. На него устремлены призывные взгляды всех дам в кафе нашего отдела древностей. Он делает вид, будто ничего не замечает. Но я знаю, что он собирает знаки внимания в большой котел, где хранит запас положительных эмоций на черный день.
В студенческие годы мы были друзьями. На протяжении многих месяцев делили палатку во время экспедиций в разных частях страны. Когда я позвонил ему, мы несколько минут нащупывали правильный тон, прежде чем обрели былую непринужденность в общении.
Сейчас мы сидим в кафе и пытаемся вести себя так, словно и не было этих лет расставания. Пахнет кофе, булочками, жареными котлетами с луком.
Каспар — прирожденный археолог. Даже маленькая, на первый взгляд незначительная деталь говорит ему о многом. Во время раскопок в Ларэйе он по обнаруженным нами невзрачным обломкам ключей и коробке с иголками, прикрепленной к старинному поясу, определил, что мы наконец нашли исчезнувший двор хавдинга
[130] Халлстейна. В одном захоронении викингов мы обнаружили крохотный серебряный ножичек и никак не могли понять, что это: игрушка, украшение или символическое оружие. А Каспар сухо констатировал, что этим ножичком чистили уши.
Каспар читает местность, как другие люди читают книгу. У него удивительная способность отличать естественные формы рельефа от следов человеческой деятельности. Он был руководителем группы ученых, которые обнаружили остатки двух поселений позднеледникового периода возрастом более одиннадцати тысяч лет в Ругаланне и Финнмарке. Находки показали, что охотники на оленей района Северного моря, они же охотники из Колы, по-видимому, были первыми, кто пришел на освободившееся ото льда побережье Норвегии.
Довольно скоро Каспару опостылели жизнь в поле, недели и месяцы вдали от Кристины, палящее солнце и внезапные ливни, грязь и пыль. Он стал бюрократом и теперь работает в археологической секции Инспекции по охране памятников.
К своему стыду, должен признать, что поэтому и только поэтому я разыскал его сейчас.
Я прошу его рассказать о том, как проходила организация наших раскопок.
Он делает глоток кофе и корчит гримасу:
— Забавно, что ты об этом спрашиваешь. Очень странная история.
Я вынимаю пакетик чая из кипятка и напряженно смотрю на него.
— Все началось с телефонных звонков директору Инспекции по охране памятников Лоланну, — рассказывает Каспар. — Сначала позвонил Арнтцен, потом директор Виестад.
— Оба?
— Об этом и речь! От имени британского фонда СИС.
[131] Это исследовательское учреждение в Лондоне. Фонд полагал, что на территории монастыря Вэрне находятся остатки круглого замка. Как тебе это нравится? Круглый замок! Я нигде не встречал ни малейшего намека на то, что около монастыря Вэрне была крепость. Их интересовало, не будем ли мы возражать, если раскопками будет руководить профессор Грэм Ллилеворт.
— И вам, конечно, показалось, что все нормально.
— Нормально? Нет. Ты ведь меня знаешь! Я ничего не мог понять. Круглый замок? Там? Можешь поверить, вопросов у меня было немало. Бог ты мой, ну откуда круглый замок в этих местах? И какой интерес у британского фонда в норвежском круглом замке? Кто будет платить за банкет? Почему такая спешка? Что они будут делать, если найдут его?
— Может быть, перевезут к себе?
Каспар смеется:
— Вполне в стиле Грэма Ллилеворта.
— Но потом что-нибудь прояснилось?
— Абсолютно ничего. Я не получил ответов ни на один вопрос. Были только поднятые брови и вздохи из-за того, что со мной так трудно. Директор инспекции смотрит на Ллилеворта как на божество. Молодые сотрудники думают, что тот чуть ли не самолично изобрел археологию. Хорошо, пусть он сделал несколько сенсационных находок и написал кое-какие важные учебники. Но, подумал я, неужели же мы дадим карт-бланш этому напыщенному империалисту Грэму Ллилеворту с его полками наемников и экскаваторами? Я сказал себе, что этот номер не пройдет. И забыл обо всем. И вдруг несколько недель спустя появилось формальное ходатайство.
— Ходатайство? Я никакого ходатайства не видел.
— Прекрасно подготовленное. С картами, печатями и нужными подписями. У нас в отделе был переполох. Не прошло и десяти минут, как меня вызвали к Сигурду Лоланну. Почему у меня отрицательное мнение? Разве я не вижу преимуществ интернационального археологического сотрудничества? Ты ведь знаешь, как может наседать Сигурд. «Это ваше решение, — сказал я ему. — Но ведь очень важно, чтобы все его поддержали. И чтобы я тоже подписал разрешение». Не спрашивай, зачем ему нужна была моя подпись.
— Может быть, потому, что ты больше всех критиковал эту идею?
— Я об этом как-то не подумал. Но если они хотели что-то скрыть, то справились с задачей великолепно.
— Ты можешь вспомнить какие-нибудь имена?
— Профессор Ллилеворт — руководитель раскопок, он отвечает за все. Но задание он получил от лондонского СИС — президент правления является инициатором исследований. Кажется, их бюджет составляет пять-шесть миллионов крон. И все это ради поисков круглого замка! Посреди норвежского поля! Бог ты мой!
— Ты знаешь, как я попал туда?
— Контролером? Это вопрос не ко мне. Мы вообще не стали заниматься этим. Я на этом настоял. Мне казалось, что тебя пригласил Арнтцен?
— Но почему именно меня?
— Потому что ты талантливый?
Сначала я смеюсь. Потом начинаю рассказывать Каспару о раскопках. О неожиданной находке. О странном поведении профессора Ллилеворта и Арнтцена. О моих подозрениях. Но я умалчиваю о том, что ларец у меня.
Когда я заканчиваю свой рассказ, Каспар начинает смеяться и трясти головой:
— Мрак! Не зря у меня было ощущение, что тут что-то не так.
Молодая женщина проходит мимо нашего стола — я припоминаю ее по какой-то давней экспедиции, — улыбается мне, как знакомому, и мурлычет Каспару:
— Что-то ты рановато сегодня обедаешь.
Он наклоняется ко мне и понижает голос:
— Знаешь что, я поспрашиваю кое-кого и попробую что-нибудь выяснить. Не заглянешь сегодня вечером к нам с Кристиной? Вместе подумаем. В более удобной обстановке, чем здесь. К тому же прошло столько лет! Кристина будет рада тебя видеть.
— С удовольствием, — соглашаюсь я. Уже при одной мысли о Кристине сердце начинает стучать чаще.
— А ты… На твоем месте я поговорил бы с Гретой. Она все знает об этих парнях.
— С Гретой?
— С Гретой! Не говори, что ты забыл Грету!
Я краснею. Я не забыл Грету.
11.
Около моего дома огромный парень сидит сгорбившись за рулем чисто вымытого красного «рейнджровера» с дипломатическими номерами. На меня он не смотрит, хотя обычно люди на улицах провожают меня взглядом.
Я отпираю входную дверь. Автоответчик мигает. Это очень необычно.
Первое сообщение от мамы. Она напоминает, что я приглашен сегодня вечером на ужин. Впрочем, мы оба знаем, что я отказался. Потом вежливая пожилая дама долго извиняется перед автоответчиком за то, что ошиблась номером. Третье сообщение без слов. Слышно только чье-то пыхтение.
У меня возникает чувство, что я в квартире не один. Такое со мной бывает. Кто-то оставил незримые следы в моем жилище. Я осторожно вхожу в гостиную. Солнце пробивается сквозь занавески. Открываю дверь в спальню. Двуспальная кровать с водяным матрасом злобно ухмыляется, словно намекает на некое невыполненное обещание. В ванной темно. В следующей комнате у меня кабинет, забитый документами и экспонатами, которые я притащил из отдела.
Никого нет. И все же ощущение чужого присутствия не проходит. Я достаю из холодильника обледеневшую бутылку, открываю ее. Пью пиво и брожу по квартире.
Только во время четвертого обхода я замечаю
это. Кто-то сдвинул мой компьютер. Совсем ненамного. На пару сантиметров. Но на пыльном столе остался отчетливый след. Я тяжело опускаюсь на стул и включаю компьютер. Ничего не происходит. Ничего не пищит, не шумит. Неприятное потрескивание, всегда сильно раздражавшее меня, наконец исчезло.
Вскоре я понимаю почему.
Передняя панель корпуса системного блока не закреплена. Кончиками пальцев я снимаю ее и заглядываю в электронный хаос, который составляет внутренности машины, ее нервы и мозг. Не нужно быть большим специалистом, чтобы заметить исчезновение винчестера.
Я мгновенно свирепею. Они побывали в моей квартире. Расхаживали тут, как будто я дал им ключи от собственной жизни.
Потом успокаиваюсь. Я все еще сильнее их. Они не нашли того, за чем пришли. Переполненный безрассудным упорством, я звоню в полицию и сообщаю о преступном проникновении в мою квартиру. После этого набираю прямой номер профессора Арнтцена.
Он тяжело дышит.
— Где ларец? — кричит он, когда до него наконец доходит, кто с ним говорит.
— Ларец? — невинно переспрашиваю я.
— Не притворяйся. Будто ты… — начинает он.
Кто-то берет у него трубку.
— Где этот проклятый ларец? — Голос Ллилеворта дрожит.
— Почему вы думаете, что он у меня?
— Прекрати этот треп собачий! Где ларец?
— Я сэкономлю вам массу времени, если скажу, что на моем винчестере нет ничего, кроме научного доклада, незаконченного стихотворения и нескольких веселых компьютерных игр.
— Где ларец?
Я кладу трубку. Беру еще бутылку пива. И жду, что произойдет дальше.
Раздается телефонный звонок. Мне нравится этот звук, но я не хочу ни с кем разговаривать. Телефон не сдается. В конце концов его настойчивость побеждает.
Звонит англичанин. Доктор Розерфорд из Лондона. Директор Королевского Британского института археологии. Он готов предложить мне деньги за экспонат, который находится сейчас в моем распоряжении.
— Находка является собственностью Норвегии, — возражаю я.
— Пятьдесят тысяч фунтов, — парирует он.
Пятьдесят тысяч фунтов — большие деньги. Но я даже не собираюсь рассматривать это предложение. Мое упрямство никогда не было привязано к здравому смыслу.
— У меня его больше нет, — лгу я.
— Нет?
— Ларец украли, — сообщаю я. — Похитили во время сегодняшнего обыска в моей квартире.
Тут доктор Розерфорд выдает себя. Он утверждает, что в квартире ларца не было. Его не нашли. Потом задумывается. Я слышу сомнение в его голосе: вдруг воры, которых он нанял, взяли ларец себе? Надули его? На всякий случай он переспрашивает:
— Вы уверены, господин Белто?
— О да, quite sure.
[132]
Он медлит. Моя ложь привела его в смятение.
— Хотите обмен? — спрашивает он.
— А что вы можете мне предложить?
— Я могу рассказать вам о смерти вашего отца.
Время внезапно останавливается. Как в калейдоскопе, замелькали картинки: скала, трос, часы, кровь. Словно и не было последних двадцати лет.
Я смотрю перед собой и ничего не вижу. Со временем отец стал для меня лишь неясным воспоминанием. Только через много лет после его смерти я понял, как плохо знал его. Он редко общался со мной, все двери и окна в его внутренний мир были закрыты. Всего несколько раз я видел, как в его глазах мелькало бешенство. Но большую часть времени он был тихим, задумчивым человеком. Приходил домой со службы или приезжал с раскопок и исчезал в своей комнате в подвале, где работал над каким-то ученым трудом, о котором не любил говорить и которого я никогда не читал.
Я вижу папу глазами ребенка.
Мама о нем никогда не говорит. Профессор этого не любит. Ему трудно выносить, что его дорогая женушка когда-то страстно и безудержно любила другого мужчину. Он чувствует себя так, словно ему досталось пирожное не первой свежести. Однако мне его ревность кажется странной: мать уже прожила с ним вдвое дольше, чем с папой.
Папы мне не хватает. Но с другой стороны, любой сын хотя бы иногда вспоминает, что у его отца между ног висит мошонка, где он некогда был прыгающим живчиком, и там же болтается предмет, который, разбухая, проникает в тело матери и доставляет ей блаженство. Иногда я чувствую себя ненормальным. Может быть, кто-нибудь пришлет мне пластиковую чашку с розовыми таблетками?
Случается, что я вижу в папе самого себя. В этом нет ничего противоестественного. Я никогда не испытывал к нему почтения. Иногда меня это мучает. Мне приходилось читать об отцах, которые сформировали личность своих сыновей, но я не понимаю, что же, собственно говоря, мой папа передал мне. Меланхолический склад ума? Увлечение археологией? Это просто случайность. Я стремился к науке, требующей размышлений, к профессии, соответствующей моим наклонностям и замкнутому характеру. Когда я осмеливался войти в кабинет отца, он иногда отрывался от своих бумаг и находок, холодно улыбался и показывал мне веретено или заостренный кремень, о которых он, судя по всему, знал много чего. Я тогда еще не видел разницы между обоснованной догадкой и эмпирическим истолкованием. Но мне казалось, что папа может читать прошлое.
Его внезапно пробудившийся интерес к скалолазанию противоречил всему его складу. Он был человеком осторожным. Я и сам такой. Немного стеснительным. А заманил папу в горы не кто иной, как Трюгве Арнтцен. В очень подходящий момент, надо сказать. Поэтому я никогда не мог простить ему, что он не спас отца. Если вообще пытался. Он чрезвычайно ловко воспользовался ситуацией и принял в свое владение подержанную папину вдову.
Я рассеянно стою с телефонной трубкой в руке, время перестало существовать. Доктор Розерфорд окликает меня.
— Что вы знаете о моем отце? — быстро спрашиваю я.
— Мы к этому вернемся. Сначала ларец.
— Как он умер?
— Повторяю: когда мы получим ларец…
— Я подумаю, — откашливаюсь я. Обещаю взвесить предложение. Не спеша благодарю за внимание и кладу трубку.
Потом бегу к двери, спускаюсь по лестнице, выскакиваю на улицу. Красный «рейнджровер» исчез. Отлично. Возможно, громила за рулем просто ждал свою девушку.
Я понятия не имею, кто такой этот доктор Розерфорд из Лондона, директор Королевского Британского института археологии. И насколько легко, он рассчитывает, меня можно обмануть. Но я знаю две вещи.
Не существует такого учреждения, которое называлось бы Королевский Британский институт археологии.
И еще. Оказывается, не только я подозреваю, что смерть папы не была несчастным случаем.
12.
Папа похоронен на Грефсенском кладбище. Простенькая плита стоит под старой березой. Мама вносит ежегодно плату за уход.
Я сижу на корточках перед плитой из красного гранита, на которой вырезано имя папы. Даты жизни не указаны.
Нет ничего, что привязывало бы папу ко времени.
Биргер Белтэ. Мы с мамой решили, что так будет лучше.
В коричневом бумажном пакете у меня горшочек с желтыми лилиями. Я высаживаю их рядом с надгробной плитой. Чтобы они светились перед папой. Где бы он ни был.
В лесу, между бабушкиным домом и монастырем Вэрне, под огромными дубами есть старое захоронение. Время давно стерло все буквы с тяжелых чугунных плит, но мне бы очень хотелось узнать, что за люди покоятся под ними. Мама сказала, что когда-то им принадлежала территория монастыря Вэрне. Поэтому им и разрешили устроить погребение в лесу. Помню, я тогда подумал: «А мы, все остальные, должны покоиться на кладбище».
На парковке двое мужчин стоят, опираясь на капот красного «рейнджровера». Эту машину я наблюдал в зеркале заднего вида все время, пока ехал из дома. Когда они меня заметили, один из них пошел мне навстречу. Внешность Кинг-Конга. Я успеваю сесть в машину и закрыть дверь. Он стучит в боковое стекло. У него толстые волосатые пальцы. Перстень с печаткой какой-то заграничной школы. В другой руке мобильный телефон. Я завожу Боллу. Начинаю выезжать со стоянки. Он хватает ручку двери. Может быть, он пытается задержать мою машину. И меня бы нисколько не удивило, если бы ему это удалось.
На мое счастье, рука соскальзывает. В зеркало я вижу, что он подбегает к своей машине.
Болла создана не для участия в гонках. Нечего и пытаться. Спокойно еду к улице Хьельсос. Когда появляется красный автобус, я пристраиваюсь к нему. Получается что-то вроде кортежа. Автобус. Болла. «Рейнджровер».
На стоянке автобусов возле тупика между улицами Хьельсос и Лофтхюс я пристраиваюсь за автобусом в узком месте с односторонним движением. Здесь я внезапно торможу. И с чувством глубокого удовлетворения наблюдаю, как шлагбаум отсекает от меня «рейнджровер».
II
СВЯТОЙ ЛАРЕЦ
1.
— Не может быть! Малыш Бьорн! Это ты?
Постарела. Грета всегда производила впечатление очень немолодой (хотя слово «зрелая», пожалуй, будет более уместным). Но она принимала свой возраст с врожденным достоинством. Когда мы познакомились, она лихо зачесывала посеребренные сединой волосы и носила облегающую юбку и черные ажурные чулки. Сейчас я вижу, что за последнее время она сильно сдала. Глаза по-прежнему горят, но на худом лице отчетливо проступили морщины и пигментные пятна. Дрожащие руки с тонкими пальцами похожи на коготки крохотного воробья. Седые волосы заметно поредели. Она чуть склоняет голову набок. «С тех давних пор прошло немало…» — задумчиво произносит она. Голос надтреснутый, нежный. Когда-то давно я был в нее влюблен.
Улыбка та же, что и раньше, и взгляд тот же, но очарование пропало. Она отступает в сторону и впускает меня.
Квартира ничуть не изменилась: огромная, забитая мебелью, темная, наполненная терпкими ароматами. Комнаты, комнаты, комнаты. Необыкновенно широкие двери. Лепнина на потолке. На комодах и узких полках фигурки библейских персонажей. Моисей на горе Синай. Мария с Иисусом у яслей. Нагорная проповедь. Распятие Христа. В маленьких плетеных креслицах из лыка сидят медвежата и куколки с неподвижными фарфоровыми личиками. Возможно, именно они напоминают Грете Лид-Вэйен о детстве, о котором она отказывается говорить. Кажется, у нее нет родственников. Во всяком случае, она ни с кем не поддерживает близких отношений. Грета заполнила пустоту жизни наукой. И мужчинами. Повсюду книги. Она замуровала себя в своей квартире в престижном районе Фрогнер и наслаждается одиночеством.
Она ведет меня в гостиную. Проходим мимо спальни. Через приоткрытую дверь видна неприбранная постель. Чужие постели смущают меня. Я отвожу взгляд.
Грета изменилась. Теперь она пожилая дама. Даже походка стала шаркающей.
Со стула спрыгивает кошка и исчезает под роялем. Я терпеть не могу кошек. А они не любят меня.
Грета кивает на плюшевый диван:
— Надо бы предложить тебе чего-нибудь выпить… — Она грузно опускается на стул.
Что-то случилось, я это чувствую. И все-таки не осмеливаюсь спросить.
Она смотрит на меня. С грустной улыбкой. Старинные настенные часы громко бьют два.
— Мне нужна помощь. — Я с трудом подавляю чихание. От кошачьей шерсти свербит в носу.
— Я так и подумала. Ты не ходишь по гостям без дела.
В ее словах мне слышится мягкий укор, но, возможно, она лишь констатирует факт или намекает на вечер двенадцатилетней давности, когда я набрался храбрости и признался ей в любви. Мне было двадцать. Ей много за пятьдесят. Я всегда был со странностями.
— Я постарела? — спрашивает она.
Я никогда ей не врал. Поэтому сейчас молчу. Возраст всего лишь точка на хронологической прямой. В восемьдесят шесть лет математик Кэтлин Оллереншоу разрешила древнюю математическую задачу «магический квадрат». В каком направлении ни складывай, получается всегда тридцать:
0 14 3 13
7 9 4 10
12 2 15 1
11 5 8 6
Не дождавшись ответа, Грета с тоской вздыхает.
— Я больна, — без обиняков сообщает она. — Рак. Уже два года. Благословляю каждый день жизни.
Я беру ее за руку. Впечатление такое, словно я прикасаюсь к холодной руке мертвого ребенка.
— Врач считает, что я терпеливая, — произносит она.
— Очень больно?
Она пожимает плечами, что может означать и «да» и «нет». Потом говорит:
— Душа болит. — Я сжимаю ее пальцы. — Так в чем же проблема? — Она переходит на деловой тон и отнимает руку. В голосе появляются нотки авторитарности, которые были свойственны ей во времена профессорства. Семь лет назад она завершила свою преподавательскую деятельность. — Поговорим о ней.
— Если ты плохо себя чувствуешь, то я не буду…
— Нонсенс!
— Я подумал…
— Малыш Бьорн! — Она направляет на меня пронзительный взгляд.
Я не знаю, как начать. Она помогает:
— Я слышала, ты участвуешь в раскопках в монастыре Варне?
Как и в университетские времена, она все обо всех знает.
— Мы кое-что нашли, — неуверенно говорю я. Но опять попадаю в тупик. Ищу нужные слова. Наконец меня прорывает. — И я пытаюсь понять, что произошло!
Смысла в моих словах никакого.
— Что нашли? — спрашивает она.
— Ларец.
Она выжидающе смотрит на меня:
— И что?
— Золотой.
Она наклоняет голову:
— Мир велик!
— Профессор Ллилеворт сбежал с ним.
Она молчит. Ей следовало бы засмеяться. Покачать головой. Но она молчит. Потом начинает кашлять. Сначала осторожно, потом громко, с надрывом. Кажется, что легкие бьются о стенки грудной клетки. Она прижимает ладонь ко рту. Когда припадок кончается, она некоторое время сидит неподвижно, пытаясь отдышаться. Не смотрит на меня. Это хорошо. Так она не может увидеть моих глаз.
Она кашляет и несколько раз отхаркивается. Деликатно вынимает носовой платок и сплевывает в него.
— Извини, — шепчет она.
Я все это время наблюдаю за дремлющей под роялем кошкой. Когда я был самым прилежным студентом Греты и одновременно ее поклонником, я выполнял для нее все поручения по дому. Тогда у нее был кот Люцифер. Вряд ли это тот же самый кот. Хотя он и похож на прежнего кота необыкновенно.
— Ларец подлинный? Старинный? — спрашивает она.
— Совершенно точно.
— Его не подбросили?
Я качаю головой. Иногда мы, археологи, так развлекаемся. Подбрасываем в культурный слой какой-нибудь современный предмет. Например, пульт от телевизора к сокровищам доисторического вождя или французскую булавку к обломкам керамики и наконечникам стрел.
— Грета, ларец древний. А кроме этого, — я смеюсь, — мы ведь говорим о раскопках профессора Грэма Ллилеворта. Кому придет в голову подшучивать над ним!
Грета тоже смеется.
— И он знал, что именно мы ищем, — продолжаю я. — Он знал, что ларец лежит где-то там. Он знал, что мы его найдем. Знал!
Она некоторое время обдумывает мое утверждение.
— Ты считаешь, он хочет украсть ларец? Чтобы продать подороже? — Ее голос дребезжит из-за мокроты в горле.
— Такая мысль тоже приходила мне в голову. Но все не так просто!
— Вот как?
— Здесь замешан отдел древностей.
Она смотрит на меня с неодобрением.
— И похоже, что директор Инспекции по охране памятников тоже, — добавляю я.
Она сощурилась. Наверняка думает, что бедняга Бьорн рехнулся.
— Я уверен, Грета!
— Да-да.
— И не сошел с ума!
Она улыбается:
— Тогда расскажи, зачем им все это.
— Я не знаю, не знаю…
— Ну а почему…
— Может быть, заказная кража? — перебиваю я. — Вдруг Ллилеворт входит в международную банду, занимающуюся кражей произведений искусства.
Она холодно смеется:
— Грэм? Он слишком эгоистичен, чтобы стать частью чего бы то ни было! Тем более членом банды. — В восклицании звучит горечь.
— Ты с ним знакома?
— Я… сталкивалась с ним.
— Э-э… В экспедициях?
— В том числе. И еще в Оксфорде. Двадцать пять лет назад. Почему ты его подозреваешь?
— Он собирался тайно вывезти ларец из Норвегии.
— Не может быть! Он наверняка всего лишь…
— Грета! Я знаю его планы!
— Почему ты так уверен?
Я инстинктивно понижаю голос:
— Потому что подслушал. — Выжидаю, пока смысл слов дойдет до нее.
— Я слышал, как он договаривался с профессором Арнтценом.
С потерянным видом она качает головой:
— Это похоже на Грэма. А ты, судя по всему, вообразил себя одним из братьев Харди.
[133]
— Я всего лишь пробую понять.
— Что именно?
— Откуда Ллилеворту было известно, что ларец запрятан в руинах восьмисотлетнего октагона
[134] среди норвежских пахотных полей?
Глаза Греты расширяются, и я чувствую, что тону в их бездонной глубине.
— Боже милосердный!
— Что такое?
— Октагон?
— Да. Мы уже частично вскрыли его.
— Я считала, что его не существует.
— Но ты знала о нем?
У нее начинается новый приступ кашля. Я наклоняюсь вперед и стучу ее по спине. Лишь через несколько минут ее дыхание выравнивается.
— Как ты? — спрашиваю я. — Вызвать врача? Хочешь, я уйду?
— Расскажи про октагон.
— Мне известно совсем мало. Никогда раньше не слышал об октагоне на территории монастыря Вэрне.
— В норвежских источниках об этом, вероятно, ничего нет. Но в зарубежной литературе об иоаннитах и о ранних христианских легендах кое-что есть.
Выходит, в свое время я пропустил важную лекцию. Я спрашиваю:
— Как ты думаешь, профессор Ллилеворт знал об октагоне?
— Похоже на то. — Она произносит это лукаво и даже кокетливо.
— Почему он ничего не сказал? Почему скрыл от нас?
— Это вряд ли было тайной. Или ты спрашивал?
— Он говорил, что мы ищем круглый замок. И ни слова об октагоне.
Она устало кивает, как будто разговор ей надоел. Складывает руки.
— А что профессор Арнтцен?
Я смотрю в сторону.
— Малыш Бьорн?
— Я этого с ним не обсуждал.
— Почему?
— Он один из них.
— Один — из — них? — Она явно сомневается.
Я смеюсь, потому что понимаю абсурдность собственного заявления, и осторожно кладу ладонь на ее руку:
— Я сам все слышал!
— Профессор Арнтцен и профессор Грэм Ллилеворт! Грабители могил? Обыкновенные грабители могил? — Она закрывает глаза с мечтательной улыбкой.
— Чему ты улыбаешься?
— Это самая удивительная часть твоей истории.
— Почему?
— Твой отец и Грэм учились в Оксфорде. В семидесятые годы. Вместе со мной. Грэм и Биргер были закадычными друзьями.
Я откидываюсь на спинку дивана. За окном на провод села ласточка. Сидит, раскачивается. Потом улетает.
— Разве тебе об этом не рассказывал Трюгве Арнтцен? — спрашивает Грета. — Или Ллилеворт?
— Вероятно, забыли. Я помню, что папа учился в Оксфорде. Но не знал, что в одно время с Ллилевортом.
— Именно твой отец познакомил Грэма Ллилеворта и Трюгве Арнтцена.
— Значит, папа и Ллилеворт учились вместе?
— Они вместе написали довольно интересную книгу.
Я замер.
— Она у тебя есть?
Грета показывает на стеллаж.
Я медленно поднимаюсь, подхожу к полкам и провожу пальцем по корешкам книг.
— Третья полка, — подсказывает она. — Рядом с атласом. Черный корешок.
Я вынимаю книгу. Толстенная. Бумага пожелтела и стала ломкой.
На обложке по-английски написано: «Сравнительный социально-археологический анализ интерконтинентальных сокровищ и мифов. Биргер Белтэ, Чарльз де Витт и Грэм Ллилеворт. Оксфордский университет, 1973».
— О чем здесь речь?
— О том, что некоторые клады, обнаруженные археологами, были довольно точно описаны в древних религиозных мифах.
Интересно, почему мне никогда не показывали этого исследования. Ведь после смерти отца в доме должно было остаться хотя бы несколько экземпляров.
Я листаю книгу. На второй странице вижу посвящение, которое залито черной тушью. Подношу бумагу к свету: «Авторы хотели бы выразить глубочайшее уважение и благодарность своим научным консультантам Майклу Мак-Маллину и Грете Лид-Вэйен».
Я с изумлением смотрю на Грету. Она подмигивает мне в ответ.
На странице 54 я читаю раздел о находке свитков Мертвого моря в Кумране. А на странице 466 — это не какая-нибудь брошюра, а огромный научный труд — я обнаруживаю объемную сноску, в которой проводятся параллели между сокровищем Хона, найденным в Верхнем Эйкере в 1834 году, и артефактами из захоронения Аджиа Фотиа на Крите. Ищу в указателе монастырь Вэрне, но там его нет. И вдруг замечаю ссылку: «Варна. С, 296–301».
Глава называется «Октагон Варна: Миф о Ларце Святых Тайн».
Пока я листаю страницы, из книги выпадает закладка. Это визитная карточка. Старомодная, респектабельная.
«Чарльз де Витт. Лондонское географическое общество». Машинально засовываю визитку в карман и продолжаю просматривать главу.
Я всегда читал быстро. И в течение нескольких минут я успеваю пробежать глазами текст, пересказывающий легенду о восьмигранном храме — октагоне, который орден иоаннитов построил специально для сохранения одной реликвии. Если я правильно понял, она представляла собой божественное послание, созданное то ли еще при жизни Христа, то ли в эпоху Крестовых походов. Все это очень непросто, — возможно, я что-то перепутал. Я слишком торопился.
— Можно взять ее на некоторое время? — спрашиваю я, держа книгу в руке. — Я хочу прочитать внимательно.
— Да-да, — поспешно соглашается Грета. Как будто рада избавиться от книги.
— Расскажи все, что знаешь, — прошу я.
Грета умиротворенно подмигивает и откашливается. Дрожащим голосом она начинает рассказ о крестоносце, который передал некую реликвию ордену иоаннитов в Иерусалиме в 1186 году. Эта реликвия позже получила название Ларец Святых Тайн. Иоанниты получили от папы Клеменса III приказ не только охранять ларец, но и спрятать его от разбойников, крестоносцев и рыцарей, от епископов, пап и королевских особ. Когда на следующий год Саладин занял Иерусалим, а иоанниты бежали, то следы ларца затерялись. У искателей приключений и охотников за счастьем, пытавшихся разыскать сокровище, была только одна зацепка: Святой Ларец спрятан в октагоне.
— В монастыре Вэрне? — спрашиваю я язвительно.
Она сидит откинувшись и наблюдает за мной. На лице выражение превосходства.
— А почему бы и не в монастыре?
Я не могу удержаться от смеха. Она хлопает меня по коленке:
— Малыш Бьорн, я знаю, о чем ты думаешь. Ты всегда был нетерпеливым, недоверчивым, скорым на выводы. Чему я учила тебя в университете? Разве я тебя не учила совмещать скепсис с фантазией? Понимание с удивлением? Сомнение с доверчивостью? Надо вслушиваться в мифы, легенды, сказки, предания. Не потому, что они и есть истина, Малыш Бьорн. А потому, что они сложились на основе какой-то другой, более древней истины.
Сила голоса и взгляд пугают меня. Кажется, сейчас она вручит мне ключи от вечной жизни, а затем исчезнет в облаке дыма и искр. Но она не делает ни того ни другого. Она наклоняется вперед и берет леденец из чашки на столе. Кладет в рот. Я слышу, как он перекатывается у нее между зубами.
Склоняет голову набок.
— Монастырь Вэрне — вполне подходящее место для святыни. Он расположен очень далеко от Святой земли. Норвегия была окраиной цивилизации. Историки так и не смогли объяснить, зачем это вдруг иоанниты заложили монастырь в Норвегии в конце двенадцатого века.
Она задумчиво качает головой:
— Если вы действительно нашли октагон, Малыш Бьорн, и если вы действительно нашли ларец…
Конец фразы повисает в воздухе.
— Что было в ларце? — спрашиваю я.
— В том-то и весь вопрос. Что в ларце?
— Ты не знаешь?
— Избави бог, не имею ни малейшего представления. Слухов было много. Договорились даже до того, что Меровинги
[135] спрятали там сокровища немыслимой ценности. Золото и драгоценные камни, которые Церковь и королевский род собирали столетиями…
— Ну уж извини, — прерываю я ее глубоким деланым вздохом. — Спрятанные сокровища? Ты когда-нибудь слышала хоть об одном человеке, который нашел сокровища?
— Может, они ждут своего часа?
— Романтика Индианы Джонса!
— Малыш Бьорн, — она презрительно складывает губы, и я сразу догадываюсь, о чем сейчас пойдет речь, — я передаю слухи, которые циркулировали в академических кругах десятки лет. Я не доверяю им. Но и не отвергаю их полностью, как это делает один мой юный знакомый.
— Так чт
о говорят эти
слухи? — Я выплевываю это слово, как гнилую черешню.
— Есть какая-то карта. И какая-то генеалогия. Зашифрованные тексты. Я не знаю всех деталей. История началась в прошлом столетии на юге Франции, в деревне Рене-ле-Шато. Один молодой священник стал приводить в порядок церковь, в которую был направлен служить. Во время реставрации он нашел пергаментные свитки и, по слухам, разбогател. Невероятно разбогател. Никому так и не удалось выяснить, что же такое он обнаружил, но говорят, рукописи хранили непостижимую тайну.
— Которая гласит?..
— Если бы я знала ее, Малыш Бьорн, это вряд ли было бы тайной, ведь так? Были разговоры о религиозных мифах. Будто бы он нашел лист Священного договора, и это вполне возможно, поскольку новое здание строилось на руинах древнехристианской церкви шестого века. Некоторые верили, что обнаружены оригиналы библейских текстов. Говорили о генеалогиях, историях древних родов. А кое-кто попросту считал, что священнику достались карты средневековых кладов.
— И при чем же тут монастырь Вэрне?
— Почём я знаю? Вдруг сокровище спрятано на территории монастыря. Или ларец содержит указания для дальнейших поисков.
— Грета, — вздыхаю я и смотрю на нее глазами растерянного медвежонка.
[136]
— Евангелие Q! — восклицает она вдруг.
— Что-что?
— Евангелие Q! — повторяет Грета.
Я ничего не понял. Она продолжает:
— Не то чтобы я все знала. Это лишь догадка. Но мне всегда было любопытно, что же такого важного здесь можно найти. Если собрать вместе все фрагменты информации, то моя головоломка превращается в целостную картинку. Возможно, вполне возможно.
— Евангелие Q? — переспрашиваю я.
— Да. Q от слова Quelle. По-немецки это значит «источник».
— Quelle?
— Неужели ты никогда об этом не слышал?
— Нет, пожалуй, никогда. Что это такое?
— Предполагается, что это оригинальная рукопись на греческом языке.
— Которая содержит?..
— Все изречения Иисуса.
— Иисуса? Неужели?
— Его учение в виде цитат. Первоисточник, который Матфей и Лука использовали при создании Евангелия, в дополнение к Евангелию от Марка.
— Я вообще впервые слышу о существовании Евангелия Q.
— Может быть, его и нет. Это только теория.
— А как он мог оказаться в монастыре Вэрне?
— Спроси своего отчима.
— Он знает?
— Во всяком случае, больше меня.
— Но каким же образом…
— Малыш Бьорн! — прерывает она меня добродушным смехом. Затем она задумывается. — Хочешь прокатиться в Лондон?
— В Лондон?
— Ради меня.
Я молчу.
Она добавляет:
— И за мой счет.
— Зачем?
— Чтобы разобраться в одной старой истории.
Я ничего не говорю. Грета тоже. Она с трудом встает, выходит из комнаты, идет в спальню. Вернувшись, протягивает мне конверт. Я открываю его и насчитываю тридцать тысяч крон.
— Вот это да!
— Наверное, хватит? — спрашивает она.
— Даже слишком!
— Возможно, придется совершить и другие поездки…
— Ты с ума сошла! Столько денег хранить дома!
— Я не доверяю банкам.
Я в замешательстве.
— О чем, собственно, речь?
— Вот это тебе и предстоит выяснить.
— Грета, — пытаюсь поймать ее взгляд, но не могу. — Почему это для тебя так важно?
Она смотрит прямо перед собой. Наконец наши глаза встречаются.
— Я могла бы участвовать в этой истории.
— Этой — какой?
— Той, за верхушку которой ты зацепился.
— Но?
— Но тут кое-что случилось…
Она закусывает нижнюю губу. Ей требуется некоторое время, чтобы справиться со своими чувствами.
Я знаю, что
ничего больше от нее не услышу. Но ее мотивы не столь важны. Во всяком случае, сейчас. Наступит момент, когда я сам во всем разберусь.
— Поедешь? — спрашивает она.
— Конечно.
— Общество международных наук. СИС. Лондон. Уайтхолл. Ищи президента. Майкла Мак-Маллина. Ответы у него.
Мы смотрим друг на друга. Она крепко сжимает мою руку:
— Будь осторожен!
— Осторожен? — Я вздрагиваю от испуга и боли.
— У Мак-Маллина много друзей.
Звучит как скрытая угроза.
— Друзей, — повторяю я, — таких как Чарльз де Витт?
Лицо чуть-чуть дрогнуло.
— Чарльз? — В голосе никаких эмоций. — Чарльз де Витт? Что тебе известно о нем?
— Ничего.
Она молчит, словно забыла о моем присутствии, потом произносит:
— Во всяком случае, его ты можешь не бояться.
Голос приобрел оттенок нежности.
— Ты что-нибудь знаешь о несчастном случае? — спрашиваю я.
— Пустяк, — говорит она. — Царапина на руке. В ране началась гангрена.
Я ничего не понимаю.
— Он же разбился насмерть…
Грета с удивлением смотрит на меня, на лбу появляются морщины.
— Ах, твой отец?
Только взгляд выдает скрытое напряжение.
— Абсолютно ничего. — Она с трудом сдерживает себя.
Я продолжаю стоять неподвижно:
— Да, но, Грета…
— Ничего! — выкрикивает она.
Напряжение вызывает кашель. Она долго не может прийти в себя.
— Ничего, — повторяет она тихо, уже более мягко. — Ничего такого, что тебе положено знать.
2.
Я добираюсь до Domus Theologica за двенадцать минут. Это здание теологического факультета на улице Блиндернвейен, а вовсе не супермаркет где-нибудь в Южной Европе, хотя название вполне подходящее. У меня есть знакомый старший преподаватель с кафедры иудаистики. Возможно, он сообщит мне что-нибудь полезное.
Герт Викерслоттен ростом под два метра и худ как щепка, поэтому кажется, что он с трудом удерживает равновесие. Он напоминает большую болотную птицу. Кожа нечистая. Борода выглядит так, как будто ее натянули слишком сильно за ушами и под подбородком. Все в нем — пальцы, руки, нос, зубы — кажется чрезмерно длинным.
В течение нескольких минут мы вспоминаем время совместной учебы, болтаем об общих знакомых, кошмарных педагогах и девушках, о которых мы мечтали, но которые достались не нам. Как и я, Герт одинок. Как и я, скрывает свои неврозы под академическим высокомерием.
Он спрашивает, зачем я пришел. Я говорю, что интересуюсь сведениями о Евангелии Q.
В его глазах загорается огонек. Ничто так не радует специалиста, как возможность блеснуть своими познаниями.
— Q? Oh yesss, baby!
[137] Евангелие, которого нет!
— Но которое, очевидно, когда-то существовало? — добавляю я.
— Во всяком случае, многие именно так и считают.
— И ты?
— Безусловно. — Он во все стороны размахивает длинными руками, так что приходится опасаться, как бы он не порушил стены своего маленького кабинета.
— Но ведь никто не видел ни одной буквы?
— Евангелие Q вроде черной дыры в астрономии. — Он рисует в воздухе круг большим и указательным пальцами. — Ее нельзя увидеть даже в самые мощные телескопы. Но ее можно обнаружить по траектории других небесных тел.
— Так магнит воздействует на металлические стружки через лист бумаги, — подхватываю я. Он кивает, и я продолжаю: — Мне известно, что Евангелие Q написано по-гречески. И что содержит подлинные записи слов Иисуса. И что его считают первоисточником библейских текстов.
— Это и есть самое существенное в нем.
— Но объясни мне, почему так важно знать, существовало ли Евангелие Q?
— Для познания. Для науки. — Он пожимает плечами. — Ну, нашли вы, археологи, Гокстадский корабль,
[138] и что дальше? Но вы нашли его, и это великолепно.
— Если Евангелие Q обнаружат, это будет иметь практическое значение?
— Конечно.
— Почему? И какое?
— Потому что Евангелие Q даст новые возможности для истолкования текстов Библии. Жизнь современного общества пронизана христианством. Христианской культурой. Христианскими законами. Христианская мораль определяет наши взгляды на человека. Все взаимосвязано.
— Само собой. Но при чем здесь Евангелие Q?
— Евангелие Q может пролить свет на историю создания Нового Завета. И тем самым способствовать истолкованию текстов. Древний богослов Ориген
[139] утверждал, что слова Библии нельзя понимать буквально, как это делают сегодня многие. Надо воспринимать их как знаки или картины иной, более значимой сущности. Надо толковать Библию, исходя из целого. Когда Библия рассказывает о горе, с которой можно обозреть весь мир, это не надо понимать дословно. Хотя есть любители истолковывать каждое слово отдельно. Евангелие Q поможет нам многое прояснить.
— Когда оно было создано?
— Скоро будет две тысячи лет. Мы думаем, Евангелие Q было написано раньше первых посланий Павла, то есть через двадцать лет после распятия Христа.
— Кто его составитель?
— Неизвестно. — Он наклоняется вперед и понижает голос. — А тогда получается, что текст появился на двадцать лет раньше, чем Евангелие от Марка, и это самое интересное!
Он многозначительно поднимает одну бровь. И ждет моей реакции. Но меня не очень волнует вопрос датировки, и Герту приходится продолжать:
— Евангелие от Марка считается самым древним из всех, а значит, первым, хотя в Новом Завете стоит лишь на втором месте. Оно, очевидно, было создано через сорок лет после распятия Христа, то есть приблизительно в семидесятом году.
— Следовательно, Евангелие Q — более подлинное, чем остальные Евангелия?
— Более подлинное?
— Оно же хронологически ближе к евангельским событиям?
— Ну… — Когда Герт ухмыляется, обнажаются большие зубы и розовая десна. — Разделять по степени подлинности древние манускрипты — теперь, спустя две тысячи лет, довольно бессмысленное занятие. Речь ведь идет еще и о вере. Конечно, чем больше времени отделяет автора от событий, тем менее точным будет его описание.
— Старые добрые евангелисты были своего рода журналистами, — замечаю я.
— Вряд ли. Общественными деятелями, проповедниками, миссионерами…
— Ну вот! Журналистами! — смеюсь я. — А они имели доступ к Евангелию Q?
— Возможно. Мы думаем, что Евангелие Q циркулировало в среде христианских общин первого столетия. — Губы Герта складываются в кривую усмешку, как будто он радуется чему-то, о чем все равно мне не расскажет. — Основные споры вокруг Евангелия Q связаны с тем, что некоторые христианские общины воспринимали Иисуса вовсе не как Бога, а лишь как мудрого философа. Человека, который хотел научить евреев жить счастливо. Без Евангелий и посланий Павла христианство превращается в реформированный иудаизм.
— И так считают многие?
— Если Евангелие Q когда-нибудь обнаружат, оно будет иметь колоссальное значение, потому что его написали современники Иисуса, а не евангелисты, которые жили много лет спустя. Евангелие Q в гораздо большей степени напоминает журналистский отчет, чем красочные Евангелия. В нем Иисус изображен как апокалипсический бунтовщик и гражданин. Революционер того времени. Евангелие Q вообще не затрагивало вопроса, был ли Иисус Сыном Божьим.
— Так что же доказывает Евангелие Q?
— Оно вряд ли может доказать что-либо. Древние рукописи надо читать, имея основательные знания об этом периоде. О жизни общества.
— Я всегда считал, что теологи слепо верят всему, что написано в Библии.
— Ха! Теология — наука, а не вера! Уже в восемнадцатом веке критически настроенные теологи подвергали догмы сомнению. Профессор Герман Самуэль Реймарус низвел роль Иисуса до роли иудейского политического деятеля. В тысяча девятьсот шестом году Альберт Швейцер, следуя его примеру, написал важнейший критический научный труд. Эти теологи четко отделяли исторического Иисуса от Иисуса из проповедей. Критическая теология существует и в наши дни. Если объединить исторические, социологические, антропологические, политические и теологические знания, можно прийти к новому восприятию личности Иисуса.
— Какому же?
— Иисус родился в тревожное время. Его учение использовали с разными целями. Многие ранние христианские общины не придавали особого значения рассказам о смерти и воскресении Иисуса. Его считали своего рода вождем. Вроде Ленина или Че Гевары. Другие же древние общины делали упор на распятие и вознесение и, так сказать, забывали исторического Иисуса.
— Значит, в Евангелии Q нет ничего о божественном Иисусе?
— No sir!
[140] Ничегошеньки. Такое впечатление, будто авторы Евангелия Q даже не знали об обстоятельствах смерти Иисуса. А если и знали, то не придавали особого значения эпизоду распятия. Не говоря уж о воскресении. Понимаешь? Именно поэтому самые консервативные христиане категорически отрицают само существование Евангелия Q. Оно является угрозой для главных основ христианства. Авторы Евангелия Q никогда не воспринимали Иисуса как Сына Божьего, только как странствующего мудреца и проповедника. Бунтовщика! И только евангелисты позже добавили догму о воскрешении. Они не хотели признать поражения — ведь их спаситель умер, не дождавшись наступления Царства Божьего. Сам Иисус длительное время полагал, что Царство Божье наступит при его жизни.
— И все-таки почему ты уверен, что Евангелие Q существовало?
Герт поглаживает пальцами бороду, совсем как священник:
— Представь себе, что нам двоим дали перевести некий английский текст на норвежский язык. Наши версии будут похожими. Но не одинаковыми. Такими, как Евангелия от Матфея и Луки. Исследователи пришли к выводу, что не меньше двухсот тридцати пяти стихов у Луки и Матфея настолько близки, что, несомненно, происходят из одного источника. Несмотря на то что эти два текста были написаны независимо друг от друга, многие реплики Иисуса идентичны. Повторяются слово в слово.
— И что?
— Исторический Иисус говорил на арамейском, который в течение четырехсот лет был разговорным языком в Палестине. Он не говорил на греческом языке, на котором написаны Евангелия. Значит, существовал греческий первоисточник, который оба евангелиста знали и цитировали. Евангелие Q — Quelle! Источник!
— А может быть, Лука и Матфей попросту списали друг у друга?
Герт ухмыльнулся:
— Если бы все было так просто. Но это исключено. Они работали в разное время. В разных местах. Обращались к разным читательским аудиториям. В их текстах много очевидных несовпадений, которые они обязательно исправили бы, если бы только знали о них. И все же у них был общий источник.
— И это факт, — подвожу я итоги.
— Или почти что факт! — Герт качается на стуле. Если он потеряет равновесие, мало не покажется ни мне, ни ему. — Исследователи уверены, что Марк написал свое Евангелие первым. Далее, опираясь на труд Марка и Евангелие Q, но с собственными дополнениями Лука и Матфей создавали свои тексты. Это подтверждается тем, что около девяноста процентов тем Марка повторяются у Матфея.
— Как давно теологам известно о существовании Евангелия Q?
— Уже в начале девятнадцатого века исследователи Библии установили, что Лука и Матфей пользовались общим источником. Помимо Евангелия от Марка. Но только в тысяча восемьсот девяностом году этот источник был идентифицирован.
— Как Евангелие Q?
Герт кивает:
— Евангелие Q не все воспринимают с одинаковым энтузиазмом. И это легко понять. Ведь непросто восторгаться тем, что существует только в теории.
Он встает. Кажется, что он видит перед собой лекционный зал, переполненный юными восторженными студентками, которые только и мечтают что об уроках Герта по теологии и прикладной физиологии как-нибудь поздним вечером, после хорошего ужина с бутылкой вина.
Он продолжает:
— В тысяча девятьсот сорок пятом году произошло кое-что интересное. Некие братья-египтяне нашли большой запечатанный кувшин в земле у подножия скал в области Наг-Хаммади.
— И оттуда вырвался джинн, который исполнил три их желания? — смеюсь я. — Водка, женщины и новенький, с иголочки, верблюд?
Герт хитро подмигивает:
— Почти! Братья, собственно говоря, ужасно боялись открывать кувшин, потому что в нем действительно мог находиться джинн. Злой джинн. В Египте в таких кувшинах, как правило, водятся именно злые духи. Это известно каждому просвещенному археологу.
Мы смеемся. Смех у Герта клокочущий и приятный.
— Но жадность братьев в конце концов победила. Может быть, в этот кувшин духи не забрались. Но зато там полным-полно золота и бриллиантов. Они решили рискнуть и разбили его.
— Никаких духов?
— Даже намека!
— Так что же они обнаружили?
— Тринадцать книг. Тринадцать томов, переплетенных в кожу газели.
Я склоняю голову.
Герт хлопает ладонью по письменному столу:
— Находка сенсационная! И для археологов, и для теологов. Библиотека Наг-Хаммади! Среди всего прочего манускрипты содержали полный текст Евангелия от Фомы!
Я напряженно щурюсь, пытаясь вспомнить, что такое Евангелие от Фомы. По правде говоря, я никогда не был знатоком Библии. Но мне казалось, что Евангелий всего четыре.
— Евангелие от Фомы не было включено в текст Библии, — объясняет Герт.
— Не всем, однако, на долю выпадает участь быть отвергнутым Богом, — замечаю я. — А вы, специалисты, знали о существовании Евангелия от Фомы?
— Yes! Во всяком случае, в некоторой степени. Но никто не видел его целиком. До тысяча девятьсот сорок пятого года. Фрагмент Евангелия от Фомы, написанный по-гречески, ранее был обнаружен в Оксиринхосе в Египте. В Наг-Хаммади нашли полный список. И это еще не все — рукописи содержали так называемое Евангелие от Филиппа и списки диалогов Иисуса с учениками. Это почти еще один Новый Завет, сильно отличающийся от уже известного. А теперь послушай, вот что здесь самое важное! Написано все было на коптском языке!
— Да брось! На коптском?! — восклицаю я.
Мое восклицание — чистый блеф. Герт мгновенно улавливает притворство.
— Да-да, на коптском! — повторяет он. — То есть на том египетском языке, на котором говорили к концу существования Римской империи.
— Теперь, кажется, понял, — бормочу я, хотя, если честно, это преувеличение.
Герт улыбается понимающе. Видимо, такую улыбку он посылает неуверенным первокурсницам с косичками, в облегающих футболках.
— Пользуясь этим текстом, исследователи смогли реконструировать Евангелие от Фомы на языке оригинала — греческом. В отличие от тех Евангелий, которые вошли в Библию, и подобно тому, что наблюдается в Евангелии Q, Евангелие от Фомы мало говорит о рождении, жизни и смерти Иисуса. Оно содержит его изречения. Сто четырнадцать цитат, которые все начинаются так: «И сказал Иисус». Многие цитаты из Евангелия от Фомы чрезвычайно похожи на реплики в Евангелиях от Матфея и Луки. Исследователям стало ясно, что Фома использовал тот же источник, что и они. Понимаешь?
— Пытаюсь.
— Евангелие от Фомы косвенным образом подтверждает, что Матфей и Лука должны были обращаться к одному и тому же первоисточнику — тексту, который они повторяли и изменяли, создавая свою версию описания жизни и учения Христа. Самое интересное, что составитель Евангелия Q, будучи современником Иисуса, истолковывал его слова совершенно иначе, чем авторы и читатели Библии.
— Иначе говоря, это довольно щекотливый вопрос.
Герт кусает нижнюю губу и кивает:
— Еще бы! В тысяча девятьсот восемьдесят девятом году группа исследователей начала реконструировать Евангелие Q, сравнивая библейские тексты Матфея и Луки со списком Фомы. Уже одна эта работа вызвала бурную дискуссию о происхождении христианства.
Я смотрю на Герта. Он на меня. Он не понимает, куда я клоню.
Я спрашиваю:
— А что произошло бы, если бы Евангелие Q нашлось?
Герт задумчиво качает головой:
— Трудно даже представить. Такое событие способно отодвинуть обнаружение «Свитков Мертвого моря» и гробницы Тутанхамона на второй план. Нам пришлось бы переписывать историю религии.
Я не могу не мучить себя вопросом: неужели именно Евангелие Q хранится в золотом ларце, который спрятан в квартире у Рогерна?
Если бы я был главным героем фильма, я бы взломал деревянную коробку и вытащил ларец, чтобы удовлетворить свое (а также публики) любопытство. Но я мыслящий человек и серьезный исследователь. Ларец, который пролежал в земле так много лет, нельзя вскрывать, будто обыкновенную консервную банку. Открывать его должны профессионалы с максимально возможной осторожностью. Примерно так, как вскрывают раковину, чтобы извлечь жемчужину, не повредив при этом моллюска.
Если я сейчас поспешу, дело кончится катастрофой. В лучшем случае я поврежу содержимое ларца. В худшем случае памятник будет безвозвратно утрачен. Старый пергамент или папирус может в течение ночи превратиться в пыль. И при этом даже не пойму, что же такое я нашел. Я не очень большой знаток древнегреческого, иврита, арамейского или коптского.
Вывод один: ларец нельзя открывать.
3.
Обаяние некоторых женщин воздействует непосредственно на мой гипофиз.
[141]
Высокая женщина, золотистые волосы, зеленые глаза, тонкие губы, чуть заметные веснушки. Юбка плещется вокруг длинных ног, широкий серебряный пояс мягко обвивает талию. Под хлопчатобумажной блузкой видны упругие груди.
Два года я был влюблен в нее. Она наверняка знает об этом. Сейчас она стоит в дверях с той самой задорной улыбкой, которая когда-то очаровала меня. Это Кристина. Жена Каспара. Внешне она похожа то ли на дизайнера, то ли на манекенщицу, то ли на артистку бродячего цирка. На самом деле Кристина — специалист по социальной экономике. Заведует отделом в Центральном статистическом бюро. Когда мы учились в университете в Блиндерне, Кристина и Каспар жили в общаге на улице Маридальсвейен. Студенческая каморка. Джаз и блюз-рок. По выходным круглосуточное веселье.
Жизнь в общаге не для меня. Судорожные попытки изобразить сплоченность. Вечное брюзжание. Гора ботинок и туфель в прихожей. Сохнущие женские трусики на веревках в ванной. Ссоры. Долгие дневные и вечерние часы в гостиной. Кто-нибудь обязательно смотрит, что ты делаешь. Слышит, как ты отправился в туалет. Хочет обсудить с тобой книгу или кинофильм. Или сыграть в карты. Или посылает тебя к черту, когда ты решаешь стрельнуть у него самокрутку. За тобой следят, чтобы ты не пропустил очередь по мытью посуды. Собрания жильцов, общение, солидарность, трения, эротика, голосование по всяческим вопросам, самокритика. Все это не мое.
Однажды в праздник я ночевал в их спальне. Каспар и Кристина стали заниматься любовью на полу рядом со мной. Было раннее утро. В комнату проникал слабый свет. Я делал вид, будто сплю. Они делали вид, будто верили, что я сплю. Я помню сдержанные стоны Кристины, колебание их тел, пыхтение Каспара, звуки, запахи. Утром мы все притворялись, будто ничего не произошло.
Они были анархистами. Я так и не смог понять, против чего они протестовали. Теперь все это в прошлом. Они стали социал-демократами. Единственное, что сейчас отличает Кристину и Каспара от остальных людей, — это странность, оставшаяся со времени проживания в коммуне: у них нет телевизора. Они не хотят его иметь. Принципиально. Пожалуйста, восторгайтесь ими.
— Бьорн! — кричит с восторгом Кристина, втаскивает меня в прихожую и одновременно с улыбкой осматривает с ног до головы. — Ты вообще не изменился!
Мы обнимаемся. Долго. Мне кажется, Кристина тоже мало изменилась. И вдруг я вспоминаю, почему я в нее влюбился.
На обеденном столе Каспар раскладывает копии бумаг, связанных с раскопками в монастыре Вэрне. Куча писем, документов, таблиц, схем, карт. Все они обросли джунглями печатей и регистрационных отметок в журналах, которые любая бюрократическая организация делает, чтобы оправдать свое существование. Тут же прошения и ответы, описания и уточнения на забавной смеси норвежского и английского языков.
— Я чувствовал себя чурбаном, когда копировал эти документы, — признается Каспар. Не знаю, шутит ли он. Не думаю. С годами он стал добропорядочным гражданином. Государство именно так воздействует на своих верных граждан. Они начинают воспринимать себя частью системы. Как будто система — это как раз они и есть. Что, впрочем, не так уж далеко от истины.
Вокруг нас порхает Кристина, как хлопотливая фея. Зажигает тысячу маленьких стеариновых свечек, отчего квартира становится похожей на затерянный в скалах Древней Эллады монастырь. Кристина разливает чай в огромные керамические кружки. И косится в мою сторону. Ее быстрые напряженные взгляды означают, что она ждет от меня каких-нибудь слов, которые помогут разрядить обстановку. Но я ничего такого не придумал. Она испекла печенье и вафли. Окружающие видят в Кристине бывалого человека, заведующую отделом, феминистку, корифея социальной экономики и бунтовщика, но в глубине души она остается обыкновенной заботливой женщиной, которая хочет, чтобы нам всем было хорошо.
Я выхватываю первое попавшееся письмо за подписью Каспара Скотта. Под шапкой Инспекции по охране памятников и государственным гербом со львом помещен следующий текст:
«В соответствии с Законом о памятниках культуры от 9 мая 1978 г., с дополнениями, последнее из которых от 3 июля 1992 г., Обществу международных наук в лице президента Майкла Мак-Маллина (далее: Правообладателю) предоставляется право на осуществление археологических раскопок под повседневным руководством профессора Грэма Ллилеворта на выделяемой территории (геодезическая карта Норвегии, квадрат 1306/123/003). В связи с тем что работы подпадают под юрисдикцию органов охраны памятников культуры, Правообладатель обязан следовать указаниям назначенного археологическими властями местного представителя (Контролера). Поиски крепостных сооружений осуществляются в соответствии с правилами, определяемыми Инспекцией охраны памятников (см. предписания о распределении профессиональных сфер), но, так как работы могут иметь и более отдаленные перспективы, отдел древностей университета в городе Осло делегирует часть юрисдикции региональному Археологическому музею».
Когда-то Каспар писал стихи. В 1986 году опубликовал стихотворение в субботнем выпуске газеты «Дагбладе». Он долго мечтал, что когда-нибудь станет писателем. Возможно, из него вышел бы толк. Жаль, что бюрократия настолько меняет натуру человека.
Тут же другие бумаги — о целях раскопок, о том, где возможные находки должны храниться и выставляться, о правах на публикацию. В них написано, что профессиональную ответственность за раскопки несет профессор Грэм Ллилеворт, знаменитый профессор археологии, автор большого количества книг и научных работ, опубликованных университетами всего мира. Что велика вероятность обнаружения круглого замка с входящими в его состав казармами. Среди прочих бумаг вижу заключение профессора Арнтцена, который одобряет проект и рекомендует меня в качестве контролера. Смотрю на печать и не поддающуюся расшифровке подпись главы института Фрэнка Виестада. Я кладу все копии на стол:
— Это все ширма!
— Для прикрытия чего? — спрашивает Кристина.
Я знаком с Каспаром достаточно давно и знаю, что он, конечно, рассказал ей все. И неплохо знаком с Кристиной, поэтому понимаю, что она умирает от любопытства.
— Ллилеворту было прекрасно известно, что никакого круглого замка мы никогда не найдем, — поясняю я.
— Потому что искал он вовсе не круглый замок, — добавляет Каспар.
— Именно! Он искал кое-что более важное.
Кристина переводит с меня на Каспара огорченный взгляд: «Как ты думаешь, это у него на нервной почве?»
— Важнее круглого замка? — спрашивает Каспар.
Я подмигиваю Кристине и изображаю хитрющую улыбку: «Я совершенно здоров».
— Важнее круглого замка, — отвечаю я Каспару.
Кристина поворачивается, чтобы взять печенье. Блузка натягивается, и под тканью отчетливо вырисовываются соски. Это отвлекает меня от разговора. Каспар замечает направление моего взгляда, и я сильно краснею.
— А почему вообще появились эти англичане? — спрашивает Кристина и быстро добавляет: — Ой, Бьорн, у тебя нет температуры?
— Конечно, они с самого начала всё знали, — приходит мне на помощь Каспар. — То, что ларец там. Ллилеворт. Мак-Маллин. СИС. Иначе зачем им ходатайствовать о раскопках?
— Именно! Они прекрасно знали, что ларец… — начинаю я, но тут же замолкаю: в словах Каспара мне слышатся удары набатного колокола. Пролистываю бумаги и нахожу письмо, которое только что прочитал. Там то же самое имя. Черным по белому. Майкл Мак-Маллин. Именно три «М» подряд пробуждают мою память. Мак-Маллин — это человек, которого Грета просила найти в Лондоне. Научный консультант, которого Ллилеворт, де Витт и мой папа благодарят в своей книге. Мир полон случайных совпадений.
Я тыкаю указательным пальцем в текст письма:
— Внимание! Кто он такой, вот этот парень? Майкл Мак-Маллин?
— Президент СИС, — отвечает Каспар.
— А также научный консультант моего отца и Грэма Ллилеворта в Оксфорде в тысяча девятьсот семьдесят третьем году! — Я рассказываю о книге и посвящении.
— Неужели? — восклицает Каспар. — Мне удалось кое-что раскопать об этом парне! Посмотрите, что я нашел, когда рылся в архивах сегодня.
Он открывает свой «дипломат» и извлекает «Норвежский археологический журнал», четвертый номер за 1982 год. Перелистывает. На шестнадцатой странице статья о междисциплинарном симпозиуме по вопросу международных исследований. Норвежским организатором был Институт археологии. Но финансировало симпозиум СИС. Желтым маркером Каспар выделил три имени: докладчиков Грэма Ллилеворта и Трюгве Арнтцена, а также открывшего дискуссию Майкла Мак-Маллина.
— Три кореша! — замечает Каспар.
— Что-то случилось в Оксфорде в тысяча девятьсот семьдесят третьем году, — говорю я задумчиво.
— Ллилеворт и твой отец, очевидно, наткнулись на сенсацию.
— Вообще-то, их работа касалась сокровищ и мифов. Скорее всего, они сделали какое-то открытие. Вместе с де Виттом, кем бы он ни был.
— Открытие, которое привело их в монастырь Вэрне… — размышляет Каспар.
— Двадцать пять лет спустя.
— Видимо, оно было важнее старого наконечника копья, — констатирует Кристина. Она десять лет замужем за Каспаром, но все еще имеет довольно примитивное представление об археологии.
— Ты когда-нибудь слышал об октагоне? — спрашиваю я Каспара.
Он задумывается:
— Что-то связанное с иоаннитами? Они спрятали какую-то реликвию в восьмигранном храме? Где-то я об этом читал.
Еще один удар по моему самолюбию. Каспар тоже знаком с этой легендой. Я подавлен. Ведь я был контролером во время раскопок. Мне следовало догадаться обо всем, когда Ирена вскрывала основание стены. Но я понятия не имел об октагоне.
— Мы нашли ларец в октагоне, — сообщаю я.
— Ты шутишь? — Каспар пристально смотрит на меня. — Октагон? В монастыре Вэрне? — Он покачивает головой, вперив взгляд в пространство.
— В таком случае ты, возможно, знаком со слухами о Рене-ле-Шато? — спрашиваю я.
Он морщит лоб:
— Не уверен. Это там обнаружили какие-то старые пергаменты при перестройке церкви?
Я вздыхаю:
— Ну как это я умудрился пропустить именно эти лекции?
Каспар смеется:
— Возможно, в то время личность профессора интересовала тебя больше, чем ее лекции?
Мои щеки приобретают пурпурный оттенок. Кристина смотрит на Каспара с упреком. Приходится проглотить шутку.
— Что ты знаешь о СИС? — задаю я вопрос, пытаясь прикрыть румянец рукой.
— Немного. Некий фонд в Лондоне. Сотрудничает с Королевским Географическим обществом в Великобритании и Национальным Географическим обществом в США. И еще с университетами и исследовательскими учреждениями во всем мире. СИС финансирует Интересные проекты по всему земному шару. Из идеалистических побуждений.
— Из идеалистических побуждений? Ха! — Кристина смеется. — Не бывает добрых фей в науке.
Я рассказываю им о Евангелии Q. И о Евангелии от Фомы.
После этого наш разговор перекидывается на воспоминания о старых добрых временах. О нас самих. Даже специалистам мои теории могут показаться перебором. Я ухожу, когда Кристина начинает готовить ужин. Печенку под сливочным соусом. Приятного им аппетита.
4.
Высокого роста худощавый полицейский явно не собирается скрывать свою подозрительность. Щеки землистого цвета, глаза слегка опухли. В прошлом он моряк. Полицейский смотрит на меня, и мне начинает казаться, что он не упустит ничего даже с закрытыми глазами. Губы его сжаты. Выражают решимость. Но как только он открывает рот, звучит тоненький голосок евнуха. Наверное, поэтому он работает в уголовной полиции, а не ловит мерзких бандитов на улицах. У него в руках большой черный «дипломат». Вместе с ним приехал энергичный полицейский, который уже несколько минут обрабатывает мою дверь макияжной кисточкой.
Заявляя в полицию о взломе, я набрался наглости и намекнул, что представляю университет Осло. И что взлом, возможно, связан с преступлением, касающимся культурных памятников, о котором наверняка захотят узнать газеты. Обычно это помогает. Не успел я повесить на плечики свою ветровку, как раздался звонок в дверь, как будто полицейские сидели в машине и поджидали меня.
Не очень настойчиво, поскольку полицейский мои гипотезы мгновенно истолкует как манию преследования, я объясняю, в чем дело. Воры, по-видимому, думали, что на винчестере моего компьютера содержатся данные о недавно обнаруженном золотом ларце, которому восемьсот лет.
Полицейский присвистывает. Восемьсот лет — это много. А любая старинная вещь, да вдобавок золотая, стоит очень дорого.
— Неужели? — удивляется он. Кажется, он не поверил мне. — Можете еще что-нибудь рассказать об этом ларце?
И я очень осторожно, чтобы не проговориться, но в то же время как можно убедительнее рассказываю о раскопках в Эстфолде. Он внимательно слушает. Вынимает протокол и заполняет его шариковой ручкой. Он человек основательный. Почерк, несомненно, вызвал бы похвалу учительницы норвежского языка. Он проходится по всем пунктам. Задает вопросы. Каждый раз, когда он смотрит на меня, мне становится неуютно.
— Чем вы занимались в монастыре Вэрне? — спрашивает он.
— Я был контролером. Раскопками руководил один английский профессор археологии. А я представлял норвежские власти, охраняющие древние памятники. Вы же знаете, формальности всегда важны. — Я пытаюсь перетащить его на свою сторону. И вдруг мне приходит в голову, что я не рассказал ему, где проводились раскопки.
— У кого-нибудь, кроме вас, есть ключи от вашей квартиры? — спрашивает второй полицейский, тот, что с макияжной кисточкой.
— У мамы, — отвечаю я и мысленно добавляю: «И отчима».
— Дверь не взломана, — сообщает он.
— Этот ларец, — пищит его начальник, — сам по себе представляет какую-нибудь ценность?
— Большую.
— Где он сейчас?
Я медлю. Оттого что он полицейский, хочется сказать ему правду. Но что-то удерживает меня.
— В университетском сейфе, — лгу я.
— Вот как?
Он выдвигает нижнюю челюсть вперед и со свистящим звуком начинает втягивать воздух между зубами и верхней губой. Потом он делает выдох, и мне чудится аромат морских трав, фукуса и ламинарии.
— Объясните, — обращается он ко мне, — почему вы думаете, что кто-то совершил налет на вашу квартиру из-за золотого ларца?
Он — из хороших полицейских. Они, вообще, могут порядком досаждать. Задают трудные вопросы. Особенно если тебе есть что скрывать. Я уже жалею, что вызвал полицию. Что они могут изменить? Только усложняют жизнь и задают неприятные вопросы. Добьются того, что ларец попадет в те руки, в которые он ни в коем случае не должен попасть.
Я говорю, что налет для меня загадка, и спрашиваю, не хотят ли они кофе. Нет, не хотят.
— Кто-нибудь посторонний знал об этой находке? — спрашивает он.
— Насколько мне известно, никто. Ларец мы нашли вчера.
— И сразу после этого кто-то запер его в университетском сейфе?
Я киваю так незаметно, что это даже трудно назвать ложью.
— Вы? — спрашивает он.
Мне это не нравится. Я заявлял в полицию о взломе квартиры. А их интересует только ларец.
— Нет, не я.
— А кто?
— Разве это имеет значение? Взлом был здесь. Не в сейфе. Ларец в надежном месте.
— Ларец в надежном месте, — повторяет он, подражая моему голосу и интонации. Получается очень похоже. Вероятно, он мог бы с успехом выступать на сцене, если бы юстиция не взяла его в оборот.
Обладатель писклявого голоса задумчиво постукивает шариковой ручкой по подбородку, и от этого ее стержень то появляется, то исчезает.
— Если я правильно вас понимаю, вы считаете, что взлом был связан с золотым ларцом?
— Есть люди, которые пойдут далеко, чтобы украсть его.
— Какие люди?
— Понятия не имею. Воротилы международного черного рынка… Коллекционеры произведений искусства… Коррумпированные ученые…
— Но ведь если ларец в надежном месте — в университетском сейфе, — значит, все в порядке. Правда? — Он с вызовом смотрит на меня.
— Но у меня украли винчестер, — напоминаю я.
— Вы занесли данные о ларце в свой компьютер?
— Нет! Но воры могли так подумать. Я не вижу никакого другого объяснения этой краже.
Он начинает щелкать ручкой еще быстрее:
— Что вы хотите этим сказать?
— Грабители, очевидно, решили, что в моем компьютере находятся данные о ларце. Что файлы зашифрованы и на их расшифровку уйдет время. Иначе я не понимаю, почему украли мой винчестер.
— Почему они украли только винчестер?
— Об этом надо спрашивать у воров.
— А вы как думаете?
— Может быть, надеялись, что я не обнаружу взлома?
— Что-нибудь другое в файлах могло заинтересовать преступников?
— Мои стихи?
— Или милые картинки с обнаженными маленькими детишками на пляже? — Голос его становится сахарно-сладким. Он из тех, кто думает самое плохое о нас, не похожих на других. Эх вы, чертовы морские волки! У меня возникает желание опрокинуть аквариум, в котором он, несомненно, проводит свои долгие одинокие ночи.
— Мне казалось, что я сообщил вам о взломе, и я не имел ни малейшего представления, что уже объявлен через Интернет в международный розыск за педофилию.
— В полицию поступило заявление о необходимости привлечь вас к ответственности, — сообщает он. Его рыбьи глаза уставились на меня, чтобы зафиксировать мою реакцию.
Меня как парализовало. Потом качаю головой, не веря своим ушам:
— Кто-то заявил на меня?
— Да.
— Обвинив в педофилии? Или распространении порнографии?
— Нет. В краже золотого ларца.
В дверь звонят. Очень настойчиво. Как будто кто-то пытается насквозь проткнуть пальцем звонок. Мы смотрим друг на друга. Я иду открывать.
На лестнице стоит профессор Ллилеворт. Рядом с ним мой постоянный спутник Кинг-Конг. Они молчат и с негодованием смотрят на меня.
— А, это ты, мудак! Ну, и где же он? — восклицает профессор Ллилеворт.
— Заходите, заходите! Будьте любезны, в помещении прохладнее. Заходите, пожалуйста!
Ошеломленные приторной любезностью, они входят в прихожую. Сначала Ллилеворт, потом Кинг-Конг, который явно ожидает, когда же Ллилеворт наконец отдаст приказ схватить меня, ломать мне пальцы и извлекать из них ногти по одному до тех пор, пока я не отдам ларец.
Они не сразу замечают полицейских.
— Это дядя-полицейский, — представляю я ласково и перевожу: — Uncle police!
Синхронный переводчик Бьорн.
Полицейские равнодушно смотрят на гостей. Пока я не рассказывал им, кто такой Ллилеворт.
— А, так это вы профессор Ллилеворт? — произносит владелец писклявого голоса на приличном английском языке и протягивает руку. — Рад вас приветствовать.
— My pleasure.
[142] — Ллилеворт протягивает руку в ответ. Я стараюсь не выражать удивления, но не уверен, что у меня это получается.
— Как ваши успехи? — спрашивает профессор Ллилеворт.
Полицейский смотрит на профессора, потом на меня:
— Он утверждает, что ларец находится в университетском сейфе.
Профессор Ллилеворт сдвигает брови:
— Вот как, он это утверждает?
— Что тут происходит? — спрашиваю я, хотя уже знаю ответ.
— Ты украл ларец, — говорит профессор.
— Послушайте, — обращаюсь я к полицейскому, — ларец хотели вывезти из страны! Без разрешения. Они хотели украсть его!
Наступает короткая пауза.
— Насколько я понимаю, — медленно произносит полицейский, — профессор Грэм Ллилеворт руководит раскопками в монастыре Вэрне?
— Да.
— Тогда зачем ему красть собственную находку?
— Но именно это и…
— Подождите! — Полицейский вынимает документ, копию которого я видел у Каспара. — Вот разрешение директора Инспекции по охране памятников…
— Вы не понимаете! — Я прерываю его. — Мы искали круглый замок. Прочитайте текст! Они просили разрешения на исследование круглого замка. О золотом ларце здесь нет ни слова!
Полицейский наклоняет голову:
— Значит, археологам всегда заранее известны результаты раскопок?
— Нет! Не совсем так! Но профессор искал именно золотой ларец! Все время. Только ларец! Круглый замок был прикрытием! Он хотел найти ларец и вывезти его из страны! Неужели вы не понимаете? Круглый замок — только ширма!
Полицейский молчит. Ллилеворт не пытается протестовать. Тишина абсолютная. Я слышу даже эхо своих слов.
— Господа, — начинает Ллилеворт самым любезным профессорским тоном, — извините, могу я дать кое-какие разъяснения?
Он отводит полицейских на кухню. Через стеклянную дверь я вижу, что Ллилеворт показывает им визитную карточку. Размер карточки невелик, но на ней длинный список академических титулов, который производит большое впечатление на полицейских.
Ллилеворт что-то им объясняет. Полицейские слушают с уважением. Владелец писклявого голоса уставился на меня рыбьими глазами. Рот беззвучно открывается и закрывается.
Немного погодя они входят. Ллилеворт делает знак Кинг-Конгу, и тот послушно направляется к нему, как будто ему показали связку бананов.
— Я мог бы настоять на обыске, — сообщает мне профессор, — но ты вряд ли настолько глуп, чтобы спрятать ларец в своей квартире.
— Вам это отлично известно. Ваши парни уже пытались найти его, когда рылись тут, — возражаю я.
— Значит, вы признаетесь, что ларец в вашем распоряжении? — спрашивает полицейский.
— Ни в чем я не признаюсь, — огрызаюсь я.
— Продолжим позже.
Ллилеворт и Кинг-Конг выходят. Я так и не понял, к кому он обратился: ко мне или к полицейскому.
— Так-так-так, — произносит писклявый голос. Протокол исчезает в «дипломате».
— Что вам рассказал профессор? — спрашиваю я.
Он смотрит на меня и ничего не отвечает. Словно я идиот. Но это, вообще говоря, верно. Оба выходят в прихожую.
— Белтэ, — старший откашливается, — у полиции есть все основания полагать, что ларец где-то у вас.
— Это обвинение?
— Я бы посоветовал вам пойти нам навстречу.
— Но я лишь пытаюсь спасти ларец от воров.
Он несколько секунд размышляет над ответом.
— Что будет дальше? — спрашиваю я.
— Ввиду особого характера данного дела я вынужден проконсультироваться с руководством, прежде чем продолжить расследование и предъявить обвинение.
— Как насчет взлома?
— А был ли вообще взлом?
— Оставим без разбирательств в виду отсутствия доказательств? — предполагаю я.
— Мы сообщим вам позже.
Наверное, этой реплике будущих полицейских обучают в школе полиции. Настолько откровенная ложь, что ее даже нельзя считать ложью. Скорее, отговорка, вроде всем известных: «Позвоню на днях!» или «А не пора ли нам наконец встретиться?».
Я открываю им дверь и стою на площадке, пока лифт за ними не закроется. С балкона я наблюдаю, как они подходят к машине. В квартире Рогерна этажом ниже грохочет контрабас.
Преступление наличествует, если нарушен закон и если есть жертва. Сейчас нет ни того ни другого. Я запутался в этих противоречиях. Ведь я пытаюсь помешать преступлению, которое в юридическом и бытовом смысле не совершено. Преступлению, в котором нет жертвы. Преступлению, которое, в строгом смысле слова, не направлено против кого-то. Единственное оправдание моему поведению — это Закон о памятниках культуры. Свод туманных параграфов. У золотого ларца нет владельца. Восемьсот лет он лежал в земле, подобно алмазу в горном массиве или неразведанной золотой жиле. Он мог бы пролежать еще восемьсот лет, если бы профессор Ллилеворт не узнал, где надо копать.
По иронии судьбы, нарушителем закона теперь оказываюсь я.
5.
Вечер светлый, приятный, полный тихого счастья. Над кизиловой изгородью облаком роятся крохотные мушки. Поливная установка разбрызгивает облачко мелких капель. Я останавливаю Боллу над роскошным меловым склоном, в тени крон деревьев. Через откинутую крышу в мою машину проникают запахи свежескошенной травы, приготовленного на гриле мяса и всякие прочие вечерние ароматы.
Я медленно поднимаюсь по узкой тропинке и открываю кованые ворота, которые давно не смазывали. Под ногами скрипит щебень. Иду по каменным ступенькам лестницы.
Звонок в дверях издает низкий солидный звук
данг-донг, словно это не дом, а средневековый собор. Я довольно долго стою перед дверью. Смотрю на часы. Скоро семь.
Ему нужно пройти через многие залы, чтобы открыть мне дверь.
На нем халат с монограммой на нагрудном кармане. Седые волосы гладко причесаны. В руке рюмка коньяка. Он ничего не говорит. Только с изумлением разглядывает меня.
Он уже знает. Это я вижу по его взгляду. Он знает о ларце. Обо всем, что произошло.
— Бьорн? — удивляется он, как будто только сейчас сообразил, кто я такой.
— Вот и я!
Неизвестно почему, но я чувствую себя то ли опоздавшим вестником, то ли дерзким слугой.
— Мне надо с тобой поговорить, — обращаюсь я к хозяину.
Он впускает меня. От него благоухает коньяком «Мартель». Он закрывает за мной дверь. И запирает ее.
Я до сих пор ни разу не встречал супругу директора нашего института Фрэнка
Виестада, зато часто общался с ней по телефону. Она всегда словно на грани истерики. Даже если она звонит, чтобы рассказать о самых незначительных вещах. А теперь она стоит в вестибюле на ковровой дорожке, вся в напряженном ожидании, руки сложены на груди. На двадцать пять лет моложе мужа и все еще красавица. Меня не перестает удивлять, почему талантливые и привлекательные студентки припадают к ногам седовласых педагогов. Хотя именно мне лучше бы помолчать на эту тему.
Как у нее проходит день в этом белом доме среди огромного сада? Наши взгляды на мгновение пересекаются. И за это время я успеваю проникнуть в ее мир скуки и отчаяния. Я ей вежливо улыбаюсь, пока Виестад проводит меня мимо. Она улыбается в ответ. Улыбка благожелательная, возможно, я пришелся ей по вкусу.
На стенах графические работы художника Эсполина Йонсона
[143] и бурные красочные акварели с неотчетливыми подписями. Мы проходим мимо маленькой комнаты, которую Виестад обычно называет библиотекой. Люстра слегка позвякивает.
Кабинет в доме в точности такой, каким я его представлял. Стол красного дерева. Коричневые картонные коробки и прозрачные пластиковые пакеты с экспонатами. Глобус. Книжные полки забиты до отказа. На том месте, где раньше, по-видимому, находилась черная стрекотуха под названием «Ремингтон», стоит шикарный компьютер Макинтош.
— Моя пещера, — говорит он смущенно.
Из окна можно любоваться яблоневым садом и соседом, который, послав к чертовой матери всех астматиков, а заодно и парниковый эффект, сжигает на костре траву и хворост.
Директор Виестад выдвигает старинное кресло с высокой спинкой и усаживает меня. Сам он садится за письменный стол.
— Вы знаете, почему я здесь? — начинаю я.
Сразу видно, что я угадал. Директор Виестад никогда не был хорошим артистом. Зато его считают толковым администратором, он пользуется большим авторитетом. Четкий, ответственный, преданный делу. Уважает студентов.
— Где вы спрятали ларец, Бьорн?
— Что вам известно о нем?
— Практически ничего.
Я испытующе смотрю на него.
— Правда. Ничего! — повторяет он.
— А тогда почему спрашиваете?
— Вы украли его из кабинета своего отца.
Он всегда называет профессора Арнтцена моим отцом. Хотя я уже много раз просил его не делать этого.
— Это еще не доказано.
Он вздыхает:
— Бьорн, тебе придется отдать его.
— Кроме того, он мне не отец.
В его глазах появляется усталость.
— Коньяку? — спрашивает он.
— Я за рулем.
Он приносит бутылку яблочного сока и стакан, наливает, протягивает мне и отходит к своему стулу. Потом откидывается назад и массирует глаза кончиками пальцев. Приподнимает рюмку коньяка. Мы приветствуем друг друга бокалами.
— Еще новичком в университете, — произносит директор, — я быстро усвоил, что с некоторыми вещами лучше всего не бороться. Например, с ветряными мельницами, сам знаешь. С академическими истинами. Научными догмами. Не надо понимать их. Не надо любить. Я просто увидел, что есть вещи, которые больше меня.
Я неуверенно смотрю на него, не понимая, куда он клонит.
— Вы ведь верите в Бога? — спрашивает он.
— Нет.
Мой ответ приводит его в замешательство.
— Это не важно. Вы, конечно, понимаете, что христианин верит в Бога, даже если не осознает, насколько Тот всемогущ.
Диалог приобрел направление, которое меня смущает.
— Вы имеете в виду, что вся эта история имеет какое-то отношение к мифу о Ларце Святых Тайн? Или к Евангелию Q?
Вопрос действует на него, как электронный импульс, направленный прямо в мозг. Он выпрямляется на стуле.
— Послушайте меня, это не такая простая история, как вы думаете. Вы когда-нибудь складывали пазл из пяти тысяч фрагментов? Где изображены лес, замок и синее небо? Ты складываешь три кусочка. Но остается еще четыре тысячи девятьсот девяносто семь, и общую картину можно получить, только собрав все вместе.
Я уставился на него. Мои сверкающие, как фотовспышка, глаза оказывают иногда гипнотическое воздействие. И люди говорят больше, чем собирались.
Он продолжает:
— Да, старый миф о Святом Ларце — часть целого. И октагон — тоже часть целого.
— Какого целого?
— Не знаю.
— Они ограбили мою квартиру. Этого вы тоже не знали?
— Нет. Этого не знал. Но ларец для них очень важен, поймите. Важнее, чем вам кажется.
— Хотелось бы знать почему.
— Этого я сказать не могу.
— Потому что не знаете? Или потому что не хотите?
— И то и другое, Бьорн. То малое, что мне известно, я поклялся никогда никому не рассказывать.
Мы знакомы достаточно хорошо. Клятвы он воспринимает всерьез.
Где-то по соседству перестает работать электрическая газонокосилка. Только теперь, когда шум прекратился, я обратил на него внимание. Тишина начинает заполнять комнату.
— Но я могу тебе сказать, — продолжает он, — что ты должен отдать ларец. Обязан! Мне. Отцу. Или профессору Ллилеворту. И тогда тебе ничего не будет. Никаких выговоров. Никаких замечаний. Обращений в полицию. Я обещаю.
— Обо мне уже заявлено в полицию.
— Уже?
— О да. Полиция была у меня дома, пыталась что-то разнюхать.
— Ларец очень ценный.
— Но я не бандит.
— Они тоже не бандиты.
— Они забрались ко мне в квартиру.
— А вы украли ларец. Один-один. Ничья.
— Почему вы выдали им разрешение на раскопки? — спрашиваю я.
— Строго говоря, разрешение выдавала Инспекция по охране памятников. К нам обращались только для консультации.
— Но все-таки — почему?
— Бьорн… — Он вздыхает. — Мы с вами говорим о СИС. О Майкле Мак-Маллине. О Грэме Ллилеворте. По-вашему, надо было отказать самым известным археологам мира?
— Вы хорошо знаете Ллилеворта?
— Уже несколько лет. — По голосу слышно, что он о чем-то умалчивает. — Похоже, вы проводите собственное расследование?
— Особенно напрягаться не приходится. Каждый по отдельности знает очень мало. Но если поговорить со многими, то, быть может, что-нибудь и прояснится.
Он смеется:
— Видимо, не случайно слова «расследование» и «исследование» значат почти одно и то же. С кем вы успели поговорить за это время?
— В частности, с Гретой.
— О, уж она-то знает, о чем говорит.
— То есть?
— Она вела активную жизнь в Оксфорде. Во многих смыслах. — И он покосился на меня. — Читала лекции, была научным консультантом, когда ваш отец, ваш настоящий отец, писал книгу вместе с Ллилевортом и Чарльзом де Виттом. — Он поежился. Взгляд прикован к мухе на потолке.
— Эта находка принадлежит Норвегии, — настаиваю я. — Что бы ни было в ларце, откуда бы он ни был доставлен, находка — норвежская. И она принадлежит Норвегии.
Виестад тяжело вздыхает:
— Бьорн, вы словно психованный маленький терьер, который вздумал тявкать на бульдозер.
Он улыбается:
— Праведный юношеский гнев! Но вы не видите всей картины.
— Я знаком, во всяком случае, с Законом о культурных ценностях! Он запрещает вывозить за рубеж археологические находки, обнаруженные на территории Норвегии.
— Можешь мне этого не рассказывать. Я участвовал в разработке закона перед обсуждением его в стортинге
[144] и назубок знаю каждый параграф.
— Ллилеворт покусился на то, что запрещается норвежскими законами.
— Все не так просто. Чистая случайность, что ларец нашли у нас.
— Что вы имеете в виду?
— Поверь мне. И отдай ларец своему отцу.
— Арнтцен — не мой отец!
— Тогда Ллилеворту.
— Профессор Ллилеворт — негодяй!
— А я? Кто я?
— Не знаю. Я не знаю, что думать теперь о людях. А кто вы?
— Я пешка. — Виестад стучит костяшками пальцев по столу. — Я только пешка. Все мы пешки. Ничтожные пешки.
— В чьей игре?
Он наливает себе коньяку. Только теперь, впервые за все время, что мы работаем вместе, я начинаю понимать, почему столь многие студентки от него без ума. У Виестада грустное лицо уставшего от жизни человека, но в минуты душевного подъема он все еще похож на американского киноактера из довоенных фильмов. Мощный подбородок. Широкие скулы. Брови взвились двумя бесцветными дугами на лбу. Темные глаза смотрят мне прямо в душу.
— Это не наша игра, — тихо произносит он.
Его внезапная доверительность смущает меня. Я делаю вид, что закашлялся.
— У меня вопрос, — говорю я.
Он молча смотрит на меня.
— Ну?
— Откуда профессор Ллилеворт узнал, где искать октагон?
— Обнаружил карту. Или какие-то новые сведения.
— Почему тогда он врал, что мы ищем круглый замок?
— А именно такой замок вы и искали. Заложенный около девятьсот семидесятого года.
— Но в действительности мы искали октагон?
— Да.
— И Ллилеворт догадывался, что там находится ларец?
— Видимо, так.
— А вам известно, что он из золота?
Судя по реакции, нет.
— Что вы слышали о Рене-ле-Шато? — спрашиваю я.
В ответ искреннее удивление:
— Не очень много. Французская деревушка в горах, где нашли что-то вроде старинных пергаментов. Пробудила псевдоисторический интерес.
— И вы ничего не знаете о сокровищах?
Его лицо становится все более и более растерянным.
— Сокровищах? Там, в Рене-ле-Шато? Или здесь, в монастыре Вэрне?
— Ллилеворт знает, что находится внутри ларца?
— Вы все спрашиваете и спрашиваете. Но вам надо понять, я только пешка. Я тот элемент головоломки, который находится в самом верху справа. Малюсенькая часть неба. — Он смеется и наклоняется над письменным столом. — Бьорн… — почти шепчет он.
И тут звонит телефон. Он берет трубку:
— Да?
Остаток разговора идет на английском языке. Нет, он не знает. Потом он несколько раз говорит «да», и по его взгляду я понимаю, что речь идет обо мне. Он кладет трубку. Я встаю.
— Уже уходите? — спрашивает он.
— Я понял, что к вам сейчас придут гости.
Он обходит стол и кладет руку мне на плечо:
— Послушайте меня. Отдайте ларец. Они не мерзавцы и не злодеи. Но у них есть свои основания. Поверьте мне. Действительно есть. Эта игра не для таких, как мы.
— Таких, как мы?
— Таких, как мы, Бьорн.
Он провожает меня до входной двери, продолжая держать руку на моем плече. Возможно, он сейчас размышляет, как не дать мне уйти. Но когда я освобождаюсь от его руки, он не пытается меня задержать. Он стоит в дверном проеме и смотрит мне в спину.
Из-за шторы в окне второго этажа — я уверен, что это спальня, — мне машет рукой его жена. Спускаясь по тропинке к своей Болле, я сочиняю историю о том, что своим жестом она приглашала меня к себе, а вовсе не прощалась. Я не всегда воспринимаю действительность адекватно.
6.
Белая палата размером четыре на три метра. Кровать. Стол. Шкаф. Окно. Дверь. Целых шесть месяцев в них заключался для меня весь мир.
Первое время в клинике я вообще не выходил из палаты. Я подолгу сидел на кровати или на полу и раскачивался из стороны в сторону, спрятав лицо в колени и сложив руки за головой. Я не осмеливался даже смотреть в глаза сестрам, которые приносили лекарства в прозрачных пластиковых коробочках. Если они гладили меня по голове, я съеживался, словно актиния.
Каждый день в один и тот же час меня отводили к доктору Вангу. Он восседал на стуле и изрекал умные вещи. Я на него никогда не смотрел. Прошло четыре недели, прежде чем я решился взглянуть ему в глаза. Он не отреагировал и продолжал говорить. Я только слушал.
Через пять недель я его прервал.
— Что со мной? — спросил я.
— Каждому надо заглянуть в свое детство, — ответил он.
Жутко оригинально.
— Личность человека формируется в детстве, — повторял он. — Именно тогда у тебя в мозгу зарождается эмоциональная жизнь.
— Я был счастливым ребенком, — отвечал я.
— Всегда?
Я рассказывал, что рос как избалованный принц, во дворце среди пурпура и шелка.
— И никогда ничего плохого не происходило? — допытывался доктор Ванг.
— Ничего, — врал я.
— Тебя били? С тобой плохо обращались? Были случаи сексуального насилия? Тебя запирали в темной комнате? Тебе говорили что-то скверное? Тебя мучили?
— Бу-бу-бу… — не унимался он.
Перед его кабинетом в коридоре на стене висели часы. Тираны времени. Часы всего мира в моем сознании превратились в одну тикающую цепь. Но эти часы были не такие, как все остальные. Они подчинялись сигналам, которые передавались по радио от центральных атомных часов Гамбурга. Я мог подолгу следить за плавным полетом секундной стрелки по циферблату.
В начале этого лета я еще раз навестил доктора Ванга. Мне захотелось с его помощью разобраться в кое-каких воспоминаниях, всплывавших у меня в голове под покровом ночи. В обстоятельствах смерти папы. В тех мелких странностях, которые я не мог понять, когда был ребенком. Каждый маленький эпизод был ниточкой в запутанном клубке. Доктор обрадовался, когда я наконец-то рассказал ему о случившемся в лето смерти отца. Что-то, видимо, отпустило меня.
Он заявил, что теперь понимает все гораздо лучше.
— Я рад за вас, — сказал я.
Именно доктор Ванг посоветовал мне записывать воспоминания.
— Так прошлое станет реальностью, — объяснил он. — Твои мысли прояснятся, как будто ты совершил путешествие во времени и пережил вновь все события своей жизни.
— Будет сделано, — сказал я. И стал записывать.
7.
Когда я был ребенком, меня дразнили «бледнолицым» и бросали в меня камни. Я бежал к маме и просил защиты.
Сейчас я оставляю Боллу у въезда на плитках кирпичного цвета. Яркий свет и звуки музыки из «Ромео и Джульетты» Прокофьева льются через открытое окно гостиной. Вижу, как из окна выглядывает мама. Фея, окруженная сияющим светом.
Было бы несправедливо утверждать, что мама старалась меня забыть или отвергнуть. Но вместо любви появилась рассудочная, холодная забота. Словно я дальний родственник, который приехал на каникулы в места, где провел детство.
Она стоит в дверях, когда я поднимаюсь на лестнице.
— Поздновато ты сегодня, — упрекает она. По голосу легко определить, что она весь день прикладывалась к бутылке и уже после прихода профессора пропустила пару стаканчиков.
— У меня были дела.
— Ты знаешь, что мы всегда едим ровно в половине восьмого!
— Мама, профессор Арнтцен когда-нибудь при тебе упоминал Евангелие Q?
—
Трюгве! — мягко поправляет она меня. Она все еще пытается как-то сблизить нас.
— Евангелие Q? — повторяю я.
— Прекрати! Какая еще корова?
[145] — хихикает она.
Мы входим в дом. Профессор кривит губы с видом мученика. Так он делает уже двадцать лет, старательно изображая нового папу, а также верного друга и преданного возлюбленного матери.
— Бьорн! — Он говорит холодно и неприветливо. И в то же время улыбается, чтобы доставить радость маме.
Я молчу.
— Где он? — повторяет он сквозь зубы.
— Мальчики, — громко восклицает мама, — вы проголодались?
Мы идем в комнату. Это настоящий оазис. Пышные ковры, мягкие диваны, обитые бархатом стены, серванты. Люстры весело позванивают под легкими порывами летнего ветерка. На полу, в самой середине, персидский ковер, по которому запрещено ходить. Двустворчатая дверь между гостиной и столовой широко распахнута. На обеденном столе горят стеариновые свечи в канделябрах, их мерцание отражается на фарфоровых тарелках ручной росписи. Из кухни раздается хруст — собака грызет кость. Из-за глухоты она с опозданием замечает посторонних. Слышно, как ее хвост ритмично постукивает о скамейку.
— Где Стеффен? — спрашиваю я.
— В кино, — отвечает мама. — С девушкой. Очаровательной девушкой. — Она фыркает. — Не спрашивай, кто она. Он девушек меняет раз в месяц. — Она произносит это кокетливо, с гордостью, словно подчеркивая, что я такой радости ей никогда не доставлял. Но зато у меня нет СПИДа и гнойных прыщей на лице.
Я не люблю своего брата. Стеффен для меня чужой человек. Он и его отец отняли у меня маму. И я остался один на крыльце в морозную ночь.
Мы с профессором садимся за стол. В этом доме у всех постоянные места. Мама и ее муж сидят друг против друга по краям стола, я — в середине между ними. Таков ритуал.
Когда мама открывает дверь на кухню и начинает стучать кастрюльками, оттуда появляется старый профессорский пес. Ему четырнадцать лет, имя Брейер. Или Бройер. Никогда не было желания уточнять. Клички у собак глупейшие. Пес смотрит на меня и машет хвостом. Потом движение хвоста останавливается. Пес со мной так и не подружился. Или ему на все наплевать. У нас довольно прохладные отношения. Он внезапно падает на пол посередине комнаты, как будто из его позвоночника выдернули стальной стержень. Изо рта текут слюни. Он смотрит на меня слезящимися глазами. Для меня по-прежнему остается загадкой, как можно любить собак.
— Ты должен вернуть ларец, — шепчет профессор. — Ты не понимаешь, во что ввязался.
— Я должен был наблюдать за сохранностью обнаруженных на раскопках артефактов.
— Вот именно!
— Профессор, — говорю я самым ледяным тоном, на какой только способен, — как раз это я и делаю.
Мама приносит бифштекс, потом бросается на кухню за соусом, а в заключение появляется горшочек с запеченными в сыре картофелинами и капустой брокколи.
— Я не виновата, если все остыло, — весело говорит она. И переводит взгляд с меня на профессора. — Что такое ты говорил про Трюгве и корову?
Профессор косится на меня с изумлением.
— Это недоразумение, — ухожу я от ответа.
Мама в прошлом году отпраздновала пятидесятилетие, но можно подумать, что она старше меня всего на несколько лет. Стеффену повезло, он унаследовал мамины черты лица.
Профессор режет бифштекс, мама наливает вина ему и себе, а мне легкого пива. Я беру капусту из горшочка. Мама никогда не интересовалась, почему я стал вегетарианцем. Но блюда из овощей она готовит изумительно.
Пес таращит на меня глаза. Мокрый длинный язык вываливается на ковер.
Профессор рассказывает старый анекдот и сам добросовестно смеется над ним. Не могу понять, почему мама решила отдать ему свою жизнь и свое тело. Мысли такого рода плохо сказываются на моих манерах.
— Ты была сегодня на могиле? — спрашиваю я маму. Она бросает быстрый взгляд на профессора. Но не находит у того ни малейшей поддержки. Профессор аккуратно разделяет картофелину на две части и отрезает кусочек мяса. Потом кладет в рот и то и другое и начинает жевать. У него есть удивительная способность делать вид, будто ничего особенного не произошло.
— А ты был? — спрашивает мама робко.
Отца хоронили в четверг. Через неделю после несчастного случая. Пол в церкви вокруг гроба был покрыт цветами. Я сидел в первом ряду. Между мамой и венками. Каждый раз, когда я смотрел на распятие на стене алтаря, я думал о том, как папа перед падением висел высоко на скале. У гроба было много венков с лентами и надписями. Белый гроб. С позолоченными ручками. Папа лежал со сложенными на груди руками. Глаза покойно закрыты в вечном сне. Тело закутано шелковой тканью. На самом деле он был искорежен до неузнаваемости: череп разбит, руки и ноги переломаны, — превратился в кровавое месиво.
— Вкусная капуста, — хвалю я.
О кладбище можно больше не говорить. Своим вопросом я даю понять им обоим, что свела их вместе бессмысленная смерть и что с мамой за столом должен сидеть совсем другой мужчина.
— Она прибрана? Могила? — спрашивает мама.
Я удивленно поднимаю на нее глаза. Вопрос выдает ее волнение. До сих пор она не возражала, когда я дерзил.
— Я посадил там лилии.
— Ты упрекаешь меня в том, что я там не бываю?
Профессор, покашливая, начинает перекладывать с места на место овощи в своей тарелке. Я очень умело изображаю непонимание:
— С чего это ты взяла, мама?
Мама ненавидит ходить на кладбище. Мне кажется, что она ни разу не побывала там после смерти отца.
— Прошло двадцать лет, Малыш Бьорн! Двадцать лет!
Ее глаза блестят от волнения. Она чувствует себя оскорбленной. Пальцы крепко сжимают нож и вилку.
— Двадцать лет! — повторяет она. И еще раз: — Двадцать лет, Малыш Бьорн!
Профессор поднимает бокал с красным вином и пьет.
— Это много, — соглашаюсь я.
— Двадцать лет, — твердит она снова и снова.
Мама любит разыгрывать оскорбленное достоинство, для нее это род искусства, в котором она постоянно совершенствуется.
Собака кашляет и отрыгивает, потом с явным удовольствием пожирает все, чем ее стошнило.
— Ты хотя бы иногда думаешь о нем? — спрашиваю я.
Это не вопрос, а злобное обвинение. Мы оба понимаем это.
Профессор откашливается:
— Соус хорош, дорогая! Воистину хорош!
Мать не слышит его. Глядит на меня.
— Да, — с трудом выговаривает она, — я думаю о нем.
Мама кладет на стол нож и вилку. Складывает салфетку.
— Конечно, я знаю, какой сегодня день, — произносит она униженно. В речи появился северонорвежский акцент. — Каждый год! Каждое лето! Не думай, что я забыла, какой сегодня день.
Встает и выходит из столовой.
Профессор растерян. Он не знает, идти за ней или наброситься на меня с упреками. Скорее всего, надо было сделать и то и другое. Но он остается на месте и продолжает жевать. Смотрит на пустой мамин стул. Потом на меня. Потом в свою тарелку. И при этом не перестает жевать.
— Ты должен вернуть его! — заявляет он.
Я поворачиваюсь к псу. Пристальный взгляд заставляет его поднять голову и навострить уши. Он начинает скулить. Из открытой пасти течет слюна, оставляющая омерзительное пятно на светлом ковре. Потом пес поднимается, с громким звуком портит воздух и уходит.
8.
Возле своей многоэтажки я сразу замечаю красный «рейнджровер». В нем никого нет.
Мои знакомые, видимо, решили, что я поглупел. Или ослеп.
Затем я вижу Рогерна. Он сидит, покуривая, на ящике с песком у входа в дом.
Свет из квартиры первого этажа падает на него сбоку и оставляет на лице тени. Если бы я не знал Рогерна, то вряд ли обратил бы на него внимание. В любом спальном районе можно встретить подобных ему мужчин, слоняющихся по улицам и мучающихся от безделья. Длинные волосы и мятая футболка с надписью «Metallica»
[146] делают его похожим на шпану, словно он только и ждет, как бы выхватить сумку из рук какой-нибудь немощной старушки или начать приставать к твоей тринадцатилетней дочери. Но поскольку обычно Рогерн не болтается у дома по вечерам, а рядом стоит припаркованный пустой «рейнджровер», я начинаю волноваться. Увидев меня, он спрыгивает с ящика.
— У тебя гости? — спрашивает он и открывает дверь подъезда.
Я смотрю на него вопросительно. Он нажимает на кнопку лифта:
— В твоей хате люди. Ждут тебя.
Мы выходим на девятом этаже, и Рогерн отпирает дверь своей квартиры. Я звоню по телефону домой. Автоответчик отключен. Кто-то снимает трубку и молчит.
— Бьорн? — спрашиваю я.
— Да? — отвечает чей-то голос.
Я кладу трубку.
Рогерн сидит на диване и вертит в руках сигарету:
— Они пришли несколько часов назад.
Я плюхаюсь на стул:
— Спасибо, что подождал меня.
Желтыми кончиками пальцев он все крутит и крутит свою сигаретку. Облизывает языком бумагу и закуривает.
— Не знаю, что делать, — признаюсь я.
— А если звякнуть в полицию? — предлагает Рогерн и хохочет.
Мы смотрим в окно и ждем, когда полицейский автомобиль свернет с кольцевой дороги и подъедет к нашему дому.
Рогерн остается в своей квартире. А я встречаю полицейских на площадке десятого этажа. Это молодые, серьезные мужчины, осознающие свою власть. Из Суннмёре. Я протягиваю им ключ и остаюсь на площадке. Абсолютно ясно, что дежурная служба не связала этот вызов с расследованием, которое ведется по моему делу. Видимо, это произойдет позже, когда утром кто-нибудь из Уголовной полиции начнет листать ночную сводку. Через несколько минут выходят
гости. Трое. Накачанный парень со злобным взглядом. Это мой дружок Кинг-Конг.
Второй — изысканный джентльмен в роскошном костюме и с маникюром.
Третий — профессор Грэм Ллилеворт.
Все трое, увидев меня, застывают на месте.
— Они сидели у вас в комнате. Вы их знаете? — Тон полицейского выдает его удивление. Можно, подумать, он готов обвинить меня в том, что эти люди проникли в мой дом.
Я долго рассматриваю каждого из них, потом качаю головой.
— Англичане, — сообщает полицейский. И ждет от меня объяснений, но я молчу.
Глаза профессора Ллилеворта сузились.
— Тебе это даром не пройдет! — цедит он сквозь зубы.
Полицейские подталкивают их к лифту. Весьма настойчиво. Хотя троица идет, не оказывая сопротивления.
Дверь лифта захлопывается.
9.
Насекомое, попавшее в ловушку, притворяется мертвым. Иногда у меня возникает похожее желание.
Ужас и неудачи парализуют. В трудную минуту я теряю голову. Не воспринимаю происходящее вокруг. Притворяюсь мертвым, как насекомое, на короткое время. А потом пристраиваюсь в тени какой-нибудь соломинки, собираю все свои силы и мужество.
Я так долго и так пристально смотрю на Рогерна, что он смущается.
— Можно, я у тебя переночую? — спрашиваю я. Мужество и безрассудная храбрость покинули меня.
Гости вернутся. Потеряют терпение и захотят отомстить.
— Конечно.
— Я уезжаю за границу. Завтра утром.
Рогерн не из тех, кто пристает с расспросами.
Мы спускаемся в его квартиру. Он спрашивает, не устал ли я. Нет, не устал. Я бодр как никогда. Он ставит компакт-диск «Metallica». Приносит из холодильника несколько бутылок пива и зажигает свечу, от которой идет запах парафина. Мы сидим, пьем пиво, слушаем музыку и ждем рассвета.
III
ЛЮБОВНИК
1.
Я из тех мужчин, которых женщины выбирают скорее инстинктивно, чем осознанно. Во мне они видят блудного сына.
Как-то раз, когда мне исполнился двадцать один год, мама попросила меня приехать к ней в воскресенье для серьезного разговора. В огромном доме никого, кроме нас. Профессора и моего сводного брата отправили погулять. Мама испекла печенье и приготовила чай. С кухни доносились ароматы бифштекса и квашеной капусты. И чего-то запеченного в сыре для меня. Мама усадила меня на диван и села на стул прямо напротив. Сжала руки коленками и посмотрела на меня. По покрасневшим глазам я понял, что она все утро плакала. В этот момент она была невероятно красива. Я ожидал рассказа о том, что врачи обнаружили у нее раковую опухоль. И жить ей осталось не больше полугода.
Но мама спросила, не гомосексуалист ли я.
По-видимому, она долго думала об этом. Мама вообще не понимала, как живется альбиносам. Мне кажется, она так и не обнаружила, какие недостатки имеет альбинос с красными глазами по сравнению с голубоглазыми парнями, у которых смугловатая кожа и волосы цвета спелой ржи.
Помню улыбку облегчения, появившуюся на лице мамы, когда я заверил ее, что меня всегда тянуло к девушкам. При этом я умолчал о том, что девушек ко мне влекло гораздо меньше.
Я часто размышляю, кто из нас двоих, я или мама, виноват в том, что между нами выросла стена отчуждения и непонимания. После смерти отца мне стало казаться, что она не хочет больше со мной общаться. Я почувствовал, что я — ее вечная боль, путы на ногах, и послушно смирился с ролью изгоя, несчастного горемыки, старающегося не мешать людям, для которых он всегда лицо нежеланное. Может быть, кто-то скажет, что я несправедлив к ней. Разве я когда-нибудь, ну хотя бы один раз, представил себя на ее месте? Разве я когда-нибудь подумал, что жизнь обошлась с ней жестоко, раз ей пришлось прибегнуть к помощи алкоголя и притворства? Разве легко быть женой человека, который стремится взять от жизни все, что можно?
В Лондоне я остановился в гостинице в районе Бейсуотер. Если бы из окна не было видно Гайд-парка, можно было бы подумать, что гостиница расположена на Людвигштрассе в Мюнхене или на бульваре Сансет в Лос-Анджелесе. Я сочувствую классическим музыкантам и звездам рока, которые после четырехмесячного турне перестают понимать, в какой стране они в данный момент находятся.
Комнатка узкая, стены кремовые, на них невыразительные репродукции. Кровать, стол, телефон, толстая папка с рекламными проспектами и глянцевой бумагой для писем. Встроенный мини-бар. Телевизор. Пустой шкаф. Ванная, облицованная белой плиткой. От маленьких кусочков мыла в пластиковых пакетиках исходит дурманящий аромат чистоты. Я впервые в этой гостинице, но обстановка мне знакома. За свою жизнь я перебывал во многих гостиницах. Через какое-то время они начинают казаться абсолютно одинаковыми. У некоторых мужчин точно так же обстоит дело с женщинами.
На меня польстились не очень многие — из любопытства, преданности и сострадания. Всем им не выпало в жизни ничего лучшего. Ни с кем у меня не сложилось длительных отношений. Я легко могу понравиться. Но меня трудно полюбить.
Я привлекаю женщин особого типа. Они старше меня. Их зовут Марианна, Нина, Карина, Вибеке и Шарлотта. Образованные и умные. Немного невротичные. Преподаватели университета. Референты по культуре. Библиотекари. Социологи. Старшие медсестры больниц. Сами знаете таких. Сумка на плече, косыночка, очки. Они источают доброту и заботу обо всех отверженных. Зачарованно гладят пальчиками мою белоснежную кожу и объясняют, как доставить удовольствие женщине. Задыхаясь от волнения, они показывают, как приступить к делу. Как будто со мной это происходит впервые. И я не пытаюсь их переубедить.
Около часа я провожу в постели, отдыхая после дороги. Уже принял душ. Сложив руки на животе, обнаженный, лежу на гладкой прохладной простыне. Шум с улицы Бейсуотер-роуд, звуки духового оркестра из Гайд-парка сливаются в чужеземную какофонию, которая уводит меня в мир снов. Но сплю я только несколько минут.
2.
— Чарльз… как?
— Чарльз де Витт!
Очки в виде полумесяца съехали на кончик носа женщины в приемной. Взглядом, извлеченным из самых дальних глубин морозильника, она смотрит на меня поверх оправы. В шестой раз названное имя совершает путешествие от меня к ней и обратно. Мы оба начинаем терять терпение. Ей столько же лет, сколько мне, но выглядит она на десять, да нет, на двадцать лет старше. Волосы, собранные в тугой конский хвост, натягивают кожу, и от этого ее лицо приобрело такой вид, словно хирург-алкоголик из Челси сделал ей несколько неудачных косметических операций. На ней красное облегающее платье. Она явно из тех женщин, которые под покровом ночи предаются садомазохистским играм.
— Мистер де Витт у себя? — спрашиваю я вежливо. Справиться с такой бабой можно только преувеличенной вежливостью и сарказмом.
— Я буду говорить отчетливо, чтобы вы поняли. — Она шевелит губами, как перед глухим. — Здесь-нет-никого-по-имени-Чарльз-де-Витт.
Из кармана достаю визитную карточку, которую нашел у Греты. Картон пожелтел, буквы расплылись. Но прочитать текст можно. На ней написано: «Чарльз де Витт, Лондонское географическое общество».
Я протягиваю визитную карточку. Она ее не берет, смотрит безо всякого интереса на мою руку.
— Может быть, он перестал работать здесь? — спрашиваю я. — До того, как вы пришли сюда?
По выражению лица я догадываюсь, что мой вопрос был тактической катастрофой. Передо мной за отполированной перегородкой в обшитой панелями приемной сидит Неоспоримая Владычица Вселенной. Здесь ее империя. Отсюда, из комнаты с ковром, по которому давно пора проехаться газонокосилкой, с секретарским телефоном справа и старинной электрической пишущей машинкой марки IBM слева, с фотографией мужа, очаровательных детишек и карликового шнауцера на столе, она управляет всем миром — от последнего мальчика на побегушках до генерального директора. Назвать ее секретаршей или телефонисткой было бы неслыханным оскорблением. Намек на то, что она чего-то не знает о Лондонском географическом обществе, — кощунство.
— Не думаю, — отвечает она, — что это так!
Я пытаюсь представить себе, как звучит ее голос, когда вечером она, нежная и шаловливая, подлизывается к мужу.
— Я приехал из Норвегии, чтобы встретиться с ним!
Можно подумать, что она смотрит на меня сквозь глыбу льда. То же, по-видимому, чувствовали бедняги, которых приносили в жертву, когда верховная жрица бросала на них последний взгляд, перед тем как вонзить нож прямо в сердце. Я осознаю: битва проиграна. Беру ручку со стола. Женщина ерзает на стуле. Видимо, прикидывает, много ли чернил я потрачу.
— Прекрасно, мадам, если вы все-таки вспомните что-нибудь, не будете ли вы так любезны сообщить мне, — я протягиваю свою визитную карточку, где приписано название гостиницы, — вот сюда?
Она улыбается. Я не верю своим глазам. Она сладострастно улыбается. Очевидно, она поверила, что я ухожу.
— Разумеется, — мурлычет она и кладет визитную карточку на самый краешек письменного стола.
Прямо над мусорной корзиной.
3.
Вокруг такой, казалось бы, простой архитектурной детали, как колонна, возникла целая архитектурная наука с типологиями и таинственной лексикой.
Две мраморные колонны, вызвавшие мое восхищение, имеют ионический ордер, которому две тысячи пятьсот лет. Об ионических колоннах искусствовед скажет, например, так: «Закругленные окончания волют
[147] частично прикрывают эхин»
[148] или «Основа колонны образована дугообразными утолщениями и углублениями». Вуаля! Каждая наука прячется внутри своей терминологии, в словах, пугающих несведущих людей. Все мы, непосвященные, стоим снаружи, широко открыв глаза.
Над колонной — фронтон, а в тимпане, треугольном углублении, резвятся вокруг даты «1900» херувимы и серафимы.
К кирпичной стене по обе стороны от входа прикручены латунные таблички, начищенные до такого блеска, что в них, как в зеркале, отражаются машины и двухэтажные красные автобусы, проезжающие у меня за спиной. Углубления букв залиты серебром. Никто не может обвинить Общество международных наук в чрезмерной бережливости.
Двустворчатая дверь — из красного бука. Дверной молоток напоминает посетителям, что по пустякам сюда не заходят. Справа от меня — двумя метрами ниже камеры слежения — в стену вмонтировано переговорное устройство из черного пластика. Чтобы компенсировать это ужасное нарушение единства стиля, звонок сделан в виде цветка (а может быть, солнца?) из чистого золота.
Я звоню. Гудит зуммер. Меня впускают, не задав ни единого вопроса.
Огромная приемная напоминает банк такого ранга, где нужно заранее договариваться о времени визита, если хочешь сделать вклад. Раздаются негромкие голоса, быстрые шаги. Нижние части стен закрыты темно-коричневыми панелями, над ними живописные полотна, вполне достойные Национальной галереи. На мозаичных керамических плитках пола блестит лак. Сквозь скошенную стеклянную крышу видны бегущие облака. В центре зала поднимается из квадратного отверстия в полу и тянется к небу высокая пальма. Похоже, она соскучилась по Сахаре.
Единственное, что нарушает целостность картины, — это бабушка.
За письменным столом, таким огромным, что на нем вполне можно играть в настольный теннис, сидит пожилая седая женщина. Она вяжет и смотрит на меня. Прелестная, как жаворонок. Вяжет и вяжет. Видимо, из-за того, что обстановка помещения плохо сочетается с обликом бабушки, я теряюсь.
— Чем могу вам помочь? — добродушно спрашивает она. Спицы позвякивают друг о дружку.
— Что вы вяжете? — вдруг вырывается у меня.
— Носки! Внуку. Он милашка! Чем еще вам помочь?
Вопрос с юмором. Я тут же влюбляюсь в нее. В руки человека с хорошим чувством юмора я безо всяких колебаний готов положить свое трепещущее сердце.
Я называю себя и говорю, что приехал из Норвегии.
— Страна полуночного солнца, — кивает она с улыбкой. — В таком случае вы знакомы с Туром Хейердалом?
[149] — Она смеется, раскатисто и звонко. — Какой обаятельный мужчина! Он частенько заезжает сюда. Так в чем же состоит ваше дело?
— Я надеюсь встретиться с Майклом Мак-Маллином.
Ее глаза увеличиваются. Она откладывает вязание.
Я чувствую себя человеком, которому отказывают в политическом убежище, а он все повторяет, что прибыл
с планеты Юпитер, и просит разменять деньги, чтобы заплатить за парковку летающей тарелки.
— Боже милосердный…
— Что-нибудь не так?
— Но он… Боюсь, что мистер Мак-Маллин находится в зарубежной командировке. Мне очень жаль. У вас была договоренность о встрече?
— Строго говоря, нет. Когда ожидается его возвращение?
— Не знаю. Мак-Маллин — не какой-нибудь там… Но возможно, я смогу вам помочь чем-нибудь еще?
— Я археолог, — говорю я. Язык меня не слушается. По-английски в слове «археолог» слишком много согласных подряд. Rrr…chae…olo…gist. — Мак-Маллин принимает участие в одном проекте, связанном с раскопками в Норвегии.
— Неужели?
— Мне обязательно надо с ним поговорить. Можно его найти? По мобильному телефону?
Отчаявшись отделаться от меня, она тихо смеется:
— Сожалею. Это абсолютно невозможно. Вы думаете, что у Мак-Маллина здесь кабинет. Но ведь он уезжает и приезжает, ничего не сообщая об этом нам… — Она наклоняется ко мне и шепчет: — Нам, кто следит за всеми этими растяпами. Но быть может, вам будет полезен исполнительный директор?
— Разумеется.
— Мистер Уинтроп! Минуточку! — Она набирает на телефоне внутренний номер и объясняет, что мистер Болтоу из Норвегии приехал по делу к мистеру Мак-Маллину. — Да, конечно! Нет, без договоренности! Да, неужели нет? Можно ли ему встретиться с мистером Уинтропом?
Она несколько раз говорит «Да-да», благодарит и кладет трубку.
— К сожалению, мистер Уинтроп сегодня занят. Но в его приемной говорят, что он смог бы вас принять завтра. В девять часов утра. Подходит?
— Конечно.
— Проделать такой длинный путь из Норвегии — вот это да!
Хотя библиотека сегодня уже закрылась, бабушка дает мне разрешение заглянуть туда.
Библиотеки я люблю с детства. Местный филиал Публичной библиотеки Дейхмана был моим прибежищем после уроков, когда мама выгоняла меня на улицу к загорелым парням с хорошим зрением играть в футбол или бегать. Перед метрами библиотечных полок с корешками книг я преклоняюсь. Тишина. Алфавитные и тематические каталоги. Запах бумаги. Сказки, драматические произведения, приключения. Я часами мог бродить по библиотеке Дейхмана, вынимать книги, перелистывать их, присаживаться с заинтересовавшей меня книгой, перебирать карточки в длинных узких ящиках, вести поиск в компьютере.
В библиотеке СИС царит тот же необъяснимый покой. Как в церкви. Я стою в центре зала, скрестив руки на груди, и смотрю, впитываю впечатления.
— К сожалению, библиотека уже закрыта.
Голос — звонкий, немного язвительный. Я оборачиваюсь.
Видимо, она сидела тихо как мышь и наблюдала за мной. Очевидно, надеялась, что я сейчас же уйду. Лишь бы не подняла шум. Она устроилась недалеко от архивных шкафов. На коленях коробка с карточками.
— Женщина в приемной разрешила мне заглянуть сюда, — объясняю я.
— Тогда все в порядке!
От улыбки ее лицо сразу взрослеет. Наверное, ей около двадцати пяти. Волосы недлинные, рыжеватые. Проглядывают веснушки. Она очень мила. У нее необычные глаза. Как в калейдоскопе, мелькает ирис разных оттенков. Меня поражает, что есть цвета, которые известны только мне одному. Описать цвет невозможно. Ученый может сказать что-то о спектральном составе цвета, например, что красный имеет длину волны 723–647 нанометров. Но в конечном счете каждый цвет — это что-то субъективное. Поэтому вполне возможно, что все мы живем в мире своих собственных цветов. Привлекательная мысль.
Вот такие у нее глаза.
Девушка ставит коробку с карточками на передвижной стол. Она изящная, не особенно высокая. Ногти — очень длинные, заостренные. Маникюр темно-красного цвета, я раньше не мог себе представить ногти настолько чувственными. Смотрю на эти ногти и невольно представляю себе, как они гладят мою спину.
— Вам чем-нибудь помочь? — спрашивает она.
Интонация, взгляд, стройная фигурка — все это возбуждает меня, как будто внутри меня появилась заведенная тугая пружина, вроде той, которая заставляет тикать часы.
— Я не совсем понимаю, что мне нужно, — начинаю я.
— Да. Тогда искать будет трудно.
— Я хочу найти очень многое. Может быть, у вас уже есть наготове хороший ответ?
— А в чем дело?
— Не знаю. Но если вы найдете ответ, то я сумею точно сформулировать свой вопрос.
Она наклоняет голову и смеется. Я полностью очарован. Как мало для этого надо.
— Откуда вы взялись?
— Из Норвегии.
Ее брови взлетают вверх.
— Что-что? Ниоткуда?
[150]
Я произношу раскатистое «р»:
—
Nor-way! I'm an… — Я делаю разбег, чтобы выговорить все правильно: —
Archae-olo-gist.[151]
— На службе у СИС?
— Как раз нет. Наоборот, можно сказать. — Я делано смеюсь.
— Вы занимаетесь здесь исследованиями?
— Я приехал поговорить с Майклом Мак-Маллином.
Она с изумлением смотрит на меня. Хочет что-то сказать, но раздумывает.
— О! — произносит она наконец. От этого звука ее маленькие губки становятся еще более очаровательными.
— У меня к нему несколько вопросов.
— У нас у всех тоже.
Я улыбаюсь. Она улыбается. Я краснею.
— А что есть в вашей библиотеке? — спрашиваю я.
— В основном научная литература. История. Теология. Философия. Археология. История культуры. Математика. Физика. Химия. Астрономия. Социология. География. Антропология. Архитектура. Биографии. И так далее…
— А, — вздыхаю я. — Тривиальности жизни.
Она снова смеется и с любопытством разглядывает меня, видимо, хочет понять, что я собой представляю, кто меня вскормил и отправил в полет.
— А вы библиотекарь? — спрашиваю я.
— Одна из них. Диана!
Она протягивает руку с красными ногтями. Я пожимаю ее:
— Я — Бьорн.
— Как теннисист? Борг?
— По-вашему, похож?
Она измеряет меня взглядом, берет в рот карандаш.
— Ну хорошо, — она решает подразнить меня, — в нем, пожалуй, чуть-чуть больше цвета, чем в вас.
4.
Я обедаю в излюбленном месте лондонских вегетарианцев. Распалившись, я выбираю одно из
самых дорогих блюд — из красной капусты, шампиньонов и спаржи с соусом из сливок и чеснока.
Мне надо думать о ларце. О наглых махинациях Ллилеворта. Размышлять о загадочном Чарльзе де Витте. Надо позвонить Грете. Она, конечно, все сумела бы объяснить. Возможно, де Витт здесь больше не работает. Визитная карточка выглядит далеко не новой.
Вместо этого я думаю о Диане.
Я представляю своей возлюбленной и будущей женой каждую женщину, поэтому я так легко влюбляюсь. Улыбка, голос, прикосновение… Меня нельзя назвать отталкивающим. Я бледный, но не отвратительный. Говорят, у меня добрые глаза. Добрые красные глаза.
Размышляя о загадках своей натуры, я съедаю капусту, шампиньоны, спаржу и выпиваю графин вина. Рыгнув напоследок, ухожу.
5.
Учительница норвежского языка однажды задала мне вопрос.
— Если бы ты был не человеком, а цветком, Бьорн, каким цветком ты хотел бы быть?
Она любила задавать странные вопросы. Мне кажется, ей доставляло удовольствие играть со мной. Я был благодарной жертвой. Мне было семнадцать лет. Ей вдвое больше.
— Цветок, Бьорн? — повторила она. Голос нежный, веселый. Она наклонилась над моей партой. Я долго помнил ее аромат — теплый, пряный, полный чарующих тайн.
В классе тишина. Все ждали, какой цветок выберет Бьорн. Или же надеялись, что я запнусь и покраснею, как это часто бывало, когда она наклонялась надо мной со всеми своими ароматами и колышущимися прелестями.
Но в виде исключения у меня был готов ответ на этот вопрос.
Я рассказал ей о цветке «серебряный меч».
Он растет на Гавайях в кратере вулкана. В течение двадцати лет он представляет собой невзрачный шарик, покрытый серебристыми ворсинками. Он набирается сил. Но однажды летом происходит взрыв, пышное цветение, поток золота и пурпура вырывается на свободу. После этого он погибает.
Мой ответ изумил ее. Она долго стояла около моей парты и смотрела на меня.
Интересно, какого ответа она ожидала от меня. Что я — кактус?
6.
Сообщение написано школьным почерком со множеством завитушек и финтифлюшек на гостиничном листке под готическими буквами «Сообщения для наших гостей»:
То Mr. Bulto, room 432
Pleese call Ms Grett Lindwoyen imidiatly!
Linda/Reception/Thursday 14:12 PM[152]
— Это вы Линда? — спрашиваю я девушку-портье.
— К сожалению, нет! Линда сменилась в три часа.
Значит, Линда — это длинноногая из семейства кошачьих, которая принимала постояльцев, когда я въезжал. Линда, хорек для охоты на лис. Вполне возможно, что в ней много хорошего. Наверняка она добрая и ласковая. Симпатичная. В руках опытного палача мне бы пришлось сознаться, что ее попка привлекла мое внимание. Но правила орфографии — не самая сильная ее сторона.
Держа в руке сообщение и карту-ключ, я поднимаюсь по лестнице и отпираю свою дверь.
Набираю номер, в трубке долго звучат длинные гудки.
Звуки за окном изменились. От проходящего автобуса, а может быть, грузовика оконные стекла вибрируют. Я сижу на кровати. Солнечные лучи косо падают на обои. Я сбрасываю ботинки, снимаю носки и начинаю массировать ноги. Между пальцами скопилась грязь.
Трубку снимают. Длительное время тишина.
— Грета? — спрашиваю я.
— Алло? — раздается голос Греты. Далекий, неприветливый.
— Это Бьорн.
— Да.
— Я только что получил твое сообщение.
— Да. — Она вздыхает. — Надеюсь, что я не… — Она опять вздыхает.
— Грета? Что случилось?
— А? Нет, ничего.
— Ты словно не в себе.
— Это из-за таблеток. Ты можешь перезвонить позже?
— Здесь написано, что дело срочное.
— Да. Но я… Сейчас неудачный момент.
— Грета? Кто такой Чарльз де Витт?
Она начинает кашлять. Кашель с хрипом. Она бросает трубку на стол. Я представляю себе, как кто-то стучит ей по спине. Через какое-то время она поднимает трубку и шепчет:
— Перезвони позже.
— Грета, тебе плохо?
— Ни-че-го, пройдет.
— У тебя кто-то есть?
Она не отвечает.
— Позвони врачу! — настаиваю я.
— Все — прой-дет.
— Кто у тебя?
— Малыш — Бьорн, — я — не — могу — сейчас — говорить.
Она кладет трубку.
Жизнь научила меня всегда быть настороже. Погруженный в себя альбинос умеет воспринимать тончайшие оттенки интонации. Даже сквозь потрескивание телефонной линии, которая проходит от Бейсуотера в Лондоне до улицы Томаса Хефтю в Осло по подземным кабелям и через телекоммуникационный спутник на стационарной орбите, я ощущаю страх Греты. Она мне лгала.
Я ложусь на кровать и включаю телевизор. С помощью пульта переключаю каналы.
Час спустя я звоню Грете еще раз. Она не отвечает. Я принимаю душ, смотрю по телевизору конец старинного сериала «Старски и Хатч»,
[153] потом еще раз набираю номер. Насчитываю двадцать гудков.
Целый час читаю книгу, которую написал папа вместе с Ллилевортом и де Виттом. Это плохое снотворное. Их выводы настолько ошеломляют, что я начинаю сомневаться, всерьез ли это. В конечном счете, утверждают они, если будет обнаружен Ларец Святых Тайн, общественный порядок на земле переменится. Но, соблюдая обычную осторожность ученых, они добавляют столько оговорок, что их рассуждения теряют всякий смысл.
Когда я дохожу до страницы 232, из книги выпадает письмо. Написано от руки. Дата — 15 августа 1974 года. Подпись отсутствует. И нет указаний, кому оно адресовано. Сначала мне кажется, что письмо от отца. Почерк такой же, как у него. Но неужели это возможно? Впрочем, я узнаю его обычные закругления под буквами
g и
j и характерную черточку над
u. В своем письме он сообщает о планах экспедиции в Судан. И все же я чего-то не понимаю. Почему папино письмо попало в книгу, которая двадцать пять лет простояла на полке у Греты?
В ночи что-то есть.
Я всегда стараюсь быстро заснуть, чтобы скорее наступило утро. В темноте все пропорции искажаются. Я чувствую себя больным. Дневные заботы предстают в виде неразрешимых проблем.
Я должен чувствовать усталость. Истощение сил. А я лежу, широко раскрыв глаза, и вглядываюсь в темноту гостиничного номера. За окном тянется непрерывный поток машин. Громко кричат гуляющие туристы. Я думаю о Грете. Я думаю о ларце, который спрятал у Рогерна. Я думаю о профессоре Ллилеворте, профессоре Арнтцене и Майкле Мак-Маллине. Я думаю о папе и маме.
Но больше всего я думаю о Диане.
В половине третьего ночи я внезапно вскакиваю и зажигаю настольную лампу. Еще не проснувшись совсем, я набираю номер Греты.
В маленькой стране, в маленьком городе, в квартире района Фрогнер без конца звонит и звонит телефон.
7.
Есть приятные пробуждения. От поцелуя в щеку. От пения птиц. От звуков скрипичного квинтета Шуберта до мажор. От пыхтения лодочного двигателя.
Но в большинстве случаев причины пробуждений неприятные. Вроде звонящего телефона.
Хватаю телефонную трубку.
— Грета? — бормочу я.
На часах четверть девятого. Я проспал.
—
Мистер Белто? — спрашивает женщина.
Ее голос мне смутно знаком, но я не успеваю сообразить, чей он.
— Да?
Она выжидает.
— Я из Лондонского географического общества.
Голос напряженный, холодный, недружелюбный. И в ту же секунду в голове возникает образ злой фурии за письменным столом. Любительница садомазохистских развлечений оставила кожаную юбку и хлыст дома, облачилась в шикарный секретарский костюм и снова обрела командирские ноты в голосе.
— Да?
Она опять выжидает. Этот разговор ей неприятен.
— Похоже, возникло недоразумение.
— Неужели?
— Это вы спрашивали о… Чарльзе де Витте?
Злобная ухмылка появилась на моих губах.
— Я ужасно сожалею… — Она произносит это так сухо, что слова ее можно резать на части, а буквы превращать в порошок. — Похоже, что у нас в действительности работает один Чарльз де Витт.
— Да что вы говорите? — Я наслаждаюсь ее унижением, разыгрывая изумление.
Она стиснула зубы и шумно втягивает воздух. Я в восторге.
— Вероятно, вы забыли о нем? — спрашиваю я.
Она слегка покашливает. Я прихожу к выводу, что рядом кто-то стоит и слушает.
— Мистер де Витт хотел бы с вами встретиться. К сожалению, его нет в Лондоне в настоящий момент, но мы ожидаем его возвращения утренним самолетом. Он попросил меня договориться с вами о встрече.
— Как приятно. А может быть, и вам принять участие во встрече? Заодно и вы бы с ним познакомились? — Это моя беда. Иногда я становлюсь слишком саркастичным.
Она пропускает последнюю реплику мимо ушей.
— Не могли бы вы прийти в…
— Секундочку! — перебиваю я. Хочу, чтобы мою скромную персону оценили. Иногда в меня словно бес вселяется. — Мистер де Витт может связаться со мной, когда приедет. Я очень занят.
— Мистер Белто! Он настаивал, чтобы я с вами до…
— Вы ведь будете так любезны, что дадите ему номер гостиничного телефона. Я буду дома во второй половине дня или вечером.
— Мистер Белто!
— Портье примет сообщение.
— Но…
— И пожалуйста, передайте от меня привет! Я с нетерпением жду от него весточки.
— Мистер Белто!
С громким смехом я спускаю ноги на пол. В чемодане нахожу трусы, носки и рубашку. Одеваюсь, потом звоню Грете. Меня больше не удивляет, что она не отвечает.
Иду в туалет. В моче чувствуется запах спаржи из вчерашнего ужина. Я очень удивился, когда узнал, что очень немногие могут заметить запах спаржи в моче. Я с удовольствием отмечаю все черты, которые делают меня уникальным.
8.
— А! Загадочный мистер Болто!
Энтони Лукас Уинтроп-младший — невысокий толстяк с круглой, как шар, лысой головой. Булькающий смех делает его похожим на клоуна, которого наняли развлекать избалованных детишек на дне рождения в высшем свете. Он протягивает мне руку. Коротенькие пальчики напоминают мохнатые сардельки с золотыми кольцами. Глазки весело подмигивают мне, лицо источает сердечность и отеческую заботу.
Я ему не верю. Из-за голоса.
Бабушка с вязанием проводила меня по широким мраморным лестницам на третий этаж и привела в длинный коридор с колоннами, где гулко раздавались шаги и негромкие голоса. За углом приемная Уинтропа.
Он встречает меня и проводит в свой кабинет.
Это не кабинет. Это вселенная.
Вдали, у арочных окон, я различаю контуры письменного стола. В другом конце, у двери, стоит гарнитур мягкой мебели. А между ними плавают туманности, кометы и всякие черные дыры.
— Неужели вы вообразили себя Господом Богом? — спрашиваю я с язвительной усмешкой.
Он неуверенно смеется:
— Я астроном. По профессии.
Он взмахивает руками со смущенным выражением лица, пытаясь объяснить, почему его кабинет превратился в модель космоса.
Не так давно я прочитал в одной газете заметку об интернациональной группе астрономов. Они открыли при помощи радиотелескопа странное небесное тело на расстоянии тридцати тысяч световых лет от Земли. Довольно далеко, одним словом. Это тело, по-видимому, испускает материю, передвигающуюся со скоростью, которая выше скорости света. Если их наблюдения соответствуют истине, то это разрушает наиболее абстрактный принцип современной науки — превышение скорости света невозможно. Эта новость стала сенсацией на конгрессе в Гамбурге. Но так как для газет такая абстрактная вещь, как скорость света, не очень интересна, об этом больше не писали.
Мы бредем по Солнечной системе и углубляемся в дальний космос, минуем созвездие Кентавра и туманность Андромеды и подходим к его письменному столу. От моих шагов галактики начинают дрожать и позванивать на нейлоновых нитях.
— Я слышал, что вы сегодня встречаетесь с Чарльзом де Виттом?! — спрашивает он.
— О, разве в этом мире еще остались тайны?!
Нервно посмеиваясь, Уинтроп усаживается на неожиданно высокий конторский стул. Я опускаюсь на стул, столь же неожиданно низкий. С таким же успехом я мог бы сесть на пол. В припадке злости размышляю о том, что за блестящим письменным столом даже клоун может возвыситься до Бога.
— Мистер Болто! — восклицает он в восторге, покачиваясь на стуле и хлопая ручонками, как будто ждал этого дня всю свою жизнь. — Что мы можем для вас сделать?
— Я ищу кое-какие сведения.
— Это я понял. Но что привело вас в СИС? И к Майклу Мак-Маллину? Как вы поняли, его здесь сейчас нет.
— Мы кое-что нашли.
— Вот как?
— Я думаю, что Мак-Маллину что-то известно об этом.
— Неужели? И что же вы нашли?
— Мистер Уинтроп, — говорю я преувеличенно вежливо, — давайте не будем заниматься ерундой.
— Простите, что?
— Мы оба умные люди. Но плохие актеры. Давайте не будем играть в игры.
Его настроение претерпевает не очень большое, но все-таки ощутимое изменение.
— Все в порядке, мистер Болто. — Его голос стал деловым и подозрительным.
— Вы знаете, конечно, кто я?
— Преподаватель университета в Осло. Норвежский контролер на раскопках профессора Ллилеворта.
— И вы, конечно, знаете, что мы нашли?
Он поежился. Уинтроп не из тех, кому нравится, когда на него давят. Я помогаю ему:
— Мы нашли Святой ларец.
— Я так и понял. Какая прелесть!
— Вы можете рассказать мне о Ларце Святых Тайн?
— Боюсь, что знаю не слишком много. Я — астроном, а не историк или археолог.
— Но вы слышали эту легенду?
— Как часть Договора. Ларец Святых Тайн? Послание? Манускрипт? Не более того.
— Но вы, конечно, помните, что Ллилеворт искал именно Ларец Святых Тайн.
— Мистер Болто! СИС не занимается суевериями. Ллилеворт вряд ли мог надеяться найти именно этот предмет.
— А если речь идет не о суеверии? А, например, о золотом ларце?
— Мистер Болто! — Он вздыхает и протестующе поднимает вверх обе связки сарделек. — Вы взяли с собой артефакт? Сюда? В Лондон?
Я отрицательно пощелкиваю языком.
— Надеюсь, он находится в надежном месте?
— Естественно.
— Дело ведь в деньгах, не так ли? — начинает он издалека.
— В деньгах?
Иногда я соображаю медленно. Он смотрит мне в глаза. Я — ему. У него серо-голубые глаза и очень длинные ресницы. Я пытаюсь прочесть его мысли.
— Сколько вы собираетесь попросить? — спрашивает он.
И тут я вспоминаю, где я слышал этот голос. Я разговаривал с ним по телефону. Два дня назад. Когда он назвался доктором Розерфордом из Королевского Британского института археологии.
Я начинаю смеяться. Он растерянно смотрит на меня. Потом присоединяется ко мне со своим клоунским смехом. Так мы сидим и хихикаем, нисколько не доверяя друг другу.
Позади нас, в противоположном конце Вселенной, открывается дверь. Вплывает ангел с серебряным подносом, на котором стоят две кружки и фарфоровый чайник. Не говоря ни слова, разливает чай и исчезает.
— Прошу, — предлагает Уинтроп.
Я опускаю в чай кусочек сахара, но не трогаю молока. Уинтроп поступает наоборот.
— Почему вы отказываетесь вернуть артефакт? — спрашивает он.
— Потому что это собственность Норвегии.
— Послушайте, — раздраженно произносит он, — мистер Болто, ведь профессор Арнтцен — ваш начальник?
— Да.
— Почему же вы не подчиняетесь распоряжениям вашего начальника?
Распоряжения, предписания, декреты, приказы, законы, правила, инструкции, повеления… большинству британцев всяческие указания придают уверенность в жизни. У меня же они вызывают только протест.
— Я ему не доверяю.
— Вы не доверяете своему отчиму?
По спине у меня бегут мурашки. Даже это им удалось выяснить.
Уинтроп подмигивает и прищелкивает языком. Глаза хитрущие.
— Скажите, мистер Болто, у вас, случайно, нет мании преследования?
Меня не удивит, если окажется, что он читал мои медицинские документы. И дневник. Иногда и параноики бывают правы.
— Что находится в ларце? — спрашиваю я.
— Я уже говорил, мистер Болто, и позвольте напомнить вам еще раз: вы обязаны вернуть то, что вам ни в коей мере не принадлежит.
— Я верну…
— Великолепно!
— …как только выясню, что находится там внутри и почему так много людей жутко заинтересовано в нелегальном вывозе ларца из Норвегии.
— Мистер Болто, позвольте!
— Я был контролером на раскопках!
Уинтроп причмокивает:
— Совершенно справедливо. Но ведь никто вам не рассказывал, что, собственно говоря, было предметом поисков?
Я выжидаю. Догадываюсь, что он хочет сделать меня соучастником истории, которую мне не положено знать. Но понимаю и то, что он подсунет мне хорошо обдуманную ложь, заманчивую дорожку, ведущую в тупик.
— Карта кладов? — предполагаю я.
Его брови приобретают форму двух перевернутых букв V.
— Карта кладов, мистер Болто?
— Вы недавно были в Рене-ле-Шато?
— Где? — Он глядит на меня невинными глазами. Я произношу отчетливо:
— Рене-ле-Шато! Ну знаете, средневековая церковь? Карта кладов?
— Мне очень жаль. Я действительно не понимаю, что вы имеете в виду.
— Расскажите мне, что же такое они искали?
Поежившись, он понижает голос:
— У них была теория.
— Теория?
— Ничего другого. Всего лишь теория.
— Которая гласит, что?..
Уинтроп делает странную гримасу. Возможно, она должна была отразить всю глубину его мыслей, но в результате осталась лишь странной гримасой. Он говорит:
— Разве не удивительно, что древние цивилизации были вовсе не так примитивны, как мы о них думаем?
— Возможно.
— Они обладали знаниями в области техники и философии, которых у людей на этом этапе развития, вообще-то, не должно было быть. Они знали Вселенную лучше, чем многие современные астрономы-любители. Они были знакомы с высшей математикой. Были замечательными инженерами. Владели основами терапии и хирургии. Умели точно устанавливать расстояния и пропорции.
Я испытующе смотрю на него. Стараюсь прочитать по выражению его лица и глаз то, что он пытается от меня скрыть.
— Вот один пример. Вы когда-нибудь размышляли, зачем были построены пирамиды? — спрашивает он.
— По правде говоря, нет.
— Но вам это известно?
— Ради погребальных камер? Для прославления фараонов в веках?
— Представьте себе пирамиду Хеопса, мистер Болто. Зачем примитивная цивилизация начала такое грандиозное строительство почти пять тысяч лет назад?
— Им больше нечем было заняться в своей пустыне, — пытаюсь я сострить.
Он вознаграждает меня смешком.
— Выдвинуто много теорий. Возьмем самую известную из роскошных погребальных камер. Естественно, это захоронение в пирамиде Хеопса, высота которой составляет сто сорок четыре метра. Археологи и древние грабители в поисках сокровищ обнаружили залы для погребения фараона и царицы, шахты, галереи, узкие проходы. В совокупности установленные пустоты составляют около одного процента от общего объема пирамиды. Понимаете?
Я понимаю.
Он наклоняется ко мне над столом:
— Ученые с помощью современных технических средств начали просвечивать пирамиды. Они вскоре установили, что пустот гораздо больше, чем было замечено ранее. В действительности их там до пятнадцати процентов от всего объема.
— Ничего странного.
— Да, это так. Но ведь пятнадцать процентов, мистер Болто, — это очень много. И это еще не все: высокоточное оборудование выявило большой металлический предмет семью метрами ниже основания пирамиды.
— Клад?
— Я вижу, вас интересуют только клады. Вы, конечно, можете возразить, что все содержимое пирамиды, по определению, является кладом. Присутствие металла в египетской пирамиде, вообще-то, никого не удивляет. Но здесь ведь речь идет не о саркофаге из золота или какого-нибудь сплава. Размеры металлического объекта оказались таковы, что исследователи были вынуждены несколько раз проводить повторные измерения, чтобы избежать ошибок. Они сумели установить общий вид металлического объекта. То есть его очертания.
— И что же это такое?
Уинтроп понимается и подходит к шкафу, в который вмонтирован сейф. Он набирает код. Дверь с шумом открывается. Уинтроп вынимает черную папку и направляется к письменному столу.
— Это контур объекта, обнаруженного под пирамидой, — сообщает он.
Листок лежит внутри прозрачной пластиковой папочки, которую он протягивает мне. С первого взгляда рисунок напоминает космический шаттл.
Потом я прихожу к выводу, что это действительно шаттл.
Удлиненный корпус, небольшие крылья, хвостовые рули.
Я бросаю быстрый взгляд на Уинтропа.
— В прошлом году мы дошли до галереи, в которой находится этот корабль, — говорит он.
— Но что это?
— Вы не видите?
— Похоже на шаттл.
— Это космический корабль.
— Космический корабль?
— Именно так.
— Подождите. Космический корабль, который получил повреждения, потому что застрял под пирамидой Хеопса при неудачном приземлении в пустыне? — язвительно спрашиваю я.
— Нет-нет, вы заблуждаетесь. Это космический корабль, над которым позднее надстроили пирамиду Хеопса, — отвечает Уинтроп.
Я окидываю его печальным взглядом разочарованного пса: «И вы хотите, чтобы я поверил в этот вздор?» И глубоко вздыхаю.
Он говорит:
— Возможно, вам известны непризнанные теории швейцарского ученого Эриха фон Деникена?
— Конечно. О пришествии на Землю инопланетных существ в далеком прошлом?
— Совершенно верно.
Я смотрю на листок бумаги с изображением космического корабля, напоминающего шаттл. Потом поднимаю взгляд на Уинтропа.
— Вы это серьезно?! — восклицаю я.
Из черной папки он извлекает схемы со множеством математических формул:
— Это расчеты. — Он протягивает мне листочки. — В НАСА просчитали аэродинамические характеристики этого корабля. Расчеты будут использоваться при создании шаттлов в будущем.
Я прижимаю руки к груди. Мне плохо. Не потому, что я ему верю. А потому, что начинаю понимать, как страшна должна быть тайна, которую пытаются скрыть за такой чудовищной ложью.
— Космический корабль под пирамидой Хеопса, — усмехаюсь я. Но мой саркастический тон не производит на Уинтропа никакого впечатления.
— В это нелегко поверить, — соглашается он. Как будто он меня уже убедил.
Я поворачиваю голову налево. Потом направо. Словно у меня затекла шея. Отпиваю чай. Чуть теплый, как у богатого бедуина в шатре среди пустыни.
— Вы хотите убедить меня, что пирамиду Хеопса соорудили над доисторическим шаттлом? — Я нарочно растягиваю слова.
— Я повторяю — над космическим кораблем. Мы предполагаем, что это космическая кабина, которая была послана кораблем-маткой с околоземной орбиты.
— Ну конечно.
— У вас скептический вид.
— Скептический? У меня? Ни в коем случае. Но как объяснить, что над кораблем египтяне построили огромную пирамиду? Понятие «гараж» вряд ли существовало пять тысяч лет назад?
— Они смотрели на космический корабль как на святыню. Небесный корабль богов.
— Космическим пришельцам, вероятно, было очень не по себе, когда они вернулись и увидели, что над их кораблем построена огромная тяжелая пирамида!
Он даже не улыбается. Он — вообразил, что я ему доверяю.
— С самого начала что-то не заладилось, — говорит он. — Возможно, произошла авария. Возможно, корабль больше не мог взлететь. Песок попал в двигатель? А может быть, инопланетные астронавты умерли, попав в земную атмосферу. Или заразившись нашими бактериями. Мы пока можем только гадать.
— А ключ зажигания не пробовали найти там?
— По-настоящему мы ничего еще не пробовали. — Он медлит, потом продолжает: — И есть еще одна теория.
— Не сомневаюсь.
— Мы предполагаем, что инопланетяне с космического корабля и не собирались возвращаться. Их миссия состояла в том, чтобы высадить группу человекоподобных существ, которые должны были остаться на Земле.
— Зачем?
— Возможно, они хотели колонизировать нашу планету. Попытаться закрепиться тут. Может быть, именно эти существа стали прообразом тех прекрасных высокорослых ангелов, о которых говорится в Библии. Они были и крупнее, и выше, чем мы, люди. И необыкновенно прекрасны. Как мы знаем из истории религии, от них не раз рожали земные женщины. Так что у нас с ними, по-видимому, общие гены.
Я смеюсь.
Он молчит.
Я не выдерживаю:
— И вы в это верите?
— Приходится признавать факты, мистер Болто.
— Или ложь.
Я смотрю на него. Долго. Наконец на его круглых щечках проступает яркий, словно две розы, румянец.
— А ларец? — спрашиваю я. — Какое отношение ко всему этому имеет ларец?
— Это мы постараемся выяснить, когда вы передадите его нам.
Я фыркаю в ответ. Он продолжает:
— Мы надеемся, что содержимое ларца приведет нас к инопланетянам. Не обязательно к доисторическим пришельцам. Вряд ли они бессмертны, хотя кто знает. — Он поднимает взгляд к небу. — А к их потомкам. Генеалогия. Возможно, мы получим Весть. От них.
Я предпочитаю промолчать.
В газетах я недавно прочитал о финской даме по имени Рауни-Леена Лууканен. Врач по профессии, она не только специалист по обыкновенным земным болезням вроде воспаления гайморовой полости, но и первый друг инопланетян, прибывающих из других галактик. У нее есть телепатический контакт с гуманоидами, которые непрерывно летают по небесным просторам над нашими головами. В ее откровениях меня больше всего позабавило то, что пришельцы существуют в шести измерениях, путешествуют туда-сюда по пространству и времени, а еще их делегация приветствовала Нила Армстронга
[154] во время его первых шагов по Луне. Оказывается, они вегетарианцы, как и я, а их любимое блюдо — земляничное мороженое. Очаровательно!
У меня вырывается смешок. Вероятно, Уинтроп начинает меня в чем-то подозревать.
— Можете не верить, — говорит он колко.
— Именно так я и делаю.
— Я изложил факты. Все, что мы знаем. И все, во что верим. Больше я ничем не могу вам помочь. Верьте чему хотите. Или же не верьте.
— Обещаю так и поступить.
Он откашливается и усаживается поудобнее на стуле.
— Что такое СИС? — спрашиваю я.
— А! — Он сжимает руки. Вопрос ему нравится. Совершенно безопасный. На эту тему он способен рассуждать часами на вечеринках, куда ходит со своей молодой красивой женой, которая уж конечно состоит в любовной связи с тренером по теннису. — С. И. С., — произносит он, как бы взвешивая каждую букву. — Это научное учреждение основано в тысяча девятисотом году крупнейшими учеными и исследователями того времени. Их целью было объединить достижения различных отраслей науки в общий банк знаний.
Впечатление такое, как будто он включил магнитофонную запись, предназначенную для группы школьников.
— Подумайте, какое было время! — Он взмахивает руками. — Начало столетия. Оптимизм! Рост.
— Да?
— Никто не думал ни о чем, кроме своего собственного маленького раздела науки. Общество международных наук должно было осуществлять общий надзор над развитием научной мысли, координировать, объединять тех ученых, которые могли быть полезны друг другу. Иначе говоря, собирать вместе разрозненные элементы.
— Прекрасная идея. А СИС сегодня?
— Нас поддерживают все отрасли науки. Частично нас финансируют через государственные бюджеты, а часть денег дают наши владельцы. Поступают дотации от университетов и исследовательских центров всего мира. Постоянных сотрудников у нас более трехсот двадцати. На нас работает огромное количество ученых. Мы поддерживаем контакты с крупнейшими университетами. Мы участвуем во всех серьезных исследованиях.
— Я никогда раньше о вас не слышал.
— Очень странно!
— Узнал, только когда СИС решила поддержать археологические раскопки, на которых я был — ха-ха! — наблюдателем!
Уинтроп задумчиво перекладывает какие-то бумаги у себя на столе.
— Что вы можете сказать о Майкле Мак-Маллине? — спрашиваю я.
Уинтроп смотрит на меня поверх бумаг.
— Великий человек, — произносит он с чувством уважения. — Президент СИС. Очень состоятельный пожилой землевладелец. Настоящий джентльмен. Космополит! Был назначен профессором в Оксфорде сразу после войны. В тысяча девятьсот пятидесятом году ушел из университета, чтобы посвятить всю свою жизнь СИС.
— Где он сейчас?
— Мы ждем его с первым самолетом. Скоро вы сможете познакомиться. Он очень хочет встретиться с вами.
— Какая у него специальность?
Брови Уинтропа подскакивают. Выглядит так, как будто кто-то сзади потянул брови за веревочку.
— Разве вы не знаете? Он археолог. Как вы. Как ваш отец.
9.
Диана сидит за стойкой и щурится на экран компьютера с зелеными буквами. Она очаровательна, когда щурится. Когда не щурится, тоже очаровательна.
Лучи солнца льются через большие окна и наполняют библиотеку мягким светом. Я стою по стойке «смирно» в дверях. Мну в руке свернутую брошюру о СИС, которую мне дал Уинтроп. При расставании он засмеялся своим дурацким клоунским смехом и заявил, что его радует мое решение пойти им навстречу. Навстречу? Он, видимо, считает, что хорошо выполнил порученное ему дело. Что я уже думаю, как бы добежать до дому, найти этот чертов ларец и передать ему. Он, очевидно, думает, что меня легко переубедить. И что я довольно глуп.
С негромким покашливанием, которое эхом отдается в церковной тишине библиотеки, я делаю шаг вперед. Диана рассеянно смотрит в мою сторону. На ее лице появляется улыбка. Свет дурачит. Мне кажется, что она покраснела.
— Это опять ты? — спрашивает она.
— Я только что был у Уинтропа.
Она встает и подходит ко мне. Сегодня утром (эта картина так и стоит у меня перед глазами) она очень тщательно выбирала наряд. На ней светлая шелковая блузка, облегающая черная юбка, черные нейлоновые чулки и туфли на высоких каблуках.
— Мы называем его Человек с Луны, — хмыкает она и кладет ладонь на мою руку.
Я натужно хихикаю в ответ на ее шутку. От одного ее прикосновения мои гормоны пускаются в пляс.
— Диана, вы… ты не могла бы мне помочь?
Она медлит с ответом. Потом кивает:
— Конечно.
— Вероятно, это не совсем обычная просьба.
— Я сделаю все, что смогу. На невозможное уйдет немного больше времени.
— Речь идет о компьютерных данных.
— О каких?
— Здесь есть место, где мы могли бы поговорить спокойно? — Я резко понижаю голос.
Она нежно берет меня за руку, проводит по библиотеке и входит в комнату с дверью из матового стекла. Этот кабинет никому не принадлежит. На полках стоят толстые скоросшиватели. Древний письменный стол, на нем — роскошный светящийся монитор суперсовременного компьютера. Клавиатура, от которой отходит извивающийся по полу кабель. Пустая пепельница. Пластиковая кружка с остатками кофе и окурками. Шаткий конторский стул. Диана садится на него. Смотрит на меня снизу вверх. Я проглатываю слюну. Меня ошеломляет сознание того, что мы с ней наедине. Что я (чисто гипотетически) могу наклониться и поцеловать ее. А если она ответит на мой поцелуй и, возможно, сладострастно вздохнет, я смогу (опять-таки в теории) усадить ее на стол и овладеть грубо и жестко. А потом написать в мужской журнал о том, как это было.
— Ну, так в чем проблема? — спрашивает она.
Моя проблема в том, что у меня слишком много проблем.
Венский стул трещит под моим весом.
— Ты умеешь пользоваться поиском? — спрашиваю я и киваю в сторону компьютера.
— М-м-м, ну да. Это, как бы сказать, моя специальность.
— Мне надо собрать информацию о Мак-Маллине.
Она долго смотрит на меня. Я не могу понять выражения ее лица.
— Зачем? — холодно интересуется она.
— Я не знаю, что ищу, — честно говорю я.
Она продолжает смотреть на меня. Потом замечает, как неловко я себя чувствую, притягивает к себе клавиатуру, нажимает клавишу «F3 (Поиск)» и набирает с огромной скоростью
Michael El MacMullin. Компьютер проглатывает вопрос, жужжит и выдает ответ: найдено 16 документов, 11 — закрытые.
— Хочешь получить распечатку? Доступных файлов?
— Доступных?
— Одиннадцать файлов — закрытые. Чтобы их открыть, нужен пароль.
— У тебя нет пароля?
— Есть конечно. Но, видишь ли…
Она вводит свой пароль. На мониторе появляется надпись: «Доступ запрещен. Требуется уровень 55».
— Что это значит? — спрашиваю я.
— Система имеет несколько уровней секретности. Уровень 11 открыт для всех, даже для посторонних. Уровень 22 защищает данные, в получении которых ты имеешь обоснованную потребность, но тебе это нужно подтвердить. Например, перечень текущих исследовательских проектов Общества. Уровень 33 защищает информацию, не предназначенную для публикации. Мы, библиотекари, работаем на 33-м уровне безопасности. На уровне 44 зашифрованы сведения о сотрудниках и другие внутренние документы. А есть еще уровень 55. Только боги знают, что там хранится. И руководители СИС, конечно.
— Ваша сеть подключена к какой-то базе данных?
Диана уставилась на меня, словно я задал глупый вопрос. Да так оно и есть.
— Мы и есть база данных, — объясняет она. — Ты никогда о нас не слышал? Бюллетень СИС или
www.soinsc.org.uk. Мы — ведущее учреждение мира в своей области! На наш Бюллетень подписываются университеты и исследовательские центры всего мира.
— О какого рода информации идет речь?
— О всякой! Обо всем, что имеет отношение к науке и исследовательским проектам с участием СИС. Почти обо всем. База данных включает наши собственные материалы, историю и новейшие данные, перекрестные указатели. Сюда введены все отчеты и описания полевых работ. В приложениях мы собираем интересующие нас статьи Агентства Рейтер, Ассошиэйтед Пресс, «Таймс», «Нью-Йорк таймс» и других серьезных средств массовой информации.
— И ты можешь провести поиск по любой тематике?
— Почти.
— Попробуй тогда найти что-нибудь о Ларце Святых Тайн.
— Это еще что такое?
— Одна реликвия.
Я повторяю название. Она вводит его в компьютер. Мы получаем девять упоминаний. Первое отсылает нас к книге, которую написали мой папа, Ллилеворт и де Витт в 1973 году. Другое упоминание является кратким изложением мифа:
«Ларец Святых Тайн — миф о святыне или послании, находящемся в золотом ларце. Согласно утверждению философа Дидактемуса (ок. 140 г.), послание было адресовано только „самому узкому кругу посвященных“. Содержание послания неизвестно.
Ларец хранился в монастыре Святого Креста примерно до 300–954 гг., затем был похищен. Принято считать, что крестоносцы передали ларец ордену иоаннитов в 1186 г., но надежных свидетельств о месте пребывания ларца после падения Акры в 1291 г. очень мало. Устные свидетельства гласят, что ларец, возможно, был спрятан монахами в октагоне. В соответствии с различными легендами местом нахождения октагона могут быть: Иерусалим (Израиль), Акра (Израиль), Хартум (Судан), Айя-Напа (Кипр), Мальта, Линдос (Родос), Вэрне (Норвегия), Себберсунн (Дания)». Перекрестные ссылки:
Арнтцен/ де Витт / Ллилеворт Ref 923/8608hg
Беренжер Сонье Ref 321/2311ab
Свитки Мертвого моря Ref 231/4968cc
Вэрне Ref 675/6422ie
Орден иоаннитов Ref 911/1835dl
Монастырь Святого Креста Ref 154/5283oc
Персидский шах Камбюс Ref 184/0023fv
Рене-ле-Шато Ref 167/9800ta
Туринская плащаница Ref 900/2932vy
Клеменс III Ref 821/4652om
Институт Шиммера Ref 113/2343cu
Пророк Иезекииль Ref 424/9833ma
Евангелие Q Ref 223/9903ry
Наг-Хаммади Ref 223/9904an
Для того чтобы открыть другие документы — удивительное собрание старинных европейских мифов, перечней королевских династий, генеалогий аристократических родов, сведений по оккультизму, узкоспециальных знаний и непостижимых ссылок, — нужен пароль. Диана вводит свой пароль. Компьютер отвечает: «Запрещено. Требуется уровень 55».
— Странно, — удивляется Диана. — Мы обычно не защищаем паролем общие сведения. Только личные данные о наших сотрудниках. Может быть, кто-то из королей или пророков у нас в штате? — хихикает она.
— На полставки? — предполагаю я.
Она косится в мою сторону:
— А что это еще за реликвия?
— Бог ее знает. Попробуй посмотреть на «Иезекииля»?
— Кого?
— Пророка Иезекииля. Есть такая ссылка.
Она получает четыре ссылки. Три из них закрытые. Открытая указывает на Институт Шиммера.
— Что представляет собой Институт Шиммера? — спрашиваю я.
— Это центр, где проводятся археологические и теологические исследования. Кроме всего прочего.
— Попробуй открыть: Вэрне. В-э-р-н-е.
Мы находим семь документов. Один говорит о папиной книге. Другой отсылает к ордену иоаннитов. Третий дает указание на монастырь на Мальте. Четвертый рассказывает о раскопках, проводимых в настоящее время профессором Ллилевортом. И еще один отсылает к Институту Шиммера. Три оставшиеся — закрытые.
— Поищи на Рене-ле-Шато!
Она смотрит на меня.
— Рене-ле-Шато, — повторяю я.
Она откашливается и некоторое время путается во французской орфографии.
Восемнадцать ссылок. Большинство из них закрыто.
Диана распечатывает доступную информацию, и мы читаем о бедном молодом священнике, который обнаружил старинные пергаменты. Их содержание до сих пор неизвестно. Но оно было таково, что он получил за них целое состояние. Есть намеки на Крестовые походы, рыцарские ордена, таинственные упоминания масонов и династий духовных лиц.
— Ты можешь посмотреть все раскопки с участием СИС? — спрашиваю я.
— Ты с ума сошел? Мы будем сидеть здесь до утра.
— А как обстоят дела с раскопками под руководством Мак-Маллина и Ллилеворта?
— Это можно. Но потребуется время.
На это действительно ушло много времени. Список огромен. Когда я начинаю просматривать названия и годы, мой взгляд случайно задерживается на Айя-Напа на Кипре, Цзы-фенг-коу в Китае, Тюмени в Сибири, Карбале в Ираке, Аконкагуа в Чили, Туле в Гренландии, Себберсунне в Дании, Лахоре в Пакистане, Коацакоалькосе в Мексике, Хартуме в Судане.
В примечаниях ко многим из этих пунктов упоминается аббревиатура ASSSA и какая-то дата. Диана поясняет, что ASSSA — это сокращение от названия «Археологические исследования с применением спутников на основе возможного спектрального анализа».
[155] Это фотографии, сделанные со спутников с учетом магнитных и электронных измерений земной коры. Подобная геофизическая фотография может обнаружить руины на глубине многих метров под нынешним уровнем почвы. В примечаниях к
«Вэрне (монастырь Варне) в Норвегии» сообщается, что спутниковая фотография была сделана в прошлом году. Я уже раньше читал об этой технологии в международных специализированных журналах.
— Спутник был запущен в январе прошлого года, — говорит Диана.
— Ты можешь найти эту фотографию? Вэрне?
С терпеливым вздохом и улыбкой, которая вряд ли предназначена для великих ученых, Диана идет в хранилище, чтобы найти спутниковую фотографию. Но там ее нет.
В получении фотографии расписался лично Грэм Ллилеворт.
— Двинемся дальше, — вздыхаю я. — Что у тебя есть об иоаннитах?
Есть множество сведений. Мы находим перекрестные указания на Институт Шиммера, на миф о Ларце Святых Тайн, оттуда ссылку на монастырь Святого Креста, расположенный к юго-западу от Иерусалима. Монастырь был основан примерно в 300 году на том месте, где, как говорят легенды и библейские источники, Лот взрастил дерево из посохов трех ангелов, посланных Господом. Посохи пустили корни и стали деревом. Легенда утверждает, что Крест Иисуса был изготовлен именно из этого тройного дерева.
По легенде, здесь, в монастыре Святого Креста, ларец хранился до 954 года, когда его похитили и спрятали в другом секретном месте. Нет никаких исторических указаний на местонахождение ларца вплоть до 1186 года, когда крестоносцы передали его иоаннитам.
— Посмотри, что есть про Грэма Ллилеворта! — прошу я.
Компьютер выдает сорок документов. Почти все они — газетные статьи и упоминания о нем в специальных журналах. Но четыре последних документа зашифрованы.
— Посмотри про Трюгве Арнтцена!
Компьютер находит пять документов. Все — закрыты.
— Введи мое имя!
Диана вопросительно смотрит на меня. Потом с огромной скоростью печатает: «bjorn El belto».
Компьютер отвечает: «Найдено 0 документов».
— Попробуй написать фамилию через
«ое», — предлагаю я.
Она отстукивает: «bjorn El beltoe».
Я должен испытывать чувство гордости.
Компьютерная сеть Общества международных наук зарегистрировала знаменитого альбиноса Бьорна Белтэ из Норвегии один раз.
И это еще не все. Ссылка закрыта. Информация обо мне засекречена.
— Введи-ка свой пароль, — прошу я. Мы смотрим на монитор.
«Доступ запрещен. Требуется уровень 55».
Пять слов. Не так много поводов для размышлений. Пять слов, написанных зелеными буквами, только и всего.
10.
Говорят, что преступников, которые много лет отсидели в тюрьме, тянет туда после освобождения. Назад, к сообществу за тюремными стенами, к повседневной рутине, товариществу, абсурдному спокойствию среди бандитов и приговоренных к смертной казни насильников.
Я могу их понять. Так же у меня обстоят дела с клиникой.
Диана знает одно уютное кафе на улице, отходящей от Гувер-стрит. Мне кажется, что оно не так уж и уютно. Все декоративные украшения, столы и стойки сделаны из стекла и зеркал. Куда ни повернись, всюду моя испуганная физиономия.
Пока я рассказываю об обнаружении золотого ларца, о моих бессмысленных приключениях в Осло, о туманных намеках Греты, о цели, визита в Лондон, я наслаждаюсь тем, как она на меня смотрит и как слушает. Я чувствую себя искателем приключений, который пустился в опасное путешествие. Мне кажется, что Диана воспринимает меня так же.
Когда мы возвращаемся в СИС, чтобы захватить забытые распечатки сведений из компьютера, Диана спрашивает, какие планы у меня сегодня на вечер. От такого вопроса во мне взрывается бомба надежды. Я отпрыгиваю в сторону, чтобы не наступить на зазевавшегося голубя, и сообщаю, что особых планов у меня нет. Нет необходимости изображать полное отчаяние. Через четыре шага она спрашивает, не хочется ли мне, чтобы она показала мне Лондон. Меня наполняют одновременно чувство блаженства и паника.
— Это было бы чудесно, — говорю я.
Я жду около здания СИС, пока Диана заходит туда за распечатками о Майкле Мак-Маллине. На это уходит много времени. Когда она наконец выходит и протягивает
мне пачку документов, то закатывает глаза и делано смеется.
— Прошу прощения, что я так долго! — Она издает наигранный стон. Мне начинает казаться, что она сейчас поцелует меня. Она медлит, а затем неуверенно произносит: — Послушай… Идея насчет сегодняшнего вечера, может быть, не очень удачная… — Но тут она видит мой взгляд. — Наплевать! — восклицает она неожиданно. — Паб Королевской армии. В половине восьмого!
Я еще ни разу не открыл рот. Она набирает воздуху, чтобы что-то сказать, но раздумывает.
— Знаешь что… Одна моя подруга работает в библиотеке Британского музея. Хочешь, я ей позвоню? Вдруг она тебе поможет?
— Замечательно! — благодарю я. И жду, что она меня сейчас поцелует, но этого не происходит. Она смотрит на меня. Я не могу больше выдерживать ее взгляда. Она что-то скрывает.
— Увидимся вечером! — Диана улыбается и исчезает. В магазине, заставленном полками с компакт-дисками, я покупаю альбом для Рогерна. Он называется «Дети Сатаны: Торжество мертвого металла». На обложке изображение дьявола, который играет на электрической гитаре. Языки пламени лижут ему ноги. Милая штучка, которую Рогерн сумеет оценить.
11.
У меня тоже есть вредные привычки. Если уж ты оказался победителем в бешеной гонке от мошонки до яйцеклетки, если ты продрался через все детство и ни один пьяный водитель не сумел тебя задавить, а сам ты ни разу не заснул от лишней дозы героина на лестничной площадке, где горит синий свет, если ты выдержал шесть лет учебы в Блиндерне, а потом получил место на службе у общества, если тебя не поразила болезнь почек или опухоль мозга, — то ты, черт тебя побери, имеешь право нажимать на тюбик зубной пасты посередине и не опускать сиденье унитаза в туалете, когда пописал. Вредные привычки — неотъемлемое право свободного человека. Я очень рад, что у меня нет жены.
Я люблю, чтобы моя зубная щетка лежала на краю раковины. В этом случае я всегда знаю, где она. Хорошо, пусть это вредная привычка. Пусть это неразумно. Но мне на это наплевать.
А сейчас зубная щетка лежит на кафельном полу.
Может быть, все не так плохо. Возможно, виновата горничная. Возможно, подул ветер в форточку. Возможно, здесь прогуливался сам Генрих VIII, окутанный парами серы.
Я поднимаю зубную щетку и кладу ее снова на раковину, чтобы горничная с радостью могла поставить ее в пластиковую кружечку на полке около зеркала.
Когда я был маленьким, больше всего меня пугала вовсе не сказка о ведьмах-людоедках и кровожадных троллях, а сказка о Златовласке и трех медведях. Когда медведь рычал: «Кто спал в моей постели?» — я погружался в бездну ужаса. Думаю, уже в детстве я преклонялся перед незыблемыми правилами домашнего порядка.
Молния на моей туалетной сумке закрыта. Я всегда оставляю ее открытой. Так, чтобы легко извлечь пакетик с презервативами (сверхтонкими, без смазки), если ночью ввалюсь в гостиничный номер в окружении роя фотомоделей и манекенщиц.
Половина четвертого дня. Я набираю номер Греты на старомодном гостиничном телефоне с крутящимся циферблатом.
После десяти гудков кладу трубку.
Ощущение опасности заставляет меня позвонить Рогерну. Кажется, я его разбудил. Да, именно так. Я спрашиваю, все ли в порядке. Он что-то бормочет, я расцениваю это как положительный ответ. Я спрашиваю, в надежном ли месте ларец. Он опять бормочет «да». За его спиной кто-то хихикает.
Тогда я звоню Каспару и прошу узнать, что с Гретой.
— Где ты? — спрашивает он.
— В Лондоне.
Он тихо присвистнул. Звук похож на свист кипящего чайника.
— Будь осторожен, — предупреждает он.
— А что?
— Ты в Лондоне из-за ларца?
— А что?
— У тебя был взлом в квартире.
— Знаю.
— Вот как? А теперь попробуй угадать, кого там задержали?
— Погоди. Почему ты вообще знаешь об этом?
— Потому что директор Инспекции по охране памятников собственной персоной — я имею в виду Сигурда — был вызван в полицию и Министерство иностранных дел, чтобы извиниться перед великим и ужасным Грэмом Ллилевортом. — Сухой смех Каспара звучит как шуршание бумаги.
— Я знаю, что он там был. Я их видел.
— А ты знаешь, кто еще был с ними?
— Нет, но мне очень интересно!
— Один из взломщиков имел дипломатический статус. Что скажешь? Дипломатический статус! Ходят слухи, что он из разведки. Британское посольство устроило жуткий шум. Можно подумать, что речь идет о безопасности государства. Это беспредел, Бьорн! Вершина! Министерство иностранных дел пыталось загладить скандал, насколько это в их силах. Какого черта вы там нашли?
Я сбрасываю ботинки, вытягиваюсь на постели и разворачиваю многометровый рулон со сведениями о Майкле Мак-Маллине.
Сначала читаю краткую биографию. Время и место рождения не указаны. Получил стипендию для пребывания в Оксфорде, где стал профессором археологии в 1946 году. Читал лекции в Еврейском университете в Иерусалиме. Один из главных участников работы по переводу и истолкованию «Свитков Мертвого моря», найденных в 1948 году. Президент СИС с того же времени. Почетный профессор Института Вейсмана. Член правления Лондонского географического общества с 1953 года, Исторического общества Израиля с 1959 года. Один из создателей Общества Британского музея в 1968 году. Член правления Лондонского городского клуба финансистов и банкиров с 1969 года.
Дальше я читаю статьи, извлеченные из специализированных журналов и газет. Мак-Маллин участвовал в археологических, теологических и исторических семинарах, конгрессах и симпозиумах во всем мире. Он представлял СИС на крупнейших археологических раскопках. Через СИС финансировал ряд проектов. Когда под Кумраном были найдены «Свитки Мертвого моря», Мак-Маллин был среди первых западных ученых, кого туда пригласили. На протяжении многих лет он был посредником в спорах еврейских и палестинских ученых о праве собственности на фрагменты рукописей, которые были распределены между Еврейским университетом в Иерусалиме и Институтом Шиммера. Еще несколько деталей: с 1953 года является президентом Интернационального клуба почитателей Туринской плащаницы, а с 1956 года — членом правления Института Шиммера.
Я еще раз звоню Каспару и обращаюсь к нему с просьбой. Я прошу рекомендовать меня для стажировки в Институт Шиммера. Эта мысль пришла мне в голову совершенно неожиданно. Но у меня смутное ощущение, что это пригодится. Каспар даже не спрашивает меня, зачем это надо. Обещает послать рекомендации на следующий день.
По телефаксу. С гербовой печатью и штампом Инспекции по охране памятников. И тогда все-все двери и шкафы откроются перед любопытствующим гостем из Норвегии.
12.
— Не так уж и легко мне выглядеть красивым.
Женщины добиваются потрясающих результатов с помощью макияжа. Некрасивые становятся красивыми. Красивые становятся обворожительными. Мужчины же могут причесаться, воспользоваться лосьоном после бритья или же отпустить бороду. Но мою внешность это вряд ли улучшит.
При острой необходимости я компенсирую этот недостаток одеждой.
Сегодня вечером я нарядился в серые боксерские трусы, костюм от Армани, белую сорочку, шелковый галстук, расписанный вручную цветками лотоса, черные носки, кожаные туфли. На рукавах золотые запонки.
Ниже воротничка я выгляжу вполне пристойно.
Прыскаю на щеки лосьон после бритья. Смазываю бриллиантином ежик волос. Когда я был помоложе, я пробовал подкрашивать свои бесцветные брови и ресницы маминой тушью. Но теперь я это бросил.
Иду в прихожую и смотрю на себя в большое зеркало.
Совсем не греческий полубог. Но и не хуже многих.
Я разрываю упаковку Cho-San и вынимаю один презерватив. Я — вечный оптимист. А в брюках кое-кто горит и надеется.
Линда, портье, оглядывает меня, когда я сдаю ей карту-ключ.
— Вы очень элегантны, мистер Болтоу, — одобрительно кивает она. Извращенка, что ли? Или обожает альбиносов? Линда, похотливая лилия. — Я не знала, что вы у себя, — добавляет она. — Я приняла для вас сообщение.
Протягивает мне листок: «Звонил Чарльз де Витт. Немедленно перезвоните, пожалуйста».
— Когда пришло это сообщение? — спрашиваю я.
— Разве я не записала? Ой, извините! Несколько часов назад. Нет, больше. Сразу после того, как я вышла на работу. Около четырех, вероятно, — произносит она кокетливо-извиняющимся тоном и смеется. Должен же я догадаться, что ей поручают дела поважнее, чем прием сообщений для ломаки-альбиноса в гостинице среднего пошиба.
Я смотрю на часы. Половина восьмого.
Поднимаюсь в номер и звоню в Лондонское географическое общество. Отвечает ночной дежурный. Он брюзжит. Видимо, только что проснулся. Он никогда не слышал о Чарльзе де Витте и предлагает перезвонить в рабочее время. Я прошу его на всякий случай просмотреть список местных телефонов. Раздается громкий треск, когда он швыряет трубку на стол. Слышу, как он листает страницы. Вдали звучит истерический голос спортивного комментатора. Он возвращается. Все так, как он сказал, никакого Чарльза де Витта в списке нет, надо перезвонить в рабочее время.
В телефонной книге я нахожу только одного человека по фамилии де Витт, это женщина — Джоселина, с Протероу-роуд. Я набираю номер.
— Резиденция де Виттов, — подходит к телефону женщина, скорее всего негритянка.
Я называю себя и спрашиваю, говорю ли я с Джоселиной де Витт. Нет, не с ней. Миссис Джоселины нет дома, у телефона домоправительница.
— Может быть, вы мне поможете. Здесь, случайно, живут не родственники некоего Чарльза де Витта?
Наступает тишина. Потом она отвечает:
— Да, это семья Чарльза де Витта. Но вам надо поговорить с миссис Джоселиной.
— Когда она вернется?
— Миссис Джоселина провела несколько дней у своей сестры в Йоркшире. Она возвращается завтра.
— А мистер де Витт?
Молчание.
— Я уже сказала, что это вам надо обсудить с миссис Джоселиной.
— Только один вопрос: Чарльз де Витт — ее муж?
После паузы:
— Если хотите, я могу сообщить миссис Джоселине, что вы звонили.
Я называю свое имя и номер телефона гостиницы.
13.
Диана ждет меня у стола, имеющего форму бочки, в самой глубине паба. В табачном дыму я долго не могу найти ее. И только когда она начинает махать мне рукой, я замечаю ее.
Пленительная мысль о том, что есть души-двойняшки, что охота за великой любовью — это погоня за потерянной половинкой, кажется мне самой романтичной идеей метафизики. Одним словом, чистым вздором. Тем не менее это очень заманчивая идея. Нельзя полностью отвергать предположение, что Диана и есть вторая половина нашей общей души-двойняшки. Хотя я думаю так обо всех, в кого влюбляюсь.
Мужчины вокруг Дианы следят за ее взглядом. Увидев меня, они вновь обращают внимание на нее. Может быть, хотят убедиться в том, что она близорука или слабоумна. Или в том, что мы просто деловые знакомые, которые решили разочек гульнуть. Или же я заказал по телефону эту элегантную женщину в качестве эскорта.
Я прошу извинения у всех подряд, пробираясь, сквозь орущую массу людей, и втискиваюсь между Дианой и немцем, распевающим пьяные песни. В Лондоне более семи тысяч пабов. Во многие из них приходят только туристы. Британцы предпочитают свои хорошо запрятанные любимые заведения. Я их понимаю. Мы подзываем к столу официанта, размахивая меню. Диана заказывает два светлых пива. Мы их тут же выпиваем.
Транспорт проносится мимо нас металлическим потоком. Световые фонтаны неоновых реклам преломляются в стеклах очков. Я чувствую себя потерянным. Попавшим на другую планету. Диана здесь как дома. Она взяла меня под руку и о чем-то болтает без конца. Благодаря долгим часам, проведенным перед зеркалом, она полна уверенности в себе. На ней нейлоновые чулки, черная юбка и красная блузка под коротким бархатным жакетом. Я могу только фантазировать по поводу того, какое на ней белье. На ремешке, который обрисовывает грудь, маленькая сумочка. Волосы она собрала в конский хвост.
— Я не забыла поговорить с Люси. Разве я не хорошая девочка?
— Люси?
— Из библиотеки Британского музея. Она с очень большим удовольствием поможет тебе.
— Очень большим?
Диана фыркает:
— Люси интересуется всеми моими знакомыми мужчинами.
Пока Диана рассказывает о веселой Люси, я размышляю, попал ли я в разряд «ее знакомых мужчин».
Я предпочитаю тихих женщин. Немного смущенных, задумчивых. А не тех, кто бегает за мужчинами по барам. Я люблю женщин, полных сокровенных мыслей и чувств, а не тех, кто делится ими с первым встречным. Я не знаю, к каким женщинам принадлежит Диана. Не знаю, почему меня к ней тянет. Еще меньше я понимаю, что она нашла во мне.
На Гаррик-стрит расположен французский вегетарианский ресторан, который славится фантастическим картофельным меню и безбожными ценами. Если кто-то хочет предложить красивой женщине вегетарианский ужин, то в большинстве случаев его ждет полный крах.
Я уговариваю Диану попробовать фасолевую кашу под сыром. Сам я заказываю баклажанную запеканку и неразрезанную спаржу с винегретом. В качестве закуски мы оба берем шпинат и шампиньоны, которые нам неохотно порекомендовал шепелявый официант с прищуренными глазами. Одним из главных преимуществ вегетарианских ресторанов является то, что у официантов нет предрассудков. Поэтому они относятся к альбиносу абсолютно с тем же презрением, что и ко всем остальным посетителям.
После того как официант записал заказ, зажег свечи и удалился, Диана ставит локти на стол, опускает голову на руки и смотрит на меня. В полумраке ресторана мое лицо оказывается в тени, поэтому я чувствую себя увереннее и осмеливаюсь пошутить над тем, о чем принято умалчивать:
— Я знаю, почему ты согласилась пойти на свидание со мной.
Мои слова ошеломили ее. Она выпрямляется:
— А?
— Тебе интересно, как выглядят альбиносы в полночь!
Сначала она ничего не понимает. Потом начинает смеяться.
— Тогда скажи почему, — прошу я.
Она откашливается, успокаивается, глядит на меня искоса:
— Потому что ты мне нравишься!
— Я тебе нравлюсь?
— Я еще никогда не встречала такого человека, как ты.
— Вот этому я готов поверить.
— Ты не думай. Я в хорошем смысле.
— М-м, спасибо!
— Ты не из тех, кто легко сдается.
— То есть
упрямый.
Она тихо смеется и бросает на меня быстрый взгляд:
— У тебя есть возлюбленная? На родине?
— В настоящий момент нет. — Это не совсем верно. Но я не хотел бы, чтобы меня жалели. — А у тебя?
— В данный момент тоже нет. Но было у меня наверняка не меньше сотни. — Какое-то время она не может решить, смеяться ей или отчаиваться. Смех побеждает. — Вот засранка! — бросает она в пространство.
Я молчу. Решать любовные проблемы других людей — не самая сильная моя сторона. У меня хватает своих проблем.
Она смотрит мне в глаза. Я пытаюсь отвечать тем же. Это не очень просто. Мое слабое зрение привело к ослаблению глазных мышц. Медицинское название болезни — нистагм. Врачи считают, что она объясняется попыткой одновременно сфокусировать взгляд и распределить свет, который попадает на хрусталик. Но большинству людей кажется, что мои глаза просто нервно бегают.
— Ты не такой, как все, — повторяет она.
Приносят закуску. Мы молча едим.
Только когда официант подал второе блюдо, налил вина, прошипел:
«Bon appetite!»[156] — и удалился в темный сырой угол за кухней, Диана оживает. Она долго сидит и рассматривает меня, то улыбаясь, то покусывая нижнюю губу. Поддевает вилкой фасоль и отправляет ее в рот.
— Так почему же ты стал археологом? — спрашивает она.
Я рассказываю, что стал археологом, потому что люблю историю, систематизацию, дедукцию, интерпретацию, осмысление. Теоретически я мог бы стать психологом. Психология — это археологические раскопки души человека. Но я слишком стеснителен, чтобы быть хорошим психологом. Кроме того, меня очень мало интересуют проблемы других людей. Не потому, что я эгоистичен, а потому, что мои собственные проблемы слишком велики для меня самого.
— А что с твоим ларцом,
Бьарн? — задает новый вопрос Диана.
Я гоняю спаржу по тарелке.
— Они что-то скрывают. Что-то очень важное.
— Что же?
Я выглядываю в окно. Микроавтобус с тонированными стеклами стоит в запрещенном для парковки месте у тротуара. Я втыкаю вилку в спаржу и вздрагиваю. Перед моим мысленным взором возникают телекамеры и микрофоны, спрятавшиеся за черными стеклами. Иногда у меня бывают параноидальные припадки.
— Огромную тайну. Они готовы на все, чтобы сохранить ее, — отвечаю я тихо.
— Кто это
они?
— Все. Никто. Не знаю. Мак-Маллин. Ллилеворт. Профессор Арнтцен. СИС. Директор Инспекции по охране памятников. Все вместе. Возможно, что ты тоже?
Она молчит.
— Шутка, — смеюсь я.
Она подмигивает и показывает мне язык.
— Они, видимо, на что-то наткнулись в тысяча девятьсот семьдесят третьем году в Оксфорде.
— В Оксфорде?
— Все нити сходятся там.
— В семьдесят третьем?
— Да?
На ее лице появляется болезненная гримаса.
— Что-то случилось? — спрашиваю я.
Позади нас посетитель опрокинул бутылку вина. Официант мчится к нему.
Диана качает головой.
— В общем, нет, — говорит она задумчиво.
— Я никак не могу разобраться, — продолжаю я. — Очень многое не сходится.
— Может быть, ты просто не видишь связи? — предполагает она.
— Как ты думаешь, — спрашиваю я, — откуда в СИС могли точно узнать, где спрятан ларец?
Вопрос изумляет ее.
— А разве мы знали?
— Очевидно. Профессор Ллилеворт, де Витт и папа сделали предположение в своей книге тысяча девятьсот семьдесят третьего года, что Святой ларец находится в монастыре в Норвегии. И лишь в этом году его надумали там искать.
— Ничего странного. Только в прошлом году мы получили спутниковые фотографии, которые показали точное место, где расположен октагон.
Вот это мне надо было бы давным-давно понять.
— Действительность вовсе не такая, какой мы ее воспринимаем, — говорю я, — кто-то невидимый дергает за ниточки.
— Что ты хочешь сказать?
— Они ведь в точности знали, что надо было искать. И где надо было искать. И они нашли то, что искали. И тут вдруг появляюсь я и мешаю им.
— Именно это мне в тебе и нравится! То, что ты мешаешь им!
— Они от меня не в таком большом восторге.
— Пусть скажут за это спасибо сами себе.
— Я им как бельмо на глазу.
— Так им и надо!
Я смеюсь:
— Ты не слишком-то их любишь.
— Они такие… — Она качает головой и стискивает зубы.
— Понравилась фасолевая каша?
— Чудо!
— Ты могла бы стать вегетарианкой?
— Никогда! Слишком люблю мясо! — И она подмигивает мне.
Я не очень часто хожу по Лондону, тесно прижавшись к очаровательной девушке. Честно говоря, я и, вообще-то, не очень часто гуляю с очаровательными девушками.
Воздух горячий, плотный, наэлектризованный. Или же мне только так кажется. Машу автомобилям, которые проносятся мимо. Подмигиваю девушкам. Вот, прислонившись к телефонной будке, дремлет нищий. А рука Дианы в заднем кармане моих брюк.
Я не рассказывал Диане, в какой гостинице поселился. И тем не менее она ведет меня по Оксфорд-стрит, потом по Бейсуотер-роуд. Или же меня ведет туда подсознание. Я использую шанс и обнимаю ее за плечи.
— Я рад, что встретил тебя, — шепчу я.
Мы перебегаем улицу на красный свет светофора. Тут же раздается гудок «мерседеса».
— Очень рад, — повторяю я и притягиваю ее к себе.
Внезапно она останавливается и машет рукой. Я не понимаю, чего она хочет. Я пытаюсь разглядеть, нет ли здесь комаров. Если комары вообще водятся в центре Лондона. К тротуару подъезжает такси. Когда она поворачивается ко мне, на ее глазах блестят слезы.
— Извини! — говорит она. — Спасибо за сегодняшний вечер. Ты очень милый. Извини!
Она захлопывает дверь. Я открываю рот, чтобы сказать что-то, но слова застревают в горле. Диана что-то сообщает шоферу. Что именно, мне не слышно. Шофер кивает. Машина трогается с места. Диана недвижима. Такси заворачивает за угол. Я потерянно стою на тротуаре и смотрю на проезжающие мимо машины.
Долго стою.
Дежурство Линды еще не кончилось. Той, что из семейства кошачьих. Линда, длинноногий леопард.
— Приятный вечер? — спрашивает она профессиональным тоном.
Я угрюмо киваю.
— У меня для вас еще одно сообщение. И письмо. — Она протягивает мне листок, исписанный ее рукой, и конверт.
Я читаю, что мне звонил де Витт, просил с ним связаться.
Поднимаясь в номер, разрываю конверт. В нем белый листок бумаги с коротким сообщением:
За ларец вы получите 250 000 фунтов.
Пожалуйста, ждите новых инструкций.
Я размышляю, за сколько им удастся купить меня. Мою гордость. Уверенность в себе. Самоуважение. Но даже 250 000 фунтов и рядом не стояли с суммой, которая могла бы меня соблазнить.
Мне, видимо, пора идти к психиатру.
14.
— У Дианы довольно искаженное представление о мужиках.
Я сижу на жестком стуле в читальном зале библиотеки Британского музея. Купола надо мной возвышаются на высоте в тридцать два метра, отчего захватывает дух. Столы для читателей лучами расходятся от центра зала, имеющего форму круга. Зафиксированная на бумаге память англосаксонской цивилизации. На столе передо мной высится гора толстых книг. На полу стоят две картонные коробки с документами из рукописного архива. Все: воздух, моя одежда, пальцы — пропахло бумажной пылью. Но от Люси исходит аромат «Сальвадора Дали».
Я листаю страницы и делаю пометки на протяжении четырех часов. Заполнил двенадцать страниц формата А4 заметками, комментариями, наблюдениями. Люси только что вернулась. Она опустила свою милую попку на пустой соседний стул, а теперь сидит и качает ножкой. Рыжая, с подкрашенными голубой тушью ресницами, в мешковатом свитере. Совершенно ясно, что, с ее точки зрения, я недооцениваю искаженное представление Дианы о мужиках.
Я не привык, чтобы меня включали в разряд «мужиков». Я не привык, чтобы женщины вообще обсуждали меня. Если только они меня не жалеют.
— Ну что же, мужики есть мужики, — бормочу я и пытаюсь скрыть, как неловко себя чувствую.
— Они хороши только для самих себя! — мурлычет Люси.
— Нашла еще что-нибудь? О монастыре Вэрне?
— Сожалею. Больше у нас ничего нет. — У нее сипловатый голос, как будто она слишком долго и слишком часто курила. — В основном письма и ссылки в рукописях. Но зато у нас много всего об иоаннитах, если ты хочешь взглянуть. А зачем тебе это?
— Речь идет об археологической находке.
— Диана сказала, что ты археолог. Ты уже нашел нужные материалы?
— Я не знаю, что ищу.
Люси хихикает:
— Диана предупреждала, что ты чудной.
Орден иоаннитов был создан как символ милосердия в одной больнице Иерусалима в 1050 году и посвящен Иоанну Крестителю. Монахи ухаживали за старыми и больными, но потом (по примеру ордена тамплиеров, созданного в 1119 году) взяли на себя обязательство с оружием в руках охранять святые места.
Когда Иерусалим был захвачен в 1187 году, иоанниты перенесли свою резиденцию в крепость крестоносцев Акру. Отсюда они совместно с тамплиерами организовывали вылазки против мусульман. Одновременно монахи совершали рейды по всему миру. Как ни странно, даже в Норвегию. Когда в 1291 году Акра пала, иоанниты перебрались сначала на Кипр, а затем на Родос.
На протяжении столетий иоанниты участвовали во многих битвах, не раз были вынуждены бежать, переживали величие, падение и снова величие. Орден иоаннитов становился все более могучим и богатым. Они принимали дары от королей и князей. Крестоносцы привозили из своих набегов несметные богатства. Сам за себя говорит тот факт, что орден существует и по сей день.
Пока братья боролись в Европе против могущественных врагов, монахи ордена иоаннитов в монастыре Вэрне наслаждались покоем. Папа римский отдал письменное распоряжение, чтобы местное население и король оберегали их. Но вскоре обитатели в монастыре Вэрне стали встречать сопротивление. Папа Николай II написал письмо епископу Осло с просьбой вернуть монахам отнятое у них имущество. Можно только догадываться, что стало причиной такого обращения.
Великий магистр ордена признавал выше себя только папу. Три класса иоаннитов — рыцари, священники и рядовые монахи — распространили орден по всей Европе. В монастырях они по-прежнему ухаживали за старыми и больными. Но за внешней маской покорности и набожности Великий магистр скрывал честолюбивые мечты о захвате новых земель, золота и драгоценных камней, об усилении власти. Для королей, князей и духовных властей иоанниты и тамплиеры стали опасными конкурентами. В 1312 году Филипп IV французский устроил короткий процесс и распустил самый могущественный орден — тамплиеров. Более безопасные для него иоанниты получили многие богатства из сокровищниц тамплиеров. Но наслаждаться благосостоянием им пришлось недолго. Вскоре их имущество было конфисковано. В 1480 году иоанниты отбили турецкое нападение на Родос, но сдались турецкому султану Сулейману в 1522 году. Турки отпустили Великого магистра в Мессину и во время переговоров с императором Карлом V в 1530 году уговорили его отдать им Мальту, Гозо и Триполи.
Через два года после этого время иоаннитов в монастыре Вэрне кончилось.
На Люси красные нейлоновые чулки. Они меня отвлекают. Нейлон шуршит, когда она шевелит ногами. От этого звука легко включается фантазия.
Я спрашиваю:
— Кто он? Ее последний парень?
— Джордж. Засранец. Он использовал ее. А она такая легковерная. — Люси делает выразительную гримасу. — Диана наткнулась на него, когда он был с одной… шлюхой.
— И ушла от него?
— Диана? Ха! Она была от него без ума. Я ей говорила: он только тело! Тело и мускулы! Чудный осел, никаких мозгов. Но ей это нравилось.
— Вообще-то, она производит впечатление, скорее, умной девушки.
— Диана — это голова! Но даже если ты умна, ты не обязательно разбираешься в мужиках. Диана какая-то неприкаянная, ищущая. Я не знаю, что с ней. Она очень специфическая.
— Мне она показалась нормальной.
— Ну конечно. Но у нее было тяжелое детство. Это накладывает отпечаток.
— В каком смысле тяжелое?
— Диана выросла в интернате. Отец навещал ее раз в месяц. Она его боготворит. Но мне кажется, что и ненавидит тоже.
— Он ее бросил?
— Отец?
— Ее бывший. Джордж.
— Уж можешь мне поверить! Съехался с этой своей шлюхой. У которой фигурка получше, чем у Дианы. Но ума в десять раз меньше. Очень подходящая пара, надо сказать.
— А ты? Ты замужем?
— Я? — Она издает громкий крик. В полной тишине зала все читатели поднимают голову. Она закрывает рот рукой и сама на себя шикает. — Замужем? Я? — Она шепчет: — Мне двадцать три!
Как будто это объяснение.
Если бы не Люси, я потратил бы целый день только на то, чтобы получить доступ в библиотеку и в рукописный отдел. Люси добыла мне безо всякой очереди читательский билет и пропуск. Я только сфотографировался, показал мой норвежский паспорт и заполнил две страницы анкеты.
Большой в линейку блокнот уже содержит целый ряд сведений, но сейчас я не знаю, насколько они полезны. Б
ольшая часть архива из монастыря Вэрне —
Domus hospitalis sancti Johannis in Varno[157] — на латинском языке находилась в целости и сохранности в 1622 году. Самое старое папское письмо, подписанное Иннокентием III, было выдано монахам монастыря в 1198 году. К этому времени папа уже проклял короля Сверре. Значит, монастырь, во всяком случае, старше. Существует самое позднее с 1194 года. Но наиболее вероятно, что с 1188 года — вскоре после того, как иоанниты покинули Иерусалим и перебрались в Акру. Папа Климентий III (который так и не стал признанным папой) написал послание главе ордена иоаннитов. Впоследствии исследователи испытывали трудности с его расшифровкой. Вкратце: письмо содержало в себе приказ ордену выполнять священное указание, скрывать и оберегать Святой ларец. Это письмо не играет большой роли в истории религии. Оно даже не сохранилось полностью. Но на копии разорванного документа я вижу рядом с разрывом три буквы «ВЭР». Никто не обращал на них внимания. Это всего лишь один документ из многих тысяч. Но нельзя исключать, что эти буквы входят в слово «ВЭРНЕ».
Позже Люси заходит за мной и проводит в кабинет с телефоном.
Я слышу голос Дианы.
Почти шепотом она просит у меня извинения за вчерашнее. В ее голосе холодные нотки. Как будто она сама не знает, что ей надо. Она совсем не хотела уходить от меня так неожиданно, но ей стало плохо. Она надеется, что я не обиделся.
Я предполагаю, что ей, возможно, пришлось не по нутру вегетарианское угощение.
Она спрашивает, не обижен ли я.
— Обижен? — Я изображаю веселое непонимание. — Мы ведь и так собирались разойтись по домам.
Она спрашивает, может ли она исправить ситуацию. Может быть, мы встретимся сегодня вечером? У нее дома?
— Почему бы нет? — соглашаюсь я. Кажется, у меня на вечер ничего не запланировано.
15.
Я уже некоторое время наблюдаю за ним. Это пожилой джентльмен в слишком теплом кашемировом пальто. Черты лица немного восточные, как будто одним из его предков был принц с Востока, который приезжал погулять в Лондон. Волосы, убеленные сединой, длиннее, чем обычно у мужчин в его возрасте. Ему, должно быть, около семидесяти. Он высокий и стройный. Манеры аристократические. Глаза миндалевидные, живые. Он расхаживает вокруг, берет книги и вынимает карточки безо всякой, системы, явно наугад. И все время следит за мной. Сейчас он медленно приближается к моему столу.
Я устал. Провел целый день над книгами, и документами, которые не разрешили ни одной загадки. Я одну за другой читал книги и статьи об иоаннитах, религиозных легендах и Крестовых походах. Я только что обнаружил кипу документов о событиях в Рене-ле-Шато. Я просмотрел труды о мировоззрении средневековых монахов и о постепенном изменении взглядов Церкви на материальные ценности и имущество. Я не раз спрашивал себя, зачем я это делаю. Разве это имеет значение? Может быть, гораздо проще отказаться от этого проклятого ларца? Он не принадлежит мне. Это не моя проблема. Но что-то во мне протестует. Я хочу узнать.
— Мистер Белтэ? Мистер Бьорн Белтэ?
Это первый англичанин, который сумел произнести мое имя правильно. Он четко выговаривает все звуки. По-видимому, он когда-то выучил правильное произношение. Например, потому, что был коллегой и другом моего отца.
Например, в Оксфорде.
Например, в 1973 году.
Чарльз де Витт…
Наконец-то я его нашел. Хотя, строго говоря, это он нашел меня.
Я закрываю странную брошюру о кодах розенкрейцеров (которая по неизвестной причине лежала среди документов о Рене-ле-Шато) и смотрю на него снизу вверх.
— Да, это я, — подтверждаю я и кладу брошюру на стол.
Он стоит, склонившись надо мной. Одной рукой опирается на стол. Бросает беглый взгляд на брошюру, потом переводит глаза на меня. Впечатление монументальное. Он напоминает аристократа времен минувших — лорда восемнадцатого века, перебравшегося в наше время. В обычных условиях я бы съежился под его упорным взглядом. Но сейчас я лишь дерзко смеюсь.
— С моей внешностью мне довольно трудно исчезнуть. Даже в Лондоне, — нахально заявляю я.
Я не могу в точности описать то, что происходит в следующие секунды. Собственно говоря, он просто улыбается моей иронической шутке. Но кажется, что улыбка и взгляд уносят нас обоих из Британского музея и помещают в вакуум, где время остановилось. В глубине моего сознания раздается тиканье старых часов в комнате бабушки, папиной мамы, в доме у фьорда. Я слышу, как мама шепчет: «Маленький принц! Бьорн!» — я слышу крик папы, я слышу, как Грета говорит: «Я надеялась, что ты никогда этого не узнаешь», слышу слова, голоса, все мгновенно переплетается в секундном всплеске воспоминаний.
Внезапно я возвращаюсь в настоящее и вздрагиваю. Мне кажется, что мой собеседник ничего не заметил.
— Вы меня искали? — спрашивает он.
Я думаю: «О боже, если такое повторится, мне надо будет звонить доктору Вашу после возвращения!»
— Пожалуй, искал, — бормочу я. Я взволнован и растерян. Как, черт побери, называется то, что только что случилось со мной?
— Что вы от меня хотите? — спрашивает он.
— Разве вы не догадываетесь?
Он наклоняет голову, но ничего не отвечает. Я вздыхаю:
— Все знают больше, чем говорят, и делают вид, что вообще ничего не знают.
— Так бывает.
— У нас есть общие интересы.
— У нас? Забавно! Какие же?
— У меня есть вопросы. Думаю, что у вас есть ответы.
— Все зависит от того, что это за вопросы.
— И еще от того, кто их задает.
Он поднимает голову и оглядывает зал:
— Воистину это замечательное место. Вам известно, что сэр Ганс Слоун завещал в тысяча семьсот пятьдесят третьем году Британскому музею пятьдесят тысяч книг, которые стали основой библиотеки? А в тысяча девятьсот шестьдесят шестом году был выпущен каталог библиотеки музея, и только каталог составил двести шестьдесят три тома?
— Мне как-то забыли рассказать об этом.
Он произносит:
— Я сожалею, что заставил вас ждать, господин Белтэ. Я только что прибыл из-за границы. Снаружи стоит моя машина. Может быть, вы окажете мне честь и примете приглашение заехать ко мне на чашку чая? Тогда мы поговорим о наших делах в более приватной обстановке.
— Откуда вы узнали, что я здесь?
На его губах появляется смущенная улыбка.
— Я хорошо информирован.
— Не сомневаюсь.
Он живет на фешенебельной улице в доме с широкой лестницей перед главным входом и узкой лесенкой, ведущей к кухонной двери. Лимузин с тонированными стеклами подкатил к дверям Британского музея, как только мы вышли. Минут двадцать шофер, силуэт которого я видел за разделительным стеклом, крутил по лабиринту улочек. Я заподозрил, что меня хотят запутать. Поэтому, когда мы остановились, я сразу отыскал табличку с названием улицы. Шеффилд-террас.
Джоселина де Витт жила на Протероу-роуд.
Де Витт отпирает дверь. На стене заметна небольшая ниша, где должна находиться табличка с именем владельца.
Дом аристократический. И так же, как другие аристократические дома, он производит впечатление необжитого помещения, куда хозяева только что въехали. Ни мебель, ни картины на стенах, ни ковры не сделали его уютным. Ни малейшего беспорядка. Ничего личного. Ни одного бессмысленного предмета, который нарушал бы целостность интерьера, но зато доставлял владельцу радость. Все так стерильно, словно хозяин только что развелся, выехал из своего старого дома и сейчас собирается обосноваться на новой квартире.
— Значит, ваша жена оставила себе домоправительницу? — говорю я, пока мы снимаем пальто.
Де Витт с изумлением смотрит на меня:
— Моя жена?
Я готов откусить себе язык. Какое неловкое и необдуманное замечание. Типичное для меня. Такую фамильярную реплику можно позволить себе в беседе с хорошим приятелем. Но для аристократа вроде Чарльза де Витта развод — а он, несомненно, в разводе с миссис Джоселиной — является настоящей социальной катастрофой, а не предметом шуток со стороны совершенно постороннего человека.
— Я сожалею, — робко признаюсь я. — Я заглянул в телефонную книгу и позвонил ей. Вашей жене. Но ее не было дома.
— Простите, что? — переспрашивает он. Вид растерянный.
— Джоселина? — повторяю я испытующе. — Что?
— Я не застал ее дома.
— А! — вдруг восклицает он. И с улыбкой смотрит на меня. — Джоселина! Понимаю! О… Понимаю!
Мы входим в комнату и садимся у окна; в лучах солнца роятся серебристые пылинки.
— Вы хотели поговорить со мной? — спрашивает он.
— Вы, наверное, догадываетесь, о чем пойдет речь?
— Может быть, догадываюсь, а может быть, нет. Что вас привело сюда, ко мне? К нам?
— Я нашел ваше имя в книге. У Греты.
— У Греты. — Голос становится слабым, нежным. Так отец может говорить о своей дочери, живущей в далекой стране.
— Вы ее помните?
Он закрывает глаза.
— О да, — только и произносит он. Потом на лицо набегают сумрачные тени.
— Вы хорошо ее знали?
— Мы были любовниками.
Он употребляет слово
sweethearts,
[158] и это придает его воспоминаниям сладостный оттенок. Насколько я представляю себе характер Греты, их связь могла быть какой угодно, но только не сладостной. Но эта новость, по крайней мере, объясняет ее поведение. И тут вдруг происходит нечто неожиданное. У него блестят глаза. Он смахивает слезу.
— Пожалуйста, не удивляйтесь, — смущенно смеется он, — не надо удивляться. Грета всегда была — как бы это сказать? — женщиной страстной. Горячей. И добрым человеком. Слишком ласковой и всепрощающей. Неудивительно, что у нее было много мужчин… поклонников за все годы. Сколько лет прошло с тех пор.
— Я попросил у нее совета. По поводу одной археологической находки. И наткнулся вот на это. — Я показываю его визитную карточку Лондонского географического общества.
Он задумчиво смотрит на пожелтевшую визитку. Явно пытается что-то скрыть.
— О вас там никогда не слышали, — сообщаю я.
— Это недоразумение.
— Какое недоразумение?
— Забудьте про это. Но там, конечно, должны были узнать имя Чарльза де Витта.
— Я приехал в связи с одной археологической находкой.
— Да?
— Мы нашли ларец.
— Интересно.
— Из золота.
— Вы его привезли?
— Простите?
— Мы могли бы вместе взглянуть на него?
— Вы меня не поняли. Дело в том, что я должен этот ларец защищать!
Левая бровь поднимается.
— Вот как?
— Его пытались украсть. Хотели вывезти ларец из Норвегии.
— О ком вы сейчас говорите?
— Ллилеворт. Арнтцен. Лоланн. Виестад. Мои начальники! Все! Все замешаны! Так или иначе.
Его смех звучит не очень натурально.
— Думаете, что я преувеличиваю? — спрашиваю я. — Или что я все выдумал?
— Я думаю, что вы многое поняли неправильно. Нам надо во всем разобраться. — Он смотрит на меня. — Вы мнительный человек, Бьорн. Очень мнительный.
— Возможно, я параноик. Но в данном случае у меня есть все основания для подозрений.
Совершенно ясно, что он радуется. Хотя я не понимаю чему.
— Так что же вы сделали с ларцом? — спрашивает он.
— Я его спрятал.
Опять брови взлетают вверх.
— Здесь? В Лондоне?
— Нет.
— А где же?
— В надежном месте!
— Надеюсь, что так! — Он задерживает дыхание, пытается собраться с мыслями. — Расскажите мне, почему вы пошли на это?
— Потому что все хотят отнять его у меня. Потому что я был контролером. Потому что меня пробовали обмануть.
На его лице появляется довольное выражение.
— Заступник, — шепчет он.
— Простите?
— Вы видите себя в роли заступника. Это мне нравится.
— Я предпочел бы ни за кого не заступаться ни по какому поводу.
— Само собой разумеется. Что произошло во время раскопок?
— Мы работали в поле около старинного средневекового монастыря в Норвегии. Экспедицией руководил профессор Грэм Ллилеворт из СИС. Профессор Трюгве Арнтцен, директор института Фрэнк Виестад и директор Инспекции по охране памятников Сигурд Лоланн осуществляли наблюдение за раскопками. Я был контролером на месте. Ха-ха. Мы искали круглый замок. Так утверждалось. А обнаружили руины октагона. Вы ведь знаете про этот миф? И в руинах мы нашли ларец. Сим-салабим!
— И во всем этом вы усматриваете заговор?
— Профессор Ллилеворт похитил ларец и отвез его к профессору Арнтцену. Моему начальнику.
— И все же мне представляется, что все до сих пор шло по правилам. Почему же вы вмешались?
— Потому что они запланировали вывоз золотого ларца из Норвегии.
— Каким образом?
— По-видимому, на частном самолете. Они кого-то вызвали из Франции.
— Вот как? А откуда это вам известно?
— Я подслушивал у дверей.
Он смотрит на меня и начинает смеяться:
— Теперь я понимаю! Это многое объясняет! Вы подслушивали под дверью! — Он веселится от всего сердца и никак не может успокоиться.
— Я позволил себе разрушить этот маленький заговор.
— Вот это да!
— Я сам украл у них ларец.
— Какое чувство долга!
Я не могу понять, издевается он надо мной или нет.
— А что привело вас ко мне? — спрашивает он.
— Я надеялся, что вы разъясните мне все, что связано с этим ларцом.
— А почему я вообще должен знать что-то о нем?
— Все следы ведут в Оксфорд, в тысяча девятьсот семьдесят третий год. К книге.
— Вот как? — Он задумывается.
Я потираю руки:
— Сейчас я вступлю на тонкий лед. Но вы не участвовали в раскопках, и я надеюсь, что вы мне поможете.
— Как?
— Расскажите, что вы обнаружили двадцать пять лет назад.
Он задумчиво поглаживает подбородок и смотрит на меня.
— Я буду откровенен, — говорит он. — Но рассчитываю на взаимную откровенность.
Мы оба взглядом оцениваем друг друга.
— Вы знаете, что находится в ларце? — спрашиваю я.
— Сначала я хочу узнать, где он находится.
— В надежном месте.
— Надо полагать, вы его не открывали?
— Конечно нет.
— Хорошо! Бьорн, вы мне доверяете?
— Нет.
Мой правдивый ответ опять вызывает у него смех.
— Друг мой, — восклицает он, — я вас понимаю! Я понимаю ваш скептицизм. Но подумайте сами. Вы не ведаете, что творите. Верните ларец! — Его взгляд становится почти просящим, умоляющим.
— А почему?
— Вы можете просто поверить мне?
— Нет, я хочу знать, что в нем.
Он закрывает глаза.
— Я действительно вам сочувствую. Вы любопытны. Мнительны. Не уверены в себе. Испуганы. А еще думаете, что в конечном счете все упирается в деньги.
— Такая мысль приходила мне в голову.
— Но дело не в этом.
— Тогда в чем же?
— Это длинная история…
— У меня много времени.
— Запутанная, со множеством деталей.
— Я хороший слушатель.
— Не сомневаюсь.
— Я жду объяснений.
— Это понятно. Но решение загадки имеет настолько деликатный характер, что вас просто нельзя посвящать в эту тайну. Я вынужден просить вас отступиться.
— Какое нагромождение вздора!
Мое восклицание веселит его.
— Сказано не так уж и глупо,
мистер Белтэ! Должен признаться! Не так глупо! Похоже, что такому человеку, как вы, можно доверять. Кажется, у меня нет выбора. — Де Витт обращается не ко мне. Он разговаривает сам с собой. И только позволяет мне присутствовать. — Я попросту вынужден посвятить вас в нашу маленькую… тайну. Вынужден! — повторяет он. — У меня нет выбора!
Я жду. Не может быть, чтобы он опять пустился разыгрывать мелодраму. Но я ошибаюсь. Он делает попытку встать, но остается сидеть.
— Мистер Белтэ, вы можете дать мне клятву?
— Клятву?
— Я вынужден просить вас дать клятву джентльмена и ученого никогда никому не выдавать того, что я сейчас вам расскажу.
Никак не могу понять, шутит он или нет.
— Обещаете?
Я уже почти готов поверить, что в стене обнаружится дверь, оттуда выйдут с громким смехом телевизионщики из передачи «Скрытая камера» и преподнесут мне цветы. Но ничего такого не происходит.
— Ладно. Обещаю, — соглашаюсь я, но не знаю, всерьез ли.
— Хорошо! — Он по-прежнему обращается не ко мне, а к какому-то духу, который парит у нас над головами. — С чего же начать? — спрашивает он себя. — М-м-м… Можно назвать это юношеским клубом. Клубом посвященных. Клубом знатоков. Клубом юных археологов.
— Археологическим клубом?
— Но не любых археологов. Здесь только самые выдающиеся. Мы называем его просто «клуб». Он был создан Остином Генри Лейардом сто лет тому назад. Лейард собрал вокруг себя пятьдесят самых выдающихся археологов, путешественников и любителей приключений того времени. Количество членов не может превышать пятидесяти. Когда умирает кто-то из членов, остальные собираются для того, чтобы голосованием решить, кого им пригласить в свой клуб. Напоминает выборы папы римского. Хотя, конечно, это не имеет подобного значения, — добавляет он таким тоном, словно сам сомневается в серьезности своих слов.
— И вам так повезло, что вы состоите в этом клубе? — спрашиваю я.
Он пропускает мимо ушей язвительный тон.
— Я являюсь президентом клуба.
Он смотрит мне в глаза, пытаясь уловить, какое впечатление произвело на меня это сообщение. Вообще-то, никакого. Но я всегда могу сделать вид, что произвело.
— Для вас главное — понять, какое значение имеет этот маленький клуб. Неформально, в дружеской обстановке, тайно собираются пятьдесят самых выдающихся археологов. Это происходит два раза в год. Большинство из нас являются профессорами крупных университетов. Мы устраиваем дискуссии, обмениваемся опытом, оцениваем теории. И еще, чтобы не забыть, мы веселимся.
— Как, еще и веселье! — вырывается у меня.
Он взглядом ставит меня на место.
— Конечно, — подтверждает он. Мое отношение смущает его. Он, очевидно, привык, что его слушают с большим уважением и искренним восхищением.
— А у вас не найдется свободного местечка для преподавателя-альбиноса из Норвегии?
— Мистер Белтэ, не думаю, что вы говорите это серьезно.
Я смотрю на него и думаю, черт побери, что это истинная правда.
Глаза его сужаются, он смотрит куда-то в пространство.
— Дискуссии в нашем клубе касаются самых сенсационных археологических находок последних десятилетий. Естественно, все происходит совершенно неофициально. Клуб никогда не присваивал заслуг своих членов, которые совершали выдающиеся открытия. Хотя часто именно клуб был фактическим инициатором начала раскопок или указывал место их проведения. Клуб является своего рода банком знаний. Общим банком, в который каждый из нас делает вклад из своих знаний и где взамен получает проценты в виде совокупных знаний всех пятидесяти членов.
Я откидываюсь на стуле и складываю руки на груди. Иногда умнейшие люди могут нести самую банальную чепуху, рассказывая о себе и своих достижениях. И при этом сами они этого не замечают.
— Вы, вероятно, думаете, что наш клуб — собрание высушенных, лишенных чувства юмора стариков-ученых? — Он хохочет. — Друг мой, мы наслаждаемся радостями стола, пьем самые лучшие вина и пробуем самые благородные сорта шерри.
— А кое-кто из аристократической молодежи к вечерку блюет?
Он смотрит на меня с чувством оскорбленного достоинства:
— Нет. Но мы устраиваем игры.
— Игры?
— Мы организуем конкурсы. Даем задания. Совершенно уникальные. Комбинации из исторических ребусов, карт и, конечно, археологических материалов. Можете назвать это изощренным кладоискательством. Раз в пять лет мы даем новое задание. Тот, кто справится с ним и привезет артефакт, который мы запрятали, попадает в президиум клуба. В настоящее время в нем пять членов.
Я начинаю понимать, куда он клонит.
— В последний раз мы спрятали в могильник в Месопотамии палочку с рунической надписью. Очень приятный анахронизм. — Он хихикает. — Мы придумали ребус, основанный на крылатых сфинксах Лейарда с пятью ногами и головой быка из Британского музея. Поиски привели внимательного ученого в Нимруд…
— А в этом году, — прерываю я его, — вы закопали золотой ларец в монастыре Вэрне.
— Вы человек умный. Но все не так просто. В этом году мы отмечаем юбилей клуба. Поэтому мы решили поставить особо трудную задачу. Мы поручили… — он кашляет, медлит, — мы поручили составление ребуса Майклу Мак-Маллину. Он решил воспользоваться мифом о Ларце Святых Тайн. В семидесятые годы, обучаясь в университете, ваш отец вместе с Грэмом Ллилевортом написал книгу. В ней был намек, что Святой ларец спрятан в октагоне около монастыря Вэрне в Норвегии.
Он забыл упомянуть, видимо из скромности, что сам был третьим автором этой книги.
— Ребус был очень запутанным, — продолжает он. — Разрешимым, но хитроумным. Труднейшая задача.
Я угадываю, что он сейчас скажет.
— И тут что-то сорвалось, — предполагаю я.
— Совершенно верно! К сожалению, совершенно верно. И получилось ужасно неловко. Для нашего анонимного клуба. Для СИС. Для Британского музея. Для всех британских археологов. — Он делает гримасу. — Мог бы получиться скандал. Деликатного свойства. — Он впивается в меня глазами. — Но скандал еще может произойти. — Он вздыхает. — Я расскажу вам о Майкле Мак-Маллине. Он один из самых выдающихся членов клуба. Член президиума. Выдающийся профессор. Вы ведь его знаете? Он провидец. Но в то же время без тормозов. И он украл Святой ларец из Британского музея.
— Украл? Ларец?
— Золотой ларец, найденный вами, — это артефакт, который был обнаружен в Хартуме в тысяча девятьсот пятьдесят девятом году и затем попал в Британский музей.
Это сообщение неприятно удивляет меня. О Хартуме в Судане папа писал в книге, которая была у Греты. Почему же все упорно скрывали, что реликвию уже нашли сорок лет назад? Неужели Грета что-то утаила от меня?
Я не хочу выдавать собеседнику свои сомнения, поэтому не перебиваю его.
— Мак-Маллин вынес ларец из музея в своем «дипломате». Очевидно, он закопал его в монастыре Вэрне.
Я мог бы уточнить, что присутствовал в раскопе, когда обнаружили ларец. Если бы сам он не был археологом, я рассказал бы ему о структуре почвы, о том, что земля и песок на протяжении столетий откладываются горизонтальными слоями, которые будут нарушены, если сделать шурф, а затем засыпать его вновь. Я мог бы объяснить, что земля вокруг ларца была нетронута. Но ничего этого я не говорю.
— Это безобразие. Мак-Маллин недопустимо превысил свои полномочия. Смею заверить, что в клубе еще никогда не было подобных скандалов. Но единственное, что нам оставалось, — исправить роковую ошибку. Мы, конечно, догадывались, где Мак-Маллин спрятал ларец. Проблема состояла только в том, чтобы узнать это совершенно точно. Нам удалось обнаружить спутниковые фотографии, которые он заказал специально. Снимки были сделаны в инфракрасных лучах, так что мы смогли расшифровать тип структуры под холмом. Там мы увидели октагон и даже… да, круглый замок на территории Вэрне. Остальное было делом техники. Операция получила кодовое название «Ларец». Мы организовали раскопки. Поскольку на основании фотографий, сделанных со спутника, предполагаемая территория раскопок получалась довольно большой, было невозможно откопать ларец потихоньку. Нас бы разоблачили. Поэтому мы сделали вид, что ищем круглый замок. Мы соблюдали правила игры. Мы ходатайствовали о разрешении. Заплатили за лицензию. Мы даже пошли на то, чтобы пригласить норвежского контролера, который совершенно неожиданно создал нам проблемы.
Он смеется и смотрит на меня.
— Британское правительство сообщило норвежским властям о деталях этого дела. Британское посольство в Осло оказывает нам содействие в работе. Мистер Белтэ, у вас вряд ли есть выбор. Вам придется вернуть ларец.
Я чувствую себя ребенком в рождественский вечер. Все подарки розданы, ты сидишь на диване в уголке, разгоряченный, опустошенный и усталый, потому что напряжение спало. Вокруг находятся твои родители, бабушки и дедушки, тети и дяди, улыбаются, прихлебывают вино из рюмок. А ты знаешь, что все кончилось, что до следующего праздника надо ждать еще год. Каким бы фантастическим ни было объяснение, оно подействовало на меня как холодный душ. Полное разочарование.
— Понимаю, — произношу я в никуда.
— Понимаете?
— Вы его получите.
— Рад слышать. Очень рад. Он при вас?
— К сожалению, нет. Он у меня в Норвегии.
Де Витт встает:
— В Стенстеде у меня стоит самолет.
— На сегодняшний вечер у меня есть договоренность. Я не могу изменить свои планы. Но мы можем поехать завтра.
— Девушка?
— Богиня.
Он подмигивает мне. Даже если годы охладили его страсть, в воспоминаниях она еще жива.
Перед уходом я заглядываю в туалет. Рулон туалетной бумаги заклеен. Мыло не использовано ни разу. Полотенце выглажено. Но на зеркале множество отпечатков пальцев и пятна жира. Никто не догадался оторвать ценник: «9,90 фунта». Очень удачная покупка, должен признать.
Де Витт протягивает мне руку, когда я ухожу. Мы договариваемся о встрече перед входом в мою гостиницу завтра утром в десять. Он благодарит меня за то, что я пошел им навстречу.
Лимузин подкатывает к тротуару, когда я спускаюсь по лестнице. Открываю дверь и сажусь. Де Витт машет мне рукой. У него вид богатого одинокого дядюшки. Лимузин трогается с места. Я не сказал, куда ехать. Но через пять минут машина останавливается у моей гостиницы.
16.
— Завтра я еду домой, — сообщаю я.
Диана словно спряталась под стеклянным колпаком для сыра. Полное равнодушие. Смотрит на меня.
— Уже? — удивляется она. Взгляд измученный. Как будто она искала утешение в белом порошке.
Она живет в квартире на девятнадцатом этаже высотного здания с таким видом из окна, что я спрашиваю, не Эйфелева ли башня виднеется вдали. Прихожая покрыта шахматными квадратиками черного и белого цвета. На узкой стене мозаика зеркал. Под аркой вход в крохотную кухню. Огромное окно во всю стену смотрит прямо в небо. Каждое утро Диане приходится выходить на балкон и вытирать испарения облаков.
Кожаный диван блестит черным и красным. Стол сделан из такого толстого стекла, что можно спрятаться под ним, если кто-нибудь вздумает обстреливать тебя из базуки.
Я встаю у окна. Подо мной веером домов, улиц и парков раскинулся Лондон.
Я говорю:
— Роскошный вид!
Она говорит:
— Спасибо.
Что-то происходит между нами. Но я не могу понять что.
— Какая квартира! — восклицаю я. Я чуть было не добавил, что здесь чувствуется рука дизайнера. Но я не знаю, воспримет она это как комплимент или как сарказм.
— Большей частью это работа Брайена.
— Кого?
— Одного моего парня. Брайена. Он дизайнер.
Внизу, на улице, появляется синий хвост мерцающих огоньков пожарных машин.
— Люси здорово помогла мне сегодня. Она великолепна.
— Нашел что-нибудь?
— В музее — нет. Но когда я там был, кое-что произошло.
— Она звонила. Сказала, что ты милый.
— Милый?
— И очень странный.
— Странный?
Она смеется.
— Так что же случилось там, в музее?
— Человек, которого я искал, сам подошел ко мне.
— Кто это?
— Его зовут де Витт. Чарльз де Витт.
Она молчит. Но я вижу, что имя ей известно и вызывает удивление. Тем не менее я ничего не спрашиваю.
Она приготовила вегетарианское блюдо по рецепту из журнала, который все еще лежит раскрытым на кухонном столе.
— Надеюсь, что я сделала все правильно. — Она нервно сжимает руки. Характерный жест для всех, кто думает, что приготовление вегетарианской пищи требует каких-то особенных качеств, доступных только избранным.
Я сижу за круглым столом в углу комнаты. Диана порхает взад и вперед, вспоминая, что забыла то одно то другое. Я кладу себе на тарелку тыкву, запеченную в сыре, и салат. Она наливает белого вина. Протягивает мне длинный французский батон, который я разламываю пополам, и чашку с чесночным маслом. Держа руки на спинке стула, она стоит и выжидающе смотрит на меня.
— Прекрасно! — восклицаю я с полным ртом.
Она улыбается и разглаживает юбку, перед тем как сесть. Есть что-то первобытно-женственное в этом ее жесте. Она поднимает бокал с белым вином и кивает мне. Вино — очень сухое.
— Очаровательный господин, этот де Витт, — произношу я.
— Он тебе помог?
— Пытался.
— И что же он рассказал?
— Длинную историю. С множеством пропусков.
— Вот как?
— И странностей.
— Ты ему не веришь?
— Я обдумываю, что именно и почему он опустил в своем рассказе.
— В мире полным-полно лжецов. — Она едва сдерживается. Глаза ее словно стеклянные.
— Мне кажется, за мной следили, когда я шел сюда.
— Что?
— Меня преследовала от гостиницы машина. Надеюсь, это ничего не значит.
— За тобой следили? — спрашивает она возмущенно. — По дороге сюда? Ублюдки!
Она хочет сказать что-то еще, но берет себя в руки. Она впивается взглядом в меня, как будто собирается сообщить что-то неприятное. Может быть, что это приглашение я не должен воспринимать слишком серьезно. Что я зря думаю, будто мы предназначены друг другу. Что я всего лишь милый парень, которого она, может быть, припишет в конце своего списка. После Брайена, Джорджа и девяноста восьми других.
Мы едим молча. На десерт она сделала божественное суфле. На дне чашки под суфле я обнаруживаю ягоду земляники и кусочек шоколада. Она называет это блюдо «Искушение археолога».
Диана ставит на старомодный проигрыватель пластинку «Chicago».
[159] Приглушает свет. Зажигает две красные свечи на стеклянном столе. Ее нейлоновые чулки поблескивают в свете маленьких огоньков.
Кожа дивана скрипит, когда она садится рядом со мной. Такой же скрип слышится в музыке. Судя по всему, она ставила эту пластинку много-много раз. Несколько минут мы сидим молча и боимся прикоснуться друг к другу. Или не прикоснуться.
Диана спрашивает, не хочу ли я выпить. Я соглашаюсь.
Она приносит из кухни джин «Бифитер» и тоник, два стакана, кусочки льда. Мы чокаемся и фыркаем при звоне стаканов. После этого пьем молча. Не знаем, с чего начать. Я пытаюсь придумать какую-нибудь романтическую тему. Ту, которая помогла бы растопить смущение.
Она опережает меня:
— Тебе не кажется, что ты уже что-то нашел? В своем расследовании?
Это не совсем романтично, но лучше, чем напряженная тишина. Я отвечаю:
— Я знаю ровно столько же, сколько на момент отъезда. Но зато я теперь еще более растерян.
Она тихо смеется:
— Странно думать, что у тебя есть… жизнь там, в Норвегии. Я ничего о тебе не знаю!
— А я о тебе.
— Расскажи о себе!
Я рассказываю. Очень бегло.
За окном мерцают миллиарды крохотных огоньков Лондона.
— Засранцы! — шепчет она тихо сама себе.
— Кто?
— Они думают, что я их собственность!
— Кто?
— Папа. И все прочие, его слуги. «Делай то, делай это! Диана, будь послушной. Диана, делай, что тебе говорят!» Тошнит от всего этого!
У Дианы бокал пустой. А у меня еще половина. По ее глазам видно, что она уже опьянела. Наливает себе еще один стакан и выбирает новую пластинку. «Отель „Калифорния“».
[160]
У нее есть проигрыватель CD, но сегодня вечером она ставит только пластинки семидесятых годов.
On a dark desert highway… Cool wind in my hair… Warm smell of colitas… rising up through the air… [161] Я закрываю глаза и погружаюсь в воспоминания.
— Ты напоминаешь мне одного знакомого парня, — заявляет она.
Я открываю глаза и молча смотрю на нее. Она делает несколько глотков из своего стакана и бросает туда два кусочка льда.
— Его звали Робби. Роберт. Но мы звали его Робби.
Я не произношу ни слова.
— Собственно говоря, только сегодня вечером я поняла, на кого ты похож. Теперь вижу. Ты похож на Робби. — Она смотрит на меня и в то же время куда-то вдаль. — Робби Бойд. Мы были вместе одно лето.
— Давно?
— Нам было по пятнадцать лет. Учились в разных школах-интернатах.
— Он был альбинос?
Взгляд изумленный.
— Ты сказала, что я тебе его напоминаю, — объясняю я.
— Не в этом дело. Вы похожи.
— Что с ним стало?
— Умер.
— Ой.
— В автокатастрофе.
— Ой.
— Я узнала об этом случайно. Никто не подозревал, что мы встречались. Я не могла никому об этом рассказать, В каком-то смысле для меня эта история не кончилась. Каждый раз, когда я бываю с каким-нибудь мужчиной, мне кажется, что я изменяю Робби. Может быть, поэтому я никак не могу остановиться на ком-нибудь. — Диана задумчиво хихикает, набирает воздух и медленно выдыхает. — Ты испытываешь когда-нибудь чувство одиночества? — Она ерошит мне волосы.
— Бывает.
— Я не имею в виду, что ты остаешься без партнера. Я хочу сказать — чувствуешь одиночество?
— Иногда.
— В юности я чувствовала себя самым одиноким человеком на этой земле. У меня никогда не было мамы. Она умерла при моем рождении. А папа — он… — Она делает глоток из бокала.
— Что с ним?
— Он… Он всегда очень далек от меня. Вел себя, как добрый дядюшка. Наверное, поэтому мне так нужен был Робби. Наконец-то я нашла кого-то, если ты понимаешь.
— Я потерял отца, когда был мальчишкой.
— Наверное, это еще хуже, — задумывается она. — Ты знал его. Ты потерял того, кого любил. Я не сразу поняла, что потеряла маму.
— Значит, и не надо было чем-то заполнять пустоту.
— Или, может быть, пустота была такой большой, что я ее не заметила. — Она смотрит на меня. — Я часто чувствую проклятое одиночество. Даже если в это время я с парнем.
— Многие чувствуют одиночество в толпе.
— У тебя было много девушек?
— Не особенно.
— А у меня много! Ну конечно, не девушек, а парней! Мужчин! И знаешь что?
— Нет.
— Это не спасает от проклятого одиночества. Даже если у тебя было сто любовников, все равно оно остается с тобой.
Я пожимаю плечами. Сто возлюбленных — это для меня такая же теория, как последний постулат Ферми: я не постигаю даже, в чем тут проблема.
Я спрашиваю:
— У тебя было сто любовников?
Она хихикает:
— У меня такое ощущение! Девяносто девять! Не знаю. В каком-то смысле у меня был только один возлюбленный. Это Робби. Все остальные были только… Ну, сам знаешь…
Она прислоняется ко мне. Левой рукой я обнимаю ее за плечи.
— Иногда я его ненавижу! — восклицает она.
— Робби?
— Нет, папу! Пойми меня правильно. Я его люблю. Но иногда я его ненавижу до глубины души! — Она вздыхает, поворачивается ко мне и смотрит прямо в лицо. — Тебе кто-нибудь говорил, что ты очень красивый?
— Ну да. После двух-трех рюмок.
— Я не шучу. Тебя легко полюбить.
— Диана, я видел себя в зеркале.
— Ты милый!
— Ты тоже милая!
Она грубо смеется и тычет меня в бок указательным пальцем:
— Ты мне льстишь! Я рада, что встретила тебя!
— Почему?
— Потому что ты мне понравился. Потому что я никогда не встречала такого, как ты. Ты сам по себе. Ты посылаешь к черту весь мир. Ты уникальный.
— У меня, в общем-то, нет другого выхода.
— Ты во что-то
веришь! Никогда не сдаешься. Тебе все равно, с кем ты имеешь дело. Я всегда уважала таких, как ты. А эти засранцы…
— Кто?
— Им кажется, что они могут… — Она останавливается. — Если бы ты только знал… Покажи им! — гневно выкрикивает она.
«Сейчас что-то будет», — думаю я.
Она наклоняется и целует меня.
Когда я поцеловал девушку в первый раз, мне было шестнадцать лет. А ей — четырнадцать. Ее звали Сюзанна. И она была слепая.
Целуя Диану, я думаю о Сьюзи. Не знаю почему. Я не думал о Сьюзи много лет. Но то, как Диана целуется (с какой-то неловкой навязчивостью, как будто она хочет и не хочет одновременно), открыло дверь в прошлое. Я вспоминаю тщедушное тело и несложившиеся формы Сьюзи, то, как мы дышим в рот друг другу.
Дыхание Дианы отдает джином. Язык ее озорничает. Не знаю, куда мне девать руки. Она немного отодвигается, берет мое лицо в свои ладони и глядит на меня. В глазах появились красные прожилочки, которые бывают у непривычных к выпивке людей. Есть и еще что-то — переживание? горе? смущение?
Ничего не говоря, она начинает расстегивать блузку. Застыв в ожидании, я слежу за каждым ее движением. Справившись с пуговицами, она берет мою руку и прикладывает пальцы к лифчику.
Бросает на меня взгляд. «
Бьарн, милый альбинос». Один из ста.
Ведет меня в спальню. Стены ярко-красного цвета. На двуспальной кровати — черное одеяло с желтой молнией. На столике у кровати — глянцевые модные журналы. Она сбрасывает одеяло, забирается на постель и, извиваясь, выбирается из юбки. Ради такого случая она приоделась. Красный прозрачный лифчик в тон трусикам. Она шевелится в кровати, ожидая, когда я приду. Я расстегиваю рубашку и мучаюсь с ремнем. У меня каждый раз проблемы с ремнем, когда надо его расстегнуть на глазах у нетерпеливой женщины. Хотя сказать, что это бывает часто, я никак не могу.
Когда я сажусь на край кровати, она наклоняется и жадно целует меня. Я чувствую себя глупым. Беспомощным. Я знаю, что мне надо делать. Но не делаю этого. Сижу неподвижно и заставляю ее страдать.
Впрочем, не очень сильно. Она открывает ящичек столика и вынимает четыре коротких шелковых шнура.
Нервно фыркает:
— Хочешь привязать меня?
Она пьяна. Безусловно, пьяна.
— Что это такое? — бормочу я.
Я правильно расслышал ее слова. Но не могу поверить.
— Привяжи меня!
Я смотрю на шнуры.
— Шокирован? — спрашивает она.
— Вовсе нет!
Как будто я в жизни ничем другим не занимался, кроме как привязывал женщин к кровати и потом любил их до безумия.
— Ты шокирован! Я же вижу!
— Вовсе нет! Я читал об этом!
— Не хочешь? Откажись, если не хочешь!
Конечно хочу. Я только не могу понять как. Она показывает мне, что надо делать. Я привязываю кисти и лодыжки к каждой из четырех стоек кровати. Она тяжело дышит. У каждого из нас свои желания.
Я никогда раньше не занимался сексом таким образом. Я человек не обидчивый. Но я всегда прямо приступал к делу.
Не очень уверенно я ложусь рядом с ней. Она уже изнемогает, когда мои пальцы прикасаются к ней.
Но тут появляется проблема. Я ведь никогда раньше так не делал. На ней все еще надеты трусики. А расставленные ноги крепко привязаны. Если я развяжу шнуры, магия исчезнет. Я мучительно думаю, как же мне разделаться с трусиками. Наконец я сдаюсь. Попросту сдвигаю их набок. И проблема решена.
Потом, когда мы, прижавшись друг к другу, лежим под периной, она спрашивает:
— Послушай, можно, я поеду с тобой? В Норвегию?
Она неправильно истолковывает мое молчание.
— Я вовсе не хочу тебе навязываться. Извини.
— Нет-нет-нет. Мне очень приятно слышать твои слова.
— У меня осталось несколько недель отпуска, — объясняет она. — Я подумала, это было бы здорово. Увидеть Норвегию. Вместе с тобой.
— Я еду домой завтра.
— Не важно. Если только ты хочешь.
— Конечно хочу.
В три часа ночи она меня будит.
— Ты хорошо его спрятал? — спрашивает она. Я не понимаю, о чем она говорит.
— Ларец! — объясняет она. — Я подумала кое о чем. О твоих словах. Надеюсь, он в надежном месте?
Я так устал, что в глазах у меня двоится. Две очаровательные сестрички Дианы.
— Хорошо, хорошо, — бормочу я.
— Ты не поверишь, насколько здорово они умеют все выяснять. Когда захотят. Против тебя задействован не кто попало.
— Почему ты это говоришь?
— Потому что хочу, чтобы ты знал: я на твоей стороне. Хотя работаю в СИС и все такое. Я думаю, что ты мне не доверяешь полностью. Но что бы ни случилось, я всегда буду на твоей стороне.
— Конечно, я тебе доверяю.
— Надеюсь. Но ты все равно не доверяй. Может быть, у меня в сумке есть микрофон. Или что-нибудь в этом роде. Поэтому никогда не рассказывай мне, где ты спрятал ларец. Хорошо?
— Он — мой друг. Ты его не знаешь. И я доверяю тебе, — шепчу я и отворачиваюсь. Она прислоняется ко мне. Ее груди прижимаются к чувствительной коже на спине. И вот так я засыпаю.
17.
Этого портье я еще не видел. Мужчина. Высокий блондин, похожий на арийского бога войны. Но когда открывает рот, раздается гнусавый голос со странными издевательскими интонациями. Кокетливо взглянув на меня, он сообщает, что я пользуюсь большой популярностью. Потом протягивает два сообщения. Телефакс и записку от королевы ночи Линды. Записка короткая и почти без орфографических ошибок. Звонила Джоселина де Витт.
Телефакс — письмо, написанное от руки на бланке Инспекции по охране памятников:
Бьорн! Пытался до тебя дозвониться. Какого ч… ты пропал?
Не могу поймать Грету. Sorry. Может быть, у нее есть родственники и она к ним уехала? Звякни мне, хорошо?
К.
В номере — все как было. Почти. Перед уходом я сунул зубочистку под крышку чемодана под кроватью. Так, на всякий случай. Для того, чтобы убедить самого себя в том, что я параноик и идиот. Сейчас зубочистка лежит на ковре.
В д
уше я смываю с себя запах Дианы.
Переодевшись, я решаю, прежде чем собирать вещи, позвонить Джоселине де Витт. Не потому, что я хочу с ней поговорить. А потому, что я вежливый молодой человек. И еще потому, что я — вынужден признать — любопытный.
Отвечает домоправительница. Хотя она закрыла трубку рукой, я слышу, как она рассказывает, что звонит джентльмен по поводу мистера Чарльза.
Джоселина де Витт снимает трубку другого аппарата. Я называю себя. Бьорн Белтэ. Археолог из Норвегии.
— Археолог? — восклицает она. — Понимаю. Это многое объясняет.
Голос у нее приятный и мягкий. Мне кажется, что он доносится из прошлого века.
— Что именно?
— Для Чарльза археология была самой жизнью. Хотя она стала и его… Это было давно. Двадцать лет назад.
Я почему-то сдерживаю себя.
— Не так уж и много де Виттов в Лондоне, — говорю я.
— Мой муж происходил из французского рода. Во время революции они сбежали в Англию. А в связи с чем вам был нужен Чарльз?
Я признался, что позвонил наудачу единственному человеку по фамилии де Витт, который был в телефонном справочнике Лондона.
— Конечно, мне стало ужасно интересно, — продолжает она. — Я стала гадать, что вам надо и кто вы. Вы меня извините, но Чарльз умер много лет тому назад. А чем могу помочь вам я?
Сейчас половина девятого. Через полтора часа за мной придут.
18.
Джоселина де Витт напоминает лебедя с длинной шеей и грациозными жестами. Интонации голоса усыпляющие, в них слышится звон хрусталя, шум охоты на лис, приближение вечера в прохладной тени беседки. Во взгляде ощущается одновременно веселая и сдержанная уверенность в себе. Все в ее облике свидетельствует о том, что ей никогда не приходилось подниматься в восемь утра, чтобы подложить кокс в печь. От этого особенно странно звучат сочные словечки, которые она периодически вставляет в свою утонченную речь.
Она управляет своей цветной толстушкой-домоправительницей быстрыми движениями пальцев. По-видимому, они создали свой особый условный язык. Именно так бывает с хозяевами и слугами, если они прожили вместе так долго, что стали единым целым. Домоправительница понимает, какой жест означает «Выматывайся из комнаты и закрой за собой дверь», какой: «Принеси банановый ликер» и какой: «Почему ты не угощаешь норвежца сигарой?».
Я никогда раньше здесь не бывал. Даже улица совсем другая, чем та, куда я приходил в гости к Чарльзу де Витту. Или к его призраку.
Мы входим в комнату с тяжелыми люстрами, арочными окнами, гобеленами и толстыми коврами, мебелью в стиле барокко, громадным камином и — бог ты мой! — еще и печкой в углу.
Миссис де Витт берет меня за руку и подводит к камину, который, по причине мании величия, вздумал изображать из себя слона.
— Вот он! — восклицает она. — Мой дорогой Чарльз и все остальные. Фото семьдесят третьего года.
Она повесила сильно увеличенную фотографию в рамке под стеклом на почетное место над камином. Краски выцвели. У мужчин длинные волосы, футболки самых невероятных цветов. Кажется, что эти люди смотрят на тебя из застывшего мгновения в прошлом.
Они собрались группой у раскопа. Кто-то опирается на лопату. Кто-то обвязал голову платком, чтобы не напекло.
Справа за Гретой стоит папа.
Грету трудно узнать. Она молода и привлекательна. Игрива. Глаза блестят. Она держит руки на животе. На отвале, возвышаясь над всеми остальными, царит Чарльз де Витт, скрестивший руки на груди. У него вид надсмотрщика на плантации, которому принадлежит вся эта проклятущая бригада. Значит, это все-таки он. Пожилой джентльмен обманул не меня. Он обманул свою жену.
Не знаю, какой секрет он скрывает. И зачем он притворился умершим. Или каким образом он ухитрился прожить, спрятавшись, все эти годы. Не будучи разоблаченным. В центре Лондона.
Мне страшно рассказывать ей правду.
Она ему надоела? Он сожительствовал с другой женщиной? Или встретил какого-то очаровательного мальчишку, перед которым не устоял? Может быть, обнаружил в Оксфорде в 1973 году вместе с папой и Ллилевортом нечто такое, что заставило его покинуть прежнюю жизнь?
Миссис де Витт приглашает меня в гостиную в стиле Людовика XVI. Мы садимся. Положив ногу на ногу. Тут, словно джинн из бутылки, возникает домоправительница с хрустальным графином.
— Чуть-чуть бананового ликера? — предлагает миссис де Витт.
Я вежливо киваю в знак согласия. Миссис де Витт отлично выдрессировала домоправительницу, и та никогда не смотрит прямо в лицо. Она разливает ликер по рюмкам, не поднимая глаз. Ликер наполняет рот сладостью.
— Чертовски хорошо! — причмокивает миссис де Витт. Вряд ли это ее первая рюмка за утро. — Так что же вы хотели у меня узнать? — спрашивает она и доверительно наклоняется ко мне.
— Я уже говорил, что я — археолог…
— А зачем вам Чарльз?
— Я сделал находку, которая требует некоторых изысканий. И в этой связи появилось имя вашего… покойного мужа.
Банановый ликер напоминает по вкусу сироп. Я сижу и чмокаю.
— Каким образом? — спрашивает она.
Мне в голову приходит, что я не представляю, как ей что бы то ни было объяснить. И меньше всего хочется сообщать о том, что ее муж благоденствует и по сей день. Я пытаюсь направить разговор в другую сторону:
— Вы говорили, что семья де Виттов бежала из Франции во время революции?
— Чарльз очень гордился своими предками. Замороженные французские лягушки! Они с криком о помощи ускользнули от гильотины. Семья выскочек, скажете вы! Но они же общались с королем и аристократами, в особенности женщины. Шлюхи высшего класса! И они драпанули через Канал. Прадед Чарльза основал адвокатскую контору «Барроу, Пратт & де Витт Лимитед». Дед и отец по очереди наследовали контору. Ожидалось, что Чарльз примет дела вслед за отцом. Чарльз был… хорошо воспитанным, как вы понимаете. Он начал учиться на юриста. Но набросился на археологию. Обратил его в другую веру профессор Майкл Мак-Маллин. Для семьи Чарльза это было скандалом. Окаянной революцией! Отец с ним не разговаривал много лет.
И только тогда, когда Чарльз стал профессором, отец пришел к нему. И поздравил. Но так никогда и не простил.
— И ваш муж умер в…
— Тысяча девятьсот семьдесят восьмом году, — говорит она.
Ответ заставил меня похолодеть. Перед глазами возник выступ скалы. Трос. Узел.
Она не замечает моего волнения.
— Но скажите мне, пожалуйста, молодой человек, что вас интересует? — спрашивает она.
— Что вы знаете об обстоятельствах смерти вашего мужа? — запинаясь, говорю я.
— Они искали что-то вроде клада. Психи! Он все скрывал. Обычно он рассказывал о своей работе гораздо больше, чем мне хотелось бы слышать. О-о, как он мог надоедать мне своей болтовней! Вся эта академическая словесная моча! Но на этот раз я узнала от него только то, что они искали ларец. Чертов доисторический ларец!
О небо…
— Нашли? — спрашиваю я.
— Да кому это интересно? После смерти Чарльза я уехала к сестре в Йоркшир. И прожила у нее около года. Чтобы прийти в себя после шока. Вы когда-нибудь теряли дорогого человека?
— Отца.
— Тогда вы понимаете, о чем я говорю. Тяжелое время. Нужен покой. Время и тишина для воспоминаний. Надо думать. Правильно относиться к горю. Может быть, попытаться вступить в контакт с умершим через медиума. Сами знаете. Скажите мне: Чарльз оставил какие-то бумаги, которые привели вас ко мне?
— Только визитную карточку. Отчего он умер?
— От инфекции. На левой руке была рана. Строго говоря, царапина.
— От которой он скончался?
— Рана воспалилась. В любом другом месте его бы спасли.
— А он где находился?
— Далеко от людей! До того как его доставили в больницу, у него началась гангрена.
— Где?
— На руке, я же говорю! Руку ампутировали! Всю руку! Но эти безмозглые павианы — прошу прощения! — не привыкли иметь дело со сложными случаями. Он умер через два дня после ампутации.
— Но где?
— В джунглях проклятых!
Я сижу молча несколько секунд, потом переспрашиваю:
— В джунглях?
— Я так и сказала, разве нет?
— Вы имеете в виду — в Африке?
Она закатывает глаза:
— Я гарантирую, что не имею в виду Оксфордскую площадь!
— А это произошло, случайно, не в Судане?
— Зачем вы спрашиваете, если вы и так все знаете?
— Как прошли раскопки?
Она откидывает голову назад:
— Без понятия! Честно говоря, я никогда об этом не задумывалась. А если точнее, плевать я на это хотела! Перед смертью он написал мне письмо. Прощальное письмо, как потом выяснилось.
Она щелкает пальцами. Домоправительница, стоявшая до этого в углу подобно неподвижной толстенной статуе Будды, пробуждается к жизни, открывает шкатулку и подносит хозяйке коробочку. Внутри коробочки лежат пять листков, исписанных от руки и связанных черной шелковой лентой. Миссис де Витт развязывает узелок и протягивает хрупкие листки мне.
Я медлю.
— Читайте! — командует она.
У Нила в Южном Судане
Понедельник, 14 августа 1978 г.
Моя дорогая Джоси!
Какое невезение! По дороге от лагеря, где стоят наши палатки, к месту раскопок я был неосторожен (пожалуйста, не надо комментариев!), споткнулся о корень и упал с крутого склона из камней и глины. Не пугайся, дорогая. Падение было неопасным. Но я зашиб немного коленку, а острый камень поцарапал руку. Выступила кровь, но наш бой перевязал рану и помог мне добраться до лагеря. Тут оказалось, что мы не можем найти нашу аптечку. До чего характерно! Мак-Маллин приказал мне побыть сегодня в палатке, чтобы царапина заросла. Рана не очень глубокая, и я думаю, что необходимость зашивать ее не появится.
Но в этом происшествии есть кое-что хорошее: я сижу в палатке и скучаю, так что у меня — наконец-то! — появилась возможность написать тебе несколько строк. Да-дa-да, я прекрасно знаю, что следовало написать давно, но Мак-Маллин — не тот человек, который считает свободное время и отдых благом для человечества…
Здесь гораздо жарче, чем я предполагал. Если честно, то жара невыносима. Но хуже всего влажность, которая приклеивается к человеку, как расплавленная краска. А еще есть насекомые, да-да! (Но так как ты очень сердечно относишься к насекомым, я не буду говорить, какие они большие — огромные!!!! — здоровенные!!!!!!!!! — или же где мы их находим: в постели! В обуви! В одежде!)
Мы уже очень далеко (или глубоко, хи-хи-хи) продвинулись с нашими раскопками. Не буду утомлять тебя профессиональными разговорами, я знаю, что тебе это кажется совершенно неинтересным, но дело обстоит так: мы ищем следы, оставшиеся от персидского похода. Не знаю, сколько раз я говорил Мак-Маллину, что ларец никогда не был у персов. Что иоанниты, скорее всего, спрятали его у октагона в своем монастыре в Норвегии. Но никто меня не захотел выслушать. Один только Биргер. Мир праху его…
Упс, принесли обед! Позже продолжу, мой пупсик!
Ночью
Сейчас половина второго (ночи!!!), не могу уснуть, снаружи темнота, чужие звуки и резкие запахи.
Африканская ночь имеет в себе что-то такое, чего я никогда не встречал на родине. Кажется, что она шепчет тебе, будто что-то рождается. Я говорю не о животных и насекомых, а о чем-то, что несравненно больше по размеру. Прости меня за сантименты.
По-моему, у меня жар.
Меня знобит, хотя сейчас здесь в палатке как минимум 35 градусов. А влаги — как в проклятой теплице.
Рана на руке ужасно болит. Черт, черт, черт… Попробую заснуть. Мне тебя не хватает, дружок! Чмок, чмок!
Вторник
Произошло то, чего я боялся. У меня поднялась температура. Как ты думаешь, в эту чертову царапину попала инфекция?
Не переживай, Джоси! Мак-Маллин решил отправить меня в деревню, где есть больница. На это потребуется один день передвижения пешком и еще один день на джипе. Надо честно признать: я чертовски боюсь!
Вечером во вторник
Целый день я лежал на носилках, как ломоть датской ветчины. Восемь человек попеременно несли меня. Все аборигены. Они болтали и смеялись друг над другом. А я ничего не понимаю в их разговорах. К счастью, Мак-Маллин послал также двух англичан, Джакоба и Кеннеди. Они составляют мне компанию. Но на этой жаре нет никаких сил для разговоров! Жара и влажность — невыносимые. Джунгли — густые, полные испарений. Многие мили отделяют меня от ближайшего моря, но у меня морская болезнь.
Вечером в среду
Я должен тебе кое-что рассказать, Джоси. Моя рана стала испускать запах. Сначала я думал, что это от пота. Но потом остальные тоже начали замечать это, а когда сняли повязку, пошла такая вонь, как будто от ядовитого облака. Не знаю, этот запах идет от бактериальной инфекции или в ране развилась гангрена. Я боюсь самого худшего. Если говорить правду, то я чувствую себя ужасно плохо. Днем меня стало тошнить. Но мы, к счастью, добрались до автомобилей. Ранее мы предполагали разбить на ночь лагерь. Но мои спутники решили, что надо немедленно отправляться в путь. Хотя ехать по этим дорогам среди черной ночи — все равно что ехать по преисподней. Я могу только уважать их самопожертвование.
Заканчиваю, сейчас поедем!
Вечером в четверг
Какая ночь! Расскажу тебе, когда вернусь домой.
Когда наконец прибыли утром в больницу, там поднялся переполох. Мне кажется, что у них никогда еще не было белого пациента. Это хорошо — они будут ухаживать за мной, как за богом, который вдруг спустился к ним с небес.
Сейчас ожидаем врача. Он в деревне в нескольких милях отсюда. О боже, я взвинчен, Джоси! Вонь — ужасная. Видимо, это гангрена. Но мы, к счастью, приехали рано.
Чувствую себя совсем плохо.
Вечером в пятницу
О, Джоси, Джоси, Джоси!!! Должен сообщить тебе ужасную вещь! Будь храброй девочкой, обещаешь?
Мне отрезали руку, Джоси!
Слышишь? Они ампутировали мою руку! О боже! Когда я смотрю влево, я вижу обрубок с кровавым бинтом! Действительно это была гангрена, как я и боялся! О, Джоси!!
К счастью, боли не такие сильные, как можно было ожидать, но меня все время тошнит! Меня напичкали морфием!
Мне очень неприятно, что я вынужден сообщить тебе это вот таким образом!
Домой к тебе вернется инвалид! Мне надо было послушаться тебя и остаться дома!
Больше не в состоянии писать!
Ночью
Тоскую по тебе! Не могу уснуть.
Очень больно.
Холодная как лед.
Суббота
Дорогая самая дорогая Джоси сегодня — (неразборчиво)
и я — (неразборчиво) — перед священником
Но — (неразборчиво) — Моя Дж(оселина)
— я люблю тебя! — прости — (неразборчиво)
Ночью
Сейчас (неразборчиво) —
Джоси любимая от жара я стал (неразборчиво)
так устал!!!!!
Напишу тебе поз…
Это прекрасный образец поэтического творчества. Чарльз де Витт, вероятно, злобно ухмылялся, когда изображал себя самого на смертном одре. Первая страница написана четкими буквами с правым наклоном, которые глубоко вдавлены в бумагу. Постепенно он меняет почерк, который становится все менее уверенным и плохо читаемым. Под конец буквы едва заметны.
Я откладываю листочки в сторону.
— Он умер в ночь на воскресенье, — произносит миссис де Витт.
Я не знаю, что на это ответить.
— Настоящее прощальное письмо, да? — вздыхает она.
— Наверное, очень тяжело читать такое письмо!
— В каком-то смысле. И в то же время я чувствовала, что я при этом присутствую. Я знаю, как это происходило. Что он думал и чувствовал. Если вам понятно, что я хочу сказать. Мак-Маллин сам привез письмо из Африки и передал его мне.
Она делает глоток ликера. Я встаю и подхожу к фотографии у камина. Миссис де Витт семенит за мной.
— Вам знакома эта женщина? — Я указываю на Грету.
Миссис де Витт фыркает:
— Эта шлюха? Норвежская поблядушка?
Тут она вспоминает, что и я тоже норвежец. И что теоретически женщина на фото может быть моей матерью. Возможно, выяснить это я и приехал.
— А вы ее знаете? — робко спрашивает она.
— В известных пределах — да, — вру я. — Она преподавала в университете.
— Она забеременела, — сообщает миссис де Витт.
Я стою с открытым ртом.
— Забеременела? — запинаясь, повторяю я. И спрашиваю себя: от папы? Или от де Витта? Он сам рассказал, что они были любовниками. Но я не смею задать этот вопрос.
— Все делали вид, что не замечали этого, — фыркает она.
Я показываю на Чарльза де Витта.
— А это, — спрашиваю я негромко, чтобы скрыть
волнение, — это ваш покойный муж?
— Боже милосердный, нет! — смеется она. — Хотя я нисколько не возражала бы против такого мужа!
Смутившись, она показывает на невзрачного смуглого мужчину, который сидит на корточках с левой стороны фотографии. Вид у него как у обиженного испанского торговца на рыночной площади.
— Вот он, мой Чарльз! Да помилует его Бог!
— Но, — спрашиваю я, ничего не понимая, и тыкаю ногтем в мужчину, который царит над всеми на фотографии, — это кто?
— Это, — она смеется, — руководитель раскопок. Очень известный археолог и ученый. Добрый друг моего Чарльза. Разве я не упоминала его? Майкл Мак-Маллин!
19.
Грузовик для перевозки мебели, огромный, как бензовоз, занял весь тротуар вдоль Шеффилд-террас, так что пешеходам приходится идти почти по середине проезжей части. Я прошу таксиста подождать. Полный необъяснимого ужаса перед Судным днем, я подбегаю к одному из грузчиков с тупым взглядом и мощными, как бревно, руками. Я спрашиваю его, где хозяин. Он меня не понимает и зовет другого амбала, который у них, по-видимому, бригадир. Я повторяю вопрос. Оба смотрят на меня и бесстыдно смеются над моим акцентом. Для них я всего лишь бледнолицый испуганный клоун-попрыгунчик, который дрыгает ножками перед их глазами.
— Хозяин? — повторяет наконец бригадир. — Понятия не имею.
— А кто здесь раньше жил? — повышаю голос, чтобы перекричать проезжающий мотоцикл. Они пожимают плечами. — Это важно, — настаиваю я, — я иностранный хирург. Речь идет о трансплантации сердца, очень срочно, жизнь ребенка!
Они неуверенно переглядываются. Потом бригадир входит в кабину грузовика и вызывает диспетчерскую. Когда он возвращается, вид у него растерянный.
— Ты, наверное, ошибся, приятель, эта квартира сдается внаем, — объясняет он. — Мы не знаем имени хозяина, да и не имеем права сообщать, кто наши клиенты, так ведь, господин из полиции? — Его внимание переключается на пять фунтов, которые я сую ему в карман. Он наклоняется ко мне: — И кроме того, тебе нужно говорить с теми людьми, понимаешь, которым принадлежит эта квартира. Это ведь не первая попавшаяся квартира, понимаешь?
Возможно, это просто-напросто совпадение. Совпадения бывают очень смешные. Иногда события происходят подряд, как будто между ними есть какая-то связь.
Чарльз де Витт, однокашник и коллега папы по Оксфорду в 1973 году, испустил дух в суданских джунглях августовской ночью 1978 года. Это случилось через месяц с небольшим после того, как мой отец погиб в результате несчастного случая, который полиция даже не захотела расследовать в связи с особыми обстоятельствами.
В связи с особыми обстоятельствами.
От такой формулировки у меня бегают мурашки по спине. Как будто что-то они знают. Но не всё.
Лондонское географическое общество, как всегда в субботу, закрыто. Но я продолжаю звонить до тех пор, пока из переговорного устройства мне не отвечает брюзгливый голос. Я спрашиваю Майкла Мак-Маллина.
— У нас закрыто, — отвечает охранник.
Я повышаю голос и снова требую Майкла Мак-Маллина. Вопрос важный.
— Приходите в понедельник! — огрызается охранник. Я прошу связаться с Мак-Маллином и сообщить ему, что мистер Белтэ из Норвегии ищет его по чрезвычайно важному делу.
— Что за колокольчик из ниоткуда?
[162] — хрипит голос.
— Я мистер Белтэ из Норвегии! — кричу я так громко, что пешеходы испуганно смотрят на меня и ускоряют шаг. — Передайте ему, что сумасшедший альбинос хочет с ним поговорить!
Жужжание в переговорном устройстве прекращается. Я звоню еще много раз, но охранник не отвечает. Я вижу его за стеклом у экранов наблюдения. Испуганный и довольный собой, он сидит там, в безопасности, за толстенными стенами у многометрового кабеля телекамер. Я изображаю губами слова: «Немедленно позвони Мак-Маллину, сукин сын!» Может быть, он не понимает меня. Я показываю ему средний палец и бегу к такси.
Такси уехало. Шофер даже не захотел взять причитающиеся ему деньги.
20.
— О боже! Это ты? Уже?
Даже через переговорное устройство в СИС я узнаю голос своей старой подружки — седовласой бабушки с вязанием в руках. Я изображаю перед камерой самую зубастую из всех своих улыбок и машу ей.
Забавная штука язык. Именно язык отличает нас от животных. «Уже». Такое невинное слово. Но оно что-то означает. Оно выдает, что бабушка знала о моем приходе. Потому что кто-то ей сказал, что я сюда направляюсь.
— Боже милосердный! Здесь еще никого нет. И никто не предупредил, что мне…
Разговаривая, она открывает замок, и, пока он жужжит, я вхожу, а она все еще стоит у письменного стола, держа палец на кнопке, и что-то рассказывает мне по телефону. На руке плащ. Не могу решить, пришла она только что или собирается уходить. При виде меня у нее на лице появляется тупое, перепуганное выражение. Мне ее жалко. Она не знает, что ей со мной делать.
— Вы сегодня работаете? В субботу? — спрашиваю я.
— Вовсе нет. То есть, я имею в виду, обычно нет. Но сегодня… Ух, не знаю… Так что вы хотите?
— Хочу поговорить с Мак-Маллином.
Напряженность спадает с лица. Она наклоняет голову:
— Ой, как смешно. Он уже едет. Он надеялся, что вы здесь будете. У вас ведь была договоренность? О встрече? И вы поедете в аэропорт. Он просил, чтобы, если вы… — Она спохватывается и бросает плащ на спинку стула. — Ну хорошо, он скоро приедет. Может быть, нам пока подняться в его приемную?
Она идет вслед за мной по мраморной лестнице, потом по коридору с колоннами. Акустика еще более подчеркивает, что во всем здании, кроме нас, никого нет. Мы проходим по мозаичным плиткам мимо Вселенной мистера Энтони Лукаса Уинтропа-младшего и поворачиваем еще раз за угол. И вот мы стоим перед двустворчатыми церковными вратами, которые ведут к кабинету Майкла Мак-Маллина. Маленькие, гладко отполированные латунные буковки, образующие это имя, привинчены к темной деревянной панели. Когда вся власть в твоих руках, ты можешь позволить себе быть скромным.
Приемная перед кабинетом Майкла Мак-Маллина размером с конференц-зал. Поблескивает паркетный пол. Письменный стол секретаря стоит рядом с эксклюзивными французскими креслами и диванами, где посетители могут сидеть в ожидании, пока его превосходительству не будет угодно пригласить их в святая святых. Книжные полки ломятся от библиографических редкостей. Два окна обращены на улицу, видно, что стены толстые. Огромный ксерокс и такой же компьютер деликатно запрятаны подальше от глаз. Дверь в кабинет, где царит Мак-Маллин, имеет один обыкновенный замок и два с секретом. На подоконнике металлическое покрытие. На стене мигает красная лампочка сигнализации. В любой день Майкл Мак-Маллин может испытывать счастье и чувствовать полную безопасность, словно маленькая свинья-копилка в самом безопасном денежном хранилище мира.
— Ну вот, посидите здесь и подождите! — говорит бабушка. Она переводит дыхание. Потом выходит из приемной и закрывает дверь.
Я сажусь на подоконник. Поглядывая на улицу, размышляю, что мне надо сказать Мак-Маллину.
Вскоре из-за угла выскакивает «БМВ-745» бежевого цвета. Переходившая через дорогу женщина резко отпрыгивает к тротуару. Поэтому я и обращаю внимание на машину. Я ненавижу автомобильных хулиганов.
Под окном машина резко останавливается. Взвизгивают тормоза. Из машины выходят четверо мужчин. Шофера я раньше не видел. За ним идет Мак-Маллин (он же де Витт). И мой старый добрый друг Грэм Ллилеворт.
Но только последний пассажир пугает меня по-настоящему. Мы уже встречались с ним раньше. Это Кинг-Конг.
Я задумываюсь, зачем они прихватили с собой пальцедробителя, если хотели только поговорить со мной.
Когда я приоткрываю дверь приемной, то слышу жужжание электрического замка. Пришедшие идут по первому этажу.
Голос бабушки:
— Он наверху!
Я разуваюсь и бегу по коридору с колоннами, держа в каждой руке по ботинку. Увидев четверых на лестнице, прижимаюсь к колонне. Если они сейчас обернутся, то увидят меня. Но они не оборачиваются.
Жду, когда они завернут за угол, бегу к лестнице и мчусь по ступенькам. В самом низу обуваюсь.
Бабушка поворачивается.
— Как… Это вы? — изумленно спрашивает она и ищет кого-то взглядом. — Здесь?
— Воистину это я, — отвечаю я.
Из приемной Мак-Маллина раздается вопль.
— Но… — начинает она и делает шаг в мою сторону, когда я прохожу. Как будто у нее черный пояс джиу-джитсу и она намеревается самолично уложить меня на пол.
— Задержать его! — кричит голос.
Бабушка семенит за мной до самых дверей, в испуге вереща.
Я выбегаю на улицу и растворяюсь в толпе.
21.
Чемодан Дианы стоит в прихожей и подготовлен к отъезду. По выражению ее лица можно понять, что она сидела на нем и ждала все последние пять часов.
— Наконец-то! — выкрикивает она. — И где же тебя…
Я ее обрываю:
— Я думаю, они их убили!
Рот у Дианы остается открытым.
— Надо ехать! — напираю я.
— Кто, — заикаясь, лепечет она, — убил кого?
— Я говорю о моем отце. И де Витте.
— И кого же они убили?
— Это их убили.
— Теперь я ничего не понимаю! Почему их убили?
— Они что-то знали.
— О боже! О ларце?
— Не знаю. Но они умерли почти одновременно. В результате несчастных случаев.
— Вот как?
— Между этими событиями должна быть связь.
— Не думаю…
— Диана! Ты ничего в этом не понимаешь. Бежим! Вещи собрала? Сейчас поедем!
— К чему такая дикая спешка?
— За мной гонятся!
— Подожди немного.
— У нас нет времени!
— Кто за тобой гонится?
— Мак-Маллин! Ллилеворт! Кинг-Конг! ЦРУ! Дарт Вейдер!
— Э-э…
— Идем!
—
Гонятся за тобой?
— Я спасся в последний момент! Они не успели меня схватить!
Она огорченно наблюдает за мной:
—
Бьарн… Тебе не кажется, что ты слегка преувеличиваешь?
— Диана!
— Хорошо-хорошо, мы едем! Твой багаж внизу?
— Ему придется остаться в гостинице.
— Но…
— Деньги и паспорт при мне.
—
Бьарн, я боюсь! Что случилось?
— Потом расскажу. Идем! Надо спешить, если мы хотим успеть на самолет.
— Но разве не надо сначала…
— Сначала что?
— Я должна позвонить отцу.
— Вот как?
— Понимаешь, он…
— Позвони из аэропорта! Позвони из Норвегии!
— Это займет одну минуту. Полминуты!
— Тогда звони! Быстро!
Диана берет трубку. Я смотрю на нее. Она смотрит на меня. И кладет трубку.
— Не страшно, — решает она. — Позвоню из Норвегии.
В это время раздается телефонный звонок. Она растерянно берет трубку. Несколько раз произносит «да», нетерпеливо, возмущенно.
— Что ты хочешь сказать? — спрашивает она.
И слушает.
— А на каком основании? — огрызается она.
Кивает мне и поднимает к небу глаза.
— Ну что же тут объяснять? — кричит она в трубку. Потом кидает ее на рычаг. — Работа! Можно подумать, что наступит конец света, если я уйду в отпуск.
Я подношу чемодан к лифту. Диана запирает дверь, но тут же вспоминает, что ей надо в туалет. О женщины! Она отпирает дверь. Проходит целая вечность. Я удерживаю лифт, загородив чемоданом датчик закрывания дверей. Наконец мы внутри, звенит звонок, двери захлопываются. Диана нажимает на кнопку с контуром автомобиля. Лифт тихо жужжит. В животе обрывается.
В гараже она отпирает багажник «хонды». Я кладу чемодан.
Диана трогается с места. Шины взвизгивают, когда она начинает разгоняться, звук отзывается в теле. Я откидываю голову на сиденье и делаю глубокий вдох. Заныли ноги.
Нам приходится ждать, чтобы встроиться в поток автомашин, и вот Диана выезжает из гаража. Одна из проезжающих мимо машин внезапно тормозит перед входом в наш дом. Это «БМВ-745» цвета беж. Я не вижу, кто там внутри. Но ведь это не могут быть они!
Часть вторая
СЫН
IV
УМОЛЧАНИЯ, ОБМАНЫ, ВОСПОМИНАНИЯ
1.
Это случилось в то лето, когда умер папа.
Даже израненный делянками и линиями электропередач, старый лес устоял и по-прежнему простирается во все стороны далеко-далеко. Прошло двадцать лет. Но если я закрою глаза, я легко могу вспомнить атмосферу тех летних каникул. Скрытые от чужих глаз уголки моего личного мемориала. Долгая поездка на машине… Небо над нами переполнено светом. Нервно потрескивает радио. Впав в полудрему от долгой езды, я сидел на заднем сиденье и выглядывал из приоткрытого окна. Тучи мошек роились над высокой пожелтевшей травой на обочине… Жара была невыносимой. Холодные озера мелькали, как осколки зеркал между стволами деревьев. Помню в лесу избушку из трухлявых бревен, пораженных мхом и гниением. На ветке — пустой пластиковый пакет с рекламой кофе «Али». Брошенная автомобильная покрышка. Громадные валуны. Со стороны лесистого склона доносилось журчание ручьев, загнанных в серые бетонные трубы. Мы проезжали мимо маленьких лесных озер, окруженных кустарником. Я пытался подавить тошноту. Мама гладила меня по лбу. Папа сидел за рулем, молчаливый и далекий. Рядом с ним возлежал Трюгве Арнтцен, закинув ноги на приборную доску, жизнерадостный и громогласный. Грязные следы колес строительных машин пересекали нашу лесную дорогу. Попадались домики с заколоченными окнами и заросшие поля. Памятники прошлому. На одном таком поле на колоде сидел старик и что-то строгал. Как будто гном из забытой сказки. Или старый дед, потерявший счет времени. Он не поднял головы. А может быть, его и не было.
Тропинка извивалась среди густой травы от места стоянки вверх по склону. Под деревьями было темно. В сумраке засохшие корни деревьев напоминали окаменевших змей. Влажный мох рос на пнях. Папа молчал. Мама напевала. Трюгве шел за ней. Я замыкал шествие. Вид у нас, скорее всего, был как у потерявших дорогу проводников-шерпов.
[163] Горный воздух налетал на нас свежими волнами.
— Малыш Бьорн!
Далекий и сердечный, врывается в воспоминания голос мамы. Словно ласковое прикосновение.
— Медвежонок!
Солнце проникало даже сквозь стены палатки и слепило меня. Скоро девять. Я поискал глазами Трюгве, с которым я делил палатку. Его спальный мешок пуст, обмякший, наполовину вывернутый, похожий на старую змеиную кожу. Еще не совсем проснувшись, я прячусь во влажном нутре собственного спальника.
— Маленький принц! Бьорн!
С громким треском мама открыла молнию палатки и просунула голову внутрь. Лицо ангела, обрамленное пышными волосами.
— За-а-а-автра-а-а-ак! — пропела она.
Она стала трясти меня. Я сопротивлялся. Ожесточенно. В последнее время у меня появились признаки полового созревания, что особенно чувствовалось по утрам. Но ведь не мог же я сказать об этом маме. Завтрак подавался на бумажных тарелках на пледе между палатками. Здоровые ломти хлеба, нарезанные финским ножом. Масло. Салями. Колбаса из баранины. Малиновое варенье. Яичница с ветчиной, поджаренная на примусе.
Трюгве дружески похлопал меня по плечу. Он уже несколько дней не брился.
Маме очень не нравилось, что папа увлекся скалолазанием. Папа и Трюгве продемонстрировали ей все средства страховки. Тросы и костыли, болты и карабины, крепления. Но это не помогло. Она все равно боялась, что может что-нибудь произойти.
После завтрака мы с мамой пошли на озеро купаться. Вода была черной и блестящей. Я спросил маму, нет ли в воде пиявок. Она ответила, что их, скорее всего, нет. Вода оказалась теплой. Вокруг цвели лилии, как в волшебном озере троллей. Мы поплавали и вышли на разогретый солнцем скальный островок. Мама подложила руки под голову и закрыла глаза. В лесу, судя по звуку, взлетела какая-то птица, но я ее не видел. Я лениво следил, как с мамы стекали капли. Рывками, как капли дождя на оконном стекле, они спускались по ее коже и шлепались на камень, с которого испарялись задолго до того, как добегали до поверхности озера.
А вот еще один момент.
Я поймал двух рыбок, был страшно доволен собой и всю дорогу до лагеря насвистывал, держа удочку на плече. Рыбки в пластиковом пакете плохо пахли.
Когда я вернулся, в лагере никого не было.
Я приставил удочку к дереву и повесил пакет на сломанную ветку, чтобы никакая дикая кошка или медведь гризли не похитили мою добычу.
И тут вдруг.
Голос мамы из палатки: Болтунишка!
Я подошел ближе. Лес вокруг меня замер. Я стал духом, который носился, невидимый и неслышимый, вокруг палатки.
Ее голос стал чужим. В нем появилось что-то незнакомое. Неприятное. Не предназначенное для моих ушей.
Мягкое, нежное, липкое.
Из спального мешка доносилось негромкое радостное бормотание.
Я стоял на лугу в мертвой тишине. И слушал.
Мама (как вздох, почти неслышно): Ты такой милый.
Тишина.
Мама: Не сейчас.
Задорный смех.
Мама (игриво): Нет!
Тишина.
Мама: Послушай, они могут вернуться в любую минуту.
Какие-то движения.
Мама (с воркованием и повизгиванием): Ах ты!
Из глубин спального мешка раздалось рычание дикого зверя.
Мама (со смехом): Ты совсем рехнулся!
Пауза.
Воркование.
Тишина, полная звуков. Ветер в деревьях. Далекий шум горной речки. Птицы.
Мой голос, тонкий, слабый: Мама?
Очень долго все тихо.
Потом в палатке зашелестела открывающаяся молния. Трюгве выкарабкался наружу и осмотрелся. Увидев меня, он сладко потянулся и зевнул:
— Уже вернулся?
— Я поймал двух рыбок. Мама здесь?
— Двух? О боже! Больших?
Я снял пакет с дерева и показал их.
— Мама здесь?
— Сейчас нет. Пойдем почистим их?
Он взял меня за руку. Раньше он никогда этого не делал. Я помедлил.
— Ну, пойдем же. — Он нетерпеливо потянул меня в сторону.
Мы пошли и почистили. Очень быстро. Когда вернулись, мама уже сидела на большом камне, загорая. Улыбнулась Трюгве, с сожалением и усмешкой. Рыбки ей понравились, и она обещала испечь их на завтрак.
Когда человек думает о своем прошлом, именно мелкие эпизоды приходят на ум первыми. А то, что, казалось, будешь помнить всю жизнь до мельчайших подробностей, вылетает из памяти напрочь.
Однажды ранним утром я отправился с папой на охоту. Он разбудил меня в половине пятого. Мама и Трюгве не захотели пойти с нами. Но Трюгве весело подмигнул мне, когда я одевался. У него сна уже не было ни в одном глазу, он готов был, поднявшись, срубить хоть дюжину деревьев скаутским топориком.
Слабо светило солнце. Клочья испарений ползли по склону. А внизу, в долине, у большого озера, длинные языки тумана проникали глубоко в лес. Я дрожал. Утренний холод леденил внутренности. Усталость, словно ватные шарики, залепила глаза.
Погрузившись каждый в свои мысли, мы шли вдоль реки мимо скал, на которые отец с Трюгве обычно взбирались. От горной реки исходил холод. На плече у отца висел винчестер. Тяжелые патроны оттягивали карманы моего анорака
[164] и бились друг о друга, словно камни на берегу горной речки.
Лес был дремучим и непроходимым. Упавшие стволы деревьев, расщелины, лужайки с вереском, небо, как запотевшее зеркало, над верхушками елей. В болотистой почве и ручейках под ногами хлюпала вода. Запах мха и гнилой травы. Острые концы пней, мешанина из корней, папоротник на солнечных прогалинах. Где-то высоко на склоне кричала птица. Одно и то же снова и снова. И как только она не сойдет с ума от собственного крика. Свет ярко-синий, такой, что хочется прикоснуться к нему рукой.
На полянке, которая была заросшей делянкой, папа остановился около ели, давным-давно поваленной во время бури, и осмотрелся. Кивнул. Пощелкал языком. Дал мне знак, что можно присесть. Я передал папе патроны. Он зарядил ружье. Папа надеялся подстрелить лисицу. Ему очень хотелось, чтобы у него в прихожей было чучело лисы. Чтобы он мог показать на нее и небрежно сказать: «Вот эту я подстрелил прошлым летом. Среди расщелин в скалах».
Мы лежали молча и смотрели на заброшенную делянку. Пахло листвой, травой и болотом. В тени деревьев попискивали и пощелкивали птицы. Но было еще рано, и пение звучало как-то не от всего сердца, а скорее по обязанности. Лежать тихо было не очень легко. Каждый раз, когда я хотел зевнуть, папа на меня шикал. Я пожалел, что пошел с ним. Маме тогда очень хотелось избавиться от меня.
Я первым увидел его. Он величественно появился из чащи с противоположной стороны делянки. Ветер дул в нашу сторону, поэтому он нас не почуял. Роскошный благородный олень.
Медленно и грациозно он вышел на поляну. Прихватил губами листочки с низенькой березы и стал озирать окрестности с видом хозяина. Шерсть была рыжеватой и блестела на солнце. Как бронза. Наросты на рогах имели вид настоящей короны.
Я посмотрел на папу. Он покачал головой.
Олень подошел еще ближе. Папа и я почти не дышали. Мы прижались к земле за стволом.
Внезапно олень поднял голову.
Сделал шаг назад.
Резко повернулся.
И тут прогремел выстрел.
Я повернул голову. Винчестер папы лежал между нами.
Он приложил палец к губам.
Олень опустился на колени, попытался уйти в безопасное место. Следующий выстрел был роковым. Олень упал на бок. Несколько ужасных мгновений он лежал, дрыгая ногами и дрожа.
Откуда-то из недр леса прозвучал триумфальный крик. Потом еще один.
Я собирался встать. Но папа удержал меня.
Их было двое. Браконьеров, как потом объяснил папа. Они пробрались через заросли папоротника и подлеска. Один издавал вопли индейца.
Они остановились перед мертвым оленем. Стояли неподвижно, восхищаясь им. Первый вынул фляжку со спиртным, отпил несколько глотков и протянул компаньону. На поясе у него висел длинный нож. Он вынул его из ножен. Когда напарник подсунул под шею оленя кружку — крышку от термоса, он сделал надрез на сонной артерии. Кружка наполнилась кровью. Они смешали ее с водкой.
И выпили.
Потом схватили оленя за передние ноги и перевернули на спину. Широким движением один из них распорол зверю живот. С отвратительным хлюпающим звуком стал вытаскивать кишки, метр за метром, сине-стального цвета кишки, от которых поднимался пар. Потом появились остальные внутренности. Вонь шла прямо на нас с отцом.
Браконьеры присели на корточки. Они нашли то, что искали. Горячее сердце. Человек с ножом высунул кончик языка наружу и, щурясь, стал разрезать сердце пополам.
Как будто делал очень сложную современную операцию. Здесь, в дремучем лесу. Потом отдал компаньону половину.
Они стали есть.
У меня перед глазами пошли круги. Я слышал, как они чмокали. Кровь стекала по их щекам.
Папа держал меня, пока меня рвало. Без единого звука.
Эти двое разрезали оленя и потащили тушу по полянке с гиканьем и песнями. Когда мы с трудом поднялись на ноги, то увидели голову оленя, которая лежала на возвышении и смотрела нам вслед.
Появились мухи и потребовали своей доли. Уже в лесу я услышал крики стаи ворон.
Кое-кто думает, что вегетарианцем становишься для того, чтобы выглядеть интересным в глазах других людей. Возможно, что так бывает. Но у многих из нас не было выбора. Нас к этому привела жизнь. Варварство крови.
2.
Греты дома нет.
Я другого и не ожидал. И все же я стою минут пять, давя на звонок в надежде, что она подойдет к переговорному устройству или что вдруг сама выбежит из-за угла с изумленным криком «Привет, Малыш Бьорн!» и сумкой для покупок из магазина «Рема 100».
Трамвай из Фрогнер-парка несется мимо с таким шумом, будто везет металлолом, что, впрочем, не очень далеко от истины. Надо мной на гранитном козырьке буйствуют сладострастный сатир и нимфа. Этот сюжет напоминает мне нас с Дианой.
События вчерашнего дня похожи на фильм, который запомнился как-то не очень ясно. Словно в тумане. Я пытаюсь вспомнить безумное бегство: сначала Хитроу, потом полет на самолете, нескончаемая гонка на Болле от Гардемуена до бабушкиной дачи у фьорда. Но изображение получается нечетким.
Мы приехали на дачу под вечер. Море было спокойным. В моей комнатке в мансарде, среди книжек о братьях-сыщиках Харди, журналов и потрепанных номеров «Ридерз дайджест», в запахе нагретой солнцем пыли мы занимались любовью по-летнему жарко и энергично. Позже она нашла свои шелковые ленты и захотела, чтобы я привязал ее и повторил еще и еще раз. Пожестче. Так продолжалось некоторое время. Потом я развязал Диану и оставил шелковые ленты на стойках кровати.
Посреди ночи я проснулся оттого, что она плакала. Я спросил, что случилось. Но она сказала, что все в порядке. В теплой ночной темноте я лежал и слушал, как она дышит.
Пожилая женщина с трудом передвигается по тротуару. Внимательно посмотрев на меня, она останавливается и опускает сумку на землю.
— И что? — бросает она мне прямо в лицо. Громко и вызывающе. Как будто ей принадлежит этот дом. И тротуар. И весь центр Осло. И как будто она изобрела слуховой аппарат.
— Я ищу Грету Лид-Вэйен! — кричу я. Столь же громко. Подобным образом неразумные люди общаются со стариками и умственно отсталыми.
— Госпожу Вэйен? — спрашивает она. Как будто Грета когда-нибудь была чьей-то женой. Голос добреет. — Ее нет дома. Ее увезли.
— Кто ее увез?
Вопрос звучит слишком поспешно, чересчур возмущенно. Она с испугом смотрит на меня:
— А вы, собственно, кто?
— Друг!
— «Скорая помощь», — отвечает она.
Грета сидит на постели. Перед ней раскрытые страницы газеты «Афтенпостен».
— Малыш Бьорн!
Голос слабый. На лице обвисла кожа, словно ее слишком много. Руки дрожат, и газета шелестит, напоминает о сухих листьях под ветром ранним утром в ноябре.
— Я пытался позвонить тебе из Лондона. Много раз, — говорю я.
— Меня не было дома.
— Я не знал, что тебя положили в больницу.
— На несколько дней. Я живучая. Не хотела тебя беспокоить.
— Вот еще!
— Я знаю, знаю. Но не хотела тебе мешать.
— Как ты себя чувствуешь?
— Это не так важно. Как дела? В Лондоне?
— Жуткая неразбериха.
— Что ты выяснил?
— Что сейчас я знаю меньше, чем когда уезжал.
Она тихо смеется:
— Вот так всегда в науке.
Я сажусь на край кровати и беру ее за руку:
— Ты мне должна кое-что рассказать.
— Спрашивай, мальчик мой.
— Кто такой Майкл Мак-Маллин?
— Майкл Мак-Маллин… — тихо повторяет она.
— И Чарльз де Витт?
Веки ее медленно закрываются. Перед ее мысленным взором проплывают картины прошлого.
— Майкл… — Она делает паузу. — Это близкий добрый друг! Он был моим начальником, когда я, как приглашенный профессор, читала лекции в Оксфорде. Да. — В ее голосе появляются лукавые нотки. — Больше чем начальник. Гораздо больше. Умный, добрый человек. Если бы жизнь сложилась иначе, то, возможно, мы… — Она открывает глаза и с улыбкой прогоняет неуместную мысль. — Мы долго после этого поддерживали отношения.
— А де Витт?
— Чарльз де Витт. Друг и коллега твоего отца. Он написал книгу вместе с ним и Ллилевортом. Добрый милый англичанин, большой оригинал, был женат на бой-бабе. Он умер. В Судане. От гангрены.
— И все это ты знала? — спрашиваю я.
— Конечно. Это же мои друзья.
— Но ты мне ничего о них не рассказала.
Она с удивлением смотрит на меня:
— Как это? А ты меня спрашивал? И почему это важно?
Я слегка сжимаю ее руку:
— У меня есть еще один вопрос. — Я медлю, потому что догадываюсь, как он будет воспринят. — Его могли убить?
Грета реагирует совершенно естественно: она удивляется.
— Кто кого мог убить?
— Кто-нибудь мог убить де Витта?
— Да что такое ты говоришь? — Она испытующе смотрит на меня. — Кто мог пойти на такое ужасное преступление?
— Мак-Маллин?
— Майкл?
— Потому, что де Витт знал слишком много? Или потому, что он догадался о чем-то, о чем не следовало?
Она коротко смеется:
— Нет уж! Это слишком.
— А кто-то другой? Кто-нибудь из СИС? Ллилеворт? Не знаю. Кто-то…
Она тихо смеется:
— Ты начитался глупых книг, Малыш Бьорн.
— Что-то случилось. В семьдесят третьем году. В Оксфорде.
Она замирает. Ей явно не хочется ворошить прошлое.
— Грета, что там произошло? Что именно они обнаружили? Что-то имеющее отношение к ларцу? Что это было?
Она делает глубокий вздох:
— Если бы я хоть что-нибудь знала… Их во что-то втянули, Малыш Бьорн. Но я не уверена, что они сами это понимали.
— Кто «они»?
— Твой отец. Де Витт. И Ллилеворт.
— Двое из них умерли.
— Меня тоже могли вовлечь.
— Но?
Она отворачивается к окну. И, не глядя на меня, произносит:
— Беременность.
Тишина обжигает.
— Незапланированная, — добавляет она. — Так бывает.
— Я… — Мне никак не подобрать подходящих слов.
— Это было так давно.
— А что потом?
— Я уехала на последних месяцах беременности. Родила ребенка. В Бирмингеме. Никому ничего не известно об этом, Малыш Бьорн. Никому.
Я молчу.
— Я не могла оставить его себе, — продолжает она.
— Понимаю.
— Понимаешь? Не думаю. Но все было именно так.
— Ты когда-нибудь общалась с…
— Никогда!
— Но как же…
Она поднимает руку. Лицо обращено в другую сторону.
— Я не желаю об этом говорить!
— Это не столь важно. Я хочу сказать… Для меня… И сейчас.
— Ларец еще у тебя?
— В надежном месте.
— Надежном… — бормочет она, проверяя слово на вкус.
— Грета, что в этом ларце?
— Понятия не имею.
Мне кажется, что она сожалеет об этом.
— Но что-то ты ведь знаешь? — спрашиваю я. — Это Евангелие Q? Или что-то совсем другое?
Она садится на постели почти прямо. Кажется, будто она хочет стряхнуть с себя болезнь, слабость, немощность. От напряжения она тяжело дышит. В глазах, устремленных на меня, невероятное упорство.
— Тебе известно, что некоторые ученые думают, будто старейшие французские и британские аристократические роды происходят от дохристианских племен, которые были изгнаны с Ближнего Востока? — спрашивает она.
— Знать не знал…
— А что некоторые королевские семьи — происходят напрямую от наших библейских предков?
— Возможно, я слышал о таких гипотезах, — размышляю я. Меня сейчас больше интересует вопрос, насколько сильные лекарства дают ей врачи.
— Но откуда мне это знать… — обращается она сама к себе, как будто мое недоверие заразило ее. — Должно же быть право домысливать, не так ли? Использовать дедукцию? Рассуждать?
За закрытой дверью я слышу, как маленький ребенок радостно кричит: «Дедушка!»
— Есть некая… группа, — начинает она.
В коридоре кто-то смеется. Я представляю себе, как дедушка поднимает в воздух внука.
— Я о ней мало знаю, — объясняет Грета. Она попеременно разговаривает то со мной, то сама с собой. Как будто пытается убедить себя, а не меня. — Но она существует.
— Группа? — помогаю я ей.
— Ее члены происходят из древних французских аристократических родов. Некое объединение.
— Но чем она занимается?
— Можно назвать ее масонской ложей, если хочешь. Закрытой сектой. Тайной. Мало кто слышал о ней.
— Но в таком случае, откуда ты это знаешь? — Я начинаю смеяться. — Я хочу сказать, как ты можешь о ней рассказывать, если ее существование — большой секрет?
Она бросает на меня быстрый взгляд, сердитый, горячий. Словно я мог бы и сам догадаться, а не спрашивать. Но взгляд тут же добреет. Она объясняет:
— Может быть, я знакома с кем-то… — Она тут же обрывает себя. — К тому же даже посвященным неизвестны другие члены ордена. Каждый член ордена знает в лучшем случае двух-трех других. Каждому известен только его начальник. Структура ордена — очень сложна и хранится в секрете.
— Куда ты клонишь?
— Может быть, эти люди и охотятся за ларцом, Малыш Бьорн.
— Тайный орден?
В вопросе звучит оттенок недоверия. Или высокомерия, если быть более точным. И она на него не отвечает. Я спрашиваю:
— Ну уж они-то, во всяком случае, представляют, что внутри ларца?
Грета смотрит прямо перед собой:
— Они всегда что-то искали. Всегда. И я думаю, что искали ларец. И теперь все становится на свои места. Все части головоломки. — Ее глаза обращены в мою сторону. Но они бегают. Я не уверен, что она меня видит.
Я встаю и подхожу к окну. От яркого света начинаю моргать. Вдоль соседнего здания несколько рабочих возводят леса. Вид у лесов весьма ненадежный.
— Ты устала. Я пойду, — обращаюсь я к Грете.
— Это не имеет смысла, — бормочет она. И громче: — Я же говорила Биргеру!
Я не понимаю, о чем она.
— Я его предупреждала! Я сказала ему!
Она тяжело дышит, покрывается потом, но затем ее глаза светлеют. Кажется, что она возвращается к действительности. К своей особой действительности.
— Все на свете не такое, как нам кажется, Малыш Бьорн!
Я сжимаю ее руку:
— Мне пора уходить. Ты измучилась.
— Очень многое нам, собственно говоря, и не хочется знать. — Она смотрит на меня, как будто именно это самое главное во всем нашем разговоре.
— Я знаю, — тихо отвечаю я. — Но мне надо уходить.
— Есть много вещей, которые мы не хотим знать, — повторяет она. — Хотя нам кажется, что хотим. Много такого, о чем нам не следует знать. Много такого, о чем нам знать вредно.
— Что ты пытаешься мне сказать?
Она закрывает глаза; многократное повторение слов не делает их более понятными.
— Ты боишься, Грета? — спрашиваю я.
Она снова открывает глаза.
— Боюсь? — Она качает головой. — Ты умираешь только тогда, когда все забывают о том, что ты существовал.
По дороге из больницы я останавливаюсь у телефонной будки. Наверное, мне следовало бы купить мобильный телефон. Но мне больше нравится жить без него. Это дает абсурдное ощущение свободы. Никто не знает, где я. Никто не может меня найти. Если только я сам этого не захочу.
Сначала я звоню Диане. Только для того, чтобы услышать ее голос. Она не отвечает. Наверняка сидит на террасе.
Потом я звоню Каспару.
Он взволнован, дрожит. У него был взлом. И дома, и на работе. Он не может понять, кому могло понадобиться обыскивать его квартиру и кабинет. В один и тот же день! Он слишком не в себе, чтобы разговаривать со мной. Да, все это малоприятно.
3.
На всякий случай я паркую Боллу на соседней улице за углом, подальше от моей многоэтажки, и крадусь к двери по тропинке между деревьями у спортивной площадки.
Десять лет назад дома строились серыми и исключительно функциональными. Были страшны как черт. Теперь архитекторы решили их украсить. Новые фасады, новые краски, новые балконы, новые окна. Но дома по-прежнему страшны как черт.
На лифте я поднимаюсь на десятый этаж и отпираю свою дверь. Меня встречает запах замкнутого пространства. Я чувствую его всегда, когда возвращаюсь домой из отпуска. Кроме того, я ощущаю аромат старой сигары.
После обыска здесь царит страшный беспорядок, все вещи разбросаны. Даже постельное белье разорвано. Книги кучами валяются на полу.
Ящики шкафов открыты.
Что-то не так. Не понимаю, что именно. Это моя интуиция. Не надо было уезжать.
Проверяю автоответчик. Четыре сообщения от мамы. Восемь из университета. Одно из СИС. На шести записях только молчание. И на трех тонкий писклявый голос с нарастающим раздражением требует, чтобы я вступил в контакт с полицией.
Как можно скорее!
Со вздохом я снимаю трубку и делаю то, что обязан сделать. Я звоню маме. Она отвечает сразу. Холодным голосом она повторяет свой телефон. Как будто ее фамилия имеет слишком личный характер, чтобы делиться ею с первым попавшимся, набравшим ее номер.
— Это я, — говорю я.
Она некоторое время молчит. Как будто не сразу может определить обладателя голоса. Как будто я и есть тот самый посторонний человек, случайно позвонивший на ее номер.
— Где ты был? — спрашивает она.
— За границей.
— Я пыталась тебя найти.
— Пришлось уехать. В Лондон.
— Э-э…
— По работе, — добавляю я.
— Ты в Норвегии?
— Только что вернулся.
— Связь плохая.
— Я тебя слышу хорошо.
— Я звонила тебе много раз. Трюгве тоже надо поговорить с тобой. Это чрезвычайно важно, Малыш Бьорн.
— Уехать пришлось без предупреждения.
— Я за тебя беспокоилась.
— Не надо беспокоиться, мама. Я только хотел извиниться.
— Извиниться?
Она делает вид, что не понимает. Но она прекрасно знает, о чем мы говорим. Мы оба знаем.
— За тот… вечер. За то, что я тогда сказал. Я был тогда не в себе.
— Ничего страшного. Давай забудем об этом.
Ее ответ меня устраивает. Потому что я совсем не уверен в искренности своих слов.
Диалог кончается привычными банальностями. Внезапно пришедшая в голову мысль заставляет меня спросить, можно ли мне забежать к ней на минутку. Я тут же раскаиваюсь, что спросил, но она так рада, что я не могу сразу сказать, что не приду. Мама говорит: «Пока!» — и кладет трубку. Я продолжаю стоять с трубкой в руке.
Звучит щелчок.
— Мама? — окликаю я.
В ответ тишина.
— Это ты? — спрашивает Рогерн.
Он и не думает спать, полностью одет. Впрочем, времени всего половина первого. В зубах сигарета. Глаза горят. Он тихо смеется и впускает меня в квартиру.
В комнате стоит сладкий тяжелый аромат. Вздохнешь пару раз — и уже на стенку лезешь. От запаха покрываешься п
отом, хочется раздвинуть стены и открыть окно. Рогерн хихикает.
На комоде кучкой лежит моя почта, которую он вынимал за меня. Среди газет, реклам и счетов я нахожу конверт от Каспара, в нем — телефакс из Института Шиммера, адресованный Инспекции по охране памятников. Они сердечно приглашают мистера
Бьоерна Белтое на стажировку, о которой ходатайствовал директор инспекции. Более того, они предлагают мне дотацию на оплату дороги и пребывания, которая покроет практически все расходы. У них очень слабо развиты контакты с норвежскими учеными. Указаны телефон и имя. Петер Леви. Он будет заниматься мной, если я приеду. Они надеются, что так и будет. И скоро. Достаточно позвонить.
Я кладу письмо во внутренний карман и обращаюсь к Рогерну:
— У меня для тебя кое-что есть.
Он выжидающе мурлычет.
Я протягиваю ему CD. Он разрывает обертку. Прочитав все имена на оборотной стороне, сжимает кулак в знак благодарности.
— А скажи-ка, что это у тебя в сигарете? — спрашиваю я.
Вопрос вызывает у него взрыв смеха. Он кивает на что-то, что находится позади меня. Я оборачиваюсь.
Из спальни, шаркая, выходит девчушка. С первого взгляда кажется, что она ищет свою соску и розового мишку. Лет ей не больше четырнадцати-пятнадцати. Симпатичное лицо с макияжем и длинные темные волосы до талии. На ней черные облегающие трусы и рубашка Рогерна. На руках и вокруг лодыжек намотаны кожаные шнуры. На одном плече татуировка, напоминающая какую-то руну или оккультный символ.
— Николь, — представляет Рогерн.
Николь безо всякого выражения глядит на меня.
— Это Бьорн. Тот тип, о котором я тебе рассказывал.
Она опускается на диван, закидывает на стол одну ногу, подгибает под себя другую и начинает свертывать себе курево. Я не знаю, куда смотреть. Ее ногти на ногах покрыты черным лаком. Обнаруживаю еще одну татуировку. На внутренней стороне ляжки. Изображена змея, которая, извиваясь, ползет куда-то вверх.
— Конфетка, а? — Рогерн шутливо толкает меня. Я чуть не падаю. Мое лицо пламенеет.
Николь показывает Рогерну язык. Красный и острый. На кончике колечко. Она закуривает. Она выпускает дым через нос и приобретает ужасно бывалый вид. Как будто ей уже за пятьдесят и сорок лет из них она провела в публичном доме в Танжере. Ее глаза впиваются в мои. Я не в состоянии отвести взгляд. Хотя и пытаюсь. Ее взгляд — ледяной и гораздо старше, чем тело. Он проникает в меня через зрачки, потом забирается в головной мозг, начинает бродить по самым дальним закоулкам и поднимать крышки сундуков, хотя я считал, что они заперты на замок. Он скользит как по маслу в окрестностях моего гипофиза и задерживается там, отчего я вздрагиваю. Тут она отпускает меня. Улыбается. Как милая юная девица. Моя поверенная, посвященная во все мои секреты.
— У тебя снова были гости, — сообщает Рогерн.
— Гости? — машинально повторяю за ним. Я пытаюсь произвести уборку с проветриванием в своем мозгу после визита Николь и не понимаю, о чем идет речь.
— Два раза. Самое малое. Я их слышал. — Он показывает глазами наверх.
Жизнь наносит мне удар прямо в челюсть.
— Ты хочешь сказать, они проникли в мою квартиру? Снова?
— Да-с. И что чичас будешь делать? — спрашивает он.
Я не имею ни малейшего понятия, что буду делать.
— О чем это вы говорите? — спрашивает Николь.
— О всякой хрени, — отмахивается Рогерн.
— Что тут происходит? — настаивает она.
— Мужская хрень! — отметает он ее попытки.
— Бэ-э. — Николь выпячивает нижнюю губу.
В этот момент я случайно подхожу к окну и тут же замечаю красный «рейнджровер». Он на полном ходу мчится по дороге к нашему дому.
— Ах-ах! — вырывается у меня.
Рогерн следит за моим взглядом.
— Вот черт. За твоей хибарой наблюдение или что?
— Проблемы с копами? — спрашивает Николь. — Классно!
— Сумку! — тихо командую я сквозь зубы.
— Уно моменто! — отвечает Рогерн. Моя сумка с ларцом лежит в запертом комоде вместе с CD.
— Адиос! — кричит Николь нам вслед, когда мы с Рогерном выскакиваем из квартиры и мчимся вниз по ступенькам. Лестница кажется нам сейчас надежнее, чем лифт. Сумку я несу под мышкой.
На первом этаже я жду за дверью, пока Рогерн выясняет обстановку на площадке. Вернувшись, он показывает глазами вверх.
— Тачка стоит у дверей, — шепчет он. — Один сидит внутри. Лифт на десятом этаже!
Глаза его разгорелись. То, что происходит, не совсем реальная жизнь. Он сейчас участник телевизионной интерактивной игры в формате 3D.
Высоко над нами открывается дверь с площадки на лестницу. С десятого этажа выглядывают сначала одно, потом два лица. Я толкаю Рогерна в сторону:
— Выходи и спокойно прогуливайся!
Потом я звоню в дверь к фру Улсен на первом этаже. Это вдова нашего старого консьержа.
Лифт шумит, на лестнице слышны быстрые шаги.
Фру Улсен приоткрывает дверь. Стучат вставные зубы, звенят драгоценности, грохочут замки. Моргают подозрительные глаза. Вся ее жизнь крутится вокруг страха быть ограбленной в собственной квартире.
— Белтэ меня зовут! — кричу я в ее
слуховой аппарат.
— Кого убьют?
— Вы меня знаете?
Она кивает весьма скептически. Раньше мы здоровались, когда шли в магазин или из магазина. Перекидывались парой слов у почтовых ящиков. Но, судя по всему, она не исключает, что за моей внешностью скрывается злой демон с красными глазами и клыками.
— Мне нужно взглянуть на ваш балкончик, — говорю я.
— Какой кончик?
— Бал-кон-чик! Есть опасность, что он может обвалиться!
— Никогда ничего подобного не слышала! — возражает она. Смотрит на мою сумку. Как будто в ней спрятаны переносные орудия пыток.
— Меня послало сюда начальство! — ору я.
Для старого приверженца социал-демократии, к которым относится фру Улсен, слово «начальник» — волшебное. Она впускает меня и ведет по квартире. Порядок идеальный, все прибрано. Как будто в любой момент с проверкой могут прийти представители Общества культуры быта. По дороге она рассказывает мне о кошмарных мастеровых, говорит, что жилищный кооператив выбросит массу денег на ремонт балконов, что она будет голосовать против и что ее Оскар, мир его праху, ни за что не потратил бы деньги на эдакую ерунду.
Я открываю дверь балкона и выхожу. Чтобы она поверила, делаю вид, будто проверяю щель между полом и стеной.
— Хорошие новости! У вас все в порядке, фру Улсен, — сообщаю я, — ваш балкон вряд ли упадет первым.
— Вряд ли? Первым? — повторяет она в ужасе.
— К тому же вы живете на первом этаже. Ха-ха! Если что-то случится, я имею в виду. Во всем надо видеть хорошую сторону!
Она хочет спросить меня о чем-то. Я кричу:
— Мне нужно проверить еще много балконов, пожалуй, я пойду короткой дорогой! — Я залезаю на перила балкона и спрыгиваю на траву. Приземление не слишком удачное. Фру Улсен смотрит мне вслед, пока я бегу к деревьям.
Там я оборачиваюсь. На десятом этаже среди отблесков света в моем окне я вижу силуэт мужчины.
В окне этажом ниже стоит Николь.
Я машу ей.
Она машет в ответ. На своем балконе фру Улсен поднимает руку и начинает медленно размахивать из стороны в сторону.
Я растворяюсь среди деревьев.
Для того чтобы запутать вражеские ракеты, запрограммированные на мое тепло, я долго мечусь по тропинкам вокруг моего дома. Весело киваю молодым мамам с колясками. Так же весело переговариваюсь с малышами, которые с изумлением рассматривают бледнолицего сумасшедшего.
Наконец я осмеливаюсь подойти к Болле. Они еще не обнаружили ее, малышку.
Сумку с ларцом я кладу на заднее сиденье. Сверху кидаю куртку.
4.
Сад у дворца в Нижнем Хольменколлене буйствует красками. На кустах цветы. Все ужасно благополучно. Даже лужайка перед домом источает самодовольство.
Несколько минут я стою на лестнице и пытаюсь все обследовать. Потом решаюсь позвонить. Когда мама открывает дверь, я вижу, что она уже порядком поддала. Макияж лежит на тонких морщинах, как шпаклевка. Глаза потяжелели от вина и транквилизаторов. Губы растрескались. Мне кажется, что сейчас у нее вид хозяйки борделя, которую только что обратила в свою веру какая-то подозрительная религиозная секта.
— Дорогой, это ты? Уже? — произносит мама.
Это не вопрос. Она чувствует приближение чего-то неотвратимого.
— Да, я. А где профессор?
— Трюгве? Ему пришлось уехать. Совершенно неожиданно.
— Куда?
— Разве это важно? Что случилось? Чем ты сейчас занимаешься? Как ты себя чувствуешь?
Вопросы так и лезут из нее. Каждый раз, когда я веду себя хоть немного иначе, мама думает, что у меня рецидив. Что санитары из клиники бегают по городу с сетью и смирительной рубашкой и ловят меня. У меня часто такое впечатление, будто она стыдится моих нервов и предпочла бы что-нибудь более реальное. Вроде рака. Инфаркта. Болезни Крейцфельта. СПИДа. Я пытался объяснить ей, что мозг, строго говоря, ничем не отличается от сердца или почек. Переплетение нервных клеток, волокон, жиров, жидкостей. Наши мысли в конечном счете могут быть сведены к химическим и электронным сигналам. Психические болезни — это разбалансировка. Но мама принадлежит к тому типу людей, которые вздрагивают, если им советуют беречь нервы. И сразу уходят. Как будто им сообщают, что сейчас отрубят голову. И тут же съедят.
Мы идем по комнате, обходим стороной персидский ковер. Входим на кухню. Пес Бройер поднимает голову и рыгает. Хвост делает два-три удара об пол. Больше этот пес ни на что не способен. Его голова опять опускается на лапы.
Я ставлю сумку с ларцом на пол. Мама вряд ли догадывается, что внутри. Тишина.
— Так ты… хотел… поговорить со мной?
Мама совершенно не умеет притворяться. Она, конечно, надеялась, что все будет благопристойно, вроде «Ой, как хорошо, что ты забежал», но интонация выдает ее волнение.
Я обдумывал похожий разговор с тех пор, как стал подростком. Так что теперь вполне готов к нему. Я отрабатывал реплики, правил их, улучшал и полировал. Пытался предвидеть мамины ответы. Но все, что я заготовил, исчезло в пучине забвения.
Я смотрю на маму. Она смотрит на меня.
Потом я просто говорю:
— Я вас застал!
Не знаю, чего она ждала от меня. Но вряд ли этого.
— Ты нас застал? — переспрашивает она, ничего не понимая.
— Когда мы ездили с палатками.
— С палатками?
Я слышу, где-то голоса и смех, которые сбивают с толку. Оказывается, в соседней комнате включено радио. Я уточняю:
— Тем летом. Тебя и профессора.
Каждое слово подобно глубинной бомбе. Проходит несколько секунд, прежде чем раздается взрыв. Она вздрагивает. Четыре раза. Каждое слово поражает свою цель в недрах ее души.
Сначала она молчит. Глаза становятся стеклянными. Мой взгляд проникает ей прямо в мозг. Она нажала клавишу
rewind[165] и возвращается в прошлое. Я вижу, как фильм крутится с бешеной скоростью назад, доходит до того лета. На экране поблекшая сцена с ласками профессора.
— Ты видел нас? — повторяет она еще раз, как будто ждет, что я признаюсь в дурацкой шутке. А сейчас просто валяю дурака.
Но я продолжаю смотреть на нее.
— О господи, Малыш Бьорн! О господи, дружок.
Я чувствую, как у меня начинают бегать желваки. Она глубоко вздыхает.
— Это ерунда! — восклицает она. Тон голоса холодный, отталкивающий. Можно подумать, что она сейчас оправдывается перед отцом. — Там и тогда это ничего не значило!
— Но ты ведь вышла за него замуж. Так что не совсем ерунда.
Ее взгляд становится обиженным, раздраженным.
— Это потом. Потом у нас появилось… Но в то лето… — Она ищет слово, но не находит его.
— …ты ему изменяла, — заканчиваю я.
— Мы с папой договорились. И никогда не изменяли друг другу. И папа тоже… — Она остановилась. — Если бы папа остался жив… — Слова застревают у нее в горле.
— Он был папиным другом, — продолжаю я прокурорским тоном.
Она берет мою руку, с волнением переплетает свои пальцы с моими. Я чересчур быстро отдергиваю руку.
— Вы продолжали заниматься сексом даже во время похода. Прямо на наших глазах!
— Но Малыш Бьорн! Дружочек! Мне никогда не приходило в голову, что… Я не подозревала, что… Я думала, что вы оба не…
— Ты ошиблась!
Она пожимает мою руку. Сильно.
— О боже! Малыш Бьорн… Не знаю, что и сказать. Я не знала, что ты видел. Или догадывался. Ты ведь был такой маленький.
— Я был достаточно взрослым…
— Мне так неловко. Мы с папой были откровенны. Мы говорили об этом. Время было другое, Малыш Бьорн. Другая атмосфера. Попробуй понять.
— Сомневаюсь, что папа понял бы.
Мама опускает глаза.
— Да, — соглашается она. — Если честно, я тоже не думаю, что он понял бы. Ты никогда не знал своего отца так, как знала его я. Он не всегда был… — Она с горечью отводит от меня взгляд. — Казалось, что он все держит под контролем, но в глубине души он был совсем не…
Мы смотрим друг на друга.
— Но я уверена, что он не бросился со скалы сам, — подытоживает она. — Если ты это хочешь сказать.
Это, по-видимому, мучило ее двадцать лет. Меня удивляет, что проблема прозвучала в ее устах довольно небрежно.
— Упасть можно по-разному, — замечаю я.
Она пропускает намек мимо ушей.
— Трюгве воспринимал все это очень серьезно. Я имею в виду нашу связь. Гораздо серьезнее, чем я. Для меня это было… Не знаю. Попыткой к бегству? Флиртом? Развлечением? Отдыхом? Паузой в буднях?
Она вопросительно смотрит на меня, но уж у кого-кого, а у меня нет ответа.
Она продолжает размышлять:
— Это была любовная связь. Интрижка. Но тут произошел несчастный случай.
Какое-то время мы молчим.
— И ты об этом думал все годы? — спрашивает мама. Она обращается скорее к себе, чем ко мне.
Я молчу, давая ей возможность обдумать важность этого вопроса.
— Почему ты ничего не рассказал мне?! — восклицает она. Голос становится напряженным.
Я пожимаю плечами, отвожу глаза в сторону.
— Господи, Малыш Бьорн, и что только ты обо мне думаешь?
На этот вопрос мне не хочется отвечать.
— Когда твой папа умер, — начинает она, но не может продолжать. — Мне было очень тяжело. Каждый божий день я пыталась забыть об этом.
— И обо мне тоже?
Она наклоняет голову:
— О тебе?
Я делаю глубокий вздох, чтобы овладеть голосом.
Она помогает мне:
— Ты когда-нибудь спрашивал себя, справедливо ты относишься ко мне?
Я проглатываю слюну.
— Не только ты потерял папу, — продолжает она. — Я ведь тоже потеряла мужа. Которого любила. Несмотря на… эту историю… с Трюгве. Но мне кажется, об этом ты сразу забыл, Малыш Бьорн. Я понимаю почему. Боже, до чего же ты был несправедлив!
— Я…
Она кивает. Глаза полны слез.
— Дети никогда не должны узнавать о таких вещах. Это тебе надо понять! — восклицает она.
Я чувствую себя засранцем. Может быть, вполне справедливо.
— Это ведь было шоком для нас обоих, — бормочу я. Не очень хорошее извинение. Но было задумано как таковое.
— Трюгве никогда не рассказывает о том, что случилось в тот день, — говорит она. — Никогда. Он упрекает себя. Но не признается почему. В то утро он поменял страховочные канаты перед выходом. Потому что Биргер позаимствовал его канаты. По сути, упасть должен был Трюгве. Но я не хочу заставлять его говорить об этом. Каждый человек хочет забыть. Оставить все в прошлом.
Мама гораздо лучше меня умеет оставлять все в прошлом. Может быть, потому, что я соображаю лучше.
5.
Голубоглазая девушка в приемной растерянно смотрит на меня и восклицает:
— Привет, Турстейн, у тебя новая куртка?
Я никогда не видел этой девушки. И зовут меня совсем не Турстейном. Я не менял куртки. Но, подмигнув и помахав ей, я проскакиваю мимо нее и открываю дверь в джунгли с кондиционированным воздухом, где великолепно чувствуют себя пальмы «юкка» и еще более великолепно — пластиковые папоротники. Здесь, в продолговатом конторском помещении, которое именуется центральной редакцией, сидят три журналиста с видом людей, которым поручили сформулировать Десять заповедей. На стенке висит рекламный плакат с изображением компьютера, показывающего мускулы на своих руках, растущих из дисплея. «„PC!“ — газета мускулов компьютерной Норвегии!» — гласит он.
Я открываю дверь с матовыми стеклами. За столом сидит точная копия меня самого.
У Турстейна Авнера бледная кожа, белые волосы, пламенеющие красные глаза. Когда люди видят нас рядом, то думают, что мы с ним близнецы. Будучи тинейджерами, мы сочиняли истории о том, как мы будем когда-нибудь обмениваться нашими женщинами. Они все равно не заметили бы разницы. Но этого так никогда и не произошло. У нас просто не было женщин для обмена.
Он моргает глазами в мою сторону через стекла очков, которые еще толще, чем у меня. И когда узнает меня в том тумане, который мешает ему видеть мир, встает и машет рукой.
— Старый орел! — кричит он и громко смеется. — Черт бы тебя побрал, неужели это ты? А я уж подумал, что у меня галлюцинации.
Мы протягиваем друг другу руки.
— Старый добрый друг Бьорн! — ухмыляется он. И крепко жмет мне руку.
Я смущаюсь.
— Давненько не виделись!
Он наконец-то выпускает мою руку. Улыбка демонстрирует полный рот зубов.
— Девушка в приемной подумала, что я — это ты, — сообщаю я.
—
Лена-то? — тянет Турстейн на северонорвежском диалекте. — Чё умеет, то и делает.
Мы с Турстейном познакомились на семинаре альбиносов пятнадцать лет назад. С тех пор поддерживали контакт. Периодически. Он несколько раз заходил ко мне домой. Я тоже забегал к нему пару раз на протяжении последних лет. Он начал работать в «PC!» мальчиком на побегушках с зарплатой, поступавшей из органов социального обеспечения. Потом стал журналистом и получил собственную колонку «Г@зета @внера». Он показал мне несколько своих статей. Я не понял в них ни бельмеса. Теперь он специальный технический редактор. Тут я совсем ничего не понимаю.
— Ясно-ясно. Сдох твой винчестер? — спрашивает он.
Я чувствую себя жадным родственником, который навещает свою умирающую тетку. Каждый раз, когда я прихожу к Турстейну, у меня что-то не в порядке с компьютером.
— Мне требуется небольшая помощь, — начинаю я.
— Судя по твоему тону, помощь нужна другого размера, — хохочет он.
— Ты можешь найти мне кое-что в Интернете?
— Конечно! Что именно?
Я протягиваю ему листок со списком:
Иоанниты
СИС
Институт Шиммера
Майкл Мак-Маллин
Монастырь Вэрне
Вэрне
Рене-ле-Шато
Беренжер Сорьер
Свитки Мертвого моря
Монастырь Святого Креста
Туринская плащаница
Евангелие Q
Наг-Хаммади
— Bay! — восклицает он. — И ты уверен, что больше тебе ничего не надо?
— Это много? Некоторые слова, конечно, можно перевести на английский. Например,
Dead Sea Scrolls. The Shroud of Turin.[166]
— Bay!
— Мне не обязательно это нужно прямо сейчас, — оправдываюсь я.
— Дай мне, во всяком случае, один час! — просит он.
Я не могу понять, говорит он всерьез или издевается.
— Я вполне могу получить ответы завтра.
— Какой поисковик, по-твоему, лучше применить?
Я делаю вид, что обдумываю вопрос. Но если честно, то я не понимаю, что он имеет в виду.
— Yahoo? AltaVista? Kvasir? Excite? HotBot? Meta Crawler? — спрашивает он.
— Чё?
— Понимаю, понимаю. — Он хихикает. — Первые пять упоминаний каждого слова? Сделать как URL?
— А распечатки можно сделать?
— На бумаге?
— Хотелось бы.
Он закатывает глаза:
— Бьорн, Бьорн, Бьорн… Разве ты не заметил, что мы живем в мире без бумаги? Если, конечно, хотим. А мы хотим. Подумай о деревьях!
— Я знаю. Но этому я сопротивляюсь, как могу.
— Ну, давай я тебе скопирую нужные места на дискету.
— Турстейн, я бы предпочел распечатки. К тому же у меня украли винчестер.
— Бумага! — презрительно фыркает он. Как будто бумагу он считает таким же древним носителем информации, как глиняные таблички и папирус. Хотя в этом, может быть, он и прав. — Украли винчестер? — вдруг изумленно спрашивает он, но не дожидается ответа.
Прежде чем уйти, я прошу у секретарши разрешения и звоню Диане на бабушкину дачу. Лена растерянно смотрит на меня, пока я стою и слушаю гудки в трубке. Под слоями загара из солярия, кремов и красок начинает проступать слабый румянец, когда до нее доходит, что я вовсе не Турстейн.
Диана не отвечает.
6.
По дороге к усадьбе у фьорда я прячу ларец в таком месте, где его будут искать в самую последнюю очередь. Я очень доволен своей находчивостью. И начинаю наслаждаться чувством победы. Вечерний бриз заполняет Боллу нежным соленым ароматом последних дней лета. Я еду по колее, ведущей к бабушкиному дому. В садах полно спелой сливы и вишни. Сквозь деревья виднеется спокойная серебристая гладь фьорда. С мола доносится громкий крик подростков. Неподалеку от таблички спасательной станции встала на якорь небольшая яхта. По поверхности «пенных барашков» скользит тень пролетающего гидросамолета. Я останавливаю Боллу рядом со скрюченной сосной в самом конце дороги и весело зову Диану. Дверь домика открыта. Видно, как колышется скатерть на столе террасы.
Когда я уходил сегодня рано утром, Диана спала, открыв рот. Волосы свешивались на лицо. Я пожалел ее и не стал будить. Было прохладно, стекла на окнах запотели. Я прикрыл ее обнаженное тело, поцеловал в щеку и отодвинул волосы с лица. Перед выездом написал, что поеду в Осло. А записку подсунул под стакан с водой на ночном столике — «Моему ангелу. Твой принц». Как мы милы друг другу!
Я подаю сигнал — гудок Боллы звучит, как труба в праздник 17 мая, потом захлопываю дверь и жду, что она сейчас выбежит. «
Бьарн! Наконец-то!» — закричит она. Нетерпеливая и радостная. Весь дрожа от возбуждения, я представляю, что сразу же после того, как она обнимет меня и расспросит, почему я так задержался, мы будем заниматься любовью на скрипящем диванчике в гостиной.
Я начинаю насвистывать и медленно, чтобы дать ей возможность закончить все дела, иду по каменной лестнице на террасу, вхожу в прихожую. Зову Диану и ищу ее на кухне. Она сходила в сельский магазин и кое-что купила на ужин. Яйца, лук, помидоры, картошку, пиво. Видимо, поэтому она и не отвечала, когда я звонил. На кухонной скамейке лежат чек, бумажные десятки и монеты по одной кроне. Я ненадолго задумываюсь, где она достала норвежские деньги. Тарелка с моим ужином прикрыта целлофаном. Ветчина, яичница, нарезанные овощи. На записке, лежащей на тарелке, большими буквами написано мое имя.
Я ищу ее повсюду. В ванной комнате, где ее зубная щетка в розовом пластмассовом стаканчике над раковиной заставляет мое сердце сильно биться. В гостиной. В бабушкиной спальне. В комнате для гостей. В мансарде, где стоит ее чемодан. В кладовке. В саду позади домика. Она, вероятно, пошла погулять. Я беру съестное и пиво и усаживаюсь на террасе. Внизу, на камне «бараний бок», стоит рыболов с удочкой. Он, по-видимому, из отдыхающих в кемпинге, потому что все жители деревушки знают, что так близко от берега рыба не ловится. На середине фьорда по воде скользит парусная лодка. На яхте, стоящей около мола, блеснул бинокль.
Ну где же она?
Съев все и выпив пиво, я опять возвращаюсь в дом. У меня появляется чувство страха. Она ни за что не ушла бы далеко, если ожидала, что я в любой момент могу появиться. Я сажусь на велюровый стул, который так любила бабушка. Скрипят пружины. Этот звук возвращает меня в детство, когда жалобное пение этих пружин загоняло бабушкиного кровожадного ротвейлера Грима под диван, где он дрожал и скулил. Уже тогда меня удивляло, что есть такие звуки, которые слышат не все люди. Если это верно, то неудивительно, почему некоторые люди способны увидеть привидение.
Я выхожу в сад за домом и опускаюсь на скамейку-качалку. Поют птицы. По воде стремительно несется глиссер.
[167] Трос на металлическом флагштоке соседа бьется под ветром и издает веселый звук. Я смотрю на часы.
И только сейчас до меня доходит.
Она попала к ним.
Они знали об усадьбе. Они вели за нами наблюдение. Мое ощущение победы — иллюзия. Самообман.
Вхожу в дом и ищу что-нибудь, что она мне оставила. Записку, тайный знак. Еще раз обхожу все помещения. Голова кружится. Как будто я перепил. В отчаянии бегу к самой кромке воды. Словно боюсь найти ее плавающей у берега. С лицом, опущенным в воду.
Когда я возвращаюсь к дому, слышу звонок телефона. Я прыгаю по каменной лестнице, вбегаю в дом, но чуть-чуть опаздываю.
Достаю в холодильнике пиво. Делаю глоток. Дыхание неровное.
Пытаюсь понять. Почему ее схватили? Если именно это произошло? И почему ее? Где она? Чего от нее хотят? Использовать ее, чтобы оказать давление на меня? Я допиваю пиво большими глотками, рыгаю и ставлю пустую бутылку на подоконник среди дохлых мух.
Телефон звонит снова. Я поднимаю трубку и кричу:
— Диана?
— Все в порядке. Она у нас.
Голос низкий, незнакомый. С хорошей артикуляцией. В нем есть что-то приятное, успокаивающее.
Я не успеваю ответить. Обстановка в комнате выглядит как-то очень странно. Как будто я здесь впервые.
— Мы хотели бы с тобой побеседовать, — заявляет человек.
— Что вы с ней сделали?
— Ничего. Можешь не беспокоиться. Ты уже поел?
— Где она?
— Не думай об этом. Ей хорошо. Вкусно было?
— К черту вкус! Почему вы ее захватили?
— Успокойся. Нам надо поговорить.
— Я уже наслушался ваших разговоров. Я позвоню в полицию.
— Пожалуйста. Но это вряд ли что-нибудь изменит.
— Диана не имеет к этому никакого отношения! — ору я.
— Когда мы получим ларец?
Бросаю трубку и выбегаю на террасу. Мне душно. Голова кружится. Положив руки на перила, ловлю воздух губами.
Далеко во фьорде лодки собрались кучкой около рыбной отмели. Чайки из Ревлингена летают над лодками, испуская крики. Невидимый отсюда теплоход, направляющийся в Данию, ритмично постукивает лопастями по поверхности воды. Я закрываю глаза и массирую нос кончиками пальцев. Начинаю раскачиваться, падаю назад и оказываюсь в плетеном кресле. Меня знобит. Волны холода исходят из моей диафрагмы и достигают кончиков пальцев рук и ног. Хватаюсь за край стола, чтобы не упасть.
Что со мной?
Правое полушарие мозга раздувается, его покалывает. Череп слишком мал, чтобы вместить распухший мозг.
Во рту пересохло, язык приклеился к нёбу. Я издаю ужасные звуки, хватаюсь за голову и пытаюсь позвать на помощь. Вместо этого только всхлипывание срывается с губ. Пробую встать, но ноги и руки оторвались от тела и лежат кучей на полу террасы.
По дороге к дому едет машина. Шины шелестят о гравий. Тарахтит мотор. Машина останавливается около моей Боллы. Я еще могу поднять голову. Это красный «рейнджровер».
Прижимаю руку ко рту и издаю хриплый стон.
Двери машины открываются.
Их двое. Старые знакомцы, вломившиеся в мою квартиру. Кинг-Конг. И аристократического вида мужчина в шикарном костюме.
Они поднимаются по лестнице, как будто в их распоряжении целая вечность.
— Добрый вечер, господин Белтэ, — здоровается аристократ. Британец до кончиков пальцев.
Я пытаюсь ответить, но язык не слушается, и раздается только нечленораздельное бормотание.
— Я глубоко сожалею, — вздыхает англичанин. — Мы надеялись, что вы пойдете нам навстречу. Но пришлось прибегнуть к крайним мерам.
Меня хватают под руки и тащат с террасы. Ноги стукаются о ступеньки. Меня втаскивают в машину и швыряют на заднее сиденье.
Больше я ничего не помню.
7.
Когда я был маленьким, я всегда прекрасно знал, какой сегодня день, еще до того, как просыпался по-настоящему. Тихое спокойствие в воскресенье, тоскливое пробуждение в среду, нервное напряжение в пятницу. С годами я утратил эту способность. Как и многое другое. Теперь иногда даже в середине дня случается, что я спрашиваю, какой сегодня день. И какой год.
Закрытое на крючок окно состоит из шести квадратиков стекол, сияющих под лучами солнца.
Я натягиваю ватное одеяло на голову и в течение нескольких минут прихожу в себя. Это совсем не просто. Но вскоре я выглядываю наружу.
Комната — чужая, голая. Я тоже.
На спинку венского стула кто-то очень аккуратно повесил мою одежду. Мне становится противно: кто-то меня раздевал! Какой-то чужой человек снимал с меня одежду и укладывал меня голого в постель!
В комнате дверь и шкаф. Офорт, изображающий Иисуса с ягнятами. Литография каменного замка. И фотография Букингемского дворца.
Голова раскалывается.
На ночном столике около моих очков стакан воды. Спускаю ноги на пол. От этого движения головной мозг сразу же увеличивается вдвое. Я надеваю очки. Одним долгим глотком выпиваю всю воду, но жажда не проходит.
Мои наручные часы лежат на столике, как покойник с раскинутыми в стороны руками-ремешками. Но они тикают и идут. Сейчас половина одиннадцатого.
Встаю, ковыляю к окну. Голова кружится. Приходится держаться за подоконник. Он белый и пахнет свежей краской.
Сад не очень большой. Несколько автомашин стоят на асфальтовой полосе вдоль дома. Каштаны закрывают вид на улицу, где слышен грохот трамваев. Значит, я в Осло. На втором этаже дома с садом.
Я одеваюсь. Очень трудно застегнуть пуговицы на рубашке. Пальцы чертовски дрожат.
Они ничего не украли. В заднем кармане по-прежнему лежит записная книжка. И деньги.
Дверь заперта. Я трясу ее. С той стороны я слышу голоса и шаги. Как в тюрьме, звенят ключи на связке. Затем ключ поворачивается.
— Привет, мой друг!
Это Майкл Мак-Маллин. Или Чарльз де Витт. Или кто-то третий, кем он захочет быть сегодня. Секунды тянутся долго. Наконец я говорю:
— Для человека, который умер двадцать лет назад, вы выглядите удивительно свеженьким!
Обычно у меня бывают затруднения с наглыми репликами. Эту я сочинял в самолете из Лондона. Я все время был уверен, что когда-нибудь мы снова встретимся.
— Я все объясню.
— Где Диана?
— В надежных руках.
— Что вы с ней сделали?
— Попозже, дружок, попозже. Мне действительно очень жаль!
Мне начинает казаться, что он действительно так и думает.
— Не будете ли вы так любезны пройти со мной? — спрашивает он.
«Так любезны»?
В коридоре бархатные обои и маленькие бра между старинными портретами королей и королев, аристократов, рыцарей, крестоносцев и пап римских. Каждый из них провожает меня пристальным взглядом.
Мягкая дорожка приводит нас по длинному коридору к широкой лестнице. Затем тяжелая дверь. Не знаю, как назвать это помещение: залом заседаний, курительной или гостиной. Предо мной роскошный, с явным избытком мебели, салон, бук и палисандр на стенах, тяжелые шторы и люстры. Запах политуры
[168] и сигар.
Первое, что успевает ухватить мой взгляд, — огромное живописное полотно, изображающее двух друидов у Стоунхенджа. Второе — длинный, хорошо отполированный стол, на котором лежат зеленые фетровые подкладки для письма напротив каждого из двенадцати стульев с высокими спинками. Третье — два человека в углу на креслах. Я их обнаруживаю только тогда, когда замечаю поднимающийся дым от сигар. Оба обернулись и внимательно смотрят на нас.
Это Грэм Ллилеворт и директор Инспекции по охране памятников Сигурд Лоланн.
Оба встают. Лоланн никак не может решить, куда ему смотреть. Первым мне протягивает руку Ллилеворт. Потом то же самое делает Лоланн.
— Спасибо за последнюю встречу, — неуклюже бормочет Лоланн. Как будто помнит, когда она у нас была.
Никто из нас ничего не говорит.
На столе стоят фарфоровый кофейник и четыре чашки.
— Сахар? Сливки? — спрашивает Ллилеворт. Между указательным и средним пальцами тлеет сигара.
Я не люблю кофе.
К Лоланну я обращаюсь по-норвежски:
— Я не очень силен в Уголовном кодексе. Но могу предположить, что за похищение иностранки, отравление и похищение норвежца могут дать от пяти до семи лет тюремного заключения. Если только вы не задумали утопить меня в океане, предварительно всунув в бочку с бетоном. Тогда уже можно говорить о сроке в двадцать один год тюрьмы.
Лоланн нервно кашляет и бросает взгляд на Мак-Маллина.
Мак-Маллин по-отечески хихикает, как будто понял мои слова:
— Очень жаль. Вы, возможно, предпочитаете чай?
— Где Диана?
— Не волнуйтесь. Ей хорошо.
— Что вы с ней сделали?
— Ничего особенного. Пожалуйста, не беспокойтесь. У всего есть объяснение.
— Вы ее похитили!
— Вовсе нет.
— Кто вы? На самом деле?
—
Я — Майкл Мак-Маллин.
— Забавно. В последний раз, когда мы с вами беседовали, вы назвали себя Чарльзом де Виттом.
Грэм Ллилеворт с удивлением глядит на него:
— Ты так себя назвал? Это правда? — и не удерживается от короткого смешка.
Мак-Маллин делает искусственную паузу.
— М-м, неужели так и назвал? — Он смотрит на меня игриво, морщит лоб. — И правда. Когда наши друзья в Лондонском Географическом обществе сообщили, что Бьорн Белтэ из Норвегии спрашивал о Чарльзе, мы придумали этот маленький глупенький план. Вы правы. Я сделал так, что вы поверили, будто я и есть добрый старый Чарли. Но справедливости ради следует добавить, что сам я вам так и не представился.
Я спрашиваю:
— Почему же теперь я должен поверить, что вы — Майкл Мак-Маллин?
Он протягивает мне руку. Я машинально хватаю ее.
— Я Майкл Мак-Маллин. — Он делает ударение на каждом слове.
От него исходит аура спокойствия и дружелюбия, которая смущает меня. Ллилеворт, Лоланн и я — мы напоминаем пугливых шавок, которые рычат и крутятся вокруг одной вожделенной кости. Майкл Мак-Маллин — другой. Он как бы парит над нами, не опускаясь до мелочных ссор. Вся его натура — добрый взгляд, низкий голос, спокойствие — источает-мирное и дружелюбное достоинство.
Лоланн предлагает мне стул. Я сажусь на самый край. Мы смотрим друг на друга.
— Вы — крепкий орешек, Белтэ, — признается Мак-Маллин.
Двое других начинают нервно смеяться. Лоланн подмигивает мне. Они пытаются мне внушить, что все мы перешли некую черту и оказались на одной стороне, а теперь сидим и веселимся по поводу того, что уже позади. Но они плохо меня знают. Я действительно крепкий орешек.
— Я очень рад, что вы теперь с нами, — произносит директор инспекции Сигурд Лоланн. И лицо у него елейное. — Нам бы побольше таких, как вы.
Мак-Маллин замечает мою сдержанность. Он ежится:
— Господа, будьте благоразумны. Надо дать объяснения нашему другу.
Иногда полезно помолчать. Я молчу.
Они переглядываются. Как будто каждый надеется, что начнет кто-то другой. И снова первым берет слово Мак-Маллин.
— С чего начнем? — спрашивает он.
— Давайте начнем с де Витта, — предлагаю я.
— Де Витт… Это было глупо с моей стороны. Я недооценил вас. В очень большой степени.
— А чего вы хотели добиться?
— Мы представляли себе, что нам будет легче, если вы примете меня за Чарльза. Что вы поверите ему. То есть мне. Мы надеялись, что вы доверите ларец де Витту, если он вам все объяснит. Мы были наивны. Я прошу у вас прощения.
— Я не должен был обнаружить, что вы его убили?
— Что? — восклицают они в один голос.
— В то лето, когда умер папа? — Я смотрю на каждого по очереди. — Вы хотите сказать мне, что совершенно случайно эти двое умерли одновременно?
Изумленные выражения лиц заслуживают доверия. И на мгновение я готов поверить им. Но только на одно мгновение.
— А почему вы сомневаетесь, что так и было? — спрашивает Мак-Маллин.
Лоланн фыркает:
— Ну знаете!
— Значит, это было чистым совпадением?
— Само собой разумеется! — кивает Мак-Маллин.
— Мы не варвары! — вступает в разговор Ллилеворт.
Лоланн качает головой:
— Вы начитались детективных романов! Ваш отец погиб в результате несчастного случая. Чарльз умер от инфекции. То, что это произошло в одно и то же лето, не более как совпадение.
Ллилеворт добавляет:
— В жизни сколько угодно подобных совпадений.
— Не говоря уж о смерти, — отвечаю я.
Я перевожу взгляд с одного на другого.
— Хорошо, оставим это, — говорю я. — На время. Я все еще не могу понять, почему вы не могли рассказать мне правду? Ларец у меня. Все, о чем я прошу, — это дать ответ на вопрос, что там внутри. Когда я узнаю истину, я верну его. Все эти обманы и ложные следы — зачем они?
— Правду? Э-э… А что такое истина? — спрашивает Мак-Маллин. Он смотрит на меня улыбаясь и в то же время с вызовом.
Я равнодушно пожимаю плечами.
— И какие у вас права требовать, чтобы вам рассказали так называемую истину? — продолжает он.
— Я представляю норвежские власти!
— Вздор! — возражает Лоланн. — Это я представляю норвежские власти.
— Вы? — усмехаюсь я. — Вы один из участников заговора!
— Ах, Бьорн, Бьорн, — смеется Мак-Маллин. — Не надо говорить глупости! Попробуйте посмотреть на дело с нашей стороны. Мы не знали, кто вы. Были ли вы с нами?
— С вами? — эхом отзываюсь я.
— Да, или же против нас. Были вы искренни?
— Искреннен?
— Или хотели получить деньги? Мы не знали, почему вы украли у нас ларец.
— Я не украл его! Я его вернул. Потому что вы собирались его украсть.
— Нельзя украсть то, что принадлежит тебе по праву, — произносит Мак-Маллин.
— Ларец вам не принадлежит! Ларец — норвежская собственность. Найденная на территории Норвегии.
— Мы к этому еще вернемся.
— Вам не приходило в голову, что у меня честные намерения? — спрашиваю я. — Я хотел всего лишь досконально разобраться в этом деле.
— Мы надеялись, что вы вернете ларец, — вздыхает Мак-Маллин. — Что вы и обязаны были сделать.
— И тогда вы стали изображать умершего. Сняли квартиру и обставили ее мебелью на один день.
Он изумленно косится на меня:
— Разве? Мы только одолжили ее. Если честно, то эту квартиру власти используют для… ну, таких дел. — Серебряной ложечкой он помешивает кофе в чашке. — После нашего короткого разговора я был уверен, что все будет нормально, но Диана рассказала, что вы отнеслись к этому скептически.
Я похолодел. Диана? Мак-Маллин смотрит на меня:
— Когда-нибудь вы все поймете. Она не имеет отношения к этому делу. Прямого. Только после того, как мы узнали, что вы с Дианой… дружите, мы ее изолировали. Это было против ее воли. — Его взгляд темнеет. — Мы ее убрали для ее же блага.
Они ждут, что я что-нибудь скажу. Но я молчу. Это беспокоит их.
— Когда мы узнали о вашей встрече с вдовой Чарльза, мы поняли, что недооценивали вас, — говорит Мак-Маллин.
— Совершенно точно, — подтверждает Лоланн.
Мак-Маллин продолжает:
— В Лондоне все пошло слишком быстро. Вы были умнее, все время опережали нас на один ход.
Я пытаюсь понять роль Дианы. Все тут как-то не сходится.
Мак-Маллин подносит чашку ко рту и допивает кофе.
— В конце концов я решил: нам поможет только откровенный разговор. Такой, как сейчас. Мы объясним вам все. И вы примете решение.
— Вот как? — недоверчиво бормочу я.
— Когда вы пришли в СИС, мы решили, что сможем с вами поговорить. И опять мы вас недооценили. Вы — крепкий орешек, Белтэ! Крепкий орешек!
Мак-Маллин бросает взгляд на Лоланна, который рассматривает ковер на полу.
— И все это дает вам право выкрадывать Диану, пичкать меня отравой и тоже похищать?
— Это безвредное лекарство, Бьорн. Скорее, снотворное. Я очень сожалею. Но ведь добровольно вы вряд ли пошли бы с нами?
— Можете быть абсолютно уверены, не пошел бы.
— Нам необходимо, чтобы вы поняли. — Он опускает глаза. — Поэтому иногда мы вынуждены использовать нетрадиционные средства. Дело не в том, что мы специально ищем наиболее драматические способы разрешения проблем.
— У меня есть один вопрос, — заявляю я.
— Да?
— Что в ларце?
— Это не норвежский артефакт, — быстро вставляет Лоланн.
— Ларец сделан из золота, — подчеркиваю я. — Стоимость одного только золота измеряется миллионами крон.
— На коммерческом рынке сам по себе ларец стоил бы, самое малое, пятьдесят миллионов фунтов, — уточняет Мак-Маллин. — Но для нас не играет абсолютно никакой роли, из чего он изготовлен. Или в какую сумму он оценивается.
— Потому что его содержимое еще дороже, — предполагаю я.
Мак-Маллин наклоняется вперед:
— При этом ни содержимое ларца, ни сам ларец не являются норвежскими.
— Ларец найден в Норвегии.
— Это правда. Совершенно случайно он находился в Норвегии. Но он не норвежский. Поэтому норвежские археологические власти не могут возражать против его вывоза.
Директор Инспекции по охране памятников начинает кивать, пожалуй, уж слишком энергично.
— Напротив, — продолжает Мак-Маллин, — чрезвычайно важно, чтобы соответствующие инстанции изучили артефакт. Норвегия — всего лишь краткий эпизод в истории ларца.
— Не понимаю, о чем речь. В какой истории? — спрашиваю я.
Мак-Маллин делает глубокий вдох:
— Это длинная история. Ведь так, господа? Длинная история!
Лоланн и Ллилеворт подтверждают: да, история длинная.
— У меня достаточно времени. — Я складываю руки на груди и откидываюсь на стуле.
— Позвольте начать с СИС, — говорит Мак-Маллин. — Society of International Sciencies, это мой вспомогательный аппарат. Общество в его нынешней форме было создано в тысяча девятисотом году. Но его корни простираются в глубь веков. СИС является межотраслевым объединением наук. Но скрытым образом СИС представляет также то, что можно назвать… э-э-э… научной контрразведкой. Мы собираем данные всех нужных нам отраслей науки и ищем… следы. СИС вело наблюдение, большей частью совершенно открыто, за всеми важнейшими археологическими раскопками на протяжении последних сотен лет. Иногда мы посылаем туда наших представителей, как, например, профессора Ллилеворта, под прикрытием какого-нибудь исследовательского проекта. Но, как правило, нам присылают отчеты руководители раскопок.
— Я подключился в тысяча девятьсот шестьдесят третьем году, — сообщает Лоланн. — Наблюдал за норвежскими раскопками и посылал в СИС необходимые отчеты и книги.
— Как мило! — усмехаюсь я.
— И следует добавить, — вступает в разговор Ллилеворт, — что все происходило совершенно легально. Мы не какие-нибудь злодеи.
— Мы в контакте с добропорядочными людьми, вроде Сигурда Лоланна и вашего отчима профессора Арнтцена, по всему миру, — рассказывает Мак-Маллин. — А Грэм Ллилеворт — один из наших полевых агентов.
— Агент 007, — абсолютно без выражения произносит Ллилеворт. За все время я в первый раз слышу от него шутку. Даже Мак-Маллин и Лоланн с изумлением смотрят на него. А он пускает кольца дыма.
— Мы приближаемся к главному, — продолжает Мак-Маллин. — Дело в том, что СИС хранит один секрет. Который косвенным образом связан с ларцом.
— Наконец-то!
Он откашливается. В его облике появилось что-то торжественное. И нереальное. Проходит несколько секунд.
— Я сделал это таким образом, — объясняет он. — Я представил себе реку. И прошу вас сделать то же самое. Окажите — мне услугу, Бьорн. Закройте глаза. И представьте себе реку.
Я вижу перед собой реку. Широкую, плавно текущую. Похожую на сталь, расплавленную жарким тропическим солнцем. День клонится к вечеру. Над камышом вдоль берега роятся ленивые насекомые. Среди барашков волн видны крутящиеся ветки и комки зелени. Река течет мимо пустынь и кипарисов. На скале стоит мраморный храм. Но людей не видно.
Мак-Маллин ждет, пока картинка зафиксируется в сознании. И продолжает:
— А теперь представьте себе путешественников. Их немного. Два-три, может быть. Участники экспедиции. Плывут по реке, направляясь в чужую, загадочную страну.
Я представляю эту сцену, как на киноэкране: они плывут на плоту. Бревна соединены толстыми тросами. Позади мачты хижина из веток и лиан. Люди сидят на передней части плота. Один опустил в воду ноги. Второй посасывает трубку. Оба истекают потом.
— Их долго отбирали для экспедиции. Были выбраны самые квалифицированные. Самые мужественные. Путешествие опасное. Путь лежит по неизведанной стране. По местности, которой они ранее не видели. Они не бывали здесь. Только в книгах читали.
Я закрываю глаза, чтобы лучше видеть.
— Река бесконечна. Она течет все дальше. И дальше. И дальше.
— И кончается в океане.
— Нет. Она нигде не кончается.
— Нигде?
— Представьте себе, что у нее нет ни истоков, ни устья.
— Странная река.
— Она течет и течет. А плот несет и несет — не по течению, а против течения. Члены экспедиции прикованы, они должны сопротивляться воле реки. Они не могут обмануть ее. Не могут вернуться в пункт отправления. Они должны плыть против течения.
— Могут ли они сойти на берег?
— Да, они могут сойти на берег. Но это будет означать конец пути. Они никогда не двинутся дальше. Они могут разбить лагерь. Но они не смогут вернуться назад и не смогут поплыть вниз по реке.
— Которая не имеет конца.
— Абсолютно правильно. Не имеет конца.
— Бесконечное путешествие.
— Именно так.
— Цели нет?
— Само путешествие и есть цель.
— Вероятно, оно довольно скоро станет скучным.
Мак-Маллин смеется. Потом складывает ладони, расставляет пальцы так, что получается пять шпилей, и говорит:
— У них нет никакой связи с теми, кто их послал. И только с несколькими избранными по дороге. Но они оставляют за собой нечто… Назовем это бутылочной почтой. Адресованной тем, кого они покинули. Путевые заметки, можно сказать. Там они рассказывают о том, что увидели и испытали. Научные отчеты. Основанные на тех знаниях, которые у них были на момент отправления.
— Значит, бутылочная почта может двигаться в обратном направлении?
— Если ей помогает время. — Мак-Маллин кивает сам себе. — Потому что… Как вы определите время?
Я не знаю.
— Время, — изрекает он, — есть бесконечная цепь мгновений.
Я пытаюсь осмыслить это уравнение. Но не могу. Тогда я делаю попытку.
— А что, если предположить, — спрашиваю я, — что эта река — космическое пространство? Что экспедиция прибыла с другой планеты? Находящейся где-то в бесконечности?
Вопрос — безумный. Я это понимаю сам, когда слова вырываются у меня. И все же Мак-Маллин смотрит на меня так, как будто я догадался правильно. Чокнутый Уинтроп-младший сказал мне правду. Эта история повествует о группе инопланетян, обладающей технологиями столь совершенными, что они могут преодолеть расстояния во много световых лет между их Солнечной системой и Землей. Это объяснило бы многое. Возможно, что они прибыли сотни лет тому назад. И оставили свои технологические визитные карточки. Которые удивят археологов, когда они наткнутся на них среди разбитых горшков и кончиков стрел. Это гуманоиды. Высокоразвитые существа, передающие сообщения нам, землянам.
— Это правда? — недоверчиво спрашиваю я. Мак-Маллин протягивает мне вырезку из «Афтенпостен». Маленькая заметка:
ЧАСТИЦЫ ИГРАЮТ В ПРЯТКИ С УЧЕНЫМИ ИЗ OERN
Мейрин, Швейцария
Интернациональная группа ученых, работающих на ускорителе частиц OERN в Швейцарии во время экспериментов в диапазоне скоростей, приближающихся к скорости света, обнаружила, что масса исчезает, не отдавая энергии.
Руководитель проекта профессор Жан-Пьер Латрок сообщил агентству Ассошиэйтед Пресс, что ученые не могут объяснить явления, которые он назвал «физически невозможными».
«Всоответствии с физическими законами масса не может исчезнуть просто так, — говорит Латрок. — Поэтому мы поставили своей задачей выяснить, куда исчезают частицы».
— OERN, — объясняет Мак-Маллин, — это
Organisation européеппе pour la recherche nucléaire.[169]
У него идеальное произношение, как у прирожденного француза.
— Что это?
— Европейская лаборатория физики элементарных частиц. Основана в пятидесятые годы. Расположена в Мейрине в Швейцарии. Огромный размах! Лаборатория находится в тоннеле в горе, на глубине в сто семьдесят метров. Диаметр — двадцать семь километров. Самая большая в мире.
— Крупнейшая в мире лаборатория?
— Самый большой ускоритель!
— Что это значит?
— Замочная скважина, чтобы заглянуть в тайну Сотворения мира!
— Э-э?
— Ускоритель частиц! Преобразует поток частиц при скорости, близкой к скорости света, в массу.
Иногда мне бывает трудно подобрать подходящие слова.
— Боже мой! — вырывается у меня.
— И таким образом мы можем выяснить, что произошло в первые миллионные доли секунды мироздания. Во время экспериментов мы сумели воссоздать состояния, равные тем, которые возникли сразу после Большого взрыва, момента рождения Вселенной.
— Боже мой!
— Чтобы осмыслить Сотворение мира, — рассказывает он, — мы должны исследовать самые маленькие кирпичики Вселенной. Атомы, электроны, протоны, нейтроны, кварки. Антивещество.
Он делает перерыв, во время которого мой мозг наслаждается отдыхом.
— Боже мой! — повторяю я в третий раз. Это не очень большой вклад в беседу. Но физика никогда не была моей сильной стороной. В особенности физика элементарных частиц.
— Я не слишком быстро объясняю? — спрашивает Мак-Маллин.
— Быстро или медленно, я все равно ничего не понимаю.
Он продолжает:
— Ускоритель элементарных частиц разбивает самые маленькие частицы на еще более мелкие фрагменты.
— Допустим.
— При помощи магнитного поля эти огромные ускорители разгоняют частицы по кругу, пока те не достигнут скорости, близкой к скорости света.
— Какая скорость!
— И тут ученые сталкивают частицы друг с другом. Для того чтобы изучить физические последствия.
— Послушайте. Я ничего не смыслю во всех этих делах. Что вы мне объясняете? Какое отношение это имеет к ларцу?
Мак-Маллин протягивает мне еще одну газетную вырезку — из «Нью-Йорк таймс».
ПОНЯТИЕ ВРЕМЕНИ ПОД ЛУПОЙ
Абе Роузен
Ученые, работающие в престижном центре OERN, европейской лаборатории физики элементарных частиц, рассмотрели понятие времени через огромную лупу. Если теории и предположения ученых будут доказаны, открываются безграничные перспективы.
Во время одного эксперимента на ускорителе частиц в этом году физики, к своему удивлению, обнаружили, что частицы исчезли, не отдав энергии.
Эксперимент, который носил название «Эксперимент Уэллса» в честь знаменитого романа Г. Дж. Уэллса «Машина времени», был воспроизведен несколько раз с одним и тем же результатом.
Руководитель проекта французский физик, специалист по элементарным частицам, профессор Жан-Пьер Латрок говорит, что физики не сумели найти разумного объяснения этого физического парадокса.
«На данном, раннем этапе наша теория состоит в том, что частицы получили ускорение и исчезли во времени», — поясняет Латрок.
Он подчеркивает, что эту теорию следует сейчас принимать только как рабочую гипотезу исследователей: «Если бы нам удалось доказать, что частицы переместились во времени, это означало бы принципиально новое понимание законов природы. Мы не можем говорить о том, что было раньше и будет потом. О том, что причина и что следствие. Это сфера без времени и пространства. Можно назвать это измерением, параллельной Вселенной, гиперпространством».
Латрок осторожен с выводами, но указывает, что даже знаменитые ученые, такие как астрономы и физики Стефен Хоукинг и Кип Торне, всерьез обсуждают возможности путешествий во времени через так называемые спиральные дыры во Вселенной.
Некоторые ученые считают, что черные дыры есть входы и выходы этих «спиральных дыр», которые являются путями ускоренного движения по бесконечным пространствам Вселенной. Если это астрофизическое предположение имеет под собой почву, то магический и абсолютный барьер времени уже преодолен.
Один австрийский эксперимент с фотодетектором недавно подтвердил квантофизический феномен «внеместопребывания». Это понятие означает, что частицы, которые в течение какого-то времени были соединены в пучок, останутся вместе независимо оттого, где бы во Вселенной — во времени и пространстве — они ни находились.
Исследования группы ученых под руководством Латрока привели к бурной реакции со стороны выдающихся физиков в большинстве университетов Европы и США.
Один из ее наиболее известных критиков атомный физик и лауреат Нобелевской премии Адам Дж. Дж. Траст III заявляет, что понятие времени — последняя неприступная линия обороны в науке. «Даже в природе есть абсолютные величины, — настаивает Траст. — Скорость света — одна из них».
Но критика не удивляет Латрока и возглавляемую им группу. «Мы первыми сказали, что эта теория звучит безумно. Некоторые ученые считают, что допустимы другие интерпретации данного явления. Но лично я не вижу никакого другого объяснения того, куда девались частицы!»
Я смотрю поверх газетной вырезки.
— Понимаете? — спрашивает Мак-Маллин.
— Абсолютно ничего.
— Разве вы не видите связи?
— Какой? Что мне здесь надо понимать? Какое отношение это имеет к ларцу?
Мак-Маллин делает глубокий и медленный вздох. Я чувствую себя тупым учеником, который не приготовил домашнего задания.
— Представьте себе, — вновь пускается в объяснения Мак-Маллин, — что ученые через двести пятьдесят лет сумеют преодолеть барьер времени. Так же, как NASA в тысяча девятьсот шестьдесят девятом году сумела послать человека на Луну. Представьте себе, что ученые будущего сумеют дать человеку возможность путешествовать во времени.
Я пытаюсь представить себе это. Но не могу.
— Вы ведь имеете в виду путешествие назад, в прошлое? — спрашиваю я.
Мак-Маллин выпускает воздух через нос с громким свистом.
— Представьте себе, — медленно говорит он, — что путешественники во времени вывалились из своего корабля в далеком прошлом. И стали такими же беспомощными, каким был бы Армстронг на Луне. Представьте себе также, что они оставили после себя послание. Не американский флаг, а сообщение для тех, кого они покинули в будущем. Сообщение о том, что они благополучно прибыли на место.
— Подождите… — Я пытаюсь сложить начало и конец этого странного уравнения. — В этом случае они сами же прочитают свое сообщение, прежде чем отправляться в дальний путь… Потому что если им это удалось сделать в прошлом, то должно удаться и в будущем…
— В конечном счете да. Но мы здесь сталкиваемся с вечным парадоксом: если человек отправляется в прошлое, то он может случайно убить своих будущих родителей до своего рождения! Мы должны осознать, что здесь дело в разном протекании времени.
Я молчу. Потом говорю:
— Вы собираетесь мне сказать, что лежит в ларце? Сообщение группы путешественников во времени?
Все трое торжественно смотрят на меня. Время идет. Но его у меня достаточно! Секунды летят.
— Мы нашли капсулу времени, — объявляет Мак-Маллин. — Их корабль. Машину времени, если хотите.
— В монастыре Вэрне?
— Ларец, обнаруженный в монастыре Вэрне, содержит сообщение, которое они отправили.
— М-да. Вот как. Ну конечно. И как же ларец попал туда?
— Это длинная история. Египтяне приняли путешественников во времени за богов. Когда золотой ларец с письменами был перевезен из Египта на Ближний Восток, его стали считать святыней. Религиозной реликвией. Потом он попал к иоаннитам. Они думали, что это божественные документы. И сочли, что монастырь Вэрне — надежное место для их хранения. Край света.
Я киваю. Как будто все понял.
— А капсулу времени где вы нашли?
— В Египте.
— В Египте?
— Под пирамидой Хеопса был найден вовсе не космический корабль. А капсула времени.
И тут я не выдерживаю. Я начинаю снова фыркать. Фырканье — это моя вечная беда.
У Ллилеворта такой вид, как будто он сейчас навалится на меня всеми своими ста пятью килограммами.
— Ну и ну! — восклицаю я.
Ллилеворт берет из пепельницы сигару. Потухшую. Быстро зажигает спичку и подносит к сигаре.
— Да? — спрашивает Мак-Маллин великосветским тоном.
— Ну и ну! — повторяю я. — И за кого же вы меня принимаете?
Мак-Маллин смотрит на меня, подложив большие пальцы под подбородок и скрестив остальные пальцы домиком перед своим носом. Если бы ситуация была другой, я подумал бы, что он только что удачно пошутил.
— Пожалуйста, продолжайте меня дурачить, — говорю я. — Считайте меня круглым идиотом.
— Почему ты думаешь, что мы тебя дурачим? — обижается Лоланн.
— Путешествия во времени? Ну и ну! Даже умственно отсталый преподаватель археологии знает, что это физически невозможно. Научная фантастика.
— То же самое думали о полетах на Луну. Многое из того, что окружает нас сегодня, было научной фантастикой пятьдесят лет назад.
— И все же! Я должен поверить, что антикварный золотой ларец, найденный в монастыре Вэрне в Эстфолде, скрывает в себе сообщение, которое люди из будущего оставили после того, как совершили путешествие во времени и оказались в прошлом?
— Именно так.
— Ну, знаете!
Я смеюсь и театрально вздыхаю, взмахиваю руками — одним словом, устраиваю целое представление.
— Парни, вы забыли одну вещь. Одну важную деталь.
Они вопросительно смотрят на меня. Им принадлежит власть. Они привыкли добиваться того, что хотят. Сейчас моя реакция приводит их в растерянность.
— Вы забыли, что человек, который знает, где находится ларец, — это я.
— Что правда, то правда, — вздыхает Мак-Маллин.
Я не могу удержаться и забиваю решающий гол матча.
— Кроме этого, я знаю про Рене-ле-Шато, — заявляю я.
Мак-Маллин замирает. Через секунду он берет себя в руки. Но он уже выдал себя.
— Знаете? — спрашивает он небрежно.
Я многозначительно покашливаю:
— Вы еще чего-то ждете от меня?
Мак-Маллин кладет мне на плечо свою руку.
— Немного позже, — он бросает быстрый взгляд на Ллилеворта, — мы поговорим о Рене-ле-Шато.
Все еще держа руку на моем плече, он выходит со мной из зала и ведет обратно в мою комнату.
8.
Я мечусь как неприкаянный по зеленому ковру. Жарко, воздух спертый. Я приоткрываю окно, и в комнату проникает запах свежескошенной травы и выхлопных газов.
Через щелку в комнату влетает шмель. Он тут же начинает отчаянно биться о стекло. Ему здесь не нравится, и я ему сочувствую. Он большой и лохматый. Рассказывают, что шмели с точки зрения аэродинамики вообще не должны летать. Что-то в шмелях мне нравится. Не знаю что. Может быть, их упорство. Я люблю сравнивать себя со всеми, какими угодно разными тварями.
Не могу понять, что они сделали с Дианой. И где она сейчас. Я спрашиваю себя, что сказали бы в полиции, если бы я пришел к ним с заявлением. И объяснениями, которые были бы довольно близки к правде. Я сомневаюсь, что обладатель писклявого голоса выложил бы передо мной все, что у него есть, и бросился бы мне на помощь. Бог ты мой, я даже не знаю, какая у Дианы фамилия. Когда я заказывал билеты на самолет, она, захихикав, настояла на том, чтобы ее записали как госпожу Белтэ.
Я совсем не герой. Взломать дверь, а потом бегать по лабиринту помещений в поисках Дианы — это не для меня. Да я и не вышибу ни одной двери — скорее, вывихну плечо. А если бы даже я выбрался из этой комнаты, любой мускулистый мужик успокоил бы меня одним своим взглядом.
Я настолько пуглив, что вздрагиваю, когда обнаруживаю на ночном столике конверт. Белый, самый обыкновенный конверт. Мое имя написано на нем большими буквами.
Вскрываю конверт ногтем указательного пальца и вынимаю письмо, написанное от руки:
Бьорн!
Что еще я могу тебе сказать, мой дорогой, кроме как «Извини!»? Лишь бы ты смог меня простить. Пожалуйста! Мне так стыдно…
Они не знают, что я пишу тебе. Поэтому не показывай им. Или кому-нибудь другому. Это касается только нас. И больше никого.
У тебя должно быть много вопросов. Если бы я могла дать тебе ответы, ответы, которые имели бы смысл, которые объясняли бы хотя бы маленькую частичку того, что случилось! Но я не могу. Сейчас не могу.
Но я хочу, чтобы ты знал одно: я люблю тебя! Я никогда тебя не предавала! Я никогда не делала вид, будто у меня к тебе есть такие чувства, которых не было. Пожалуйста, поверь мне. Я не шлюха. Но, может быть, я все же…
Кто сказал, что все в жизни должно быть чертовски просто? Жизнь не уравнение, которое обязательно сходится, если множители верные. Жизнь — уравнение, которое никогда не сходится. Моя жизнь? Цепь катастроф. Которая началась, когда я родилась.
Бьорн! Я сожалею, что оказалась на твоем пути. Прости, что я полюбила тебя. И втянула тебя во все это. Ты заслуживал лучшей судьбы. Когда-нибудь жизнь отомстит мне. А пока я несу один вздор. Ты ничего не понимаешь. Да ты и не должен понимать.
Если ты боишься за меня, успокойся, нет никаких оснований. Они не могут мне ничего сделать. Возможно, я объясню тебе это, когда все кончится. Я не знаю. А возможно, и не объясню. Но объяснение есть у всего.
Если бы только мы могли отсюда убежать! Ты и я!! На необитаемый остров. Где никто бы нас не мучил.
Я должна была все знать. Я должна была все предвидеть. Но я упрямая, своевольная, думаю только о своей собственной тропинке. Если папа мне говорил: «Надень красное платье, оно тебе идет», то я надевала серые брючки и лиловую блузку. Если папа говорил: «Этот парень не для тебя», то я тут же затаскивала парня в постель. Я говорю «в постель», но это не значит, что я его любила. Но тебя я любила, Бьорн.
Понимаешь ли ты хоть что-нибудь из того, что я пытаюсь тебе сказать? Я и сама не знаю, что имею в виду. Кроме одного: я не хочу, чтобы ты меня ненавидел.
Забудь меня! Забудь, что ты когда-то встретил глупую девчонку по имени Диана! Забудь, если тебе казалось, что она была чем-то мила тебе! Забудь, что она полюбила тебя! Смотри, вот стиральная резинка, сотри эту девчонку из своей памяти и из своей жизни!
Твой ангел
XXX
Диана
Я разрываю простыню на две части и связываю концы с пододеяльником от ватного одеяла. Широко распахиваю окно. Кладу на подоконник белье.
Шмель ликует.
Крепко привязываю конец тряпок к средней части подоконника. Забираюсь на окно и начинаю спускаться. Последние полтора метра лечу по воздуху.
9.
Крик длился только одну секунду или две. Но в моей голове он звучит уже двадцать лет.
Накануне несчастья папа был тихим и чужим, как будто чувствовал, что грядет нечто ужасное.
Когда наступили сумерки, Трюгве разжег костер. Поленья были поставлены пирамидкой и окружены галькой. На ветке над костром висел почерневший кофейник. Удобная маленькая конструкция для любителей дикой природы. Прямо из пособия для бойскаутов.
Трюгве сидел с гитарой и пел
«Blowing in the wind».
[170]
В лесу пахло кофе, сосновой хвоей и мамиными духами. Папа пустил в ход средство от комаров, которое ужасно воняло и дымило, но ни в малейшей степени не испортило комарам аппетит. Папа полулежал-полусидел, прислонившись к пню. Мама сидела рядом, опираясь спиной о его ноги. Папа рассказывал о недавнем обнаружении жемчуга, золота, серебра и драгоценностей на холме Голос-в-Несе в провинции Хедмарк. Мама слушала не очень внимательно. Но я сидел, как прикованный, и пытался представить себе эти бесценные сокровища.
У Трюгве был низкий красивый голос. Во время пения он закрывал глаза. От пламени костра его длинные светлые волосы и щетина на щеках отсвечивали оранжевым. Сильные руки нежно держали гитару. Мама посылала ему взгляды, полные маленьких невидимых поцелуев.
Звуки гитары разливались среди деревьев. Небо посветлело от множества звезд. Среди листвы поблескивало маленькое лесное озеро. Вверху, на склоне, завершала свой рабочий день пеночка. Волшебный и бесконечный, лес поглотил нас.
Вечером папа отправился проверять альпинистское снаряжение. Он всегда был осторожным. Я вижу эту картину. Он перенес рюкзаки за палатку и, склонившись, возился со снаряжением, когда я неожиданно подошел к нему. Он отпрянул с испуганным лицом. Как будто я застукал его за чем-то. Я тут же забыл об этом. Фигура папы, склоненного над рюкзаками, осталась, как фотография, вспышка, и всплыла в моей голове только двадцать лет спустя.
Трюгве открыл ему бутылку пива, но он не стал пить. Позже выпил, не отрываясь, всю бутылку одним глотком.
Папа лег спать рано. Мама и Трюгве еще долго сидели, веселые и таинственные, с пивом в руках, негромко переговаривались и бросали в костер алтей.
На безоблачном небе блестели звезды, когда я забрался в палатку. Я чувствовал тошноту и беспокойство. Засыпая, прислушивался к ночи. И к тихому смеху мамы.
Я сидел на пеньке и вырезал ивовую дудочку в тот момент, когда папа сорвался и упал. Я был близко от этого места.
Продираясь сквозь кусты, я всем сердцем надеялся, что кричал Трюгве. Но внутри меня уже была уверенность, что это папа.
В такие мгновения сознание распадается на фрагменты — застывшие картинки и обрывки звуков, которые врезаются в память.
Синее небо.
Крик птицы.
Пронзительные голоса.
Отдающая серым блеском гора, поднимающаяся резко вверх.
Трюгве, пестрое пятно на уступе скалы высоко вверху.
Крик: Бьорн! Уходи! Уходи! Уходи немедленно!
Вертикальный срез скалы.
Падающая веревка свертывается клубком.
Вопль мамы.
Кровь.
Куча одежды внизу, у подножия скалы. Нет, не одежды. Это папа.
Ствол дерева у меня за спиной. Кора царапает мой затылок, когда я теряю сознание и падаю.
Только на следующее утро спасателям удалось спустить Трюгве с уступа скалы. Папа во время падения увлек за собой веревку.
Было произведено расследование. Написан протокол.
Как человек более опытный, Трюгве должен был отвечать за безопасность. Поэтому он стоял на уступе скалы. Для того чтобы спуск прошел успешно. Но этого-то как раз и не случилось. Ручка крепления оторвалась во время спуска. Из-за усталости металла — так было записано в протоколе. Хотя никто не понимал, как это получилось. Такой дефект просто так не мог возникнуть. У папы не было ни единого шанса.
Но никто не стал упрекать Трюгве Арнтцена. Ни мама, ни комиссия, которая проводила расследование. Он сам воспринял несчастный случай очень тяжело.
Через полгода он женился на маме.
V
ПУСТЫНЯ
1.
Нещадно палит солнце. Небо совершенно бесцветное.
Я только что открыл глаза. Лучше бы не открывал. Солнечные лучи тут же взрываются у меня в затылке. Свет через зрачки проникает прямо в череп. Когда я засыпал, прижав лоб к прохладному окну, было еще темно. И довольно холодно. Прошло четыре часа после приземления самолета. Солнце использовало эти часы весьма эффективно. Кажется, я попал внутрь скороварки, работающей на полную мощность.
Отворачиваюсь от света пустыни и вынимаю солнечные очки, которые купил в Гардемуене за 745 крон. По сниженной цене. Марки «RayBan». Но за 745 крон? По сниженной цене? Если бы продавщица не была милашкой, я наверняка фыркнул бы презрительно и оставил очки на прилавке. Но теперь я надеваю их на нос.
Шоссе идет по прямой линии через пустынную пересеченную местность. Полоса асфальта исчезает в дымке горячих испарений, горизонта не видно.
В автобусе работает кондиционер. Мы в каменистой пустыне. А может быть, на другой планете. Например, на Юпитере. Все скалы в поле моего зрения ржавого красного цвета. Из камней на обочине кое-где пробиваются упрямые растения вроде тех, что встречаются в террариумах. Или в гербариях. Или на дорожке забытого богом заброшенного сада. Вдоль гребня гор высится строй кипарисов. Как на изображениях библейского ландшафта, вышитых на диванных подушках у очень религиозной тетушки с юго-запада Норвегии. В пятитысячный раз за эту поездку я вынимаю письмо Дианы и перечитываю его. Слово за словом, строчка за строчкой. Я уже знаю его наизусть. Но все еще надеюсь понять смысл.
В автобусе только двое: я и шофер. Не произнося ни слова, мы едем по пустыне, которая все никак не кончается. Шофер выглядит так, словно его встроили в водительское кресло на автозаводе, перед тем как выпустить автобус с конвейера. Внешний вид и конструкция шоферов были разработаны группой толковых генетиков, а затем их стали штамповать с большим прилежанием в особом корпусе производственного комплекса. У шофера рубашка с короткими рукавами, волосатые руки. Под мышками пятна пота. Волосы жидкие, лицо небритое. Пышные брови. Иногда он бросает на меня взгляд в огромное зеркало. Но на мое присутствие не реагирует абсолютно никак, ни одним кивком.
Мне всегда трудно общаться с людьми. С течением времени я прикрыл свою стеснительность камуфляжной сеткой искусственного веселья и саркастических высказываний. Есть люди, которые провели бы эту поездку за веселым разговором с темнокожим шофером. О евреях и арабах. Или о спортивных автомобилях и европейском футболе. О христианстве и исламе. О ловле рыбы на муху в Намсене или проститутках Барселоны. Но я другой. И по лицу шофера я вижу, что он этому рад.
Мы подъезжаем к выступу скалы. За ним открывается цветущий оазис долины. Райский сад, полный оливковых деревьев, бамбука, сандаловых, камфарных деревьев и кедров. Смоковная роща покрывает зеленью склон горы. Из колодца дизельный насос с громким шумом качает ключевую воду в хорошо облицованные каналы.
В этом оазисе было решено построить Институт Шиммера. Не спрашивайте меня, почему именно здесь. Вряд ли можно найти более удаленное от людей место.
Но зато здесь есть необходимый для работы покой.
Институт — прекрасная иллюстрация того, что человек все время стремится соединить самую древнюю старину с суперсовременными веяниями. Результат, понятно, разный. Семьсот лет тому назад монахи основали монастырь в центре оазиса. Постройки из камней пустыни, обтесанных с геометрической точностью, отшлифованных и подогнанных друг к другу, образовали комплекс из келий, коридоров и залов. Священное место для религиозных раздумий и самопознания. Вокруг этого древнего монастыря в пустыне архитекторы и инженеры построили в начале 1970-х годов мастодонта из стекла, зеркал и алюминия. Крик модернизма в пустыне, где время потеряло смысл. Институт не растет в высоту, он расширяется во все стороны, блестит и мерцает под лучами солнца.
2.
—
Бьарн! Друг мой! Добро пожаловать!
Автобус въехал на перекресток с круговым движением, где в изобилии росли кусты и травы, и остановился, переводя дух после долгой поездки.
Он ждет меня на тротуаре перед входом в здание института. Маленький и толстый, с веселыми добрыми глазами, плешкой и румяными щечками. Если бы еще добавить монашескую рясу, была бы прекрасная пародия на монаха.
Зовут его Петер Леви.
Институт Шиммера — исследовательский центр, притягивающий студентов и ученых со всего мира. На недели и месяцы можно снять номер в гостинице института, а потом закопаться в его богатейшей библиотеке. В особом корпусе реставрируют фрагменты манускриптов, расшифровывают слова, записанные на пергаменте или папирусе тысячи лет назад. Теологи, историки, лингвисты, палеографы, философы, археологи и этнографы работают в дружном единении. Все они хотят пролить свет на прошлое.
Петер Леви подходит ко мне с таким восторгом, что я подумываю, не принимает ли он меня за кого-то другого. Но он еще раз кричит
«Бьарн!» и жмет мне руку, глядя в глаза и широко улыбаясь.
— Добро пожаловать! Я надеюсь, мы сможем быть тебе полезны! — Он говорит по-английски картавя, с заметным акцентом.
Мы с ним уже общались. Два дня назад. Я позвонил ему из квартиры Турстейна Авнера после моего побега от Мак-Маллина. Он был для меня именем на письме с приглашением от института. Только именем, случайным контактным лицом. Теперь он будет моим гидом и консультантом. Каждому гостю в институте полагается иметь куратора, постоянно живущего здесь человека. Но Петер Леви ведет себя так, как будто мы с ним однополчане. Которые сидели в одном окопе, когда снаряды свистели у нас над головой, а горчичный газ, как каша, лежал толстым слоем, и мы по-братски делили один противогаз на двоих. Хотя в нем была дыра.
Я не знаю, можно ли ему доверять. Но он мне нравится.
Он хватает мой чемодан, который шофер вытащил из багажника автобуса. Держа левую руку на моем плече, Петер приводит меня в зал регистрации, где я получаю ключ-карту и записываюсь:
Name: Bjørn Beltø
Title: Research assistant/archaeologist
Origin (City/country): Oslo, Norway
Academic institution: University of Oslo
Academic speciality: Archaeology
Purprose of visit: Research.[171]
Петер показывает мне мой номер 207, расположенный в отдельном крыле, который выглядит в точности как комната в дешевой сельской гостинице в Англии. Тут он меня покидает, чтобы я «дождался, когда после поездки душа догонит тело». Я раскрываю чемодан и вешаю одежду в шкаф. Со вздохом, который относится скорее к усталости, чем к скуке, опускаюсь на маленький зеленый диван. В руках держу все распечатки, которые мне прислал Турстейн Авнер.
Он действовал очень эффективно. На основании тех ключевых слов и имен, которые я ему дал, он провел поиск в Интернете и составил список всех мест, где была нужная мне информация. Между этими сведениями я не вижу связи. Ключевое слово «иоанниты» дало ему тридцать два упоминания в системе поисков AltaVista и семнадцать в Meta-Crawler. Исторические и псевдонаучные материалы об иоаннитах, масонах и подпольных сектах. Я листаю распечатки с нетерпеливым раздражением. Я не знаю, что ищу, и старательно отмахиваюсь от сведений, которые мне не нужны.
Раздражаясь на Турстейна, я поступаю несправедливо. Он выполнил то, о чем я его просил. Проклинать надо свою собственную беспомощность.
Где Диана?
Какую роль она играла в этом спектакле? Как понимать намеки в ее письме?
Почему они всегда лгут? Зачем усыпили меня, а потом стали угощать откровенной ложью? Надеялись сбить меня с толку?
Что в ларце? Какую тайну от меня хотят скрыть?
Пытаются сохранить тайну, сочиняя еще более фантастическую ложь? Такие вопросы роятся в моей голове. Но я ни на шаг не приблизился к ответам.
Турстейн настаивал на том, чтобы я пошел в полицию и рассказал все, что знаю. Взяв с собой ларец. У меня было такое искушение. Но любой человек, который сражается с чем-то большим, что нельзя охватить взглядом, развивает в себе хотя бы частично манию преследования. Я не верю полицейским. Они в соответствии со своими учебниками и своей логикой отдали бы ларец в отдел древностей. А меня привлекли бы к ответственности за воровство. Откуда поехали, туда и приехали!
А как полиция найдет Диану? Я о ней ничего не знаю. Ничего, кроме имени. Живет в Лондоне, в небоскребе. И работает в СИС. А я-то был жутко наивным и думал о ней хорошо. Впрочем, я уверен, что в постели она не притворялась.
Еще около часа я сижу и листаю толстую кипу бумаг Турстейна. Читаю об иоаннитах и французской аристократии, о глубоком уважении, которое весь мир испытывает к Институту Шиммера, о монастыре Вэрне. Я просматриваю материалы о Рене-ле-Шато и Беренжере Соньере, о «Свитках Мертвого моря» и монастыре Святого Креста, о Туринской плащанице, о Евангелии Q и Библиотеке Наг-Хаммади. Я даже обнаруживаю статью, подписанную Петером Леви, о воздействии на мандеев нехристианских сект. Нахожу тридцать четыре страницы с сайта СИС, где есть, в частности, краткие биографии Мак-Маллина и Ллилеворта.
Но все это никак не приближает меня к цели.
3.
Я отдыхаю. Душа догоняет тело ближе к вечеру. Вздремнув несколько больше, чем следовало, я сейчас бесцельно брожу по институту с пугливым ощущением, что я здесь лишний. У меня вообще часто возникает чувство, что я мешаю людям. Лихорадочное оживление пронизывает Институт Шиммера. Это академический муравейник. Я — черный муравей, приехавший в гости к прилежным красным муравьям. Они целеустремленно бегают по размеченным невидимой краской тропинкам. Встанут. Поговорят. И бегут дальше. Хлопотливые студенты носятся (жужжа! жестикулируя!) по бесконечному коридору. Может быть, он ведет к покоям Царицы муравьев? И все это время они косятся на меня, оценивают меня, рассматривают меня, сплетничают обо мне. Доктор Ванг, вероятно, сказал бы мне: «Это самовнушение, Бьорн».
— Что за странное место? — спрашиваю я сам себя. И вздрагиваю.
В центре зала регистрации, на круглом папоротниковом острове, стоит столб со стрелками и табличками, которые показывают дорогу в научные отделы, лаборатории, комнаты семинарских занятий, лекционные залы, сектора конференций, столовые, киоски, книжные магазины, кинозалы, библиотеку, студии, читальные залы.
В углах под крышей висят небольшие камеры слежения с красными лампочками. Никто не может назвать меня человеком невнимательным.
4.
Вечер.
Петер Леви сидит в кресле с боковыми выступами на уровне головы, пьет кофе и коньяк в темной переполненной комнате, которую принято называть «читалкой». Над фешенебельной библиотечной стойкой сигаретный дым стоит столбом. Как в британском клубе джентльменов. Тонированные стекла создают иллюзию вечной ночи. На подоконниках свечи. Тихая фортепианная музыка. Голоса мягкие, приглушенные. Если кто-то начинает громко смеяться, на него шикают. Оживленные дискуссии на иностранных языках. Увидев меня, Петер машет. Его интерес ко мне и радость, с которой он меня встречает, удивляют меня.
Петер делает знак официанту, который тут же приносит поднос с чашкой чая и бокалом коньяка в форме тюльпана.
Чай невероятно крепкий. Не знаю, может быть, коньяк предназначен для того, чтобы запивать им чай. Я задумываюсь: а чай ли это?
— Я рад, что у тебя хватило сил прийти сюда, — говорит Петер.
— Хватило сил?
— Ты, наверное, устал с дороги.
— Но мучительно больно отказываться, когда предлагают коньяк.
И мы смеемся, чтобы скрыть некоторое напряжение.
— Нам с тобой есть о чем поговорить, — произносит Петер.
— Разве?
— О твоих исследованиях, — объясняет он. — О твоем интересе к иоаннитам, к мифу о Святом ларце. О том, чем мы можем тебе помочь.
Я спрашиваю, знаком ли Петер с Ури, который был направлен Институтом Шиммера на раскопки в монастырь Варне. Да, знаком. Ури еще не вернулся.
Петер закуривает сигару. С удовольствием затягивается. Сквозь табачный дым с любопытством разглядывает меня.
— А зачем, — спрашивает он и начинает крутить сигару между пальцами, — в действительности ты приехал сюда, к нам?
Я рассказываю. Во всяком случае, кое-что. Я не пересказываю всю ту ложь и мистику, с которой столкнулся в последнее время, а делаю вид, что исследую уникальную археологическую находку. Объясняю, что ищу информацию об иоаннитах. Обо всем, что имеет отношение к монастырю Вэрне и Ларцу Святых Тайн.
— Это я знаю. Но я, кажется, сказал «в действительности»?
— Если ты считаешь, что у меня есть какой-то секрет, то ты знаешь и почему, — отвечаю я двусмысленно.
Петер ничего не говорит. Только смотрит на меня и делает глубокий вздох. Огонь медленно пожирает его сигару.
Для того чтобы заполнить паузу, я рассказываю о раскопках в монастыре Вэрне, которые не слишком-то его интересуют. Рассказывая, начинаю крутить бокал с коньяком. Петер следит за золотисто-коричневым водоворотом, как будто все его мысли погружены в бокал. Глаза потухли.
Сейчас у него вид завсегдатая одного из баров, что располагаются на многочисленных улочках Нью-Йорка, облюбованных проститутками в черных шелковых чулках, со свинцовым взглядом.
Когда я наконец замолкаю, Петер смотрит на меня с видом превосходства, но, скорее всего, так у него выражается обыкновенное любопытство.
— Ты веришь в Иисуса? — спрашивает он.
Вопрос неожиданный. Я делаю, как он, — нюхаю коньячный аромат.
— Исторического? — уточняю я. Мягкое опьянение начинает пульсировать в голове. — Или божественного?
Он кивает, как будто я уже дал ответ. Но это не так. Я спрашиваю его, как он оказался в институте. Негромко, как будто не желая, чтобы остальные слышали, он рассказывает о своем детстве в бедных кварталах Тель-Авива, об отце — религиозном фанатике, о матери — всегда готовой на жертвы, о своих поисках веры, о своих научных изысканиях. Петер — историк религии. Специалист по истории сект, которые возникали и умирали во времена Христа. Он изучает их воздействие на формирование христианства.
— Ты интересуешься ранним христианством? — Этот вопрос задан таким тоном, что мне не остается ничего другого, кроме как ответить «да».
— Безусловно!
— Хорошо! Не зря мне и показалось, что у нас с тобой много общих интересов. Есть о чем поговорить. Ты, например, знал, — он, усмехаясь, наклоняется ко мне через стол, — что у иоаннитов было много общего с гностической сектой мандеев?
— Мне кажется, — медленно отвечаю я, прихлебывая крепкий чай, — что это я не совсем усвоил.
— Но дело обстоит именно таким образом! Мандеи отвергли Иисуса и считали своим пророком Иоанна Крестителя. И еще они думали, что спасение приходит через знание, называемое
manda.
Я решаю про себя, что моя мама была очевидным мандеем в те времена, когда я учился в школе.
Петер продолжает:
— Священные книги мандеев «Сокровище» и «Книга Иоанна» существовали уже пятьсот лет, когда был создан орден иоаннитов. У мандеев был свой Царь Света. А главное, мой растерянный друг, прозвучит сейчас. — Он медлит, перед тем как взорвать бомбу. — Иисус и его современники во всех деталях были знакомы с посланиями эссеев! — Он с триумфом и вызовом глядит на меня.
— И что? — спрашиваю я.
Пораженный моим непониманием и отсутствием энтузиазма, он одним долгим глотком допивает бокал коньяка. Потом восстанавливает дыхание.
— Ты прав. Эти сведения тебе уже давно известны.
Я раздумываю:
— М-м-м… Пожалуй, не во всех деталях.
Он вопросительно смотрит на меня и, негромко посмеиваясь, хлопает меня по плечу. Я еще раз пробую чай и сдерживаюсь, чтобы не скорчить гримасу. Где-то далеко в баре пианист снова начинает играть. Я не обратил внимания, когда он прервался. Неизвестно откуда возник официант с новым бокалом коньяка для Петера.
— Ты ведь умираешь от желания рассказать мне про эссеев, — ободряю я собеседника.
— Это и вправду интересно!
Он поднимает бокал коньяка. Мы чокаемся. Он отставляет бокал и откашливается:
— Эссеи, или назареи, как их называют по-другому, имели веру, основанную на вавилонской религии. Они считали, что душа состоит из частиц света, образовавшихся после того, как злые силы взорвали Бога Света. Эти частицы света были пленниками в теле человека всю его жизнь. В момент смерти частицы света воссоединялись с Богом Света.
— Петер, — я подыскиваю правильные слова, — зачем ты мне все это рассказываешь?
— Мне показалось, что это тебе интересно.
— Да, будет. Как только я пойму, что именно ты пытаешься мне объяснить.
Он наклоняется вперед и кладет свою коричневатую руку поверх моей. Собирается что-то сказать. Но почему-то замолкает.
— Завтра я все это забуду.
Он икает. Мы оба смеемся.
Потом он добавляет:
— Это не важно. Я слишком много болтаю.
— Если ты мне объяснишь, зачем мне это знать, — я скажу, что это интересно.
— Ну конечно, это интересно! — Мои слова стимулируют его. — Главное тут в том, что влияние эссеев на формирующееся христианство представляется намного более заметным, чем считалось раньше.
— Я вообще не подозревал, что такое влияние существовало.
Он ведет рассказ шепотом, как будто раскрывает секрет:
— Многие считают, что некоторые части Нового Завета дают искаженное и идеализированное представление об истоках христианства.
— Хорошо… — Я медлю и начинаю ему подыгрывать. — С той поры прошло некоторое время. Может быть, теперь это и не так уж страшно.
— Но мы тем не менее все еще живем в полном соответствии с духом Библии!
— Потому что многие верят, что Библия — Слово Божье, — говорю я.
— И еще потому, что Библия — самая вдохновляющая из всех книг, которые когда-либо были написаны.
— И самая красивая.
— Руководство по жизни и смерти. По морали и любви к ближнему. Учебное пособие по человеческому достоинству и уважению.
— Великие слова…
— Великая книга, — шепчет Петер с трепетом.
Мы оба смотрим куда-то в пространство. Скрытые в крыше прожекторы серебристыми колоннами разрезают сигаретный дым. Голоса, смех, музыка — все это спрятано от нас за какой-то невидимой стеной. Петер тушит остаток сигары в пепельнице и впивается в меня взглядом.
— Действительно ли Библия — Слово Божье?! — восклицает он неожиданно горячо.
— Не спрашивай меня.
— Бог не написал ни одной строчки! Двадцать семь книг Нового Завета были отобраны в результате длительного и болезненного процесса.
— При вмешательстве Божьем?
— Думаю, что при постоянных скандалах.
Я смеюсь, но останавливаюсь, когда понимаю, что Петер не шутит.
Он прикладывает бокал коньяка к губам, вдыхает аромат и пьет. Закрывает на мгновение глаза. Осторожно отставляет бокал:
— Библия не была написана группой святых писателей раз и навсегда. В распоряжении Церкви для выбора и оценки было множество рукописей, созданных на протяжении нескольких веков. Какие-то тексты были отвергнуты, другие включили в Новый Завет. Очень важно понимать: канонизация Нового Завета происходила одновременно с борьбой за власть как внутри, так и вне Церкви, в ослабленной и умирающей Римской империи.
— Борьба за власть? Звучит кошмарно.
— Не забывай, Церковь принимала активное участие в борьбе за культурное, политическое и экономическое доминирование в том вакууме, который образовался после падения Римской империи. — Петер оглядывается вокруг, улыбаясь. — Если бы падение Римской империи не совпало с расколом среди евреев и с появлением новой религии, мир сегодня выглядел бы иначе.
— Я никогда над этим не задумывался, — признаюсь я. — Наша цивилизация — винегрет из римских, греческих и христианских ценностей и обычаев.
— Если мы вернемся к месту и роли Библии в истории, то должны будем вспомнить, что прошло почти четыреста лет от Рождества Христова до признания Библии в том виде, в котором мы знаем ее сегодня. В то время те тексты, которые были включены в Новый Завет и сегодня считаются центральными, были весьма спорными.
— А кто их отбирал?
— Церковники, конечно. Ранние христиане.
— Священники…
— Точнее говоря, епископы. Авторитет которых поддерживался апостолами.
— Так же было и с папой?
— Принцип тот же. Епископы очень много спорили, что включить в Библию. Тот сборник текстов, который сегодня известен как Библия, был утвержден на синодах в Риме в 382-м, в Иппоне в 393-м и в Карфагене в 397 годах. Библию редактировал не Бог, а епископы. Позднее — религиозные общины. Например, протестанты признают не все тексты Ветхого Завета, как это делают католики. Протестантская церковь придерживается ветхозаветного канона, который древнееврейские ученые составили в Ямнии в 90 году от Рождества Христова. Они одобрили только тридцать девять книг, написанных на древнееврейском языке и на территории Палестины. Канонические тексты Католической церкви были переведены на греческий в Александрии в Египте в 200 году до Рождества Христова и содержат сорок шесть книг. Именно на эту версию Новый Завет ссылается более трехсот раз. А мы еще не затронули священные книги иудеев!
Я не могу удержаться от шутки:
— Я так и представляю себе толстых церковников, которые то включают рукописи в состав Библии, то исключают их оттуда.
Петер втягивает воздух между зубов с противным звуком:
— Вульгарное и упрощенное представление. Но зерно истины тут есть.
— Могущественные люди.
— Могущественные, предусмотрительные, целеустремленные. Какие мотивы были у них? Они были верующими? Христианами? Или шарлатанами, которые использовали новую религию как трамплин для удовлетворения собственных амбиций?
— А зачем это знать? Как вышло, так вышло.
— Затем. Задача состоит в том, чтобы части Библии дали репрезентативную картину учения Иисуса.
— Они ее дают. Как бы то ни было, оно целиком описано в Библии.
— Гм. Не забудь, что отбор и редактирование текстов Нового Завета были частью политического процесса. Звеном в борьбе за власть. Очень скоро после смерти Иисуса Церковь рассыпалась на общины и секты с самыми разными теологическими взглядами. Так что в конце концов для Нового Завета были отобраны те тексты, которые в большей степени соответствовали амбициям епископов и Церкви. В этом и заключается основная проблема.
Я пытаюсь переварить сказанное им. В глубине живота зарождается жуткое подозрение. Я не могу его отогнать. Но мне приходит в голову, что Петер — еврей, что Институт Шиммера — еврейский и что предмет, лежащий в ларце из монастыря Вэрне, может подкрепить еврейское понимание истории Библии.
Он издает долгий, горловой звук.
— И вот я спрашиваю… Спрашиваю, дает ли отбор текстов Библии полную и правильную картину учения Иисуса? Была ли у кого-нибудь потребность приспособить новую религию к личным целям Церкви и епископов?
Я пожимаю плечами:
— Многие, несмотря на это, по-прежнему будут считать, что Библия — книга о том, как евреи воспринимали мир и современников.
Петер тянется к бокалу коньяка, но передумывает.
— Не забудь и о правилах жизни, — напоминает он.
Я допиваю свой бокал и встаю. Я устал. С меня хватит библейской истории. Я хочу спать.
— Лично я, — произношу я, — склонен рассматривать христианство как суеверие, пришедшее в мир две тысячи лет назад с Ближнего Востока.
5.
Странный запах, словно жгли
бумагу и карамель, наполняет библиотеку Института Шиммера.
Раннее утро. Свет пустыни проникает через стеклянные купола крыши и опускается косыми колоннами на ряды книжных полок. Пыль носится в воздухе между стеллажами с книгами и коробками, хранящими рукописи на папирусе, пергаменте и бумаге. Согнувшись над столами, сидят, словно в музее восковых фигур, ученые и студенты: длинноволосые американцы, ортодоксальные евреи с пейсами, женщины в шалях и женщины с конскими хвостами, энергичные азиаты, маленькие очкарики, которые неистово грызут свои карандаши. Мне приходит вдруг в голову, что я великолепно вписываюсь в эту эксцентричную компанию.
Книжные коллекции и коробки с рукописями содержат материалы о Среднем Востоке, Малой Азии и Египте. Есть специализированные секции с текстами на языках, один вид букв которых приводит меня в ужас. Раздел англоязычной специальной литературы феноменально мал.
И всюду женщины и мужчины, изолированные в своих маленьких мирах экзотических специальностей и отраслей науки. Люди, значимость которых состоит в том, что они лучшие в мире специалисты по странным проблемам — шумерским клинописным дощечкам, истинным авторам Пятикнижия, истолкованию древних вавилонских мифов и влиянию египетских ритуалов смерти на дохристианские догмы. В этом море знаний я брожу, как испуганный маленький мальчик, который не знает, чем себя занять. Я не являюсь специалистом ни в одной области. Меня бесконечно удивляет наше постоянное стремление к знаниям о прошлом, когда столь многое мы не понимаем в сегодняшнем мире.
Я обнаруживаю Петера только тогда, когда случайно сталкиваюсь с ним. Он стоит на цыпочках и ищет книгу в секции под названием «Древняя мифология: Египет — Греция». Я говорю: «Ой!» — и мы здороваемся. Он приветливо улыбается, как будто мой вид доставляет ему необыкновенную радость.
— Спасибо за вчерашний вечер. — Он подмигивает.
— Тебе спасибо.
— Как самочувствие?
Последнее замечание скорее шутка. Возможно, ему показалось, что я выгляжу бледновато.
Мы отходим в сторону, чтобы не мешать тем, кто углубился в свои книги.
— У меня голова болит! — нарочито вздыхает он.
Мы останавливаемся у стойки с микрофильмами. Испытующе смотрим друг на друга. Подобно двум любовникам, которые пытаются выяснить, насколько серьезно другой воспринимает то, что было вчера.
— Ты мне рассказывал о… — напоминаю я.
— Рассказывал? О боже! Я, пожалуй, сболтнул лишнего. У меня язык без костей, когда выпью. Я прошу тебя с пониманием отнестись к моим словам.
— Ты знаешь, что можешь на меня положиться.
— Знаю? Да я почти ничего о тебе не знаю. Но ты прав. Я могу на тебя положиться.
— То, что ты рассказал, показалось мне любопытным.
— Неудивительно. Хотя я и не помню ничего. Или, вернее, того, чего мне не следовало бы говорить. — Тихо посмеиваясь, он оглядывает библиотеку. — Пойдем! — Он хватает меня за руку и ведет по лабиринту коридоров, вверх по лестнице, вниз по лестнице, открывает и закрывает двери, пока мы не оказываемся в маленьком кабинете с его именем на двери. Кабинет продолговатый и узкий, наполненный книгами и кипами бумаг. На окне жалюзи. Под потолком вращается вентилятор.
Он удовлетворенно вздыхает:
— Вот! Здесь разговаривать лучше всего.
Он садится на конторский стул. Сам я опускаюсь на пуфик, стоящий по другую сторону письменного стола. Приходится прилагать усилия, чтобы принять сколько-нибудь комфортную позу и не выглядеть слишком уж позорно.
— Так что же ты нашел в рукописях, которые вы тут анализируете? — спрашиваю я.
— Детали. Детали. Детали. Я должен сообщить тебе одну вещь. Больше всего времени мы тратим на то, чтобы снова и снова перечитывать старые рукописи.
— Снова? Почему?
— Мы знаем больше, чем те люди, которые в последний раз читали и переводили эти рукописи. Мы читаем и переводим, пользуясь знаниями нашего времени. Насколько точны переводы библейских текстов? Могут ли сегодняшние знания бросить свет на понимание и истолкование старинных текстов? Влияют ли вновь обнаруженные манускрипты, такие как «Свитки Мертвого моря», на понимание ранее известных библейских текстов?
— Ты все спрашиваешь и спрашиваешь.
— Я ищу новые ответы. Переводить тексты, которым несколько тысяч лет, означает в равной степени как по-новому их истолковывать, так и использовать лингвистику и знание языков.
— Может быть, нужна и вера?
— Вера нужна в высшей степени.
— А что вы делаете, если сталкиваетесь с фактами, которые могут поколебать веру?
Он смотрит мне прямо в глаза. В свете, который проходит через жалюзи, я вижу, насколько темны белки его глаз.
— А почему, по-твоему, мы так секретничаем? — спрашивает он, с трудом сдерживая негодование.
Я кручусь, предпринимая безнадежные попытки сесть повыше на своем пуфике.
— Я приведу тебе пример, — начинает Петер. — Моисей раздвинул воды с Божьей помощью, чтобы бежавшие израильтяне оказались в безопасности, а вся армия фараона утонула, когда поток вернулся. — Он ставит локти на письменный стол, раздвигает пальцы и кладет подбородок на большие пальцы. — Институт потратил много лет на то, чтобы исследовать миф о Моисее и расступившихся водах. Наши лингвисты обнаружили возможную ошибку в переводе или в толковании израильского выражения
«Yam suph». Оно означает: «Место, где так мелко, что растет тростник».
Yam suph, — повторяет он медленно.
Я тоже пытаюсь произнести это, но звучит что-то невразумительное.
Петер достает с полки исторический атлас и раскрывает на букве «С» — «Синай»:
— В древности Синайский залив простирался гораздо дальше на север. — Он держит в руке атлас и показывает это место на карте. — Вся территория была мелководьем, где рос тростник. Наши ученые, группа исследователей разных специальностей — лингвистов, историков, географов и метеорологов, — обратились к этой языковой детали. Они установили, что израильтяне, вероятно, пересекли море в том месте, которое сейчас называется озером Бардавилля.
Он тыкает пальцем в карту. Я, щурясь, пытаюсь разобраться в географии.
— Мы проверили некоторые модели на нашем компьютере, — продолжает он. — Условия на местности здесь были такими, что если определенный ветер дул достаточно сильно и достаточно долго, то вполне мог бы отогнать трех-четырехметровый слой воды. — Он делает пальцами движение, как бы отгоняя воду. — И при таких условиях Моисей вполне мог пересечь это практически высохшее море. Однако… — он поднимает указательный палец, — когда ветер стих или же переменил направление, водные массы тут же вернулись назад. — Он с улыбкой хлопает ладонью по атласу.
— Вот это да! — восклицаю я. Вряд ли мое восклицание звучит особо научно. Но это все, что я могу придумать.
В полном удовлетворении он откидывается на стуле.
— Или возьмем Всемирный потоп. Что, собственно говоря, произошло? Наши археологи, палеонтологи и геологи нашли доказательства того, что примерно семь тысяч лет назад некое наводнение заставило покинуть обжитую территорию племя, занимавшееся земледелием в районе Черного моря.
— Я думал, что Всемирный потоп поразил поселения между Евфратом и Тигром.
— М-да. Догадка, одна из многих. Все строится на догадках. Гипотезах. Но мы реконструировали то, что могло произойти, изучив старинные источники.
— Какие же?
— О, многие. Библию. Клинописные глиняные таблички, шумерский «Эпос о Гильгамеше», собрание индийских гимнов на ведийском языке «Ригведа». Другие, менее известные источники.
— И что же вы из них извлекли?
— Давай начнем с геологов. Они нашли в отложениях на дне Черного моря останки живших в соленой воде животных, которым семь тысяч лет. Эти отложения образовались быстро. Как будто шла волна. А ведь Черное море первоначально было пресным, внутренним озером, отделенным от Средиземного моря полосой земли в районе пролива Босфор. И представь себе, как Средиземное море сначала медленно, затем со все большей интенсивностью проникало через хрупкий барьер земли. В конце концов он не выдержал. Какое это было величественное зрелище! Одно море вливается в другое… Грохот льющейся воды был слышен на расстоянии пятидесяти миль. Триста дней ушло на то, чтобы уровень воды в двух морях сравнялся. Черное море поднялось на сто пятьдесят метров. Но так как эта территория невероятно велика, земледельческие районы на севере, по-видимому, постепенно затапливались. И каждый день людям приходилось уходить от наступающего моря.
— Какой ужас! — вздрагиваю я.
— А сейчас мы перейдем к следующей улике. Археологические находки показывают, что высокоразвитая земледельческая культура появляется в Восточной и Центральной Европе как раз в это время.
— Беженцы из Причерноморья?
— Мы не знаем. Но это вполне вероятно. Языкознание подтверждает данное предположение. Почти все индоевропейские языки происходят из древнего праязыка, который рассказывает об ужасном наводнении. Эти рассказы переходили из уст в уста, а две с половиной тысячи лет назад были зафиксированы, когда появилась письменность. Мы думаем, что именно это событие и послужило основой возникновения мифа о библейском Всемирном потопе.
— Мифа? Я-то думал, что вы более всего заинтересованы в том, чтобы доказать правдивость Библии?
Он делает какую-то непонятную гримасу:
— Я и не утверждаю, что Бог не принимал никакого участия в этой игре.
Он резко встает. Лекция закончилась, и мы идем назад в библиотеку. По дороге мы храним молчание.
— Увидимся, — бормочет он, хлопает меня по плечу и уходит.
Я остаюсь, растерянный и потрясенный всеми этими не до конца разъясненными примерами.
6.
«Над вершиной Поталы парил одинокий дракон».
Я всегда испытывал неизъяснимую тягу к монастырям. Тишина, созерцание, вечность. Особая мистика. Ощущение близости к чему-то великому, неосязаемому. Но в Институте Шиммера совсем не чувствуется атмосферы монастыря. Я думаю о Потале — легендарном монастыре в Лхасе, с его золотыми крышами и куполами. На фоне вершин Тибета. «Над вершиной Поталы парил одинокий дракон». Так торжественно заканчивается книга, в которой я впервые прочитал описание монастыря. Библия хиппи «Третий глаз» 1956 года — автобиография, написанная тибетским ламой Лопсангом Рампа. Пленительный рассказ о тибетских монастырях и о том, что происходило вокруг. Жизнь монахов включала освоение наук, полеты на драконах, моления, философию и астральные путешествия. Велико же было мое изумление, когда я узнал, что Лопсанг Рампа был вовсе не низкорослым монахом, закутанным в восточные одеяния, а долговязым англичанином с девонширским выговором и любовью к мистике нового века, которая у него проявилась задолго до возникновения самого этого понятия. Он не только прозрел тибетского ламу в своем английском теле. Он утверждал, что кошки были посланы с другой планеты, чтобы наблюдать за нами. Разве удивительно, что я не переношу кошек?
Я остерегаюсь иллюзий. Всех явлений, которые не соответствуют полностью тому, что мы о них думаем. Я никак не могу понять, что такое Институт Шиммера. Это не обязательно что-то значит. Иногда у меня возникает такое же ощущение в моем кабинете в отделе древностей. Или в квартире в воскресенье рано утром.
Отдохнув в середине дня, я сажусь и начинаю писать в своем дневнике. Мне нравится, когда перо скрипит по бумаге. Как будто я слышу свои мысли. Мысль, которая сейчас с негромким поскрипыванием изливается на бумагу, заключается в том, что Институт Шиммера — орудие Мак-Маллина. Не исключено, что я параноик. Но по крайней мере, последовательный.
Мои мысли гуляют по темному, туманному лесу загадок и страхов. Если у института еврейский фундамент, то, может быть, в его интересах вскрыть содержимое ларца, чтобы раз и навсегда установить, что христиане ошибаются. Но если институт христианский, то здесь захотят, быть может, уничтожить содержимое ларца, чтобы сохранить веру, Церковь, власть. Лес слишком большой, туман слишком плотный. Но твое дело выбирать! Два заговора по цене одного.
7.
Ближе к вечеру, измученный навязчивыми мыслями и абсурдными предположениями, я отправляюсь в зал регистрации, потом в бар. Я не вижу ни одного знакомого. Но через несколько минут прибегает Петер. Мы здороваемся и занимаем столик позади фортепиано. Внимательный официант тут же приносит кофе, чай и коньяк, хотя мы не успели об этом попросить. Петер поднимает бокал и приглашает выпить.
— Можно тебя кое о чем спросить? — Я отхлебываю коньяк.
— Конечно.
— Как ты думаешь, что находится в ларце?
— Ларце Святых Тайн? — произносит он неспешно, с почтением. Задумчиво морщит лоб. — Как и любой другой миф, он представляет собой искаженное отражение истины. На протяжении веков Церковь приукрашивала эту историю. Как это было принято.
— Что ты этим хочешь сказать?
— В одном манускрипте третьего века, который мы как раз сейчас изучаем в институте, содержится намек на то, что после Иисуса Христа остались тексты, которые он надиктовал или сам написал.
— Ты это серьезно?
— М-м-м…
— Какого рода эти тексты?
— Откуда же мне знать? Никто их не читал. Как бы то ни было, это всего лишь гипотеза.
— Но что написано в той рукописи, где ты об этом прочитал?
— Там содержится указание на то, что это перечень правил жизни. Предписаний. Новых заповедей, если угодно. Манускрипт лежал в запечатанном кувшине в египетской могильной камере. Мы не стали публиковать эту информацию. Ждем, когда гипотеза подтвердится. Вначале мы даже не поняли важность того, что нашли. Но потом увидели связь с мифом о Ларце Святых Тайн.
— Невозможно поверить!
— Ватикан совершенно обезумел, когда эти сведения дошли до них. У наших дверей появилась папская делегация. Но мы им ничего не рассказали. Ватикан должен учитывать многие обстоятельства. Истина — только одно из них, и если быть честным, то весьма второстепенное. Теперь Ватикан плавает в двух шагах от нашего берега, знает, что мы что-то скрываем, но не знает толком, что именно. И они не в восторге от происходящего.
— Подожди! Ты хочешь сказать, что в золотом ларце, который мы нашли в монастыре Вэрне, возможно, лежит манускрипт, который продиктовал сам Иисус Христос?
Петер развел руками:
— Возможно всё, — и поежился.
— А может быть, это Ватикан натравил на меня агентов? Охотников за ларцом?
— Агентов? — Он смеется. — У Ватикана достаточно своих методов. Но они так привыкли к послушанию, что вряд ли знают, как обращаться с отступниками. Нет, пожалуй, я не верю, что тебя преследует Ватикан.
— Если такой манускрипт существует, хотя это пока и теория, то ведь многие должны были бы слышать о нем?
— Или же кто-то заинтересован в том, чтобы эта информация держалась в секрете.
— Зачем?
— Попробуй сам догадаться.
Я делаю глоток коньяка:
— Это было бы невероятно. Религиозные факты, отличающиеся от общепринятых… Документы, которые изменят наше представление о христианстве.
— Пугающая перспектива для многих.
— Пугающая?
— Это будет самая сенсационная новость всей мировой истории. Более важная, чем сообщение о высадке человека на Луну. Подлинное Евангелие Иисуса Христа!
От этой мысли у меня начинает кружиться голова. А может быть, виноват коньяк.
8.
Библиотечный бар закрывают в одиннадцать. Прилежные ученые рано ложатся спать. Во всяком случае, в пустыне, где грехов и искушений не так уж и много. Мы переходим в зал регистрации, где почти никого нет. Петер слегка опьянел.
— Пойдем подышим свежим воздухом? — предлагает он.
Я с радостью соглашаюсь.
Снаружи чернота, на ясном небе множество звезд. Воздух сладковатый и немножко морозный. Петер показывает мне дорогу, которая огибает комплекс зданий и выходит к подножию гор, в рощу из смоковниц и олив. Мы медленно двигаемся в слабом отблеске звезд и освещенных окон института.
Поднявшись на склон горы, мы останавливаемся под деревом, ветки которого образуют своего рода крышу над нами. Кора дерева источена когтями времени. Сквозь листочки видна луна, напоминающая здесь японский фонарик. Неожиданно прохладный воздух пустыни освежает и немного пьянит. Как будто прямо за углом стоит шельма-кактус и испускает наркотические газы и соки.
— Когда-то давно здесь был естественный оазис, — рассказывает Петер. Он глубоко вдыхает воздух через нос, словно хочет впитать ароматы. — Монахи высаживали и выращивали деревья. Это чудо, что здесь что-то может расти.
— Кто они были? Монахи?
— Группа иудеев и христиан. Бродяги. Бунтовщики. Они хотели найти новую общность. — Он смеется. В смехе звучат язвительные нотки.
Мой взгляд блуждает в темноте. Отсюда институт выглядит космическим кораблем, который потерпел аварию, а теперь лежит догорает и постепенно растекается по земле. И как будто в заранее заказанном кинотрюке в этот миг с неба падает сияющая звезда.
— Какое зрелище! — вырывается у меня.
— А по сути дела, это всего лишь песчинка, которая сгорает при встрече с земной атмосферой, — говорит Петер.
Темнота, великолепие, тишина. Такое настроение пробуждает стремление к доверительности.
— Кто ты, Петер? — спрашиваю я.
Ухмыльнувшись, он достает из кармана фляжку. Отворачивает крышку и протягивает мне плоский сосуд со смещенным относительно центра горлышком.
— В большой перспективе?
— Давай начнем с большой.
— Абсолютно никто, — отвечает он.
Я отпиваю. Коньяк оставляет огненный след.
— А в малой перспективе? — Я передаю ему фляжку.
Петер делает глоток, вздрагивает, делает еще один.
— В малой перспективе я самый прилежный муравей из всех в этом муравейнике! — восклицает он.
Мы смотрим друг на друга. Он подмигивает мне, как будто хочет сказать, что в действительности его ответ ничего не значит.
— У меня такое впечатление, что ты очень много знаешь об этом ларце.
— В теории, — отзывается он негромко. — Я — ученый. Мое дело жизни как раз состоит в том, чтобы знать об этих вещах.
— Но то, что ты знаешь, ты знаешь досконально.
— Кто сказал, что знаю? Угадываю.
— Давай продолжим угадывание, — предлагаю я.
— Над чем ты задумался?
— Если Ларец Святых Тайн действительно существует и мы нашли именно эту реликвию в монастыре Вэрне… — начинаю я и останавливаюсь, чтобы взглянуть на собеседника, — то почему кому-то очень важно захватить ларец?
— Они охотятся за тем, что внутри.
— Кто они?
— Их много. Ученые. Коллекционеры. Ватикан. Подпольные группы.
— А зачем?
— Представь себе, что эта рукопись весьма деликатного свойства.
— Например, какого?
— Например, она затрагивает догмы.
— Каким образом?
— Таким, что библейскую историю придется переписать.
— Ну и что?
— Ну, знаешь, не валяй дурака. Библия по определению не содержит ошибок. Ее нельзя править.
— Но разве будет иметь какое-то практическое значение, если этот манускрипт изменит несколько традиционных представлений?
Он морщит лоб:
— Не можешь же ты так думать на самом деле, дружок. Меняй точку зрения! Все христианские нормы потеряют смысл. Вера людей пошатнется. Позиции Церкви окажутся под ударом. Вот такие мелочи!
Я не могу удержаться, чтобы не свистнуть. Его голос дрожит.
— В конечном счете! — добавляет он. Он поднимает фляжку и пьет, глядя на меня. Глотает с трудом. — Но все это только предположения в чистом виде.
— Увлекательные теории!
— А история вообще увлекательная штука. Не в последнюю очередь, потому что история — это истолкование.
— Истолкование с точки зрения будущего.
— Именно! Для современников Иисус Христос был прежде всего политической фигурой.
— И Сыном Божьим.
— М-м-м… да. Скорее всего, да, внимание на его божественную природу было обращено несколько позже.
— Позже?
— Гораздо позже. Для того чтобы определить место Иисуса в истории, тебе придется обратиться к тысячелетнему ожиданию иудеями Мессии и к политической ситуации в Иудее и Палестине. — Он облизывает губы и вытирает их тыльной стороной руки.
— Я не очень большой эксперт в этом вопросе, — признаюсь я.
— Римская империя стала огромной и могущественной, — говорит он. — Иудея была как бы небольшим царством Ирода, но в действительности управлял ею Рим через своего ставленника Понтия Пилата. Для жителей Рим был далекой, но очень досадной болячкой. А царство представляло собой паноптикум сект и группировок, обманщиков и предателей, священников и пророков, бандитов, убийц и жуликов.
— Словом, как любой большой город в сегодняшнем мире.
Я хватаюсь за фляжку. Коньяк — теплый, опьяняющий.
Лицо Петера приобрело незнакомое выражение. Так выглядят люди, безгранично поглощенные какой-то темой и уверенные, что все остальные так же ей преданны.
— Это было время бунтовщиков! — рассказывает он. — Зелоты собрали фарисеев, эссеев в политическом и военном союзе в период Рождения Иисуса. Иисус родился в момент, когда начиналась стосорокалетняя эпоха бунтов. И все, абсолютно все ждали прихода Мессии. Спасителя. Политического и религиозного вождя.
— Они его и получили.
— М-м-м… да… — Он морщит нос. — А действительно ли получили? Давай обратимся к языку. К семантике. В наши дни слова «Мессия» и «Спаситель» имеют другой смысл, чем в то время. «Мессия» по-гречески «Christos» — Христос. На иврите и греческом это значит «избранник» или «помазанник». Своего рода король или вождь.
— Фигура вождя?
— Именно. Фактически все еврейские цари, происходящие от Давида, носили титул Мессия. Даже священники, которых римляне провозглашали царьками, употребляли слово «Мессия» применительно к себе. Но для зелотов ни один из них не был истинным Мессией. Их Спаситель должен происходить из рода Давида. Мечты о Мессии граничили с истерикой. Не забудь: они ожидали не божество в первую очередь, а царя. Вождя. Руководителя! Слово «Мессия» было политическим обозначением. Мысль о Сыне Божьем, таком, каким мы его знаем сегодня, была довольно далека от них. Но с другой стороны, они думали, что Царство Божье может наступить в любой момент.
— Но мы-то в наше время верим в Сына Божьего и поклоняемся именно ему, — возражаю я. — Мы — сотни миллионов людей. Почти во всех странах мира.
Петер поднимает камень и швыряет его в темноту. Мы слышим, как он падает на склон холма, а потом еще несколько раз стукается о землю.
— Именно так, — подтверждает он.
Я делаю глоток коньяка.
— А теперь ты собираешься сообщить мне, что в золотом ларце содержится что-то такое, что поколеблет нашу веру? — спрашиваю я.
— Я не знаю. Я действительно не знаю! Это возможно… — Он делает глубокий вздох. — Ты меня спрашиваешь, что я думаю? Я думаю, что твой ларец содержит нечто…
Он останавливается, как будто замечает, что кто-то в темноте подслушивает нас. Я пробую уловить какие-нибудь звуки, шорох одежды, чьи-нибудь тихие шаги, треск сломанной ветки. Но ничего не замечаю. Поворачиваюсь к Петеру. Он смотрит в сторону. Я протягиваю ему фляжку. Он делает несколько быстрых глотков. Потом охлаждает горло, вдыхая свежий воздух.
Мы прислушиваемся к тишине.
— Ты сказал, — напоминаю я, — что, по-твоему, ларец содержит нечто…
— …нечто такое, что изменит наше понимание истории, — продолжает он. — И понимание христианства.
Я молчу. Но думаю, что это, безусловно, объясняет истерический интерес к ларцу.
Он находит новый камень и бросает его в ночь. Возможно, этот камень пролежал здесь неподвижно пятьсот лет или больше. И воздушная прогулка в темноте стала для него настоящим шоком. Но вот он опять лежит. И пролежит, быть может, еще пятьсот лет или больше.
— А ты можешь выразиться точнее? — спрашиваю я.
Он качает головой.
— Но почему манускрипт обязательно должен иметь такое огромное значение? — спрашиваю я. — Может быть, в ларце… псалмы?.. Стихи? Секретные любовные письма папы? Или еще что-нибудь в этом роде.
Он смеется, ударяет ногой по корню дерева, высунувшемуся из-под земли.
— Друг мой, манускрипт, который привозят в золотом ларце в монастырь на краю земли, не может содержать счетов за покупку или прокорм ослов, это я могу тебе гарантировать.
— Тогда что он содержит?
Петер думает. Пока он стоит и размышляет, он беззастенчиво оценивает меня.
— Кое-что о христианстве? — предполагает он. Или утверждает.
— Евангелие Q? — подсказываю я ему.
Он издает звук одобрения.
— Может быть, да. А может быть, нет. Это меня не удивило бы. Но у меня такое ощущение… Нет, я не верю, что это Евангелие Q.
— Почему бы и нет? Это подтверждало бы твою гипотезу.
— Бьорн, — он переходит в наступление, — что ты знаешь об Институте Шиммера?
Я бросаю взгляд на светящийся дворец внизу, под нами:
— Это одно из ведущих исследовательских учреждений по изучению иудейской и христианской религии?
— Верно. Это наше академическое алиби и наша слава. — Он приближается ко мне, и я чувствую запах коньяка. — Я поделюсь с тобой секретом.
Он молчит, я жду. Он протягивает мне фляжку. Я чуть-чуть отпиваю.
— Б
ольшая часть того, что мы выясняем, публикуется в ведущих специализированных журналах мира. Или же выходит в виде отчетов, научных работ, докторских диссертаций. Но мы занимаемся также исследованиями, о которых никогда не сообщаем коллегам. Эти исследования предназначены только для строго ограниченного круга.
— Исследования чего? — спрашиваю я.
— Древних текстов.
К счастью, он не смотрит на меня, потому что я совсем не удивился. Я надеялся на что-нибудь более интересное. Исчезнувшие клады. Забытые могилы королей. Древние загадки, которые до сих пор не удалось разгадать. Тайны пирамид. Мистические карты недоступных горных долин, где весело журчат ручьи с эликсирами вечной молодости. У меня воображение, прямо скажем, довольно примитивное.
— Древние тексты, — повторяет он и причмокивает, — коды ДНК цивилизации и знаний, если хочешь. Источники нашего понимания прошлого. И тем самым понимание того, кто мы есть сегодня.
— Высокопарные слова. Но я понимаю, что ты хочешь сказать.
— Это оригиналы рукописей. Записи происходящего и записи пересказанного. Письма. Законы и предписания. Гимны. Евангелия. Библейские тексты. «Свитки Мертвого моря». «Библиотека Наг-Хаммади». Манускрипты, которые вполне могли быть включены в Библию, но не попали туда. Потому что в свое время кто-то этого не захотел.
— Уж не Бог ли?
Он фыркает:
— Совсем не Бог.
Я говорю:
— Если никто не знает, что в золотом ларце или что написано в спрятанном там манускрипте, то почему же все так отчаянно ищут его?
Петер поднимает глаза к небу. Воздух прозрачен. Звезды среди листьев кажутся молоком. Меня захватывает мысль, что огоньки, которые мы видим на небе, — это прошлое. Самые дальние из звезд на небе перестали светить задолго до того, как появилась Земля.
Мы делаем не спеша еще несколько шагов. Петер садится на камень.
— Если будет позволено, — произносит он, — то я сделаю предположение, что речь идет о библейских текстах.
Я сажусь рядом с ним. Камень холодный, это чувствуется даже через брюки.
— Ты хочешь сказать — оригиналы библейских текстов?
— Например. Или совершенно неизвестные и тем не менее принципиально значимые тексты. Или оригиналы известных текстов, которые доказывают, каким образом впоследствии изменили содержание.
— Библии?
Он наклоняет голову:
— Да. Тебя это удивляет?
— В общем, да. Разве кто-нибудь мог поднять руку на Библию?
— Конечно.
Петер достает сигару и закуривает ее. Пламя зажигалки кажется в темноте морем света. Возникает ощущение, что вокруг множество насекомых, которых мы не видим. Запах табака вытесняет ароматы цветов и трав.
— Библия не была написана за один прием, — говорит он. — Библия была плодом коллективного творчества, понимания и интерпретации. Кто-то начал. Кто-то завершил. В середине историю приукрашивали. — Он делает глубокий вдох, потом выпускает дым через нос. — Для того чтобы понять Новый Завет, мы должны понять историю. Ты не можешь читать Библию в отрыве от исторической действительности, в которой жили пророки и евангелисты.
Я хмыкаю. Делаю еще глоток коньяка. Кто-то зажигает в библиотеке свет. Стеклянные купола крыши дерзко сверкают синим светом неоновых ламп. Как будто трубки ламп заснули глубоким сном и не желают пробуждаться.
— Я не вижу связи между библейской историей и иоаннитами, — признаюсь я.
— Связь появилась гораздо позднее. Они стали охранять те знания, которые скрывал ларец. И скрывает. Иоанниты перевели свою резиденцию в замок крестоносцев в Акре, когда Иерусалим пал в тысяча сто восемьдесят седьмом году. Здесь они находились более ста лет. — Он медлит. — Мало кому известно, что орден иоаннитов разделился на две части в тот период, когда их резиденция была в Акре.
— На две?
Я чувствую, что это важная информация, но не понимаю почему. В темноте глаза Петера горят.
— Это может показаться несущественным. Лишь немногие историки и специалисты по истории религии знают, что орден разделился. И почти никому не ясно почему. Известная историкам часть перебралась затем на Кипр и Родос, а позже в Мессину и на Мальту в тысяча пятьсот тридцатом году.
— А вторая?
— Исчезла! Вернее сказать, ушла в подполье.
— Почему?
— Я не знаю.
— Но?..
— Давай рассуждать. Что, если скрывшаяся часть сохраняет какую-то тайну? И ее единственная функция — уберечь это знание? Возможно, по-прежнему существует Великий Магистр.
— Ты хочешь сказать, что у иоаннитов до сих пор есть Великий Магистр?
— Да, Великий Магистр, о котором не знают даже рядовые члены ордена. Тайный Великий Магистр.
— А зачем он, если он — тайный?
— Возможно, что это именно он сохраняет знания о прошлом. И что это именно он ищет Евангелие.
— Ты считаешь?
— Я догадываюсь.
— Ты что-то
знаешь.
Петер закатывает глаза:
— Я? Что я знаю? Что, скажи на милость, иоаннитам делать в Норвегии? Далекой, холодной Норвегии? Почему им в голову пришло спрятать что бы то ни было в октагоне на краю света?
Я не отвечаю. Я не замечаю и того, что ему известно о существовании октагона. Я ему ничего про октагон не рассказывал. Судя по всему, он очень хорошо осведомлен.
— Возможно, — предполагаю я, — речь идет о подсказке?
— О чем?
— Насчет клада?
— Клада? — Петер не может понять. — Какого клада?
— Н-ну… Спрятанного и потом потерянного клада с сокровищами династии Меровингов?
Он громко смеется:
— Так ты принадлежишь к числу любителей историй про разбойников? Ты веришь, что когда-то были люди, которые так хорошо умели прятать свои сокровища, что те до сих пор не найдены?
— Я ни во что не верю, собственно говоря. Я размышляю. Так же, как и ты.
— Я скажу так: легенды о кладах принадлежат к числу наиболее устойчивых, наравне с историческими сказками о заговорах масонов и евреев.
— Но, быть может, что-то в них есть?
— Проблема состоит в том, что всегда найдется невероятно богатый человек, которому приходит в голову невероятно глупая мысль закопать или спрятать свое имущество, вместо того чтобы поместить его в надежное место. — Он хохочет. — Не забудь, что богатые люди становятся богатыми именно потому, что любят деньги больше всего на свете! Ни один из них не выбросит имущество так, чтобы никто из ближних не знал об этом.
— И если кто-то мог бы во всем этом разобраться, то, скорее всего, это вы, — говорю я.
Он что-то бормочет себе под нос, и я воспринимаю это как подтверждение.
Я нервно кашляю:
— Петер, какой ты веры — христианской или иудейской?
Он выдыхает воздух с громким неприятным звуком.
— Какой я веры, — тихо отвечает он, — не играет никакой роли. Я занимаюсь только наукой.
Позже, когда мы, допив коньяк из фляжки, отправляемся в институт, Петер чуть не падает, споткнувшись о корень. Лишь моя молниеносная реакция мешает ему покатиться с крутого склона. Он бормочет слова благодарности, обращенные то ли ко мне, то ли к Богу, любовь к которому вспыхивает в сердце Петера именно в эту секунду.
В зале регистрации мы желаем друг другу спокойной ночи.
Я пьян, голова кружится, подкатывает тошнота. Прежде чем забраться в постель и вихрем ворваться в царство снов, я встаю на колени (очень напоминая монаха) перед белоснежным унитазом. Меня рвет.
9.
Завтрак я съедаю так поздно, что его совершенно спокойно можно назвать ланчем. Он состоит из тостов, недожаренной яичницы, йогурта с черносливом и свежевыжатого апельсинового сока. Потом иду в библиотеку. В старомодной алфавитной картотеке я нахожу слово «Вэрне», оттуда отсылку на «Ваерне», на карточке, расположенной на несколько сантиметров ближе к началу. Там я обнаруживаю указание на четыре книги и собрание манускриптов. Я три четверти часа трачу на то, чтобы разыскать манускрипты на высоте двух метров над полом в подвальном хранилище библиотеки. Библиотекарь, производящий впечатление выпускника школы унтер-офицеров в Уругвае, который, судя по его действиям, спит и видит, как бы применить на практике сведения из факультативного предмета «Пытки V–IX», вынимает манускрипты из коробки и кладет на стол, покрытый фетром. И я тут же обнаруживаю, что никакой пользы из всего этого мне извлечь не удастся: рукописи написаны на иврите.
Весь следующий час я перелистываю британский труд о рыцарских орденах, в котором иоаннитам посвящено более двухсот страниц, а тамплиерам — в три раза больше. Я нахожу американскую докторскую диссертацию 1921 года, которая рассматривает стиль евангелиста Луки. Исследователь считает, что врач Лука (который явно был спутником апостола Павла) использует те же литературные приемы, что и современные прозаики-романисты. Именно это было по вкусу его образованным, философствующим греко-римским читателям. В своем Евангелии и в Деяниях апостолов он дает портрет Иисуса как ветхозаветного величественного пророка. Вдохновленный греческими поэтами, Лука рисует Иисуса как героя-полубога.
Я нахожу сочинение шестидесятилетней давности, в котором рассматривается отношение Луки и Иоанна к разрыву между иудаизмом и нарождающимся христианством. Я узнаю, что Лука создает понятие «христианин», описывая распространение новой религии в Римской империи. Я с изумлением читаю, что сам Лука был язычником, что его читатели прежде всего были людьми, которые стремились быть одновременно христианами и счастливыми гражданами Римской империи. Совсем не такой прагматик Иоанн. Более других евангелистов он увлечен духом, божеством, небесной мистикой. Ученый по имени Й.-К. Шульц, родившийся, как указано на титульном листе, в 1916 году, подчеркивает, что Иоанн вкладывает в уста Иисуса длинные монологи, в которых тот сам называет себя божеством. Иоанн показывает, как иудеев-христиан изгоняют из синагоги, а затем из иудаизма. Но это более чем теологический спор, утверждает автор. Борьба иудеев и христиан — это борьба за политическую и экономическую власть. Короче говоря, за господство.
Долгие часы я провожу, вникая в чужие мысли и толкования. Я ищу что-то такое, что продвинет меня вперед, даст мне опору. Но я не знаю, что ищу, и поэтому ничего не нахожу.
Увидев, что один из компьютеров освободился, я бегу через комнату и опережаю одного еврейского ученого. Компьютер подключен к базе данных библиотеки и института.
Я подключаюсь к центру, используя то общее имя пользователя, которое маркером нанесено на экран компьютера. Программа поиска проста: можно искать по темам, ключевым словам, авторам и комбинациям всех трех условий.
Для начала я набираю
Ларец Святых Тайн. Девять ссылок. Первая — книга, которую написали мой папа, де Витт и Ллилеворт. Чувство гордости охватывает меня. Далее я нахожу краткое изложение мифа. Затем серия ссылок: Беренжер Соньер, Свитки Мертвого моря, Вэрне, орден иоаннитов, монастырь Святого Креста, Камбюс, Рене-ле-Шато, Туринская плащаница, Клеменс III, Иезекииль, Евангелие Q, Библиотека Наг-Хаммади и Институт Шиммера. Другие документы о мифе требуют пароля.
Что-то в этих ссылках тревожит меня. Как будто на автобусной остановке я вдруг увидел лицо своего мучителя из давнего детства.
Я подзываю библиотекаря и спрашиваю, не знает ли он пароля, который дает доступ к закрытым документам. Он просит меня отвернуться и набирает секретные знаки. Потом кашляет. Я смотрю на экран.
«Доступ запрещен. Требуется уровень 55», — мерцают знакомые буквы.
По спине у меня бегут мурашки.
10.
Задумчиво иду я по длинному коридору к своей комнате. Темно-зеленая ковровая дорожка на полу делает шаги бесшумными. Вылавливаю из кармана ключ и открываю дверь.
И сразу же вижу все.
Стопка распечаток из Интернета лежит там, где я и оставил. Но серая нитка, которую я засунул между двумя листками, исчезла. Кусочек скотча, приклеенный утром к дверце шкафа, оторвался. Спичка, воткнутая мною в щель крышки чемодана, лежит на полу.
Я не испуган. Я проклинаю. Их. Себя. Потому что не догадался, что они всюду. И здесь тоже. Пожалуй, здесь даже в большей степени, чем в других местах. Возможно, Петер Леви получает зарплату прямо в СИС, откуда мне знать. Может быть, он является ассистентом Майкла Мак-Маллина. Вполне вероятно, что Ллилеворт сидит в комнате с мониторами и динамиками и наблюдает за мной, используя камеры слежения и микрофоны. И смеется над той ложью, которой меня угощает Петер, чтобы скрыть, что в действительности спрятано в ларце.
Я поворачиваюсь к потолку и показываю верховной власти кулак. На тот случай, если она наблюдает сейчас за мной через объектив.
11.
Свои привычки надо уважать. Даже те привычки, которые трудно соблюдать. Я люблю поспать днем после обеда. Даже если и не пообедал. Это помогает успокоить мозг.
Выключаю свет, закрываю бежевые занавески и ложусь в постель. Подтягиваю прохладную негнущуюся простыню. Свертываюсь калачиком и превращаюсь в шарик из костей, кожи и волос.
Сплю два часа. Сновидения не успокаивают. Они быстрые, пугающие, раздражающие. Я чувствую себя окруженным врагами, которые издеваются надо мной. Среди них я вижу профессора Арнтцена и маму. Мак-Маллина и Ллилеворта. Сигурда Лоланна и папу. Они шепчутся, переговариваются, смеются. Но быстро убегают и растворяются в тумане, когда я пытаюсь к ним приблизиться.
Когда я просыпаюсь, мне кажется, что в моей голове образовалась дыра. Все, что было внутри, вытекло. Три четверти часа уходит на то, чтобы сознание полностью вернулось ко мне.
Петер Леви сидит и ждет меня, скрытый в тени бара, когда под вечер я прихожу туда. В его глазах отражается пламя свечи. В качестве приветствия он поднимает бокал коньяка. Я делаю ответный жест.
— Невозможно продолжать встречи в такой атмосфере, — шучу я и присаживаюсь.
— Нашел что-нибудь интересное?
— А вы? — парирую я подчеркнуто официально.
Он делает вид, что не понял.
— Я немного вздремнул после обеда, — сообщаю я.
— Так поздно?
— Я сплю, когда устаю, а не тогда, когда часы говорят: «Пора спать».
— Но теперь ты не заснешь ночью, — заботливо говорит он.
— Ничего страшного. На том свете высплюсь.
Он хохочет.
— Ты сказал вчера одну вещь, которая заинтересовала меня, — произношу я.
— Надеюсь, что так!
— То, как возникала Библия. И как ее редактировали.
Он хватает меня за руку:
— Я не люблю разговаривать здесь о делах. Слишком много ушей!
— Пойдем прогуляемся в рощу? Мне там очень понравилось.
Он допивает коньяк. Не произнося ни слова, мы встаем и покидаем бар. Мне кажется, что нам вслед смотрят сотни глаз. Но, обернувшись, я не обнаруживаю ни одного человека, который обратил бы на нас внимание.
12.
Мы идем по мощеному двору, пересекаем заасфальтированную площадь и входим в рощу. Здесь очень тихо. Под кронами деревьев я чувствую себя как дома.
— Чтобы понять мои рассуждения, — объясняет Петер, пока мы взбираемся по склону горы, — ты должен понять то время, которое мы сейчас рассматриваем. У большинства людей есть представление об эпохе Иисуса. Но оно основано на версии Библии. В Новом Завете все вращается вокруг Иисуса Христа.
— А разве так не было в действительности?
— Иисус пришел в мир в бурный период. И когда он ушел, лучше не стало. Евангелия были написаны через много лет после жизни и смерти Иисуса. Написаны людьми, которые не были очевидцами событий. Они пересказывали то, что слышали от других. Они воспроизводили письменные источники. Но и летописцы были детьми своего времени. На них наложило отпечаток их окружение, дух эпохи.
Мы помогаем друг другу перебраться через ствол упавшего дерева. На ветках зеленеют довольные листочки, которые делают вид, будто все в абсолютном порядке. Петер стряхивает кору с брюк, и мы продолжаем путь.
— В качестве исходной точки надо взять бунт иудеев, — рассказывает он. — Падение Иерусалима и разрушение римлянами Второго Храма в семидесятом году. И самосознание иудеев после этого позорного поражения. Самые ожесточенные бунтовщики сбежали в крепость Масада, что находится на побережье Мертвого моря. Когда римские солдаты захватили крепость, они там в живых никого не нашли. Абсолютно никого. Все покончили жизнь самоубийством, только бы не сдаваться римлянам. И вот так Масада стала символом иудейской чести.
— Хотя они потерпели поражение?
— Да, но в то же время поражение, встреченное с гордостью и бесстрашием. Их было мало. Перевес противника слишком велик. Но подавленное восстание создало почву для сомнений и у иудеев, и у новых христиан. Им был необходим ответ. Иерусалим разрушен. Храм в руинах. Где был их Бог? Чего Он хотел? Что Он проповедовал? Без Храма как места собраний прежние священники потеряли основы своей власти.
— Но кто-то же был у власти.
— Конечно. Это были фарисеи, то есть раввины. Они заполнили ту пустоту, которая осталась после ухода священников. И раввины привели иудеев к сегодняшнему дню.
— А христиане?
— Христиане тогда еще не отделились от иудеев. Христиане были, если это вообще возможно, в еще большем смятении. Куда пропало обещанное Царство Божье? Где их Мессия? На эти вопросы
попытался ответить Марк. Он создал свое Евангелие в семидесятом году до Рождества Христова. Его Евангелие было самым первым, хотя и стоит вторым в Новом Завете. Но он написал его через сорок лет после смерти Иисуса. А это большой срок.
Мы останавливаемся. Петер закуривает сигару, потом поворачивает ее и рассматривает огонек, описывая в темноте круги.
— Все эти годы история Иисуса передавалась из уст в уста в форме преданий и гимнов, — продолжает он. — Христиане в маленьких общинах сидели при свете костра или горящего очага и пересказывали то, что им раньше рассказали другие. Кто-то немножко изменял детали. Немножко убавлял. Немножко прибавлял. Рассказывали притчи про Иисуса. Рассказывали о чудесах. О его словах и поступках. Делились воспоминаниями. Так факты обрастали легендами, мифами и песнопениями.
Где-то неподалеку начинает грохотать дизельный агрегат оросительной системы.
— Одни ученые полагают, что Марк работал в Риме, другие — что в Александрии или Сирии. Но все согласны, что Марк и его читатели находились в эмиграции, вне своей родины. И что они не очень хорошо были знакомы с иудейскими обычаями.
— Они были чужаками.
Петер задумчиво кивает:
— В известном смысле. Эти люди искали свои корни. Евангелие от Марка было написано довольно скоро после неудачного восстания. Представь себе их настроение! Они были в отчаянии. В бешенстве! Им была нужна новая вера, новая надежда. Подобно Иисусу на кресте, читатели Марка чувствовали себя покинутыми своим Богом. Над ними издевались, их презирали.
— И они обратились к Марку в поисках утешения?
Он глубоко втягивает табачный дым, а затем, выпуская его, отвечает:
— Марк воспринимал себя как утешителя. Того, кто мог собрать иудеев вместе и внушить им надежду. Многие испытали на себе варварство римлян.
В роще дует приятный ветерок. Он приносит с собой слабые запахи, которые слегка заглушают запах табака.
— В соответствии с духом времени он создал загадочный, мистический, божественный образ Иисуса. У Марка Иисус не бунтовщик, каким его видели многие до восстания. Личность Иисуса приобретает гораздо больший масштаб. Здесь кроется причина того, что историки религии называют секретом Мессии.
— И что это значит?
— Люди должны чувствовать, но не понимать, кто он. Иисус должен быть словно бы в тумане. Только Иисус знает, что должен делать Иисус. Его задача на земле состоит не в том, чтобы творить чудеса. В те времена чудеса мог устраивать любой знахарь. Но только Иисус знал, что он Сын Человеческий. Он прибыл на землю, чтобы страдать и умереть. Чтобы спасти род людской.
— Это не пустяки, — комментирую я.
Петер держит сигару между пальцами и втягивает дым, глаза прикрыты. Внизу, в институте, в одной из комнат выключают свет, а в другой — включают. Я замечаю за занавеской силуэт человека. Петер вынимает из кармана фляжку и протягивает ее мне. Фляжка полная. Я делаю глоток и передаю ему. Он смотрит в пространство, отпивает, возвращает мне.
Он произносит:
— Читатели Матфея были другими. Матфей был иудеем и христианином и написал свое Евангелие через пятнадцать лет после Марка. Он прочитал написанное Марком и б
ольшую часть включил в свой текст. Читатели Матфея — и христиане, и иудеи одновременно. Они спаслись бегством в поселениях Северной Галилеи и Южной Сирии. Здесь раввины тоже захватили значительную власть. Христиане были в меньшинстве. Для Матфея важно подчеркнуть, что Иисус — такой же хороший иудей, как и все остальные. Не случайно Матфей начинает с древа Иисуса, которое доходит до Авраама. Парадокс состоит в том, что, хотя прослеживается линия Иосифа, сам Иосиф вовсе не признается отцом Иисуса.
Мы оба хихикаем.
— Матфей пытается создать образ Иисуса, напоминающий Моисея, — объясняет Петер. — У него Иисус обращается к своему народу со скалы, как это делает и Моисей, и произносит пять проповедей, что совпадает с пятью книгами Моисея. И все же, думаю, Матфей хотел, чтобы читатели видели в Иисусе фигуру более могущественную, чем Моисей. Если у Матфея фарисеи так сильно выделены, то это потому, что читателей Матфея раздражали как раз фарисеи. Их власть усилилась после восстания. Фарисеи и христиане спорили о путях развития иудаизма.
Петер делает короткую паузу и тихо вздыхает. Он смотрит на сигару, гасит ее и отбрасывает окурок.
— Предстояло еще одно восстание иудеев, которое раз и навсегда должно было отделить иудеев от христиан, — рассказывает он. — Через шестьдесят лет после Масады, в сто тридцать втором году, вождь иудеев Бар-Кохба поднял еще одно восстание против римлян. Он называл себя наследником царя Давида и новым Мессией. Среди иудеев начались метания. Это его они ждали? Появился их Спаситель? Многие примкнули к новому герою. Но не христиане. У них уже был свой Мессия. Бар-Кохба привел своих сторонников к пещерам неподалеку от Масады. Римляне нашли укрытие и окружили его. Некоторые иудеи сдались. Другие умерли от голода. В Пещере Страха археологи недавно нашли сорок скелетов женщин, детей и мужчин. В Пещере Письма найдено письмо Бар-Кохбы, из которого следует, что он надеялся выстоять. Не получилось. С Бар-Кохбой умерла надежда иудеев на нового Мессию.
— А христиане?
— Они ждали, когда Иисус вернется, как он и обещал.
— Но ничего не происходило?
— Абсолютно ничего. И у христиан, и у иудеев надежда на Царство Божье становилась все более призрачной, все более духовной, все менее реальной. Можно сказать, что христианство имеет двух основателей: Иисуса, с его сердечным и, по сути дела, простым учением, и апостола Павла, который превратил Иисуса в мифологическую, божественную фигуру и придал его учению религиозный и духовный характер.
— Но если Иисус был только политической фигурой, то исчезает фундамент христианства, — удивляюсь я.
— И один из краеугольных камней культурного наследия западной цивилизации.
Размышляя об этом, мы стоим и смотрим в темноту. Где-то раздается свист. Сначала я не могу понять, откуда идет звук. Петер начинает шевелиться.
— Пейджер, — извиняется он, улыбаясь.
Он вынимает из оттопырившегося кармана коробочку и, щурясь, читает сообщение.
— Прохладно, — замечает он, — не вернуться ли нам? Мы успеем перехватить что-нибудь тепленькое, пока там не все закрыли.
Вглядываясь в темную дорожку, мы осторожно спускаемся к институту.
— Ты думаешь, что манускрипт в ларце скрывает сведения, которые по-новому осветят представление об Иисусе? — спрашиваю я.
— Вполне допускаю.
— Интересно, что бы это могло быть.
— В этом ты не одинок, — смеется Петер.
13.
В зале регистрации шумно, тепло и уютно. Из читалки доносятся голоса и музыка. Непрерывно звонит телефон. За стойкой тихо и настойчиво гудит сигнал вызова.
Петер вталкивает меня в бар и просит сделать заказ, пока он отлучится по делу.
— Пузырь, — шепчет он и подмигивает.
Кофе и чай уже стоят на столе, когда он возвращается. Его лицо приобрело странное выражение.
— Что случилось? — спрашиваю
я.
— Абсолютно ничего.
Я перехожу в атаку:
— Петер… Ты слышал о СИС в Лондоне?
— Конечно.
Это признание изумляет меня. Я-то думал, что он будет по-прежнему изображать из себя незнайку.
— А в чем дело? — небрежно спрашивает он.
— Что ты о них знаешь?
Брови вздымаются.
— Зачем это тебе? Они финансируют многие наши исследования. Мы тесно сотрудничаем с ними по ряду программ.
— А меня какая-нибудь из них включает?
— Я и не подозревал, что ты являешься объектом исследования.
— Во всяком случае, объектом внимания.
— Со стороны СИС?
— Безусловно.
— Забавно. Они здесь организуют в эти выходные конференцию. Новые данные по этрусской этимологии.
— Забавно, — повторяю я.
— А почему они тобой интересуются?
— Ну, об этом ты и сам знаешь. Они охотятся за ларцом.
— Вот как. — Он больше ничего не говорит.
— И я теперь начинаю понимать почему.
— Ты полагаешь, что у них есть законные основания на право владения?
Я ожидал этого. Сигнала, который показывает, что Петер не просто случайный спутник на орбите моей жизни.
— Может быть… — соглашаюсь я.
— Они, вероятно, хотят выяснить, что такое может находиться в нем?
— Конечно.
— У тебя недоверчивый вид.
— Они пытаются обвести меня вокруг пальца. Все до одного. И я подозреваю, что ты тоже.
На его губах появляется ухмылка.
— Начинаются личные разборки?
Официант, приносивший нам кофе и чай, подходит к Петеру и, не привлекая внимания, передает ему записку. Петер, быстро прочитав, сует ее в карман.
— Что-то случилось? — опять спрашиваю я.
Он смотрит в чашку.
— Ты крепкий орешек, Бьорн Белтэ, — произносит он. В его голосе слышно восхищение. И впервые за все время он произносит мое имя почти правильно.
— Не ты первый это заметил, — усмехаюсь я.
— Такие, как ты, мне нравятся!
Допив, он бросает на меня измученный взгляд. Потом неожиданно поднимается и желает мне спокойной ночи. Я-то думал, что он будет сидеть и выпытывать у меня местонахождение ларца. Или предлагать деньги. Или угрожать карами. Вместо этого он крепко пожимает мою руку.
После его ухода я остаюсь и допиваю чуть теплый чай, рассматривая вокруг себя смеющихся людей, окутанных дымом.
Иногда у меня возникает странное ощущение. Все люди на свете только статисты в твоей жизни, появившиеся, чтобы всегда находиться рядом с тобой, но не обращать на тебя внимания. Эти люди, так же как дома и пейзажи, — всего лишь кулисы, построенные на скорую руку, чтобы иллюзия была более полной.
Чай всегда оказывает на меня мочегонное действие. После двух чашек мне приходится мчаться мимо людей, мимо запасного выхода в мужской туалет, блещущий чистотой и пахнущий антисептиками. Я стараюсь не смотреть в зеркало, когда стою у писсуара.
Мне жутко повезло. Когда я выхожу, обнаруживаю среди леса рук и голов официанта, разговаривающего с тремя мужчинами. Я замираю на месте как громом пораженный. Если бы кто-нибудь в этот момент бросил на меня взгляд, то вполне мог бы подумать, что я превратился в соляной столб. Совершенно белый и абсолютно неподвижный.
В толпе я вижу Петера. Вижу Кинг-Конга. И вижу своего старого доброго друга Майкла Мак-Маллина.
Рядом с главным входом я нахожу стоянку велосипедов, современных горных велосипедов, которые используются для передвижения от корпуса к корпусу. Они без замков. Их можно брать на время. Кому придет в голову украсть велосипед посреди пустыни?
14.
Поблескивает луна. Непроглядной тьме вокруг меня нет конца. Очень далеко впереди я предполагаю существование гор — не потому, что их видят глаза, а потому, что там кончается темнота. Все вокруг большое, плоское и черное. Кажется, что я лечу по воздуху. Внимание попеременно обращается то на небо, которое куполом висит надо мной, то на пятно света от фонарика, которое, раскачиваясь, ведет велосипед за собой по асфальту.
Я мерзну. Мне страшно. Так, вероятно, страшно астронавту, когда он все больше отдаляется от своего космического корабля.
Тишина. Ни воющих койотов, ни дальних свистков паровозов, ни стрекочущих сверчков. Единственный звук под этим куполом тишины — скрип велосипеда.
У ночи нет конца. Лунный свет — плоский и холодный. В черной, хоть глаз выколи, ночи свет велосипедного фонарика пожирает метр за метром белую разделительную полосу.
Ближе к утру на горизонте появляется желтая полоса. Я надеялся разогреться от быстрой езды и вспотеть, но у меня до сих пор стучат зубы от холода.
Около огромного ржаво-красного камня я останавливаюсь, запыхавшийся и дрожащий. Сижу на жесткой велосипедной раме и наслаждаюсь восходом солнца.
15.
Когда мне было восемь лет, папа и Трюгве впервые повели меня в парилку. Перед этим мы совершили большой пешеходный переход на сильном морозе. Когда меня пригласили в парилку, я почувствовал, что меня посвящают в секретные ритуалы взрослых. В первые минуты я мужественно сидел, хватая воздух губами. Потом папа вылил из ведра воду на раскаленные камни.
В пустыне нет деревянной двери, которую можно распахнуть, чтобы выбраться на волю.
Тепло обнимает меня, словно нагретое полотенце. Воздух тяжелый и плотный. Жар ползет по телу. Дышать больно. Солнечные лучи пронзают насквозь.
Я еду механически. Каждый поворот педалей — завоевание. Неожиданно для себя обнаруживаю, что я сошел с велосипеда и качу его рядом с собой.
Воздух дрожит. Жар кажется стеной из вязкой резины.
Я слышу звук задолго до того, как появляется автомобиль. Поэтому я успеваю скатить велосипед с шоссе и спрятаться в углублении. Через несколько минут он проносится мимо.
«Мерседес» с тонированными стеклами.
На всякий случай (и чтобы набраться сил) остаюсь лежать в углублении. Здесь когда-то протекал ручей. Очень давно. Скорее всего, в древние времена.
Хочу пить. Я не взял с собой воды. Когда я совершил побег, было не так жарко. Я предполагал, что у меня уйдет четыре-пять часов, чтобы от комплекса института добраться до цивилизации. Четыре-пять часов я легко мог прожить без воды. Так я думал. Если это можно было назвать словом «думать».
В русле высохшего ручья видны неровные слои сланца и ржаво-красного песка. Русло тянется к далеким фиолетовым скалам. Прямо у меня перед глазами скачет насекомое с длинными ногами. У него вид радиоактивного мутанта, чего-то среднего между жуком и пауком. Значит, кто-то здесь все-таки живет.
Солнце бьет меня по лицу и рукам и прижимает к земле плечи. Каждый луч весит килограммы. Если бы у меня не было так сухо во рту, я плюнул бы на камень, чтобы посмотреть, как влага зашипит и тут же испарится.
Я подкатываю велосипед к шоссе. Через несколько минут по моей спине уже ползут языки пламени. Сначала я пытаюсь идти рядом с велосипедом. Асфальт кипит. Прилипает к ногам. Над дорогой висит дымка. Сердце глухо стучит. Пот со лба стекает на глаза и жжет. Из воздуха медленно исчезает кислород. Я тяжело дышу, стараюсь уменьшить потребление воздуха. Через пелену слез пытаюсь увидеть какой-нибудь ручей, источник, тень. Жара убивает меня. В глазах появились черные точки. Обзор резко уменьшился. Так бывает, когда смотришь в бинокль с обратной стороны. Но жажда еще не довела меня до безумия. Тогда я увидел бы мираж, фата-моргану, красочный оазис из фильмов про утенка Дональда! Но я вижу только пустыню из камней, жару и дальние скалы.
16.
Стоя на коленях у скалы, рядом с углублением, которое когда-то давным-давно, вероятно, было источником, я прихожу в себя. Велосипеда нет.
Я поднимаюсь на ноги, смотрю на дорогу и ищу велосипед или что-нибудь еще, за что мог бы зацепиться взгляд. Язык прилип к нёбу и издает сухие щелкающие звуки. Меня тошнит. Но ничего не выходит наружу. Опускаюсь на колени и начинаю стонать. Поднимаю глаза. Белое солнце полыхает на небе.
Больше я ничего не помню.
VI
ПАЦИЕНТ
1.
Мне в голову забили раскаленный болт, лицо намазали каустической содой, руки воткнули в кувшины с расплавленной лавой. Я слышу пульсацию электрического аппарата. Звуки вызывают в памяти удары часов у нас дома, в Вороньем Гнезде. Глухие и размеренные. Вздохи времени. Каждый час завершается боем.
Мама перестала заводить часы в тот день, когда похоронили отца. И они стали молчаливым напоминанием о кончине папы и о своей собственной незаметной смерти.
2.
— Бьорн Белтэ, ты крепкий орешек!
Свет приглушен. Я делаю осторожный вздох, выпускаю воздух, еще раз вдыхаю. Чувствую сильную боль.
Малыш Бьорн… проснись… медвежонок… маленький принц…
Я лежу в комнате с невероятно высоким потолком. Аромат старины. Стены оштукатурены и побелены. Тоненькая трещина разрезает потолок.
— Проснись! — зовет голос.
Полупрозрачная светло-зеленая занавеска отгораживает кровать.
Когда я облизываю потрескавшиеся губы, на лице появляются трещинки от кончиков губ до виска. Лицо — фарфоровая маска, которую передержали во время обжига. Она лопнет в ту же секунду, как кто-нибудь прикоснется к ней пальцем.
Малыш Бьорн… проснись же!..
В вене у меня игла. Сверху, от бутылки капельницы, вниз идет трубка. Жидкость медленно сочится по трубке и попадает в кровь. «Сыворотка истины? — думаю я. — Содиум пентотал, который разделяет тормозные колодки ума на масло и жир».
Голос:
— Ты проснулся?
Я не знаю, проснулся я или все еще вижу сны. Возможно, я попал в больницу. Возможно, мои преследователи просто набили первое попавшееся помещение медицинской аппаратурой. Чтобы вылечить меня. А может быть, поймать меня.
Я стараюсь поднять перевязанные руки. Это все равно что поднимать две раскаленные свинцовые болванки. Я начинаю стонать.
— Солнечный ожог, — сообщает голос.
В голосе что-то знакомое.
Поворачиваю голову в сторону.
Вижу его колени.
Руки, сложенные на коленях.
Словно огорченный дедушка, Майкл Мак-Маллин сидит на стуле рядом с моей кроватью. Глаза внимательно осматривают меня.
— Ожог рук, лица и затылка второй и третьей степени. Тепловой удар, конечно. Обезвоживание организма. Могло кончиться по-настоящему плохо.
Стоны. Я осторожно поднимаю голову. Ощущения такие, как будто все
на самом деле кончилось плохо. Руки и ноги будто деревянные. Пробую приподняться. Голова кружится. Цепляюсь руками за блестящие стальные поручни кровати.
— Вот таким мы тебя и нашли, — говорит он.
У него нет оружия, но это, конечно, ничего не значит. У них, разумеется, есть более гуманные способы, чтобы отделываться от досаждающих им лиц. Может быть, шприц. А может быть, они привязывают нас голыми к столбу посередине пустыни и отдают на растерзание муравьям.
Позади занавески, как черная тень, прячется какая-то фигура. Она наклонилась вперед и прислушивается.
Вряд ли прошло много суток с тех пор. Время летит быстро только тогда, когда тебе весело. За окном шелестит листва. Дуб? Осина? Я лежу слишком низко и не вижу. Но по своим ощущениям заключаю, что я больше не в пустыне.
Солнце не так печет. Свет не такой яркий. В воздухе запахи навоза и вегетации.
— Где я? — хриплю я.
Пустыня засыпала песком голосовые связки.
— Здесь хорошо, Бьорн. Не бойся. — Его голос звучит мягко, тепло, по-доброму.
Я не могу отвести взгляд от тени на занавеске.
— Тебе дают морфин, чтобы смягчить боль, — объясняет он. — И очень нежную мазь на основе алоэ. От морфина ты будешь немножко сонный, будет кружиться голова.
Меня пронизывает резкая боль.
Он опирается ладонями на мою перину:
— Бьорн, мой храбрый юный друг. Ты зашел слишком далеко. Будь так добр, расскажи мне, где ты спрятал ларец?
Я смотрю на него, не отвечая. Глаза закрываются сами собой. Чуть позже я слышу, что он уходит. Тень исчезла.
За эту ночь я выпиваю примерно тысячу литров воды. Периодически появляется санитар, который проверяет, как я себя чувствую и действует ли обезболивающее. Морфин действует, спасибо вам, фантазия работает прекрасно. В большинстве случаев в этих видениях фигурирует Диана.
Несмотря на свои страдания, я жду их следующего хода.
Пришла Диана.
Легкое постукивание в дверь пробуждает меня ранним утром от дремоты. Я долго ищу слово, прежде чем до меня доходит, что и по-норвежски, и по-английски «Kom inn» звучит одинаково.
Приятный голос произносит:
— Как ты чувствуешь себя сегодня? — Интонация одновременно теплая и холодная — смущенная, торжественная, ищущая. Как будто после двух лет фронта я вернулся домой к любимой без рук и без ног.
Диана быстро проходит к окну. Стоит вполоборота. Прижимает руки к груди. По ее спине я вижу, что она тяжело дышит. Или плачет.
Каждый ждет, что первым заговорит другой.
— Где я? — спрашиваю.
Она медленно поворачивается. На покрасневших глазах слезы.
— Сам видишь! — отвечает она.
— Я прогулялся. По пустыне.
— Ты мог умереть!
— Как раз этого я и боялся. Поэтому убежал.
Диана говорит:
— Он мой отец.
Сейчас она просто красавица. Ангел.
— Ты слышишь? Он — мой отец! — повторяет она.
— Кто? — спрашиваю я.
— Майкл Мак-Маллин!
Я смотрю на свои руки. В бинтах. На пальцы. Которые ласкали ее.
— Он — мой отец, — твердит она.
Я сдерживаюсь. Ни одно чувство не проявляется. Ни одно слово не вырывается. Смотрю на нее. Она ждет, что я скажу что-то, разряжу обстановку. Но я молчу. Я стараюсь осмыслить ее слова.
— Пойми меня правильно, — произносит она тихо. И подходит ближе, все еще прижимая руки к груди. — Дело было не так, как ты подумал.
Я молчу.
— Мы познакомились совершенно случайно. Ты и я. Мы понравились друг другу. Это случайность. Я влюбилась. Я очень сожалею… Они обнаружили в моем компьютере результаты наших поисков, — объясняет она и кашляет. — И только тогда папа меня попросил ему помочь.
Я ловлю ее взгляд.
— И ты согласилась? — спрашиваю я.
— Только ты не думай, что… — Она останавливается, слова застревают в горле.
У меня самого большие проблемы с дыханием. Это из-за сердца, которое бешено колотится.
— Тогда ясно, почему ты вдруг решила поехать со мной в Норвегию.
Она делает шаг ко мне и останавливается:
—
Бьарн, все совсем не так! Совсем не так, как ты думаешь. Это так трудно объяснить. Я не думала, что я… Я не хотела, чтобы… Ты не знаешь слишком многого.
— Вот это правда.
— Никто не планировал нашей встречи. Я вовсе не выполняла чье-то поручение. Ты и я… Это произошло бы все равно, независимо от всего. Но ваши с папой дела… Из-за них все неприятности.
— Можно и так сказать.
— Ну отдай ты им его! Этот ларец! Он тебе не нужен.
Когда Диана вот так стоит, она очень напоминает маму. Фигурой и жестикуляцией. Странно, что я этого раньше не замечал.
— Ты меня ненавидишь? — Она садится на край моей постели и смотрит мне в глаза.
— Нет.
— Ты слышишь меня? — Она почти кричит. Мне кажется, что ее тяготит чувство вины. — Я помогала им, чтобы эта история кончилась. Ради тебя!
Я перевариваю ее слова. Одно за другим. Они действуют на меня, как изысканные лакомства, которые перед употреблением макнули в медленно действующий яд. Я изучаю ее глаза. Чтобы проверить, верит ли она сама в то, что сказала. Или же использует общие фразы, заготовленные специально для подобных случаев.
— Но это еще не все… — начинает она.
— Да?
— Мы…
— Что?
— Ты и я…
— Что ты пытаешься сказать?
—
Бьарн, мы…
Она так сильно зажмуривается, будто хочет осушить слезы.
Я окликаю ее:
— Диана?
— Я! Больше! Не! Могу! — Каждое слово вырывается из нее с болью.
Я кладу свою перевязанную руку на ее руки. Мы оба слушаем наше дыхание. Жужжание аппаратов. Снаружи вдали гудит трактор. В листве шуршит ветер. Где-то стучит молоток. Мопед без глушителя трогается в путь, его звуки постепенно глотает тишина.
— Разве ты не понимаешь, что это тебе не по силам? — тихо спрашивает она.
— Что ты здесь делаешь, Диана?
— Меня привезли сюда.
— Из Лондона?
— На самолете.
Удары пульса отдаются в моем дыхании.
— Что здесь, собственно, происходит?
Она делает странную вещь. Начинает смеяться. Смеется, громко икая. Смех на грани истерики. Не понимаю, что с ней. Но смех заразительный. Я улыбаюсь, улыбка на лице вызывает страшную боль, и я погружаюсь в дремоту.
Когда я прихожу в себя, ее уже нет.
Позже появляется медсестра с огромной иглой. Она смеется, когда видит мой испуг, и машет рукой успокаивающе.
— Лекарство! — выкрикивает она на ломаном английском языке и показывает на бутылку капельницы. — Хорошо для вас. Да?
— Где я?
Она вставляет иглу в трубку и удовлетворенно кивает, когда лекарство начинает поступать в систему.
— Пожалуйста… Где я?
— Да-да!
Я слежу за желтоватой струей, которая медленно перемещается в капельнице и растворяет боли и вопросы.
3.
Мак-Маллин снова наносит мне визит в середине дня. Мази и морфин снимают боли, но кожа жутко чешется, а морфин превращает мозг в жидкий суп, в котором плещутся мои мысли.
— О-о! Ты выглядишь гораздо лучше! — восклицает он.
Лжец.
Он придвигает стул к кровати.
Я пытаюсь сесть. Кожа на два размера меньше, чем надо. Несмотря на то что наркотическое опьянение должно привести к полному безразличию, я не могу удержаться от стона.
— Это пройдет, — успокаивает он. — Доктор заверяет, что ожог поверхностный.
— Когда я поеду домой?
— Как только будешь в состоянии.
— Я не узник?
Он смеется:
— Все мы, конечно, узники. Но ты не мой узник.
— Мне надо кое-что обдумать.
Он проводит пальцами по серебряным волосам:
— Ты никогда ничего не делал необдуманно, Бьорн?
— Я поступаю спонтанно. Иногда. Где Диана?
— Диана? — Взгляд его темнеет. Он замолкает. Открывает рот, но останавливается.
Я пытаюсь прочитать его мысли по выражению лица.
— Я знаю, что вы ее отец.
Он даже не отвечает. Похоже, ему надо подумать. Но наконец он говорит:
— Да. — Тихо. Словно вздыхает. Как будто он сам в этом не очень уверен.
— Это многое объясняет.
Он бросает на меня свирепый взгляд:
— Послушай! Она никогда ничего плохого тебе не делала! Она никогда тебя не предавала! Никогда!
— Она…
Он предупредительно поднимает руку.
— Больше не надо, — говорит он. — Сейчас. — Ему приходит в голову смешная мысль, лицо оживает. Губы шевелятся беззвучно, в улыбке. Зачарованный, я наблюдаю за сменой его внутренних декораций. У меня такое чувство, будто я подслушиваю, как привыкший к одиночеству человек ведет разговор сам с собой. — Мы с тобой два упрямых барана, Бьорн.
— Говорите только о себе.
— Ты не отдашь мне ларец, пока я не выложу то, что знаю.
— Мне не нужно то, что вы знаете, Мак-Маллин.
— А что же тогда?
— Истина. О ларце. О том, что внутри.
Он смотрит мне прямо в глаза и тяжело вздыхает:
— Это, друг мой, такой секрет, за который люди умирали.
— Иногда, — заявляю я, — вы ведете себя как герой мелодрамы.
Изумление на его лице переходит в веселый раскатистый смех. Оскорбления никогда на него не действуют. Для тех из нас, кто любит защищаться при помощи иронии и сарказма, это очень неудобно.
— Забавно, когда двое упрямцев вроде нас с тобой тянут каждый за свой конец каната, — произносит он. — Я хочу заполучить ларец и сохранить его тайну. А ты не хочешь выпустить его из рук, пока не узнаешь, что там внутри.
— Скажите мне, почему я должен вам верить? — Он вопросительно наклоняет голову. — Вы рассказывали мне о машине времени. Уинтроп утверждал, что речь идет о космическом корабле. Петер распинался о своих теологических теориях. Так во что же мне верить? Вы лжете, все до одного!
Он долго смотрит на меня. С лукавой улыбкой.
— Мы хотели сбить тебя с толку.
— Это вам удалось. Поздравляю! Задание выполнено. Я сбит с толку!
— У нас были свои причины.
— Вот в это я охотно верю!
— Но если можешь, попробуй нас понять. Никто не ожидал, что ларец попадет в твои руки. Это только помешало нам, Бьорн. Ты не должен нас осуждать за то, что мы готовы на все, чтобы вернуть его.
— Готовы на все?
— Ты понимаешь, о чем я.
— Конечно. Вы хотели сбить меня с толку…
— …и дать тебе такое объяснение, в которое никто не поверит, если ты потом его кому-то передашь. Но настолько фантастическое, чтобы оправдать в твоих глазах наши усилия по добыванию ларца.
— Добыванию? Да он же у меня!
— Именно так.
Он поднимается и бережно берет мою перевязанную руку. Долго смотрит на меня. В конце концов я вынужден отвести взгляд. Он склоняется и гладит меня по волосам. Кажется, его глаза заблестели. Вероятно, отражение света.
— Кто вы? — спрашиваю я.
Он отворачивается. Не отвечает.
— На самом деле? — продолжаю настаивать я. — Кто вы на самом деле?
— Скоро наши пути разойдутся. Навсегда. Ты вернешься в Осло. Меня уверяют, что через пару дней худшее будет позади.
— Кто уверяет?
— Ты получишь мазь. Чтобы смягчать жжение.
— Замечательно.
— Мы организуем для тебя самолет.
— «Мы»?
— Ты большой скептик, Бьорн.
— И не привык к тому, что все охотятся за мной.
— А может быть, все охотятся не за тобой?
— Ха-ха.
— Может быть, они охотятся за тем, что ты присвоил?
— Может быть, я соглашусь отдать это, — говорю я.
— И какова цена?
Очень заманчиво потребовать десять миллионов крон. «Феррари». Неделя на Мальдивских островах с исполнительницей танца живота, которая все эти годы лелеяла грешные фантазии об альбиносе. Но я ограничиваюсь одним:
— Объяснение.
— Что еще ты хочешь узнать?
— Правду. А не лоскуток от нее.
— Разве ты еще не понял? — спрашивает он.
— Нет, — отвечаю я. — Но есть люди, которые считают альбиносов глупее других.
Он нерадостно смеется.
— Евангелие Q? — предполагаю я.
Его брови взлетают вверх.
— Евангелие Q? В ларце? Это было бы разочарованием. Хотя я ничего не исключаю.
Я жду, но он больше ничего не говорит.
— Кроме этого, я хочу выяснить еще одну вещь, совершенно другую.
— Что именно?
— О том, как связаны смерти моего папы и де Витта.
— Они никак не связаны.
— Выкладывайте! Все висит на волоске.
— Они умерли. Ни один из них не был убит. Случайные события, несчастные случаи. Каждый человек рано или поздно умирает.
— Почему вы уверены, что их не убили?
— Я был знаком с обоими. И присутствовал при смерти де Витта. Мы проводили раскопки в Судане. У меня была теория, что ларец могли закопать во время похода вдоль Нила. Чарльз был уверен, что я ошибаюсь и что ларец спрятан в Норвегии. Как-то раз он споткнулся. В рану попала инфекция. Мы были в тропиках, далеко от медицины. Случилось то, что и должно было. Но никто его не убивал. И никто не убивал твоего отца.
— Вы абсолютно уверены.
— Давай забудем старые истории.
— А как умер папа?
— Спроси Грету.
— Я спрашивал Грету. Она отмалчивается. А что она знает?
— Почти все.
— Что это значит?
— Спроси ее. Грета и я… Мы… Мы… — Несколько секунд он ищет слова. Потом берет себя в руки. — Мы были любовниками, возможно, ты слышал. С годами все успокоилось. Со временем мы стали друзьями. Все, что я знаю о смерти твоего отца, я слышал от нее.
— Ее же не было там, где это произошло. А я был.
— Она знает. И поэтому знаем мы.
— Откуда Грета может знать что-то о смерти папы?
— Она была близким другом твоего отца.
— Они были коллегами.
— И друзьями! Близкими друзьями.
Мне в голову приходит одна мысль:
— Любовниками?
— Нет. Но очень близкими людьми.
— Она никогда мне этого не рассказывала.
— А зачем?
Я замолкаю.
— Они переписывались, — рассказывает Мак-Маллин. — Письма хранятся в наших архивах. Тысячи писем, где они делятся друг с другом своими мыслями и чувствами. Они были нужны друг другу. Как друзья, как психоаналитики. Потому-то мы и знаем.
4.
Я плохо сплю. Лицо горит и чешется. Каждый раз, когда меня клонит в сон, я боюсь, что сейчас ко мне начнут стучаться кошмары.
Я лежу в темноте и думаю о бабушке. Она жила на первом этаже в Вороньем Гнезде. По ночам она бродила по самым дальним углам Вороньего Гнезда, как замковое привидение. На ее ночном столике в стакане с водой лежала челюсть, а ночная сорочка волочилась по полу. Если вечерами мама и папа уходили куда-то, то я никогда не соглашался спать в бабушкиной темной мрачной спальне среди запахов камфары и бальзама. Я всегда предпочитал переживать ужасы в своей комнате и надеялся, что она услышит, если я закричу.
Днем она была милой, доброй, седовласой. Трудно представить, что эта старая развалина в молодости была красавицей-певицей, со множеством поклонников, и когда-то могла вызывать любовь мужчин. Но дряхлые старики подходили к ней на улице и спрашивали, не она ли выступала на сцене театра «Тиволи» в Осло после войны. Подразумевая Первую мировую войну.
В спальне, в ящике ночного столика, бабушка хранила программку ревю 1923 года, в которой была помещена ее овальная фотография. Узнать было невозможно. Сияя, как звезда немого кино, она смотрела прямо на меня с желто-коричневой бумаги. Под фотографией было написано ее девичье имя: «Шарлотта Викборг». И когда я всматривался в глаза, я видел, что это все же она. Только в другое время.
Я очень мало знаю о дедушке. В нем было что-то испуганное и забитое. Он был тощим, как скелет. Слишком широкие брюки были подтянуты высоко на грудь. Изо рта пахло мятными лепешками и нюхательным табаком. Все перекрывал терпкий запах
Eau de Vie,
[172] который он пил из бутылок, спрятанных в укромных уголках во всем доме, и о существовании которого, как он думал, мы не подозревали. Жизненно важные припасы дедушки.
Я не знаю, когда же мне удалось заснуть. Но день в полном разгаре, когда я с большими усилиями пробиваю пленку сна.
5.
Глаза у него сейчас приветливые. Во взгляде мягкое понимание. Зрачки похожи на темный лесной цветок. Смотреть в его глаза все равно что погружаться в теплую воду и умирать медленной смертью утопленника. Как будто нет ничего важнее в этой жизни, чем нырять в эти глаза и доставлять удовольствие их обладателю.
Я спал. Теперь проснулся. Встретил взгляд. Небольшая моя часть еще блуждает среди безумных снов.
Майкл Мак-Маллин произносит:
— Ну вот, и опять мы тут вдвоем.
Он стоит у моей кровати, сложив руки на груди, и рассматривает меня, нежно, заботливо. Я пытаюсь проснуться, ожить, стать после сна самим собой.
— У вас с собой опять корзинка сюрпризов? — спрашиваю я.
— Ты крепкий орешек, Бьорн Белтэ!
Где-то внутри у меня что-то сжимается.
Он торжественно провозглашает:
— Я пришел, потому что хочу с тобой поговорить.
Уже вечер. Или ночь. В окне темно. Стекло настолько темное, будто черноту просто нарисовали на нем. Я до сих пор не знаю, куда я попал. В больницу института? Или какого-то города.
— О чем вы хотите поговорить? — спрашиваю я.
Мак-Маллин поворачивается и медленно идет к окну.
В окне отражается его лицо. На нем исчезли морщины, черты смягчились, он стал молодым.
— У тебя когда-нибудь была такая большая тайна, которую ты должен был бы унести с собой в могилу?
Я думаю о папе. О маме и профессоре. О Грете. Он все еще стоит, отвернувшись от меня, и разговаривает со своим отражением в стекле.
— Свою тайну я получил по наследству, — начинает он.
«Это, видимо, немалая ноша, — думаю я, — судя по тому, каким важным ты стал с годами».
— Мой отец и все его предки оберегали эту тайну, жертвуя своей жизнью. — Он поворачивается ко мне с обезоруживающим выражением на лице. — Извини, если это звучит мелодраматично. Но мне сейчас очень нелегко.
— Если вас это утешит, то для меня это тоже нелегко.
С улыбкой он тяжело опускается на стул рядом с кроватью.
— Ты сам что-то узнал? — спрашивает он.
— Не очень много.
— Я слышал, что ты разговаривал с Петером?
Я молчу.
— Все в порядке, — быстро шепчет он. — Он не сделал ничего плохого.
— Что в ларце?
Его губы сложились в узкую полоску. Глубоко в глазах появляется какое-то неопределенное выражение.
— Я по-прежнему считаю, что это Евангелие Q, — настаиваю я.
— Сомневаюсь. Я могу продолжить то, что Петер, несомненно, уже рассказал тебе. Когда иоанниты разделились в тысяча сто девяносто втором году, это было связано с одной реликвией, которую в будущем стали называть Ларцом Святых Тайн. Сами они назвали ее
Реликвия. Святыня, которую многие пытались найти. Короли, властители, князья и первосвященники, крестоносцы и папы.
— Потому что там было что-то ценное?
— Самое смешное, что почти никто не знал, что в ларце. Знали только, что это совершенно фантастическая вещь. Святыня. Многие гадали. Кое-кто считал, что там священный договор. Что, кстати сказать, чистая фикция. Средневековый миф.
— Так в монастыре Вэрне мы нашли Ларец Святых Тайн?
— После разделения ордена секретная часть его стала охранять ларец. Но где его прятать? На кого положиться? Ведь все за ним охотились. Приходилось скрывать его максимально надежно. И тут они сделали гениальный ход. Они отправились в путь с теми братьями, которых послали в монастырь Вэрне. Три монаха, именуемых «Хранители ларца», проделали далекий путь на Север. Втайне. Никто не знал их настоящего задания. Это были три уважаемых монаха. Один из них был Великим Магистром. Те братья, с которыми они отправились в путь, не подозревали, что их спутники принадлежат к отделившемуся крылу. Они участвовали в священной поездке. Никто не задавал вопросов. Все молча приняли, что эти трое добрались с ними до Норвегии и жили в монастыре изолированно от других. Их единственное отличие от остальных состояло, видимо, только в том, что хранители соорудили октагон, имевший, как они полагали, священную силу.
Майкл Мак-Маллин опускает взгляд. Я начинаю дрожать. Мы приближаемся к сути.
— Во всем этом деле была одна маленькая заковырка, — продолжает он. — Только три монаха знали, где ларец. — Он закусывает губу. — Позже это оказалось роковой ошибкой. Один из трех монахов умер от болезни осенью тысяча двести первого года. На другого напали разбойники и убили его, когда он отправился в Нидарос в тысяча двести третьем году. А еще через год, в тысяча двести четвертом году, Великий Магистр отправился в дальний путь, чтобы его сын, следующий Великий Магистр, получил полную информацию о ларце и месте его захоронения.
Мак-Маллин переводит дыхание. Машинально наматывает седые волосы на палец.
— И что с ним стало? — спрашиваю я.
— Во время путешествия он заболел. Он попал в дом к одному священнику в североитальянском горном городке. Несмотря на хороший уход, он умер через несколько недель. Дальше версии расходятся. Некоторые утверждают, что он оставил там письменное сообщение. Другие верят, что через какого-то посланца он передал сведения ордену и своему сыну. Переданное сообщение было, мягко говоря, неясным. Он сообщил, что реликвия хранится в октагоне. Но никому не было известно, откуда он прибыл. Понимаешь? Никто не передал, что он ехал из Норвегии. Никто этого не знал! Никто не догадался соединить все эти сведения.
Мак-Маллин качает головой и делает тяжелый вздох.
— В какой-то момент исчезли сведения о трех монахах и их задании. На всем лежал толстый налет мифов и мистики. Единственное, на что мог опираться тайный орден на протяжении многих столетий, — это данные об октагоне, в котором находится пропавший ларец.
Я молчу. Я чувствую, что это правда. Во всяком случае, та ее часть, которой решил со мной поделиться Мак-Маллин. Он встает. Снова останавливается у окна.
— И по сей день существует Великий Магистр, — говорит он.
— Откуда вы это знаете?
Он не отвечает прямо.
— Никто не знает, кто он. Или где он находится.
— Но откуда известно, что он существует?
— Он существует, потому что невероятно, чтобы он не существовал.
— Вот так верующие аргументируют существование Бога.
— Великий Магистр — не Бог. Он всего лишь человек.
— Но вряд ли такой же, как все?
— Подобно всем Великим Магистрам до него, он ведет происхождение от того самого первого Великого Магистра.
— А тот кем был?
— Предки Великого Магистра могут быть прослежены до времен библейской истории. До древнего французского рода. До династии Меровингов, до французского рода, создавшего великое французское государство и сохранявшего королевскую власть до восьмого века.
— Потрясающе…
— Но никто, Бьорн, практически никто не знает, кто он. Тайный орден имеет Совет, состоящий из двенадцати человек. Только эти двенадцать знают, кто он, и доверяют ему. Места в Совете переходят по наследству. Кровные узы прослеживаются на протяжении столетий. Да больше! Им тысячи лет!
Он поворачивается ко мне. Я молчу.
— Совет состоит не из верующих фанатиков, — рассказывает он. — Все гораздо серьезнее. Они — могущественные. У многих, как у Великого Магистра, предки из королевских родов. У других — из аристократов. Им принадлежат роскошные дворцы, огромные усадьбы. Все они богаты. Богатства этих семей восходят к средневековым сокровищам Церкви. Некоторые из них знамениты. Своим богатством. Своими знаниями. Но ни один непосвященный не знает, кто входит в состав Совета, никто не знает, какую тайну оберегает Совет. Вряд ли кто-то знает даже то, что Совет существует.
— Но как вы узнали все это?
— В тысяча девятисотом году Совет создал и профинансировал СИС. Они тогда захотели более интенсивно искать Реликвию. Пришел новый век. Новое время. Стало ясно, что требуется организация для сведения воедино всех тех знаний, которые собирались в отдельных отраслях, в университетах, среди ученых и любителей. СИС.
Он откашливается, потирает руки. Я вижу, хотя не могу объяснить почему, что он говорит мне правду и в то же время затуманивает ее.
— Вот так мы и подошли к разгадке, — продолжает он. — Спустя восемьсот лет. Мы слышали, что ходили легенды о существовании октагона в районе монастыря Вэрне. Но, несмотря на изучение письменных источников и полевые работы в тысяча девятьсот тридцатые годы, мы вплоть до самого недавнего времени не могли найти ни малейшего следа октагона. Пока наконец современные технологии не пришли нам на помощь. Так сказать, в одну прекрасную ночь. Если говорить в исторической перспективе. Археологические исследования с применением спутников на основе спектрального анализа. В прошлом году мы получили снимки, сделанные со спутника, которые ясно показали, где в Вэрне находится октагон. Именно здесь! — Он щелкает пальцами. — В полутора метрах от поверхности земли. — Он тихо смеется. — Представляешь, как мы обрадовались? Спустя восемьсот лет у нас появилась возможность найти Реликвию. Вскрыть ее. Удалить деревянный чехол и извлечь золотой ларец. Открыть ларец и извлечь то, что внутри.
Он тяжело дышит через нос.
— Остальное было делом пустяковым, — продолжает он. — Мы раздобыли разрешение на раскопки. Не забудь, что финансовые ресурсы Совета безграничны. Деньги, контакты… Директор
норвежской Инспекции по охране памятников — друг СИС. Такой же, каким был твой отец. И профессор Арнтцен. Но даже они знают только малую часть того, что я рассказал тебе сегодня. Ты в привилегированном положении.
— Я благодарю и кланяюсь.
Какая-то мысль приходит ему в голову, и он смеется, но негромко. Я не двигаюсь. Мне кажется, что у меня нет права находиться здесь. И что малейший звук, малейшее движение заставят его замолчать.
— Мы хотели сделать все по правилам, — вздыхает он. — Поэтому мы не стали возражать, чтобы на раскопках присутствовал норвежский контролер. Преподаватель. Мы вообще не думали о нем. Наши коллеги заверяли нас, что он для нас не составит никакой проблемы. Уступчивый и доброжелательный молодой человек. Такой, о котором можно вообще забыть.
— Но тут вы ошиблись.
Мак-Маплин серьезно смотрит на меня. И делает нечто совершенно неожиданное — подмигивает мне и мягко стучит кулаком по моему плечу:
— Ты прав, приятель. Ошиблись.
— Я все еще не понимаю, что же такое жутко ценное находится внутри ларца, — замечаю я. — Может быть, стоимость золота делает его столь желанным? Все так просто?
— Ларец — это только упаковка. Тара.
— Вот как?
— Содержимое, Бьорн! Содержимое!
— Которым является…
— Знание.
— Знание? — повторяю я.
— Знание. Информация. Слова!
— Манускрипт?
— Который имеет ценность только для тех, кому он нужен.
— Например, для вас?
— Даже не для меня. У меня только ключ к пониманию.
— На что вы намекаете?
— Думай. Некий манускрипт!
— Значит, это все-таки Евангелие Q? — Мой вопрос напоминает вздох. Звучит как разочарование. После всего, что я испытал, я надеялся на что-то более осязаемое. Терновый венец Иисуса. Кусок Креста.
— Некий манускрипт, — повторяет он тихо, торжественно. — Рукописный документ. Но без правильного истолкования он останется всего лишь историческим артефактом, которому две тысячи лет. Рукопись надо читать знающими глазами.
— Две тысячи лет, — вторю я.
— Манускрипту уже была тысяча лет, когда иоанниты взяли его под свою охрану. Великие Магистры лично берегли его в своих замках и церквях. Вплоть до четвертого века ларец был спрятан в монастыре Святого Креста. Мы знаем, что было предпринято много попыток украсть ларец. Страх, что кто-нибудь похитит его, был наиболее вероятной причиной того, что решили прибегнуть к помощи ордена иоаннитов. Разногласия по поводу судьбы ларца привели к распаду ордена.
— А этот манускрипт? О чем он?
Лицо Мак-Маллина почти прозрачно. Сквозь кожу просвечивает сетка тонких жил. Если бы свет падал по-другому, я мог бы видеть его насквозь. Он открывает рот, чтобы легче дышалось. Ему очень тяжело расставаться со своей тайной.
Я решаюсь:
— Две тысячи лет… Попробую угадать? Это что-то, связанное с Иисусом. С историческим Иисусом.
На его губах появляется улыбка.
— Ты определенно разговаривал с Петером.
— А сейчас вы хотите убедить меня, что Петер действовал не по вашим инструкциям.
Мак-Маллин в упор смотрит на меня.
— И что он не говорил именно того, что вы заставили его говорить? — продолжаю я свою атаку. — Пичкать меня фактами и полуправдой? — Мак-Маллин кокетливо наклоняет голову. Причмокивает. Но все еще не отвечает на мои обвинения. — Мне кажется, что вам нравится эта игра.
— Игра?
— Ложные пути! Вранье! Намеки! Загадочные экивоки… Все это для вас игра. Соревнование.
— В таком случае ты достойный противник.
— Спасибо. Но вы забыли обучить меня правилам игры.
— Это верно. Но тебя не обмануть. Это мне нравится. — Он соединяет кончики пальцев рук. — Мой юный друг, ты когда-нибудь задавался вопросом, кем был Иисус Христос?
— Нет! — отрезаю я.
— Кто он был на самом деле? — Он смотрит на меня. — Единородный Сын Божий? Спаситель? Мессия, иудейский царь? Или он был философ? Этик? Бунтовщик? Обличитель? Политик?
Вряд ли он ждет моего ответа. Да я и не отвечаю.
— Кое-кто скажет, что он был и тем и другим, но и это еще не все… — произносит он.
— Я не понимаю, куда вы клоните. Петер уже прошел со мной этот урок. Он рисовал и рассказывал. Не надо повторять. Хочу услышать главный вывод!
Он не обращает внимания на мое нетерпение.
— Почему, как ты думаешь, — спрашивает он, — распятие на кресте стало вдруг событием, которое произвело такое большое впечатление на человечество?
— Понятия не имею! — почти рычу я. — И если честно, то не очень хочу знать.
— Но ты думал об этом когда-нибудь? Жестокость казни? То, что Бог принес в жертву своего Сына? Или то, что Иисус дал себя принести в жертву? Ради тебя и меня? Для спасения нашей души?
— Мак-Маллин, я человек неверующий. Я об этом никогда не думал.
— И тем не менее ты, безусловно, можешь поделиться со мной своими мыслями. Какое событие, связанное с распятием на кресте, привело к возникновению религии?
— Может быть, то, что Иисус воскрес из мертвых?
— Точно! Именно так! Все началось с распятия на кресте! Культура Запада началась с распятия на кресте. И воскресения.
Я пытаюсь понять, что он имеет в виду.
— Распятие на кресте… попробуй представить себе это, Бьорн… — Его голос нежный, шепчущий. Перед его взором картины, которые видит только он. — Иисуса ведут на Голгофу римские солдаты. Он измучен. Спина покрыта рубцами от ударов хлыстом. Терновый венец оставляет раны на коже, кровь смешивается с потом, по щекам текут кровавые ручьи. Кожа полопалась, губы пересохли. Зрители издеваются и торжествуют. Скрипучие голоса выкрикивают ему вслед насмешки. Кто-то плачет из сострадания, отворачивается. Запахи… Аромат полей и рощ смешивается с жуткой вонью из клоак, мочи, пота, смрада от козлов, ослиного навоза. На плечах у Иисуса перекладина креста, к которой прикованы его руки. Он шатается под ее тяжестью. Он иногда опускается на колени, но солдаты грубо и нетерпеливо поднимают его на ноги. Когда Иисус снова падает на землю, солдаты заставляют нести крест Симона из Кирены. Немного позже они проходят мимо группы плачущих женщин. Иисус останавливается и утешает их. Ты видишь эту картину? Ты можешь вжиться в то, что там было? Атмосфера заряжена, наэлектризована… По прибытии на Голгофу Иисус получает порцию вина, смешанную с успокаивающей, утоляющей боль миррой. Но он делает только один маленький глоток.
Мак-Маллин останавливается, взгляд направлен в пустоту.
Я тихо лежу в постели.
— Потом они прибивают его к кресту, — говорит он.
— Да, — подтверждаю я наконец, чтобы заполнить тишину.
Мак-Маллин откашливается и продолжает:
— Кто-то вырезал его имя на кресте. «Иисус, царь иудеев». Пока он висит на кресте с лицом, искаженным от боли, солдаты делят его одежду между собой, бросая жребий. Представь это себе. Делят его одежду. Пока он там висит, прибитый гвоздями, как животное, принесенное в жертву, и наблюдает за ними, они делят его одежду! Потом они усаживаются, чтобы сторожить его. В какой-то момент он зовет в отчаянии Отца и просит у Него прощения. Измученный, почти неслышным голосом, разговаривает со своей матерью Марией, которую утешают три женщины, среди которых Мария Магдалина. Зрители, священники и писцы — и даже два разбойника, которые распяты по обе стороны от Иисуса, — принимаются издеваться над ним, призывают его как-нибудь выбираться из безвыходного положения. Потом, Бьорн, потом на землю опускается темнота. Возможно, налетели тучи, возможно, померкло солнце. Иисус кричит: «Господи! Господи! Почему ты покинул меня?» Над землей проносится порыв ветра. А может быть, все еще стоит жара. Мы не знаем. Кто-то приносит губку, смоченную в уксусе, прикрепляет к палке и дает ему возможность утолить жажду. Иисус произносит: «Отче, в твои руки предаю себя» — и умирает.
Мак-Маллин смотрит на часы. Не глядя на меня, он встает и идет к двери. Дверь тяжелая. На наличниках изображены срезанные цветы.
— Куда же вы? — кричу я ему вслед.
Он открывает дверь и поворачивается ко мне.
Я растерянно спрашиваю:
— И ничего больше?
— Больше?
— Зачем вы рассказали мне все это? — спрашиваю я.
— Бьорн, попробуй понять вот что… — Он выжидает, смотрит в пространство. — Попробуй представить себе, что Иисус не умер на кресте.
Часть моего сознания воспринимает его слова. Другая часть не хочет следовать за неожиданным поворотом.
— Что? — переспрашиваю я. Хотя я слышал то, что он сказал.
Он тихо закрывает за собой дверь и оставляет меня во власти ночи и вопросов.
6.
Есть ли в жизни человека минута, поворотный пункт — момент, когда некое событие бросает яркий луч на все случившееся до сих пор и освещает ему дорогу, лежащую впереди?
Жизнь — кольцо. Начало жизни и ее конец соединяются в одной точке, в которой каждая религия концентрирует все, что представляет ценность.
В религии майя время стремится к повторению. Стоики полагали, что мир исчезнет, но новый мир возникнет из старого.
Я нахожу в этом какое-то утешение.
Но для христиан время — неуклонно прямая линия, которая ведет к Судному дню.
Если подняться до космической перспективы, то все оказываются правы.
И в таком бесконечном цикле обожженному солнцем бедняге с потрескавшимися ногтями и просроченной трамвайной карточкой может оказаться затруднительно найти свое место в жизни.
В мире много загадок. Я не создан для того, чтобы разбираться в них. По сути дела, ничего страшного в этом нет. По сути дела, я на них плюю.
7.
Рассвет. Небольшие поля соединяются мягким узором. Лоскуты самых нежных цветов — зеленого, желтого разных оттенков, серого — образуют вместе загадочную головоломку. Полосы леса на склонах — протяженные, ласкающие взор. Терпеливо и с большим трудом крестьяне приручили ландшафт и вдохнули жизнь в почву. Но в этой пышности есть что-то упрямое и суровое. Земля сопротивляется. Словно опухоль, гора вторгается в поля, острые утесы отшвыривают землю в сторону, участки пашни рассекаются каменными ранами.
Я смотрю на этот ландшафт из окна. Окна замка. Средневекового замка красно-серого камня. Может быть, кто-нибудь назвал бы его дворцом. Подоконник такой широкий, что на нем можно сидеть.
Замок стоит на поросшей лесом горе. Я не имею ни малейшего представления, где я. Пробую угадать. Тоскана? А может быть, испанское высокогорье? Различные варианты проходят в голове чередой. Один из них, последний, кажется мне наиболее вероятным. И наиболее заманчивым.
8.
— Где я?
Мак-Маллин слушает вопрос, подняв брови. Он стоит в дверях. Я до сих пор сижу на подоконнике. Просидел тут несколько часов. Но ландшафт не открыл мне ни одной из своих тайн.
— Ты уже выбрался из постели, как я вижу? Меня радует, что ты поправляешься!
— Спасибо. Где я?
— В Рене-ле-Шато.
Я вздрагиваю.
Рене-ле-Шато. Дамы и господа, спектакль сейчас начнется, занавес поднят, за кулисами ждут актеры, но наш уважаемый автор должен сначала дописать свою пьесу.
Мак-Маллин закрывает дверь и входит в комнату:
— Восточные Пиренеи. Южная Франция…
— Я знаю, где это, — перебиваю я. — Деревня, где жил тот священник.
— У тебя хорошая память.
— Что я здесь делаю?
— Тебя сюда привезли.
— Как? Зачем?
— На моем личном самолете.
— Не помню.
— Ты был без сознания.
— Долго?
— Некоторое время. Тебе давали обезболивающие и успокоительные препараты. После того как мы тебя нашли среди пустыни. Ты был в ужасном состоянии.
— Опять наркотики.
— Выбора не было.
— Какие скверные у вас привычки!
— Для твоего же блага.
— А зачем меня привезли сюда?
— Амбулатория института не очень хороша.
— Но почему сюда?
— Мы могли отвезти тебя в частную больницу ближайшего крупного города. Или в Лондон. Или в Осло, если уж на то пошло. Но мы привезли тебя сюда. Потому что я хотел пригласить тебя сюда. В Рене-ле-Шато. Ко мне домой. Вскоре ты поймешь почему.
— Что это за дом?
— По правде говоря, это замок.
— Ваш личный маленький замок, да?
— Средневековый замок крестоносцев. Он был собственностью моей семьи на протяжении длительного времени.
— Я знаю, что вы имеете в виду, — киваю я, — моя семья тоже владеет кое-какими средневековыми замками.
Позже Мак-Маллин выводит меня из комнаты, ведет по темному коридору, затем вверх по широкой гранитной лестнице. Мы идем медленно. Он держит меня под руку.
На верху лестницы он открывает тяжелую дверь, и мы оказываемся на крыше, между башней и шпилем, в узком проходе у бруствера. Открывается изумительный вид. Воздух наполнен запахами, душно.
Мы смотрим на ландшафт.
— Красиво? — спрашивает он.
Он показывает на юго-восток:
— Гора, которую ты видишь, называется Безю. Там сохранился средневековый форт рыцарей-тамплиеров, где у них была школа. Здесь вокруг сотни церквей. Многие из них стоят на священной земле. В забытых могилах покоятся, по-видимому, апостолы, пророки и святые. Сотни! К востоку от нас, — полуобернувшись, он показывает, — расположены руины дворца Бланшфор. Четвертый Великий Магистр тамплиеров Бертран де Бланшфор жил здесь в двенадцатом веке.
— Ваш торговец недвижимостью может спокойно назвать это место хорошо обжитым районом, если вы когда-нибудь надумаете расстаться с замком, — шучу я.
Мак-Маллин вежливо смеется.
— В Средние века это был скорее перенаселенный район. Кое-кто считает, что вокруг Рене-ле-Шато жило до тридцати тысяч человек. Регион был расположен рядом со Средиземным морем и торговыми путями, недалеко от Испании и Италии, эта часть Франции была развита лучше, чем остальные.
— Вы хотите предложить мне этот замок по дешевке? Или что-то рассказать?
Мак-Маллин подходит к стене и садится в выемке бойницы.
— В 1960-е годы один французский журнал опубликовал историю, которая заинтересовала людей, умевших читать между строк, — рассказывает он. — Статья побудила группу псевдонаучных авторов-документалистов приступить к расшифровке загадок, которые скрывает это место. Благодаря их книгам поток туристов резко возрос.
— Загадок?
— Журнал рассказал историю о Беренжере Соньере.
— Приходском священнике…
— Тридцатитрехлетний священник приехал сюда, в Рене-ле-Шато, в июне 1885 года.
— Ну и что в этом странного?
— Было загадкой, почему он поехал сюда, в деревню, где жило несколько сот человек. Во время обучения ему сулили блестящую карьеру. Но, по-видимому, там что-то случилось. Скорее всего, он сильно провинился, раз начальство сослало его в эту глушь.
— Но здесь ведь хорошо.
Мак-Маллин прислоняется к стене:
— Между 1885 и 1891 годами Соньер имел скромный годовой доход, которого едва хватало для поддержания достойного образа жизни. Как бы то ни было, тратить здесь деньги особенно не на что. — Он оглядывает скупой пейзаж. — Соньер был увлекающимся человеком. Он начал разбираться в истории местности с помощью священника соседней деревушки Рене-ле-Бэн аббата Анри Буде.
Мак-Маллин показывает мне, где находится Рене-ле-Бэн. На склон горы находит облако.
— В течение длительного времени Соньер собирался привести в порядок обветшавшую церковь. Само здание существует с 1059 года, но оно строилось на фундаменте церкви шестого века. В 1891 году Соньер начал ремонт. Он одолжил в сельской кассе небольшую сумму денег и приступил к делу. Для начала он вскрыл фундамент алтаря. Обнаружились две колонны. Одна из них была полой. Внутри отверстия он нашел четыре пергамента в опечатанных деревянных трубках. Утверждали, что два пергамента содержали генеалогические перечни. Про два других говорили, что это документы, написанные в 1780 году предшественником Соньера, аббатом Антуаном Биту. Бигу был личным духовником рода Бланшфоров, представители которого до Французской революции принадлежали к числу крупнейших землевладельцев этого региона. Тексты Бигу были списками со старых, восходящих к эпохе Нового Завета. Но записи были довольно хаотичны и бессмысленны. Между словами не было промежутков. Явно лишние буквы были выделены особым почерком и как бы случайно разбросаны по всему тексту. Казалось, что они передавали какое-то секретное сообщение. Часть этих зашифрованных текстов не поддается истолкованию даже с помощью компьютерной техники. Соньер не понял ни текста, ни шифров. Но он рассудил, что нашел что-то, что может быть ценным. Он привез пергаменты своему непосредственному начальнику — епископу Каркасонна, который взглянул на них и тут же за свой счет послал Соньера в Париж к крупным представителям Церкви. Соньер пробыл в Париже три недели. Что именно случилось там, до сих пор неизвестно. Но бедного деревенского священника ввели в самые высшие круги. Ходят слухи, что он стал любовником прославленной оперной певицы Эммы Кальве. В последующие годы она часто навещала его здесь, в деревушке. Побывав в Париже, он вернулся в Рене-ле-Шато и продолжил ремонт церкви. Непонятно было только одно: почему он стал невероятно богатым? Финансирование ремонта перестало быть проблемой. У него появились адресаты в стране и за рубежом, с которыми он вступил в обширную переписку. Он занялся предпринимательством. Оплатил строительство дороги до Рене-ле-Шато. Он покупал редкий фарфор, коллекционировал марки, собрал богатейшую библиотеку редких книг. Устроил зоопарк и заложил апельсиновую рощу. Он сорил деньгами и одаривал прихожан своей церкви. К нему в гости приезжали многие известные люди Франции и других стран. Хочешь — верь, хочешь — не верь, но только к своей смерти в 1917 году он сумел потратить несколько десятков миллионов. Откуда были эти деньги? На этот вопрос он никогда не отвечал. Один неопытный подозрительный епископ попробовал перевести его в другое место, но Соньер позволил себе то, что до него никто никогда не делал: он отказался выполнить распоряжение. Тогда он стал объектом самых злых обвинений, и был отстранен от служения. Но тут вмешался Ватикан и вернул его на старую должность. Семнадцатого января 1917 года Соньера поразил апоплексический удар. Через несколько дней он умер. Но и до сих пор люди в деревне задаются вопросом: откуда свалилось на бедного священника внезапное богатство?
Мак-Маллин встает из выемки бойницы.
— Я думаю, что ты видишь связь, — обращается он ко мне. — Ты тоже спрашиваешь себя: что было в тех пергаментах, которые Соньер отыскал в полой колонне под алтарем? Что написано в документах, которые он отвез в Париж? Что превратило бедного сельского священника в зажиточного человека, обладающего многими тайнами и покровителями?
— Я не знаю, — признаюсь я. — Но вы правы. Я задавал себе эти вопросы.
— Я так и думал. Ты любопытный человек.
— И вам, конечно, известны ответы на все вопросы?..
Он берет меня за руку, как будто у него кружится голова, но в ту же секунду выпускает.
— …но мне рассказывать не хотите? — заканчиваю я.
— Зашифрованные тексты содержали генеалогическое древо, перечень членов рода, если хочешь, где прослеживалась история королевских семейств вплоть до начала нашего времени. Пергаменты объясняли, каким образом следует понимать это древо.
— Происхождение королей?
— Все имена. Все короли. Все королевы. В каждой стране. Из века в век.
— Имеет ли это отношение к твоим вчерашним намекам? По поводу распятия Иисуса на кресте?
— Не самое глупое предположение.
Крепко сжав мою руку, он ведет меня к двери.
— Но документы, найденные в церкви в 1891 году, содержали еще кое-какие сведения. Мы не знаем, откуда они. Мы не знаем, кто распоряжался ими и как их передавали. Но они дали нам первые указания на то, куда пропал Ларец Святых Тайн. Поэтому через девять лет было создано СИС. Это прямой результат обнаружения пергаментов. Теперь у нас появился четкий след. Мы знали, где надо искать ларец. И октагон. И все же должно было пройти еще почти сто лет, прежде чем нам это удалось.
Он запирает дверь огромным ключом, который, соприкасаясь с механизмом замка, издает скрипучий звук.
— Вообще-то, — бормочу я, спускаясь по лестнице, — рановато утверждать, что вам это удалось.
9.
В сочельник мама всегда водила меня в церковь. Как раз в середине фильма про утенка Дональда, который передавало шведское телевидение, она вбегала, напевая и сверкая нейлоновыми чулками, окутанная облаком духов и смеха, и начинала собираться в церковь.
— Нам нужны традиции, — повторяла она часто.
Она вообще любит штампы. Ей было непонятно, что для меня мультфильмы были важнее церкви. Если шел снег и раздавался колокольный звон, если загорались свечи в фонариках на кладбище, — могу сказать, что во мне тогда в известной мере пробуждалось рождественское настроение. Но даже отдаленно оно не напоминало того взрыва эмоций, который производили во мне фильмы об утенке Дональде.
То же самое повторялось перед летними каникулами. Но только в школе. Кучками по классам нас посылали на богослужение. Я не христианин, но перед огромным алтарем, где Иисус распростер свои руки, загипнотизированный органной музыкой и убедительным голосом священника, я послушно разводил свои детские руки. В такие минуты во мне просыпался верующий. Маленький уродец, который ищет утешение везде, где только можно.
Религиозный экстаз продолжался порядка пятнадцати минут. Затем лето вступало в свои права.
Позже я находил другие способы умерить страсти. Став взрослым, я искал утешение в лоне женщины. Желание быть объятым теплом и нежностью любимого человека, который хочет тебе добра. Во всей своей простоте.
Я тихо лежу в постели. Темно. Лицо и руки чешутся.
Комната большая, пустая и тихая.
Одна мысль крутится в голове. Словно муха, которая никак не может найти покой. Мысль такая: «Существует ли одна-единственная истина?»
Я не хочу верить в секреты Мак-Маллина. Их слишком много. Они слишком невероятны. Распятие, крестоносцы, тамплиеры, средневековые замки, догмы, таинственные масоны, непостижимые богатства, скрытые сокровища, вековые тайны. Такого рода вещи не встречаются в реальной жизни. Во всяком случае, в моей жизни. Неужели орден мог сохранять тайну на протяжении двух тысяч лет? Вряд ли это возможно.
Где-то в замке почти бесшумно открывается тяжелая дверь.
Мак-Маллин слой за слоем снимает пласты лжи со своей тайны. Но вдруг то, что скрыто внутри, тоже ложь?
Я не знаю, лжет ли Мак-Маллин сейчас. Я не знаю, верит ли он сам, что говорит правду. Или он действительно говорит правду.
То же самое я всегда думаю о священниках. Когда я сижу на жесткой деревянной скамье и пристально смотрю на кафедру, то часто задаю себе вопрос, верит ли проповедник в то, что говорит. Или же сомнения посещают и священника, оставляя ему лишь изъеденную червячками надежду, что все-все на небе и на земле обстоит именно так, как он объясняет прихожанам?
10.
Я немного вздремнул, и вдруг дверь открывается, и я слышу за занавеской легкие шаги Дианы.
Я должен немедленно прийти в себя. Мне хочется верить, что ее возвращение вызвано вспышкой страсти. Я приподнимаюсь на локтях. Я готов сыграть роль беспомощного пациента, подчиняющегося воле похотливой медсестры. В своих фантазиях я безоговорочный приверженец большинства сомнительных штампов.
Но лицо ее печально. Она тяжело опускается на стул. Избегает встречаться со мной взглядом. Что-то гнетет ее.
— Диана?
— Нам надо поговорить.
Я некоторое время жду продолжения.
— Папа сказал, что… — начинает она. Потом замирает.
Очень медленно я встаю и одеваюсь. Не глядя на меня, она берет мою руку, так нежно, словно боится, что сделает мне больно. И мы оба выходим из комнаты и спускаемся по широкой лестнице в рощу.
Темно. Фонарь собрал вокруг себя рой насекомых и теперь не отпускает их. Дует мягкий бриз. Он ласкает мою кожу, которая не перестает саднить. Я думаю, что Диана сейчас сообщит мне что-то такое, чего я не хочу знать.
Она ведет меня по покрытой гравием дорожке к скамейке возле декоративного бассейна, в котором давно разрослась болотная трава, а фонтаны больше не бьют. До нас доносится запах гнили.
—
Бьарн, — шепчет она. — Мне надо тебе кое-что сказать.
Голос ее стал чужим.
Я сажусь на скамейку. Она стоит передо мной, сложив руки на груди. Она похожа на прекрасную мраморную статую одинокой монашенки в саду при монастыре Вэрне.
Но кое-что я замечаю сразу. Она беременна!
— Я много думала об этом, — начинает она. Дыхание тяжелое. — Сначала не хотела. Но ведь это важно. Я должна объяснить, в чем дело. Чтобы ты понял.
После этого я замолкаю. Я никогда не думал о себе как о будущем отце. Такая мысль мне чужда. Но она этого хочет? Я представляю себе счастливую семейную пару: Бьорн и Диана, окруженные пускающими пузыри и ползающими по полу крошками.
Она выпустила мою руку. Но потом, присев, снова сжала ее, и довольно сильно. «Жить будем в Осло или Лондоне?» — думаю я. И пытаюсь угадать, мальчик или девочка. Смотрю на ее плоский живот. Следующая мысль: «Как она может знать, что ждет ребенка, если прошло так мало времени?»
— Иногда узнаешь о таких вещах, — говорит она, — о которых хотелось бы не знать.
— Хотя осознаешь это только тогда, когда уже слишком поздно, — подхватываю я. — Потому что, только узнав что-то, ты видишь, что лучше бы этого не знать.
Мне кажется, что она не слушает меня. Да и изрек я нечто довольно загадочное.
— Речь вдет о моей матери, — говорит она.
В зацветшей воде заквакала лягушка. Я пытаюсь увидеть ее. Но ее нет, только звук.
— А что с ней? — спрашиваю я.
Диана икает. Из бассейна в тон ей отвечает лягушка.
— Странно, что мне нужно было познакомиться с тобой, чтобы выяснить, кто моя мать.
— Какое отношение я имею к твоей матери?
Она закрывает глаза.
— Я думал, что твоя мать умерла, — добавляю я.
— Я тоже так думала.
— Но?
— Меня с ней просто не познакомили. Она не хотела меня знать.
— Не понимаю. Кто она?
— Ты ее знаешь. Ты с ней знаком.
Я пытаюсь прочитать разгадку на ее лице. Сначала я думаю о маме, потом о Грете.
— Мак-Маллин был вместе с Гретой! — вскрикиваю я. — В Оксфорде!
Она молчит.
Теперь уже мой голос дрожит и хрипит:
— Грета — твоя мать?
Лягушка куда-то перебралась. Кваканье доносится совсем из другого конца. А может быть, первой отвечает вторая?
— Есть еще кое-что, — продолжает она. — Я единственная дочь у папы. Единственный ребенок.
— И что?
Она качает головой.
— Это ведь ничего не значит. Для нас с тобой, — говорю я.
— Это значит всё. Всё!
— Объясни.
— Видишь ли, папа ведь не…
Пауза.
— …ведь не — что? — спрашиваю я.
— Когда он умрет, я буду…
Пауза.
— Да? Когда он умрет, ты будешь кем?
Она ждет.
— Я не могу ничего этого… Поверь мне. Но это правда.
— Я не понимаю.
— Невозможно, — шепчет она.
— Что невозможно?
— Ты. Я. Мы.
— Чепуха! Мы все сможем вместе.
Она качает головой.
— Мне казалось, что у нас все всерьез.
— Знаешь… Когда мы познакомились, я сразу почувствовала, что ты необыкновенный, не такой, как все. Я поняла: это настоящее. Это то, чего я ждала всю жизнь. Но потом появился папа и все испортил.
— Но ты не порвала со мной.
— Не ради
них. Напротив. Вопреки им. Попробуй понять,
Бьарн. Мы были вместе, потому что этого хотела я. Вопреки им. Потому что ты много значишь для меня. Потому что я хотела показать им, что я не играю в их игры. И все-таки… — Она качает головой.
— Все устроится, Диана. Мы забудем об этом.
— Ничего не получится. Они все испортили.
— И все-таки давай мы…
— Нет,
Бьарн. — Она резко встает. — Вот так обстоят дела. Мне очень жаль. — Она смотрит мне в глаза и печально улыбается.
Потом поворачивается и быстро идет прочь по дорожке. До меня доносится шорох гравия под ее ногами.
Когда папа умер, мама долго обсуждала в похоронном бюро вопрос, открывать или не открывать гроб во время прощания в часовне. Агент похоронного бюро советовал нам оставить гроб закрытым. Чтобы мы запомнили папу таким, каким он был раньше. Только тогда, когда мама отказалась, агент стал говорить прямо:
— Он упал с высоты в тридцать метров на камни.
Мама не поняла. Она была не в себе.
— Вы можете его загримировать? — предложила она.
— Вы не понимаете. Если тело падает на камни с высоты в тридцать метров…
Гроб остался открытым.
Часовня была украшена цветами. Органист и скрипач исполняли псалмы. У задней двери стояли четверо мужчин из похоронного бюро. У них. были профессиональные выражения лиц, и казалось, что они сейчас расплачутся. Или рассмеются.
Гроб стоял на возвышении посередине.
Адажио. Режущие звуки в тишине. Негромкий плач. Скорбь сливается с музыкой.
Они сложили его руки, которые не пострадали, и вставили в пальцы букет полевых цветов. Небольшая часть лица проглядывала через овальное отверстие, вырезанное в шелковом покрывале вокруг головы. Это чтобы пощадить нас. Работали, судя по всему, долго. Пытались воссоздать его облик с помощью хлопка и грима. И все же узнать его было невозможно. Там лежал не папа. Когда я прикоснулся к его пальцам, они были жесткими и холодными, как лед. Я помню, что я подумал: вот что такое трогать покойника.
11.
Утро. Приглушенный свет. Краски на склоне горы еще не проснулись.
Оцепеневший от усталости, я сижу, положив локти на подоконник. Целую ночь я смотрел в огромную черную пустоту и видел, как темнота превращалась в слабое мерцание, видел, как танцевали летучие мыши в свете звезд. С рассветом птицы возобновили полеты и пение у дерева, стоящего под окном. Как маленькие точки, они стрелой проносятся в погоне за насекомыми. Внизу, на лужайке, остановился черно-серый кот, сладко потягиваясь. Сонный грузовик с овощами и фруктами на борту пыхтит где-то на шоссе.
Диана уехала. Я наблюдал за ее отъездом из окна. В середине ночи ее чемоданы перенесли в микроавтобус, и он тронулся. Несколько минут я следил за медленным движением света, потом все пропало в темноте.
12.
— Тебе когда-нибудь приходило в голову, что ничто в этой жизни не бывает таким, как тебе кажется?
Он сидит, освещенный пламенем, перед камином в библиотеке. Сейчас вечер. Какой-то неандерталец со сжатыми зубами и бегающим взглядом пришел ко мне и молча отвел по коридорам в комнату, которую Мак-Маллин с преувеличенной скромностью называет «читальным уголком».
Все стены огромного зала заставлены книгами. Тысячи и тысячи старых книг от пола до потолка. Мозаика золотистых переплетов с вязью заглавий на латинском, греческом, французском и английском языках. В библиотеке пахнет пылью, кожей и бумагой.
Мак-Маллин наполнил два бокала шерри. Мы чокаемся и молча отпиваем. Дрова в камине шипят и потрескивают.
Он откашливается:
— Мне известно, что ты разговаривал с Дианой.
Я смотрю на огонь:
— Грета — ее мать?
— Это так.
— У нас с вами много общего.
— Мне жаль, что все так закончилось, — произносит он. — Для тебя. Для Дианы. И… Для всего.
— Почему вы носите фамилию Мак-Маллин? — спрашиваю я.
Он смотрит на меня с удивлением:
— А какое имя для меня ты бы предпочел?
— Вы принадлежите к старинному французскому роду. Откуда же шотландское имя?
— Мне нравится его звучание.
— Так это псевдоним?
— У меня много имен.
— Много? Почему? И почему именно шотландское? — допытываюсь я.
— Это имя мне нравится больше всего. Один из моих предков, Франциск Второй, женился на Марии Стюарт, которая провела детство при французском дворе и была тесно связана с Францией. Ты ведь хорошо знаешь историю. Перед своей внезапной кончиной он имел любовную связь с благородной дамой из могущественного шотландского клана Мак-Маллинов.
Он подносит бокал к губам. Между нами повисает молчание. Мак-Маллин опять погружается в себя. А я начинаю рассматривать неоглядные дали библиотеки.
В конце концов я сдаюсь под напором тишины.
— Вы просили меня прийти? — спрашиваю я.
В его взгляде появляется игривый блеск. Как будто он гадает, как долго он может испытывать мое терпение.
— Вчера, — говорит он, — я рассказал тебе о пергаментах, которые священник Беренжер Соньер нашел, ремонтируя старую церковь.
— А сегодня? — спрашиваю я со смехом. Я чувствую себя погруженным в мир «Тысячи и одной ночи». Хотя Шахерезада была, пожалуй, посимпатичнее Мак-Маллина.
— Сегодня я расскажу, что было в пергаментах.
— Генеалогическое древо?
— Да. И кое-что еще.
Мак-Маллин делает вдох, задерживает дыхание и медленно выпускает воздух через зубы. Все вместе кажется одним глубоким вздохом.
— Намеки на то, что на самом деле произошло?
— На самом деле?
Он сильно трет руки, как будто пытаясь снять невидимые перчатки.
— В прошлый раз ты не был готов воспринимать мои слова.
— Вы имеете в виду распятие?
Мак-Маллин отвечает не сразу. Кажется, что он вообще ничего не хочет рассказывать.
— Распятие Иисуса на кресте, — произносит он, — является одновременно историческим событием и религиозным символом. Фундамент христианства — догма о воскрешении Иисуса из мертвых.
— Мак-Маллин, — спрашиваю я и наклоняюсь на стуле вперед, — какую религию вы исповедуете?
Он пропускает вопрос мимо ушей.
— Если Иисус не умер на кресте, если воскрешение — ложь, то кем он был?
— Бунтовщиком. Проповедником. Великим гуманистическим философом, — предполагаю я. — Все это мы уже прошли.
— Но не божеством, — уточняет Мак-Маллин. — И вряд ли Сыном Божьим.
— Вы, видимо, иудей?
— Моя вера не имеет никакого значения. Я не принадлежу ни к одной церкви. Я верю в Силу, которую нельзя описать словами или запрятать в толстый переплет. Которая не является собственностью священников или пророков. — Он качает головой. — Но то, во что я верю, мы можем обсудить в другой вечер.
— Объясните мне, — прошу я, — почему вы считаете, что Иисус выжил после казни?
Мак-Маллин поднимает бокал с шерри к свету и начинает его вращать.
— У меня есть искушение сформулировать вопрос по-другому.
— Вы хотите сказать — почему он умер?
— Вернее будет спросить — почему он умер так быстро?
— Быстро?
Мак-Маллин ставит бокал на низкий круглый столик, стоящий между нами.
— В Евангелиях очень мало сведений о том, что раны Иисуса, по сути дела раны мягких тканей, должны привести к быстрой смерти.
— Его же распяли на кресте! — восклицаю я. — Гвоздями прибили к кресту! Это больно! Почему же он не мог умереть быстро?
Мак-Маллин соединяет кончики пальцев рук:
— Каждый верующий человек, каждый медик, каждый историк имеет право на свою трактовку. Но абсолютно точно, что если только у тебя нет тяжелой болезни или серьезных повреждений внутренних органов, то умирание на кресте продолжается долго. Человеческий организм очень вынослив. Его функция состоит в том, чтобы поддерживать жизнь.
— Насколько я помню, Иисус провел на кресте долгие часы?
— Это ничего не значит. Проходили дни, прежде чем смерть милостиво освобождала распятых. Часто много дней. Если только охранники не были милосердными и не раздробляли им ноги или не наносили смертельный удар пикой.
Я пытаюсь представить себе эти страдания.
— Для того чтобы понять мои рассуждения, — продолжает Мак-Маллин, — ты должен знать, как римляне проводили процедуру распятия на кресте. Все происходило по четко определенным правилам.
— Я не уверен, что хочу слышать об этом.
— Летом 1968 года группа ученых под руководством археолога, которого звали Тцаферис, обнаружила четыре погребальные пещеры под Гивэат ха-Мивтар к северу от Иерусалима. В пещерах нашли тридцать пять скелетов. Смерть произошла в период между концом второго века до нашей эры и семидесятым годом. Каждый скелет рассказал свою страшную историю. Трехлетнему ребенку вонзили в череп стрелу. Мальчик-подросток и женщина постарше были сожжены. Женщине лет шестидесяти разбили череп. Тридцатилетняя женщина умерла при родах. Останки плода еще лежали в ее чреве. Но самый интересный случай — распятый мужчина.
— Иисус?
— Нет, — возражает Мак-Маллин, — это было бы сенсацией. Этот мужчина был моложе Иисуса. Но человек, которого, судя по надгробной надписи, звали Иехоханан, был распят в том же столетии, что Иисус. Его распяли не только в то же время, но и в том же месте, поблизости от Иерусалима, и к тому же римляне. Поэтому мы можем предположить, что казнь Иисуса имела много общих черт с этим распятием.
— Я не хочу вникать в подробности.
— Методика казни была, прямо скажем, жуткой. Невероятно варварской. После вынесения приговора жертву били хлыстом и мучили. Потом руки прикрепляли — либо ремнями, либо гвоздями — к тяжелой деревянной балке, помещенной горизонтально за затылком на плечах. Эту перекладину он был вынужден нести к месту казни, где балку прибивали к вертикальному столбу.
Мак-Маллин опускает руки на колени и инстинктивно сжимает кулаки.
— В предплечьях Иехоханана были обнаружены следы гвоздей, — продолжает он. — Другими словами, гвозди вбивались не в ладонь, а в кости рук. Ладони не выдерживают веса взрослого мужчины. Далее, ноги Иехоханана были развернуты коленями наружу. Пятки были пробиты одним гвоздем. Ученые предположили, что крест имел небольшой выступ, на который Иехоханан опирался. Он висел в совершенно неестественной позе.
Мак-Маллин делает глоток шерри. Мы смотрим на огонь в камине.
— Если свешиваться вперед, то тяжело дышать, — продолжает он. — Изощренные палачи часто продлевали страдания жертв тем, что делали выступ под ногами или седалищем, чтобы распятый мог на него опереться. Он скорее стоял, чем висел. В таком положении молодой сильный мужчина мог жить на кресте день или два, иногда неделю. Вряд ли существует более негуманный вид казни. Жертвы умирали не от боли или потери крови. Они умирали от изнеможения, от жажды, от удушья, от заражения крови! — Он трет пальцы о подбородок, чтобы прийти в себя. — Случалось, что палачи проявляли к осужденным милосердие. Как ни парадоксально это звучит, ломая им кости. Таким образом они ускоряли смерть. Потому что с раздробленными костями невозможно поддерживать свое тело, и наступало удушье. Именно так поступили с Иехохананом. Ему переломали кости. Для его же блага.
— А Иисус?
— Ноги Иисуса были прибиты к кресту. Для тела была поддержка. И все же он провел на кресте только несколько часов и умер. Нет никаких медицинских показаний, что он должен был умереть так быстро. Ничто в описаниях Библии не говорит, что мучения, которым он подвергался, — удары хлыста, терновый венец, гвозди, уколы пикой — сами по себе должны были привести к быстрой смерти.
— Почему бы нет? — возражаю я. — Разве все эти страдания не могли так его измучить, что распятие стало для него последней каплей?
— У римлян был богатый опыт в таких делах. Даже Понтий Пилат изумился тому, как быстро умер Иисус. Он не мог в это поверить и вызвал офицера, чтобы тот подтвердил факт смерти.
Я верчусь на своем стуле. Я не знаю, доверять ли мне словам Мак-Маллина. Или же это еще один ложный след, который должен сбить меня с толку и скрыть истину.
Мак-Маллин встает и подходит к камину. Он поворачивается и разводит руки в стороны:
— Отчего Иисус умер так быстро? Вряд ли от гвоздей, которыми его прибили к кресту. И не от ран, нанесенных в бок пикой, что, как говорит Писание, случилось уже после его смерти. Единственная вероятная причина смерти, как ты говоришь, — усталость. Но Иисус был молодым, крепким, здоровым мужчиной. Он был слишком выносливым, чтобы можно было поверить, что он умер от изнеможения.
— Странно. Я всегда воспринимал распятие на кресте как что-то неописуемо жестокое. Что лишает жизни быстро и болезненно.
Мак-Маллин тяжело вздыхает:
— Жестокое — да. Но быстрое — нет. Напротив. Распятие было долгим и мучительным способом убийства.
Он садится опять на стул и быстро допивает шерри:
— Еще одна важная деталь: Иисусу дали выпить уксуса перед тем, как он испустил дух. Уксус? Зачем ему дают уксус? Уксус — стимулирующий напиток, который предназначен для поддержания жертвы в сознании. Вместо того чтобы умереть, он, глотнув уксуса, должен был стать бодрее.
Мак-Маллин вертит в пальцах пустой бокал:
— А теперь можем приступить к нашему интеллектуальному эксперименту. — На протяжении нескольких секунд он произносит какой-то монолог про себя. — Представь себе, что в губке был не стимулирующий уксус, а что-то другое. Например, усыпляющее наркотическое вещество. Вещество, от которого Иисус теряет сознание. Для всех присутствующих это выглядит как внезапная смерть.
Я пытаюсь представить себе эту картину. Но я по-прежнему сомневаюсь.
Мак-Маллин откидывается на стуле и смотрит на меня с осторожной улыбкой, играющей на его губах. Как будто прекрасно понимает, какого рода мысли крутятся у меня в голове.
— Вопросы возникают чередой, как только ты начинаешь читать Евангелия критически, — убеждает он. — Согласно Библии, распятие происходило на Голгофе, что в переводе означает «череп». Поблизости от сада… сада с частной погребальной пещерой в горе. Сад был собственностью Иосифа из Аримафеи, последователя Иисуса. Далеко не каждому выпадает на долю иметь частную погребальную пещеру. По-видимому, Иисус принадлежал к высшему сословию. Но в то же время распятие на кресте было способом казни, применявшимся по отношению к представителям низших слоев общества. Все это довольно непонятно. Повествование в Библии заставляет думать, что эта казнь имела частный характер и происходила на частной территории. А не на обычном месте публичных казней. Но судебный процесс был публичным.
— Кому нужен был этот обман?
— Как ты отнесся бы к предположению, — тихо говорит он, — что эта сцена с распятием была сыграна при участии власть имущих?
— Что вы хотите сказать? Что римляне принимали участие в розыгрыше?
— А почему бы и нет? Кем был Понтий Пилат, как не коррумпированным негодяем? Неужели трудно было подкупить его, чтобы он сквозь пальцы посмотрел на инсценировку распятия? Хитрое маленькое мероприятие, которое разрешало, в частности, и его проблемы с этим иудейским подстрекателем Иисусом.
Я закатываю глаза, но Мак-Маллин этого не видит.
— Мы должны рассматривать обстоятельства смерти Иисуса исходя из того, как его воспринимали современники, — настаивает Мак-Маллин. — Кто он был для них? Мятежный политик! Вовсе не божество! Не забудь, что пророков-самозванцев в то время было навалом. Глашатаи, провозвестники, факиры, предсказатели, оракулы… Любой шарлатан мог демонстрировать чудеса.
— Почему же мы до сих пор поклоняемся ему? Что отличает его от множества других?
— Он владел словом. Словом!
— И все?
— Его слово было другим. Его человеческий облик был другим. Он создал новую картину мира, в которой человеческое достоинство считалось подлинной ценностью. Иисус был мудрым. Добрым. Он не запугивал своих сторонников, как это делали ветхозаветные пророки. Он провозгласил Евангелие любви. Он научил нас доброте. Набожности. Любви к ближнему. Очень редкие по тем временам понятия.
— Но он, как вы сказали, был не единственным пророком.
— Лишь очень немногие верили, что Иисус был Мессией Ветхого Завета. Иудеи вообще отвергли его. Мудрецам-книжникам он мягко возражал. Он опровергал древнейшие иудейские устои. Только позже под руководством апостолов и евангелистов был создан божественный образ Иисуса. История о жизни Иисуса была сильно приукрашена. Евангелия подгонялись под вкусы читателей-современников. Почему мы должны верить старым, не поддающимся проверке спискам, сделанным со списков? Нет никаких письменных документов об Иисусе, созданных в Его время. Все, что у нас есть, записано гораздо позже.
— Вы все говорите и говорите. Но ничто из ваших слов, однако, не подтверждает, что распятие было обманом.
— Оно не было обманом! — Мак-Маллин наклоняется ко мне. — Ты слушай, не перебивай меня! Распятие Иисуса на кресте происходило на самом деле. Я объясняю тебе другое: последующие события были не такими, как это описано в библейской истории.
— И такое абсурдное утверждение вы базируете на косвенных уликах?
Мак-Маллин смеется взахлеб:
— Упрямец! Это мне нравится! Я не пытаюсь ничего доказывать. Я знаю правду. Я пытаюсь показать тебе, как часть парадоксов Библии и истории поддается осмыслению в рамках нового понимания.
— Нового понимания? Какого понимания? Я вообще ничего не понимаю!
В его глазах появляются веселые искорки.
— Позволь, я приведу тебе один пример.
— Доказательство?
— Улику. После казни Понтий Пилат нарушил все римские правила и отдал Иосифу из Аримафеи тело Иисуса. В греческом переводе Библии Иосиф просит выдать ему
soma — живое тело. Пилат отвечает, употребляя слово
«proma» — «труп». Каким образом возникло неправильное толкование?
— Это вы меня спрашиваете? Я не очень большой специалист по библейским переводам.
— А почему вообще Пилат должен был разрешить выдачу тела приверженцу преступника? Они могли сделать из него мученика! Распятых на кресте чаще всего не хоронили. Порой их оставляли стихиям и птицам. Для римлян Иисус был в первую очередь дерзким бунтарем. Подстрекателем и агитатором, от которого они хотели избавиться, чтобы он перестал быть в центре внимания людей. Слухи о том, что он будто бы Сын Божий, они считали забавным курьезом. У римлян были свои боги. Они, скорее всего, не могли понять, почему иудейский Иегова должен был зачать человеческого сына от бедной девушки, которая была помолвлена с каким-то плотником. В соответствии с традиционным восприятием доброжелательное отношение к Иисусу после распятия было маловероятным — если только какие-то могущественные люди не подкупили Понтия Пилата.
— Вы уверены?
— Ты сам побывал в Институте Шиммера. Там есть манускрипты, записи рассказов, тайные документы, которые содержат намеки именно на такой поворот событий. Но даже в хорошо известных памятниках встречаются следы, подтверждающие эту теорию.
Мак-Маллин подходит к книжной полке и вынимает Библию в красном кожаном переплете.
— Давай посмотрим Евангелие от Марка, — предлагает он и начинает листать страницы. — Оно написано раньше других. В древнейших из сохранившихся рукописях история Иисуса кончается на том, что он умирает, а его тело переносят в погребальную пещеру. Когда к могиле приходят женщины, то могила открыта и в ней никого нет. Тело исчезло. Некий загадочный мужчина в белых одеждах — ангел? — рассказывает, что Иисус воскрес. Женщины в ужасе убегают. И будучи в шоке от происшедшего, они никому не сообщают, что там произошло. Так пишет Марк. Как он вообще узнал об этом происшествии, в известном смысле загадка. Но это не тот хеппи-энд, которого желали современники. Никто не принял такого бессмысленного завершения истории. И что тогда сделали? Изменили концовку. Приписали новое заключение.
— Кто?
— Писцы! Другие евангелисты!
С невероятной скоростью он начинает листать книгу, доходит до шестнадцатой главы и читает вслух:
«По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Саломия купили ароматы, чтобы идти — помазать Его.
И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу, при восходе солнца.
И говорят между собою: кто отвалит нам камень от двери гроба?
И взглянувши видят, что камень отвален; а он был весьма велик.
И вошедши во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду; и ужаснулись.
Он же говорит им: не ужасайтесь. Иисуса ищете Назарянина, распятого; Он воскрес, Его нет здесь. Вот место, где Он был положен.
Но идите, скажите ученикам Его и Петру, что Он предваряет вас в Галилее; там Его увидите, как Он сказал вам.
И вышедши побежали от гроба; их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись».
Мак-Маллин поднимает глаза:
— Здесь кончается Евангелие от Марка.
— Но там есть еще что-то! — возражаю я.
— Да, есть. Но написал это не Марк. Марк, самый первый из евангелистов, тот, чей текст использовали все другие евангелисты, завершает свое повествование только обещанием о воскрешении Иисуса. Видишь, как естественно кончается здесь история? Но в будущем такая концовка не могла бы никого удовлетворить. Все ждали чего-то более конкретного и осязаемого. Конец
вдохновляющий! Конец, который давал бы надежду. Поэтому со временем дописали продолжение. И обрати внимание на резкое изменение стиля — последние стихи приклеены, словно это скороговорка:
«Воскресши рано в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал семь бесов.
Она пошла и возвестила бывшим с Ним, плачущим и рыдающим; но они, услышавши, что Он жив и она видела Его, не поверили».
— Отметь это, — прерывает чтение Мак-Маллин. — Они не поверили, когда она рассказала о том, что видела. А дальше написано:
«После сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение.
И те возвратившись возвестили прочим; но и им не поверили».
— Это поразительно! — восклицает Мак-Маллин. — Потому что Иисус сам предвещал свое возвращение. Самые близкие к нему люди ждали его. Так написано в Библии. Так почему же никто из его приверженцев не верит, что это произошло? Иисус выполняет обещанное — и никто из его последователей не верит этому? Они же должны были ликовать! Они должны были восхвалять Господа. Аан нет, что происходит в действительности? Они отказываются верить этому! Если ты прочитаешь последние стихи внимательно, то увидишь, что это откровение выглядит как приписанное в более поздний период. Почему? Манускрипты фальсифицировались. Подправлялись. Улучшались. Словно сценарий фильма. Переписчики и другие евангелисты воскресили Иисуса, чтобы он во плоти и крови возвещал Евангелия всему миру. Гораздо более приемлемый для читателя конец. Вполне можно подумать, что сценарий отредактировали в Голливуде.
Мак-Маллин опускает палец к четырнадцатому стиху и читает:
«Наконец явился самим одиннадцати, возлежавшим на вечери, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видавшим Его воскресшего не поверили. И сказал им: Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари».
— Ты обратил внимание на то, как усердие все больше и больше захватывает автора? — спрашивает Мак-Маллин. — Как он старается довести повествование до апогея, до бурной литературной кульминации? Здесь он умеряет пыл — обещаниями и угрозами:
«Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет.
Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками; будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, не повредит им; возложат руки на больных, и они будут здоровы».
Мак-Маллин морщит лоб:
— Будем воспринимать это буквально? Изгнание нечистой силы? Выкрикивание бессмысленных слов? Устойчивость к ядам? Рукоположение? Или мы здесь видим автора, который переполнен пламенной верой и хочет завершить повествование духовной кульминацией? Текст кончается так:
«И так Господь, после беседования с ними, вознесся на небо и воссел одесную Бога.
А они пошли и проповедовали везде, при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями».
Мак-Маллин захлопывает книгу:
— У Марка концовка была вялая, слабая, открытая. Даже когда первоначальный финал Евангелия от Марка был обработан переписчиками и распространителями его труда, он все еще был слабоват. Другие евангелисты не были удовлетворены его повествованием. Они украсили свои версии еще больше. Они хотели пафоса. Действия, напряженности. Они заставляют самого Иисуса, а не ангела встречать женщин у гроба. Они сводят Иисуса с учениками лицом к лицу. Какая из версий правильная? Какой евангелист рассказывает правду, а какой что-то перепутал? И я спрашиваю себя: что знают другие евангелисты такого, чего не знал самый первый из них — Марк? Почему они гораздо более посвящены в детали, чем Марк? Ни один из них не был там, на месте, — у всех один и тот же источник, на который они опираются. Почему же они так точно отражают детали Воскресения и Явления Христа, если самый первый ничего этого не знал?
Мак-Маллин, возможно, считает это вопросом. Но я даже не пытаюсь отвечать.
— Евангелия, — повествует он, — возникли, чтобы удовлетворить потребность раннехристианской церкви в закреплении веры в Иисуса именно как в Воскресшего Господа. Догма о Воскрешении Иисуса была предпосылкой. Необходимостью. Фундаментом для всего дальнейшего. Потому что без Воскрешения у них, по сути дела, не было религии. Евангелисты вовсе не интересовались историческим Иисусом. Они изображали духовного Иисуса. И верили в Него. Они были убеждены в том, что дух Иисуса был с ними. Они не имели целью дать исторический или хронологический обзор жизни Учителя. Их единственной целью было проповедовать. Убеждать читателей, что Иисус был воскресшим Сыном Бога. На основании бесчисленного количества рассказов раннехристианской Церкви они составили свои Евангелия. Но если ты уберешь из Библии Воскрешение, то перед тобой останутся отдельные истории о героической жизни великого гуманиста.
Он наливает шерри нам обоим. Мы сидим молча. Идут минуты.
Я спрашиваю:
— Если все это правда, то что же случилось на самом деле?
Он прихлебывает шерри и прищелкивает языком, чтобы уловить каждый маленький нюанс. Медленно и сосредоточенно, как будто он поднимает гирю одним только огромным усилием воли, он переводит взгляд с пламени в камине на меня:
— Не так просто дать тебе объяснение, которое сразу же вызовет доверие. — Он отставляет бокал.
Я медленно киваю.
— Если какие-то представления вбиваются в нас две тысячи лет, очень трудно принять другое объяснение. Человек недостаточно открыт, чтобы поверить в новую версию.
— Вы рассказали мне самое главное: Иисус выжил после распятия на кресте.
Только теперь я вижу, как он измучен. Он выглядит усталым, старым. Как будто беседа поглотила его силы. Кожа мертвенно-бледная и влажная, глаза тусклые.
— Кто-то назовет это заговором, — изрекает он медленно и задумчиво. — Другие скажут, что это гениальная находка. Как бы то ни было, это можно назвать самым большим обманом мировой истории.
— Но что же случилось с Иисусом?
Его лицо преображается. Такое впечатление, будто он рассказывает мне о том, что видел собственными глазами, но ему трудно описывать подробности, так как это было очень давно.
— Что случилось? — Он долго сидит молча, потом продолжает: — Потерявшего сознание Иисуса сняли с креста и закутали в плащаницу, которая позже стала такой знаменитой и вызвала столько споров. Да-да. Это его контур на Туринской плащанице. Химический процесс, не больше и не меньше. Без внешних признаков жизни он был перенесен в пещеру. Только самые близкие люди были с ним. Только те, кто знал, что он не умер. Для всех других — зрителей, солдат — было очевидно, что в нем не осталось признаков жизни.
— А потом?
— Никто не знает подробностей происходившего потом. Опираться можно только на неясные намеки в древнейших документах. Но в какой-то момент, когда это стало совершенно безопасно, очевидно с наступлением темноты, с Иисуса сняли плащаницу, которая осталась в пещере. Его перевели в тайное укрытие. Мы предполагаем, что он провел там несколько недель, пока женщины лечили его раны и ухаживали за ним. А еще распространяли историю про ангела, который сидел у его пустого гроба.
— И которую евангелисты так разукрасили спустя сорок лет, — добавляю я.
Мак-Маллин смотрит на меня с непонятным выражением лица.
— Продолжайте! — настаиваю я.
— Об этом периоде известно не очень много. Но мы можем предположить, что со временем он поправился. Я вижу его спрятанным за занавеской в жилище богатого человека. За ним ухаживают его самые верные сторонники. И когда он наконец выздоровел и набрался сил… то спасся бегством из Святой земли.
— Бегством? — вырывается у меня. Какая-то до сих пор скрытая от меня взаимосвязь начинает вырисовываться.
— Его время кончилось. Выбора больше не было. Кроме смерти. Вместе с ближайшими сторонниками он бежал.
Переодетым он покинул Иерусалим. Вместе с Марией Магдалиной, Иосифом из Аримафеи и группой своих самых верных и преданных последователей. Даже апостолы не были посвящены в тайну. Им подкинули ложную историю. О Воскрешении. Официальную версию. И как тебе известно, они приняли этот рассказ. Он стал историческим фактом. И религией.
— Что стало с Иисусом?
— Он уехал.
— Куда?
— В безопасное место.
— Я читал где-то о том, что он переехал в Кашмир и основал там общину.
— Легенда о Кашмире — это хорошо придуманная фальшивка.
— Так что же случилось?
— Иисус и его приближенные поехали на запад, по дороге до моря, где их ждал корабль. На нем они отправились в хорошо защищенное место.
— Куда?
Он изумленно смотрит на меня:
— Ты еще не догадался?
— Догадался? Куда они приехали?
— Сюда, — говорит Мак-Маллин. — Последним тайным прибежищем Иисуса было Рене-ле-Шато.
13.
Иногда надо обращаться к природе, чтобы познать самого себя. К шмелям, которые нарушают законы аэродинамики. К лисицам, которые отгрызают свою лапу, чтобы выбраться из ловушки. К рыбам, которые уподобляются кораллам, чтобы не быть съеденными. Из всего растительного мира я всегда испытывал чувство любви к
Argyroxiphium sandwicense. Помните, я рассказывал своей учительнице, на кого бы я хотел быть похожим?
Серебряный меч. Он растет, незаметный и скромный, и никому не бросается в глаза. В нем я узнаю себя.
Медленно-медленно он превращается в полуметровой величины шар, покрытый серебристыми ворсинками. Потом выбрасывает из шара двухметровый стебель. По прошествии двадцати лет он неожиданно расцветает. Цветение такое пышное, что сразу после этого он умирает.
Можно только восхищаться его поразительным терпением.
14.
Мак-Маллин заходит за мной на рассвете. Еще не проснувшись, я раскрываю глаза. В слабом свете мне кажется, что он парит надо мной, словно привидение.
Я пытаюсь проснуться. Пытаюсь понять, чего он хочет. И не снится ли он мне.
— В чем дело? — бормочу я. Слова отзываются в моей голове тягучим дребезжащим эхом.
Впервые за все время нашего знакомства он производит впечатление человека неуверенного. Он нервно потирает руки.
— Бьорн… — окликает он меня. Как будто ему очень не хочется говорить мне что-то.
Я сажусь. Пытаюсь стряхнуть с себя сон. Комната вращается перед глазами. Передо мной два Мак-Маллина. Голова опять падает на подушку.
— Мне звонили, — говорит он.
Я крепко зажмуриваю глаза и широко их раскрываю, крепко зажмуриваю и широко раскрываю. Вид у меня вряд ли нормальный. Но я пытаюсь прийти в себя.
— Кто позвонил? — спрашиваю я.
— О Грете.
— Она…
— Нет! Еще нет. Но она спрашивала тебя.
— Когда мы можем ехать?
— Сейчас.
15.
Частный реактивный самолет ждет на аэродроме в Тулузе. Белый лимузин Мак-Маллина проезжает мимо ограждений и контрольных постов и мягко останавливается у «Гольфстрима». Через двадцать минут мы уже в воздухе.
— Скоро мы достигнем конца пути, — произносит он.
Я сижу в глубоком кресле у большого овального иллюминатора с видом прямо в небо. Непостижимое единение аэродинамики и инженерного искусства подняло нас на высоту семи тысяч футов. Под нами лоскутное одеяло полей.
Между Мак-Маллином и мной столик в середине самолета. В центре стола стоит ваза с красными и зелеными яблоками. Он поймал мой взгляд.
— Пожалуй, тебе это нелегко осознать, — говорит он.
— Да, — соглашаюсь я. Я не знаю, имеет ли он в виду свой рассказ или Грету. — Это очень нелегко.
Два реактивных двигателя «роллс-ройса» «Гольфстрима» создают фон нашему разговору. Вдали я вижу гряду облаков, которая напоминает белую краску, растекающуюся по воде.
Мак-Маллин очищает яблоко. Маленьким фруктовым ножичком он снимает красную шкурку одной длинной спиралью. Разрезает яблоко на четыре части и удаляет середину.
— Хочешь? — предлагает он, но я качаю головой.
— В конечном счете, — он кладет кусочек яблока в рот, — многое в жизни основывается на иллюзиях. Только мы этого не подозреваем. Или не хотим это признавать.
И опять мне трудно отвечать конкретно. Я не понимаю его.
— Все это слишком для меня… — бормочу я.
Он продолжает жевать. Кивает.
— А я и не жду, что ты мне поверишь.
Сначала я некоторое время молчу.
— Может быть, именно поэтому верю.
Кислый вкус яблока вызывает гримасу на лице.
— Верить — значит делать выбор, — говорит он. — Либо верить тому, что человек тебе рассказывает, либо верить в Слово.
— Не так легко узнать, чему можно верить, — отвечаю я уклончиво.
— Неуверенность и скептицизм — сами по себе ценности. Они свидетельствуют о том, что ты
думаешь.
— Возможно. Я все еще не решил, что мне думать о вашем вчерашнем рассказе.
— А я и не жду этого.
— Это ведь не какие-нибудь пустяки. То, что вы просите меня принять.
— Тебе ничего не надо принимать, Бьорн. Что касается меня, то ты можешь отмести абсолютно все, что я тебе сказал. Лишь бы ты отдал мне ларец. — Он негромко смеется.
— Вы опровергаете всю Библию.
— А что такое Библия? Собрание древних рукописей о духе времени. Предписания, правила жизни, этика. Записанные от руки рассказы, толкования и мечты, приукрашенные и отредактированные, рассказы, которые передавались из уст в уста, в конечном счете собранные в одном месте, заключенные в один переплет и получившие штемпель церковников «одобрено». — Он с шумом доедает последние кусочки яблока и облизывает губы.
— А ваша версия? — спрашиваю я. — Чем кончается ваша история?
— Это не моя история. Я только рассказываю о ней.
— Вы понимаете, что я хочу сказать.
— Мало о чем можно говорить определенно, — отвечает он. — Прошло много времени. Документов мало. Неясные отрывки. Фрагменты информации.
— Вот так же я чувствовал себя на протяжении последних недель.
Мак-Маллин смеется и начинает ерзать в кресле, словно неудобно сидит.
— Вам известно, что на самом деле случилось после распятия? — спрашиваю я.
— Кое-что. Далеко не все. Но кое-что.
— Например, то, что Иисус отправился в Рене-ле-Шато?
— О побеге мы знаем многое. Если кратко, то у нас есть манускрипты, написанные двумя участниками побега. Они описывают путь от Святой земли до Рене-ле-Шато.
— Да?
— Когда Иисус выздоровел и залечил раны после распятия, он отправился в путь на ожидавшем его корабле с группой близких приверженцев. Сначала они прибыли в Александрию, в Египте. Потом отправились на север, на Кипр, потом на запад, на Родос, Крит и Мальту, и в самом конце опять на север, в Старый порт Марселя. После этого они поехали по суше на юго-запад страны и обосновались в Рене-ле-Шато.
— Трудно поверить.
Мак-Маллин сжимает губы и смотрит в иллюминатор. Жужжат двигатели. Он взмахивает рукой с довольным выражением лица:
— Но уж если на то пошло, разве версия Библии намного более правдоподобна?
Некоторое время я обдумываю этот вопрос.
— Вы убеждены, что все было именно так? — спрашиваю я.
Он смотрит на меня. Долго.
— Сколько он прожил?
— Этого мы не знаем. Но от женщины, на которой он женился, Марии Магдалины, у него было много детей.
— Иисус женился? У него были дети?
— Почему бы нет?
— Звучит это… Не знаю.
— У них было семеро детей. Четыре сына и три дочери.
Стюардесса, стоявшая позади нас около небольшой буфетной и готовившая завтрак, выкладывает его на теплые тарелки. Она улыбается мне. Я улыбаюсь в ответ. Мак-Маллин осматривает блюдо и с удовлетворением чмокает губами. Мы разрезаем булочки пополам, наливаем апельсиновый сок в стаканчики с кусочками льда, открываем стеклянные баночки с домашним джемом.
Мак-Маллин откусывает кусочек булочки и вытирает уголки губ салфеткой с собственной монограммой.
— Дети Иисуса хранили тайну своего происхождения, — произносит он. — Именно его сыновья и внуки, а не сам Иисус подготовили почву для того, что через тысячу лет превратилось в рыцарские ордена, движение масонов, закрытые общества. Маленькие конспиративные союзы, глубинная цель которых — сохранять тайну, о которой сегодня они сами позабыли. — Он задумчиво качает головой. — Их сейчас сотни. Секты. Клубы. Движения. Ложи. Все они касаются только самой дальней окраины истины. Написаны сотни книг. Писатели вышивали по канве лженаучных гипотез и мифов. В Интернете существуют группки и сайты, обсуждающие спекуляции и догадки. Но никто из них не видит целого. Они подобны мухе, которая не понимает, что бьется о стекло.
— Или шмелю, — быстро вставляю я.
— Или шмелю, — повторяет он, не понимая.
Я беру холодный стакан. Апельсиновый сок только что выжат и свеж.
— Куда же пропали потомки Иисуса? — спрашиваю я, обсасывая кусочек льда, который скрипит у меня на зубах.
— На этот вопрос нельзя ответить.
— Почему?
— Потому что они не «пропали». Они прожили свою жизнь. Завели детей. И до сих пор живут среди нас. Могущественный и гордый род. Здесь, среди нас.
— Они знают, кто они?
— Практически никто. Только очень немногим известна правда. Примерно тысяче человек. А теперь еще и тебе.
— Его потомки живут до сих пор, — повторяю я задумчиво и с благоговением.
— Да, конечно. Но прошло две тысячи лет. Так что этот род тоже раздробился. Мы говорим о множестве ветвей. Старший сын Иисуса был первым Великим Магистром. Это он добыл и запечатал золотой ларец. После смерти первого Великого Магистра его старший сын принял на себя ответственность за ларец. Ларец Святых Тайн передавался из рук в руки, от отца к старшему сыну, на протяжении столетий. А потом ларец пропал.
— Но что вы скажете о намеке на тот факт, что Иисус был основателем королевских родов Европы?
— Как и многое другое, это преувеличение. Но содержит зерно правды. Через несколько столетий потомки Иисуса породнились с династией Меровингов и стали частью рода, который сохранял королевскую власть в государстве франков до 751 года. Но почти никто, за исключением нескольких королевских особ и Великих Магистров, ничего не знал об этой истории. Это был секрет. Я говорю о бегстве Иисуса и о его потомках. А со временем и это превратилось в миф. В который даже самые посвященные не очень верили.
Я съедаю булочку и выпиваю сок. Нет, с меня довольно всех этих сказок.
— И что же, — спрашиваю я небрежно, — лежит в ларце?
Мак-Маллин смотрит на меня так, словно хочет, чтобы я забрал свой вопрос обратно.
Тогда я повторяю:
— Что внутри ларца?
— Мы думаем… — Он тянет с ответом. — Мы думаем, что там две вещи.
Он кладет руки на стол. Весь покрылся потом. Не хочет расставаться с тайной. Сказать правду постороннему человеку невозможно, он никогда этого не делал. Это претит ему. Но выбора у него нет. Я крепкий орешек.
Он смотрит на меня умоляюще:
— В последний раз, Бьорн… Ты отдашь ларец?
— Да, конечно.
Ответ ошеломляет его.
— Да?
— После того, как вы расскажете мне, что в нем.
Я чувствую, что последние, самые стойкие силы сопротивления сломлены.
Он зажмуривается.
— Описание, — говорит он. — Скорее всего, карта.
— Карта?
— Описание того, как найти могилу Иисуса. Скорее всего, она в пещере. Там покоятся его земные останки. Но еще более важно другое…
Он раскрывает глаза, но не глядит на меня.
Я молчу.
Он смотрит мимо меня.
— Евангелие от Иисуса, — выговаривает он. — Повествование, которое Иисус сам написал о своей жизни, деятельности, вере и своих сомнениях. И годах, прошедших после распятия.
Мак-Маллин отворачивается к окну и окидывает взглядом небо, ландшафт внизу, облака.
Короткими, быстрыми выдохами он выпускает тех маленьких дьяволов, которые бушуют сейчас у него в груди.
Я даю ему время прийти в себя.
Он поворачивается ко мне. Глаза пустые.
— Вот так обстоят дела, — вздыхает он.
— Манускрипт, — говорю я. — Манускрипт и карта.
— Мы так думаем.
Некоторое время мы сидим молча.
— Мы похожи сейчас на участников какого-то иудейского заговора, — замечаю я.
— Ты большой любитель конспирации.
— А вы, может быть, лидер иудейской сети, которая должна раз и навсегда доказать миру, что Иисус не был Сыном Божьим.
— Все может быть.
— Если Манускрипт докажет, что Иисус никогда не умирал на кресте, а значит, и не воскресал, это приведет к краху мирового религиозного порядка.
— Совершенно верно. Но я не приверженец иудейской веры.
— А если вы приверженец христианской веры, то в ваших интересах уничтожить предмет, который доказывает, что христианство построено на лжи.
— Снова поразительно точный анализ. Но я вовсе не скрываю, что миру не надо знать правды. Вот что я скажу прямо. Для всех будет лучше, если это останется тайной. Альтернатива слишком пугающая. Никто не получит выгоды от встречи с этой правдой. У нас нет права рвать историю на части. Ничего хорошего из этого не выйдет. Это будет стоить миллионов человеческих жизней. Отнимет веру у людей. Правда не стоит того. Ничто не стоит того.
— Манускрипт, написанный самим Иисусом… — говорю я тихо. — Указание, где находится его могила…
— Мы надеемся, что так оно и есть.
— Надеемся?
— Мы не можем быть абсолютно уверенными. Пока не вскроем ларец и не посмотрим. Но независимо от того, что хранится в ларце, мы знаем, что первый Великий Магистр — старший сын Иисуса — поставил на нем печать и берег, а затем передал своему старшему сыну, ставшему следующим Великим Магистром. Каждый из них посвятил свою жизнь сохранению ларца. Вплоть до момента, когда он для нас исчез. В монастыре Вэрне в 1204 году. А потом и в твоих руках, конечно. Еще через восемьсот лет.
— Ларец никогда не открывался?
— Конечно нет.
— Что с ним будет теперь?
— Я сам отвезу его в Институт Шиммера.
— Это меня не удивляет. Может быть, Петер — один из тех, кто его ждет?
— Петер конечно! Дэвид, Ури, Моше… И еще несколько дюжин самых известных ученых, нанятых СИС. Историков. Археологов. Теологов. Лингвистов. Филологов. Палеографов. Философов. Химиков.
— Вы пригласили всех своих друзей, как я вижу.
— Мы уже построили для ларца специальный корпус. Мы не можем рисковать. Слишком влажный или слишком сухой воздух, холод или жара могут привести к гибели Манускрипта. Наши ученые создали методику, которая постепенно адаптирует атмосферу в ларце к атмосфере в лаборатории. Само вскрытие ларца займет месяцы.
— Какой я молодец, что не взломал его у себя в кабинете.
Мак-Маллин вздрагивает.
— После того как мы наконец вскроем ларец, — продолжает он, — мы будем очень бережно извлекать содержимое. Один листок за другим. Возможно, что папирус разрушился, и листки надо будет склеивать кусочек за кусочком, как в головоломках. Придется фотографировать фрагменты и консервировать их. Мы не знаем, в каком состоянии их найдем. Но подобно тому, как ты можешь прочитать надпись на обгоревшем листке бумаги, мы сможем прочитать текст. Работа очень тяжелая. Сначала техническая, потом языковая. Мы должны будем разобрать знаки. Перевести. Понять их, исходя из контекста, из обстановки. Если речь идет о большом тексте, то работа займет годы. Много лет. Если мы обнаружим карту или указание, где находится могила Иисуса, то профессор Ллилеворт со своей командой археологов отправится туда. Все готово. Нам не хватает только ларца.
Я не знаю, куда деть глаза.
— Да-да, — вздыхает он, — все в твоей власти.
— Так и было все время.
— Я знаю. — Он смотрит в окно. Мы погружаемся в облако. — Бьорн. — Он поворачивается ко мне. — Пожалуйста. Ты отдашь мне ларец?
Его взгляд весит много тонн. Я смотрю на него. Теперь я понимаю, кто он. Не знаю, как долго я это осознавал. Но теперь не сомневаюсь.
У меня внутри что-то освобождается. Даже у самых больших упрямцев сила сопротивления ослабевает в какой-то момент. Я думаю о приключениях последних недель. О вранье. О ложных следах. О людях, которые меня подстерегали. Сейчас они выстроились в ряд. Все фрагменты головоломки на своих местах. Я вынужден принять объяснение Мак-Маллина. Потому что я ему верю. Потому что у меня нет выбора.
— Конечно, — киваю я.
Он наклоняет голову, как будто не понимая смысла моих слов.
— Вы получите ларец, — подтверждаю я.
— Спасибо.
Он молчит. Потом повторяет:
— Спасибо. Спасибо тебе.
— У меня вопрос.
— Это меня не удивляет.
— Почему вы мне все это рассказали?
— Разве у меня был выбор?
— Вы могли бы сочинить очередную ложь, в которую я поверил бы?
— Я пытался. Много раз. Но не получалось. Ты — недоверчивый дьявол. — Последние слова он произносит с усмешкой.
— А вдруг я это кому-нибудь расскажу?
На его лице задумчивое выражение.
— Такая возможность, конечно, существует.
— Я могу обратиться в газеты.
— Да.
— Могу написать книгу.
Он молчит.
— Конечно можешь, — соглашается он. Возникает короткая пауза. Потом добавляет лукаво: — Но кто же тебе поверит?
РАЗОРВАННЫЙ КРУГ
1.
Она выглядит как покойник. Маленькая, как у воробья, голова лежит на большой подушке. Кожа словно приклеена к черепу. Рот полуоткрыт, губы сухие, бесцветные. Зеленая кислородная трубка введена в нос и прикреплена к щеке белой клейкой лентой. Исхудавшие, покрытые синими пятнами руки скрещены на перине. На стойке капельницы висит пакет, из которого по трубке течет жидкость.
Ей дали отдельную палату. Хотели сделать лучше. Но я помню, как однажды она сказала, что больше всего в жизни она боится умереть в одиночестве!
Палата наполнена ярким светом. Я переношу стул, стоящий около раковины, к кровати. Стальные ножки царапают пол.
Я осторожно беру ее руку. Словно тонкий кожаный мешочек, набитый костями. Глажу по коже и распрямляю ее вялые пальцы в своей руке.
Звуки. Ее дыхание. Тиканье электронного аппарата. Рычание автомобильного двигателя на улице. Вздох. Ее вздох.
На стене над дверью висят часы, которые отстают на пять минут. Секундная стрелка дергается, чтобы поспеть за тиканьем. Что-то в часах явно не в порядке.
На ночном столике стоит букет в блестящей больничной вазе. Прикреплена визитная карточка. Можно прочитать сообщение, написанное от руки печатными буквами.
Peaceful journey, Grethe! Eternally Yours
МММ.[173]
Мак-Маллин открыл мне часть правды. И ничего больше. Часть правды. Возможно, что я ничего не знаю. Не знаю, в какое объяснение верить. Я не знаю даже того, надо ли верить в какое-нибудь из них. Но я знаю: как только я передам ларец Мак-Маллину, сам ларец и его содержимое исчезнут навсегда. Если они оберегали свою тайну две тысячи лет, они сумеют сохранить ее еще две тысячи. Монастырь Вэрне никогда не станет международным туристическим центром. Поля не превратятся в переполненные автостоянки, нетерпеливые американские туристы не будут стоять в очередях, чтобы взглянуть на расчищенный октагон под пуленепробиваемым стеклом или изучить копию — с переводом на шесть языков — манускрипта из ларца. Потому что все это будет тайной. Все будет так, как если бы никогда ничего не случилось.
Ее ресницы дрожат. Она открывает глаза. Взгляд тяжелый, мутный, исходящий из тьмы, где нет сновидений. Она медленно узнает меня.
— Малыш Бьорн, — шепчет она.
— Грета…
Глаза пытаются сосредоточиться на действительности, частью которой она больше не является.
— Ну и видок! — шепчет она.
Сначала я не отвечаю. Потом понимаю, что она имеет в виду.
— Я всего лишь загорел, — объясняю я.
Ее взгляд мутнеет. Вдруг она пугается.
— Ты нашел что-нибудь? — спрашивает она.
— Да, — отвечаю я.
И рассказываю ей все.
Потом она долго молчит. Только кивает сама себе. Как если бы ее ничто не удивило.
— Значит, дело было так, — выговаривает она наконец.
Тишина вокруг нас полна звуков.
— А как он? — спрашивает вдруг она.
— Кто?
— Майкл? С ним все в порядке?
— Да. Он прилетел в Осло вместе со мной. Но он не хотел… мешать.
— Он со мной. По-своему.
— Я скажу это ему.
— Всегда по-своему, — продолжает она и смотрит на цветы.
— Есть кое-что еще, — говорю я.
— Да?
— Ты и Мак-Маллин… — Я помогаю ей.
— Да. — Она шепчет, как будто от этого боль ослабевает. — Мак-Маллин и я. В Оксфорде. — Ее глаза нежно смотрят на меня. — Он такой благородный. Как ты. Благородный.
Я смотрю на часы, слежу за упорной борьбой секундной стрелки с часами.
— Как умер мой папа, Грета?
Она закрывает глаза:
— Бессмысленно.
— Но как?
— Он ревновал! Твою мать к Трюгве.
— Значит, он знал. И он тоже.
— Он не мог вынести, что твоя мать влюбилась в Трюгве.
— Понимаю.
— Но это не обязательно должно что-то значить. В перспективе. Она вернулась бы к нему. Но он не мог вынести, что его жена отдалась другому.
— И что случилось?
— Это не мое дело. И не твое.
— Но ты знаешь?
Она вздыхает.
— Пожалуйста, Грета. Что случилось?
— Не мучай меня этим сейчас, Малыш Бьорн!
— Пожалуйста.
— Спроси своего отчима, Малыш Бьорн. Он знает.
— Он убил папу?
— Нет.
— Маме известно, что случилось?
— Нет.
— Но как…
— Не спрашивай больше.
— Почему ты не хочешь мне это рассказать?
— Потому что так лучше.
— Лучше?
— Для тебя.
— Как это?
Ее глаза матовые, безжизненные.
— Ты пожалеешь.
— Пожалуйста!
Пальцы на перине вздрогнули, резко и нелепо.
— Поверь мне! Ты не захочешь этого знать!
— Захочу!
— Ну, если настаиваешь, — вздыхает она.
Она выжидает, потом продолжает:
— Ты, конечно, знаешь все о твоей матери и Трюгве…
Я опускаю глаза, как будто мне стыдно за свою мать.
Впрочем, так оно и есть.
— Я знал уже тогда.
— Они увлеклись друг другом.
— Странно, что все увлекаются друг другом.
— Такое бывает.
— И папа им помешал.
— Так всегда бывает, когда два человека находят друг друга и один из них принадлежит третьему.
— И они его убили?
Я удивляюсь тому, как буднично я задаю этот вопрос.
Она смотрит на меня.
Я продолжаю наступать:
— Оба участвовали? Или только профессор? Или мама вместе с ним?
Она стискивает зубы.
— Нет, — возражает она еле слышно, — дело было не так!
— Кто из них?
— Никто не убивал твоего отца.
— Но…
— Ты можешь успокоиться? Никто из них не убивал Биргера.
— Значит, это был несчастный случай?
— Нет.
— Я не понимаю.
— Хорошенько подумай, Малыш Бьорн.
Я думаю. Не помогает.
Тут в ней лопается какая-то струна. По щеке бежит слеза.
— Милый мой… — говорит она. — Это Трюгве должен был умереть в тот день. А не Биргер!
— Что?
— Теперь понимаешь? — спрашивает она. Злым голосом. — Это Трюгве должен был умереть!
Я пытаюсь собраться с мыслями, осознать услышанное.
— Ты понял, что я сказала?
Я пожимаю плечами:
— Нет…
— Это Биргер повредил страховку. Чтобы упал Трюгве.
Она отворачивается. Не в силах выдержать мой взгляд.
Как будто все это случилось по ее вине.
— В тот день должен был умереть Трюгве, — снова повторяет она. Коротко, холодно. — Перед отъездом Биргер рассказал мне, что он собирался… — Она останавливается. — Испортить крепления! Я не знаю как! Но так, чтобы она… Но только я не думала, что он на самом деле… Я не думала, никогда… Никогда! — Она поворачивается ко мне, ее рука ищет мою руку. — Твой отец пытался убить Трюгве. Но почему-то погиб сам.
Мы долго сидим и держим друг друга за руку. У меня не осталось слов. Только разрозненные картинки: серая блестящая скала, веревка, которая свертывается клубочком, крик мамы, горка одежды внизу у скалы, кровь. Ствол дерева позади меня, кора, которая царапает мне шею, когда я падаю, теряя сознание.
Я думаю, могли ли это знать мама и профессор все эти годы.
Грета дремлет. Я выхожу в коридор. Опускаюсь на стул прямо у дверей. Мысли мои скомканы. На противоположной стене от двери до двери я насчитываю пятнадцать плиток в высоту и сто сорок в ширину. Две тысячи сто серых плиток. На передвижном столике целый гербарий веток с увядшими цветами.
Немного спустя я опять захожу к ней. Глаза закрыты. Лежит тихо.
— Грета?
Невидимые нити держат ее веки. С трудом раскрываются глаза.
— Упорная старушенция, — пробует шутить она.
— Ты родила ребенка.
Полузакрытыми глазами она смотрит на меня. Взгляд резко изменился.
— Я встретил ее.
Грета смотрит в потолок.
— У нее все хорошо. Диана. Замечательная молодая женщина.
Улыбка на лице появляется откуда-то изнутри.
— Самая прекрасная маленькая девочка в мире. — Голос у нее хрупкий, тонкий. Улыбка теряет силу. — Ей нужна была не такая мать, как я. Во мне этого не было. Майкл — с ним по-другому. Я подумала, что так лучше. Пусть она останется у него. Пусть никогда не узнает обо мне.
Она сильно кашляет. Хочет что-то сказать. Я шикаю на нее, Ее губы шевелятся. Она что-то рассказывает, но голоса нет.
— Я останусь с тобой, — обещаю я.
— Как я устала, — шепчет она.
Я глажу ее руку. Она стонет. И смотрит на меня. Пытается что-то сказать, но язык не слушается. Кашляет. Даже кашель бессильный. Дыхание слабое, натужное.
Пробует подняться на локтях, но опускается.
— Отдохни, — шепчу я и глажу ее лоб. Холодный и влажный.
Проходит час.
Я держу ее руку. Она то засыпает, то просыпается. Иногда смотрит на меня.
Я медленно кладу ее руку на перину и спускаюсь в столовую, где съедаю сандвич, упакованный в целлофан и имеющий такой же вкус. Когда я возвращаюсь, рука Греты лежит точно там, где я оставил ее. Я беру ее и сжимаю. Чувствую, что она пытается ответить.
Так мы сидим долго. Наконец ее дыхание становится таким тихим, что я его не слышу. К нам долетают звуки из коридора. Негромкие шаги, приглушенный смех, хныкающий ребенок. Одна медсестра зовет другую.
Рука Греты совсем ослабла. Я пробую сжать ее. Она не может ответить. Мы могли бы сидеть здесь часами. Если бы не аппаратура. Какие-то провода, которые уходят к ней под больничную пижаму, подключены к аппарату с выключателями и экрану со светящимися цифрами. Машина начинает пищать. Одновременно из нее выходит полоса бумаги с двумя чернильными графиками. Грета вздрагивает. Раскрывает глаза и хрипит.
Я глажу ее руку.
Вбегает медсестра. Потом врач.
Я отпускаю руку. Она падает на перину. Поднимаясь, я хочу отойти назад и роняю стул, который с грохотом падает на пол. Я отступаю в сторону, чтобы дать дорогу врачу.
Он отключает аппарат. Писк прекращается. Тишина режет ухо. Он прижимает пальцы к шее Греты и кивает медсестре. Осторожно расстегивает пижаму Греты и приставляет стетоскоп к груди.
— Вы ничего не будете делать? — спрашиваю я.
— Так будет лучше, — отвечает врач.
Медсестра гладит меня по руке:
— Вы ее сын?
Врач закрывает Грете глаза.
За окном я вижу человека, который балансирует на лесах.
— В известном смысле, — отзываюсь я.
Мы молчим.
— Теперь ей хорошо. — Медсестра сжимает мою руку.
Я смотрю на Грету.
— Хотите побыть с ней один? — спрашивает медсестра.
— Один?
— Перед тем как мы приведем ее в порядок? И отвезем вниз?
— Не знаю…
— Если вы хотите…
— Не важно.
— Мы можем выйти на несколько минут.
— Очень любезно. Спасибо, не надо.
— Только скажите.
— Спасибо. Очень любезно. Но это не нужно.
И все-таки они выходят и оставляют меня одного с ней.
Я пытаюсь найти понимание, тепло, покой в ее лице. Но она выглядит мертвой, и только.
Я выхожу из палаты не оглядываясь. Когда я покидаю больницу, начинается легкий моросящий дождь.
2.
Мы сидим в моей Болле и смотрим сквозь лобовое стекло на территорию раскопок за оранжевой пластиковой сеткой. Дождь льет не переставая. Палатки собраны. Большая часть оборудования все еще в запертом контейнере. Ветер гуляет по полю, разбрызгивая струи дождя. Пластиковые таблички на разграничительных шестах полощутся, как вымпелы. Мой режиссерский стул лежит
около зарослей черемухи. Никто не позаботился спрятать его в контейнер.
Я вспоминаю квадратики раскопов, профессора под полотняным тентом, Моше и Яна, которые мотались от участка к участку, как жаждущие крови комары.
Когда профессор Ллилеворт исчез, работа остановилась. Все теперь думают только о том, что будет до того, как придет бульдозер и завалит плодородной почвой все раскопы.
Я поворачиваюсь к Майклу Мак-Маллину.
— Она спрашивала про вас, — говорю я.
Он смотрит в пространство. Запавшие глаза увлажнились.
— Это было так давно. — Он обращается сам к себе. — Другая жизнь. Другое время. Скоро наступит мой черед. И тогда я, может быть, встречу ее.
Его старое лицо напоминает пергамент, но чувствуется юношеский жар, нетерпение. Сейчас он выглядит даже моложе, чем всегда. Как будто сознание того, что сейчас он близок к цели, зажигает у него внутри лампочку, которая просвечивает через тонкий слой кожи.
Что-то внутри меня вздрагивает.
— Кто вы? — спрашиваю я.
Сначала он молчит. Потом отвечает:
— Ты это уже понял. Если спрашиваешь.
Тишина вибрирует между нами.
Он потирает ладони:
— Ты парень неглупый.
Не веря самому себе, я говорю:
— Я знаю, кто вы. Сейчас я все понял.
— Вот как?
— Вы не просто член Совета, ведь так?
Он сухо смеется.
Я не спускаю с него глаз. Он распрямляет пальцы. На ногтях маникюр. На левой руке я впервые замечаю кольцо с печаткой и огромный опал.
Я издаю негромкий свист:
— Вы — Великий Магистр!
Он открывает рот, чтобы что-то сказать. Щеки пламенеют.
— Я? Бьорн, ты должен понять. Только двенадцать человек в мире знают, кто Великий Магистр. Двенадцать человек!
— И вы — Великий Магистр!
— Я не имею права отвечать на твой вопрос, — говорит он.
— А это не вопрос.
— И все же…
— Боже мой, — хохочу я. — Вы — Великий Магистр!
— Может быть, пора ехать за ларцом? — спрашивает он.
Мне требуется время, чтобы прийти в себя. Поверить невозможно. Я изучаю его. Долго. Эзотерические черты лица. Теплый мягкий взгляд.
— Вот что хотела сказать Диана, — размышляю я. — Она ваш единственный ребенок.
Он смотрит на меня.
— Поедем за ларцом? — повторяет он свой вопрос.
— Нам не нужно ехать.
Он вопросительно смотрит на меня.
— Он здесь.
Растерянно:
— Здесь? — Он вглядывается в дождь.
— Хотите взглянуть на октагон?
— Ларец здесь?
— Идем со мной!
Мы выходим из машины под дождь. Я проскальзываю в щелку в оранжевой пластиковой сетке с надписью «Вход воспрещен!» и придерживаю сетку, чтобы прошел Мак-Маллин. Из-за наших перемещений с сетки льется вода.
Около раскопа я останавливаюсь. Мак-Маллин смотрит вниз, на восьмиугольный фундамент.
— Октагон! — только и произносит он. В его интонациях появилось что-то молитвенное.
Дождь смыл остатки земли с камней, которые возвышаются над грязью.
— Октагон, — повторяю я.
Он нетерпеливо восклицает:
— Можем мы увидеть ларец?
Я спрыгиваю в раскоп, присаживаюсь на корточки и начинаю копать.
Только сейчас до него доходит.
Мак-Маллин начинает смеяться. Сначала тихо. Потом громко хохочет.
И пока он смеется, пока его смех перекатывается по всем раскопам и полоскам поля через струи дождя, я извлекаю ларец из тайника. Того самого места, где мы его нашли. Последнего места, где они стали бы его искать.
Земля хлюпает и цепляется за сумку, когда я вытаскиваю ее из грязи. Я осторожно поворачиваюсь и протягиваю ларец Майклу Мак-Маллину.
Вокруг нас запах земли и дождя, едкий и вечный.
3.
Дрожащей рукой я продолжаю плести мою паутину воспоминаний.
За окном бабушкиного дачного домика листочки упорно не хотят отрываться от веток дуба. Как будто не понимают, что скоро придет осень и заберет их.
В тот давний вечер, когда я признался Грете в любви, она отвергла меня так нежно и заботливо, что мне еще долго потом казалось, будто она скрывает свои глубокие чувства ко мне. Я плелся из ее квартиры в районе Фрогнер в студенческую комнатушку в Грюнерлёккен под мелким дождем. Я весь промок. Я до сих пор помню ее прощальные слова. Она сидела, держа мою руку в своей, и нежно гладила ее, словно мать, утешающая сына.
— Ничто никогда не кончается, — говорила она, — все продолжается, только по-другому.
Мужчины в красном «рейнджровере» уехали вместе с Мак-Маллином. Они стояли и смотрели, когда я ставил Боллу перед домом. Они, вероятно, всегда рядом с ним.
Перед отъездом Мак-Маллин пожал мне руку и сказал, что я сделал все правильно.
Я его видел в последний раз.
Когда «рейнджровер» выехал на шоссе и красные габаритные огни скрылись в листве, я отпер дверь и по скрипящей лестнице поднялся в свою детскую комнату.
Конечно, они побывали здесь.
Как незримые духи, они обыскали дом от подвала до чердака. Не оставив ни единого следа. Они забрали все вещи Дианы. Но безгрешными их назвать нельзя. Четыре шелковых шнура свешиваются со стоек кровати. Может быть, они подумали, что это мое. И представили себе все остальное.
4.
Я придвигаю письменный стол к окну и вынимаю дневник. Капли дождя бегут по запотевшему стеклу. За паутиной следов от капель фьорд напоминает тихую реку — блестящую и холодную за голым кустарником.
Моя кожа горит и чешется.
Я думаю. И пишу. Слова превращаются в ничто. Слова о событиях, которые словно никогда не происходили, о людях, которые словно никогда не существовали. Непрочные, тщеславные. Похожие на слова из забытой книги, которую ты когда-то прочитал и сунул на полку, чтобы никогда к ней не возвращаться.
Так закончилась эта история. Вернее, так могла закончиться эта история. Потому что, по сути дела, никогда не бывает конца. Все продолжается, только по-другому. Где начинается и где кончается кольцо?
После того как Мак-Маллин тихо-мирно получил ларец, я остался в доме своих бабушки и дедушки — за неимением другого объяснения — для того, чтобы собраться с мыслями. В последующие дни я ждал окончания, но оно не приходило. Каждый вечер я надеялся, что кто-нибудь постучит в дверь — Диана, Мак-Маллин, Ллилеворт, Петер. Или что кто-нибудь позвонит. Но ничего не происходило.
Через неделю я отключил воду, отказался от надежд и поехал домой в Осло.
Медленно и послушно я вернулся в свою старую жизнь.
Каждое утро я шел к перекрестку Стурукрюссет и затем ехал на трамвае до центра. На работе я выполнял все возложенные на меня обязанности вяло и равнодушно. Иногда меня спрашивали, что же, собственно говоря, случилось там, в монастыре Вэрне, минувшим летом. Но я обходился отговорками.
Иногда, когда зимняя темнота была уж очень тягостной, ко мне являлась Диана, и я ощущал ее сладость, ее аромат и тоску по ней. Бывало и так, что я брал телефонную трубку и набирал все цифры ее номера, кроме последней. Со временем я настолько осмелел, что давал даже прозвучать звонку пару раз и только потом клал трубку. Однажды субботним утром я стал ждать, когда она подойдет к телефону. Я только хотел поздравить ее с Новым годом. Но Диана не подошла. Очевидно, она была привязана к чему-то, вроде кроватных стоек. Я звонил до тех пор, пока сонный мужской голос не спросил меня, кто я такой и что мне надо.
Однажды в январе я потерял связь с действительностью. Не помню точно, когда или как это произошло. Но несколько дней я не ходил на работу. Профессор и мама нашли меня сидящим в комнате моей квартиры. На машине «скорой помощи» меня доставили в больницу. У меня было чувство, что я вернулся домой. В больнице можно не притворяться. Не делать вид, будто солнце сияет, а завтра будет еще лучше, чем сегодня. Кажется, что больше нет непреодолимой синей сверкающей горы, которая в тумане отделяет тебя от залитой солнцем долины, где ты мог бы жить, как счастливый хоббит в лесу возле журчащего ручья. В больнице ты можешь нырнуть в бушующее море и утонуть в нем. И оставаться на дне столько, сколько захочешь. В водолазном колоколе твоей жизни.
По прошествии нескольких месяцев ожиданий и размышлений я пришел к выводу, что меня надули. Я увидел слабые места их объяснений, промахи в логике, вопиющие дыры в их ответах. Я убедил себя, что стал жертвой хорошо спланированного и великолепно поставленного представления. Что я сыграл роль простодушного легковерного Стража с таким блеском, что мое имя уже вписано на постамент одной из фигурок Оскара. «Спасибо! Спасибо! Прежде всего хотелось бы поблагодарить моих маму и папу…» Я представил себе, как все сидели и сотрясались от смеха.
Хотя я прижимал руки к ушам и качался взад и вперед, я продолжал слышать их громкий истерический смех. «Машины времени!» — хором кричали Ллилеворт и Арнтцен. «Летающие тарелки!» — икая, вопил Энтони Лукас Уинтроп-младший. «Библейские манускрипты!» — орал Петер Леви. «Конспирация Иисуса!» — хохотал Мак-Маллин. «Сокровища Меровингов!» — взвизгивали Диана и мама. И все били себя по ляжкам и вертелись. Как-то раз, пуская от ярости слюну, я позвонил в СИС и потребовал, чтобы меня соединили с Мак-Маллином. Его, конечно, не было на месте. Я тщетно пытался узнать его телефонный номер в Рене-ле-Шато; там никто никогда о нем не слышал. Я много раз звонил в Институт Шиммера, но ни разу не смог пробиться через хорошо отлаженную сетку вежливых отказов коммутатора.
Понемногу таяли гнев и возмущение. Ладно, меня надули. Не беда! Я дал им настоящий бой. В конечном счете вряд ли для благополучия человечества важно, что ларец после восьмисотлетнего пребывания в земле попал в руки злодеев, а не под стекло в сонном музее на Фредериксгате. Именно благодаря Мак-Маллину он вообще был обнаружен. Иначе земля скрывала бы ларец еще восемьсот лет. Таинственность ларца ему по душе. Пусть там даже эликсир, гарантирующий вечную жизнь.
Меня объявили выздоровевшим и в мае отпустили домой. Мама приехала за мной на «мерседесе» и даже проводила до десятого этажа.
В конце июня я поехал в усадьбу у фьорда. В отпуск на сей раз. По пути я заехал в монастырь Вэрне. Все было увезено. Крестьянин сравнял все наши холмики и засеял поле зерном. Только один раскоп вокруг октагона оставался огороженным оранжевой пластиковой сеткой. Археологические власти до сих пор размышляют, что делать с этим памятником древности.
Когда я открыл дверь дома, мне показалось, что меня встретил аромат духов Дианы. Зачарованно стоял я, держась за косяк двери. Я уже готов был услышать ее голос: «Привет, милый. Как ты поздно!» — и получить страстный поцелуй в щеку. Но когда я открыл глаза и принюхался, то почувствовал только запах затхлого воздуха и пыли.
Я молча побродил по комнатам, отодвинул занавески, смел дохлых мух, открыл окна и потратил некоторое время на то, чтобы включить после зимы воду.
Потом началось лето, время отдыха. Солнечные дни и теплые вечера шли друг за другом в приятном однообразии.
Я сижу на террасе под солнцем в шортах цвета хаки и сандалиях. По радио передают бесконечный прогноз погоды. Очень жарко. Далеко в дымке колышется Болерне. Прямо через фьорд Хортен и Осгорстранн — неясные точки на голубой полосе берега. Я чувствую глубокий покой. Иду за пивом и открываю его. Молодежь, собравшаяся на берегу у трамплина, подняла громкий крик. С визгом летит в воду девушка. Следом прыгает юноша. Вялым движением я отгоняю осу, проявившую несвоевременный интерес к моей бутылке. Две чайки висят в воздухе и борются с ветром.
Внезапная мысль заставляет меня отправиться в путь к воротам и проверить, нет ли почты. Среди рекламных брошюр и мятых информационных листков я нахожу большой желто-коричневый конверт. Трудно сказать, сколько времени он здесь пролежал. На конверте не обозначен отправитель. Но штамп места отправки — Франция.
Как сомнамбула, я беру конверт и иду в свою комнату на чердак. Открываю конверт ножничками для ногтей и вываливаю содержимое на письменный стол.
Короткое письмо. Вырезка из газеты. Фотография.
Письмо написано от руки, почерк нечеткий, витиеватый.
Рене-ле-Шато, 14 июля
Господин Б. Белтэ!
Вы меня не знаете, мое имя Марсель Авиньон. Я был сельским врачом здесь, в Рене-ле-Шато, сейчас на пенсии. Обращаюсь к Вам по просьбе нашего общего друга Майкла Мак-Маллина, который оставил мне Ваше имя и летний адрес. Мне больно сообщать Вам, что гранд-сеньор Мак-Маллин умер минувшей ночью. Он тихо заснул после короткой и, к счастью, не доставившей страданий болезни. Была половина пятого, когда он покинул нас. Вместе с его дорогой дочерью Дианой, которая провела эту ночь рядом с ним, я находился у его ложа в последние часы. Одним из его самых последних дел было проинструктировать меня, что надо Вам написать и что приложить к письму. Он сказал также, чтобы Вы (и тут я вынужден опираться на свою слабеющую память), «будучи крепким орешком, делали с известной Вам информацией абсолютно все, что Вы, захотите». От себя я добавлю, что он произнес эти слова с проникновенностью, убедившей меня, что Вы были его другом, которого он невероятно высоко ценил. Поэтому для меня большая честь и радость выполнить, маленькое поручение Мак-Маллина, а именно послать Вам газетную вырезку и фотографию. Он подумал, что Вам не составит труда увидеть между ними связь. Надеюсь, что Вы разберетесь, потому что в этом я Вам не помощник. Позвольте в заключение выразить Вам самое искреннее соболезнование, так как я предполагаю, что потеря Вашего друга причинит Вам такую же боль, какую она причинила мне. Если я смогу в дальнейшем чем-то Вам помочь, обращайтесь немедля к нижеподписавшемуся.
Преданный Вам М. Авиньон
Фотография — черно-белая. На ней фрагмент древнего манускрипта, лежащий на матовом стекле с подсветкой снизу. Рука в латексной перчатке смахивает невидимую пыль.
Это похоже на головоломку из листков папируса, хаотическое собрание обрывков. Знаки мне непонятны. Почерк ровный, прямой.
Глаза мои увлажнились.
Манускрипт…
Несмотря на то что не могу прочитать написанное или расшифровать эти чужие мне знаки, я продолжаю сидеть и изучать их. Не знаю, как долго это продолжается. Но когда я прихожу в себя, тяжело дыша, склонясь над письменным столом, у своего дневника, раскрытого рядом с фотографией и газетной вырезкой, на часах уже около одиннадцати.
Вырезка из газеты «Ла-Депеш дю Миди», выходящей в Тулузе:
СВЯЩЕННИКИ ПРОТЕСТУЮТ ПРОТИВ РЕСТАВРАЦИИ ДРЕВНЕЙ ЦЕРКВИ ЛЕ-ЛЬЮ
Безье. Несколько человек, среди них два священника, были вчера днем задержаны полицией во время несанкционированной демонстрации у древней церкви Ле-Лью, которую в народе обычно называют «Упокоение Христа».
Обветшавшая церковь, расположенная в километре к западу от Безье, была в минувшем месяце куплена за пять миллионов франков неким финансистом из Лондона. Согласно сведениям, которыми располагает «Ла-Депеш дю Миди», сенсационная покупка была одобрена местными властями под давлением правительства.
Как говорит знаменитый британский археолог профессор Грэм Ллилеворт, возглавляющий работы в церкви, неизвестный инвестор выразил «настойчивое желание путем реставрации вернуть церкви роскошь давних времен». Критики горячо протестуют против этих работ, которые предусматривают полный снос церкви и ее последующее восстановление по кирпичику. «Святотатство!» — восклицает Жан Бовари, один из двух священников, участвовавших во вчерашней акции.
Еще более разожгло слухи то, что археологи построили трехметровую стену вокруг места работ, ночью там яркое, как днем, освещение, а собственные охранники патрулируют территорию и удерживают на расстоянии всех любопытных. Профессор Грэм Ллилеворт заявляет: «Общепринято, чтобы любые археологические работы происходили в изоляции от населения».
Согласно местным легендам, эта церковь построена над пещерой в горе, где, как принято считать, похоронен неизвестный святой. Священник Жан Бовари, который руководит только что созданным Комитетом поддержки Ле-Лью, сообщил, что эта церковь является одной из старейших на Пиренеях и, вероятно, во всей Франции.
«Церковь в том виде, в каком мы ее наблюдаем сегодня, была построена в 1198 году, — рассказывает Бовари. — Но мы можем с уверенностью утверждать, что фрагменты первоначальной церкви, так называемая восточная часть и руины в парке, относятся к 350 году от Рождества Христова. Но если верить местным преданиям, еще раньше на этом месте находилась какая-то святыня».
Бовари опасается, что археологи попытаются добраться до пещеры в горе, которая, согласно легенде, находится под алтарем и опечатана. «Пусть усопшие покоятся с миром!» — говорит он.
Профессор Грэм Ллилеворт отрицает, что они ищут вышеупомянутую могилу. «То, что под церковью расположена какая-то могила или пещера, нам неизвестно, — утверждает он. — В случае, если это подтвердится, мы, разумеется, с уважением отнесемся к умершим».
Я задумчиво разглядываю письмо, газетную вырезку, фотографию папирусного манускрипта.
Я думаю о Диане и Грете. О Майкле Мак-Маллине. О монастыре в пустыне. О том, что скрывается под церковью в Безье.
Смотрю в окно. Жар любопытства разгорается во мне. Впереди ждут новые загадки. Вопросы.
Внизу, в комнате, скрипят дедушкины часы. Они тикают и идут, но всегда неправильно. Эти часы живут в своем времени и довольны этим. Неожиданно начинают бить. Тринадцать минут двенадцатого.
Дин-дан-дон!
Руки у меня чешутся. Неуемное стремление. Узнать. Потом понять.
Перо скрипит по бумаге. Паутина слов и воспоминаний опутывает меня. Но всегда есть место для нового. Ничто и никогда не кончается. В нетерпении я закрываю мой дневник. История не закончилась. Я должен только выяснить ее продолжение.
От автора
Ни одна книга не возникает без других книг.
Древний, основанный иоаннитами монастырь Вэрне — со своими археологическими загадками и своей мистикой — и сегодня можно найти, если отправиться через Мосс в сторону Фулевика. Информацию о монастыре Вэрне и трехсотлетнем пребывании иоаннитов в Норвегии я нашел, в частности, в книгах:
Cårder og slegter i Rygge (1957) и
Bygdehis-torien i Rygge inntil 1800 (1957).[174]
Если вас заинтересовали теории и тайны вокруг Беренжера Соньера и Рене-ле-Шато, я отсылаю к книге:
Michael Baigent, Richard Leigh, Henry Lincoln. The Holy Blood and The Holy Grail.[175] Хотя я широко использовал их спорные гипотезы, я затронул только самый верхний слой их теорий о религиозных тайнах.
Для более глубокого анализа вопросов о соотношении исторического и богоданного Иисуса я рекомендую тонкую, но умную книгу:
Jacob Jewells. Den historiske Jesus (1962).
[176]
Спасибо Тому Коху с телевизионного канала WBGH. Я использовал многое из его документального сериала «От Иисуса к Христу».
Евангелие Q существует как гипотеза. Ученые из Института античности и христианства в Калифорнии реконструировали Евангелие Q — каждое слово, каждый стих. Евангелие от Фомы было впервые опубликовано на норвежском языке уже после выхода моего романа «Разорванный круг».
Если у вас есть доступ к Интернету и вы хотите поглубже познакомиться с теми теориями и мыслями, которые встречаются в этой книге, то больше информации и ссылок на релевантные места в Интернете можно найти на сайте этой книги:
Благодарю терпеливых специалистов, которые помогали мне, сообщали информацию, знакомили с различными теориями, давали советы и корректировали: Университет Осло (особенно Институт археологии), Инспекцию по охране памятников, Британский музей, OERN (Европейскую лабораторию физики ядерных частиц).
Спасибо Юну Гангдалу, Себьёргу И. Хальворсену и Анне Ведер Осен.
За чтение рукописи и ценные замечания я благодарю Кнюта Линда, Улава Ньостада, Иду Дюпвик и, как всегда, Осе Мюрволд Эгеланн.
Ни одна книга, ни один специалист, помощью которых я воспользовался, не несут ответственности за паутину мыслей и многочисленные поэтические вольности, которые я себе позволил.
Самую большую благодарность заслужили: Осе, Йорунн, Вегард и Астрид… на данный момент.
Том Эгеланн
Послесловие
«РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» И «КОД ДА ВИНЧИ» — ИСТОЧНИКИ И ИГРА МЫСЛЕЙ
А что если…
С этих слов начинается работа каждого автора, та работа, которая со временем — впрочем, не всегда — становится книгой.
А что если…
Первый замысел книги «Разорванный круг» возник из такой игры мыслей: а что если археолог найдет клад со старинным манускриптом, который сможет изменить ход мировой истории.
Правда, от идеи до самого романа очень далеко. В течение пяти лет, пока я собирал материал и писал задуманную книгу, я много раз порывался сделать ее стопроцентным триллером — с агентами Ватикана, фанатиками-убийцами, перестрелками и захватывающими дух погонями. Но Бьорн Белтэ сюда не вписывался. Тогда я решил: пусть «Разорванный круг» будет тихой книгой о некоей загадке.
Когда осенью 2000 года я принес рукопись в издательство
«Aschehoug», то назвал ее криминальным романом без преступления. Интрига строилась как в криминальном романе, разве что отсутствовало убийство — единственным преступлением в романе была такая, казалось бы, совершенно неинтересная история, как нарушение норвежского закона о сохранении культурного наследия, так что драматическим двигателем действия стало нагнетание загадочных обстоятельств.
Роман «Разорванный круг» был опубликован на Пасху 2001 года. Будучи главной новинкой Книжного клуба «Сегодняшняя книга», он продавался по норвежским меркам очень хорошо. Но, как и большинство книг вообще, был сразу практически забыт.
«Код да Винчи»: успех до публикации
18 марта 2003 года — два года спустя после того, как издательство
«Aschehoug» выпустило «Разорванный круг», — вышел триллер, который стал невольной причиной того, что вы держите в руках именно
эту книгу и что «Разорванный круг» в ближайшее время будет опубликован в Швеции, Дании, Финляндии и Бразилии.
Уже в самый первый день продаж роман неизвестного писателя Дэна Брауна «Код да Винчи» был продан в количестве 6000 экземпляров.
Дэн Браун родился в семье математика и музыканта, окончив университет, переехал в Калифорнию, где зарабатывал на жизнь как поп-музыкант, композитор, пианист и певец. В 1993 году он вернулся в Нью-Хэмпшир и стал преподавать английский язык. Пять лет спустя он издал свой первый триллер «Цифровая крепость» (1998), за ним последовали «Ангелы и демоны» (2000) и «Точка обмана» (2001). Три книги были проданы суммарным тиражом в 20 000 экземпляров.
Когда редактор Дэна Брауна перешел из издательства
«Pocket Books» в большое, всеми признанное издательство
«Doubleday», он забрал с собой все книги Дэна Брауна.
«Dan who?»[177] — спросили в издательстве. Это было до того, как Браун подал заявку на новый роман, который в это время обдумывал. А что если… Издательство загорелось (скажем осторожно), услышав о его идее. Купило права на издание. И Дэн Браун начал писать «Код да Винчи».
Всем авторам и издателям отлично известно, что некоторые книги могут совершить невероятный, неожиданный взлет — стать суперновой звездой на мерцающем небе литературы. Иногда это случается благодаря литературным качествам книги. В других случаях все решает механика книжного рынка. Недостаточно, чтобы книга была хорошей. Книга должна прийти на рынок в нужный момент.
Почему «Коду да Винчи» выпал всемирный успех?
«Это триллер для тех, кто не любит триллеры», — утверждало издательство. «Увлекательно, призывает к размышлению, много информации», — вторили восторженные читатели.
«Код да Винчи», вопреки сложной тематике из области теологии, истории и символов, является легкочитаемой книгой. Она призывает нас мыслить. Возбуждает. Дает ощущение знакомства с чем-то новым. «Умберто Эко на стероидах», — лаконично констатировала
«The San Francisco Chronicle».
Но успеху способствовал также эффект снежного кома, сработавший на книжном рынке.
Чтобы увеличить интерес к роману Брауна, издательство
«Doubleday» послало целых 10 000 экземпляров до выхода книги критикам и наиболее известным книготорговцам — это больше, чем суммарный тираж обычного американского романа в твердой обложке. Они хотели создать из книги супербестселлер. Хотели показать, что книга абсолютно неизвестного автора может стать «настоящей историей» в издательском деле. Задолго до официального выхода «Код да Винчи» стал темой обсуждения в мире издателей. Предварительный интерес достиг апогея, когда
«The New York Times» сделала нечто беспрецедентное, опубликовав до официального выхода книги рецензию, которую можно выразить одним словом «ВАУ!». Рецензия была напечатана 7 марта 2003 года на первой полосе раздела культуры.
«Код да Винчи» стал самопровозглашенным пророчеством, которое сбылось, и сладкой мечтой отдела сбыта: издательство подготовило массивную рекламную кампанию и беспримерную рассылку книги по книжным магазинам США. Оно отправило Дэна Брауна в длительное рекламное турне. И так как книгопродавцы поверили в обещание издательства, что этот триллер будет иметь феноменальный успех, большинство заказало такое количество экземпляров, что для того, чтобы впоследствии не остаться наедине с забитыми книгой складами, словно обоями обклеило витрины «Кодом да Винчи».
Их опасения не оправдались.
«Код да Винчи» стал
книгой, которую надо прочитать. Все о ней говорили. Книга-экшен для мужчин и в то же время книга, требующая размышлений, с глубоким уважением к женским ценностям. Книга, которая обращалась к женщинам и мужчинам, к интеллектуалам и читателям, требующим интересного действия. За первую неделю было продано более 25 000 экземпляров книги, роман ворвался в список бестселлеров. И остается там до сих пор. В момент, когда я пишу эти строки, тираж книги достиг астрономических пределов — 12 000 000 экземпляров, напечатанных минимум на 12 языках. «Код да Винчи» давно вошел в историю издательского дела.
В Норвегии издательство
«Bazar», которое, кстати говоря, публикует книгу «Разорванный круг» в Швеции, Дании и Финляндии, купило права на выпуск «Кода да Винчи». Это общескандинавское с базой в Норвегии издательство было создано Эйвинном Хагеном в 1922 году. Хаген обнаружил успешную книгу Дэна Брауна задолго до своих скандинавских конкурентов. Еще раньше он опубликовал «Алхимика» и другие книги Пауло Коэльо в Скандинавии, а в 1998 году положил глаз на книгу, в которую больше никто в Скандинавии не поверил, — «Гарри Поттера». В настоящий момент «Код да Винчи» опубликован в Норвегии тиражом более 125 000 экземпляров и находится в списках бестселлеров с мая 2004 года.
И эти строки я пишу задолго до рождественской распродажи.
Сходства и различия
Какое отношение «Код да Винчи» имеет к «Разорванному кругу»?
Никакого.
Никакого, если не считать ряда смешных и совершенно случайных совпадений.
Хотя «Разорванный круг» и «Код да Винчи» абсолютно непохожи, их легко сравнивать друг с другом. Вот как я ответил в сентябре 2004 года Кайе Корсволл из газеты
«Aftenposten», когда она делала репортаж о сходстве наших с Дэном Брауном книг: «Я рад, что написал свою книгу раньше. Иначе меня, пожалуй, могли бы обвинить в плагиате».
Потому что:
— обе книги рассказывают о загадках, связанных с Иисусом Христом;
— обе книги критически относятся к догмам и легендам об Иисусе Христе;
— обе книги содержат в себе намек, что Церковь в более позднее время подогнала учение Иисуса к потребностям Отцов Церкви;
— обе книги утверждают, что Иисус женился на Марии Магдалине и что от их потомков происходят некоторые королевские фамилии в Европе;
— обе книги базируются на теориях, опубликованных в книге
«The Holy Blood and The Holy Grail»;[178]
— обе книги широко используют теологические теории конспирации;
— обе книги говорят о тайных орденах, братствах и масонах;
— в обеих книгах в качестве одного из главных героев выступает, как ни странно, альбинос;
— в обеих книгах главный герой ученый, путешествующий в поисках разгадки некой тайны;
— обе книги апеллируют к нашей тяге к неизвестному, скрытому, находящемуся в тумане — и раскрывают тайны, в которые на протяжении веков были посвящены лишь немногие.
Именно эти сходства втягивают «Разорванный круг» в водоворот рыночных страстей, крутящийся вокруг «Кода да Винчи».
Легко, однако, указать и на различия двух книг. «Код да Винчи», имея американское происхождение, особо критически относится к точкам зрения и догмам Католической церкви. К псевдоисторической основе добавляется история искусств. В «Разорванном круге» за основу взята археология. Так что археолог-альбинос Бьорн Белтэ вовсе не Индиана Джонс. «Разорванный круг» — тихое, иногда слишком медленное повествование, Дэн Браун создает бешеную гонку невероятных масштабов, интеллектуальный ребус в упаковке экшен-триллера, рассказ о Джеймсе Бонде-ученом, который нас увлекает и развлекает. Он расширяет наши знания обо всем на свете — от истории искусств до теологии. Или не так?
Истина или не истина?
На гребне оглушительного успеха «Кода да Винчи» возникла совершенно неожиданная международная литературная дискуссия. О содержании и тезисах книги, о нечетких границах между истиной и сочинительством, между наукой и литературным творчеством.
Волны дискуссии особо заметны среди христиан, но наблюдаются также среди историков, искусствоведов и, конечно, теологов. Хотя сам Дэн Браун подчеркивает, что «Код да Винчи» был и остается романом, он в своем вступлении к книге и в еще большей степени в интервью, а также на собственном сайте заявляет, что многие идеи — от тайны Священного Грааля и скрытых намеков в произведениях Леонардо да Винчи до сущности заповедей Иисуса, Сионского и других тайных орденов — доказаны и аргументированы и зачастую опираются на державшиеся ранее в тайне истины. Роман, да, конечно, но роман, который раскрывает исторические тайны.
Представление многих читателей о том, что в основу «Кода да Винчи» положена истина, привело к появлению многочисленных дискуссий в Интернете и статей в газетах по всему миру. В Норвегии движение критиков возглавил Бьорн Аре Давидсен, который в статье
«Aftenposten» от 30 июля 2004 года разгромил рецензентов, слепо поклонявшихся Дэну Брауну и восторгавшихся его «научным шедевром». В Норвегии большая часть дискуссий происходила в Интернете и на страницах газет, отведенных для писем читателей. Историк религии Асбьорн Дюрендал написал в Интернете рецензию «Шум вокруг „Кода да Винчи“», где очень тщательно проанализировал многие теологические и искусствоведческие положения книги. Одно из утверждений Дюрендала состоит в том, что Дэн Браун, выстраивая криминальную интригу на ранее скрывавшейся истине, приглашает своих читателей к обсуждению и спорам и тем самым увеличивает интерес к книге и ее продаже.
«Код да Винчи» привел к публикации целого ряда схожих между собой книг, которые на фактической и научной основе атакуют положения романа (эти книги не только сами хорошо продаются в свете успеха «Кода да Винчи», но, как ни парадоксально это звучит, привлекают еще больше внимания и поднимают еще больший шум вокруг Дэна Брауна — получается, так сказать, коммерческий вечный двигатель). На сайте издательства «Игнатиус» авторы Карл Улсон и Сандра Мисель, написавшие критическую книгу
«The Da Vinci Hoax» («Блеф да Винчи»), разбирают положения романа Дэна Брауна. Многие тезисы Дэна Брауна из области теологии и истории искусств анализируются и опровергаются. Они не выдерживают никакой критики. Нет теологического или исторического обоснования утверждению, что Иисус был, по сути, философом-гностиком, или тому, что Леонардо да Винчи прятал тайные сообщения о христианстве в свои художественные произведения. Леонардо был, пожалуй, и правда хитрецом, однако надо иметь очень сильно развитые конспираторские способности и чрезвычайно богатую фантазию, чтобы высмотреть Марию Магдалину на картине «Тайная вечеря» или найти исторические разоблачения в других его всемирно известных произведениях.
Дэн Браун сделал в точности то, что делает большинство авторов романов: он искал легкодоступный материал, который подходил бы для фиктивной истории, и затем расцветил его. Таким образом он нашел и извлек на свет несколько увлекательных теорий, тезисов и мыслей для своей выдуманной истории. Очень немногие из них являются новыми и уж тем более истинными. Новое же заключается в том, что книга, проданная тиражом 12 000 000 экземпляров, донесла до огромной читательской массы мысли, которые раньше тихо и мирно таились в рамках дискуссий оккультных групп и малотиражных брошюрках для особо интересующихся.
Самые враждебные критики, по-видимому, ставят Дэну Брауну в упрек, что он вытащил на свет столь, мягко говоря, недокументированные альтернативные теории. Но позвольте! Дэн Браун пишет романы. Он апеллирует к нашей фантазии. Он не утверждает, что опубликовал докторскую диссертацию. Он не занимается наукой. Романы — не истина. Пусть ученые и исследователи оценивают литературную сторону его произведений.
Критикам романа лучше бы радоваться, чем брюзжать: сколько других романов они могут вспомнить из тех, что вызывают к жизни научные дискуссии подобного рода среди обыкновенных людей и стимулируют читателей к усвоению новых знаний? Когда в последний раз наша теология и взгляд на женщин как на существ, занимающих гораздо более низкое по сравнению с мужчиной положение в обществе, столь характерный для раннего христианства, были темой общественных дискуссий? Дэн Браун написал книгу, которая увлекает, провоцирует, зажигает миллионы читателей, в равной степени простых людей и ученых. Настоящий подвиг для обыкновенного автора триллера!
Приорат Сиона: великая фальшивка
Так же как и «Разорванный круг», «Код да Винчи» черпает некоторые исходные тезисы в книге Майкла Бейджента, Ричарда Ли, Генри Линкольна
«The Holy Blood and The Holy Grail» (1982). Эта книга уже продана в количестве двух миллионов экземпляров и вскоре выйдет на норвежском языке. Если говорить кратко, то главная теория этой квазинаучной документальной книги состоит в том, что Иисус не умер на кресте, а остался жив после распятия (что в свою очередь разрушает самую главную догму христианства: Воскресение Христово), что он совершил бегство в Южную Францию и женился на Марии Магдалине. У них родилось несколько детей, потомки которых заняли место среди французских королей династии Меровингов. Средневековый миф о Священном Граале — чаше, из которой Иисус пил во время тайной вечери и которая позднее, после распятия, была наполнена его кровью, — излагается авторами как линия кровной связи, которая идет от Иисуса к Марии Магдалине.
Эта фантастическая теория уходит корнями в многовековую историю конспирологии, отсылая нас к тайне, которую, по-видимому, охраняют и по сей день существующие рыцарские ордены. Интерес к ним возродился благодаря событиям, произошедшим со священником Беренжером Соньером в деревне Рене-ле-Шато. Во время реставрации старинной сельской церкви в конце XIX века он, как считается, нашел документы, спрятанные в секретной нише, взял их с собой в Париж и будто бы сделался невероятно богатым.
К несчастью для почитателей конспирологических теорий и Сионского ордена, вся эта история такая же фиктивная, как «Код да Винчи» и «Разорванный круг». Приорат Сиона, или Сионский орден, которым будто бы руководили такие великие люди, как Леонардо да Винчи, сэр Исаак Ньютон, Боттичелли и Виктор Гюго, и который будто бы имел тесные тайные связи с тамплиерами, — выдумка французских правых экстремистов-националистов, это всего лишь оккультный мужской клуб. Полиция и средства массовой информации установили, что француз Пьер Плантар и его сторонники создали Приорат Сиона в 1956 году, тогда же была разработана идея некоей общности между этим орденом и тамплиерами XII века. В 1956 году появились первые слухи о «великой тайне» Рене-ле-Шато. Многие основные установки Приората Сиона были позаимствованы у розенкрейцеров. Этот первоначально немецкий орден XV века подвергался реформам и в XVII, и в XVIII веках и обычно связывался с чем угодно — от алхимии и магии до философии, был возрожден французским писателем и мистиком Жозефом Пеладаном на рубеже XIX и XX столетий.
Пьер Плантар сфабриковал в середине 1960-х годов документы, содержащие имена руководителей Приората Сиона и две генеалогии будто бы 1244 и 1644 года, а также несколько копий манускриптов (тех, которые священник Беренжер Соньер будто бы нашел в конце XIX века) и подкинул их в архив Национальной библиотеки в Париже. Авторы подделок подложили также «исторические» документы в разные французские библиотеки. Находка «Секретного досье» вызвала большой интерес. Партнер Плантара Филипп де Шерси неоднократно заявлял, что именно он — автор подделок. По данным властей и французских средств массовой информации, Плантар, умерший в 2000 году, в 1993 году на допросе признался, что документы из «Секретного досье» были подделаны, а Приорат Сиона — фальшивка. (Правды ради, настоящий Сионский орден существовал в действительности, но был распущен в 1617 году, став частью ордена иезуитов. Это был католический орден, далекий от принципов герметичности братства, не имевший отношения к тамплиерам и другим тайным учреждениям.) ВВС разоблачил методы Плантара в документальной программе 1996 года. На сайте можно ознакомиться с подробностями истории ордена.
Эти факты, естественно, не играют никакой роли в судьбе «Кода да Винчи» и «Разорванного круга», но они, конечно, не подкрепляют предположения о том, что Дэн Браун нашел свои многочисленные «разоблачения» в теологических, исторических, культурных и искусствоведческих фактах. Многие восторженные читатели «Кода да Винчи» зачастую разочаровываются, стоит им узнать, что «разоблачения» Дэна Брауна есть не что иное, как старое доброе литературное творчество, плод вымысла на основе квазинаучных книг и материалов Интернета, либо, в лучшем случае, туманные гипотезы, подвергаемые сомнению специалистами. Туристов, попадающих в величественную церковь Сан-Сюльпис в Париже, где монах-альбинос Силас надеялся найти Священный Грааль, встречает плакат с надписью: «Вопреки фантастическим утверждениям некоего недавнего бестселлера эта церковь не была ранее языческим храмом!» Далее в тексте плаката опровергаются другие утверждения книги Дэна Брауна об этом богатом традициями храме. И все же именно благодаря «Коду да Винчи» Сан-Сюльпис получила свою долю известности: за полгода сюда зашло 10 000 туристов — поклонников Дэна Брауна.
«Код да Винчи» — роман. Точка. Он не раскрывает никаких секретов, если не считать недокументированных и всемирно известных предположений и фантастических конспирологических теорий, которые поддерживает лишь горсточка серьезных ученых. Но успокойтесь! «Код да Винчи» — увлекательный роман. Даже если многие теории в «Коде да Винчи» не соответствуют научным данным, а часть сенсационных утверждений можно отбросить, это интересный и увлекательный триллер. Если вас захватило чтение, вы можете сами выяснить, что в книге правда, а что нет!
Радовать и возбуждать интерес читателя — самая благородная задача романа. И эту задачу Дэн Браун решил лучше, чем многие из нас. В отличие от большинства триллеров, «Код да Винчи» стимулирует читателя на поиски ответов на трудные, но от этого не менее интересные вопросы, затронутые в романе.
Вопрос веры
На этом фоне многие читатели зададут вопрос: «Насколько достоверен „Разорванный круг“?»
Ответ очень простой: книга — роман от начала до конца. Игра мысли. Некоторые исторические и теологические сведения, если их брать изолированно, «истинные». Некоторые с научной точки зрения спорные и вызывают возражения. Кое-что автор приукрасил. Кое-что — чистая фантазия автора. Я лишь использовал «исторические истины» в литературном плане, и в конечном результате это привело к тому, что моя книга от начала до конца —
сочинение. Если я и обращался к теологическим и историческим теориям конспирологии, то только потому, что это было нужно для романа. Если я брал не общепринятые теологические оценки, то потому, что это украшало действие. Этот роман должен был рассказывать о загадке большей, чем сама жизнь, и предположения книги
«The Holy Blood and The Holy Grail», а также нетрадиционные теологические точки зрения подходили мне, как перчатка к руке.
И все же…
Я не теолог. Я даже не являюсь верующим. Но многие вопросы, которые «Разорванный круг» затрагивает относительно возникновения Нового Завета, — это вопросы, которые меня искренне интересуют и ответов на которые у меня нет. Но у теологов ведь их тоже нет. В конечном счете они соединяют эти основополагающие вопросы и ответы и превращают их в вопрос о вере. Без ключа к решению вопросов теология очень медленно движется по пути превращения в науку.
Если вас затронула в книге игра мыслей, касающаяся Нового Завета, то вы можете воспользоваться серьезными профессиональными книгами, которые основательно освещают фактические данные относительно формирования Библейского свода.
Библия — продукт интеллектуальной деятельности. Изначально легенды о Христе существовали в устной традиции. Позднее они были зафиксированы на бумаге. В дальнейшем эти тексты перерабатывались и дописывались. Наконец, кто-то сделал отбор из многих текстов и включил их в Библию.
Если рассматривать библейские тексты как священные и напрямую продиктованные или вдохновленные Богом, то вряд ли можно подвергать Библию источниковедческому анализу. А что если снять вопрос веры с понимания Библии и рассмотреть Библию и ее заветы как исторический и философский манифест?
Изучение истории Иисуса разнообразно и развивается быстрыми темпами на протяжении последнего столетия и особенно последних десятилетий. Уже в начале XX века Альберт Швейцер показал, как ученые формировали образ Христа на основе идеалов своего времени. Как и в любой другой науке, в теологии есть разные направления, тенденции и «школы». Многие предположения моего романа основаны на сравнительном источниковедении и радикальной американской традиции, в то время как существует и другая, более консервативная позиция позитивного отношения к Библии.
Для большинства исследователей-теологов общим является
то, что их труды, хоть и в разной степени, обязательно несут в себе отпечаток веры (возможно, отсутствия веры). Теология не является абсолютной наукой. В большой степени на точку зрения оказывает влияние личная вера и теологическая (в какой-то мере политическая) позиция исследователей. Разные исследователи оценивают факты и гипотезы по-разному.
Так же как герой романа Бьорн Белтэ, я только скольжу по поверхности увлекательной науки теологии. Профессиональные теологи снисходительно улыбнутся, воспринимая некоторые мысли этой книги. Как и большинство авторов, я выбрал определенную позицию, поэтому фиктивные теологи и исследователи выражают в романе такие точки зрения, которые подходят к сюжету книга. Таким образом, эти идеи не являются репрезентативными для большинства теологов. Я так же, как Дэн Браун, написал роман и не утверждаю, что нашел истину. А ученые?
Евангелисты не сдаются
Буквально или критически надо читать Новый Завет?
Каждый читатель должен найти свой ответ.
Новый Завет — собрание текстов, так называемый канон, который в большой степени уже существовал в I веке, но окончательно был составлен и признан Отцами Церкви на синодах в Иппоне (393 г.) и Карфагене (397 г.).
Четыре евангелиста — Марк, Матфей, Лука и Иоанн — были, судя по всему, христианами второго поколения, которые писали свои тексты в конце первого столетия (некоторые теологи считают, что Евангелие от Иоанна, возможно, действительно было создано апостолом Иоанном). Марк написал свое Евангелие, видимо первое из четырех, около 70 года. Матфей и Лука были знакомы с текстом Марка. Но прежде чем любое из четырех Евангелий было написано, уже существовало то, которое позже получило название Евангелие Q.
Евангелия
Q не «существует». И тем не менее многие считают его «первым Евангелием», которое Марк и Лука позже использовали как источник (Q от немецкого слова «Quelle» — «источник»). Немецкие библеисты пришли к выводу, что должен быть письменный источник, откуда слова Иисуса перешли в Евангелия от Матфея и Луки. На основании существующих текстов каждое слово Евангелия Q было реконструировано в Институте античности и христианства при университете в Клермонте в США Евангелие Q, таким образом, не содержит ничего нового или неизвестного, это чисто теоретическая модель, которая может объяснить материал, который является общим для Матфея и Луки. Те, кто заинтересуется этим, могут обратиться к двум сайтам.
Когда тексты Библии нужно было выбрать — этот процесс занял несколько сот лет, — их выбирали из целого ряда других текстов, на которых «редакторы Библии» не поставили свой штамп божественного качества. Апокрифические евангелия — это те евангелия, которые не вошли в Библию. В частности, потому, что их не сочли первоначальными относительно описываемых событий (они были написаны «слишком поздно», то есть через 100–200 лет после распятия). Другие теологи подчеркивали, что тексты апокрифов были еретическими по отношению к ортодоксальным идеям христианства или же представляли иной, по сравнению с общепринятым на тот момент, обликом Иисуса. Примеры апокрифов можно найти на сайте
По мере ознакомления с содержанием все новых обнаруженных альтернативных писаний многие наши представления об учении Иисуса могут видоизменяться. Иисус может восприниматься как радикальный, критически относящийся к властям человек, что не соответствует образу, принятому Церковью. Так Евангелие от Фомы — один из апокрифов — содержит в себе только слова Иисуса без связывающих их рассказов и комментариев. В нем ничего не говорится о распятии, о смерти и вознесении Иисуса, об истории его страданий, крещении или тайной вечере. В нем нет никаких чудес. Некоторые исследователи полагают, что Евангелие Q и Евангелие от Фомы доказывают, что смерть Иисуса — жертвенная смерть — вообще не была частью раннего христианства, эта линия стала развиваться позже под влиянием стремления к жертвенности в иудаизме. Там, где Библия подчеркивает важность индивидуальной веры, Евангелие от Фомы призывает принять на себя ответственность за собственное развитие и стремиться к нему через познание (классические гностические черты). Иисус имел вокруг себя открытую общность, состоящую из равно достойных мужчин и женщин (этому очень большое внимание уделяет в своем романе Дэн Браун). Иисуса не называют Сыном Божьим или Мессией. Наряду с гностическими чертами Фома использует фрагменты из коптских манускриптов, учитывает изменения в трактовке образа Христа в переводах II–IV веков. Многие признаки в тексте свидетельствуют, что Фома был знаком с Евангелием от Марка — что ослабляет теорию, будто бы Евангелие от Фомы старше (и тем самым ближе к первоначальным), чем Евангелия Нового Завета.
Хотя и в Евангелиях Нового Завета, как ни парадоксально, Иисус изображается по-разному, облик Христа в Евангелии от Фомы вызвал протест у многих ранних христиан. Одна из причин заключается, по всей видимости, в том, что Фома изображает Иисуса в большей степени как философа. Такой подход мог вызвать протест Отцов Церкви, которые были вынуждены в формирующемся учении сохранить лишь одну линию, сосредоточившись на божественной сути Иисуса. Стоит отметить также, что тот Иисус, которого изображает Фома, главным образом посвящает себя духовным вопросам, в то время как Иисус в Новом Завете обращает внимание не только на духовное, но и на человеческие поступки. Иисус из Библии обращается к своему времени, Иисус Фомы отвечает на вопросы, не будучи привязан к повседневности.
Многие верующие представляют себе Библию как неизменную, абсолютную величину. Апокрифические тексты демонстрируют, что библейский канон создан человеком, является результатом оценок и отбора, редактирования и сокращений.
Многие теологи подчеркивают, что апокрифические писания не «разоблачают» ничего, кроме того, что Церковь отбирала для Нового Завета лучшие тексты. Фактически находка в Наг-Хаммади показывает, как тщательно Отцы Церкви относились к работе по включению и отклонению писаний, которые можно было бы использовать для Нового Завета. Хотя апокрифические писания, естественно, не могут ничего опровергнуть в Новом Завете, они дают альтернативную рамку для понимания не только Евангелий как таковых, но и параметров их отбора, а также беспокойного времени и процесса, который привел к формированию библейского канона. Но в зависимости от теологической позиции они могут быть прочитаны и как доказательство того, что авторитарный канон является результатом наиболее удачного выбора с исторической и теологической точек зрения.
Даже если не верить в Иисуса как в божество, мы можем с большой степенью уверенности сказать, что Иисус как исторический персонаж существовал (дополнительную информацию о божественном Иисусе ищи на норвежском сайте. На мой взгляд, его философия, в сокращенном виде выраженная в словах: любовь к ближнему, — ценна сама по себе, независимо от того, верим мы или не верим в воскресение и прощение грехов.
Мне кажется, было бы замечательно, если бы «Разорванный круг» — так же как это произошло с «Кодом да Винчи» — стимулировал читателя к поискам собственных ответов и одновременно заронил сомнения относительно тех истин, которые нам внушают авторитеты, будь то Церковь, профессора, священники или писатели. «Разорванный круг» был, в первую очередь, задуман с амбициозной целью — заставить читателя думать, я хотел написать приключенческий роман, который оставил бы вас наедине с вопросами, на которые никто не может ответить, но которые важно задать.
Источники наносят ответный удар
В конце маленькая сноска.
В октябре 2004 года газета
«Daily Telegraph» сообщила, что Дэн Браун будет вызван в суд по делу о плагиате. Кем же? Ни больше ни меньше, как двумя авторами из трех книги
«The Holy Blood and The Holy Grail» — Майклом Бейджентом и Ричардом Ли! Как сообщает газета, Ли заявил: «Дело не в том, что Дэн Браун украл некоторые идеи, потому что так делают многие. Но он использовал всю структуру и все предварительные исследования — всю головоломку целиком — и повесил все это на фиктивные плечики».
Очень заманчиво рассматривать это судебное разбирательство как пиар-ход со стороны Бейджента и Ли — и не более. Дэн Браун упоминает книгу
«The Holy Blood and The Holy Grail» в главе 60 «Кода да Винчи». Плюс к этому добавлю маленькую шутку в духе «Кода да Винчи»: имя одного из героев Дэна Брауна сэра Ли Тибинга составлено из фамилии Ричарда Ли и анаграммы из букв, входящих в фамилию Бейджента. Так вот, в книге Брауна Тибинг снимает с полки издание
«The Holy Blood and The Holy Grail» и хвалит авторов за «надежные доказательства».
Нет, этого недостаточно, считают Ли и Бейджент, надо еще отхватить кусок от солидного банковского счета Дэна Брауна.
Независимо от исхода возможного судебного процесса мало оснований думать, что внимание к этому делу заметно отразится на продаже обоих бестселлеров. Публичный интерес, подогреваемый скандалами, играет на руку любому автору, и так будет всегда.
Том Эгеланн. Осло, октябрь 2004 года
Том Эгеланн
«Евангелие Люцифера»
ПРОЛОГ

ilia sa-ba-si-su uz-za-su ul i-mah-har-su ilu ma-am «-man ru-u-ku lib'» «-ba-su su-'i-id'» «kar-as-su»
Когда он [Мардук][179] смотрит в ярости, он не смягчается [не поворачивается]
При его бушующем гневе ни один бог не смеет перечить ему [его настроению]
Вавилонский миф о Сотворении мира «Энума элиш»
Как упал ты с неба, денница, сын зари.
Пророк Исаия
Когда же окончится тысяча лет, Сатана будет освобожден из темницы своей… А диавол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков.
Откровение Иоанна Богослова
И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа; между ними пришел и Сатана.
И сказал Господь Сатане: «Откуда ты пришел?» И отвечал Сатана Господу:
«Яходил по земле и обошел ее».
Книга Иова

Изображение демона Бафомета в книге Элифаса Леви «Dogme et Rituel de la Haute Magie» («Учение и ритуал высшей магии», 1854)
Я не умерла. Но лежу в гробу. Обнаженная. В сплошной темноте. Я слышу собственное дыхание и биение сердца, звук которого отдается в ушах.
Господи, помоги мне выбраться.
Я не могу пошевелиться. Локти упираются в стенки гроба. Тесно.
Я рыдала. Но слез больше нет.
Тяжело дышать. Хочется пить. Я много думаю.
Наверное, так чувствует себя человек, который умер.
ЮВДАЛ
23–28 мая 2009 года
Тяга скрываться — это в такой же мере состояние духа, как и действие.
По подоконнику, жужжа, мечется муха. Туда-сюда, туда-сюда. Может быть, она чувствует, что ее свобода за стеклом, о которое она бьется. Сквозь неровное стекло кухонного окна я вижу слегка искаженные очертания далеких вершин, склонов гор и большого леса с прогалинами и выступами холмов. Внизу, в поселке, виднеются крыши домов. Лесничество. Мастерские, в которых изготавливают изделия из серебра. Фермы на склоне. Старинная деревянная церковь. Серебряные брызги водопада.
— Так что же я сделал? — вертится у меня в голове.
Муха раздражает. Туда-сюда, туда-сюда. Ее замуровали. Она в панике. Ей можно посочувствовать. Каждый взмах крыла — крик отчаяния. Я открываю окно и выпускаю ее. В ту же секунду она исчезает. Муха. В ней я узнаю себя. Я узнаю себя во всем, что есть на свете.
Скрыться — значит исчезнуть, сделаться невидимым. Спрятаться в толпе. В хаосе большого города. Убежать — значит перестать существовать.
Я спрятался в безлюдном месте.
Старый точильный камень лежит за окном комнаты. Его покрыл мох. Под кухонным окном стоит прогнившая скамейка. Я люблю сидеть на ней, вдыхать запах согретых солнцем сосен, ощущать ветерок, дующий с гор. Лучи солнца как раз такие, которые подходят для моей нежной кожи. В нескольких шагах от меня бежит горный ручей, откуда я каждое утро приношу свежую ключевую воду. Ювдал — самое тихое и мирное место на земле, забытая Богом долина в горах между Телемарком и Эуст-Агдером. Здесь, в горах, далеко от людей, спрятавшись от моих преследователей, окруженный невысокими березами и вересковыми пустошами, густыми лесами и зубцами покрытых снегом гор, я пытаюсь досконально разобраться в одной загадке.
Идеальное место, чтобы спрятаться. Идеальное место, чтобы исчезнуть.
«Так от кого же я бегу?» — тревожит мысль.
Мне было двенадцать лет, когда умер папа. Он упал со скалы и разбился. Я был не очень далеко от того места. И слышал его крик.
Уже тогда я спросил себя, есть ли в мире зло — разрушительная сила тьмы и разложения, которая преследует нас всю жизнь и при первом удобном случае застит солнце. А может быть, я перепутал зло с капризной игрой судьбы.
Я рос, как избалованный принц, в белом доме, который называли Вороньим Гнездом, расположенном в фешенебельном пригороде, люди там хорошо одеты, у каждого автомобиль, они жарят в саду антрекоты, поливают газон, от жары их спасает живая изгородь. Мама была запойной. Соседи относились к ее экстравагантным поступкам с пониманием, поглаживали меня по голове и говорили, что я хороший мальчик. Мне кажется, папа так и не заметил глубины ее падения. Когда он умер, мама вышла замуж за его лучшего друга, и обо мне опять забыли. У меня появился братишка, с которым я так и не познакомился всерьез, и отчим, которого я так и не полюбил. Теперь он мой начальник в институте.
Только став взрослым, я узнал, что смерть папы не была несчастным случаем. Он стал жертвой своего же плана убить друга. Потому что тот «грешил» с моей мамой. Когда папа разбился, запутавшись в альпинистских канатах и своих приступах ревности, он оставил после себя искореженный труп, спившуюся супругу и заброшенного мальчишку, который всю жизнь будет помнить его последний крик. И вот прошло почти тридцать лет. Куда уходит время?
Мама звала меня Малыш Бьорн. Она умерла. Это имя было выражением нежной материнской преданности. Пока таковая наблюдалась. Мальчишки в школе прозвали меня Белым Медведем. Потому что я — альбинос.
[180]
В Ювдале время течет медленно. Час за часом, день за днем я сижу у ноутбука, лежащего на кухонном столе, и рыскаю в Интернете в поисках информации. Я выделяю имена ученых, названия публикаций и сайты, которые могут мне пригодиться. Не называя себя, подключаюсь к группам исследователей, религиозным чатам и странным сайтам любителей оккультизма и мистики. Я пишу шифрованные электронные письма коллегам, которым доверяю. Прошу о помощи и конспирации. Я получил уже много ответов. Но ясности до сих пор нет.
«Что же я ищу?» — возникает вопрос.
Вечерами мне очень плохо в этом заброшенном уголке. В одиночестве, под звездным небом я чувствую себя ничтожным и запуганным. Словно в темноте прячется кто-то. Кто-то наблюдает за мной. Кто-то, кого я не вижу.
Кто-то. Или что-то…
Я боюсь включать свет. Зажигаю несколько свечей и задвигаю шторы. В полутьме сижу и думаю об убийстве Кристиана Кайзера и обо всем, что случилось в Киеве.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ПРИСЛУЖНИКИ САТАНЫ

Менее отвратительна, но так же жестока, а может быть, даже более жестока секта «приносящих жертву небу». Главной догмой в их учении является мистическое воззрение, что только тот достигнет блаженства, кто порвет со своими грехами путем мучительной смерти, независимо от того, будет эта смерть добровольной или произведенной чужими руками.
Леопольд фон Захер-Мазох. Русские секты. 1890
Caedite eos! Novit enim Dominus qui sunt eius.
Убивайте всех! Господь узнает своих.[181]
Арно Амальрик (1209)
I
МУМИЯ
КИЕВ
9 мая 2009 года
1
Мумия смеялась мне в лицо, как смеются помешанные.
За минувшие столетия кожа лица оттянулась назад и обнажила ряд зубов, которые казались теперь частоколом из клыков. Растянутые губы и провалившиеся глаза — продолговатые, больше кошачьи, чем человеческие, — придавали лицу издевающийся, зверский характер.
— Кто это был? — прошептал я. — Монах? Пилигрим? Он, скорее, похож на вампира.
Хранитель Тарас Королев перекрестился:
— Некоторые мумии действительно выглядят пугающе. Настоящими монстрами их делает естественное бальзамирование.
Снизу, из главного туннеля, из-за лент и ограждений, доносился гул голосов туристов. Чтобы показать скрытую от досужих глаз погребальную камеру, хранитель провел меня через длинные, в несколько сотен метров, узкие каменные коридоры. Королев был невысоким коренастым мужчиной с круглыми глазами и взглядом, который заставлял думать, что он вот-вот совершит эпохальное открытие. Будучи хранителем музея Киево-Печерской лавры в Украине, он давно привык общаться с умершими. В глубоких катакомбах подземного монастыря, в побеленных монашеских кельях и погребальных туннелях вечным сном покоились монахи и святые. На протяжении столетий их тела мумифицировал прохладный сухой воздух подземелья.
Никто ни в монастыре, ни в музее ничего не знал об этом монахе. Грот, где он захоронен, за стеной позади алтаря, в одном из тупиков, обнаружили четыре студента, занимавшиеся уборкой помещений.
В руках мумифицированного трупа монаха, которые были такими тонкими, что походили на клешни какой-то рептилии, находился свернутый манускрипт.
2
Любая мелочь может иметь значение. Легкий взмах крыла бабочки может привести к урагану. Снежинка, нарушившая равновесие, может вызвать лавину. Так математики объясняют забавный факт, что даже крохотные вариации в исходных данных динамических систем могут привести к колоссальным изменениям. Странно изъясняются они, эти математики.
Я сам был такой вариацией в исходных данных.
Хранитель Королев, стоя неделю назад в кабинете с телефонной трубкой в руке, как раз начал цепочку событий, о которых он сам, естественно, не мог иметь ни малейшего понятия. Прошло всего лишь полчаса после того, как он вытянул манускрипт из крепкой хватки мумии. Телефонная трубка застыла в руке хранителя. Кому позвонить? Начальнику — этому алкоголику? В милицию? Даже если умерший стал жертвой преступления и замурован специально, чтобы скрыть убийство, — эта смерть имела место много столетий назад. Археологические инстанции? Но кто будет заниматься этим делом всерьез, как оно того заслуживает? Кому он обязан сообщить об этом? На кого можно положиться?
И он позвонил мне, скромному археологу из университета Осло.
Я помню, как вежливо слушал, когда Тарас Королев, представившись, рассказал о своей находке. Приятным баритоном он спросил:
— Вы можете приехать в Киев,
мистер Белтэ?
— Я — археолог, а не палеограф.
[182]
— Ваше знакомство с древними манускриптами говорит само за себя.
— Вам надо обратиться к экспертам. У меня есть друг в Исландии, я могу дать его телефон, он — выдающийся…
— Бьорн Белтэ, правда, что вы нашли рукописный текст Евангелия Иисуса Христа?
— Это было десять лет назад. И если точно, то нашел его не я. Я только не дал ему исчезнуть.
— И разве не вы открыли папирусный манускрипт, который оказался шестой книгой Моисея?
— Случайное везение!
— И мумию Моисея?
— А может быть, это она нашла меня?
— Вы слишком скромны, Белтэ. Я читал про вас. В газетах. В международных археологических изданиях. Вы обнаружили и другие манускрипты. Я знаю, что вы — человек настойчивый.
— Настойчивый? Обычно обо мне говорят, что я упрямый.
— Вы — тот человек, которого я ищу. Я знаю. Я такой же.
— Послушайте, я всего лишь старший преподаватель, даже не профессор.
— Вы хотите мне помочь?
— К сожалению, не могу. Ищите кого-нибудь другого!
Принципиальным человеком я никогда не был.
3
Мумия лежала обнаженной на каменном возвышении за алтарем, скрывавшим вход в пещеру. Только в последние годы, уже после краха коммунизма, здесь стали прикрывать тела.
— Неужели власти позволят мне увезти манускрипт? — спросил я.
— Их интересует только мумия. А никак не манускрипт. — Хранитель изобразил на лице гримасу, которая поразительно напоминала выражение лица мумии. — Мои начальники уже начали драку за то, кто несет формальную ответственность за мумию и получит финансирование на исследования. Если исходить из местонахождения могильной камеры и возраста алтаря, можно предположить, что этот монах нашел упокоение раньше, чем летописец Нестор, которого захоронили здесь, в Киево-Печерской лавре, в 1114 году. Манускрипт же начальники засунули бы в шкаф к прочим древним текстам, которые мы толком не исследуем так. — Он кивнул в направлении свитка с манускриптом, который покойный крепко прижимал к своей груди. — Я заменил его другим текстом того же времени, который взял из архива.
4
Пергамент с оригинальной рукописью лежал на подсвеченном снизу столе в кабинете хранителя. Каждая страница была разделена на два симметричных столбца, ограниченные прямыми невидимыми линиями.
— Эта часть текста, — хранитель Королев показал на правый столбец, — написана знаками, которых я никогда не видел. Левый столбец написан клинописью. Данный шрифт был создан в Месопотамии пять тысяч лет назад и обычно связывается с глиняными табличками в Шумере, Вавилоне и тому подобных местах. Можно предположить, что перед нами копия глиняной таблички. Впрочем, пока текст манускрипта не исследован — с филологической, семантической, палеографической, лингвистической точек зрения, — это лишь предположение, не больше. Если текст и правда переписан с глиняной таблички, мы никогда не узнаем, сколько лет оригиналу. Однако после радиоуглеродного анализа мы сможем сказать, сколько лет пергаменту.
Я осторожно потер пальцами краешек пергамента:
— Посмотрите! Кожа кажется мягкой, даже новой. А должна была бы быть твердой, высохшей. На протяжении тысяч лет свиток лежал в свернутом состоянии и тем не менее развертывается практически без разломов и складок.
— Я ничего не знаю о том, как обрабатывали кожу животных в южных широтах. Ничего.
— Неизвестные значки в правом столбце — как вы думаете, что это такое?
— Понятия не имею.
— Арабские буквы?
— Нет, я узнал бы их. Это больше похоже на какие-то математические формулы. В Вавилоне еще за несколько тысяч лет до Рождества Христова были разработаны довольно совершенные математические постулаты. И еще меня смущают украшения манускрипта.
— Почему?
— Вот трикветр, например, — он указал на символ, расположенный в самом верху пергамента, — обычно этот знак не ассоциируется с Древней Месопотамией. А вот это, — произнес он, переводя мое внимание на изображение павлина, — особая птица.
Я погрузился в изучение рисунка птицы, распустившей полукругом хвост.
— Павлин, — сказал хранитель, — это древний символ езидов.
[183] Они поклоняются павлину. Считают его символом падшего ангела. В их религии павлин символизирует демиурга, божество низшего ранга, которым был создан космос. Эту птицу называли Малак-Тавус, что значит «Ангел Божий» или «Павлин-ангел». Христиане и мусульмане воспринимают езидов как поклонников дьявола. Дело в том, что одно из имен Малак-Тавуса — Шайтан. Знакомо оно вам? — Взгляд Королева блуждал некоторое время, потом он кивнул в ответ на мой незаданный вопрос. — Шайтан на арабском языке — имя Сатаны.
5
За окном кабинета хранителя золотом сверкали шпиль колокольни и луковицы куполов храма. Ежегодно тысячи православных пилигримов приезжают в Киево-Печерскую лавру в надежде ощутить дыхание Господа. Пока Королев разливал кофе, я перевел взгляд с собора и колокольни на множество церквей и памятников, видневшихся из окна. Однако перед глазами у меня все еще была мумия, обнаруженная в одной из пещер, среди переплетений ходов с маленькими и большими подземными церквами. Очень кратко Королев объяснил, что произойдет, если он будет послушно следовать предписаниям: «Ничего».
Бюрократические процедуры, формальности, и больше ничего… Для Королева стало навязчивой идеей помешать тому, чтобы находка мумии дала старт жутким бюрократическим перетягиваниям каната между музеями, церковными и государственными властями. На протяжении сотен лет монахи Киево-Печерской лавры собирали и копировали многочисленные религиозные тексты. И что? В архивах музея они по-прежнему лежат без всякой пользы. После революции 1917 года о текстах забыли. О них никто не вспоминал. Коммунистическая власть не интересовалась изучением христианских документов. А потом наступила пора нехватки денег, борьбы за власть, бюрократии.
— Манускрипт необходимо изучить, — сказал Королев. — Подвергнуть радиоуглеродному анализу. Перевести, истолковать, определить место среди других. Но у нас нет возможностей.
— Я все еще не понимаю своей роли в этом деле.
— Я хочу, чтобы вы увезли манускрипт на Запад! Я хочу, чтобы он был изучен при помощи методов, которые находятся в вашем распоряжении.
— Но что скажут украинские власти иностранному ученому, который попытается вывезти из страны подобного рода манускрипт?
Он посмотрел на меня. Очень долгим взглядом.
— Нет! — крикнул я.
— Ну теперь вы понимаете, почему я позвонил вам, Бьорн Белтэ, вам, а не кому-то еще?
— Вы не можете меня об этом просить!
— Такого рода манускрипт заслуживает, чтобы его изучали. Самым тщательным образом.
— Вы хотите… вы имеете в виду…
— Вы не такой, как другие. Вы — прагматик. Вы не из формалистов и бюрократов. Вы — настоящий исследователь. Вы любопытны. Вы хотите знать.
— Вы не можете просить, чтобы я вывез манускрипт из Украины как контрабанду!
Но он попросил.
А я вывез.
Судьба — это переплетение нитей, видимых и невидимых, которые пересекаются, но общий рисунок мы обнаруживаем, как правило, слишком поздно. Когда в аэропорту я прощался с Тарасом Королевым, я видел его в последний раз.
Как и все другие, кого судьба вовлекла в водоворот событий, связанных с манускриптом, он был убит через несколько недель.
II
КВАРТИРА
ОСЛО
22 мая 2009 года
1
Ни один человек не может быть готов к тому, что обнаружит труп. Поверьте мне. У меня есть некоторый опыт.
Дом был огромным и казался неприступной каменной крепостью. Со своими эркерами, шпилями, стилизованными брустверами он легко мог сойти за место событий минувших времен. Стены из красного гранита и кирпича были увиты диким виноградом и торчавшим в разные стороны плющом. Клочья травы и увядшие тюльпаны тянулись вверх на узкой полоске зелени между фасадом в стиле модерн и кованой решеткой, которая держала прохожих на подобающем расстоянии.
Лестница внутри дома носила отпечаток прежней роскоши, от которой только она и осталась, с перилами из дорогих сортов дерева, железной решеткой в стиле модерн. На потолке сохранились живописные изображения очаровательных херувимов и ангелочков с крылышками. Шаг за шагом, словно дряхлый старик, я поднимался по ступенькам лестницы. Перелет измучил меня. В руках чемодан. Каждый шаг отдавался эхом. Как будто в кино. Лицо отражалось на блестящих плитках стен. Запыхавшись, я остановился на площадке перед двустворчатой дверью из красного дерева со вставкой из матового стекла. Я позвонил. Звонок прозвучал хрипло, как будто он был не совсем здоров и хотел закутаться в шарф и проглотить лекарство, чтобы не саднило горло. У меня был ключ, и я мог отпереть дверь сам, но я всегда предпочитал звонить Кристиану. Это более естественно.
Я знал Кристиана Кайзера восемнадцать лет и никогда не слышал, чтобы он о ком-то отозвался пренебрежительно. Он легко сходился с людьми. Его юмор — суховатый, чисто британский — был элегантным и необидным. Все знают людей такого типа. Он всегда помнит ваше имя, а заодно имя вашей бывшей жены и ваших детей-бездельников, помнит о том, что ваш эрдельтерьер Трикси потерялся в горах в прошлом году. Его внешность трудно забыть. Очень худой. С заостренными чертами лица, неуклюжий, как привидение. До того как в результате несчастного случая он оказался прикованным к инвалидному креслу, к чему он так и не привык, он казался выше, чем был на самом деле. Носил модный костюм с галстуком-бабочкой. Весной обычно вставлял в петлицу только что сорванный цветок. Густые подвижные брови казались заблудившимися усами. Он непрерывно подмигивал, словно у него тик. Седые волосы были зачесаны назад, отчего он напоминал добродушного сельского священника.
Я ждал. Обычно он кричал мне:
— Открой ключом! Зачем я давал тебе ключ? — но сегодня не было слышно ни звука.
Лифт, на котором Кристиан поднимался в своем кресле, застыл на втором этаже. Значит, он был дома. Установка лифта после несчастного случая (неблагоприятное стечение обстоятельств: неосторожный вагоновожатый, подвыпивший писатель, пешеходный переход) вызвала бурю возмущения и привела к экстренному заседанию правления жилищного кооператива. Некоторые потребовали, чтобы Кристиан Кайзер съехал.
Кристиан был историком и автором научно-популярных произведений. За последние годы не вышло ни одной его книги, которая продавалась бы в количестве менее пятидесяти тысяч экземпляров. Такие книги, как «С Одином в восточных землях», «Викинги на Ниле», «Норвежское наследие тамплиеров», вызвали оживленную профессиональную дискуссию, а красноречие, остроумие и характерная внешность сделали Кайзера желанным гостем пятничных телевизионных шоу. Когда декан Трюгве Арнтцен с обычным упрямством отказал мне в просьбе профинансировать исследование киевского манускрипта, я обратился к Кристиану. На протяжении многих лет мы обсуждали с ним возможность совместного написания книги. И наконец у нас появился проект — загадочный манускрипт, который я тайно вывез из Украины, его изучение могло стать основой для нашей совместной работы. Хотя в тот момент мы почти ничего не знали о манускрипте, издательство Кристиана клюнуло на наживку —
мумия! сатанинские символы! загадочные значки! — и выдало щедрый аванс. Декан с огромным удовольствием отправил меня в неоплачиваемый отпуск. И тем самым избавился от необходимости лицезреть меня.
Я позвонил еще раз. Кристиан уже должен проснуться. Он был «жаворонком». Не слышит звонка?
Вчера вечером, когда Кристиан звонил мне в Рейкьявик, он просил приехать к нему прямо из аэропорта.
— Нам надо обменяться свежей информацией, — сказал он со смехом, слегка подшофе.
Потом сообщил, что нашел в Париже женщину, знавшую о некой паре в Амстердаме, которая изучала упоминания трикветра и Малак-Тавуса в средневековых манускриптах. Многообещающее начало. Сам я тем временем встречался с одним из знаменитейших ученых — исследователем древних манускриптов. Профессор Трайн Сигурдссон не только руководил отделом манускриптов Института Аурни Магнуссона,
[184] но и был моим другом, на которого я мог положиться.
Куда пропал Кристиан? Не случилось ли с ним чего? В роли ангела-хранителя я выглядел довольно жалко. После перелета чувствовал себя не в своей тарелке. Потерял способность действовать. Я вообще не люблю путешествовать. Мои чувства от этого тупеют. Душа не успевает за переездами.
Наконец я решился и отпер дверь сам. Весь в сомнениях и с опаской. Словно был взломщиком.
2
Квартира огромная. В такой и целый школьный класс потерялся бы навсегда. Конгломерат комнат, спален, помещений для прислуги и коридоров, которые вели в никуда.
На полу у входной двери лежала утренняя газета. Кристиан поднимал ее обычно с коврика щипцами.
Я сбросил с ног ботинки.
— Кристиан?
С некоторой задержкой ответил кот. Сэр Фрэнсис. Перс. Ужасный сноб. Хотя я и бывал здесь много лет, он так и не удостоил меня своим вниманием.
Паркет был недавно натерт. В нем можно было увидеть свое отражение. Два раза в год Кристиан нанимал людей из бюро натирать пол. Я принюхался и узнал слабый запах чего-то сладкого, пикантного, чужеродного. Благовония? Странно. Кристиан окружал себя только запахами коньяка «Мартель», сигар Алехандро Робайна и парфюма «Диор Ом».
— Кристиан?
Я заглянул в большую кухню. Пусто. Ни единого пятнышка. Как в мебельном каталоге. Терракотовая плитка. Шкаф из красного, как пламя, бука. Из окна светило солнце на мойку. Ни салфетки, ни кофейной чашки. Хлебница, в полном соответствии с предписаниями, тщательно закрыта.
В комнате с плюшевыми гардинами стоял диван, на котором сидел сэр Фрэнсис. Он смотрел на меня. Я смотрел на него. Я мяукнул. Он не ответил. Взгляд его был тяжелым, грустным, глаза желтыми. Ему явно не хватало порции джина-тоника.
Я постучал в дверь спальни:
— Кристиан?
Тишина и запах благовоний стали действовать мне на нервы.
— Ты проснулся?
Я не мог решиться. Есть что-то личное в спальне, в том, как человек спит, в запахе тела, в сновидениях, которые прилипают к стенам. Вы никогда не знаете, что увидите, открыв дверь спальни.
Я постучал сильнее:
— Кристиан?
Если бы он был моложе и здоровее, я мог бы подумать, что у него в постели группа восторженных читательниц из какого-нибудь читательского клуба. Но то время давно прошло.
Я втянул в себя слабый аромат благовоний и, задыхаясь от удушающего запаха, вдруг подумал, что случилось что-то ужасное. Я не могу объяснить это ощущение. Я совсем не провидец. Когда я был моложе, я считал, что мне по наследству достались способности моей бабушки. Говорили, что она общалась с покойниками. Сейчас я забыл обо всех этих глупостях. И все же, вспоминая секунды перед тем, как я открыл дверь, я понимаю, что уже тогда твердо знал, что Кристиан Кайзер умер. Эта мысль напомнила мне о предостережениях неизвестного мужчины, который несколько раз звонил мне на прошлой неделе. Ему было известно о существовании манускрипта. Говорил он по-английски с акцентом. Я рассказал о нем Кристиану. Мы не знали, кто это. Украинский полицейский? Исследователь из Киево-Печерской лавры, коллега Королева? Нелегальный коллекционер?
Я постучал кулаком изо всех сил:
— Кристиан?
Потом положил руку на ручку и приоткрыл дверь.
III
РИТУАЛЬНОЕ УБИЙСТВО (1)
Кристиан Кайзер лежал на кровати, на гладкой шелковой простыне, голый, сложив руки на груди. Глаза закатились. Челюсть отпала, обнажив кривую усмешку покойника. Тело мертвенно-бледное. Мужское достоинство съежилось до маленького куска кожи в окружении седых волосков.
Повсюду в спальне — на полу, на прикроватных столиках, на подоконнике — горели восковые свечи. Много восковых свечей. Поразительно много.
Время остановилось. Я глубоко вздохнул и застыл на месте. Парализованный. Окоченевший. Стук сердца отдавался в груди, в ушах, во всем конгломерате артерий и вен моего тела. Колени и руки дрожали. Капли пота текли по лбу, под мышками, по спине. Мозг отказывался управлять телом. Взгляд фиксировал — не реагируя, бесстрастно, отстраненно — всевозможные детали. Солнечные лучи в щелках между занавесками. Шлепанцы рядом с кроватью. Полупустой стакан с водой на ночном столике. Баночку с лекарствами. Книгу. Одежду, аккуратно разложенную на инвалидном кресле. Скомканную и брошенную поверх пижаму. Восковые свечи. Тело.
Непроизвольный стон.
— Боже мой, Кристиан… Что случилось?
Рысцой подбежал ко мне сэр Фрэнсис. И резко отвернулся.
Очень медленно я стал приближаться к кровати. Едва не падая. Весь в поту. Я сосредоточился на запахе. Кожа у умершего была восковой белизны. Но запах шел не от тела. Пока. Кристиан умер совсем недавно. Сквозь сладковатый запах благовоний и горящего воска пробивался другой — более острый, металлический. Я никак не мог определить, что это.
Кристиан был совершенно белым. Смерть лишила его красок. Он был даже белее меня. Как смерть могла сделать тебя таким немыслимо бледным?
Кто-то его убил, это очевидно. Так люди не умирают сами. Не умирают голыми, на кровати без одеяла, с руками, скрещенными на груди, и сжатыми кулаками, в окружении мерцающих свечей. Было что-то… надо найти слово…
ритуальное… в том, как он лежал. Словно агент похоронного бюро и священник уже побывали здесь и теперь уехали, чтобы привезти погребальную одежду и святую воду.
Целую минуту я стоял и смотрел на безжизненное тело моего умершего друга. Потом оно исчезло под пеленой моих слез. Я закрыл ему глаза и вызвал по телефону полицию.
IV
КЛЮЧЕВОЙ СВИДЕТЕЛЬ
Сыщик Курт Хенриксен был рослым мужчиной в очках с роговой оправой, с записной книжкой в нагрудном кармане и взглядом, от которого самый закоренелый преступник потерял бы самообладание и признался бы в совершенных преступлениях.
Полицейские в форме и в штатском заполонили квартиру, Эксперты в белых халатах ходили из комнаты в комнату, словно пингвины. А я сидел на стуле в гостиной в полной уверенности, что полицейские забыли обо мне. Один «пингвин» нечаянно наступил мне на ногу и рассеянно попросил прощения. Курт Хенриксен расхаживал отдельно от них, поглядывая на книги на полке, открывая шкаф, выясняя, на какую волну настроено радио. Он прибыл позже остальных.
— Большинство людей упускают мелочи, — неожиданно сказал он. Несмотря на пребывание в Осло в течение двадцати лет, он не избавился от мягкости согласных и картавости своего родного диалекта. — А между тем мы можем многое почерпнуть из того, что представляется несущественным. — Он протянул мне руку. — Курт Хенриксен. Инспектор полиции. Полиция Осло, второе отделение. Вот так обстоят дела. Это вы нашли умершего?
— Да, к сожалению. Меня зовут Бьорн Белтэ.
— Я так и подумал. Я про вас слышал. Читал в газетах.
Он имел в виду, что слышал об археологических находках, к которым я имел отношение несколько лет назад. О них писали газеты. Иногда меня узнают на улице.
Чтобы нам не наступали на ноги и чтобы не мешать своим присутствием колонии «пингвинов», мы переместились на кухню. Хенриксен занес мои личные данные в блокнот и спросил, почему у меня был ключ от квартиры Кайзера. Я объяснил, что мы работали вместе над одной книгой. Это его не заинтересовало. Зато он спросил, где я находился в это утро с пяти до семи.
— Его убили в это время?
— Это стандартный вопрос, я должен задать его для порядка.
— Я спал. На борту самолета между Кеплавиком и Гардемуеном.
[185]
— Потрясающее алиби, — пошутил он таким тоном, как будто мы оба знали, что убийца я и что это лишь вопрос времени, когда он разоблачит мои хитрые уловки и отправит меня в кутузку. — Значит, в прихожей стоит ваш чемодан?
— Вы добьетесь в полиции больших успехов, инспектор!
— Что вы делали в Исландии?
— Я посетил Стофнун Арна Магнуссонар.
— Я не понимаю.
— Институт Аурни Магнуссона при университете Рейкьявика занимается хранением и изучением древних рукописей. Там мне помогли провести анализ одного манускрипта.
Курт Хенриксен отвел взгляд от блокнота. Хороший полицейский часто бывает вынужден опираться только на интуицию. Он сидел, вперив в меня свой взор. Я — альбинос и потому привык, что на меня смотрят.
— Какая-то книга. Какой-то манускрипт. Скажите, какая может быть связь между планами написать книгу, манускриптом и убийством Кристиана Кайзера?
Этот вопрос разрядил обстановку.
Я сделал вдох. Очень глубокий вдох. И рассказал то, что знал. Рассказал о мумии и о манускрипте. Правда, я не стал распространяться, что вывез его из Украины контрабандно, но намекнул, что в сотрудничестве с университетом Осло помогал киевским коллегам сохранить пергамент. А в качестве grand finale
[186] поведал об угрозах по телефону.
— Кто звонил? — спросил Хенриксен.
— Номер не определен. Звонивший не назвал себя. Все началось неделю назад. После этого он звонил каждый день. Но сегодня звонка не было.
— Он вам угрожал?
— Послушайте сами. — Я вынул мобильный телефон.
— Вы записывали все разговоры?
— Только первый. Я стал записывать, когда решил, что он знает, что киевский манускрипт в моем распоряжении. Остальные разговоры точно такая же белиберда.
Я нашел нужное место. Запись началась с резкого щелчка, потом послышался голос незнакомца:
— «…в общих интересах встретиться для разговора. Я могу приехать в Осло. В любой момент.
— К сожалению…
— Белтэ, это чрезвычайно важно!
— Я так не считаю.
— Вы не понимаете, что вы нашли!
— Вы не представились.
— Я ваш друг, я могу оказать помощь.
— Кто сказал, что мне нужна помощь?
— Поверьте мне, вам нужна помощь!
— Послушайте, не могу же я…
— Бьорн Белтэ! Вы в опасности!
— Не смешите меня.
— Вы можете лишиться жизни, Белтэ.
— Кто вы?
— Я представляю организацию, которая готова помочь вам.
— Закончив разговор, я обращусь в полицию.
— Я на вашей стороне.
— Мне не нужна…
— Могу объяснить.
— Угрозы — не объяснение.
— Я вам не угрожаю, я…
— Я уже имел дело с такими, как вы.
— Это недоразумение. Я только пытаюсь заставить вас выслушать меня.
— Вы надеетесь напугать меня?
— Я не хочу вас пугать. Мы можем встретиться?»
Послышался треск, я выключил запись.
Я виновато посмотрел на инспектора полиции Хенриксена:
— Я не заявил об этом разговоре в полицию. Я знаю, что должен был это сделать…
— Если честно, Белтэ, он не угрожал вам. Он предостерег вас и предложил помощь. И тем не менее это многообещающий след.
Новая информация дала Хенриксену пищу для размышлений. Его глаза загорелись. К сожалению, он тут же конфисковал мой мобильник. Хотел, чтобы эксперты
попробовали определить скрытый номер звонившего и изучили запись.
С чего-то начинать надо.
Потом он захотел узнать о манускрипте побольше. Он сказал, что полиция рассмотрит вопрос о конфискации пергамента как вещественного доказательства. К счастью, я отговорил его от этого. Манускрипт находился в сейфе в подвале собрания рукописей в Исландии. Но я об этом не сказал. Не хотел раскрывать местонахождение манускрипта. Я терпеливо объяснил, что это очень хрупкая вещь, имеющая огромную историческую ценность, и дотрагиваться до нее могут только эксперты, имеющие специальную подготовку. Что текст покажется в полиции совершенно бессмысленным, если только в их рядах не обнаружатся специалисты по клинописи или семиотике древних текстов. Даже для нас, ученых, объяснил я, манускрипт, которому несколько тысяч лет, представляет собой загадку. Я заверил Хенриксена, что установлению личности убийцы вряд ли помогут ряды непонятных значков.
Он сказал, что еще вернется к этому вопросу.
Один из «пингвинов» вошел на кухню и помахал Хенриксену. Несколько минут они отсутствовали. Потом Хенриксен вернулся с маленьким предметом в запечатанном прозрачном пластиковом пакете для вещественных доказательств.
— Умерший сжимал в правой руке вот это. — Он передал пакет мне. — Вы что-нибудь знаете об этих символах?
Это был бронзовый амулет.
Я покрутил его. Как дети крутят ракушки. Изучил. С каждой стороны выгравировано по одному символу.
— Первый символ — пентаграмма, — сказал я. — Второй — трикветр.
— Вас это удивляет?
Я не ответил. Если я скажу, что трикветр много раз встречается в манускрипте, он без всяких разговоров конфискует его. Хватит с него мобильного телефона.
— Вы не знаете, у Кристиана Кайзера был такой амулет?
— Совершенно исключено.
— Значит, кто-то вложил его Кайзеру в руку прямо перед смертью или сразу после нее.
— Зачем им это делать?
— Такие знаки обычно имеют особое значение?
— Все знаки что-то символизируют. Именно поэтому их используют. Пентаграмма — священный знак, который имеет отношение к чему угодно — от книг Моисея до черной магии, оккультизма и сатанизма. У пентаграммы есть много названий: ведьмин крест и печать Соломона — лишь два из них, а также несколько толкований как символа и как религиозного объекта.
— А второй знак? Как вы его назвали?
— Трикветр. Узел павших. Сердце Хрунгнира.
[187] Магический и религиозный символ, известный по германским монетам, кельтскому искусству, скандинавским руническим камням. В христианской религии он обозначал Святую Троицу. В Норвегии мы связываем этот символ с королем эпохи викингов Харальдом Хардроде.
[188]
Закончив записывать, Хенриксен посмотрел на свои наручные часы:
— Слишком много информации. Нам надо будет еще поговорить.
— Можно вопрос?
— Да.
— Кто позаботится о сэре Фрэнсисе?
За время возникшей паузы я успел прочитать во взгляде Хенриксена, как его мозг быстро сканирует файл с материалами о британских аристократах и параллельно проводит срочный психиатрический анализ болезненного состояния у ключевого свидетеля Бьорна Белтэ. Мозг у полицейских устроен именно таким образом.
— О сэре Фрэнсисе?
— Я про кота!
— Ах про кота. Скажете тоже. Н-да. Мы позаботимся о коте, конечно.
Он сунул мне свою визитную карточку и отпустил на все четыре стороны.
V
ПРЕСЛЕДОВАНИЕ
Меня уже ждали, когда я вышел из дома. Я их не увидел. Но они там были. Вероятно, стояли в толпе, собравшейся за полицейскими ограждениями. И ждали меня. Заметил я их, только выходя из такси рядом с университетом. Нужно было забежать за книгами. В тот момент, когда такси свернуло и остановилось, а я вынул бумажник, чтобы заплатить, таксист спросил меня:
— Попали в переплет?
Водитель был молодой смуглый мужчина, с черной бородкой и акцентом, который выдавал его пакистанских предков.
— В общем, да. А почему вы спрашиваете?
— Видите вон тот «лексус»?
Я посмотрел в боковое зеркало. На расстоянии пятидесяти метров от нас остановился автомобиль.
— Нехорошо, — сказал он. — Они едут за нами всю дорогу. Фараоны?
— Нет.
— Кто-то из врагов?
— Поехали! Быстро!
Он включил газ и отъехал от тротуара.
— Шантажисты?
— Хуже не бывает.
— Позвонить моему двоюродному брату?
— Лучше не надо. Могу я позвонить по вашему мобильному?
Я нашел визитную карточку Хенриксена и набрал номер. Он сразу ответил. Выслушав меня, он стал задавать вопросы, в которых ощущался элемент вновь возникшего ко мне психиатрического интереса. И пообещал прислать патрульную машину. Скорее, для того, чтобы успокоить меня, — так мне показалось. Как бы то ни было, я для него ключевой свидетель.
Я попросил таксиста поездить по университетскому городку, пока мы будем ждать патрульную машину. «Лексус» ехал за нами. Таксист провел несколько хитроумных маневров, безрезультатно пытаясь оторваться. Осознав, что разоблачены, преследователи приблизились. Я попытался разглядеть, кто они, но из-за яркого солнца и отблесков света мне удалось увидеть лишь нечеткие силуэты.
Дорога узкая, с большим количеством припаркованных автомобилей. Спидометр показывал восемьдесят пять километров в час. Теперь «лексус» был на расстоянии всего лишь нескольких метров от нас.
Я еще раз позвонил Хенриксену. Он заверил, что патрульная машина уже выслана. Открыв окно, я услышал звуки сирены.
«Лексус» исчез в одном из переулков как раз перед тем, как полицейский автомобиль, подъехав к нам, залил такси блеском мигающих огней.
Отправитель: Примипил[189]
Адресат: Легату легиона[190]
Копия: Великому Магистру
Тема: Отчет: Осло
Шифр: S/MIME РКС37
Послано: 22.05.2009 15:36
Dominus![191]
Магистр, с чувством глубокого сожаления я вынужден сообщить Вашему Святейшеству, Совету старейших и всем посвященным дракулианской общины, что местонахождение манускрипта в Осло установить не удалось. Кристиан Кайзер был подвергнут дракулианскому ритуалу — в соответствии с правилами этой церемонии, предписаниями древних письмен и инструкциями Совета Старейших, — но он не выдал искомой информации. Так же безрезультатно мы проверили квартиру Бьорна Белтэ и его кабинет в университете, квартиру и кабинет Кристиана Кайзера, две лаборатории и три архива. Пока мы находились в квартире Кристиана Кайзера, зазвонил телефон. Я присовокупляю сообщение, которое было записано на автоответчике, и предлагаю, чтобы еще одна декурия[192] была немедленно послана в Париж. Если Бьорн Белтэ вернется домой, на рассвете мы нанесем ему визит и подвергнем дракулианскому ритуалу.
Ave Satanas![193]
Примипил брат Хэрэгуш
VI
ЖЕРТВЕННОЕ ЖИВОТНОЕ
ЮВДАЛ
23 мая — 2 июня 2009 года
Подобно тому как на смену любой радости рано или поздно приходит горе, каждая удача уравновешивается каким-то провалом. Свет и тьма. Инь и Ян.
Свобода и бегство.
Полиция предложила мне конспиративную квартиру и пульт срочного вызова в случае опасности. Я с благодарностью отклонил оба предложения. Не захотелось становиться рабом электроники и страха.
Вместо этого я поехал на автобусе в Ювдал. К одиночеству. К тишине. И летучим мышам. На сеновале они основали небольшое поселение.
Судьба бросила меня в безлюдное место, на отдаленное высокогорное пастбище, в окружение скал, лугов, болот, сосновых и еловых лесов.
Только два человека знали, где я спрятался. Моя подруга Кристина, которой принадлежит это пастбище. И инспектор полиции Хенриксен.
Он позвонил мне в воскресенье во второй половине дня ровно в шестнадцать ноль-ноль.
Я сидел на скамейке у пастбища. Внизу, в долине, на другом берегу ручья, блеснуло солнце в стекле автомобиля. Ветер шевелил листву. Доносилось блеяние овец. Я вдыхал аромат черемухи. Вокруг головы кружила мошкара.
До моего бегства из Осло мы договорились созваниваться два раза в день. Полиция дала мне защищенный мобильный телефон. На мой собственный телефон все еще продолжали приходить звонки, как сказал мне Хенриксен. От абонента со скрытым номером. Он рассказал еще, что кто-то подсоединил мой телефон к GPS-навигатору — устройству слежения, которое посылает сигналы через спутниковую связь.
Когда я ответил на звонок, Хенриксен облегченно вздохнул:
— Все идет как надо?
— Тихо и мирно.
— Нет никаких подозрительных туристов?
— Не видел ни одного человека. Почему вы спрашиваете?
Секундная пауза.
— Это убийство… Эти убийцы…
Порыв ветра поднял в воздух цветочный пух.
— Да?
— Я расследовал много убийств за свою карьеру. Большинство были трагедиями. Бессмысленными. Ревнивые мужья. Подвыпившие приятели. Люди с нарушенной психикой, искаженными представлениями о мире, с голосами в голове. Сами знаете. Но это? Никогда не видел ничего подобного. Никогда. Скажите, он был человеком религиозным?
— Кристиан Кайзер? Я сказал бы, скорее, наоборот.
— Вы можете хранить секреты?
— Конечно. Кристиан был моим другом.
— Мы обнаружили много странных деталей в этом убийстве. О них прессе неизвестно. Эксперты из лаборатории говорят, что в квартире Кайзера орудовали профессионалы. Вскрыли замок, не оставив ни единого следа. Как будто у них был ключ. Не оставили нигде ни волоска. Ни единого отпечатка пальцев. Но это еще ерунда. Хуже обстоит дело с амулетом, который они положили ему в руку. А еще эти шестьдесят шесть свечей. Белая шелковая простыня. Обнаженный человек. Благовония. Но есть и еще кое-что.
— Что же?
— Кристиана Кайзера обескровили.
Солнечные лучи исчезли за облаками.
— Что вы такое говорите? — Мне показалось, что я ослышался.
— Обескровили! Как это обычно делают с принесенным в жертву животным. Они выкачали из его тела всю кровь — и при этом в квартире убитого мы не нашли ни единой капли крови.
VII
НЕСУЩИЙ СВЕТ
1
И очень хорошо разбираюсь в запахах. Зрение у меня плохое. Зато нюх как у собаки.
Любой запах может молниеносно отправить меня в детство. Малиновое монпансье… Папин бритвенный лосьон и мамины духи… Тающее во рту мороженое и крем от загара…
Я сидел на пастбище и вдыхал запахи раннего лета и гор. Каждый вдох давал море запахов. Лесная подстилка и болото, вода в ручье, дивный аромат вереска, болотная трава, лиственные деревья, полет пыльцы полевых цветов.
Люди, которые не любят свой нос, называют все это свежим воздухом.
В понедельник в первой половине дня я получил электронное письмо из Киева от хранителя Тараса Королева. К нему приходили двое американских ученых. Во всяком случае, они назвались учеными. Джон Скотт из Стэнфордского университета и Марк де Валуа из Йеля. Они произвели впечатление людей, которым все известно. Что подменили манускрипт. Что я контрабандой вывез оригинал в Норвегию. Королев попробовал все отрицать. Тогда они положили на стол копии моих авиабилетов в Киев и обратно и моего ходатайства декану с просьбой о финансировании исследования. Они стали угрожать хранителю, что сообщат украинским властям, если тот не пойдет им навстречу. У Королева не было выбора. Он подтвердил все. Но ничего не сказал об Исландии.
Я был в растерянности. Американцы? Кто они, эти так называемые ученые? Из того, что у них были копии авиабилетов, я сделал вывод: они не ученые. Ни одна авиакомпания не выдаст копии авиабилетов, если только это не требование властей.
Я тут же позвонил Трайну в Исландию. Там все было в полном порядке.
Я так и не ответил Королеву. Меня не удивило бы, если бы оказалось, что американцы контролируют его переписку. Хотя Хенриксен уверял меня, что и мой мобильный телефон, и мобильная связь по Интернету вполне безопасны — он рассказал что-то такое об аналоговых и цифровых сигналах, которые зашифрованы, — я побоялся, что компьютерные гении могут найти меня через ближайшую базовую станцию. Это невозможно, как сказал Хенриксен. Но я стоял на своем.
2
Несколько месяцев своей жизни я провел в психиатрической лечебнице. Мне за это не стыдно. Мне там понравилось. Быть вместе с другими психами. Моими друзьями. Любому из нас необходимо иметь про запас гнездо кукушки. Нервы… Никакой драмы. Никаких искаженных представлений о мире, холерических приступов. Есть только склонность к меланхолии и социальному страху и в довесок неуверенность и жалость к себе. Нет ничего такого, чего нельзя было бы нейтрализовать ежедневной дозой антидепрессанта. Я прошел почти через все. Индивидуальную терапию. Групповую терапию. Когнитивную терапию. Гештальттерапию. Психодинамическую кратковременную терапию. Розовые таблетки. Синие таблетки. Горькие таблетки. Когда я в самый первый раз попал в клинику, психиатр захотел, чтобы я рассказал о папе и маме, обо всем, что случилось в то лето. Я тут же закрылся, как морская лилия. Так я провел несколько дней. Меня заставили глотать таблетки. Но помочь мне они не смогли. Когда я пришел в себя, они меня отпустили. Они, конечно, не понимали, что я их дурачил. Я никогда не был болен. Понять это непросто. Я не являюсь сумасшедшим. Но и нормальным тоже. Мои нервы чрезвычайно напряжены.
Я знаю, что в моих словах нет смысла. Пусть так. Тот, кто увидел свой взгляд в зеркале и почувствовал отвращение к себе, поймет, что я пытаюсь сказать. Тому, кто погружался в болото депрессии и ненавидел себя за то, что знал, как мало значит любовь, наверняка знакомы обрывки мыслей, в которых я пытаюсь разобраться.
3
Электронное письмо, пересланное мне с университетского адреса на Gmail, весьма обеспокоило меня. Некий американский ученый — антрополог культуры Нил Мак-Холл из Массачусетского технологического института — попросил связаться с ним. Нам было бы обоюдно полезно обменяться информацией о манускрипте, утверждал он. Откуда он узнал о манускрипте? Он оставил несколько электронных адресов и телефонных номеров. Письма от Нила Мак-Холла продолжали приходить. Каждый день. Как спам.
Однажды поздно вечером я позвонил Трайну, чтобы поинтересоваться, нет ли какого-нибудь продвижения в изучении манускрипта, а также не получал ли он каких-нибудь писем от неизвестных людей. Ничто не говорило о том, что кому-то было известно о моем пребывании в Исландии. Утечка информации произошла в Киеве. Или в Осло.
Трайн сообщил, что один лингвист разобрался в клинописи. Левый столбец написан на аккадском языке, которым пользовались в Месопотамии на протяжении тысячелетий до эпохи Христа. Лингвист сделал перевод небольшого фрагмента. Текст имел апокалипсическое звучание. Некий ангел света,
несущий свет с небес, прилетел на Землю, чтобы спасти мир и все человечество от гибели.
— При желании, прибегнув к фантазии, мы можем истолковать «несущего свет» как дохристианского предшественника Люцифера, — сказал Трайн. — Люцифер — одно из многих имен, которые приписываются Сатане. Латинское имя Люцифер состоит из двух слов: lux и ferre — и означает «несущий свет» или «принесший свет». Ангел света из манускрипта указывает на то, что текст и религия езидов берут свое начало в месопотамских мифах.
— Это значит, что павлин Маклак-Тавус — ранний вариант Сатаны?
— Не факт. Все очень запутанно. Если текст действительно аккадский, то трудно связать его исторически или географически с езидами. Я просмотрел книги о езидах. Их вера — особая смесь гностической космологии с примесью ислама и христианства. Они отрицают, что поклоняются Сатане в том виде, в каком воспринимаем его мы. Они поклоняются летающим богоподобным существам, которых мы называем ангелами.
— А как насчет языка в правом столбце?
— Вот это совершенно непонятно. Я показывал знаки нескольким языковедам и одному математику. Никто ничего не может сказать. Попробуй связаться со специалистами по ивриту из университета в Иерусалиме. Или в Багдаде. Возможно, в Каире. И вообще, я специалист по скандинавским средневековым рукописям, а не по древним восточным манускриптам.
— А каков возраст пергамента?
— Как раз это самое странное. Мы подвергли его анализу, в том числе на углерод-14.
— И результат?
— Нулевой. По-видимому, материал был как-то обработан. Мы даже не можем установить, кожа какого животного была использована. Химики почесывают в затылке. Прямо скажу, ответа нет.
4
На следующее утро я получил электронное письмо от декана Трюгве Арнтцена. Моего дорогого отчима. После смерти мамы мы отбросили притворство, длившееся тридцать лет, и открыто стали демонстрировать неприязнь друг к другу. Он хотел знать, куда я подевался. Группа выдающихся профессоров, которые проводят исследования в престижном Гарвардском университете, пожелала установить со мной связь. Это невероятно важно. Он приложил список с именами, телефонами и электронными адресами. Ни Нил Мак-Холл, ни Джон Скотт, ни Марк де Валуа среди них не значились.
Если бы не Трюгве Арнтцен, я давным-давно стал бы профессором. Он не дает мне возможности продвинуться по служебной лестнице. А я не могу простить ему маму. Вот как между нами пробежала черная кошка. Он был когда-то маминым любовником. Когда они поженились через полгода после папиного падения со скалы, я превратился в маленький неприятный довесок, который постоянно напоминал им обоим о трагедии, предшествовавшей их браку. Папа хотел убить Трюгве Арнтцена. Я хорошо его понимаю. Но папа был рохлей. Я унаследовал от него эту черту. Он начал химичить с креплениями и канатами. Планировал, что эта система откажет при спуске Трюгве Арнтцена. Вместо этого упал сам. Не спрашивайте меня, как это вышло. Когда мама, раскрасневшись, сказала «да» в ответ на предложение, которое сделал ей Трюгве Арнтцен, и стала его очаровательной и готовой на самопожертвование супругой и лучшим другом, я остался где-то на морозе с заплаканными глазами и сознанием того, что буду изгоем. Извините, если это звучит горько и вам кажется, что я напрашиваюсь на сострадание. Позже у меня появился сводный брат, который вытеснил меня и стал центром маминого мироздания. Его зовут Стеффен. Он имеет все то, чего нет у меня. Он — менеджер по недвижимости. Привлекательный. Обожаемый дамский угодник. Мама души в нем не чаяла. С самого момента его рождения я стал прозябать в тени Стеффена.
Трюгве Арнтцен написал электронное письмо в повелительно-презрительном тоне, что полностью соответствовало его сущности. Он явно считал само собой разумеющимся, что я вступлю в контакт с американцами. Незамедлительно. Еще бы, это же американцы! Ученые одного из ведущих университетов мира.
Почти тридцать лет я был пасынком Арнтцена. И это письмо лишний раз доказывало, что он плохо знал меня.
VIII
ЛИЛИТ
1
В темноте я прислушивался к тишине и беззвучному крику летучих мышей.
Спальня моя была расположена на втором этаже, за массивной дверью, рядом со скрипучей винтовой лестницей. На полке лежали разлохмаченные дешевые книги карманного формата, несколько годовых комплектов журнала «Ридерс дайджест» шестидесятых годов и гора комиксов: «Серебряная стрела», «Темпо», «Романтика». Кровать стояла рядом с маленьким чердачным окном без занавесок. Через окно в спальню вливалась темнота.
Я не верю в привидения. Но если бы они были, они жили бы именно в этом доме. Рядом с горным пастбищем, вдали от городской суеты. Разве нельзя допустить, что место может сохранять картины и настроения прошлого, что чувства могут оставаться безмолвными криками и бесцветными вспышками с напоминанием о том, кто здесь когда-то жил и умирал? Подобного рода мысли вертелись в голове в этой темноте. Я никогда не дружил с ночью.
Только когда утренний свет стал просачиваться через оконное стекло, я заснул и увидел странный сон. Я находился в какой-то экзотической местности под ярким солнцем. Вдали, среди красноватых зарослей, разглядывая меня и словно обдумывая, не выйти ли оттуда на свет, пряталась какая-то долговязая фигура.
Спустя несколько часов я проснулся и неторопливо сошел вниз по лестнице на кухню. В шкафу среди сгнивших резинок, заржавевших вилок, чайных ложек и тупых ножей я нашел пакет с сахаром к утреннему кофе. Сделал бутерброд. Несколько мух с восторгом присоединились к моему завтраку.
Когда я открыл почту, меня ждало электронное письмо от коллеги из Копенгагена, который сообщил, что Кристиан Кайзер активно участвовал в дискуссионном форуме для теологов в Интернете. В частности, послал три запроса о знаке трикветр и Малак-Тавусе. Кристиан рассказывал мне раньше, что пользовался научными форумами, чтобы улавливать новые идеи и собирать информацию. Но никогда не называл их, а я не спрашивал. Благодаря копенгагенскому коллеге я мог проследить шаги Кристиана на электронных дорогах. Этот сайт был организован как хронологический архив с 1998 года. Кликнув на неделю, последовавшую после моего возвращения из Киева, когда мы с Кристианом приступили к нашему проекту, я обнаружил его первые запросы. Казалось невероятным читать их теперь. Среди ответов я нашел два шифрованных сообщения от пользователя с ником Лилит.
[194] Она намекнула, что могла бы дать дополнительную информацию, и попросила Кристиана связаться с ней напрямую. Похоже, эта Лилит имела контакты с парой из Амстердама, изучавшей трикветр и Малак-Тавуса. Через сервер я узнал ее данные:
Имя: Мари-Элиза Монье
Ник: Лилит
Профессия: x-x-x
Место работы: Университет Сорбонна (Париж IV)
Место жительства: Париж
Электронный адрес: marie.monnier@paris-sorbonne.fr; marie_е_m_1985@hotmail.com
Домашний телефон: x-x-x
Мобильный телефон: x-x-x
Телефакс: x-x-x
2
По адресу Infobal.com я нашел номер мобильного телефона Мари-Элизы и позвонил. Ответили не сразу. Мужской голос:
— Oui? Marie?
[195]
Голос был одновременно и энергичным, и смертельно усталым.
— Marie-Elise Monnier, s’il vous plait,
[196] — запинаясь, сказал я.
Человек спросил меня о чем-то. По-французски. Невнятно.
— Desole!
[197] Excuse me. Do you speak English?
[198]
— No. — Пауза. — Well, yes, maybe. A little. Who are you?
[199]
Я представился и еще раз попросил к телефону Мари-Элизу Монье.
— Я ее отец, — сказал мужчина. — Позвольте спросить, о чем речь?
Его английский был фактически очень хорош. Но как француз, он должен был сначала ответить отрицательно. Я объяснил, что работаю в университете Осло и наткнулся на ее имя в Интернете на дискуссионном форуме.
— Темы наших исследований пересекаются, и мне хотелось бы обсудить с ней наши находки, — объяснил я.
Он замолчал. Надолго.
— Мари-Элизу ищут.
— Ищут? Вы хотите сказать, что она… пропала?
— Полиция не обнаружила никаких следов. Они думают, что она сбежала, уехала отдыхать, нашла тайного любовника. Покончила с собой. Но они ее не знают. Она никогда не поступила бы так. Она сказала бы.
— Я искренне сочувствую вам.
— Она переслала мне по почте свой мобильный телефон. Как вы думаете — зачем? Зачем кто-то станет посылать свой мобильный телефон? Каждый раз, когда он звонит, у меня появляется надежда.
— Я не позвонил бы, если бы не…
— Конечно, я понимаю.
— Есть какие-нибудь следы? Подсказка?
— Нет ничего!
— Она пропадала раньше?
— Никогда. Вы сказали, что темы ваших исследований пересекаются?
Я рассказал о манускрипте и неясности с его происхождением и датировкой. Но умолчал об убийстве Кристиана Кайзера.
— Да. — В его голосе появились теплые нотки. — Как будто говорит моя Мари. Она всегда интересовалась подобными вещами.
Подобными вещами.
— Я знаю, что прошу слишком многого, но если —
нет, когда! — она появится, не могли бы вы попросить ее позвонить мне? По тому номеру, с которого я сейчас говорю?
— Ну конечно.
Я поблагодарил его за помощь и пожелал, чтобы все кончилось хорошо.
Он сказал спасибо. И мы повесили трубки.
Безнадежность в его голосе подействовала на меня угнетающе. Хотя мы оба знали, что Мари-Элизы уже нет в живых, мы усердно старались не признавать этот очевидный факт. Он был ее отцом. Для меня же Мари-Элиза — просто имя, незнакомая женщина в чужой стране, номер в записной книжке, человек, который, возможно, оказал бы мне помощь. Однако я не мог избавиться от мысли, что ее исчезновение не было случайным.
Просто имя… И все же я чувствовал странную скорбь в связи с ее исчезновением.
3
В середине дня, когда я пил кофе на скамейке у пастбища, поглядывая на долину и горы, мне позвонил Хенриксен. Этот банный лист. Он прокашлялся и затем вдруг обратился ко мне со странной просьбой: не сочту ли я за труд связаться с группой американских ученых, которые хотят поговорить со мной?
— Извините, — воскликнул я, — но почему
вы звоните мне от имени американских ученых?
С обстоятельностью полицейского и уважением к деталям он объяснил, что запрос от группы ученых поступил от Госдепартамента США в Министерство иностранных дел Норвегии, которое переправило его в Министерство юстиции, которое в свою очередь попросило управление полиции обратиться в соответствующий полицейский округ.
— Зачем?
— Я передаю сообщение, поступившее сверху, и только.
— Вы не сообщили, где я нахожусь?
— Вы с ума сошли, конечно нет!
— Кто они?
Он прочитал список — те же самые имена, которые были в списке, присланном по электронной почте Трюгве Арнтценом.
Папа был археологом. Они с Трюгве Арнтценом были коллегами и друзьями. И соперниками, которые соревновались за благосклонность мамы.
Иногда я спрашиваю себя, не потому ли я стал археологом, что захотел заполнить брешь, оставшуюся после смерти папы. Кухонная психология. Конечно, я интересуюсь прошлым, чтобы избавиться от необходимости выражать свое отношение к будущему. Не говоря уж о настоящем. Психология — археологическое исследование мозга. Раскопки в душе. Я читал Фрейда и Юнга. Кафку и Клера. Вундта и Вертгеймера.
[200] Но чем больше я читаю, тем меньше понимаю самого себя. Я похож на рыбку, которая не подозревает, что живет в аквариуме. А может быть, я не хочу этого понимать. Для этого есть основания.
Я никогда не смогу стать психологом. У меня слишком много собственных проблем.
IX
РИТУАЛЬНОЕ УБИЙСТВО (2)
1
Тараса Королева коллеги стали искать в среду во второй половине дня, потому что он не вышел на работу. Когда через несколько дней киевская полиция вскрыла его квартиру на четвертом этаже дома на улице Ярославов Вал, он был мертв. Лежал на кровати голый, с руками, скрещенными на груди. В правой руке он держал амулет с трикветром и пентаграммой. В спальне вокруг кровати — шестьдесят шесть полностью выгоревших свечей. В квартире стоял запах благовоний и гниения.
Все это я узнал из электронного письма одной дамы — коллеги Тараса Королева. Он попросил ее написать мне, если с ним что-нибудь случится.
Она не сообщала, что кровь из тела была выкачана. Это будет обнаружено только при вскрытии.
2
Когда я позвонил Хенриксену и рассказал об убийстве Королева и о предполагаемом убийстве Монье, по его голосу я понял, что он изумлен. Убийство в Осло мгновенно получило интернациональную окраску. Хенриксен сказал, что свяжется с Интерполом и полицией Украины и Франции.
В последовавшие дни я продолжил охоту за информацией в Интернете. Часами я сидел у компьютера и вел раскопки. www.theology.org, www.palaeography.com, www.archaeology.org. Я просматривал англоязычные украинские интернет-газеты, но убийство хранителя практически не привлекло внимания прессы. Одновременно я пытался как можно больше узнать о Мари-Элизе Монье. Во французских интернет-источниках ничего не говорилось об ее исчезновении. В связи с отсутствием подсказок я продолжил поиски в архиве теологического форума, в котором до исчезновения Мари-Элиза Монье принимала активное участие. Я систематически изучал различные темы, которые она обсуждала. Она была первоклассным полемистом. Деловым, но агрессивным. Одним из тех, кто никогда не сдается. Чем немного походила на меня.
Целый ряд дискуссий, в которых она принимала участие, касался, во всяком случае косвенно, разных теологических тем, в частности грехопадения и поклонения дьяволу. Очень странное впечатление производила эта Мари-Элиза. Возможно, мы очень хорошо подошли бы друг другу. Она послала почти сорок писем о наличии связи между разными существами, такими как бог Вааль, демон Вааль, или Ваэль, с одной стороны, и Ваал-Зебуб, повелитель мух, более известный под именем Вельзевул, — с другой. Насколько я понял из ее увлеченных реплик, она считала доказанным наличие связи между Ваалем, вавилонским богом Мардуком и Сатаной. Все трое были одним и тем же существом, утверждала она. Другие участники дискуссии настаивали на том, что Ваэль был царем в аду, а Вааль герцогом. Вот так-то. Добравшись до 2003 года, я наткнулся на краткую и очень интересную переписку между Мари-Элизой, она же Лилит, и одним пользователем, который называл себя Моник. Нужно было иметь терпение и страстное желание, чтобы вообще обратить внимание на их не бросающуюся в глаза переписку среди обилия громкоголосых дебатов. Данные Моник были весьма скромны:
Имя: x-x-x
Ник: Моник
Профессия: x-x-x
Место работы: x-x-x
Место жительства: x-x-x
Электронный адрес: rijsewijk2000@dds.nl
Домашний телефон: x-x-x
Мобильный телефон: x-x-x
Телефакс: x-x-x
Нидерланды.
Амстердам?
Я послал электронное письмо по адресу rijsewijk2000@dds.nl, но тут же получил автоматический ответ, что аккаунт закрыт.
User unknown.[201]
Моник обнаружила ярко выраженный интерес к информации Мари-Элизы, касающейся эзотерических тем. Оккультизм. Дьяволы и демоны. Вызов духов. Экзорцизм. Но если Мари-Элиза была полна юниорского упрямства, то Моник была сдержанной, скрытной, почти невидимой. У нее не было требований, аргументов, она только постоянно искала информацию. Через несколько недель их переписка на форуме прекратилась. Остановка произошла на пике обмена мнениями об ассиро-вавилонском демоне Пазузу, поэтому я предположил, что Моник и Мари-Элиза продолжили дискуссию в частной переписке по электронной почте. На этом форуме Моник больше никогда не появлялась.
Не всем дано приспособиться, научиться притворяться, выдерживать фальшь других людей. Когда я находился в психиатрической клинике и был окружен сумасшедшими, изгнанными из общества, я видел их отношение к жизни и смерти, более честное и естественное, чем у «нормальных» людей. Двое из моих друзей, пока я был в больнице, покончили жизнь самоубийством. Марион и Эскиль. Марион захватили мании. Эскиль думал, что его одолел демон. Каждому свое. Они не столько покинули жизнь, сколько приблизили смерть. Конечную станцию существования. Оба предпочли умереть, испугавшись жизни. Человек должен обладать порцией безумия для того, чтобы понимать. Так, как понял я.
Демона Эскиля звали Пазузу.
3
Раз в два дня после полудня я, надев толстовку с капюшоном, неспешно спускался к поселению с рюкзаком на плече. Чтобы сделать запасы. И купить газеты.
Иногда я делал вид, будто приехал отдыхать. Гулял по лесу вокруг пастбища и даже поднимался вверх по горе до мест, где деревья уже не росли. Варил кофе на костре. Пробовал ржавой косой косить траву вокруг дома. И с раннего утра до позднего вечера охотился за фактами и теориями.
О трикветре, о Малак-Тавусе, о Мари-Элизе Монье и, вообще, о чем угодно, что могло пролить свет на загадку манускрипта. И однажды я был вознагражден за свой упорный труд. В университетском архиве Кембриджа, который перевел в цифровую форму несколько интернациональных журналов, я нашел — благодаря ссылке в Википедии — английское резюме статьи 1969 года из итальянского журнала «Теологическое обозрение». В октябре 1969 года профессор теологии Григорианского университета Ватикана Джованни Нобиле написал дискуссионную статью «О спорных гипотезах, связанных с исчезнувшим древним манускриптом под названием Евангелие Люцифера». Нобиле утверждал, что этот манускрипт, который, согласно историческим источникам, был значительно старше Ветхого Завета и написан за 2500 лет до Рождества Христова, является не чем иным, как подделкой и мистификацией. Самое известное упоминание о существовании манускрипта, который предположительно был уничтожен на Никейском церковном соборе в 325 году, находится в имевшем малое распространение собрании текстов Афанасия Великого Александрийского.
[202] Последний указал, что еретический документ, имевший распространение под названием «Пророчества Ангела Света», а позже переименованный в Евангелие Люцифера, был сожжен и его пепел развеян над клоакой. Профессор Нобиле заявлял, что утверждение, будто Отцы Церкви уничтожили спорный манускрипт, ошибочно. Верно, что епископы выступили против еретического текста, но факт сожжения документа никак не документирован. Нобиле считал, что собрание текстов, приписываемое Афанасию, — очевидная фальшивка VII века и что сведения об уничтожении манускрипта, а также указание на «Пророчества Ангела Света» лишь подкрепляли эту гипотезу. В качестве еще одного доказательства, подтверждающего его гипотезу, Нобиле называл следующее: такие символы, как трикветр и Малак-Тавус, никак не могли присутствовать в манускрипте, которому 4500 лет. С моей точки зрения, дело обстоит как раз наоборот. Именно указание на использование трикветра и Малак-Тавуса позволяет сделать заманчивый вывод, что киевский манускрипт и есть тот самый, существование которого Нобиле отрицал. Даже профессора могут ошибаться. Неужели в моем распоряжении находится Евангелие Люцифера?
4
Хотя статья была написана в 1969 году, когда сам я только-только учился ходить, я позвонил в Папский григорианский университет и спросил, не знают ли они что-нибудь об авторе статьи Джованни Нобиле.
— О ком? — переспросила дама, подошедшая к телефону.
— Джованни Нобиле.
— Никогда о таком не слышала.
— Он работал в конце шестидесятых.
Ответом был раскатистый смех.
Я попросил переключить меня на теологический факультет. Там тоже ничего не знали о Нобиле. Я спросил, не могут ли они связать меня с кем-нибудь, кто работает на факультете много лет.
Мужчина, в конце концов ответивший мне, взял в руки трубку, продолжая разговор с кем-то, кто, очевидно, был в той же комнате. Звучание голоса заставило меня задуматься, а не слышал ли я когда-то давно, как этот человек читал доклад. Кто-то засмеялся. Потом хлопнула дверь. В трубку задышали, и голос объявил, что он — профессор Альдо Ломбарди.
Когда я назвал себя, он замолк. Стало так тихо, что вдали, где-то на римской улице, стали слышны гудки автомобиля.
— Профессор?
— Простите. Я поражен.
— Поражен? Что вас так поразило?
— Что мне звоните именно вы.
— Но почему?
— Бьорн Белтэ… Тот самый Бьорн Белтэ…
Я обычный человек. Мне польстило, что он слышал обо мне.
— В академических кругах вы все еще имеете имя. Чем обязан?
— Я ищу информацию о некоем Джованни Нобиле, который был профессором на факультете в конце шестидесятых.
Снова наступила тишина. За моим окном прокаркала ворона.
— Профессор Ломбарди?
— Никто не спрашивал о Джованни Нобиле уже много лет.
— Вы его знали?
— Не очень хорошо. Он гораздо старше меня, он уже стал профессором, когда я еще был студентом.
— Он умер?
Пауза.
— Профессор?
— То, что случилось, было настоящей трагедией.
— Если честно, я не знаю, что тогда произошло.
— Трагедия. Во всех смыслах. Карьера. Дочь.
— Помогите мне, я ничего не знаю об этом.
— Говорят, что он сошел с ума.
— От чего?
— Будто бы его одолели его собственные демоны. — Эту фразу Ломбарди произнес с коротким смешком.
— Одолели? Демоны?
— Профессор Джованни Нобиле был демонологом. Разве вы этого не знали?
— Я знал, что он теолог. Но не знал о его специализации.
— Почему вы о нем спрашиваете?
— Я наткнулся на его имя в связи с одним древним манускриптом. И подумал, что он может мне помочь.
— Вы возбудили мое любопытство. Что это за манускрипт?
— В октябре 1969 года Нобиле написал статью в журнале «Теологическое обозрение» об одном апокрифическом тексте, известном под названием Евангелие Люцифера. Он доказывал, что такой текст никогда не существовал. Я пытаюсь выяснить, не находится ли в моем распоряжении именно этот текст.
Профессор чуть не задохнулся:
— Вы хотите сказать, что у вас в руках Евангелие Люцифера?
— Возможно. Если оно вообще существует, конечно. — Я сухо засмеялся, но реакции не последовало.
— Белтэ, позвольте задать вам один вопрос. Можете ли вы при всей занятости выкроить время для визита ко мне в Рим?
— В Рим? Я не понимаю?
— Нам есть о чем поговорить.
— Разве?
— С глазу на глаз. Доверительно.
— Профессор Ломбарди, как бы это сказать… Моя ситуация в данный момент весьма щекотливая. Убито несколько моих коллег. Надо мной тоже висит угроза.
— Что вы говорите?! Все это из-за манускрипта?
— Очевидно, так. Поэтому я и хочу во всем разобраться.
— Выражаю вам свою симпатию. Наш университет обязательно предоставит в ваше распоряжение квартиру. Бесплатно. И покроет расходы на дорогу. Учитывая сложную ситуацию, мы готовы обеспечить вашу… дать вам некоторую гарантию безопасности. — Голос его звучал доверительно. — Мы будем вас охранять, Бьорн.
— Да и ехать ни с того ни с сего в Рим не так-то просто.
— Для вас это важно.
— Почему?
— Не хочу говорить об этом по телефону.
— Я подумаю, как все устроить.
— Это важно. Важнее, чем вы думаете.
— Но почему?
— Скажите, вам известно Евангелие от Варфоломея?
— Я не теолог.
— Варфоломей был одним из двенадцати апостолов Иисуса. Но хотя имя его упоминается у Матфея, Марка и Луки и еще в Деяниях апостолов, в Библии о нем практически ничего не говорится. Считается, что он написал одно из Евангелий. Но оно утрачено. Тем не менее в других памятниках того времени сохранились отрывки из него. В частности, там упоминается некий Сальпсан. Знакомое имя?
— Никогда не слышал.
— Сальпсан — сын Сатаны.
— Я не знал, что у Сатаны был сын.
— Именно так! В том-то все и дело!
— Это имеет какое-то отношение к Джованни Нобиле или к Евангелию Люцифера?
— Самое прямое! Нобиле был в равной мере одержим этим манускриптом, этим языческим евангелием и… своими демонами.
— Что с ним стало?
— Он умер.
— Как?
— Полиция предполагает, что он был убит. Или покончил жизнь самоубийством. Он убил несколько человек из-за Евангелия Люцифера. В 1970 году это дело было очень громким. Полиция считает, что Нобиле и его дочь были убиты и потом зарыты в землю или выброшены в море. Если только Нобиле не убил свою дочь сам, а потом покончил жизнь самоубийством.
— Чем закончилось расследование?
— Ничем. Все это было очень давно. Мы пытаемся забыть. Никто толком не знает, что тогда произошло, — это и есть печальная правда, господин Белтэ, никто не знает, что тогда произошло.
РИМ
май 1970 года
Без десяти минут два, ночь. Ему уже давно полагается спать. Профессор Джованни Нобиле крепко, пожалуй, слишком крепко сжал зубами мундштук трубки и с наслаждением вдохнул дым. Сквозь табачный дым он рассматривал белый лист бумаге. Двумя указательными пальцами он ударял по круглым клавишам пишущей машинки «Ремингтон» с такой силой, что во многих местах буквы пробивали бумагу:
Изображение демона Бафомета о козлиной головой, крыльями, женскими грудями и рогами взято из книги Элифаса Леви[203] Dogme et Rituel de la Haute Magie («Учение и ритуал высшей магии», 1854). Но для того чтобы найти источник этой фигуры, мы, по-видимому, должны обратиться к египетским и шумерским мифам и религиям.
Холодный ветерок заставил его посмотреть вверх. Лучана забыла прикрыть окно? Он положил трубку в пепельницу и вышел на кухню. Окно было закрыто. Он налил стакан молока и взял его с собой в кабинет. Остановился. В комнате было холоднее, чем в коридоре и на кухне. Придется поговорить с консьержем.
Джованни сел. Скрипнул стул. Трубка погасла. Он не стал ее трогать. Потягивая молоко, он перечитал написанное. Так-так. Кончики пальцев немного побаливали. Он снова склонился над пишущей машинкой:
Имя Бафомет, очевидно, представляет собой старофранцузское искажение имени Магомет (пророк Мухаммед), обладатель которого был представителем самого главного противника крестоносцев — мусульман. К тому же Бафомет был связан с многочисленными теориями конспирации вокруг тамплиеров. В Новое время демон Бафомет стал центральным образом в спорном учении Телемы[204] оккультиста и сатаниста Алистера Кроули,[205] которая…
Раздался какой-то звук.
Рыдание?
Он остановился на середине предложения.
Сильвана?
Это было предчувствием?
Дочь лежала с закрытыми глазами и равномерно дышала, руки нежно обхватили мишку. Ей что-то снилось? Гончая Белла, которая всегда спала у нее в ногах, лениво подняла голову. Он пощупал у Сильваны лоб. Она жалобно застонала.
— Ло-Ло, — пробормотала она во сне.
Джованни сел на край кровати и прошептал:
— Ш-ш-ш!
Настенные часы в комнате пробили два раза. Он поцеловал дочь в щечку. Она не пошевелилась. У Сильваны были глаза мамы, губы мамы и милый мамин носик. От него ей мало что перешло. Разве что упрямство.
— Ti amo, — шепнул он ей в ушко. «Люблю тебя».
Когда он встал, матрас слегка подался, она перевалилась на
другой бок и сунула большой палец в рот. Вообще-то, она этого не делала. Уже пять лет.
Джованни на цыпочках вышел из комнаты, тихо закрыл за собой дверь, выключил свет в коридоре и вошел в свой холодный кабинет.
X
РИТУАЛЬНОЕ УБИЙСТВО (3)
ЮВДАЛ
3–4 июня 2009 года
1
Мари-Элиза Монье была найдена мертвой в развалинах церкви в Каркассоне, в 770 километрах к югу от Парижа, поздно вечером во вторник, второго июня. По разным причинам сообщение поступило в полицию только рано утром следующего дня. Тело обнаружили в полуразрушенной часовенке, которая простояла все послевоенное время заброшенной среди густого леса. И вот кто-то проник туда, закрыл алтарь покрывалом из белого шелка и, по сообщению полиции, зажег не менее шестидесяти шести восковых свечей.
На шелковую поверхность они положили тело Мари-Элизы. Она была обнаженной, с венком из цветов на голове. Местная полиция сначала решила, что речь идет о ритуальном сексуальном убийстве. Но судебные медики не нашли никаких признаков изнасилования.
— Даже мертвая она была прекрасна. Она лежала так мирно. Как ангел.
Голос в телефоне дрожал. Отец Мари-Элизы Монье долго молчал, потом продолжил:
— Я видел несколько фотографий у полицейских. Ее волосы рассыпались по шелковой поверхности и напоминали сияние. Руки сложены на груди. Неземная красота. Как у богини. Но они не закрыли ей глаза. Правда, странно? Они могли бы, по меньшей мере, закрыть ей глаза. В ее глазах была огромная скорбь, Белтэ. Огромная скорбь.
Я думал, что никогда больше не услышу о нем. И все-таки он позвонил. Потому что я просил его позвонить. Если она объявится. И она объявилась. В каком-то смысле.
Вероятно, ему надо было с кем-то поговорить. Возможно, было не очень много людей, кому он мог позвонить.
— Кто мог такое сотворить? — продолжил он. — Кто мог сделать такое с молодой женщиной?
— Ужасно.
— Мари-Элиза всегда интересовалась потусторонним миром. И теперь попала туда. Трагическая ирония. Ей исполнилось двадцать четыре.
— Примите мои соболезнования. Я не знаю, что сказать.
— С самого раннего возраста она была ищущим человеком. Я думаю, именно по этой причине она стала изучать теологию. Она была верующей. Но не по четко обрисованному церковному образцу. Ее не занимали правила, предписания, запреты и догмы и подобные вещи. Мари-Элиза считала, что Церковь — как институт — была жалкой попыткой человека привести веру в систему. Она полагала, что на свете есть более высокая истина. Истина, которую ни Церковь, ни Библия — или какая-то другая религия или другое вероисповедание — не смогла установить. Сам я добрый католик. Вполне традиционный. Признаю это. У нас было много увлекательных дискуссий, у нас с Мари-Элизой. Но я всегда уважал ее. Так же как она уважала меня:
— А какая же вера была у нее?
Он задумался, потом ответил:
— Мари-Элиза была христианкой, но совсем в другом смысле, чем мы привыкли. Она увлекалась гностиками,
[206] катарами,
[207]манихеями.
[208] Ее занимала грань между добром и злом, светом и тьмой. Она полагала, что эфир вокруг нас заполнен добрыми духами — светлыми существами, как она их называла, лишенными плоти. И еще верила в темные силы. В злых духов тьмы. Называйте их демонами, если хотите. Дьяволятами. Подручными Сатаны.
Он замолк. Я слышал только его дыхание.
— Мари-Элиза стала теперь светлым духом. Когда я смотрю на фотографии в полиции, мне кажется, что она сияет. Даже мертвая. Она сияет.
— Где она обрела свою веру?
— У нее было два наставника. Учителя. Собственно, вам надо бы поговорить с ними. Один — старик, насколько мне известно. И его жена — моложе. Мари-Элиза в восторге от них. Была.
— Они живут в Париже?
— Нет, в Амстердаме.
Я подумал о Моник, у которой был нидерландский электронный адрес. И еще о паре в Амстердаме, о которой попытался узнать Кристиан Кайзер.
— Как вы думаете, они могут иметь отношение к… к тому, что произошло?
— Никакого. Мари-Элиза очень хорошо разбиралась в людях. Она много раз бывала в Амстердаме и навещала их. Эти встречи вдохновляли ее.
— Что вы знаете об этих людях?
— Не много. Они жили уединенно. Окруженные тайной. Мари-Элиза помогала им.
— Чем?
— Хороший вопрос. Помощь имела отношение к тому, что они изучали. Это все, что мне известно. А занимались они чем-то странным.
— В каком смысле странным?
— Я не разбираюсь в таких вещах. Но насколько я понимаю, они были экспертами по сатанизму. Только не думайте плохо ни о Мари-Элизе, ни об этих исследователях. Их интерес был исключительно академическим.
— Какую роль в их исследованиях играла Мари-Элиза?
— Она была их контактом с внешним миром. Через Интернет большей частью. В Интернете она была ас.
— Вы можете мне помочь связаться с ними?
— К сожалению, нет. Мари-Элиза стерла в мобильном телефоне список контактов. Ноутбук со всеми электронными адресами конфисковала полиция.
Мы поговорили еще несколько минут. Перед прощанием я попросил его позвонить мне, если у него появятся новые сведения.
2
Он позвонил на следующий день утром. Его едва было слышно. Как будто он вот-вот потеряет голос.
— Кое-что случилось. Совершенно неожиданное.
— Что случилось, Монье?
— Речь идет о Мари-Элизе.
— Вот как?
— И о вас.
— Обо мне?!
— Я получил письмо.
— От… убийц?
— От Мари-Элизы. Ее подруга переслала его мне.
— Надо передать его полиции!
— Они его получат.
— Что она пишет?
— Вам надо прочитать его.
— Почему?
— Вы там упомянуты.
— Я? И что там написано?
— Не по телефону. Нет-нет.
— Как мне его получить?
— Вы можете приехать в Париж?
За окном я увидел большую птицу — орел? Коршун? — которая парила большими кругами, на фоне неба был виден только силуэт. И вдруг она ринулась вниз и исчезла.
Вы можете приехать в Париж?
— Белтэ?
Амстердам… Париж… Каркассон… Рим…
Я искал хищную птицу и думал. Я не могу прятаться здесь, на горном пастбище, всю свою жизнь. Быть в бегах — значит издеваться над собой. Ты становишься добычей. Прячешься и ждешь, что тебя поймают.
— Я только предлагаю, — сказал он. — Я могу отдать письмо полиции.
— Нет-нет! Мне нужно было подумать.
Я опять увидел птицу. Теперь у нее в когтях была добыча. Отсюда не видно какая.
А что я? Конечно, я могу прожить здесь все лето, рядом с пастбищем. В Ювдале. Кристин вряд ли будет против. А они меня здесь никогда не найдут.
Или…
Или же я могу что-то сделать.
Что-то сделать.
Я могу сам напасть на них. Хватит бегать. Пора переходить в контрнаступление.
— Белтэ? Алло?
Я проследил за большой птицей, пока она не пропала из виду. Где-то на скале у нее было гнездо. Совершенно неприступное. Если поеду в Париж, думал я, то сначала заеду в Амстердам, а потом двинусь в Каркассон и Рим. Я могу прийти к тем людям, чьи жизненные судьбы оказались связанными с моей. Я могу что-то сделать. Вместо того чтобы прятаться. Бегство — это состояние души. Рано или поздно из этого состояния надо выходить.
— Конечно, я приеду.
— Прекрасно.
— Я не могу точно сказать, когда это будет, может быть через пару дней, но я приеду!
— Они были здесь вчера.
— Кто?
— Полиция.
— Ну, это же нормально.
— Тогда я еще не получил письма. Оно лежало в почтовом ящике сегодня утром. Я… — Он больше не мог говорить. Накануне он производил впечатление спокойного человека. Как будто то, что его мертвую дочь нашли, успокоило его наконец. Теперь до него полностью дошел весь ужас происходящего. — Полицейские сказали…
Еще раз правда оказалась слишком тяжелой ношей. Он не смог закончить.
— У меня теперь есть их телефон, — сказал он вместо этого.
— Чей?
— Тех, про кого вы спрашивали. В Амстердаме. Я могу послать его эсэмэской, как только мы закончим разговаривать. Имя и номер телефона.
— Спасибо. Это очень поможет.
— Белтэ?
— Да?
Пауза.
— Монье? Вы здесь?
— Белтэ, знаете, почему я хочу показать вам письмо?
— Потому что я в нем упомянут?
— Потому что я надеюсь, что вы сможете содействовать тому, чтобы убийцы Мари-Элизы понесли наказание.
«Вы слишком многого от меня хотите», — подумал я.
По какой-то причине Мари-Элиза напомнила мне о Сусанне. Она тоже умерла очень рано. Я случайно увидел объявление о смерти несколько лет назад. «Равно хороши цветы и дар Союзу по борьбе с раком».
Сусанна была первой девушкой, которую я поцеловал. Мне было шестнадцать. Она была слепой.
РИМ
май 1970
— Джованни?
Ее голос не сумел проникнуть в пелену, отделявшую сон от сознания. В сновидении он стоял, как и в других случаях, лицом к лицу с Вельзевулом — повелителем мух, магистром демонов, помощником Люцифера и властителем ада. Изо рта демона несло гнилым мясом и тухлой рыбой. Он закутался в покрытые кожей крылья, словно ему было холодно, и издевательски смотрел на Джованни.
— Чего ты хочешь? — закричал Джованни, он ребенок, голосок тонкий, нежный, пугливый. — Чего ты от меня хочешь? Почему ты меня преследуешь?
Вельзевул расправил свои огромные крылья, сразу же бросившие ледяную тень на Джованни.
— Идем со мной, дитя! — прорычал демон, и голос его был именно таким, каким Джованни представлял его себе: грубым, сиплым, скрипучим.
— Джованни? Ты проснулся?
За Вельзевулом в желто-сером тумане он различал целую армию уродливых тел и демонов; серафимы и шедимы; некоторые голые, другие волосатые, некоторые крылатые, другие бескрылые. Звериный рев, жуткие крики исходили из туманных глубин, отдававших серой. Интуитивно Джованни чувствовал присутствие царя Ваала, графа Фурфура, маркиза Шакса и других могучих демонов. Но он их не видел, сейчас не видел. Вельзевул издевательски произнес:
— Ты кого-то высматриваешь, Джованни? Свою маму, может быть? Она здесь, как ты знаешь, она вместе с нами. И папа твой тоже здесь. Позвать его?
Демоны низшего ранга, подобно изголодавшимся грифам, сидели на ветках без листьев и бесстрастным взором внимательно смотрели на бесцветный ландшафт.
— Джованни! Сколько можно! Уже половина десятого!
Он открыл глаза. Рассвет проникал через тонкие занавески. Лучана стояла у его кровати, изящная, пахнущая душем. На мокрых волосах полотенце.
— Вставай!
— Доброе утро.
— Ты — соня!
Он оперся на локти. Белла, их разжиревшая гончая, спавшая на его кровати в ногах, вскочила тоже. Из душа раздалось пение Сильваны.
— Послушай, — сказала Лучана.
— Мм?
— У меня сегодня дело в Л’Акуиле.
[209]
— Ты об этом ничего не говорила.
— Я узнала только вчера.
— Что там будет?
— Ну как ты думаешь?
Он сел, почесал живот, потом волосатую грудь. Белла зевнула.
— Домой приеду поздно, — сказала Лучана.
— Во сколько?
— Трудно сказать. Поздно. Сам знаешь. Но позавтракать мы можем вместе.
Они разлили чай, на завтрак были яйца всмятку, варенье и сыр. Белла лежала под столом и кусала резиновую кость, которая пищала при каждом ее укусе. Лучана была молчаливой и неприступной. Сильвана размазала мягкий яичный желток по поджаренной белой булке. Как и мама, она была нелюдимой и закрытой. «А ведь, между прочим, и я такой же», — подумал Джованни, помешивая чайной ложкой сахар.
— Так что же будет в Л’Акуиле? — спросил он.
— Покупка недвижимости.
— И что-то интересное?
— Всего лишь промышленное здание.
— Поедешь на поезде?
— Меня повезет Энрико.
Сильвана посмотрела на родителей. Джованни улыбнулся ей. Она ответила улыбкой. У нее всегда был взрослый взгляд. Ей только десять, и возраст выдавало тщедушное тельце, но по уму Сильвана была старше своего возраста. Порой ее высказывания поражали его. Словно они принадлежали взрослой женщине. Иногда он ловил себя на мысли, что дочь одержима. Это был глупый и иррациональный страх, возникший из-за тематики его занятий и постоянных кошмаров, он понимал это, но никак не мог отделаться. Сильвана жила в собственном мире. У нее был воображаемый друг по имени Ло-Ло, с которым она подолгу разговаривала. Эти разговоры были взрослыми. Если рассуждать трезво, то у девочки могло бы быть легкое психическое отклонение. Но нет. С Сильваной все было в порядке в этом отношении. И все же что-то угнетало Джованни. Чего он не мог понять. За несколько секунд она могла полностью перемениться. Взгляд маленькой девочки мог наполниться чем-то, что нельзя определить и что пугало его. Словно она видела все, оценивала все, знала все. И все же. Если она одержима, то чем? Или кем? Одним из тех демонов, которые были в его ночных кошмарах?
Не будь смешным, Джованни. Может быть, ему сменить сферу деятельности? Специальность стала его собственной одержимостью.
По улице прогрохотал мопед без глушителя.
— А ты чем займешься сегодня? — спросила Лучана. Не глядя на него. Ее взгляд был прикован к кругам, образуемым ложкой в чашке чая.
Он подумал: «Зачем она изображает интерес ко мне?»
— У тебя сегодня много лекций? — продолжила она, когда он не ответил.
— Только две.
— В холодильнике бараньи котлеты.
— Приятная новость. Тебя ждать?
— Нет. Ешьте сами. Я приеду поздно.
— Да. Ты уже говорила.
Когда Джованни было восемь лет, он заразился брюшным тифом. Почти неделю он провел в состоянии комы в сельской больнице. Врачи говорили родителям, что болезнь очень опасна и в самом худшем случае Джованни может умереть. Родители не отходили от его постели вплоть до самого выздоровления. Папа и мама были верующими католиками и призвали церковную общину деревни молиться за его выздоровление. Когда молитвы не помогли и они стали думать, что сына заберет Бог, которому они всегда молились, они вызвали местного священника, который окропил его святой водой и прочитал молитву. Это не помогло Джованни. Измученный жаром мозг увлек мальчика в первые ряды представления в аду, где армия демонов и дьяволят издевалась над ним, соблазняла его, угрожала, издевалась, третировала. С криками, ревом, шипением, лестью вертелись они в болезненных фантазиях Джованни. Сегодня, более тридцати лет спустя, его навещали те же самые картины и звуки, запахи и предчувствие гибели. Он мог проснуться среди ночи, весь покрытый потом, от кошмара, который казался ему таким же реальным, как вид спящей Лучаны и овал луны за занавеской. Эти сны часто поднимали его с постели, он шел на кухню, где согревался теплым молоком с медом и пытался выгнать из головы жуткие видения.
Безумие, Джованни, настоящее, ярко выраженное безумие. Даже средь бела дня, когда светило солнце, он мог вообразить, что видит демона — на улице, в коридоре университета, за деревом в парке или плывущего в воде фонтана, находившегося рядом с пиццерией, полной туристов. Он начинал думать, не пора ли ему сходить на консультацию к психиатру. Визит не состоялся. Хотя он и верил в демонов в духовном смысле, он никогда не верил в них как в физические объекты. И тем не менее они имели над ним мрачную власть, похожую на фобию или фетиш, от которой он стремился избавиться полностью или хотя бы на некоторое время. Детские фантазии закрепились в нем, как будто его болезнь оставила приоткрытой дверь в другой мир.
— Тебе надо подстричь бороду, — сказала Лучана.
— Думаешь, надо?
— И подстричься.
Он провел пальцами по волосам у висков. Как и его отец, он начал рано седеть.
— А тебе, мой очаровательный ангел, ничего не надо менять, ты и без того само совершенство. — Он хотел, чтобы получилась шутка, преувеличенное объяснение в любви, но сам услышал, как глупо и фальшиво это прозвучало.
Она улыбнулась. Или же ему показалось, что она улыбнулась.
Он встретил Лучану, когда ей было восемнадцать, а ему на десять лет больше. Чем-то она напоминала Джованни ангела с картины Боттичелли.
[210] Он был стар для нее, а она слишком хороша для него; и тем не менее они полюбили друг друга и через год поженились на Капри, церемония бракосочетания была очень романтичной. Ощущение, что он недостоин ее, никогда не покидало Джованни. Лучана слишком хороша, слишком благородна; она создана для богатых мужчин, владеющих быстрыми яхтами и собственными винными погребами. Его давно уже мучило чувство, что он ее утомляет. У нее было так много желаний, у его Лучаны, а он не в состоянии осуществить даже часть из них. Она хотела путешествовать по миру, писать картины, пить утренний кофе на террасе с видом на Лазурный Берег и заниматься любовью на краю бассейна, скрытого за стеной фиговых деревьев.
После завтрака они убрали со стола, но не стали мыть посуду. Сильвана переоделась в своей комнате, обсуждая с Ло-Ло предстоящий день. Джованни быстро прогулялся по кварталу с Беллой. Когда он вернулся домой, обе его красавицы, мать и дочь, были уже в дверях. Лучана обычно провожала Сильвану до школы, а потом садилась на трамвай и ехала в агентство по недвижимости.
— Не забудь, я вернусь поздно, — сказала она и побежала вместе с дочерью.
— Знаю, знаю, — ответил Джованни. — Л’Акуила.
Каждое утро он ехал на велосипеде в университет, расположенный неподалеку от Пьяцца ди Венеция. Лучана называла эту езду на велосипеде унизительной и считала попыткой самоубийства. Лавирование по утреннему потоку транспорта давало ему, как ни парадоксально, ощущение покоя и безопасности. Поездка в Григорианский университет отнимала у него семнадцать минут, что примерно соответствовало тому времени, которое коллеги-автомобилисты тратили на поиски места парковки для своего автомобиля поблизости от факультетов, кафедр и библиотеки. Теологический факультет, на котором работал Джованни Нобиле, был одним из самых больших в мире, а коллеги принадлежали к числу самых лучших специалистов по узким и зачастую странным дисциплинам. Сам он по причинам, которые казались ему до противности банальными, увлекся одним странным побочным ответвлением теологии — демонологией. Посторонним людям он представлялся теологом. Тогда на него, как правило, не обращали внимания. Когда же он по ошибке называл свою узкую специальность, люди реагировали с безграничным любопытством. И ужасом.
Мимо него на расстоянии всего нескольких сантиметров проехал автобус. Он выкрикнул проклятия, потонувшие в шуме дизеля автобуса и сирены полицейского автомобиля, который пытался проскочить мимо.
Демонология была наукой о демонах, классической и иногда подвергавшейся сомнениям специализацией внутри теологии. А есть ли вообще демоны? И что такое демон? Злой дух? Падший ангел? Самое простое определение, обычно говорил Джованни, такое: это сверхъестественные существа, которые не являются ни богами, ни ангелами. Но такая дефиниция была до бессмысленности поверхностной. Иерархия демонов включает большое количество типов — и человекоподобных, в физическом облике, и отвратительных духов. Уже много лет он, наряду с чтением лекций, отнимавших много времени, работал над собственным проектом, который предполагал составление каталога демонов, систематизацию их по именам, особенностям и религиозной принадлежности. На протяжении веков были сделаны многочисленные попытки классифицировать и каталогизировать демонов в зависимости от типа, характера, времени года, способностей — но Джованни считал, что вполне возможно собрать все особенности в одном общем систематическом каталоге. Некоторые коллеги протестовали против демонологии. Они считали, что вредным духам не место в Царстве Божьем, что демоны — это только метафоры и лишь разные проявления Сатаны. Другие же, фундаменталисты и православные христиане, всерьез думали, что демоны существуют как осязаемые создания в эфире между физической действительностью и потусторонним миром. Сам Джованни Нобиле считал, что голуби на дороге могут изображать демонов так же хорошо, как и что угодно другое.
Рядом с теологическим факультетом он прикрепил переднее колесо велосипеда к отопительной трубе, о которой давным-давно забыли и охранники, и отопительная компания. Закрыл висячий зам
ок. Все на факультете, и студенты, и профессора, знали, что это была личная велосипедная парковка Джованни. До кафедры он шел вместе с Роберто Фалетти, коллегой, которому Джованни помогал в работе над докторской диссертацией о месте Сатаны в теодиции — проблеме зла. Роберто создал особую теорию Сатаны и места зла в созидательной деятельности Бога и поэтому был в постоянном конфликте со своими консультантами, деканом и группой упрямых кардиналов в Ватикане.
Джованни отпер свой до смешного маленький кабинет, где книги, брошюры и диссертации образовывали грозящие рухнуть сталагмиты. Повесил вельветовую куртку на стул и закурил первую за день трубку. У него с Лучаной было заключено негласное соглашение, что она не будет призывать его бросить курить, если он будет курить только на работе и только в кабинете за закрытыми дверьми. По Пьяцца делла Пилота ходили первые в летнем сезоне туристы, легко узнаваемые по картам, путеводителям и фотоаппаратам. Он глубоко втянул дым и задержал его. Два туриста прошли сквозь стаю голубей, которая «открылась», а потом «закрылась» за ними, как это происходит с молнией на одежде. Рядом с пишущей машинкой лежала стопка бумаг — черновик статьи, которую он писал для «Гарвардского теологического обозрения» по поводу своих десяти тезисов о месте Сатаны в демонологии. Он пробежал глазами разделы, над которыми работал перед тем, как уйти вчера с работы:
По-видимому, есть какая-то неуверенность, какое-то сомнение, какие-то разногласия по вопросу о той, принадлежат ли имена Сатана, Люцифер и Вельзевул одному и тому же персонажу (с различным религиозным происхождением), или же это разные дьяволы. Ответ зависит от того, на какие источники опираются авторы. Уместным здесь будет сказать, что слово «сатана», которое значит «обвинитель» или «противник», долго было общим названием для любого дьявола, а вовсе не собственным именем.[211]
В «Завещании царя Соломона» — которое, как утверждается, было написано библейским царем Соломоном[212] (что не было задокументировано и с большой долей вероятности является не более чем мифом) — читателю представлен ряд пугающих демонов (в частности, один, лишенный головы, который смотрит через груди), обладающих различными (и, естественно, малосимпатичными) свойствами. «Завещание Соломона», апокрифическое произведение, написанное, по-видимому, между 100 и 400 годами после Рождества Христова (и которое, похоже, базируется на более старых, ныне утраченных источниках), описывает, каким образом царь Соломон умудрился пленить группу демонов, возглавляемую Вельзевулом, который, как ни парадоксально, получает задание помочь Соломону в строительстве храма в Иерусалиме. Из нескольких бесед с демонами царь Соломон узнает об их слабостях и о способах одолеть этих существ.
Таким образом «Завещание Соломона» выступает своего рода инструкцией, как нам избежать гнева демонов. Этот труд считается древнейшим из известных произведений, называющих и описывающих демонов. Когда демонов просят описать, назвать их личных противников, то многие намекают на некоего будущего спасителя, что подтверждает теорию о том, что текст фактически написан после, а не до Христа (то есть они как бы предсказывают пришествие спасителя).
Интересной деталью в «Завещании Соломона» является упоминание о Вельзевуле (одно из многих имен Вельзебуба), принце ада, который выступает в роли начальника демонов в период царствования Соломона. Он говорит, что когда-то был самым высокопоставленным ангелом на небесах, что его имя связано с Геспером, «вечерней звездой», — греческим названием Венеры, которая по вечерам появляется на западе, а по утрам на востоке. В этом случае Вельзевул и Люцифер — один и тот же персонаж. Вельзевул в древней семитской традиции идентичен богу Ваалю. В более поздней христианской традиции Вельзевул приравнивается и к Люциферу, и к демонам более низкого ранга. Также Люцифера рассматривают как одного из представителей дуализма Сатаны, а некоторые считают, что несущий свет Люцифер, божий ангел, представляет более позитивные идеалы, чем Сатана, инкарнация дьявола зла. В XIII веке папа Иоанн XXI сосчитал, что Сатану поддержали 133 303 668 ангелов — и превратились в демонов, в то время как 266 613 336 ангелов остались верными Богу. Однако неясно, что послужило основанием для математических изысканий папы и последующих выводов.
Джованни посмотрел на стопку бумаги. На пишущую машинку. Н-да. Вздохнул. Выпустил из ноздрей табачный дым. «Над этим, — подумал он, — надо еще поработать, прежде чем показывать щепетильным редакторам „Гарвардского теологического обозрения“». Он хотел сесть, но тут зазвонил телефон. Дал ему прозвонить три раза — чтобы создалось впечатление, будто он занят чем-то важным, — потом ответил:
— Да, Нобиле!
— Профессор! Старина! Это я!
Он тут же узнал вкрадчивый грудной голос Луиджи Фиаччини. Луиджи — настоящее чучело. Горбатый кривой урод, который при соответствующем освещении мог сойти за одного из изучаемых Джованни демонов. И грандиозный пьяница. Луиджи владел антикварной лавкой в переулке около Виа дель Говерно Веккио.
— Луиджи! Старый бандит! Чем могу быть полезен?
— Многим, профессор, многим. Но сначала я могу кое-что сделать для тебя.
— Да?
Курительная трубка погасла, понадобилось две спички, чтобы зажечь ее снова.
— Манускрипт, профессор…
— Вот как?
— Ты не поверишь!
— Поподробней, Луиджи.
— Это снова случилось!
— Луиджи! Не играй со мной, будь так добр.
— В Египте. Точно так же, как с библиотекой Наг-Хаммади.
— Что ты хочешь этим сказать?
— Козопас, Джованни, ты можешь в это поверить? Пастух коз нашел в пещере посреди пустыни древний манускрипт.
В боку закололо, как будто он вскочил слишком быстро, — Джованни ухватился за спинку стула.
— Ты там? Джованни?
— Я здесь, здесь. Продолжай!
— Манускрипт был плотно завернут в вощеное полотно и спрятан в запечатанный кувшин. Разве не фантастика? Сначала «Свитки Мертвого моря». Потом Наг-Хаммади. Теперь это. Что появится теперь? Евангелие от Иуды? — Луиджи громко рассмеялся над собственной шуткой.
— Какого рода найденный текст?
— Джованни, Джованни, не будь таким нетерпеливым, друг мой. Его еще не перевели, даже почти не прочитали. Мой египетский продавец, который, если честно, является специалистом скорее по верблюдам и женским попкам, чем по языкам, считает, что текст написан клинописью.
Джованни нахмурил брови. Клинопись? Он привык читать латинские и греческие манускрипты. Остальные были написаны на иврите и арамейском языке. Клинопись обычно связана с более древними культурами. И если только не какое-то невероятное везение, если только этот пастух не наткнулся на глиняные таблички, содержащие «Эпос о Гильгамеше» и «Энуму элиш»,
[213] то чаще всего такие находки оказывались скучнейшими перечислениями товаров.
Луиджи угадал его мысли:
— Потерпи, мой друг, потерпи. Речь идет совсем не об унылой описи содержимого склада товаров или подсчете торговцем своей прибыли.
— Это точно? Ты только что сказал, что никто еще не прочитал его?
— Мой египетский друг описал мне два символа на первой странице.
— Да?
— Джованни…
— Я слушаю.
— Ты сидишь? Держись крепче.
Джованни сел, словно по приказу, за письменный стол:
— Ну же! Только не надо мелодрам. Говори! Что там было на первой странице?
— На самом верху страницы был нарисован символ.
— Какой?
— Трикветр.
Джованни нахмурил брови и положил трубку в пепельницу. Задумчиво нарисовал три переплетенных дуги символа на странице блокнота, который всегда лежал раскрытым около телефона.
— Ну?..
— Я думаю…
— Ты должен меня извинить, в какой-то момент я решил было, что этот текст интересует тебя.
— Дальше!
— Второй символ — павлин.
В наступившей тишине было слышно только тихое шуршание в телефонной трубке.
— Ты решил надо мной подшутить, Луиджи?
— Малак-Тавус.
Джованни схватил трубку и сделал глубокую затяжку, отчего опять появился огонек.
— Джо-о-о-ва-а-ан-нни-и-и, — запел Луиджи.
— Трикветр… Павлин… ты хочешь сказать, что это может быть Евангелие Люцифера?
— Разве не фантастика?
— Оно не может быть подлинным.
— Почему?
— Наверняка фальшивка. Фальшивая версия. Невежда-монах когда-то насочинял что-то в Средние века и засунул в пещеру, чтобы сбить с толку таких идиотов, как мы.
— Говори только о себе, бестолковый ученый!
— Ты не читал статью, которую я написал в прошлом году? В «Ревиста Теологика».
— Читал, естественно. Ты думаешь, что все слишком хорошо, чтобы быть правдой.
— Как правило, я оказываюсь прав.
— Так ты берешься за эту работу, Джованни?
— Какую работу?
— Для профессора ты соображаешь слишком медленно. Силы небесные, неужели можно быть таким несообразительным?
— Скажи попросту, чего ты хочешь, Луиджи?
— Ты можешь поехать в Луксор за мой счет, привезти сюда манускрипт и сделать предварительный анализ?
— Но…
— Джованни, послушай! Я не собираюсь выплачивать этому ослиному фаллосу то состояние, которое он затребовал. А вдруг манускрипт — подделка? Ты же сразу почувствуешь дыхание Сатаны, когда увидишь текст.
— А египетские власти установят, что манускрипт…
— Все формальности уже улажены.
— Кого ты подкупил, Луиджи?
— Шутить изволите, профессор! Ты знаешь не хуже меня, что к манускрипту будут относиться гораздо лучше здесь, в Риме, чем если мы оставим его в руках акул черного рынка и коррумпированных хранителей, которые будут его чистить наждачной бумагой и резать тупыми ножницами.
— Я не желаю связываться с контрабандой. Я не…
— Успокойся, крючкотвор! Все разрешения и лицензии в порядке.
— Мне, конечно, нужно получить согласие декана…
— Спасите меня! Даже бюрократы в муниципалитете не такие формалисты, как вы, ученые!
— На мой взгляд, нельзя обойтись без одобрения этой работы.
— Этого еще не хватало!
— Как бы то ни было, в интересах университета и факультета, чтобы…
— Все будет хорошо, я думаю. Спасибо, спасибо, спасибо. Когда ты можешь ехать?
— Как часто летают самолеты в Луксор?
— Я заказал тебе билет до Каира на вечерний рейс сегодня.
— Ты заказал билет?
— А в Луксор ты полетишь завтра рано утром.
— Луиджи…
— Ты думаешь, я не знал, что ты согласишься?
— Я тебе не ответил. Я сказал, что мне нужно получить разрешение от моего начальства. Мне нужно найти кого-нибудь, кто посидит с Сильваной. Кто-то должен выгуливать Беллу. Правда, можно договориться с соседкой.
— Я зайду к тебе в семнадцать ноль-ноль и отвезу в аэропорт.
— И тем самым сэкономишь деньги на такси?
— Сарказм тебе очень не идет.
— Ты знаешь, почему я заинтересовался этим манускриптом?
— Да! Ты хочешь доказать, что он не существует.
— Не говори глупости! Только потому, что у меня есть здоровый научный скептицизм…
— О, извини, я неправильно огласил официальную версию. Сейчас последует верная: твой интерес и интерес университета состоит в том, чтобы, исходя из бескорыстного профессионального идеализма, оградить памятник культуры от вандалов и коммерческого использования, — торжественно возвестил Луиджи.
— Григорианский университет сохранит за собой право участвовать в торгах, когда ты выставишь манускрипт на продажу.
— Бла-бла-бла…
— Луиджи!
— Он вам будет дорого стоить.
— Я ни одной секунды своей жизни не сомневался, что в тебе нет ни крупицы порядочности.
— Мне абсолютно все равно, попадет манускрипт в руки частного коллекционера или ученых. Все вы одинаковые, скряги, все-все.
— Ты прекрасно знаешь, что ты не прав. Но эту дискуссию мы с тобой вели уже много раз, — он услышал, как Луиджи фыркнул и засмеялся, — и я знаю, что ты не такой циник, каким хочешь казаться.
— Думай что хочешь.
— И независимо от того, чем это кончится, ты получишь свои деньги. При условии, что манускрипт не подделка.
— Ну конечно, друг мой.
Поездка в Луксор была напряженной, суматошной и погруженной во влажную жару, которая казалась невыносимой даже для человека, привыкшего к августовской погоде в Риме. Он пришел в антикварную лавку во вторник незадолго до двенадцати. Такая была договоренность. Лавка была заперта. Ясное дело. В Египте все указания времени в лучшем случае приблизительные. Жара и тысячи мух. Он попробовал убить время на раскуривание трубки. Даже в тени под гофрированной поверхностью ржавого навеса тяжелый табачный дым вызывал тошноту. Сам антиквар появился минут через сорок в грузовике, который выглядел так, будто его использовали еще при строительстве пирамиды Хеопса. Никаких извинений или объяснений, рядом беззубый парень, окруженный облаком пыли и насекомых-паразитов. Беззубый оказался тем самым пастухом коз, который нашел манускрипт. От него исходил соответствующий запах. В течение следующих часов Джованни понял, что в Египте все относительно. Антиквар в действительности был местным лавочником, говорящим на ломаном английском. У него был брат со связями в подпольных антикварных кругах в Каире. Антикварная лавка была примитивной, здесь торговали подержанными вещами, кухонной утварью и котлами эпохи Шестидневной войны.
[214] Самое старое, что Джованни смог обнаружить в лавке, — это полочка растрепанных книг с кулинарными рецептами конца пятидесятых годов. Невероятно, подумал Джованни, как эти люди могли создать одну из самых могущественных и продвинутых цивилизаций в истории. С помощью торговца, выступавшего в роли переводчика, пастух рассказал, как он искал пропавшую козу, которая, как он боялся, упала в какую-нибудь яму в пустыне. Внутри одной пещеры он что-то увидел, но то, что он сначала принял за козу, оказалось продолговатым глиняным кувшином. Он вытащил кувшин на солнце, вскрыл его пятью прицельными ударами камня.
— В нем ведь могли быть золото и драгоценные камни, — с обезоруживающей улыбкой сказал он, — или джинн, например. — И увидел манускрипт, завернутый в полотняную ткань. Он не преминул вспомнить, что нашедшие рукописи Наг-Хаммади получили большую награду, поэтому он обратился к ближайшему антиквару. Последнее он сказал, почтительно обращаясь к торговцу, который гордо перевел это на английский.
— И вот теперь мы сидим здесь, — сказал торговец с довольной улыбкой, которая показывала, что он уже видит бассейн, построенный на вырученные от продажи манускрипта деньги.
Луиджи и торговец уже заранее договорились о некой предварительной сумме — депозите, — чтобы Джованни мог на время взять манускрипт для изучения. Торговец вручил Джованни завернутый в ткань манускрипт, а Джованни ему — толстую пачку наличных. Торговец, ухмыляясь, стал пересчитывать деньги. Беззубый пастух получил свою долю и, издавая бессмысленные звуки, убежал с высунутым языком. «Вот так, — подумал Джованни, — делают дела в Египте».
В связи с опозданием самолета ему пришлось провести вечер и ночь в Каире, где он купил по чересчур высокой цене духи Лучане и алебастровую фигурку бога Гора — Сильване.
* * *
— Белла! Фу!
Держа лупу в правой руке и незажженную трубку в левой, Джованни оторвался от манускрипта и посмотрел на гончую, которая лаяла, стоя на персидском ковре в прихожей в нескольких метрах от его кабинета. Он очень редко повышал голос на эту миролюбивую собаку, относившуюся к миру с неизменным равнодушием, которому Джованни только мог позавидовать. Ни громкие сигналы спецавтомобилей на главной улице, ни тяжелые шаги по лестнице, ни звонки в дверь не пробуждали у Беллы инстинкта защитницы. И Джованни радовался этому. Сторожевой пес был ему не нужен. А собак-побрехушек он терпеть не мог.
— Ну, замолчи же!
Белла оскалила зубы и, казалось, была готова вцепиться ему в горло. «Странно, — подумал Джованни, — что с ней?» Собака в последний раз тявкнула и рухнула на пол, как будто из нее вынули все батарейки. Еще порычала и положила морду на лапы.
— Хорошая собака!
Текст был разделен на две колонки: одна с клинописью, другая с неизвестными значками. Ни того ни другого языка он не знал. Но вообще-то, Джованни не был ни лингвистом, ни палеографом. И все же он чувствовал какую-то систему в хаосе значков. Пораженный симметрией, он рассматривал их ровные ряды. Невероятно! За столетия написанное практически не поблекло. Как это возможно? А пергамент? Чем его обработали, что он сохранил мягкость? Уважение к старому пергаменту не давало ему закурить трубку. Дым мог повредить нежному материалу и чернилам. В коридоре рычала Белла. Иногда она поднимала голову и обнажала зубы. Это так не похоже на Беллу. Он включил радио.
The Windmills of Your Mind.[215] Он сидел и слушал. Любимую песню. Не осознавая того, отбивал такт ногой.
* * *
В середине дня он поехал на велосипеде в университет. В рюкзаке лежало сокровище культуры. Он передал манускрипт заведующему техническим отделом университета Умберто Джалли. После нескольких громких краж пять лет тому назад, когда исчезли список «Вульгаты»
[216] VI века и реликвия, связанная с апостолом Павлом, технический отдел перевели в защищенный корпус с охранниками, стальными решетками и кодовыми замками. Умберто посвятит работе с манускриптом целый вечер. Поскольку Джованни знал его, не было никаких сомнений, что и большую часть ночи тоже. Из технического отдела Джованни поднялся по лестнице в свой кабинет. Он еще не совсем закончил доклад, который обещал сделать в Орнитологическом обществе о месте птиц в демонологии. Джованни пробежал глазами последнюю страницу текста:
Книги Моисеевы, осуждают поклонение богам в виде птиц, летающих по небу. По-видимому, это была попытка ограничить поклонение идолам, которое принесли с собой пришедшие из Месопотамии племена. Известный археолог Лэйард[217] на раскопках под Нимродом обнаружил на глиняных табличках много священных птиц, которые были частью вавилонской и ассирийской религии. Эти птицы считались видом демонов. Они имели мистическую власть над людьми. В Древнем Вавилоне королевский дворец украшали золотые фигуры священных и магических птиц. И финикийцы, и филистимляне считали голубя священным животным. Да, есть много примеров религиозного использования птиц. Но самое интересное вот что. Филистимляне поклонялись богу плодородия по имени Вааль, или Вельзевул. Вааль Зебуб может восприниматься как повелитель мух и властитель всего, что летает. Израильтяне рассматривали Вааля как большую угрозу и соперника Яхве. Их пророки резко нападали на поклонение идолам, и по сей день по-прежнему Вааль и Вельзевул связываются с демонами и поклонением дьяволу.
* * *
Когда он вернулся с работы, Лучана сидела на стуле в передней. У нее был ужасно подавленный вид.
— Тяжелый день на работе? — спросил он.
— Сильвана не пришла из школы!
Джованни посмотрел на часы. Дочка должна была прийти полчаса назад. Он попробовал успокоить Лучану.
— Она сейчас придет, — несколько раз повторил он.
Заверения Джованни на жену не действовали. Он принес флакон духов, который купил в Каире. Белла тявкнула.
Лучана вытерла слезу нижней стороной ладони и три раза понюхала.
— Очаровательно, — сказала она так равнодушно, что он засомневался, почувствовала ли она вообще запах духов.
— Для Сильваны я купил алебастровую фигурку, изображающую Гора.
— Кого?
— Ну, ты знаешь, бога с головой сокола.
— Она, наверное, обрадуется.
— Может быть, подушишься ими перед тем, как мы ляжем спать?
Это было похоже на флирт, который вот уже несколько месяцев как исчез из их отношений. Вероятно, поэтому Лучана посмотрела на него непонимающе.
— «Арабские ночи», — продолжил он. — Духи называются «Арабские ночи».
— А-а?
— Мне сказали, что их состав придумала наложница, которая хотела обеспечить себе благосклонность султана на каждую ночь.
— Благосклонность?
— Наверняка дешевый торговый трюк.
— Что с ней могло случиться?
— Дорогая, она всего лишь задержалась.
— Только не Сильвана.
— Все опаздывают время от времени.
— По дороге из школы? Ей десять лет, Джованни!
— Может быть, уроки затянулись? Может быть, заигралась с подружками по классу и забыла о времени? Может быть, автомобильная авария, она стоит и смотрит, как подъезжает «скорая помощь»?
— Авария? О боже!
— Конечно не с Сильваной, она ведет себя правильно на улице, ты ведь знаешь Сильвану.
И все же беспокойство Лучаны передалось и ему. Сильвана была не из тех, кто мог что-то забыть. Она была добросовестной и послушной до крайности. Она всегда приходила из школы вовремя. Всегда.
— Я могу сходить и посмотреть.
— Да. Пожалуйста.
Он свистнул Белле, но та, похоже, решила, что прогулка по улице не более заманчива, чем сон на теплом ковре. Она медленно поднялась, пару раз махнула хвостом и снова легла.
* * *
Джованни прошел шесть кварталов до школы. Все было спокойно. Во всяком случае, он не обнаружил на дороге ни одной автомобильной аварии.
Он был уверен, что встретит дочь. Он представил себе, как Сильвана, танцуя, подбегает к нему и рассказывает, что засмотрелась на витрину магазина, что подруга нарисовала мелом на тротуаре квадратики и они играли в классики, ну, дает какое-то объяснение, которое в будущем окажется вполне нормальным и естественным, и они с Лучаной будут смеяться над своими переживаниями.
Так где же она? Подойдя к школе, он попытался открыть тяжелые двери. Но школа была заперта. Может быть, учитель в неразберихе запер ее в классе? Может быть, сломалась защелка на двери туалетной кабинки? Он звонил, но никто не выходил. Когда заканчивает работу администрация? Неужели нет сторожа? Несколько минут он ходил взад и вперед в
тщетной надежде увидеть кого-то, выходящего из дверей. Но никто не выходил. На обратном пути он зашел в парк. В нем было полно детей. Но Сильваны среди них Джованни не увидел.
Когда он открывал ключом дверь, он верил, что Сильвана сидит на кухне и ждет его вместе с Лучаной и Беллой.
— Ау? — крикнул он в тишину. — Сильвана?
Лучана заплакала. Белла стала лизать его руку.
— Может быть, она зашла в гости к подруге?
— Какой подруге?
— Не знаю — но ведь есть у нее, наверное, подруги?
Лучана неподвижно смотрела на него. В ее взгляде был укор? У десятилетней девочки есть подруги? Они нашли список учеников класса и пробежали глазами все имена. В конце концов выбрали четыре знакомых имени из тех, кого при желании можно было рассматривать как подруг Сильваны. Джованни позвонил всем четверым. Он поговорил с двумя матерями и одним отцом, которые с пониманием и огорчением в голосе сказали, что Сильваны у них нет. В четвертой семье телефон не ответил.
По прошествии полутора часов после положенного времени возвращения из школы Джованни позвонил классному руководителю Сильваны. Ее не было дома. Потом он позвонил в больницу. Звонить в больницу было проклятием. Как будто звонок сам по себе превращал Сильвану из опоздавшей в пропавшую или того хуже — в пострадавшую. Его соединили с приемным отделением. Медсестра проверила список всех вновь поступивших. С чувством сострадания она сообщила, что у нее нет сведений о десятилетней девочке. Однако от этого известия Джованни не почувствовал облегчения.
— Позвоните в полицию, — предложила медсестра.
Он стал звонить в полицию.
— Что ты делаешь, Джованни? — спросила Лучана. Голос был дрожащим и нервным. — Что они сказали? Она была у них?
— Нет.
— Куда ты звонишь?
— В полицию.
— Боже! В полицию?
— На всякий случай, Лучана.
В телефонной трубке послышалось несколько щелчков, будто кто-то с кастаньетами вторгся на линию, затем гудок и соединение.
— Профессор Нобиле, — сказал мужской властный голос, — чем могу вам помочь?
Лишь несколько секунд спустя Джованни понял, что не так. Полиция не могла знать, с какого номера звонят и уж тем более кто звонит.
— Откуда вы знаете, кто я?
— С Сильваной все в порядке.
Вихрь отчаяния и ужаса, облегчения и страха едва не сбил с ног Джованни. «С Сильваной все в порядке». Полиция охраняет Сильвану. Она вне опасности. Сильвана в надежных руках. Но что она делает в полиции? Видимо, с ней что-то случилось. Но что?
О боже, неужели ее… — Он был не в силах закончить мысль, не в силах произнести то слово, то непроизносимое слово. Он схватился за галстук и потянул его, пытаясь ослабить узел. Ему не хватало воздуха. «С Сильваной все в порядке».
— Что с ней?
— Джованни? — Голос Лучаны превратился в шепот.
— С Сильваной все в порядке, профессор.
— С ней все в порядке, — сказал он Лучане, закрыв трубку рукой.
— О боже, спасибо!
Он убрал руку:
— Где она? Куда мне зайти за ней?
— Ничего не предпринимайте, профессор Нобиле.
— Что вы хотите сказать?
— Никому не звоните. Ни с кем не вступайте в контакт.
— Я не понимаю…
— Ни с полицией. Ни с коллегами. Ни с друзьями.
С полицией.
Несмотря на жару и большую влажность, от которой рубашка прилипла к спине, мороз пробежал по коже. Джованни пришлось взять себя в руки, чтобы удержаться на ногах. «Ни с кем не вступайте в контакт. Ни с полицией…» Он попытался справиться с охватившим его оцепенением.
— Сильвана! — крикнул он. Он хотел спросить: «Как она?» — но голос изменил ему.
— Джованни? — У Лучаны начиналась истерика. Она дергала его рубашку, словно хотела сорвать с него одежду. — Что случилось? Джованни! Что с Сильваной?
— Если вы не выполните наши требования, профессор Нобиле, вы и ваша супруга никогда больше не увидите Сильвану.
— Но…
— Спокойно. Ни слова ни одному человеку. Тем более полиции. Вы поняли, насколько серьезно ваше положение?
— Джованни? — рыдала Лучана.
— Профессор Нобиле?
Он чуть не задохнулся.
— Да… Да! Да-да-да!
— Мы свяжемся с вами.
— Но Сильвана…
Незнакомец повесил трубку. Вместо гудка на линии послышалось потрескивание. «Кастаньеты», — подумал Джованни. Затем он разобрал нетерпеливый голос:
— Да? Полиция! Что случилось? — Голос был более высокий, чем предыдущий.
— Джованни! — плакала Лучана, прижимаясь к нему.
— Синьор, вы занимаете линию срочного вызова!
— Извините.
— Что случилось?
— Извините.
Он положил трубку и встретился взглядом с Лучаной.
XI
ДИРК И МОНИК
АМСТЕРДАМ
5 июня 2009 года
1
Очень медленно она чуть-чуть приоткрыла дверь и посмотрела на меня.
Где-то глубоко внутри у нее зародился позыв к икоте. Как будто альбинос, стоящий на пороге, едва ли не самое жуткое зрелище, какое может увидеть женщина, целый день погруженная в собственные мысли и вдруг пробудившаяся к реальности от звонка в дверь.
Она смотрела на меня широко раскрытыми глазами сквозь щелочку, цепочка на двери разделяла наши два мира. За моей спиной по каналу Кайзерсхрахт плыл экскурсионный катер с туристами. И сразу заколыхался ряд узких, странных каменных домов, отраженный в воде.
Мне показалось, что она моего возраста, но сохранила девичью прелесть. Карие глаза, светлые волосы с золотистым оттенком. «Ты легко могла бы меня покорить», — подумал я, как и всегда при встрече с привлекательной женщиной. Но сам я, скорее всего, напугал ее.
— Добрый день, — сказал я на своем самом лучшем английском языке, который, если честно признаться, был, скорее, ломаным, — я ищу Дирка ван Рейсевейка.
От ужаса глаза ее забегали. Она сделала попытку закрыть дверь.
— Дирк ван Рейсевейк? — повторил я. — Я пришел по правильному адресу?
Она высунула заламинированную табличку с текстом:
«Aan de deur wordt niet gekocht. Ga weg!»[218] Я не совсем понял надпись на картонке. Но
«Ga weg!» очень напоминало: «Катись колбасой!»
В СМС-сообщении, присланном мне Луи-Фердинандом Монье, было сказано, что нидерландским контактом Мари-Элизы является некий Дирк ван Рейсевейк, что вполне соответствовало старому электронному адресу, упомянутому среди данных этой самой Моник:
rijsemjk2000@dds.nl. Я поискал адрес Рейсевейка в международном телефонном каталоге и в справочниках по Амстердаму. Дело в том, что тот номер телефона, который дала Моник, был засекреченным. Я звонил сначала из Ювдала, потом с нескольких автозаправок и площадок отдыха между Осло и Амстердамом, но так и не получил ответа. И если я вообще сумел обнаружить этот адрес, то только благодаря моему доброму старому опыту детектива. Обзванивая университеты, издательства и антикварные лавки Амстердама, я сумел установить круг общения Дирка ван Рейсевейка через его доброжелательных коллег. Они знали этого пожилого историка, который зарабатывал на жизнь переводами специальной литературы, консультациями по предметам старины и по редким манускриптам. Если верить им, он был человеком странным и нелюдимым. То, что он интересовался, в частности, сатанизмом, было не известно никому из тех, с кем я разговаривал. Дирк ван Рейсевейк жил на набережной канала Кайзерсхрахт со своей значительно более молодой женой, которая была его личным помощником. По-видимому, именно эта женщина сейчас и пыталась захлопнуть дверь перед моим носом.
— Можно встретиться с Дирком ван Рейсевейком? — еще раз спросил я.
Она стояла как каменная глыба. Может быть, она глухая?
Я крикнул:
— Дирк ван Рейсевейк?
Во взгляде ее появился гнев.
— Я пришел поговорить о Евангелии Люцифера.
Она вздрогнула, как будто я просунул в щель руку и схватил ее. Проходящие стали более внимательно смотреть на меня. Катер с туристами прибавил скорость.
Дверь захлопнулась.
В удивлении стоял я на ступеньке и смотрел на закрытую дверь. Я чувствовал себя нежеланным коммивояжером, проклинаемым миссионером, отвергнутым женихом. В конце концов я написал свое имя и номер мобильного телефона на визитной карточке моей гостиницы «Ambassade Hotel» на набережной Херенхрахт и сунул ее в щелочку для почты.
2
Все еще ошеломленный и растерянный из-за негостеприимного приема, я перешел на другой берег и двинулся в сторону порта. Из переполненных баров тянуло запахом гашиша, сладкой мечты. По дороге я зашел в интернет-кафе и проверил почту. Потом сел за столик на улице и заказал пиво, которое стал пить под солнышком, поглядывая на проходящих дам.
Ни одна из них не посмотрела на меня.
Не буду хвастаться, что я — Казанова. Я побаиваюсь женщин. Дело не в том, что я их не люблю. Но очень уж они навязчивые. Если ты им нравишься, то они желают обладать каждой клеточкой твоего тела. И ожидают того же с твоей стороны. Они обрушивают на тебя всю нежность и любовь. Они хотят держать твою руку в кино. Владеть тобой. Брать тебя в «ИКЕА». Те женщины, которые интересуются мной, — бог знает, что они во мне находят, — делают это скорее из сострадания, чем из страсти. Они выключают свет, когда занимаются со мной любовью, так что могут представить себе на моем месте кого-то другого. Самая долгая связь в моей жизни длилась четыре месяца. Со мной трудно жить. Некоторые люди созданы для того, чтобы жить в одиночестве. Ни одна из моих возлюбленных не сказала прямо, но все думали, что я странный. Я сам по себе. И речь не о том, как выжимать из тюбика зубную пасту. Я всегда в стороне. Не только потому, что меня долгое время выживали разные «добрые» люди, а потому, что мне там хорошо. В стороне. Я из тех, кто стоит в стороне на школьном дворе, кто с ужасом ждет урока физкультуры, кто остается невыбранным, когда капитаны отбирают себе игроков в футбольную команду. И дело тут не в альбинизме. Не в плохом зрении. Не в расшатанной психике. Просто я не хочу навязываться там, где меня не ждут.
Я допил пиво, вернулся в гостиницу и лег в постель размышлять, как мне установить контакт с Дирком ван Рейсевейком.
3
— Господин Бьорн Белтэ? — раздался в телефонной трубке старческий голос, тусклый и слабый.
Я прижал мобильник к уху, чтобы слышать лучше.
— Да, это я?
—
Goedemiddag![219] — картаво сказал он по-нидерландски и перешел на английский. — Меня зовут Дирк ван Рейсевейк.
Я вздрогнул и вскочил:
— Спасибо, что позвонили.
— Я предполагаю, что вы — тот Бьорн Белтэ, о котором я читал в археологических изданиях.
— Это я.
—
Goed![220] Я так и подумал. Прежде всего хочу извиниться за негостеприимный прием. Она очень осторожна. И подозрительно относится к посторонним.
Vrouwen![221] У дверей толпится так много странных людей. Она ничего плохого не имела в виду. И все-таки приношу свои извинения. Иногда она перегибает палку.
— Забудьте.
— На вашей визитной карточке я вижу название — Евангелие Люцифера. Вот так сюрприз! Я очень давно ничего не слышал о нем.
— Вы знаете о существовании этого манускрипта?
—
Natuurlijk![222]
—
Я так и думал.
— Полагаю, ваш приезд связан с убийствами Кристиана Кайзера, Тараса Королева и бедняжки Мари-Элизы Монье?
— Вы осведомлены лучше, чем полиция, ван Рейсевейк.
— Я полагаю, что в вашем распоряжении есть некая копия…
het handschrift?[223]
— Возможно. Я не знаю. Пытаюсь собрать нити. Понять.
— Не удастся ли мне уговорить вас посетить нас еще раз? — В голосе появились нотки доброжелательности. — На этот раз гарантирую иной прием.
4
Молчаливая женщина приоткрыла дверь и, смущенно улыбаясь, сняла цепочку.
— А вот и снова я! — пропел я и сладко заулыбался. Это мой обычный метод, помогающий сгладить неловкость любого положения.
Входя в квартиру Дирка ван Рейсевейка, вы словно покидали современную жизнь, брызжущую солнцем и смехом, и проникали в библиотеку, дремлющую под слабым светом пыльных старых ламп. От пола до потолка прихожая была заставлена книгами. Старыми, новыми, тонкими, толстыми. Воздух был насыщен тяжелым запахом бумажной пыли и переплетного клея и еще знаниями. Комната в конце коридора казалась складом антикварного магазинчика. Даже на маленькой кухне повсюду лежали книги.
— Сожалею, что напугал вас в прошлый раз, — сказал я. — И спасибо за то, что вы передали мою визитную карточку.
Не говоря ни слова, она повела меня по коридору, стеллажи в котором угрожали обрушиться под весом книг, потом по узкой лестнице, ступеньки которой жалобно заскрипели под нами.
Не скрою, что я представлял себе Дирка ван Рейсевейка ярко выраженным сатанистом, элегантным мужчиной дьявольского облика с проблесками седины на волосах и заостренными ногтями, сидящим в кожаном кресле с боковыми выступами вокруг головы, окруженным черными стеариновыми свечами, кошками и полуобнаженными рабынями, готовыми повиноваться любому взмаху руки этого супермена.
А действительность оказалась такой. Дирк ван Рейсевейк лежал на широкой кровати в спальне, пахнущей камфарой и болезнями. Он был тщедушным костлявым стариком, с возрастом утратившим былые силы и энергию, с бесцветными глазами и блеклой кожей. Под пушком на голове просматривалась лысина.
Занавески задернуты. Ночной столик и пол под кроватью заложены книгами и стопками бумаги.
— Господин Белтэ! — Он протянул мне руку. Его пожатие было вялым. Дыхание отдавало металлом.
— Называйте меня Бьорн.
— Я извиняюсь за все это, — он провел рукой вокруг себя, — но я очень болен. Годы похитили мое здоровье. Ну да ладно. Хватит об этом. Спасибо, что вы вернулись.
Dank и![224]
— Спасибо за приглашение.
— Прежде всего позвольте вам представить Моник.
Моник…
Имя с сайта Мари-Элизы Монье…
Я удивленно оглянулся и взял ее руку. Маленькую и теплую. Когда я пожимал ее, возможно, нажал слишком сильно, она сделала почти незаметную гримасу. Как будто она не привыкла, что кто-то дотрагивается до нее.
— Она немая. Вы, наверное, удивились, почему она такая тихая.
— Бьорн, — назвал я себя. — Белтэ. Но это вы уже знаете.
— Не надо так кричать. Я сказал, что она немая, а не глухая.
— Извините.
— И кстати, она вовсе не отставшая в развитии или тупая. А совсем наоборот. — Его смех перешел в приступ кашля.
Из нагрудного кармана Моник вынула блокнот.
«Простите! Что так грубо прогнала вас!» — невероятно быстро написала она. Почерк был изящный и легко читаемый. Вперемешку английский и нидерландский языки. Я ожидал продолжения, но его не последовало.
— Все в порядке. Забудьте об этом.
Моник пододвинула мне стул. Сама осталась стоять, прислонившись к стене.
— А дьявольское Евангелие, которое привело вас сюда из далекой Норвегии? — спросил Дирк ван Рейсевейк.
Его фраза прозвучала как вопрос, но подразумевалось, скорее, что она будет воспринята мной как приглашение рассказать все, что я знаю. И я рассказал. Когда я закончил, Дирк долго общался со своими воспоминаниями.
Наконец он сказал:
— Во многих отношениях Евангелие Люцифера определило всю мою жизнь. Я не буду мучить тебя, дорогой Бьорн — позволь мне так к тебе обращаться, — своей манией. Но более всего на свете я хотел разгадать загадки, связанные с этим так называемым Евангелием. К сожалению, время и здоровье уходят от меня. Похоже, что все свои вопросы я унесу с собой в могилу. Правильно я понимаю, что текст, который ты привез из Киева, — это Евангелие Люцифера?
— Это всего лишь гипотеза. Поэтому я и приехал. Я надеялся, что вы поможете мне разобраться.
Дирк закашлялся. Моник помогла ему сесть. Когда кашель наконец кончился, она поправила подушку так, чтобы Дирк мог говорить сидя.
— Как ты нас нашел? — спросил он.
Я рассказал. Про сайт в Интернете. Про данные Моник и электронный адрес. Про письмо Мари-Элизы Монье. Про СМС-сообщение с ее телефонным номером. Про мои разыскания их адреса по телефону.
— Да, никто не может полностью защитить себя, — сказал Дирк ван Рейсевейк. — Я всего лишь хочу, чтобы меня оставили в покое. Хочу быть в стороне. Это все. Очень многие… — Он резко остановил себя. — Бедняжка Мари-Элиза. Она приезжала к нам. Много раз. Что известно о ее убийстве?
— Очевидно, Мари-Элизу убили те же люди, которые раньше убили Кайзера и Королева. Способ убийства тот же. Есть явная связь. Только я не понимаю какая.
— Трагедия! Жуткое преступление. Мне не могло прийти в голову подвергать жизнь Мари-Элизы опасности. Я чувствую себя виноватым за ее убийство.
— А убийцы, — спросил я, — сатанисты?
Дирк ван Рейсевейк долго смотрел на меня, потом ответил:
— Сатанисты? Какой странный вопрос!
— Разве? Что противоестественного в том, что охоту за Евангелием Люцифера устроили сатанисты?
— А что ты знаешь о сатанизме?
— Не очень много. Это поклонники дьявола. Служат черные мессы, в которых христианские ритуалы и символы искажаются и подвергаются насмешкам. Они приносят в жертву грудных детей, поджигают церкви и устраивают оргии…
— Если ты имеешь в виду не фильмы ужасов, то те, о ком ты только что сказал, скорее бунтовщики и клоуны, чем настоящие сатанисты.
— А кто же такой настоящий сатанист?
Дирк ван Рейсевейк поудобнее устроился на кровати.
— Для этого надо понять, что такое сатанизм? Вера в Сатану как путеводная звезда индивидуума в жизни? Сатанизм не однозначная религия, а каша из альтернативных и противоречащих друг другу верований. Поклонников Люцифера больше привлекает философия, чем религия. Они считают, что Люцифер и Сатана — разные божества, что Люцифер более позитивен, чем Сатана. Иные религиозно-философские идеи выдвигает учение Телема, созданное в 1904 году оккультистом Алистером Кроули. «Делай что хочешь!» — основной постулат Телемы. Антон Ла-Вей,
[225] основавший в 1966 году церковь Сатаны, создал разветвленный аппарат верования. В своих книгах главный упор Ла-Вей делал на индивидуализм, материализм и гедонизм. Дело в том, что большинство сатанистов имеют одну общую черту: стремление к мудрости, знанию и саморазвитию.
— А как насчет поклонения злу?
— Сатанизм не занимается злом. Это ему навязывают христиане. В теистическом сатанизме Сатане поклоняются как божественной силе, подобно тому как христиане поклоняются Богу. И только ценности у них разные. Хотя сатанисты поклоняются Сатане, они больше всего уважают свое «я» и индивидуализм. Христиане любят ближнего. Сатанисты любят себя самих. Но теперь я хочу задать вопрос, Бьорн. Как ты добрался до Джованни Нобиле?
— В Википедии я увидел ссылку на сайт университета в Оксфорде. Так я узнал, что в 1969 году Нобиле опубликовал в «Ревиста Теологика» статью о Евангелии Люцифера, в которой выразил сомнение в его существовании.
— Вот как. Теперь понимаю. Да, я читал эту статью. Нобиле мог ошибаться. Он отрицал бы существование Евангелия вплоть до того самого момента, как ему положили бы манускрипт на колени.
— Я позвонил в университет, где он когда-то работал, и попытался связаться с ним. Я поговорил с человеком, который знал его.
— Альдо Ломбарди?
— Откуда вы знаете?
— Я знаком с ним. Хороший человек. Альдо стал профессором демонологии после Джованни Нобиле.
— Он об этом ничего не сказал.
— Поговори с ним. Ты можешь полностью положиться на него!
— Я еду в Рим для встречи с ним.
— Прекрасно.
Goed! Итак. Что еще ты узнал о Евангелии Люцифера?
— Если честно, не очень много. Насколько мне известно, вплоть до 325 года существовал текст, который называли «Пророчествами Ангела Света». По-видимому, именно этот манускрипт стали позже именовать Евангелием Люцифера.
— Совершенно верно.
— Насколько я понимаю, специалисты — историки и теологи — придерживаются разных точек зрения, был ли этот еретический манускрипт — ну да, если он вообще существовал — уничтожен во время Вселенского собора в Никее или нет.
— Ты довольно информирован, как я погляжу.
— А у меня чувство, что я ничего не знаю.
—
Mijn beste man![226] Позволь мне рассказать об этом мистическом манускрипте. На протяжении многих лет — начиная с раннего Средневековья — это так называемое Евангелие теологи и историки считали мифом. Когда Джованни Нобиле писал свою статью в 1969 году, он был последним в длинном ряду теологов, полагавших, что Евангелие Люцифера — мистификация или в лучшем случае апокриф, то есть не канонический библейский текст. Как бы то ни было, никто не читал его и даже не видел. Все, что мы о нем знали, основывалось на цитатах или упоминаниях в других изданиях. Дискуссия вновь разгорелась в 1950-е годы, не в последнюю очередь в связи с обнаружением «Свитков Мертвого моря». Дело в том, что во многих текстах встречались ссылки на манускрипт, который на протяжении столетий до Рождества Христова и в годы жизни Христа был известен как «Пророчества Ангела Света». Невозможно умолчать тот факт, что в исторической литературе есть целый ряд указаний на этот манускрипт. Согласно пятитомному труду
Adversus Haereses («Против ереси»), написанному одним из Отцов Церкви — Иринеем Лионским,
[227] который жил во втором столетии, в гностических кругах ходил список этого языческого документа. В то время считалось, что оригиналу две тысячи лет, если не больше. Мы обнаруживаем указания на него также у римского историка Иосифа Флавия
[228] и в
Aegyptiaca («Книга о Египте»), основанной на египетских архивах, сохранившихся в Гелиопольском храме. Историк Манетон
[229] утверждал, что манускрипт находится в некоем святом месте. В переносном ларце, покрытом золотом, который более всего напоминает ковчег Завета.
— А почему этот манускрипт называется Евангелие? Принято считать, что евангелия рассказывают о жизни и учении Иисуса Христа?
— Вот именно. Отец Церкви Иоанн Златоуст
[230] утверждал в 398 году, что такое название было введено еретиками для того, чтобы поиздеваться над Библией.
— Значит, текст Евангелия все-таки сатанинский?
—
Nee, nee.
[231] Если верно, что манускрипт был написан за две-три тысячи лет до Рождества Христова, то тогда не существовало никакого Сатаны в том виде, в каком мы его знаем по Библии. Были сомнения, не слишком ли произвольно древний манускрипт рассказывает о жизни падшего ангела. Того ангела тьмы, который со временем превратится в Сатану, каким мы его знаем. Это плохо воспринималось в некоторых кругах! Подумайте, какая еретическая мысль, что восстание ищущего истины ангела против самодовольного Бога имело под собой твердую почву! Представь себе, что Сатана стал героем в этой истории — подчиненный, который осмелился протестовать и был наказан чересчур жестоко.
— Зачем говорить о мифологии древних времен. Никто не воспринимает буквально эти сказки о богах.
—
Precies![232] Это лишь одна из многих теорий. Другая, еще более пугающая, теория рассказывает, что в Евангелии Люцифера названа точная дата Армагеддона,
[233] гибели Земли.
— Армагеддона? Разве это не христианское представление?
— Ты совершенно прав. А парадоксальным — и для некоторых пугающим — в этой связи является то, что Евангелие Люцифера старше христианского пророчества на несколько тысяч лет.
— Но из этого не следует, что пророчество верное.
— Конечно.
Nee, nee. Но христианские пророчества базируются на более старых мифах и воззрениях. Представление христиан об Армагеддоне может быть взято из Евангелия Люцифера.
— Что же случилось с манускриптом на Вселенском соборе 325 года в Никее?
— Среди многих тем, стоявших в центре внимания епископов и Отцов Церкви, была тема ереси. То есть, в сущности, они говорили об инакомыслящих. Вселенский собор в Никее считается одним из первых форумов, где христиане обсуждали что-то коллегиально. Перед епископами стояла задача уничтожить все тенденции к отклонению от единой религиозной линии. И в частности, например, точку зрения ариан,
[234] которые считали, что Иисус не был по природе своей таким же божественным, как сам Бог. Поплатились за свои взгляды и гностики. А в качестве совсем маленького довеска принято решение уничтожить древний текст «Пророчества Ангела Света». Сжечь его. Более всего это решение напоминало символический акт.
— Но его не сожгли?
— Достоверно это не известно. Но похоже, что либо весь манускрипт, либо его части сохранились.
— Откуда эти сведения?
— Упоминания о Евангелии и цитаты из него обнаружены в других источниках того времени. На протяжении всей истории в неортодоксальной религиозной среде циркулировали короткие фрагменты, предположительно копии отдельных разделов Евангелия Люцифера. Но только в 1970 году в Египте обнаружилась — предположительно — часть этого манускрипта. К сожалению, этот текст пропал в том же году вместе с Джованни Нобиле, который привез его для изучения в Рим.
— По сведениям Альдо Ломбарди, по сей день неизвестно, что стало с профессором и с манускриптом.
— Я знаю эту историю.
Een tragedie. Его убили экстремисты — религиозные фанатики. — Дирк сел поудобнее. — И что же ты собираешься предпринять теперь?
— Ну, есть же объяснение всему. Манускрипту. Убийствам. Так что я буду продолжать поиск, пока не разберусь, что к чему. Надеюсь, Альдо Ломбарди мне поможет.
— Альдо, пожалуй, единственный человек на свете, так много знающий об истории Евангелия Люцифера. — Он закашлялся. Сухим надрывным кашлем. — Бьорн, могу я попросить тебя об одной услуге? Я хочу кое-что предложить.
— Что именно?
— Я хочу, чтобы Моник была с тобой.
Трудно сказать, кто из нас двоих был больше изумлен. Моник издала странный горловой звук и опустилась на край кровати. Что-то быстро написала в блокноте, показала. Дирк покачал головой. Она положила на его руку ладонь и сжала ее.
— Моник? — повторил я, вернув самообладание.
— Чтобы действовать вместе с тобой.
— Но почему?
— Она — прекрасная помощница, поверь мне, я ее знаю!
— Действовать вместе? — спросил я, затягивая время, чтобы успеть переварить предложение.
— Она может стать твоим помощником, ассистентом, называй как хочешь.
Не каждый день пожилой муж пытается навязать мне свою молодую супругу. Я не знал, что сказать.
— Мне надо ехать в Париж, Каркассон и Рим, — пробормотал я уклончиво.
— Моник тебе пригодится. Она знает эти места.
— На автомобиле!
— Моник водит автомобиль.
— На крохотном «Ситроене-2CV»!
— Белтэ… Можно ей с тобой поехать? Ну пожалуйста. Ты принимаешь мое предложение?
Я перевел глаза с Дирка ван Рейсевейка на Моник, которая что-то написала. Он прочитал, но не прокомментировал. Я не знал, что сказать. Больше всего я люблю работать один. Но в пользу Моник говорило то, что я с самого начала был очарован ею.
— Бьорн?
— Конечно, — вырвалось у меня. — Конечно.
Вот так Моник вошла в мою жизнь.
XII
ПАУК
ПАРИЖ
6–7 июня 2009 года
1
На следующее утро я из Амстердама отправился в Париж, погруженный в болото из множества вопросов и подавленного ужаса, сопровождаемый моим вновь приобретенным оруженосцем Моник, которая молчаливо, как сфинкс, восседала на пассажирском сиденье. Она взяла с собой вязанье, целиком поглотившее ее внимание. Мне казалось, что иметь спутника во время автомобильной поездки очень приятно, но несколько мешало то, что она была немой. Иногда я пытался завязать с ней что-то вроде беседы, но трудновато читать ответы на скорости в сто километров в час. Большей скорости мой автомобиль осилить не мог. Даже на автобане. Даже вниз по склону. Даже при попутном ветре. Моя Болла — маленький «Ситроен-2CV», очень напоминающий консервную банку на четырех колесах со слабым «резиновым» моторчиком.
Моник взяла с собой много багажа. Я хочу сказать — очень много багажа. Она производила впечатление дамы, которая будет приглашена на торжественные обеды, рок-концерты, карнавалы и пижамные вечеринки и поэтому должна иметь с собой все, что нужно для каждого случая. Любая женщина хочет хорошо выглядеть, но, когда продолжительность поездки заранее не известна, знает, что обуви, косметики и парфюмерии надо брать по минимуму. В Болле места совсем немного, к счастью, в ней есть заднее сиденье. Туда-то я и сложил резервный запас чемоданов, больших и маленьких сумок и пакетов Моник. Под всей этой кучей прятался мой чемодан. В нем были смена одежды, туалетная сумочка с зубной пастой, зубной щеткой, дезодорантом и пачкой давно просроченных презервативов.
На автозаправке под Антверпеном мы заказали кофе и багеты. Сидели за пластиковыми столами в окружении семейств с кричащими детьми и пузатых шоферов-дальнобойщиков. Мы привлекли внимание. Моник имела вид очаровательной супруги изысканного посла. Я же тянул не больше чем на лакея этого самого посла. Сбежавшего с легкомысленной супругой своего господина.
Моник открыла маленький блокнот, который был ее горлом и голосом.
«Waarom een auto?» — написала она, беззвучно засмеялась, зачеркнула написанное и продолжила: «Почему автомобиль? Почему не самолет?»
— Потому что они контролируют списки пассажиров!
Мой ответ прозвучал как откровенная паранойя. Я услышал это сам. Моник не стала уточнять. Она понимающе кивнула — как будто сама принимала участие в этой игре или была частью моего безумия — и смахнула что-то прилипшее к верхней губе.
2
Мы прибыли в Париж к вечеру и получили два последних остававшихся свободными номера в затрапезной гостинице в Клиши. Я поставил машину между черным «БМВ» и «мерседесом» цвета мокрого асфальта. Моя Болла розовенькая с черными пятнышками.
Приняв душ и отдохнув, мы встретились у стойки регистрации. Моник воспользовалась своей косметикой. Щеки и лоб напудрены, глаза и губы подкрашены, словно она боялась забыть, как она, вообще-то, выглядит. Фигурой в поблескивающем серебристом платье и прической она напоминала какую-то кинозвезду, имя которой я забыл.
— Я не знал, что ты выслала своих фрейлин вперед, — сказал я.
Она улыбнулась.
— Хорошо выглядишь! — Я слегка подтолкнул ее.
Она источала потрясающий аромат. Улыбка и взгляд говорили о чем-то игривом.
Мы прогулялись до ближайшей пиццерии и получили столик на двоих с видом на главную улицу. Когда официант спросил, не сделали ли мы свой выбор, Моник заказала каннеллони с мясной начинкой, а я — спагетти с тушеными овощами. Я — вегетарианец. Официант порекомендовал нам прекрасное красное вино. Вернулся с бутылкой и налил. Моник и я подняли бокалы. Ее волосы мерцали в неярком освещении пиццерии.
— Можно один личный вопрос? — спросил я.
Она склонила голову набок и кивнула.
— Как ты стала немой?
«Een spin!» — написала она. Потом удивленно посмотрела на нидерландское слово. «Извини. Паук. Ядовитый паук. Мраморная вдова. Обычно безопасный паук. Мне четыре года. Укусил. Аллергическая реакция. Была в коме. Очнулась немой. Голоса нет».
— Ой-ой!
Я не люблю об этом говорить. Но я всегда боялся пауков. Знаю, что это звучит смешно. Моя боязнь высоты и намеки на клаустрофобию хотя бы как-то можно объяснить. Но пауки? Если мне нужно что-то взять в подвале, и я вижу, как пугливый паук посматривает на меня из своей уютной паутины, как он, мохнатый, спускается по ниточке на пол и исчезает под диваном, то мой с трудом завоеванный контроль над собой начисто исчезает.
Она написала: «О чем ты думаешь?»
— О пауках.
«Твоя очередь. Как становятся альбиносами?»
— Это легко. Надо такими родиться.
Она беззвучно рассмеялась. Потом написала: «И из-за чего такими рождаются?»
— Генетический дефект. В теле нет пигментов. Во всяком случае, достаточного количества.
Она положила свою золотистую руку рядом с моей бледной. Я не понял почему. Потом до меня дошло. Она хотела сравнить. Пальцы ее были длинными и узкими. Как пальцы пианиста или виолончелиста. На нескольких пальцах изумительной красоты кольца. Заостренные ногти покрыты красным лаком. Я вообразил, какое ощущение должно быть у того, кого по спине царапают эти ногти.
«Получила. От мамы», — написала она в блокноте. Я подумал, что она пишет про ногти. Увидев, что я не понял, она добавила: «Кольца!»
— Кольца очень красивые.
«Почему ты смотришь на мои ногти?»
Эта ее тревожащая полуулыбка.
— Ногти тоже очень красивые.
Эх, Бьорн, покоритель сердец! Когда она встретила мой взгляд, мне показалось, что она прочитала мои мысли и увидела, очень ненадолго, то же, что я: острые ногти оставляют красные полосы на моей белой как мел спине. Она улыбнулась. Я покраснел. Я отвернулся и стал глядеть на проезжавшие автомобили. В отражении на оконном стекле обнаружил, что Моник рассматривает меня. Когда наши взгляды встретились, она отвернулась.
Я очень легко увлекаюсь женщинами старше меня. Не спрашивайте почему. Не теми, что поддались возрасту и процессу старения, а теми, кто еще помнит, каково быть молодой женщиной. Моник была такой. Чувственное соединение зрелости и молодости, опытной женщины и неиспорченной девушки. Это видно по взгляду. В глазах блестит что-то бунтующее и игривое.
— Тебе не дашь больше тридцати, — сказал я.
Она сжала мою руку.
— Это правда!
«Ты флиртуешь?» — написала она. И кокетливо нарисовала маленькое сердце.
Я смущенно поднял бокал. Мы выпили друг за друга. У меня мелькнула мысль, что ее муж болен. Но я тут же отбросил эту мысль.
Я рассказал Моник то немногое, что знал о человеке, с которым я договорился встретиться на следующий день, — об отце Мари-Элизы Монье, о том, как я с ним познакомился. Убийство Мари-Элизы произвело на нее сильное впечатление, поэтому я перевел разговор на теории, связанные с Евангелием Люцифера. Оказалось, что Моник многое знала. Не только об аккадском происхождении этого текста и параллелях с другими месопотамскими произведениями, но и о предполагаемой датировке и трудной судьбе манускрипта на протяжении истории.
— Впечатляюще! — воскликнул я наконец.
«Все благодаря Дирку, — написала она. — Он — эксперт!»
— Он, видимо, очень начитан?
«Он настоящий кладезь премудрости. Невероятно умен».
Я подумал: «Зато дряхлый супруг и увядший любовник».
— А что с ним?
«Рак легких».
Не просто дряхлый, он умирает…
Она перевернула страницу в блокноте: «Хватит про меня! Расскажи! Про себя!»
Я рассказал о моем детстве в Вороньем Гнезде в районе Грефсен в Осло, где я рос альбиносом в окружении красивых и устроенных людей, которые, хоть наверняка и неосознанно, давали мне понять, что я не принадлежу к их кругу. Я был изгоем в этом кругу, был тем, на кого дети могли наброситься, если взрослые отвернулись, тем, о ком соседки говорили своим гостям, что он ну абсолютно вменяемый, нисколько не отставший в развитии. Я рассказал о своем папе, который погиб, упав со скалы, а мама вышла замуж за его лучшего друга. Моник узнала обо всем. Включая историю о моем пребывании в клинике для психически больных. Я рассказал историю находки золотого ларца
[235] и о событиях, связанных с королем викингов Олафом Святым и мумией египетского наследного принца Тутмоса, которого потомки назвали Моисеем.
[236] Я говорил без остановки. Моник положила локти на стол и оперлась головой о сложенные руки. Я наслаждался неприкрытым и восторженным интересом к моему рассказу. К сожалению, официант принес заказ и прервал представление. После обеда мы остались сидеть, довольные и счастливые, и разговаривали, пока бутылка не опустела. Потом медленно пошли к гостинице. Не держась за руки, но, во всяком случае, бок о бок. Вино подняло мне настроение и пробудило желание. Мне очень захотелось обнять Моник. Я был уверен, она не оттолкнула бы меня. Но я этого не сделал.
Ах, Бьорн, слабохарактерный трус! Умирающий муж Моник незримым духом оберегал свою супругу. Я готов был задушить его подушкой! Я представил себе, как ее рука двигалась по спине и останавливалась у бедра. Горячая рука с острыми красными ногтями… Мы шли очень медленно, словно оба хотели, чтобы это продолжалось как можно дольше. Или потому, что у нее на ногах были туфли на высоких каблуках. В душной синей ночи мимо нас ехали автомобили и шли прохожие, как тени из какого-то другого измерения. В моем измерении существовали только Моник и я. И желание прижать ее к себе и дать ей возможность нарисовать иероглифы страсти на моей спине. Когда мы остановились около наших номеров в гостинице, я надеялся, что она войдет в мой; не говоря ни слова, как нечто само собой разумеющееся. Но она, конечно, не сделала этого.
«Goedenacht!»[237] — написала она по-голландски и быстро поцеловала меня в щеку.
На секунду наши взгляды соединились в тихом оргазме неудовлетворенной чувственности, и мы отправились к одиночеству холодных постелей.
XIII
МОНЬЕ (1)
Луи-Фердинанд Монье напоминал отощавшее привидение. Жил он в тесной квартирке в наклонившемся многоэтажном доме, который, похоже, содержало социальное управление, а построил его Союз архитекторов-алкоголиков.
Перед домом в Клиши стояли два контейнера, битком набитые мусором, мебелью, коврами-самолетами, потерявшими способность летать, сломанными велосипедами, стиральными машинами, испорченными компьютерами, старой одеждой и дохлыми кошками. Лестница пропахла вареной капустой и рвотой. Лифт не работал, пришлось идти на шестой этаж пешком. Мы с Моник едва дышали, когда наконец взобрались наверх. На двери не было таблички, но Монье рассказывал, что живет «мимо лифта, третья дверь направо». Звонок не работал. Я постучал, очень сильно. Прошло некоторое время, прежде чем мы услышали шарканье шлепанцев и бренчание цепочки. В щели появилось мертвенно-бледное лицо. Разговаривая по телефону, я представлял себе Луи-Фердинанда Монье изысканным помещиком, сидящим в плюшевом кресле и поглаживающим за ушком фокстерьера, тоскующим по умершей дочери. В действительности колоритным был только его французский акцент. Кожа серая, тупой безжизненный взгляд. Глаза косили. Губы потрескались. Лицо перекошенное, не совсем симметричное, словно после инсульта. Редкие седые волосы торчали во все стороны. Клетчатые брюки со сломанной молнией ширинки, старые вытянутые подтяжки поверх майки-сетки.
— Месье Монье?
— Oui.[238]
— Я — Бьорн Белтэ.
— Yes, yes, yes…
— Это Моник из Амстердама.
— Yes. Oui. Yes, I understand. I see.[239]
По-видимому, он вспомнил ее имя и понял, зачем мы пришли. Кивнул сам себе и открыл дверь, чтобы впустить нас в свою нищету. Из прихожей мы прошли через тесную вытянутую кухню, где в раковине накопилась грязная посуда за несколько недель, и оказались в такой же тесной и вытянутой комнате. Но зато вид из окна был безупречным. Луи-Фердинанд Монье ходил взад и вперед по комнате, как будто не знал, куда себя девать.
— Мари-Элиза очень любила вас, — сказал он Моник.
«Спасибо. Мы тоже любили ее», — написала Моник в своем блокноте и показала ему.
Луи-Фердинанд непонимающе переводил взгляд с блокнота на Моник.
— Она немая, — объяснил я.
— Ах вот что, — пробормотал он и взял очки. — Немая? — При чтении лицо его исказилось, словно ему давно нужно было завести другие очки. — Ах так, ах так. — Он посмотрел на Моник и на меня. — Так кто же они? Говорите! Эти нелюди… кто они?
— Мы не знаем, — был вынужден признать я.
— Ну зачем все время какие-то секреты? — продолжал он, обратившись к Моник. — Всякие страхи? Боязнь чего-то? Только теперь я начинаю понимать, почему Мари-Элиза вела себя все эти годы общения с вами так, как будто кто-то за ней гонится. Какой еще чертовщиной вы занимаетесь?
«Извините. Я сожалею, — написала Моник. — Мы ничего не знали о том, что Мари-Элиза была в опасности. Я очень сожалею».
Она дала Луи-Фердинанду прочитать запись в блокноте.
— Когда вы позвонили и пригласили меня к себе, — произнес я, — то рассказали, что получили письмо?
— Я вас не приглашал. Я сказал, что вы можете прийти, если хотите прочитать письмо до того, как я отдам его в полицию. — Его упрямство выглядело искусственным, как будто он внушил себе, что должен прятать свое горе и прикрывать чувства под нарочитым возмущением. — Извините меня, — пробормотал он и бросился на кухню. Вернулся с растворимым кофе и алюминиевым чайником с горячей водой. — Мари-Элиза была очень своеобразной. — Его тон стал мягче, теплее. — С самого раннего детства она была увлечена сверхъестественными существами. Эльфами. Феями. Ангелами. Богами. Вся ее жизнь крутилась вокруг того, что нельзя увидеть, но можно почувствовать. Она осталась без матери в возрасте семи лет. Возможно, в этом и кроется причина ее пристрастий. Я нисколько не удивился, когда она решила изучать теологию.
— Что написано в письме, которое она вам прислала?
Он подошел к комоду и вытащил ящик. Письмо лежало в фотоальбоме с детскими фотографиями Мари-Элизы. Веселая маленькая девочка в песочнице.
XIV
ПИСЬМО (1)
23 мая 2009 года
Дорогой папа!
Я сижу в поезде, который везет меня на юг и пишу это письмо. Идет дождь. Запотевшие окна скрывают блестящий от дождя пейзаж, он кажется ненастоящим. Вокруг дремлют пассажиры. Папа, я надеюсь, что ты никогда не получишь это письмо и через несколько месяцев я смогу забрать его и сжечь. Когда я закончу писать, поезд доедет до места назначения, я отправлю письмо в заклеенном конверте — с полностью написанным адресом и маркой — Амели. Ты ее, конечно, помнишь по нашему пребыванию в Велизи-Велликубле. И попрошу ее опустить письмо в ящик, если она узнает, что я умерла. Если этого не произойдет, я заберу письмо у нее и посмеюсь над событиями последних дней за бокалом белого вина.
С чего же начать? Как ты знаешь, я несколько лет помогала одной паре в Амстердаме заниматься исследованиями, иногда оказывала практическую помощь, передавая кое-что. Не волнуйся, речь идет не онаркотиках, а о старых книгах, письмах, рукописях, манускриптах, подобного рода вещах. Они прекрасные люди. Обаятельные, умные. Его зовут Дирк ван Рейсевейк, ее — Моник. И если ты читаешь это письмо, то прошу тебя позвонить им по телефону: +31 16 522 81 51 — и рассказать о том, что со мной случилось.
Я познакомилась с Дирком и Моник через Интернет. Сначала я общалась с Моник свободно и открыто. Но когда я стала им помогать, мы перешли на шифрованные электронные письма.
История такая. В этом году в одном подземелье в Киеве был найден манускрипт. Из Украины его контрабандой вывезли в Норвегию. Несколько дней назад я получила электронное письмо от писателя, живущего в Осло, некоего Кристиана Кайзера. Он, вообще-то, искал Дирка, но узнал, что с ним легче всего связаться через меня. Он написал, что имеет доступ к экземпляру манускрипта, в котором есть рисунки трикветра и павлина. Поскольку он прочитал, что об этих символах говорится во многих работах Дирка по религиозной иконографии, то стал просить Дирка помочь ему. Мы переписывались некоторое время. Он рассказал, что сотрудничает с археологом по имени Бьорн Белтэ, имя которого мне тоже известно, и я переслала эти электронные письма Дирку. Дирк был в восторге и попросил пригласить Кайзера в Амстердам как можно скорее. Я позвонила ему в Осло сегодня утром. Он не ответил. Очевидно, он был уже мертв. Да, папа, кто-то его убил! Его тело обнаружил Бьорн Белтэ. Но ничего этого я не знала, когда звонила. По глупости я оставила на автоответчике Кайзера свое имя и номер телефона. Подумай только, если убийцы находились в его квартире, когда я звонила, и неправильно поняли мое сообщение? Я попробовала позвонить Бьорну Белтэ, чтобы предостеречь, но его мобильник был отключен.
Дирк позвонил мне из Амстердама в тот же день, как раз тогда, когда я узнала, что Кристиан Кайзер найден мертвым. То, что Дирк позвонил, было очень необычно — мы общались почти всегда через Интернет. Он беспокоился за меня и спросил, не могу ли я на всякий случай, переночевать в другом месте, а не у себя дома. Я остановилась на ночь у Пьера. И хорошо сделала. Ночью в мою съемную квартиру вломились. Все перевернули вверх дном — так сказал консьерж. Я не осмелилась зайти домой.
Позже зазвонил мой мобильный телефон. Это были они. Убийцы. Я уверена.
— Мари-Эльза Монье? — сказал мужчина. Он говорил с восточноевропейским акцентом.
— Да. Кто вы? — спросила я.
Я услышала в трубке щелканье. И гудок.
Голос появился опять.
— Нам надо встретиться, — сказал он. — В вашем распоряжении есть вещь, которая принадлежит нам.
— Что вы имеете в виду? — спросила я.
— Когда и где мы можем встретиться?
— Я не думаю, что мне хочется встречаться с вами, — сказала я и положила трубку.
Он был такой мерзкий. Как те, кто звонят среди ночи и начинают дышать в трубку. Он сразу же позвонил еще. Я опять положила трубку. Когда раздался третий звонок, я не стала отвечать. Я обратилась в полицию. Но они даже не захотели выслушать меня. Тогда я решила поехать к Симонетте. Больше двух лет мы говорили о том, что пора мне еще раз съездить к ней. Но дальше слов дело не шло. Теперь у меня есть серьезная причина побывать у нее в гостях. Нам всегда так весело вместе. Она живет очень далеко, они никогда меня не найдут.
Поезд сейчас прибудет. Я немножко поспала. Симонетты нет, но вряд ли она далеко. В худшем случае — поживу в гостинице.
Заканчиваю. Папа, надеюсь, ты никогда не прочтешь это письмо!
С сердечным приветом!
Твоя дочь
XV
МОНЬЕ (2)
— Симонетта уехала по учебным делам в Барселону, — сказал Луи-Фердинанд Монье.
Когда я отдал ему письмо, он сложил его и положил обратно в фотоальбом. Только сейчас я заметил, что он под сильным воздействием психотропных лекарств. Я понял это по тусклому взгляду, с которым сталкивался в клинике.
«Где живет Симонетта?» — написала Моник.
— В Каркассоне, конечно. Я думал, это понятно. По сведениям полиции, Мари-Элиза некоторое время ждала у квартиры Симонетты. Позже она поселилась в гостинице. И это последнее, что мы знаем. Никто, ни полиция, ни я, не имеем ни малейшего представления, что стало с Мари-Элизой после того, как она вышла на прогулку из гостиницы.
— Видимо, преследователи настигли ее, — сказал я.
— Они же не могли знать, куда она направляется.
— Они следили за ней. Мобильный телефон функционировал как устройство GPS.
— Как это возможно?
— В письме говорится о странных звуках во время телефонных звонков.
— Но что это значит?
— Они дистанционно установили шпионскую программу. GPS-навигатор. Она, очевидно, поняла, что что-то не так. А иначе зачем бы ей пересылать вам мобильный телефон?
— О боже! Девочка моя. Так вот почему она вынула батарейки. Она не глупа, моя Мари-Элиза.
«Убийцы будут найдены, — написала Моник. — И понесут наказание. Обещаю!»
— Как вы можете это обещать? — раздраженно спросил Луи-Фердинанд. И повернулся ко мне. — Почему бандиты не пришли ко мне? Сюда? Я ведь привел мобильный телефон в порядок и включил его. Почему они не явились сюда?
— Потому что они уже настигли Мари-Элизу в Каркассоне, — предположил я. — Больше им незачем было следить за телефоном.
Он покосился на меня:
— Кто эти безумцы?
— Я охотно рассказал бы вам, кто они. Но я об этом знаю так же мало, как вы.
Отправитель: Примипил
Послано: 08.06.2009 13:43
Адресат: Легату легиона
Копия: Великому Магистру
Тема: Отчет: Рим
Шифр: S/MIME РКС37
Dominus!
Мы благодарим за молитвы Совет и общину и сообщаем, что местонахождение манускрипта в Осло установить не удалось. Мы прибыли в Рим. Согласно данным брата Раца, Бьорна Белтэ ожидают здесь в ближайшие дни. Контакт Белтэ, профессор Альдо Ломбарди, находится под нашим постоянным наблюдением.
Примипил брат Хэрэгуш
XVI
СМЕРТЬ В ЧАСОВНЕ
КАРКАССОН
8 июня 2009 года
1
От внезапного порыва ветра полицейская лента ограждения громко хлопнула. От облака упала тень на часовню, расположенную в лесу. Дверь в часовню была заколочена. К стене под окном без стекол и рамы был приставлен деревянный ящик. Штукатурка на стенах во многих местах облупилась и осыпалась. Части стены, где кирпичная кладка выглядывала наружу, напоминали незаживающие раны. В промежутках между широкими проходами, которые полиция проложила сквозь заросли вокруг руин, пышно цвели полевые цветы.
— Вот здесь они нашли ее, — сказала Симонетта ле Телье.
Она с несчастным видом сидела на левом крыле моей Боллы. Моник, утешая, обняла ее.
— Я была знакома с Мари-Элизой двенадцать лет, — сказала Симонетта, — но в тот единственный раз, когда я была ей нужна, по-настоящему нужна, меня не оказалось рядом.
Она наклонилась, набрала горсточку песка и стала понемногу выпускать его между пальцами.
— Что это за место? — спросил я.
— Часовня была построена орденом Пресвятой Девы Марии в девятнадцатом веке. Незадолго до войны в нескольких километрах к северу отсюда построили церковь. Двери и окна часовни закрыли ставнями. Тут началась война. И в таком виде, — Симонетта кивнула, — часовня стояла, пока о ней совсем не забыли.
— Ты можешь назвать хоть одну причину, по которой Мари-Элизу нашли именно здесь?
Она снова зачерпнула горсть песка и покачала головой, ветер подхватывал песчинки, падающие из ее ладони.
«Ты была в Барселоне?» — написала Моник.
— Мне дали стипендию. Вместе с несколькими коллегами я десять дней провела в Испании, изучая архитектуру Гауди. О том, что Мари-Элиза приезжала сюда, я узнала только по возвращении, прослушав записи на автоответчике. За границей я всегда выключаю мобильный телефон. Попробовала ей позвонить. Но ответил ее отец. Она послала ему свой телефон. По почте. Не могу этого понять. Послать по почте мобильный телефон своему отцу?!
— Она думала, что за ней гнались.
— Какое отношение это имеет к мобильному телефону?
— Они выслеживали ее по мобильнику. Так убийцы узнали, что Мари-Элиза поехала в Каркассон. И конечно, они обнаружили, что она набирала твой номер телефона.
— Разве Мари-Элиза не подвергала опасности отца, посылая ему телефон?
— Видимо, она подумала, что все обойдется, если вынуть батарейку. Кроме того, она справедливо рассудила, что преследователи потеряют интерес к телефону, если схватят ее. В-третьих, отец живет в многоэтажном доме в густонаселенном районе. Тут уж никакой мобильник не выследить.
Моник написала: «И к тому же было слишком поздно! Они уже знали, что она здесь».
Симонетта откинула голову и посмотрела на кроны деревьев, росших вокруг часовни.
— Видимо, они держали ее взаперти в каком-то месте недалеко отсюда. Бог знает где. И почему.
— Кто ее нашел?
— Одна пара, которая использовала эту часовню, — несмотря на слезы, Симонетта смущенно улыбнулась, — как место свиданий.
Я посмотрел на руины и на ленту ограждения, которая колебалась на ветру. Часовня на поляне, окруженная деревьями, выглядела очень привлекательно.
— В этой местности люди живут уже более пяти тысяч лет, — сказала Симонетта, когда немного пришла в себя. — Это ведь очень давно, правда? Пять тысяч лет… Но и это ерунда. Здесь, в Южной Франции, люди и неандертальцы жили бок о бок уже пятьдесят тысяч лет. Потом неандертальцы вымерли. Люди остались.
Я ждал продолжения, но его не последовало. Симонетта задумчиво смотрела на лес:
— Сначала полиция не могла понять, кто она. Она ведь не из местных, правда? Но кто-то из полиции обратил внимание на сообщение из Парижа о поиске пропавших, в котором числилась Мари-Элиза. Мой молодой человек — полицейский. Он знал, что я ее подруга. И тогда меня пригласили на место преступления для опознания.
— Я понимаю, это тяжело, но все-таки ты можешь описать, что увидела?
Симонетта вздохнула.
— Я спрашиваю, потому что недавно сам побывал в такой ситуации.
Симонетта бросила на меня удивленный взгляд.
— Кайзер был моим другом и коллегой, — объяснил я. — Это я нашел его. — Пауза. — В квартире. Обнаженного.
Симонетта не отрывала от меня глаз. Мы оба чувствовали себя будто бы частью некоего тайного сообщества, нас связали мой умерший друг и ее умершая подруга.
— В этом есть что-то ненормальное. Совершенно ненормальное. Она лежала на алтаре. Обнаженная. Со скрещенными на груди руками. На ней ничего не было, кроме венка из цветов. На голове. Ее положили на шелковую ткань. Очистили от мусора пространство вокруг алтаря. В часовне было полно сгоревших свечей… — Она закрыла глаза. Потом открыла их, встряхнув головой, словно хотела изгнать навязчивые картины. — Ненормальное. Ты понимаешь, что я хочу сказать? Что-то ненормальное!
2
Я люблю все старое. Прошлое рассказывает о том, откуда мы пришли. И куда идем.
Крепость Каркассон с двойными стенами и замком с башней — часть Средневековья и не может восприниматься в отрыве от истории. Когда-то давно, восемьсот лет назад, христианская секта катаров населяла этот южнофранцузский регион. Их тысячами истребляла Католическая церковь. Некоторые считают, что это истребление объясняется борьбой за огромные земли. Другие полагают, что дело исключительно в религиозных противоречиях. Католики относились к катарам как к язычникам. Третьи выдвигают теории, будто бы катары скрывали святой Грааль.
Утомленный жизнью портье в гостинице, куда вошли мы с Моник, не был похож на человека, который может во что-то верить. И уж во всяком случае, в загадки прошлого. Чуть заметный слой косметики на лице. И сколько угодно свободных номеров. После утомительной поездки из Парижа и встречи с Симонеттой у часовни, Моник и я отправились принять душ и передохнуть. К сожалению, каждый в своем номере.
3
На закате мы встретились в крепости с Симонеттой и ее возлюбленным, полицейским Франсуа Сарду.
Вечер был теплым, полным мошкары и запахов, долетающих от многочисленных грилей из ресторанов. С площади доносились звуки музыки чересчур громкого духового оркестра.
С Франсуа Сарду разговаривать было очень трудно. Это был полицейский до мозга костей, он все время отвлекался на разговоры с прогуливавшимися коллегами и знакомыми, которым можно было бы рассказать, кто мы и почему он с нами беседует. Сильнее преданности своей работе у него была только влюбленность в Симонетту. Она попросила его встретиться с нами, и он не мог отказать ей.
Мы устроились на скамейке в сторонке от людей, в тени деревьев за внутренней стеной крепости. И постепенно он начал расслабляться. Он рассказал, что следствие открыло не очень много нового о Мари-Элизе и ее убийцах. «Не очень много нового» — совсем не преувеличение. Допросив свидетелей и просмотрев записи камер наблюдения, они установили, что Мари-Элиза сошла с поезда на станции Каркассон 23 мая, во второй половине дня. Багажа у нее не было. На станции она отправила почтой небольшой пакет. По-видимому, мобильный телефон. В кондитерской напротив станции она купила багет, который съела по дороге к квартире Симонетты. По словам соседки, которая, вообще-то, не имела обыкновения следить за всеми приходящими и уходящими, Мари-Элиза позвонила в дверь и некоторое время ждала на лестнице. Другой сосед, который спустился, чтобы вынуть почту, сообщил, что Симонетта уехала за границу. После этого Мари-Элиза бродила по улицам, пока наконец не поселилась в средней руки гостинице на бульваре Жана Жореса. После нескольких часов, проведенных в номере, она сдала ключ портье и пошла делать необходимые покупки. По словам портье, в руках у нее была туристская карта города.
Больше ее никто не видел.
4
В полицию сообщение об убийстве Мари-Элизы Монье поступило утром 3 июня. Влюбленная парочка увидела труп накануне вечером. По разным причинам — из-за шока от обнаружения мертвой женщины, ужаса от возможности быть замешанными в уголовную историю и страха перед ревнивым мужем — они не сразу сообщили о находке.
— Мы тут же поняли, что это было не обычное убийство по пьянке, — сказал Франсуа Сарду. — Все говорило о ритуальном характере убийства. Обнаженная женщина лежала на шелковой ткани на алтаре в часовне. Убийцы потратили время на то, чтобы вплести цветы в ее волосы. Зажгли шестьдесят шесть свечей. Но самое страшное мы обнаружили только после вскрытия.
— Расскажи им! — тихо сказала Симонетта.
— В интересах следствия и чтобы не тревожить публику, некоторые сведения мы не передали прессе. Я попаду в неприятную ситуацию, если они станут известны.
— Мы ничего не расскажем. Мы ведем частное расследование, мы не журналисты.
— Вскрытие обнаружило некоторые странные детали.
Я начал догадываться, какие именно.
— Тело лежало со сложенными на груди руками. Руки были крепко сжаты. Но когда медик раскрыл правую руку, он обнаружил…
— …амулет!
Франсуа Сарду изумленно посмотрел на меня.
— Бронзовый, — продолжил я. — С пентаграммой и трикветром.
— Вы с кем-то уже говорили?
— Ни с кем. Моего норвежского друга и одного коллегу в Украине убили те же самые люди. Тем же способом. Я рекомендую вам связаться с полицией в Осло и Киеве.
— Мы уже обращались в Интерпол. — Он помолчал. — Но есть кое-что еще.
На этот раз я позволил ему закончить самому:
— Труп был обескровлен.
5
Мы пригласили Симонетту и Франсуа поужинать с нами, но он не захотел, чтобы нас лишний раз видели вместе, и вежливо отказался. В турецком ресторане на небольшой улочке мы с Моник сели за свободный столик. Поглощая чечевичные котлеты с черным хлебом и местным вином, мы обсуждали дальнейшие планы. Мы договорились ехать в Рим через Французскую Ривьеру и Геную, которая лежала точно в середине пути. Моник предложила, чтобы мы там переночевали. От Генуи до Рима, где нас ждал профессор теологии Альдо Ломбарди, примерно пять часов пути.
В гостиницу после ужина мы пошли через площадь, несколько минут постояли на ней, слушая кошмарные звуки духового оркестра, потом сбежали от них. Из гостиницы я позвонил Трайну в Исландию. Там все еще работали над текстом. Но теперь эксперты пребывали в еще большем затруднении, чем раньше. Трайн подтвердил, что на тех четырех-пяти ученых, которые помогали ему, можно положиться. Каждый вечер они запирали манускрипт в надежный сейф в подвале университета. Затем я позвонил старшему полицейскому Хенриксену в Осло. Он по-прежнему не испытал никакого облегчения, услышав мой голос. Казалось, он только и ждал, что ему сообщат о моей кончине. Удалось найти автомобиль, который арендовали убийцы. Обгоревший остов машины был обнаружен в каменоломне в Аммерюде. Личные документы и кредитные карты, которые использовали преступники, взяв напрокат «лексус», были фальшивыми.
Как обычно, я не мог заснуть.
Я лежал и думал о папе. Я часто думаю о нем, когда не могу заснуть. О том, кем он мог бы стать, если бы ревность не отняла у него разум и не сделала меня сиротой. Что за мысли промелькнули в его голове, когда он падал со скалы?
О чем вообще думают, когда умирают? Интересно, стал бы я другим человеком, если бы папа остался жив? Может быть. Вероятнее всего. Но теперь это уже не важно. Даже для меня.
XVII
САТАНА
РИМ
10 июня 2009 года
1
— Сатана жив!
В карих глазах профессора Альдо Ломбарди вспыхнули огоньки; признаки безумия можно увидеть во взглядах одержимых, больных людей и увлеченных профессоров академий.
Я беспокойно задвигался на стуле. Моник закашлялась.
— Если верить в Бога, — продолжил он, — то Сатана — неминуемое следствие этой веры. Гармония жизни зависит от баланса и равновеликих противовесов. Исходными камнями Вселенной были материя и антиматерия. Свет и тьма. Тепло и холод. С этой точки зрения Бог и Сатана представляют собой два неизбежных полюса. Добро против зла. Но теологический парадокс состоит в том, что именно Бог — а кто же еще? — создал Сатану. — Ломбарди разразился едва слышным смехом. — Друзья мои, я вижу, что испугал вас. Расслабьтесь, успокойтесь, я всего лишь увлеченный человек!
Его кабинет был светлым и каким-то живым, если так можно выразиться, как будто он годами впитывал в себя глубокие мысли своих многочисленных хозяев и отказывался их выпускать. На шкафу архива попыхивала колба-кофеварка. На письменном столе лежали пачки рукописей. Неровными штабелями прислонились к стенам диссертации и учебники. В любой точке мира кабинеты ученых похожи друг на друга. Кофеварка издала долгий свист, будто готовясь передать свою жизнь в руки Господа. Альдо Ломбарди снял колбу, налил кофе в белые пластиковые стаканчики мне и себе (Моник от кофе отказалась). Затем вернул колбу на место.
— Я рад, что вы приехали. Оба. Я знаю, что чересчур давил на вас, Бьорн. Но это важно. Вы поймете. Очень важно. — Он повернулся к Моник. Взгляд его подобрел. — Моник… — Он взял ее руки в свои, как это делает заботливый священник, общаясь со своими прихожанами, и повторил ее имя тихо, почти про себя. Потом отпустил руки и воскликнул: — Ну так как же? Как чувствует себя Дирк?
Моник кивнула, словно говорила: «Спасибо, хорошо», хотя это было явным преувеличением. Мне пришло в голову, что ни она, ни Дирк не хотели, чтобы люди знали, насколько серьезно он болен.
— Хорошо. Хорошо. — Когда он поворачивался ко мне, я заметил в его правом ухе слуховой аппарат. Н-да. Альбинос с плохим зрением. Немая. Тугоухий. Хорошенькая компания.
— Дирк и я, мы переписывались много лет, — объяснил Ломбарди. — Темы наших исследований часто пересекались.
Я механически подхватил:
— Он говорил.
— Дирк — прекрасный человек!
— Мне было очень приятно и полезно встретиться с ним.
— Может быть, он упомянул, что я принял кафедру Джованни Нобиле?
— Да.
— Это произошло много лет спустя после того, как Нобиле исчез. Кафедра долго пребывала без руководителя. Надеялись, видимо, что он вернется.
Внизу на улице завели грузовик. В коридоре громко заговорили студенты, словно усердные пророки захотели поделиться своими откровениями. Я пригубил кофе. «Такой вкус, — подумал я, — наверное, был бы у стен дома из просмоленных досок на горном пастбище в Ювдале, если бы я вздумал их лизать».
— К сожалению, я не был лично знаком с Джованни Нобиле, — продолжал Ломбарди. — Слишком большая разница в возрасте. Я был студентом, когда Нобиле здесь работал. Я слушал его лекции и собирался спросить его, не согласится ли он быть научным руководителем моей дипломной работы, которая отвечала на вопрос, какое влияние широко известное сочинение о ведьмах
Malleus Maleficarum («Молот ведьм»)
[240] оказало на понимание женской сексуальности в период 1500–1850 годов. Но, как вы знаете, мне не посчастливилось воспользоваться его советами. Джованни Нобиле исчез, а я попал к своенравному руководителю, у него пахло изо рта, и он проявлял нездоровый интерес к пухленьким студенточкам с первого курса. После исчезновения Нобиле инспектор допрашивал меня. В его кабинете нашли несколько моих писем. Но, конечно, я ничем не помог полиции.
Я с отвращением сделал еще один глоток кофе.
— С моей стороны было бы преувеличением утверждать, что нам не хватало Нобиле. Он был очень закрытым человеком, который держал все внутри себя. И после того отвратительного дела… если честно, многие предпочли забыть о нем. Знавшие Нобиле лично любили и уважали его. Но думаю, что многие студенты и коллеги — совершенно неосознанно — боялись его. Да, боялись! Очевидно, потому, что боялись тех демонов, которыми он — в профессиональном смысле — окружал себя. Сама сфера его интересов была неоднозначной. И даже больше — пугающей. В особенности в среде верующих католиков здесь, в Италии, в Риме, в собственном университете Ватикана.
В дверь постучали. Появилась голова мужчины в слишком больших очках. Он извинился, когда увидел, что у профессора посетители. Альдо Ломбарди крикнул ему:
— Витторио! Входи, входи! Помнишь, мы говорили о Бьорне Белтэ из Норвегии? Археологе? Вот он. Бьорн, это Витторио Тассо, семиотик, мой добрый коллега.
Я воспользовался моментом, чтобы отставить пластиковый стаканчик с кофе и забыть о его существовании. Мы с Витторио Тассо пожали друг другу руки и обменялись обычными при встрече любезностями. Он читал мою критическую статью в журнале «Археология» о попытках семиотиков истолковать использование викингами знаков и символов. Когда он ушел, я попробовал вернуться к старой теме:
— Так что же случилось с Джованни Нобиле?
— Да, что же случилось? — повторил Альдо Ломбарди. — Я обычно говорю, что его бес попутал. Он обнаружил древний, языческого происхождения документ — «Пророчества Ангела Света», или Евангелие Люцифера, как его еще называют, — и сошел с ума. — Взгляд Ломбарди говорил, что он погрузился в воспоминания. — Так что же случилось? Что же, собственно говоря, случилось? Я думаю, что и сегодня никто точно не знает, что случилось. Мы по-прежнему задаем вопросы, на которые ни у кого нет ответов. Все, что мы знаем: умерло много людей. Джованни и его дочь пропали.
Альдо Ломбарди покачал головой.
— Они умерли? Оба? — предположил я, но, скорее, задал вопрос.
— Вероятнее всего, простились с жизнью, закованные в цепи, на дне Тирренского моря или залитые бетоном в устоях одного из путепроводов, которые тогда строились повсюду на автострадах в нашем регионе. Трагедия, никак иначе. И самое странное… — он поискал нужное слово, — самое странное то, что происходящее сегодня является зеркальным отражением событий сорокалетней давности. История повторяется. Опять, неизвестно откуда, появился тот же манускрипт. Та же секта… Убийства…
— Секта? Вы знаете, кто стоит за убийствами?
— Кто — не знаю. Я кое-что знаю о секте, которая в этом деле замешана. Но вы слишком торопитесь. Я еще вернусь к этому.
— Подождите! Вы хотите сказать, что секта, которая была замешана в убийствах Джованни Нобиле и его дочери в 1970 году, та же самая, что охотится за манускриптом сейчас?
— Все другое было бы невероятным.
— Спустя сорок лет?
— Бьорн, манускрипту больше четырех тысяч лет. Сорок лет — это ничто.
— Что случилось с манускриптом в 1970 году?
— Он исчез вместе с Джованни Нобиле.
— Но он не мог быть тем же манускриптом, который сейчас нашли в киевской пещере!
— Конечно нет.
— Копия?
— Простите. — Он выжидающе посмотрел на меня с намеком на улыбку. — Бьорн Белтэ, вы верите в Бога?
— Нет.
— А вы, Моник?
Она кивнула. Потом написала: «Я не верю.
Я знаю. — Она подчеркнула слово „знаю“. — Бог и Его ангелы существуют. Сатана и его демоны существуют. Вот так обстоят дела».
— Идемте, друзья мои, — сказал Альдо Ломбарди. Встал и положил пачку бумаг в старенький кожаный портфель. — Вот так! — Затем надел серый плащ и фетровую шляпу, которые висели на вешалке в углу за книжной полкой. — В кабинете тесно и жарко.
2
— Большинство людей, независимо от того, христиане они или нет, имеют искаженное представление о Сатане, — сказал Альдо Ломбарди.
Мы расположились в тихом уголке Ватикана с видом на купол собора Святого Петра. Альдо Ломбарди сидел слева, держа кожаный портфель и шляпу на коленях, Моник в центре, я справа. На деревьях щебетали птички. Листва отбрасывала тень, дающую прохладу. По дорожкам прогуливались молчаливые туристы: некоторые с восторженными взглядами, другие в глубоком раздумье, словно они наконец добрались до конца священного путешествия по своим сомнениям.
— Функция Сатаны в Библии совсем не в том, чтобы наказывать или пугать нас, — продолжил он. — Все это пришло позже, в Средние века, когда Церковь превратила падшего ангела с торчащими крыльями и увядшим сиянием в звероподобное существо с рогами и хвостом. Сатана все время был орудием Бога. До того как Отцы Церкви и священники превратили Сатану во Властителя Зла, Сатана имел четко определенную функцию, данную ему Богом, — очищать и испытывать человека, подвергать проверке его веру. Только люди, имеющие в сердце Иисуса Христа, могут противостоять соблазнам падшего ангела. Сатана — такая же часть Бога, как и все Его творения. Посмотрите по сторонам! Формально мы находимся сейчас не в Италии и не в Риме. Мы в Ватикане. И подобно тому как Ватикан одновременно является независимым государством и интегрированной частью государства, которое находится за его пределами, Сатана немыслим без Бога. Когда стены кабинета затемняют мой разум и делают работу невозможной, я обычно прихожу сюда. Здесь, рядом с Богом, мысли получают порцию кислорода. Сатана… — медленно и вдумчиво сказал он, — Сатана, по-моему, является одним из самых пленительных образов теологии.
«Когда-то был ангелом», — написала Моник.
— Не просто ангелом, а архангелом… изгнанным с небес! Иов описывает его как одного из сыновей Бога, приближенного Бога.
«Властитель ада», — написала Моник.
— Это позже, да, это появилось позже. Ни в Библии, ни в религиозной истории в целом Сатана не был завершенной фигурой. Напротив. Он постепенно возвышался до позиции властителя ада.
— На протяжении нескольких сотен лет, — вставил я.
— Возьмем, к примеру, Библию. Сатана отсутствует в книгах Моисеевых. Концепт «Сатана» еще не существовал во время их написания.
— Разве змей и Сатана не одно и то же?
— Это более позднее истолкование.
— Откуда же тогда появился этот концепт?
— Одни ответят, что Сатана — идеологическая необходимость как противоположность милосердному Богу. Другие отыщут место рождения Сатаны в различных религиях и мифах. Иудеи в период изгнания познакомились с учением персидского пророка Заратустры — зороастризмом,
[241] неотъемлемой частью которого был образ Ангра-Манью, всеотрицающего духа, прародителя лжи, несправедливости и беззакония, олицетворяющего злое начало и смерть. Эта персонифицированная фигура дьявола впоследствии была соединена с вавилонскими царями, божествами и древними духами — так сформировался образ Сатаны. Впервые как представитель зла Сатана упоминается в Первой книге Царств, где он подговаривает Давида провести перепись населения. Знаменитый фрагмент Книги пророка Исаии о царях вавилонских был соотнесен с дьяволом лишь в первом столетии после Рождества Христова. — Ломбарди вынул листок из портфеля и протянул мне:
Ад преисподний пришел в движение ради тебя, чтобы встретить тебя при входе твоем; пробудил для тебя Рефаимов, всех вождей земли; поднял всех царей языческих с престолов их. Все они будут говорить тебе: и ты сделался бессильным, как мы! И ты стал подобен нам! В преисподнюю низвержена гордыня твоя со всем шумом твоим; под тобою подстилается червь, и черви — покров твой. Как упал ты с неба, денница, сын зари! Разбился о землю, попиравший народы.[242]
— Это только один из многих примеров того, как представление о Сатане и аде произрастало в различных местах Библии, в разных истолкованиях. Вот еще пример:
И произошла на небе война: Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом и Сатаною, обольщающий всю Вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним.[243]
Моник протянула Ломбарди свой блокнот: «Сатана — это в первую очередь христианское представление?»
— Ни в коем случае. Демоны и злые духи занимали иудейских святителей на протяжении столетий между Ветхим и Новым Заветом, что наложило несомненный отпечаток на восприятие Сатаны в христианской Библии. Древние мифы и примитивные представления о злых духах слились с более сложным взглядом того времени на конкретную фигуру дьявола. Но вы правы в том, что в христианстве Сатана пришелся к месту. Обратите внимание на то, насколько более дьявольским Сатана выглядит в Новом Завете христиан. В Откровении Иоанна Богослова мы встречаем Сатану, достигшего апокалипсических размеров. С течением времени Сатана становится все более злым и отвратительным. Кульминация наступает через несколько столетий после того, как Библия была окончательно написана и канонизирована. В Средние века Сатана постепенно становится все более пугающей фигурой и начинает играть роль властителя зла, который распоряжается армией демонов на земле и в аду.
— Евангелие Люцифера старше Нового Завета, — отметил я.
— И тем более оно важно для понимания образа Сатаны. Ясно, что этот текст послужил основой для формирования самых ранних мифов о Сатане.
— И что же, есть верующие, которые считают, что такая побочная линия теологии может оправдать убийство? Мы говорим о манускрипте. О тексте! Это только слова! Слова!
— Слово — это сила.
— Такая сила, которая заставляет экстремистов убивать невинных? Я этого не понимаю, правда не понимаю.
— Достойной сожаления чертой многих религий является то, что они подкрепляют в своих адептах веру, будто те могут выступать от имени Бога. Отсюда крестоносцы — христиане. Сторонники джихада в исламе. Еврейские сионисты. История полна примеров, когда человек утверждал, что он действует по велению и вместо своего Бога, и включался в процесс творения.
— Но вы говорите, что Евангелие Люцифера имеет прямое отношение к Сатане? Хотя текст написан за несколько тысяч лет до того, как Сатана вошел в сознание пророков, священников и верующих?
На лицо Альдо Ломбарди легла печать спокойствия. Его густые брови и волосы в носу хотелось бы немного подстричь. В эту минуту он походил на стареющего учителя из почти забытой сельской школы своего детства.
— Бьорн, вы не верите даже в Бога. Вы не религиозны. Для вас существует только видимое, осязаемое. Вам недоступны загадки существования. Недоступно удивление… Как же мне удастся убедить вас не только в существовании Бога и дьявола и их вечной борьбы, но и в чем-то настолько потрясающем, что может полностью перевернуть ваше восприятие мира? Удастся ли мне сдвинуть ваши сомнения в вере хотя бы на один миллиметр в сторону Бога и Его сущности?
— Можете попытаться.
Моник беззвучно кашлянула в руку.
— То, что я вам скажу, Бьорн, вы едва ли хотите знать. Если мой великий страх окажется справедливым, то эти три убийства станут всего лишь началом, не имеющим никакого значения. — Ломбарди поднял взгляд на купол собора Святого Петра. — Весь существующий мировой порядок изменится. Вы понимаете, о чем я говорю?
— Вы хотите сказать, что Евангелие Люцифера — своего рода апокалипсис?
[244]
— У нас есть основания считать, что Евангелие Люцифера, так же как и Священная Библия, содержит предсказание, пророчество, которое…
Внезапно он прижал руку к правому уху, как будто там возникла сильная боль. Я услышал жужжание голосов в его слуховом аппарате.
— Где? — воскликнул он. Еще жужжание. — Код красный? — крикнул он в пространство. — Трое зафиксированы около проспекта Виале Чентро-дель-Боско!
— О чем вы говорите?
— Идем! Быстро!
Он спешно повел Моник и меня к выходу. Недалеко от нас с шумом затормозил автомобиль. Я повернулся, но ничего не увидел за деревьями. Услышал какой-то шум, крик туристов, звук закрывающихся дверей автомобиля.
— Идем! Идем! — повторял Альдо Ломбарди и тянул нас через парк.
РИМ
май 1970 года
Хуже всего было бессилие. Полная неизвестность. Невозможность что-то предпринять.
Джованни закурил трубку, хотя и сидел в гостиной вместе с Лучаной. Она вряд ли это заметила. Лучана позвонила в полицию, но ведь она не слышала серьезного угрожающего тона мужчины. «Если вы не выполните наши требования, вы и ваша супруга никогда больше не увидите Сильвану». Звучание голоса не оставляло никаких сомнений в том, что угрозу надо воспринимать буквально. И все же отказ от звонка в полицию казался Джованни противоестественным. Он был согласен с женой. Как бы то ни было, у полиции есть опыт расследования такого рода дел. Но кто знает? Не станет ли Сильвана жертвой некомпетентности и честолюбия какого-нибудь неопытного или же чересчур амбициозного старшего полицейского?
— Я думаю, надо звонить, — прошептала Лучана.
— Ты не поняла, что я сказал?
— Все равно.
— Не надо рисковать.
— Так что же делать?
— Ждать.
— Ждать?
— Ждать!
— Чего?
— Они свяжутся с нами.
— Ждать… А что будет, когда они свяжутся с нами, Джованни?
— Мы узнаем, чего они хотят.
— И что тогда мы будем делать?
Он попытался избавиться от ощущения, что Лучана обвиняет его. В чем?
Не будь дураком, Джованни. В беспомощности. В инертности. Трусости. «Что сделал бы отец? — подумал он. — Что сделал бы Энрико?»
— Мы не знаем, чего они хотят, — произнес он.
— Ты не думаешь, что им нужны деньги?
— Деньги?
— Что же еще?
— Почему из всех людей на свете они похитили именно
ее, чтобы получить деньги?
— Может быть, они думают, что мы богатые?
— Они знают наши имена. Знают наши телефоны. В какой школе учится Сильвана. Следовательно, они знают, где мы живем и чем занимаемся. Им хорошо известно, что мы не богаты.
— Тогда почему?
— Я не знаю!
Она вздрогнула.
— Извини. Я не хотел… Извини. Но я не знаю. Я знаю не больше тебя. Ничего не понимаю.
— О боже! Джованни! Вдруг это кто-то из моих клиентов?
— Что ты хочешь сказать?
— Ну, кто-то недовольный продажей квартиры.
— И он похитил Сильвану?
— Ты не веришь в это, Джованни? Что кто-то из моих клиентов решил мне отомстить?
— Конечно не верю.
— Случается, что после продажи или покупки квартиры наши клиенты бывают очень недовольны.
— И все-таки. Это вряд ли причина похищать дочь риелтора.
Белла подошла к ним и положила голову на колени Джованни. Он почесал ее за ухом. Лучана принесла стакан воды. Зазвонил телефон. Оба вздрогнули. И посмотрели друг на друга.
— Джованни…
— Да?
— Ты не будешь отвечать?
Он поднял трубку:
— Да? Квартира Нобиле.
— Джованни, это Умберто, я не помешал?
— Умберто?
— Умберто Джалли! Ты что, не узнаешь мой голос?
— Извини, Умберто. Я ждал звонка одного человека и вздремнул немного.
— Извини, что разбудил. Я хотел только сообщить тебе последние сведения. Если можно?
— Конечно. Какие сведения?
— Я извлек манускрипт и произвел внешний осмотр. Надо сказать, он в отличном состоянии.
— Прекрасно.
— Он был очень хорошо упакован. Материал кажется практически новым. И я думаю, это не фальшивка.
— Рад слышать это, Умберто.
— Что-то случилось?
— Нет-нет. Голова немножко кружится. Я еще не совсем проснулся.
— Ты слегка дернул?
— Дернул?
— Ну да. Чтобы отпраздновать. Ты заслужил!
— Совсем нет. Нисколько!
— Я не узнаю тебя.
— Говорю тебе, я спал.
— Ты говорил с деканом Росси?
Доктор теологии Сальваторе Росси был деканом факультета.
— Нет. О чем?
— Он заходил сюда сразу после того, как ты ушел.
— Из-за манускрипта?
— Он хотел что-то обсудить с тобой.
— Вот как? Что обсудить?
— Манускрипт. Он сказал, что позвонит тебе. Не звонил?
— Нет. Он очень хотел поговорить с тобой. Немедленно.
— Значит, еще позвонит.
— Ты придешь завтра?
— Завтра?
— Да?
— Не знаю… завтра… если надо будет… Может быть, я уеду…
— Да-да. Это связано с манускриптом?
— Нет. Или хотя… да. Да.
— Хорошо, не буду мешать, Джованни. У тебя, конечно, много дел.
— Спасибо за звонок.
— Забеги ко мне, когда вернешься.
— Конечно, Умберто, сразу же.
— Пока, профессор.
Положив трубку, он увидел, что Лучана смотрит на него широко открытыми глазами.
— Он что-то знает?
— Умберто? — Джованни попробовал сообразить, как этот разговор воспринимала Лучана. — Он хотел поговорить о манускрипте.
— Манускрипте?
— Том, который я привез из Египта.
— О боже, Джованни, что делать, что же нам делать?
Он закурил трубку:
— Ждать. Это мы и делаем.
— Но чего мы ждем?
— Когда они свяжутся с нами, — сказал Джованни.
— Не надо говорить со мной в таком тоне.
— Извини. Но ты должна понять.
— Понять? Что?
— У них нет иного интереса, кроме как получить за Сильвану деньги. Они будут звонить.
— О боже, Джованни, представь себе, а вдруг они… — Она не закончила.
— Ты о чем?
— Ей только десять лет. Десять лет!
— Я думаю, здесь дело иного рода.
— Ты уверен?
— Они хотят получить деньги.
— Да. Деньги.
— Они вынуждены будут связаться с нами.
— Когда?
— Я не знаю когда. Извини, я знаю не больше того, что сказал тебе. «Мы позвоним» — были их последние слова.
— Но сколько времени предстоит ждать?
— Не знаю.
— Они должны понимать, что мы тут сидим… и
ждем!
— Скоро, видимо, позвонят.
Он встал и посмотрел в окно. День шел своим чередом, на улице машины, какофония звуков. Обыденная жизнь города показалась ему вдруг абсурдной. Оскорбительной. Парочка шла по улице и смеялась над чем-то. Как они могут смеяться? Мотороллер пробирался между рядами автомобилей. Пешеходы спешили по тротуару и переходили через улицу. Автомобили тормозили и подавали сигнал. Все было как всегда. Не было лишь Сильваны. Контраст между повседневными делами и драмой, которая выпала на их долю, сделал его злым, неприкаянным, испуганным. К нему подошла Белла, дотронулась лапой до ноги. В окно он увидел полицейский мотоцикл, который пробирался среди автомобилей. На лестничной клетке хлопнула дверь.
Они даже не знают, что Сильвана пропала. Он положил трубку на подоконник.
— Хочешь выпить? — спросил он.
— Выпить?
— Вина?
— Спасибо, нет.
— Чего-то покрепче?
— Не хочу.
— Чтобы успокоиться.
— Думаю, это не поможет.
— Пожалуй, ты права.
Лучана посмотрела на мужа:
— А это может иметь отношение к манускрипту?
Неожиданная мысль не сразу дошла до него.
— Джованни?
— Ты имеешь в виду Евангелие Люцифера?
— Да? Ты не слышал, что я спросила?
— Я думаю. Оно не стоит
таких денег. Конечно, за него можно получить деньги, если Луиджи найдет хорошего покупателя, но… Нет. Это абсурд. Я никогда не слышал, чтобы ребенка похищали ради того, чтобы получить выкуп антикварными вещами и культурными ценностями.
— Но это возможно?
— Конечно возможно. Только это абсурд!
— Почему?
— Эту редкость невозможно выставить на продажу.
— Где он?
— В университете.
— В твоем кабинете?
— У Умберто. Поэтому он и звонил.
— Ты должен отдать им его.
— Манускрипт?
— Если они ищут его. Слышишь?
— Конечно! Ты думаешь, я буду подвергать риску жизнь Сильваны из-за какого-то древнего манускрипта?
Намек на самую возможность такого развития событий оскорбил его.
— Извини, Джованни. Конечно. Я знаю. Я не хотела тебя обидеть. Прости.
Он подошел к ней и обнял.
— Я очень боюсь, — прошептала она.
— Я тоже.
* * *
Он вышел на кухню и налил себе стакан воды. Увидел под стулом пробежавшего таракана. Съел несколько сухих изюминок, сполоснул стакан под краном и поставил его назад в шкаф. Белла зевала так, словно хотела закончить свою жизнь, проглотив баскетбольный мяч. Из кухни он пошел в свой кабинет. Ему нужно было прочистить мозги. На самом верху кипы бумаг на письменном столе — подобно волшебной формуле зла — лежал один из его старых списков демонов. Джованни собирался дополнить его и объединить с каталогом демонов по регионам. В этом списке, основанном на
Clavicula Salomonis («Ключи Соломона»),
[245] значилось семьдесят два демона в строго иерархическом порядке. Не думая ни о чем, он смотрел на список, который несколько дней назад представлялся ему таким важным, а теперь утратил всякий смысл.
СПИСОК ДЕМОНОВ
базируется на Clavicula Salomonis с использованием также Clavis Salomonis и Pseudomonarchia Daemonum
Джованни Нобиле Рим, июнь 1969 года
В соответствии скаталогом демонов Clavicula Salomonis[246] семнадцатого века — которое, по-видимому, базируется на еще более старом произведении Clavis Salomonia[247] — демоны подразделяются на царей, принцев, герцогов, графов, маркизов, президентов и одного рыцаря (Туркас).
Труд голландского оккультиста и демонолога Иоганна Бейера Pseudomonarchia Daemonum («Иерархия демонов»)[248] был опубликован в 1577 году, еще до выхода Clavicula Salomonis, в качестве дополнения к его же работе De praestigiis daemonum («O проделках демонов») (1563).[249]
Оба произведения содержат авторитетные списки известных демонов — шестидесяти восьми в Pseudomonarchia Daemonum и семидесяти двух в Clavicula Salomonis,[250] — а также сообщают, когда и как демонов можно вызвать. Эти гримуары[251] — черные книги — испытали, в частности, влияние мусульманского мистицизма и иудейской каббалы.[252] Демоны распределяются таким образом (место в иерархии обозначено в скобках):
Цари:
Баэль (1),
Паимон (9),
Белет (13),
Пурсон (20),
Асмодеус (32),
Вине (45)*,
Балам (51),
Белиаль (68),
Заган (61)*.
Принцы:
Вассаго (3),
Ситри (12),
Гаап (33)*,
Столас (36),
Оробас (55),
Сеере (70).
Герцоги:
Агарес (2),
Валефар (6),
Барбатос (8),
Гусион (11),
Элигос (15),
Зепар (16),
Батин (18),
Саллос (19),
Аим (23),
Буне (26),
Берит (28),
Астарот (2),
Фокалор (41),
Вепар (42),
Увал (47),
Крокелл (49),
Аллокес (52),
Мурмур (54)*,
Гремори (56),
Вапула (60),
Флаурос (64),
Амдусиас (67),
Данталион (71).
Графы:
Ботис (17)*,
Моракс (21)*,
Ипос (22)*,
Гласиа-Лаболас (25)*,
Фурфур (34),
Хальфас (38),
Раум (40),
Бифронс (46),
Андромалиус (72).
Маркизы:
Самигина (4),
Амон (7),
Лерайе (14),
Набериус (24),
Ронове (30)*,
Форнеус (30),
Маркоиас (35),
Фенекс (37),
Сабнок (43),
Шакс (44),
Ориас (59),
Андрас (63),
Андреалфус (65),
Кимейес (бб),
Декарабиа (69).
Президенты:
Марбас (5),
Буэр (10),
Форас (31),
Мальфас (39),
Хаагенти (48),
Каим (53),
Осе (57),
Амии (58),
Волак (62).
Рыцарь:
Фуркас (50).
* Вине имеет также ранг герцога, Заган, Гаап, Ботис, Моракс и Гласиа-Лаболас — президента, Мурмур и Ронове — графа и Ипос — принца.
Сильное душевное волнение заставило его смять листки и бросить их об стену. Он вскочил так быстро, что закружилась голова. Успокоившись, пошел к Лучане в комнату. Сел. Некоторое время следил за движением секундной стрелки на старых дедовых часах. Лучана тяжело дышала. Через окно в комнату проникали звуки улицы. Время шло. Он попробовал представить себе Сильвану. Плакала она? Была связана? Или ее уже убили и бросили в грязь на обочину неиспользуемой проселочной дороги? И она, мертвенно-бледная, лежит среди битых пивных бутылок и пустых ведер из-под краски? Лучана пошла в туалет. Он следил за мухой, которая летала взад и вперед под потолком. Что-то в дедовых часах затрещало и щелкнуло. Лучана спустила воду и вышла. Джованни закурил, но тут же забыл о трубке и держал ее в руке, пока она не потухла.
— Все нормально прошло в Л’Акуиле?
Она непонимающе посмотрела на него.
— В понедельник ты ездила по делу в Л’Акуилу.
— Это важно?
— Я просто убиваю время.
— Все прошло как полагается.
— Хорошо. Приятно слышать. Ты ездила с Энрико?
Она еще раз посмотрела на него. Что-то было во взгляде…
— Да. Я говорила, что это было необходимо.
— Приятный парень.
— Да.
— Красивый.
— Да.
— Он тебе нравится?
— Он мой начальник.
— Но он тебе нравится?
— Конечно, он мне нравится.
— Понимаю.
— Что ты
понимаешь, Джованни?
— Ничего. Просто так говорят.
Пауза.
— Может быть, поговорим о Сильване? — сказала она.
— Да, конечно.
Они посмотрели друг на друга и замолчали.
* * *
Джованни не привык молиться. Когда он был маленьким, он молился каждый вечер. Он не вспомнил, когда или почему перестал молиться. Может быть, потому, что понял бессмысленность молитвы. Как мог Бог — даже Бог! — справиться с тем, чтобы выслушать все эти молитвы? И зачем Ему это? Разве Он не подарил людям свободу? Зачем Богу вмешиваться в мелкие проблемы жизни только потому, что кто-то из этих жалких червей-людишек вдруг сложил руки и стал молить Его о помощи?
«Молитва, — подумал Джованни, — крик о помощи попавших в беду. И вот теперь Бог нужен мне».
Он посмотрел на Лучану. У него родилась мысль спросить жену, не хочет ли она помолиться вместе с ним. За Сильвану. Но эта мысль сразу умерла. Лучана была совершенно не религиозна. Когда они только съехались и стали жить вместе, они ходили в церковь каждое воскресенье. Но с годами Лучана утратила веру, во всяком случае страстную веру. Если бы он предложил ей помолиться, то даже сейчас она посмотрела бы на него пустым взглядом. Джованни был в этом уверен. Лучана выглядела очень сильной женщиной. Хотя только что плакала. Как будто она взяла себе всю силу, которой не хватало ему. Он не мог позволить ей смотреть на него, когда он молится, она восприняла бы молитву как признак его слабости. Его ничтожности. Ведь обычно он не молился. И только сейчас, придя в отчаяние, обратился к Богу с просьбой о помощи. Как трогательно! Нет. Он не будет трогать Лучану. А вот у него совесть не чиста. Он не хотел, чтобы она видела его во время молитвы. Он вошел в туалет и закрыл дверь. Прислонился спиной к стене и посмотрел на свое отражение в овальном зеркале. Лицо было мертвенно-серым. Неожиданно пришли в голову слова молитвы, которой обучила его мама, когда он был маленьким. «Дорогой Боженька, Отче наш на небесах, спасибо за сегодня, мне было так хорошо…» Он попытался сдержаться, но не получилось, он икнул. Открыл кран, чтобы Лучана не слышала, как он плачет. «…Не сердись на меня, даже если я огорчил Тебя…» Он подошел к унитазу, встал на колени, закрыл крышку, положил на нее локти. Сложил руки. «Отче наш на небесах… Дорогой, дорогой Господь… Я знаю, что не имею права просить Тебя о помощи… Я недостоин Твоей милости… Но послушай меня, дорогой Господь, ради Сильваны, дорогой-дорогой Господь, не ради меня, ради Сильваны… Она всего лишь дитя, невинное дитя… Не наказывай ее за мое тщеславие и мою гордыню… Не надо за мои слабости наказывать Сильвану… Дорогой Господь, прояви милость к маленькой Сильване…»
— Джованни?
В двери стояла Лучана.
Он оторвал пальцы друг от друга — как будто его застали на месте преступления в момент, когда он занимался чем-то постыдным, — но остался стоять на коленях.
— Джованни?
Она испуганно смотрела на него.
— Я… только…
— Что… что ты делаешь?
Он не узнал ее голос.
— Меня… тошнит.
В какой-то квартире спустили воду. Раздался шум.
— Ты молишься?
Через трубу промчалась вода.
— Я… Лучана, я…
Он замолчал.
— Ты молишься, Джованни?
— Да.
— Богу?
Он посмотрел на нее. «Богу?» Хорошенький вопрос. Кому же еще? О небеса, ну какой глупый вопрос!
«Какого черта, Лучана, кому же еще я могу молиться, ты думаешь, что я вызываю всех этих мелких дьяволов, чтобы они помогли Сильване? Неужели ты всерьез думаешь, что я приглашаю сюда легионы демонов и духов?» Но он ничего не сказал.
— Ты молишься Богу?
Пауза.
— Да.
Она заплакала. Он медленно поднялся и обнял ее:
— Я не знаю, что говорить, Лучана, не знаю, что делать.
— Мы никогда ее больше не увидим, да?
— Конечно, мы увидим ее!
— Поэтому ты молился Богу. Ты знаешь, что она никогда не вернется домой!
Он не знал, что сказать.
* * *
Когда он вышел на кухню, чтобы приготовить себе кофе, Лучана сидела за столом с большой керамической кружкой чая, но чай не пила. Она не посмотрела на него и ничего не сказала. Об оконное стекло билась муха. Лучана встала и пошла в комнату со своей кружкой. Когда кофе был готов, он налил его себе и сел туда, где сидела Лучана. Стул был еще теплым. Он обмакнул кусочек сахара в кофе и стал посасывать его. Правильно ли было отказаться от звонка в полицию? Он подумал, что было бы легче передать все профессионалам, которые привыкли иметь дело с похитителями. Тем, кто знал, что надо говорить, чего нельзя говорить. Какие слова никогда нельзя употреблять в переговорах с похитителями. Тем, кто понимал: угрозы произносились только для того, чтобы напугать. Или же они были смертельно серьезными. Но он не мог рисковать и предполагать, что похитители просто блефовали. На кону стояла жизнь Сильваны. Если бы им нужны были деньги! Тогда он был бы спокойнее. Любая сумма была чем-то понятным. Осязаемым. Обычные бандиты избирают путь наименьшего сопротивления. Но похитители Сильваны не производили впечатления обычных бандитов. Они не просили денег. Они вообще ничего не просили. Почему? К чему они стремились? Неужели заполучить манускрипт? Мог ли древний манускрипт иметь такую ценность? Вряд ли. А может быть, не сам манускрипт, а его содержание? Указание на какое-то сокровище? Или какой-то связанный с религией артефакт? Крест и тело Христа? Святой Грааль? Нет, манускрипт был слишком древним. Ковчег Завета?
«Не будь дураком, Джованни!» Даже если бы манускрипт скрывал расположение сокровищницы царя Вавилона, было мало оснований верить, что текст может привести разбойников к цели спустя несколько тысяч лет. Он не понимал, что хотели заполучить похитители. И от этого они казались Джованни еще более опасными и непредсказуемыми. Неужели им нужно Евангелие Люцифера? Но зачем им практически нечитаемый древний манускрипт? На нелегальном рынке коллекционеров его цена не столько велика, чтобы ради наживы похищать не имеющую отношения к делу десятилетнюю девочку. Неужели это возможно? Джованни сделал себе кофе, от крепости которого почувствовал накатывающую тошноту. Выплюнул кофе в мойку. Скоро семь часов. Вылил остаток кофе и вымыл чашку теплой водой. Пошел к окну и открыл его. Муха улетела. «Уже лето», — подумал он. Если высунуться из окна подальше и посмотреть налево, то можно увидеть собор Святого Петра. Агент по недвижимости при покупке ими с Лучаной квартиры делал на это обстоятельство очень большой упор. Джованни ни разу не проверил, правду ли говорил агент, ведь это не имело значения. Иногда лучше просто верить во что-то.
XVIII
ПРЕСЛЕДОВАТЕЛИ
РИМ
10 июня 2009 года
1
Автомобиль — внедорожник с тонированными стеклами — ждал нас в воротах у Пьяцца ди Санта-Марта. Альдо Ломбарди втолкнул нас с Моник на заднее сиденье, а сам сел рядом с шофером.
— Быстрее! Быстрее! — крикнул он.
Шофер завел машину, выехал на улицу, резко остановился, включил первую передачу и рванул по Виа Аурелиа. Я пытался спросить у Альдо Ломбарди, что произошло, но он, прижав руку к своему слуховому аппарату, шикнул на меня:
— Потом, все потом.
Мы проехали по Трастевере несколько светофоров на красный свет, пересекли Тибр параллельно с железнодорожной линией и помчались через сплетение маленьких улочек.
— За нами гонятся? — спросил я.
Ни Альдо, ни шофер не ответили. Руки мои дрожали так сильно, что мне пришлось ухватиться за спинку переднего сиденья. Моник сидела бледная и смотрела в окно; она погрузилась в свой мир, заперла дверь и поставила перед дверью комод. Я не осмеливался посмотреть на спидометр. Мы промчались через Пьяццале Осиензе и Виале Авентино, проехали Циркус Максимус и оказались на обратной стороне Колизея. Только на Виа деи Фори-Империале шофер сбавил скорость.
Я наконец набрал в легкие побольше воздуху и спросил:
— Профессор Ломбарди! Что случилось?
Он повернулся и посмотрел мне прямо в глаза:
— Это
они.
— Откуда они знают, где я?
— Они знают.
— Откуда?
— Потом, Бьорн, потом.
На Пьяцца Венеция нас встретили двое полицейских на мотоциклах. Я подумал, что их послали остановить нас из-за сумасшедшей езды по городу, но оказалось, что они начали сопровождать наш автомобиль, образовав нечто вроде кортежа.
— Откуда вы узнали, что кто-то охотится за нами в Ватикане? — спросил я.
— Многих из них узнали в лицо.
— Кто?
— Потом, Бьорн.
— Так вы знаете, кто они?
— Частично.
— А откуда взялся этот автомобиль?
— Он стоял наготове.
— Я думал, мысль пойти с нами в Ватикан посетила вас неожиданно. А вы, оказывается, держали наготове автомобиль, и вряд ли
случайно.
— Мы опасались, что нечто подобное может произойти.
— Мы? Кто это — мы?
Он вынул из уха наушник. Из нагрудного кармана достал крохотный микрофон с передатчиком.
— Мы не хотели упустить шанс.
— С кем вы разговариваете?
— Потом, Бьорн, потом.
Два полицейских мотоцикла вели нас через перегруженные транспортом улицы.
2
Тот, кто отдает себя любви, говорят бразильцы, препоручает себя и страданиям. По-видимому, в глубине души я — бразилец.
За свою жизнь я любил нескольких женщин. Они не всегда отвечали мне взаимностью. Когда я изучал археологию, я был влюблен в Грету, она была профессором в нашем университете, а когда-то еще и моим преподавателем. Если Грета и испытывала хотя бы иногда по отношению ко мне порывы любви, то, во всяком случае, очень хорошо скрывала это. Много лет спустя она умерла практически на моих руках.
Не Грета ли зародила во мне любовь к зрелым женщинам? Или она просто раздула тлеющий во мне с самого рождения уголек? Марианна. Нина. Карина. Вибеке. Шарлотта. Беатрис. Каждое имя имеет лицо, аромат, запас нежности. Моник…
Только Диана был много моложе меня. Она единственное исключение. Я встретил ее в Лондоне. Мы провели вместе несколько недель. Мы расстались почти десять лет назад. Но я еще не расстался с этой любовью.
3
Позже — в квартире, которую Альдо Ломбарди предоставил в наше распоряжение, — мы собрались вокруг обеденного стола в большой комнате. Моник поставила кофейник, я вынул чашки и салфетки. Альдо Ломбарди все время общался с кем-то по телефону, прикрывая рот рукой, чтобы я не слышал, о чем он говорит. И совершенно напрасно, я не знаю итальянского.
Я пил кофе и пытался успокоить нервы. Моник вынула свое вязанье. На перилах французского балкона курлыкал сидевший там голубь. Я подошел к открытому окну. Голубь тут же улетел. На улице стояли наш внедорожник и еще два автомобиля, припаркованные наполовину на тротуаре. За стеклами машин я смог разглядеть лица сидящих в них людей. Альдо Ломбарди подошел ко мне и посмотрел на город, он держал в руках чашку кофе так, словно пытался согреть замершие руки.
— Кто они? — спросил я и кивнул в сторону припаркованных автомобилей.
— Не бойтесь, это наши люди.
— Но
кто они?
— Они оберегают нас.
Профессор Альдо Ломбарди вернулся к обеденному столу, за которым Моник угощалась цветочным чаем. Я стоял спиной к городу, опираясь на ограду балкона. За мной с открытой площадки внизу на улице взлетела стая голубей. Моник пила чай, не глядя ни на кого из нас. Бессмысленность ситуации раздражала меня, делала бессильным. Какие-то люди — явно те же, что убили Кристиана Кайзера, Тараса Королева, Мари-Элизу Монье и бог знает сколько других, — сумели выследить меня здесь, в Риме. Альдо Ломбарди имел, судя по всему, какие-то связи с группой сил безопасности, которые наблюдали за мной. И охраняли меня. И то и другое казалось мне абсурдным. Альдо Ломбарди — профессор теологии, миролюбивый исследователь слов и мыслей.
Или все это инсценировано, чтобы обмануть меня? И Альдо Ломбарди прятался за кулисами хорошо отрепетированного спектакля, единственным смыслом которого было заставить меня поверить, что профессор на моей стороне?
— Почему им так необходимо захватить Евангелие Люцифера? — спросил я. — Вы что-то говорили о пророчестве… о секте…
— Я предлагаю продолжить попозже. Вы взволнованы и растеряны. Я хорошо вас понимаю. Все, что я рассказал вам, и все, что происходит, объясняется довольно легко. — Он отпил кофе и поставил чашку на стол. — Сейчас мы успокоимся, чтобы все происшедшее и все, о чем мы говорим, уложилось в голове. Может быть, стоит чуть-чуть поспать, если вас не пугает сон в такую жару? И потом я введу вас, насколько сумею, в закулисную историю событий сегодняшнего дня и всех предыдущих недель.
4
Прежде чем лечь спать, я позвонил Трайну в Исландию. Он рассказал, что манускрипт на время отложен в сторону.
Новая, ранее неизвестная версия «Саги о Ньяле»
[253] была обнаружена в Скаульхольте и потребовала всех ресурсов института.
После этого я позвонил старшему полицейскому Хенриксену в Осло. Впервые за все время голос старшего полицейского звучал оптимистично. Использовав данные гостиниц региона Осло и билетный архив авиакомпаний, а также компьютерную программу службы безопасности полиции, они установили десятерых, которые прилетели в Осло на рейсах трех авиакомпаний в среду двадцатого мая, жили в пяти разных гостиницах и улетели из Норвегии: двое — на SAS в Копенгаген, четверо — на British Airways в Лондон и еще четверо — на Lufthansa в Мюнхен в воскресенье седьмого и понедельник восьмого июня. Кроме одинаковой схемы поездки, общим было то, что они приезжали с фальшивыми документами и все их следы пропали, как только они достигли цели путешествия.
— Во всяком случае, у нас есть над чем работать, — сказал Хенриксен.
«Есть над чем работать». Это стало для него спасением, иллюзией, что он продвигается вперед. Он не понимал, что каждая новая деталь не продвигала его вперед, а, наоборот, все больше погружала в болото неразберихи.
Когда я стал погружаться в сон, мне приснился снова чужеродный ландшафт под ярким солнцем. Сам сон продолжался лишь несколько секунд. Но странное состояние продлилось вплоть до момента, когда Моник слегка поцарапала мое плечо спустя час.
XIX
СЫН САТАНЫ
1
Вечернее солнце опускалось за силуэты крыш Рима и куполов церквей, когда Альдо Ломбарди, Моник и я собрались вокруг обеденного стола в большой комнате. Моник как раз кончила решать кроссворд, который она привезла с собой из дому. Происшествия сегодняшнего дня превратились во что-то нереальное, что-то такое, что нам приснилось или было увидено в кино. Голубь — очевидно, тот же самый, что и раньше, — как на насесте, сидел на ограждении французского балкона. Профессор успел сходить за кофе для кофеварки, Моник предпочла свой цветочный чай.
Альдо Ломбарди откашлялся и начал рассказ:
— Неверующему, как вы, человеку, Бьорн, религиозные аспекты жизни должны казаться непонятными. Я мог бы с вами согласиться. Но вера в Бога — и в Сатану — является фундаментом для взглядов миллионов людей на протяжении тысяч лет. Пророки, священники и философы старались достичь того понимания Бога, на котором мы, христиане, — и в схожем плане также иудеи и мусульмане — базируем нашу веру. Вера — это признание существования Бога. Религии приводят этот факт в систему. Вера — внутреннее пламя, убеждение. Но чтобы вы могли понять то, что я сейчас расскажу, вы должны попытаться проникнуть в сознание верующего. Хотя бы на короткое время сделать вид, будто верите, что Бог существует и является всемогущим властителем во Вселенной. Попытайтесь поверить в то, что Бог окружил себя верными помощниками, ангелами, а некоторые ангелы вдруг восстали против своего властителя и стали поклоняться тьме вместо блаженства.
Я подул на кофе, который был все еще горячим и обжигал губы. Моник сидела откинувшись на спинку стула, вязала и слушала. Она ни разу даже не посмотрела на свои две спицы.
— Две тысячи лет назад случилось чудо, в мир пришел Сын Бога, — возвестил Альдо Ломбарди. — Вы оба знаете, какое значение имел Иисус Христос. Слова и поступки, которыми Он делился с нами в течение короткого времени пребывания здесь, на Земле, все еще живут внутри нас и с нами. Он создал новый мировой порядок, новую религию, новый способ понимания старых религий.
Альдо Ломбарди вел себя как миссионер, обращающий в свою религию.
— Библия говорит о Боге и путях света. Сатана и его демоны являются всего лишь второстепенными фигурами в посланиях света и милосердия. Они служат мерилом зла и милосердия. Но то, что Сатана и падшие ангелы не занимают центрального места в Библии, не означает, что другие пророки не могут описать историю и заповеди Сатаны. Так же добросовестно, как авторы и пророки Библии, целый легион сторонников тьмы писал историю зла и восхвалял тьму. Эти письмена были спрятаны. Священники стремились уничтожить эти языческие тексты, когда те к ним попадали. Подобно тому как Библия в самое раннее время существовала во многих вариантах и экземплярах — в более или менее точных списках ранних текстов или устных рассказах, — тексты сторонников Сатаны также существовали в бесчисленных вариантах. Но со временем их выследили и уничтожили. К тому времени, когда Отцы Церкви собрали части Библии в единый авторитетный канон, существовал только один известный экземпляр текста, который сегодня называется Евангелием Люцифера.
Я посмотрел на Моник, которая поерзала, но не взглянула на меня.
— Почему Евангелие Люцифера могут в наше время воспринимать всерьез? — спросил я. — Что делает его таким опасным?
— Кто-то, может быть, скажет, что сатанинская библия сама по себе опасна, потому что дает экстремистам и заблудшим душам цель, направление, однозначный призыв, который восхваляет эгоизм, а не любовь к ближнему, зло, а не добро, тьму, а не свет. Чем были бы иудаизм и христианство без Библии? Чем был бы ислам без Корана?
— Я жду появления «но».
— Что мы знаем о Евангелии Люцифера? Этот кодекс состоит из разнообразных элементов: аллегорий и притч, гимнов, предсказаний и откровений. Вдобавок он содержит магические символы, которые нам непонятны, но содержат ответы на многие жизненные вопросы и загадки смерти. Вы, вероятно, слышали предсказания о 2012 годе?
Как школьница, Моник подняла руку и написала: «Мир переменится».
— На основе древних текстов — от пророчеств Библии до предсказаний, взятых из памятников культуры майя, — все вокруг твердят, что в этом году случится что-то эпохальное. Но что? Армагеддон, конец света, Воскресение Христово?
«Новое познание мира», — написала Моник.
— По данным легендарного календаря майя, в этом году начнется новый цикл, произойдут большие перемены в мировом порядке. Кто-то говорит, что магнитные полюса поменяются местами. Кто-то верит, что Земля начнет крутиться в другую сторону. Или что Земля пройдет мимо гипотетической планеты Нибиру,
[254] которая делает один оборот вокруг Солнца за 3661 год. Может быть, откроется проход между параллельными измерениями. В общем… 2012-й — магический год, и фантасты разных калибров соревнуются в изложении разных теорий и фантастических пророчеств о том, что произойдет.
— Евангелие Люцифера тоже дает свою теорию?
— В сочинении историка Созомена,
[255] относящемуся к пятому веку, цитируется отрывок из кодекса, которому тогда было триста лет. В нем говорится о том, что произойдет через 1 647 000 дней. В наше время.
— И что же произойдет?
— В Новом Завете мы находим похожее — хотя и аллегорическое — изложение в Откровении Иоанна Богослова:
Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, это число человеческое; число это шестьсот шестьдесят шесть.[256]
666 — мистическое число. С годами создалась целая псевдонаука вокруг толкования этого числа. Почитайте только, что наш друг Джованни Нобиле написал о числе 666 в одной из своих статей.
Он передал мне машинописный листок в пластиковом файле.
Многие думают, что число зверя в Откровении Иоанна Богослова — 666 — числовой кол презираемого императора Нерона. Символика вокруг 666 базируется, по-видимому, на неправильном чтении вавилонской клинописной надписи. Когда вавилоняне должны были писать имя своего бога Мардука кодом, то писали священное число 3661:
 Иудеи во время вавилонского плена[257] прочитали число неправильно. Они понимали, что три значка клинописи обозначали бога вавилонян, врагов иудеев, но истолковали его как число 666. Они не знали вавилонскую математику и при этом еще и перепутали числа со значками иврита. Таким образом написанное клинописью число 3661 прочитали как 666. Но клинописное число значит вовсе не 666. Поскольку месопотамская математика была шестидесятеричной (базирующейся на числе 60), а разделение разрядов происходило с помощью запятой, сочетание 1, 1, 1 нужно было читать как 3661. Первый клинописный знак в этой системе представлял число 3600, следующий знак — число 60, последний знак — 1. Вот таким образом тайный код, обозначавший вавилонского бога Мардука, — 3601 — был превращен в знак зверя в Откровении Иоанна Богослова — 666. А продвинутая математика вавилонян оказала влияние на иудейскую и христианскую мифологию.
Иудеи во время вавилонского плена[257] прочитали число неправильно. Они понимали, что три значка клинописи обозначали бога вавилонян, врагов иудеев, но истолковали его как число 666. Они не знали вавилонскую математику и при этом еще и перепутали числа со значками иврита. Таким образом написанное клинописью число 3661 прочитали как 666. Но клинописное число значит вовсе не 666. Поскольку месопотамская математика была шестидесятеричной (базирующейся на числе 60), а разделение разрядов происходило с помощью запятой, сочетание 1, 1, 1 нужно было читать как 3661. Первый клинописный знак в этой системе представлял число 3600, следующий знак — число 60, последний знак — 1. Вот таким образом тайный код, обозначавший вавилонского бога Мардука, — 3601 — был превращен в знак зверя в Откровении Иоанна Богослова — 666. А продвинутая математика вавилонян оказала влияние на иудейскую и христианскую мифологию.
— Хотя я и не силен в математике, я понял, во всяком случае, принцип. — Я протянул листок профессору обратно.
Он продолжил:
— Так вот, в старых письменах говорится, что «князь родит от женщины-блудницы сына и этот принц станет могущественным властителем земель и царств во всем мире».
— У Сатаны будет сын от женщины? От блудницы? Евангелие Люцифера содержит пророчество о том, что в 2012 году у Сатаны родится сын, который подчинит себе весь мир?
— Так написано. И в этом пророчестве высмеивается история о Боге и Деве Марии, зачавшей Сына Божия. Хотя текст написан за 2500 лет до Рождения Иисуса. Я же не говорю, что пророчество правильное, я только цитирую его. До 2012 года осталось меньше трех лет.
[258] Разве так уж нелогично предположить, что те, кто убивает одного за другим ради получения манускрипта, имеют религиозный мотив? Им нужен текст, чтобы осуществить пророчество.
Я посмотрел на Моник, чтобы узнать, как она отреагирует. Вязанье, понятное дело, полностью поглотило ее внимание.
— Миллионы людей убеждены в том, что Иисус Христос воскреснет для того, чтобы судить живых и мертвых, — сказал я. — С этой точки зрения не менее вероятно, что сын Сатаны, Антихрист, тоже вернется сюда.
— Где хранится манускрипт, Бьорн?
Вопрос был простительным и вполне уместным. Как теолог и исследователь, Альдо Ломбарди, естественно, хотел бы изучить древний сенсационный манускрипт. И все же, учитывая всю совокупность фактов: ярко выраженное стремление профессора заполучить меня в Рим, охранники, которые ждали нас наготове, все рассказы и пояснения Ломбарди, — я не так уж был уверен в его мотивах.
— Манускрипт в надежном месте.
— Очень важно, чтобы вы передали его тому, кто сможет сохранить и истолковать его. Но вы это, конечно, знаете и сами. Я понимаю, что вы хотите сберечь манускрипт. И не отдадите его кому попало.
Без особого успеха он попытался обосновать свой вопрос о местонахождении манускрипта. Где-то далеко в лесу из шпилей, башен и часовен я услышал, как ни странно, церковный колокол, который пробил всего один раз. Я тут же проникся симпатией к нему. Как и я, этот колокол жил в своем собственном мире. И это когда Рим набит нетерпеливыми автомобилями и восторженными туристами, шаловливым воркованием голубей и молитвами священников, монахов и монашек, любовными стенаниями за окнами, прикрытыми жалюзи.
— Вы можете, — сказал он нетерпеливо, — оказать мне услугу и подтвердить мою правоту или неправоту? Если я прав, не будучи религиозным фанатиком, то через три года сын Сатаны придет в наш мир, чтобы уничтожить все то хорошее, что Иисус посеял на Земле, и разве не в интересах всех, даже атеистов, было бы остановить его? Помешать этой дьявольской затее?
Он продолжал обволакивать меня паутиной риторических вопросов, поэтому я не стал отвечать. Но, встретив его взгляд, не отвернулся.
— Вы помните, мы говорили об утраченном Евангелии от Варфоломея? — спросил Ломбарди. — Варфоломей был одним из двенадцати апостолов Иисуса, он называет десять демонов по именам: Халкатура, Харут, Дут, Графатас, Хоетра, Мелиот, Мермеот, Нефонос и Ономатат. Но самый интересный из них десятый — Сальпсан. Он единственный, кого в новозаветном апокрифическом источнике «Вопросы Варфоломея» называют сыном Сатаны. — Ломбарди подтолкнул ко мне лист бумаги:
И я [Сатана] разбудил моего сына Сальпсана и спросил у него совета, как мне обмануть человека, который позволил свершиться тому, чтобы меня свергли с небес.[259]
— Бьорн, — сказал Альдо Ломбарди, — в вашей власти воспрепятствовать тому, чтобы сын Сатаны вернулся на Землю.
Подобно всем обезумевшим от вид
ения, профессор Альдо Ломбарди был так поглощен пророчеством манускрипта, что не усмотрел безумства в своем заблуждении.
— Я всего лишь ничтожное орудие в борьбе за Иисуса Христа, — сказал он. — Но я представляю нечто большее. Я представляю здесь тех, кто любой ценой хочет остановить Антихриста. Мы — это группа лиц: священники, верующие, монахи, теологи —
добрые люди, Бьорн, добрые люди! — которые поставили своей целью воспрепятствовать замыслу Сатаны. И чтобы остановить Сатану и помешать его помощникам из плоти и крови отыскать для него блудницу, без которой ему не обойтись при осуществлении задуманного, нам нужно знать его планы. Поэтому-то мы и должны прочесть пророчества. Целиком.
В конце его тирады так и хотелось добавить: «Аллилуйя».
— Нам нужен этот манускрипт, Бьорн. Подобно тому как Ветхий Завет был основой для прихода на землю Иисуса Христа, Евангелие Люцифера открывает дорогу сыну Сатаны. Узнав пророчество в деталях, мы будем вооружены и помешаем его претворению в жизнь. Ученикам Сатаны манускрипт нужен, чтоб осуществить волю князя тьмы. Как Богу нужна была Дева Мария, так и Сатане нужны хорошие помощники здесь, на Земле. Мы боремся за то, во что верим. Я уверен, что вы больше всех понимаете это. На протяжении многих лет мы ожидали появления Евангелия Люцифера. Мы поддерживали постоянный контакт с деканами и профессорами ведущих университетов, исследовательских центров и музеев во всем мире. И вот таким образом мы узнали — лучше поздно, чем никогда, — о находке хранителя Тараса Королева. Парадокс заключается в том, что узнали мы о находке не в музее Киево-Печерской лавры, а от нашего человека в университете Осло. — Он посмотрел на меня. — Тогда-то я и начал вам звонить.
2
До глубины души пораженный, я сидел и смотрел на профессора.
Я пытался переварить его рассказ о сыне Сатаны, и вдруг до меня дошло, что загадочным мужчиной, который звонил мне, когда я вернулся из Киева, и продолжал мучить меня потом, пока полиция не конфисковала мой мобильный телефон, был Альдо Ломбарди.
Я должен был узнать его голос. Или нет? Многие ли могут узнать голос незнакомца, с которым говорили только по телефону?
— Вы удивлены? А теперь представьте, каково было мое удивление, когда
вы сами позвонили
мне и спросили про Джованни Нобиле!
Я хотел сказать Ломбарди, что звонил вовсе не
ему, что на него меня переключила секретарь, представив его как человека, который предположительно мог знать что-то о Нобиле. Но сердце билось так сильно, что я испугался потерять голос.
Моник сложила вязанье на коленях и смотрела на нас.
— А как вы узнали, что манускрипт у меня? — спросил я в конце концов.
— Один из наших контактов сообщил об этом, когда вы вернулись из Киева.
— Трюгве Арнтцен!
Это была чистая догадка. Но по выражению лица Ломбарди я понял, что попал в точку.
— Мы никогда не открываем наши источники.
«Но у них, по-видимому, не было источников в Институте Аурни Магнуссона, — радостно подумал я. — Поэтому они не узнали, что я побывал в Исландии».
Моник вынула блокнот, как будто хотела что-то сказать. Но не написала ничего. Она с подозрением смотрела на профессора Ломбарди. Когда я устремлял на нее взгляд, она отводила глаза.
— Вы, наверное, устали, — проговорил профессор. — Давайте пойдем спать. И продолжим нашу беседу завтра.
Ни я, ни Моник не сказали ему: «Спокойной ночи!»
Профессор Альдо Ломбарди — формально и церемонно — попрощался с нами, надел свою шляпу и покинул нас.
Я не знаю, почему я так упорно стараюсь верить в людей. Может быть, из-за маминого предательства. Или из-за папиного. Все мое детство прошло под знаком фальши. Или же у меня в воспоминаниях все перепуталось. Я не исключаю и такого варианта.
3
«Ты ему не веришь?» — написала Моник в блокноте.
— А ты?
Мы перешли из столовой в гостиную. Я налил себе бокал красного вина. Окно и дверь на французский балкон были открыты. Приятный ветерок обдувал квартиру, в которую нас привез Ломбарди.
Я взял блокнот и ручку Моник и написал: «Думаю, что квартира прослушивается».
Она посмотрела по сторонам, закусила нижнюю губу и пожала плечами.
«Это секта……..» За двумя словами Моник следовал длинный ряд многозначительных точек.
«В первый раз, когда профессор мне позвонил, анонимно, я был абсолютно уверен в том, что он один из
них».
Если написать слова, то слабое предположение тут же превращается в конкретную угрозу.
«Все это напоминает абсурдную логику, — продолжил я. — Он изображает из себя нашего покровителя. Но в действительности может оказаться одним из них».
«Ломбарди? Никогда!» — написала Моник.
«Вся история о Джованни Нобиле могла быть придумана для того, чтобы заманить меня в сети Альдо Ломбарди».
Она не взяла ручку.
«И все же я не понимаю, — продолжал я. — Я не могу поверить, что такой человек, как Альдо Ломбарди, может быть участником трех убийств».
«Невероятно! Он не имеет к ним отношения!»
«Но что-то здесь кроется! Что-то ужасное!»
Я встал, подошел к французскому балкону и посмотрел на Рим. На летевшем по небу самолете вспыхивали проблесковые огни. Моник приблизилась ко мне. Мы молча стояли у открытого окна.
«Как бы то ни было, я думаю, надо бежать, — написал я в блокноте. — Так вернее».
«Куда?»
«Прочь! Туда, где мы на сто процентов будем уверены в людях».
«Давай подождем! Посмотрим, что будет!»
Я отрицательно покачал головой.
«Так что ты планируешь делать?»
«Сначала заберу Боллу из подземного гаража. Потом мы уедем из города и найдем гостиницу».
«Этот дом под наблюдением!»
«Знаю. Видишь фургон внизу? С тонированными стеклами? Он стоит здесь с момента нашего приезда. — Я показал на предмет на крыше фургона. — Сенсорное устройство! Реагирует или на перемещение, или на тепло человеческого тела».
«Они заметят, если мы покинем квартиру».
«Поэтому тебе придется остаться. Я вернусь за тобой».
Она схватила меня за руку, словно хотела задержать. Я шикнул. Она энергично покачала головой и вцепилась в меня. Я освободился и написал: «Не бойся. Все будет хорошо. Я вернусь. Ты заметила окно на втором этаже лестницы? Через него можно выйти на карниз, по которому добраться до пожарной лестницы. Я скроюсь в одной из боковых улочек. Они же не могут вести наблюдение за всем кварталом».
Моник продолжала качать головой.
«Я пошлю тебе СМС-сообщение, когда приеду на Болле и буду поблизости. Подхвачу тебя на улице. Ты выйдешь через окно, переберешься по карнизу и будешь ждать меня во дворе!» Я нарисовал улыбающуюся рожицу.
— Думаю, надо пойти поспать, — громко сказал я и преувеличенно отчетливо зевнул.
В блокноте Моник я написал: «Чтобы добраться до гаража, надо 20–30 минут. Так что я вернусь примерно минут через 40–50. Самое позднее — через час. Смотри на мобильный! Скоро увидимся!»
«Бьорн!» — беззвучно произнесла она мое имя.
В ее взгляде я увидел отражение всего того ужаса, который нас ожидал.
4
Абсолютно бесшумно я отпер замок, вышел из квартиры и спустился по лестнице. На втором этаже поднял крючки окна с видом на двор. Петли скрипнули, когда я открывал окно. К счастью, во дворе было пусто. На горе автопокрышек сидел кот и смотрел на меня. Он очень напоминал сэра Фрэнсиса.
Я вышел на довольно широкий карниз. Кончиками пальцев я держался за узкий шов, который нащупал прямо над головой. Создавалась иллюзия, будто у меня есть какая-то опора. Одно неверное движение — и ты летишь в пропасть. Ну хорошо. Пусть не в пропасть, а всего лишь три-четыре метра вниз, но и этого вполне достаточно для человека с боязнью высоты и расшатанной психикой.
Шаг, еще шаг, сердце стучит, балансирую, иду от окна к пожарной лестнице. Вообще-то, карниз не такой уж и узкий. Наверняка больше тридцати сантиметров. Но кажется, что мало.
Пожарная лестница громко забренчала, когда я ее раздвинул. Стал спускаться вниз и смотреть, нет ли людей в окнах.
Никого не было.
Даже кот исчез.
Из тихого квартала я вышел к оживленной главной улице. Автомобили придавали миру вид нормальной жизни. Я бегом побежал к подземному гаражу, где оставил Боллу. За столиками уличных кафе сидели римляне и туристы и пили кофе латте и вино. Рим готовился пробудиться к ночной жизни.
При входе я оплатил парковку. Спустился на нижний этаж паркинга. Болла верно ждала меня во всем своем великолепии: розовая с пятнышками, — там, где я ее поставил, зажатая между «фордом-фиестой» и «тойотой-хиаче». На секунду меня охватил ужас, что я забыл ключи и придется за ними возвращаться, но, к счастью, они лежали в кармане.
5
Мои шаги отдаются гулким эхом от бетонных стен. Есть ли что-то столь же пустое, как подвал подземного гаража без людей?
Когда в полутьме на ощупь я пытаюсь найти связку ключей, чтобы открыть дверь, я слышу, как в стоящем рядом фургоне отодвигается дверь. Я даже не успеваю испугаться. Делаю шаг в сторону, кто-то наваливается на меня сзади.
— Извините, — машинально говорю я.
Я узнаю руки, которые хватают меня. Поворачиваюсь, но не успеваю увидеть напавшего. Зову на помощь. Наношу удар в пространство. Изо всех сил пытаюсь сопротивляться. Они сильнее. И все-таки отчаянным рывком я вырываюсь. Бегаю среди автомобилей и зову на помощь. Но сейчас поздний вечер, никого нет. Я слышу их шаги и вижу их тени на бетонном полу.
—
Opri! — кричит один из них на незнакомом языке.
Когда я был тинейджером, я бегал шестидесятиметровку за одиннадцать и три десятые секунды. У меня очень тяжелые ноги. Вот и сейчас я бегу так быстро, как могу, но преследователи не отстают. Если появится автомобиль, я буду спасен. Бегу по спиральному подъему гаража.
Неизвестно откуда появляется мужчина, перекрывает мне путь бегства. Я натыкаюсь на него. Тут же подбегают остальные. Кто-то встает сзади. С рычанием я пытаюсь освободиться. Попадаю локтем в чей-то живот, продолжаю распихивать противников. Бесполезно. Их больше, они сильнее. Чья-то рука прижимает к моему лицу влажную тряпку. Резкий запах. Острая боль пронизывает гайморову полость, проникая далее в легкие. Успеваю понять, что, когда начинаю падать, кто-то меня подхватывает.
XX
МОНАХИ
1
О Salutaris Hostia quae caeli pandis ostium…[260]
У меня нет ни малейшего представления, сколько времени прошло с тех пор, как откуда-то из бесконечной дали, из другого конца Вселенной, донеслось пение григорианского хора:
…Bella premunt hostilia, da robur, fer auxilium…[261]
Монотонное пение входило в мое сознание и вызывало картинки из какого-то сна с монахами в длинных сутанах в монастырях прошлых веков. Я увидел сотни безликих монахов, проходивших мимо моей кровати, в которой я, как мне привиделось, лежал, обнаженный и замерзший, в заброшенном соборе, свет в который проникал через витражи.
…Uni trinoque Domino sit sempitema gloria, qui vitam sine termino.[262]
Медленно стало затихать многоголосое пение, и с закрытыми глазами я сумел идентифицировать хор мужских голосов, которые больше говорили, чем пели:
…Nobis donet in patria.[263]
Я застонал. От головной боли мозг распух. Во всяком случае, мне так показалось. Голова кружилась, тошнота, холод. Ощущения жуткие. В носу и в глотке жжение. Каждый раз, когда я делал вдох, легкие наполнялись жгучей кислотой. Я закашлялся. К тому же сладкий резкий запах. Прошло некоторое время, прежде чем я понял его происхождение. Ладан. Я попробовал открыть глаза. Внутри головы тут же появилось какое-то стальное раскаленное кольцо. На несколько секунд или минут я полностью отключился, мне стало хорошо. Когда я пришел в себя, однообразное пение продолжалось:
Audi, benigne Conditor, Nostras preces cum fletibus.[264]
Наконец я сумел открыть глаза. Фигуры людей, стоявших вокруг меня, расплывались неясными плавающими контурами. Я попытался определить, где я, что произошло. Вспомнил, что я в Риме. Но не мог понять зачем. В сознании всплыл образ Моник, но кто она — я никак не мог сообразить.
И вдруг я вспомнил.
Все.
Альдо Ломбарди. Квартиру. Бегство. Людей в подземном гараже.
Где я? Я несколько раз моргнул, быстро и резко, пытаясь увидеть все четко и оценить, но не получилось. Альдо Ломбарди тоже здесь? Он участвовал в моем захвате? Что случилось с Моник? Ее тоже схватили?
— Моник?
Вопрос вызвал ураган боли.
Ужасно медленно окружающее приобретало четкость. Вокруг меня стояли девять мужчин. Я никого из них не знал. Все в серых одеяниях. Стояли закрыв глаза, произносили абсурдную монотонную молитву — или что там у них такое.
— Кто вы такие? —
Кт… в… кие. Язык еще очень плохо повиновался.
Комната была очень большой, скорее зал, с высоким сводчатым потолком, в нишах — красочные изображения на стене.
Я попробовал подняться на локтях, но обнаружил, что привязан. Только теперь увидел, что я голый. Абсолютно голый. Моя белая кожа казалась ненормальной и прозрачной на фоне белой ткани, на которой я лежал.
Голый.
Голый — как Кристиан Кайзер. Как Тарас Королев. Как Мари-Элиза Монье.
Голый, привязанный к постели, накрытой белой тканью.
Я с ужасом начал рвать шелковые шнуры, которыми был связан. Издавая какие-то горловые звуки.
2
Служба внезапно прекратилась. Из-за неожиданно образовавшейся тишины ситуация стала еще более страшной. Мужчины, стоявшие вокруг меня, отступили на шаг назад. Раздался звук открывающейся двери, и я не совсем отчетливо услышал, как кто-то входит в зал.
— Господин Белтэ.
Два слова показали, что у говорящего акцент. Он оказался в поле моего зрения. Ему шестьдесят лет, может быть больше. Волосы на голове и борода седые. Во взгляде карих глаз угадывается твердость характера.
— Господин Белтэ…
В его устах мое имя звучало со скрытой угрозой. Он соединил пальцы рук, получилось нечто вроде домика. Ногти длинные и острые. Как у женщины. Без всякого смущения он окинул взглядом мое голое тело. Другие мужчины стояли неподвижно и молчали. Их взгляды были устремлены куда-то вверх.
Он сделал шаг вперед.
— Кто вы? — выкрикнул я, чтобы оставить его на расстоянии.
Если бы он сказал, что он сам Сатана, я не удивился бы.
— Я — Примипил моего святого ордена.
— Что-что?
— Ты меня слышал.
— Не имею представления, о чем вы говорите.
— Они не рассказали тебе, кто мы?
Острым ногтем указательного пальца он провел черту по моей коже от горла до пупка. Обжигающее прикосновение показалось мне непристойным. Варварским. Как будто он одним-единственным движением вспорол мой живот и извлек внутренности.
Он закрыл глаза.
— In Nomine Magna Dei Nostri Satanas.[265]
Мужчины, стоявшие вокруг, повторили эти слова. Они были безликими, как отряд кадетов.
Примипил положил руку мне на грудь, прямо на сердце, словно хотел убедиться, действительно ли оно бьется. Рука показалась холодной, словно была из металла. Когда он вонзил ногти в мою кожу, я застонал от боли и ужаса. Неужели он хотел вырвать мое бьющееся сердце?
— Ki’q Melek Taus r’jyarh whfagh zhasa phr-tga nyena phragn’glu.
Он провел рукой по телу вниз и остановился на животе, в нескольких сантиметрах от полового органа. Когда он наконец перестал до меня дотрагиваться, мне показалось, будто с меня сняли тяжкий груз.
— Ты знаешь, что нам надо. — Тон не угрожающий и не просительный. Простая констатация факта.
Я чуть не заплакал. Какой ответ предпочесть? Конечно, я понимал, что он имел в виду манускрипт. Но отпустят ли меня, если я скажу, что манускрипт — в бронированном хранилище в Исландии, или меня все равно убьют? Что сказать? Как объяснить? Как купить жизнь у этих религиозных фанатиков?
— Зачем меня связали? Почему я голый? — спросил я, скорее для того, чтобы что-то сказать и подальше отодвинуть неизбежное.
— Таковы правила.
— Какие правила?
— Те, которые установили старейшие. Где манускрипт?
— В надежном месте.
— Где?
— Вы меня убьете, если я скажу.
В наступившей тишине я услышал его тяжелое дыхание.
— Ты, вероятно, думаешь, что сможешь промолчать, — сказал он терпеливо, как будто говорил с упрямым ребенком. — Ты знаешь, на что мы способны. Ты знаешь, что мы сделали с другими упрямцами. Почему ты думаешь, что сможешь устоять?
— Вы уже убили троих. По меньшей мере. И хотите убить меня и выкачать мою кровь — независимо от того, скажу я или нет! — Голос изменил мне на мгновение. — Но если вы убьете меня, вы никогда не найдете манускрипт.
— Позволь я тебе кое-что объясню. Наши предшественники, мужественные монахи, которые боролись с претензиями и ложью христианской Церкви, сделали много важных открытий во время этой борьбы с властью католиков. Одно из открытий касается магии крови.
Он кивнул мужчинам, стоявшим вокруг. Один из них подошел и стал губкой обмывать мое тело, с головы до ног, водой с благовониями. Другой принес деревянный ящик, внутри которого был продолговатый сосуд. Большой. Литров на пять крови. Третий принес серебряный ларец. На красном бархате лежали маленькие ножи, скальпели и другие инструменты.
— Мы не хотим потерять ни единой капли крови, — сказал человек, который назвал себя Примипилом. — При помощи наших инструментов и приспособлений мы можем изъять из человека всю кровь за несколько минут. Но мы можем продлить эту процедуру на часы и даже дни.
Сосуд был старый. С непонятными символами и изображениями каких-то отвратительных существ.
Монахи стали надевать продолговатый сосуд на мое правое предплечье, перехватив руку тесьмой у самого локтя. Сопротивляться было бесполезно. Кисть и предплечье оказались внутри сосуда. Потом мою кисть перехватили еще двумя тесемками. Теперь через отверстие они могли вставить в сосуд нож и пустить мне кровь.
— Белтэ, мы можем сделать это быстро и практически безболезненно. Но можем продлить твое мучение на долгие-долгие часы. Я спрашиваю тебя в последний раз: где ты спрятал манускрипт?
3
Время как вино: больше всего его ценишь, когда его осталось совсем мало.
Что происходит, когда ты узнаешь, что скоро умрешь? Кто-то предпочитает, чтобы смерть наступила как можно скорее. Чтобы избежать страданий.
А я буду цепляться за жизнь, пока это возможно.
— Если я умру, — взмолился я, — манускрипт будет навсегда утерян.
— Ты заговоришь. Все говорят. Рано или поздно все говорят.
— Не я!
— Бьорн Белтэ, ты — всего лишь человек.
Он кивнул одному, тот вышел из круга. Когда его подручный подошел поближе, я увидел, что он молод — во всяком случае, ему меньше тридцати — и невероятно высок. Он схватил мою левую руку и что-то сунул в нее. Амулет. Бронзовый амулет с пентаграммой на одной стороне и трикветром на другой. Чисто рефлекторно я сжал его в руке.
Примипил повторил молитву на языке, которого я не знал:
— N’kgna th ki’g Melek Tans r’jyarh fer’gryp’h-nza ke’ru phragn’glu.
Он был похож на друида.
Монахи возобновили монотонное церковное пение:
О Salutaris Hostia quae caeli pandis ostium…
Некоторые пали на колени и начали молиться.
Из серебряного ларца Примипил достал скальпель с кривым лезвием.
—
Белтэ… — Мое имя он произнес так, словно хотел удостовериться, что я готов к смерти.
— Нет! Не надо!
Он поднес скальпель к одному из отверстий в сосуде.
— Не надо! — закричал я. — Нет!
Я почувствовал, как острое лезвие коснулось кожи.
— Нет-нет-нет!
Он поднял голову и произнес как молитву:
— Ave Satanas!
РИМ
май 1970 года
Джованни вошел в комнату и включил вечерние новости по телевизору. Он сам не знал, сделал он это по привычке или чтобы заполнить пустоту в комнате. Лучана так и не выпила чай. По телевизору показывали репортаж о плавании Тура Хейердала
[266] через Атлантический океан на «Ра-II». Джованни не понимал, что хотел доказать норвежец. Потом был рассказ о том, насколько беспомощно полицейские вели расследование взрывов бомб в Риме и Милане в прошлом году. Он выключил телевизор, когда разговор перешел на политику. Лучана сидела неподвижная и молчаливая. Джованни перешел в кабинет и стал перелистывать бумаги, не читая их. Когда он опять вернулся в комнату, Лучана курила сигарету.
— Ты куришь?
Она посмотрела на него и выпустила дым. Она бросила курить десять лет назад.
— Мне надо. Извини.
— В гостиной?
— Не надо, Джованни. Не надо. Извини.
— Откуда у тебя сигареты?
— Из киоска.
Она сделала глубокую затяжку и, закрыв глаза, задержала дым внутри. На диване лежала сумочка. Сигареты были куплены про запас? Она покуривает на работе?
— Хочешь выпить? — спросил он.
Лучана выпустила дым через нос.
— Вина? Или воды?
— Нет, спасибо.
Кончиком языка смочила губы и сделала новую затяжку.
Вдруг у Джованни перед глазами встала картина: Лучана в постели Энрико, голая, ошалевшая от любви. Улыбающаяся, не совсем проснувшаяся. В объятиях Энрико. С сигаретой в зубах.
Поэтому у нее и были сигареты в сумке. Конечно! Чтобы курить после секса.
— Почему ты на меня так смотришь? — спросила она.
— Фруктов хочешь?
— Спасибо. Нет.
В коридоре Белла потянулась и жалобно завыла.
— В чем дело, Джованни?
— Почему ты спрашиваешь?
— Почему ты не можешь сказать, в чем дело?
— В чем дело?
Зазвонил телефон. Лучана вздрогнула. Стала смотреть на Джованни, который взял трубку.
Энрико.
Джованни протянул ей трубку. Она смяла сигарету — резко, быстро — в пепельнице, принесенной из кухни, и сказала, что сейчас не время, заболела Сильвана, она не знает, придет ли завтра на работу. Они попрощались. Лучана положила трубку.
— Короткий разговор, — сказал Джованни.
— Чтобы не занимать линию.
— Понятно.
— Сам подумай, вдруг
они позвонят.
* * *
Большая стрелка на дедовых часах продвинулась вперед. Лучана сидела с закрытыми глазами. Джованни подумал, не спит ли она. От него плохо пахло. Он знал это.
Может быть, принять душ? Он остался сидеть, продолжая размышлять, не принять ли ему душ.
А вдруг они позвонят, когда я буду в душе? Лучана ни за что не сможет поговорить с ними. Она сложила руки.
Она молится? Джованни так и не определил ее отношения к Богу. Он откинулся назад на спинку дивана. Он слышал, как Лучана дышит через нос. Сам он никогда не мог набрать достаточно воздуха в легкие при дыхании через нос. Он подумал о Сильване.
«Бедная моя маленькая девочка». И не заметил, как заснул.
Оба сразу очнулись ото сна, когда в дверь позвонили. Джованни посмотрел на часы. Полночь. Лучана поправила волосы.
Боже мой, женщина, никакой роли не играет, как ты выглядишь! Джованни еще не совсем проснулся и не мог понять, что происходит. Он остался сидеть, хлопал глазами, пока не стали звонить во второй раз. Долго, настойчиво.
— Джованни! — прошептала Лучана.
Он вышел в прихожую и приложился к глазку. Четверо мужчин. Двое в возрасте, двое молодых. Благородные, ухоженные. Все в прекрасных костюмах.
Они.
Они вполне могли быть полицейскими в штатском. Но он сразу понял, что это
они.
Он отпер замок и открыл дверь.
— Виопа sera,
[267] профессор Нобиле, — сказал самый старший.
— Виопа sera! — механически повторил он.
— Я предполагаю, что вы догадываетесь, кто мы, — сказала мужчина, которого Джованни посчитал главным. Такой у него был вид. По-итальянски он говорил с акцентом.
Джованни впустил их в квартиру.
Лучана стояла в двери, держа руки у груди, с измученным выражением лица.
— Что… Что вы сделали… с ней? — жалобно спросила она. — С Сильваной? Что вы сделали с ней?
— Лучана… — сказал Джованни наполовину успокаивающе, наполовину умоляюще.
— Позвольте мы сначала представимся, — сказал главный. — Эти два господина, — он показал рукой на двух молодых крепких парней, — носят звание рыцарей третьей степени. Он кивнул в сторону соседа. — Это Примипил. А я в нашем ордене скромный Великий Магистр.
«Примипил? Великий Магистр?» — подумал Джованни Нобиле.
— Где она? — пронзительно выкрикнула Лучана. — Где Сильвана? Что вы сделали с ней?
Великий Магистр только посмотрел на нее.
— Мы вернемся к этому вопросу, — сказал Примипил. — С ней все в порядке.
Джованни принес из столовой стулья, так что в гостиной места хватило всем.
Великий Магистр и Примипил сели. Рыцари стояли, пока им не дал знак Великий Магистр. Тогда они тоже сели.
— Я не обращался в полицию, — заверил их Джованни.
— Мы это знаем, — сказал Примипил.
— Чего вы хотите?
— Прежде всего вам надо знать, что с Сильваной все хорошо.
Джованни резко выпрямился на стуле. Двое мускулистых парней сделали то же самое.
— Хорошо? — воскликнул он. — Что значит «хорошо»?
— Почему? — спросила Лучана. — Боже мой, она всего лишь девочка, ей десять лет,
почему?
— Всему есть причины, — ответил Примипил.
— Вы ищете манускрипт, ведь правда? — спросил Джованни. — Речь идет о Евангелии Люцифера?
— Логичное заключение, профессор Нобиле.
— Но господи боже мой, вы же могли меня просто спросить!
— И вы отдали бы его?
— Конечно нет. Но вы могли бы угрожать
мне! А не моей дочери! Мне! Достаточно было бы просто сунуть мне под нос пистолет.
— Где манускрипт?
— У меня его больше нет.
— Как это? — спросил недоверчивым тоном Примипил.
Великий Магистр дал знак молодым парням, которые отправились в кабинет Джованни.
Джованни не видел их с того места, где сидел, но слышал, как они там шуровали. Вытаскивали ящики, открывали дверцы шкафов. Бросали на пол бумаги.
— Я же сказал, что здесь его нет!
— Вы готовы рисковать жизнью вашей дочери, чтобы сохранить манускрипт? — спросил Великий Магистр.
— Джованни! — зарыдала Лучана.
— Конечно нет. Я говорю правду. У меня дома манускрипта нет. Он находится в университете. Понятное дело, Сильвана для меня важнее. За кого вы меня принимаете?
Недоверие мелькнуло во взгляде Великого Магистра.
— Когда вы приехали из Египта, манускрипт был у вас. Это правда?
— Да. Но сейчас он в университете.
Великий Магистр с сомнением посмотрел на Джованни:
— Неужели вы хотите сказать, что ехали на велосипеде по Риму с Евангелием Люцифера в рюкзаке? — Вопрос прозвучал как выговор.
— Да, — тихо ответил Джованни.
— Здесь ничего нет! — крикнул один из молодых парней из кабинета.
— Продолжайте искать! — приказал Великий Магистр. Потом перевел взгляд на Джованни. — Вы — профессор, теолог! Кому, как не вам, должно быть известно, что ко всему святому надо относиться с соответствующим почтением. Везли в рюкзаке? Представьте себе, вы могли попасть под машину! У вас нет никакого уважения к…
Примипил прикоснулся ладонью к руке Великого Магистра.
Джованни тяжело вздохнул. Это правда. Поездка на велосипеде была настоящим безобразием.
— Где Сильвана?
— Сильвана у нас, — сказал Примипил.
— Почему?
— Так предписано, — проговорил Великий Магистр.
— Кем предписано? Где?
— Профессор Нобиле, — ответил Примипил, — такой выдающийся ученый, как вы, конечно, понимает важность ритуалов и традиций — той красной нити, которая проходит через всю историю и веру.
— Я не понимаю…
— В одном древнем пророчестве говорится:
«Придет тот день, когда девственницы и невинные души будут покоиться во гробе, и блеск Люцифера…»
— Во гробе? — закричала Лучана.
— Ритуалы священны, — сказал Великий Магистр.
— Какой еще гроб? — рыдала Лучана. — Что значит «гроб»?
— В ритуалах мы вспоминаем и восхваляем прошлое.
— В Риме одна весталка, подозревавшаяся в потере невинности, была замурована в пещере, и только богиня Веста могла ей помочь, если бы та оказалась невинной, — сказал Примипил.
— Как теолог, вы, профессор Нобиле, знаете, что святой Кастул был заживо погребен в песке на Виа Лабикана в 286 году, — сказал Великий Магистр. — Христианский мученик святой Виталий был заживо погребен в Милане.
— Заживо погребен? — испугалась Лучана.
— Что вы сделали с Сильваной? — спросил Джованни.
— Не только христианские мученики подвергались этому ритуалу, — сказал Примипил. — Фатех и Зоравар, два младших сына гуру Гобинда Сингха,
[268] были замурованы в каменной стене после того, как отказались перейти в ислам.
— Господи боже мой, вы же не замуровали ее заживо?! — воскликнул Джованни.
Лучана закричала.
Как джинны из бутылки, два мускулистых парня внезапно возникли в гостиной. Но одним движением руки Великий Магистр успокоил их.
— Конечно нет, пожалуйста, успокойтесь. — Он даже не повысил голоса. — Этот ритуал символический.
— Какой еще символический? Что значит «символический»?
— Не так громко, Нобиле. Не хотелось бы беспокоить соседей в это время суток.
Джованни расплакался:
— Кто вы? Она ведь ребенок! Кто вы?
Великий Магистр и Примипил вздохнули, как будто этот вопрос был адресован не им.
— Боже мой, — рыдал Джованни, — что вы сделали с Сильваной?
— С Сильваной все хорошо, — сказал Великий Магистр.
— Скажите, что вы ее не похоронили заживо! Скажите же!
— Как прикажете. Ее не похоронили заживо, — уступил просьбам Примипил.
— Наш символический ритуал уходит корнями в историю, — сказал Великий Магистр. Примипил кивнул. — Наш орден почти такой же древний, как Католическая церковь. Но, в отличие от католиков, мы не очень выставляем себя напоказ. И нас не так много. Но наши корни растут на почве истины.
Джованни вытер слезы и взял себя в руки:
— Вы — сатанисты?
— Вовсе нет.
— Корни нашей церкви более глубокие, — сказал Примипил.
В голове Джованни мелькнула мысль.
— Вы — дракулианцы!!!
Великий Магистр и Примипил подняли головы. Ответа не последовало.
— Какими бы безумными ни были ваши представления, — сказал Джованни, — вы должны понимать, что нельзя похищать десятилетнюю невинную девочку.
— Никто на земле нашего Господа не является невинным, профессор Нобиле. Ваша дочь, как и все мы, рождена с обязательствами, отменить которые ни в чьей-либо, кроме Господа, Сатаны и Костхула, власти.
— При всем моем уважении вынужден заметить, что это детерминистская болтовня!
— Сильвана — часть целого, профессор. Так предписано.
— Безумие. Послушайте себя сами! Пожалуйста… Это безумие.
— Безумие, профессор Нобиле? Библия все еще направляет жизнь миллионов людей. Почему же
наши святые книги — безумие?
— В древности было написано несколько сотен, даже тысяч пророчеств. Сегодня они более не действительны! Библия является продуктом на только авторов Писания, но также и истолковывавших ее на протяжении двух тысяч лет.
— Это говорит истинный христианин.
— Вы не должны вести себя так!
— Как профессор, вы имеете право на такое понимание. В отличие от христианских миссионеров мы никогда не навязывали нашу веру и наше понимание Библии, к нам люди приходят сами.
— Не может быть, чтобы вы так думали.
— Я не прошу вас верить нам или признавать наши священные книги. Я просто объясняю вам судьбу Сильваны.
— Безумие. Безумие…
— Профессор.
— Чего вы хотите?
— Но ведь это довольно очевидно. Мы хотим получить Евангелие Люцифера.
— Вы получите его.
— Мы высоко ценим вашу готовность сотрудничать с нами.
— Как только Сильвана целой и невредимой будет доставлена в надежное место, вы получите его.
— Дело обстоит, к сожалению, не так просто. Мы не сомневаемся, что вы хотите добра своей дочери, но мы также не сомневаемся, что вы — или, возможно, ваша супруга — обратитесь к полиции или к властям. Этого мы позволить не можем. Вы наверняка понимаете, что постороннее вмешательство нам ни к чему.
— Мы не обращались в полицию.
— Пока нет.
— Мы только хотим вернуть Сильвану.
— Давайте поедем за манускриптом. И тогда найдем какое-то решение.
— Мы не можем сейчас поехать за ним.
— Почему?
— Я отдал его в технический отдел для анализа и консервации. В этот отдел у меня нет доступа. В университете усилены меры по обеспечению безопасности.
— Мы знаем об этих мерах.
— Они откроются завтра в девять утра. И тогда я его заберу.
— Мы будем с вами.
— Так дело не пойдет. Это возбудит подозрение. Я должен взять его сам. Один. Но даже и
это представляет собой нарушение правил.
— Почему?
— Если артефакт передан на консервацию, мы не можем забирать его когда вздумается. Есть определенная процедура, правила. Но я справлюсь. Я найду объяснение. Я знаю хранителя.
Великий Магистр и Примипил долго внимательно смотрели на него. Наконец кивнули.
— Давайте договоримся, что в ваших интересах — и не в последнюю очередь в интересах Сильваны, — чтобы вы согласились сотрудничать с нами, — сказал Великий Магистр.
— Ну конечно!
— Если вы или ваша супруга расскажете о нас кому-нибудь — полиции, родственникам, друзьям, властям, — Сильвана умрет.
Лучана зарыдала.
— Мы не будем ее убивать. Мы оставим ее там, где она сейчас находится. В гробу. Понимаете?
— В гробу?
— Вы не слышите, что я говорю?
— Мы слышим. В каком гробу?
— Я подчеркиваю это исключительно для того, чтобы вы поняли, что ничего не надо делать наспех. Например, просить о помощи. Это строго между нами, на кону стоит жизнь Сильваны.
Все замолчали.
— Боже милосердный, — сказала Лучана, — не можете же вы…
Все четверо поднялись.
— Мы вернемся завтра утром. Тогда и договоримся, где и когда произойдет передача манускрипта.
— И еще где и когда мы получим обратно Сильвану, — сказал Джованни.
— Лучше поспите, — сказал Примипил. — Утро вечера мудренее.
Они ушли и закрыли за собой дверь. На фоне негромкого икания Лучаны Джованни слышал их шаги по лестнице. Потом хлопнула уличная дверь.
* * *
Гроб…
У него не было сил раздеться и лечь в постель. И он остался сидеть на диване. Весь дрожал. Пытался найти заслуживающее доверия объяснение, чтобы Умберто Джалли вернул ему манускрипт. Лучана пошла принимать душ. Он слушал, как в душе лилась вода, а за окном проезжали автомобили.
Когда перед войной отцу Джованни было столько лет, сколько ему сейчас, он сбежал от обязательной службы в фашистском добровольческом корпусе
[269] и присоединился к подпольной коммунистической группе. Всю войну отец принимал участие в опасных для жизни диверсионных актах. Джованни узнал об этом лишь много лет спустя, как-то мимоходом, когда отец объяснял свои проблемы с алкоголем. Когда старик умер и Джованни стал разбираться в оставленном им имуществе, то нашел пистолет «беретта» и несколько пожелтевших листков с кодами. «Что, — подумал он сейчас, — сделал бы отец, если бы меня похитили, а к нему пришли мои похитители? Спокойно разговаривал с ними? Плакал? Угрожал им? Или стал стрелять?»
«Что сделал бы отец?
Что мне надо было сделать?
Что я могу сделать?»
* * *
Когда он проснулся, в квартире было тихо. Лучана, по-видимому, легла спать. Он уставился в потолок и представил себе звездное небо. Каково быть космонавтом… Как назывался тот фильм? Который в прошлом году летом смотрел в кино. Четыре раза. Нет, пять! «Космическая одиссея 2001 года».
[270] Лучана не ходила тогда с ним. Ни разу. Он раньше никогда не думал, что его, человека, жизнь которого связана с прошлым и с метафизикой, могут когда-нибудь заворожить будущее и техника. 2001-й… Через тридцать лет. Как будет тогда выглядеть мир? Может быть, подумал он, мы завоюем космос. Только год прошел с того дня, когда Нил Армстронг
[271] ступил на Луну. Он следил за этим событием в прямой трансляции по телевизору. Что человечество сделает за следующие тридцать лет? Он наконец заснул. Когда Джованни открыл глаза, он увидел в углу какую-то фигуру. Он вздрогнул и поднялся на локтях.
— Эй? — пробормотал он. В комнате был ужасный холод. Четверка вернулась, что ли? Помещение наполняла ужасная вонь, как от гнилого мяса.
«Я забыл вынести ведро с мусором?» — Кто вы? — спросил он.
Фигура стояла тихо и была по размерам намного выше человеческого роста.
«Наверное, это тень, или я все еще сплю». В темноте огромная фигура колыхалась на фоне светлых обоев. Она вибрировала, издавая звук, как ток высокой частоты, и еще ниже; этот звук скорее воспринимался телом, чем на слух.
«Я еще сплю, это не реальная жизнь, мне только приснилось, что я проснулся». Джованни слышал равномерные удары больших часов и неясный шум автомобилей за окном.
«Могут ли человеку сниться звуки и запахи?» Он покосился на призрачную фигуру. Даже во сне Джованни чувствовал себя недостойным находиться в присутствии этой гигантской фигуры.
«Я всего лишь ничтожный человечек среди миллионов ничтожных человечков». И тут вдруг он увидел двух крохотных существ у ног гиганта. Одно из них больше походило на эльфа, а другое на демона.
— У нее все хорошо, — сказал эльф.
— Хорошо ли? Она страдает! — захохотал демон.
— Она жива, — сказал эльф.
— Ты должен ее вернуть, господин Нобиле, вернуть Сильвану. Да-да, если ты ее найдешь… — хихикнул демон.
Джованни представил себе в темноте лицо Сильваны, бледное, покрытое потом, в глазах кровяные прожилки.
— Где она? — тихо произнес он.
Эльф и демон захохотали.
— Расскажите мне, где она!
— В гробу! В церкви! — в один голос прокричали эльф и демон.
— Забери ее! — кричал эльф.
— Пожалуйста, — подхватил слова эльфа демон и засмеялся.
За одну секунду жужжание затихло. Эльф и демон заскулили и замолкли. Джованни увидел перед собой клинику и своих родителей, которые наблюдали за ним. Рядом, невидимые для глаз человека, кишмя кишели демоны, которые ползали по полу, летали над его постелью и свешивались с потолка. Джованни посмотрел вверх и увидел, как ему показалось, два сверкающих глаза. Он опустил взгляд:
— Вельзевул? Это ты? Это ты, Вельзевул?
В темноте тень растворилась, звук пропал. Вместе с ним исчезли эльф и демон. И вонь от протухшего мяса.
Значит, это был сон. Фантазия. Джованни попытался проснуться.
Это не реальность, Джованни, все это только в твоей голове, это не реальность. Дедушкины часы продолжали бить: на высокой ноте «тик» и на более низкой «так».
* * *
Джованни проснулся в пять утра. Принял душ, выпил чаю и поехал на велосипеде в обычное время, прекрасно понимая, что за ним, вероятнее всего, ведут наблюдение. Прикрепил велосипед к трубе отопления около университета, зашел в свой кабинет, потом, миновав контроль безопасности, постучался в кабинет Умберто Джалли.
— Джованни? Я думал, ты уехал.
— Позже. Может быть. Кое-что появилось…
— Бывает. Чем тебе помочь?
— Мне надо взять манускрипт, Умберто.
— Взять манускрипт?
— Всего лишь на несколько часов.
Брови Умберто образовали идеальную перевернутую букву V.
— Я наткнулся на одно место в
Codex Sinaiticus («Синайский кодекс»),
[272] где есть то ли ссылка, то ли, может быть, копия раздела Евангелия Люцифера.
Ложь выглядела не очень убедительно, но Умберто не был теологом.
— Звучит хорошо, Джованни. Но боюсь, я тебя разочарую.
— Почему?
— Если бы манускрипт был у меня, я бы, конечно, тебе его отдал.
— Где он?
— У меня его нет.
— Что ты говоришь?
— Я пробовал тебе объяснить это вчера вечером. Но если честно, ты производил впечатление человека, у которого немного поехала крыша.
— Объяснить что?
— Декан Росси конфисковал манускрипт.
— Конфисковал Евангелие Люцифера? Почему?
— Я предлагаю тебе на эту тему поговорить с ним.
— Он ничего не объяснил?
— Он говорил о каких-то формальностях.
Формальностях… Это было очень похоже на Росси, да.
Джованни поблагодарил Умберто и побежал к контролю безопасности. Дал себя проверить и бегом ринулся по лестнице, потом по коридору в сторону кабинета декана факультета.
Декан Сальваторе Росси только что снял пальто и шляпу и вешал их в приемной перед кабинетом, когда ворвался Джованни.
— А, Нобиле. Как удачно! Я собирался позвонить вам. У нас проблема.
Они вошли в кабинет, размер и меблировка которого говорили, что Росси был начальником и не стеснялся показать это.
— Проблема?
— Нобиле, я знаю, что вы близкий друг антиквара Луиджи Фиаччини.
— Не то чтобы близкий…
— Когда вы уехали, чтобы привезти манускрипт, я взял на себя смелость позвонить египетским властям.
По спине Джованни побежали мурашки.
— Все в порядке, декан. — Его голос дрожал. — Лицензии. Документы на вывоз. Все в порядке, везде есть подписи и печати.
— Профессор…
— Я сохранил даже ксерокопии всех документов на случай, если возникнут юридические затруднения.
— Я не сомневаюсь, что вы действовали из самых лучших побуждений, профессор. К сожалению, на Луиджи Фиаччини полностью положиться нельзя.
— Он торговец, это правда, но раньше он никогда не давал повода усомниться в нем.
— Вчера вечером, около шести часов, мне позвонили из Египта. Документы — фальшивые или получены в результате подкупа.
— Фальшивые?! Но…
— Власти по охране памятников и полиция в Египте уже начали расследование.
— Расследование? Направленное против меня?
— К счастью, я предотвратил скандал. Два представителя Египетского музея в Каире прилетят сегодня во второй половине дня и отвезут манускрипт обратно в Египет. Они сказали, что забудут обо всем, раз мы сами проявили инициативу. Никакого ущерба.
Декан улыбался, явно довольный своим героическим вкладом.
— Но, — тяжело выдохнул Джованни, — это ведь не мой и не ваш манускрипт. Это собственность Луиджи Фиаччини.
— Ошибаетесь. Он принадлежит египтянам. Вы ему доверились, Нобиле. Очень важно все время стоять на том, что вы ему доверились. То, что нам подсунули фальшивые документы, нельзя поставить нам в упрек.
— Строго говоря, это конфликт между Луиджи Фиаччини и египетскими властями! Университет не должен быть вовлечен в него.
— Совершенно справедливо, Нобиле.
— Послушайте! Я могу лично передать манускрипт Луиджи, и египтяне заберут его у него.
— Египтяне смотрят на это иначе. Манускрипт был вывезен из Египта представителем Папского григорианского университета Ватикана. Вами, профессор. Тем самым они считают нас ответственными за вывоз памятника, и так будет, пока они не получат манускрипт обратно. Только после этого они обратят внимание на Фиаччини. Они намекнули, что Фиаччини и раньше участвовал в разных сделках, с которыми они тоже будут тщательно разбираться.
— Но…
— Не надо расстраиваться. Это дело не будет иметь никаких последствий ни для нас, ни для вас лично. Я заверил египтян, что вы — почитаемый и серьезный исследователь, которого обманул представитель — скажем так — коммерческого ответвления археологии.
— О боже!
— Спокойно, профессор Нобиле, не надо переживать. Я полностью вас поддерживаю и защищаю. Это не будет иметь ни малейших последствий для вашего
curriculum vitae.[273]
— Я…
— Забудьте об этом. Естественно, вам придется как можно скорее прекратить ваши контакты и сотрудничество с Луиджи Фиаччини. Но я должен признаться, что никогда не доверял этому парню.
— Я выплатил от его имени довольно большой задаток египтянам.
— Это его проблема.
— Если он не получит ни манускрипта, ни денег, он возложит ответственность на университет.
— Пусть только попробует. Ха! Пусть только попробует.
— Он может действовать бесцеремонно.
— Если он будет возникать, посоветуйте ему подать заявление в полицию с жалобой на вас и на меня, и на его святейшество папу Павла VI заодно!
Джованни закрыл руками лицо. Внезапное чувство тошноты. Его чуть не вырвало на персидский ковер декана.
— Не горячитесь, профессор, я знаю, что вы не виноваты. И тем более я ценю то, насколько серьезно вы воспринимаете эту ситуацию.
— Господи боже мой!
— Господь, к счастью, всем нам помогает.
— Где он находится?
— Манускрипт? В безопасности. Я сам лично запер его в мой сейф, — он кивнул в сторону огнестойкого сейфа с кодовым замком, — где он будет находиться, пока наши египетские коллеги не заберут его.
— О боже!
— Спокойно, профессор. Как я уже сказал, дело улажено самым лучшим образом. Вам не о чем беспокоиться.
Джованни закрыл глаза и погрузился в размышления. Декан откинулся в своем кресле с самодовольной улыбкой на лице.
— Я знаю, что это покажется странным, — сказал Джованни, голос его опять стал дрожать. — Но я хотел бы попросить разрешения взять манускрипт на несколько минут. Для меня чрезвычайно важно кое-что посмотреть.
Декан решительно покачал головой:
— Я сожалею, профессор. Я знаю, что это очень интересный манускрипт…
— Декан!
— …и что он значит для вас очень много. Я с большим удовольствием разрешил бы вам изучать этот текст.
— Речь идет об одной детали, это займет не более полуминуты…
— Знаете, Нобиле, я узнаю в вас самого себя. Это страстное стремление во всем разобраться! Но мы должны на это взглянуть с другой точки зрения: мы никогда не притрагивались к этому манускрипту. Его нет в нашем распоряжении. Мы не можем просматривать то, чего у нас нет.
— Но…
— Послушайте! После того как египтяне заберут его, вы можете ходатайствовать о получении стипендии, чтобы изучать манускрипт в Каире.
— Декан…
— Я сожалею, профессор Нобиле. В этом вопросе я не просто принципиален. Я несгибаем.
— Пожалуйста!
— Нет! Евангелие Люцифера останется в моем сейфе до момента, когда египтяне заберут его.
* * *
Джованни зашел в свой кабинет. Что делать? Он посмотрел на кипу листков со статьей в «Гарвардском теологическом обозрении», на окно, через которое проникал бледный утренний свет, на стены. Подумал, не позвонить ли Луиджи, но отказался от этой мысли. Вместо этого позвонил домой узнать, не было ли сообщений от похитителей. Лучана не взяла трубку. Чтобы как-то убить время и собраться с мыслями, он взял несколько справочников и диссертаций, которые положил около пишущей машинки. В краткой справке собрал известные исторические и теологические сведения о дракулианцах. Он надеялся найти у них слабое место, которое можно было бы использовать. Но ничего не нашел. Перед глазами все время стояла Сильвана.
«О боже! Что они сделали с ней?»
Еще раз позвонил домой. Никто не ответил.
Он отпер дверь кабинета, спустился по лестнице и поехал на велосипеде домой. Безумное движение. Лучаны не было дома. Он ходил из комнаты в комнату и искал ее, как будто она спряталась и только ждала, чтобы он ее нашел.
«Неужели они похитили и Лучану тоже? Как я мог быть таким непредусмотрительным, таким неосторожным? Конечно, ее не похитили. У них уже есть Сильвана. Им не нужна еще и Лучана. Энрико!» — подумал он.
Она у Энрико. Внезапное просветление. Энрико… Но звонить ему не хотелось. Номер Энрико был в записной книжке в ящике под телефоном. Но набирать номер и спрашивать жену — и, может быть, даже услышать ее — было чересчур.
Он опустился на обитый плюшем стул. Манускрипт…
Господи боже мой! Что ему сказать, когда они позвонят? И как они отреагируют?
«Мы оставим ее там, где она сейчас. В гробу». Он встал, схватил пепельницу и запустил ее в стену. Облако пепла заискрилось в лучах солнечного света.
Гроб…
Рыдание. Болезненное и отчаянное. Откуда этот звук?
«Я не думаю рационально. Я как раненый зверь, который пытается ускользнуть от охотников. Думай, Джованни! Думай!»
Зазвонил телефон.
Сначала звук его парализовал. Потом он бросился к телефону, поднял трубку:
— Да?
— Профессор Нобиле, спасибо за прием. — Это был голос Великого Магистра. — Вы достали то, о чем мы договаривались?
Сбившееся дыхание и сердцебиение мешали говорить.
— Профессор Нобиле?
— У… нас… проблема.
Голос был задыхающийся и неровный. Слова едва вырывались, — казалось, он плачет.
— Какого рода проблема?
— Мой начальник на факультете, декан доктор теологии Сальваторе Росси конфисковал манускрипт.
— Почему?
— По-видимому, Луиджи Фиаччини, которому принадлежит антикварный магазинчик на улице…
— Мы знаем Луиджи. Продолжайте!
— Луиджи подделал документы на вывоз или подкупил египетских…
— Конечно, так оно и было. К делу!
— Декан Росси оповестил египетские власти о том, что манускрипт в университете. Они направляются из Каира сюда, чтобы забрать манускрипт.
— Где находится манускрипт?
— В сейфе декана Росси.
Пауза.
— Профессор Нобиле, давайте я объясню вам, как обстоят дела. Если вы нас обманываете и это только попытка сохранить манускрипт…
— Верьте мне! Я не хочу рисковать жизнью моей дочери!
— Если вы говорите правду и манускрипт в сейфе и будет передан египетским властям, ответственным за памятники старины…
— Да, это правда!
— …то у вас есть только одна возможность, если вы хотите увидеть свою дочь снова.
— Да?
— Достаньте нам манускрипт!
— Я не могу!
— Вы не слышите?
— Но я не могу, ведь я же…
— Профессор Нобиле, послушайте, что я говорю! Достаньте нам манускрипт! Мне все равно, где он находится. Мне все равно, как вы это сделаете. Достаньте нам его!
— Я…
— Я не требую невероятного. У вас целый день впереди.
— Это невозможно!
— Я позвоню снова в шестнадцать ноль-ноль, чтобы обговорить время и место передачи.
— Он запер манускрипт в сейфе!
— В шестнадцать. Понятно? У вас должен быть манускрипт, профессор.
— Послушайте…
— В шестнадцать!
— Я не знаю код сейфа!
— Зато мы знаем о каждом вашем шаге. Если вы оповестите полицию, начальника, власти или кого-то еще, мы будем считать это нарушением договоренности. Последствия вам известны.
— Я не могу.
— В шестнадцать, профессор.
И Великий Магистр повесил трубку.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
СЕМЬ ПЕЧАТЕЙ

И видел я в деснице у Сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями. И видел я Ангела сильного, провозглашающего громким голосом: кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее?
Откровение Иоанна Богослова[274]
Eli, Eli, lema sabaktani?
Или, Или! Лама савахфани?
То есть: Боже Мой, Боже Мой!
Для чего Ты меня оставил?
Евангелие от Матфея
РИМ
май 1970 года
ДОРОГОЙ БОЖЕНЬКА, ПОМОГИ МНЕ! Я НЕ ХОЧУ ОСТАВАТЬСЯ ЗДЕСЬ! Я ХОЧУ ДОМОЙ, К МАМЕ И ПАПЕ! И К БЕЛЛЕ. ДОРОГОЙ БОЖЕНЬКА, НЕ ДАЙ МНЕ УМЕРЕТЬ!
* * *
Кто они? Почему они сняли с меня одежду и положили голую в каменный гроб? Они сумасшедшие. Они хотят моей смерти?
* * *
Они ждали меня у школы. Их было четверо. Четверо мужчин в черном «мерседесе». Солнце сверкало на звезде на капоте. Поэтому я знала, что это «мерседес». Машина стояла у тротуара, мотор работал.
— Быстро проходи мимо! — сказал мне Ло-Ло, когда я приближалась к ним. Как будто он знал их или что-то про них.
Когда я была уже рядом, двое вышли из машины.
— Сильвана? — спросили они. Хотя они, наверное, знали, что это я, раз спрашивали.
— Да, — ответила я.
Они сказали, что мама и папа послали их, чтобы забрать меня домой.
— Не верь им, — шептал Ло-Ло.
Я и сама не хотела ехать с ними. Мама и папа говорили, чтобы я никогда даже не разговаривала с незнакомыми людьми. Но они втолкнули меня на заднее сиденье, и мы поехали.
— Куда мы едем? — спросила я. Я не хотела показывать, что испугалась.
— Недалеко, — сказали они.
Я спросила, кто они. Они не ответили. Я испугалась. Но, может быть, мама с папой и правда послали их за мной. Мы ехали по городу. Потом я перестала узнавать места. Мы оказались на автостраде. Затем съехали с автострады и двинулись через какой-то маленький городок, где почти не было людей. Потом поехали мимо полей.
— Не плачь, — сказал мужчина, сидевший справа от меня. Голос у него был добрый.
— Куда мы едем? — спросила я еще раз.
— Скоро будем на месте, — ответил мужчина с приятным голосом.
Другие молчали. Сидели и смотрели вперед. После долгой поездки машина остановилась у замка. Или того, что мне показалось замком. Но когда они выпустили меня из машины и я огляделась, то поняла, что это монастырь с часовней и кладбищем, окруженный высокой стеной. Ко входу в монастырь вела лестница. Над дверью я прочитала слова: кажется, «монастырь», и «синьор», и «Санто», и год — «1871». Слов было гораздо больше, но их я не запомнила. Здесь, наверное, уже давным-давно никто не обитает. Окна разбиты. Во дворе разрослись сорняки, деревца росли прямо между камнями брусчатки. Мне показалось, что я слышу пение монахов. Но, может быть, это пение звучало у меня в голове. Мы стали подниматься по широкой лестнице в монастырь. Ступени были покрыты пылью и песком, обломками разбитой черепицы. У стены вверх ногами стоял прислоненный огромный крест, видимо свалившийся с крыши. Рядом, в тени, кто-то заботливо расположил сохранившиеся статуи пророков и святых из библейской истории. Во всяком случае, я узнала Моисея, Деву Марию и Иисуса. Вместе с четырьмя мужчинами из машины я прошла по монастырю. Мужчина с добрым голосом вел меня за руку. Мы вошли в часовню. В центре на высоком постаменте стоял каменный гроб. Со всех сторон украшенный орнаментом из вьющихся растений и фигур из ада. Демонов и дьяволов. Тех, кого изучает папа. Острые лица с длинными языками и пустыми глазами. Мужчины встали вокруг гроба и запели. Как будто они были монахами. Может быть, они и правда были монахами. Мужчина с добрым голосом сжимал мою руку. Когда они кончили петь, один из них опустился на колени перед гробом. Я думаю, что он молился. Но слов я не слышала. Когда он закончил, все склонили головы и хором произнесли одно слово, которого я не поняла. Потом все повернулись ко мне. Мужчина с добрым голосом еще сильнее сжал мою руку. Я заплакала. Двое держали меня, другие двое срывали с меня одежду. Мне было страшно и стыдно. Я закричала. Попробовала сопротивляться. Но они сильнее. Потом, уже голую, они повели меня через часовню. Я не могла вырваться. Звала маму и папу. Но никто меня не слышал. Никто, кроме четверых мужчин. Они заставили меня влезть в холодный каменный гроб. Когда они сдвинули крышку гроба, посыпалась пыль. Я закашлялась. Я попробовала крикнуть. Пыль и ужас сжали горло. Наступила темнота.
Я бью кулаками по внутренним стенам гроба. Пинаю ногами крышку. Гроб маленький. Тесный. Если я пробую встать, голова стукается о каменную крышку. Все здесь твердое и тяжелое. Сердце бьется быстро. Я кашляю. При ударах сдираю кожу. Стараюсь не дышать.
— Воздуха не хватает, — говорит Ло-Ло.
Я читала о детях, которые умерли, потому что залезли в старый холодильник и не смогли открыть дверь изнутри. Я стараюсь дышать медленно и глубоко. Надо экономить воздух. Этоочень нелегко. Мне нечем дышать. Для дыхания нужен кислород, я читала об этом в учебнике по биологии. Воздух в гробу теплый и мокрый. Сердце стучит. Тук-тук-тук. Внутренняя сторона гроба пахнет в точности так, как пахло на строительной площадке, куда меня водила мама несколько месяцев назад. Я не знаю, это запах цемента, или извести, или камня, или еще чего-то. Мама продает виллы и квартиры. Как правило, в них кто-то жил раньше. Но иногда фирма, на которую работает мама, строит новые дома на продажу. Я поняла так. И пахнет здесь как на строительной площадке.
Мне надо пописать.
— В гробу нельзя писать, — строго говорит Ло-Ло.
* * *
Через дырочку в крышке они просунули тонкий резиновый шланг. Через шланг входит воздух. От движения воздуха на коже появились пупырышки. Я поднимаю ладошку вверх, и поток воздуха попадает на нее. Я добираюсь до самого шланга. Поворачиваюсь на бок. Потом на живот. Поднимаю голову, и воздух попадает мне прямо в лицо. Открываю широко рот и глотаю воздух. СПАСИБО, ДОРОГОЙ БОЖЕНЬКА, ЗА ВЕСЬ ВОЗДУХ, ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ БОЛЬШОЕ СПАСИБО, ДОРОГОЙ БОЖЕНЬКА!
— Совсем это не Бог вставил шланг, — говорит Ло-Ло. Он такой неблагодарный.
В конце концов я чувствую себя шариком, который наполнили воздухом. Я могу лопнуть. Я выпускаю воздух и ложусь на спину. Думаю о маме и папе. Они наверняка испугались. ДОРОГОЙ БОЖЕНЬКА, МОЖЕШЬ ТЫ ПОМОЧЬ МАМЕ И ПАПЕ, ЧТОБЫ ОНИ НЕ БОЯЛИСЬ, ОНИ ДУМАЮТ, ЧТО Я УМЕРЛА. ВО ИМЯ ИИСУСА. АМИНЬ. Папа, конечно, позвонил в полицию. Сейчас в нашей квартире, наверное, уже полно полицейских. В газетах будут мои фотографии. Кто-то, наверное, видел, как меня увозили. Возможно, даже записали номер машины. А может быть, монастырь уже окружен полицией. И тогда мужчины расскажут, где я лежу. Не факт, что полиция решит открыть гроб. Подумать только, вдруг они арестуют мужчин и уедут, а я останусь тут.
* * *
Скоро я описаюсь. Можно ли так сказать, если я лежу в гробу голая. Я сжимаю ноги. Щиплет в животе и ниже. Но я не хочу писать. Не хочу лежать мокрая. Фу-у. Я стискиваю зубы, сжимаю коленки.
* * *
Папа занимается демонами. Я не понимаю зачем. Я боюсь демонов. Я люблю ангелов. Они добрые. А демоны плохие. Плохие, и все. Ло-Ло говорит, что мир полон демонов.
— Мы, люди, не можем видеть демонов, если они не хотят этого, — говорит Ло-Ло. — Как правило, они не хотят, чтобы их видели.
Я хочу пить. Странно, что я хочу пить и хочу писать. Одновременно. Во рту пересохло. Язык прилип к гортани. Я думаю о холодной как лед воде. О фонтанчике с питьевой водой в школьном дворе. И о кока-коле с кусочками льда. Мне ее дают за обедом по воскресеньям.
Каждый раз, когда я делаю глоток, в горле раздается хлюпающий звук. Я не хочу есть. Но у меня тошнота. Я думаю о том, когда они дадут мне есть и пить.
— Они тебя не выпустят, — говорит Ло-Ло.
— Замолчи, — говорю я.
* * *
Наконец я не могу больше сдерживаться. Так хочется писать, что меня почти тошнит. И я думаю, что мне придется лежать здесь еще много часов, и невозможно сдерживаться так долго. Все тело онемело, и я не замечаю, как начинаю писать.
— Какой стыд! — говорит Ло-Ло.
Мужчины увидят это, когда откроют крышку. Я чувствую, что краснею в темноте.
Ло-Ло — дух. Давным-давно он был эльфом в царстве, которым управляли царица по имени Суливана и злой тролль по имени Зах-Маль. Во всяком случае, так он рассказывает сам. Суливана и Зах-Маль отравили царя экстрактом белладонны. Сотни лет Ло-Ло жил в зеленой дубраве внизу под горой. Он говорит, что возделывал землю, ухаживал за животными и любовался небом. Тогда его звали Ловиндулар-кан-Лошвеемин. В сине-зеленом омуте под водопадом он ловил карпов, которых ел с овощами из своего огорода. Когда ему исполнилось 753 года, он умер от отравленного леденца, который ему послал Зах-Маль. Ло-Ло так и не смог понять, что он сделал троллю, чем досадил ему. После смерти он стал жить как дух. В тот год, когда я родилась, его вызвали к архангелу Михаилу и назначили моим ангелом-хранителем. Все это он рассказал мне. Я не знаю, можно ли ему верить. Он так много говорит. Он немножко странный. Трудно поверить, что он прожил 753 года. Он не настолько умный. Моя бабушка была и умной, и старой. А Ло-Ло говорит, скорее, как ребенок. Я называю его просто Ло-Ло. Нельзя же жить с именем Ловиндулар-кан-Лошвеемин. Так не принято.
Мама и папа говорят, что я придумала Ло-Ло.
Они говорят, что он существует только у меня в голове.
— Пусть себе думают, — говорит Ло-Ло.
Они его не видят. И не слышат. Не замечают его даже тогда, когда он стоит рядом со мной на полу и кричит и поет народные песни, которые были популярны во всех странах в годы его жизни. Они смотрят сквозь него. Его голос не слышен их ушам. Когда он лежит в моей постели, а мама и папа приходят пожелать мне спокойной ночи, они иногда садятся прямо на него. Тогда он лежит тихий как мышка и моргает глазами.
— Ты ангел, Ло-Ло? — спросила я его однажды.
— Я хотел бы им быть.
— Тогда кто же ты?
— Я, наверное, дух.
— Но ты говоришь, что ты мой ангел-хранитель?
— Ангел-хранитель — это не настоящий ангел, Сильвана.
— Какая разница между духом и ангелом?
— В присутствии Бога.
— Что это значит?
Он долго молчал. Для Ло-Ло это совершенно нехарактерно. Наконец он сказал:
— Не думай об этом, Сильвана, не забивай свою голову такими вещами.
— Почему?
— Когда будешь взрослой, может быть, поймешь.
— А ты понимаешь?
— Хочу понимать. Но не думаю, что понимаю.
* * *
ДОРОГОЙ БОЖЕНЬКА, ВЫПУСТИ МЕНЯ ОТСЮДА, ПОМОГИ МНЕ! ПУСТЬ ЭТО БУДЕТ СОН, ПУСТЬ Я ПРОСНУСЬ И УЗНАЮ, ЧТО МНЕ ЭТО ПРИСНИЛОСЬ. ПОЖАЛУЙСТА, БОЖЕНЬКА. ВО ИМЯ ИИСУСА ХРИСТА, АМИНЬ.
— Сильвана, — шепчет Ло-Ло, — проснись!
Я смотрю в темноту. Делаю вдох. Жажда. Ужасная жажда.
— Нельзя крепко спать, дружок.
— Почему?
— У тебя жар и судороги. Не засыпай.
— Я очень устала.
— Постарайся не засыпать.
— У меня в легких песок.
— В гробу мало воздуха, — говорит Ло-Ло.
Он приближается и шепчет на ухо мое имя, с утешением. Я плачу. Градом льет пот. Воздуха не хватает. Умираю. Я умираю, мама и папа, почему вы меня отсюда не заберете? Вы хотите, чтобы я умерла?
Тело мое вздрагивает и трясется.
Больше не могу.
Ло-Ло шепчет снова:
— Проснись, дружок.
Не могу.
Я сплю.
Вижу сны.
Просыпаюсь.
Открываю глаза.
Демон сидит — наклонившись и съежившись — у меня в ногах. Смотрит на меня. Он испускает свет и сверкает. Поэтому я его вижу в темноте. Руки у него как кости. Голова без волос имеет форму заостренного яйца, кожа такая тонкая, что я вижу череп.
Я кричу.
Его глаза закрываются. От него пахнет.
— Ло-Ло! — кричу я.
Ло-Ло не отвечает.
Я кричу и кричу.
I
К. К.
РИМ
11–12 июня 2009 года
1
Каждый человек, который совершил дальнюю поездку на Восток, туда, где восходит солнце, знаком с тягостным ощущением потери одного дня собственной жизни. Ничто — ни логика, ни аргументы, ни тщательное изучение календарей и альманахов — не может избавить вас от ноющего чувства, что у вас украли время, что вы что-то упустили в промежутке между прошлым и настоящим.
Я с трудом открыл глаза. Каждая ресница весила много тонн.
Несколько минут я лежал тихо, как после длительной и шумной пьянки, которая закончилась полной потерей сознания. Как будто я проснулся на носилках за квадратной дверью в холодильнике морга.
Факт: Я живой. Это уже что-то. Я не в больнице. И не на вскрытии в морге. Я лежал на кровати. И не был связан. Это значило, что я не пленник. На предплечье пластырь.
Вопрос: Что случилось? Где я? Где Примипил и другие безумцы?
Неужели похищение было только инсценировкой, чтобы напугать меня до ужаса? В таком случае спектакль удался. Аплодисменты и топот ног зрителей. Но я не сказал, где находится манускрипт. Или все же сказал? Я попытался вспомнить. Крепко зажмурился и напрягся. Вспомнил седого мужчину, который назвал себя Примипилом. Вспомнил монахов в серых костюмах. Вспомнил, что они надели сосуд на мою руку. Вспомнил продолговатый сосуд и хирургические инструменты в серебряном ларце.
Но после этого? Ничего.
2
— Шоковая граната
[275] и газ.
Мужской голос. Это американец.
Я повернул голову набок, но не увидел его.
— BZ-91,— продолжил он. — Газ поражающего действия на основе скополамина и морфина. Разработан в ЦРУ в 2005 году. Чрезвычайно эффективный. Отключает за полсекунды. Они успели вскрыть вам вену.
Я попытался сесть на кровати, чтобы увидеть говорящего. Но не смог. Со стоном откинулся.
— Головная боль и мягкая форма паралича продолжаются примерно пятнадцать часов после вдыхания газа. Сожалею. Альтернативой была бы вооруженная акция. Спорный ход. Я не сторонник вооруженных акций, знаете ли. В них погибают люди. Гранаты и газ надежнее. Через несколько часов вы будете на ногах.
Слышны тяжелые шаги. Затем появился неясный силуэт. Я прищурился, чтобы сфокусировать взгляд. Человек сел на стул около кровати:
— У нас в распоряжении была оперативная группа «Морских котиков». Элитного подразделения, одолженного нам. Они вас освободили. Реальной опасности не было ни секунды. Хотя вам так показалось. Приношу свои извинения. Этих монахов мы держим под наблюдением уже некоторое время.
Этих монахов…
Силуэт принадлежал высокому стройному мужчине лет пятидесяти, с привлекательной внешностью и бросающимся в глаза кривым носом.
— Кто вы? — Голос мой был похож на пересыпающуюся щебенку.
— Имя — Карл Коллинз. Большинство знакомых называют меня К. К. Единственное, что вам надо знать, — это то, что я хочу вам добра.
По причинам, в которых лучше разбираются психологи, я скептически отношусь к людям, которые говорят, что хотят мне добра.
— Квартира, в которой вы остановились с Моник, находилась под наблюдением. Как вы и предполагали. Не только датчики, но еще телекамеры и микрофоны. Когда вы начали писать Моник, мы решили, что вы разоблачили нас. Мы следовали за вами в подземный гараж. Но оперативная группа не была наготове, когда на вас напали. Я сожалею, что дело зашло так далеко. Но в любом случае все было под контролем.
— Где Моник?
— Здесь. Она попала к нам, когда вы вышли на лестницу.
— Что вы с ней сделали?
— Абсолютно ничего. Вы меня не поняли. Я на вашей стороне.
— Все так говорят…
— Мы сообщили обо всем инспектору Хенриксену в Осло. Вам не надо беспокоиться.
— Вы знаете Хенриксена?
— Мы в курсе событий. Вы сейчас не в себе, Бьорн. Отдохните несколько часов. Нам есть о чем поговорить.
К. К. исчез за дверью. А я исчез в темноте.
3
Самым первым проник в сознание какой-то странный звук.
Клик-клик. Клик-клик. Клик-клик. Я попытался открыть глаза. Просыпаться после химического отравления — все равно что подниматься на поверхность в ванне грязелечебницы. Я попробовал объяснить себе кликающие звуки. Когда я наконец открыл глаза — сначала правый, потом левый, — то увидел неясный контур Моник. Она вязала, сидя у моей кровати. Звук исходил от ее спиц.
— Доброе утро, — прокряхтел я.
Она отложила спицы. Даже в состоянии полусна-полубдения я отметил, что лежал практически голый. На кровати. В комнате. Рядом была Моник.
— У тебя все хорошо? — спросил я.
Она кивнула. «А у тебя?» — написала она.
— Голова кружится. Тошнота. Кто они?
«Наши друзья».
Моник помогла мне встать с кровати и пойти в туалет. Я вымыл лицо холодной водой и оделся. Я чувствовал себя развалиной, как после одновременного употребления коньяка со снотворным. Когда я вернулся в комнату, рядом с Моник стоял К. К.
— Бьорн! — воскликнул он, как будто мы были старые друзья. — Теперь вы выглядите гораздо лучше!
— Не надо смеяться. Я знаю, как выгляжу.
Взглядом, затуманенным газом и остатками сна, я попытался посмотреть ему прямо в глаза. Не очень удачно. Когда я очень устаю или напиваюсь или же когда врачи накачают меня слишком большим количеством розовых таблеток, у меня появляются признаки косоглазия. Толстые стекла очков только подчеркивают эту беду. Косоглазие никого еще не красило.
4
Стремление окружить себя красивыми вещами не обязательно говорит о тщеславии. Это может означать попытку создать в своей жизни гармонию. Фэн-шуй души. Найти покой в красоте.
Профессор Альдо Ломбарди имел такой вид, словно нашел этот покой. Он принял нас в роскошной квартире с бархатными коврами, живописными полотнами и люстрами эпохи барокко.
Лжец.
— Как дела? — спросил он, накинув личину заботливости, когда я, пошатываясь, вошел в гостиную.
У меня появилось желание съездить ему по физиономии. Но я был слишком слаб.
Альдо Ломбарди виновато откашлялся:
— Сожалею, что ввел вас, в известной степени, в заблуждение. Я ни разу ни солгал. Однако и всей правды не сказал.
Старинные кожаные диваны заскрипели, когда мы сели на них. Служанка принесла поднос с кофе и чаем. Стекло звякнуло, когда она поставила стеклянный поднос с чашками на стеклянный стол с ножками из кованого железа, покрытого серебром. Она налила чай Моник и кофе — К. К., Альдо и мне.
— Кто вы? — спросил я, когда она закрыла за собой дверь. Голос мой дрожал. Это меня раздражало. — Что вы от нас хотите?
— Я прекрасно понимаю вашу подозрительность, — сказал К. К. — Вы, естественно, боитесь, что за похищениями и убийствами стоим мы.
— Такая мысль приходила мне в голову.
— За Евангелием Люцифера охотятся две группировки. Две абсолютно разные группировки. Альдо и я представляем одну из них. Другая — монахи из религиозной секты, известной под названием дракулианцы. Название можно перевести как «кровь дракона».
— Евангелие Люцифера было одним из текстов, которые легли в основу их веры, — сказал Альдо Ломбарди. — Проблема состоит в том, что дракулианцы — как и все прочие — неверно его истолковали.
«Религиозный орден? Который убивает?» — написала Моник и повернула блокнот так, чтобы мы все могли прочитать.
— Парадокс, — сказал Альдо Ломбарди. — Или нет? Такой же великий парадокс, как средневековые Крестовые походы и инквизиция. Или джихад и террористы-смертники у исламистов. В Библии можно отыскать множество примеров того, как жизнью жертвуют, чтобы достигнуть высших целей. Дракулианцы так же, как иезуиты, считают, что цель оправдывает средства. Они следуют заветам Бога и Сатаны.
— Заветам Сатаны?
— Они поклоняются Сатане, — сказал К. К. — Называть их экстремистами совсем не преувеличение. Эти монахи — фанатики, которые во всех отношениях живут в прошлом и прошлым.
— А кто вы?
The good guys?[276]
— Мы — исследователи, — сказал К. К. — Ученые. Мы принадлежим к крупной исследовательской организации. Ее кодовое название — проект «Люцифер».
— Что?
— Проект «Люцифер». Группа состоит из ученых разных специальностей. Археологи. Историки. Теологи. Палеографы. Антропологи. Философы. Лингвисты. Физики. Астрономы. Биологи. Математики. Социологи. Психологи. Антропологи. Как пример…
Я посмотрел на профессора Альдо Ломбарди:
— А ваша роль?
— Я один из теологов в этом проекте.
— То, что вы рассказывали о Сатане…
— …истинная правда. В Евангелии Люцифера действительно ничего не говорится о сыне Сатаны. Однако дракулианцы верят, что это там написано. Верят! Они прочитывают древний текст таким образом. Они вкладывают такой смысл в пророчества. Подобно тому, как священники иногда неправильно истолковывают Библию, а имамы — Коран.
— Именно поэтому дракулианцы так стремятся захватить манускрипт, — сказал К. К. — Они хотят облегчить сыну Сатаны путь на землю.
— Все, что я рассказывал об Антихристе, — продолжал Альдо Ломбарди, — базируется на основах веры дракулианцев. Подобно тому как в Библии много ошибок, которые возникли, когда манускрипты переписывались, переводились и истолковывались, так и греческие и латинские переводы Евангелия Люцифера были, мягко говоря, неточны.
— Как вы можете знать, что есть в манускрипте, если вы его не читали?
— Мы прочитали большие куски из него, — сказал К. К. — И мы изучили другие тексты, где о нем говорится. Но нам нужен сам манускрипт.
— Мы вас просим, — сказал Альдо Ломбарди, — передать Евангелие Люцифера нам, мы изучим и расшифруем его.
— Что случится со мной и Моник, если я откажусь?
— Случится? — К. К. тихо рассмеялся. — Не слишком-то вы высокого мнения о нас.
— Я хочу домой! Можно мне уехать?
— Конечно, вы можете свободно ехать домой. Вы вовсе не пленник. Но мы надеемся, что вы останетесь.
— Почему?
— Потому что хотите узнать больше. Потому что вы, как и мы, хотите знать, что скрывает этот манускрипт.
К. К. подлил кофе Альдо Ломбарди и мне. Кружка с чаем Моник все еще была наполовину полной.
— Где сейчас монахи? — спросил я.
— В надежном месте.
— Что это значит?
— Они у нас.
— Я хочу с ними поговорить.
— Они не хотят ни с кем говорить.
— Позвольте мне, по крайней мере, посмотреть им в глаза.
— Почему?
— Они хотели меня убить.
— И что?
— Если бы вы не пришли на помощь, они пустили бы мне кровь. Мне кажется, что у меня есть причины встретиться с ними.
К. К. посмотрел на Альдо Ломбарди, тот покачал головой.
— Не знаю… — протянул К. К.
— Насколько я понимаю, у вас выбор такой. Вы отпускаете меня домой, в этом случае можете навсегда забыть о манускрипте. Или мы будем идти друг другу навстречу.
— Хорошо. Вы встретитесь с ними. Завтра. Но не думайте, что они что-то расскажут.
— Посмотрим. А теперь я жду рассказа о Евангелии Люцифера? Что это за текст? Как он попал в Киев?
— Не так быстро, Бьорн, — вступил в разговор Ломбарди. — Ваши вопросы требуют обстоятельных ответов. Позвольте я объясню… В 1995 году группа археологов под руководством американца Джозефа ван дер Вельта сделала находку во время раскопок в Испании христианского монастыря, который был разрушен, когда римляне потеряли контроль на Иберией в пятом веке. Археологи обнаружили папирусный текст
Codex Hispania («Испанский кодекс»), в котором говорилось о Евангелии Люцифера и никейском Вселенском соборе. Проект «Люцифер» был тут же подключен к изучению этого текста.
Codex Hispania содержал важные указания, которые помогли нам осуществить систематическую и целеустремленную охоту на Евангелие Люцифера, его третью часть. Именно эта часть находится у вас.
— Разве киевский манускрипт не является полным?
— Евангелие Люцифера вот уже 1700 лет не существует в виде единого документа. Манускрипт был разделен на три части во время никейского Вселенского собора в 325 году. Киевская часть — последняя из трех.
— Понятно. — С моей стороны это было преувеличением. — Позвольте задать вам вопрос. Музеи и архивы во всем мире полны апокрифическими предсказаниями и пророчествами. Почему вы тратите столько сил и денег на текст, о котором никто ничего не слышал? То, что какая-то религиозная секта верит в пророчество о сыне Сатаны, еще не является весомой причиной.
— Вы — внимательный наблюдатель, Бьорн. И обладаете здоровым скептицизмом. Вы правы. У нас есть другая, более важная и притом сенсационная причина.
С торжественным видом К. К. протянул мне папку:
— Прочитайте этот отчет. Здесь много говорится об этой причине.
II
ОТЧЕТ
Отчет о Codex Hispania
Авторы: доктор Уиллиам Голдман и доктор Лоуренс Шварц
Секретно — 15 января 1996 года
1 — О Евангелии Люцифера
Евангелие Люцифера
(Codex Lucem Ferre) в числе прочих сокровищ было украдено из Второго Иерусалимского храма
[277] в 70 году. Манускрипт длительное время рассматривался как магический, еретический и оккультный. В христианское время манускрипт получил греческое название Σατανα Διαθηκ —
Satana Diathiki (на древнегреческом «Завещание/Пакт Сатаны»), которое во время увлечения в первые столетия христианскими Евангелиями было изменено на Κατ Εωσφσπον Ευαγγελον— Евангелие Люцифера.
2 — О Codex Hispania
2.1 — Находка
Этот отчет написан о манускрипте
Codex Hispania, свитке с папирусным текстом, который был найден в 1995 году в глиняном кувшине на окраине раскопок руин монастыря Святого Павла в Испании.
Codex Hispania, найденный американской исследовательской группой во главе с археологом Джозефом ван дер Вельтом из Котсеновского института археологии университета Калифорнии, бросает новый свет на более древний текст Евангелие Люцифера.
2.2 — Датировка
На основании радиоуглеродного анализа папирусного свитка мы относим происхождение папируса к 400 году (с разбросом плюс-минус 50 лет), что подтверждает датировку писца (375 год).
2.3 — Язык/перевод
Текст на папирусном свитке написан на коптском языке
[278] и переведен профессором Кристофером Уоттом.
2.4 — Краткое изложение содержания
Codex Hispania оценивается как достоверный рассказ монаха Пофейноса об одном эпизоде, происшедшем на никейском Вселенском соборе 325 года:
«Я, пишущий эти строки Пофейнос из Фив и Александрии, — истинный христианин, крещеный и благословленный, — клянусь, что описание событий в Никее являются истиной, как она мне известна».
Вместе с двумя другими монахами — Никасием и Якобом — Пофейнос получил задание уничтожить еретический текст, известный под названием Евангелие Люцифера. Три монаха через несколько дней покинули Никею с манускриптом в руках.
Codex Hispania важен по нескольким причинам. Самая важная та, что он приводит цитаты из Евангелия Люцифера, которые позволяют оценить содержание, форму и природу манускрипта.
Codex Hispania дает также важную новую информацию о том, что случилось с Евангелием Люцифера позже.
3 — О никейском Вселенском соборе
3.1 — Исторические данные о церковном соборе
Многие мифы и неточные представления связаны с первым Вселенским церковным собором в Никее
[279] в Малой Азии в 325 году. Например, такие: церковный собор не ввел христианство простым большинством голосов, он не принимал канон христианской Библии и не утверждал, что женщина обладает душой.
Император Константин созвал ведущих епископов на Вселенский собор в Никею. Основанием послужила, в частности, необходимость разрешить теологические разногласия с арианством — о соотношении между Богом Отцом и Богом Сыном.
[280] В то же время император, несомненно, желал консолидировать силу и единство империи с помощью и при поддержке Церкви.
Количество участников точно не установлено. Император Константин пригласил 1800 епископов. По-видимому, собралось около 250 епископов. Собор был открыт 20 мая 325 года и продолжался два месяца.
Важным итогом собора стало утверждение никейского Символа веры.
[281] Было также принято решение о том, когда отмечать Воскресение Христово.
[282] Важным также является тот факт, что Вселенский собор в Никее стал первым форумом, на котором полномочные представители христиан различных направлений и общин собрались, чтобы прийти к единому мнению по вопросам, вызывающим различное толкование.
[283]
Вселенский собор в Никее объединил также церковную власть со светской. Этот собор содействовал таким образом созданию симбиоза христианской Церкви с государственной властью.
3.2 — Вселенский собор о Евангелии Люцифера
Распространен миф о том что собор принял решение сжечь спорные апокрифические тексты. Подобное решение не зафиксировано в исторических источниках.
И тем не менее, по данным Пофейноса, узкий круг епископов решил уничтожить Евангелие Люцифера. Существует теория, что манускрипт содержал в себе формулировки, которые можно было использовать для обмана в среде епископов — противников арианской теории. Однако, поскольку Пофейнос подчинялся епископу, который не поддерживал вызывавшую споры арианскую трактовку императора Константина, такое утверждение вряд ли можно считать обоснованным. Возможно также, что решение об уничтожении было принято из-за предположительно сатанистских симпатий текста. Третья теория, основанная на одном из разделов «Истории Екклесиаста» епископа Евсевия,
[284] исходит из того, что в манускрипте содержались магические формулировки, которые при злоупотреблении могли помочь вызвать Сатану. Евангелие Люцифера не упоминается в известных авторитетных источниках о деятельности Вселенского собора. По словам Евсевия, решение о сожжении принималось тайно, и присутствовали при этом лишь немногие епископы. Три монаха — Пофейнос, Никасий и Якоб — получили задание сжечь текст. Ни один из них не был формально делегатом, они были только помощниками своих епископов. О тех, кто давал задание, Пофейнос пишет:
«Они пришли во мраке. Поздно вечером они постучали ко мне в дверь. Вошли трое мужчин, которых я знал по дворцу, они сказали, что пришли со священным поручением. Я, Пофейнос из Фив и Александрии, был среди избранных».
3.3 — Непослушание монахов
Три монаха получили задание уничтожить еретический текст. Но через короткое время они переменили мнение. Пофейнос пишет:
«Но мы встали в тупик. Разве имели мы право навсегда уничтожить текст, который мы не прочитали и не поняли? Разве могли мы сжечь слова, которые другие сочли священными?»
Трое пришли к единому мнению, что текст надо спасти. Обоснование передается не очень отчетливо — если не считать всеобщего благоговения перед старинным Священным Писанием, — но можно предположить, что эти трое монахов (во главе с Никасием) провели обсуждение задания (подстегиваемые силами, которые выступали против уничтожения). Отсутствие идеологического обоснования наводит на мысль, что возможность подкупа исключить нельзя.
Коррупция может считаться вероятным объяснением, поскольку три монаха своими действиями порывали со своими начальниками — епископами — и тем самым теряли пропитание и статус. Большая сумма денег, возможно, давала им базу для вступления в новую жизнь.
Мотивация — идеологическая, религиозная, принципиальная или финансовая — играет в последующий период менее важную роль. Пофейнос пишет:
«Манускрипт был разделен на три части. И нас было трое. Таким образом, мы и текст были искаженным отражением принципа Святой Троицы, который церковный собор как раз принял, то есть единые и тройственные одновременно».
Монахи решили встретиться в Фивах и соединить три части манускрипта в Александрийской библиотеке. Но так как они опасались преследования, то решили двигаться тремя разными маршрутами.
4 — О трех монахах
4.1 — Пофейнос
Пофейнос родился в семье христиан-коптов
[285] недалеко от Фив около 300 года:
«Старейшины рано обнаружили, что я был сообразительным, способным к учебе, набожным и послушным; поэтому меня, мальчишку, послали в монастырь, чтобы я там, под наблюдением опытных воспитателей, усваивал знания о нашем Господе Иисусе Христе, чтобы мог служить ему и почитать его так, как это проповедовал апостол Марк».
В двадцатилетием возрасте Пофейнос был послан в Александрию на севере Египта. Он был монахом-слугой и личным помощником папы Александрийского.
[286]
Пофейнос, который вез из Никеи первую часть Евангелия Люцифера, двигался сухопутными путями до Византии,
[287] откуда отправился на торговом судне назад в Александрию. О плавании он пишет:
«Господь, который с милосердием отнесся к нашему заданию, даровал нам хорошую погоду на всем пути. Мы ненадолго задержались на Крите, чтобы забрать товары. Капитан не задавал никаких вопросов и делал вид, будто принимает меня за паломника, возвращающегося домой».
В Египте Пофейнос укрылся в неназванном монастыре среди пустыни, судя по всему неподалеку от Фив. На протяжении многих лет он тщетно ждал своих братьев-монахов:
«Я терпеливо наблюдал, как дни утекают, подобно песку сквозь пальцы, но я так никогда и не увидел ни Никасия, ни Якоба и не знаю, что с ними случилось, и моя скорбь велика».
Пофейнос спрятал манускрипт (первую часть Евангелия Люцифера) в пещере среди пустыни:
«Далеко в пустыне, где свирепствует солнце, среди скорпионов и песков, в красной скале есть несколько пещер, о которых знают только козопасы. В запечатанном кувшине из самой лучшей глины скрываю я мой свиток и дарю его на милость времени в надежде, что его найдут люди более разумные, чем мои современники».
В конце жизни по неустановленным причинам Пофейнос перебрался в Испанию в монастырь Святого Павла. Здесь он написал
Codex Hispania, о котором рассказывает наш отчет.
Первая часть Евангелия Люцифера, которую Пофейнос привез с собой из Никеи, была найдена пастухом коз в Египте в 1969/1970 годах и попала в руки итальянского теолога Джованни Нобиле в мае 1970 года при содействии местного торговца черного рынка, который имел связи с итальянцем — владельцем антикварного магазина.
4.2 — Никасий
Откуда Никасий — неизвестно, и мы не знаем, какому епископу он служил. Пофейнос пишет:
«Из далеких царств на западе через горы и реки прибыл верхом на коне мой брат Никасий со своим господином, епископом, и я знал, что он мой друг».
Имя и упоминание о способе прибытия могут свидетельствовать, что Никасий — как и его официально делегированный на Вселенский собор тезка, позже ставший святым,
[288] — прибыл из Галлии.
[289] Мы можем сделать предположение, что он старше Пофейноса (который говорит о Никасии как о «мудром советнике» и позже как о «старшем брате»). Многие упоминания Пофейноса о Никасии:
«…так слушал я его мудрые слова…»;
«…его мудрые и убедительные слова…»;
«…Никасий видел свет там, где мы, все другие, видели тьму…»
— дают нам возможность предположить, что именно Никасий уговорил двух своих собратьев спасти манускрипт от уничтожения. Мы не знаем, что случилось с Никасием. Пофейнос пишет:
«Я пожал Никасию руку, пожелал ему удачи и больше никогда его не видел».
Мы можем предположить, что вторая часть манускрипта, которую вез Никасий, была использована дракулианцами. На основании текста второй части Евангелия Люцифера дракулианцы создали религию Судного дня в полном убеждении, что два бога — Бог света, представленный Иисусом Христом, и Бог тьмы, представленный сыном Сатаны Антихристом, — вернутся на землю в физическом обличье и начнут борьбу, которая кончится Армагеддоном и спасением душ.
4.3 — Якоб
О Якобе мы знаем мало. Он был монахом из Сирии. Пофейнос называет его «братом». Мы не знаем, какому епископу он служил и когда родился и умер. Пофейнос пишет:
«Якоб — так его звали; он был преданным и добросовестным слугой своего епископа».
Монах Якоб должен был добираться до Александрии через Византию и Афины. О его кончине ничего не известно.
5 — Дополнение от 17 мая 2009 года
Совет получил информацию о манускрипте, найденном в Киеве, которая может прояснить судьбу монаха Якоба. Если текст, находящийся сейчас в руках норвежского археолога Бьорна Белтэ, является третьей частью Евангелия Люцифера, то возникает следующая гипотеза: монах Якоб, по-видимому, потерял манускрипт в Константинополе или в его окрестностях. Возможно, его остановили солдаты, которые охраняли императора Константина, или же ограбили разбойники. Вероятно, что затем манускрипт попал в библиотеку императоров Восточной Римской, позднее Византийской, империи.
После битвы под Стиклестадом в 1030 году Харальд Хардроде,
[290] ставший позже королем норвежских викингов, бежал в Гардарики,
[291] а позднее в Миклагард.
[292] Здесь он был на службе Византийского императора. Император имел гвардию, состоявшую из скандинавских наемных солдат.
[293] Харальд Хардроде прослужил в гвардии варягов семь лет и был назначен ее начальником. Когда он покидал Византию, у него были несметные богатства. Он не только возглавил грабительский набег на Африку, но и получил богатства во время службы при дворе.
[294] Мы предполагаем поэтому, что он — сознательно или, скорее всего, не осознавая — прихватил и третью часть Евангелия Люцифера. Харальд был близким другом великого князя Киевского Ярослава
[295] и женился на его дочери.
[296] Мы предполагаем, что он оставил манускрипт в Киеве, потому что там было больше ученых людей, чем на его родине — в Норвегии. Эта гипотеза может получить известную поддержку в том факте, что позднее Харальд Хардроде взял трикветр в качестве своего личного символа. Трикветр как символ постоянно встречается в манускрипте.
Если наша гипотеза верна, то третья часть находится в распоряжении норвежского археолога Бьорна Белтэ. Это дополнение написано для того, чтобы обеспечить получение Советом этой части.
III
ARCHIVUM SECRETUM
РИМ
12–14 июня 2009 года
1
Читальный зал Секретного апостольского архива Ватикана напоминал нерешительную церковь, которая хотела бы стать библиотекой, но никак не могла решиться. Здесь сидели исследователи с покрасневшими от напряжения глазами, покрытые пылью и погруженные в забытые загадки. На столах — груды книг с потрескавшимися корешками и рассыпающиеся документы, все это снятое с двухэтажных стеллажей или принесенное из подвалов со сводами потолками. Архив содержал документы, пергаменты, письма и книги, которые Католическая церковь собирала почти две тысячи лет.
Разговор с К. К. и Альдо Ломбарди и отчет о
Codex Hispania с рассказом о странной судьбе трех частей Евангелия Люцифера возбудили мое любопытство. Когда К. К. и Альдо Ломбарди дали мне необходимую информацию и отправились по своим делам, я покинул здание. Никакой сигнализации. Никаких охранников. Мне кажется, никто за мной не следил, но в это трудно поверить.
Несколько лет назад, изучая исландский манускрипт «Кодекс Снорри», я познакомился с одним из сотрудников Ватиканского архива — Томазо Росселлини. Я спросил о нем в регистратуре. Через несколько минут он вышел и провел меня внутрь. После обязательного цикла притворной радости от встречи и горячих рукопожатий я объяснил, что мне надо. Он помог мне найти свободный стол и привез целую тележку книг, научных трудов и документов, которые содержали материалы о дракулианцах.
В
Encyclopedia of World Religions and Sects («Энциклопедии мировых религий и сект») я прочитал, что этот монашеский орден имеет базу в румынских Карпатах. Их аналог римско-католического папы Доминус управляет советом из двенадцати епископов, которые называют себя старейшинами. И по сей день дракулианцы используют римские военные титулы. Такие как легат — командир легиона, или генерал. Оперативные подразделения дракулианцев называются декуриями, так назывались когда-то группы римских солдат из восьми-десяти человек, живших в одной палатке и возглавляемых Примипилом, самым старшим из центурионов. Перелистывая предоставленные мне книги и документы, я добрался до низа кипы и наткнулся на машинописный текст Джованни Нобиле. Как он попал в Ватиканский архив?
КРАТКОЕ ВВЕДШИЕ В ИСТОРИЮ ДРАКУЛИАНЦЕВ
Джованни Нобиле
Рим, май 1970
Первоначально секта дракулианцев возникла в IV веке на Ближнем Востоке на основе синкретизма гностических, христианских, манихейских и езидских воззрений — другими словами, в результате объединения различных религий. Подобно тому как друзы[297] собирают свою идеологию из разных религий и философий, на дракулианцев оказали влияние различные верования. Секта обосновалась в Центральной Европе в VI веке, но постепенно сведения о ней растворились в истории. Не известно доподлинно, перешли ли дракулианцы в подполье или растеряли приверженцев. Вновь они объявились одновременно с катарами в XI веке, расцвет секты пришелся на XIV век, ее следы, отмечены на территориях, которые сейчас принадлежат Румынии, Венгрии и Украине. Дракулианцы поклонялись Люциферу, представленному птицей-павлином Малак-Тавусом в качестве главного божества. Секта основана на вере манихеев в царство света и гармонии, представленное душой, и в царство тьмы и вражды, представленное телом. Пророк манихеев Мани жил в Вавилоне в III веке и считал себя преемником таких пророков, как Будда, Заратустра и Иисус.
Взгляды дракулианцев на Люцифера/Сатану гораздо более нюансированные, чем у современных поклонников дьявола вроде Ла-Вея. Подобно гностикам и катарам, дракулианцы верят, что мир создан демиургом, божеством низшего ранга. Но там, где гностики и катары не говорят четко, является ли этим демиургом Сатана, дракулианцы утверждают, что демиург — это и есть темная, то есть злобная, часть триединства. Но не христианской Троицы. Их святой символ трикветр символизировал Бога, Сатану и силу, называемую ими Костхул, которая связывает вместе Божественное и сатанистское, две противоположности Вселенной. Они считают, что Бог и Сатана — части Костхула — универсального целого. Подобно тому как христиане рассматривают Отца, Сына и Святой Дух как единое целое, а не три части этого целого, дракулианцы поклоняются Богу, Сатане и Костхулу как равнозначным частям. Но так как иудаизм, христианство и ислам поклоняются исключительно Божественным (светлым) силам, секта пытается сохранять баланс в Костхуле Вселенной путем поклонения Сатане и темным силам, полагая, что тем самым укрепляют нарушенный баланс. Они верят в Бога, но для них Бог — только одна третья часть Божественных сил.
Извращенная практика и ритуалы секты — сюда входят удаление крови из человеческого тела, использование ладана и преклонение перед обнаженностью — объясняются примитивными представлениями о связи между людьми и богами. Ладан в их ритуалах играет ту же роль, что и в ритуалах Римско-католической церкви. Начиная с Античности верующие полагали, что ладан освящает место и действие. В качестве символической жертвы ладан доносит молитвы до богов. Уже в Моисеевых книгах говорится, что Богу угоден ладан. Обнаженность связана со стремлением к чистоте, к основному, к первоначальному. Адам и Ева, например, были обнаженными вплоть до грехопадения. Раздевая своих жертв, дракулианцы возвращают, как они думают, мертвых к богам в том виде, в каком они были созданы, — обнаженными и чистыми.
Целую минуту я сидел и размышлял над тем фактом, что секта лишила жизни человека, который так страстно изображал их экстремизм. И что они были близки к тому, чтобы лишить крови и меня.
Некоторое время я листал исследование
Blut und Heiligkeit: Anthropologie und Metaphysik,
[298] объясняющее, почему дракулианцы рассматривали принесение крови в жертву как священное действие. Они разделяли тело и кровь, поскольку этот вид жертвоприношения, по их представлениям, очищает тело и душу. Эти же представления оказали влияние на румынского князя Влада Цепеша, подтолкнувшего Брэма Стокера к написанию книги о Дракуле, и на венгерскую графиню Элизабет Батори, убившую сотни девственниц, чтобы купаться в их крови. Представления о священной и чудотворной силе крови являются, с одной стороны, не новыми и непривычными — с другой. Автор сочинения указывает, что многие христиане как ни в чем не бывало пьют «кровь Христову»
[299] во время причастия. Для «свидетелей Иеговы» кровь столь неприкасаема, что они готовы умереть, но не позволят перелить себе кровь в медицинских целях. В одном пассаже о сыворотке правды
Sodium pentothal я обнаружил интересное упоминание о предположении дракулианцев, будто бы удаление крови приводит к короткому замыканию в коре головного мозга и умирающий не может лгать. Необъясненной осталась информация, почерпнутая мной из фотокопии заметки из «Нью-Йорк геральд трибьюн», датированной 29 ноября 2007 года:
Нападение коммандос на мужской монастырь
Сфанту-Георге, Румыния, 20 ноября (Рейтер). Мужской монастырь Сфант-Санж — главная база религиозной секты дракулианцев — в прошлую среду подвергся нападению некой группы, напоминающей коммандос. Это сообщают румынские власти. Монастырь расположен в нескольких милях от города Сфанту-Георге в Карпатах, в румынской Трансильвании.
Секта пытается скрыть подробности и отказывается сотрудничать с местной полицией.
Неясно, кто напал на монастырь и какую цель преследовал. Ни один человек не пострадал. Источники среди местного населения утверждают, что 20–25 военного облика солдат коммандос в камуфляжной форме проникли в монастырь в 02.30 и покинули его через несколько минут.
Источники предполагают, что коммандос унесли с собой какую-то реликвию исторической и религиозной ценности, но подтверждения этого факта не последовало.
Обитатели монастыря не пожелали прокомментировать это событие.
Я думал, что провел в архиве с полчасика, но оказалось, что прошло уже больше двух с половиной часов. Я поднял голову — и увидел перед собой человека, которого я узнал. Он был удивлен не меньше моего. Я не мог вспомнить, кто он. Но когда он снял очки, я вспомнил. Витторио Тассо. Семиотик, с которым я познакомился у Альдо Ломбарди. Ему было неловко видеть меня здесь, как будто мы, старые товарищи, вдруг встретились в сомнительном порносалоне. Мы перекинулись парой
слов, потом он вернулся к своему исследованию хризмы
[300] на боевом щите, принадлежавшем королю остготов Теодориху Великому.
[301] Я сдал все, что брал под расписку, и не спеша пошел к подземному гаражу. По дороге с телефона-автомата я позвонил инспектору Курту Хенриксену. Он подтвердил, что знает о похищении и акции по спасению. Сказал, что все десять человек, подозреваемых в трех убийствах, были арестованы.
— Так что же все-таки происходит, Белтэ? — спросил он.
Я ответил правду: не имею ни малейшего представления.
Я трясся от страха, когда шел по гаражу и открывал дверь автомобиля. На этот раз не было никаких безумцев. Ни монахов, ни охранников. Я спокойно проехал по римским улицам. К. К. разрешил мне припарковать Боллу во дворе. Моник и я были приглашены на обед к нему в половине восьмого.
2
Можно быть пленником, не сознавая этого. Многие жены подтвердят, что я прав. Это обнаруживается тогда, когда ты хочешь расправить крылья свободы и тут обнаруживаешь, что кто-то их подрезал.
После хорошего вегетарианского обеда с вином и кофе мы с Моник вернулись в гостиницу. К. К. поехал по делам в посольство на машине Альдо. Я подумал, не взять ли мне бутылку вина из бара в номере и не постучаться ли к Моник. Никогда не знаешь, что нас ждет. Я открыл бар и взял в руки бутылку вина —
Accordini Amarone della Valpolicella Classico Acinatico 2005 года, — но, стоило руке соприкоснуться с холодным стеклом, мужество покинуло меня. Полностью одетым я лег на кровать и уставился в потолок, размышляя, что сказала бы и сделала бы Моник, если бы я оказался в дверях с бутылкой и двумя бокалами и с глупой ухмылкой на лице. Вероятнее всего, она бы сочувственно улыбнулась и отослала меня вон. Или выпила бы один бокал, чтобы утешить меня. Я переключил мысли на то, что прочитал за день. Трудно отрицать, что загадка становилась все более увлекательной. Немного позже, размечтавшись, что смогу оказаться наедине с Моник, я собрал все свое мужество и пошел к ней с бутылкой вина и двумя бокалами. В замочной скважине был виден свет. Я постучал. Она тут же открыла и с изумлением посмотрела на меня. Как будто ждала кого-то, но никак не меня. Засмущавшись, я поднял руки с бутылкой вина и бокалами:
— Я подумал, не выпить ли нам по бокалу, чтобы успокоить нервы. Сама понимаешь… Но, может быть, сейчас некстати?
Только тут я заметил, что на ней плащ. А рядом стояли собранные чемоданы и сумки.
«Дорогой! — написала она. — Сожалею! Не могу. Уезжаю. Я думала, что это шофер».
— Куда?
«Домой».
Бутылка и бокалы стали тяжелыми как свинец. Домой… Она и не собиралась прощаться со мной.
«Дирк, — написала она. — Ему хуже. Я должна быть с ним. Надеюсь, ты понимаешь».
— Ты вернешься?
Она посмотрела на меня взглядом, понять который было трудно.
У меня навернулись слезы на глазах. Я стоял в коридоре, в дверях женщины, которую хотел соблазнить или быть соблазненным ею, с бутылкой вина и двумя бокалами и унизительным ощущением человека, которого не просто отвергли, а выбросили из своей жизни, как ненужную вещь.
Моник склонила голову, как будто обдумывая мои слова.
«Сожалею, Бьорн, — написала она. — Правда, должна ехать к нему».
Хотелось так много сказать ей. Например, что я влюблен в нее. Что она невероятно хороша. Но как это сказать женщине, которая едет домой к умирающему мужу? И которой ты, скорее всего, просто-напросто не нравишься.
— Хорошо… — Я планировал пожелать ей счастливого пути, может быть слегка рассмеявшись в конце, но понял, что не владею голосом, и промолчал.
Раньше я думал или, скорее, надеялся, что она будет сопровождать меня в этих приключениях, пока мы в конце концов не разгадаем тайну манускрипта. Но я, как обычно, раздул из мухи слона. По крайней мере, в ее улыбке была нежность. Дверь открылась. Вошел шофер.
— Такой поздний рейс? — спросил я. Больше для того, чтобы что-нибудь спросить.
«К. К. одолжил мне свой личный самолет», — написала она.
— Ну конечно. — А я и понятия не имел, что у него был личный самолет. — Спасибо тебе за все, за все. — Лучше все же мне было промолчать. Голос задрожал на последних словах.
Она погладила меня по щеке.
Чтобы скрыть блеск глаз и покрасневшие щеки, я протиснулся мимо нее в номер, поставил бутылку и бокалы на комод и помог шоферу вынести багаж. Когда вещи были погружены, мы обнялись. От нее хорошо пахло. «Шанель № 5».
«
Vaarwel, Бьорн Белтэ», — написала она в своем блокноте. Я не был уверен, означало это «прощай навсегда» или только «до свидания».
3
Я остался стоять на широкой лестнице гостиницы, когда они уезжали. Я провожал автомобиль взглядом, пока он не исчез в транспортном потоке. Моросил мелкий дождь. Ступенька за ступенькой я стал спускаться вниз к тротуару. Мимо прогрохотал грузовик. Большая группа туристов вышла из-за угла и оттеснила меня на первую ступеньку лестницы, они проходили мимо, погруженные в облако незнакомых языков, жестов и зонтов. Внезапно мне пришла в голову мысль — пойти вслед за ними. Через несколько минут мы уже были на Пьяцца Навона. Тут группа расползлась, как будто мы попали в магнитное поле с двумя полюсами. Я стал проталкиваться через кучки влюбленных парочек, которые окружали фонтаны — под звуки смеха и поцелуев, — и продолжил свой путь до Корсо Витторио Эмануэле II. Я уже почти вышел на Пьяцца Венеция, когда длинный черный седан подъехал к тротуару прямо передо мной. Заднее окно открылось.
— Гуляешь? — спросил К. К.
— Так точно. А ты? Следишь за мной?
— Вовсе нет. Возвращаюсь из посольства. Они предложили подбросить меня домой. А я заметил тебя.
Я не стал распространяться о том, что для этого нужно было сделать большой крюк.
— Моник уехала.
— Я знаю. Дирк. Ему осталось недолго. Бедняга. Хочешь поехать со мной?
— А можно?
— Конечно нельзя.
Я сел рядом с ним. На меня напала какая-то вялость. По пути мы не сказали друг другу ни слова.
IV
МОНАХИ В КАМЕРАХ-ОДИНОЧКАХ
1
Десять монахов были помещены в камеры-одиночки ныне закрытой тюрьмы, которую К. К. разрешили использовать итальянские власти. Такие вещи у К. К. получались очень легко.
Движение по улице перед тюрьмой было перекрыто, она охранялась вооруженными карабинерами, а также транспортной и обыкновенной полицией. Военный вертолет барражировал над кварталом. Шофер, К. К. и я должны были показать паспорта и пропуск с печатью, чтобы нас пропустили дальше.
Во дворе в полной готовности находилась еще одна группа вооруженных солдат.
— Группа захвата, — сказал К. К. Словно это было самое обычное дело. — На случай, если кто-то попытается освободить наших пленников.
Коридор с облезлой штукатуркой просматривался через видеокамеры. Солнце светило через узкие прорези высоко под потолком. Коридор пропах мочой, гнилью и чистящими средствами.
Один из охранников отпер первую дверь, которая была помечена большой цифрой «1», написанной тушью на выкрашенном серой краской металле. Я тут же узнал молодого монаха с большим носом. Он сидел на нарах и был прикован к стене. С него сняли темный выходной костюм и одели в серую тюремную одежду.
Он поднял голову, когда мы вошли в камеру, но тут же отвернулся, когда увидел, кто мы. Я попробовал завести с ним разговор. Но он не смотрел на меня. Наконец и мы отказались от мысли вступить с ним в контакт и пошли к следующей камере.
Все повторилось.
Короткий взгляд. Ни единого слова.
Охранники без выражения отпирали одну дверь за другой. Чтобы дверь открылась, в каждый замок нужно было вставить и повернуть два толстых ключа.
Монахи не хотели говорить. У них не нашлось слов для того, кого они пытались убить.
2
В последней камере под номером «10» сидел мужчина с аристократической внешностью, который называл себя Примипилом. Он кивнул, когда К. К. и я вошли в его камеру. Как будто он нас ждал.
— Они обязаны молчать. — Акцент у него сейчас был заметнее, чем тогда. — Даже пытками вы не заставите их говорить.
— А если им выпустить кровь? — бесстыдно сказал я.
Он же был прикован к стене.
— Ничего не знаю об этом, — сказал К. К. Голос его звучал формально и без выражения, как будто он делал объявление для собравшихся членов жилищного кооператива. — Зато знаю, что вы будете выданы в одну из тех стран, где были совершены убийства. Такая вот юридическая головоломка. Три убийства в трех странах. Если все три страны потребуют вашей выдачи, определить, в какой из стран вас будут судить, поможет Суд Евросоюза. Очевидно, ваша группа будет осуждена за совершение целого ряда преднамеренных убийств. Но все это произойдет после того, как
мы закончим нашу часть расследования. Вам предстоит отвечать за многое. Но вы успокойтесь. У нас более гуманные методы допроса. Мы не прольем ни капли вашей крови. У нас есть другие средства, которые заставляют людей говорить. Химические методы.
Мужчина, словно не слыша ни слова, поглаживал пальцами свою седую бороду. Запястья были ободраны. Длинные острые ногти острижены и спилены. Возможно, охрана опасалась, что он может использовать их как оружие. Что, в общем, было недалеко от истины.
— Что вы тут делаете? — спросил Примипил, обратившись ко мне. Тюремная одежда зашуршала, когда он пошевелился.
— Вы хотели убить меня. Мне кажется, что у меня есть право узнать почему.
— Я думал, вы знаете почему.
— Я понимаю, что вы хотите захватить манускрипт. Но я не понимаю, почему человеческая жизнь стоит так мало.
— Мы, люди, живем по милости богов.
— Вы — монахи. Не боги. Не ваше дело решать, кто должен жить, а кто умереть.
— Мы — средство в руках богов.
— С неограниченными полномочиями?
— Вы нас осуждаете, потому что ничего не знаете. Когда мы умрем, мы вернемся назад в Костхул — универсальную общность, которая всегда была и всегда будет. Жизнь здесь, на Земле, — только незначительная вспышка в этой вечности.
— И эта вера дает вам право убивать?
— Что значит жизнь? Жизнь коротка. Костхул вечен.
— Кто это говорит? Бог?
— Никто не знает Бога. Ни иудеи. Ни христиане. Ни мусульмане. Ни мы. Бог слишком велик, чтобы Его можно было понять. Мы, люди, не можем понять Божественного. Даже пророки и священники его не понимают. Но когда мы воссоединимся в Костхуле с богами, каждый из нас сможет господствовать над всеми мирами на небесах.
Harga-me-giddo-dom должен освободить нас от оков земной жизни. Только после того, как Судный день уничтожит созданное, мы все сольемся. С темнотой. Со светом. С Костхулом.
— Вы не в себе.
— Прочитайте наше Священное Писание!
— Какое Писание?
Он замолчал. Демонстративно.
Я задал ему еще несколько вопросов, но, казалось, кто-то — может быть, Люцифер, может быть, разум — отключил его. Бесполезно. Взгляд его был направлен туда, где не было ни К. К., ни меня. На наше счастье.
Через несколько минут мы покинули камеру. Когда дверь закрывалась, он поймал мой взгляд и сказал:
— In nomine Magna Dei Nostri Satanas.[302]
Закрывшаяся дверь оборвала концовку.
3
Мы вышли во двор и сели в автомобиль. У К. К. был задумчивый вид.
— Странно. Монах произнес слово, которое я недавно прочитал.
Harga-me-giddo-dom.
— Звучит как Армагеддон. Это какое-то место? Место последней битвы между Богом и Сатаной?
— На холме Мегиддо в Израиле. Здесь, как предсказывает Библия, произойдет решающая битва между воскресшим Иисусом и Антихристом.
— Где ты прочитал это слово?
— Мы изучали многообещающий след, который Альдо Ломбарди нашел в одном из текстов папы Григория Двоеслова.
[303] Он указывает на надпись на стене в римских катакомбах.
Я никогда не считал себя специалистом по религиям.
Я могу понять веру. Стремление к чему-то, что больше нас, к непонятному, к тому, что дает направление. К смыслу. Но у меня больше симпатии к карме. Все, что ты делаешь и чего не делаешь, определяет твою судьбу. То есть сумма действий определяет твою последующую жизнь. Где посеешь, там и пожнешь. Коротко и ясно. Избежать второго рождения — нирвана.
Я никогда не мог понять нирваны.
Будда описывал нирвану как идеальное состояние души, выражающееся в радости, покое и гармонии. Довольно далеко от моей нынешней жизни.
V
КАТАКОМБЫ
1

И смотри, с небес, окруженный сияющим пламенем, сойдет Сатана, князь тьмы, похожий на многоголовое чудовище с большим количеством рогов; и рядом с ним, по левую руку его, единородный сын зверя, и вместе они будут господствовать над всеми мирами небесных пространств, пока Harga-me-giddo-dom не уничтожит все созданное, и тогда Сатана, и демоны его, и все души Земли опять сольются с ангелами Господа и с Яхве.

В слабом свете карманного фонаря указательный палец Карла Коллинза отбрасывал длинную тень, которая медленно — слово за словом, строчка за строчкой — ползла по стене с поблекшей надписью между трикветром и хризмой, когда-то давно бывшими ярко-красными.
Голос тихий, скорее шепот, когда он переводил старый текст. Он выпрямился и стукнулся головой о потолок.
— Эти катакомбы начали копать во втором веке после Рождества Христова. Но надпись датируется концом четвертого века, — объяснил К. К. — Как видишь, текст содержит явный намек на Откровение Иоанна Богослова, на христианские догмы и на слова монаха-дракулианца.
В колоссальной сети катакомб с туннелями и низкими ходами воздух был прохладный и влажный. Почти незаметный ветерок приносил слабый запах гниения.
Здесь, за пределами старых городских стен Рима, — тысячи умерших римлян и христианских мучеников. В пещерах, нишах и запечатанных надгробиях их отправляли на покой во власть веков. Узкие крутые лестницы вели все глубже в подземелье. В некоторых ходах катакомб все еще лежали тысячи черепов и фрагменты скелетов, к болезненной радости туристов, которые каждый день толпами бродили по этим коридорам.
— Текст и символы не дают логического объяснения, — продолжил К. К. и провел рукой по волосам. — Почему трикветр? Почему хризма, символизирующая Иисуса Христа? И обрати внимание на формулировку «вниз с небес». Более естественным было бы написать «вверх из ада», правда? Ни в одном библейском тексте не написано, что Сатана сходит «вниз с небес» — если не считать того несчастного эпизода, когда Люцифера вместе с его последователями выгнали оттуда. Далее писавший играет игру с Откровением Иоанна Богослова: «похожий на многоголовое чудовище с большим количеством рогов» — и уж чистое издевательство, когда «единородный», как он называет его, сын Сатаны помещается «по левую руку» от отца.
Harga-me-giddo-dom означает «Судный день». Это не христианский текст, это святотатство!
Игра теней на лице К. К. делала его похожим на того дьявола, о котором он с таким увлечением говорил. От далекого звука — похожего на коллективный стон душ, нашедших упокоение в катакомбах — я вздрогнул. К. К., кажется, ничего не услышал. Он тщательно рассматривал надпись, которую перевел, глаза были обращены в сторону стены с текстом.
— Ты слышал? — спросил я.
— Слышал что?
— Звук.
— Нет.
— Как стон.
— Боишься, Бьорн?
Я и в самом деле испугался. Не говоря уже о моей клаустрофобии. Как бы то ни было, мы находились у погребений под землей, которая могла в любой момент обрушиться. Хотя катакомбы и простояли без изменений почти две тысячи лет.
— Я слышал звук.
В мелькании карманного фонаря я увидел, что К. К. рассмеялся.
Шофер, который нас привез, ожидал на площади перед базиликой Святого Себастьяна, построенной над самыми старыми римскими захоронениями.
На обратном пути к Виа Венето мы с К. К. задремали в машине.
2
«До нашей следующей встречи, — написал К. К. на листочке самоклеящейся бумаги, — ты должен это прочитать».
Листочек был прикреплен к стопке пожелтевшей от времени бумаги.
НЕСКОЛЬКО КОРОТКИХ РАССУЖДЕНИЙ ОБ АДЕ
Джованни Нобиле Рим, ноябрь 1968 год
Большинство религий имеет представление об аде как о метафизическом или реальном месте, куда попадают души умерших, если им не выпадает на долю вечное блаженство. Итальянское слово inferno произошло от латинского infernus (что значит «под, внизу»). Английское hell происходит от древнеанглийского hel/helle и древнескандинавского hel (которое связано с Helheim, обозначающим «подземное царство мертвых»).
Большинству людей ад представляется абстрактным понятием, в худшем случае религиозным ожиданием или страхом. Церковь и священники использовали ад, начиная со Средних веков и до середины XIX века, как эффективную угрозу, чтобы запугивать верующих и неверующих и добиваться религиозного послушания.
Но был ли ад в какой-то период времени физическим местом — а не только религиозно-мифологическим представлением? Если мы проведем прямую линию от ада[304] и Аида[305] назад через Геенну[306] и Шаолу[307] к Иркалле[308] вавилонян, то увидим среди многих общих черт то, что царство мертвых находится под поверхностью земли. Уже в XIX веке французский оккультист Жак Огюст Коллен де Планси[309] проследил изменение представлений об аде от подземного царства Нергала и Эрешкигаль до христианского ада. Пророк Исаия пишет: «В царство мертвых ты спустился, далеко вниз в глубокую пещеру». Исаия ставит знак равенства между царством мертвых и пещерой. В вавилонской мифологии мертвые собирались в подземной пещере. Этот огромный подземный грот они назвали Иркалла.
Религиозные представления об аде уходят корнями в мифологии более ранние, нем древнееврейская: шумерскую, аккадскую и вавилонскую. Самые древние царства мертвых связывались не с жарой и пламенем, ад, напротив, был холодным, каменным и темным. В царстве Иркалла (Irkalla/Ir-Kalla/Irkalia/Arali/Kigal/Gizal) господствовал бог смерти Нергал.[310]
Иркалла имеет несколько общих черт с древнееврейским подземным миром Шеол (Shaol). Шеол во многих отношения похож на ад и подземный мир греческой мифологии Аид (Hades), но эти миры не обязательно полностью совпадают. Геенна (Gehenna), в свою очередь, представляет собой параллель христианскому аду (и не идентична Шеолу). Первоначально Геенна была пропастью, использовавшейся для сброса мусора под Иерусалимом, в долине Еннома туда раньше бросали детей, приносимых в жертву богу Молоху. В чем сходства и различия между царствами смерти Аидом, Геенной, Шеолом и заодно и их предшественницей Иркаллой?
Выдвигаю гипотезу: Иркалла изначально была некрополем. Думаю, что могу ее документировать. Дело в том, что ад и все другие аналогичные царства мертвых имеют общее происхождение от такого в высшей степени физического и реального места, как грот, куда вавилоняне отправляли умерших на покой так же, как это делали в катакомбах Рима. В последующем я расскажу о классическом понимании и современном истолковании…
Я отложил стопку в сторону.
Конечно, я понял, чего добивался К. К. Он хотел, чтобы я сделал разминку. Подготовился к разностороннему анализу ада. Но я не такой наивный. Сочинение Джованни Нобиле сорокалетней давности не поколебало ни моего здравого смысла, ни восприятия реальной действительности.
3
— Скажи мне, — произнес я и посмотрел прямо в глаза К. К., который закуривал сигару, большую и черную, как гнилой банан, — ты пытаешься убедить меня в том, что вы опасаетесь скорого появления сына Сатаны?
— Совсем нет.
К. К. сосал сигару как грудной ребенок, пока она не задымила. Мы вдвоем сидели в его кабинете. Не особенно большом. С окнами во двор. Между двумя высокими книжными стеллажами висела карта мира, в которую было воткнуто много разноцветных булавок.
Я был растерян. В голове у меня вертелось множество мыслей и гипотез.
— Итак, Бьорн, — продолжил К. К., сигарный дым выходил у него из носа, как у огнедышащего дракона, — я прекрасно понимаю, что тебя не обманут ни старые профессора, ни еще более старые надписи на стене. Позволь мне напомнить, что это ты захотел пойти в катакомбы.
— Из-за монаха! Почему ты показал мне рассуждения об аде Джованни Нобиле?
— Чтобы ты имел как можно более широкое представление о его взглядах. — Он втянул грозовую тучу сигарного дыма и стал выпускать его маленькими порциями. — Не исключено, Бьорн Белтэ, что ты тоже можешь что-то узнать для себя.
— Если только пойму, что происходит вокруг меня.
— А чего ты до сих пор не понял?
— Например, вот чего. Ты говоришь, что вы представляете группу ученых. И тем не менее у вас есть группа захвата, которая больше всего напоминает элитное военное подразделение.
— А это и есть элитное подразделение. Проект «Люцифер» имеет в своем распоряжении не только элитное подразделение, но еще и секретных агентов и самое современное разведывательное оборудование, какое только существует. Все имеет свое объяснение. Без этого подразделения и секретных технологий мы никогда не освободили бы тебя. Не многие из нас, — К. К. поднял вверх обе руки с обезоруживающим смехом, — смогут вступить в физическую конфронтацию с кем бы то ни было. Мы — ученые, а не боксеры.
Что-то в его взгляде сказало, что сам К. К. это высказывание к себе не относит.
— Почему ты не расскажешь мне, что мы ищем? Я хочу знать больше!
— Бьорн, есть люди, очень много людей, которые верят в пророчество о сыне Сатаны. Они
верят, Бьорн! Они готовы пойти так далеко, насколько понадобится, чтобы пророчество сбылось. Они ждут Сатану и его сына! Вот так христиане ждут второго пришествия Иисуса Христа уже две тысячи лет. Но все это побочная линия по отношению к теориям и гипотезам, над которыми мы работаем уже несколько лет. — К. К. подул на кончик сигары. — Позволь предупредить. Эти теории комплексные и — для постороннего — маловероятные.
— И секретные?
— Ты получишь ответы на свои вопросы. — Тление постепенно съедало сигару. — Мы разрабатываем три гипотезы. Они основаны на знании, полученном из двух первых частей Евангелия Люцифера, и на упоминании в других сочинениях о третьей части.
— Подожди-ка, подожди-ка… Ты хочешь сказать, что у вас есть две первые части?
— Да. Мы этого и не скрываем.
— Они же были утрачены? Исчезли?
— В свое время — да.
— А теперь нашлись?
— Мы имеем первую и вторую части Евангелия Люцифера. Ты, мой дорогой, имеешь третью.
— Первая часть была у Джованни Нобиле…
— Специалисты в университете успели сделать с нее фотокопию.
— А вторая часть?
— Мы нашли ее в монастыре дракулианцев.
Я вспомнил газетную заметку, которую читал в тайном архиве Ватикана.
— Так это были вы? Вы украли манускрипт в монастыре?
— Да. — К. К. посмотрел на меня подчеркнуто снисходительно. — Бьорн, мы украли его у группы религиозных фундаменталистов, обладавших примерно таким же чувством чести и теми же взглядами, которые были у «Аль-Каиды». Можешь сравнить это с кражей лома у вора-домушника. Или компьютера у распространителя компьютерных вирусов.
— Тогда зачем дракулианцам мой манускрипт, если они лишились своего?
— Можно предположить, что они сделали копии.
— Вы смогли прочесть первые части?
— Да. И, впервые ознакомившись с содержанием первой и второй частей вместе, мы увидели, как филигранно и сложно они соединены. И как многое зависит от третьей части, чтобы получить общий смысл. Поддающийся чтению текст в левой колонке — это одно дело. Пророческий и мифологический апокалипсис, включающий биографию автора. Но символы и значки во второй колонке не могут быть прочитаны таким же образом. Они бессмысленны без третьей части. Мы думаем, что ее надо читать вертикально, с самой первой страницы до последней. На основании того, что мы уже прочитали, мы создали три главные гипотезы, которые проверяем. Есть ли среди них верные, мы узнаем, — тут он посмотрел на меня, — когда ты передашь нам третью часть.
Пока я размышлял над тем, почему К. К. сказал «когда», а не «если», он глубоко втягивал дым в легкие.
VI
ОРИОН
— Что же ты молчишь, К. К.?
Полночь. Мы сидели на узкой террасе рядом с гостиной. На улице стояла тишина. Изредка проезжал автомобиль или мотоцикл. К. К. принес бутылку «Asti» и два высоких бокала. Я рассказал ему о своем детстве и приключениях в разных концах света.
— Позволь, я отвечу вопросом на вопрос: почему ты мне не веришь?
Мы посмеялись. Друг над другом. Каждый над собой.
— Ты делишь истину на маленькие порции, — сказал я. — Прячешь от меня карты. Ты делаешь вид, будто делишься со мной, но фактически рассказываешь о мелочах. Что ты скрываешь? Какой тайной ты не хочешь со мной поделиться?
— Тайна — уже не тайна, если она известна.
— Возможно, от меня будет больше пользы, если ты мне все объяснишь. Я археолог, К. К. Моя профессия делает меня любопытным. Я хочу знать. Ты должен мне открыться.
— Что ты хочешь знать?
— Ты обо мне знаешь все. Я о тебе ничего. У тебя степень доктора астрофизики Стэнфордского университета. И ты — исполнительный директор проекта «Люцифер». Вот все, что мне известно.
— Во многих отношениях я похож на тебя, Бьорн. Я человек, который любит делать дело.
Белое вино серебрилось в бокалах. Вокруг лампы на террасе с шумом летал большой жук, наконец он наткнулся на лампу и хлопнулся об пол с сухим фатальным стуком.
— Ты женат? — спросил я.
Вопрос удивил его. Он посидел немного, глядя перед собой, потом ответил:
— Был женат. Я женился на моей Сью, нам было по двадцать. К тому времени мы встречались уже пять лет. Правда, мило? Она оставалась в Канзасе, когда я получал образование в Калифорнии. Все закончилось так, как и должно было. Когда я наконец получил докторскую степень, мы развелись. Сью снова вышла замуж и родила двоих детей от парня, который до сих пор торгует скобяными товарами на главной улице в Форт-Скотте. Он — председатель приходского совета, масон, президент торговой палаты в городе. Чарли. Чарли Менкрофт. Чертовски славный парень. — К. К. поднял бокал и посмотрел на меня через стекло, глаз стал большим. — Но вот что кошмарно и так патетически банально, Бьорн, — я так и не смог забыть эту даму. Ты не находишь это смешным? Она уже бабушка. Я не видел ее двадцать пять лет. Вот так. Были другие женщины. Но… ты сам знаешь, как это бывает.
Я прекрасно знал, как это бывает.
— Так ты из Канзаса?
— Мой брат до сих пор владеет фермой, которую завел еще прапрадед в 1856 году. — Он опять прикрыл глаза. — Канзас… Более типичного сельского штата в США нет. Вечерами я любил гулять в темноте. Отсюда интерес к астрономии. Я мог часами сидеть в темноте на пшеничном поле и смотреть на небо. Какое зрелище! Большинству людей хорошенько разглядеть небесный свод мешает свет. Свет большого города, свет на ферме, свет от автомобилей — мир загрязнен светом. Но в Канзасе в пятидесятые годы было темно. Темно, друг! Казалось, я мог протянуть руку и снять с неба звезду.
— Ты часто бываешь дома? В Канзасе?
— Я не был там двадцать пять лет. С тех пор как умер отец. — Он покосился на меня. — Зачем тебе это?
— Хочу узнать тебя поближе.
— Почему ты думаешь, что я тебя все время обманываю?
— Потому что это твоя работа.
— А почему
я должен доверять тебе, Бьорн?
— Я не просил тебя доверять мне. — Пауза. — Ты ничего мне не рассказываешь, — продолжал я наседать на него.
— Разве? Мне кажется, я рассказал очень много.
— Я хочу знать больше!
— Давай я скажу тебе вот что. Мы пытаемся понять Евангелие Люцифера и для этого проверяем три гипотезы. Теперь ты знаешь больше, чем половина тех, кто участвует в проекте «Люцифер».
— Какие три гипотезы? Я знаю только об одной: текст предсказывает о пришествии сына Сатаны.
— Придет время.
— Ну вот опять. Ты обещаешь ввести меня в курс дела — и снова ничего.
Несколько минут мы сидели молча.
— Где ты живешь? — спросил я наконец К. К.
— Где живу? М-да, как бы это объяснить? Мой дом — скажем так — расположен под Вашингтоном, округ Колумбия. Но я много путешествую. Рим. Лондон. Хьюстон. Стэнфорд. Поэтому мой дом едва ли можно назвать постоянным местом жительства.
— Место, где мы живем, говорит о нас как о людях. Я живу в многоэтажке в Осло. Это мой дом. Трехкомнатная квартира в многоэтажке.
— А теперь мы здесь. Оба. В Вечном городе.
Мы подняли бокалы и посмотрели в темноту. Я наслаждался виртуозным вкусом «Asti».
К. К. указал на небо:
— Видишь звезды вон там, над крышами? Это Орион. Название происходит, по-видимому, из аккадского Уру-анна — небесный свет. Созвездие возникло полтора миллиона лет назад и будет видно на протяжении еще стольких же. Потом перестанет существовать. Не потому, что звезды погаснут, а потому, что взаимное расположение звезд, наблюдаемое с Земли, изменится. Орион — самое стабильное созвездие в истории человечества. Человечеству только двести тысяч лет. Для нас Орион существовал всегда. Но, как и все другие созвездия, Орион не более чем иллюзия. Мысленное представление, основанное на силе света различных звезд и их взаимном расположении, рассматриваемое с определенной точки зрения в мировом пространстве: с Земли. Зачем я это рассказываю тебе? Не потому, что я астроном. Это хороший пример. Он показывает нам, что ничто в мире не является таким, каким оно нам представляется. Созвездия. Люди, которых ты встречаешь на дороге. Ничто не является таким, каким тебе кажется. И я тоже. Ты видишь лишь маленькую толику меня. А я — тебя. Самое главное, Бьорн, чтобы мы иногда брали на себя смелость доверять друг другу. И если мы не всегда знаем друг о друге все или чего-то не рассказываем, это не обязательно означает, что нам есть что скрывать.
Чтобы не показать, будто меня это совершенно не интересует, я сидел и смотрел на Орион. Или делал вид, что смотрю на Орион. Зрение у меня не из самых лучших. Для меня звездное небо — просто туман.
В свете уличного фонаря я увидел летящее насекомое, может быть цикаду, которая по ошибке залетела сюда из ближайшего парка. Я узнавал себя в ее состоянии отчаяния, в панике, в бегстве от невидимых преследователей, которых вы только ощущаете. Вы знаете, что они есть, но не видите их. Когда насекомое улетело в темноту, за ним бросились две птицы.
Так что же ты таешь, Карл Коллинз? Чем ты не хочешь поделиться со мной?
К. К. допил вино из своего бокала:
— Спокойной ночи, Бьорн. Подумай об этом. Хорошо? Не только ради меня. Но и ради себя самого. Очень важно доверять людям.
РИМ
май 1970 года
Лучана пришла домой после часа. Вопросительно посмотрела на Джованни:
есть какие-нибудь новости? Он покачал головой. Лучана повесила пальто и вошла в гостиную. Даже несмотря на запахи шампуня, мыла и духов, исходящие от нее, Джованни услышал запах лосьона после бритья и сигарет. Или он это внушил себе. Подозрительность была его чертой. Ни один мужчина, имея молодую красивую жену, не может жить, время от времени не испытывая приступов ревности.
— Где ты была?
— Там.
— Там?
— Я не могу быть здесь.
— Они могли позвонить.
— Я больше не в состоянии, Джованни.
— Да-да, конечно. Я понимаю.
— Не в состоянии сидеть и ждать, и ждать, и ждать, когда этот чертов телефон зазвонит.
«Но ты почему-то уверена, что
я в состоянии», — подумал он.
— Непривычно слышать проклятия из твоих уст, Лучана.
— Тебе так кажется? Кто-то украл нашу дочь! Джованни! Слышишь ты! Черт! А ты никогда не свирепеешь, да? Черт бы их побрал! Черт, черт, черт! — Она заплакала. — Извини. Я…
Он сказал:
— Тсс!
Она успокоилась.
— Где ты была —
там? — Он попытался придать голосу естественное бытовое звучание.
— Я была… на работе.
Пауза длилась не более десятой доли секунды, но он уловил ее.
На работе…
— Три часа?
Она поймала его взгляд; не сейчас, умоляли ее глаза, пожалуйста, не сейчас.
— Ты не рассказала им о Сильване?
— Конечно нет.
— Как дела у Энрико?
Снова этот… взгляд.
— У него… хорошо. Почему ты спрашиваешь?
— Меня интересует все, что важно для тебя, ты же знаешь.
Она взглянула на него, явно не будучи уверенной, как истолковать такую двусмысленность.
— Я кажусь тебе тряпкой? — Он поднял ее подбородок указательным пальцем и посмотрел прямо в глаза, словно его взгляд мог объяснить ей все, что он вынашивал. — Скажи все как есть, Лучана.
— Джованни, ты меня пугаешь.
— Во мне сохранилось не слишком-то много мужского, да?
— Почему ты это говоришь?
— Тебе кажется, что я должен относиться к сложившейся ситуации как-то иначе?
— Перестань, это неправда.
Приступ гнева и жалости к самому себе улегся. Он вышел на кухню и выпил стакан воды.
— Ты раздобыл манускрипт? — спросила она, когда он вернулся в гостиную.
— Нет.
Он рассказал, что произошло. Лучана опять заплакала.
VII
МОЛИТВА В КРОВИ
РИМ
14 июня 2009 года
1
Белые как мрамор, в страшных позах, словно фигуры из подвала ужасов музея восковых фигур, обнаженные монахи купались в крови в лучах утреннего солнца.
Смерть всегда приходит неожиданно. Лобовое столкновение автомобилей на шоссе. Инфаркт. Лопнувшая артерия, лезвие ножа, огонь, опухоль. Даже для безнадежно больного, который неделями и месяцами пытался ускользнуть от нее и теперь собрал вокруг себя всех близких — шепчущихся, ожидающих, — смерть наступает неожиданно.
Сейчас? Уже сейчас? Такова смерть.
Но это?..
— О боже! — простонал К. К.
Кровь была повсюду. На полу. На стенах. Даже на потолке. Утреннее солнце вливалось через продолговатые окна камер вверху на стене. Свет отражался в крови, которая застыла темно-красными узорами.
Я быстро отвернулся. Икая, оперся о стену обеими ладонями. Закрыл глаза, борясь с ощущением тошноты и невероятности случившегося.
Голос К. К.:
— Во имя Господа, что тут произошло?
Голос начальника охраны:
— Мы не понимаем!
Резня. Кровавая баня.
Я подумал: «Неужели в человеческом теле столько крови? Пять литров… Неужели пять литров крови — это так много?»
Все, кого отталкивает кровь, думают о цвете, консистенции и о том, что кровь должна быть внутри тела, а не снаружи. Очень немногие думают о запахе. Резком запахе, отдающем металлом. Я очень чувствителен к запахам. Я узнал запах крови задолго до того, как открыли дверь в коридор с камерами. Все время пытался дышать через рот. Девять трупов из десяти лежали на топчанах, каждый в своей камере. Казалось, они спали. Некоторые сложили руки на груди. Один широко раскрыл рот, застыл в беззвучном крике. Другой тупо уставился в пространство. Словно для того, чтобы помешать им убежать, они все еще были прикованы к стене. Тюремная одежда была разодрана на полосы и брошена в угол.
2
— Все до единой двери, — заверил начальник охраны, — были надежно заперты, когда заключенные были обнаружены мертвыми в положенное время завтрака, в половине восьмого.
Мы перешли в дежурную комнату в коридоре. Даже сюда доходил запах крови.
— Может быть, они убили друг друга? — спросил я.
— Двери были заперты снаружи. Двумя ключами.
— Ну а если кто-то сумел украсть комплект ключей?
— Невероятно!
— А если?
— В камерах нет оружия, ножей, даже бритвенных лезвий.
— Сколько человек дежурило в ту ночь?
— Три группы. Восемнадцать вооруженных мужчин. Двое в коридоре. Четверо в дежурной комнате. Шестеро во дворе. Шестеро на улице.
— Мог ли кто-нибудь суметь пройти мимо всех охранников, войти в запертые камеры, убить монахов, снова запереть двери и исчезнуть?
— Нет.
— Тогда это значит, что охранники были соучастниками?
— Ни в коем случае! Проверенные, надежные люди.
— Профессионалы?
— Самые лучшие.
— Каждого наемника можно купить…
— Только не моих!
— …если заплатить побольше.
— Я предпочитаю пропустить оскорбление мимо ушей.
— Их допросили?
— Конечно. Все, кто дежурил сегодня ночью, на местах. Если бы они участвовали в убийствах, уже давно сбежали бы.
— Если только не остались, чтобы на них как раз не подумали.
— Вы не просто подозрительны. У вас слишком бурная фантазия.
— Когда наступила смерть?
— По предварительному заключению врача, все умерли с пяти до половины шестого утра.
— На рассвете, — сказал К. К. — В это время дракулианцы обычно отнимают жизнь у своих жертв. На рассвете или в сумерках на исходе дня.
3
В череде охранников, врачей и полицейских был один человек, который резко отличался от остальных.
Крупных размеров, с лысеющей головой, в белой рубашке и синем галстуке с монограммой. Несмотря на толстый живот, редкие волосы и круги пота под мышками, он напоминал хулиганистого мальчишку, который забрался в построенный в буковой кроне деревянный домик и оттуда планировал налет на соседние участки.
— Марк! — окликнул его К. К.
Марк задыхался и двигался рывками, чем походил на фигурку из узкопленочного фильма, пленка которого застревала в кинопроекторе. Обернувшись и обнаружив К. К. через толстые стекла очков, он так и засиял во всем своем добродушии. Можно было подумать, что резня его никак не касалась.
— Это Бьорн, — представил меня К. К., — Бьорн Белтэ.
— А! Археолог! Человек с манускриптом! — Марк встретил мой взгляд с обезоруживающей улыбкой и взял меня за руку. — Маркус Вандерлейден Третий. Все зовут меня Марк, просто Марк. Моего деда назвали в честь Марка Аврелия. Знаешь такого? Это император? Marcus Aurelius Antonius Augustus! — Он провозгласил это имя так громко и торжественно, что привлек по-утреннему недовольные взгляды нескольких охранников. — Что касается «Третьего», обвинять меня не надо. Мой отец — сноб. Единственная причина, по которой меня назвали в честь деда и отца, была та, что он мечтал иметь сына по имени Маркус Вандерлейден — проклятие! — Третий. Как король или кто там еще. Они надеялись, что я унаследую банк. И тогда я встряхнул это чертово благородное генеалогическое древо от самых его снобистских корней до аристократической кроны, приступив к изучению международной политики, а затем внедрившись в сферу государственного управления. Они до сих пор не отошли от шока. Вот я и рассказал свою биографию в самом сжатом очерке.
— Что вы здесь делаете?
— Здесь? Здесь, в тюрьме? Здесь, в Риме?
— Марк входит в мой штаб, — сказал К. К. — Он…
Громкий крик прервал К. К.:
— Мистер Коллинз!
Начальник охраны поманил К. К., и они вошли в камеру Примипила.
— Так что же вы делаете в тюрьме?
— Хороший вопрос. Дьявольски хороший вопрос. Какого черта делаю я здесь? — Он остановился, размышляя, как будто вопрос касался загадки Вселенной. Потом он как бы пришел в себя. — Я вам кое-что покажу.
Он потянул меня в первую камеру.
Монах с большим носом спал мирным сном в луже застывшей крови. Обнаженный. Окровавленный. Белый. Он казался ненастоящим, как будто его тело заменили куклой.
На стенах кровь. Впечатление ужасное. Поэтому на слово я обратил внимание только тогда, когда проследил за взглядом Марка.
На стене кто-то нарисовал трикветр и кровью написал большими рукописными буквами:
SFANT

Я почувствовал ужас и отвращение.
Кто написал его? Монах перед смертью? Убийца?
— Подобные слова написаны во всех камерах, — сказал Марк.
— Что написано в других камерах?
— Не знаю. Разные слова.
— Что это значит?
— Мы еще не знаем. Сначала надо перевести. Мы думаем, что это по-румынски. Монахи написали какое-то сообщение своей кровью и умерли.
— Зачем?
— Для всех дракулианцев написанное кровью имеет сакральное значение. Кровь священна. Если написать сообщение кровью многих умирающих, то это придаст особую силу молитве. Точно так же у христиан молитва всей собравшейся общины, по-видимому, имеет особый вес у Бога. Идем!
Во второй камере монах лежал лицом к двери, как будто ему больше всего хотелось увидеть реакцию тех, кто войдет. На лице жуткая гримаса: глаза широко раскрыты, губы оттянуты назад, зубы обнажены. На стене он написал:
SANGE

Под буквами и трикветром стекавшая кровь застыла темно-красными полосами.
— Ужасно, правда? — прошептал Марк.
— Сначала
sfant. Теперь
sange. Их монастырь называется
Sfant sange.
— Так оно и есть. По-румынски это значит примерно «святая кровь».
Только камера Примипила была недоступна, там работали техники. Марк и я записали разные слова, переходя из камеры в камеру. В конце концов мы получили такой список слов:
SFANT SANGE MAESTRU SATANA
DORMI CADAVRU PIRAMIDA TREZI
HARGA-ME-GIDDO-DOM
— О чем тебе говорят эти слова? — спросил Марк.
— Не очень о многом, если не считать «святой крови». Я предполагаю, что
Satana — это Сатана.
Harma-me-giddo-dom означает «Судный день», Армагеддон.
«Но почему именно эти, на первый взгляд бессмысленные, слова?» — подумал я. Почему они не написали, кто их убил? Этот вопрос дал толчок внезапному и дикому предположению. Против своего желания я понял, что произошло. Я взглянул на Марка:
— Вы ведь тоже поняли, что произошло?
— А вы?
— Думаю, что понял.
— Нам надо поговорить. Можем мы встретиться в посольстве через несколько часов?
— В посольстве?
— Я там работаю.
— Вы дипломат?
— Скажу правду: я работаю в ЦРУ.
4
— Бьорн…
Если крик может быть замедленным, то это был замедленный крик.
К. К. стоял перед камерой Примипила. Голос звучал странно. Как будто у него была плохая новость, которую он очень не хотел мне рассказывать. Он помахал мне, мягко взял за руку и ввел в камеру.
Трупные судороги — каталептические спазмы — один из самых жутких феноменов судебной медицины. Человек, умирающий в экстремальном физическом или психическом напряжении, может застыть
в самой неестественной позе в момент смерти.
Примипил был единственным монахом, из десяти, кто не лежал на топчане. Он молился, стоя на коленях.
Он умер — обнаженный, стоящий на коленях, молящийся — с кровью, вытекающей из тела. Так он и застыл. Голова направлена вверх. Как будто он искал того бога или дьявола, которому посвятил свою жизнь. Колени на полу. Локти опирались на матрас. Руки и длинные пальцы прижаты друг к другу. Рот приоткрыт.
Если бы я приложил ухо к его губам, я услышал бы, возможно, эхо его последней молитвы…
На стене почти исчезли под стекавшей кровью трикветр и шесть слов на краске цвета беж.
К. К. положил руку мне на плечо. Как отец.
Долго стоял я, читая слова:
BJORN BELTO!
MANUSCRIS!
ACUM!

AVE SATANAS!
VIII
СУДНЫЙ ДЕНЬ
1
Аналогично рептилии — из тех, у которых невероятно длинный язык, а глаза смотрят во все стороны, — Маркус Вандерлейден III был помещен в стеклянную клетку, которая очень напоминала террариум. Охранник проводил меня от входа до стеклянной клетки Марка в большом конторском зале. Мы пожали друг другу руки.
— Уже готов перевод, — сказал он и пододвинул мне стул.
— Что там написано?
— Собственно говоря, слова не имеют смысла. Переводчик говорит, что предложений там нет. Между словами нет грамматической связи. Переводчик думает, что люди писали слова независимо друг от друга. И все же… Если соединить слова хронологически и логически, забыть о грамматике и добавить порцию здравого смысла, то получится сообщение примерно такое… — Он поднял листок с письменного стола. —
«Святая кровь! Господин Сатана спит, как труп, в пирамиде и проснется в Судный день. Бьорн Белтэ! Манускрипт! Сейчас! Слава тебе, Сатана!»
Мне потребовалось несколько секунд, чтобы переварить эти слова. Даже с переводом сообщение казалось бессмысленным. Сатана спит, как труп? В какой пирамиде?
— Почему они называют меня?
— Это приказ. У вас манускрипт. Они хотят заполучить его! С помощью Сатаны!
— Чем им поможет то, что они написали мое имя? Кровью? На стене?
— Написав священное послание кровью, они надеялись вызвать Сатану. Они пытались призвать тебя отдать им манускрипт. Магия крови, Бьорн. Молитва, обращенная к Сатане.
Это было смешно. И в то же время довольно пугающе. Любой человек, имя которого было написано кровью умирающим сатанистом, поймет, что я хочу сказать.
— Подействовало? — спросил он наполовину шутливо. — Если подействовало… хоть немного… можешь передать манускрипт К. К.
— Вы на него работаете?
— Yes, sir! Строго говоря, я сотрудник ЦРУ. Но в последние годы я вхожу в состав проекта «Люцифер». — Марк изобразил пальцами когти и сделал страшное лицо. — Формально в посольстве я руковожу отделом геополитического анализа. Но сейчас я полностью занят делами К. К. Раньше я сидел в Лэнгли и в ЦРУ занимался сообщениями, которые «Аль-Каида» передавала через Интернет.
— Так вы тайный агент?
Марк рассмеялся.
— Как видите, — он похлопал себя по животу, — я не агент. Не работаю в поле. Я — бюрократ. Аналитик, работающий за письменным столом. Человек, читающий документы и отчеты и пишущий свои отчеты. Бьорн, давайте обменяемся мячами. Что вы думаете о сообщении, которое они написали на стене?
— Примипил, видимо, знал о предстоящей резне. Он упоминал о сообщении, когда мы с К. К. приходили вчера к нему в камеру. Все было спланировано заранее.
— Интересно. Вы сказали, что поняли, как были совершены убийства?
— Конечно. Но этой информацией я поделюсь с К. К. И он уже решит, надо ли передавать ее ЦРУ.
Маркус поудобнее уселся на стуле, который скрипнул под ним.
— Я расскажу вам, чем мы тут занимаемся. В ответ вы должны будете поделиться со мной информацией, которой у меня нет. Я знаю, что Альдо и К. К. рассказали вам о пророчестве насчет сына Сатаны — Антихриста. Увлекательно. Но притянуто за уши. Чистой воды «Ребенок Розмари», «Изгоняющий дьявола», «Предзнаменование».
[311]
— Какое дело аналитику ЦРУ, работающему против «Аль-Каиды» до теологических теорий о сыне Сатаны?
— Для начала надо расширить перспективу. Вера в Сатану, демонов и злых духов широко распространена в некоторых религиозных, особенно фундаменталистских, кругах. Как бы то ни было, о них написано в Библии, Коране и других религиозных книгах. Если человек предпочитает верить в священные книги буквально, как это делают многие, то дьявол и его демоны непременно должны быть обнаружены. В некоторых сектах и общинах стремление к гибели мира, к Армагеддону глубоко укоренилось. Эсхатология. Учение о конце света.
— В древнескандинавской мифологии это называется Рагнарок,
[312] — добавил я. — Там были боги и йотуны — злые великаны, — которые сражались друг с другом.
— Рагнарок состоит в родстве с Армагеддоном христиан — представлением об окончательной битве между Богом и Сатаной. Это не какие-то пустяки. Почитайте Откровение Иоанна Богослова! Настоящее светопреставление из града, огня и крови, молний и грома, смерти и разрушений! Горячие схватки! Религиозные фанатики воспринимают этот текст буквально — не как аллегорию. Во многих религиях, не в последнюю очередь в христианстве и исламе, Судный день — фундамент веры. Без Судного дня жизнь будет протекать без цели и смысла. Судный день, как ни парадоксально, — ультимативная цель религии.
— Какое отношение все это имеет к Евангелию Люцифера?
— Дракулианцы верят, что Евангелие Люцифера предсказывает не только дату Судного дня, но и его протекание.
Манускрипт, по сути, каталог и руководство к действию. Проблема состоит в том, что очень важные детали описываются только в третьей части. А не в первых двух. В первой части есть формулировка: «Через 1 647 000 дней Земля родится после
harga-me-giddo-dom». Как понять такое предсказание? 1 647 000 дней, как ни крути, очень точное указание времени. Евангелие Люцифера было написано 4500 лет назад. «Через 1 647 000 дней» — это ведь наше время. Это может случиться в любой день, строго говоря.
Manana?[313] В 2012 году? Самое позднее — в 2024? Но вообще,
что такое harga-me-giddo-dom? Армагеддон придет в виде атомной войны на Среднем Востоке? Какие страны будут вовлечены? Иран? Ирак? Пакистан? Израиль? Нападение террористов начнет третью мировую войну? Такие вопросы и смутные толкования получат разъяснение в тексте. Это одна из причин, почему ЦРУ участвует в охоте на загадочный древний манускрипт.
Он продолжил раньше, чем я успел задать вопрос:
— Дракулианцы прочитали текст с точки зрения Сатаны и всеми силами пытаются приблизить конец света. В монастыре в Карпатах они подготовили не только зал, где Сатана оплодотворит блудницу, но еще и родильную комнату и очаровательную детскую, где ребенок дьявола будет расти. Если бы они остановились на этом! О дракулианцах мы все-таки кое-что знаем.
— Разве еще кто-то замешан в этом деле?
— Одна из соперничающих с «Аль-Каидой» экстремистских группировок называет себя «Яум аль-Киямах», что означает «Судный день». Группировку возглавляет исламист-фанатик, сторонник джихада, располагающий огромными финансовыми ресурсами. Как и в случае с дракулианцами, поддерживающие его теоретики нашли в священных текстах многочисленные упоминания о том, что Аллаху нужна помощь правоверных, чтобы Судный день настал.
— Ничего удивительного. Коран почти каждый мулла толкует по-своему.
— Есть и еще много общего. В пятом веке дракулианцы создали понятие
sanctus bellum — священная война, аналогичное джихаду у исламистов. Сейчас две экстремистские группировки: дракулианцы и «Яум аль-Киямах» — нашли друг друга. Можно говорить о партнерстве, пришедшем из ада! Они считают, что Судный день не произойдет сам по себе как результат каприза богов. Поэтому хотят осуществить его от имени богов.
— Как? При помощи террора?
— Очевидно. Но что может быть целью террористической атаки, которая начнет мировую войну? Взорвать бомбу в «Куполе над скалой»?
[314] В здании ООН? На нефтяной платформе? Во время вручения премии мира в Осло? На спортивных соревнованиях вроде Олимпийских игр, чемпионата мира по футболу или Суперкубка?
[315] Устроить химическую или радиоактивную атаку на один из западных мегаполисов? Взорвать, например, «грязную бомбу»
[316] в Нью-Йорке?
На протяжении долгих секунд я представлял себе жуткие картины, одну за другой. Марк перестал говорить.
— Вы молчите, — констатировал он.
— Я размышляю.
— О чем?
— То, что вы мне рассказали, по-видимому, секретно. Совершенно секретно.
— Конечно.
— И тем не менее вы рассказываете это мне. Ни с того ни с сего. Почему?
Марк с удивлением посмотрел на меня:
— Потому что К. К. попросил меня об этом.
2
— Ты просил Марка встретиться со мной?
К. К. бросил на меня усталый взгляд, тяжело вздохнул. Он опустил в своем кабинете жалюзи. Вместо резкого утреннего света комнату наполнял мягкий свет настольной лампы.
— Да? — сказал он. — Что-то не так?
— Почему ты не рассказал мне, что это ты организовал нашу встречу?
Он негромко рассмеялся:
— Ты что же думал, что можешь встретиться с Марком за моей спиной? Что он доверит тебе какие-то секреты, а я не буду об этом знать?
За стеной звонил и звонил мобильный телефон. Лицо К. К. было серым, он явно устал. Слишком долго я видел в К. К. только противника, потенциального врага, того, кто пытается меня обмануть и захватить манускрипт. Ну а вдруг все мои подозрения напрасны и являются лишь последствием моих неврозов? Я не допускал мысли, что К. К. может оказаться четным и искренним человеком.
— Ты очень устал, — сказал я.
— Спасибо за сочувствие. Все хорошо.
— Я знаю, как умерли монахи.
— Неужели знаешь?
— Ты ведь тоже догадался?
— Результаты вскрытия ожидаются с минуты на минуту. Какая теория у тебя?
— Самоубийство.
— Я думаю так же. Вопрос в том, как они его осуществили.
Кто-то стал стучать в дверь так сильно, словно хотел проломить ее. Кулаком.
— Входи, Дик! — крикнул К. К.
Шефа безопасности проекта «Люцифер» звали Дик Стоун,
[317] именно так он и выглядел. Он был такой широкоплечий и мускулистый, что я забеспокоился, достаточно ли ему места в дверях, или он разнесет в пух и прах и дверь, и часть стены, проходя внутрь.
— Что стало известно? — спросил К. К.
— Самоубийство.
— Способ?
— Зубы.
— Зубы?
— Они прокусили вену у кисти.
— Друг у друга?
— Каждый сам себе.
Пауза.
Я содрогнулся и попытался избавиться от картины, которая появилась перед глазами.
— Боже милосердный… — сказал К. К.
— Разве это возможно? — спросил я.
Дик Стоун стоял не шевелясь, будто вопрос касался не его.
— Они принесли себя в жертву, — сказал К. К. — Как мученики
sanctus bellum.
[318] Они пожертвовали собой, чтобы достичь вечного блаженства.
— Сэр? — нетерпеливо сказал Дик Стоун, как будто больше не мог ждать и хотел вернуться в зал вскрытия и рассмотреть все раны подробнее.
Когда Дик покинул нас, я остался сидеть и смотреть на К. К. Наконец я выкрикнул предположение, которое жгло меня с того момента, как К. К. и я стояли в камере Примипила:
— Сообщение монахов тебе о чем-то говорит, ведь правда? О чем-то большем, чем ты мне рассказал?
К. К. пожал плечами, придав лицу притворно равнодушное выражение. Вот теперь я начал узнавать его.
— Мне сообщение кажется непонятным. Но ты что-то знаешь, К. К., я вижу это. Ты знаешь, на что они намекают.
— Если бы я был тобой, я тоже гадал бы и строил предположения.
— Ты рассказывал мне, что у вас есть три гипотезы о содержании Евангелия Люцифера. Три гипотезы. Три части. Три монаха. Три — везде. Ты попросил Марка рассказать мне об одной из гипотез. А как насчет двух других?
— Тебе придется подождать, Бьорн.
— К. К., ты хочешь иметь манускрипт. Но ты ничего не рассказываешь. Я такой же упрямый, как ты.
— Что правда, то правда.
— У меня есть манускрипт. У тебя есть тайны. Если ты хочешь иметь то, что есть у меня, ты должен поделиться со мной. Рассказать все, что ты знаешь!
Под толстыми стеклами очков мои глаза с красными прожилками выглядели, вероятно, ужасно настойчивыми.
— Бьорн… — сказал он, словно добродушный папаша своему строптивому сыночку.
— Я ведь могу уехать домой, чтоб ты знал!
— Не надо упрямиться.
— Я хочу узнать о двух других теориях!
К. К. тяжелым взглядом посмотрел на меня:
— Их изучают в Англии, а не здесь, в Риме.
— Тогда поехали туда!
— В Англию?
— Конечно.
— Бьорн, так дело не пойдет…
Но дело пошло именно так.
Болла стояла во дворе, а К. К. и я летели на «Гольфстриме» из аэропорта Леонардо да Винчи в аэропорт Хитроу.
РИМ
май 1970 года
Он подумал: «Каждый человек — если давление будет достаточно долгим — дойдет до крайности».
Джованни вошел в туалет, встал на колени перед унитазом, его стошнило. Вот так. Стало легче. Захотелось ополоснуть лицо. Кран заскрипел, когда он открыл холодную воду. Она была тепловатой. Набрал воды в руки. Вымыл лицо. Несколько раз. Посмотрел на себя в зеркало.
«Выглядишь ты как труп, Джованни». Лицо распухло, было серого цвета.
Надо побриться. Он встретил в зеркале свой взгляд. Взял в рот из ладошки воды, от которой отдавало хлором, пополоскал и выплюнул. Долго чистил зубы большим количеством зубной пасты. Потом намылил лицо мыльной пеной и стал бриться безопасной бритвой.
Когда Сильване было полторы недели от роду, она заболела, всего через несколько дней после возвращения Лучаны из больницы. Кожа девочки стала мертвенно-бледной и влажной. Она отказывалась от молока матери. Джованни вспомнил бесконечный страх перед тем, что она их покинет. Они обернули ее одеялами и сразу отвезли в больницу на обследование. Врачи дали ей подслащенной воды и оставили для наблюдения на несколько дней. Аппетит появился вновь. Свежий цвет кожи. Но они так никогда и не узнали, что с ней было.
«Разве возможно потерять ребенка, — подумал он, — и остаться после этого жить?»
Гроб…
Он еще раз наполнил руки водой и вымыл лицо. На ватных ногах вошел в кабинет и закрыл дверь. Прислонился спиной к двери. Закрыл глаза. Ему нужно было ощущение нормальной повседневной жизни. Работы. Мыслей без страха, без ужаса от того, что они могли сделать с Сильваной.
Он уселся за письменный стол и нашел список демонов, который раньше с горя скомкал и бросил о стену. Как можно лучше расправил топорщившиеся уголки страницы и положил лист на стол. Выдвинул нижний ящик стола и после некоторых поисков нашел пачку машинописных листов, связанных тематически со списком. Он очень любил делать списки; это была почти идея фикс. Списки приводили все в систему, превращали хаос в порядок. Сколько дней он потратил на сбор материала о демонах и на составление этих списков? Все религии имели собственный каталог демонов. Часами он мог смотреть на членов этой армии дьяволов. У каждого была особая функция, свои качества, своя собственная, очень индивидуальная камера пыток. Некоторые демоны умудрились прорваться в мифологии нескольких религий. Пользуясь старой ремингтоновской пишущей машинкой, Джованни написал:
КАТАЛОГ ДЕМОНОВ
Джованни Нобиле Рим, март 1969
Описок не является полным, он не унифицирован при наличии разных форм написания одного и того же имени (Самиаза может, например, встречаться как Семиазза/Шемиазаз, Кокабиель — вариант Кокб'аэль и т. д.), Лилит представляет группу женских имен; Лилу/Лилиту. Пазузу и Ламашту представляют демонов-богов.
ПРИМЕРЫ МУЛЬТИРЕЛИГИОЗНЫХ ДЕМОНОВ
Абраксас
Асмодаи
Азазель
Бааль
Бафомет
Беельзебуб
Белиаль
Инкубус
Лилит
Левиафан
Ликс
Тетракс
Суккубус
ПРИМЕРЫ ДЕМОНОВ ХРИСТИАНСКОЙ МИФОЛОГИИ
Аамон
Абаддон
Абалам
Агарес
Агромон
Аластор
Аллоцес
Амаймон
Балам
Барбас
Батин
Белеет
Берит
Ботис
Буне
Каим
Кимейес
Крокелл
Кроне
Элегос
Элекша
Фокалор
Форас
Фуркас
Фурфур
Гремори
Гусион
Хальфас
Хаурес
Итеа
Кулак
Лерайе
Роаокаде
Мальфас
Маракс
Марбас
Молох
Мурмур
Нафула
Обизот
Орай
Ориакс
Оробас
Паймон
Фенекс
Процелл
Раум
Сабнок
Саллос
Скокс
Шана
Шакс
Столас
Таммуз
Валефор
Вапула
Вине
Волак
Вуаль
Ксафан
Заган
ПРИМЕРЫ ДЕМОНОВ ИУДЕЙСКОЙ ДЕМОНОЛОГИИ
ААф
Агиэль
Асб'ель
Бехемот
Даньяль
Думах
Кокб'аэль
Лилим
Лилу
Мастема
Наамах
Орниас
Оулотеп
Пенемуе
Румьяаль
Самаэль
Семиазза
Таннин
Йекуон
Зиз
ПРИМЕРЫ ДЕМОНОВ ИСЛАМА
ААд-дажжаль
Аль-А'вар
Иблис
Масват
Шайтан
Тубар
Тсабар
Зальнабур
ПРИМЕРЫ ДЕМОНОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ РЕЛИГИЙ
ААллу
Аммут
Анат
Анзу
Апеп
Асаг
Дагон
Хумбаба
Лабасу
Мот
Пазузу
Нергал
Шезму
Телаль
Утукку
ПРИМЕРЫ ИЗ КНИГИ СТЕРЕГУЩИХ (руководители двухсот падших ангелов)
Самиаза
Аракиба
Рамеель
Кокабиэль
Тамиэль
Раимэль
Даниээль
Эзекеель
Баракиаль
Асаэль
Армарос
Батарель
Ананэль
Закшэль
Самсапеэль
Сатарель
Турель
Йомйаэль
Сариэль
Его взгляд скользнул по списку.
Пазузу. Нергал. Боже мой! Какая бессмыслица! До самого дальнего ада бессмыслица! А
это нормально?
Абраксас. Самиаза. Бафомет. Это его жизнь?
Крокелл. Эзекеель. Работа?
Баракиалъ. ААд-дажжаль. Этот список и есть его специальность?
Аль-А’вар. Ксафан. Как могла эта банда дьявольских бездельников полюбиться ему? Не только полюбиться, но и заложить основу его карьеры, учебы, исследований. Как это стало возможно?
Самсапеэль. Йомйаэль. Кокабиэль.
Беельзебуб. Люцифер. Сатана.
Эль Элохим. Яхве. Иегова. Господь. Бог.
Бог…
Теперь, когда Сильваны не было, он увидел, какой бессмысленной была вся его чертова работа. Сильвана — реальность, подумал он. Она что-то значит. А Бог? Бог был большей реальностью, чем все эти демоны? Эти смешные уроды, эти отвратительные монстры, эти карикатурные отражения человеческого зла. Имя. Только имя. Он мог составить другой список. С другими именами.
Зевс. Осирис. Один. Аполлон. Беллона. Амон-Ра. Пта. Вакх. Тор. Пан. Посейдон. Купидон. Ащторет. Изиз. Юпитер. Анубис. Балдр. Тебо. Локке. Афродита. Ахиджах. Фрейя. Хадес. Ньорд. Муул-Лил. Фригг. Венера. Список вымерших богов был бесконечен. Но Бог, он-то жив еще? Всемогущий и довольный собой. Он смел всех своих конкурентов три тысячи лет назад.
Ты не должен иметь богов, кроме меня! Ладно-ладно. Вас понял. Теология, горько подумал он, это наука ни о чем.
Ни о чем! Изучение исследований, мыслей, истолкований, рефлексий других. Систематизация религиозных представлений. Плод фантазий. Систематизация суеверий. Вечный замкнутый круг. Наука, основанная на предположении, что боги и ангелы существуют. Силы, которые невозможно проверить, исследовать. Наука? Это наука — изучать тексты и мысли о богах и дьяволах, ангелах и демонах, пророках и евангелистах, видениях и откровениях? А если Бога нет? Что остается от теологии? Если Бог — игра воображения, стремление куда-то, то теология — только изучение суеверий и глупости людей. От этой мысли ему стало нехорошо. Стул закачался.
«Думай о чем-нибудь другом, Джованни… О чем?
О чем-нибудь другом». Он подумал: «Господи, почему Ты так далек от меня? Почему Ты не помогаешь мне, когда я в беде? Я кричу днем, Господи, — Ты не отвечаешь.
И ночью тоже, покоя нет». Он посмотрел в пространство. Надо что-то делать. Действовать. Он понял, что Бог не спасет Сильвану.
«Неужели Сильвана, бедная невинная Сильвана должна умереть из-за какого-то манускрипта? Этого чертова манускрипта? Что делать?
Черт побери, что мне делать?» Он заметил, что ужас и бессилие уходят, проявляется разум. Не важно, какую ценность представляет собой Евангелие Люцифера, не важно, какое значение оно имеет для странной религиозной секты, не важно, что в нем есть какая-то информация, — нет ничего важнее Сильваны. Что ему делать? Он должен — может — заставить декана открыть сейф? Но как? Его остановят охранники задолго до того, как он дойдет до выхода.
«Я ничего не могу сделать, черт побери!»
Или же…
«Что сделал бы папа?»
Он смог бы…
Он повернулся на стуле к окну. Он сидел и считал удары сердца.
«Ты утратил Бога, Джованни».
Момент истины.
Поворотный пункт.
Безбожник.
Он попробовал это произнести. Безбожник. Что восклицал Иисус на кресте?
Eli, Eli, lema sabaktani? «Я тоже потерял веру в Бога», — подумал он. Он доверял Господу. Зачем? Ради чего?
«Пусть Бог спасет сейчас Сильвану, если она Ему дорога. Пусть Бог остановит меня, если я Ему дорог».
Джованни стал медленно подниматься, подошел к шкафу, где хранил пистолет, которым папа пользовался во время войны: полуавтоматический пистолет девятого калибра, «беретта М 1934». Когда он сорвал крышку с неоткрытой коробки, ему показалось, что на него обрушилась тьма. Он вынул магазин и зарядил пистолет. Даже Спаситель на кресте дошел до предела… Ему приказывали. Над Ним потешались, издевались, Его третировали. По милости Господа. И громко крикнул Иисус:
Eli, Eli, lema sabaktani?
«Теперь, — подумал Джованни, — я тоже дошел до предела.
Мой Бог, мой Бог, почему Ты покинул меня?»
Отправитель: Примипил
Послано: 15.06.2009 12:32
Адресат: Легату легиона
Копия: Великому Магистру
Тема: Отчет: Лондон
Шифр: S/MIME РКС37
Dominus!
Именем нашего князя я благодарю за доверие, оказанное мне в связи с получением мной поста Примипила. Мы готовы выполнить до конца то поручение, которые было дано нашим храбрым братьям по оружию, мученикам sanctus bellum, мир их праху. По данным брата Раца, Бьорн Белтэ находится в Лондоне. Доминус, на этот раз у нас все получится. Штаб-квартира под постоянным наблюдением. По данным брата Раца, проект «Люцифер» разрабатывается также в Хэмпстеде, Виндзоре, Сэлсберри, Оксфорде и Кембридже. Я предлагаю, чтобы мы вели наблюдение за Коллинзом и Белтэ везде. Что означает, что нам придется разбить группу. Я прошу разрешения на это и ожидаю инструкций Совета старейших.
Примипил брат Черестешиу
IX
АРМАГЕДДОН
ВИНДЗОР
15 июня 2009 года
1
По небесному своду пронеслась падающая звезда. Далекие галактики и звезды поблескивали в темноте Вселенной. Слабо мерцая, Млечный Путь вплывал в неясные очертания тумана.
— Роскошно, правда? — спросил К. К. в восторге. — А как насчет спутника? — Запрокинув голову, уперев руки в бедра, он следил за полетом кометы через небесное пространство. А я полулежал на диване с откидывающейся спинкой и наблюдал за хищной атакой черной дыры на близлежащие вселенные. — Джофф! Спутник!
Через десять секунд в поле зрения появился спутник связи. Медленно и грациозно он проплывал мимо нас, на блестящей поверхности его вспышками отражались солнечные лучи.
— Как видишь, Бьорн, мы можем…
К. К. вдруг замолчал. На заднем плане из глубин космического пространства показался квазар.
[319]
— Джофф? Что это значит? Джофф?
Квазар во всем своем великолепии приближался к нам. Я прилип к стулу. Когда он подошел к нашей Солнечной системе, случилось то, что должно было случиться: квазар взорвался в ослепительной и совершенно беззвучной вспышке света, которая уничтожила Солнечную систему и ее окрестности за десятую долю секунды.
— Опа! — сказал чей-то голос. Это был Джофф. — Прошу прощения.
— Квазар? — воскликнул доктор Ян Максвелл. Он все время стоял, прижавшись к стене в темноте, позади К. К., а теперь выступил вперед, как бог, которого вызвали навести порядок в космическом хаосе. — Извините меня, — сказал он нам. — Одну секунду. Джофф?
Джофф! Какого черта появился этот квазар?
Доктор Максвелл был научным руководителем Виндзорского астрономического института. Рыжие волосы, веснушки, круглые очки. И пластырь на лбу. Во время перелета из Рима К. К. рассказывал мне, каким уважением доктор Максвелл пользуется в астрономических кругах.
В этот момент включили свет.
—
Sorry, sorry, sorry, — продолжал повторять бормочущий голос, целый поток извинений. Голова Джоффа выглянула из высокотехнологичного центра управления планетарием в углублении в центре пола. —
Sorry! Я работал над взрывом квазара до поздней ночи. И по ошибке, видимо, скопировал весь файл в папку нашей Солнечной системы. Позор мне!
— Джофф! — сказал доктор Максвелл с наигранным терпением. — Ты знаешь, так же как и я, что квазар в нашей части Вселенной…
— Знаю, знаю, — прервал его Джофф. — Извините, я немедленно уничтожу этот файл.
К. К. добродушно подмигнул мне:
— Наш планетарий может показывать картины и анимации, рядом с которыми другие планетарии выглядят как домашние кинопроекторы восьмидесятых годов. — Он сел на диван рядом со мной. — Как видишь, Евангелие Люцифера можно прочитать самыми разными способами. Доктор Максвелл несет ответственность за одну из гипотез. Ян, продолжишь?
Моложавый рыжий мужчина подошел и встал перед нами:
— Наше исследование текста связано с теорией, направленной в сторону — скажем так — космического пространства. Мы говорим по-прежнему про Судный день. Но в другом смысле. Некоторые формулировки Евангелия Люцифера заставляют думать о столкновении Земли с астероидом.
2
Несколько секунд было тихо.
— Бьорн? — позвал меня К. К.
В отличие от большинства людей нам, альбиносам, трудно бледнеть. Я не знаю, где в этот момент была моя кровь, но в головной мозг она точно не поступала.
Я не мог думать ясно. Поднял руки в знак того, что мое сердце все еще билось и мне нужно немного времени, чтобы прийти в себя.
— Что именно, — спросил я наконец, — заставило вас думать о страхе перед таким конкретным явлением, как астероиды?
— Дело в двусмысленных формулировках исследуемого манускрипта. Текст написан на чужом для автора языке, которым он к тому же владел не очень хорошо, — сказал К. К.
На экране под потолком появился текст:
ЧЕРЕЗ 1 647 000 ДНЕЙ ЗЕМЛЯ ВОССТАНЕТ
ПОСЛЕ HARGA-ME-GIDDO-DOM
КОГДА НЕБЕСНЫЙ ОБЪЕКТ УПАДЕТ НА ЗЕМЛЮ
НАЧНЕТСЯ НОВОЕ ВРЕМЯ
И НИЧТО НА ЗЕМЛЕ
НЕ БУДЕТ ТАКИМ КАК БЫЛО
— Это из первой части Евангелия Люцифера, — сказал К. К — Той, которую нашли в пещере в Египте в 1970 году. Ее привез в Италию профессор Джованни Нобиле. Слова
harga-me-giddo-dom мы встречали раньше. «Судный день». Аккадское слово «восстанет» можно также перевести как «расцветет» или «проснется».
— А остальное?
— «Небесный объект» немного расплывчато, потому что на аккадском языке это значит всего лишь «что-то, находящееся на небе» или «что-то, пришедшее с неба». «Небесный объект» может быть истолкован как «комета» или «астероид», но может означать и «божество». Нюансы утрачиваются при переводе. Аккадский язык красочен и метафоричен по сравнению с сухими современными языками. Так какое слово выбрать для перевода? Большой объект на небе — это астероид или бог?
Я ничего не сказал. Абсолютно ничего. Когда тишина стала гнетущей, К. К. продолжил:
— Так что, возможно, речь в Евангелии Люцифера идет не об Армагеддоне, вызванном человеком, а о природной катастрофе апокалипсических размеров.
— Астероид, — ответил с опозданием на вопрос К. К. доктор Максвелл. — Если на Землю попадет астероид достаточно больших размеров, то последствия будут катастрофическими. Цивилизация будет уничтожена.
— Почему в 2009 году мы должны учитывать астрономические пророчества тысячелетней давности? — спросил я.
— Наши предки были выдающимися астрономами, — сказал доктор Максвелл. — Астрономия была одной из первых наук, из которой потом выросли философия, математика, физика, химия. Ну и религии тоже. Но это совсем другая история.
— Вопрос хороший, — сказал К. К. — Зачем тратить время, силы и деньги на гипотезу, основанную на манускрипте того времени, когда у людей не было даже бинокля? Как, доктор Максвелл?
— В узком смысле — так. Астрономы в прошлом, возможно, наблюдали комету или траекторию полета астероида и точно зафиксировали время и место его прохождения по звездному небу, так что мы можем использовать данные для вычисления этой траектории. Мы будем знать, когда она столкнется с Землей. Эти траектории могут быть определены по третьей части Евангелия Люцифера. — Доктор Максвелл нажал на кнопку пульта, у которого был вид, по меньшей мере, пульта авиалайнера. Свет стал приглушенным, на своде планетария опять появилось звездное небо. — Есть много видов метеоритов, астероидов и комет. Метеориты — самые маленькие. Большинство имеет размер с песчинку или с камешек, самые большие — до десяти метров.
На экране планетария возникло метеоритное облако, которое превратилось во вспышку пламени и пыли.
— Астероиды — каменные глыбы, пойманные притяжением нашей Солнечной системы, — продолжил доктор Максвелл. — Самые большие — в диаметре достигают нескольких сотен километров.
Появился астероид, неровная гигантская скала, плывущая по космическому пространству.
— Некоторые астероиды пересекают траекторию Земли при ее вращении вокруг Солнца, — сказал К. К. — И среди них очень немногие иногда проходят в опасной близости.
— Кометы, — сказал доктор Максвелл, — еще более проблематичны. — Пультом он вызвал комету с хвостом из пыли и газа. — От астероидов кометы отличает наличие хвоста.
Изображение Вселенной задрожало и сменилось другим, которое было почти таким же.
— Вот так, — сказал доктор Максвелл, — космическое пространство выглядело в Китае 2250 лет назад. Видите комету справа? Комета Галлея — такой ее видели китайские астрономы. В последний раз мы ее наблюдали в 1986 году. В следующий раз это случится в 2061-м.
Изображение на звездном небе дрогнуло, как это бывает при переключении каналов телевизора, — появилась новая комета.
— Комета Галлея вполне предсказуемая, но другие появляются совершенно неожиданно. Комета Хейла — Боппа была обнаружена в 1995 году. Она вернется в 4377 году. Комета Хякутаке прошла мимо Земли в 1996-м. Ее ожидают через сто тысяч лет или около того.
— Как велик риск столкновения кометы с Землей? — спросил я.
На своем пульте доктор Максвелл вызвал анимацию траекторий планет Солнечной системы и перекрещивающихся с ними траекторий астероидов и комет.
— Мы знаем примерно 5500 астероидов около Земли и до 4000 комет, проходящих в окрестностях Солнца.
— Неопасные метеориты встречаются нам все время, — сказал К. К. — Раз в тысячу лет на Землю попадают крупные объекты вроде того, который упал в районе Тунгуски в России в 1908 году. Совсем недавно, в марте этого года, подобный астероид прошел рядом с Землей на расстоянии всего в шестьдесят тысяч километров.
— А в будущем? — спросил я.
— Самый большой и опасный астероид, о котором мы знаем, называется 2007 VK184. Он пройдет мимо Земли или попадет в нее в 2048 году. Проблему составляют не астероиды и кометы, о которых мы знаем. Проблема с теми, о которых мы не знаем. И возможно, Евангелие Люцифера могло бы нам дать предварительную информацию.
— А зачем? Разве можно сделать что бы то ни было, чтобы помешать столкновению?
— Конечно, — сказал доктор Максвелл. — Но нам нужно время. Время планировать защитные мероприятия. Все зависит от размера астероида. Мы можем взорвать его с помощью ядерного оружия. Мы можем помочь ему изменить траекторию. Но чтобы подготовить подобную акцию спасения, нужны годы. Поэтому нам надо знать, когда ожидать такой визит.
— Вот для чего, — сказал К. К., — нам нужна полная версия Евангелия Люцифера.
3
Я смотрел на небесный свод надо мной. Внезапно мне пришла в голову мысль — любознательность у меня в крови, — и я спросил:
— Как вы думаете, есть там жизнь?
— Жизнь? — переспросили К. К. и доктор Максвелл в один голос.
— Да. Разумная жизнь.
— Бесспорно! — сказал доктор Максвелл.
— Конечно, — сказал К. К.
— Фактически астрономы всего мира ищут разумную жизнь изо всех сил, — сказал доктор Максвелл. — Уже в 1960 году астрономы из Корнуэльского университета начали ловить сигналы из района звезд тау Кита и эпсилон Эридана. При помощи радиотелескопа в последующие годы был осуществлен целый ряд проектов SETI —
Search for Extra-Terrestrial Intelligence.
[320]
— Более вероятно предположение, что жизнь где-то в космосе есть, чем то, что ее там нет, — сказал К. К. — Только на небольшом пятачке Млечного Пути астрономы идентифицировали четыреста экзопланет, то есть планет, которые вращаются вокруг своего солнца. В марте этого года НАСА запустила космический зонд «Кеплер» с телескопом и спектрофотометром, который должен помочь нам найти другие экзопланеты. Во Вселенной их миллион миллионов.
Доктор Максвелл продолжил:
— Уравнение Дрейка было создано Фрэнком Дрейком в 1960-е годы, чтобы установить вероятность жизни в нашей Галактике. Не просто жизни, а разумной жизни. Данные ошеломляющие. Джофф! — крикнул он. — Ты можешь вывести на экран уравнение Дрейка?
Вместо звездного неба на потолке появилась формула:
N = R* х fp х nе х fl х fi х fc х L
— Я не буду входить в детали…
— Ладно-ладно.
— …но ограничусь тем, что скажу, что
N определяет шансы появления разумной жизни в какой-то вселенной. Отсюда
N — функция таких астрономических параметров, как количество звезд с системой планет, количество планет, которые потенциально могут развить примитивную и разумную жизнь, и так далее.
— И что в итоге?
— Итог не подлежит обсуждению: абсурдно предполагать, что Земля — единственная планета Млечного Пути, на которой есть разумная жизнь.
РИМ
май 1970
Ожидая, Джованни прислонился к фонарному столбу. В фетровой шляпе и серой хлопчатобумажной куртке, он имел вид безработного исследователя, который бродит вокруг Григорианского университета в надежде устроиться на работу. Велосипед он оставил в узком переулке, таком узком, что преследование на автомобиле было бы невозможно. Темные очки скрывали глаза, которые внимательно наблюдали за всеми входящими и выходящими. Университетский представительский автомобиль «Фиат-2300» подъехал к тротуару, двигатель продолжал работать. Джованни оторвался от фонарного столба и стал медленно приближаться ко входу. Декан Сальваторе Росси вышел вместе с двумя египтянами. Один нес дипломат из черной кожи. Росси сказал что-то, отчего египтянин рассмеялся. Джованни продолжал приближаться. Шофер в униформе, увидев Росси и египтян, вышел из машины и открыл заднюю дверь. Декан ужасно стремился показать уважение к гостям и стал извиняться за убожество автомобиля. Джованни услышал, что он сказал что-то про аэропорт Фьюмичино.
— No problem, — ответил один из египтян, — we have plenty of time.
[321]
Джованни подошел и встал перед ними. Росси и египтяне остановились.
— Джентльмены, — сказал Джованни и сжал рукоятку пистолета в кармане, — мне очень жаль, но я вынужден просить вас отдать мне дипломат с манускриптом.
— Профессор Нобиле? — произнес Росси, ничего не понимая.
— Манускрипт! — потребовал Джованни.
— Это два представителя из Каирского музея, — объяснил декан, как будто Джованни не понял, что тут происходит.
— Я вынужден по причинам, о которых расскажу позже, просить отдать мне манускрипт.
— Не будьте смешным!
Джованни вынул из кармана пистолет.
Египтяне отступили назад.
— Профессор! — воскликнул декан.
— Примите мои извинения.
— Вы сошли с ума?
— Прошу отдать мне манускрипт!
Египтяне обменялись репликами на арабском языке.
— I am very sorry,
[322] — обратился декан к египтянам. Потом обернулся к Джованни, негромко и зло сказал: — Боже милосердный, профессор Нобиле, что вы тут вытворяете?!
— Сейчас я не могу этого объяснить. Но мне нужен манускрипт.
— Какая чушь!
— Дело идет о жизни и смерти.
— Уберите пистолет!
— Я не шучу!
— Возьмите себя в руки, профессор Нобиле! Это очень серьезное дело!
Джованни направил пистолет в сторону египтянина с дипломатом. Тот испуганно подскочил на ступеньку вверх.
— The manuscript! — крикнул Джованни и помахал пистолетом.
Несколько прохожих, увидев пистолет, постарались скрыться побыстрее.
— Профессор! Джованни! Нобиле! — резко произнес декан с ударением на каждом слове.
Джованни подошел к египтянину с дипломатом. Испуганный египтянин поставил дипломат на ступеньку и поднял вверх обе руки. Джованни схватился за ручку. То же самое сделал второй египтянин. Они стали тянуть дипломат каждый в свою сторону. Свободной рукой египтянин попытался ухватиться за пистолет. Джованни отдернул руку. Египтянин стал трясти его за куртку.
— Отпусти! — закричал Джованни по-итальянски.
Египтянин замахнулся.
Выстрел прозвучал, когда кулак египтянина ударил Джованни по плечу. Многочисленные туристы на Пьяцца делла Пилота закричали. Египтянин отпустил дипломат. Распространился резкий запах пороха. Сначала Джованни решил, что выстрел был в воздух.
Чуть не попал! Египтянин опустился. Сел на ступеньку. Тут Джованни увидел, что на блейзере египтянина чуть ниже левого плеча появился кровавый след. Кровь закапала на серые брюки. Египтянин съежился и застонал. На ступеньке стала расти лужа крови.
— Извините, — пробормотал Джованни.
На Пьяцца делла Пилота все замерли. Потом, как по команде, пустились бежать. Кто-то закричал. Раненый египтянин упал на бок.
— Остановите кровотечение! — сказал Джованни второму египтянину. Тут до него дошло, что сказал он это по-итальянски.
Декан Росси стал пятиться по ступенькам, предостерегающе держа руки впереди. Шофер «фиата» давно скрылся где-то на площади. Джованни спустился по лестнице, бросил дипломат на заднее сиденье «фиата», захлопнул дверь, обошел машину и сел за руль. В открытое окно он уже слышал сирену полицейских автомобилей. Поставил первую скорость и попробовал дать газ. Двигатель взвыл. «Фиат» медленно тронулся. Запахло жженой резиной. Тогда он понял, что включен ручной тормоз. Он опустил его. «Фиат» выехал на площадь. Быстро проехал по Виа деи Луччези, потом направо по Виа делла Датариа. По всему Риму звучали сирены.
Выехав на Виа Национале, он встретил несколько полицейских машин и карет «скорой помощи». Но у них, конечно, еще не было информации об автомобиле, скрывшемся с места преступления.
А если его преследовали
эти, похитители, то он избавился от них уже давно.
В нескольких кварталах от дома, за одним мусорным контейнером на сонной боковой улочке, он оставил «фиат». Мотор продолжал работать. Если немножко повезет, то какой-нибудь вор угонит машину и выведет полицию на ложный след. Джованни выбежал на главную улицу и открыл дверь табачного торговца, которого тоже звали Джованни и который поэтому не только стал для него постоянным поставщиком свежего трубочного табака, но и провозгласил себя верным другом и закадычным приятелем на всю жизнь. Дверной колокольчик радостно зазвенел. Торговец, который при росте сто двадцать сантиметров был примерно такой же ширины, сидел на табуретке за прилавком.
— Джованни! — сказал Джованни.
— Джованни! — сказал Джованни.
У них это была любимая шутка.
— Что случилось с твоей шляпой и курткой?! — воскликнул торговец.
— Ты должен мне помочь.
— Всегда готов!
— Я говорю серьезно. Все зависит от тебя!
— Тем более приятно быть в твоем распоряжении.
— Речь идет о жизни и смерти Сильваны. Я не шучу.
Лицо торговца — комплект из седых усов, густых бровей, носа картошкой и глубоких морщин — стало серьезным.
— Что-то случилось с ангелочком? — Он был одним из немногих, кто был очарован Сильваной.
Нобиле протянул Джованни дипломат:
— Можешь спрятать это до тех пор, пока я не приду за ним?
— Конечно, друг мой, конечно.
Торговец взял дипломат.
— Спрячь его получше.
Он вошел в соседнее помещение и спрятал чемодан в шкафу.
— Никому не отдавай, кроме меня.
— Конечно.
— Никому — абсолютно никому, — кроме меня, не отдавай его.
— Понял, друг мой.
— Даже полиции.
Торговец как бы засмеялся, но только одной бровью.
— Потом я тебе все объясню. Я тебе верю!
— Конечно, конечно.
Нобиле вышел через заднюю дверь во двор, потом через подвал на боковую улочку в нескольких кварталах от своего дома. Натянул поглубже шляпу и перебежал на другую сторону улицы. Он предполагал, что
эти держали под наблюдением вход, но он их не видел. Возможно, они сняли квартиру на той же улице и сейчас наблюдали за ним из-за занавески. Он вошел в подъезд и стал подниматься, прыгая через ступеньку. Было без пяти минут четыре.
* * *
Лучаны дома не было.
Ну как ей не стыдно! Она положила на кухонный стол записочку: «Дома нет! Л.» Он подошел к окну в гостиной и посмотрел на улицу. Полиция должна уже быть где-то близко. Он услышал сирену.
«Звони! — подумал он. —
Звони, звони, звони!» — Сирена приближалась, потом прекратилась. Полицейский автомобиль выехал из-за угла и остановился перед входной дверью. —
«Звони же, черт бы тебя побрал!» — Телефон зазвонил в шестнадцать ноль-ноль. Он схватил трубку.
— Времени болтать нет. Полиция поднимается по лестнице. Встреча через полчаса на лестнице Испании! — Джованни повесил
трубку в тот момент, когда полиция стала звонить и стучать во входную дверь.
— Полиция! — кричало одновременно несколько голосов, как будто Джованни жил с ложным убеждением, что они были очень усердными миссионерами. Он открыл окно во двор и выбрался на узкий карниз. От балкона соседа перебрался на пожарную лестницу. Он был уже внизу, когда услышал, что полиция взломала дверь квартиры. Он забежал в подворотню, оттуда вышел на боковую улочку подальше от входной двери. Никто его не ждал.
* * *
Когда появился черный «мерседес», он стоял, спрятавшись за припаркованными автомобилями в тени колонны Девы Марии на площади Тринита деи Монти напротив лестницы Испании. Он сразу увидел, что это
они. Великий Магистр сидел на пассажирском сиденье впереди. Один из молодых монахов был шофером. Они ехали так медленно, что Джованни успел на ходу открыть заднюю дверь и заскочить внутрь, на заднее сиденье, — туда, где сидели гигант и Примипил. Никто не сказал ни слова. Шофер прибавил скорость. Сильваны в машине не было. Он этого и не ожидал. Он только надеялся.
— Я вижу, у вас в руках ничего нет, профессор Нобиле, — сказал Великий Магистр.
— Я не дурак. Где Сильвана?
Они молча проехали несколько кварталов.
— Вы взялись за дело очень профессионально, профессор. Производит впечатление. Мы слышали о происшествии в новостях по радио. Мне и в голову не могло прийти, что вы на это способны.
— На что способен?
— Стать убийцей.
— Он умер?
— Не удалось спасти. Потеря крови, сами понимаете. Человеческое тело очень хрупкое. Оно не создано для того, чтобы в нем пистолетом делали дырки.
Джованни почувствовал пустоту, но эта смерть не слишком взволновала его. Пока… Пока Сильвана не спасена. И все же…
«Я убил человека. Из-за меня умер человек. Я — убийца».
— Вас ищет полиция. Но вы об этом, конечно, знаете.
— Я не хотел его убивать. Это получилось случайно.
— Приберегите извинения до суда.
Они въехали на автостоянку.
— Так что мы делаем? — спросил Великий Магистр.
— Я получаю Сильвану, вы получаете манускрипт.
— Должен вам сказать, что я не считаю вас глупцом, профессор. Я надеялся, что вы тоже уважаете меня.
— В одном вы можете быть уверены: если бы полиция знала, где я, я бы давно был арестован.
По улице проехал полицейский мотоцикл с сиреной.
— Я предлагаю следующее, — сказал Джованни. — Мы едем за Сильваной. Вас в любом случае больше. Вместе с Сильваной мы едем и забираем манускрипт.
Двое на переднем сиденье переглянулись. Великий Магистр кивнул:
— Мы согласны. Хочу подчеркнуть, что и вы, и ваша дочь будете убиты при малейшем отклонении от договоренности. Вы поняли предупреждение?
— Конечно. Для меня лишь Сильвана имеет смысл. Как только увижу, что она невредима, я привезу вас к манускрипту.
Великий Магистр еще раз переглянулся с шофером. «Как будто такая возможность уже заранее была взвешена и обсуждена и все подготовлено», — с беспокойством подумал Джованни.
X
КОД БИБЛИИ
ОКСФОРД
15 июня 2009 года
1
Лаборатория по изучению Евангелия Люцифера располагалась в скромном кирпичном здании, примыкавшем к парку на окраине университетского кампуса в Оксфорде. После долгой поездки из Виндзора я был разбитым и сонным. Наконец К. К. свернул с тихой улочки и остановил автомобиль у невысокого дома, который выглядел как трансформаторная станция, пожелавшая слегка приодеться. Окна были узкими — скорее щели, чем окна, — и «сидели» высоко на стене. Выглядевшая здесь совершенно неуместно решетка окружала дом. Входная дверь была стальной.
Пройдя через ни много ни мало два шлюза безопасности, мы попали в приемную, потом спустились на лифте на третий подземный уровень, где начальник отдела по исследованию текста Евангелия Люцифера Элис Гордон ждала нас у своего кабинета. Ей было чуть за сорок.
— Хотя вы меня не знаете, я о вас хорошо осведомлена, — сказала она, когда мы пожимали друг другу руки.
— У Элис большой опыт по изучению древних манускриптов, — объяснил К. К. — Она работала со «Свитками Мертвого моря» и «Библиотекой Наг-Хаммади», а также с Евангелием от Иуды.
Доктор Гордон провела нас по коридору в пустую аудиторию, которая амфитеатром спускалась вниз еще на два этажа. Откидные стулья мягкие и удобные, как в кинотеатре класса люкс. Свет приглушенный. Доктор Гордон пошла вниз к подиуму, сверху спустился большой экран.
— Карл Коллинз попросил меня познакомить вас вкратце с работой нашей лаборатории и с той гипотезой, которой мы занимаемся. Фактически вы первый посторонний, которому мы рассказываем об этом.
На экране появилась картинка. На ней была изображена первая часть Евангелия Люцифера.
— Как видите, хотя манускрипт напоминает любой другой дохристианский текст, он все же очень сильно отличается от всех остальных. Аккадский текст в левой колонке рассказывает, если его упростить, о жизни иноземца в Вавилоне.
— Сбежавшего туда иудея?
Доктор Гордон покачала головой:
— Он прибыл в Вавилон откуда-то издалека и полностью обосновался в своей новой стране. Он изображает людей и культуру Месопотамии и Среднего Востока с примесью пророческих и апокалипсических видений мифологического и религиозного характера.
Красной лазерной указкой доктор Гордон выделила в правой колонке непонятные символы:
— Мы не знаем, как читать или как истолковывать эти значки. Мы ничего не можем извлечь из них. Решить что-либо без полного комплекта манускрипта — это все равно что решать математическое уравнение, где третья часть знаков отсутствует. Совершенно определенно этот язык не является ни одним из известных в настоящее время древних языков. Что представляют собой значки? Буквы? Числа? Символы? Пиктографические знаки? Идеографические, как в китайском языке? Фонетический алфавит? И вообще, как его читать? У нас есть туманные предположения, но без полного текста они так и остаются предположениями. Есть гипотеза, что символы представляют собой числа или среднее между буквами и числами, — неизвестная нам форма математики, основанная на тексте, а не на числах.
— Многое свидетельствует о том, что автор Евангелия Люцифера имел хорошие знания в области математики, — вставил К. К.
На экране изображение манускрипта сменилось фотографией глиняной дощечки.
— Математика — очень старая наука, — сказала доктор Гордон. — Среди старейших математических текстов, которые нам известны, есть вавилонская глиняная дощечка, которой почти четыре тысячи лет, ее называют «Плимтон 322». Вавилоняне использовали старую, шестидесятеричную систему шумеров, основанную на числе «шестьдесят», остатки которой мы видим сегодня в измерении углов и при указании времени.
На экране появилась новая картинка — крупное изображение символов из правой колонки. Доктор Гордон показала на некоторые значки лазерной указкой:
— Мы попытались предположить, а не являются ли символы закодированным текстом? Но даже самые совершенные компьютеры и шифровальные машины не смогли обнаружить какую-то закономерность при замене символов буквами.
— Наша самая увлекательная теория, — сказал К. К., — имеет связь с гипотезой, выдвинутой в книге
The Bible Code («Код Библии»), вышедшей в 1997 году. Она была написана американским журналистом Майклом Дроснином, но основывается на работах известного израильского математика профессора Элияху Рипса из Еврейского университета в Иерусалиме.
— В своей книге Дроснин — используя многочисленные таблицы, разработанные Рипсом, — утверждает, что пять Моисеевых книг содержат тайный код со скрытыми предсказаниями, — сказала доктор Гордон. — Рипс берет в качестве исходного материала оригинал Торы, написанный на древнееврейском языке. Ликвидировав пробелы между словами, все гигантское количество слов поместили в компьютер на матрицу — сетку, заполненную знаками. Компьютер обрабатывает текст. С использованием математической систематики удаляется определенное количество знаков. Например, удаляется десять знаков, остается один, удаляется еще десять знаков, остается один. Или удаляется каждый седьмой. Или каждый тринадцатый. И так далее. Во всем тексте. Предположительные предсказания становятся читаемыми, когда мы — горизонтально, вертикально или по диагонали — читаем знаки, которые остаются на своих местах в сетке.
— Кажется невероятным, какое количество сообщений Рипс нашел в книгах Моисеевых, — сказал К. К. — Во многих случаях они говорят о современных нам событиях — например, об убийстве Кеннеди
[323] и столкновении кометы Шумахера — Леви с Юпитером.
[324]
— Математики и статистики называют метод Рипса чистым вздором, — сказала доктор Гордон. — Они утверждают, что подобные сообщения и предсказания можно найти также в «Войне и мире»
[325] и «Моби Дике».
[326]
— И все-таки увлекательно читать, какие предсказания они обнаружили при дешифровке, — сказал К. К. — Даже израильская разведка МОССАД заинтересовалась их теорией.
— Автор этой книги в 1994 году поехал в Израиль, чтобы предупредить тогдашнего премьер-министра Рабина,
[327] — сказала доктор Гордон и вывела на экран текст.
В письме Рабину Дроснин написал:
«Один израильский математик обнаружил в Библии скрытый код, который, судя по всему, говорит о событиях, которые произойдут через тысячи лет после создания Библии. Причина, по которой я пишу Вам, состоит в том, что Ваше полное имя, Ицхак Рабин, упоминается в „Коде Библии“ один раз и рядом можно увидеть формулировку: „убийца, который хочет убить“».[328]
— Ни МОССАД, ни Рабин не восприняли предупреждение всерьез, — сказал К. К. — Мы знаем, чем это кончилось. Рабина застрелили год спустя.
— И тогда Рипс и Дроснин обнаружили еще одну сразу обеспокоившую их деталь: имя убийцы — Игаль Амир, которое тоже встречалось рядом с именем Рабина в тексте Ветхого Завета, — сказала доктор Гордон. — В своей книге Дроснин задает вопрос, не на этот ли «код», «печати» Библии дается намек в Откровении Иоанна Богослова.
Доктор Гордон вывела на экран новый текст:
И видел я в деснице у Сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями. И видел я Ангела сильного, провозглашающего громким голосом: кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее? И никто не мог, ни на небе, ни на земле, ни под землею, раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее.[329]
— Или возьмите Книгу пророка Даниила в Ветхом Завете, — вставил К. К.
А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени.[330]
— На какие скрытые сообщения и свитки указывают пророки? — спросил К. К. — Дроснин размышляет, не намекают ли письмена, запрятанные в запечатанную книгу или же в свиток, на существование тайного кода в Библии. Он спрашивает, не является ли современная наука с ее электронными вычислительными машинами ключом, который откроет нам печати. Нельзя ли предположить, что Евангелие Люцифера содержит ключ к тому коду, который необходим, чтобы прочитать скрытые сообщения в Библии?
— Каким образом пророки, которые писали Моисеевы книги, могли иметь хоть малейшее представление о том, что произойдет спустя много тысяч лет после них? — спросил я.
К. К. пожал плечами:
— Если Бог существует, он знает все. И под этим я подразумеваю
все.
— А если Бога нет?
Доктор Гордон поспешила дать изящный уклончивый ответ:
— Чтобы исследовать все гипотезы, касающиеся Евангелия Люцифера, мы создали комиссию, состоящую из представителей разных наук. И теперь разбираемся.
2
После рассмотрения вопросов в аудитории мы спустились еще на один этаж вниз, пройдя через три стальные двери с кодовыми замками и проверкой отпечатков пальцев. В сводчатом помещении-сейфе с черными стенами и неярким освещением — за дверью такой толщины, как будто здесь охраняется американский золотой запас в Форт-Ноксе,
[331] причем дверь открылась только после того, как доктор Гордон набрала две бесконечно длинные цепочки цифр и подошла вплотную к аппарату, который считывал информацию с радужной оболочки глаз входящего, — на полу в центре стояли три металлических пьедестала. Все разной высоты, на каждом — купол из тонированного стекла.
Мы вошли в помещение. Датчик тут же замигал и запищал.
— Температурный контроль, — объяснила доктор Гордон. — Наши тела оказывают влияние на температуру и влажность воздуха. Устройству потребуется несколько секунд, чтобы учесть наше присутствие.
Писк прекратился.
— Даже освещение здесь подобрано специально, — сказала доктор Гордон.
Под стеклом на двух пьедесталах лежали два манускрипта. Третий был пуст.
— Первая и вторая части Евангелия Люцифера, — сказал я.
— Дотроньтесь до стекла, — предложила доктор Гордон.
Я вопросительно посмотрел на К. К., он кивнул и положил мою руку на стекло.
За полсекунды все три пьедестала опустились в шахты под полом, появился стальной лист, который выдвинулся со стороны и закрыл три отверстия. Металлическая решетка опустилась и закрыла выход. Главная дверь захлопнулась. Сквозь звучание сирены я услышал рычащий звук мотора, который запирал дверь. Доктор Гордон открыла дверцу пульта на стене и набрала код. Сигналы прекратились, и теперь они продолжали звучать лишь в моих ушах в виде эха. Металлическая решетка поднялась, дверь тоже пошла вверх, три пьедестала медленно появились из шахт.
Я стал изучать первую страницу манускрипта под стеклом малого пьедестала. Вторая часть Евангелия Люцифера. Даже через толстое прочное стекло я видел, что пергамент такой же, как у третьей части. Мягкий, вечный.
— Вы узнали, как был изготовлен этот пергамент? — спросил я.
— Мы продолжаем наши анализы, — быстро парировала доктор Гордон.
— Но у вас есть какие-то догадки?
Взглядом она попросила у К. К. помощи, тот сказал:
— Главное внимание мы обращаем на содержание. Нас особо не интересовали ни качество пергамента, ни техника его обработки.
— А как с датировкой манускрипта?
— Исходя из содержания, мы думаем, что…
— Я имею в виду радиоуглеродный метод датировки пергамента.
Доктор Гордон переглянулась с К. К.:
— С этим ничего не получилось.
— Чудн
о как-то.
— Да, это действительно странно.
Они опять переглянулись.
Отправитель: Примипил
Послано: 15.06.2009 18:22
Адресат: Легату легиона
Копия: Великому Магистру
Тема: Отчет: Оксфорд
Шифр: S/MIME РКС37
Dominus!
Бьорн Белтэ обнаружен в Лондоне. Усиленная американская охрана во всех местах, где появляются Б. Белтэ и К. Коллинз. Вынуждены поэтому всесторонне изучить систему охраны, прежде чем похищать Белтэ.
Примипил брат Черестешиу
XI
МОЛЬБА
ОКСФОРД
15–16 июня 2009 года
1
Я думал, что мы вернемся в Лондон, но К. К. настоял на том, чтобы переночевать в Оксфорде. В нескольких кварталах от лаборатории руководство проекта располагало аристократической виллой с квартирами и гостиничными номерами люкс. К. К. поселился в трехкомнатной квартире на втором этаже. Я получил гостиничный номер люкс на третьем.
С нового адреса
Hotmail я послал электронное письмо Трайну, чтобы убедиться в том, что с ним и с манускриптом все в порядке. После этого я рассказал инспектору Хенриксену обо всем происшедшем, включая мое нынешнее местопребывание. Он ответил сразу же. Норвежская полиция, написал он, получила информацию от итальянской уже вчера утром. Полный отчет итальянской полиции ожидается в течение ближайших недель. Расследование убийства Кристиана Кайзера было приостановлено. «По-видимому, виновные избежали наказания», — лаконично написал Хенриксен. «Или наказали себя сами», — подумал я.
Закончив переписку, я уничтожил все ее следы в памяти компьютера. На всякий случай.
Когда через три четверти часа я вошел в гостиную, там сидела Моник с рюмкой шерри, а К. К. вводил ее в курс событий последних дней.
— Моник! — воскликнул я с плохо скрываемым восторгом.
«БЬОРН!» — написала она неровными заглавными буквами в своем блокноте.
Радость от встречи с ней была огромной, я хотел прижать ее к себе и, как щенок, виться у ног, виляя хвостом. Но ограничился тем, что слегка обнял. Потом придал лицу сочувственное выражение и спросил, как дела у Дирка.
«Не очень хорошо».
— Ему хуже?
Еще до того, как я задал вопрос, я знал, какой будет ответ. Моник кивнула. Посмотрела на меня. Как будто ей не хотелось говорить.
— Говори-говори, — сказал К. К. и тут же поправился: — Напиши.
«Дирк хочет с тобой поговорить».
— Дирк? О чем?
«Сам знаешь».
У Моник был с собой ноутбук со встроенной веб-камерой, она поставила его на стол перед нами. Включив скайп, вызвала Дирка по списку контактов и открыла окно диалога. Установилась связь. Я увидел на экране ноутбука руку, которая покрутила, настраивая, камеру. Хриплый голос Дирка произнес:
— Вот так. — Изображение сбилось, теперь экран показывал стену и спинку кровати. Дирк еще покрутил камеру, и в центре кадра появилось его лицо. Лицо умирающего. — Привет, Моник. Вот так свидание! Модерновые технологии! Привет, Карл!
— Дирк! — поздоровался К. К.
Они знакомы?
Дирк откашлялся, чтобы прочистить горло.
— Бьорн, спасибо, что согласились поговорить со мной. Как вы знаете, я болен.
— Знаю, Дирк. Знаю.
— В будущем году мне исполнилось бы восемьдесят лет. Подумать только! Но у меня нет будущего года. Я не хочу быть слишком сентиментальным и вызывать к себе жалость, Бьорн, однако каждый день может оказаться для меня последним. Так обстоят дела. И я примирился с судьбой. Все мы умрем. Рано или поздно приходит наш черед. Жизнь — всего лишь оттягивание неизбежного. Мне не страшно.
Никто из нас ничего не сказал. Моник тихо плакала и шмыгала носом.
— Verdorie,
[332] — продолжил Дирк. — Я не собирался быть таким помпезным и мелодраматичным, простите.
— Все в порядке, Дирк, — сказал К. К., — не думай об этом. Ты хотел сказать что-то Бьорну?
— У некоторых из нас есть в жизни миссия. Цель. Смысл всей жизни. Для меня таким смыслом было Евангелие Люцифера. Я понимаю, Бьорн, что вы не хотите отдавать манускрипт. Вас терзают всякого рода сомнения. И они должны быть. Это неизбежно.
Я ничего не смог ответить на его слова. Когда слышишь такие вещи, волнуешься. Дирк, что говорить, был на пороге смерти.
— Я вас умоляю, Бьорн.
Он смотрел на меня с экрана:
— Я прошу вас отдать манускрипт К. К. — Карлу Коллинзу. Он — человек, которому можно доверять.
Что-то оборвалось во мне и покатилось куда-то в пропасть. Прозрение. Прозрение…
Отдайте манускрипт К. К.
Карлу Коллинзу…
Он — человек, которому можно доверять…
Дирк… К. К…
То, что они знали друг друга, было очевидно. Они знали друг друга все это время.
Если Дирк действовал заодно с К. К., означало ли это, что Моник тоже действовала с ними заодно? Я долго думал. Пытался разобраться. Посмотрел на Моник. Она отвернулась.
— Вы знаете друг друга? — спросил я, обращаясь наполовину к Дирку, наполовину к К. К.
— В некоторой степени, — сказал Дирк.
К. К. молчал.
В некоторой степени.
Признание Дирка вмещало бесконечно много, гораздо больше, чем эти три слова. Существовала связь между Дирком и К. К. и тем самым между ними и Моник.
Моник положила свою руку на мою. Я отодвинул ее.
— Бьорн, — сказал Дирк, даже не догадываясь, какой душевный хаос вызвало его признание во мне. — Я понимаю, что мы знаем друг друга недостаточно долго для того, чтобы я осмелился просить вас отдать манускрипт
ради меня. И все же я сделаю это. Поверьте, я готов молиться на вас, если бы это помогло делу. Я выполз бы из этой кровати и на коленях стал бы молить… если бы только молитва умирающего могла вас тронуть. Но я знаю, что вы крепкий орешек, Бьорн. Некоторые называют вас упрямцем.
Последние слова он произнес с обезоруживающей улыбкой. Он, конечно, был прав.
— Много лет тому назад, в другое время, в другом мире, я был точно таким же, как вы, — продолжал Дирк. — Честолюбивым, любознательным, уверенным в себе. Я понимаю, почему вы медлите. И тем не менее умоляю вас. Я посвятил свою жизнь Евангелию Люцифера и хочу увидеть загадку разгаданной до того, как умру. Я так хочу узнать… — Пауза. — Я готов пойти на обмен, если угодно. Я могу рассказать, почему Джованни Нобиле, итальянский демонолог, вел себя так иррационально. Вам пригодятся эти сведения. В качестве обмена любезностями вы выполните и мою просьбу. — Дирк не стал ждать моего ответа. — Я могу рассказать вам о Нобиле и просто так. Вы, должно быть, слышали, что его сочли сумасшедшим. Он застрелил четверых. После этого он исчез вместе с Евангелием Люцифера. Вот то немногое, что мы знаем. Но никто не спрашивает, почему он это сделал.
Почему, Бьорн? Почему Евангелие Люцифера превратило уравновешенного теолога Джованни Нобиле в убийцу? Почему он стрелял и убил четверых? Почему манускрипт был для него таким важным? Никто не задавал этот напрашивающийся сам собой вопрос.
Почему? Полиция, СМИ, публика — все спрашивали,
что случилось. Как? Где? Но никто не спросил:
почему?
— И почему?
Дыхание Дирка стало похожим на шелест листьев под дуновением осеннего ветерка.
— Ты уже знаешь, что дочь Джованни Нобиле исчезла вместе с ним. Ее звали Сильвана. Очаровательная маленькая девочка. Десяти лет от роду. Сильвана… Никто не знает, что религиозные фанатики похитили ее.
— Дракулианцы?
— Конечно.
— Из-за манускрипта?
— Чтобы заставить Джованни Нобиле отдать его им.
— Он отдал?
— Нет.
— Что с ней стало?
— Они похитили ее около школы и спрятали в гроб, в саркофаг, находившийся в заброшенной часовне при монастыре на окраине Рима.
— Что вы такое говорите? Десятилетнюю девочку?
В гроб?
Как люди, даже если это дракулианцы, могли опуститься так низко?
— Что с ней случилось? Не говорите, что она умерла в гробу!
Дирк продолжил, не обращая внимания на вопрос:
— Для ордена дракулианцев все это было извращенной формой религиозной церемонии, осуществлением древних пророчеств. Вера ослепила их. Сделала беспощадными.
Я перевел взгляд с экрана ноутбука на К. К., который смотрел на меня бесстрастным взглядом ученого.
— Не могу поверить, жизнь не может быть такой жестокой… — бормотал я.
— В гроб… — повторил Дирк.
— Но что случилось с девочкой? Вы расскажете, чем все кончилось? — Во рту у меня пересохло. — Девочка умерла? Что стало с Джованни Нобиле?
Через сеть кабельных линий между Амстердамом и Лондоном Дирк смотрел на меня отсутствующим взглядом умирающего человека.
— Об этом, — сказал Дирк ван Рейсевейк со вздохом, сопровождаемым хлюпающими звуками, — история умалчивает.
2
— Я должен задать тебе вопрос, Моник.
К. К. покинул нас. Его вызвал начальник службы безопасности. Мы с Моник остались сидеть в гостиной. Она взяла блокнот и вопросительно посмотрела на меня.
— Я ничего не понимаю, — признался я. — К. К. и Дирк знают друг друга?
«Да», — написала она. Буквы на бумаге словно плясали, — если бы она могла говорить, вероятно, голос Моник дрожал бы.
— Это значит, что ты все это время знала К. К. и Альдо Ломбарди?
«Немного».
— В чем заключалась твоя роль?
«Ты мне не доверяешь?»
— Зачем Дирк попросил тебя сопровождать меня?
«Ему было трудно отослать меня. Но он знал, что ключ к загадке у тебя».
— И поэтому он был готов использовать тебя? Чтобы ты со мной…
«Дирк уверен, что ты человек достойный».
— Но… зачем?
«Его удерживает в жизни только одна вещь — надежда узнать!»
— Что узнать?
«Нужно ли было это все?»
— Что — все?
«Исследования. Самоотречение. Весь этот труд. Из года в год. О господи! Как я ненавижу этот манускрипт! — Восклицание было неожиданным. Буквы стали большими, кончик пера застрял в бумаге. — Дирк может умереть в любую минуту…» — продолжила она. Перо стало писать спокойнее.
— И поэтому ради душевного покоя Дирка я, по-твоему, должен отдать ему манускрипт?
«Они… — написала она и зачеркнула. — Мы — не злодеи. Мы хотим добра. Все до одного. Верь нам. Верь Дирку. Верь К. К. и мне».
Кончик пера повис над бумагой в нескольких миллиметрах, потом она продолжила: «Где манускрипт?»
3
Вернувшись, К. К. рассказал, что были замечены четверо мужчин в подозрительном автофургоне, который стоял чуть дальше по улице. Когда к ним приблизились два охранника, фургон рванул с места и заехал в соседний тупик, выезд из которого был заблокирован мусоровозом со спущенным передним колесом. Из фургона начали стрелять в охранников К. К. Когда позже на место происшествия прибыла полиция, все четверо уже были мертвы — выстрелили друг за другом себе в голову. Из одного пистолета.
На шее каждого были обнаружены бронзовые амулеты, с отчеканенными на них трикветром с одной стороны и пентаграммой с другой.
4
Моник уехала к Дирку на следующий день утром.
Я не знаю, был ли причиной ее отъезда страх, что Дирк умирает, или же они поняли, что ее пребывание рядом со мной больше ничего им не даст.
Или же она просто не хотела меня видеть.
Когда я спустился из номера, направляясь на завтрак, она стояла в вестибюле, уже в пальто и с чемоданом.
Дежавю.
Я остановился и несколько секунд смотрел на нее, пока она меня не заметила. Она кивнула в качестве безмолвного подтверждения того, что, покидая меня, оставляет и охоту за Евангелием Люцифера. И, вновь почувствовав, что не смогу совладать с голосом, я ничего не сказал ей. Лишь подошел к ней и похлопал ее по плечу.
«Мне надо домой!» — написала она.
— Понимаю.
«Дирк».
Вошел К. К.:
— Автомобиль подан. Доброе утро, Бьорн.
Он понес ее чемодан на улицу.
— Вы в безопасности в Амстердаме? — спросил я. — Ты и Дирк?
Она кивнула.
«Еще одно, — написала она. — Не важно, что ты думаешь обо мне. Я всегда буду твоим другом. Всегда. Ты мне очень дорог».
Я не ответил.
«Ты не доверяешь людям, Бьорн. Ты всегда противопоставляешь
себя другим. Бьорн против черни! Если есть возможность что-либо понять неправильно — намерение, мотив, — ты обязательно выберешь самый худший вариант. Но ведь не всегда окружающие тебя люди — твои противники и враги. Мы, другие, не всегда имеем злой умысел. Подумай об этом».
Это была самая длинная запись, которую я до сих пор видел в ее исполнении.
Она встретилась со мной взглядом. Ее глаза были полны слез. Мои — тоже.
«Может быть, уже очень скоро ты начнешь верить людям, Бьорн Белтэ».
Она печально улыбнулась и протянула мне руку. Я пожал ее нежную маленькую ручку.
— Прощай! — сказал я.
Все, что человек ценит в жизни, преходяще. Красота. Любовь. Преданность. Ничто не существует вечно.
Долгое время после того, как Моник ушла из здания и из моей жизни, я стоял и думал о том, что она написала в своем маленьком линованном блокноте.
Может быть, уже очень скоро ты начнешь верить людям, Бьорн Белтэ.
5
— Ты — крепкий орешек, — сказал К. К.
— Знаю. Мне это уже говорили.
Мы сидели в гостиной с коньяком. Со времени отъезда Моник прошло десять часов. Мне ее не хватало. Сознание того, что она меня провела, а я ее обидел, лишь усугубляло мое скверное настроение.
Я никак не мог выбросить из головы ее слова.
Может быть, уже очень скоро ты начнешь верить людям, Бьорн Белтэ.
— О чем ты думаешь? — спросил К. К.
— Почему ты не рассказывал мне все, что знаешь о Евангелии Люцифера?
— В соответствии с действующим законодательством я вынужден соблюдать режим секретности. Если бы я рассказал тебе то, что я знаю, меня стали бы преследовать по закону.
— Но ведь что-то ты мне рассказал.
— У разведчиков существует такое понятие: дозированная информация.
— Что это значит?
— Никогда не говори больше того, что абсолютно необходимо. Давай объекту информацию пункт за пунктом. Не давай новой информации, пока это не станет необходимо. Имей всегда что-то в запасе как материал для переговоров.
— Ты мне не доверяешь?
— Конечно, я доверяю. Ты можешь раздражать, особенно когда ты не в духе, что, впрочем, бывает довольно часто. Но ты мне нравишься.
— Давай будем честны друг с другом.
— Хорошо.
— Проект «Люцифер» в ведении ЦРУ?
— И да и нет. По большей части — нет. С технической точки зрения мы независимы от них. Но для того чтобы общественность не копалась в нашем бюджете, мы получаем финансирование через ЦРУ. Мы отчитываемся перед ними о наших делах. И что самое важное: весь их аппарат — технологические разработки, штаб, агенты — находится в нашем распоряжении. По особому распоряжению президента США.
— И перед кем конкретно ты отчитываешься?
— Перед особой группой лиц.
— Кто они?
— Это секретная информация, извини.
— Как ты можешь чего-то ожидать от меня, если ничего не даешь взамен?
— Позволь я ограничусь замечанием, что во главе группы стоит президент.
— И это из-за какого-то манускрипта, которому несколько тысяч лет?
— Из-за его содержания и связанных с ним последствий.
— Почему-то мне кажется, что наш старый добрый Сатана не играет тут главной роли.
— Играет, но лишь второстепенную.
— Какую часть выданной мне информации составляют ложь и дезинформация?
— Ты не понимаешь. Мы не лгали тебе ни в чем. Наши гипотезы реально существуют, и мы их действительно разрабатываем. Конечно, мы не тратим ни времени, ни сил на какие-то довольно неясные предположения, связанные с Евангелием. Но мы не лгали.
— И все-таки ты знаешь гораздо больше, чем знаю я, верно?
— Да.
— Значит, ты признаешь, что придержал часть информации?
— Да.
— И это правда, что вам, чтобы дойти до цели, нужна моя часть манускрипта?
— Да. Мы многое знаем на основании двух частей, которые у нас есть, но без третьей нам не продвинуться дальше.
— Иными словами, вы попали в ситуацию, которая называется
deadlock. Тупик.
— Бьорн, у меня есть к тебе предложение. Я думал об этом уже давно. Подумай и ты, прежде чем ответить.
— Какое предложение?
— Ты не хочешь присоединиться к нам?
— К «нам»? Кто эти «мы»?
— Проект «Люцифер».
Предложение ошеломило меня. Такая мысль никогда не приходила мне в голову. До сих пор я испытывал только недоверие и совершенно необоснованные подозрения к К. К. и проекту в целом. Я знаю, что временами бываю странным и дьявольски упрямым. Неужели мне — Бьорну Белтэ, старшему преподавателю по специальности «археология», слабонервному мужичонке из крохотной Норвегии — предлагают влиться в ряды суперсекретной научной организации с доступом ко всевозможным технологиям и военизированным ресурсам?
Эта мысль показалась мне абсурдной… Возбуждающей… Увлекательной…
— Что скажешь, Бьорн?
— Если ты озвучишь нечто подобное своему начальству, они умрут со смеху.
— Не скажи. Ежегодная конференция проекта «Люцифер», где принимается решение о принятии в организацию новых членов, дала зеленый свет для включения тебя в наш состав. Твоя биография, твой опыт и не в последнюю очередь твои профессиональные заслуги были в твою пользу.
— Не говоря уже о том, что у меня есть манускрипт, который вам нужен.
— Конечно.
Должен сказать правду. Предложение было лестным. Они хотели вовлечь меня в проект. Они хотели, чтобы я стал членом их эксклюзивной, совершенно секретной группы ученых. Меня приглашали вступить в эту группу.
— И ты уже поднимал этот вопрос… на вашей ежегодной конференции?
— Все формальности улажены. Чего недостает — это твоей подписи на обязательстве соблюдать секретность и быть верным интересам проекта. Ты будешь подчиняться непосредственно мне. Тебя уже проверили. Я буду нести за тебя персональную ответственность, Бьорн.
Мысль о том, что я стану частью проекта, открыла у меня в голове какую-то калитку, о существовании которой я даже не подозревал, как не подозревал, куда она может привести.
— Если ты предпочтешь присоединиться к нам, стать членом команды, я смогу рассказать тебе больше. Гораздо больше.
Членом команды…
— Мне нужен хороший археолог… У меня навалом толковых археологов, работающих непосредственно на самих раскопках. Но мне нужен личный консультант, археолог, который был бы моей правой рукой и был бы в состоянии помогать мне.
— На каких раскопках?
— О!.. — с восторгом сказал К. К. и откинулся назад. — Это всего лишь самые увлекательные археологические раскопки в мировой истории, которые далеко задвинут в тень даже находку Картера
[333] — захоронение Тутанхамона. Эти раскопки, Бьорн, откроют новую эру в истории Земли.
6
Последнее заявление прозвучало так невероятно, так преувеличенно грандиозно, что я понял: каждое слово было правдой.
— Но что вы ищете?
— Бьорн Белтэ, хочешь взять свою лопату, и свои кисточки, и свою проклятую ершистость и начать вместе со мной искать нечто совершенно фантастическое?
— И тогда ты мне расскажешь все? Если я скажу «да», ты мне расскажешь все?
— Когда придет время, — пробурчал он. — Не забывай о дозированной информации.
— А это не обман, К. К.?
— Нет, Бьорн, это не обман. Где манускрипт?
— Подожди-подожди. Я должен все уяснить для себя. Если я отдам тебе манускрипт, то меня включат в проект «Люцифер»?
— Точно так.
— И я приму участие в археологических раскопках?
— Точно так.
— И ты ничего от меня не будешь скрывать?
— На протяжении проекта ты узнаешь все.
Я проглотил слюну. С трудом. Сердце билось. Громко.
— Так что скажешь? — продолжал он давить на меня. — Мы договорились?
Я подумал о Кристиане Кайзере. О Тарасе Королеве.
О Мари-Элизе Монье. О моем долге перед ними.
Я мог бы продолжать молчать. Я мог бы продолжать вести мою частную маленькую борьбу за манускрипт. Бьорн — неутомимый рыцарь.
Или прямо сейчас мне нужно было начать верить людям.
И двигаться дальше.
«Может быть, уже очень скоро ты начнешь верить людям, Бьорн Белтэ».
Я могу стать частью научного сообщества. Добровольно, преисполненный вновь обретенным идеализмом, воссоединиться с человечеством.
— Бьорн?
Я встретился с К. К. взглядом, набрал воздуху в легкие и ответил:
— Манускрипт в Исландии.
7
Признание принесло мне чувство облегчения, неотвратимости и любопытства к тому, что случится дальше. Я думал, что раскаяние настигнет меня тут же. Но нет. Зато появилось ощущение, что я поступил правильно. Прекрасное ощущение.
Неподдельное удивление К. К. свидетельствовало, что об Исландии даже он не думал. Одновременно я увидел у него на лице облегчение, радость, удовлетворение.
— В Исландии? — повторил он.
— В Рейкьявике. В безопасном месте.
— Насколько безопасном?
— В защищенном от огня и взлома.
Он ненадолго задумался.
— Ну конечно! — воскликнул К. К. наконец. — В Институте Аурни Магнуссона?
— О манускрипте знают только несколько ученых. Людей, которым я полностью доверяю.
— Когда поедем за ним, Бьорн?
— Что касается меня, то в любой момент.
— Я попрошу пилотов быть готовыми к вылету завтра утром.
8
— Ну вот, К. К., — поговорил я в напряженном ожидании, чувствуя, что кровь все быстрее бежит по жилам, — теперь наступил твой черед. Что ты до сих пор скрывал от меня?
В точности так же, как раньше я сам, К. К. стал тянуть с ответом, как будто истина никак не хотела появляться на свет. Лучше, чем кто-либо другой, я сознавал, как трудно выдать тайну, которую носишь в себе очень долго.
— Что ж, позволь, я начну с небольшого введения, которое даст возможность двигаться дальше.
Из внутреннего кармана он вынул бумажную копию одной страницы Евангелия Люцифера.
— Посмотри на эти значки в правой колонке, которые кажутся совершенно непонятными.
—
Кажутся непонятными?
— В древности никто не мог их расшифровать. Лишь в двадцатом веке цивилизация достигла такого технологического уровня, который позволил оценить, что лежит перед нами.
— Каким образом?
— Я знаю, это прозвучит невероятно. Но значки в правой колонке лучше всего можно охарактеризовать как код некой примитивной компьютерной программы.
— В манускрипте, которому несколько тысяч лет?
— Если говорить еще точнее, эта примитивная программа задает точки системы координат. Но без чисел, которые имеются во всех трех частях манускрипта, мы не можем приступить к поискам.
— Поискам чего?
Он помолчал, прежде чем ответить. Он понимал, что ответ прозвучит как нелепость:
— Бьорн. Мы ищем руины Вавилонской башни.
— Библейского сооружения, которое разрушил Бог?
— Моисей имел склонность к преувеличениям. Башня разрушилась сама по себе.
— Я всегда считал, что Вавилонская башня существовала лишь в мифологии.
— Нет, если верить Библии.
— Если верить Библии, Земле шесть тысяч лет.
— Как и многое другое в Библии, Вавилонская башня — символ, который выражает не только себя, но и нечто гораздо большее. В Библии Вавилонская башня символизирует тщетные усилия человека проникнуть в рай. Если человек не попадает туда путем спасения, то может построить высокую башню и забраться по ней наверх. Бог возмутился. Он разнес башню на маленькие кусочки и наказал людей, дав им множество разных языков. Трудных, непонятных языков.
— Как немецкий.
— Но как ты понимаешь, любая мифология уходит корнями к забытым истинам. Висячие сады в Вавилоне существовали на самом деле и были одним из семи древних чудес света. Но то, что мы ищем, не библейская версия Вавилонской башни. На камнях тех руин ты не найдешь отпечатков пальцев Бога. Мы же ищем остатки совершенно конкретного, физически существовавшего сооружения, возведенного в Вавилоне много тысяч лет тому назад.
— Башни, которая поднималась до самого неба?
— Писавшие Библию были вынуждены приукрашивать ее размеры, чтобы подчеркнуть свои претензии. И не только они. На протяжении веков башню изображали множеством фантастических способов. Преувеличение свойственно любой религии и любой мифологии. Пример — высота башни. Или то, что она была покрыта золотом, серебром и драгоценными камнями. Греческий историк Геродот — отец истории — описывает какую-то башню в восемь этажей с фундаментом в двести квадратных метров. Восемь этажей представляли собой восемь башен все меньшего и меньшего размера, поставленных друг на друга. На внешней стороне спиралью шла лестница, или дорожка, которая поднималась вплоть до алтаря на вершине. Да, в Вавилоне существовала высокая красивая башня. Но ее разрушил не Бог. А Время.
— Сколько ей лет?
— Мы не знаем, когда Вавилонская башня была построена. Или когда она рухнула. Но утверждают, что она существовала с древнейших времен. Если Геродот описывал Вавилонскую башню, то он, возможно, побывал в Этеменанки — зиккурате,
[334] возведенном в честь бога Мардука.
— Зачем ее возвели?
— Основываясь на местной традиции и способах строительства, мы предполагаем, что Вавилонская башня была зиккуратом, башней — храмом пирамидальной формы с террасами и лестницами. Вавилоняне считали, что боги жили в зиккуратах, чтобы быть поближе к людям. Задачей жрецов было заботиться о благе богов. Только жрецы имели доступ во внутреннее помещение, в фундаменте башни.
— И неизвестно, кто ее построил?
— Тут нам снова приходится домысливать. Хотя напрямую это не сказано в Библии, принято считать, что строил башню Нимрод.
[335] Уже в 94 году иудейский историк Флавий Иосиф в историческом труде
Antiquitates Judaicae («Иудейская древность») написал, что Нимрод построил башню, которая вызвала гнев Бога. По словам Моисея, Нимрод первым создал огромное царство после Всемирного потопа. Ты знаешь, кем был Нимрод?
— С ходу не могу сказать.
— Нимрод был правнуком Ноя.
Так как я не отреагировал, он добавил:
— Ной! Построивший ковчег!
— Я знаю, кто такой Ной. Но мне кажется, что это подтверждает мое предположение, что башня — нечто из области мифологии.
— Ты ошибаешься, Бьорн. Вскоре ты узнаешь, насколько ошибаешься. И кроме того, мы ищем не саму башню. А то, что в ней находится.
Во мне вспыхнуло пламя любопытства. Стремление понять. Стремление узнать.
— И что же в ней находится?
— Не пришло время, Бьорн.
— Дозированная информация?
— Дозированная информация!
— И вы хотите найти руины Вавилонской башни при помощи компьютерной программы, написанной несколько тысяч лет назад…
— Да,
мы, Бьорн,
мы хотим найти руины Вавилонской башни при помощи компьютерной программы, написанной несколько тысяч лет назад. И это, — добавил К. К. с глубоким вздохом, — всего лишь начало.
XII
ВОРОТА БОГА
РЕЙКЬЯВИК-ОКСФОРД
17–24 июня 2009 года
1
На следующий день, в среду, К. К. и я вылетели в Исландию. Вместе с нами в самолете «Гольфстрим» находилось два телохранителя. Дуг и Дункан из «Морских котиков». Ни тот ни другой за все время не сказали ни слова.
Трайн встретил нас в аэропорту. Дуг и Дункан ехали на машинах сопровождения, предоставленных американским посольством. На «форде-бронко» Трайн провез нас по пустынному, продуваемому ветром лунному ландшафту между аэропортом Кеплавик и Рейкьявиком. В страшном волнении он рассказывал об оригиналах, найденных в саркофаге в Скаульхольте. Исландские археологи нашли не только утраченный текст «Саги о Гуннаре» и первоначальный вариант «Саги о Ньяле», которые в XIII веке были соединены в то, что мы теперь знаем как «Сага о Ньяле», — но еще и большое
количество других, ранее неизвестных и очень интересных и важных для становления исландской культуры текстов.
В Институте Аурни Магнуссона Трайн провел нас по винтовой лестнице к хранилищу манускриптов в подвал. За толстой тяжелой стальной дверью с кодовым замком сохранялись письменные свидетельства истории Скандинавии и самые старые из рукописей Исландии.
Манускрипт, который я ему доверил месяц назад, был спрятан в картонной коробке, предназначенной, судя по надписи на ней, для «Саги об Эйнаре Скуласоне». Трайн открыл плоскую коробку и отодвинул слой защитной шелковой бумаги.
Евангелие Люцифера.
— Узнали что-нибудь новое? — спросил Трайн.
— Не очень много, — сказал я уклончиво. Дозированная информация…
— Как вы знаете, — он перевел взгляд с К. К. на меня, — мы подвергли анализу материал.
— Да, и что? — спросил К. К. с заметным беспокойством.
— Раньше мы предполагали, что материал — пергамент. Обработанная шкура животного. Но оказалось, это не так.
— Но что же это тогда? — спросил я.
— Понимаю, что звучит это довольно странно, но наши химики говорят, это синтетика.
— Синтетика? — повторил К. К. раньше, чем я успел отреагировать.
— Я же сказал, видимо, в анализы вкралась какая-то ошибка. Но мы не можем понять, в чем она.
Он снова положил шелковую бумагу на манускрипт и закрыл картонную папку.
— Спасибо за доверие, — сказал Трайн, протягивая мне папку с манускриптом.
Честно говоря, вид у него был радостный: наконец он отделался от всего этого.
2
В тот же день к вечеру мы вернулись в Англию. Вертолет доставил нас из Хитроу в лабораторию в Оксфорде.
Все сотрудники лаборатории — три палеографа, математик, специалист по шифрам и кодам, лингвист, два географа, семиотик и историк — стояли в ряд, нетерпеливые, с горящими глазами, когда мы передавали текст доктору Гордон.
Мгновение было торжественным. Впервые после Вселенского собора в Никее, проведенного семнадцать столетий тому назад, манускрипт, текст Евангелия Люцифера, был воссоединен.
Задание для коллектива сотрудников, как мы понимали, было эпохальным — расшифровать значение древних непонятных символов.
3
В тот вечер, когда доктор Элис Гордон позвонила К. К. и пригласила нас в лабораторию в Оксфорде, шел дождь. Ехать надо было немедленно.
Они разгадали код.
— Все так, как мы и думали, — сказала доктор Гордон К. К., встречая нас перед шлюзом безопасности. Она тяжело дышала, раскраснелась, волосы в беспорядке, как будто после страстного свидания. — При наличии третьей части манускрипта дешифровка прошла необыкновенно легко. Все сразу прояснилось.
Сияя от восторга и усталости, доктор Гордон подвела нас к лифту, потом проводила до подземной аудитории. Мы с К. К. промокли насквозь при пробежке от автомобиля до входа. Пока мы стряхивали воду с одежды, Элис Гордон готовила к работе аудиовизуальную установку и уменьшала освещение. С жужжанием опустился большой экран. Доктор Гордон показала на экране картинку.
Земной шар.
— Нам посчастливилось, — объяснила она, — преобразовать древнюю систему координат в современную, с градусами долготы и широты.
Складывалось впечатление, будто она сама не может поверить, что такое могло свершиться.
— Прекрасно! — сказал К. К.
— Как вы это сделали? — спросил я.
К. К. дал знак доктору Гордон продолжить рассказ.
— Я не знаю, насколько детально надо рассказывать, — проговорила она, поворачиваясь к К. К.
— Сейчас деталей не надо, — ответил К. К.
— Как вы, конечно, знаете, земной шар делится современной наукой линиями по вертикали и по горизонтали на градусы, минуты и секунды.
На экране быстрая анимация рассекла земной шар вертикальными и горизонтальными линиями, которые иллюстрировали современную систему координат.
— Если число по десятеричной системе будет достаточно длинным, мы можем обозначить расположение с поразительной точностью. Северный полярный круг, например, проходит параллельно экватору по 66°33′ 39'' северной широты. Вертикально к параллелям находятся меридианы, или градусы долготы. Так называемый нулевой меридиан проходит через обсерваторию, расположенную в лондонском пригороде Гринвич. Но это, понятно, только один из возможных способов разделить земную поверхность. У вавилонян была другая система.
— А вы не можете рассказать нам по-простому, что вы нашли? — нетерпеливо попросил я.
— Вавилонская система координат, которая возникла в глубокой древности и на которой базируется дешифровка, использует ту же самую главную мысль, что и наша сегодняшняя. Горизонтальные и вертикальные линии, базирующиеся на числе «шестьдесят». И все-таки расхождения между системами настолько велики, что…
— К какому выводу вы пришли? — спросил К. К.
Взгляд доктора и крохотная пауза говорили, что ей не по душе наше нетерпение, и она сделала попытку скрыть раздражение.
— Что ж, как угодно! Если перевести на современную систему координат, то Евангелие Люцифера создано здесь.
На экране появилась вереница цифр, доктор Гордон прочитала каждую из них:
32°29′ 34'' С 44°08′ 23'' В
— Где это? — спросил я.
Доктор Гордон нажала на пульт. На экране карта мира начала видоизменяться, увеличивался масштаб. Вот уже различим Ближний Восток… Ирак… Багдад… Аль-Хилла…
[336]
Остановка.
Аль-Хилла. Ирак.
— Теперь понял? — спросил К. К.
— Да, — выдохнул я. Хотя в действительности ничего не понял.
4
Аль-Хилла вряд ли известна каждому. Город расположен в десяти милях к югу от Багдада, он долго был центром исламистского учения. Здесь пророк Иезекииль в ссылке закончил свои дни, здесь же он похоронен. Но Аль-Хилла на протяжении тысячелетий носила совершенно другое название.
Название, окутанное мистикой и мифами.
Вавилон.
Легендарный город-государство между реками Евфрат и Тигр в Месопотамии. Колыбель цивилизации.
— Феноменально, что вавилоняне имели знания, которые давали им возможность определять расположение с такой точностью, — сказала доктор Гордон.
— Каким образом нам помогут координаты? — спросил я. — И без того довольно понятно, что Вавилонская башня была расположена в Вавилоне. А что Аль-Хилла скрывает руины Древнего Вавилона, было известно и раньше.
— Придется прочесывать огромную территорию, — сказал К. К.
— Координаты не имеют отношения к расположению Аль-Хиллы, — объяснила доктор Гордон. — Они показывают точку, находящуюся на границе между пустыней и плодородной местностью вдоль реки Евфрат.
— Это и есть место, где находилась Вавилонская башня? — спросил К. К.
— Добрейший Моисей — или кто бы там ни написал Первую книгу Моисееву, — наверняка потирал руки, когда передавал миф о разрушении Вавилонской башни, — сказала доктор Гордон.
Она нажала на пульт. На экране я увидел:
Babylon
Babilu
Bab-ilu
בבל
Babel
Balbal
—
Babylon — греческое название того, что называется
Babilu или
Bab-ilu на аккадском языке. На иврите пишется
בבל. Это слово очень похоже на слово иврита
Balbal, которое означает «вводить в заблуждение». Вот так возник миф о том, что Бог ввел в заблуждение человечество, дав людям разные языки. В Первой книге Моисеевой Ветхого Завета написано так:
И сказали они: построим себе город и башню высотой до небес; и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей Земли. И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь: вот, один народ и один у них язык; и вот что они начали делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей Земле; и они перестали строить город. Посему дано ему имя Вавилон; ибо там смешал Господь язык всей Земли, и оттуда рассеял их Господь по всей Земле.[337]
— Вот так, — сказала доктор Гордон, — звучит миф Ветхого Завета о Вавилонской башне. Но проблема состоит в том, что оригинальное название
Bab-ilu не является аккадским вариантом
Balbal, как думал автор Библии.
Bab-ilu значит не «вводить в заблуждение» на аккадском языке. Настоящее значение могло бы стать исходным пунктом для еще одного грандиозного библейского рассказа.
— Какого же?
—
Bab-ilu, — сказала она, — значит «ворота Бога».
Ворота в Божье царство…
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
СЫНОВЬЯ БОГА

В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входишь к дочерям человеческим и они стали рождать им. Это сильные, издревле славные люди.
Первая книга Моисеева
Горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости…
Откровение Иоанна Богослова
РИМ
май 1970 года
Демон исчез.
— Где он? — спрашиваю я.
— Кто? — шепчет Ло-Ло.
— Демон.
— Какой демон?
— Тот, который был здесь.
— Здесь только ты и я.
— Я видела его.
— Тебе приснилось.
— Я не спала.
— Это твоя фантазия.
— Тогда ты тоже моя фантазия!
— Все, что вокруг тебя, не настоящее.
— Ты хочешь меня утешить.
— Ты нездорова.
— У меня ничего не болит.
— Ты измучена. Растеряна. Бедная девочка.
— Они говорят, что ты тоже не существуешь. Ты знаешь об этом?
— Кто так говорит?
— Мама. Папа. Они говорят, что ты — моя фантазия.
— Может. быть, они правы, — отвечает Ло-Ло.
Хотя я не мерзну, я поворачиваюсь на бок и подтягиваю колени к груди. Обеими руками обхватываю их.
Снаружи гроба через толстые каменные стены слышу отдаленное пение монахов. Прикладываю ухо к каменной стене: In nomine Magna Dei Nostri Satanas. Introibo ad altare Domini Inferi. Ave Satanas!
[338]
* * *
Перед тем как бабушка умерла, мы пришли к ней в больницу. Мама сказала, что она в коме. Казалось, что она спит. Голова покоилась на толстой белой подушке. Рот был открыт. Она издавала странные звуки. Как будто хотела что-то сказать нам. Или она не могла дышать. Я подняла ее руку. Сжала. Бабушка не ответила. Она, наверное, не знала, что мы к ней пришли.
* * *
Голова очень болит. Когда я открываю глаза, начинается мерцание. Как бы я ни лежала, на животе или на спине, все вокруг кружится. Я поворачиваюсь и поворачиваюсь, снова и снова. Меня тошнит. ДОРОГОЙ БОЖЕНЬКА, ДАЙ МНЕ ПОПИТЬ! Во рту пересохло. Язык распух.
Когда тяжелая крышка гроба сдвигается, мир взрывается от обилия света. Зажмуриваюсь. От света режет глаза.
Глотаю свежий воздух. Пробую встать, но от слабости и головокружения ничего не получается.
Все кончилось? Мне можно уйти?
— Сиди спокойно, Сильвана, — говорит мужчина с добрым голосом.
Он протягивает мне стакан воды и салфетку с сухим кексом и маленьким помидором. Я выпиваю воду и прошу еще.
— Позже, — говорит он.
— Мне можно идти?
— Пока нельзя, Сильвана.
Я пытаюсь выбраться.
— Скоро, Сильвана, скоро. Еще не сейчас.
Я начинаю плакать.
— Я больше не хочу оставаться здесь! — кричу я.
* * *
Они толкают меня назад в темноту и возвращают каменную крышку на место.
I
ВАВИЛОН-II
АЛЬ-ХИЛЛА, ИРАК
23–27 августа 2009 года
1
В облаке песка и пыли вертолет «апач» взлетел с вертолетной базы временного аэродрома. Со стрекочущим звуком вертолет помчался навстречу слепящим лучам света. Вдали, почти полностью скрытые поднимаемым ими облаком пыли, двигались колонной окрашенные в цвета камуфляжа джипы «хамви», танки М-1 «Абрамс», несшие патрульную службу вдоль границ территории раскопок. Ветер пустыни нес с собой горячие песчинки, которые больно били и приклеивались к коже, образуя что-то вроде засохших ран. Я прикрылся от яркого солнца рукой. На небе ни облачка, невыносимая жара. Под одеждой цвета хаки, под перчатками и накидкой на голове, которые оберегали мою белоснежную кожу, я весь взмок. Утром кто-то измерил температуру: сорок пять градусов. В тени! Горизонт плавал в мареве жары. «Такое ощущение, — подумал я, — должно быть у того, кто попадает в ад».
Евангелие Люцифера находилось в защищенном хранилище лаборатории в Оксфорде. К. К. счел это место наиболее надежным. Он усилил охрану на случай нападения дракулианцев. Чтобы ввести в заблуждение монахов, неясные тени которых мелькали вокруг нас все лето, К. К. постарался создать впечатление, будто мы взяли манускрипт с собой в лагерь в Ираке.
Совсем близко от площадки, где я сидел в тени от натянутого под углом брезента, толпились археологи и инженеры со своими теодолитами
[339] и другими инструментами, необходимыми для изучения ландшафта. Итальянский археолог, жестикулируя, вел дискуссию с американским. Несколько человек, протягивавших ленты от одной точки до другой на колоссальной территории раскопок, погрозили кулаком еще одному вертолету, типа «Супер Кобра», который, пролетая, завис над нами и поднял в воздух столько песка, что стало трудно дышать. Один из пилотов открыл дверь и сделал несколько снимков, после чего вертолет подлетел к посадочной площадке и приземлился в середине круга с большой буквой «H». Из-за барака-терминала выехал стоявший в ожидании бронированный «хамви». Из кабины вертолета выпрыгнул человек и побежал, наклонившись, под крутящимися крыльями к «хамви». «Супер Кобра» взлетела. «Хамви» поехал в сторону полевого военного штаба, над которым на высоком флагштоке развевался американский флаг.
Я надел черные очки, которые купил в Аль-Хилле и окинул взглядом всю территорию, которая получила название Вавилон-II. Где-то здесь мы должны были найти остатки Вавилонской башни.
Американские солдаты, в задачу которых входило охранять нас и археологические раскопки, уже успели развернуть лагерь и организовать контроль всей территории. Въездная часть состояла из высокого ограждения из колючей проволоки, стальных ворот и шлюзов безопасности. Все как в тюрьме, только главным было не допускать сюда посторонних. Поставленные под углом стальные балки и полутораметровые бетонные блоки торчали из земли вокруг всего лагеря. Внешняя ограда из колючей проволоки высотой в четыре метра. Внутренняя двухметровая ограда поставлена под напряжение. Ходили слухи, что десятиметровой ширины полоса между внешней и внутренней оградой заминирована. Ночью весь периметр ярко освещался, отчего лагерь становился центром притяжения для мириад насекомых и пресмыкающихся. Самые опасные из них — верблюжьи пауки — были размером с ракетку для настольного тенниса. То, что, строго говоря, они не были пауками, меня утешало мало.
Все гражданские сотрудники жили в бараках, находившихся в стороне от военного городка и общего командного центра. Моя комнатка была так мала, что напоминала, скорее, ларек. Раскладушка. Стол. Стул. Военный алюминиевый шкаф. К счастью, глава нашей администрации Кэролайн Олссон выделила мне комнату на одного. В большинстве комнат стояли двухэтажные кровати.
2
— Разве не удивительно думать, — сказал К. К. в первый вечер, когда мы сидели под звездным небом на площадке перед штабом руководителей раскопок, — что мы находимся в овеянном славой Вавилоне?
Когда солнце заходило, воздух пустыни быстро становился холодным. С темнотой появлялись всевозможные насекомые и незнакомые запахи. От поселения и возделываемой земли к востоку от нас доносился запах гниющей капусты и клоаки.
Я смотрел в темноту и думал об истории области, где мы находились. Шумеры. Аккадское царство. Вавилон. Ассирия. Цари Навуходоносоры…
[340]
— Да, удивительно. К. К., может быть, ты можешь мне объяснить, как вавилоняне умудрились разделить земной шар на градусы широты и долготы?
Не знаю, сколько раз уже я пытался заставить К. К. объяснить мне, каким образом вавилоняне за несколько тысяч лет до нашего времени были в состоянии создать примитивный код и систему координат, которые мы смогли расшифровать в 2009 году.
— Вернемся к этому позже, — ответил К. К.
Вот опять. Эту фразу он повторял часто. Дозированная информация…
Хотя я и стал частью проекта, хотя я и был теперь
своим, К. К. по-прежнему придерживал часть информации. С безразличием, которое я давным-давно истолковывал как притворное, он пытался обойти вопрос о присутствии военных. Я, конечно, понимал, что война в Ираке привела к необходимости военной охраны. Копать там, где, с точки зрения многих, была историческая Святая земля, рискованно. Один грузовик, загруженный взрывчаткой, легко мог уничтожить всех нас и дать дешевую пропагандистскую победу иракским мятежникам.
Но даже в правде могут быть недоговоренности и неясности.
В лагере была расквартирована целая военная бригада. Несколько тысяч солдат, чтобы охранять археологические раскопки?
II
ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ
1
Раскопки в пустыне — комплексное испытание из пыли и песка и жары такой интенсивности, что ты в припадке сострадания к самому себе легко начинаешь воображать, как испаряешься, превращаясь в лужу кипящего жира, водяного пара и подгоревших снов.
Хотя мы находились в пустыне, тишины не было. Огромные бульдозеры кормили непрерывный поток грузовиков просеянным грунтом, который оставался после работы строительных рабочих и археологов. Над территорией летали вертолеты. Огромные гудящие дизель-генераторы подавали электричество. Руководитель раскопок отвечал за координацию работы экскаваторов, бульдозеров и бригад рабочих, которые удаляли землю. Только если обнаруживалось что-то требующее более тщательного рассмотрения, приступали к работе археологи с лопаточками, кисточками и своим бесконечным терпением. Используя нивелиры, теодолиты, спутниковые фотографии, компьютерные программы и угловые измерители, мы поделили большую неровную поверхность пустыни на квадраты и теперь изучали их метр за метром. Даже имея в своем распоряжении очень точные координаты вавилонян, мы должны были применять новейшее высокотехнологичное оборудование, чтобы осуществилась наша надежда найти руины самой башни. Из самолетов переносными измерительными инструментами мы отсканировали поверхность лазерным лучом. Разведывательный спутник делал очень точные фотографии с использованием инфракрасных лучей и видимого света. В компьютер эти спутниковые фотографии были введены с подключением результатов сейсмических и геомагнитных измерений. В итоге появились трехмерные фотографии с поразительной глубиной и богатством деталей. Главный археолог и его штаб очень быстро обнаружили большую подземную структуру в четырехстах метрах к северу от нас. Она имела три острых угла и вполне могла рассматриваться как фундамент. Но я был убежден, что это всего-навсего скрытая почвой скала. Геологи и бурильные установки подтвердили правоту моих слов. Меня же больше заинтересовало возвышение на местности в пятидесяти метрах к северо-востоку от городка из бараков. Главный археолог и главный геолог считали, что возвышение создано природой и не представляет интереса для нас. Но оно напомнило мне древнескандинавский погребальный холм, который мы раскапывали в Ругаланде. Правда, здесь мы искали не погребальный холм, но ведь хороший археолог всегда должен верить своей интуиции и способности читать местность.
— Возвышение на местности — это остатки обрушившейся башни, — заявил я. — Квадратная структура в подземных осадочных отложениях, по-видимому, является фундаментом зиккурата.
— Да нет же, — сказал главный геолог и заслужил одобрительный смешок главного археолога, — это каменный холм.
— Подобные возвышения нехарактерны для данной местности.
— Посмотрите! Вокруг полно таких холмов.
— У этого совершенно другой вид.
Взгляд. Кривая усмешка. Глаза к небу. Ко всему этому я привык.
Главному археологу пришлось скрепя сердце признать мою правоту, когда позже мы получили трехмерные фотографии и результаты исследований георадара, который посылает на землю сигналы высокой частоты, магнитометра, регистрирующего магнитные изменения при активности человека, и измерителя сопротивления, который фиксирует электрическое сопротивление: под холмом действительно находилась прямоугольная структура площадью в несколько сот квадратных метров.
— Вавилонская башня, — сказал я с весьма заметной гордостью К. К.
Главный археолог не был ни злопамятным, ни мстительным человеком. С новыми силами при моей активной поддержке он составил план вскрытия возвышения. Чтобы сэкономить время и сделать работу более эффективной, мы разделили археологов и землекопов на три группы. Одна отвечала за удаление земли, другая — за прорытие шурфов, третья — за просеивание и анализ массы почвы и песка.
Мы осторожно продвигались вниз. Метр за метром. Час за часом.
Двое суток без остановок шла работа. Под палящими лучами солнца. В ночной холод.
Наконец мы нашли то, что искали.
Фундамент.
Фундамент такой прочности и таких размеров, что сомнений не оставалось.
Мы нашли Вавилонскую башню.
2
Чтобы попасть на вскрытую часть фундамента, нам пришлось спуститься по четырем алюминиевым лестницам, вмонтированным в леса шахты. Сухой воздух внизу был насыщен песчаной пылью и солнечным теплом. На земле полно строительного мусора, разбитых горшков и разгневанных скорпионов. Огромная резиновая труба подавала охлажденный воздух беднягам из бригады землекопов, которых, казалось, вполне можно было отжать и повесить на просушку. Когда К. К., главный археолог, главный инженер и я собрались внизу шахты, бригада землекопов успела отрыть несколько метров фундамента. Базовая стена состояла из колоссальных квадратных каменных блоков, обтесанных и подогнанных другу к другу с ювелирной точностью. И вот что удивительно. Такого рода камня в регионе не было.
К. К. похлопал по стене ладонью:
— Солидная кладка!
— Странно, — сказал главный археолог. — В Первой Моисеевой книге сказано, что Вавилонская башня построена из обожженных кирпичей с земляным скреплением.
— Я не стал бы принимать на веру высказывания Моисея по вопросам строительных технологий, — возразил я.
— Так строили в те времена, — ответил главный археолог.
— Невероятно, — сказал К. К., — насколько плотно каменные блоки примыкают друг к другу.
Я провел пальцами по поверхности базовой стены. Можно было представить себе, что рухнувшая башня полностью рассыпалась. Я все время представлял себе, что предмет наших поисков — как бы его ни называли — превратился во фракции песка, земли и камней. Но этот фундамент был твердым как гранит.
Не знаю, что навело меня на мысль о том, перед чем мы сейчас стояли. Может быть, это было зародившееся абсурдное подозрение насчет секретов, которые скрывал К. К. Может быть, воспоминание о семинаре по вопросам строительства в древности, в котором я участвовал в Турции в 2003 году. А может быть, чистая интуиция.
— Это не камень, — заявил я.
— А что? — спросил К. К.
— Конечно, это камень, — сказал главный инженер.
— А чем еще это может быть? — спросил главный археолог.
— У вавилонян, которые строили башню, был один выбор, — объяснил я. — Они могли перевозить эти огромные каменные блоки из каменоломни. Расположенной в сотнях километров отсюда. Жара в пустыне. Невероятный труд. Или же делать фундамент там, где предполагалось построить зиккурат. Что сделали бы вы?
— Вопрос не в том, что сделали бы мы, — парировал главный инженер. — Вопрос в оборудовании и технологиях, которые были в их распоряжении.
— Что ты хочешь этим сказать, Бьорн? — спросил К. К.
— Эти блоки отливали.
— Отливали?! — воскликнул главный инженер.
— Отливали, — повторил я. — Они сделаны из бетона.
К. К. и главный инженер в изумлении уставились на меня.
Главный археолог положил руку на поверхность базовой стены:
— Интересная мысль. Но бетона в те времена еще не было.
— У них не было ни знаний, ни техники, чтобы делать супербетон, — подтвердил главный инженер. — Тот цемент, который в те времена могли изготавливать, был очень хрупким. Ненадежным. На короткое время. Если это бетон, то качество и твердость свидетельствуют о технологиях, которым мы позавидовали бы даже сегодня.
— Вы забываете, насколько продвинутой была культура строительства в древности, — возразил я. — Вавилоняне, египтяне и римляне великолепно владели техникой отливки. Многие их постройки стоят и сегодня.
— Как руины, — уточнил главный археолог.
— Подождите, — сказал главный инженер. В нем проснулся профессионал, готовый поставить на место зарвавшегося археолога. — Если это бетон, — он похлопал по фундаменту, — как объяснить, что он так же прочен спустя 4500 лет?
— Я думаю, что это лучше всего объяснит К. К.
К. К., защищаясь, поднял вверх руки:
— Даже не подозреваю. Но у Бьорна есть интересная мысль. Как они могли доставить сюда этот камень?
Я еще раз провел пальцами по поверхности.
— Бетон! — сказал я.
— Это же очень просто выяснить, — обратился к главному инженеру К. К. — Проведите анализ материала…
— Ничего себе, К. К.! — воскликнул главный инженер.
— …а мы продолжим копать. Где-то вдоль этой стены должен обнаружиться вход.
Отправитель: Примипил
Послано: 27.08.2009 12:32
Адресат: Легату легиона
Копия: Великому Магистру
Тема: Отчет: Аль-Хилла/Вавилон-II
Шифр: S/MiME РКС37
Dominus!
Будучи назначен Примипилом, я в соответствии с планом прибыл в тот лагерь, который американцы по своему безрассудству назвали Вавилон-II. Хотя я пребываю в одиночестве, я думаю, что мне повезет больше, чем моим предшественникам. Доминус, в своем первом отчете я могу сообщить, что раскопки сегодня привели к обнаружению фундамента зиккурата, который, по мнению археологов, является Вавилонской башней. Большинство местных ученых склонны согласиться с этой версией. Но мы здесь ищем что-то другое. Предположение: возможно, именно здесь, в зиккурате, находятся земные останки нашего господина — Люцифера? Возможно, Люцифер, подобно Иисусу, обрел человеческий облик или в момент смерти вошел в тело человека, который испустил дух? Вавилонская башня, вероятно, является местом упокоения Люцифера? Возможно, Bab-ilu — это башня, о которой пророк говорит в Писании, глава 14, стих 52? Условия для работы здесь, на базе, не очень простые. Не возбуждая подозрения, я должен самым добросовестным образом выполнять требующие большого количества времени задачи, которые были поставлены передо мной моими начальниками. То, что я тут один и не имею поддержки со стороны своих храбрых братьев, делает мое задание еще более сложным. Но я обязательно оправдаю доверие ордена. У меня есть основания думать, что манускрипт находится в сейфе штаба (альтернатива: комнаты Коллинза или Белтэ).
Слава Сатане!
Примипил брат Рац
III
ПОДОЗРЕНИЕ
АЛЬ-ХИЛЛА
28–29 августа 2009 года
1
— У меня была встреча с начальником службы безопасности, — сказал К. К. — Он опасается, что произошла инфильтрация раскопок.
Он только что постучал в дверь моей комнаты, где я читал лежа, сел на единственный в комнате стул — венский стул из самых дешевых, — и сел грудью к спинке. Я заложил книгу разворотом суперобложки и положил роман на стол рядом с кроватью.
— Почему он так думает?
— Кто-то попытался проникнуть в сенситивные части компьютерной системы.
— Кто?
— Неизвестно.
— Я думал, что всех работающих предварительно проверили?
— Не только проверили, каждого рекомендовал также ответственный работник проекта «Люцифер».
— Каким образом стало известно о проникновении?
— Компьютерная система разделена на несколько уровней безопасности. Кто имеет допуск к каким уровням, зависит от оценки службой безопасности функции того или иного сотрудника на раскопках. Лингвисты не имеют доступа к файлам археологов, и наоборот. Инженеры имеют доступ к сведениям, которые недоступны биологам. Можно войти в систему под своим собственным логином и паролем или можно войти как члену группы под общим паролем. В этом случае ты получаешь допуск к общим файлам — к спискам работающих по сменам, к персональной информации и к тому подобным вещам, — но не к файлам, имеющим гриф секретности. Лишь те, кто имеет самый высокий уровень допуска, знают, что мы ищем. Большинству работающих известно только, что мы раскопали Вавилонскую башню.
— А что же мы
на самом деле ищем?
К. К. сделал вид, что не расслышал вопроса.
— Мы никого не проинформировали о том, что служба безопасности регулярно просматривает все включения и весь трафик в Интернете. Вот так они обнаружили, что кто-то заходит в сеть как член группы и систематически пытается путем взлома перейти на более высокий уровень безопасности.
— Что это значит?
— Пробует разные сочетания знаков, чтобы обнаружить пароль.
— Но это же почти невозможно.
— Все зависит от пароля. И соответствующего оборудования. Код, конечно, не был взломан. Но служба безопасности докладывает, что последняя попытка проникновения была осуществлена при помощи чрезвычайно современного генератора. Он имеет ресурс, сопоставимый с космическим шаттлом, рядом с ним самые совершенные гражданские взламыватели кажутся давно устаревшими. В течение тринадцати минут машина перебрала несколько миллиардов комбинаций знаков.
— В какой группе находится этот человек?
— В группе ученых.
— И сколько же подозреваемых?
— От 125 до 150.
— Подозревается кто-то конкретный?
— Нет. Речь идет о ком угодно — от археологов и историков до теологов и лингвистов… из многих стран… из разных учреждений…
— Один из них — «крот».
— Строго говоря, мы не знаем. Но многое говорит за то, что так оно и есть. Если бы не генератор, мы могли бы думать, что кого-то просто разбирает безумное любопытство. Но данная машина стоит много миллионов, так что этот человек выполняет чье-то задание. Тех, у кого огромные ресурсы. Например, разведки.
— Или же на раскопки проник дракулианец.
— Или дракулианец…
2
Что такое жизнь, как не длинная цепь случайностей и совпадений?
Много лет спустя после того, как мой друг Эскиль сбежал из клиники нервных болезней, перерезав себе вены, я понял, что демон, который вошел в его тело и душу, — Пазузу — был тем же, который издевался над одержимой злыми духами девочкой Рейган в фильме «Эскорт». Никто из смотревших этот фильм ужасов не может забыть эти кадры. Сам я видел его на видео, когда мне было пятнадцать лет. И до сих пор не могу забыть. Несколько раз, когда я пытался успокоить Эскиля до прихода санитаров, я буквально видел демона, смотревшего на меня из испуганных глаз Эскиля.
Ужас, как говорят, большее зло, чем то, чего боятся. Сам я боюсь невидимых совпадений в жизни, невидимые нити судьбы обвивают нас, хотя мы не понимаем, что они есть. Как Пазузу. Видел ли Эскиль этот фильм? Читал ли книгу? Или это чистое совпадение?
Пазузу — отсюда. Из Месопотамии. Я находился в его родных местах. Где он свой. Это все равно что оказаться лицом к лицу с заклятым врагом. Врагом, которого я уже видел в глазах моего друга.
3
Даже сквозь стену и шум вентиляторов я слышал возбужденные голоса.
Я раскачивался на стуле в штабе, положив ноги на стол, и читал последний отчет руководства раскопок. В середине дня, после ленча и брифинга, я решил спрятаться от удушающей жары пустыни в штабе, где работал кондиционер. Поскольку К. К. и другие руководители подразделений в это время обычно инспектировали работы на территории, я приходил сюда на полчасика, чтобы побыть одному под прохладным ветерком кондиционера.
Главный инженер ворвался в штаб, окруженный облаком жары.
— Черт меня побери, ты оказался прав! — воскликнул он и взмахнул отчетом, представленным инженерами и химиками, которые провели анализ каменных блоков, из которых был сделан фундамент.
— Бетон?
— Это невероятно! Материал состоит из ранее неизвестного типа цемента, песка и каменной пыли, пепла, щебня, керамических шариков, стекла, волокна, гипса, извести и других веществ, анализ которых еще не закончен. — Судя по тону, он сам не верил своим словам. — Этот состав отличается от тех, которые известны в технологиях древности. Материал в десять раз прочнее современного супербетона.
Он положил на стол отчет, насыщенный схемами, кривыми и терминами: мегапаскаль, единица
С для измерения сопротивления давлению и износу. Довольно непонятно, но результаты произвели впечатление на экспертов.
— Эта смесь сделала бетон таким крепким, — продолжил главный инженер, — таким износоустойчивым, что он превосходит самый лучший, самый дорогой и самый современный промышленный бетон, который производится сейчас в мире. Даже на нефтяных платформах и в конструкциях мостов нельзя найти такой прочный бетон.
— Тогда почему же рухнула башня?
— Из этого бетона был отлит только фундамент. Пол, стены, потолок. А сама башня поверх фундамента была возведена из очень непрочного материала. — Главный инженер посмотрел на свои схемы. — В высшей степени непостижимо!
IV
РИТУАЛЬНОЕ УБИЙСТВО (4)
1
Пропажа Кэролайн Олссон обнаружилась вечером, в половине десятого.
Я ее не знал. Правда, я с ней поздоровался в июле, когда помогал К. К. планировать раскопки, и еще раз, когда по прибытии в лагерь она определила мне комнату и выдала пропуск. Кэролайн была американкой, но вышла замуж за англичанина и поселилась в Ливерпуле. Ее представили как главу администрации и правую руку К. К. по организационным, логистическим и практическим вопросам. Кэролайн отвечала за все — от выплаты заработной платы до заказа продуктов питания.
Когда она не пришла на совещание, которое проводилось каждый вечер, и не ответила на звонки по мобильному телефону, ближайшие коллеги начали поиски, Кэролайн не была легкомысленной женщиной, которая забывает про совещания.
Кэролайн Олссон не нашли ни в ее комнате, ни в столовой, ни в комнатах отдыха, ни в штабе. И она не покидала лагеря. Все входящие и выходящие с территории раскопок обязательно регистрировались.
Примерно через час информация об этом поступила к К. К. и начальнику службы безопасности Дику Стоуну.
Сотрудники службы безопасности и подразделение солдат и военной части лагеря обследовали все помещения жилого комплекса и другие места.
Кэролайн Олссон нигде не было.
2
Ее нашли через час.
Она лежала в пустом бараке на окраине лагеря, в северо-восточном углу, где лагерь соприкасался с бесконечной пустыней. Барак остался после отъезда рабочих, которые сооружали ограду.
Два солдата, отправленные на джипе проверить, не заблудилась ли она, вопреки ожиданиям, на пустынном участке раскопок, нашли ее совершенно случайно. Никто не говорил им, что надо проверить заброшенный барак. Но солдатам вдруг пришла в голову мысль остановиться и посмотреть.
К. К. стоял, прислонившись плечом к стойке двери, когда я подбежал к нему. Увидев меня, он выпрямился. Он выглядел бледным и потрясенным. И неудивительно. Он работал с Кэролайн на протяжении многих лет.
«Они?» — спросил я взглядом.
К. К. только кивнул.
3
Кэролайн Олссон умерла.
Была убита.
Она лежала обнаженная на раскладной кровати в середине барака.
Руки сложены на груди. В одной руке был бронзовый амулет, который начальник службы безопасности Дик Стоун в этот момент вынимал.
— Трупное окоченение еще не наступило.
Он показал амулет К. К. и мне.
Даже на расстоянии я увидел, что он такого же типа, как и те, что раньше.
К. К. отвел начальника службы безопасности и меня в сторону:
— Что мы знаем?
— Пока не очень много, — сказал Дик Стоун. — Она умерла не очень давно.
— Причина смерти?
— Надо произвести вскрытие, чтобы что-то сказать. Внешних повреждений не видно.
— Кровь выкачали? — спросил я.
— Этого мы пока не знаем.
— Почему Кэролайн? — спросил К. К. — Почему она?
— Она знала код сейфа в штабе. И пароль для выхода на высший уровень безопасности в компьютерной системе.
— Она могла что-то сказать?
— Сейф открыт и обыскан. Но мы не знаем, что там искали.
— Манускрипт, — сказал я.
— Но он же в Англии, — сказал К. К.
— Об этом знаем только мы, — сказал начальник службы безопасности. — Только самый узкий круг.
— Что будем делать?
— Для начала мы отключились от сервера и создаем новые пароли для всех.
— Пойду звонить ее мужу, — сказал К. К. — Ее вдовцу.
РИМ
май 1970 года
Боюсь.
Не хочу умирать.
Прислушиваюсь к своему дыханию. Но мне кажется, что дышит кто-то другой. Короткие, быстрые выдохи. Не мое дыхание. Со свистом.
Не хватает воздуха.
Боюсь.
Стучу по боковой стенке, пинаю ногами крышку. Я очень ослабла. Получается — шлеп-шлеп.
Прикладываю рот к резиновому шлангу, который вдувает воздух в гроб. Делаю глубокий вдох. Но это не помогает.
За стенками гроба слышу звуки подземелья: крики и смех, плач и хлопки. Кто-то поет.
Или все это мне снится. Я надеюсь, что снится.
Ни один звук не кажется настоящим.
* * *
— Сильвана, — шепчет Ло-Ло.
Открываю глаза.
Он лежит рядом со мной. В нескольких сантиметрах от моего лица. Добрый, милый, хороший Ло-Ло.
— Сильвана, — шепчет он.
Он кажется озабоченным. Я никогда не видела его таким. Ло-Ло почти всегда веселый. А сейчас печальный.
— Ло-Ло, — пробую я шепнуть.
Не получается. Слова не выходят. Как будто в горле застрял кусочек мяса. Дыхание мое похоже на дыхание бабушки. Она умерла в ту ночь, когда мы к ней приходили. Наутро меня разбудила мама. Она сказала, что бабушке хорошо. «Она может теперь дышать?» — спросила я. «У Бога все могут дышать», — сказала мама. И тогда я поняла, что бабушка умерла.
V
ТРЕУГОЛЬНИК
АЛЬ-ХИЛЛА
30 августа 2009 года
1
Бригада землекопов отбрасывала камни и песок на протяжении десяти часов, начиная с шести утра, пока наконец не добралась до входа. Дело было в воскресенье.
Внушительный вход шириной в четыре и высотой в три метра. Полотна двустворчатых дверей, выполненных из какого-то металлического сплава, украшал символ — треугольник с кругом-солнцем внутри — на всех трех пластинах каждой из створок.
Треугольник Осириса.
Странно. Треугольник Осириса был египетским, а не вавилонским символом.
Петли на дверях отсутствовали. Инженеры утверждали, что створки дверей должны открываться каждая в свою сторону. По-видимому, они должны раздвигаться. Открыть двери не представлялось возможным. Несколько часов инженеры искали механизм, который отвечал за их открытие. И ничего не нашли. Поскольку на дверях не было ручек или замков, во всяком случае снаружи, инженеры предположили, что они открываются и закрываются только изнутри. Что само по себе странно. Это означало, что некто закрылся внутри — с очевидными последствиями для себя. Или же где-то в другом месте был оставлен проход, который впоследствии замуровали. Тоже нелогично.
Просвечивание специальным военным оборудованием — К. К. что-то говорил про оптические и инфракрасные сигналы, нейтронное излучение и ультразвуковые волны — обнаружило шедевр механики из шестеренок, запоров, болтов и металлических крюков, которые опирались на металлические стойки.
— И как же нам открыть эти двери? — спросил К. К.
— Выбора нет, — сказал главный инженер. Голос его приобрел мощную, почти звериную окраску. — Этот запор и эти створки прочны, как банковский сейф. Если мы хотим попасть внутрь, следует применить силу.
— Но как?
— Можно попробовать приоткрыть створки при помощи домкрата. Гидравлики. Или срезать запоры сварочным аппаратом, лазерным резаком или супердрелью.
Он был полон энтузиазма, идеи били ключом.
— Да что с вами, инженерами, такое, откуда эта страсть к разрушению? — спросил я наполовину шутя, наполовину серьезно. Я представил себе, как двери будут поддаваться резакам в какофонии хруста, дребезжания, скрежета и свиста. — Эти двери — культурное достояние, — продолжал я. — Посмотрите, какие они красивые! Нельзя их разрушать, их непременно надо сохранить для будущего!
— У вас есть ключ?
— Фактически есть.
— Рад буду воспользоваться им.
Я повернулся к К. К.:
— У меня есть мысль, как открыть эти двери.
— Да, и какая?
— Я весь внимание, — сказал главный инженер.
— Треугольник Осириса символизирует трех египетских богов: Осириса, его жену Исиду и их сына Гора. Треугольник Осириса был обнаружен археологами лишь в двух местах в мире — в Египте, среди настенной живописи и барельефов, а также на наскальных рисунках греческой префектуры Магнезия. Именно из Магнезии египетские мудрецы привозили свои магические камни.
— Магические камни? — спросил главный инженер.
— Сегодня эти магические камни называются магнит. Слово происходит от греческого
magnitis lithos, что значит «камни из Магнезии». Там есть месторождения магнетита, или магнитной железной руды.
— И археологи знают о таких вещах? — спросил К. К.
— Ну да.
— Зачем вы нам это рассказываете? — нетерпеливо спросил главный инженер.
— В древности треугольник Осириса был символом магнетизма. Теперь понимаете?
— Нет, — хором сказали главный инженер и К. К.
— Посмотрите на дверь. Вот треугольник Осириса. Каждая створка двери состоит из трех металлических пластин. Для посвященных этот символ означал ключ.
— Что за ключ? —
спросил К. К.
— Если поместить на каждую пластину по мощному магниту посредине треугольника, то возникнет магнитное поле, замкнется электрическая цепь, которая и откроет замок.
Где-то в районе военного лагеря завели грузовик.
Главный инженер снисходительно улыбнулся:
— Интересная теория, Белтэ. Действительно интересная. Но есть несколько моментов, которые опровергают ее. Магнитный замок был запатентован в 1989 году. Такой замок состоит из электромагнита и арматурной платы и зависит от наличия электричества. Я, конечно, не археолог, но, насколько я понимаю, этой пирамиде 4500 лет.
— Не разрушайте эти прекрасные двери, — обратился я еще раз к К. К.
Я знал, как хотелось К. К. проникнуть внутрь, поэтому не верил, что он послушается меня.
Но он послушался.
— Бьорн прав, — сказал он. — Двери сами по себе являются большой культурной ценностью. Давайте сначала испробуем другие возможности, чтобы открыть их.
2
К. К. и я почти дошли до штаба, когда нас нагнал начальник службы безопасности Дик Стоун. Мы заперлись в прохладной комнате, взяли в холодильнике по банке пива. Даже начальнику службы безопасности захотелось «будвайзера».
— Какие новости? — спросил К. К. после первого глотка.
— У Кэролайн не выкачана кровь.
— Уже хорошо.
— Убийца вряд ли взял с собой в лагерь ритуальное оборудование.
— Причина смерти?
— Передозировка. Коктейль из наркотических лечебных препаратов. Темазепам, транквипам и флунитразепам. Пентотал натрия.
— «Сыворотка правды».
— Она умерла, не чувствуя боли, — сказал Дик Стоун. — Заснула и не проснулась.
— Вы знаете, кто это сделал? — спросил К. К. — Вы его уже нашли?
— Поиски продолжаются. Мы надеемся, что вскоре вычислим его. К сожалению, у него в распоряжении первоклассные технологии. Мы не понимаем, как он уничтожает следы. Нам осталось проверить пятьдесят человек — у них нет бесспорного алиби. Но это ничего не значит. Кто-то спал. Кто-то работал один. Мы прорабатываем все свидетельские показания, все алиби и делаем хронологические компьютерные графики, чтобы установить, где каждый потенциальный преступник находился в момент убийства. Это касается, между прочим, и вас, достопочтенные господа, что лишь подчеркивает основательность нашего подхода к делу.
— А что, если он или они уже сбежали? — спросил я.
— Это невозможно. Никто не покидал лагерь после убийства.
— Значит, убийца по-прежнему среди нас, — констатировал К. К.
— Да, и не просто живет среди нас, он еще продолжает общаться с кем-то извне с помощью электронной почты.
— Что он пишет?
— Прочитать невозможно. Тексты зашифрованы — превращены в электронный код, который может расшифровать только адресат, — и посланы с портативного компьютера. Мы установили сам факт отсылки электронных писем, но мы не знаем, о чем они. Мои люди осматривают все помещения, чтоб найти это оборудование. По-видимому, оно хорошо спрятано. На это уйдет время.
— У нас нет времени!
— Ирония судьбы, — заметил я. — Монахи религиозной секты, которой тысяча лет, переписываются при помощи кодированных электронных писем…
— То, что их вера и образ мышления страшно древние, не означает, что их методы и технологии не могут быть современными, — заметил Дик Стоун.
— И что же нам делать? — обратился к нему К. К. — Отложить работу и ждать, пока вы его не поймаете?
— Мы усилили охрану и наблюдение. Нам нужно еще совсем немного времени.
— Считаешь, что мы можем продолжать?
— Если остановить работу, это нисколько не поможет нашему расследованию и не ускорит поиск.
— А ты что скажешь, Бьорн?
— Если альтернатива — сидеть в своих комнатах и ждать, когда служба безопасности найдет «крота», то я предпочитаю работать. Он или они не осмелятся напасть на большую группу людей средь бела дня.
3
Когда Дик Стоун ушел, я решил бросить К. К. вызов. Взял в холодильнике еще одну банку пива и открыл ее.
— Кажется, я понял, что скрывается в зиккурате.
— Вот как? — Голос его дрогнул.
Я обдумывал это долго и тщательно. Начиная с июня. Пытался догадаться, как можно объяснить все то, что мне рассказал К. К. И чего не рассказал.
Я сделал еще глоток и рыгнул в кулак.
Идея исходит из книги Герберта Уэллса.
[341] Я читал ее в подростковом возрасте. В шестнадцать-семнадцать лет я глотал все, что мне попадалось из научной фантастики. Подобно Жюлю Верну,
[342] Уэллс умел предугадывать будущее.
— И что же это? — спросил К. К.
Моя теория была такой абсурдной, что граничила с помешательством. Я сам это понимал. И все же в ней была своя логика. В четырехугольной Вселенной нужна смелость, чтобы думать кругами. Как бы то ни было, всему, о чем говорил К. К. и что пытался скрыть, должно быть какое-то объяснение, пусть даже самое невероятное. И вот теперь я наконец разоблачу его тайну. Так мне казалось.
— Машина времени.
К. К. посмотрел на меня, как будто я только что признался, что в свободные минуты охочусь на фей, усыпляю их эфиром и прикрепляю иголкой к стене.
— Хм… — только и сказал он. Взгляд забегал, как стрелка компаса, потерявшая направление.
— Я прав?
Ни слова. Только этот…
взгляд.
— Машина времени объясняет все! — продолжил я. — Компьютерную программу Евангелия Люцифера. Координаты, которые привели нас сюда. Все содержащиеся в тексте предсказания будущего и пророчества. Код Библии. Синтетический материал, на котором написан манускрипт. Магнитный замок. Невероятный интерес американских властей.
— Машина времени…
Никакой реакции. Он был похож на голограмму самого себя.
— Вы думаете, что кто-то — в каком-то будущем — совершил путешествие во времени? В прошлое? На машине времени? И оставил вам сообщение? Здесь, в Вавилонской башне?
Он продолжал смотреть на меня.
— Когда-нибудь это станет возможным, — сказал я. — Если можно путешествовать на Луну, то когда-нибудь станет возможным путешествовать во времени.
— Вот это да, Бьорн!
Он сказал только это.
Вот это да, Бьорн!
И с этими словами он встал, улыбаясь, и взял следующую банку пива.
Отправитель: Примипил
Послано: 30.08.2009 19:13
Адресат: Легату легиона
Копия: Великому Магистру
Тема: Отчет: Аль-Хилла/Вавилон-II
Шифр: S/MIME РКС37
Dominus!
Как только они откроют двери, руководители исследовательских групп войдут в зиккурат. Я не принадлежу к числу доверенных лиц.
Бог смерти вавилонян Нергал считается не только богом пламени и света, но также и демоном. Наверное, я не единственный, кто видит его сходство с нашим князем Люцифером. Я спрашиваю себя: может быть, Вавилонская башня и есть место входа в Царство смерти, переход между земной и потусторонней сферами? Конечно, я знаю, что Царство смерти, называемое также Преисподняя, Ад, Шеол, Геенна, Иркалла, Аид, Курнугия, не находится физически под Древним Вавилоном. Но вавилоняне были религиозными людьми, обладающими магическими способностями. Для них смерть была не единственным путем в потусторонний мир. Живые люди тоже могли попасть в Царство смерти и вернуться назад к живым. Возможно, вавилоняне нашли связь между нашим миром и Царством смерти. И я думаю, что вход в Царство смерти — ворота Бога Bab-ilu — расположен здесь, под зиккуратом. Покорно передаю свои размышления для оценки Совета старейших.
Я не забыл своего задания. Сегодня ночью планирую обыскать комнаты Бьорна Белтэ и Карла Коллинза.
Примипил брат Рац
VI
ГАЗ
АЛЬ-ХИЛЛА
30 августа — 1 сентября 2009 года
1
Было уже поздно, когда я лег спать.
Мы потратили несколько часов на то, чтобы найти фирму, которая могла бы поставить необходимые нам магниты. К. К. и я встречались с главным инженером и главным археологом, потом с начальником службы безопасности Диком Стоуном и его ключевыми сотрудниками. На обратном пути, шагая к нашему царству бараков, я потребовал от К. К. ответа на свои вопросы. Он был крайне нелюбезен и молчалив. К. К. категорически отказался обсуждать мою теорию о машине времени.
— Интересная гипотеза. — Это все, что он изрек.
Но было ли это подтверждение или опровержение моей теории?
Я заснул через несколько минут. Видимо, я спал два или три часа, мне снились монахи без лиц, когда кто-то стал дергать дверь.
Я тут же очнулся ото сна. И раскрыл в темноте глаза. Когда я сплю, я могу не услышать пожарную тревогу. Но могу проснуться от писка комара.
Лунный свет проникал через щели между жалюзи и подоконником. Я лежал на спине.
Что-то блестящее — вероятно, мои часы — отбрасывало свет на потолок.
Я пребывал в состоянии, среднем между полусонной растерянностью и ужасом только что проснувшегося.
Кто-то открывал мою дверь.
Следовало ее, конечно, запереть. Но это было невозможно. Ни одна внутренняя дверь в царстве бараков не имела ни замков, ни ключей.
В природе есть две тактики выживания. Перейти в контратаку. И представиться мертвым.
Я из тех, кто представляется мертвым.
Если бы я был сильнее, мужественнее и нахальнее, если бы мои очки не лежали на столе в полуметре от меня, я возможно —
возможно! — вывалился бы из кровати, покатился по полу. Вскочил на ноги и воткнул каблук в челюсть того монаха, который, судя по всему, стоял в дверях, чтобы выкачать из меня кровь.
Но я не силен. Не мужествен. Не очень хорошо подготовлен к кикбоксингу и нейтрализации врага.
Поэтому я остался лежать. Застывший и испуганный. В надежде, что это простое недоразумение. Ошиблись дверью. Или что-нибудь в этом роде.
Я услышал звук, похожий на щелчок.
Потом на свист…
Потом на шипение…
Потом…
ничего…
2
— Малыш Бьорн!
Голос принадлежит моему папе. Мне двенадцать лет. Я вижу его высоко на скале. Впечатление такое, что он приклеился к скале. Зеленые и синие шнуры охватывают тело, словно электрические провода.
— Малыш Бьорн!
Голос звучит более настойчиво.
Мама бьет меня по лицу. Словно я в чем-то провинился.
— Малыш Бьорн!
Молниеносным движением, которое не может кончиться, папа выбирается из шнуров. Словно птица или, скорее, как ангел, он расправляет свои крылья и парит в воздухе.
Мама опять бьет меня.
Малыш Бьорн! — кричит папа.
Его крылья складываются.
Он падает.
Прямо на камни.
— Малыш Бьорн! — кричит папа.
Хотя он умер.
3
— Бьорн!
Судорожный вдох — и я открыл глаза. Ничего не видно. Только в тумане какой-то силуэт.
Монахи? Я прищурился. К. К. сидел на моей кровати.
— Бьорн! Ты проснулся, Бьорн?
Я надел очки.
За спиной К. К. стояли Дик Стоун и четыре громадины из службы безопасности. Все держали перед носом белоснежные носовые платки.
— Бьорн! — снова крикнул К. К.
— Что случилось? — спросил я.
Во всяком случае, я хотел это сказать. Вместо этого слова прозвучали примерно так:
«Ш… сл… ч..?» Язык, как и все остальное тело, был онемелым и безжизненным. Как будто сошедший с ума зубной врач ввел огромную порцию обезболивающих средств.
— Они прихватили и меня, — сказал К. К.
Вид у него был помятый.
— Кто? Что случилось? —
«Хт… Ш… сл… ч..?»
— Усыпляющий газ. Меня разбудили десять минут назад. Они обыскали мою комнату. Твою, очевидно, тоже. Но не нашли то, что искали.
— Манускрипт! — Получилось:
«М… н… с… п».
4
К. К. и я потратили следующий день на то, чтобы прийти в себя. Душ, таблетки аспирина, десять литров холодной как лед воды и хорошая порция сна могут творить настоящие чудеса.
Все это время служба безопасности проводила полномасштабное расследование. Проверка отпечатков пальцев, пробы ДНК. Установление алиби. Допросы потенциальных свидетелей.
Никто ничего не видел. Никто ничего не слышал.
Магниты, заказанные К. К., прибыли к вечеру. Ни он, ни я не были в состоянии заняться ими.
VII
АД
1
Десять вооруженных солдат, охранявших нас, казались силуэтами на фоне слепящего солнца и бесцветной глубины неба.
Пятнадцать человек, включая К. К. и меня, присутствовали при открывании дверей с помощью магнитов. Инженеры называли этот способ «магическим методом Белтэ».
— Готовы? — спросил К. К.
Он заметно нервничал и был крайне напряжен. Как это не похоже на него!
— Конечно.
Я проследил взглядом за змеей, извивавшейся между камнями. Потом отвел К. К. подальше от других:
— Ну уж теперь-то ты можешь рассказать мне, что мы найдем внутри?
— Давай сначала откроем двери, а?
— К. К.!
— Я хочу, чтобы ты увидел это собственными глазами.
— Я правильно угадал? Машина времени?
Змея исчезла в щели. Под землей.
— Я прав, К. К.?
Он молчал.
— К. К.? — Я продолжал напирать.
— Я тебя слышу.
— Ты знаешь, что ждет нас за закрытыми дверьми. Ты
знаешь!
— Да. Или лучше так. Я не могу знать этого наверняка. Но у меня есть обоснованное предположение.
— Там машина времени?
— Нет.
Я взглянул на него. Он лгал. Дозированная информация?
— К сожалению, нет, — продолжил он. — Ты изложил очень привлекательную теорию — должен отметить. Я понимаю, почему ты так решил. Но — нет.
Ответ разочаровал меня. Неужели я ошибся?!
— Нет? Не машина времени?
— Нет.
— Так что же, по-твоему, мы тут найдем? Бога?
— Вот это, — сказал К. К., — уже недалеко от истины.
2
Работа началась ровно в десять часов.
С застывшей улыбкой главный инженер приказал своим людям поднести к дверям шесть мощных магнитов, которые были вынуты из специальных ящиков.
— Есть какие-нибудь особые ритуалы, связанные с этой церемонией,
маэстро Белтэ? — спросил главный инженер. Кто-то из инженеров захихикал. — Магический танец, например?
— Предполагаю, вы знакомы с вуду?
[343]
— Тихо, тихо, парни, — вмешался в перепалку К. К. — Приступайте!
Первый магнит прилип к символу солнца с такой силой, что неосторожный бедняга, державший его в руках, вывихнул два пальца и помчался в санчасть.
— Аккуратнее, ребята! — наставительно сказал главный инженер. — Нет никакой спешки.
Если говорить правду, сила магнита оказалась для него такой же неожиданностью, как и для всех нас.
С большой осторожностью один из инженеров расположил оставшиеся магниты на символах солнца. Один за другим.
Каждый магнит прилипал к металлу со щелчком, который подкреплял мою теорию.
«Магический метод Белтэ».
В конце концов три магнита прилипли к правой створке дверей и три — к левой.
— Сезам, откройся! — пробормотал один из инженеров.
Ничего не происходило.
Негромкий смех.
Далеко вдали залаяла собака.
Ничего.
Абсолютно ничего.
Теории хороши, когда в них есть логика, — хороши чисто теоретически. Лучше всего им оставаться гипотезами. В головах. Там им и место.
У меня появилось желание отправиться за змеей. Под землю.
К. К. вздохнул. Не знаю, относилось это ко мне или к нему самому. Или к обоим.
Главный археолог сказал:
— Ну, мы должны были попробовать.
— Ты так считаешь? — сказал главный инженер. — Должны были?
— Идея была прекрасной.
Кто-то из инженеров хихикнул.
— Да-да-да, — произнес главный инженер, обращаясь к К. К. — Будем пробовать еще раз?
— Еще раз? — задумчиво спросил К. К.
— Или используем домкрат?
К. К. молчал.
— У нас нет другого выхода.
В этот момент раздался жалобный скрип.
Мы все повернулись к дверям.
Медленно, бесконечно медленно створки дверей стали расходиться в стороны.
«Магический метод Белтэ».
К. К. улыбнулся. Я улыбнулся.
Главный инженер раскрыл рот.
— Какого дьявола! — воскликнул он. — Как это может быть?
Створки открывались сантиметр за сантиметром.
— Сработало! — лаконично констатировал К. К.
— Магнитные замки действуют по-другому! — продолжал настаивать главный инженер. Он старался не смотреть на меня. — Какой механизм открывает двери? Где-то внутри есть противовес?
Он посмотрел на меня. Как будто я должен был дать ему ответ. Я развел руками. У меня много идей, но мало ответов.
— Так как же он работает? — продолжал он. — Магниты пустили в ход механизм замка, который высвободил внутренний противовес? Но как такой механизм может работать спустя 4500 лет?
— Магия… — предположил я.
В конце концов двери раскрылись полностью, движение створок прекратилось.
К. К. сделал знак человеку в защитной одежде с противогазом и фонарем. Словно космонавт, нетвердой походкой тот отправился в темноту проверять качество воздуха аппаратом, который держал в руках. Анализ не установил наличия в спертом воздухе ядовитых газов или бактерий. На всякий случай внутрь внесли две пластиковые трубы, подсоединенные каждая к своему вентилятору, чтобы внутрь закачивался охлажденный свежий воздух.
3
Зал оказался намного больше, чем я его себе представлял. От дверей шел уклон вниз на четыре-пять метров. Крыша, на которой когда-то раньше стояли надстройки зиккурата, покоилась на четырех массивных рядах колонн.
На первый взгляд зал разочаровывал пустотой, был похож на подземную парковку без автомобилей. Серый. Голый. А я-то представлял себе сокровищницу, полную золота, статуй, сундуков со сверкающими драгоценными камнями, позолоченных фигур богов и рельефов на мифологические сюжеты.
Между тем все было серым, бесцветным.
Мы шли по широкому длинному уклону. Поскрипывали наши тонкие защитные накидки. Бригада, которая была направлена сюда прямо перед нашим приходом, смонтировала прожекторы на высоких стойках. Перед отверстиями вентиляционных труб метался песок и пыль. Вдоль стен — частично закрытых тенями колонн — можно было видеть тупики и боковые камеры. Хотя прожекторы очень хорошо освещали большую часть зала, чтобы заглянуть в боковые камеры, нам приходилось зажигать карманные фонари. В некоторых местах мы замечали что-то прикрытое брезентом или плетеными матами, на расстоянии это было не очень хорошо видно.
В конце зала карманные фонари и прожекторы осветили каменный портал. Подойдя ближе, мы увидели, что за порталом из художественно обработанного камня открывалась широкая лестница, которая вела куда-то в глубину.
Две высокие каменные статуи — обе представлявшие грозных, похожих на демонов ангелов — охраняли спуск. Трех-четырехметровые статуи изображали очень худые, костлявые и согнутые фигуры. На пьедесталах мы заметили надписи.
— Стойте! — приказал К. К. и помахал главному палеографу.
Они присели на корточки и осветили надписи.
— Аккадская клинопись, — уверенно проговорил палеограф.
— Что тут написано?
— Мне нужно время, чтобы перевести весь текст. Но на самом верху написано… — он прищурился, чтобы лучше прочитать надпись, —
Иркалла…
— Иркалла! — повторил К. К.
— …охраняется… ангелом Света.
— Ангел Света… Люцифер, — сказал К. К. так тихо, что я почти не услышал его.
4
Из черной глубины поднимается холодный влажный воздух с тошнотворным запахом.
Широкая каменная лестница привела нас вниз, на каменную площадку перед огромным гротом, откуда доносился шум воды в невидимой реке.
— Это подземная река, ответвление Евфрата, — сказал К. К.
Та часть грота, которую мы видели с площадки, резко уходила вниз. Грот был минимум сто метров глубиной и двадцать-тридцать метров высотой. Чуть поодаль я различал какие-то торчащие камни. Дрожащие лучи карманных фонариков прорезали темноту. От влажного воздуха мои очки запотели, и я стал видеть неотчетливо.
— Господи боже, — пробормотал К. К.
Я направил луч фонарика на камни, на которые светил К. К. Но никак не мог понять, что это такое. Деревья? Окаменевшие деревья с ветками?
— Скелеты! — выдавил из себя в ужасе К. К.
И только тогда, когда К. К. произнес это слово, мои глаза и голова свели воедино впечатления.
В гроте было множество человеческих скелетов.
Тысячи скелетов.
Они лежали на возвышениях, на камнях, в нишах, на площадках и уступах. Какие-то сидели, прислонившись к стене, другие уже рассыпались, превратившись в кучку костей. Скелетов было так много, что они сливались с камнем стен и образовывали каменные глыбы.
— Что это за место? — прошептал я.
— Хочешь верь, хочешь не верь, Бьорн, но ты находишься в аду.
Я посмотрел на него. Он не смеялся.
— В аду?
— Помнишь, я давал тебе почитать одну из рукописей профессора Джованни Нобиле насчет различных представлений об аде? Он считал, что может доказать, что наше иудейско-христианское представление об аде происходит от некрополя в вавилонском гроте. Вот он!
— Это не очень похоже на ад.
— Конечно нет. Тысячи лет ушли на то, чтобы превратить эти захоронения в пылающую преисподнюю Сатаны.
Я посмотрел по сторонам.
В аду…
— Каково, — сказал К. К., и на этот раз его голос приобрел игривость, — каково это — побывать в аду?
Я снова взглянул на выступы скал, на скелеты, нагромождение которых образовало нечто более похожее на каменные глыбы.
Неужели это подземное кладбище, эти имеющие естественное происхождение вавилонские катакомбы могли послужить источником для ужасных средневековых представлений об аде?
Не хватало пламени. И конечно — Сатаны. Люцифера, князя ада. А также Вельзевула и его демонов. И криков многих миллионов грешных душ, испытывающих вечные страдания.
С открытым ртом я смотрел в темноту грота. И вдруг начал смеяться. Очень странная реакция. Как бы то ни было, я оказался в аду. Но это казалось нереальным. Непостижимым. «Каждый из нас носит в себе свой ад», — писал римский автор Вергилий. У меня же их несколько. Увидеть, как твой папа падает со скалы в пропасть, увидеть, как твоя мама выходит замуж за своего любовника, — и то и другое событие не прошли для меня бесследно. Все эти годы я старался подавить безумные картинки, звуки и мысли. Крик папы. Измену мамы. Мой собственный ад. С годами не стало лучше. Врут те, кто говорит, что с годами становится легче. Не становится. Когда мои нервы завязывались в узел, мне негде было искать утешения. Только в темноте и тишине.
Как здесь.
В аду.
И вдруг я повернулся и побежал вверх по каменной лестнице.
— Бьорн? — крикнул мне вслед К. К.
Но я остановился только в большом зале. Здесь я ловил губами воздух, я был один на один со своим дыханием и страхом.
Услышав шаги других на лестнице, я ринулся в тень. Я освещал карманным фонариком самые темные углы пещеры и уходил все дальше. Пол был покрыт толстым слоем пыли, камешков и песка. Я заглядывал в каждую камеру, мимо которой проходил.
Вход в одну из них был выполнен в виде каменной арки. Я остановился и посветил внутрь.
И застыл.
Сначала я подумал, что меня вводят в заблуждение тени и луч карманного фонарика. Наверное, глаза и мозг неправильно истолковывают то, что никак не может находиться передо мной на расстоянии нескольких метров.
Но наконец, ужаснувшись, я понял, что вижу.
Шатаясь, сделал рывок назад.
Я слышал шаги остальных, шедших за мной следом: шарканье, хруст резиновых подошв по камням и песку на каменном полу.
Ничто — ничто из того безумия, которое я пережил на протяжении последних месяцев, — не подготовило меня к этому зрелищу.
РИМ
май 1970 года
Когда они проехали по узким улочкам Трастевере, появились тучи. Небо приобрело угрожающий серый оттенок. «Тучи, — подумал Джованни, — похожи на плохо выкрашенный хлопок». Они пересекли Тибр, миновали центр и выехали на окружную дорогу. Все время казалось, что небо вот-вот обрушит на них проливной ливень. Они ехали в сторону Неаполя. У Сан-Чезарио полиция контролировала скоростной режим, но их не остановили. Транспорта было немного. Джованни, зажатый между Примипилом и дверцей, смотрел на голову шофера и красную игральную кость, которая тряслась под зеркалом заднего вида. Над горизонтом поднималась зарница. Джованни показалось, что это пламя, вырвавшееся из стволов огромных пушек. Он услышал звуки далекого грома. Или это не хватало воздуха в шинах? Через несколько километров они съехали на второстепенную дорогу, развернулись и поехали на север, к Риму. «Это они проверяют, нет ли за нами слежки», — подумал Джованни.
Вдоль дороги росли высокие деревья. Аллея была с километр в длину. Джованни подумал, что когда-то раньше она вела к помещичьей усадьбе, давно снесенной. Никто в автомобиле ничего не говорил. Они проехали мимо фермы с брошенными на поле тракторами и какой-то конной повозкой — свидетельством давно ушедших времен. Джованни думал о Сильване. Думал о раненом египтянине и декане Росси. О Лучане. И Энрико. Он думал о том, как за несколько часов его жизнь превратилась в руины. Убийство. Брак. Манускрипт. Он займется этим потом. Когда Сильвана будет в надежном месте. Все это было сейчас не важно. Главное — спасти Сильвану. Они проехали через маленький городок с узкими улочками. Около каменного дома стояла группа мальчишек, игравших мячом о стену. Они довольно равнодушно посмотрели вслед проезжающему автомобилю. Когда они ехали по безлюдной площади, Джованни бросил взгляд внутрь церкви, двери которой были открыты. Увидел крест со Спасителем Иисусом Христом. Незаметно скрестил руки в молитве.
«Бог мой! Дорогой Бог! Прости меня. Прости меня за мои сомнения. Прости меня за то, что я думал, что Ты меня покинул. Ты можешь простить меня? Пусть с Сильваной ничего не случится. Она всего лишь ребенок. Господи на небесах, Ты нам нужен больше, чем когда-либо раньше. Помоги нам. Помоги Сильване. Услышь мою молитву, Господи. Во имя Иисуса, аминь». Они продолжали двигаться на северо-восток. Джованни никогда раньше не ездил по этой дороге. Небо становилось все чернее.
— Монастырь, куда мы едем, — сказал Великий Магистр, и слова его прозвучали так неожиданно, что Джованни вздрогнул, — был построен в Средние века. В 1423 году. Монахи покинули его во время войны. В 1942 году. «Покинули» не совсем верное слово. Монашеский орден был уничтожен фашистами. Хрупкий баланс между Католической церковью и фашистским движением был нарушен. Орден Святой Девы Марии представлял собой религиозную идеологию, которая угрожала фашистской идеологии Муссолини.
[344] В последующий период никто не осмелился воспользоваться имуществом монастыря: католики — из чувства религиозного уважения, а государство — из опасения, что в худшем случае это могло бы привести к глубокому конфликту с более умеренными секциями ордена Святой Девы Марии.
— Ради всего святого, какое отношение к этому имеет Сильвана?
— Орден Святой Девы Марии был одной из общин в Риме, которая имела тесные контакты с нашим орденом.
Джованни не подозревал, что дракулианцы были связаны с итальянскими орденами и мужскими монастырями. Он всегда считал, что дракулианцы — маргинальное движение, не имевшее особой поддержки. Мысль о том, что такой известный орден, как орден Святой Девы Марии, имел с ними связь, напугала его. Какие еще общины и секты — не афишируя — черпали вдохновение у таких экстремистских фундаменталистов, как дракулианцы? И почему? Кто их поддерживает сегодня? «Похоже, мир сошел с ума».
Они продолжали ехать в темноту навстречу непогоде.
VIII
СКЕЛЕТ
АЛЬ-ХИЛЛА
1 сентября 2009 года
Скелет лежал на возвышении из красноватого гранита, которое напоминало алтарь. Четыре колонны с высеченным орнаментом, напоминавшим переплетенные цветы, стояли по углам каменного цоколя. Гранитный фундамент был декорирован рельефами и надписями, вырезанными на камне.
Череп был развернут таким образом, что казалось, будто покойник смотрит на нас. Глазные яблоки превратились в два черных шарика. Тонкая погребальная ткань давно сгнила, обрывки и нити лежали вперемешку с остатками костей. На макушке сохранились тонкие, как шелк, волосики. Значительные части скелета все еще были покрыты кожей и мускулами. Большая часть внутренних органов сохранилась. Зубы были очень маленькие, плоские, похожие на молочные. Вероятно, он лежал, сложив руки на груди, когда умирал, так как правая рука застыла на изогнутых ребрах. На среднем пальце красовалось золотое кольцо с драгоценным камнем. Толстые черные как уголь ногти казались когтями хищника. Левое предплечье и ладонь провалились между ребрами. На шее висела цепь с подвеской в виде трикветра.
Но более всего на меня произвело впечатление другое.
Непостижимым, поразительным, тем, от чего у меня захватило дыхание, был его размер.
При жизни это существо было, видимо, высотой более четырех метров.
Гигант. Титан.
Все в нем — нижние и верхние конечности, а также позвоночник — было длинным и как будто растянутым. Череп, большой и круглый, имел такую форму, что у меня возникло подозрение, что лицо этого переростка было скорее ужасным, чем некрасивым.
— Боже милосердный, — прошептал я. Мой голос дрожал, а дыхание прерывалось.
К. К. подошел вплотную к останкам урода и стал изучать, не дотрагиваясь. За спиной у нас молча полукругом выстроились остальные.
— Что с ним? — спросил я. — Почему он такой огромный?
К. К. осмотрел череп существа, потом повернулся ко мне.
— Это, — сказал он, — нефилим.
Впервые за все время голос К. К. дрожал.
— Нефилим? — вскрикнул я. — Гигант из Библии?
— Друзья, дорогие коллеги, — торжественно произнес он, обращаясь ко всем присутствующим, и несколько раз прокашлялся, — этот скелет принадлежит представителю рода легендарных гигантов, которые, по рассказам Ветхого Завета, жили среди людей до Потопа.
РИМ
май 1970 года
Дыхание прерывается. Все тело дрожит. Сейчас ты умрешь, Сильвана.
Странно, что мне все равно.
Я больше не могу.
IX
НЕФИЛИМЫ
АЛЬ-ХИЛЛА
1 сентября 2009 года
Вечернее солнце бросало через прямоугольный портал зиккурата приливно-отливные волны света. Звуки снаружи — от генераторов, бульдозеров, грузовиков — были почти не слышны и сливались в далекий неясный гул.
К. К. осторожно взял меня за рукав:
— Пойдем, Бьорн?
Хотелось пить — от жары и пережитого испуга, я мечтал о прохладном воздухе в штабном бараке.
— Да, идем.
И мы вместе пошли навстречу слепящему серебристо-белому свету.
В штабном бараке кондиционеры понизили температуру до двадцати двух градусов. Я шлепнулся на один из стульев у стола совещаний. Пот струился по мне. Я соединил руки, чтобы они перестали дрожать.
— Воды, Бьорн?
— Да, спасибо.
К. К. налил воды, поставил передо мной стакан и взял потрепанную Библию с полки над письменным столом. Я одним глотком выпил полстакана.
— Для сравнения, — сказал К. К., — самый высокий человек в мире — Роберт Першинг Уодлоу — к моменту своей смерти в 1940 году имел рост 272 сантиметра.
— Но тот парень был, вероятно, высотой в четыре-пять метров?
— Да. У него совершенно другая природа. Он…
— Нефилим?
— Гигант, исполин. Библейское слово «нефилим» происходит из древнееврейского или арамейского языков. Языковеды все еще обсуждают вопрос, что это значит: всего лишь «гигант» или «тот, кто заставляет других падать».
К. К. лизнул палец и стал листать книги Моисеевы, пока не нашел то, что искал:
Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих и брали их себе в жены, какую кто избрал. <…> В то время были на земле исполины,[345] особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим и они стали рождать им. Это сильные, издревле славные люди.[346]
— Большинство культур имеют мифы о великанах. В Норвегии говорили о йотунах и троллях. Греки имели титанов и гигантов. В индуизме их называли дайтиа. В Ветхом Завете мы можем прочитать о царе аморитов Оге — последнем из Рефаимов, рода гигантов. Традиционно принято считать, что Ог выжил во время Всемирного потопа, поскольку сумел зацепиться за Ноев ковчег. Он прожил около трех тысяч лет. В Пятой Моисеевой книге мы читаем о царе Оге:
Вот, одр его, одр железный, и теперь в Раве, у сынов Аммоновых: длина его девять локтей, а ширина его четыре локтя, локтей мужеских.[347]
— Гроб длиной в четыре с половиной метра — впечатляет, даже если учитывать, что это царь.
К. К. продолжал перелистывать Ветхий Завет:
Там видели мы и исполинов, сынов Енаковых, от исполинского рода; и мы были в глазах наших пред ними как саранча, такими же были мы в глазах их.[348]
— Кто они, эти гиганты — нефилимы? — спросил я.
— Видишь ли, если верить мифологии, они не только имели огромный рост, но еще и очень долго жили. С этой точки зрения у них было нечто общее с первыми людьми, вспомни: Адам прожил 930 лет, Ной — 950, Мафусаил — 969, Иаред — 962, Сет — 912 лет. Упоминания о нефилимах есть в Книге Еноха,
[349] пророчестве, которое не было включено в состав Ветхого Завета:
И у них родились дети, и эти дети были исполинами[350] <…> И когда человек больше не мог кормить их, исполин повернулся и стал есть человека. От начали грешить против птиц и против животных и против пресмыкающихся и против рыб, начали есть мясо друг друга и пить кровь друг друга.[351]
— Шестая часть Книги Еноха называется «Книга исполинов», она стала важной частью основанного пророком Мани манихейства, из которого дракулианцы взяли значительную долю своей философии. В Книге Еноха мы можем прочитать, как исполин по имени Огиас сражался с драконом. В Талмуде Огиас описывается рядом с Гильгамешем. Видишь, как все переплетено? В вавилонской версии Талмуда есть этот же самый исполин под именем Огиа, он является отцом Сигона и Ога, которых мы находим в Первой Моисеевой книге. Огиа был сыном Самиазы, одного из падших ангелов, от которых рожали земные женщины. Интересно, что Самиаза, согласно христианской традиции, то же самое, что Сатана.
— Но кто они? — не унимался я. — Откуда они пришли?
— Ответ зависит от того, где его искать. Согласно Таргуму — арамейскому переводу и истолкованию Ветхого Завета, — нефилимы являются потомками падших ангелов, вступивших в связь с земными женщинами. Другие считают, что нефилимы — потомки иудейских богов, которым люди поклонялись, пока бог-создатель Яхве не уничтожил их. Свидетельства, подтверждающие эту гипотезу, были удалены из Моисеевых книг, поскольку не способствовали главной цели — собрать народ вокруг веры в единого всемогущего Бога. Согласно текстам, найденным археологами в древнем городе Угарит в Сирии, которые, в частности, содержат списки богов того времени, у Бога было семьдесят сыновей, каждый из которых надзирал за своим племенем.
— Так эти исполины, нефилимы, были потомками Бога?
— Не Бога! Сатаны!
— Разве ты не сказал только что…
— Древние мифы часто смешиваются с другими мифами. Самая распространенная теория — та, что нефилимы — потомки падших ангелов, которые завели детей с земными женщинами.
— Я не знал, что ангелы любили секс.
— Во времена Ноя многие ангелы поддались искушению и покинули Бога, чтобы иметь секс с женщинами. Ангелы говорили женщинам, что они мужчины. Они были неотразимы. Но дети от ангелов рождались уродами. Нефилимами. Агрессивными, злыми гигантами. Их уничтожил Всемирный потоп. Родители нефилимов — падшие ангелы — спаслись тем, что превратились в духов. Но для этих духов небесные врата были закрыты. Они нашли приют у Сатаны. И именно эти существа с тех пор называются демонами.
Зазвонил мобильник. К. К. заменил сигнал вызова знаменитыми словами Нила Армстронга:
That’s one small step for a man, one giant leap for mankind.[352] К. К. внимательно слушал. Задал несколько вопросов.
— Фантастика! — произнес он несколько раз. Когда он захлопнул телефон-раскладушку ловким движением иллюзиониста, его лицо осветила мальчишеская улыбка. — Нашли еще один манускрипт. Он лежал в серебряном ларце в одной из ниш зиккурата. Нефилим оставил нам еще одно сообщение.
X
«МЕДНЫЙ СВИТОК»
1
В моих фантазиях я вижу его, испытывающего жажду и измученного, он моргает из-за сверкания света, прикрывает рукой глаза. Воздух горячий и сухой. Высоко над ним, почти невидимый на расплавленном небе, парит сокол. Пастух Мухаммед эд-Дхиб бросает камень в пещеру, чтобы выгнать оттуда козу, которая заблудилась в темноте ночи.
Раздается звук разбиваемого кувшина…
Может быть, его звали и не Мухаммед эд-Дхиб. Истории самые разные.
После того как пастух коз нечаянно разбил кувшин, было найдено еще много глиняных сосудов в дальних пещерах и гротах вокруг Кумрана на Западном берегу. В кувшинах, запечатанных для будущих поколений, скрывалась почти тысяча древних манускриптов. Некоторые были папирусными, другие пергаментными.
Тексты, которым было две тысячи лет, оказались сокровищницей для исследователей. Написанные на папирусе и на выделанной коже, создававшиеся иудейской сектой ессеев
[353] на протяжении трехсот лет, они бросали новый свет на возникновение Библии.
Некоторые свитки содержали в себе фрагменты из Ветхого Завета, комментарии к Библии и религиозные трактаты. Археологи, теологи и другие ученые смогли прочитать рассуждения древних авторов по поводу веры, дисциплины и общественной жизни. Своды законов. Была найдена копия Десяти заповедей. Свиток «Война между сыновьями Света и сыновьями Тьмы». Часть текстов была апокрифами, не включенными в библейский канон. К их числу принадлежала знаменитая Книга Еноха.
Собрание текстов, которое Мухаммед эд-Дхиб нашел в 1947 году, известно сейчас всему миру под названием…
— «Свитки Мертвого моря»! — воскликнул К. К.
Он оперся костяшками пальцев на стол и наклонился ко мне, как будто взглядом хотел швырнуть мне весь сборник текстов.
— Ты можешь представить себе что-нибудь более пленительное, Бьорн? Тысяча древних текстов! Сама по себе находка «Свитков Мертвого моря» была сенсацией. Мировой сенсацией! Для верующих и неверующих. Для историков, для археологов, для палеографов. Но прежде всего для теологов. Находка, которая освежила интерес и дала новый импульс археологии и теологии. Кроме этого, среди свитков было обнаружено еще кое-что более интересное, чем древние тексты на папирусе и пергаменте. Ты когда-нибудь слышал о 3Q15?
— Звучит как имя робота в «Звездных войнах».
— Среди древних пергаментов и папирусных свитков в третьей пещере под Кумраном нашли нечто уникальное.
К. К. вынул из ящика своего письменного стола папку и театральным жестом положил на стол передо мной изображение:
— Как ни странно, очень немногие слышали о 3Q15.
Фотография изображала что-то похожее на старую жестяную банку, расплющенную молотком.
— Что это? — спросил я. — Железный лом?
— Название 3Q15 означает, что в пещере номер три в Кумране (Qumran) этот манускрипт был пятнадцатым по счету. Находка уникальная. Большинство текстов «Свитков Мертвого моря» написаны на папирусе или на пергаменте. 3Q15 написан на металле. Он выгравирован на тонком слое кованой меди с примесью одного процента олова.
— Ради всего святого, почему на металле?
— Потому что предполагалось хранить текст. Долго. Папирус и пергамент могут сохраняться на протяжении сотен, возможно, тысяч лет. Но то, что написано на металле, адресовано вечности.
— Вечности, скажешь тоже… Что же там написано?
— Поскольку металл был свернут и подвергнут коррозии, свиток сначала нужно было разрезать, чтобы расшифровывать дальше. В противоположность многим другим свиткам, текст на медном свитке не является ни библейским, ни религиозным. Он содержит много описаний того, где можно найти огромные сокровища. Двадцать тонн золота. Шестьдесят пять тонн серебра. Редкие спрятанные манускрипты. Текст описывал эти ценности с большим количеством деталей. Вот послушай. — Он откашлялся и по памяти стал цитировать:
В руинах Хореббаха, которые расположены в долине Аккор, под ступенями, ведущими на восток, около сорока шагов: лежит серебряный гроб, который весит семнадцать талантов.[354]
— Дальше идут три греческие буквы, KEN, которые до сих пор являются загадкой для исследователей. А потом текст продолжается:
В погребальной камере, в третьей группе камней, лежит сто золотых слитков. Девятьсот талантов спрятаны под слоями камней на дне большого резервуара во дворе, окруженном колоннадой.
[355]
— Нашли хоть что-нибудь из этих сокровищ?
— Кое-кто считает, что никаких сокровищ не существует, что «Медный свиток» — чистый обман. Ученые до сих пор не знают, является ли «Медный свиток» картой сокровищ или всего лишь чьей-то шуткой. Но, бог ты мой, зачем было древним шутникам тратить столько времени и сил на обыкновенный розыгрыш? Сначала надо было изготовить металл, раскатать его на тонкие пластины, потом выгравировать миллиметр за миллиметром текст длиной в полторы тысячи слов. И все это только для того, чтобы посмеяться над будущими археологами?
— Я завидую их чувству юмора.
— Есть одна деталь, связанная с «Медным свитком», которая ставит в тупик специалистов, особенно лингвистов и палеографов. А именно беспомощный язык и орфография. Ученые насчитали более тридцати орфографических ошибок. Почему? Ведь в то время писцы были очень квалифицированными специалистами по письму. Есть версия, что текст копировал иностранец, не владевший языком на достаточном уровне. Или же это происходило в большой спешке, непосредственно перед началом Иудейско-римской войны в 66 году. В дальнейшем возникли предположения, что «Медный свиток», собственно говоря, указывал путь к спрятанным религиозным сокровищам Первого и Второго храмов Иерусалима. И тогда речь,
скорее всего, идет не о золоте и серебре, а о ковчеге Завета и о каменных табличках с Десятью заповедями. Но никто не понял, чем на самом деле являлся «Медный свиток». Ни археологи. Ни теологи. Ни палеографы. Понял только один из моих предшественников, занимавшийся проектом «Люцифер».
— И что же он понял?
— За описаниями сокровищ он обнаружил нечто совсем другое. Шифр. Код.
2
— «Медный свиток» 3Q15 был найден в 1952 году, — сказал К. К., — но только в шестидесятые годы опубликовали его первый официальный перевод. И это притом, что наши специалисты — американские и израильские археологи, лингвисты, палеографы и другие эксперты — дали предварительный перевод в год обнаружения свитка. Важная деталь: они сумели дешифровать код.
— И что же там написано?
— «Медный свиток» перечисляет шестьдесят три подземные сокровищницы в местах, которые сегодня находятся на территории государства Израиль, где спрятано несколько тонн золота и серебра. Но тайный код рассказывает совершенно другое — где можно найти «Бронзовый свиток». Ессеи создали «Медный свиток», чтобы передать в нем закодированные сведения о расположении «Бронзового свитка».
— Который вы нашли?
— Да.
— И что же в нем?
К. К. снизил темп:
— Он содержит еще одно указание. На другую пещеру. За ложной каменной стеной в одном из гротов Кумрана ессеи спрятали «Серебряный свиток». И это еще не все: «Серебряный свиток» имел знак трикветра и силуэт павлина Малак-Тавуса. Теперь ты понимаешь, мы находим связь там, где для других только хаос и загадки?
3
— Знаешь, Бьорн, ни «Бронзовый», ни «Серебряный» свитки никогда не упоминались официально. Менее ста человек знает об их существовании. Теперь ты стал одним из них.
Все эти манускрипты и металлические свитки начали у меня путаться в голове.
— Какая же информация была в «Серебряном свитке»? — спросил я. — Еще один код? Еще указание?
— «Серебряный свиток» — эпический и мифологический рассказ. Правда, язык — аккадский — очень хромает, он совсем беспомощный. Этому есть свое объяснение. Для создателя «Серебряного свитка» родным был не язык вавилонян. Скажем так, осторожно: он с большим трудом выучил язык своей новой родины. Он хотел, чтобы написанное им могли прочитать через тысячи лет. Именно из-за «Серебряного свитка» наша группа — проект «Люцифер» — была создана в 1952 году.
На лице К. К. сияла лукавая улыбка. Я понял, что мы наконец стали приближаться к сути и разрешению всех загадок Евангелия Люцифера.
— «Серебряный свиток» дал толчок безумной горячке, — продолжал он. — Было создано несколько комиссий — многие из них даже не знали, с какой целью их собрали. Одно хорошо известное подразделение, которое возникло в связи с изучением «Серебряного свитка», по-прежнему является любимым объектом теоретиков конспирации во всем мире. Это подразделение напрямую подчиняется проекту «Люцифер». Но сами они этого не знали. Они думали, что посылают отчеты министру обороны, который, в свою очередь, тоже не знал, о чем идет речь. Для непосвященных проект выглядел как имеющий отношение к американской противовоздушной обороне, но там тоже не могли понять, зачем они выполняют такую странную работу. Да им не надо было этого понимать, потому что работали они на нас.
— 1952 год? Мы сейчас говорим о том, о чем я думаю?
— А о чем ты думаешь, Бьорн? — К. К. подмигнул левым глазом.
— О проекте
Blue Book.
[356]
— Да, — сказал К. К. расслабленно и пошевелил своими безупречными пальцами.
— Мы сейчас говорим об одном и том же? Об исследованиях Военно-воздушных сил США, посвященных вероятности появления НЛО?
К. К. оставил в покое свои ногти и взглянул на меня:
— Проект
Blue Book проанализировал 12 618 наблюдений за НЛО. Самолеты. Воздушные шары. Шаровые молнии. Метеорологические явления. Официально проект
Blue Book был создан для анализа наблюдений за неопознанными летающими объектами, о которых сообщалось в то время. Комиссия
Blue Book должна была выяснить, не могут ли НЛО представлять собой угрозу для США. Но это был всего-навсего отвлекающий маневр. Совершенно секретным обоснованием этого проекта была находка «Серебряного свитка».
РИМ
май 1970 года
Это конец.
Я больше не могу.
Не могу дышать.
Ло-Ло замолк. Меня это пугает. Почему Ло-Ло молчит?
— Ло-Ло? — говорю я.
— Ш-ш-ш, — шепчет Ло-Ло.
Он берет своей рукой мою руку. Осторожно сжимает ее. Я не могу ответить тем же.
— Ло-Ло, я умру?
Он не отвечает, снова сжимает мою руку.
— Ло-Ло?
— Дружок, — шепчет Ло-Ло и гладит меня по лбу, — тебе надо набраться сил. Ради мамы. Ради папы. Ради меня.
Я устала.
Спать нельзя.
Я так устала.
XI
ОУЭХ
АЛЬ-ХИЛЛА
1 сентября 2009 года
— «Серебряный свиток», — сказал К. К., — был написан здесь, в Месопотамии, в Вавилоне, более 4500 лет назад.
Снаружи доносились обычные звуки строительных работ: шум бульдозеров, стуки по металлу, крики, треск улетавших и прилетавших на базу вертолетов.
Я попросил:
— Объясни мне, как мифологический текст может привести к тому, что спустя 4500 лет будут созданы проект
Blue Book и проект «Люцифер».
К. К. крепко сжал ладони:
— Давай прежде всего вспомним, что есть поразительное сходство между шумерскими и вавилонскими мифами, с одной стороны, и возникающим иудаизмом — с другой. Мы видим воспроизведение вавилонских мифов в Моисеевых книгах. Возьмем «Эпос о Гильгамеше». Так называемая стандартная версия этого текста была найдена…
— …археологом Остином Генри Лэйардом
[357] в 1849 году, — продолжил я. Археологам это хорошо известно. — В руинах библиотеки Ашшурбанипала в древнем городе Ниневии — неподалеку от современного города Мосул в Ираке — он наткнулся на тысячи глиняных табличек с древними мифами и эпосами о богах. В «Эпосе о Гильгамеше» мы можем прочитать о наводнении и об одной супружеской паре, которая пережила наводнение благодаря содействию богов, — поразительное сходство с библейским Всемирным потопом.
— Это не просто сходство. Герой эпоса встречает, как и в рассказе о саде Эдема, хитрую змею, которая ворует источник вечной жизни не только у царя Урука, но и у всего человечества. В эпосе мы читаем, как Энкиду — друга Гильгамеша — создают из глины, в точности как Адама. Оба являются точными копиями бога-создателя. В поисках вечной жизни Гильгамеш встречает человека по имени Утнапиштим, единственного человека, жившего вечно. От своего бога Утнапиштим получил совет построить ковчег и взять с собой членов своей семьи и еще по паре всех животных. Потом бог вызвал поток воды, в котором утонули все люди. Даже в истории об Иове, которого мучит Сатана, можно найти аккадские истоки в месопотамской поэме
Ludlul bel nemeqi («Восславлю владыку мудрости»). В этой поэме предшественник Иова подвергается в точности тем же испытаниям.
— И вавилонский миф о Сотворении мира «Энума элиш» имеет поразительное сходство с последующими религиями, — добавил я. — В «Энума элиш» и в Библии Вселенная и ее обитатели появляются в результате того, что Бог поочередно создает небо и землю, свет и тьму, воду, море и твердь, флору и фауну, и человека. И в обеих версиях Бог должен отдохнуть, завершив созидание. Но в этом нет ничего нового, К. К. Отзвуки шумерских и вавилонских мифов мы находим и в более поздних религиях.
— Интересно, что ты упомянул именно «Энума элиш». — К. К. достал из папки листок, который протянул мне через стол:
Когда ты спустишься с неба, чтобы принять решение, это будет местом твоего отдыха перед встречей.
Я назову его «Вавилон», «Дом Великих Богов».[358]
— Ветхозаветное понимание земли, неба и моря, — сказал К. К., — имеет много общих черт с «Энума элиш». Строго говоря, «Энума элиш» был не повествованием о создании мира, а литературным произведением, предназначенным поставить бога Мардука выше всех других месопотамских богов.
— Явная параллель с книгами Моисеевыми, которые начали создавать на триста-четыреста лет позже. Но там, где «Энума элиш» выделяет Мардука как
важнейшего из богов, книги Моисеевы делают еще один шаг вперед, называя Бога
единственным истинным богом. Не важнейшим, а единственным! Всемогущим!
— Версия, обнаруженная Лэйардом, относится к 700 году до Рождества Христова, другие варианты эпоса на пятьсот-семьсот лет старше. Значит, эта мифология родилась в тот же период, что и иудейская мифология. Насколько случайны черты их сходства? Бог Адапа, который позже стал более известен как Оаннес, дал людям мудрость. Он научил людей создавать цивилизации. А Мардук? Он правил пятьюдесятью основными шумерскими богами, функции которых — например, управление городами — чрезвычайно напоминают о задачах христианских святых.
Я усиленно пытался понять, куда клонит К. К.
— Не хочешь же ты объяснить интерес проекта к Евангелию Люцифера и «Серебряному свитку» тем очевидным фактом, что мифы и религии мира имеют общее происхождение?
— Объяснение еще более простое, и связано оно с тем,
кто писал «Серебряный свиток».
— И кто же?
— Он прибыл в Месопотамию более пяти тысяч лет назад. Прибыл вместе с группой соотечественников. Их было около двухсот. Они были не такие, как все. И их восприняли как богов.
— Нефилимы на гастролях? — пошутил я.
— Они были очень рослыми, что в последующем послужило основой для рассказов о нефилимах.
— Написавший «Серебряный свиток», — это его скелет мы нашли?
— Именно так.
— И кто же он?
— Его имя Оуэх, и он прибыл из космоса.
РИМ
май 1970 года
Очень высоко, в конце туннеля, сверкает свет, такой сильный, что я не могу смотреть на него.
— Ло-Ло, — шепчу я, а может быть, это я только думаю, а не шепчу, — что это за свет?
— Какой свет? — спрашивает Ло-Ло.
— Яркий свет.
— Дружок, ты лежишь в гробу в полной темноте с закрытыми глазами.
— Ты не видишь свет?
— Нет.
— И ангелов ты тоже не видишь?
XII
НЕВЕРОЯТНО!
АЛЬ-ХИЛЛА
1 сентября 2009 года
Когда тебя охватывает безумие, ты можешь найти спасение во многих вещах. Кто-то находит его в смехе. Кто-то совершает бегство в надежную гавань отрицания всего. А кто-то сует пальцы в уши и кричит как можно громче: ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА! — чтобы в результате перекричать тех, кого не хочет слушать. Такими уж мы созданы. Во всяком случае, некоторые из нас. Я именно из этой породы людей. Я убегаю или прячусь от того, чего не хочу знать. Я внимательно смотрел на К. К., чтобы найти какой-то признак, что он пошутил. Но его лицо не менялось. Губы не дрожали от едва сдерживаемой улыбки. Глаза не щурились, предвещая взрыв веселья. Взгляд К. К. был совершенно спокоен. Он ждал, что его слова войдут в меня и взорвутся внутри моего сознания.
«Его имя Оуэх, и он прибыл из космоса».
Когда я был маленьким и стая кровожадных пираний, которая скрывалась под обманным названием «школьные друзья», издевалась надо мной в школьном дворе, обзывала меня бледнолицым и красноглазым и тыкала в меня презрительными взглядами и заточенными карандашами,
я убегал от них к фру Ульриксен, доброй и приветливой учительнице домоводства, которая следила за порядком во время перемен. Под прикрытием внушительного поля притяжения и бюста фру Ульриксен я чувствовал себя защищенным от нападений стаи
Pygocentrus piraya, которая впивалась в меня в надежде отхватить хотя бы кусочек. Много лет спустя, когда я, как обычно, в одиночестве поглощал свой ленч, я, листая газету, обнаружил статью о фру Ульриксен. Я помню, что застыл с куском хлеба в руке и полуоткрытым ртом. На протяжении пятнадцати лет над фру Ульриксен издевались ее коллеги-учителя. Теперь она обратилась в суд.
Методы ее коллег были, естественно, более утонченными, чем у моих школьных друзей, но результат тот же самый. Фру Ульриксен, как и я, чувствовала себя изгоем. Человеком, которому нет места в коллективе. Ее выживали молчанием, взглядами, повернутыми к ней спинами. Фру Ульриксен искала спасения в одиночестве переполненного школьного двора. С монументальной внешностью матроны она вышагивала по своему обычному маршруту — от фонтанчика с водой для питья к навесу от дождя и потом к фонарному столбу — и во время медленного прохождения спасала таких же несчастных, как я, от хищной злобы шайки. Мне никогда не приходило в голову, что она сама была жертвой. Я теперь всегда думаю о фру Ульриксен, когда что-то выглядит иначе, чем является на самом деле; когда я чувствую, что что-то остается недоговоренным, что-то прячется между строк.
«Его имя Оуэх, и он прибыл из космоса».
С самого первого момента, когда я бросил любопытный взгляд на Евангелие Люцифера, и на протяжении всей долгой и полной приключений охоты, чтобы найти решение загадки, я чувствовал присутствие чего-то, чего я не мог понять.
Чего-то вроде этого Оуэха…
В то же время объяснение К. К. было ударом под дых. Сродни диагнозу врача, установившего, что ты смертельно болен. Ты не можешь поверить, хочешь повернуть время вспять.
Оуэх прибыл из космоса.
Я подумал о фру Ульриксен. Она совершала свое бегство в школьный двор.
Мне бежать было некуда.
РИМ
май 1970 года
Они ехали вдоль обветшавшей стены длиной в несколько сот метров, только частично скрывавшей виноградную плантацию, которая когда-то в прошлом была частью поместья или монастыря, но теперь обрабатывалась лишь одним крестьянином, проживавшим поблизости. В некоторых местах стена обрушилась. Сорняки, мимоза и плющ росли на обочине рядом с монастырской стеной. Автомобиль поднимал облако пыли, которая опускалась на растительность вдоль покрытой щебнем проселочной дороги. На земле поодаль от дороги стоял брошенный трактор с прицепом. Над ним пролетела стая скворцов. «Скоро будет дождь», — подумал Джованни. Он повалился вперед, когда шофер притормозил, чтобы машина не попала в яму. Над стеной и между деревьями мелькала колокольня.
— Это, — сказал Великий Магистр, — монастырь Святой Девы Марии.
Джованни вспомнил оливковую рощу, в которой проработал несколько недель, когда был мальчишкой. Он до сих пор помнил все запахи: особый аромат спелых олив, сухой земли, листьев и насекомых. Тогда же он стал смотреть на старые деревья с большим уважением. Деревья, кора которых была покрыта трещинами веков, напомнили ему о бабушке с дедушкой. К семидесяти годам время превратило их лица в потрескавшиеся карты запустения. В тени под оливковыми деревьями молодой Джованни впервые задумался о течении времени. «Время, — пришло ему в голову в те дни, — совсем не прямая линия, вдоль которой бежит жизнь. Часовой механизм, — подумал Джованни, — не измеряет время, а разделяет его на маленькие кусочки и приводит их в порядок».
Они свернули во двор монастыря. Кованая решетка поддалась укусам времени. В середине двора высохший фонтан. Веселый херувим, который должен был заполнять фонтан водой, покрылся патиной из птичьего помета, мха и забвения. На долю секунды Джованни представил себе этот двор таким, каким тот был когда-то раньше. Он увидел идущих на вечернюю молитву монахов, воркующих голубей, струю воды в фонтане.
«Мерседес» остановился перед лестницей.
— Ну вот мы и прибыли, — сказал Великий Магистр.
Некоторое время все сидели неподвижно, словно были не в состоянии покинуть автомобиль.
— Идем?
Они вышли из машины и двинулись по территории заброшенного монастыря.
XIII
НЕВЕДОМОЕ
АЛЬ-ХИЛЛА
1 сентября 2009 года
— Оуэх?
Я попробовал произнести имя, как его произнес К. К.
К. К. посмотрел на меня взглядом, которым отец подбадривает своего растерявшегося сына. С искренним сочувствием.
Смириться с абсурдным — значит опрокинуть все, на что ты потратил жизнь. Никто из нас не берет в расчет непостижимое, неведомое.
— Оуэх из космоса?
Мой голос выдал мучившее меня сомнение.
К. К. подошел к кухонному столу и налил еще стакан воды. Ни слова не говоря, протянул его мне. Я жадно выпил.
— Ты, вероятно, думаешь, что я не понимаю твоего состояния? — сказал он. — Прекрасно понимаю.
Я отставил стакан и вытер рот.
— В первый раз, когда я услышал об этом, я ушел из конференц-зала злой как черт. Я решил, что коллеги издеваются надо мной.
Я все еще не знал, что сказать.
— Все наши взгляды на жизнь опираются на предположение, что мы, жители Земли, одиноки в космосе. Что мы уникальные Божии создания. — Он помолчал. — Довольно высокомерное предположение, если хочешь знать мое мнение. Только в Млечном Пути имеется сто тысяч миллионов звезд. Млечный Путь — всего лишь одна из многих миллиардов миллиардов галактик. А мы, такие наивно самодовольные, воображаем, что мы уникальны в непостижимо огромной Вселенной?
Я снова промолчал. Только покачал головой, пытаясь умножить сто тысяч миллионов на миллиард миллиардов; получилось много-много нулей.
— Если что-то кажется непостижимым, — сказал К. К., — это означает, что наш мозг не может оценивать. Насколько вероятным показалось бы римскому легионеру или крестьянину в восемнадцатом веке, что астронавт может ходить по Луне? Что это показывают по телевидению в прямом эфире по всей Земле? Мог ли человек каменного века понять концепт мобильного телефона? Мог ли фарисей во времена Иисуса представить себе компьютер или атомную бомбу? Они жили в другое время. Но и мы живем в другое время. Точно так же ты и я ограничены представлениями нашего времени.
Я выпил остаток воды, а К. К. продолжил:
— Мы, люди, допускаем ошибку, когда оцениваем все с позиции знаний и опыта своего времени. Вряд ли мы можем представить себе технологии, которые выходят за рамки того, что мы сами в состоянии понять. Я и ты, Бьорн, подобны двум обитателям пещер, которым предлагают разобраться в загадках квантовой физики.
— Я готов допустить, что на других планетах есть жизнь. Но вот посещали инопланетяне Землю или нет?
— Именно! Вопрос связан с расстояниями. Космическое пространство невероятно велико. Звезда проксима Центавра расположена от нас на расстоянии четырех световых лет, тау Кита — двенадцати световых лет. А это самые близкие к нам звезды.
— В таком случае как пришельцы попали сюда?
— Мы не нашли их космического корабля. Поэтому остается только гадать. Наша проблема в том, что мы слишком примитивны. По сравнению с Оуэхом наши выдающиеся астрономы и физики — всего лишь полуголые охотники джунглей, которые пытаются понять лазерное оружие. Концепты будущего, такие как ядерная пульсация, фузионные ракеты, световые паруса на лазерном топливе, уже намечены.
Все двигается невероятно быстро. Нужно думать совсем по-другому. Мы говорим о таких понятиях, как тахионы — которых, строго говоря, вообще не существует, — тахионные поля и тахионное конденсирование. О суперструнах. Теория босонских струн. Теория квантовых полей. Теория Гауге.
— Э-э…
— Я даже не буду пытаться объяснить, Бьорн. Это сферы, которые являются абстрактными даже для физиков. Здравого смысла в квантовой физике вообще нет. Для путешествий между звездами мы должны найти новую космологическую модель. Должны освободиться от таких ограничений, как время, пространство, скорость света и законы природы, как мы их знаем.
— Я не способен освободиться от всего этого.
— Мы должны думать по-другому. Должны найти короткие пути. В промежутках между измерениями. Найти змеиную пещеру, которая связывает время и пространство. Туннели между многочисленными вселенными. Физики считают, что параллельных вселенных несколько, они существуют наряду с нашей. Все они были созданы Большим взрывом
[359] четырнадцать миллиардов лет назад. И стали развиваться параллельно друг с другом. И в каждой из этих вселенных, Бьорн, есть эхо от тебя и от меня.
Отправитель: Примипил
Послано: 01.09.2009 20:55
Адресат: Легату легиона
Копия: Великому Магистру
Тема: Отчет: Аль-Хилла/Вавилон-II
Шифр: S/MIME РКС37
Dominus!
Приношу покорнейшую благодарность за мое награждение и причисление к числу блаженных во имя Люцифера. На протяжении многих лет я отдаю свою жизнь нашему братству. Sanctus bellum для меня всегда была самым важным и почетным делом. Доминус, конечно, я нахожусь в полном распоряжении ордена!
Примипил брат Рац
XIV
ПРИШЕЛЬЦЫ
АЛЬ-ХИЛЛА
1 сентября 2009 года
1
К. К. вынул из холодильника банку пива. Вопросительно посмотрел на меня: «будвайзера»? Я покачал головой. У меня голова и без пива шла кругом.
— Если Землю посещали пришельцы, — сказал я, — то должны же быть доказательства этого?
— Ты хочешь сказать — кроме Оуэха?
— И что же они оставили тут?
Он открыл банку, поднялась пена. Со смешком сказал:
— Ты знаешь, что многие рассказывали даже гораздо более невероятные истории о доисторических астронавтах, которые осуществили необъявленные визиты на Землю. Иммануил Великовски
[360] отнес библейские истории и мифы к тому времени, когда произошло столкновение между Землей, Венерой и Марсом в доисторические времена. Захария Ситчин
[361] утверждал, что в нашей Солнечной системе есть планета Нибиру, на которой существует очень продвинутая цивилизация, и что представители этой цивилизации посещают Землю каждый раз, когда эта планета проходит по своей орбите достаточно близко от нас. Дэвид Айк
[362] говорит, что Землей управляет Вавилонское братство — раса человекоподобных рептилий, возглавляемая королевой Елизаветой II,
[363] Джорджем Бушем
[364] и Крисом Кристофферсоном.
[365]
— Думаю, что я один из них. Во всяком случае, я чувствую себя рептилией, когда просыпаюсь по утрам.
— Самый знаменитый астроархеолог из всех — швейцарец Эрих фон Дэникен.
[366] В своих многочисленных книгах он утверждает, что инопланетяне прилетали на Землю в древности, что мир полон археологических доказательств этих посещений. Проблема состоит в том, что инопланетяне не были на Земле уже четыре-пять тысяч лет. Чтобы обнаружить их следы, нам приходится читать между строк мифы и документы религий. Именно в передаваемых веками религиозных памятниках еще живут свидетельства о загадочных небесных богах.
— В виде аллегорий?
— Да. В виде мифов, притч, видений, откровений. Даже в Библии ты можешь найти изображение космического корабля, приземлившегося прямо на глазах восторженного пророка, который решил, что стал свидетелем некоего религиозного видения.
Он перекинул мне через стол исписанный листок:
— Вот откровение из Ветхого Завета. Проведи эксперимент: прочитай текст глазами современного человека. И ты обнаружишь, что Иезекииль описывает астронавтов в непривычных одеяниях, пламень и рев тормозных двигателей приземлившегося корабля. Ты поймешь намеки на металл, стекло, механику, электронику, выхлопы.
И я видел: и вот бурный ветер шел от севера, великое облако и клубящийся огонь, и сияние вокруг него. А из средины его как бы свет пламени из средины огня; и из средины его видно было подобие четырех животных, — и таков был вид их: облик их был как у человека.
И вид этих животных был как вид горящих углей, как вид лампад; огонь ходил между животными, и сияние от огней и молния исходила из огня. И животные быстро двигались туда и сюда, как сверкает молния. И смотрел я на животных, — и вот на земле подле этих животных по одному колесу перед четырьмя лицами их. Вид колес и устроение их — как вид топаза, и подобие у всех четырех — одно; и по виду их, и по устроению их казалось, будто колеса находились в колесе.
И когда шли животные, шли и колеса подле них; а когда животные поднимались от земли, тогда поднимались и колеса.
Над головами животных было подобие свода, как вид изумительного кристалла, простертого сверху над головами их. А под сводом простирались крылья их прямо одно к другому, и у каждого были два крыла, которые покрывали их, у каждого два крыла покрывали тела их. И когда они шли, я слышал шум крыльев их, как бы шум многих вод, как бы глас Всемогущего, сильный шум, как бы шум в воинском стане; а когда они останавливались — опускали крылья свои.
А над сводом, который был над головами их, было подобие престола по виду как бы из камня сапфира; а над подобием престола было как бы подобие человека вверху на нем. И видел я как бы пылающий металл, как бы вид огня внутри его вокруг; от вида чресл его и выше и от вида чресл его и ниже я видел как бы некий огонь, и сияние было вокруг него.[367]
— Как это истолковать? — спросил К. К. — Как религиозное видение, экзальтированный и религиозный сон? Как Божественное откровение? Или как описание прибытия кабины, отправленной с основного корабля, находящегося на околоземной орбите? Фактически в мифологии имеется несколько подобных описаний. Иезекииль был не единственным, кто видел космический корабль. В «Эпосе о Гильгамеше» Энкиду носят над землей «крылья орла». Енох тоже летал на космическом корабле. В своей книге Енох описывает свою встречу с астронавтами, которых он воспринял как ангелов. Именно Енох дал первое в истории описание Земли с высоты птичьего полета.
2
— Верящие в палеоконтакты — посещение Земли в древности инопланетянами — демонстрируют что угодно: от живописных изображений похожих на астронавтов существ в пещерах вплоть до совершенных пирамид, — сказал К. К. — В лучшем случае мы говорим о косвенных доказательствах. Или о возможных истолкованиях.
— О каких косвенных доказательствах?
— О, сам знаешь. Стоунхендж. Пирамиды Гизы. Линии Наски в Перу. Календарь ацтеков. Математика майя. Астрономия китайцев. Багдадский аккумулятор. Антикитерская машина, механическое устройство, которому почти две тысячи лет, которое считается самой первой в мире аналоговой вычислительной машиной. Список длинный, очень длинный. Но речь все время идет об истолкованиях. Никто не предлагал считать косвенные доказательства прямыми. До настоящего момента. Теперь у нас
есть доказательства! Речь идет об объектах, которые совершенно очевидно имеют внеземное происхождение. А теперь у нас появился еще и скелет.
Я наполнил легкие воздухом и медленно выдохнул.
— Я понимаю твой скептицизм, Бьорн. Но я
знаю, что Оуэх прибыл с другой планеты. Я не фанатик. Я даже не любитель научной фантастики. Я никогда не смотрел
Star Trek, Babylon 5, X-files,
[368] или как еще там называются все эти телевизионные сериалы. Я рассказываю тебе это, потому что я
знаю. Потому что мне известна вся история. И даже древняя история, если угодно.
3
К. К. несколько раз глотнул пива, потом присел к столу:
— Давай вернемся к найденным в 1947 году «Свиткам Мертвого моря» и обнаруженному в 1952 «Серебряному свитку». «Серебряный свиток» поведал нам историю астронавта, прибывшего с другой планеты. Подписавший назвал себя Оуэхом. В «Серебряном свитке» Оуэх рассказал, откуда они с товарищами прибыли, что увидели на Земле. Его формулировки — окрашенные символикой и лексиконом, характерным для жрецов, у которых он научился языку, — содержат многочисленные раздражающие двусмысленности. Те, кто на протяжении десятилетий пытался прочитать и истолковать «Серебряный свиток», не понимали, что это рассказ астронавта, прилетевшего из космоса. Они воспринимали его как историю падшего ангела. Они поставили знак равенства между Оуэхом и Сатаной. Ничего странного. В «Серебряном свитке» он говорит о себе и своих астронавтах то как о
живших в небе, то как об
изгнанных с неба. Вероятнее всего, это не слишком удачный способ сформулировать, что их послали в экспедицию с их родной планеты. Очень типична формулировка
мы с крыльями, упавшие с неба. Нечеткая, плохая формулировка. Когда Оуэх говорит о
крыльях, он имеет в виду полет, то есть космический корабль. Но читавшие эту фразу понимали ее буквально. Ангелы упали с неба. Текст не очень хорошо написан. Как будто его писал ребенок. Или тот, кто недавно выучил местный язык. Аккадский. В аккадском языке сложная грамматика. Ты можешь представить себе, что изучаешь язык другой планеты? Фонетику. Значки. Грамматику. Орфографию.
— У меня были большие проблемы с немецким языком.
— О себе он написал, что
пришел с небесного моря. Он имел в виду космическое пространство. В тексте много таких двусмысленностей и странных формулировок. Поэтому его можно прочитать по-разному. В том числе и как религиозное пророчество или апокалипсис. Точно так же Нострадамуса
[369] можно читать сотнями разных способов. Как бы то ни было, текст написан существом, которое привыкло думать и формулировать свои мысли по-другому, чем это делаем мы, люди. Когда Оуэх говорит о себе как о
небесном боге, который упал подобно горящей звезде с неба, мы не можем воспринимать его слова буквально. Он позаимствовал красочный словарный запас у жрецов, которые обучили его языку и поклонялись ему как богу. Собственно говоря, Оуэх вел себя очень по-человечески — если только это слово применимо к нему, — он трудился, чтобы овладеть аккадским языком. Ничего удивительного, что он усвоил аллегорические формулировки жрецов.
— Непостижимо…
— Удивительное повествование, — продолжил К. К. — Оуэх рассказывает о группе из двухсот астронавтов — ангелов, — которые прилетели со своей родной планеты к нам на Землю. Хотя у них было много человеческих черт — это существа, созданные на основе, углерода, с двумя ногами, двумя руками, головой с глазами, носом и ртом, — генетически они не были похожи на нас, людей. Они были вдвое выше. Жили гораздо дольше. У нас, людей, потенциальная продолжительность жизни примерно сто — сто двадцать лет. Соплеменники Оуэха могли прожить несколько тысяч лет.
— Разве это возможно?
— Когда мы получим ответ на этот вопрос, мы сумеем разработать методику для продления нашей жизни.
— Но некую теорию вы, вероятно, уже имеете?
— Биологи должны найти объяснение в ДНК Оуэха. Теории у них, конечно, есть. Автоматически возобновляемые ДНК. Присутствие каких-то других энзимов, антиоксидантов и свободных кислородных радикалов. Что-то воздействующее на обмен веществ, замедляющее пульс, но при этом сохраняющее необходимый кровяной обмен в сердце и в мозгу. Автоматически обновляемые митохондрии. Что-то очищающее биологию всего организма. Все это в совокупности. Есть много теоретических способов продлить жизнь. Раса Оуэха была создана так самой природой.
— Представь себе — дожить до возраста в несколько тысяч лет.
— Даже останки его удивительно хорошо сохранились. Что-то препятствует старению. И распадению тканей. Ты видел это собственными глазами.
— Если честно, вид у него был непривлекательный.
— Я думаю, что мы полюбили бы его, Бьорн. Хотя он был высоким и очень непохожим на нас.
4
— А зачем он вообще написал эти тексты?
— Мы думаем, что Оуэх и его люди хотели нам помочь. Поделиться своими знаниями. Технологически цивилизация Оуэха опережала человечество на много десятков тысяч лет. Однако они обнаружили, что люди слишком примитивны, чтобы использовать то, чему они могли нас научить. Знания, принесенные Оуэхом со своей планеты, были слишком продвинутыми для человечества. И все же он хотел, чтобы последующие поколения людей знали, что они побывали здесь. Поэтому Оуэх позаботился о том, чтобы он и свитки, которые приведут к нему, были сохранены до поры до времени в тайне, дабы быть найденными, когда человечество достигнет определенного уровня развития и будет способно расшифровать и истолковать их. В дополнение к «Медному свитку», который Оуэх оставил здесь, в Вавилонской башне, он написал еще два текста — «Золотой свиток» и «Серебряный свиток», — которые могли гарантировать, что место его захоронения будет найдено и мы поймем, кем он был, — но только тогда, когда мы будем к этому готовы.
— Подожди-подожди. «Золотой свиток»? Ты ни слова не сказал о нем.
— «Золотой свиток», к сожалению, утрачен. Он был, как говорит название, написан на чистом золоте. В нем указывалось точное расположение Вавилонской башни с помощью геометрических и математических координат. Но как ты понимаешь, эта информация была бессмысленной для его современников, впрочем и для наших тоже. Только когда мы получили полный текст Евангелия Люцифера, доктор Гордон и ее штаб смогли расшифровать код, который необходим, чтобы найти координаты Вавилонской башни.
— «Серебряный свиток»… «Золотой свиток»… Что же такое Евангелие Люцифера?
— Я знаю, что это прозвучит странно, но Евангелие Люцифера можно охарактеризовать как резервную копию. Не так, как в компьютерах, конечно, но аккадский текст левой колонки представляет собой копию «Серебряного свитка». Символы и знаки в правой колонке — копия «Золотого свитка». Евангелие Люцифера написано на имеющем внеземное происхождение материале, который не поддается разрушению. Это дополнительная мера, предпринятая Оуэхом для обеспечения сохранности. На случай, если что-то произойдет с оригинальными текстами. А ведь так и произошло.
— И где он прятал свои свитки?
— Он спрятал «Золотой свиток» и «Серебряный свиток» в надежном укрытии.
— И тем не менее его нашли?
— Укрытие, которое он приказал построить, было самым надежным и неприступным из всех. И оно существует до сих пор. Ты сам его видел. Собственными глазами.
— Где? Когда?
— Поставь себя на место Оуэха. Вот сидит он в зиккурате в Вавилоне. Каждый день, каждую ночь он пишет послание потомкам. Все другие, прибывшие с ним, умерли. Ему поклоняются как богу. Но он знает, что все преходяще. Новые властители могут разрушить все, что построили их предшественники. Он знает природу человека. Поэтому он должен себя обезопасить. Зиккурат, в котором он живет, практически неприступен для грабителей гробниц. Ты сам знаешь, как мы вскрывали двери. У примитивных грабителей гробниц не было никаких шансов. Оуэх понимал, что надстройка башни, стоявшая на крепком фундаменте, рано или поздно разрушится и еще лучше прикроет его тайник.
Но если он будет слишком хорошо спрятан, ни Оуэх, ни «Медный свиток» никогда не будут обнаружены. Поэтому он искал другое место, где он мог бы разместить «указатели», то есть «Серебряный свиток» и «Золотой свиток». Ему требовалось солидное сооружение, которое проживет тысячелетия, это сооружение должно было быть настолько внушительным, чтобы будущие поколения обязательно начали его изучать. И таким образом, рассуждал Оуэх, человечество рано или поздно обнаружит тайник — желательно на такой стадии развития цивилизации, когда люди смогут осознать, чт
о им досталось. Об остальном ты, вероятно, догадался сам.
— Нет.
— Подумай. Какая цивилизация была самой могущественной во времена Оуэха?
— Примерно 2500 лет до Рождества Христова? М-да… Египет?
— Именно.
— Одна из пирамид в Гизе? Большая пирамида Хеопса?
— Совершенно верно. Большая пирамида была идеальным местом для Оуэха. Он самолично прибыл в Египет и уговорил Хеопса — или Куфу, как его называли египтяне, — воздвигнуть монументальное сооружение и сделать вид, будто оно будет местом его захоронения. Пирамида так и не стала местом захоронения Хеопса, это был тайник. Тайник Оуэха.
— Благородство могущественного властителя…
— Фараон считал Оуэха богом. Для них он был не астронавт из космического пространства, он был бог! А если бог стучится в дверь и просит помочь ему в чем-то, то даже язычник Бьорн будет рад согласиться, чтобы заработать свою порцию вечного блаженства, ведь так? Фараон Хеопс не медлил ни секунды. Он построил пирамиду, о которой попросил его Оуэх.
— И там Оуэх спрятал свои свитки?
— Оуэху нужны были три камеры. Главная камера, которая впоследствии получила название камеры Фараона, была расположена в центре пирамиды. От камеры Фараона две шахты указывают на гигантскую звезду зета Ориона и на альфа Дракона — Полярную звезду древности Тубан в созвездии Дракона. У нас есть гипотеза, что одна из шахт указывала на звездную систему Оуэха. В камере Фараона он положил в каменный саркофаг «Золотой свиток», который хранился в ларце из дерева акации, покрытого золотом. Ларец в саркофаге имел сто тридцать сантиметров в длину и семьдесят восемь сантиметров в ширину. Между прочим, эти размеры указаны в Библии для ковчега Завета.
Я промолчал.
— «Серебряный свиток» спрятали в камере Царицы. И по сей день египтологи не пришли к общему мнению, а лучше сказать, не знают предназначения этой камеры. И есть еще резервная копия, собственноручное творение Оуэха. Евангелие Люцифера. Копия «Золотого свитка» и «Серебряного свитка». Оно было спрятано в камере, расположенной на глубине почти в тридцать метров. Невероятное свершилось. Грабители сумели проникнуть через многочисленные системы защиты, которые блокировали проходы к камерам. Оуэх думал, что священный статус пирамид и камни, скрывавшие ходы к камерам, защитят манускрипт от грабителей. Но не вышло. Египетские грабители — большие хитрецы. В период Среднего царства египетской истории сокровища пирамиды были разворованы. «Золотой свиток» исчез навсегда. Мы можем только догадываться, что с ним случилось. Грабители, которые ничего не поняли из текста, вероятнее всего, раскололи его на маленькие кусочки и продали по отдельности. Судьба второго свитка была удачнее. Ларец из дерева акации без золотого покрытия появился у царя Соломона в его легендарном храме в Иерусалиме. То же самое произошло с «Серебряным свитком» и Евангелием Люцифера.
К. К. подошел к окну, посмотрел в него, потом продолжил:
— Римляне, разрушившие Второй храм в семидесятом году, похитили много сокровищ и святынь. Но при странном единодушии жрецов и ессеев «Серебряный свиток» избежал этой участи и был спрятан в пещере, где его нашли наши археологи в 1952 году.
— Которым, вероятно, показалось, что «Серебряный свиток» — фальшивка?
— Как ты думаешь, разве это не первая реакция любого, кто прочитает его? Поначалу главной целью нашего проекта было доказать, что Оуэх — сказочный персонаж, а «Серебряный свиток» — доисторическая фальшивка.
— И что же вас переубедило?
— Оуэх оставил предметы внеземного происхождения. Материал, на котором написано Евангелие Люцифера, например. Материал может, правда, напоминать шкуру животных, но в действительности — как это увидели твои друзья в Исландии — он синтетический. В ларце с «Серебряным свитком» лежало также что-то органическое — листок, — имеющее внеземное происхождение. Свежий красный листок. Каким-то образом его сохранили для вечности. Биологи, химики и все другие ученые исследуют этот листок почти шестьдесят лет. Он все еще не завял.
5
Только я собрался спросить, как мог листок не завянуть, когда распахнулась дверь штабного барака. К нам ворвался Дик Стоун:
— Мы знаем, кто он!
За ним в щели между прямоугольным очертанием двери и его силуэтом темнела чернота пустыни.
— Вы его поймали? — спросил К. К.
— Еще нет. — Начальник службы безопасности прикрыл дверь. — Его нет у себя в комнате. Но он не мог далеко уйти. Мои люди ищут его.
— Кто он?
— Один из тех, кто даже не был в списке подозреваемых, — сказал Дик Стоун и присел к столу. — За него поручился профессор Альдо Ломбарди.
Когда он увидел нашу реакцию, он, словно защищаясь, поднял руки:
— Профессор вне подозрения. Я говорил с ним по телефону несколько минут назад. Его нельзя ни в чем обвинять. Его ввели в заблуждение, так же как и вас. Ломбарди взял этого мерзавца на работу в Григорианский университет задолго до того, как его самого приняли в проект «Люцифер».
— Кто? — повторил К. К.
— Итальянец. Витторио Тассо. Семиотик.
Я вздрогнул. Витторио Тассо. Впервые я поздоровался с ним, когда пришел в кабинет профессора Альдо Ломбарди. Мы сталкивались с ним в секретном архиве Ватикана. Здесь, в лагере, он всегда держался в стороне — в столовой, в общих помещениях — и редко разговаривал с кем-либо. Я пытался пару раз обратиться к нему, но он не проявил интереса.
— Все это очень печально, — сказал Стоун. — Тассо — протеже профессора Ломбарди.
— Он все время был «кротом» дракулианцев, — задумчиво сказал К. К. — Поэтому они были хорошо информированы. Они знали, где мы. О чем мы думаем. Из-за Витторио Тассо информантом дракулианцев стал, сам того не ведая, и Альдо Ломбарди.
— Вместе с итальянскими спецслужбами мы изучаем его прошлое. По словам профессора Ломбарди, Витторио Тассо был принят в Григорианский университет в 1998 году. До этого он провел много лет, имея самые лучшие отзывы о работе, в университетах Болоньи, а еще раньше Турина. Докторскую степень получил в Кембридже.
— А когда он стал дракулианцем? — спросил я.
— Очевидно, он был им все время. Мы подозреваем, что он так называемый спящий агент. По документам, он родился в Бреши. Но его бумаги — свидетельство о рождении, свидетельство о крещении, школьный аттестат — фальшивые. Мы уже получили данные от местных органов власти и школьных управлений. Впервые след Витторио Тассо появляется в официальных итальянских регистрах, когда его приняли в университет Турина. Они основывали свои записи на фальшивых документах. Не сочли необходимым свериться с исходными документами. Мы проверяем сейчас, не прибыл ли он из Румынии, где у дракулианцев главная база, и…
6
— Великолепно!
Витторио Тассо был невысокого роста, невзрачный мужчина, с редкими волосами и в старомодных очках, отчего производил впечатление стареющего интеллигента. И вот теперь он стоял в дверях между штабом и коридором и выглядел кем угодно, только не интеллигентом. Никто из нас не слышал, как дверь открылась.
— Встать! Всем встать!
Голос был
слишком гнусавым и писклявым, чтобы внушать естественное уважение, которое должно быть связано с докторской степенью, его биографией и пистолетом «глок», который он направил на нас.
Мы встали. Начальник службы безопасности сделал шаг в сторону.
— Стоять спокойно!
— Витторио… — начал говорить К. К.
— Нет! В сложившихся обстоятельствах вы должны обращаться ко мне, используя мое настоящее имя. Брат Рац.
— Брат Рац… — повторил К. К. — Как хотите. Вы являетесь, судя по всему, дракулианцем?
— Я стал монахом-дракулианцем, когда мне исполнилось тринадцать лет. К этому времени я прожил в монастыре Сфант-Санж десять лет. Монахи воспитали меня.
— Вы ищете манускрипт?
— Да.
— Я должен вас разочаровать.
— Где он?
— Манускрипта в лагере нет.
— Вы недооцениваете меня.
— Брат Рац, манускрипт служил только одной цели. Он должен был показать, где находится Вавилонская башня. Зачем он вам теперь? Пророчеств, которые, как вы думали, находятся в третьей части, нет. Вы не найдете там ни слова о Боге, Сатане или Костхуле. Вы неправильно поняли текст. Послушайте меня! Вы…
— Где манускрипт?
— В надежном месте. Ни вы, ни ваши начальники не получат его.
Брат Рац вошел в комнату:
— Тогда мы сделаем таким образом. Сначала я застрелю Белтэ. Потом я застрелю начальника службы безопасности. В самом конце я выстрелю в тебя. Сначала в одно колено, затем в другое. И наконец — в живот. Говорят, выстрел в живот ужасен, это самый тяжелый способ умирать. Может, ты все же предпочтешь сообщить, где он.
Тассо, брат Рац, направил взгляд и оружие на меня.
Я — тряпка. От страха перед болью и перспективой смерти колени мои задрожали. Я схватился за спинку стула, чтобы не упасть.
— Так что будем делать? — спросил брат Рац у К. К.
К. К. сказал, что он, конечно, может рассказать, где находится манускрипт, — если уж нужен такой пустяк. В ушах у меня звенело, я не уловил, что он говорит. На несколько секунд я потерял сознание. А может быть, в меня выстрелили.
— Где? — крикнул брат Рац так громко, что едва не сорвал голос.
Только теперь я заметил две красные точки, которые танцевали на лбу брата Раца. Я подумал, что мне это мерещится.
— Где? — крикнул он еще раз.
— Конечно, послушайте меня… — начал К. К.
Снайперы, как я узнал позже, уже лежали в прикрытии грузовика, который стоял около штабного барака. Через микрофон на одежде начальника службы безопасности они слышали каждое сказанное слово.
— Мы знали, что он понял: мы его разоблачим и вы являетесь самой естественной целью для него, — объяснил начальник службы, когда все кончилось. — Мы все предусмотрели. Сделав шаг в сторону, я дал снайперам возможность беспрепятственно стрелять.
Когда две лазерные точки нашли друг друга на потном лбу брата Раца, взорвалось окно, а потом голова монаха. Зрелище не из приятных. Мне до сих пор мерещится эта картинка. Я бросился на кучу осколков стекла. Но все уже кончилось. Останки брата Раца лежали в той крови, которую он считал священной.
РИМ
май 1970 года
Свет.
Интенсивный, слепящий свет.
И воздух.
Я икаю. Кашляю. Хватаю воздух ртом.
Воздух…
Закрываю глаза локтем. Плачу. Кашляю.
Они кладут крышку на пол. Свет режет глаза. Меня вынимают из гроба. Часть меня осталась там. В гробу. Меня моют. Одевают. Мужчина с добрым голосом дает мне кекс и стакан сока.
* * *
Сильвана сидела на стуле в большой пустой трапезной монастыря. Ее ранец лежал рядом со стулом. Блузка приклеилась к тщедушному тельцу девочки. Лицо было бледным, вспотевшим.
Джованни расплакался:
— Сильвана!
Его голос заставил ее посмотреть вверх. Слабая улыбка. Но она не встала. Не бросилась ему навстречу. Она осталась сидеть на стуле, склонив голову набок.
Что они с ней сделали?
— Сильвана! Девочка моя!
* * *
Папа…
Вижу его, солнце светит мне в лицо.
Папа?
Папа пришел забрать меня. Или это кто-то другой и только выглядит как папа. Кто-то вошел в тело папы, смотрит на меня глазами папы.
Ло-Ло ушел. Вечно он исчезает.
— Сильвана! — говорит папа.
* * *
Он подбежал и поднял ее. Она слабо обхватила его за шею.
— Сильвана, Сильвана, Сильвана, — шептал он ей в волосы, которые были жирными и мокрыми от пота.
Ее кожа казалась холодной и липкой. Запах от нее был ужасный.
* * *
Он поднял меня со стула. Его голос идет откуда-то издалека:
— Сильвана, Сильвана, Сильвана…
Я пытаюсь улыбнуться. Он действительно мой папа? Где мама? Где Белла?
Пахнет он как папа.
* * *
— Как ты себя чувствуешь, дорогая?
Сильвана икнула.
— Папа пришел забрать тебя. Мама тебя ждет. Дома. Она так боялась за тебя! Теперь все будет хорошо.
Девочка прижалась к нему.
Джованни слушал ее жадное дыхание, она словно не могла надышаться.
— Теперь все кончилось, дружок.
Он посадил ее на стул и подержал ее лицо в руках.
Боже мой, что они сделали с ней? У нее был далекий безразличный взгляд. Он провел рукой по мокрому лбу дочери. Затем зло повернулся к группе мужчин, стоявших за его спиной:
— Что вы с ней сделали?
Великий Магистр шагнул вперед:
— Ей не причинили зла, профессор Нобиле.
— Посмотрите на нее!
— Несколько дней на свежем воздухе, и все будет в порядке.
— Свежий воздух?
— Ей не причинили вреда.
— Во имя Господа, неужели вы не могли держать ее взаперти в помещении? В квартире? Почему —
это?
Великий Магистр медленно развел руками. Из-за этого движения он стал похож на епископа в соборе.
— Потому что так предписано.
— Предписано? Где?
— В святом писании.
— В Библии не написано ничего,
ни единого слова о таких… безобразиях! Ни единого слова!
— Есть и другие святые писания, профессор Нобиле, кроме Библии. Об этом такому выдающемуся теологу, как вы, должно быть известно.
— Вы безумцы — вот что я вам скажу. Вы безумцы! Безумцы! Господи мой боже, да как же вы не понимаете…
Сильвана потянула его за рукав.
— Человек должен подчиняться и поклоняться своим богам, — сказал Великий Магистр.
— Богам, да?
Богам? А собственно говоря, о каких богах вы говорите?
* * *
Папа…
Он сердится. На мужчин.
Папа, не надо сердиться.
* * *
Когда они поехали в Рим, наконец пошел дождь.
Сильвана сидела у Джованни на коленях. Великий Магистр и двое его громил сидели тут же. Второй автомобиль с двоими мужчинами ехал следом. Тучи несли тяжелые занавеси проливного дождя. Капли дождя стучали по крыше и рикошетом отскакивали от асфальта. Усыпляющие монотонные передвижения дворников на лобовом стекле автомобиля напомнили ему о метрономе в доме учительницы музыки, у которой он учился до двенадцати лет. Движение транспорта в сторону Рима во второй половине дня затихло, но навстречу им из города тянулся плотный поток автомобилей. Джованни подумал, сколько лет ему предстоит пробыть в заключении. То, что Сильвана похищена, будет, надо полагать, считаться смягчающим обстоятельством. Но в любом случае он не имел никаких прав стрелять в не имеющего к этому отношения египтянина. Хотя выстрел был случайным. Он не собирался стрелять. Впрочем, он не имел права носить с собой пистолет. Во всяком случае, заряженный. Убийство по неосторожности — лучший вариант. Преднамеренное убийство, если ему не поверят. Заказное убийство — худший вариант. Как бы то ни было, он специально искал и нашел старый револьвер, зарядил его, пришел в университет, дождался декана и египтян. Об убийстве по неосторожности в этом случае трудно говорить — в юридическом смысле, — хотя он и не планировал убийства. Ему должны поверить? Сколько лет он может получить? Десять? Больше? Раньше он никогда особенно не размышлял на тему Уголовного кодекса. Преступники, думал он обычно, заслужили свое наказание. А теперь он стал одним из них.
Сильвана будет жить с Лучаной. Бедная девочка! Отец — убийца. Сможет ли она пережить свое пребывание в гробу? Он очень на это надеялся. Какое воздействие на психику ребенка оказывает пребывание в гробу? Придется сходить к профессионалам. Это было очевидно. Но получила ли Сильвана психологическую травму? Это покажет только время. Бедная Сильвана…
А что скажет Лучана? Достопочтенная Лучана. Она не переносила, даже если он лишал жизни рыбу. В краткий момент болезненного видения он увидел, что она берет с собой Сильвану и уезжает. Возможно, к Энрико? Настолько низко она не могла пасть. Несмотря ни на что. В то же время он не мог представить себе, что она будет ждать его, пока он отбывает наказание. Никогда. Настолько глубокой любовь Лучаны не была. Лучана привыкла, чтобы ее боготворили, любили, чтобы ей поклонялись. Десять лет без поклонения мужчины… Никогда.
Его, конечно, уволят. Декан Сальваторе Росси видел убийство собственными глазами. Совершенно очевидно, что он будет главным свидетелем обвинения во время судебного процесса. Формалист Сальваторе Росси… Теоретически можно продолжать исследовательскую деятельность и в тюрьме. Сидеть и работать в тесной камере или в тесном кабинете — разница небольшая. Но, конечно, это невозможно. Университет никогда не пойдет на то, чтобы человек, осужденный за убийство, остался профессором теологии. Пусть даже это демонология. Все проиграно. Он увидел это сейчас. Лучана. Работа. Научные исследования. Жизнь. Всё.
Когда они приблизились к окружной дороге, Великий Магистр спросил, куда ехать.
— Поезжайте ко мне домой, — ответил Джованни.
— Спасибо. Только этого недоставало! Прямо в лапы полиции.
— Можете остановиться в нескольких кварталах. Я покажу дорогу.
* * *
Они остановились в нескольких кварталах от многоэтажного дома, где жил Джованни с семьей. Держа Сильвану за руку, Джованни повел своих спутников по одной из параллельных улиц, потом по переулочкам, забитым велосипедами, мотороллерами и переполненными мусорными контейнерами с запахом гниющих фруктов.
— Мы скоро будем дома, Сильвана, — сказал он, — дома, с мамой и Беллой.
Сильвана не откликнулась. Они вышли на главную улицу в нескольких метрах от входа в табачную лавку Джованни. Как обычно, покупателей в ней не было. Торговец засиял, когда увидел Джованни и Сильвану.
— Ангел мой! — воскликнул он восторженно.
Сильвана слабо улыбнулась.
— Джованни! — сказал Джованни.
— Джованни! — сказал Джованни.
— Все хорошо?
Торговец с беспокойством посмотрел на одетых в шикарные костюмы мужчин, которые заполнили его маленький магазин.
— Мне нужен мой дипломат.
Торговец подождал немного, наблюдая за незнакомыми мужчинами.
— Ты уверен, Джованни?
— Да. Спасибо за помощь. Дай мне дипломат, это все. Полный порядок.
Торговец пробормотал:
— Да-да-да, — и вышел в другую комнату.
Они слышали, как он возится. Потом вернулся с дипломатом и протянул его Джованни.
— Откройте! — приказал Великий Магистр.
Джованни открыл дипломат. Манускрипт лежал там, завернутый в ткань, внутри картонной папки.
— Спасибо, — сказал Великий Магистр.
И дал знак одному из громил, который выхватил пистолет и выстрелил торговцу прямо между глаз. Тот тяжело упал, сначала на полки с маленькими сигарами, потом пополз на пол, его закрыли сотни сигар. Послышался булькающий звук.
— Мне очень жаль, профессор Нобиле. — Голос Великого Магистра ничего не выражал. — Никаких свидетелей быть не должно. Сожалею. Вы, конечно, понимаете. Я очень высоко ценю вашу помощь. Но должно быть только так. Я сожалею.
«Конечно, — подумал Джованни. — Мы им больше не нужны. Ни я, ни Сильвана. Они получили то, что хотели получить. Сейчас они нас убьют. Никаких свидетелей. Потом они сунут пистолет мне в руку. В руку сумасшедшего профессора. У которого поехала крыша. Которого одолели демоны. Он уже убил египтянина из-за идиотского древнего манускрипта. Он убил торговца табачной лавки. Потом убил свою дочь и наконец себя. Все ясно».
Джованни толкнул Сильвану к прилавку, чтобы она оказалась у него за спиной, а рукой стал шарить в правом кармане в поисках пистолета. Они думали, что орудие убийства у него изъято. Жалкий профессор. Им просто не могло прийти в голову, что пистолет все еще при нем.
Держа пистолет в кармане, он выстрелил Великому Магистру в грудь, громиле в голову. Оба упали. Тогда он выстрелил во второго громилу, который хотел схватиться за оружие. Остальные, по-видимому, были не вооружены. Они стояли неподвижно, парализованные, потом подняли руки вверх.
— Всем лечь! — крикнул Джованни.
Они вытянулись на полу.
— Лежать!
Он встретился взглядом с Великим Магистром. Кровавые пузыри выходили у того изо рта. Он пытался что-то сказать, но слов невозможно было разобрать.
— Сильвана, — позвал дочку Джованни, — идем, дружочек.
Он схватил дипломат с манускриптом, взял за руку Сильвану и увел ее с собой навсегда.
XV
МОНИК
АЛЬ-ХИЛЛА
2 сентября 2009 года
1
Когда солнце взошло над пустыней, возникло ощущение, будто накануне ничего не случилось.
В шесть часов утра я проснулся, как всегда, при сигнале побудки из военного лагеря. Я побрел вниз по лестнице, заглянул в туалет и продолжил путь к большому общему душу, где брился К. К.
— Все хорошо? — спросил К. К.
— У меня перед глазами все еще стоит картина смерти Тассо.
— Я знаю, какие у тебя ощущения. Пообщайся с военным врачом. Говорят, это помогает.
Ученые работали в три смены с пяти часов утра. Каждый квадратный метр зиккурата был сфотографирован, снят на видео, зафиксирован на планах и описан словами. Защитный каркас из пластика был сооружен над останками Оуэха. Часть большого зала была отгорожена, так что биологи могли беспрепятственно проводить анализы. В походной лаборатории, где проводилась классификация и каталогизация всего доставленного из погребального зала, работа шла круглые сутки. После регистрации артефакты упаковывались в алюминиевые ящики с пенопластом, имеющим форму каждого предмета. Алюминиевые ящики погружались в специальные контейнеры и отправлялись в США для более детального анализа.
Около входа в лагерь вырос городок средств массовой информации. Многие крупные телеканалы переместили своих военных корреспондентов и спутниковые передатчики из Багдада. Несмотря на большие газетные материалы и длинные телевизионные репортажи о Вавилонской башне, новость об Оуэхе еще не просочилась в прессу. К. К. очень боялся, что факт обнаружения Оуэха станет известным. Такая новость, думал он, должна быть представлена миру с тем уважением, которого заслуживает. План его состоял в том, чтобы президент США доложил о находке на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в речи, которую будут транслировать в прямом эфире на весь мир.
Журналисты оценили открытие местонахождения Вавилонской башни как нечто среднее между историческим курьезом и военно-политическим осложнением. Никто из них не догадался, чем мы
на самом деле занимались. Но в конечном счете это не играло никакой роли.
2
Я увидел ее, когда шел из столовой в штабной барак. Она только что покинула территорию автостоянки и, окруженная облаком пыли, направлялась по узкой пешеходной дорожке к барачному городку.
Моник.
Увидев меня, она остановилась. Ветер трепал ее волосы. Они больше не были светлыми. Они были жгуче-черными.
— Моник! — пробормотал я, сам себе не веря.
Глаза ее распухли, покраснели, стали будто стеклянными. Только тогда я понял. В другом мире, в своей постели в Амстердаме, Дирк ван Рейсевейк перестал бороться.
Я похлопал ее.
— Прими мои соболезнования, — шепнул я.
Она прижалась к моему плечу.
«Спасибо», — сказали ее губы.
Я неловко обнял ее, — это было что-то среднее между жестом утешения и лаской. Она вынула блокнот. «Я сидела рядом, когда он уходил», — написала она. Ее взгляд обеспокоил меня. Казалось, она хочет написать еще что-то. Она помедлила. Видимо, какая-то мысль, пришедшая ей в голову, успокоила ее. И она написала: «Я хочу пить!»
3
«Я приехала, чтобы рассказать тебе кое-что», — написала Моник.
Мы сидели на скамейке перед бараком, держа стаканы лимонада с кусочками льда. Я принес два вентилятора — один для Моник, другой для себя. Поток воздуха шевелил листки ее блокнота.
В глубине души я надеялся, что она напишет, что любит меня. Что она хотела бы, чтобы мы состарились вместе. Что она наконец освободилась от брачных цепей, связывавших ее с Дирком, и может теперь отдаться чувствам. Ко мне. Что-то в этом духе. Бьорн, романтик.
«Я знаю, что ты разочарован, — написала она. — Не делай вид, что не понимаешь. Ты думаешь, что я тебя обманула».
Я не мог полностью отрицать этого. Она
на самом деле обманула меня. Она все время была заодно с К. К.
«Я не могла говорить. Тогда, — написала она. — Теперь Дирка нет… Это он настаивал. Все время. У него была мания анонимности. — Она вопросительно посмотрела на меня. — Ты действительно этого не понял?»
Я не имел ни малейшего представления, о чем она говорила.
Десять-пятнадцать секунд она рисовала в блокноте каракули. Потом написала: «Кем был Дирк?»
— Дирк был твоим мужем.
Она вздрогнула, словно Дирк вдруг стал полтергейстом и воспользовался возможностью дать ей пощечину.
«Моим мужем? Почему ты так думаешь?»
Выражение неподдельного искреннего изумления не могло быть комедией.
— Это… я всегда воспринимал как данность. Кто-то мне сказал. А вы не были женаты?
«Женаты? Никогда! Это абсурд!»
Она покачала головой.
«Я тебе никогда не давала повода так думать».
— Извини. Я так понял. Видимо, это недоразумение.
Она еще помедлила, потом написала: «Задай себе вопрос, почему Дирк и я жили скрываясь?»
— Потому что вам больше нравились деликатность и скромная жизнь?
«Добрый, милый, наивный Бьорн».
Поток воздуха от вентилятора щекотал мою спину.
«Дирк ван Рейсевейк не был голландцем, — написала она. — Он был итальянцем. Его настоящее имя — Джованни Нобиле».
4
Джованни Нобиле…
Итальянский теолог. Демонолог.
— Я думал, что Джованни Нобиле был убит!
«Он хотел, чтобы все именно так и думали».
Я взглянул на нее.
И понял. Наконец.
Все понял. Глупый, глупый Бьорн.
Я посмотрел на ее красивое лицо, золотистый оттенок кожи, карие глаза.
— Ты — его дочь.
Она кивнула.
— Ты никогда не была его женой. Ты — дочь Джованни Нобиле.
Она кивнула.
— Ты — Сильвана.
Она продолжала кивать.
«Да, — написала она. — Я — Сильвана Нобиле».
5
И она стала рассказывать.
Она писала. Долго. Я читал ее историю — листок за листком.
Я прочитал о том дне, когда ее похитили рядом со школой. Как ее положили в гроб. Я читал о бесконечных часах, когда она была там в заточении.
«В гробу я потеряла способность говорить, — написала она. — Врачи ничего не могут объяснить. Папа водил меня к специалистам. Голос остался там. В гробу. Я не жду, что ты поймешь. Слова не идут из меня. Насчет паука — вынужденная ложь. ГРОБ сделал меня немой. Гроб!»
Мы смотрели друг на друга. Я ощущал поток воздуха от вентилятора и слабый аромат «Шанель № 5».
«Мы с папой бежали. Сначала из Рима. От полиции. От монахов. Все они охотились за папой. Полиция. Секта. Университет. Антиквар Луиджи. Мы прожили несколько недель у папиного друга в Орбетелло. Несколько недель в Градо. В Триесте. У папы много друзей. Людей, на которых он мог положиться. Они нам помогли получить новые имена. Фальшивые паспорта. Удостоверения личности. Украли у одного умершего. Голландца. В Амстердаме папе помог обустроиться один коллега».
— А твоя мама?
На лице боль.
«Она приезжала в Орбетелло. Тайно. Этого мама не смогла перенести. Мне трудно объяснить. Она не хотела вечно жить в бегах. Может быть, в отношениях между ними были проблемы. Не знаю».
— Но она разрешила папе увезти тебя?
«Она хотела, чтобы я осталась с ней. Вернулась в Рим. Папа сказал „нет“. Это было опасно».
— Понятно.
«Мама сказала, что она потом приедет. Когда все успокоится. Но этого так и не произошло».
— Что потом?
Моник долго смотрела в пространство. Как будто хотела у себя самой получить точный ответ.
«Итальянские власти объявили папу умершим. Много лет спустя. Мама снова вышла замуж. За своего начальника. Энрико. Родила двух сыновей. Я никогда не встречалась с ними. Моими сводными братьями».
Я подумал про собственную маму и своего сводного брата. Судьба Моник неким образом была связана с моей судьбой.
«Я встречалась с мамой пять раз до ее смерти», — написала она.
— Каким образом проект «Люцифер» нашел вас в Амстердаме?
«Наоборот. Это папа нашел их. Он никогда не переставал заниматься Евангелием Люцифера. Следил за развитием событий. В среде специалистов. В журналах. Спустя несколько лет он понял, что не только дракулианцы, но и международная группа исследователей ищет манускрипт. Устроил ловушку. И заманил К. К. — Она перевернула страницу. — Когда папа проникся доверием к К. К., то рассказал ему о себе. И отдал манускрипт, который оберегал начиная с 1970 года. Стал частью группы исследователей. Очень нужным человеком. Как ты».
Она открыла сумку, вынула конверт и протянула его мне.
«От папы. Мне пришлось принести с чердака старую пишущую машинку. Пробовала научить его пользоваться моим ноутбуком. Но нет. Ему был нужен только „Ремингтон“. Который прислала нам мама вместе с коллекцией грампластинок и моими игрушками, когда переехала из нашей квартиры в Риме».
Ее перо застыло.
«Папа умер на следующий день после того, как написал это письмо».
XVI
ПИСЬМО (2)
АМСТЕРДАМ
30 августа 2009 г.
Дорогой Бьорн Белтэ!
Мой юный настойчивый друг. Прошу извинить меня. Теперь, когда Сильвана все тебе объяснила, я надеюсь на твое понимание и прощение. Что касается меня, то уже слишком поздно. Когда Сильвана передаст тебе письмо, я буду мертв.
Прошу тебя, как мужчина мужчину, не веди с Сильваной двойной игры. Я знаю, что она высоко ценит тебя. Так же как я. Я узнаю в тебе многие черты себя самого. Я хотел бы, чтобы ты присмотрел за моей дочерью. Теперь, когда меня нет, она осталась в мире одна.
Я посвятил свою жизнь тому, чтобы разрешить загадку Евангелия Люцифера. В самый первый день, когда я дотронулся до манускрипта в 1970 году, текст заколдовал меня. Это Евангелие изменило всю мою жизнь. Скажу по секрету; когда Карл Коллинз позвонил мне и сказал, что ты нашел Оуэха, я заплакал. А я не из тех, кого легко довести до слез.
Я чувствую потребность — в качестве последнего и совсем незначительного жеста — дать объяснение, чтобы все было понятно. Ты, возможно, спрашиваешь себя, нет ли связи между Оуэхом и мифами о Сатане? Евангелие Люцифера само по себе объясняет все недоразумения и неверные толкования, которые возникали на протяжении истории.
Когда манускрипт нашли после разрушения Второго храма в 70 году, он был прочитан как магический и еретический текст. Те части текста, которые тогда не поняли, были истолкованы как оккультные. Те же части, которые были поняты — они были написаны на аккадском языке, — истолковали неверно. Священники и библеисты восприняли всякие упоминания и аллегории как рассказ о падших ангелах, о войне между сыновьями Света и Тьмы, об изгнании Люцифера с небес. Как ты сам понимаешь, текст был полон аллегорий, которые нашли богатую пищу при распространении христианства.
Все мифы о Люцифере, который, как факел, упал с небес, о нефилимах, ангелах и демонах своим происхождением обязаны встрече людей с Оуэхом и прибывшими с ним пришельцами. Существа, которые в основном выглядели как мы, но были гораздо выше, могущественнее, умнее, старше. Странно ли, что люди восприняли их как богов?
Концепт «ангелы» был создан не в это время — во всяком случае, в христианском понимании этих наполовину божественных духов. Когда жрецам надо было прославлять и зрительно изображать Оуэха — в форме крылатого божества, которое спустилось с небес, — они выбрали символ, который для них представлял самую красивую и самую эффектную птицу: павлина. Малак-Тавуса. Так появился первый ангел.
Разве не соответствует человеческой природе то, что мы — вслед за жрецами и пророками — превратили их позже в дьяволов и демонов?
Согласно мифологии, Сатана увел с собой с небес третью часть ангелов после бунта против Бога. Исходный материал — это двести инопланетян, прибывших к нам с небес, из космоса. Как же несправедливо мы с ними обошлись, превратив их в дьяволов и демонов. Они прибыли, чтобы помочь нам. Они были нашими друзьями. Нашими учителями. Они познакомили нас с сельским хозяйством и созданием государства, с астрономией и математикой — со всем тем, что требуется, чтобы цивилизация развивалась. Они превратили нас, племена примитивных кочевников, в цивилизованных, мыслящих людей. Они сформировали человечество.
И как же мы их отблагодарили? Мы превратили их в носителей зла. Мы сочли их угрозой. Чем-то опасным. Мы превратили их в демонов. В подручных зла. Мы восприняли их самым худшим образом. Разве не характерно для нас, людей, что мы видим в других только самое плохое?
Кто-то должен вернуть им утраченную честь. Они этого заслуживают. Бьорн Белтэ, я униженно прошу тебя: расскажи их истинную историю. Окажи им честь и уважение — и благодарность, которой они заслуживают.
Это, мой юный друг, все, что я хотел сказать. Я устал. Пусть так и будет. Мир тебе.
С дружеским приветом, Джованни Нобиле
P. S.: Впервые за сорок лет я могу бесстрашно подписаться своим настоящим именам. Это все равно что вновь обрести самого себя.
P. P. S.: Я думаю, что моя дочь Сильвана не станет возражать, если ты продолжишь общаться с ней.
XVII
СОН
АЛЬ-ХИЛЛА
3 сентября 2009 года
1
Ночью я лежал в постели и думал о том, что мне нужно было все понять намного раньше. Неужели я такой легковерный, как мне намекнула Моник? Да, может быть. Очевидно, что так.
Моник уехала домой в день приезда. Нужно было уладить все дела с похоронами. Я обещал ей писать.
«Прекрасно», — ответила она в блокноте.
И что-то было во взгляде…
Прекрасно…
Надо называть ее Сильвана. Но для меня она навсегда останется Моник.
Когда я наконец заснул, мне приснилась планета Оуэха. Было что-то удивительно знакомое в моем сне. Я шел по лесу, где вся растительность была красной. Вдали горы и леса. Солнце больше нашего, с красноватым оттенком. У планеты две луны. Одна большая, розоватая, другая поменьше, голубоватая; возможно, малая луна вращается вокруг большой. Мне снилось море с парусниками, которые напоминали финикийские торговые суда, а рядом плавали суперсовременные суда обтекаемых форм из блестящего металла. Волны набегали на прибрежную линию с округленными водой камнями. На берегу здесь и там поднимались незнакомые деревья. Некоторые напоминали пальмы, у других огромные листья покрывали колючки; на третьих росли маленькие цветы. Солнечный закат окрашивал облака в красный цвет. Неотчетливое зарево на рубеже света и тени создавало иллюзию мерцающего золота, отчего казалось, что если сунуть туда руку, то оно на руке так и останется. На горизонте — у подножия горы — виднелся силуэт города. Дома были узкие и высокие, скорее башни, чем дома, но их форма без углов и острых краев придавала городу сходство с термитниками. Некоторые дома украшали ниши, башни и шпили, другие были гладкие и лишены всяческого декора. Отдельные дома соединяли друг с другом мостики. Окна разбросаны по фасаду произвольно, как будто внутри не существовало деления на этажи, а они просто строились в несколько уровней, в чем трудно усмотреть логику. Там и тут летали какие-то уродливые…
— Бьорн!
…птицы между домами.
— Проснись! Бьорн!
К. К. постучал громче и одним махом остановил сновидение. Он был окружен облаком пыли и энтузиазма.
— Войдите, — пробормотал я в полусне и сел на кровати. Нашел очки и наручные часы на стуле. Было 02.36.
К. К. махал пачкой бумаг:
— Невероятно! Идем со мной!
— Сейчас половина третьего…
— Идем!
— …ночи!
— Об этом надо поговорить!
— Об этом?
— Идем! Идем смотреть на звезды.
— Смотреть… на… звезды?
— Одевайся. На улице холодно!
2
В пустыне было очень темно, жутко холодно, а небо усыпано звездами. Я как следует закутался в свою куртку, когда К. К. водил меня вокруг зиккурата. Когда мы остановились, К. К. поставил руки на пояс и посмотрел в небо. Над нами светили звезды.
— Более пяти тысяч звезд видно невооруженным глазом, — сказал К. К. — За ними прячутся миллиарды миллиардов и еще миллиарды миллиардов звезд, которых мы не видим. Но они там есть.
Когда я не ответил, он продолжил:
— Смотреть на звезды — значит смотреть в прошлое. Настолько далеко они от нас. До Луны полторы секунды. До Солнца восемь минут. Но некоторые видимые нами звезды послали нам свой свет, когда на Лютера сыпались проклятия, когда был распят Иисус, когда строились пирамиды. Когда астрономы забираются в самые отдаленные глубины Вселенной, они видят свет звезд того времени, когда Земли вообще не существовало. — Он похлопал себя по плечам. — Невероятно холодно!
Казалось, он отодвигал сюрприз как можно дальше.
— Мне передали предварительный перевод текста Оуэха, который сделала рабочая группа палеографов, лингвистов и филологов.
Он пнул ногой кусок глины, который поднял облако пыли. Потом указал на точку в небе:
— Туманность Андромеды! Один из самых отдаленных объектов, которые можно видеть невооруженным глазом. До нее два с половиной миллиона световых лет. Глаз воспринимает ее как одну звезду. Но в этой галактике более тысячи миллиардов звезд. Подумать только! Точка на небе состоит из тысячи миллиардов звезд. И та точка, Бьорн, та точка, которую мы видим как раз в это мгновение, послала свой свет два с половиной миллиарда лет тому назад. Здесь, на Земле, обезьяна только еще начинала превращаться в человека.
К. К. повернулся ко мне. Я видел перед собой мальчишку, который когда-то давно на поле в Канзасе смотрел на звезды.
— К. К., что мы делаем среди пустыни в половине третьего ночи?
— Помнишь, мы говорили о выражении
harga-me-giddo-dom?
— Судный день.
— Нет-нет-нет. Наше чтение было неверным. Мы не поняли. Судный день… Астероиды… Вознесение… Небесные объекты… Все не так. — К. К. рассмеялся. — Только теперь, когда лингвисты просмотрели последние послания Оуэха, нам стало понятно, что он, собственно говоря, имел в виду. И это невероятно, Бьорн, совершенно невероятно.
— И что же он имел в виду?
— Слово
harga-me-giddo-dom представляет собой аккадскую транскрипцию слова родного языка Оуэха. И оно не значит Судный день, конец или что-то в этом роде, как мы думали. На языке Оуэха часть слова
harga-me означает что-то вроде «возвращения» или «вернуться куда-то опять». A
giddo-dom — имя собственное. Это название Оуэх и прибывшие с ним пришельцы дали Земле.
— В таком случае
harga-me-giddo-dom означает… «возвращение на Землю».
К. К. не мог удержать улыбку:
— Ну, ведь правда невероятно?
Холодная темнота, идут секунды, потом до меня дошло.
— Они вернутся? Люди Оуэха?
— Да! Ведь правда невероятно?
— Сюда? На Землю?
— Да! Все эти зашифрованные формулировки — все, что мы истолковывали и пытались понять, — не означают ничего другого, кроме того, что они предупредили о своем возвращении.
К. К. засмеялся. Или заплакал. Понять было трудно.
— «Новое время наступит» значит не то, что Земля погибнет, — сказал К. К., успокоившись. — «Новое время» значит, что они вернутся. И к тому времени они наконец встретятся с цивилизацией, с которой смогут вступить в контакт. Мы сможем поучиться у них. Сможем развиваться. Перенимать у них знания. Избежать их ошибок. Подумать только! Сородичи Оуэха там у себя собирали знания на протяжении сотен тысяч лет. И всеми этими знаниями они поделятся с нами.
— Оуэх прибыл слишком рано.
— Он был не первым посетителем Земли. Согласно последним истолкованиям текста, обитатели его родной планеты посещали Землю раз в пять тысяч лет все доисторическое время. В первый раз, когда они прибыли сюда, наши предки были всего лишь стадами животных. Они превратили этих животных в людей.
— Почему? Почему они взвалили на себя это бремя?
К. К. помолчал. Посмотрел на небо, потом на зиккурат и встретился со мной взглядом:
— Я получил от биологов отчет сегодня утром. Они изучили обнаруженные останки.
— И что же они установили? Кроме того, что он умер?
— Мы его родственники, Бьорн! — К. К. помолчал. — Оуэх и человеческая раса! Правда невероятно? Это меняет наше восприятие Вселенной.
— Как это может быть? Каким образом мы можем быть родственниками?
— Мы получили от генетиков предварительный анализ ДНК. Анализ митохондриальной ДНК Оуэха говорит, что мы все — его потомки. Мы обнаружили общее происхождение МТ ДНК Оуэха, это значит, что мы можем оценивать наше место во Вселенной совершенно по-другому. Либо Оуэх и его люди общались с земными женщинами — что уже означает близкое биологическое родство. В таком случае они — наши предки, а мы, люди, их потомки. Или же Оуэх и мы, люди, происходим из одного и того же места где-то в космическом пространстве.
Я пытался осмыслить то, что говорил К. К. Это было непросто.
— Ты хочешь сказать, что у нас общая биология?
— Долго же до тебя доходит. Люди Оуэха были способны совокупляться с земными женщинами, что означает наше тесное биологическое родство, или же общим было наше происхождение когда-то очень давно в какой-то точке в космосе. Я не знаю, какая альтернатива более невероятная.
— Общее происхождение? Ты хочешь сказать, это было на какой-то третьей планете?
— Я не могу ответить на этот вопрос. Мы — люди каменного века, Бьорн. Мы не способны увидеть всю картину сразу. Одну гипотезу в астробиологии называют «панспермия». Она утверждает, что космическое пространство насыщено «семенами жизни». Вселенная имеет огромные размеры, но вся ее материя происходит от единого акта Большого взрыва одной-единственной точки с невероятной концентрацией энергии, в результате которого возникла Вселенная. «Семена жизни», возможно, рассыпаны по всему космическому пространству. Согласно родственной гипотезе — «экзогенезису», — жизнь на Земле возникла, когда метеоры принесли сюда некие устойчивые бактерии. Такие же бактерии могли попасть на другие, похожие на Землю, планеты и дать аналогичным образом начало жизни.
— Но без вмешательства Бога…
— Кто знает? А существует ли план созидания Вселенной? — Мы оба автоматически посмотрели на звездное небо над нашими головами. — Если бы я осмелился мыслить как философ или специалист по религии, то я определил бы Бога как универсальную первоначальную силу. Не как мысль, не как библейского патриарха, который управляет человечеством с заботой о каждом из нас, а
силу. Силу, возникшую одновременно с Вселенной в качестве части Вселенной. Разве все религии мира не есть жалкие потуги людей установить рамки этой не подлежащей определению силы? Силы, которую некоторые называют Богом.
К. К. вынул из нагрудного кармана сигару и закурил. Огонек светился оранжевой точкой в темноте. Он предложил сигару мне. Я удивил нас обоих тем, что взял ее.
— Когда можно ждать их обратно? — спросил я и зажег сигару спичкой, которую протянул мне К. К.
— Оуэх сам пишет, что это произойдет через 1 647 000 суток. Это значит — в течение ближайших пятнадцати лет. Может быть, в 2012 году? Самое позднее — в 2024-м.
—
Они вернутся на Землю… — ошеломленно повторил я сам себе, не в состоянии осмыслить сказанное. Я попробовал представить себе последствия того, что рассказал мне К. К. Дым сигары разъедал рот. — Мы — далекие родственники.
— Ну правда это невероятно, Бьорн?
— Но зачем? Зачем они вернутся?
— Может быть, по такой абсолютно банальной причине, что хотят нам помочь.
— Зачем?
— Неужели не понимаешь? Чтобы сделать этот мир более удобным для жизни.
3
Когда я снова лег спать, я встретился во сне с Оуэхом.
Сначала я подумал, что нахожусь на чужой планете. Но когда Оуэх подошел ко мне, я понял, что мы оба здесь. В пустыне. На Земле.
Giddo-dom.
Он улыбнулся. Во всяком случае, я подумал, что он улыбнулся. Сказать трудно. Рот имел что-то очень слабо напоминающее губы… Вид у него был совсем не дружелюбный. Это правда. И все же я смог увидеть в нем что-то человеческое под широким балахоном: две руки, две ноги, шею и голову, только он был невероятно высоким и худым. Голова узкая, продолговатая, заостренная макушка. Он был лысым, но на самой макушке торчал пучок волос, и еще немного волос было за небольшими ушами. Нос казался слишком маленьким для такого длинного лица.
Бьорн.
Я не услышал его голоса. Его слова — или, может быть, мысли — сразу появились у меня в голове.
— Оуэх, — ответил я.
Он протянул костлявую руку и погладил меня по волосам:
Вы уже подготовились.
Он улыбнулся. Кажется, улыбнулся. На его бледном лице я почувствовал благожелательность. Несмотря на сон, я почувствовал желание познакомиться с этим добрым свободным существом, который умер давным-давно.
Не думай, это не сон, Бьорн.
— Не сон?
Сновидения связывают наши мысли наперекор всему, что нас разделяет: времени и пространству, жизни и смерти.
Он взглянул мне в глаза. Я не рассмотрел, какого цвета у него глаза. Протянул руку и потрогал его. Кожа была не как у человека. Толстая. Грубая. Красноватая.
— Оуэх…
Но что сказать ему, я не знал. Сон начал уходить от меня. Я попытался задержать его настроением, нежностью, которые исходили от этого удивительного создания.
Помни…
И он растворился.
Я открыл глаза и попробовал вернуть сон. Но ничего не вышло.
Мне уже не хватало Оуэха. Хотя он явился ко мне во сне.
Может быть, я узнал в нем самого себя. Одинокого. Не такого, как все. Оторвавшегося от дома. У меня есть некая странность: я идентифицирую себя всегда и с кем угодно.
ЭПИЛОГ

Здесь конец слова.
Пророк Даниил
Это не конец. Это даже не начало конца. Но это, может быть, конец начала.
Уинстон Черчилль
ВАВИЛОН
2560 год до Рождества Христова
«Сегодня ночью, — подумал он, — я умру».
Это факт, а не предположение. Стремление к тишине. Осознание…
«Мое время здесь, на Земле, истекло». Да-да-да. Он чувствует грусть? Более всего он чувствует нестерпимую тоску по дому. Смерть, подумал он, есть всего лишь переход. Изменение.
Шаг, еще шаг, он поднимается по крутой лестнице до вершины пирамиды. От подагры ноги ноют. Он останавливается. Еще пять ступеней. Он задыхается. Он устал. «Теперь я остался один, — думает он. — Сегодня наконец дошла очередь до меня». Он переводит дыхание и двигается дальше. Его вытянутое тело неустойчиво. Он собирает последние силы и садится на трон, который воздвигли для него. Он любит сидеть здесь, на вершине пирамиды, смотреть в небо, на город и пустыню. В городе горят факелы и масляные светильники. Вавилон… Как долго он был его домом? Слишком долго.
Его кожа, красноватая, грубая, чешется и шелушится. С тех самых пор, как он прибыл сюда, он чешется, появились лишаи. Жуткое солнце пустыни! Он любит ночь. Темноту. Прохладные ветерки, полные ароматов. Над ним купол неба с обилием звезд. Он любит небо. Много лет тому назад, прибыв в город у моря, он тихо радовался, сидя в одиночестве на берегу и глядя на горизонт. У каждого моря есть берег. Небо безбрежно. Из города доносится шум голосов людей, лай собак, звуки струнных инструментов, нежное звучание дудочки. Он чувствует запах пищи — даже после многих лет пребывания здесь у него все еще есть проблемы с их пищей — и сладкий запах, который тянется с полей, где растут дыни.
Когда костры потухают и город замолкает, он шагает по ступенькам вниз, к зиккурату. С трудом доходит до входа. И останавливается. В последний раз смотрит на окружающую местность и на город. Поднимает взгляд к звездному небу, наполняет легкие воздухом — отвратительным сухим воздухом пустыни — и медленно выдыхает.
Послание написано. Одно слово за другим, одну строку за другой писал он текст, потом спрятал его для потомков. Текст на золоте, который рассказывает, где найти его тело и все то, что он оставил. Манускрипт на серебре, который рассказывает историю его жизни. И копию двух текстов, написанных на материале, который он привез из дому. Он хорошо спрятал рукописи — в пирамиде одного из властителей Египетского царства. Как же того зовут? Не вспомнил. Все эти чужие имена… Когда смогут люди понять то, что написано в манускрипте? Через тысячу лет? Через пять тысяч лет? Губы растягиваются, можно назвать это улыбкой. Через десять тысяч лет? Или никогда? Как примитивны эти люди! Наивные, простодушные, невероятно примитивные. И опасные. Для себя. Друг для друга.
Что увидят члены новой команды, которая прибудет сюда через пять тысяч лет? Если исходить из того, что он знает, то, возможно, люди истребят друг друга задолго до этого срока. Они источают насилие. Любят войны. Переполнены ненавистью. Может быть, знания сделают их более миролюбивыми? Хотя бы когда-нибудь. Надежда умирает последней, думает он.
Он входит, зажигает факел и поворачивает тяжелые рукоятки запора, вставляет болты и пломбирует замок. Остается наедине с тишиной и мраком. Медленно бредет по залу, к каменному постаменту и ложу на нем. Когда зиккурат был построен и люди освятили его в честь Оуэха, постамент вносили сюда двести человек…
С тихим стоном опускается на ложе. Потягивается и ложится. Складывает руки на груди.
Домой… Лежит и смотрит в темноту. Потом закрывает глаза.
Сегодня ночью, думает Оуэх.
 class="book">
е-nu-ma e-lis la na-bu-usa-ma-mu sap-lis am-ma-tum s u-ma la zak-rat
Прежде чем высокие небеса возникли [получили имя],
А Земля под ними еще не была создана [ей дали имя].
class="book">
е-nu-ma e-lis la na-bu-usa-ma-mu sap-lis am-ma-tum s u-ma la zak-rat
Прежде чем высокие небеса возникли [получили имя],
А Земля под ними еще не была создана [ей дали имя].
Вавилонский миф о Сотворении мира «Энума элиш»
И упала с неба большая звезда,
Горящая подобно светильнику…
Откровение Иоанна Богослова
Луис Мануэль Руис
Только одной вещи не найти на свете.
Только одной вещи не найти на свете.Забвения. [370]
«Everness». Хорхе Луис Борхес.
* * *
Чтобы узнать город, подумала она, надо прежде выпотрошить его, оставить совсем пустым. Иначе на сетчатке глаза отпечатается лишь что-то вроде процесса обмена веществ, и город будет заслонен привычным мельканием человеческих лиц, машин, автобусов с набитым брюхом, хлопаньем оконных занавесок, похожих на веки над глазами-окнами, — словом, всем тем, с чем мы ошибочно отождествляем город, хотя на самом-то деле он лишь покорно все это в себя принимает. Чтобы понять город, решила она, как и для того, чтобы испытать дружбу, нужно молчание, нужна тишина; ведь порой мы чувствуем, что не можем по-настоящему понять человека, пока он рядом. Поэтому город, который теперь распростерся перед ней, вернее, окружал ее, подобно скорлупе, и открывался взору веером зданий в стиле XVIII века, дробился и множился колоннами, балюстрадами, цоколями, фронтонами, крышами, — этот город был куда реальнее, чем все те блеклые города, где она до сих пор успела побывать и чей облик непоправимо искажался магазинами, потоками машин, толпами обитателей, а также туристов с путеводителями в руках. Но этот город — а лучше сказать, его серо-голубой остов — властно притягивал ее взгляд, он был пуст, и оттого его очевидность становилась веской, как грубая прямота оскорбления. Ей даже стало казаться, будто все эти проспекты и бульвары — продолжение ее собственных рук и ног, будто ближайшие тротуары принадлежат только ей, как ее собственные зубы или ногти. У нее даже мелькнула мысль, что пустынный город — это символ или скрытый намек на некую истину, которую она сама некогда утратила или нарочно запихнула в самый темный закуток памяти и не желает оттуда извлекать. Она возлюбила этот город за его гулкую тайну — такой тайной дышат зеркала, или слова на чужом языке, или ночной мрак накануне самых важных событий. Она боялась этого города, потому что зачарованность тайной всегда и неизбежно оборачивается страхом, ведь чудовища пугают нас именно своей притягательностью. Алхимия смутных ощущений заставляла кровь мчаться быстрее, волна за волной, к усталому сердцу: ей показалось, что с каждым ударом, с каждым выбросом крови из мускульной сумки по городу тоже прокатывает новая волна — горячая, беззвучная — с вкрадчивым коварством вечерних сумерек. Она поверила, что пустой город — это часть ее самой, столь же неотторжимая, как зеленые глаза или неумение гладить рубашки; и что сейчас некая энергия, которой невозможно подыскать имени и которая зарождается где-то на уровне ключицы, проходит через все тело и соединяет ее с городом, плетя тончайшую и вездесущую сеть незримых корней. И тогда она шагнула вперед, ринулась навстречу неведомому, раздирая один за другим покровы памяти. И совершенно ясно увидела: бульвар, желтые часы и площадь с бронзовым ангелом в центре.
1
Визиты к Маме Луисе
Визиты к Маме Луисе всегда были похожи на шахматные партии, которые разыгрываются вслепую и потому полны ловушек; вернее, это были партии вовсе безо всяких правил: Мама Луиса жестоко забавлялась и словно испытывала терпение и выдержку гостей. Никто и никогда не мог угадать, с какой стороны на них обрушатся вопросы или комментарии Мамы Луисы; и, казалось, она коварно потирает руки, поразив собеседника метким выстрелом — запретным словом, бестактным замечанием или намеком на что-то, что остальные старались вежливо обходить молчанием. Иначе говоря, ни один вечер в гостях у Мамы Луисы не прошел спокойно. Разумеется, ее тайные маневры выбивали Алисию из колеи — после гибели Пабло и девочки она даже решила на некоторое время прервать отношения с Мамой Луисой и месяца два-три не появляться в мрачной квартирке на улице Франкос, где старуха медленно угасала, терзаемая диабетом и катарами. Но иногда, в редкие часы покоя и благоразумия, вдруг подаренные ей тоской и отчаянием, Алисия уступала телефонным мольбам Эстебана: ты несправедлива, ведь Мама Луиса потеряла сына и внучку, она чахнет от старости и горя, ты ее невестка и должна хотя бы из жалости протянуть ей руку, посидеть рядом — пусть с вымученной улыбкой, пусть с каменным лицом, — выпить с ней кофе, стерпеть слова, которые, словно осы, слетают со старческих губ, невольную жестокость ее воспоминаний — о детстве Пабло, о его серых глазах, унаследованных от отца, о том, как он любил взбитые белки с сиропом — ах, и бедная Росита их обожала, царствие ей небесное! Лабиринты Мамы Луисы были настолько запутанными, что никто не сумел бы составить их план, и когда Алисия, сидя в кресле, вытканном блеклыми цветочками, разглядывала шеренгу фотографий, с которых на нее в свою очередь смотрели сыновья, невестки и внуки Мамы Луисы, она знала, что скоро у нее начнет жечь под веками, а во рту и в желудке появится вкус пепла — неизбежная реакция на определенного рода воспоминания. Иногда же Мама Луиса начинала вполне расчетливо тасовать имена, словно речь шла о мерах гигиенической профилактики, иначе говоря, она откладывала в сторону те фрагменты прошлого, что были отравлены присутствием умерших. Тогда вечер проходил вполне сносно — за обсуждением планов на лето, совершенно, впрочем, несбыточных, и рецептов клубничного торта. Эстебан почти всегда сидел тут же, прятался в клубах табачного дыма и наблюдал за по-самаритянски спокойной Алисией, за тем, как она сжимает кулаки, пока ногти не вопьются в ладони, когда Мама Луиса, злоупотребляя привилегиями, которое дает старческое слабоумие, осыпала невестку дежурными упреками. Он старался смягчить удары и менял тему разговора. Честно сказать, порой Эстебан и сам ругал себя за то, что тащит Алисию в дом свекрови: эти встречи не только не помогали ей хоть немного отвлечься, наоборот, они царапали душу — и его душу, кстати, тоже. Он догадывался, что Алисия, которая в последнее время с трудом удерживалась на краю депрессии, больше всего нуждается в тишине, а Маму Луису старость отметила душевной черствостью и глухотой к чужому горю. Зная Алисию, нетрудно было понять, как переживает она страшную катастрофу, во время которой в расплющенной машине в одночасье погибли Пабло и девочка, муж и дочь. Нетрудно было угадать и то, какие мрачные призраки населяли с тех пор ее ночи, ночи отчаяния и бессонницы.
Эстебан всегда любил ее. Гибкую худенькую фигурку, четко очерченные груди, шлем прямых гладких волос, из-под которых пробивался глубокий зеленый взгляд, и даже острые ноготки, растерянно скользящие по ладоням. Он любил смотреть, как она, взяв в руку лейку, застывала над цветочными горшками с конибрами — они стояли в гостиной и с каждым летом делались все краше. Как гладила по голове Роситу, читала ей стишок про Шалтая-Болтая или рассказывала про Королеву Пик. Любил лицо, склоненное над томиком Льюиса Кэрролла с прекрасными гравюрами — подарок Пабло на день рождения. Любил всю эту амальгаму счастливых совпадений, превращающих Алисию в идеальную возлюбленную, образ которой сложился у Эстебана под влиянием книг Кортасара и включал в себя, кроме всего прочего, разумеется, еще и диски Чарли Паркера, сваленные на полке рядом с бутылками. Поэтому Эстебан страстно завидовал судьбе брата, встретившего туманным утром на какой-то демонстрации робкую студентку библиотечного факультета. С тех самых пор тайная связь, незримые нити соединяли Эстебана с невесткой, с женщиной, у которой были девчоночьи коленки и которую одним ноябрьским днем он обнимал на кладбище, когда на нее обрушились потоки дождя и соболезнований, а она все глубже проваливалась в бездну отчаяния и рыданий. Конечно, со стороны Эстебана было бы низостью даже подумать, что смерть брата открывает ему путь к Алисии, но подсознательно, не облекая свои мысль в слова, он знал: рухнул один из разделявших их барьеров — и сразу голос ее стал ближе, прикосновения реальнее. Наверное, поэтому он и звонил ей теперь по три раза в неделю, а в четверг либо в пятницу они вместе блуждали по книжным лавкам и музыкальным магазинчикам, после чего пили кофе или тоник. И еще они виделись во время ее визитов к Маме Луисе. Он снова смотрел на каштановую прядь, падающую на лоб, и ловил взгляд, уплывающий в усеянные капканами лабиринты памяти с душными чуланами то с одной, то с другой стороны. Он смотрел на Алисию или, закрыв глаза, воображал ее тело податливым и жарким, воображал, как она ровно дышит в подушку, а на соседней подушке нет больше головы Пабло, рядом с ней уже никогда не будет Пабло.
— Мне кажется, она чувствует себя не так уж и плохо, — сказала Алисия, заходя в лифт, после того как Мама Луиса заснула под очередной телесериал.
— Да, не плохо. — Эстебан нажал на букву «Б». — В последнее время она выглядит спокойнее. Не знаю, наверное, понемногу забывает. Надо, чтобы она поскорее все это забыла.
— У твоей матери голова все еще работает достаточно хорошо, для нее не так просто взять да и позабыть что-нибудь, — Алисия говорила резко, с неприязнью. — Это наверняка еще одна ее уловка, одна из ее вечных хитростей. Я никогда не знаю, чего от нее ждать.
Небо было плоским и тусклым, собирался дождь. Они дошли до магазинчика, где торговали церковными принадлежностями; в витрине стояло изваяние окровавленного Христа.
— Тебя подвезти? — спросила Алисия. — Машина у меня тут, неподалеку.
— Да нет, я собирался заглянуть к часовщику. — Эстебан поднял воротник куртки. — Черт бы побрал эти часы! После папиной смерти они и двух дней не ходили как следует.
— Ты о тех, карманных? — засмеялась Алисия.
Росите не нравились лифты. Ее пугал этот гроб с кнопками и зеркалами, в котором она, возможно, смутно угадывала прообраз того белого деревянного ящика, в который ее в конце концов и положили. Алисия привычным движением руки открыла дверь, потом нажала кнопку со стертой четверкой. И пока белые каменные плитки ползли сверху вниз по стене, противоположной зеркалу, она снова увидела Роситу, милое лицо Роситы: та стояла в прихожей, шерстяная шапка туго прижимала косички к голове. Росита сказала Алисии «До свидания» и встала на цыпочки, чтобы чмокнуть в щеку; этот быстрый поцелуй ничем не отличался от прочих, от тех поцелуев, которыми Росита одаряла мать на протяжении восьми коротких лет своей жизни — когда отправлялась в колехио, в гости к Синтии, к бабушке или в кино. Обычный поцелуй — влажная белочка-егоза. И еще Алисии запомнился запах лаванды и свежевыстиранных толстых детских колготок. Разве могла она вообразить, что поцелуй этот больше никогда не повторится, что таким он и сохранится в памяти и что лицу Роситы уже не суждено будет повзрослеть. Так и запомнилось: лицо Роситы, которая стоит в прихожей, вязаная шапка… Весь ужас был в том, что это лицо сливалось с другим лицом, и оно тоже принадлежало Росите. Но разве можно было поверить, что это белое нечто с наложенным гримом, эта неподвижная кукла — тоже Росита? Ее выносили из траурного зала, где царил удушливый запах лилий и хризантем, и следом тянулась процессия родственников… Именно та, другая Росита — с осунувшимся лицом-маской, онемевший, заледеневший в нерушимом сне двойник — вот кто преследовал Алисию в кошмарных снах; кошмары отступали лишь тогда, когда ужас или удушье возвращали ее к реальности, и она снова видела свою спальню и стакан воды на столике, слышала звон будильника, вытаскивала из пачки одну сигарету за другой. Роса и Пабло являлись к ней каждую ночь: два восковых манекена плыли в своих гробах, смерть подарила умиротворение их лицам, да только вот лица эти больше никому не принадлежали. Росе и Пабло отныне и навеки было назначено играть роль бессменных часовых в сновидениях Алисии, хотя в другое время она тщетно искала их, безвозвратно ушедших, бродя по пустым комнатам квартиры на улице Католических Королей.
Она вышла из лифта, сухо кивнула старику, запиравшему свою дверь, и приостановилась перед табличкой, на которой золотыми буквами, словно на древнеримском памятнике, было выведено: «Кармен Барросо. Психолог». Потом Алисия подождала в приемной, полистала журналы, выкурила сигарету. Ей нравились тона, в которые были покрашены стены помещения, где вела прием Мамен, — они были какими-то пенистыми и смутно напоминали ей лето во Флоренции: там Алисия видела нечто подобное на фресках. И Пабло неоднократно растолковывал жене свой замысел, когда решил использовать те же краски для их квартиры. Но все планы обрубило ужасное событие. Алисия до сих пор спрашивала себя: а любила ли она Пабло, вернее, была ли влюблена в него, то есть настоящим ли, чистой ли пробы было чувство, соединявшее их на протяжении девяти лет? Не присутствовала ли там своего рода игра в интимность, в близость, по правилам которой они делили и нежные слова, и жилье — сперва одну квартиру, потом другую, — и летние отпуска, но главное, им обоим принадлежало умное и ласковое создание по имени Росита. Наверное, Алисия всегда ожидала чего-то большего от человека, с которым решит разделить будущее, — большего понимания или доверия; и дело было не только в том ощущении, порой не очень приятном, будто ты — лишь эпизод в жизни мужчины и обречена вечно оставаться на приграничной полосе, на периферии его существования — то есть тебе отведено место где-то после книг, фильмов, разговоров о политике и Росите и, конечно же, о работе, всегда о работе. Пабло со священным трепетом относился к своим служебным обязанностям в издательстве «Альмадраба» и его филиалах, разбросанных по всей Европе; дела целиком поглощали его и почти ни на что другое не оставляли времени. Если честно признаться, смерть Пабло не засела у Алисии в душе занозой, как смерть Роситы, не обернулась абсолютной невозможностью принять случившееся и не казалась святотатством или вопиющим нарушением правил игры, после чего уже нет смысла продолжать партию; его смерть скорее подорвала ощущение надежности: крыша сорвана и разбита, а вокруг продолжает бушевать гроза. Тонувшую Алисию спасли, но она превратилась в маленького зверька — голого, оглушенного и неспособного вспомнить дорогу домой. Порой она, закрыв глаза, слушала музыку, и тогда другой берег виделся ей желанным и прекрасным — как пустынный пляж. Ее манил сон с бархатной кромкой, и она не раз подумывала то о газовой горелке, то о пачке транквилизаторов, которая постоянно лежала на тумбочке у кровати, рядом с фотографией Пабло: как было бы хорошо собраться с духом и разом рассеять хаос, терзавший ее на рассвете, нырнуть на дно бассейна с ртутью, прыгнуть в последнюю пустоту — а ведь это почти так же просто, как погасить свет. Но непонятная сила немедленно отшвыривала ее в сторону от таких мыслей, потом та же сила заставляла сердце снова трепыхаться и гнала воздух в легкие. А еще были друзья: Эстебан (бедный Эстебан, сколько внимания он ей уделял!), Хоакин и Мариса, супруги Асеведо и, конечно, Мамен. И были великолепные цветы — ее конибры, которым так нужна забота и которые нужно непременно поливать три раза в день.
Когда Алисия вошла в кабинет Мамен, та заканчивала телефонный разговор; как всегда во время беседы с пациентам, она крутила в пальцах ручку. «Пациент» — слово показалось Алисии скорее забавным, чем угрожающим[371]. Она много раз бывала в этом кабинете с видом на улицу Торнео и развалины Всемирной выставки, в этом приятном междуцарствии, где по стенам висели репродукции картин Кандинского и Матисса. Но раньше Алисии и в голову не могло прийти, что настанет день, когда она явится сюда уже не только в качестве подруги. Алисия верила в способность Мамен распутать узлы, снять оковы, мешавшие ей пошевелить руками и распрямиться. И дело было не только в блестящих титулах и дипломах, полученных Мамен в Милане и Бостоне, а в том, что она с давних времен знала об Алисии абсолютно все. Да что тут говорить, сколько пива выпили они вместе в симпатичной и уютной квартирке Мамен, где повсюду стояли умопомрачительные авангардистские пепельницы! Туда всегда можно было забросить на вечер Роситу, если Пабло вел жену в кино или китайский ресторан. Несмотря на десять лет разницы, Мамен лучше других понимала ее метания, неумение найти равновесие между любовью к Пабло и нелюбовью к нему. Мамен понимала, что именно Росита проложила то русло, куда следовало направлять супружеские чувства. Прожив долгие тридцать девять лет, Мамен превратилась в зрелую женщину и отлично знала, чего хочет; она обладала острым чутьем, и оно в нужный миг подсказало ей, что и случайное замужество, и всякие глупые условности надо принести в жертву деловой карьере. И вот теперь Мамен считалась одним из самых знающих и модных психологов Севильи.
Алисия наблюдала, как ленивый свет, падающий из окна, пестрыми бликами играет на волосах подруги.
— Ты опять покрасилась.
— Ага. — Мамен тряхнула волосами, да так резко, что звякнули браслеты на запястьях. — На сей раз хной, потому что химия, как ты понимаешь, кошмарно портит волосы. Правда, приходится четыре часа ходить с замотанной головой.
В разговоре они никогда сразу не брали быка за фрога, беседа неспешно текла своим чередом — туда, куда вели ее случайные слова и фразы. Мамен с Алисией болтали о всякой ерунде, скажем, о вчерашнем фильме, осторожно скользя и стараясь не оступиться, пока наконец не упирались в то, что, вопреки их воле, существовало, от чего нельзя было отвернуться, — пока не подступали к мертвой Росите и мертвому Пабло, к Росите, лежащей в белом гробу, и к Алисии, склоненной над гробом и уже выплакавшей все слезы.
— Как ты?
— Я-то? — Голос Алисии прозвучал тускло. — Все не могу в это поверить, Мамен.
— Прошло слишком мало времени, — В тоне Мамен звучала музыкальная нежность. — Что с тобой происходит?
— Не знаю. Днем, когда я чем-то постоянно занята — работа, Эстебан, соседи, — я почти не вспоминаю об этом. И плачу теперь меньше… Правда, Мамен. А вот по ночам — совсем плохо.
— Кошмары?
— Да. — По спине Алисии пробежали булавки озноба. — Все те же сны. Два гроба, и в гробах — они. И тление. Тление…
— Хватит, довольно. — Мамен словно хотела побыстрее отогнать от нее эти картины. — То есть ты не заметила никаких улучшений?
— После гипноза, ты хочешь сказать? — Рука Алисии вспорхнула вверх, будто отгоняя дурной запах. — Нет, все как прежде. Я ведь тебе говорила, что не слишком верю в гипноз.
— То, что говорила ты, меня мало заботит. Врач здесь все-таки я, а не ты… И я готова признать, что гипноз не панацея, но он вполне мог оказать положительное воздействие и хоть в какой-то мере освободить тебя от наваждений.
— Как видишь, не освободил. Пять интенсивных сеансов — и ничего.
— Надеюсь, транквилизаторы ты принимаешь регулярно?
— Да.
— Ну и?..
— Да так… — Алисия состроила гримасу. — Я и в них перестала верить. Сплю чуть больше, вот и все.
Мамен записывала ответы Алисии в тетрадку.
— Я увеличу тебе дозу, — сказала она. — Добавь еще половинку таблетки. Знаю, что это звучит глупо, но ты должна постепенно привыкать к мысли, что впереди у тебя целая жизнь.
— Перестань…
— Вообрази, будто ты только что переехала в новый город и никого там не знаешь. Тебе надо завести друзей. Главное, отнесись к этому как к чему-то вполне естественному. Ну, а Эстебан?
— Эстебан в порядке. — Алисия криво улыбнулась.
Трудность заключалась не в том, чтобы поверить в их смерть, — немыслимо было осознать, будто они прошли канонический и необратимый путь исчезновения. Хотя достаточно было побродить по опустевшей квартире, заглянуть в шкафы, увидеть разложенные на письменном столе ровные стопки бумаги… Пытка — и самое невыносимое — заключалась в том, что, умерев, они оставались у нее внутри, ждали чего-то, гневались, сводили с ума, словно хотели наказать. За что, Пабло, за что, Росита, за что? Хватит с нее и того, что надо по-прежнему дышать, брать ложку и нести ко рту… За что, Росита? За что эта кошмарная застывшая маска, и куда подевались косички, когда-то торчавшие из-под вязаной шапки, и где новые поцелуи-пчелки, где слабый запах лаванды?
Руки напоминали высушенных зверьков. Эстебан смотрел, как руки взяли часы и нежно погладили циферблат, как большой палец скользнул по потускневшему от времени корпусу.
— Эти часы у меня уже побывали, — заметил мужчина.
— Да, — ответил Эстебан. — Их приносил мой брат.
— Как его имя?
Человек встал из-за прилавка, и Эстебан отметил про себя, что в тесной мастерской этот тощий, смутлолиций мужчина кажется прямо-таки гигантом. Сама мастерская напоминала узкую пещеру, вырытую на площади Пан, позади церкви Спасителя, и к стойке приходилось пробираться, лавируя между какими-то диванами и сваленными в кучу старыми зонтами. За спиной сеньора Берруэля, который рылся в картотеке заказов, располагалась пыльная витрина: там рядами выстроились часы и старые игрушки, а в углу валялись крошечные инструменты — многократно уменьшенные копии привычных щипцов, отверток и тому подобного. Пабло слепо верил этому мастеру — видно, после того как тот вернул к жизни «Ролекс» с инкрустациями, свадебный подарок. От тех часов дружно отказались во всех прочих мастерских Севильи, отпуская при этом шуточки по поводу точности механизма и роли потусторонних сил в его работе.
— Ага, вот, — сказал гигант, вытаскивая карточку. — Пабло Лабастида, правильно?
— Да, Пабло Лабастида.
В этом можно было увидеть своего рода мрачный ритуал: очередной наследник, получив часы, нес их в починку; словно только пройдя через эту церемонию Эстебан вступал в права наследования; от отца часы перешли к Пабло, от Пабло — к нему, Эстебану. Выходило, что вся жизненная сила семейства Лабастида таилась в этой круглой штуковине, которая когда-то принадлежала одному из их далеких прадедов. Эстебан никогда не желал смерти Пабло, хотя и был влюблен в Алисию, хотя и отчаянно мечтал когда-нибудь оказаться с ней в одной постели, заснуть, прижавшись к ее голой спине. Да, разумеется, иногда у него мелькала смутная мысль: а что, если Пабло вдруг исчезнет — раз и навсегда? Пабло посылают работать в Канаду… Пабло читает Джозефа Конрада, и на него находит блажь: он решает повторить путешествие Ностромо… Но никогда, никогда Эстебан не желал жертвы, крови, никогда не хотел видеть, как Алисия плутает в сновидениях, живет от одной дозы трансилиума до другой. Нет, он не хотел получить отцовские часы такой ценой.
— Это «Ланкашир», — заключил сеньор Берруэль, переводя единственный глаз с часов на карточку. — Тысяча девятьсот десятый год. Латунный механизм, платина. Эта партия часов оказалась очень плохой.
— Семейная реликвия.
— Да, отлично понимаю. — Сеньор Берруэль, словно взвешивая, покачал часы на ладони. — Но они не слишком красивы, никогда не будут идти точно, и починить их трудно, а стоили они в свое время прилично — цена была явно завышенной. Как помечено у меня в карточке, здесь уже были проблемы с анкером.
— Вполне возможно.
По другую сторону площади, рядом с витриной, демонстрирующей свадебные платья, помещалась антикварная лавка, куда Эстебан любил заглядывать. Там он неспешно рассматривал бюро и подзеркальники, взглядом знатока окидывал вездесущие натюрморты-бодегоны с непременными трупиками перепелов, а также вазы и обитую дамастом мебель. В тот вечер, простившись с часовщиком, он зажег сигарету и остановился посмотреть на сильно почерневшую святую Лукию в раме с гротесками. Нет, в смерти брата он, разумеется, не виноват, хотя его любовь тайно взывала к подобной развязке. До ужасного происшествия Эстебан время от времени запирался в своей комнате, слушал музыку или читал, мучаясь невыносимым отвращением к выпавшей ему на долю роли младшего сына, славного Эстебана, такого покладистого и такого никчемного. Он, разумеется, преданно опекал овдовевшую мать, пока Пабло делал блестящую карьеру и разъезжал по миру, пока они с Алисией строили семью в надежде произвести на свет кучу детишек, чтобы по воскресеньям те радовали бабушку. Жизнь Эстебана должна была послушно вместиться в уготованную для нее форму — то есть рука должна была строго соответствовать перчатке. Гибель Пабло перечеркнула этот путь, чему Эстебан в душе не мог не радоваться. Но, значит, он радовался и потерянности Мамы Луисы, и всеобщим ахам и охам, и терзаниям бедной Алисии, которой отныне следовало научиться видеть в нем не только исполняющего семейный долг Эстебана, неуверенного в себе юнца Эстебана, измученного тайной и молчаливой любовью. Он желал завладеть ее ночами, отравить ее жизнь, покрыть поцелуями угловатое и послушное тело, которого никогда больше не коснется рука Пабло, не коснутся пальцы Пабло, потому что им никогда уже не очиститься от тлена, от той ядовитой субстанции, которая теперь держала Пабло в плену — там, внизу, в пустом подземелье ночи.
Алисия только что вернулась домой и еще не успела повесить куртку на вешалку, как к ней заглянула Нурия с пачкой «Крускампос» и двумя банками берберечос[372]. Алисия не так давно сидела у Мамен, которой излила душу, и теперь не находила в себе сил для новых разговоров. Но Нурия пребывала совсем в другом настроении: вместе с двумя коллегами она целый день провела в душной готической церкви площадью в сто квадратных метров, и ей до смерти надоело по-обезьяньи карабкаться по деревянным лесам и настилам, реставрируя алтарные украшения, а также извлекая из ниш — с особой бережностью, как предписывает Министерство культуры — изуродованных временем святых. День Нурии был заполнен деревяшками, растворителями и сделанными на скорую руку бутербродами с колбасой, так что вечером она ощущала острую потребность не столько в горячем душе, сколько в банке пива. Хотя и жаловаться тут было не на что: Нурия с двумя приятелями по факультету получили первый серьезный заказ, после того как открыли реставрационную мастерскую; и от нынешней работы зависела куча других выгодных предложений — именно от того, как они подкрасят и почистят этих покрытых струпьями и пожелтевших святых мучеников. Церковь Пресвятой Девы де ла Сангре притулилась на узком участке земли между банковским офисом и аптекой с неоновой вывеской. Храм вот уже лет сорок как пребывал в полном запустении — прежде всего по причине разногласий между епархией и городскими властями; на протяжении последних десятилетий обе стороны занимались исключительно тем, что переваливали друг на друга ответственность за реставрационные работы — и в церкви, и в хранилище при ней, где нашли приют произведения религиозного искусства севильской и кордовской школы, в большинстве своем XVII века: святой Фердинанд, святой Варфоломей, святая Лукия и какой-то бородатый африканец с посохом и в сандалиях — кого именно изображала скульптура, Нурия так и не определила. Состояние святых и витражей оценивалось как критическое, что требовало принятия самых срочных мер. Но скульптура Девы Марии де ла Сангре, давшая имя церкви, нуждалась в совсем уж неотложной помощи; из глубины алтаря на прихожан грустно взирало нечто деревянное и с трудом опознаваемое; накидка Девы состояла из сплошных заплат, оттуда торчали щепки, кисть руки напоминала веер из уродливых отростков. Приходилось надеяться, что какой-нибудь могущественный столичный банк выпишет чек с большим количеством нулей на дело сохранения общественного достояния — и тем положит конец раздорам.
— Это лакомый кусочек, нам хорошо заплатят, — рассказывала Нурия, перебирая диски. — Но ты представить себе не можешь, сколько там работы, Алисия, у меня эти святые уже поперек горла стоят. До чего хороши твои цветы!
— А сколько я с ними вожусь!
— Перышки как у цыплят. Ага, вот, Лу Рид, отлично.
Когда Пабло и девочка еще были здесь, отношения Алисии с Нурией сводились к кратким встречам в лифте или ближайшем супермаркете, а также к болтовне о различных диетах, которая порой продолжалась за чашкой кофе или кружкой пива в скромной маленькой квартире Нурии на четвертом этаже, стены которой мирно делили меж собой Рене Магритт и Джимми Хендрикс. Прежде, когда Алисию обременяли семейные обязанности, она не отваживалась совать нос в жизнь Нурии, заполненную суетой, красками и инструментами, хотя до встречи с Пабло все это до известной степени составляло и жизнь Алисии — беззаботной и безалаберной, свободной и независимой студентки Алисии. Теперь события странным образом сблизили их, и казалось, уже ничто не мешает Алисии наслаждаться молодой свободой. Но теперешняя свобода была ущербной, отравленной прошлым, которое искалечило Алисию, превратив в уродливую копию прежней студентки. Тягучий голос Лу Рида осыпал оскорблениями порочного трансвестита. Алисия вытащила пачку «Дукадос» и закурила. Нурия считала, что именно таким вот образом может отвлечь подругу, и поэтому сидела на ковре, поставив бутылку на столик, слушала музыку и подробно описывала злоключения минувшего дня. Нурия обладала слишком мощной и переменчивой энергией, чтобы растрачивать ее на сетования по поводу собственных или чужих невзгод, она предпочитала не зацикливаться на них, в ней главенствовала животная потребность дышать и оберегать свое «я», поэтому при любых обстоятельствах она попивала пиво и болтала о всякой ерунде.
— А это еще что такое?
— Опять придурки с верхнего этажа колотят. Думаю, концом швабры.
Стук повторялся каждые пять секунд, заглушая подгоняемый ударником голосок Лу Рида, который вязко повторял одно и то же: «Babe, you’re so visius». Стук был глухим, и от него мелко дрожала бахрома на китайской лампе.
— Ну и козел, во дает! — Нурия явно разозлилась. — Скажи, разве это громко?
— Да нет. Им просто нравится издеваться над людьми, я ведь отлично слышу их голоса в четыре часа утра, как будто они у меня в гостиной переговариваются. Но все равно, сделай чуть потише.
Нурия восприняла грубые протесты соседей как недопустимое посягательство на собственную свободу и, крутя в руках последнюю бутылочку пива, предложила спуститься к ней и послушать что-нибудь еще. Алисия молча отказалась — она сделала такой жест руками, словно пыталась оттолкнуть от себя некий таинственный предмет, прогнать кого-то или развеять запах, который мог пропитать пустоту между пальцами; потом она с неспешным старанием начала собирать тарелки и бутылки, как поступают, когда хотят намекнуть гостям, что пора, мол, им отправляться восвояси. Но Нурию такими штучками было не пронять. И Алисия, в пятый раз услышав приглашение, потерянно закурила и с воловьей покорностью кивнула в знак согласия.
— Пошли. — Нурия завязывала распущенные волосы в хвост. — К тому же поглядишь на скульптуру, о которой я тебе рассказывала. Она очень хороша, но в каком состоянии… Обрыдаться можно!
Мастерская, которую Нурия делила с двумя коллегами, небольшое помещение в квартале Санта-Крус, позволяла принимать на реставрацию довольно много предметов искусства, но время от времени кое-какую работу приходилось из-за тесноты брать домой. Нурия снесла пару стен у себя в квартире и за счет соседних комнат расширила площадь гостиной, превратив ее в мастерскую — по виду нечто среднее между лабораторией и столяркой. Первое, что заметила Алисия, ступив в прихожую, был острый запах нашатыря с примесью какого-то странного сладковатого аромата, от которого у нее сразу потекли слюни. В глубине комнаты, рядом с балконом, она увидела верстак, вокруг горой лежали деревяшки и вороха стружек; почерневшая печь прилепилась к стене, из нее тянулось в сторону лоджии сложное устройство из кирпича; фуганки, рубанки, стамески в беспорядке валялись по полу вместе с пустой жестяной банкой из-под пива и полупустыми пакетами из фольги. Нурия пересекла гостиную, чтобы включить магнитофон, по дороге прихватив кассету с «Morrison Hotel», и кивком указала Алисии на фигуру, робко притулившуюся в углу, на стопке газет. Напротив высился сложный аппарат — нечто с мотором и пульверизатором, похожее разом и на фумигатор, и на огнемет. Время соскоблило краски с плаща Пресвятой Девы, покалечило ей руки, лишило одного глаза, и теперь на лице Богоматери застыло трогательное выражение мольбы, отчего она напоминала сироту-калеку. Нурия набросала план, весь состоящий из углов и линий, а поверх плана ярким фломастером весело начертила крестики, много крестиков. Принимая протянутый стакан — кроме плоховатого вина, в холодильнике ничего не нашлось, — Алисия глянула на лист бумаги. Это был план церкви.
— Церковь Пресвятой Девы де ла Сангре, — сказала Нурия. — Ты наверняка тысячу раз проходила мимо.
— Да, но внутрь никогда не заглядывала.
— Туда уже много лет как почти никто не заглядывал. Она закрыта для посещения. Там все в жутком состоянии. Смотри: крестик на моем плане — скульптуры, которые предстоит отреставрировать.
— Да, она очень красивая, — сказала Алисия, наклоняясь, чтобы рассмотреть лицо сиротки; кошмарная черная трещина пересекала лоб Девы Марии, зацепив левый глаз.
— Только видишь, каково ей. — Нурия вздохнула, — У меня тут есть рентгеновские снимки; во время двух предыдущих реставраций было вставлено четыре гвоздя, чтобы не отвалилась голова, а я хочу заняться рукой. И повозиться тут придется как следует. Я уже устроила ей ванну из укрепителей, потом проверю, насколько еще надежно дерево, а пока обрабатываю специальными газами. Термиты, точильщики — этих незваных и настырных постояльцев надо постараться выселить в первую очередь. Поэтому здесь такая вонь. Налить тебе еще?
Усталость окончательно лишила Алисию воли, и она покорно, без возражений подчинялась чужим решениям. В такие минуты она спешила укрыться на полоске ничейной земли, в какой-то мере заменявшей забвение: здесь слова не достигали слуха, и ни один даже самый случайный жест не нарушал покоя, словно его убивали электрическим разрядом, пущенным из подземелья — глубокого и мерзкого, которое никому и никогда не удавалось засыпать. Но, едва коснувшись пальцами стакана, протянутого Нурией, Алисия вздрогнула, будто она в этот миг сама себе завязывала лентой глаза и нарушала невыполнимый приказ — очистить память, вместо этого она жульническим образом перетасовывала то, что там хранилось. Она тотчас нацепила на лицо лучшую из найденных в загашнике улыбок, поставила стакан рядом с фумигатором и расцеловала Нурию в обе щеки.
— Уже уходишь?
— Да.
В самом центре напряженной тишины Джим Моррисон ожидал солнца: «I’m waiting for the sun».
— Ну как ты?
— Все в порядке.
Пальцы Нурии пыталась освободиться от присосавшихся к ним щупальцев красного клея.
— Правда? Но ты не стесняйся, если что вдруг понадобится…
Алисия послушно кивнула. Проще всего было со всем соглашаться, бездумно кивать головой и, главное, ничего не вспоминать, поставить заслон лавине уродливых воспоминаний, из-за которых она пренебрегала непреложным долгом — жить. Нет ничего проще, чем сказать «да», и вообще всегда очень просто что-нибудь сказать; говорение — самая гибкая и легко адаптирующаяся часть нашего существа.
— Да, если что понадобится… — Алисия подставила щеки под быстрые поцелуи Нурии. — До завтра.
Перешагивая через ступени, она поднялась на свой этаж, левая рука шарила в кармане кожаной куртки, нащупывая ключи и зажигалку. Алисия остановилась перед дверью, глотнула воздуха, потом сунула в рот сигарету. Ее приводила в отчаяние принятая на себя — или навязанная себе — обязанность непрестанно терзать собственную душу, словно только так и можно смягчить угрызения совести; ее бесило то, что она сама заставляет себя страдать, словно только так можно быть на высоте той любви, какой когда-то одарили ее ныне покойные муж и дочь. Вместе с тем полное бесчувствие, о котором она мечтала и ради которого стольким пожертвовала, казалось ей самым страшным из предательств — все равно что не сыграть назначенную тебе роль в трагедии, когда все остальные уже исполнили свои партии и покинули сцену. Она сделала первую затяжку и тотчас заметила, как соседняя дверь тихонько приоткрылась и в щелке появились два глаза. Дверь распахнулась настежь, и сгорбленное, морщинистое существо радостно заулыбалось ей из прямоугольного проема.
— Добрый вечер, Лурдес.
— Добрый вечер, детка. Погоди-ка, не закрывай!
Буквально через минуту старушка вновь вышла на лестничную площадку, неся в руках какую-то посудину, завернутую в фольгу. Улыбка по-прежнему кривила лицо, похожее на мордочку сухонькой белочки.
— Вот, детка, возьми.
— Ну что вы, Лурдес, мне так неудобно..
— Не говори глупостей. — Только в голубых глаза и светились еще остатки жизненной энергии. — Тебе же надо есть, смотри, во что превратилась — кожа да кости, я ведь знаю, у тебя нет времени возиться на кухне. Тут немного менестры[373], сама убедишься, какая она вкусная.
— Спасибо, Лурдес.
Спасибо, разумеется, спасибо, вечное спасибо — ведь другие берут на себя труд жить за нее, и она соглашается на то, чтобы ее освободили от мелких прозаических обязанностей — тех самых, к которым, как это ни смешно, собственно, и сводится наше существование. Губы сеньоры Асеведо взбирались по щеке Алисии и оставили поцелуи где-то между виском и ухом — там, где поцелуи звенят, словно воздушные пузырьки. Супруги-пенсионеры были ее соседями, и для них, медленно и с трудом привыкающих к скуке и праздности, забота об Алисии превратилась в каждодневный долг; правда, их к этому толкали как сострадание, так и поразительное сходство Алисии с покойной дочерью. Они потеряли ее несколько лет назад после мучительной борьбы с лейкемией. Нередко Лурдес злоупотребляла тем, что Алисия дала ей ключи от своей квартиры, попросив иногда поливать фикусы на лоджии. Лурдес наводила порядок в ванной, разгружала посудомоечную машину и, разумеется, высыпала окурки из пепельниц, так что Алисия, вернувшись вечером с работы, находила все вокруг в идеальном порядке. И дон Блас тоже всегда был готов починить водослив в стиральной машине или штепсель в электродуховке, делая это за весьма скромную награду — детективные романы, которые остались после Пабло и занимали место на стеллаже между «Ларуссом» и испанскими классиками. Ему нравилась Агата Кристи, а вот Сименон казался слишком сумбурным. Детективные романы должны рассказывать об убийстве с узким кругом подозреваемых, и чтобы инспектор был вне всяких подозрений — только так.
— А этот Сименон — француз, в этом все и дело, — рассуждал он. — Французы вечно перескакивают с пятого на десятое.
По телевизору не показывали ничего стоящего: какой-то фильм со взрывами, затылок человека, признающегося в изнасиловании. Алисия полила конибры и переставила поближе к балкону, чтобы назавтра рассветное солнце щедро одарило их своими лучами; растения и на самом деле были дивно красивы: с белыми и желтыми перышками, похожие на медвежат, которые забавно лижут кусочки сахара. Если бы появилась хоть какая-нибудь дыра, размышляла она, натягивая пижаму и наливая воду в стакан, если бы появилась хоть какая-нибудь щель, через которую можно выпрыгнуть или, в крайнем случае, выкинуть вон, как выкидывают старый хлам на помойку, все эти назойливые картины и сводящих ее с ума призраков, невидимых заговорщиков, которые теперь, притаившись у кроватных ножек, поджидали, пока она выпьет таблетки, уронит голову на подушку, протянет руку, погасит свет — и пока мрак с голубоватой кромкой повиснет над спальней. Вот тогда-то, после короткой интермедии с участием обрывочных голосов и изломанных фигур, снова начнется охота — бегство и погоня, удушье и судорожные глотки воздуха — и снова рука потянется к выключателю, снова стакан воды, снова сигареты.
2
Ветер зловеще вился
Ветер зловеще вился по переулкам, устремляясь к открытому пространству, которое Алисия созерцала, замерев на месте и не смея шагнуть вперед. Она стояла у неуклюжего модернистского фонаря и держала в руке не то ложку, не то цветок. Прямо перед ней в незримую даль уходил бульвар, длинный асфальтовый язык, по краям которого выстроились ровные спины зданий-стражников; была ночь, но звезды, причудливой татуировкой покрывавшие небосвод, вовсе не походили на те, что она привыкла видеть летом. Вдалеке, у самого горизонта, вой собаки сливался со свистом ураганного ветра. Когда она двинулась вперед, стало ясно, что весь проспект можно одолеть в несколько шагов, потому что в этом городе шаги получались какими-то непомерно широкими. Она глянула налево, потом направо: на самом-то деле здания были всего лишь огромными декорациями с нарисованными колоннадами. Во все стороны тянулись цепочки серых окон — один и тот же четырехугольник, разделенный перекладинами, многократно повторялся на деревянных плоскостях, обрамляющих улицу. Алисия стала задыхаться, она покрепче сжала свою ложку и подумала, что в мире не осталось больше ничего, кроме бескрайней линии слепых окон. Но в центре проспекта, над греческим фронтоном, несли караул часы — огромные и желтые, как глаз ящерицы; их стрелки замерзли под тупым углом друг к другу, показывая четыре. Только тут Алисия заметила, что на проспекте она была не одна, но остальные люди почему-то показались ей существами, выжившими после неведомой глобальной катастрофы, никчемными реликвиями, напоминанием о стертом с лица земли человечестве. Она увидела людские спины в самых темных точках бульвара, при этом все спины бежали куда-то — вроде бы туда, откуда вырастают новые и новые проспекты. Иногда спины переговаривались между собой тихими голосами, и речь их лилась приглушенным стрекотом. Алисия хотела остановить спины, показать им цветок, спросить дорогу домой, но не тут-то было: каждая спина спешила выбрать свою дорогу, чтобы исчезнуть навеки. Огорченная Алисия присела на тротуар и принялась обрывать лепестки со своей ложки-цветка, сморкаясь при этом в подол голубого атласного платьица, сшитого мамой. Тут сверху ее поманила приглушенная музыка, Алисия, радостно притопывая, подняла голову и увидела, что светилось только одно окно — в желтом квадрате танцевали две тени. Мужскаятень обнимала женскую тень за талию и с поразительной властностью вела ее от одного края прямоугольника к другому; мужская тень поддерживала женскую, когда та изящной дугой выгибала тело, будто желая головой коснуться пола. Алисия видела чеканный профиль танцора, прижимавшегося щекой к щеке партнерши, и она громко вздыхала и раскатисто хохотала. Эти двое, подумала Алисия, очень молоды и очень красивы, и еще они великолепно танцуют танго. Облизывая цветок, который стал мороженым, Алисия дошла до конца проспекта, где тот упирался в большой дворец, нарисованный на занавесе, за занавесом прятались музы, скидывающие одежды. Город напоминал огромный макет кукольного театра. Слева еще один очень прямой проспект утыкался в ряд колонн; справа смутно виднелась маленькая площадь. Когда Алисия уже собралась было повернуть к площади, она заметила, что за ней следят: да, господин с усами пристально наблюдал за ней с противоположного тротуара. Вида он был неприглядного, даже жалкого, от напряжения глаза его расширились, сделались большими, как у хамелеона. Алисия собралась угостить его пирулетой[374], которая была еще и мороженым, но мужчина пожал плечами и указал ей на конец бульвара: «Скорей! Уходите отсюда!» Мужчина выглядел раздраженным, а может, просто был чем-то расстроен, и неведомая печаль застыла на его желтом лице. «Как вы сюда попали?» — спросил незнакомец Алисию. «Пабло и Росита умерли», — ответила ему Алисия, облизывая мороженое. «Уходите! — повторил мужчина, и его глаза испугали Алисию. — Немедленно убирайтесь прочь!» Но она не знала, как оттуда выбраться, поэтому продолжала стоять под окном, за которым танцевала пара… И тут Алисия заснула.
Глаза Мамен казались двумя темными люками, которые вели куда-то очень далеко и глубоко; глаза рассматривали Алисию из-за письменного стола, на столе лежали альбом Матисса и куча одинаковых шариковых ручек — их Мамен по очереди крутила в руках, пока слушала Алисию. Уже больше недели какая-то тяжесть висела в воздухе, и только во вторник облака вдруг взорвались грозой, а тротуары покрылись лужами.
— Что-нибудь случилось? — спросила Мамен удивленно.
— Да, Мамен, появилось кое-что новое.
— Сны?
— Да, но все очень и очень странно.
Они условились, что Алисия придет на следующую консультацию недели через две, не раньше, чтобы можно было понять, помогают ли выписанные средства от мучительной бессонницы. Поэтому Мамен так удивилась, услышав в телефонной трубке голос Алисии — та умоляла о срочной встрече, сегодня же; по тону Алисии на другом конце провода трудно было определить ее состояние: в голосе звучала смесь ужаса и надежды. Добравшись до кабинета Мамен, она не стала терять времени и даже не сняла плащ, а поспешила плюхнуться в кресло и вытащить пачку «Дукадос» и бросив рядом зонтик, с которого на бежевый ковер потекли ручьи.
— Ты меня пугаешь. — Мамен тоже достала сигарету. — Ну, давай, не тяни, черт возьми, рассказывай, что произошло.
— Все началось с неделю назад. — У Алисии после дождя одна прядка прилипла ко лбу. — До тех пор мне снилось два уже привычных, повторяющихся сна: Пабло, девочка, ну, сама знаешь… Потом наступила ночь, когда мне не снилось ничего, понимаешь, совсем ничего. И это было странно.
— Чего же тут странного?
— Да, Мамен, странно и удивительно, то есть для меня — странно. Спала я очень крепко, словно меня завалило в пещере. И мне даже показалось, что я провалилась в такой глубокий сон, что туда просто-напросто не могли добраться никакие видения.
— Ну и?.. — Мамен потянулась к очередной ручке.
— Так вот, — Алисия никак не могла сосредоточить взгляд на пепельнице, — на следующую ночь мне приснился сон. И такого удивительного сна я никогда в жизни не видела.
Под пристальным взглядом Мамен Алисия описала город с нарисованными домами, проспекты, по которым двигались люди — неизменно повернувшись спиной к ней, Алисии. Своеобразный облик улиц накрепко отпечатался у нее в мозгу и словно заронил туда какие-то семена; сразу возникло подозрение, что город хранил в себе тайну и во всем этом был какой-то скрытый смысл, город был неким символом — так мелодия может выразить или даже заменить собой радость, а белая стрела помогает выбрать путь. Вернувшись к реальности, Алисия долго сидела на краю постели (вот это и забавно в сновидениях: мы непременно желаем найти им толкование, пропустив через фильтры блеклой памяти, которая все это время бодрствовала) и выкурила целую пачку сигарет, пытаясь шаг за шагом восстановить этапы своего визита в город. Память впитала равные доли приятного и отталкивающего. Похожие на театральные декорации бульвары дышали очарованием давно минувшего детства, которое в любых вещах и событиях умело найти некое богоявление, так что в каком-то смысле город означал внезапное возвращение в возраст невинности. Но, с другой стороны, та же невинность таила в себе ловушку: всякая иллюзия губительна, ведь осуществление ее ведет нас к разрушению и опустошению. Ночь с чужими звездами, безликие фигуры, прекрасные тени, которые исполняют свой танец, — все это предполагало присутствие изначальной тайны и вызывало сильную тревогу, даже смутный намек на эту тайну внушал Алисии ужас и заставлял пятиться назад. Возможно, там, внутри, ее поджидала жуткая сердцевина правды — глаз, лишенный век, сломанная маска.
— А какой он, этот город? — спросила Мамен, помрачнев. — Что там, говоришь, было?
— В детстве я всегда думала, что именно такие города должны быть на луне — города с серебристыми кварталами, пепельные города, по которым хлещет сирокко. Город, похожий на оперную, на театральную декорацию. Не знаю…
— Говоришь, еще и часы. — Рука Мамен открыла новую пачку «Нобеля». — Желтые часы в центре проспекта.
— Да, проспекта, который ведет к дворцу с греческими статуями. А справа площадь.
Мамен сидела в клубах дыма, она сильно наклонилась вперед, и лицо ее казалось мутным серым пятном. Ручка уже не плясала в ее пальцах, теперь пальцы беспокойно постукивали по краю стола, между стаканчиком для карандашей и ключами от машины.
— Не знаю, что тебе сказать, Алисия. — Мамен снова навалилась грудью на стол, и Алисия тотчас рухнула в бездонные провалы ее глаз. — Должна признать, что это и на самом деле странный сон. Не знаю… Попробуй добавить еще половинку таблетки транквилизатора. По правде говоря, тут вещь загадочная. Наверное, нам надо вернуться к гипнозу.
— Нет-нет, ведь мы уже убедились, что он не помогает.
— Ладно, еще половинку таблетки — и позвони мне через неделю, поглядим, повторится ли сон. А теперь извини, но я, чтобы принять тебя, нарушила свой график и отодвинула визиты к трем пациентам.
— Да, конечно, Мамен, прости меня.
— Не говори ерунды.
Вооружившись зонтом, Алисия двинулась к двери, бормоча слова прощания.
— Алисия. — Мамен стояла к ней спиной и наблюдала, как ливень полосует улицу Торнео. — А что-нибудь еще ты видела?
— Нет, насколько помню, нет. Ладно, я позвоню. Дождь не стихал.
Визиты в деревянный город все-таки принесли облегчение: заслонили собой Пабло и Роситу, которые больше в ее снах ни разу не появились — ни живые, ни мертвые. Вытесненные новой тайной, они словно растворились в памяти, пропитанной ядом, который их и умилостивил; так что Алисия время от времени даже спрашивала себя, а вправду ли что-то случилось, неужели ее муж и дочь были изгнаны из мира живых лишь потому, что так сложились обстоятельства. Алисия не смогла бы даже с уверенностью сказать: существовали ли когда-нибудь вообще эти пустые лица, которые множились фотографиями, расставленными по столикам? И где рождалось приглушенное эхо их голосов, которое до сих пор продолжало гулять по углам квартиры. Что же, надо признать: глупо надеяться на освобождение, на жизнь, восстановленную во всей полноте, на то, что когда-нибудь у Алисии появится гладкое прошлое, безупречное с гигиенической точки зрения, как только что постеленные простыни. Теперь у нее был город из сна, но призраки наверняка ждали своего часа, чтобы стребовать долг, вернуться, вклиниться в водоворот повседневной рутины, который Алисия так старалась сохранить, заученно и упорно повторяя одни и те же действия. Но, возможно, это тоже было лишь ловушкой, как и приманчивая надежда: а вдруг призраки из прошлого возьмут и перестанут мешать ее вечерним прогулкам с остановками у витрин книжных магазинов и галантерейных лавок, болтовне с Нурией и Эстебаном, облачным перышкам ее конибр, приятным встречам в кино или каком-нибудь видеоклубе и рутинной работе — заполнению карточек на новые и новые книги, с половины девятого до двух, в Главной университетской библиотеке.
Теперь у нее по крайней мере был город, и она получила передышку в своем погружении. Каждую ночь, ближе к рассвету, после стакана воды и таблеток она возвращалась на бульвар, разделенный желтыми часами на два отрезка, возвращалась к окну, за которым влюбленная пара продолжала танцевать свое вечное танго. В конце был дворец с музами, налево — высокое здание с колоннами, и когда она разглядела его вблизи, там обнаружилась фреска с тщательно выписанными мифологическими персонажами: Горгонами, эриниями, сиренами. За зданием высился купол обсерватории со стволом телескопа, обращенным к звездам; за обсерваторией — башня с островерхой крышей. В этом месте улицы сужались, а стены создавали иллюзию лабиринта, подсовывая мнимые тупики, чтобы потом, совершенно внезапно, когда путник уже готов повернуть назад, открыть ему новый пейзаж. Дальше располагался музей доспехов, за ним — полукруглый театр, где на просцениуме были брошены маски и котурны, далее тянулись зеркальные галереи, дробившие и искажавшие отражение Алисии, далее — витрины с клавикордами и сваленными в кучу скрипками, и еще — органы с веерами вывихнутых трубок под неярким свечением звезд. Бродя по переплетающимся артериям города, можно было различить и увитые зеленью террасы, и официальные учреждения, и зоомагазины с кучами клеток, и афиши, где механические гусары скакали на картонных скакунах с гирляндами на уздечке. Алисия продолжала испытывать давнюю радость, совсем как в детстве, когда одним прикосновением можно что-то сотворить, когда дороги и тропки сами стелются перед тобой лишь потому, что их ищут твои ноги. Порой группы людей, повернутых к ней спиной, возникали всего в паре кварталов впереди, но ее приближение спугивало их, словно стайку голубей. Иногда ей чудилось, что перед ней мелькают такие же пришельцы, как она сама, люди, у которых есть лица; они бродили по городу, будто по выставке, останавливались, чтобы полюбоваться перистилями и балюстрадами. Однажды она издали разглядела девушек в чепцах, они толкали детские коляски по пандусам и парадным лестницам, увидела храмы с патио, где собирались компании манекенов. На следующую ночь она забрела на ровную и голую, окруженную зданиями площадь, которую пустынность и тишина делали просторной и даже бескрайней, как бессонница. В самом центре квадратной площади стояла статуя — прекрасный бронзовый ангел с вывихнутой ногой. В ту ночь у Алисии появилось ощущение, что она осквернила тайну, сорвала первую печать из тех, что защищали загадку приснившегося ей города. Звезды скользили по крыльям ангела, втыкая в перышки серебристые булавки. Она возвращалась на эту площадь еще много-много раз, и там ее неизменно посещало то же чувство явленного таинства, чувство-вспышка, какое в равной степени дают нам и литургия, и святотатство. И тут откуда-то издалека, со стороны бесконечно тянущихся к горизонту зданий прибежал тот человек, тот невзрачный мужчина и стал умолять ее уйти; после чего осталось лишь эхо его шагов — единственный звук, повисший в воздухе старинного города.
Из постели ее вытащил звонок, который истошно верещал под нажимом нетерпеливого пальца. Али-сия накинула халат Пабло, открыла дверь и увидела, что на пороге стоят Мариса и Хоакин — как всегда с абсолютно одинаковыми улыбками на лице. Шею Марисы обвивало новое ожерелье не то с Мадагаскара, не то из Анголы. Они отнесли на кухню какую-то бесформенную лепешку, о происхождении которой Алисия сочла за лучшее не расспрашивать, но Мариса сама поспешила похвастать, что это очень и очень полезное растительное мясо — хотя два эти слова, соединенные вместе, могут показаться биномом, если не абсурдным, то глупым. Согласна, но это действительно растительное мясо, точнее говоря, высущенная и истолченная мякоть неведомого фрукта, так что получилось нечто, отдаленно напоминающее русское филе, и, разумеется, продукт этот куда полезнее, чем то, что мы привыкли есть, чем вся та неизвестно на какой помойке подобранная гадость, которая попадает к нам на стол.
— Ах, Алисия, до чего же хороши твои конибры! Как тебе это удается? Мои погибли сразу же.
— Секрет один: их надо поливать четыре раза в день. Не больше и не меньше.
В общем-то Алисию забавляли вегетарианские причуды Марисы, та сводила все оздоровительные методики к полезным свойствам нескольких видов фруктов, овощей и трав и повторяла их названия, как молитву. Слепая вера Марисы в травы не раздражала Алисию, но лишь до тех пор, пока подруга не посягала на ее, Алисии, свободу в выборе продуктов питания. Теперь, глядя на льющиеся черным водопадом волосы Марисы, на торчащие из них шпилки, она вспомнила, какую сложную лечебную систему придумала Мариса для того, чтобы избавить ее от навязчивых ночных видений. Алисия глаз не могла отвести от волос Марисы — непокорного темного осьминога, окрашенного косыми солнечными лучами в синие подводные тона. Мариса глядела на подругу совершенно неподвижным взором, слушала рассказы о бессоннице и кошмарных видениях, а потом выстреливала обоймой предписаний, и советы эти время от времени не самым приятным образом влияли на меню Алисии: на кухне появлялись какие-то настойки, омлеты подозрительно зеленого цвета и столь же странные супы, а еще — груды овощей. Но все это необходимо было обязательно приправлять глотками деревенской жизни: облачка, ручейки, птички должны нейтрализовать пепельно-серую городскую клаустрофобию, которая способна угробить кого угодно. Вот и в то утро Мариса решила, что грех не воспользоваться сказочной погодой и не провести воскресенье на природе. Алисия почесала в затылке и заявила, что накануне шел сильный дождь, а значит, за городом — мокрота и грязь. С ловкостью завзятой дуэлянтки Мариса ринулась в бой: во всех красках расписала домик в горах со спасительным камином и маленький садик, который, кстати, за эти дни — так, забавы ради — можно было бы привести в порядок. Но Алисию прелести деревенской жизни не соблазнили, кроме того, она не имела ни малейшего желания ковыряться в грязи и потому наотрез отказалась ехать с друзьями. Она поблагодарила их за вегетарианское мясо, после чего несколько разочарованные Мариса и Хоакин исчезли за дверью лифта. Но не успела Алисия залить воду в кофеварку, как ее сорвал с места резкий звонок домофона; она покорно приготовилась выдержать еще один натиск Марисы и сняла трубку.
— Слушаю.
— Алисия, это я, Эстебан. Открой!
Эстебан вошел, держа под мышкой газету, и начал с дежурных комментариев по поводу прекрасной погоды: даже если этот визит солнца будет совсем недолгим, он по крайней мере спасет их от смерти под водой. Эстебан положил на кухонный стол пропитанный маслом пакет. Алисия развернула бумагу и увидела аппетитные спирали только что поджаренных чурро[375].
— Жуй помедленней, а то подавишься. Надо же! Твои конибры с каждым днем все лучше!
— Видишь? Сегодня они счастливы, потому что день такой солнечный. Бедняжкам до смерти надоел дождь.
Накануне она открутилась от намеченного визита к Маме Луисе, от обязательного ритуала осквернения трупов, от археологических раскопок, во время которых на свет божий извлекались покрытые ржавчиной переживания; после таких вечеров Алисия возвращалась домой всегда с одним и тем же желанием: разом положить всему этому конец — раствориться и уснуть. Субботние визиты она принимала как наказание и потому на реплики старухи отвечала молчанием. Ту одолевали тяжкие недуги, и она тешилась, когда удавалось побольнее ранить душу Алисии. Единственное, что позволяла себе Алисия, это прикрыть глаза — опустить веки, отяжелевшие от вопроса: ради чего она должна все это терпеть? Если поначалу у нее еще оставалось чувство сострадания и желание разделить с Мамой Луисой одиночество, населенное тенями покойных, подтолкнуть свекрови спасательный плот или протянуть руку, то с каждым разом Алисия все больше склонялась к мысли, что больше всего ей хочется бросить Маму Луису — пусть доживает свой век в печали, пусть захлебывается злобой, пусть барахтается в ней, как ящерица. Ведь злоба переполняла ее с того давнего-предавнего дня, когда Пабло променял мать на совсем юную, нежную и беспечную девушку. Так что в эту субботу Алисия не пошла к Маме Луисе; благодаря новым сновидениям она получила некоторую передышку и боялась, что воспоминания, раздирающие душу, опять все испортят — вернут ее к прежнему состоянию.
— Почему ты вчера не пришла? — Эстебан разрезал пополам чурро, потом выключил кофеварку. — Мать справлялась о тебе.
— Не знаю, как это тебе объяснить, Эстебан. — Теперь главное было не проявить слабость и не пойти на уступки. — Думаю, будет лучше, если она привыкнет видеть меня пореже.
— Пореже? — Он резко обернулся. — Что ты имеешь в виду, Алисия?
— Да ничего, абсолютно ничего особенного. Достань чашки из посудомоечной машины, здесь, наверное, все уже грязные. — И тут Алисия почему-то подумала, что ей просто необходимо прямо сейчас вымыть голову, — У меня теперь совсем другие заботы. Я занята другими вещами. Да, другими вещами.
— Не знаю, как ты можешь пить такой кофе — чистый цикорий… Так о каких вещах ты говоришь?
— О других вещах… — В глубине ее глаз забегали змейки. — Послушай, Эстебан…
Молчание стало объемным, словно в нем таились особые откровения; и еще это было плотное молчание, из тех, что заполняют зияния между очень важными словами, между мольбами или оскорблениями. Эстебан понимал, что теперь должен забыть о чашках и прислониться к столу, скрестив руки на груди. Пожалуй, можно еще и закурить.
— Только не смотри на меня так! Я не собираюсь признаваться, что кого-то убила.
— Слава богу! Ты сняла камень у меня с души. — Эстебан распечатал новую пачку «Фортуны». — Так что же?
— Это сны, Эстебан. — Алисия тоже закурила свои «Дукадос». — Вот уже неделя, как мне снится город.
— Какой еще город?
— Ну я не знаю какой. Это не какой-то конкретный город, а город вообще, абстрактный… И дома там словно кукольные или нарисованные — словом, ненастоящие. Это город-декорация. В таком сне, собственно, не было бы ничего особенного, не повторяйся он каждую ночь, обязательно каждую ночь — и почти без изменений. Понимаешь? Все тот же город — одну ночь, вторую, третью… И каждый раз я начинаю путь с бульвара, в середине которого есть желтые часы, а еще там какая-то пара вечно танцует танго.
— А другие люди в этом городе имеются?
— Нет, почти нет. Вернее, спины людей и манекены.
Эстебана не увлекали интеллектуальные сны Алисии.
— Твои сны, дорогая, это сны музейные — Магритт, Дельво, Де Кирико. Чистой воды сюрреализм.
— Да ну тебя! Нет, с такой головой я больше ходить не могу! Знаешь что? Я пойду приму душ и оттуда расскажу, что было дальше.
Эстебан демонстративно отвернулся, докурил сигарету и сразу же начал новую. Он слышал шелест одежды, скользнувшей к ногам Алисии на кафельный пол, — а может, на биде. Затем до него донесся шум отвесно падающей, разбивающейся о ванну воды. Потом были: обнаженная спина Алисии за стеной горячих стрел, нежное покалывание которых сползало к подколенным впадинам, конусы грудей и впадина между бедер. Эстебан вздохнул. Легкая занавеска, заменяющая дверь, искажала очертания тела Алисии, так что получался лишь бледный эскиз.
— Ну, давай, рассказывай, — Эстебан старался перекричать монотонный шум воды и гудение крана. — Этот город и впрямь такой необыкновенный?
— Да, необыкновенный. Там, внутри, есть что-то, что мне трудно описать и объяснить. Город заражает меня странным чувством… Это смесь грусти, ужаса и зачарованности.
— Почему?
— Не знаю, это очень личное, и отыскать конкретную причину я бы не взялась. А у тебя разве не бывает, что твои сны — они как оправдание, вернее, вторичный продукт тех чувств, что снами же и управляют?
— Да, так говорил Кольридж. — Силуэт за занавеской вытирался. — Сначала появляются головокружение, страх, а уж потом — ощущение стремительного падения, свободного полета.
Завернувшись в халат, Алисия повела Эстебана в комнату. К лицу ее прилипли черные пряди. Когда-то они с Пабло дружно нарекли это похожее на лабиринт помещение «студией» — потому что оно являло собой хранилище книг, дисков, пожелтевших открыток, свернутых в трубки афиш, по обе стороны монитора в беспорядке валялись дискеты. Лампа с бумажным абажуром бросала слабый свет на полки, давая возможность разглядеть позолоченные имена Майкла Крайтона и Васкеса Монтальбана или сардоническую улыбку Гручо Маркса, который вошел в историю фразой: «Сеньора, простите, что я не встаю». Профессия Пабло способствовала собиранию самого разнородного печатного материала, так что здесь, к большому изумлению гостей, греко-латинские классики соседствовали не только с последними шедеврами Барбары Картленд, но и с содержательными монографиями о реинкарнации, трудами по астрологии и хиромантии, завлекающими столь же звонкими, сколь и неправдоподобными, именами. Алисия протянула Эстебану книгу, огромную, как атлас, на суперобложке — на фоне леса английское название: «The European engraving in the Eighteenth Century»[376]. На странице 148 он увидел экстравагантные архитектурные сооружения геометрических форм — кубы, сферы, пирамиды, все это имело какой-то фараоновский вид, вид внеземных памятников. Эстебан глянул на подписи под иллюстрациями: Этьенн-Луи Булле, кенотаф Ньютона, 1784; Клод Никола Леду [377], город Арк-и-Сенан, Дом Директора вод, Мастерская дровосеков.
— Вот это и появляется в твоих снах? Ужас.
— Нет, не это. — Рука Алисии скользила по гладкой поверхности страниц. — Но впечатление такое же. Что ты можешь сказать об этих сооружениях?
— Не знаю. — На самом деле ему это напоминало огромное кладбище геометрических форм или берег, заваленный выброшенными на песок многогранниками. — Главное — полная бесполезность.
Несколькими страницами раньше изображались знаменитые темницы Пиранези [378] — непонятные кишки с цоколями и мрачными, запутанными лесенками. Да, действительно, в этих рисунках таилось давящее напряжение кошмаров. Эстебан полистал том, пока Алисия натягивала джинсы и свитер, потом она позвала его из гостиной. В руке у нее была тетрадь, и в той же руке — только что зажженная сигарета.
— Я начертила план. Вот.
Эстебан увидел неуклюже нарисованную шахматную доску с вписанными тут и там непонятными названиями. Стрелками и звездочками помечались желтые часы, обсерватория, дом с зеркалами, военная академия. Внизу, на юге (потому что тут, по всем правилам, должен быть юг), помещался пустой квадрат с точкой в центре. Под точкой нервным почерком было написано «Ангел».
— А это что такое? Ангел?
— Это самое лучшее. — Она плюхнулась на черный кожаный диван. — Эта площадь, Эстебан, совершенно необыкновенная. Не спрашивай, почему необыкновенная, необыкновенная, и все: что-то в ней такое есть. Но ангел… Он очень красивый — и одинокий, совсем один в центре огромной площади, можно заплакать от жалости.
— Опиши-ка мне твоего ангела.
— Два крыла и все прочее, как положено. На пьедестале написано имя, но я его не запомнила. И еще — он хромой.
— Хромой?
— У него одна нога словно вывихнута в лодыжке, вот так. — Алисия вывернула правую ногу, чтобы совсем уж наглядно продемонстрировать, как выглядит вывихнутая нога ангела.
Эстебан сел на диванный подлокотник и вытащил из пачки очередную сигарету. Он листал тетрадь, где Алисия с большим старанием, но неумело попыталась изобразить некоторые здания, о которых рассказывала ему с нездоровым возбуждением. Он не знал, чем объяснить новую манию, овладевшую Алисией, не знал, стоит ли поощрять ее и надо ли поддакивать: действительно, этот фантастический город очень необычен. А может, следует отнестись к ее рассказам просто как к обманному трюку, дымовой завесе, которая помогает ей увильнуть от разговоров о визитах к Маме Луисе и, главное, о том, кто должен занять место Пабло рядом с ней? Нет, разумеется, Эстебан не спешил предлагать себя на эту роль, но, возможно, город из сна — только хитрая уловка, а на самом деле Алисия рискнула приступить к лечению, прежде чем рана загноится, хотя, возможно, город — способ отстраниться постепенно, но решительно от мира Пабло и ото всего, с ним связанного. Правда, существовало и еще одно объяснение, и Эстебан предпочел бы о нем не думать, этот вариант был слишком неприятным.
— А с Мамен ты говорила?
— Что ты имеешь в виду? — Алисия сразу ощетинилась.
— Я ничего не имею в виду, просто спросил, рассказала ли ты о своем сне Мамен.
—Да, рассказала, сеньор психиатр, ведь бедненькая Алисия у нас совсем свихнулась, — Голос ее стал злым.
— Ты все ей рассказала?
—Да, сеньор, я все ей рассказала — про город, бульвар, танго, площадь, спины, преследования. — Тут Алисия осеклась. — Нет, не все. Я забыла рассказать про мужчину.
— Про какого мужчину?
— Там есть еще и мужчина. — Она словно раздвинула рукой паутину, затянувшую воспоминания. — Мужчина с усами, он преследует меня. Велит уходить оттуда, чтобы я скорей бежала прочь. Эстебан, я не сумасшедшая.
Да какая разница, сумасшедшая она или нет, если он продолжал погружаться в теплый омут зеленых глаз и был готов вечно оставаться в плену у Алисии — например, у такой Алисии, как сейчас, только что вышедшей из-под душа. Какая разница, о чем шла речь — о кукольном городе или бледных призраках Пабло и Роситы. Хотя, надо признать, когда ее преследовали тени в саванах, Алисия была ближе Эстебану — он успокаивал ее, усаживал к себе на колени, гладил каштановые волосы и шептал всякие слова — сначала слова утешения, потом слова, требовавшие известной смелости, а уж потом и совсем другие слова — самые главные, которые надо дублировать соответствующими взглядами.
Свобода — щербатая монета, или пустой карман, или только что отточенный карандаш, который не терпится испробовать, да не на чем; какой толк от этого звучного, гладью вышитого слова, если оно оказывается полым внутри и к тому же подгнившим, если оно утратило смысл, если эта самая хваленая свобода дает тебе право только на то, чтобы два часа ночи сидеть и выбирать между фильмом, ток-шоу и еще какой-нибудь дурацкой передачей. Свобода, думала Алисия, прогуливаясь перед витринами, это дар нежелательный и обременительный, потому что, когда она сваливается тебе на голову, липнет к ногтям и векам, ты невольно ведешь себя как сомнамбула, тебя одолевают безразличие и растерянность — иначе говоря, ты ведешь себя как человек, который умирает с голоду, глядя на горячую пиццу, потому что не знает, с какого куска начать. Свобода Алисии напоминала красивую записную книжку, подаренную ей Пабло и Росой, ежедневник с чистыми страницами, где она просто обязана была что-то писать — пусть просто для того, чтобы убедить себя: она продолжает существовать. На самом деле ей было все равно: чай или кофе, роман или фильм, мясо или рыба, Севилья или Бетис. Этим вечером, когда уже началось скольжение сумерек к темноте, заляпанной кляксами фонарей, она выбрала прогулку, хотя с равным успехом могла выбрать и что-то другое. Пабло заразил ее привычкой совершать прогулки — блуждать по центру, заходить в магазинчики, заглядывать в книжные лавки, где можно позволить себе случайную прихоть и купить оловянного гусара, открытки или книгу о куртизанках эпохи Возрождения. Благодаря Пабло она обрела еще одну привычку: прочесывать лавки букинистов, прохаживаться вдоль длинных книжных полок, сунув руки в карманы пальто, а порой и с сигаретой во рту, радостно предчувствуя, что под обложкой одной из книг таится то, что на целую неделю поможет заполнить послеобеденное время или полчаса перед сном, пока еще не погашен ночник. Там можно найти маленькое сокровище в потрепанном переплете, которое так приятно будет, чуть подклеив, поставить на полку, — к тому же и по вполне симпатичной цене. Иными словами, когда Алисия зашла в книжный магазин на улице Фериа и начала рыться в Полном собрании сочинений братьев Альварес Кинтеро[379] и в кипе назойливых историй про НЛО и про жизнь после смерти, она, по сути, следовала той самой рутинной бродяжьей привычке, которой они с мужем отдавали дань по пятницам или субботам, пока дочка объедалась печеньем у бабушки. Этот книжный магазин весьма напоминал свалку, и не только из-за щедрого слоя пыли на книгах, и не из-за жалкого вида бесчисленных брошюр Лафуэнте Эстефания, которые выглядели так, словно побывали в заложниках у террористов, — нет, скорее такое впечатление создавали горы ржавых инструментов, валявшихся на полу вперемежку с разломанными деревянными рамами, пожелтевшими буклетами, папками с литографиями. Старик за прилавком, облагороженный вариант старьевщика, попытался, подняв бровь, подать ей некий почти неуловимый знак соучастия, после того как Алисия в свою очередь поприветствовала его легким взмахом руки. Именно с этим стариком Пабло подолгу обсуждал достоинства и недостатки новых переплетов или старинные романы с продолжением. Именно в эту лавку в один прекрасный и далекий вечер Пабло привел за руку Алисию и вручил чудесное издание Кэрролла с потрясающими гравюрами, изысканным шрифтом, глядя на который она почему-то подумала о лаванде, сиестах и лете.
— Добрый вечер, сеньорита.
Почувствовав укол любопытства, Алисия нагнулась и стала просматривать содержимое папок: ее руки перебирали пестрый, словно выброшенный приливом мусор: фотографии прошлого века, рекламу щелока сороковых годов, вырванные из французских энциклопедий карты, плакаты. Ей стало скучно, и она уже хотела было свалить все это старье обратно в тот же угол, из которого его извлекла, но тут из-за портрета смазливой Кончи Пикер вынырнула картинка, которая заставила вспыхнуть фонарик в каком-то закутке памяти: проспект, длинный бульвар в стиле восемнадцатого века, по которому, словно муравьи, движутся пешеходы в камзолах. Нет, это был вовсе не тот самый бульвар, но странным и весьма загадочным образом похожий на него, как будто с тем, другим, бульваром его роднило фамильное сходство. Подпись поясняла, что это Грабен — Вена 1781 года, так что все сомнения разом рассеялись: страница была выдрана из иллюстрированной биографии Моцарта. И все же рисунок буквально загипнотизировал Алисию, она даже решила взять его — выдернула лист из папки, но так неловко, что содержимое папки посыпалось на пол. Правда, вскипевшая было досада мгновенно осела, уступив место изумлению, а может, это был приступ безумия; она зажмурила глаза, потом снова открыла, сердце продолжало бешено колотиться. На куче брошюр и сломанных рам лежала гравюра: квадратная площадь, в центре которой стоял ангел — нежное, бесполое создание с вывихнутой ногой.
3
Она ждала его, сидя за мраморным столиком
Она ждала его, сидя за мраморным столиком, и машинально помешивала слишком крепкий кофе. Вид ее не внушал тревоги, поэтому Эстебан, который, выйдя из автобуса, мчался что есть духу, остановился и с облегчением вздохнул. Во-первых, Алисия позвонила ему в академию и тем самым нарушила строжайший запрет: звонить туда можно было только в самых — и по-настоящему исключительных — случаях: скажем, кто-то умер или выиграл главный приз в лотерею и так далее. Секретарь заглянул в аудиторию и, прервав урок — скучнейший перевод Цицерона, который он натужно прорабатывал с дюжиной учеников, — сообщил, что какая-то Алисия просит его к телефону по срочному делу. Эстебан, боясь услышать что-нибудь плохое о матери, схватил трубку. Алисия ничего не объяснила, а лишь сказала, что им надо как можно скорее встретиться, сразу после окончания занятий. Она будет ждать его в кафе «Коимбра». Он вернулся в класс и попытался сосредоточиться на «…quo mortuo me ad pontificem Scaevolam »[380] и так далее, но ему не удавалось выкинуть из головы звонок Алисии; видимо, ее невроз приобретал все более неожиданные и зловещие формы. Мамен должна постараться привести ее в норму или по крайней мере предупредить, чего еще следует ждать и в какую сторону может качнуть Алисию из-за мучительных ночных кошмаров. Эстебан кинул на мраморный стол папку с Цезарем, Салустием и Цицероном и, отдуваясь, сел. Алисия тотчас схватила его за руку, да так крепко, что ему показалось, будто пальцев у нее гораздо больше, чем положено.
— Ты что, бежал?
— Да, — пропыхтел он. — Ведь произошло, надо полагать, нечто из ряда вон выходящее, иначе… Ну, говори же!
Алисия заказала официанту две анисовки и распечатала пачку «Дукадос». Глядя на неспешную церемонию — на то, как она вытащила сигарету, сунула в рот, потом щелкнула зажигалкой, Эстебан забарабанил пальцами по столу.
— Что случилось?
Она протянула ему свернутый в трубку и стянутый резинкой лист бумаги. Эстебан послушно взял, толком не сообразив, чего от него ждут.
— Что это? Ты решила подарить мне постер?
— Посмотри.
Сперва, когда его взгляд небрежно скользнул по листу и зацепился за строгих очертаний площадь, с трех сторон окруженную домами, Эстебан на самом деле исподтишка следил за выражением лица Алисии—оно интересовало его больше, чем гравюра; но затем он высоко поднял брови, потому что разглядел в центре площади ангела, мало того, нога у этого гермафродита на уровне лодыжки была вывернута под углом в девяносто градусов — то есть гравюра очень точно повторяла то, что Алисия описывала ему в прошлое воскресенье. Эстебан начал тасовать объяснения, отбрасывая то один, то другой вариант и все время сохраняя на губах дурацкую ухмылку. Это, конечно, была шутка, но ведь Алисия не стала бы вызывать его с урока только ради розыгрыша, по крайней мере могла бы и потерпеть немного; нет, скорее всего, речь шла о сдаче позиций и как следствие — о раскаянии; иначе говоря, Алисия наконец-то поняла, что выдумками про город и ангела загнала себя в тупик, и решила признаться: все чистая игра воображения, спровоцированная гравюрой, которая каким-то образом попала ей в руки. Да, наверное, все обстояло именно так, только вот взгляд Алисии мешал принять такую версию. Но ведь бывают и случайные совпадения. Точно! Случайность, и ничего больше! Бывает же, что ты вспоминаешь давным-давно виденный фильм, хочешь снова его посмотреть, включаешь телевизор и — черт возьми! — смотри, радуйся и наслаждайся, только прежде выруби телефон! Именно случайность. Ведь бывает, что тебе дважды попадается один и тот же таксист или человек умирает в день рождения, да мало ли чего еще!
— Какое чудесное совпадение, правда? — начал Эстебан фальшивым тоном. — Ангел, как в твоем сне.
— Это не совпадение, — отрезала Алисия. — Это и есть площадь из моего сна. Та самая площадь, теперь ты сам можешь на нее полюбоваться, и я нашла лишь одно маленькое отличие.
— Да? Какое же?
Указательный палец Алисии пополз к пьедесталу и уткнулся в львенка, который клубочком свернулся у левой ноги ангела.
— В моем сне тут не лев, а бык, а может, и корова, короче, кто-то с рогами. И еще: имя на том пьедестале похоже на это, но они разные. Дальше: здесь тоже есть еврейская буква, но и она другая.
Эстебан прочел: «Самаэль». Имя ангела, конечно. Он когда-то слышал, что суффикс —эль или —ель (ил) означает «дух Божий» или что-то подобное — вот откуда взялись Мигель (Михаил), Габриэль (Гавриил), Рафаэль (Рафаил)… Что касается буквы, то да, она еврейская, во всяком случае, может быть или еврейской, или арамейской, или ханаанейской, или принадлежать любому другому семитскому алфавиту — его познания в восточных языках явно оставляли желать лучшего. Подпись под гравюрой отсутствовала, но какие-то пометки на полях указывали на то, что речь идет о старом французском издании. Там же было обозначено и название книги. Эстебан прочел латинский заголовок и проделал это с изысканностью рапсода — уж этому-то он сумел научиться за пять курсов пребывания на отделении классической филологии, а также благодаря самым близким отношениям с Катуллом и Вергилием: «Mysterium Topographicum, seu arcanae caliginosae eximiaeque urbis Babelis Novae descriptio»[381].
— Ну? — Он положил гравюру на стол и закурил.
— Я ведь говорила тебе, Эстебан: с городом что-то не так. — Алисия словно готовилась прямо сейчас приступить к разработке некоей стратегии, но Эстебан не мог угадать сути ее замыслов. — Отсюда следует, что мой сон — не просто мой сон. По крайней мере, не только мой.
— Перестань, Алисия. Так можно знаешь до чего договориться?
— До того, к чему меня и подталкивают. — В глазах Алисии не осталось и следа растерянности. — Понятия не имею, как именно я впервые попала в тот город, главное, что каждую ночь я обязательно там оказываюсь, постоянно туда возвращаюсь. И не только я. Эта гравюра доказывает, что в городе побывали и другие люди.
Да, совпадение, конечно, любопытное, но не более того. Конечно, весьма любопытное, но нельзя же доходить до абсурда, все это — чистое совпадение. Допустим, существует город, который Алисия видит во сне так отчетливо, словно это деревенский домик на холме. Кроме того, нельзя не признать, что существует еще и некий общий сон, вернее, некая точка в пространстве, где сон этот доступен каждому, кто в данную точку попадает, соскользнув туда через свой индивидуальный люк — а говоря проще, с помощью своей собственной подушки. Итак, существует некий экуменический и абсолютный сон, который открыт для посещения любому спящему.
— Я отыщу книгу, из которой вырвали гравюру, — заявила Алисия. — Надеюсь, большого труда это не составит.
— Думаешь? — Эстебан засмеялся, хотя какой уж тут, черт возьми, смех! — И откуда ты начнешь поиски? С Британского музея? С парижской Национальной библиотеки?
— Книга хранится в нашей университетской библиотеке, — сухо заметила Алисия. — Мне встречалось имя автора.
— Ашиль Фельтринелли, — прочел Эстебан. — Ты о нем что-то знаешь?
— Нет, я тебе не Умберто Эко. — Анисовка мягко обожгла ей нёбо, — Я запомнила фамилию — Фельтринелли. Мы ведь уже два года как заняты составлением нового электронного каталога библиотечных фондов, и я обратила внимание на фамилию, потому что «Фельтринелли» — это еще и название миланского издательства, с которым часто работал Пабло.
Стоило ей назвать имя призрака, как между ними выросла стеклянная стена, и на какое-то время каждый погрузился в свои, только ему принадлежащие воспоминания, каждый возвратился к словам и картинам, к которым возвращаться не хотелось, поэтому они поспешили снова заговорить о гравюре, ухватившись за эту тему, как за соломинку.
— Значит, площадь точно такая же, — зачем-то повторил Эстебан.
— Мне будет нужна твоя помощь, — заявила Алисия, вертя в руке сигарету. — Ты переведешь мне эту книгу, отрывки из нее. Я сниму копию с нужных страниц, и ты их мне переведешь.
Над столом снова сгустилось молчание. Их взгляды начали безжалостную дуэль, силясь одолеть друг друга, заставить соперника опустить глаза на исцарапанный мраморный стол, на пепельницу, на руки, державшие стаканы. Поединок взглядов продолжался до тех пор, пока зажигалка не опалила сигарету Алисии.
— Все это очень серьезно, Эстебан, — сказала она, выпуская струю дыма через нос. — Поэтому я хочу спросить: могу ли я на тебя рассчитывать?
Как он мог отказать, повернуться к ней спиной или сунуть руку в карман в тот самый миг, когда ей так хочется почувствовать его руку на своем плече, откуда рука, возможно, скользнет к каштановым прядям, потом — к ровной долине между лопатками. Разумеется, Алисия может на него рассчитывать, и дело вовсе не в ангеле, и не в городе, и не во всем этом вздорном женском бреде; он не откажет ей в помощи, но каждый свой шаг, каждый поступок занесет в счет, чтобы потом предъявить к оплате, когда эта история закончится или перетечет в новую навязчивую идею, новое блуждание по каким-то другим, но не менее странным местам — во сне или наяву. Наверное, по трезвом размышлении, его поведение заслуживает осуждения или просто брезгливой гримасы, но уловки любви не всегда чисты, да и кто сказал, что они обязательно должны быть чистыми? Разумеется, она может на него рассчитывать, ведь он хамелеон, затаившийся в ожидании мухи.
— Разумеется, ты можешь на меня рассчитывать, глупая, — сказал Эстебан и взял ее за руку.
Она старалась получше прожарить тортилью и для этого методично встряхивала сковородку, но тут взвизгнул звонок домофона, так что пришлось отойти от плиты и взять трубку; она узнала голос, особым манером растягивающий гласные, голос просил открыть дверь. Алисия нажала на кнопку и пошла за сигаретами. Мариса поднялась очень быстро: к счастью, пенсионер с шестого этажа на сей раз удивительно легко догадался, что лифт не отдан в полное его распоряжение. После кремово-розовых поцелуев Мариса, как всегда, побежала полюбоваться на конибры, исторгая традиционные вопли восторга. Вообще-то она шла к травнику, это через два квартала от дома Алисии в сторону центра, но надумала прежде заглянуть сюда и кое-что занести. По правде говоря, мысль эта появилась у Марисы еще в прошлый раз, когда Алисия упомянула странный город, который начала посещать во сне. Мариса шлепнула на стол в гостиной свою плетеную сумку, склонилась над ней, так что потоки черных волос водопадом хлынули вниз, и принялась извлекать из сумки, словно фокусник из цилиндра, самые разные вещи: солнечные очки, одну серьгу, бумаги, рецепты, две самодельные заколки для волос, сделанные из пары высушенных кружков лимона, флакончик с подозрительной травяной настойкой и наконец книгу в черной обложке с интригующим названием «Как толковать сны». Рука Алисии подхватила книгу, на губах ее мелькнуло подобие улыбки, а сигарета чуть не полетела на пол. Мариса бурно обрадовалась тому, что нашлись заколки, и постаралась укротить свои волосы, закрепив их назатылке. Время от времени она бросала взгляд на цветы, испытывая при этом противоречивые чувства — восторг и досаду: она никак не могла уразуметь, почему, посвятив всю свою жизнь проповеди евангелия от ботаники и пропаганде здорового естественного образа жизни, сама никак не может вырастить дома такие вот создания — с белыми перышками на пестиках; у нее они жили не более тех шестидесяти двух часов, которые гарантировала инструкция по пересадке. Тут в нос к ней заполз сигаретный дым, и она тотчас обернулась к Алисии.
— А ты все продолжаешь курить, — проворчала она. — Как извозчик. И Хоакин тоже. Я ведь не раз называла вам цифру — сколько людей гибнет в год из-за табака…
— Зачем ты притащила мне эту книгу? — со смехом спросила Алисия.
— А что, разве не ясно? — Мариса энергично полистала страницы, — Толкователь снов. Не смейся, дурочка, сны — вещь очень серьезная. Сны в символической форме рассказывают нам о нашем истинном «я», о том, в каком состоянии пребывает наша жизненная энергия. Перестань паясничать! Сколько раз я звала тебя пойти со мной к Району, иглоукалывателю. Он бы тебе объяснил, что наше тело — своего рода батарея, по которой бежит жизненная энергия, ши.
— Значит, мою батарею пора выкидывать на помойку.
— После нашего вчерашнего разговора, — пальцы Марисы лихорадочно переворачивали страницы, — я вспомнила, что у меня где-то валяется нужная книга, и решила посмотреть, что же означает, когда снится город. Вот, вот, послушай, что я тут нашла: «Заблудиться в незнакомом городе обычно означает нерешительность, неуверенность, отсутствие воли для завершения начатого дела. Незрелость. Неосуществимые надежды в ближайшем будущем. Воздержитесь что-либо планировать на ближайшее время, не намечайте серьезных дел». И далее в том же духе.
— Автор твоей книги — настоящий психолог, — сказала Алисия раздраженно и с силой раздавила сигарету о пепельницу. — Пойдем на кухню, мне надо порезать помидоры для тортильи. Ты обедала?
Мариса с радостью приняла бы приглашение, но она слепо подчинялась самым причудливым капризам натуропатии и предписаниям разного рода эзотерических учений из сборников, которые, как горячие пирожки, расходились в супермаркетах и за которыми она признавала право на обладание священной истиной. Для Марисы решение всех проблем крылось в могущественных свойствах какой-нибудь загадочной травы, произрастающей только в далеких тростниковых долинах Восточного Пакистана. Могло помочь также познавательное путешествие по пятому измерению астрального плана или по какой-нибудь другой зоне духовной географии — но не менее рискованное; поэтому ее советы, несмотря на то, что давала она их с искренним желанием помочь, были бесполезны, как слова утешения, произнесенные на непонятном языке. По воспоминаниям Алисии, неистовая страсть Марисы к растениям и потусторонним путешествиям зародилась в годы юности, когда обе они слушали «Радио будущего» и обсуждали достоинства мальчиков из их компании. Марису всегда интересовали визиты инопланетян, следы Атлантиды, тайны запертой комнаты, дверь которой непременно открывалась, если в доме кто-то умирал, и прочие непознаваемые явления, тем более что узнать о таких вещах можно было из дешевых книжек, продававшихся во всех киосках. Она вовсе не была простушкой или фанатичкой, и мистика как таковая ее не привлекала. Алисия знала: подруга никогда не попадет в щупальца какой-нибудь секты или гностического общества из числа тех, что гарантируют обретение мудрости в обмен на номер банковского счета. Мариса верила в мир иной, потому что была глубоко убеждена в его существовании, это был ее свободный выбор — ведь всегда надо во что-то верить, а Христос и коммунизм казались ей слишком старомодными. Всегда надо во что-то верить, призналась Мариса однажды, когда какая-то печаль или стакан красного вина толкнули ее на откровенность; надо за что-то уцепиться, особенно если надежды рухнули и от будущего ждать уже нечего. По всей видимости, сильный крен в сторону эзотерики и даже некоторый догматизм в проповеди основных ее заповедей объяснялись приговором врачей: ее матка поражена какой-то непонятной, не поддающейся точному диагнозу болезнью, поэтому ребенка, о котором Мариса страстно мечтала, у нее никогда не будет. С тех пор этот неродившийся ребенок стал частью ее одиночества, он спровоцировал истеричное увлечение траволечением, и тем не менее, несмотря на внимание и заботу Хоакина, Мариса чувствовала себя все более и более уязвимой. Она пролила море слез и произнесла тысячи проклятий, сражаясь за недосягаемую мечту; однажды, под воздействием марихуаны или коньяка, даже клялась Алисии, что готова продать душу дьяволу, лишь бы добиться своего. Но ведь у нее, думала Алисия, есть ее травы, пришельцы из потустороннего мира, таинственная вселенная, наполненная многозначными перекличками и всякими неожиданностями: клин клином вышибают, и только очень сильная страсть может заслонить или одолеть ту, что терзает нас.
Порывшись, как крот, в своей сумке, Мариса положила перед Алисией нечто, похожее на визитную карточку с нарисованными на ней полумесяцем и парой-тройкой звезд; карточка упала в салатницу и окунулась в томатный сок. «Азия Феррер. Она знает твое будущее. Гадание на картах, хиромантия, толкование снов и прочие методы ясновидения».
— Она хороший специалист, — заверила Мариса, макая кружок помидора в солонку. — Сходи к ней на консультацию и скажи, что ты от меня. Чего ты, собственно, теряешь?
— Ничего не теряю, наверное схожу, только чуть позже. — Алисия перевернула тортилью, обратная сторона которой напоминала черно-коричневую географическую карту. — Но все равно спасибо, Мариса. Хотя, честно говоря, я не знаю, чем она может мне помочь.
— Ну… Если тебе не нравятся твои сны, она сделает так, что они от тебя отвяжутся.
— Да, разумеется. — Губы Алисии искривила саркастическая улыбка. — Она сменит пленку с фильмом — и готово! Следующий сон!
— Это гораздо проще, чем ты воображаешь. — Мариса произнесла фразу с неожиданным металлом в голосе. — Бывает, люди видят во сне то, что желают видеть; они тренируют свою психическую энергию, и она обретает нужную интенсивность и направленность, чтобы управлять подсознанием.
Упражнения по медитации, концентрации, йоге… Есть наставники, которые способны заставить нас видеть во сне то, что сами пожелают. Знаешь, с чем это можно сравнить? Бывают такие люди, которые легко заражают тебя своими радостью или печалью, а ты даже не подозреваешь о причинах смены собственного настроения. Тут происходит нечто подобное.
— Ладно, обещаю сходить, но только попозже. С чем тебе тортилью?
— Тортилья? — Казалось, Мариса откуда-то издалека внезапно возвратилась к реальности. — Нет уж, посмотри, который час. Лавка травника вот-вот закроется. А книга пусть полежит у тебя.
— Пусть…
Томатный сок оставил на визитной карточке гадалки темное пятно.
Все могло объясняться обыкновенной глупостью, или довольно необычным неврозом, или потребностью во что бы то ни стало заглушить голоса и образы, выныривающие на поверхность из темных глубин. Иначе говоря, все это могло оказаться лишь еще одним способом отвлечься — как, например, кино, вышивание крестиком или болтовня на случайную тему, — способом снять напряжение, а иногда и решить сложный вопрос. Когда она молча сидела на диване, уставившись слепым взором на «Флейтистку» Руссо Таможенника, которую еще Пабло пристроил на полке рядом с кувшином из майолики, или когда она, зажмурив глаза, поливала свои конибры, стараясь не устраивать в горшках болото, или когда наступал краткий миг просветления, жесткой и неуютной откровенности с собой, Алисия готова была признать, что ни город, ни хромой ангел не стоят той одержимости, с какой она искала разгадку тайны. Все это, конечно же, служило только одной цели: затушевать воспоминания, усмирить воспоминания с хищными клыками, жестокие и зловонные воспоминания; ведь Алисии казалось, — видимо, напрасно! — что она сполна расплатилась по всем счетам. Нет, обрывки прошлого, призраки Пабло и Росы — калейдоскоп фраз, жестов, поцелуев, обещаний — прорывались на каждую чистую клеточку, заполняли каждую свободную частичку ее времени и окружающего пространства. Поэтому город был нужен, поэтому ангел, латинская книга, которую с театральным пафосом читал Эстебан за столиком в «Коимбре», — все это было, к сожалению, нужно, все это было просто необходимо. Утром в четверг Алисия устроила перерыв между занесением в каталог новых поступлений и перераспределением книг по разделу «Психология». Она просмотрела массу компьютерной информации — по авторам, темам, издательствам, названиям; трижды прогнала на мониторе колонки зеленых мерцающих букв в надежде, что по невнимательности пропустила нужную книгу, но книга эта нигде не значилась: Фельтен, Юрий Матвеевич; Фельтман, Оуен; Фельтен, Морис; Фелл, Джон Барраклоу; Феллини Федерико… И тем не менее Алисия не сомневалась, что однажды собственными глазами видела имя автора — Фельтринелли; скорее всего, это было при переносе содержания потрепанной картонной карточки в компьютер. Но теперь машина выдавала ей ряды абсолютно незнакомых фамилий. Поэтому она покинула своего коллегу Хуанхо, с которым они вместе работали над электронным каталогом, спустилась на третий этаж и принялась просматривать каталог фонда древних книг. Никакого Фельтринелли в море пожелтевших карточек, заполненных на допотопных пишущих машинках, не оказалось. Попыхивая сигаретой, она бросила взгляд на портрет печального профессора, который нес бессменную вахту в коридоре, и у нее мелькнула мысль: а может, в памяти у нее случилось короткое замыкание и она ищет здесь то, что на самом деле видела совсем в другом месте? Нет, все-таки не могла она встретить упоминание об этой книге ни в одном другом компьютере, не могла держать в руках выцветшую карточку ни в одной другой библиотеке. Восьмилетний опыт работы чего-то да стоит.
Вахтер на этаже, существо лысое и конопатое, здорово скучал, сидя за столом, заваленным неотличимыми друг от друга кроссвордами. Алисия выпустила обойму комментариев по поводу дождливой погоды.
— Не позволите ли мне на минутку заглянуть в хранилище?
— А зачем тебе, детка?
— В нашем компьютере какой-то сбой, и мы не можем войти в каталог семнадцатого века.
— А директриса почему-то ничего мне не сказала.
— Ну пожалуйста, я мигом — только туда и обратно.
Вахтер благосклонно улыбнулся, и она очутилась в храме, среди томов, на корешках которых оставили свой след столетия. Знаменитые издания Галена и Плиния, щедро украшенные гравюрами, и грубоватые потомки средневековых бестиариев заставили ее благоговейно остановиться в проходе; она зачарованно взирала на тома, внутри которых притаились чудовища, растения, амфисбена, чемерица, мандрагора, якуло. В отделе XVIII века никакого Фельтринелли не было, в XVII веке — тоже; в XVI веке Алисия не утерпела и остановилась полюбоваться на великолепные рисунки «De historia stirpium»[382] Леонарда Фукса. Она добралась до XV века, где хранились инкунабулы; строгая табличка запрещала входить сюда с папками и ручками. Алисия уже готова была признать, что память опять сыграла с ней злую шутку — позабавилась, заставив плутать среди тысяч латинских названий, но неожиданно у нее мелькнула мысль: а вдруг кто-то намеренно запутывает следы? Она улыбнулась — кино, да и только! Но, в конце концов, поверить в существование некоего таинственного противника — не такая уж глупость, зато и тайна будет выглядеть куда более экзотической, если вообразить, будто где-то рядом существует невидимый и вездесущий игрок, чьей властной рукой расставлены фигуры на шахматной доске; этот же игрок препятствует каждому шагу Алисии, ведя партию к финалу — туда, где все загадки найдут разрешение. Значит, и город, и лабиринт, и ангел — лишь приманки, из-за них она забирается все глубже в пещеру, а кто-то тем временем следит, как далеко заведут ее любопытство или безрассудство.
И вдруг в голове яркой вспышкой мелькнула догадка и осветила все вокруг. Алисия кинулась к самым дальним полкам, туда, где в специальных помещениях с регулятором влажности и сигнальными системами хранились жемчужины университетской коллекции. Экземпляр Библии Гутенберга, искалеченная «Селестина», «Грамматика» Небрихи. Именно там, в самом низу, укрывшись за другими книгами, притаился куда более скромный и куда менее древний том — на его переплете не было ни золоченых завитушек, ни растительных узоров. С корешка была сорвана этикетка с шифром, да и название на корешке практически не читалось. Алисии достаточно было открыть первую страницу, чтобы узнать начальные строки: «Mysterium Topographicum, seu arcanae caliginosae eximiaeque urbis Babelis Novae description, a ministribus Domini nostri exaedificata ad maiorem Sui gloriam». Кто-то пытался запутать следы, уничтожить всякое упоминание о книге в каталогах и на карточках, кто-то хотел убедить Алисию в том, что Ашиль Фельтринелли никогда не издавал книги с нужной ей гравюрой, на которой изображен хромой ангел. Но у Алисии буквально дух перехватило, когда она убедилась, что там есть не только площадь, окруженная зданиями, но и обсерватория, амфитеатр, дворец с обнаженными музами — вся центральная часть города, где улицы превращаются в узкие мрачные галереи и над ними едва виднеется звездное небо. Но нашлись и различия: в книге иными были часы на бульваре, а магазин с роботами больше напоминал оружейную лавку. Итак, книга была чем-то вроде путеводителя по городу ее снов, справочником для не слишком подготовленных туристов — в середину тома был даже вставлен подробный план. От центрального кольца к окраинам спиралями расходились улицы, они упирались в четыре квадратные площади, соединенные между собой бульварами; на каждой площади, как убедилась Алисия, рассматривая гравюры, стояло по ангелу с вывернутой ногой, каждого ангела сопровождала маленькая фигурка. Решительно, существует какая-то игра, и некто по неведомой причине пригласил Алисию принять в ней участие. Нужно показать все это Эстебану, нужно переписать те куски текста, которые покажутся ей важными, и отдать ему для перевода. Да, пора доставать карандаш и бумагу, но прежде необходимо чуть успокоиться и отдышаться, присев где-нибудь в уголке, жаль только, нет кофе и нельзя закурить.
Глаза великана скользили по тетрадным страницам. Эстебан, томясь скукой, обернулся к двери и принялся разглядывать изъеденную ржавчиной вывеску: «Сантьяго Берруэль. Ремонт часов». Тут он вспомнил, что и в прошлый раз чувствовал мерзкий желтый запах — запах жженой серы, — который доносился из задней комнаты и от которого у него сразу заложило нос. Солнце все никак не решалось высунуться, прячась за белыми грядами облаков. Наверняка опять пойдет дождь.
— Ваши часы еще не готовы, — сказал великан, ткнув пальцем в какую-то запись. — Это ведь «Ланкашир», так? Нет, они не готовы.
— Я принес их неделю назад, — напомнил Эстебан.
— Ну и что? — Тетрадь вернулась на полку, откуда незадолго до того вынырнула. — У меня были более срочные заказы. К тому же я ведь говорил вам, что «Ланкашир» починить довольно трудно.
— Ладно. — Подбородок Эстебана ткнулся в ворот куртки. — Когда мне зайти?
Великан, казалось, прикидывал, бледная рука почесывала шрам, наискось пересекавший лицо, — память о какой-то неприятной истории из прошлой жизни.
— Зайдите через неделю, — проговорил он наконец. — Посмотрю, что с ними можно сделать.
В антикварной лавке на углу появился новый постоялец; Эстебан остановился перед бюстом Адриана, который теперь украшал витрину и оттуда скуки ради наблюдал за прохожими. Сказать что-то определенное о материале было трудно — не то мрамор, не то алебастр. Бюст был установлен на дорическую подставку. Щеки у Адриана от времени покрылись трещинами. Все старые вещи действовали на Эстебана одинаково — внушали чувство острой тоски, ибо источали особый запах, как комната, долго простоявшая запертой, или пляж в дождливый день. Слишком литературно. Эстебан зашел выпить кофе, заглянул в три-четыре магазинчика, затем двинулся к дому Алисии, чтобы узнать, чем же закончилась история с городом и ангелом; но дальше площадки перед ее дверью ему пройти не удалось; палец долго давил на кнопку звонка, пока не стало ясно, что в квартире этот звонок никто не слышит. Алисия опять улизнула — где она, черт возьми, шатается в такой час? Наверняка бродит по книжным лавкам в поиске пищи для своих идиотских фантазий. А ведь они договорились встретиться и заняться переводом отрывков из треклятой книги. Он постучал в дверь костяшками пальцев: а вдруг Алисия принимает душ и звонка не слышит? Подождав еще немного, Эстебан решил возвращаться домой. Планы рушились, и вечер превращался в пустынную пепельно-серую равнину, когда совершенно некуда себя деть и нечем занять. Эстебан смирился с тем, что придется удовольствоваться романом Агаты Кристи, который лежит на ночном столике, рядом с картинкой, изображающей Пантеон Агриппы. На лестнице Эстебан приостановился, тряхнул пачку, выбивая последнюю сигарету, и увидел Нурию: она выходила из своей квартиры с двумя большущими мешками в руках. Эстебан сунул сигарету обратно в пачку и подхватил мешки, от которых пахло опилками и аммиаком.
— Вот спасибо! — сказала Нурия, вздернув остренький, как у мышки, носик, из-за которого она напоминала Эстебану персонажа Уорнер[383]. — Давай так: ты мне поможешь вынести мешки на помойку, а я угощу тебя кофе.
— Идет.
Мусорный контейнер никак не желал принимать еще двух постояльцев, тем не менее мешки удалось впихнуть в пространство между связкой картонок и пачкой грязных и липких журналов. Нурия и Эстебан, болтая о музыке, поднялись по лестнице. Они обсуждали, что лучше поставить: «velvet Uderground» или Баха. Все тот же острый запах аммиака, прелой древесины и лака плавал по гостиной, где совсем недавно, по всей видимости, разыгралась опустошительная битва: чашки и ложки валялись на полу рядом со столярными инструментами, а всего пару раз укушенный бутерброд лежал у печки и уже успел покрыться сажей. Толстый слой стружки устилал пол; правда, в некоторых местах роль ковра выполняли старые газеты. Через балконную дверь в комнату уже начали проникать отблески рекламных огней от кафе-мороженого, приютившегося в доме напротив. Рядом с балконом застыла деревянная фигура, покорно позволявшая покрывать себя слоем какой-то желтой — нечто среднее между медом и шафраном — жидкости. Это и была несчастная, покалеченная Дева.
— Не пугайся. — Нурия улыбнулась, на цыпочках пересекла гостиную и поставила диск. — Я как раз провожу обработку газом. Честно говоря, с этой Девой я намучилась.
— Могу себе представить.
Стараясь не свалить обернутую фольгой банку с красноватой пастой, Эстебан приблизился к Деве и увидел лицо с глубокой черной дырой вместо глаза, от жуткого зрелища у него закружилась голова и перехватило дыхание. При первых звуках «Восстаньте от сна» Баха Нурия спросила его об Алисии, и он почти механически буркнул что-то в овет; все его внимание поглотила Дева, и он, словно зачарованный, не мог отвести глаз от черной дыры на ее лице.
— Я принесу бумагу и ручку, и ты, если хочешь, напиши Алисии записку. Сейчас будет кофе.
— Давай.
Позднее, размышляя о том, что случилось (а он не раз прокручивал в голове события того вечера), Эстебан понял, что его завороженность искалеченной деревянной скульптурой следовало толковать лишь как прелюдию, пролог или, если угодно, предупреждение о том, что вскоре он обнаружит нечто иное, по-настоящему важное — для чего надо было только сделать шаг влево и глянуть сзади на накидку Девы, где под облупившейся краской обнаружилось бурое пятно в форме слона. Сперва, пока мысли его были заняты черной дырой, этим ужасным проломом на лице статуи, он ничего другого вокруг не замечал; но потом вдруг случайно метнул взгляд в дальний угол комнаты, где были кучей свалены журналы. И тут в голове у него что-то колыхнулось, огромная желто-черная воронка закружила его, затягивая в бездну, и он чуть не сел на пол. Затем почувствовал, как онемела скула, словно он сам дал себе пощечину, затем дважды хлопнул глазами и застыл с открытым ртом, потом приблизился и потрогал это самое. В углу, на подстилке из заляпанных гипсом газет, рядом с кипой журналов и бутылкой сока «JB», из которой торчала полусгоревшая свеча, стоял бронзовый ангел с вывихнутой ногой. Эстебан погладил поверхность крыльев, провел пальцами по волнистым волосам. Да, совершенно такой же ангел, как на гравюре, если, конечно, не считать размера; и еще — у левой ноги ангела притулился крошечный человечек, а вовсе не лев. Изваяние было не более полуметра высотой, в нем чувствовалось что-то барочное; этот ангел напоминал ангела с трубой на фасаде университета. В коридоре раздались шаги Нурии. Тут только Эстебан заметил, что на пьедестале выбито множество знаков: имя Азаэль, одна еврейская буква, два латинских слова «Dente Draco», греческие буквы, но он не успел их разобрать и перевести. Нурия протягивала ему синюю чашку, от которой руке сразу стало тепло.
— Нравится? — спросила Нурия. — Мне его только вчера принесли.
— Чудесный, — выдавил из себя Эстебан, все еще не веря собственным глазам.
— Восемнадцатый век. — Ложечка Нурии зазвенела в чашке, почти как колокол. — Надо почистить его и снять следы ржавчины с волос, а так он в очень приличном состоянии, сам видишь.
— А кто тебе его принес? Нурии вопрос явно не понравился.
— А тебе какое дело? — Она облизала ложку, и та заблестела, словно зеркало. — Знаешь, что такое профессиональная тайна? Я не собираюсь объявлять на всех углах имена своих клиентов.
— Ну ладно, ладно.
Две мысли с грохотом сшиблись у него в голове. Бронзовая фигура, стоявшая на газетах, швырнула ему под ноги загадку, но он не желал клевать на приманку; ангел требовал, чтобы Эстебан принял решение: отнестись с полной серьезностью к фантазиям Алисии либо заставить ее прекратить любые разговоры на эту тему, вернуть в пространство, где обитают все нормальные люди. И поговорить, наконец-то поговорить с ней. Теперь он получил веские доказательства — скульптура, которую он обнаружил в квартире Нурии, полностью разоблачала выдумки Алисии и ставила точку в этой истории. Но тоненький голосок продолжал взывать из глубины его души, голосок защищал Алисию, выдвигая сложные и путаные аргументы в ее оправдание. Всякий раз, когда Эстебан наталкивался на неприятную правду: Алисия обманывает его, обманывает всех окружающих, чтобы спастись от пытки памятью, — это вызывало у него приступ ярости, он сжимал кулаки и цедил сквозь зубы ругательства, но тотчас сам же опутывал себя паутиной возражений, перед глазами начинало маячить слово «возможно», ведь надо иметь очень убедительные улики, чтобы бросить камень… В таких делах нельзя допускать даже намека на ошибку.
— Когда, ты сказала, его принесли?
— Вчера вечером.
— Точно? Не раньше?
— Что?
— Ты уверена, что вчера, а не раньше?
На губах Нурии, полускрытых краем чашки, мелькнула странная улыбка.
— Что с тобой, Эстебан? Память меня пока не подводит.
Но если он поверит фантазиям Алисии, значит, признает, что этот ангел перешагнул некий порог, черту или границу, разделяющие явь и сон, иными словами, границу между нашей обыденной жизнью, сотканной из убогих истин, и зыбким потусторонним миром. Значит, перейдет с одного берега на другой — запросто, без лишних размышлений, как пересекают комнату, чтобы заглянуть на кухню… И хватит ломать голову над тем, что за туннель соединяет два непримиримых пространства, два противоборствующих географических и архитектурных ареала. Нурия еще нескончаемые полчаса несла какую-то чушь про свою квартиру, перепланировку, ипотеку… Эстебан ничего не слышал. Он поблагодарил ее, взял бумагу и ручку и, не зная, что написать, нацарапал следующее: «Мне надо с тобой увидеться. Срочно. Эстебан». Потом раскланялся и двинулся домой. Совершенно выбитый из колеи, он с трудом передвигал ноги. Взгляд Нурии провожал Эстебана, пока тот не скрылся из виду.
До тех пор пока Алисия не приблизилась к витрине обувного магазина, чтобы получше разглядеть пару сапог, замеченную с противоположного тротуара, она и предположить не могла, что именно в этот миг жизнь ее пересекает некий рубеж и что одна нога уже занесена над чертой, за которой начинается совсем иное будущее — населенное множеством существ, отнюдь не всегда излучающих мир и спокойствие. Сердце ее бешено заколотилось, когда она узнала лицо, отраженное в витринном стекле: пепельно-бледное, осунувшееся, с двумя черточками усов. Лицо было для нее неотделимо от той площади… Алисия на бесконечно долгую секунду зажмурила глаза — ее обожгла надежда, что это просто ошибка; она так сильно сжала кулаки, что едва не проткнула ногтями кожу на ладонях. Потом снова открыла глаза, но картина в стекле, к несчастью, осталась прежней: та же толпа мутно-сизых прохожих, та же молодая женщина тянет за руку ребенка, тот же старик натягивает на голову все ту же дурацкую шапку и тот же — внутри у нее тоскливо ухнуло, — да, тот же мужчина с усами, жалкий и неприкаянный, совсем как во сне, пристально разглядывает что-то, что, скорее всего, находится прямо перед ней, — бежеватый витринный пейзаж: с пятнами туфель и сапог. Она трижды глубоко вдохнула и стала прокладывать себе путь сквозь толпу зевак, облепивших витрины. Она немного успокоилась, только когда очутилась у светофора, почувствовала на лице шлепки холодного ветра — ветер прилетел с проспекта и упрямо мешал ей сунуть в рот сигарету. Почему-то она даже головы не повернула, даже глаз не скосила, когда некая тень пристроилась рядом; сумка, которую человек держал в руке, уперлась Алисии в бок — именно тогда, когда она чуть ли не с радостным воплем наконец-то нашарила в глубинах кармана проклятую зажигалку. Обернуться, заметить тошнотворное прикосновение постороннего предмета к ребрам, машинально отнять фильтр сигареты от губ, но так, словно ты отводишь его не от своих губ, а от чужих, — эти ощущения быстро сменяли друг друга, и много позже память подчинила их одному-единственному впечатлению: незнакомец с усами стоял рядом и не сводил с нее черных глаз. Он источал все тот же запах подозрительности или иронии, во рту у него вяло торчала сигарета, а большим пальцем он повторял одно и то нее движение — словно приводя в действие зажигалку.
— Огонька не дадите?
Зажигалка прыгала у нее в руках, огонек метался туда-сюда, но наконец Алисия смогла-таки поднять ее к склоненному лицу мужчины, и оранжевое пламя на миг превратило это лицо в саркастическую маску из греческой трагедии.
Затем мужчина поблагодарил Алисию и удалился, бросив на прощание тот самый потусторонний взгляд, который терзал ее в сновидениях. Тень незнакомца навязчиво маячила в памяти Алисии, пока она чуть ли не бегом мчалась к дому, где располагался кабинет Мамен. Алисия влетела в лифт, который когда-то так сильно пугал Роситу, и нажала на кнопку пятого этажа. Зеркало услужливо возвратило ей отражение до смерти перепуганной, ошеломленной, запыхавшейся женщины — из глубины глаз ее рвалось наружу смятение. Теперь она и сама боялась именно этого — боялась сойти с ума, то есть незаметно для себя оказаться по ту сторону черты, утратить здравый смысл, который позволяет любому нормальному человеку видеть то же, что и все вокруг, и воспринимать увиденное так, как положено. Может, она и вправду сходит с ума? К счастью, Мамен задержалась в кабинете, чтобы просмотреть истории болезней нескольких пациентов. Увидев перекошенное лицо Алисии, она сразу усадила ее в кресло — прямо в приемной:
— Что с тобой?
— Мне надо срочно поговорить с тобой, Мамен. — Алисия задыхалась от волнения.
— Хорошо, хорошо. Только сперва я приготовлю тебе липового чая. Господи, ну и видок у тебя!
Некоторое время спустя они сидели в кабинете Мамен. Алисия немного успокоилась, в одной руке она держала сигарету, в другой — чашку с горячим чаем. Стемнело, и за окном улица Торнео уже превратилась в светящийся калейдоскоп рекламных огней, фар и светофоров. Настольная лампа бросала слабый свет на руки Мамен, от ее сигареты к темному потолку спиралями поднимался дым.
— В последнюю нашу встречу я забыла рассказать тебе одну вещь. А теперь мне надо рассказать тебе уже кучу всяких вещей.
— История с городом продолжается? — Голос словно исходил от рук. — Я, по правде сказать, надеялась, что с этим покончено.
— Нет, Мамен. Послушай, зато я обнаружила, что город не просто и не только сон. По крайней мере, не только мой сон.
Руки хранили молчание. На запястье слишком ярко сверкал золотой браслет.
— Сейчас я постараюсь объяснить. — Алисия сделала судорожную затяжку. — Помнишь, в том городе была площадь с ангелом, а еще был мужчина с усами. На днях в книжной лавке на улице Фериа я наткнулась на гравюру с тем самым ангелом, а только что на перекрестке, у светофора, тип с усами — тот же самый — попросил у меня огонька.
— Тип с усами… — Казалось, руки задумались.
— Да, с виду какой-то бедолага. — Алисия раздавила сигарету в пепельнице и тотчас полезла в карман куртки за следующей. — Самый заурядный тип — именно такого видишь перед глазами, если надо представить себе бедняка; ну сама знаешь: большая лысина, поникшие плечи, скажем, мелкий служащий, и жена им помыкает…
— Понятно. А что с ангелом?
— Это хромой ангел. Хотя на самом деле ангелов четыре.
— Четыре…
— Да, четыре ангела, по одному на каждой площади, на каждом краю города. Так описано в книге, которую я отыскала в библиотеке, там вообще все это описано. Трудно поверить, но действительно описано, Мамен. Автор — итальянец, не знаю, в каком веке он жил, но он несомненно побывал в моем городе. Там, в городе из моих снов.
Алисия вдруг умолкла, словно на миг обрела способность раздвоиться и послушать себя из соседнего пустого кресла, куда Мамен свалила дюжину папок. И тут до Алисии отчетливо дошло, каким опасным курсом плыл ее корабль — весь их разговор выглядел далеко не безобидно.
— Мамен, — застонала она, — я сошла с ума? Руки покинули конус света, тень Мамен обошла письменный стол и села рядом с Алисией. Скорее всего, она пристально смотрела на подругу, но сказать наверняка было трудно, так как глаза Мамен растворились в вязкой темноте, захватившей кабинет.
— Алисия. — В тоне, которым Мамен произнесла ее имя, слышалось нечто среднее между сочувствием и упреком, что не сулило утешительного диагноза. — Алисия, послушай же меня наконец. Забудь свой проклятый город.
— Разве это зависит от меня?
—Да, в большой степени это зависит именно от тебя. — Мамен снова села за стол, и от света лампы На ее украшениях заиграли блики. — Постарайся понять меня правильно: город — всего лишь отвлекающий трюк. Город, ангел и все прочие выдумки, которые кажутся тебе такими загадочными и притягательными, — не более чем проекция или, если хочешь, ответвление главной твоей навязчивой идеи, того, что не отпускает тебя и на самом деле терзает. Мы обе знаем, о чем речь.
— Пабло и Роса, — прошептала Алисия.
— Да, Пабло и Роса. — Теперь Мамен напоминила снисходительную учительницу, которая на экзамене застукала ученицу со шпаргалками. — Такой механизм психологической защиты хорошо изучен, он часто помогает нам не сойти с ума, но иногда и сам ведет к роковым последствиям, и ты играешь с огнем. Слышишь?
— Да.
— Сейчас я объясню, как мы будем действовать.
Руки снова вернулись в круг света и стали перебирать бумаги, пока не наткнулись на бланки рецептов; правая рука с помощью шариковой ручки начала выводить какие-то знаки на бумаге, левая эту бумагу придерживала, именно левую руку и сдавливал слишком ярко блестевший золотой браслет.
— Я выписываю тебе новое лекарство. Оно сильнее, но, думаю, в нынешней ситуации тебе без него не обойтись.
— Опять лекарство! — проворчала Алисия со своего места.
— Да, опять лекарство, — Взгляд Мамен не оставлял сомнений в обязательности новых предписаний и не допускал возражений. — Я прекрасно знаю, как это тебя раздражает, но что поделать,.. Вот название: «перамерол», только не ошибись. Смотри, я подчеркиваю нужное слово.
Алисия без особого энтузиазма поблагодарила и уже собралась было взять рецепт и похоронить его в сумке, но Мамен жестом остановила ее — ручка продолжала что-то писать.
— Еще транквилизаторы, по таблетке после еды. И половинку на ночь. Позвони мне послезавтра: скажешь, как у тебя дела, и посмотрим, что предпринять дальше.
— Послезавтра суббота.
— Ну и что с того? — Мамен как-то по-особому растягивала слова. — У болезней выходных не бывает, правильно? Подожди, спустимся вместе, я уже закончила все дела. Хочешь, выпьем пива.
Отдавая себя в руки Мамен, Алисия сразу успокаивалась, было приятно скинуть с плеч весь этот ужас, переложить его на Мамен, которая, конечно же, легко с ним справится: Мамен утешит ее улыбкой и добрым словом, а Алисия примет все это, умиротворенно закрыв глаза. Алисия доверяла подруге слепо, ей казалось, что стоит принять ее рецепты и выслушать предписания, как болезнь отступит. Да, это правда: Пабло и Роса не ослабляли атаку на ее рассудок, упорно, сокрушая любые препятствия, прокладывали себе дорогу и уже подступили к последнему редуту здравомыслия, сдача которого означала бы полное поражение, крах — разбитый компас и айсберг у самого борта. Да, для нее город был всего лишь еще одной хитрой уловкой в этой жестокой войне, которая развивалась по всем направлениям, и если войну не остановить… Повторяя про себя, что ближайшая задача — справиться с наваждением, Алисия спустилась с Мамен на лифте, и они шагнули в огромную, омытую дождем печь. Сырой воздух, залетая в легкие, на миг дарил уверенность, что перемены еще возможны, что письмо можно начать писать заново, стоит только взять другой лист бумаги, а старый — с помарками — выбросить в корзину. Но тут она чуть повернула голову и поняла, что все не так просто: взмахом руки не отогнать демонов и мало принять решение о возвращении к нормальной жизни. Справа, двумя подъездами дальше, ее ждал человек с усами. Он стоял съежившись, завернувшись в плащ, и с несчастным видом докуривал сигарету. Все планы Алисии тотчас рассыпались в прах, ее снова одолело жгучее желание найти разгадку таинственных событий, на нее навалилась бесформенная смесь любопытства, наслаждения и страха, которая, собственно, и манила в город с нарисованными проспектами, туда, где обитал и человек с усами, который теперь, отбросив в сторону окурок, буравил Алисию пронзительным взглядом.
— Вот он, — прошептала Алисия, вцепившись в руку Мамен. — Это тот самый мужчина из моего сна.
— Где?
Мамен с выражением хищника, выслеживающего добычу, оглядела невзрачного человека, который чего-то ждал, не решаясь покинуть свой пост. Он без конца поглядывал на часы, будто кто-то, назначивший ему встречу, безнадежно опаздывал, возможно, тот, кому мужчина должен был передать висевший у него на руке пластиковый пакет.
Потом человек повернулся так, что при свете фонаря стали хорошо видны его черты, после чего поднял воротник плаща и зашагал вверх по улице, пока не исчез за углом, где расположился офис какого-то банка. Взгляд Мамен повис в воздухе, он был прикован к окнам банка, к чему-то доступному только ей одной; Алисия дернула подругу за руку и повторила:
— Это был мужчина из моего сна. Мамен машинально повернула голову.
— Я ведь сказала: ты должна выбросить из головы идиотские фантазии. Ты хочешь и вправду сойти с ума? Пошли выпьем пива, и к черту всю эту историю.
В двух шагах от них находился паб, откуда доносился голос Хулио Иглесиаса.
Чтобы побывать на всех четырех площадях, достаточно было пройти по опоясывающей город дороге. Расположение площадей соответствовало четырем сторонам света, как и указывалось в плане Фельтринелли. С помощью плана Алисия могла выбрать либо более живописный маршрут, либо, если спешила, более короткий. Город окружала огромная бутафорская стена, украшенная нарисованными мансардами и кокетливыми венецианскими окошками; а за этой стеной не было уже ничего, доступного глазу. Просыпаясь, Алисия понимала, что из памяти успели стереться надписи, выбитые на пьедесталах, но она твердо знала: существовали четыре ангела, четыре одинаковых часовых, поэтому и площади казались совершенно одинаковыми — четырежды повторялся строгий квадрат, обрамленный фасадами домов. Имелось только одно отличие — маленькая фигурка у левой, здоровой, ноги ангела; эти фигурки были разными: бык, лев, человечек и орел. Алисия тщательно обследовала и другие части города в поисках хоть какой-нибудь подсказки или знака, которые помогли бы ей приблизиться к ответу на проклятые вопросы. Но она попадала из одной узкой улочки в другую, видела причудливые катакомбы, пантеоны, академии и ботанические сады. И всегда над городом как наваждение плыла тишина, и тишину не нарушало даже эхо шагов Алисии — казалось, подошвы ее сверкающих лаком туфелек ступали совершенно бесшумно. Алисию снова посетила мысль, что этот город, вероятно, остаток какой-нибудь древней империи, какой-нибудь исчезнувшей цивилизации, и в период наивысшего расцвета всех здешних людей уничтожила природная катастрофа. Но в одну из ночей Алисия внезапно услышала шаги: но не размеренные и мирные шаги уличных пешеходов, а бешеный топот многих и многих ног. По городу мчалась целая толпа, явно кого-то разыскивая. Спрятавшись в нишу, Алисия дождалась, пока стих топот и на какое-то время опять воцарилась тишина, сквозь которую прорывался лишь глухой шепот; потом грохот башмаков с новой силой стал сотрясать воздух, толпа обыскивала квартал за кварталом, еще больше свирепея от неудач. И тут Алисия поняла, что искали-то ее, ведь она была в этом городе незваной гостьей, проникла сюда без позволения, не исполнив положенных ритуалов, и разгуливала по чужим владениям, словно у себя дома, словно имела полное право наслаждаться здешними красотами лишь потому, что случайно тут очутилась. Да, сомнений нет, если ее обнаружат, она будет немедленно изгнана, наказана, а может, с ней сделают и что-нибудь совсем ужасное, ведь вой рыскавшей по городу своры сулил жестокую расправу, о свирепости обладателей топающих башмаков можно было судить даже по тому, как стук башмаков терзал тишину. И тут Алисия испугалась — сильно, как никогда в жизни. Черный скорпион страха впился ей в желудок, она поняла, что, ввязавшись в эту игру, по-настоящему рисковала жизнью: декадентская красота здешних строений, всей архитектуры таила в себе страшную тайну; Алисия, сама того не замечая, все больше запутывалась, город оплетал ее паутиной, и скоро уже невозможно будет бежать отсюда и обрести свободу. Невидимый патрульный отряд в грохочущих башмаках искал ее, чтобы наказать за любопытство, за то, что сунула нос в чужие дела и обнаружила нечто, оберегаемое тишиной, ведь она могла вынести весть о находке во внешний мир. Наверное, поэтому мужчина с усами снова и снова велел ей убираться вон и твердил об опасности. Наверное, поэтому он и сейчас опять приблизился к ней, резко схватил за плечи и принялся умолять: надо бежать, бежать отсюда — скорей беги, закрыв глаза и не оборачиваясь назад.
4
Ветер нежно гладил ее лоб и щеки
Ветер нежно гладил ее лоб и щеки, и Алисия, закрыв глаза, блаженно воображала, что лица ее касаются крылья пары сизых голубей и лицо преображается, стягивается в маску — так взгляд огромных птиц, летающих над долами и горами, превращает землю в огромную серо-бурую карту. Потом она снова открывала глаза и шла следом за Эстебаном, нерешительно прохаживалась по тополиной аллее, останавливалась, чтобы прикурить очередную сигарету, рассмотреть статуи или бросить взгляд на стайку шоколадных бабочек, порхающих среди листвы. Солнечные лучи с трудом пробивались сквозь облака, из-за этого окружающий пейзаж почему-то казался неестественно, по-оранжерейному неподвижным.
— Он с усами, — повторила Алисия.
— С какими именно? — настойчиво расспрашивал Эстебан.
— Ну, усы, и все. Но я их очень хорошо запомнила. На усы-то я в первую очередь и обратила внимание. Это было в тот вечер, когда я ходила к Мамен.
— Ты ходила к Мамен?
— Да, как раз когда ты оставил мне в двери записку. И я увидела этого мужчину. Кстати, у тебя ведь было какое-то срочное дело.
Все последние дни моросил дождь, и парк Марии Луисы имел прямо-таки парижский вид, точнее, вид парижского кладбища поэтов. Выглядело это печально — ржавые обломки былой славы. Бурная растительность на равных правах с крысами завладела претенциозными постройками, оставшимися после выставки 1929 года[384]. Мох разъедал бюсты испанских национальных героев, расставленные на пересечении дорожек. Целлофановые пакеты и бумажный мусор вытеснили рыб из вонючих прудов. Но Алисии и Эстебану нравилось гулять по ставшим теперь никому не нужными аллеям, обсаженным пальмами и тополями: казалось, в их тени можно забыть о неотвязной городской суете и вечных домашних заботах. Была какая-то упадническая прелесть в этих джунглях, устроенных в центре Севильи, отталкивающих, но и чем-то дорогих, как награда за проигранное сражение.
— Срочное дело? Да ничего особенного, — ответил Эстебан. — Ерунда. Разве ты забыла, что просила меня перевести фрагменты из той книги?
Незадолго до встречи Эстебан, обдумав ситуацию, решил, что об ангеле, увиденном у Нурии, пока лучше помалкивать. Он не чувствовал в себе готовности сделать первый шаг по неизведанной тропке; он еще не понял, да и не хотел понимать, с какой стороны правда. Сейчас ему было важно не столько открыть люк, за которым таилась эта самая правда, сколько принять все меры и не дать захлопнуться гораздо более тяжелой и нужной ему двери — той, что может отрезать путь к отступлению, если, конечно, придется отступать. А известие о существовании ангела только подкрепит самые тревожные подозрения Алисии. Иными словами, если Эстебан сообщит ей о том, что видел ангела, тем самым он признает реальность всех ее абсурдных фантазий. Разумеется, любое событие должно иметь свое объяснение, и части головоломки непременно должны складываться в правильную фигуру — стоит только расположить их определенным образом по отношению другу к другу. Так что Эстебан вознамерился самостоятельно отыскать нужную комбинацию, не перегружая мозги Алисииновыми подробностями, ведь она, измученная кошмарами и бессонницами, сделает из всего этого совершенно ложные выводы.
— Вот. — Алисия протянула ему три листа бумаги, исписанные торопливым почерком. — Это я скопировала из книги, мне все-таки удалось отыскать ее в библиотеке. Как я и говорила тебе, она хранится именно там. Но кто-то попытался ее спрятать.
— Спрятать? — Эстебан внимательно посмотрел на листки.
— Спрятать или уничтожить, но не сумел — или не успел. Книга стояла совсем не на той полке, где ей положено, ее засунули между двух инкунабул. Последний человек, посетивший фонд древних книг, не заполнил соответствующей карточки, а просто указал название и шифр нужного произведения. И, разумеется, это не мог быть шифр Фельтринелли. Знаешь, Эстебан, все это начинает меня пугать. Есть тут что-то зловещее.
Солнце время от времени робко просвечивало сквозь облака и золотило ковер из опавших листьев, но тотчас сильный ветер подхватывал их и расшвыривал по аллее.
— Сны — предупреждение, — проговорила Алисия, словно в трансе. — Этот мужчина постоянно появляется в моих снах и велит бежать. Меня преследуют. В том, другом, мире есть люди, которые ищут меня, они знают, что я пытаюсь разоблачить их.
— Преследуют? — Эстебан взглянул на нее. — Ну, скажи, кто тебя ищет?
— Не знаю. Я их ни разу не видела. И это хуже всего. Это меня доконает. Наверное, Мамен права, надо поскорее забыть про город. Но только как, как?
Рука Эстебана поднялась к щеке Алисии, и пальцы еле заметно погладили нежную кожу. Алисия посмотрела ему в глаза и различила там что-то глубоко спрятанное и робко пробивающееся наружу. Это что-то порой подчиняло себе его поступки и слова. Алисия была благодарна за ласку, но тотчас опустила глаза и начала суетливо доставать сигарету. Она боялась неясной тени, пульсирующей в его зрачках, боялась будущего в любых возможных формах и вариантах; черный скорпион сна внушил ей тупой страх — перед любым поступком и его непредсказуемыми последствиями. Раньше ее терзали Роса и Пабло, теперь — город. Декорации сменились, но покоя она не обрела.
— Бред какой-то, — выдохнул Эстебан, читая текст на листах.
—Что там?
На убогой академической латыни автор текста сообщал, что город был построен стараниями нескольких десятков единомышленников во славу Владыки ада, Великого врага, Князя мира сего, дабы стать прибежищем его слугам и апостолам во времена тысячелетней войны, которую он вел против несчастного Иисуса Христа, а также его лакея Папы Римского и мерзкой своры приверженцев Святой Матери Церкви; он явится и сделает прямое кривым и опрокинет троны и базилики. Осуществлению задуманного помогут слова, заключающие в себе миры, verba orbium gravida, имя сокрушительных масштабов, dirutae magnitudinis nomen, Четыре Основополагающие Буквы, Четыре корня, Четыре зверя, Четыре вождя и Одна Всемогущая Женщина.
Людей, подобных автору этого бреда, обычно держат в сумасшедшем доме. На отдельном листе Алисия крупными буквами переписала то, что показалось ей посвящением и стихами. Если Эстебан правильно понял эту латынь, то книга посвящалась Игнасио да Алпиарсе, «золотых дел мастеру, соперничающему с ангелами и с самой природой в сотворении красот и чудес». Что касается стихов, то они тоже ничего не проясняли в джунглях дурных метафор и глупостей; к последнему листу скрепкой была присоединена копия гравюры — в дополнение к стихотворению. Эстебан несколько секунд смотрел на изображение, наслаждаясь вспышкой любопытства, вызванной загадочным ароматом минувшего, старинным и канувшим в забвение откровением: на фоне развалин и облаков полузмея-полуящерица, бледное подобие сказочных чудовищ, заглатывала собственный хвост, образуя кольцо древнего мифа. Это был Уроборос, змея, пожирающая себя саму, древнейший символ времени, которое неизбежно затягивает себя в собственную воронку. Эстебан еще раз прочел стихи, водя по строкам кончиком пальца:
Dira fames Polypos docuit sua rodere crura,
Humanaque homines se nutriisse dape.
Dente Dracocaudam dum mordet et ingerit alvo,
Magna parte sui sit cibus ipse sibi.
— Вот приблизительный перевод, — объявил он с оттенком не слишком искреннего отвращения, — извини, конечно, за корявость: «Ужасный голод научил Полипоса приняться грызть свои ноги, / а людей — устроить пир из частей человечьего тела. / Грызет дракон хвост свой и в брюхо заталкивает, / так что большая часть его самого ему же становится пищей».
— А что все это означает? — Руки Алисии взметнулись вверх.
— Описание гравюры, разве не видишь: дракон грызет собственный хвост, съедает сам себя. Подобно времени. Возрождается, поглощая то, что осталось позади.
Как и память, подумала Алисия. Будущее пережевывает хвост памяти, заглатывает его, преобразуя в совершенно новые кровь, кожу, клетки и нервы. Жизнь, по определению, антипод прошлого, а настоящее всего лишь катапульта, которая должна вопреки всему сделать выстрел. Счастливый дракон, подумала она со смесью отвращения и нежности; счастлив тот, кто может утолить голод, пожирая собственные ненужные члены, бесполезные и бесплодные, которые только мешают движению вперед: «Dente Draco caudam dum mordet».
— А что, стихи и гравюра в книге расположены рядом? — спросил Эстебан.
— Да, — ответила Алисия, очнувшись от своих мыслей. — Да, да. В самом конце, отдельно от остального текста, после двух чистых страниц. Может даже показаться, что их вставили позднее и они не связаны с основным корпусом, но нет: они составная часть книги, как и первая страница. Я сняла копию с гравюры, чтобы ты на нее взглянул. Что она может означать?
— Не знаю. — Эстебан не отводил глаз от дракона, который был целиком сосредоточен на пожирании самого себя. — С уверенностью я сказал бы одно: гравюра почти никак не связана с основным текстом, хотя они и находятся под одной обложкой. Не знаю. Наверное, это какая-нибудь загадка.
— Загадка?
— Да. — Эстебан постарался придать своему взгляду безразличие. — Возможно, дракон, хвост, эти Полипосы что-нибудь означают. Возможно, тут кроется зашифрованное послание.
— От кого? О чем?
Эстебан нервничал; и от Алисии не укрылось, что рука его слегка дрожала, когда он подносил зажигалку к кончику сигареты. А вдалеке, в тени тополей, маячил силуэт мужчины в плаще.
После короткого телефонного разговора, во время которого обсуждалась тема преследований и опять упоминались покойные, Мамен непререкаемым тоном заявила, что Алисии необходим отдых; оформление отпуска по болезни она берет на себя. Алисия должна как следует отдохнуть, отвлечься, может, куда-то съездить. Голос Мамен временами заглушали треск и писк, будто рядом с ней пылал костер или она стояла на морской пристани. Да, она звонит по мобильному телефону, она уже два дня как находится в Барселоне, на конгрессе по проблемам какой-то там патологии, и пробудет здесь еще не меньше недели. Оформлением отпуска для Алисии займется Тоньи. Алисия положила трубку и свернулась калачиком на диване, загипнотизированная телесериалом. Она выкурила сигарету — на экране сиял лысый череп Антонио Ресинеса — и пришла к выводу, что передышка ей действительно не помешает, что, пожалуй, резкое выпадание из повседневной работы, из привычного ритма жизни, в которой и укоренились ее призраки, поможет от них избавиться. Да, она будет, если захочет, читать, слушать музыку, ухаживать за цветами, гулять.. А почему бы не съездить в Малагу, к сестре? Сразу после полудня явилась Нурия в заляпанной гипсом майке и с привычными «Крускампос» в руке. Буйные белокурые волосы затеняли ей половину лица. Она открыла две бутылочки, выбрала диск Леонарда Коэна и с удовольствием глянула на мидии в маринаде, которые Алисия положила ей на тарелку. Алисия обрадовалась приходу Нурии: ее присутствие было чем-то вроде гарантии — или талисмана, или обещания, — что жизнь еще может стать беззаботной и веселой, что жизнь стоит того, чтобы ею пользоваться, иными словами, это тот самый поезд, который ни в коем случае нельзя упустить. Так что Алисия поднесла свою бутылочку к той, что была зажата в кулаке у Нурии, и они чокнулись.
— Работа продвигается, — сказала Нурия с оттенком отвращения. — Деву Марию я пока оставила в покое, все усилия мы сосредоточили на святом Фердинанде, который лишился своего меча, и теперь ему нечем рубить головы неверным. Знаешь, его меч рассыпался в труху, и он держит в руке какие-то щепочки. Вот что делает время. Ой, твои цветы — настоящая поэма; вечером их видно с улицы. Какие перышки!
— Весь секрет в том, чтобы правильно их поливать.
— Такие заботы отвлекают тебя, правда? Ты кажешься вполне довольной. — Нурия улыбнулась. — Как ты себя чувствуешь?
— А ты, — вопросом на вопрос ответила Али-сия, — как ты меня находишь?
— Выглядишь ты великолепно. К тому же, я уверена, перерыв в работе пойдет тебе на пользу.
«First we take Manhattan»[385], — с угрозой пропел Леонард.
— Да, я взяла отпуск. — Алисия сделала глоток. — Чтобы отдохнуть и так далее, хотя, по правде сказать, чувствую себя теперь гораздо лучше. А ты откуда знаешь про мои дела?
— Откуда? Наверняка ты сама мне и сказала. Разве нет? А может, Лурдес.
Славный Леонард перебрался с Манхэттена в Берлин и что-то там говорил об обезьяне и скрипке, — именно так, чтобы разгневать соседа сверху, который уже начал своим обычным манером колотить в пол. Трудно было поверить, что он и вправду слышит музыку; во всяком случае, до Алисии и Нурии, сидевших на кухне, она едва доносилась, к тому же в четверть третьего музыка вряд ли могла нарушить чей-то сон, так что удары шваброй, или каблуком, или бог весть чем еще объяснялись только особым зудом, от которого у человека возникает потребность кого-то изводить. Возможно, речь шла о сенсорных нарушениях, и сосед из-за них не мог переносить шум сильнее десяти децибел. Нурия предложила запустить магнитофон на полную мощность, и Алисия собралась было обрушить на соседа особо пронзительные творения Вагнера или Диззи Гиллеспи, но хорошее воспитание не позволило ей опуститься до подобной мести, и как только Нурия ушла к себе, она сразу выключила музыку, хотя ее буквально распирало от не выплеснутых на врага проклятий.
При блеклом предвечернем свете Алисия попробовала по очереди: смотреть телевизор, читать рыхлый французский роман, начатый еще неделю назад, рассматривать индонезийские маски в холле… Все силы она пустила на то, чтобы и близко к себе не подпустить воспоминания, не попасть к ним в плен, развлекать себя всякими пустяками: она приняла душ, почистила несколько кальмаров, просмотрела воскресное приложение к газете, спустилась в киоск за сигаретами, хотя в кармане у нее лежала почти целая пачка. Возвратившись, Алисия увидела у себя на кухне сеньору Асеведо, которая тщательно протирала тарелки и пару больших блюд, которые уже дня четыре лежали в раковине и мешали ею пользоваться. Старушка занималась этим делом с таким видом, словно ничего более естественного, чем стоять в соседской кухне с тарелкой в руках, не бывает. На столе покоилось что-то, завернутое в фольгу.
— Лурдес, вы опять за свое? — едва сдерживая раздражение, проворчала Алисия. — Видать, только и ждали, пока я выйду за дверь, чтобы проскользнуть сюда? Да?
— А с тобой иначе нельзя, детка. — Сеньора Асеведо смотрела на нее голубыми глазами. — Спроси я тебя, не надо ли чего, ты бы от всего отмахнулась. А теперь посмотри — на кухне все блестит. А Бласу я велела проверить трубу под умывальником, помнишь, ты что-то такое говорила…
— Спасибо, Лурдес, но, право, не стоит вам так утруждать себя. — Алисия обнаружила под фольгой замороженную фасоль, слоеные пирожки и целый арсенал крокетов крупного колибра. — А это?
— Это ты должна съесть, детка. И без разговоров.
— Но, Лурдес! — Такое внимание было Алисии в тягость. — Послушайте, Лурдес. Вы знаете, как я вам за все благодарна, но я и вправду могу кое с чем справиться сама, прекрасно могу.
— Та-та-та, — сеньора Асеведо словно отталкивала от себя слова Алисии кулачками. — Ты ведь сейчас просто не в состоянии ничего делать, я-то знаю. Тебе надо отдохнуть, успокоиться — и отпуск этот твой тоже очень кстати. Так что не спорь и все-все съешь. Вот, погляди, какой замечательный сок.
Изуродованная морщинами рука указала на высокую и узкую банку, стоявшую на верхней полке. Из нее пробивался наружу резкий запах незрелых апельсинов.
— А откуда вы знаете, что я взяла отпуск? — вдруг спросила Алисия.
— Вчера сюда приходила твоя подруга, та, что с крашеными рыжими волосами. — Лурдес помахала рукой вокруг головы, словно хотела покрасить белый пух на своих висках.
— Мамен.
— Нет. Не Мамен. Она назвалась Марисой. Позвонила раза два-три в твою дверь и стала ждать. Ну, понятное дело, я вышла поздороваться.
— Мариса? С крашеными волосами?
— Да, Мариса. Мы немного поболтали. И она рассказала о твоем отпуске и о том, что принесла тебе траву для настойки или еще для чего-то, бог его знает. Она обещала зайти попозже.
— Это было вчера, Лурдес?
— Ну, вроде бы вчера. — Старушка задумчиво подняла глаза к потолку.
— А почему вы не сказали мне об этом раньше?
— Ох, детка, сама подумай, — на мгновение голубой взгляд словно полыхнул огнем, — где мне упомнить всех, кто сюда приходит, да еще тебе успеть рассказать… Как-то приходил твой шурин. Очень симпатичный парень, а как похож на Пабло, бедняжку нашего.
Дон Блас тем временем находился в ванной и вел сложные археологические изыскания: встав на карачки, он шарил рукой внизу под умывальником, что-то подкручивал, что-то прочищал. Пабло, бедняжка наш. Итак, призрак возвращался, передышка нарушалась самым глупейшим, но и самым неизбежным образом, ведь, как ни крути, естественный ход событий или разговоров не мог не вывести ее к этой теме. Словно роковой запрет невольно становился магнитом, притягивающим к себе любую беседу, любой поступок, и бесполезными оказывались все меры, предпринятые, чтобы продезинфицировать память или хотя бы подрезать ей крылья. Так называемая «новая жизнь» проходила через испытание прошлым, через мучительную таможню, где все, что Алисии так хотелось утаить, непременно требовали к предъявлению. И тем не менее надо было рискнуть — бежать, если угодно, прыгать и даже перелезть через колючую проволоку, чтобы на другой стороне дышать свободно, чтобы поверить: отныне можно жить, не оборачиваясь назад. Что ж, попробуем!
— Вот и готово. — Дон Блас поднялся на ноги и похлопал ладонями по кожаной куртке, — Ничего особенного, все дело в проклятом стыке. Он тут не слишком надежный, дочка, так что вызывай время от времени сантехника.
— Зачем мне сантехник, когда рядом есть вы, — улыбнулась Алисия.
— Да. — Старик вернул ей улыбку. — Как бы мне хотелось зарабатывать на жизнь такой вот работой, тогда мы, глядишь, и поправили бы чуть-чуть свои дела. Ведь с нашей пенсией…
Он неспешно собрал инструменты, разложенные на крышке унитаза, и, фыркая, пошел к себе, прихватив роман С. С. ван Дайна «Преступление в Кеннеле». Оставшись одна, Алисия принялась мазать лицо кремом. И тут же увидела на раковине коричневый футляр. Там лежали очки с толстыми стеклами — если надеть их, все вокруг сильно увеличивается и закручивается цветными завитушками. Алисия попробовала походить в очках, но глазам предстали лишь плывущие круги, размытые очертания и желтая пена, которая никак не желала оседать. Четверть часа спустя дон Блас вернулся за очками: вечно он их где-нибудь забывает. Непонятно почему Алисии стало жалко расставаться с очечником и очками; порой ей хотелось, чтобы реальность выглядела иначе, пусть даже превратившись в клубящийся пепельный туман, как реальность, увиденная через стекла этих очков.
Он пару раз натужно кашлянул, чтобы известить о своем присутствии, и через две-три минуты сеньор Верруэль вынырнул из маленькой дверцы, скользнув к прилавку со зловещей элегантностью вампира. Бледные, как у покойника, руки снова принялись листать тетрадь, а единственный глаз отыскивал нужную запись. Тетрадь опять исчезла в ящике. Как и в прошлый раз, воздух отравлял едкий запах серы, отчего ноздри Эстебана нервно затрепетали. Ему показалось, что явился он не ко времени и что великан занимался вещами куда более важными, чем обслуживание клиента. Но сеньор Берруэль прервал его раздумья.
— Вы пришли за своим «Ланкаширом», так? — спросил он голосом, больше похожим на хрип. — Ну что вам сказать… Они не готовы.
— Как не готовы? Вы обещали…
— Я не помню, что обещал вам, молодой человек. — Руки настороженно уперлись в прилавок. — Видите ли, над вашим «Ланкаширом» мне пришлось как следует поломать голову. Платина попорчена, изъедена, мост сломан, эти часы целиком платиновые. Необходимо все разобрать…
Пробормотав что-то невнятное в знак протеста и покорности судьбе, Эстебан вернулся под дождь, на улицу, где лишь изредка мелькали быстрые силуэты зонтов. С козырька над витриной антикварной лавки падала на тротуар струя воды, и это помешало Эстебану остановиться и посмотреть, не появилось ли там что-нибудь новенькое. Он предпочел устроиться в кафе напротив и оттуда рассматривать подозрительный восточный ковер, который украшал теперь витрину и на фоне которого бедный Адриан пытался сохранить свое мраморное достоинство. Сперва Эстебан решил подождать, пока небо прояснится, и только тогда идти к Алисии, но две рюмки анисовки переменили его настроение: ему стало казаться, что дождь зарядил надолго и лучше рискнуть, даже если куртка промокнет насквозь. Он позвонил снизу по домофону, но ему никто не ответил. Эстебан подумал, что Алисия, возможно, несмотря на непогоду, куда-то ушла. Перескакивая через ступеньки, он поднялся на ее этаж и принялся нервно давить на кнопку звонка, пока ему не надоело. И тут внутри заскрипел замок, дверь медленно приоткрылась, и в щель просунулось перекошенное и размазанное лицо, которое по всем признакам должно было быть лицом Алисии, только что проснувшейся после долгой сиесты.
— Ты что, думаешь, сейчас самое подходящее время для сна? — Эстебан бросился в ванную, чтобы выжать куртку. — Семь вечера, радость моя!
— Ох, не пойму, что со мной. — В голове Алисии разыгрался бешеный шторм, хотя вокруг расстилался прозрачный океан без малейших признаков ненастья. — Надо думать, это от транквилизаторов, я весь день ужасно хочу спать. И десяти минут не могу удержаться на ногах.
— Так оно, наверное, и лучше, хоть немного отдохнешь. Давай сварим кофе. А это?
Эстебан открыл крышку пластмассового цилиндра, и ему в нос ударил крепкий запах горьких апельсинов.
— Сок, мне его принесла Лурдес, — объяснила Алисия, вытаскивая сигарету.
— Твоя добрая фея.
— Да, и ты представить себе не можешь, до чего верно такое определение. Уж не знаю, как это ей удается, но она оказывается в курсе некоторых событий моей жизни раньше, чем я сама.
— Сложная система радаров. — Эстебан кружил по кухне, рассматривая подставки под тарелки — рисунок некоторых из них раздражал радужную оболочку его глаз. — Ты помнишь, кто такой был Аргус? Мифический великан с миллионом глаз.
— Чертов филолог. — Алисия сунула сигарету в рот и скрестила руки на груди. — Но сегодня утром у меня с Лурдес на самом деле случился занятный разговор. Она сказала, что приходила Мариса — приносила мне какие-то травы. Ну эти ее целебные травы, сам знаешь.
— И что с того?
— А то, что Лурдес уверяет, будто у Марисы были рыжие волосы. То ли она покрасилась, то ли надела парик, потому что у той Марисы, которую мы с тобой знаем, волосы смоляные.
— Хорошо. А она не спутала ее с Мамен?
— Нет. — За белым облачком сигаретного дыма нос Алисии выглядел каким-то бесформенным. — По всей видимости, женщина с рыжими волосами сказала, что ее зовут Марисой. Кроме того, это и не могла быть Мамен, потому что Мамен незадолго перед тем звонила мне из Барселоны и сообщила, что пробудет там около недели. А потом, скажи: какого черта Мамен представляться Марисой?
— Ну, кто ее знает. — Эта головоломка с перепутанными персонажами начала утомлять Эстебана. — Скорее всего, Мариса возвращалась откуда-то, куда ходила, изменив внешность, потому и нацепила рыжий парик. Или это была не Мариса — и не Мамен, — а какая-то Третья Женщина. Или старуха просто-напросто наврала тебе, чтобы посмотреть на твою реакцию. Тайны личностной идентификации, девочка.
Они взяли свои чашки с кофе и двинулись в гостиную, где Эстебан стал перебирать диски и выбрал Чарли Паркера, которого тут же и поставил. Укачиваемый тропическими ритмами, Паркер — в компании с Майлсом Дэвисом — проводил ночь в Тунисе: Эстебан со своего места смотрел на привольно раскинувшиеся в горшках конибры, но на самом деле видел площади, мечети, пустыни, укрощенные бледным светом луны. К удивлению Алисии, которая с каждым глотком сбрасывала с себя сонливость, сосед сверху не выказал недовольства осторожными блужданиями саксофона по Магребу и вытерпел аж до высот «Lover Man» и только тогда счел себя обязанным известить о своем присутствии при помощи ударов в пол.
— А это еще что? — спросил Эстебан, глядя на потолок.
— Новые жильцы. — Алисия допивала кофе и чувствовала себя гораздо лучше. — Они испытывают неодолимую потребность показать, что и они слышат музыку.
— Беда в том, что нынешние квартиры сделаны из бумажных плит.
Рука Эстебана раздвинула волосы Алисии, скользнула по ним вниз, поиграла прядями, убранными за уши. Пальцы робко притормозили на щеке, в неуклюжей — из боязни совершить бестактность — попытке ласки; нерешительные подушечки пальцев не отваживались показать всю теплоту своих чувств. Прикосновение чужих пальцев словно освободило душу Алисии от черного груза, но в то же время заставило вспомнить другую руку, столько раз пробегавшую тем же путем, — руку покойного, не нашедшего упокоения, который следил за ней отовсюду и готов был пресечь любую ее попытку сделать свободный выбор. Стараясь не обидеть Эстебана, она отвела лицо и при этом слегка вздрогнула от острого чувства отвращения. Но он заметил это и мягко убрал руку — схватился за сигарету, потом взял чашку, где остался лишь коричневый кружок на дне. Он считал себя обязанным поддержать разговор на любую тему.
— Знаешь, где я был сегодня утром?
— Где?
— У тебя в библиотеке. Твой коллега, тот, что в очках, ничего не слышал об отпуске и ждал тебя, чтобы приняться за какой-то там каталог. Но ты даже представить себе не можешь, что я откопал.
— Давай, я горю от нетерпения. — Алисия раздавила окурок в пепельнице.
— Наш друг Фельтринелли, — сказал Эстебан после паузы, — прожил довольно бурную жизнь. И, мягко говоря, отнюдь не был ангелом.
— Да что ты!
Студенистая вялость клонила Алисию к дивану, и ей стали совершенно безразличны любые открытия Эстебана, словно тема разговора сделалась для нее далекой и чужой, как жизнь постороннего человека. Она и сама не могла понять, почему это вдруг и Фельтринелли, и город, и ангел казались ей пройденной главой, уже расторгнутым с самой собой договором — так ставят обратно на полку книгу, так свет, вспыхнувший в зале, извещает о конце фильма… Кто знает, может, она устала от дурацкого кроссворда, который хорош для того, чтобы развеять скуку в выходной день, но ради которого никто не станет откладывать важные повседневные дела. В данный момент ей хотелось погасить свет, рухнуть на диван и спать, спать… Пористый туман мешал думать и мягко приглашал отрешиться от всего ради сна.
— Раз уж я попал в библиотеку, — продолжал Эстебан, — я заглянул еще кое-куда.
Спать, беззвучно повторила Алисия. И тут она с любопытством припомнила, что тот, другой, город минувшей ночью начал словно разжижаться, размываться и мутнеть, как отражение в пруду, которое нарушает брошенный в воду камень. Она только теперь поняла, что в прошлую ночь город со всеми его строениями показался ей особенно зыбким и тусклым, он стал напоминать потрескавшиеся картины и образы памяти, когда ты пытаешься восстановить совсем далекое прошлое. Город начал терять плотность, вяло отодвигался в бесполезный и непроницаемый мрак — туда, где не было проспектов, топота башмаков и мужчин с усами. И Алисия не знала, радоваться этому или нет.
— И кое-что мне удалось узнать. — Эстебан водил пальцами по краю пепельницы. — Книга Фельтринелли фигурирует в библиографическом справочнике «Revue de dix-huitième siècle»[386], где упоминаются по крайней мере два издания — при этом ни одно не датировано, но их можно отнести к периоду между тысяча семьсот сороковым и сорок пятым годами. О месте издания также мало что известно — может, Флоренция, а может, и Рим. Затем я обратился к «Biobibliographia» Кестлера и обнаружил, что книга значится и там, в томе двадцать четыре, где также есть краткая биографическая справка о Фельтринелли.
— И кем он был? — Алисия с трудом различала Эстебана сквозь упавшую на лицо завесу волос.
— Он родился в Кремоне, земле скрипок, — Эстебан достал лист бумаги из кармана брюк, — в тысяча шестьсот девяносто восьмом году, а умер в Венеции, на висилице, в тысяча семьсот пятьдесят девятом. Фельтринелли — не настоящая его фамилия, его звали Андреа Месауро.
— На виселице? Он был преступником?
— Хуже чем преступником. Его осудили за святотатство, содомию, клятвопреступление и дьяволопоклонство. Согласно скудной справке Кестлера, он начал церковную карьеру в своем родном городе и достиг должности папского нунция сперва в Риме, потом в Париже. Французским периодом и датируются первые обвинения: ходили слухи, что он похищал мальчиков, насиловал их, а потом обезглавливал. Ему не нравилось сидеть на одном месте: список городов, где он побывал, достоин витрины туристического агентства: Венеция, Милан, Зальцбург, Вена, Штутгарт, Прага, Мец, а также Мадрид. Где-то году в пятьдесят третьем он оказался в Лиссабоне и там познакомился с человеком, которому посвящена эта книга — с Игнасио да Алпиарсой, золотых дел мастером и литейщиком, в ту пору работавшим при дворе короля Жозе Первого.
Он выполнял титанический королевский заказ: ему было поручено сделать огромные статуи всех патриархов израильских для украшения базилики монастыря в Мафре. Но он успел сделать лишь две. Что и понятно, ведь каждая статуя должна была быть высотой в десять метров, а патриархов, как известно, — почти целая дюжина.
— Ладно. Мы ведь говорили о Фельтринелли.
— Так вот, что касается Фельтринелли. — Казалось, Эстебан гоняется за собственными мыслями, как за бабочками. — Некоторое время он прожил в Сицилии, где отказался от служения Богу, взял имя Фельтринелли и где, видимо, написал свой единственный труд «Mysterium topographicum». В Неаполе он посетил дом Джордано Бруно, чье имя в те времена было синонимом еретика и почти что Антихриста. Когда он возвращался на север, на австрийской границе его арестовали и передали в руки венецианской инквизиции. Процесс был подозрительно поспешным; по велению властей после казни труп обезглавили, потом тело сожгли на костре из зеленых веток. Последнее, что сообщает Кёстлер: Фельтринелли принадлежал к тайному обществу Congiurati, Заговорщиков.
Алисия лежала на диване и смотрела на Эстебана взглядом, который был приглушен то ли ленивой негой, то ли мягкой внутренней пеленой, из-за чего слова долетали до Алисии с трудом. Она и сама не знала, хочет слушать дальше или нет, зато была совершенно уверена в другом: ни за что на свете она не двинет сейчас ни одним мускулом и не нарушит возникшее миг назад блаженное согласие и взаимопонимание между телом и поверхностью дивана.
—Следующая зацепка — Заговорщики, — продолжал Эстебан, все больше и больше воодушевляясь рассказом о собственных изысканиях. — Я обратился к «Энциклопедии ведьм» Хоупа Роббинса и наткнулся там на заметку в две колонки под заголовком «Заговорщики». По всей видимости, это было сатанинское общество, объединяющее интеллектуалов и основанное первоначально в Риме в эпоху правления Борджа. В тайное общество входили многие известные политики и люди искусства, приближенные к папскому двору, а возможно, членом его был и сам Александр Шестой. Не исключено, что смерть Лукреции Борджа в Ферраре в тысяча пятьсот девятнадцатом году каким-то образом связана с сектой, во всяком случае, секту стали яростно преследовать по всей Италии именно после кончины Лукреции: десятки философов, поэтов, музыкантов и зодчих были арестованы, подвергнуты пыткам и казнены во Флоренции, Венеции, Модене, Милане, Пезаро. В вину приговоренным ставили и то, что в определенные дни года они проводили недозволенные сборища, во время которых устраивали кощунственную по форме своей и содержанию мессу — с перевернутыми крестами и черными облатками. Руководила сектой женщина, папесса, бывшая якобы любовницей самого Сатаны. А теперь угадай, где они, по их собственному признанию на суде, собирались? Угадай!
— Ну говори, где?
—Не знаю, надо ли тебе это рассказывать: «В городе, названном Новым Вавилоном, с четырьмя квадратными площадями, обращенными на четыре стороны света».
Алисия промолчала.
— В Италии с Заговорщиками разделались, но их учение каким-то образом переместилось во Францию: по слухам, это было дело рук некоего Паоло Эксили, отравителя, скрывавшегося от правосудия, которого в тысяча шестьсот шестьдесят шестом году заключили в Бастилию и которого маркиза де Бренвилье, придворная дама, занимавшаяся некромантией, удостоила своей дружбы.
— Господи, сколько всякого народу сюда впутано, — проворчала Алисия обессиленно.
— Слушай, слушай. — Эстебан опять заглянул в свои записи. — Вопреки всему Заговорщики пережили настоящий золотой век при дворе Короля-Солнца Людовика Четырнадцатого; в определенных кругах они были известны под именем «монтеспанистов», потому что образовали кружок вокруг прекрасной любовницы короля Франсуазы Атенаиды де Рошешуар де Тонней-Шарант, маркизы де Монтеспан.
— Ничего себе.
— Можно утверждать, что именно маркиза выполняла функции папессы в Париже, хотя эту честь могла оспаривать и другая любовница короля — Мари Олимпи де Манзини, племянница кардинала Мазарини и супруга графа де Суасон.
— Эстебан!
— К ним присоединилась тайная организация ведьм и колдунов, которые занимались приготовлением приворотного зелья и тому подобного питья: Филастр, Шанфрэн и, конечно, Вуазен, любовница парижского палача, — он поставлял ей для черной мессы жир, кости и пальцы повешенных. Службу вел священник Гибур, опытный отравитель, державший в любовницах проститутку. От нее он имел нескольких детей, один из которых был принесен в жертву Сатане.
— Эстебан, Эстебан!
— Черные мессы проходили в местах священных, чтобы святотатственная роль их проявлялась максимально, — например, в часовне Вильбурен, принадлежавшей маркизе де Монтеспан, или в молельне ее же заброшенного дома в Сен-Дени, где Гибур отслужил также сперматическую мессу, с использованием семени повешенного, — по заказу некоей мадемуазель де Ойетт, которая молила о смерти для мадам Фонтань, фаворитки короля.
— Хватит, Эстебан. — Голос Алисии прозвучал резко, и она всем телом качнулась вперед, к столу. — Не спорю, ты проделал великолепную исследовательскую работу, но на сегодня хватит.
Провалившись в тишину, Эстебан попытался наконец понять, зачем он устроил этот парад своих научных достижений и чего он, собственно, на самом деле хочет: помучить Алисию, показав ей, по каким нелепым тропинкам она плутает в своей одержимости городом и ангелами, или он кропотливо собирает эти сведения, искренне желая соединить части головоломки — одну за другой — и вставить полученную картину в большую рамку, то есть получить сносное объяснение дьявольскому переплетению совпадений. Он чувствовал, что должен быть до конца откровенен с Алисией, но мешало какое-то непонятное внутреннее раздражение.
— Послушай, Эстебан, — она взяла очередную сигарету, — не знаю, насколько это серьезно… Я ведь говорила с Мамен…
— Хорошо, может, ты наконец-то будешь вести себя разумно.
Рука Эстебана снова медленно поднялась к лицу Алисии, чтобы оставить на ее щеке еще одну нестерпимую ласку, еще один пугающий знак, и Алисия с трудом выдержала ее, потому что стоило любви Эстебана обрести конкретные очертания, как любовь эта претерпевала уродливые превращения и начинала казаться чем-то пористым и отвратительным или скользким, как комок наэлектризованных водорослей. На такое чувство Алисия могла ответить лишь одним манером — она инстинктивно отступала назад. К счастью, прежде чем рука Эстебана успела коснуться лица Алисии, движение это прервал звонок домофона. Алисия вскочила на ноги, словно подброшенная пружиной.
— Ты кого-нибудь ждешь?
— Нет, к тому же уже довольно поздно, да и погода — сам посмотри какая. — За окнами бушевала гроза, сверкали молнии. — Наверное, рекламу разносят.
Звонок прозвенел еще три раза, прежде чем Алисия резко сняла трубку и услышала, как на другом конце провода скомканный и глухой голос пытался из обрывков слов составить фразу. Она никак не могла понять, откуда шли эти звуки — протяжные хрипы, похожие на треск радиоприемника, который никак не могут настроить. И вообще, принадлежат они человеческому существу или это отзвуки грозы и барабанящего по тротуарам дождя? Алисия дважды спросила, кто это, но слова продолжали метаться, скользить, будто вязли в болоте, которое не давало им соединиться во что-то осмысленное, донести желанное сообщение. Наконец, когда Алисия уже собиралась положить трубку, приняв звонок за дурную шутку, ей вдруг показалось, что она отчасти поняла, что именно — в мучительных и напрасных стараниях — пытался выговорить голос.
— Эстебан, — сказала Алисия, испугавшись собственного тона, — там кто-то молит о помощи.
— Перестань говорить глупости.
Они начали медленно спускаться вниз по лестнице, с должной долей театральности подражая поведению детективов из плохих фильмов. Лифтом они почему-то не воспользовались. На лестнице было темно, но по мере того как они спускались, свет делался все более ярким и все более раздражающим. Закутанная в голубой халат, Алисия шла, вцепившись в руку Эстебана, и воображала, что медленное приближение к источнику света — желтого, плывущего над холлом, — то есть приближение к висящему под потолком мутному шару, приближало их также и к голосу, похожему на треснувший камень, голосу, который будил в ней какой-то древний страх, потому что ей казалось, будто она почти наверняка слышала его раньше.
— Стой, — приказал Эстебан.
Они замерли на последней ступеньке, откуда хорошо был виден весь холл: диван, обитый искусственной кожей со следами от сигарет, пластиковый папоротник, со скукой взирающий на дверь лифта. А дальше, рядом с шахматными клетками почтовых ящиков, виднелась темная фигура, прислонившаяся снаружи к входной двери. Мокрое стекло не позволяло различить черты человека, и, подойдя поближе, Алисия и Эстебан увидали лишь расплывчатый неподвижный силуэт. Эстебан шагнул было к двери, но Алисия дернула его за руку. Что-то подсказывало ей, что она сама должна повернуть ручку и толкнуть створку. И тотчас будто ледяная рука сдавила ей затылок. Незнакомец повалился на нее, и она с громким визгом изо всех сил оттолкнула его от себя, так что тот с глухим стуком рухнул на пол — и тотчас плиты окрасились чем-то ярко-красным. Они мгновенно поняли, что это было. Эстебан перевернул мужчину на бок и обнаружил два отверстия в верхней части груди — два пурпурных родника, из которых тихонько, постепенно пропитывая рубашку, текла кровь.
— Боже мой! — прошептала Алисия.
— Что? — спросил Эстебан.
— Это он, Эстебан, это он.
Усы. Они рассеяли последние сомнения. Торчащие щеточкой, непрезентабельные, едва достающие до верхней губы. Умирающий силился что-то сказать, и хотя Эстебан велел ему не тратить понапрасну силы, бессвязные слова слетали с его губ. Рука указывала на что-то, скрытое под плащом. Эстебан поспешно принялся ощупывать бок раненого, пачкая пальцы в липкой жидкости. Из-под мокрого плаща он осторожно извлек металлический предмет, но к тому времени незнакомец уже провалился в тот последний сон, из которого нет возврата. Это был ангел с вывернутой ногой — изящный и холодный ангел, точная копия описанного Алисией. Теперь она в ужасе смотрела на трофей — именно такой ангел на гравюре украшал центр площади. И такой же, как было известно Эстебану, притаился в углу мастерской Нурии. Вот только у левой ноги этого ангела сидел орел, неуклюже готовящийся взлететь.
5
Полиция отнеслась с недоверием
Полиция отнеслась с недоверием к версии о простой ошибке или недоразумении: трудно было поверить, что пострадавший искал кого-то другого и испустил дух на руках у незнакомой женщины только потому, что перепутал номер квартиры или подъезд. Но инспектор, крепкого сложения мужчина, затянутый в слишком узкий для него костюм, пока предпочитал не спорить. Он взял предложенную Эстебаном сигарету и сунул в рот. Необходимые фотографии были сделаны, тело увезли, и полицейские весьма неопределенно пообещали Алисии, что еще вернутся. Как только представители власти исчезли, квартиру оккупировала чета Асеведо, но бедной Алисии было не до них: она то замыкалась в непроницаемом молчании, то принималась рыдать. Эстебан уложил ее в постель и скороговоркой поблагодарил соседей за участие, стараясь поскорее и по возможности вежливо от них избавиться, но прежде ему пришлось выслушать подробные инструкции Лурдес, которая в сотый раз повторяла один и тот же совет:
— Главное, пусть пьет сок. Этот сок от всего помогает.
— Не беспокойтесь, сеньора, обязательно скажу. Спокойной ночи, до свидания.
— Главное — сок, не забудешь, сынок?
— До свидания, сеньора.
Потом ему пришлось выдержать натиск Нурии, но на сей раз ее «Крускампос» приняты не были: Алисия спит, но все равно, спасибо. Потом появилась странная супружеская пара в халатах, и Эстебан пообещал обратиться к ним за помощью при первой же необходимости. Он полил конибры и, уже немного успокоившись, выкурил на кухне сигарету, пока на плите жарились крокеты. Он поставил эти крокеты, салат и маленький стакан сока на поднос и направился в комнату Алисии. Она сидела в кровати, поставив между колен бронзового ангела, и водила кончиками пальцев по надписи на пьедестале. Она выглядела куда более спокойной, хотя из глубины ее глаз рвалась наружу все та же смесь ужаса и растерянности.
— Ты считаешь, что мы поступили правильно? — спросила она. — Разве не надо было отдать ангела полиции?
— Разумеется, мы поступили правильно. — Эстебан пристроил поднос на стеганом одеяле. — Давай, поешь немного.
—Да не хочу я есть! Скажи, хоть теперь-то ты мне наконец поверил? Убедился, что все это всерьез?
Эстебан взял ангела и провел пальцем по изящной дорожке, которая вела от виска к колену: это была абсолютно точная копия той скульптуры, что, к полной своей неожиданности, он несколькими днями раньше обнаружил в квартире Нурии; казалось, даже знаки на пьедестале полностью совпадают. Имя, еврейская буква, странный знак, составленный из симметричных параллельных черточек, два латинских слова и цепочка греческих, которые он без труда перевел: «Приветствую вас, стражники Оси, священные и грозные капитаны, дающие импульс под властью единой силы зодиакальной оси в непрерывном движении неба…»
ט.AZAZЁL.ע.
HVMANAQVE.HOMINES.TESTIDRV.AETAESME.
IN.INSAENE.EVMOTE…
— Орел, — задумчиво проговорила Алисия. — На плане Фельтринелли этот ангел стоит на той площади, что слева, на западной.
— Давай, давай, ешь, — прервал ее Эстебан, кивнув на поднос. — Там есть еще два латинских слова, а вот на каком языке написано остальное, понятия не имею.
—Да не хочу я есть! Лучше сок выпью.
Наверняка это было какое-то зашифрованное сообщение, криптограмма, которую этот самый Фельтринелли, еретик, приговоренный к смертной казни более двухсот лет назад, попытался послать им, воспользовавшись прекрасным бронзовым изваянием, а изваяние стояло в центре площади, куда можно было попасть лишь во сне. Но если существовало четыре ангела и четыре разных набора знаков, значит, полный текст сообщения можно восстановить только при условии, что будут сведены воедино все части, сопоставлены все четыре надписи.
— Зачем этот человек явился сюда, ко мне? — громко повторяла и повторяла Алисия. — Ну скажи, почему он принес ангела именно мне?
— Какая разница! — Эстебан протянул ей стакан сока. — Тут полно вопросов: кем был этот тип? что это за ангел? почему он хотел отдать ангела тебе? и главное, почему его убили? Пей!
Она выпила сок и опустила голову на подушку.
— Послушай, — сказал Эстебан. — Никто, кроме нас, не должен знать про ангела. Никто, понимаешь? Это будет нашей тайной, пока мы не разберемся, что же на самом деле происходит. А теперь прости, но мне пора уходить, я обещал маме вернуться к десяти, а сейчас уже… Посмотри…
Рука Алисии сжала его плечо, нежно погладила, потом Алисия притянула Эстебана к себе. Ей вдруг нестерпимо захотелось, чтобы Эстебан остался рядом, чтобы не умерло едва возникшее нечто, чтобы не прервалась тонкая и непрочная нить, служившая мостиком для двух чувств, которым она не могла подыскать названия, но которые до этого вечера оставались смутными, хотя и жадно устремленными к неведомой цели. Она знала: за то, что она сейчас совершит, придется дорого заплатить и ценой того, что последует за движением ее руки, будет хорошо знакомая острая боль, замешенная на пепле, снова всплывшая на поверхность, словно тело утопленника; и ей, Алисии, снова придется брести через кладбище разбитых кораблей, чтобы попасть на другой берег, — и не встретит она ни спасательного плота, ни утлой лодчонки, чтобы уцепиться за них… Тем не менее Алисия приоткрыла губы, чувствуя, как некий свет мешает ей дышать, потом она со змеиной вкрадчивостью приблизила лицо к лицу Эстебана и поцеловала его — глубоко, нежно, впитывая его дыхание, сливая со своим, — словно таким вот образом она пыталась от чего-то освободиться. Эстебан прижал ее голову к своей шее, погладил волосы, убрал со щек залетевшие туда пряди. Снова поцеловал Алисию, возвратив поцелуй, похожий на укус белочки, потом резко поднялся, погасил свет и покинул комнату. Когда в коридоре звякнул замок, ночь уже превратилась для Алисии в необитаемую землю, поросшую редкой и грязной травой, засыпанную мусором и костями…
Чтобы выплыть из сна, ей пришлосьсделать несколько гребков руками, потому что она находилась в бассейне, наполненном черной плазмой. Только после этого она оказалась на поверхности, которая более или менее соответствовала состоянию бодрствования, правда, весьма неустойчивого, и только после этого она наконец-то смогла вдохнуть полной грудью. Еще несколько секунд Алисия нерешительно двигалась по кромке сна, подобно канатоходцу, только вот балансировала она на проволоке, отделяющей мрачное и вязкое болото от комнаты с мягким светом. Алисия с трудом удерживала глаза открытыми и никак не могла понять, откуда этот свет идет. Наконец, словно скинув с плеч набитый щебнем рюкзак, она осознала, что нужно поскорее проснуться, выйти из того неустойчивого состояния, которое вот-вот снова обрушит ее в бассейн. Змеившийся откуда-то звук, все более и более пронзительный и жалящий, пытался привлечь к себе ее внимание: кто-то жал на кнопку звонка. Она, спотыкаясь, едва справляясь с весом собственного тела, ставшего тяжелее и плотнее обычного, побрела по коридору, потом пересекла гостиную, но не узнавала при этом собственных шагов, теперь похожих на шаги робота. За дверью стояли Мариса и Хоакин, и их брови поползли вверх, когда они увидели лицо Алисии, напоминавшее мятую тряпку.
— Что с тобой, Алисия? — воскликнула Мариса, и глаза ее раскрылись как две большие плошки.
— Ничего. — Невнятный звук соскочил с губ Алисии. — Проходите, проходите, вы что, решили остаться там?
Хотя тент над лоджией закрывал половину неба, было видно, как стая туч, цветом напоминающих слонов, плыла в вышине, предвещая близкую грозу. Канун грозы, когда воздух делается тяжелым, почти гранитным, обычно сказывался на поведении и настроении Алисии, поэтому Мариса решила, что и теперь искаженные черты ее лица — лишь реакция на метеорологические изменения. Хоакин с озабоченным видом кинулся на кухню и начал хлопать дверцами шкафов, спрашивая, где у нее кофе. Получив ответ, он схватил кофеварку и насыпал туда столько черного порошка, что его хватило бы, чтобы поднять давление несчастному Тутанхамону. Вскоре темный алюминиевый агрегат уже начал свистеть и плеваться пеной. Хоакин положил перед Алисией пачку «Коибры», она вытащила сигарету, но не проронила ни слова, как ребенок, берущий монету, которую взрослый дает ему в обмен на молчание или послушание. Мариса вошла на кухню с распылителем в руках и обвела привычным осуждающим взглядом ватные хлопья дыма, зависшие над лампой, и завывающую кофеварку, которая напоминала поезд, готовый, покидая перрон, рвануть вперед.
— Вот-вот, — проворчала она. — Травитесь, травитесь… Стоит отвернуться… Я там поливаю цветы, а вы… Губите свое сердце. Это ведь у тебя сегодня шестая сигарета, Хоакин.
— Четвертая, — поправил ее Хоакин, следя, чтобы процесс в кофеварке шел нужным образом.
— Врешь ведь! А сам обещал, что больше половины пачки в день выкуривать не станешь. Я ведь о тебе забочусь, животное неразумное. Да еще девочку затягиваешь в омут своих вредных привычек.
— Бедняжка. — Хоакин и Алисия обменялись терпеливыми взглядами; при этом Алисия выглядела уже явно лучше.
— Так что с тобой происходит? — спросила Мариса, доставая из пластикового пакета какие-то бутылочки. — Ну и видок у тебя был, когда ты открыла дверь!
Дурная ночь, вот и все. Разумеется, об убитом мужчине, ангелах, ловушке и нитях, которые с трудом просматривались за грудой жутких сложностей, просто так не расскажешь. Вот уже две или три ночи она опять спала плохо и просыпалась задолго до рассвета с пересохшим ртом, а когда снова засыпала, ей чудилось, будто она ныряет в аквариум, наполненный какими-то руками и лицами. И кроме того, навязчивый сон преследовал ее, сбивал с толку, придавливал к подушке и безжалостно заставлял спать. После пробуждения, уже открыв глаза, она долго не могла сообразить, в каком именно пункте круговерти дня и ночи находится.
Казалось, Мариса только и ждала, чтобы Алисия хоть намеком пожаловалась на проблемы со здоровьем, — тогда она триумфальным жестом укажет ей на свои пузырьки и флакончики. Хоакин, наливавший кофе в две чашки, прорычал что-то, всем видом изображая покорность и смирение.
— Ты ни за что не догадаешься, что я тебе принесла. — Браслеты из черного дерева погремушками брякнули на запястьях Марисы. — После нашей последней встречи, в тот же день, я пошла в лавку лекарственных трав и, вспомнив о твоих проблемах со сном, купила то, что должно тебе непременно помочь. Держи пузырек. Надо довести воду до кипения, налить туда настойку липпии и немного розмарина. И кинуть вот эти зернышки.
— А что это за зернышки? — Алисия взяла стеклянный пузырек с черными дробинками.
— Слабительное святого Бенито, — предположил Хоакин, целиком сосредоточившись на кофе.
— Болван! — Мариса бросила на него взгляд разъяренной тигрицы. — Это называется пальма-дель-принсипе и отлично помогает при нервных срывах. Гораздо полезнее и натуральнее, чем вся та гадость, которую тебе навыписывала Мамен. Тут уж можешь мне поверить. Ты ведь именно ее таблетки принимаешь, да?
— Да, — ответила Алисия, как послушная ученица. — И немного сока, который мне принесла соседка.
— Я вчера говорила с Мамен. — Мариса постаралась смягчить тон, — Она в Барселоне, правда? Она сказала, что ты взяла отпуск, и попросила зайти посмотреть, как ты тут и что с тобой происходит. Надо, мол, заботиться о нашей девочке, хватит ей болеть. Да погоди ты, допей сначала кофе, а потом говори. Ну, что ты хочешь сказать?
— А ты была здесь позавчера? — выдохнула Алисия, успевшая обжечь себе язык.
— Позавчера? Нет.
— И разумеется, ты не надевала рыжий парик?..
— Разумеется. — Мариса вытаращила глаза, пытаясь угадать, в чем состоит соль шутки. — Карнавал у нас в феврале, разве не так? И сама можешь убедиться, что волосы у меня, как и прежде, черные. Ну есть несколько седых, если честно признаться.
— Моя соседка, старушка, наверное, спутала тебя с кем-то. Что-то не так поняла. Она говорит, что позавчера здесь была женщина, назвавшаяся Марисой, — с рыжими волосами.
— Господи, до чего ужасна старость, — жалостливо пропел Хоакин, который комплексовал из-за своей упрямо увеличивающейся лысины. — Может, женщина и вовсе была блондинкой.
— Может, потому что соседка еще и видит плоховато. — Алисия скривила рот в неприятную улыбку. — Но история с рыжими волосами какая-то странная.
— Эта старушка и принесла тебе сок? — Глаза Марисы застыли в задумчивости. — Я ее не знаю. С мужем ее я действительно как-то разговаривала — об антиквариате. Дон Блас — так его зовут?
Но с таинственной рыжеволосой женщины разговор переметнулся на несравненную Азию Феррер, специалистку по гаданию на картах, толкованию снов и так далее и тому подобное, помощью которой Алисия по необъяснимым причинам до сих пор не воспользовалась. Алисия уже успела выкурить пару сигарет, и Мариса, спасаясь от дыма, стояла в дверях кухни. Надо было срочно найти какой-нибудь хитрый довод, чтобы отвертеться от похода к гадалке, но в голову ничего не приходило, и Алисия дала обещание непременно посетить ясновидящую, потом допила кофе и сквозь завесу дыма заявила, что сделать это немедленно ей мешают погода, дела и некоторые сомнения. Мариса ничего не хотела слушать: ясновидящая — Хоакин тотчас отпустил по ее адресу весьма ехидный комментарий — заслуживает большего доверия, чем многие титулованные врачи, которые прикрываются дипломами и ставят при этом совершенно нелепые диагнозы. Мариса опять повторила, что сны — кладовые энергии, она может служить топливом для многих функций души, и если возникают засоры или сбои, то надо отыскать объяснения, способные пролить свет, например, на душевные расстройства, мучающие Алисию. Должным образом подготовленные люди способны проникнуть в кладовую и навести там порядок — скажем, изменить содержание сновидений, поэтому визит к Азии Феррер просто необходим и наверняка даст отличные результаты. Произнеся свою речь в наставительном тоне, Мариса по срочной надобности удалилась в туалет.
— У нее сейчас тяжелая полоса, — сказал Хоакин, когда они остались с Алисией вдвоем. — Опять из-за ребенка… Просыпается по ночам и плачет, ее гложут всякие мысли… Она ведь и себе купила пузырек этого самого принцева бальзама. Не думаю, что ей это поможет, но пока хоть немного успокаивает.
У Марисы был свой способ отвечать на наплывы тоски — ее контратака сводилась к неистовому служению культу растений и гороскопов, словно этот музей корешков, жилковатых листьев и соположений звезд, сопоставляемых с мифологическими животными, помогал ей вырваться из неудач и бытовых проблем, на которые так щедр наш грубый и неласковый мир, мир вязкой рутины, где всякое разочарование непереносимо и мерзко, как муха в супе. Алисия позавидовала Марисе: ведь та, как только на земле ей становится особенно неуютно, пускается в полет, а в вышине жизнь порой оказывается более пригодной для существования, более насыщенной кислородом. Алисия задумалась было обо всем этом, но тут Хоакин спросил что-то о микроволновой печи, Мариса вернулась и решительно запретила им курить, и Алисия снова ощутила тяжкий груз свинца и тумана, тянущий ее вниз, в мутный бассейн, и чтобы побороть это состояние, она поднялась со стула, предложила всем выпить еще по чашке кофе — к полному изумлению Марисы, которая тотчас предрекла, что подруга ее лопнет и что сердце у нее будет похоже на гнилое яблоко, ведь нельзя же пить столько кофе, столько кофе…
Инспектор Гальвес распечатал конверт, и по столу рассыпались бумаги и фотографии, похоронив под собой скрепки и ручки. Ему было неловко в слишком узкой рубашке, которая стесняла движения. Наверное, из-за этого в жестах и во всей повадке инспектора было что-то от робота. Он закончил читать пару бумаг, украшенных печатями, и равнодушно предложил Алисии и Эстебану пачку «Винстона», но те жестом отказались. Справа сидел секретарь, он строчил на своей машинке, выстреливая длинные бешеные очереди.
— Этого человека, — инспектор показал фотографию мужчины с усами, — звали Педро Луис Бенльюре Гутьеррес, сорок восемь лет, проживал в Барселоне. Женат, трое детей. Семья все никак не может поверить в случившееся. Согласно показаниям жены, он поехал в Севилью для заключения какой-то сделки и не более того. А вы как думаете, были у него другие поводы для поездки?
— Возможно, любовница, — предположил Эстебан.
— Возможно, — подхватил инспектор с суровой улыбкой. — Хотя далековато от дома, вам не кажется? А если он приехал сюда, чтобы встретиться с вами? Но ему помешало непредвиденное стечение обстоятельств — его убили у дверей вашего дома, сеньорита.
— Благодарю вас за сеньориту, — оборвала его Алисия, — но я сеньора. По крайней мере, еще недавно была сеньорой.
Огромные, как у мясника, руки инспектора продолжали перебирать бумаги, глаза же изучали печальное лицо Алисии, отчасти скрытое солнечными очками. Только вот день был не очень подходящий для солнечных очков — дождь лил как из ведра. Стук водяных струй по крыше сливался со стуком машинки, на которой продолжал строчить секретарь.
— Сеньор Бенльюре остановился в отеле «Англия», — продолжал инспектор, — с прошлого вторника он занимал там скромную комнату. Иначе говоря, в Севилье он пробыл почти неделю. Как сообщил портье, постоялец часто звонил по телефону из номера, но и ему звонили не раз. Обычно это была женщина.
— Вот видите! — Эстебан фыркнул. — Ясно же, что любовница.
— Помолчите, — резко приказал инспектор Гальвес — А ведь этой женщиной вполне могли быть и вы, сеньора, потому что на сегодняшний день мы не установили никаких других связей Бенльюре в Севилье. Что делал этот человек у вашего подъезда? Вы показали, что он позвонил в вашу квартиру по домофону.
— Я уже объяснила вам вчера, — Алисия взяла сигарету, — он ошибся адресом.
Инспектор напрасно пытался придать своему взгляду грозную проницательность, стараясь запугать вызванных на допрос свидетелей или внушить, что от разоблачения им не уйти. Взгляд метнулся к Алисии, но она не почувствовала ни малейшей тревоги.
— Как я уже сообщил вам, Бенльюре сказал жене, что отправляется в Севилью для завершения какого-то дела, — инспектор опять заглянул в свои бумаги, — делом этим он занимался около месяца, и речь шла о какой-то серьезной торговой операции. Вы имеете отношение к торговле старыми вещами?
— А что, похоже? — вскинулся Эстебан.
— Он был старьевщиком? — вмешалась Алисия, и очки съехали у нее на нос, так что можно было различить, как зеленые глаза устремились к инспектору Гальвесу.
— Да, подержанные вещи, скобяные товары, антиквариат, всего понемногу. Он торговал самым разным старьем, вернее, старыми вещами: от ношеных пиджаков до консолей прошлого века со сломанными ножками. Все отличного качества, как уверяет его жена. Вас это наводит на какие-нибудь мысли?
Алисия и Эстебан дружно замотали головой.
— В гостинице, в комнате Бенльюре, мы ничего примечательно не обнаружили. — Сигарета дымилась в пожелтевших пальцах инспектора. — Рубашки, галстуки, детективный роман, лекарство, которое обычно принимают язвенники. Все самое обычное… Кроме футляра. Футляр длиной около полуметра, вот такой. — Он поднял ладонь приблизительно на высоту настольной лампы. — Видимо, Бенльюре привез в этом футляре что-то ценное, внутри футляр обит пенопластом и тканью. Вы, разумеется, понятия не имеете, что там хранилось.
— Разумеется, — ответила Алисия хриплым голосом.
— И о знаке вы, разумеется, также ничего не знаете.
Здоровенная рука инспектора протянула им фотографию, где было запечатлено предплечье погибшего, а на нем нечто похожее на две буквы «t», разделенные осью симметрии. С губ Алисии сорвался вздох, и казалось, он шел из самых глубин ее груди — или из самых глубин ее усталости. Эстебан несколько минут молча разглядывал фотографию, потом вернул ее инспектору.
— Знак оставлен на коже жертвы совсем недавно. Судебный врач установил, что его сделали где-то за час до смерти. И обратите внимание, рисунок явно не случаен, это именно знак. Как интересно, правда?
— Очень интересно, — ответил Эстебан, уставив невидящий взор на карандаш.
Жирные пальцы инспектора Галъвеса сплелись на столе, и получившаяся фигура тошнотворно напоминала обезглавленного поросенка. Инспектор пожал плечами и сокрушенно кивнул головой.
— Вы отлично понимаете, что у нас нет никаких улик против вас, и следовательно, мы не можем подозревать вас в убийстве этого человека. Кроме того, не найден и «вальтер ППК», то есть орудие убийства, и несколько свидетелей единодушно утверждают, что прежде, чем вы открыли дверь и обнаружили тело, человек этот какое-то время стоял, прислонившись к двери, словно пьяный, и это заставляет предположить, что он пришел туда уже раненым.
—Ну и?..
— Вы считаете меня идиотом. Да, я знаю, не вы убили его, но у меня нет никаких сомнений: вы много чего знаете, но предпочитаете помалкивать. Что ж… Вы заварили кашу, которую вам же и придется расхлебывать. И мы еще увидимся.
Они успели пересечь площадь Гавидиа за короткий перерыв между двумя приступами проливного дождя, и как только перешагнули порог бара, ливень припустил с новой силой. Они ждали заказанные кофе и анисовку. Тем временем Алисия сняла черные очки, и Эстебан увидел потухшее и неподвижное, как у марионетки, лицо; Эстебану почудилось, что перед ним сидит не женщина, которую он хорошо знает, а ее бледная копия.
— Что с тобой? На тебя страшно смотреть.
— Не знаю, — ответила она с не свойственной ей медлительностью. — Не знаю, Эстебан. Я очень, очень хочу спать. Мысли путаются. Стоит мне остановиться или присесть, как я готова заснуть прямо на месте.
— Выпей немного кофе и увидишь — сразу станет лучше.
Они заказали еще и круассаны. Эстебан держал в руке зажженную сигарету и нервным движением то подносил чашку ко рту, то опять ставил на блюдце, по дороге расплескивая кофе на бумажную салфетку, на пачку «Фортуны», на манжету свитера — ну и черт с ним! Он озабоченно наблюдал за тем, с каким трудом Алисии удавалось следить за нитью беседы и как время от времени она странно крутила головой, отчего казалось, будто голова вот-вот упадет на стол, если только она быстрым движением руки не подопрет ее. Она послушалась его совета и пошла в туалет, чтобы смочить холодной водой виски и затылок. И вернулась с чуть более спокойным выражением лица и чуть более звонким голосом.
— Это ведь тот же знак, да?
— На руке? — Эстебан обмакнул круассан в кофе, — Да, конечно, тот же самый. С пьедестала.
Алисия быстро достала сигарету; казалось, она разом пришла в себя и стала такой же настороженной и сосредоточенной, как всегда. Снаружи бушевал ливень, подгоняя прохожих, которые бежали по улице в поисках укрытия.
— Вчера вечером я рылся в энциклопедии, — сказал Эстебан, — но об этом знаке никаких сведений не нашел, а вот с еврейской буквой все более или менее ясно. Это «тет» — произносится как «т», хотя какую роль она тут играет, все равно непонятно.
— А текст? Ты хоть немного в нем разобрался?
— Тот, что следует за двумя латинскими словами? — Он смял пачку «Фортуны». — Нет. И даже не знаю, с какой стороны к нему подступиться. В жизни не видел ничего похожего; вернее, мне это напоминает бессмыслицу Толкиена или Лавкрафта rlyeh Ctulhu klö Yog-Sothot и так далее. Я никогда не мог понять, как это, черт возьми, произносится.
— Очень милое определение.
— Да? А что касается греческого, то здесь все как на ладони. За пять лет учебы я подобного напереводился: вульгарное эллинистическое koiné, искаженное латинскими и еврейскими интерполяциями, максимум четвертый век. Это стандартное колдовское заклинание — из тех, что были в ходу в Римской империи для вызывания мелких богов и демонов.
— Давай вернемся к преисподней. — Дым от сигареты закручивался, вырисовывая причудливые лики.
— Ты, сама того не ведая, попала в самую точку. Азазель, если верить энциклопедии, был одним из тех мятежных ангелов, которые пошли за Люцифером, когда он поднял бунт против законного правительства Яхве — еще до сотворения мира. Согласно апокрифической «Книге Еноха», Азазель был князем egregón'ов — стражников, командиров восставших ангелов, они — числом двести — спустились с горы Эрмон, чтобы сойтись с Дочерьми Человеческими. От них родились гигантские чудища, которых позднее уничтожили архангелы Рафаил и Михаил, но из их костей народились новые демоны.
На какое-то мгновение разум Алисии снова затуманился, на нее навалилась странная усталость, в головее что-то вспыхнуло, и она очутилась в самой верхней части системы туннелей, бесконечного переплетения подземных ходов и галерей, которые упирались в общую для них черную стену. А ведь Мамен очень строго и не раз советовала ей гнать прочь любые образы, связанные с загадочным городом, и не поддаваться силе, которая тянула ее туда; только так можно начать возвращение к обычной здоровой жизни — через преодоление навязчивых идей. И другого пути нет. Да она и сама больше всего на свете мечтала избавиться от загадок и символов, заманивших ее в западню, вырваться за колючую проволоку, переплыть на другой берег. Алисия сознавала, что тайна города взяла власть над ее жизнью — экстравагантная головоломка, замешенная на крови. Надо было бежать, во что бы то ни стало бежать из древнего города, где она из раза в раз видела только чужие спины. Это главное. И еще — окончательно похоронить покойников, Росу и Пабло. Но что-то внутри мешало ей следовать этим указаниям. Вот и сейчас горло ее словно сдавило ожерелье из черных скорпионов: зачем искать ключ к тайне, если память останется с ней до самого конца пути, если память встретит ее булавочными уколами у любого из выходов и никогда не позволит вздохнуть свободно? И тут Алисию опять потянуло в сон, очень сильно потянуло в сон.
— Ну как ты себя чувствуешь? — Рука Эстебана холодным компрессом легла ей на щеку. — Опять спишь?
— Да, — ответила Алисия срывающимся голосом. — Не пойму, что со мной происходит, но вот уже второй день я едва держусь на ногах. Чем больше сплю, тем больше мне хочется спать. А когда не сплю, чувствую себя полумертвой.
Он медленно вытащил новую сигарету и при этом упорно смотрел в стол, лишь изредка трусливо переводя взгляд на окно, за которым продолжал мельтешить дождь. И по бегающим глазам Эстебана легко было догадаться, что он собирается сделать какое-то признание, добавить нечто пряное к кофе и круассанам. Но это нечто по непонятной причине застряло у него в горле. Он с подчеркнутым наслаждением затянулся, потом постучал пальцем по краю тарелки, потом с беспечным видом, который явно не соответствовал его настроению, заговорил;
— Алисия, я все прокручиваю и прокручиваю в голове эту историю.
— Ну и?..
— Историю про ангела и прочее. — Теперь Эстебан выглядел непритворно подавленным. — Должен признаться, что сперва я не вполне поверил тебе, ведь после автокатастрофы, после твоих визитов к Мамен… ну ты сама понимаешь!
— Ладно. — Алисия жестом велела ему продолжать без обиняков.
— Так вот, — казалось, Эстебан пропихивал в глотку камни, много камней, — слушай внимательно. Я знаю, что не должен спрашивать тебя о том, о чем все-таки сейчас спрошу, и пусть простит меня мой ангел-хранитель. Скажи, ты не видишь во всем этом слишком уж много совпадений?
— В чем — во всем этом?
— В истории с ангелом. Тебе не приходило в голову, что это — специально подстроенная ловушка. Что здесь есть злой умысел. — Казалось, Эстебан ходит кругами вокруг какого-то слова, не решаясь его произнести. — Не приходило в голову, что плетется, ну скажем, заговор?
— Нет, — солгала Алисия. — Заговор? Против меня? Зачем?
— Не знаю. — Эстебан отвел глаза, уставился на зажатую в пальцах сигарету и наблюдал, как беззащитная бумажная трубочка превращается в столбик пепла. — Честно сказать, я и сам слушаю себя с ужасом. Ты заразила меня своим неврозом. Так вот. Я начал анализировать и сопоставлять разные линии — или нити — и обнаружил, что выстраивается некая цепочка, которой ты не заметила. Наверное, потому, что не знаешь одной очень важной вещи. Вина тут моя. Обещай, что не будешь сердиться.
Разумеется, она пообещала, но обещания не сдержала. Выслушав Эстебана, она дала волю гневу; вопила, лупила перчатками по столу, обрушила на его бедную голову кучу далеко не самых лестных эпитетов, вопрошала, стоит ли иметь дело с таким типом, как он, ведь первому встречному с этой вот занюханной улицы можно доверять больше, чем ему, а значит, и пользы от этого первого встречного будет куда больше, чем от него, и они куда быстрее распутают все эти узлы. Мало-помалу Алисия стала остывать, но все еще колотила по столу зажигалкой, не на шутку встревожив официанта—успокойтесь, пожалуйста, сеньорита, ведите себя потише! — и только тогда до нее начал доходить истинный смысл сказанного Эстебаном: ангел в квартире Нурии.
— Сволочь, — гаркнула она, — ну скажи, скажи, у тебя что, времени не нашлось поговорить со мной?
— Прости, — в сотый раз пробормотал Эстебан. — Но все-таки: как тебе кажется, что там делает этот ангел?
— У Нурии? — Алисия глянула на него с прежней злобой, словно показывая, что не понимает, зачем она продолжает весь этот разговор. — Тут все логично. Ты, идиот, забыл, что Нурия реставратор?
— Но кому принадлежит скульптура? Она мне этого не сказала. Ангел стоит у нее за печью, словно она прячет его подальше от посторонних глаз.
—Что ты имеешь в виду? И вообще, ты сейчас очень похож на цыпленка, подавившегося горошинкой, бедненький мой!
Да, он заслужил самые обидные слова, заслужил тот яд, на котором были настояны ее оскорбления, ту боль, которую испытывала его кровоточащая совесть от ударов Алисии. Но вместе с тем ярость, обрушившаяся на него, на его стыдливо поникшие плечи, несла в себе животворную силу, и Эстебан готов был благодарить за это Алисию. В этом было что-то от ритуала искупления, гигиенического очищения через наказание: каждый удар плети, впиваясь в плоть, освобождал от вины за давние мольбы о том, чтобы что-то изменилось в жизни брата, за мечты о любви Алисии. Наказание — это путь восстановления шаткого еще равновесия.
— Я вот что хочу сказать, — снова подал голос Эстебан. — Все эти события настолько нелепы, что нельзя с ходу отвергать ни одну гипотезу. С каких пор тебя мучает сонливость? То есть такие приступы, когда ты вдруг буквально проваливаешься в сон.
— Не знаю. — От резкой перемены темы Алисия немного растерялась. — Наверное, это началось дня два-три назад.
— А когда ты начала пить сок, которые принесла тебе Лурдес?
В зрачках Алисии вспыхнули и заплясали зеленые искорки.
— А ведь это случилось тогда же. — Изображая улыбку, губы ее раздвинулись в узкую щель. — Это значит, что Лурдес тоже участвует в заговоре, так?
—Еще ты мне рассказывала, что сны о городе стали менее четкими, какими-то расплывчатыми. С каких пор?
— Вот уже три или четыре дня, — растерянно ответила Алисия.
— Ну! — Улыбнуться Эстебан так и не отважился. — Какое удивительное совпадение, правда?
— Может, дело в таблетках, которые прописала мне Мамен? — торопливо возразила Алисия. — К тому же она увеличила мне дозу.
—Да, конечно. Но пойдем дальше. Эти твои соседи сверху, которые изводят тебя, колотя в пол, когда они переехали в ваш дом?
— Точно не помню, — Алисия сама себе казалась изумленной зрительницей на представлении иллюзиониста, — но, думаю, недели три назад или около того.
— А разве не тогда же тебе начал сниться город? Лоб Алисии пересекла очень ровная морщинка.
— Тогда, именно тогда, — простонала она, — прямо «Семя Дьявола», так это надо понимать?
— Давай посчитаем. — Эстебан вытянул в ее сторону левую руку и начал загибать пальцы. — Незнакомым людям очень мешает любой шум в твоей квартире, а вот если ты с кем-то разговариваешь, даже весьма громко, на это они не реагируют. Подслушивают? Почему бы и нет? Заботливая старушка приносит сок, от которого город медленно уплывает из твоих сновидений — и как раз тогда, когда тебе становится что-то о нем известно. Другая соседка прячет у себя ангела, очень похожего на того, который тебе снится. И обе откуда-то вдруг узнают, что тебе оформлен отпуск по болезни, хотя никто им об этом не сообщал. Что у них, радары установлены, что ли? Мужчина из твоих снов умирает как раз в том же доме — да, в доме, где обитают все эти экстравагантные персонажи. Это не наводит тебя на какие-нибудь мысли?
— Наводит. Что ты болван. — Алисия принялась судорожно шарить в кошельке. — И еще я хочу спать. Хочу уйти отсюда.
— Послушай. — Пальцы Эстебана скользнули к ее запястью. — Сейчас мы пойдем к тебе, и ты немного поспишь, может, выспавшись, хоть немного придешь в себя. А я возьму из кладовки ангела и отнесу к знакомому антиквару: вдруг он знает что-то о скульпторе или эпохе, когда ангела отлили.
— К антиквару?
— Да, его лавка находится напротив часовой мастерской, куда я в последнее время нередко наведываюсь. Я люблю постоять там и поглазеть на витрину. Кстати, Мариса с ним знакома, он старинный ее приятель, правда, я понятия не имею, что их связывает. Он мог бы дать нам какие-нибудь ориентиры, скажем, пролить свет на происхождение ангела. Или сказать, что это ерунда какая-то или шутка…
— Да, хороша шутка, ради которой убивают людей, стреляют в них, — мрачно огрызнулась Алисия.
Дождь решил устроить себе короткую передышку, и, пользуясь этим, люди высыпали на улицы и зашлепали по лужам, поглядывая на часы при скудном свете, пробивающемся сквозь тучи. С запада на город наступала огромная асфальтово-серая волна.
Дойдя до витрины, Эстебан сразу заметил, что несчастного Адриана там сменила сердитая барыня в шляпе с бантами: она выгнула фарфоровую шейку и с наигранным презрением поглядывала на стоящую ниже старинную сферу. Несмотря на громкое звяканье дверного колокольчика, к Эстебану никто не вышел, и он с наслаждением стал бродить среди ковров с единорогами, чайных сервизов, украшенных охотничьими сценами, умывальных тазов и кувшинов, обломков доспехов, якобы восточных шкатулок, в которых хранились оловянные бабочки. Взгляд его приковала к себе изумительная лазурная камея с эротической сценой… Но тут фальшивое покашливание дало ему знать, что появился хозяин лавки — мужчина весьма импозантной внешности в темно-синем костюме, из кармана которого торчал аккуратный платочек, взирал на Эстебана из-за прилавка.
— Добрый день, — проговорил мужчина. — Чем могу быть полезен?
Антиквар пристально рассматривал посетителя, хотя взгляд его оставался вполне равнодушным. Он стоял, уперев ладони в прилавок черного дерева, с ножками в форме витых колонн. Эстебан положил свой пакет на стул, обитый амарантом, и начал неторопливо развязывать бечевки. Мужчина буравил его глазами, в которых удивление не самым приятным образом стало смешиваться с нетерпением.
— Я хотел бы получить у вас консультацию по поводу одной вещи, — объяснил Эстебан, путаясь в узлах. — Я пришел именно к вам, потому что у нас есть общие друзья. Я имею в виду Марису Гордильо.
— Мариса Гордильо, — повторил мужчина, изобразив на лице дружелюбную улыбку, но так и не позволив себе расслабиться. — Разумеется, разумеется, мы знакомы. Как у нее дела?
— Насколько мне известно, все нормально. — Эстебан наконец справился с пакетом. — Так вот, речь идет о семейной реликвии.
Мужчина автоматически склонился над прилавком, он по-прежнему держался напряженно, словно старался не упустить какой-нибудь странный звук или движение, которые выдали бы присутствие в лавке соглядатая, притаившегося среди груды старого хлама. Из-под обертки показалась изящная бронзовая голова, повернутое влево лицо. При этом несуществующий ветер очень романтично взметнул длинные бронзовые кудри. Хозяин лавки сохранял вежливую невозмутимость — до тех пор, пока не увидел крылья и маленького орла, выставившего вперед свой крепкий серый клюв, который отливал тусклым блеском старинных монет. Антиквар хотел было что-то сказать, но слова застряли у него в горле. По его испуганно-изумленному взгляду нетрудно было догадаться, что он быстро решил, что лучше не проявлять к ангелу слишком явного интереса. Поэтому, когда Эстебан подтолкнул ангела к его животу, перетянутому широким ремнем с позолоченной пряжкой, антиквар вполне равнодушно оглядел шевелюру ангела и его спину — совсем как хирург, которому предстоит схватка с заурядным аппендицитом.
— Откуда у вас это? — спросил он, переворачивая ангела на спину.
— Семейная реликвия, — повторил Эстебан удивленно. — Я же сказал вам.
— Надо полагать, вы из очень состоятельной семьи. — На губах антиквара мелькнула вялая и фальшивая улыбка. — Но если вы не испытываете исключительно нежных чувств к родственникам, я мог бы сделать вам очень интересное предложение.
— Я не собираюсь его продавать.
— Подумайте как следует.
Пока Эстебан крутил головой то вправо, то влево, подкрепляя отказ, рука его почти инстинктивно потянулась к пьедесталу и крепко ухватилась за край: Эстебану вдруг не понравилось, что голова ангела упирается в живот антиквара, а тот вцепился в нее мертвой хваткой. Хозяин лавки снова и снова повторял свое предложение, при этом количество нулей росло, а Эстебан все так же отрицательно мотал головой. Наконец мужчина громко вздохнул и резко отодвинул от себя ангела на середину прилавка — в нейтральную зону, где, казалось, его жадные руки уже не могли завладеть скульптурой. И тут Эстебан почувствовал, как от последней из названных антикваром цифр у него слегка закружилась голова.
— Он что, и вправду столько стоит? — спросил он, растерянно заморгав.
Антиквар молча указал на какую-то точку на спине ангела — туда, где расходились лопатки и зарождались два крыла,
похожие на листья финиковой пальмы. Там была выгравирована буква — что-то вроде перевернутой N. и Эстебан потрогал ее кончиками пальцев. Потом перевел взгляд на собеседника — с видом человека, к которому обратились на чужом языке.
IA
— Это монограмма Игнасио да Алпиарсы, — объяснил антиквар, взирая на Эстебана словно с вершины башни. — Знаете, кто это?
— Смутно.
— Скорее, и слыхом не слыхивали. — Антиквар улыбнулся, и при этом глаза его превратились в две узкие щелочки-бойницы. — Иначе вы не усомнились бы в ценности этой вещи. Игнасио да Алпиарса — португальский скульптор и литейщик восемнадцатого века, которого с полным правом можно сравнить с великими итальянскими мастерами Возрождения и барокко. Посмотрите, какое совершенство, — Слегка дрожащие от волнения пальцы антиквара прошлись по рукам и плечам ангела. — Кажется, что бронза пульсирует, что она живая. Бронза изумительно отшлифована. Кожа у ангела неясная, как попка у младенца.
— Да, конечно, — безразличным тоном согласился Эстебан.
— Официально эта скульптура считается утраченной. — Глаза антиквара внезапно вспыхнули грозным пламенем. — Из четырех ангелов, образующих скульптурную группу, в каталогах числятся только два. А должно быть, как я уже сказал, четыре.
— Это семейная реликвия, — зачем-то опять повторил Эстебан с отсутствующим видом. — А что вам известно об авторе?
Антиквар поправил платочек, чтобы из кармана выглядывал только маленький аккуратный треугольник. Он явно гордился своей внешностью.
— Алпиарса прожил очень интересную жизнь, она достойна романа с продолжением, какие писали в прошлом веке. А сами вы что-нибудь о нем знаете?
— У него были друзья в Италии, — механически ответил Эстебан.
— Он там учился, — добавил антиквар. — Мне довелось продать несколько произведений да Алпиарсы. Подвернулась пара случаев. Обычные столовые приборы; они, разумеется, ни в какое сравнение не идут вот с этим.
— Иначе говоря, я обратился точно по адресу.
— Да. — Голос антиквара звучал совершенно спокойно, даже равнодушно. — Молодые годы — лет пять или шесть — он провел в Риме, учился у разных мастеров, иногда даже выполнял заказы папы. Имел славу гуляки, пьяницы и бабника. В сороковые или пятидесятые годы вернулся в Португалию, поступил в знаменитую школу скульптуры в Мафре, которой руководил итальянец Алессандро Джусти[387], и там очень быстро завоевал признание. Он обрел славу и богатство; его назначили официальным скульптором короля Жозе Первого, он получал заказы от знати со всей Европы. Промотал кучу денег, купил четыре дворца — в Лиссабоне и его окрестностях, даже устроил собственный зоосад, куда возмечтал заполучить носорога. Носорог стал его навязчивой идеей. Его рабочие тетради заполнены носорогами, но это были не мирные толстокожие животные, каких нам показывают в документальных фильмах, а уродливые создания, в которых осталось что-то от внеземной фауны. И носорог ему был обещан.
Доставка из Азии стоила очень дорого — содержание животного в пути, а также забота о нем вылились в фантастические суммы. Чтобы покрыть дорожные расходы, да Алпиарса взялся выполнять королевский заказ, достойный титана: украсить базилику Мафры гигантскими статуями двенадцати патриархов израильских. Он выполнил половину заказа — и убил на это остаток молодости. Зато теперь у него появился носорог. Он нянчился с ним, как с маленьким ребенком, — сам чистил, приносил ему восточные благовония и шелковые ткани. Видел его во сне.
— А статуи для Мафры он закончил? — с плохо скрытым нетерпением спросил Эстебаи.
— Нет, — ответил антиквар, — Однажды ночью скульптору приснился сон: в центре площади стоит бронзовый носорог, и вдруг носорог начинает таять, и на земле от него остается только кучка серой вязкой грязи. На следующее утро этот самый носорог, доставленный из Азии, занемог. Скульптор созвал знахарей, ветеринаров, хирургов, но ни один не сумел справиться с изводившей животное лихорадкой, с губительными поносом и рвотой. Алпиарса впал в отчаяние. Он зачастил в церковь и молил Бога исцелить носорога, заказывал мессы, которые служили епископы, совершил паломничество в Кампостелу. Носорог не выздоравливал.
— Забавная привязанность, — прокомментировал Эстебан с глупой ухмылкой, словно только для того, чтобы показать, что он внимательно следит за рассказом.
— Да, — голос антиквара сделался глухим и каким-то текучим, — так вот, потеряв надежду на Господа, скульптор решил искать помощи у противной стороны. Установил связи с какой-то оккультной сектой, которая действовала в Лиссабоне — устраивала там свои сборища, черные мессы и так далее. Да Алпиарса уничтожил двух из уже отлитых патриархов, и бронза от одного из них пошла на изготовление четырех ангелов.
— Зачем? — Эстебан искоса глянул на лежащую перед ним фигурку, которая, казалось, тоже слушала антиквара.
— Тут не все до конца ясно, — развел руками хозяин лавки. — Наверняка это было связано с каким-то ритуалом, но утверждать не берусь. Видите надпись на пьедестале? Она ведь имеет какой-то смысл…
Две пары глаз внимательно рассматривали пьедестал: еврейскую букву и странный знак, состоящий из штрихов, длинную и непонятную строку перед греческим текстом: «Hvmanaqve hominess testidrv aetaesme in insaene evmote…» Потом два взгляда пересеклись. И Эстебан прочел в глазах антиквара готовность продолжить схватку за эту считавшуюся потерянной реликвию, которую мощная волна совпадений вынесла и забросила в его лавку. Он просто не мог упустить такой исключительный случай.
— Итак, вы решительно отказываетесь? — спросил антиквар с изысканной любезностью и кивнул на ангела. — Очень прошу вас, подумайте как следует, может быть, вы все-таки перемените решение, хотя бы ради наших общих знакомых.
— А что случилось с носорогом? — вместо ответа спросил Эстебан.
Разочарование антиквара было столь сильным, что у него даже задрожали губы.
— Носорог так и не поправился. Знаменитое лиссабонское землетрясение застало да Алпиарсу на каком-то зловещем сборище, подробности о котором не вошли в анналы истории: вроде бы некая женщина служила мессу. Дом, где они находились, рухнул от подземных толчков, но скульптору удалось спастись — вместе с одним итальянцем.
— Ашилем Фельтринелли, — вставил Эстебан.
— Да, — антиквар широко раскрыл глаза, — вижу, вы о нем слышали: это преступник, которого через несколько лет сожгут в Венеции. Вернувшись домой, да Алпиарса с ужасом обнаружил, что землетрясение обрушило помещение, где жил носорог, и тот погиб под обломками. По некоторым версиям, скульптор покончил с собой, по другим, он пострадал при пожаре, который бушевал в городе в течение трех последующих дней. И никто не подозревал о существовании четырех ангелов, пока в середине девятнадцатого века некий французский коллекционер не собрал все скульптуры вместе. Их дальнейшая история очень запутана: они непрестанно переходили из рук в руки, и след их не раз терялся. В последний раз они соединились в сорок пятом году в Берлине, но после взятия города союзными войсками ангелы опять расстались. Известно, что один из них погиб. Подождите минутку.
Антиквар нырнул в заднюю комнату, все так же держа палец поднятым вверх — то есть призывая к вниманию. Между тем Эстебан приблизился к внутренней части витрины и принялся рассматривать сферу, ковер с изображением боевого слона, затылок барыни в шляпе с бантами — все это теперь, в блеклом сумеречном свете, выглядело куда привлекательнее. Опускался вечер, и люди, пользуясь кратким перемирием, которое установил с ними дождь, заполнили тротуары, кружили вокруг киосков, ныряли в кондитерские, где на витринах красовались торты и пирожные. Эстебану захотелось курить, но он понимал, что это не очень полезно для здоровья собранных здесь старых и почтенных вещей. Он услышал, что хозяин вернулся за прилавок, в руках он держал огромный том ин-фолио. Он положил том и стал перелистывать страницы, пока не нашел нужное место. Взгляд Эстебана задержался на тексте, напечатанном в три колонки мелким шрифтом с вкраплениями черно-белых фотографий, которые отличались грязной мутностью, словно были нарисованы углем; одна из фотографий изображала ангела с вывихнутой ногой. Эстебан прочел подпись под снимком, а затем и текст, относящийся к скульптуре:
Игнасио да Алпиарса (1709 — 1754): Ангел (1753?). Бронза и береза с вкраплениями серебра, 47x3x28 (размах крыльев) х 19 (диаметр подставки); см. Монограмма: 1А. Уничтожен.
Последний в группе, состоящей из четырех ангелов, которых, согласно легенде, автор отлил приблизительно за год до своей смерти по заказу итальянца Ашиля Фельтринелли, проживавшего в Лиссабоне на протяжении полугода. Данный ангел условно может быть отнесен к барочной испанской школе, на нем туника и сандалии, у ног — бык, правая нога вывернута в щиколотке, что заставляет предположить связь с сатанинским культом (Люцифер повредил ногу, падая с небес в преисподнюю). Имя на пьедестале: Махазаэль, по-видимому, это имя ангела, что подтверждает гипотезу о том, что четыре фигуры были выполнены для определенного рода церемонии, связанной с сатанизмом: Махазаэль был одним из первых мятежных ангелов, изгнанных из рая святым Михаилом. Группа была разъединена в 1945 году, затем следы Азазеля затерялись, а Махазаэль погиб во время бомбежки. Третий, Азаэль, находится в Барселоне, а первый, Самаэль, в фонде Адиманты в Лиссабоне. Текст на подставке представляет собой комбинацию из еврейских, греческих и латинских букв. Греческая часть текста была идентифицирована как фрагмент заговора духов огня; латинская искажена вставками на другом языке, который Дю Пресси предположительно относит к арамейскому или коптскому. Каталог коллекции Фалькельхейна (Берлин, 1936) воспроизводит полный текст с пьедестала Махазаэля, он приводится ниже:
ל.MAHAZAEL.םMAGNA.PARTE.BISSCSV.
VEISEI.PIIEISEIOETI.ISSIE.PANTA.DI.AUTOU.
EGENETO.KAI.CWRIS…
Из какого-то потаенного кармана Эстебан извлек записную книжку и огрызок карандаша и стал переносить туда текст; правда, таким почерком, что результат поставил бы в тупик даже самого лихого переводчика. А хозяин лавки меж тем стоял напротив и явно нервничал: он недоверчиво поджал губы и снова глянул на лежащего перед ним ангела, как диабетик смотрит на витрину кондитерской. Холеная розовая рука ласково гладила крылья.
— Коллекция Маргалефа в Барселоне, — прочел Эстебан.
— Ее уже не существует, — пояснил антиквар, и чувствовалось, что ему приятно разочаровать посетителя. — Старик Маргалеф умер, а егонаследники разделили добычу. К сожалению, они не выручили того, на что надеялись.
— Но где же тогда ангел?
— Разумеется, его тоже продали. — Казалось, антиквар вызывал в памяти какие-то цифры. — Но мне неведомо, кому и за сколько. Для этого надо покопаться в аукционных отчетах.
Какой-то образ яркой кометой мелькнул в мозгу Эстебана: он словно наяву увидел еще одного ангела — застывшего и холодного, с человечком, едва достающим ему до колена; ангел прятался в углу, на подстилке из старых газет, за нечищеной печью. Нурия могла заполучить скульптуру на любом аукционе и по вполне приемлемой цене; почему, например, не допустить, что наследникам Маргалефа так не терпелось пополнить свои банковские счета, что они отдавали все довольно дешево? Веки Эстебана мягко опустились, прикрыв карие глаза: да, он слишком торопился найти виноватых, а ведь самое простое объяснение, самое логичное и не грешащее литературщиной, было рядом — только руку протяни. Реставрация. Обычный заказ, и ничего больше. Некто, сеньор Икс, купил скульптуру и обратился к Нурии с просьбой почистить ее, отшлифовать и так далее — тогда он сможет выставить ангела в гостиной под стеклянным колпаком. Еще одна случайность, еще одно совпадение. Хотя когда случайностей и совпадений слишком много, они перестают быть правдоподобными; ведь случайность — не более чем скромное название, которое мы даем беглым и приблизительным зарисовкам с действительности, которую из-за нашей близорукости мы не способны воспроизвести точнее.
— Фонд Адиманты, — громко проговорил Эстебан. — Лиссабон.
—Себастиано Адиманта. — В голосе антиквара вдруг зазвучало отчаяние. — Парализованный старый чудак, за которым ухаживает молодая шведка. До автокатастрофы, превратившей его в инвалида, он называл себя медиумом. Комедиант. Основал фонд для исследования паранормальных явлений, при фонде действует еще и музей всяких диковинок. Правда, у музея есть своя специфическая тема — дьявол.
— У вас наверняка есть адрес фонда.
В глазах антиквара тотчас появилось выражение, какое бывает у теленка, обреченного на заклание.
— Я дам вам адрес, но при условии, что вы возьмете мою визитную карточку. И пообещаете, что сохраните ее, поразмыслите над моим предложением и, в случае чего, позвоните мне.
— Давайте вашу карточку. — Эстебан попытался было улыбнуться, но попыткой дело и закончилось.
На улице он увидел тяжелое небо сапфирового цвета, нависшее над куполом церкви Спасителя, похожей на кирпичного тарантула с изразцами, ползущего по крышам домов вокруг площади Пан. Держа под мышкой тщательно упакованного ангела, Эстебан шел по Пуэнте-и-Пельон. Он с удовольствием поглядывал на разбившиеся на пары и заигрывающие друг с другом манекены, на светильники и жутковатого вида игрушки, на яркую картину с геометрическими фигурами. Он сам не знал, куда направляется, и подумал, что эта бесцельная прогулка вполне соответствовала беспорядку, царящему у него в мыслях, они тоже пребывали в постоянном и совершенно бесцельном движении; мысли Эстебана, как и ноги, то капризно выбирали боковые улочки, то вдруг поворачивали под прямым углом, то делали круг, и им было совершенно безразлично, куда выйти — на широкий проспект или в узкий тупик. Эстебан не знал, куда направляется, и не знал, чего хочет: почему, собственно, он позволил Алисии заманить себя на это жалкое суденышко, потерявшее управление и отданное на волю волн, которые мотали его из стороны в сторону? У Эстебана началась морская болезнь, он мечтал ступить на твердую землю. Но отлично знал и другое, знал, какая добыча ждет его в случае удачной охоты, — это и было истинной целью, давало силы брести дальше, с трудом выдергивая ноги из трясины. Ангел, которого он теперь нес, прижимая к себе, и который по неведомой причине вдруг сделался тяжелее прежнего, был ключом к Алисии, о которой Эстебан мечтал, к Алисии, которой можно будет что-то нашептывать на ухо и не бояться, если пальцы вдруг сами коснутся ее плеча или щеки, если с губ сорвутся нежные слова — те, что должны звучать в полутьме и от которых во рту остается привкус горького шоколада.
Эстебан оказался перед факультетом изящных искусств, тут он на минутку опустил свой сверток на землю, чтобы зажечь сигарету. И вдруг без всякой видимой причины ему пришло в голову, что опасно продолжать думать в таком вот духе, опасно давать мыслям волю и разрешать весело скакать, куда им заблагорассудится, опасно произносить те слова, которые осторожность произносить не велит. Подняв ангела и снова пристроив под мышкой, Эстебан ускорил шаг. Теперь он с растущим беспокойством и совершенно отчетливо ощущал: в черепе у него появилась дырочка, и чей-то нахальный глаз заглядывает внутрь, ворошит содержимое и тщательно его изучает. Эстебан медленно затянулся, потом приказал себе застыть на месте, вдохнуть поглубже и сосредоточиться на установке: гнать прочь это абсурдное ощущение, никакого глаза нет и быть не может, все это полная чушь. Но ощущение оставалось: он с ужасом почувствовал, что глаз уже проник внутрь и разведал все, что хотел, обследовал самые потаенные уголки мозга, собирая информацию, которую Эстебан считал исключительно конфиденциальной, — о помыслах, страхах, постыдных желаниях. Эстебан чуть не закричал от отчаяния, потом попытался установить, откуда, собственно, взялся этот самый глаз, кому принадлежит; и тут же понял, что кто-то смотрит на него сзади, с расстояния в пять или десять метров, кто-то следует за ним, прячась в толпе, заполнившей улицу Ларанья. Сердце бешено колотилось в груди, отчего страх делался еще мучительней и необоримей. Эстебан кинулся бежать, покрепче обхватив сверток; раздумывать над происходящим он не хотел, сейчас у него была единственная цель — не дать противнику напасть. Рванув с места, Эстебан почувствовал, что глаз словно растерялся, но теперь он опять, как оса, вился за спиной, не отступая от своих злодейских планов. Эстебан, расталкивая парочки, взлетел вверх по улице Куна, споткнулся о бортик и чуть не растянулся на тротуаре; потом повернул на Эль-Салвадор, врезался в трех хиппи, пивших пиво, и снова встал как вкопанный: пульс стучал в запястьях, площадь мягко закружилась вокруг него, завиваясь в воронку. Продолжать бежать по прямой линии, подумал он, значит заведомо проиграть, поэтому он повернул налево, обошел церковь сзади и вынырнул на площадь Пан. Инстинктивно он решил искать убежища в знакомой лавке.
— Добрый вечер, — прохрипел Эстебан, кладя пакет на прилавок. Внос ему ударил резкий запах серы.
—Добрый вечер, — ответил великан, кивнув. — Что случилось? За вами будто сам черт гнался.
Эстебан не нашелся что ответить.
6
Замок был сбит
Замок был сбит, глиняный арлекин превратился в горсть мелких, как конфетти, осколков, усыпавших ковер в прихожей, — вот что увидел Эстебан, зайдя в квартиру на улице Католических Королей. Он скользнул взглядом дальше и убедился, что побоище отбушевало и в гостиной, так что изысканно кокетливая комната, на которую бедная Алисия потратила все свои скудные художественные способности, превратилась в мусорную свалку: выпотрошенные диванные подушки, перевернутые ящики и вдребезги разбитые об пол фарфор, стекло, керамика. Эстебан невольно присвистнул, он двигался среди этого безобразия, то и дело наклоняясь, чтобы поднять какую-нибудь фигурку без головы или попытаться сложить осколки пепельницы. Пряди каштановых волос, нахально падавшие на лицо Алисии, придавали ей беззащитный и жалкий вид — вид жертвы стихийного бедствия.
— Ну как, видел? — Слова комками застревали у нее в горле. — Какой-то сукин сын побывал у меня в гостях и от души позабавился.
Эстебан присел на корточки; под вспоротой подушкой он разглядел обломок керамического Колизея, который сам привез для Пабло в качестве сувенира из последней поездки в Рим. Словно при вспышке молнии он снова увидел витрину сувенирной лавки на виа Венето, расположенной на середине пути между складами и мясной лавкой; снова увидел бесконечные шеренги Колизеев и фонтанов Треви всех мыслимых размеров, которые нагло выстроились на всеобщее обозрение. Банальный Колизей — подарок, который выбирают для не слишком близкого человека, как и Эйфелеву башню или Хиральду, всего лишь ритуал, выполняемый поспешно и бездумно.
— И как это все произошло? — Эстебан швырнул на пол обломок собственного подарка.
— Я вернулась полчаса назад, — принялась рассказывать Алисия. — И увидела то же, что и ты. Я ходила за молоком, потом взяла напрокат фильм. А до этого мне до смерти хотелось спать, но заснуть я никак не могла.
— Что-нибудь украли?
— Украли? Нет. — Она смяла пачку «Дукадос» и бросила на пол. — Во всяком случае, до сих пор я пропаж не обнаружила. Деньги я обычно дома не держу, а те, что были, на месте. Видно, что копались в маминых бусах и брошках, но все тоже цело.
Разбитые вазы, пустые полки, ящики, содержимое которых было истерично вывернуто на пол или на кресла, свидетельствовали, что речь шла не просто о попытке ограбления, тут чувствовался какой-то хитроумный злой умысел. Налетчик делал свое дело уверенно, яростно, но и скрупулезно. Кто бы ни был виновником разгрома, в квартиру Алисии его привлекли не горсть украшений и не какой-нибудь дорогостоящий электрический прибор. Невидимая рука выбрала именно ее дверь, затем почти с творческим вдохновением обшарила каждый закуток, каждый шкаф, проверила каждый сантиметр пространства, где могла храниться та вещь, которую разыскивал взломщик. И эту самую вещь, как легко догадаться, Эстебан держал теперь под мышкой, тщательно завернутую в старое полотно.
— Ничего! — Алисия попыталась улыбнуться, но состояние, в котором она пребывала, обрекло эту попытку на полный провал. — Мне придется объявить гостиную зоной катастрофы. Господи, а вон и статуэтки, которые мы с Пабло привезли из Мексики.
— Сбит замок, — сообщил Эстебан из прихожей.
Изуродованный алюминиевый брусок болтался на одном гвоздике. Эстебан подтолкнул его пальцем и с удовольствием глядел, как тот маятником качается туда-сюда. Несколько трещин свидетельствовали о том, что дверь выдержала еще и пару сильных ударов ногой.
— По замку ударили ногой, — проницательно заметил Эстебан.
— Я тоже так сперва подумала, — Алисия шла к нему, держа в руках головку индейца майя, — но посмотри-ка внимательней. Замок разбит, и очень живописно разбит. Но в замочной скважине нет ни одной царапины.
— Ты права.
Эстебан указательным пальцем придирчиво проверил металлический край: ни одной зазубрины, ни единой, даже самой мелкой царапинки. Да, кто-то ударом ноги изуродовал дверь и сбил замок, но замочная скважина не повреждена. Иными словами, непрошеный гость колотил по уже отпертой двери.
— Не знаю, кто это мог быть, но у него имелся ключ, — заявила Алисия, наблюдая за Эстебаном, словно откуда-то из глубины.
— А кому ты давала свой ключ? — спросил он.
— Один есть у Мамен. — Пальцы правой руки приготовились помогать счету. — Еще один у Марисы, она иногда приходит полить конибры. У моей сестры, на случай, если она приедет из Малаги и ей понадобится зайти сюда. У консьержа. У Лурдес.
— У Лурдес, — повторил Эстебан голосом Мефистофеля.
— Да, у Лурдес, — отозвалась Алисия, хотя ей было неприятно снова повторять это имя, словно окуная его в маслянисто-грязную лужу. — Знаю я, знаю твою излюбленную версию. Все это идеально работает на теорию заговора. Но, боюсь, мотив здесь куда менее романтичный. Хосе, консьерж, говорил, что вчера вечером кто-то забрался в его комнатку и украл связку ключей. И, надо полагать, из всех ключей вор случайно выбрал мой.
— Ага, вор, который ничего не ворует, — перебил ее Эстебан.
— Ну хватит, Эстебан, — даже взглядом Алисия пыталась разубедить его, — ты ошибаешься. Ох, и конибры тоже!
Содержимое цветочных горшков было вывалено прямо там же, под гипсовые подставки, и кучи земли чернели на выложенном плиткой полу; бедные конибры напоминали маленькие яхты, по которым бабахнули торпедами. Вооружившись совком и щеткой, Алисия попыталась временно устроить их в корзинках, где до сих пор хранились носовые платки. Она переносила цветы с осторожностью педиатра, врачующего младенца, а переселив во временное жилище, нежно погладила листья, точно желала успокоить их тревогу или недовольство. Устроив конибры, Алисия сделала несколько шагов назад и споткнулась о ножку кресла, потом присела на корточки, чтобы полюбоваться на цветы издали: на таком расстоянии они выглядели здоровыми и веселыми; в конце концов, вся эта история, возможно, не слишком им повредит. Взгляд Алисии метнулся влево, и она заметила, что из-за горшков на нее смотрит черно-серая фигура, металлический мальчик, на вид вполне безгрешный и безобидный, случайный гость. Руку он по-прежнему держал поднятой вверх, как будто ждал, чтобы на пальцы ему сел воробей; нога у щиколотки была по-прежнему вывернута под прямым углом, рядом сидел орел с очень четко и изящно выполненными крыльями.
— Ты сходил к антиквару? — спросила она, продолжая сидеть на корточках, так что у нее заныли коленки.
— Да. И когда я вышел оттуда, со мной случилась некая история, и она очень мне не понравилась.
—Подожди. Давай отнесем конибры на кухню, я их полью, а ты будешь рассказывать.
Конибры, с благодарностью приняв порцию воды и хлорки, гордо вскинули перышки. Эстебан держал их подальше от себя, чтобы не замочить свитер, и в то же время неуверенным голосом повествовал о четырех ангелах, о смысле надписей на пьедесталах, о португальце, которому снился носорог, о землетрясении, о дьяволе. В окно были хорошо видны машины, летящие по улице Маркиза де Парадаса; на противоположном тротуаре под фонарем беседовали мужчина и женщина. Мысли Алисии по неведомой причине устремились туда, за дорогу, в круг света, замутненного грязным фонарным стеклом, словно она ждала, что вот-вот случится некое, явно запаздывающее, событие. Голос Эстебана повторил:
— Ключ — в этом зашифрованном послании. — Послании, — эхом отозвалась Алисия.
— Нам необходимо определить, на каком языке, кроме латинского и греческого, написан текст. Но прежде всего надо
собрать воедино все четыре части послания.
— Ага.
— Нурия.
— Что? — Алисия немедленно вернулась к действительности.
— Один из ангелов спрятан в квартире Нурии.
Жизнь, с тревогой подумала Алисия, семимильными шагами мчится к развилке — впереди вырисовываются два полукруга, их разделяет горная вершина, и нет способа устроить хотя бы хрупкую перемычку между ними. Алисия сама разбудила призрак, разбудила, стараясь ухватить смысл собственного сна, решить загадку злокозненной переклички сна с изображением на гравюре. И теперь этот призрак витал над ее головой, как эктоплазма чужой воли. Сон, а также связанная с ним макабрическая параферналия подозрений и рискованных ситуаций начинали распространять заразу и на ту территорию ее существования, где Алисия надеялась найти глоток свежего воздуха, чтобы очухаться после свалившихся на нее несчастий. Вполне безобидный способ времяпровождения, к которому она обратилась пару недель назад, теперь обрел форму кошмара, накрывшего всех, кто ее окружал. Нет и еще раз нет: дьявол, безумие, бесконечные хромые ангелы не имели никакой связи с хлопотливой заботой сеньоры Асеведо, с визитами Нурии, во время которых они вместе пили пиво, ели берберечос и весело разглядывали портрет Джимми Хендрикса, обряженного в потрясающий гусарский мундир. Это были две совсем разные половинки ее существования, и она не хотела их соединять.
— Забудь обо всем этом, Эстебан, — выдохнула она, закуривая.
Эстебан согласно кивнул: да, хорошо, наверное, ее невроз перекинулся и на него, но его болезнь перешла в более сильную форму; и все же забыть он ничего не может и не должен ничего забывать. Она после смерти Пабло и Росы пыталась нырнуть в пруд забвения, плыть под водой, погружаясь все глубже и глубже, отрешившись от того мерзкого и докучливого света, что царил на поверхности. Она совершала ежедневный долгий ритуал, асфиксии; хотела забыть свое имя, свое прошлое, каждую ночь выполняла бесплодное упражнение по отторжению, предпринимала отчаянные усилия — скоблила и скоблила дощечку памяти, проверяя — до конца ли она очистилась и можно ли начать выбивать там новые образы. Но на свете не найти только одной вещи, и Алисия должна знать это, — забвения. Каждый поступок и каждое неприятное событие ложились на ее плечи непосильным грузом обещаний и прегрешений, а за ее спиной возникал и мало-помалу рос новый земной шар, наполненный именами, телефонными номерами, стихами, лицами, надеждами, страхами—и они попадали на бесчисленные полки неизбежного музея. Каждое слово оставляло борозду, шрам, и пальцы могли потрогать их, вспоминая миг, когда слова были произнесены, а также то, на что они посягали и что сулили; слова и поступки можно использовать как опасное оружие, и тогда они превращаются в тарантулов или в кинжалы; и это оружие нужно обезопасить, прежде чем доверить врагу или обменять на что-то.
— Думаю, ты и сама хотела бы забыть — например, то, что случилось вчера вечером, — произнес Эстебан с фальшивым пафосом героя из кинофильма.
— Да, — Алисия в ужасе выбежала из кухни, отыскивая хоть одну целую пепельницу. — Да, хорошо бы забыть и это тоже.
— Что ж, беги, беги. — В голосе Эстебана послышалась печаль ребенка, оставшегося без любимой игрушки. — Забудь обо всех своих обязанностях, устранись от всего, спрячься с головой под одеяло и повторяй: хочу забыть, хочу забыть. К твоему счастью, ты и вправду способна на это.
Окурок обжег Алисии кончики пальцев, но, казалось, она даже не заметила этого. Да, сунуть голову в песок, как ее учили замечательные наставники — страусы; сбежать с праздника в тот миг, когда у дверей уже объявляют твое имя, выйти из игры, когда на руках собирается неважная карта. Конечно, жизнь — это звучит слишком гордо и звонко, а ведь она, Алисия, даже по собственному дому передвигается довольно неуклюже. Конечно, жизнь требует ума или решительности, а ее саму судьба — либо гены — этого лишили. Стоя на развилке двух дорог, перед любой дилеммой, она всегда предпочитала выбирать третий путь; лучше ничего не говорить, чтобы не пришлось выслушивать ответ, лучше замутнить слова и сделать вид, что они никого не касаются, что это всего лишь безобидные очертания, нарисованные дымом. Но теперь Эстебан требовал, чтобы она отдала долги, выполнила обещания и не пыталась, стирая следы, изменяя курс, пятиться назад: прошлым вечером она поманила его, позволила своей руке скользнуть по его плечу, глотнула его дыхание — все только ради того, чтобы не чувствовать себя такой несчастной. Но пора бы и ей научиться понимать, что все, даже мольба о помощи, имеет свою цену.
— У меня в голове все перемешалось, Эстебан, я уже ничего не соображаю, — простонала Алисия, и пальцы ее оставили борозды в каштановых волосах. — Я помню, что произошло вчера, знаю, что вела себя глупо, но пойми: я переживаю непростой период. И вдобавок эта история. И Пабло, Роса…
Оба сознавали, что значат два эти имени — спасения от них нет: даже простое их упоминание гасит любые возражения, проводит границу, которую ни Алисия, ни Эстебан переступить не смеют. Эстебан почувствовал странную похмельную сухость во рту, он кашлянул и сунул руки в карманы куртки. На лестничной площадке пахло вареной цветной капустой.
Валиум с трудом, но все-таки принес ей сон — похожий на паутину, болезненный, с острыми краями. Когда Алисия проснулась, у нее было пепельно-мерзкое ощущение, будто она провела ночь в луже. Сон снова бежал ее подушки, хотя до этого она целую неделю провела словно окунувшись в деготь и каждое утро просыпалась с затуманенными мозгами, открывала глаза с единственным желанием опять провалиться в это вязкое болото. Да, она прекратила принимать таблетки и не пила сока, принесенного Лурдес, но нынешняя бессонница имела скорее вполне простую и объяснимую причину: разгром квартиры и рой мучительных сомнений. Она сидела в кровати и наблюдала, как грязные предрассветные краски пробиваются сквозь щель в портьерах, и ее снова захлестнуло ощущение паники; наверное, из-за этого накануне вечером она и набросилась на Эстебана. Но вопреки всему сохранилось впечатление, будто жало недомолвок попало наконец в цель и теперь нельзя было так же свободно, как прежде, упоминать некоторые имена — уже пару дней как нельзя. Пару дней назад она не увидела бы ничего подозрительного во внезапном появлении Нурии почти сразу после ухода Эстебана, в ее слишком уж спокойной реакции на разгром, словно вид перевернутой мебели и осколков посуды на ковре не стоил того, чтобы задерживать на них внимание, и был чем-то вполне обычным. Ядовитый голос нашептывал Алисии на ухо: в поведении Нурии есть что-то искусственное, как будто слова и жесты у нее кардинально расходятся с истинными намерениями.
— Ну что тут поделаешь, — сказала Нурия, обводя ленивым взглядом чудовищный беспорядок. — Пара дней работы — и все снова как прежде.
— Да, как прежде.
Раньше она без всякого подозрения приняла бы приглашение Нурии на обед — знаешь, раз у тебя тут такое творится, приходи-ка лучше ко мне, — но теперь Алисия во всем видела тайный умысел, детали тщательно разработанного плана, скользкую и темную цель, по поводу чего строила бесконечные догадки. С такой вот неразберихой и чехардой в мозгах она и отправилась в постель — ее мучила досада на собственную былую доверчивость, на благодарность, которую не раз высказывала Нурии за заботу. Рассвет не принес ей готовых решений, в зеркале она увидела свое усталое и измятое лицо, а сама так и не поняла до конца: зачем собирается идти на обед к Нурии — в знак дружеской симпатии либо для того, чтобы еще и еще раз попытаться приподнять завесу тайны.
Ни кофе, в который она положила слишком мало сахара, ни душ, ни «Tower of song»[388] Леонарда Коэна не помогли ей отыскать желаемый выход, не помогли мыслям свернуть со скоростной автострады. Но вдруг ее словно ударило: эта игра требует большей осторожности, большей сосредоточенности. Ведь вопреки улыбкам и дружелюбному похлопыванию по зеленому сукну, игра не учитывает никаких смягчающих обстоятельств, даже самая нежная дружба не скрасит тяжесть поражения, которое может оказаться для Алисии роковым. Она вышла из ванной и глянула в зеркало: темные волосы закрывали верхнюю часть лица. Она пыталась сохранить равновесие между верой в собственную храбрость, которую за свои монотонные двадцать девять лет еще ни разу не подвергла испытанию, и бегством в никуда, окончательным исчезновением — это может быть Австралия, а может — большая доза транквилизаторов. Надо попробовать. Алисия налила себе еще чашку кофе и заставила Леонарда пропеть весь диск от начала до конца — «they sentenced me to twenty years of boredom»[389], — и тотчас раздался стук сверху. А что будет, если равновесие нарушится, если одна из чаш перетянет, если стрелка весов метнется к одному из полюсов? Формула раздвоения проста, но от мысли, что надо выбирать, у Алисии засосало под ложечкой: или она по-прежнему доверяет Нурии, сеньорам Асеведо и другим — всем тем, кто после смерти Пабло и девочки окружают ее заботами и вниманием, столь ценными в ее горькой жизни, или, наоборот, дает подозрениям одержать верх и признает, что да, возможно, эти люди — вовсе не то, чем хотят казаться, возможно, на протяжении нескольких лет они притворялись. Для чего? Наверное, чтобы как-то этим воспользоваться, чего-то от Алисии добиться, хотя совершенно непонятно чего. От такой версии — в духе Романа Полански — она скривила рот, то ли от ужаса, то ли от смеха, и воображение ее, всегда готовое к предательству, тотчас пошло на штурм: ну почему, черт возьми, ей стал сниться сон, где был точно такой же ангел, какого Нурия прячет у себя дома, почему книга с планом города хранилась именно в той библиотеке, где она работает; почему все соседи были в курсе того, ходит она на работу или нет; почему ей достаточно было прекратить пить горький сок, который каждый вечер приносила Лурдес, чтобы избавиться от вязкой сонливости; почему человек, который проник в ее квартиру, изуродовал уже отпертую дверь — и ничего не украл? Чем больше ей хотелось похоронить эти мерзкие вопросы, тем пышнее они расцветали в ее сознании. Алисия вылила остатки кофе из кофейника, вымыла ситечко, снова потянулась к банке кофе, не замечая надписи на этикетке. В гостиной Коэн нашептывал свои песни, и ему внимала пара опрокинутых диванов, которые никто так и не удосужился вернуть в нужное положение.
Каннеллони с сыром — полуфабрикаты, которые Нурия вынула из пакета, никак нельзя было назвать изысканным блюдом, но работа в церкви отнимала у нее столько времени, что на прочее сил просто не оставалось. К счастью, принесенная Алисией бутылка риохи несколько облагородило дары микроволновой печи, призванные утолить их голод. Дева Мария была почти готова — два последних вечера Нурия наращивала ей пальцы. И теперь святой Фердинанд с постыдно зазубренным мечом нетерпеливо ждал, пока она вернет ему вид того закаленного в боях конкистадора, каким он был шесть столетий назад. Алисия увидела святого, как только вошла в квартиру Нурии: он стоял в центре гостиной рядом с покрытой заплатками Девой Марией. Он поднял левую руку вверх, словно приглашая Пресвятую Деву на танец, но та скромно отклоняла приглашение. Вокруг скульптур беспокойный взгляд Алисии не обнаружил ничего, кроме обычных инструментов, кусков дерева и какого-то устройства, похожего на огнемет, которое замерло перед печью. Нурия что-то рассказывала про святого Фердинанда, показала план церкви, но глаза Алисии лишь скользнули по нему, потому что их притягивал к себе дальний угол комнаты, замаскированный банками со скипидаром и обрезками линолеума.
Но и на кухне ей пришлось терпеть все ту же болтовню, хоть и приправленную парой стаканов замечательного вина и куда менее замечательной едой. Алисия время от времени кивала головой, когда Нурия делала паузу, ожидая от нее какой-нибудь реакции. На самом деле она почти не слушала Нурию и была целиком поглощена мучительными и предательскими раздумьями. Поэтому ей было не до святого Фердинанда, не до севильского барокко и евхаристического ретабло XVII века, не до Тома Уэйтса, завывавшего из усилителей, пристроенных среди арсенала сковородок. Все мысли ее были сосредоточены на предмете, спрятанном в гостиной, который беззвучно взывал к ней, ожидая, когда же она пустит в ход то, что припрятала в кармане брюк. Нельзя ведь вернуться домой ни с чем — в бессильном отчаянии кусать ногти, так и не выяснив, друг ей Нурия или подлый враг. Нурия, милая Нурия… Фраза, которую она готовилась произнести, застряла у нее в горле, как непрожаренный бифштекс.
— Нурия, мне надо в туалет.
— Иди, — отозвалась Нурия, явно раздосадованная тем, что прервали ее лекцию о художественном воображении в Севилье XVII века. — В конце коридора, сама знаешь. Провожать не буду.
Алисия двигалась по коридору, стараясь не наступать на пятки. Вдруг она почувствовала чей-то взгляд, упершийся в вырез ее блузки: Джимми Хендрикс, наряженный в нелепый оранжевый камзол, мутными глазами разглядывал Алисию из окошка постера. Алисия хлопнула дверью туалета так, чтобы щелчок задвижки был слышен по всей квартире, и, нервно оглядываясь, поспешила в гостиную. Она сама толком не знала, зачем устроила эту комедию — лживый предлог, бесшумные шаги, тайное обследование гостиной. Все это было скопировано с какого-то шпионского фильма. Смешно! И она на самом деле чуть не расхохоталась истеричным смехом и тем самым чуть не выдала все свои хитрые замыслы. Потом Алисия вдруг вспомнила тщедушного, лысого сеньора Бенльюре, который рухнул на нее у дверей подъезда, обдав запахом промокшего плаща, и губы ее сердито сжались. Покидая кухню, она предусмотрительно прикрыла дверь, оставив только узкую щель, так что теперь Нурии со своего места было трудно следить за тем, что Алисия делает в комнате. Алисия осторожно прокралась среди куч деревяшек и инструментов, обошла две скульптуры, которые все никак не решались начать танец. Святой Фердинанд с разочарованным видом глядел куда-то вверх, на потолок, словно только что сделал некое открытие или его хватил удар. В углу, о котором ей говорил Эстебан, стояла гора банок. Она повернула голову ровно на девяносто градусов и удостоверилась, что долетевший до нее звук шел не из кухни — там по-прежнему тянул свою литанию Том Уэйтс. Кровь тяжело стучала у нее в висках. Она принялась разбирать завал из банок с каустической содой и щелоком, акриловой краской и лаком, удивленно задержала в руках обнаруженную там же банку с гуталином. И через несколько секунд, показавшихся ей вечностью, увидела черный металлический блеск. Этот ангел выглядел моложе, крепче и светлее, чем ангел Бенльюре. У него уже были почищены предплечья и кончики крыльев — теперь они сияли сизоватым глянцем. Какое-то время Алисия смотрела на ангела с мстительной суровостью, словно силилась взглядом отплатить за пережитую обиду. Глаза ангела не были пустыми, как обычно бывает у скульптур, у которых гладкая завеса стирает всякий намек на радужную оболочку и зрачки. Алисия заметила, что эти глаза тоже отвечают ей злым взглядом, что они — два зеркала, отражающие ее собственные гнев и страх. Но злыми и презрительными были только глаза ангела, вся же фигура его дышала безмятежным совершенством. На ангеле была туника, которую трепал порыв окаменелого ветра. Ангел был прекрасен, спокоен и непреклонен.
К счастью, звон тарелок, доносившийся с кухни, напомнил ей, что у нее была тайная цель — именно тайная. И вновь Алисию одолели подозрения — словно она ненароком опрокинула стакан, на дне которого их забыла. Теперь подозрения терзали ее с той же силой, что и на рассвете: почему Нурия так старательно спрятала ангела за стеной из банок и жестянок, почему упорно выбирала для разговора темы, которые уводили подальше от того, что на самом деле волновало Алисию, и что же все-таки делал в доме Нурии ангел, похожий на ангела из сна? Мерзкая пленка пота покрыла ладони Алисии, влажная рука неловко просунулась в узкий карман брюк и нащупала там заранее припасенные уголек и кусочек кальки. Главное перестать анализировать свои поступки и решительно действовать, пока не проснулся строгий и нудный внутренний голос, комментирующий каждый ее шаг. Двигаясь как сомнамбула, Алисия мягко прижала кусочек кальки к надписи на пьедестале, а другая рука стала водить по бумаге углем. Бумага похрустывала, как сухие листья под ногами, черная пыль маленьким облачком заклубилась вокруг. На бумаге чудесным образом в перевернутом варианте появились буквы — так, наверное, в зеркальном тумане всплывают тайные послания. Она не знала, сколько времени прошло, но, отделив бумагу от надписи, почувствовала себя трудолюбивым творцом этих черных знаков:
ש.AZAEL.ב.DENTE.DRACO.TGIVGERED.
ROAGD.MGEGD.MVTEE…
Алисия свернула бумагу в шарик и опять сунула в карман. Она продолжала сидеть на корточках, любуясь юным созданием из бронзы, очарованная его изяществом: было какое-то невыразимое удовольствие в созерцании этой навеки застывшей фигуры; так прослушанная мелодия порой оставляет по себе ощущение симметрии и совершенства формы. Она снова посмотрела ангелу в глаза, но его взгляд теперь был устремлен куда-то за ее спину. Она посмотрела на его гладкие ноги, у правой, вывернутой под прямым утлом, обнимая ее, стоял маленький человечек. Алисия чуть наклонилась вперед, чтобы получше рассмотреть фигурку, на которую сперва не обратила внимания. На человечке было что-то вроде мантии или накидки, лицо сморщенное, как грецкий орех, и при этом совершенно невыразительное, какое-то стертое. Алисия вспомнила, что двух других ангелов сопровождали бык и орел. Теперь она и сама поверила: слова на пьедестале — часть послания, и надо соединить надписи со всех пьедесталов, нанизать на общий стержень — только тогда выстроится некая последовательная и связная цепочка и ее можно будет попытаться расшифровать. Придя к такому заключению, она заметила, как вдруг помрачнел взор ангела и на изваяние упала тень. Она обернулась и увидела стоящую сзади Нурию. С окаменевшим, как у манекена, лицом.
— Туалет не здесь, — проговорила она бесцветным голосом.
В горле у Алисии застрял шершавый ком, так что она не смогла выдавить из себя ни слова; сердце бешено колотилось у нее в груди, когда она встала на ноги и принялась отряхивать коленки. Нурия старательно восстанавливала стену из банок.
— Какая красивая скульптура, — заикаясь и бледняя, пробормотала Алисия. — Почему ты ее прячешь? На видном месте она и выглядеть будет иначе.
Никогда еще Нурия не смотрела на нее так, как сейчас. Казалось, зрачки ее впитали ту холодную злость, какой еще несколько минут назад пылали глаза ангела. Да нет же, ничего похожего, подумала Алисия, только вконец расстроенные нервы могли подсказать ей такое сравнение: взгляд Нурии скорее был похож на взгляд игрока в покер, который старается угадать карты сидящего напротив партнера; или на взгляд сыщика из детективного романа, когда он громко излагает результаты расследования целой серии убийств, щедро разбросанных по книге. Во взгляде Нурии бушевала буря, волна за волной катили горькие чувства, но внезапно шторм утих — так же неожиданно, как разыгрался.
Дура, несчастная дура, круглая идиотка, — Алисия ругала себя последними словами и, видимо, надеялась, что это поможет ей справиться с растерянностью и жгучим стыдом. Еще бы не дура! Надо было хоть краешком глаза следить за кухонной дверью. А она забыла об опасности, забыла обо всем на свете, уставившись на сморщенную физиономию человечка у ноги ангела. Слава богу, бумага с углем уже лежали у нее в кармане — вместе с ключами, из-за которых карман слегка оттопыривался. Алисия стала было искать подходящие слова в свое оправдание — чтобы они прозвучали не так нелепо, как предыдущая фраза, но Нурия резким взмахом руки пресекла эту попытку, будто стерла пыль с высокой полки.
— Успокойся. — Она изобразила улыбку, призванную показать, что доверие восстановлено, но улыбка получилась не очень убедительной. — Видишь ли, ангел — особый заказ, и мне не хочется, чтобы о нем кто-то знал. Мой клиент просил, чтобы ангела никто не видел.
Алисии показалось, что Нурия чуть приоткрыла забрало.
— И что же это за клиент? — спросила она небрежно.
— Думаю, тебя это не должно интересовать. — Улыбка опять соскользнула с лица Нурии, и в глазах ее опять покатили грозные волны, — Прости, что я так с тобой разговариваю, но это действительно особый заказ, понимаешь, особый. И я прошу тебя держать язык за зубами.
— Конечно, конечно.
— Ну пошли. — Улыбка снова изогнулась дугой на физиономии Нурии. — Нас еще ждет компот, и очень вкусный, сама увидишь.
Компот был и вправду очень вкусным, но Алисии никак не удавалось сосредоточить внимание на сладких комочках, хотя ложка работала без остановки, отправляла ягоды в рот — одну за другой. Алисия машинально двигала рукой и при этом не сводила глаз с Нурии, которая сидела напротив и тоже была занята исключительно компотом — решительно и точно работала ложкой. И вдруг Алисия почувствовала всю абсурдность ситуации, ей показалось, что она подчиняется какой-то дурацкой хореографии, не имеющей никакого смысла, словно ей приходится объясняться с глухонемым и по ходу дела придумывать какие-то знаки, изображать что-то руками. Только звяканье ложек о стаканы, напоминающее звон скрещенных шпаг, нарушало тишину, неловкое молчание, потому что нужные слова никак не находились.
Том Уэйтс закончил петь, но им и в голову не пришло перевернуть кассету и полюбопытствовать, что записано на другой стороне. И когда в прихожей зазвенел звонок, Алисия буквально подскочила от неожиданности, а у Нурии появился вполне законный повод, чтобы оставить недопитый компот на столе, встать, отодвинув табуретку, бросить быстрый взгляд на Алисию, выйти из кухни и при этом закрыть за собой дверь. Алисия спокойно расправилась с компотом и только после этого принялась тасовать впечатления от недавних событий. Поначалу она не придала значения тому весьма необычному факту, что Нурия, выходя, тщательно затворила за собой дверь. Алисия с дурацким видом пососала большой палец, испачканный густым сладким сиропом с запахом меда и яблок, потом подошла к двери и убедилась, что круглая ручка не слушается и поворачиваться не желает. Да, не слушается и не поворачивается, хотя Алисия чуть ладони не ободрала, стараясь сладить с упрямым латунным шаром. Правда, подозрения зароились у нее в голове только тогда, когда она связала необъяснимый поступок Нурии с тем, что чуть раньше та застала ее саму рядом с ангелом и поняла: Алисия подступила к некоей тайне, которую Нурия, как теперь выяснилось, во что бы то ни стало хотела защитить. Алисия снова занялась дверью, но ручка так и не поддалась. Алисия напрягла слух, который с каждой минутой делался все острее, и убедилась, что по ту сторону двери стоит полная тишина. Алисия приложила ухо к двери — ничего, ни звука. Продолжая дергать ручку, она вдруг вспомнила версию Эстебана, и это лишило ее последних крох здравого смысла и способности к анализу. Все сомнения разом лопнули, как мыльный пузырь, который проткнули булавкой. Она поняла — если только ком нелепых и ужасных образов, который рос у нее в голове, можно было обозначить словом «понимание», — что подозрения Эстебана имели под собой почву. Соседи сверху протестовали против музыки, а против громких разговоров — нет; Лурдес в первый же день непонятно откуда узнала об отпуске Алисии; Бенльюре погиб в этом самом подъезде и принес с собой ангела, и он несомненно разыскивал кого-то, кто живет именно здесь; второй ангел находится за этой вот запертой — да, запертой! — дверью, и его ревностно прячут от посторонних глаз. Алисия почувствовала себя Миа Фэрроу[390] — несчастной, загнанной в угол, не способной принять на веру тот факт, что вокруг нее и вправду плетется сеть интриг; и теперь мозг Алисии, разбуженный страхом и паникой, начал распутывать эту сеть нить за нитью. Теперь она сама готова была поверить, что существует непонятная связь между городом из ее снов, четырьмя ангелами и обитателями подъезда, которые, вероятно, следят за ней и строят злые козни; связь между ее заботливыми соседями и сектой Заговорщиков, которую упоминал Эстебан, где всем заправляет папесса, любовница сатаны.
От таких мыслей Алисии сделалось совсем дурно, она принялась колотить в дверь ногами и руками. Дверь стала жертвой нервного разряда, но стойко выдержала натиск. Алисия прижала пальцы к вискам, чтобы заставить мозги работать быстрее и эффективнее. Совершенно очевидно одно: Нурия заперла ее на кухне, чтобы не дать вернуться к ангелу, — это расплата за любопытство, которое может иметь роковые последствия. Очевидно было и другое: Нурии сейчас в квартире не было, она куда-то отправилась, возможно, за подмогой. Все еще чувствуя на языке вкус компота, Алисия кинулась к окну. Оно выходило во внутренний двор, покрытый пятнами сырости, которые напоминали пятна архипелагов на карте мира, ведь солнце, строго следуя некоей стратегии, заглядывало сюда не более чем на десять минут в день. Алисия подняла взор к кусочку неба над верхними этажами, и взгляд ее запутался в бельевых веревках — одни были голыми, как зеленые струны разбитых арф, другие подставляли ветру простыни и пижамы. Алисия не раз задавалась вопросом: а могут ли эти синтетические веревки, на которые вешают тяжелые покрывала и даже одеяла, выдержать вес не слишком упитанного человека — вроде нее самой? Она пододвинула стол к стене и влезла на него с помощью табуретки. Потом уже сверху окинула взглядом кухню, и та показалась ей куда более узкой, чем обычно. Теперь судьба Алисии зависела от натянутой над окном веревки. Нужно было осторожно, не глядя вниз и забыв о том, что оттуда на нее смотрели жадно разинутые пасти пяти этажей, протянуть правую руку и потом действовать спокойно и ловко, как опытный акробат. Указательный и средний пальцы почти коснулись веревки, но тут с глухим стуком распахнулась кухонная дверь. Нурия стояла на пороге и наблюдала, как Алисия тянулась куда-то, может быть даже к цветочным горшкам соседей.
— Алисия, — сперва Нурия не могла выдавить из себя ничего, кроме имени подруги. — Что ты делаешь?
Алисия боялась пошевельнуться. В этот миг она чувствовала себя балериной, завершающей па в каком-то фантастическом балете — да, фантастически чудесном или фантастически смешном балете.
— Я не могла открыть дверь, — наконец ответила она, обернувшись.
— Ну и что? — Нурия вытащила сигарету и закурила, чтобы с философским спокойствием осмыслить происходящее. — Иногда ручку заклинивает. Так ты что, собиралась вернуться домой через окно?
— Нет, конечно нет. — Уши у Алисии запылали, и температура их достигла температуры доменной печи. — Я действительно хотела уйти, но, разумеется, через дверь. А кто к тебе приходил?
— Ты сначала спустись!
Они направились в прихожую. У Алисии был такой вид, словно ее застали голой в городском парке. Нурия молчала, уставившись на кончик сигареты. Друг на друга они не смотрели.
— Мне пришлось подняться к твоей соседке, — сообщила Нурия голосом, который вдруг стал ледяным. — К Лурдес. Она сказала, что тебя кто-то разыскивает. Тебя или Эстебана. Кажется, из полиции.
Алисия все еще чувствовала во рту вкус компота.
7
На ступеньке сидел инспектор Гальвес
На ступеньке сидел инспектор Гальвес, он докуривал сигарету, тщательно следя за тем, чтобы даже следа пепла не осталось на плитах, покрывающих пол. Несколько минут назад какая-то сеньора, вооруженная шваброй, сурово поздоровалась с ним и осуждающе глянула на сигарету; Гальвесу стало так стыдно, что он готов был провалиться сквозь землю или по крайней мере поскорее избавиться от сигареты, но рядом не нашлось ничего подходящего, куда можно было бы ее выбросить. Поэтому, когда Алисия появилась и что-то процедила сквозь зубы, Гальвес самым нелепым образом держал одну руку — с сигаретой — на уровне груди, а другую — под ней, ковшиком, и рука эта, как могла, выполняла роль пепельницы. Именно так, не меняя позы, словно манекен, он и вошел следом за Алисией в прихожую ее квартиры, вздохнул, подождал, пока она кинет на комод ключи и достанет из карманасигареты. Передвигаться по гостиной было трудно: какой-то ураган перевернул всю мебель, вдребезги разбил фарфоровые и прочие безделушки, расшвырял книги. Инспектор искал место, куда бы поставить ногу, потому что при каждом шаге что-то противно хрустело под подошвой ботинка. Гальвес застыл в углу и оттуда обозревал разгромленную комнату, не решаясь сделать больше ни шага и все так же — совершенно по-дурацки — держа левую руку ковшиком под серым столбиком сигаретного пепла. На нем опять была тесная, обтягивающая грудь рубашка. Алисия прохаживалась среди осколков и обломков, покрывающих пол. И тут инспектор, не удержавшись, спросил:
— А пепельницы у вас нет?
— Стряхивайте прямо на пол, — невозмутимо отозвалась хозяйка дома. — Еще немного пепла — хуже не будет.
Инспектор послушно стукнул пальцем по сигарете, столбик пепла упал на нечто, напоминающее голову фокстерьера.
— Ну и ну! — Гальвес попытался изобразить улыбку, но у него это плохо получилось. — Вы, наверное, подрались с женихом?
— Тут-то еще терпимо. — Алисия вернула ему такую же судорожную улыбку. — В кабинете куда хуже. Только вот никакой драки не было. Просто мне нравится жить в такой обстановке.
Инспектор промолчал, он был человеком застенчивым. На краткий миг Алисия даже пожалела своего гостя — этого огромного мужчину, затянутого в тесную рубашку. К тому же нереспектабельная лысина и мешковатый плащ придавали ему вид человека, потерпевшего кораблекрушение и ищущего спасительную соломинку. Алисия вывела инспектора на середину гостиной и усадила на марокканский пуфик, который каким-то чудом остался стоять неперевернутым рядом с опрокинутым журнальным столиком. Затем Алисия исчезла за кухонной дверью. На пуфике Гальвес сидел так, что колени его поднялись до уровня груди. Он глядел на усыпанный осколками и обломками пол и играл в тут же придуманную игру: пытался угадать, какой кусок какому предмету раньше принадлежал. Двух собачек он мысленно уже почти что сложил, затем — стакан для карандашей. Но потом вдруг будто опомнился и с досадой подумал, что пора с чего-то начинать разговор.
— Ваша соседка, очень милая старушка, сказала, что вы внизу! — крикнул он.
— Да. Это была Лурдес, — ответила Алисия из кухни. — Я обедала у подруги. Хотите пива?
— Нет. — Гальвес чуть помолчал. — Если есть, лучше виски.
— Есть только кока-кола.
— Тогда стакан воды.
Инспектор получил из рук Алисии стакан, где вода еще не успокоилась и завивалась мелкими спиралями. В знак благодарности он изобразил вежливую улыбку. Алисия поставила на пол банку кока-колы, вернула в нужное положение стальной чайный столик, купленный в Танжере во время давнего отпуска, и села на столик, заложив ногу на ногу. Она жестом отказалась от «Винстона», протянутого инспектором, и закурила свои «Дукадос».
Гальвес подумал, что курит она как-то очень сердито, словно осыпает гостя оскорблениями или даже ударами кулаков.
— Хорошо. — Гальвес облизнул верхнюю губу. — Я хотел поговорить и с вами, и с вашим деверем. Но его, кажется, тут нет.
— И правильно кажется. Его на самом деле тут нет.
— Ладно, — Инспектор попробовал пустить в ход тот самый проницательный взгляд, которым приводил в трепет преступников у себя в комиссариате. — Я пока не знаю, имеет ли он какое-нибудь отношение к смерти Бенльюре, зато уверен, что вчера вечером он посетил антикварную лавку на Пуэнте-и-Пельон.
— Да что вы говорите! — Алисия крутила в руках банку с кока-колой. — Значит, вы приставили к нему шпика?
— Мы обязаны знать все. — Изрекая эту фразу, Гальвес буквально раздулся от важности. — Так это правда?
— Что — правда?
— Что ваш родственник был там вчера вечером?
— Его самого и спросите. — Алисия отхлебнула из банки.
— В свое время непременно спросим. — Взгляд инспектора стал еще более пронзительным, еще более трепанирующим — и еще более нелепым, — По правде сказать, я никак не возьму в толк, почему вы отвечаете мне в таком тоне и откуда у вас такое недоверие к нам. Во-первых, бояться вам нечего.
— Спасибо.
—И я был бы вам благодарен, если бы вы помогли следствию. — Инспектор глотнул воды, и это тоже почему-то выглядело неуместно и нелепо. — Хотите, подтверждайте, хотите, отрицайте, но я уверен, что ваш деверь заходил вчера вечером в антикварную лавку — где-то между шестью и восемью часами вечера. Девушка из кондитерской узнала его, потому что он вечерами частенько останавливался перед витриной.
— А разве это преступление?
— Позвольте мне закончить. Я не собираюсь его ни в чем обвинять. Я хочу только поговорить с ним — его показания могут нам помочь. Вчера вечером, вскоре после визита вашего родственника, кто-то убил хозяина антикварной лавки.
Инспектор произнес последнюю фразу тем же тоном, каким мог бы высказать какое-нибудь банальное замечание по поводу прогноза погоды на завтра или прокомментировать только что закончившийся футбольный матч, — иначе говоря, тоном равнодушным и даже небрежным. Тем не менее Алисия почувствовала, как сердце ее словно ухнуло в яму и как что-то мягкое, похожее на удар полотенцем, перекрыло доступ воздуха в легкие и нарушило ритмичный ток крови. Она и сама не понимала, почему это вызвало у нее такую реакцию, ведь она не была знакома с жертвой, не существовало видимой связи между его убийством и снившимся ей городом. Но интуитивно она почувствовала, что такая связь есть, есть тайная тропка, соединяющая два убийства — антиквара, которого она никогда в жизни не видела, и того, другого, мужчины в пропитанном дождем и кровью плаще, который рухнул на нее у двери подъезда, — его лицо всплывало во сне, превратившись в расплющенную жалобную маску. Почему-то это новое преступление делало убийство Бенльюре фактом более реальным и необратимым.
— Как это случилось? — очень медленно спросила Алисия.
— Ему раскроили череп — тремя ударами, — объяснил инспектор, пытаясь принять более удобную позу. — Ударили, скорее всего, тяжелым, твердым металлическим предметом. Труп нашли за прилавком, под грудой всяких статуэток и инструментов: падая, он задел стеллаж. Мотив убийства остается для нас совершенно непонятным — кажется, в лавке ничего не украдено. Любопытно другое: рядом с телом валялся огромный том, размером с атлас — «Ежегодник антиквариата» за тысяча девятьсот семьдесят девятый год. И убийца вырвал оттуда одну страницу.
Алисия с трудом сглотнула, слюна была разом и горькой, и кислой.
— За своего родственника можете не беспокоиться, — сказал Гальвес.
— За Эстебана, — проговорила Алисия, не поднимая глаз. — Его зовут Эстебан.
— За Эстебана можете не беспокоиться. — Инспектор скроил нечто вроде сочувственной улыбки. — Судебный врач дал заключение: смерть наступила около девяти тридцати или десяти вечера. А девушка из кондитерской показала, что видела, как Эстебан вышел из лавки антиквара, едва начало смеркаться; и после него в лавку заходили другие люди. Обычно лавка закрывается в девять, поэтому речь может идти лишь о заранее условленной встрече — убийца и жертва знали друг друга. А за Эстебана не волнуйтесь. Кроме того, он ведь не страдает близорукостью?
— Близорукостью?
Рука инспектора нырнула в правый карман плаща и извлекла оттуда целлофановый пакет, в котором лежало что-то темное и продолговатое. Алисия успела несколько раз хлопнуть глазами, прежде чем поняла, что это такое, но, поняв, ощутила ужас, и во рту у нее пересохло, последние силы покинули ее. Она стукнула себя кулаком по бедру.
— Очки для близорукости, — выдохнул Гальвес — Одно стекло разбито, как будто на него наступили, возможно, когда кто-то убегал. Очки довольно сильные, надо думать, тот человек мало что без них видит. К тому же — астигматизм, они наверняка принадлежали пожилому человеку. — Но, Алисия, мне кажется, вам знаком этот футляр. Что с вами?
Да, конечно же, она помнила этот очечник. Всего несколько дней назад он лежал на краю раковины в ее ванной комнате, после того как была прочищена труба, и шел разговор о романе С.С. ван Дайна. Отпираться поздно. Смертельная бледность и тяжелое дыхание уже выдали ее. Она покорно кивнула и выронила из рук банку из-под кока-колы, та покатилась по ковру. Только, ради бога, не спрашивайте меня больше ни о чем!
Автомат с кофе находился в конце коридора, вдоль которого тянулись горшки с искусственными растениями. Коридор хотелось пройти побыстрее, чтобы побороть неприятное ощущение, будто он ведет куда-то в бесконечность. В дневное время коридор этот истязали стрекот пишущих машинок и хлопанье дверей, так что пока посетитель добирался до выхода, слух его претерпевал жуткие муки. Теперь же, когда вечер сделал окна слепыми и кабинеты казались куда просторнее обычного, царящая вокруг тишина нагнетала впечатление бесконечности коридора, так что любой посетитель начинал верить: ступить в это пространство — значит угодить в орбиту какого-то неправильного, тянучего, как паутина, времени. Алисию и Эстебана одолевали похожие чувства, но они молча двигались вперед — туда, где кончались горшки с папоротниками. Им обоим казалось, будто шагать дальше бесполезно и понадобятся тысячи и тысячи таких вечеров, как этот, чтобы достичь цели, которая упрямо отодвигалась все дальше и дальше. Засовывая монеты в щель автомата — сносным здесь был только капуччино, — Алисия мысленно сравнила нынешнее свое восприятие некоторых вещей с искаженными звуками магнитофона, когда пленка крутится не с той скоростью, с какой нужно: нормальные голоса превращаются в угрожающий визг, уподобляются голосам зверей или призраков и теряют то привычное и родное, что заставляет нас с надеждой искать защиты в их убаюкивающем шуме. Мир уже больше не был прекрасным миром Руссо, хотя репродукция с его картины по-прежнему украшала гостиную Алисии, она висела над книжными стеллажами, рядом с кувшином из майолики. Произошла роковая перемена: теперь это был мир изломанных видений Кирхнера или Френсиса Бэкона (Эстебан, всегда любивший геометрические формы, отдавал предпочтение миру Мондриана или Малевича, потому что наш мир именно такой — многоугольный и мы просто не умеем распознать правильность окружающих нас фигур, их повторяемость и вездесущность). В приемной вдоль стены выстроилась шеренга стульев. Помешивая пластиковой палочкой кофе, Алисия села на один из них. Эстебан последовал ее примеру и закурил четвертую подряд сигарету. На стене напротив висел плакат: по листу бумаги была разбросана дюжина портретов, хотя ветки искусственной пальмы мешали разглядеть лица изображенных там людей. Но судя по подписи: «Этот человек очень опасен» — многолюдность плаката была мнимой.
— У меня не было выхода, Эстебан, я не могла не сказать, что узнала очечник, — прервала молчание Алисия, отхлебнув капуччино и словно отвечая на так и не прозвучавший вопрос. — Он не дал мне времени сообразить, как себя вести — признавать что-то или отпираться. Он заметил, что я побледнела, и сразу все понял.
— Ладно, хватит тебе. — Эстебан завороженно смотрел на многоликого человека с плаката. — А почему, собственно, ты должна была это скрывать? Я не хочу в сотый раз повторять одно и то же, ты сама знаешь, чтб я обо всем этом думаю.
— Но Блас, Блас! — Алисия прикусила нижнюю губу. — Нет, просто невозможно!
Он качнулся вперед и упер локти в колени. От сигаретного дыма у него заслезились глаза.
— Кто бы это ни был, убийца расправился с антикваром только потому, что тот кое-что знал об ангеле. В лавке ничего не пропало, преступление совершено не ради кражи. Подумай сама: из антикварного каталога вырвана одна страница, именно та, где подробно описывается скульптура. Может, убийца и не Блас, но цель преступления — замести следы. Ты ведь помнишь: ту книгу в библиотеке тоже пытались спрятать.
— Но Блас!
— Блас или кто-то другой, — проговорил Эстебан с легким нажимом. — А как ты объяснишь, что его очки оказались там, на полу, рядом с убитым?
— Сейчас он сам нам все объяснит. — Алисия словно оправдывалась. — Я ведь только и сказала, что мне трудно в это поверить, Эстебан.
— Да, тебе трудно в это поверить. А вот у меня такое впечатление, что они замыкают кольцо, Алисия. Кольцо сужается. Да, именно так: существует некое кольцо, а мы с тобой — внутри.
Тут со стороны коридора раздался голос, назвавший их имена. Они, с трудом передвигая ноги, вошли в кабинет, на пороге которого стоял Гальвес. Они очутились в квадратной комнате, где угадывалось присутствие еще нескольких человек.
Свет от настольной лампы вертикальным конусом пробивал гнетущий мрак кабинета. И Эстебану, севшему рядом с письменным столом, вдруг почудилось, что стены вот-вот обрушатся, словно карточный домик, и похоронят их под собой. Где-то за лоскутной полосой света маячило лицо Бласа Асеведо. Он спокойно сидел на стуле и кинул на Алисию быстрый взгляд — взгляд голодного ягуара; но она не успела поймать этот грозный сигнал. Ее глаза еще не освоились в окружающем черном болоте, которое заглотило их, едва они переступили порог. Ей понадобилась пара минут, чтобы убедиться: у стены сидит кто-то еще, но этого типа она обнаруживала по частям — сперва фланелевые брюки, потом рубашку с закатанными по локоть рукавами, потом — тоже как часть тела — громоздкую пишущую машинку. Гальвес с силой выдохнул, опустошив легкие, закрыл дверь и растаял в каком-то темном углу. Теперь Алисия видела лишь конус света, бьющего в полную окурков пепельницу из метакрилата, и чуть позади — голову Бласа Асеведо, лицо которого искажала неприятная загадочная улыбка.
— Итак, сеньор Асеведо, — землистый голос инспектора Гальвеса шел из-за спины Алисии, — я хотел бы, чтобы вы повторили при двух этих людях разъяснения, которые только что мне дали. Не торопитесь, времени у вас достаточно. Возможно, вы вспомните еще какие-нибудь детали, вьшавшие из памяти во время нашей с вами беседы. Ну, начнем. Во-первых, признаете ли вы, что вчера вечером около десяти часов нанесли визит в антикварную лавку, принадлежавшую Рафаэлю Альмейде?
— Да, — без малейших колебаний ответил дон Блас.
— Но лавка была уже закрыта, — возразил голос из темноты.
— Да. — Улыбка Бласа словно подкрепила сказанное, — она закрывается в девять.
— Значит, вы с сеньором Альмейдой заранее условились о встрече?
— Не совсем так. — Улыбка сделалась чуть растерянной.
— Не совсем так, — нетерпеливо повторил голос за спиной Алисии. — Но ведь вы были знакомы с сеньором Альмейдой.
Губы, растянутые в узкую, как щель, улыбку, выпустили струю воздуха; глаза Бласа Асеведо, с каждой минутой все больше походившие на глаза хищной кошки, пытались прорваться сквозь мрак и отыскать взгляд Алисии, атаковать ее. И каждый раз, когда предпринималась эта скрытая от других атака, Алисия опускала веки; при этом ресницы ее часто вздрагивали. Она прекрасно сознавала, что для Бласа ее поведение все равно что удар кинжала, смертельная рана. Так-то она платит доброму и отзывчивому соседу за то, что столько лет он относился к ней как к родной дочери, по первому зову спешил починить кран или прочистить трубу, угощал карамелью Росу, всегда был преисполнен нежной тревоги и ждал лишь повода, чтобы помочь и утешить, если вдруг какой-то вечер вдруг выдавался более пасмурным, чем другие. И теперь она молотком крушила лучшее из своего прошлого, тонкий фарфор минувшей жизни. Но как иначе? Это она и пыталась объяснить Эстебану. Алисия увидала очечник Бласа в руках инспектора и выдала себя. Смысл выражения, появившегося на ее лице, был столь же прозрачен, как вода в проклятом стакане, который инспектор держал в руке, сидя среди разбитых и поломанных вещей. До сих пор ее не оставляла спокойная и счастливая уверенность в том, что рядом есть люди, ее соседи, всегда готовые прийти на подмогу, даже в мелочах, — и, собственно, это было необходимое условие для продолжения игры, включающей в себя загадочный сон, книгу Фельтринелли и ангела. Иными словами, игра-головоломка не затрагивала ничего по-настоящему важного, главного в реальном существовании Алисии, не посягала на оборонительные сооружения вокруг ее жизни — они до сих пор оставались неприступными. А теперь ясность и определенность исчезли; она много об этом раздумывала и решила-таки пожертвовать гарантиями стабильности ради рискованной цели — докопаться до истины, если, впрочем, истина вообще существует. Мне жаль, Блас, правда, очень жаль, но вы должны меня понять.
Эстебан хотел было вытащить сигарету из пачки, но человек за пишущей машинкой шепотом остановил его.
— Я был знаком с сеньором Альмейдой, — после некоторой заминки продолжил Блас, и в голосе его прозвучала отрешенность мученика, стоящего перед стаей львов. — Знаком много лет, а свела нас подруга моей соседки Алисии. У нас с ним были кой-какие дела: покупка, продажа часов, бодегонов и так далее, так что встречались мы довольно часто. Я регулярно наведывался в лавку после закрытия. Вчера вечером, уже после половины десятого, мне позвонили, и женский голос попросил срочно зайти к Альмейде, якобы нам надо было спешно покончить с одним делом, которым мы уже давно занимаемся.
— Что это за дело? — резко оборвал его голос Гальвеса.
— Меня удивило, что звонила женщина, — продолжал Блас Асеведо, словно не расслышав вопроса. — Я, конечно, знал, что у Алъмейды есть секретарша и она составляет график его рабочего дня, назначает встречи, но со мной он всегда связывался самолично. Так вот. Я вышел из дома и за двадцать минут добрался до Пуэнте-и-Пельона. Здоровьем я теперь похвалиться не могу, возраст есть возраст, никуда не денешься, но ноги пока меня слушаются, и хожу я прытко. Металлические жалюзи над витриной были чуть приспущены. Внутри было темно, за стеклом горела только маленькая зеленая лампа, она стояла на прилавке. Все указывало на то, что лавка закрыта.
— Вы позвонили? — спросил голос.
— В этом не было нужды, — с обескураживающей естественностью ответил Блас — Когда Альмейда ожидал меня, он оставлял дверь открытой. И я вошел в лавку, как делал это много раз прежде. Внутри царил почти полный мрак, и практически не различались предметы, расставленные по полкам и стеллажам. Свет зеленой лампы придавал всему странный, потусторонний вид.
Сухой землистый голос бросил что-то похвальное по поводу таланта, с каким дон Блас описывает место преступления, — он ведь обрисовал им обстановку, идеальную для самого ужасного злодеяния—именно такого, какое там и произошло. Губы Бласа Асеведо опять дернулись, складываясь в зигзагообразную улыбку мученика, но такой улыбки Алисия никогда прежде у него не видела. Дон Блас признался, что всю жизнь читал детективы и, естественно, не мог не перенять распространенный в них стиль описания места преступления.
— Так вот, — продолжил свой рассказ старик, словно раскручивая историю, накрепко впечатанную в память, когда из раза в раз приходится повторять одни и те же жесты и взгляды, — я тотчас понял, что там что-то не так. Из-за сильной близорукости сперва я заметил лишь кучу каких-то вещей на прилавке; я достал очки из футляра и пригляделся повнимательнее: туда обрушилось содержимое стеллажа, и еще — там лежала мортира с окровавленной ручкой.
— Вы коснулись ее, — припечатал землистый голос. — На мортире обнаружены отпечатки ваших пальцев.
— Да, — согласился Блас, и карие глаза его сверкнули. — Я взял мортиру в руки и поднес к глазам, чтобы проверить, на самом ли деле там была кровь. И тут я сильно занервничал. Опять стал оглядывать разбросанные повсюду вещи, потом повернулся к прилавку. Альмейда лежал на полу, в небольшой луже крови, голова его была как-то неестественно вывернута вправо, как у манекена.
— И что вы сделали?
— Я сильно нервничал. — Ноздри дона Власа трепетали. — У меня задрожали руки, да и сердце уже не то, что раньше… Я уронил очки, но даже не заметил этого. Я убежал, да, убежал. Потому что очень испугался, и со страха мне пришло в голову, что нужно во что бы то ни стало скрыть этот мой визит. Да и кому, собственно, нужно было знать, что я туда ходил?
Наступила тягучая пауза, и пронзительный взгляд Бласа Асеведо с какой-то нечеловеческой настойчивостью пытался пробуравить черную стену мрака, из-за которой до него доносились голоса. Алисия, ломая пальцы, снова и снова повторяла себе, что этот тип, донимающий ее в темноте своими хищными взорами, это изборожденное морщинами лицо, эта седая голова, словно отрезанная от тела конусом света, — ничего общего не имеют с милым старичком, который столько раз утешал и поддерживал ее, умел сделать более светлым вечер и вернуть заблудшие мысли на верную тропку. Она почувствовала движение у себя за спиной, будто кто-то двинул стул или что-то еще. А когда снова зазвучал голос инспектора Гальвеса, похожий на перекатывание сухих глиняных комочков, голос этот находился уже совсем близко и от лампы, и от говорящей головы дона Бласа.
— Вы не ответили на один мой вопрос. Какие именно дела связывали вас с Рафаэлем Альмейдой?
— Я должен повторить свой рассказ?
— Да, повторите.
Карие глаза метнулись в темноту, с трудом продираясь к тому месту, где сидели недоступные для них Алисия и Эстебан.
— Ну что сказать? На нашу пенсию, как известно, особо не разгуляешься. — Дон Блас покачал головой. — Да, совсем не разгуляешься. Особенно если у человека есть кое-какие страстишки. Еще в юности я стал поигрывать в карты, поначалу так, для забавы. А вот когда вышел на пенсию да начал целыми днями маяться без дела, тут я, что называется, на это дело подсел. Вы ведь сами знаете: люди, бывает, все свои сбережения проигрывают, не только мебель, но и квартиру…
— Нет, я не могу в это поверить, — простонала Алисия.
Ее голос в первый раз прорезал темноту, и Блас Асеведо мгновенно направил взгляд в ту сторону, как легавая, которая взяла вдруг возникший след. Губы его изогнулись мясистой дугой.
— А ты поверь, поверь, дочка. — В голосе звучала пародия на былую сердечность. — Я проиграл много, очень большую сумму. У моей жены были кое-какие старинные вещи, драгоценности. И я начал потихоньку их красть из ее комода, а потом заменял поддельными, в десятки раз дешевле, которые заказывал, как только у меня случался хоть небольшой выигрыш. Моим постоянным покупателем стал Рафаэль Альмейда. И он сорвал на этом хороший куш, тут можете не сомневаться, — у жены были украшения, принадлежавшие когда-то самым знатным севильским семьям, высшей аристократии.
— Лурдес ничего не знает. — Алисия начала задыхаться.
— Конечно, не знает, дочка, — ответил Блас Асеведо, обращаясь к черной пелене, из-за которой донесся до него голос Алисии. — Признайся я в своем грехе — это бы ее убило. И, надеюсь, ты тоже не сможешь нанести ей такой удар, у тебя хватит жалости, милосердия.
Холодная змея проползла по спине Алисии: она уловила в словах Власа упрек, он словно выплеснул ей в лицо содержимое своего стакана, — упрек за донос, неблагодарность. Она тоскливо и жадно подумала о сигарете.
— А по какому делу вы явились к Альмейде в тот раз? — гнул свое Гальвес.
— Серебряный столовый прибор, — выдохнул дон Блас, опустив голову и изобразив рукой в воздухе какую-то загогулину. — Он обещал хорошо заплатить. А теперь извините, но больше на эту тему мне толковать не хочется.
Инспектор Гальвес вывел Алисию и Эстебана из кабинета. Их словно оглушило ударом грома, даже уши заложило. Яркий свет, горевший в коридоре, хлестнул по глазам, и оба одновременно опустили взгляд в пол. Потом оба разом полезли в карманы за сигаретами. Рука Гальвеса с зажигалкой протянулась к Алисии, потом к Эстебану, потом та же рука почесала лысый затылок. Они медленно направились к автомату с кофе, и ни один из троих не отваживался нарушить молчание. Эстебан бросил рассеянный взгляд в окно и убедился, что неряшливый мелкий дождь снова кропил стекла.
— Хорошо, — выдохнул наконец инспектор, когда они поравнялись с искусственными папоротниками, — на первый взгляд дело вполне ясное. Ваш сосед Блас отдал прибор Альмейде, а тот все никак не хотел платить, тянул с деньгами. Блас пришел в лавку в час, когда, как он знал, антиквар бывает один, и убил его, чтобы забрать долг. Но тотчас испугался содеянного и убежал, обронив при этом очечник. Секретарша Альмейды, которую мы уже допросили, показала: в указанный вечер она не звонила дону Бласу, у нее был выходной, кроме того, как установлено, из лавки вообще никто не звонил по такому номеру. Все вроде бы укладывается в элементарную схему убийства из корыстных побуждений. Но мне что-то никак не верится в такое объяснение.
— Почему? — спросил Эстебан, доставая монету в десять дуро; за эти деньги он мог получить в автомате только эспрессо.
Инспектор с шумом выпустил воздух, и от сильной струи губы его мелко задрожали. Зажав сигарету в углу рта, он сунул в автомат монету в сто дуро.
— Лучше возьмите капуччино, — посоветовал он. — Эспрессо здесь просто отвратительный. Вы спросили «почему?» и продолжаете ломать комедию. Отлично, вы оба по-прежнему считаете меня недоделанным придурком, но у каждого из нас своя гордость. И вот я вас спрашиваю: зачем, собственно, мне понадобилось приглашать вас на допрос? Не знаю, убил Блас этого антиквара или нет, но одно у меня не вызывает сомнений: причина конечно же не сводится к денежным разборкам. Ведь тогда остается непонятным, зачем вырвали страницу из антикварного ежегодника и что за женщина звонила Бласу, чтобы впутать его в это преступление?
— Если он не врет. — Эстебан поболтал в стакане жидкость грязного цвета, выплюнутую машиной.
— Разумеется, если он не врет, — Взгляд Гальвеса накалился до достаточно неприятной температуры, и Алисия почувствовала тревогу. — Но я нутром чую: он говорит правду. И что-то мне подсказывает: эта смерть связана с тем убийством, которое произошло несколькими днями раньше, с убийством каталонского старьевщика Бенльюре. Он ведь погиб в подъезде, где живет Асеведо. Да и вы, Алисия, тоже там живете.
Разумеется, не одна она усмотрела здесь странные совпадения, не только Эстебан попытался связать концы с концами. Перед глазами Алисии непонятно откуда выплыла картинка, как на фотопластинке, опущенной в проявитель. Некая фигура, многоугольник… Но узнать окончательные очертания все еще было трудно.
Инспектор бросил что-то язвительное по поводу кофе и распрощался, пообещав: они непременно встретятся снова. Что касается Бласа, то, скорее всего, судья отпустит его под залог. Алисия и Эстебан вышли на улицу. Дождь уже прекратился, но небо было заляпано пухлыми красноватыми тучками. Они решили пройтись пешком.
— Каких только совпадений не бывает! — Эстебан захлопал глазами. — Оказывается, дон Блас Асеведо давным-давно знаком с антикваром, о чем мы даже не подозревали. И он признается в этом лишь тогда, когда у него не остается другого способа объяснить свое присутствие в лавке.
— Но ведь понятно, почему он это скрывал.
— А правда, что их познакомила твоя подруга?
— Я понятия об этом не имела.
Они молча топали по лужам. Светящаяся вывеска какой-то забегаловки отражалась в маленьком озерке посреди тротуара, опрокинувшись вверх ногами и зыбко мерцая.
— Алиби Бласа слишком примитивно, — пробормотал Эстебан, когда они поравнялись с уже закрытым заведением. —Слишком логично, чтобы ему доверять. Готов спорить: он оставил там очки ex profeso. Помнишь «Украденное письмо»?
—Что? — вздрогнула от неожиданности Алисия.
— Нельзя забывать классиков, детка: Эдгар По, рассказ про украденное письмо, которое, как выяснилось в конце, лежало на камине или на столе, точно не помню.
— Ах да! Ну и что?
— Давай вспомним, рассказ начинается рассуждением о двух детях, которые загадывают друг другу загадки: сколько камешков зажато в кулаке у соперника? Первый мальчик сначала прячет два камешка. Во второй раз он не знает, сколько камешков ему лучше спрятать. Он прикидывает, каким будет ход мысли товарища: наверняка тот решит, что спрятан один камешек, потому что два уже было прежде, не будет же он таким дураком, чтобы повторять то же число. Иными словами, тут подходит расчет, так сказать, возведенный в квадрат: противник думает, что он спрячет один камешек, значит, он спрячет два, как и в первый раз, хотя это и выглядит глупостью. Такое вот рассуждение от противного. Именно так поступил Блас.
— Ты уверен? — Алисия глянула на него взглядом умирающей дивы.
— Да, уверен, конечно, уверен! — Эстебан остановился рядом с местом, где под куском картона похрапывал бездомный. — Как проще всего добиться, чтобы с тебя сняли подозрения? Оставить побольше веских улик против себя же самого. Блас убил этого типа, убил за то, что он имел информацию о да Алпиарсе и ангеле.
Алисия вскипела:
— Эстебан!
— Да, да. — Он сунул в рот очередную сигарету. — Сон помог тебе, Алисия, проникнуть в мрачную тайну некоей секты. А члены этой секты живут в твоем же подъезде. Соседи сверху подслушивают, Нурия прячет ангела, Лурдес приносит снотворное зелье, кто-то, воспользовавшись твоим ключом, устраивает погром у тебя в квартире. Бенльюре каким-то непостижимым образом — но тоже через твой сон — узнает о твоем существовании и хочет отдать тебе ангела. Бенльюре следил за тобой, хотел что-то сообщить. Его убивают, но он успевает передать нам скульптуру. А мы между тем собираем надписи с пьедесталов разных ангелов. Члены секты наблюдают за нами. Они — хотя я понятия не имею, кто такие эти «они», — стоят за нашей спиной и отлично осведомлены о каждом нашем шаге. Они постоянно оставляют нам знаки, но обязательно дают при этом понять, что мы обнаруживаем знаки с их ведома — потому что им так захотелось. Книга, убранная с нужной полки, отыскивается; Бенльюре гибнет, но ангела нам вручает; антиквара убивают, но лишь после того, как он помогает нам получить надпись на пьедестале четвертого ангела и сообщает, где находится первый. Короче, они хотят, чтобы мы разгадали загадку.
— Для чего?
— Не знаю, но они потихоньку подталкивают нас вперед. Надо и впрямь разгадать тайну и посмотреть, в чем тут дело. Мы оказались внутри фигуры, Алисия, и бежать поздно.
Что правда, то правда. Тут не поспоришь. Ее, Алисию, окружили, загнали в клетку и заперли, пути на свободу оттуда нет. Чтобы хотя бы попытаться выбраться, надо покорно подчиниться правилам игры, отдать себя на волю враждебного морского течения и посмотреть, на какой берег предусмотрена высадка десанта. Эстебан, печатая по-военному широкие шаги, зажав во рту сигарету, пересекал площадь Дуке. Потом остановился под омытым дождем памятником Веласкесу.
— Наверное, тебе лучше на время покинуть свою квартиру, — сказал он. — Ты могла бы пожить с нами, с мамой и со мной.
— По-моему, это не самая блестящая из твоих идей. — Алисии было неприятно снова мусолить надоевший вопрос — Лучше я поживу дома, и посмотрим, что будет.
— Это из-за мамы или из-за меня?
— Хватит, Эстебан.
Рано или поздно все равно придется сделать выбор, что-то переменить в своей жизни и решить, какой дорогой идти дальше, потому что Эстебан с дикой силой вцепился в руку, которую она бездумно ему протянула. Это случилось в ту ночь, когда ей важнее было почувствовать себя убаюканной, нежели размышлять о бесчисленных тропинках, на которые разветвляется жизнь. Но теперь что-то притаившееся у нее внутри, в районе диафрагмы, приказывало немедленно прогнать прочь этого дублера, раз и навсегда отказаться от мысли заменить Пабло на более молодого и даже более влюбленного мужчину; но разум — вернее, самая светлая и лучше всего обустроенная комнатка в ее голове — настойчиво советовал не отдергивать уже протянутую руку, ведь нынешнее отвращение может быть преодолено в будущем, в том будущем, что связано с расплывчатой утопией, которой тешит себя ее страх. Они простились под вспышки, возвещающие новую грозу. Лицо Веласкеса казалось не то восковым, не то фарфоровым. Эстебан, дошагавший уже почти до угла Ла-Чампан, издали показался Алисии торопливой и несчастной черепашкой.
8
Тут она и вправду заглянула в колодец
Тут она и вправду заглянула в колодец, почувствовала, как дрожат пальцы, прижатые к закраине, а живот подводит, словно при падении. Перед ней открылась длинная черная кишка, которая, должно быть, вела куда-то в самые глубины; волосы на затылке жгли кожу, руки делали такие движения, будто она плыла в воздухе, пока вдруг в отверстии, похожем на дымоход, не показался опять все тот же бульвар — знакомые тротуары, стены домов-часовых, стоящих вдоль дороги. Она услышала собственные испуганные шаги, немного поколебалась и наконец решила подойти к стенам поближе, потрогать их, рассмотреть как следует детали, украшения, штукатурку. Теперь стены выглядели куда крепче, вернее, реальнее или материальнее, чем прежде, — ничего общего с недавним искаженным и размытым изображением — как облако в луже, — словно и проспект, и фронтоны, и уличные фонари, и роботы в витрине до сих пор оставались лишь беглыми эскизами и только теперь чья-то рука завершила рисунок, и он стал точным и четким.
Нынешний город ударил ее по всем пяти чувствам, разом притупив их. Чувства перестали справляться с тем, что им полагалось воспринимать и осваивать: город подсовывал рисунки на дверях, которые до нынешней ночи казались бессмысленными каракулями; он лоскутами швырял в воздух запах зеленых деревьев, которым обоняние Алисии прежде почему-то тупо пренебрегало; ребра зданий стали острыми и враждебными, как кинжалы; лица статуй покрылись морщинами и корчились в гримасах, хотя раньше эти лица выглядели невыразительными и однообразными, совершенно неотличимыми друг от друга; каждая из звезд, осыпавших нынче покров ночи, была не такой, как другие, то есть была единственной и не смогла бы затеряться среди изморози созвездий и светящихся окошек; тени от фонарей теперь уже не походили на грубые черные ошметки, у них возникли тонкие, газообразные оттенки — от серого до смоляного. Да и лаковые башмачки Алисии теперь куда ярче отливали металлическим блеском, сама же она в нынешнем сне бодрствовала как никогда раньше — и даже вдруг испугалась: а что, если тот, прежний, город в действительности уже исчез, преодолев все заслоны и ограждения, и она, не отдавая себе в том отчета, находится по другую сторону границы? Она совершенно трезво фиксировала каждую свою мысль — версии и догадки сменяли друг друга, иногда сливаясь, как тропки, безошибочно выводящие к главной дороге: если сон и бодрствование различаются только степенью четкости картин, то город по праву заслуживает, чтобы его причислили к преддверию верхнего мира, того самого, где существуют зубные щетки и кофе, а также ритуал утреннего завязывания галстука перед зеркалом. Она шла медленно, упиваясь звуком каждого своего шага и внимая многоголосому эху, которое подошвы ее туфелек будили, касаясь тротуара. Она остановилась перед окном и увидела там подвижные тени — тени курили и читали, кавалеры приглашали дам на танец. Алисия обследовала боковые улочки, о существовании которых раньше не подозревала и которые, покружив, привели ее в изначальную точку. Она прошла мимо Дворца Муз, обсерватории, академий и министерств. Кусая губы и не решаясь шагать быстрее — хоть и очень хотелось, — она наконец достигла огромной площади: площадь показалась еще больше, чем всегда, еще пустыннее и луноподобнее. Уходящие вдаль здания выглядели кладбищем бесконечных фасадов, где навязчиво повторялись все те же ровные цепочки окон и ниш — пока их не скрадывало расстояние. Она услышала змеиный свист ветра, почувствовала, как он играет своими острыми кинжалами у нее перед лицом. В центре площади ее ждал ангел — он напоминал монарха, принимающего наследников, претендентов на престол. По мере того как она приближалась, ангел вырастал, тяжелел, превращался в неподвижную черную птицу. Подойдя, она хотела заглянуть ему в глаза, но взгляд ангела был занят другим: он скользил поверх крыш и башен и тонул в ночи, словно посылал куда-то сигналы своей непостижимой воли. Алисия не чувствовала страха. Она произнесла имя ангела — Махазаэль, — четко выговаривая каждую букву, выбитую на знакомом пьедестале. Потом у нее опять закружилась голова — и ночь тоже закружилась перевернутой воронкой, куда постепенно втянуло все звезды; тут Алисия поняла, что ее настойчиво призывают в иное место. Она снова почувствовала на лице дыхание спящего зверя, и ее снова засосало в трубу. Упала она уже с другой стороны — в трясину простыней, и снова — горьковатый вкус слюны, снова переполненная пепельница. Глянув на красные цифры, она увидела, что было без четверти пять.
Алисия чистила зубы и потому не поспела вовремя — телефонный звонок застал ее со щеткой во рту, она спотыкаясь побежала по коридору, давя раскиданные по полу осколки, даже свалила со спинки дивана телефонный аппарат, но, когда схватила трубку, в ухо ей полетели только короткие гудки. Когда телефон зазвонил во второй раз, она была совсем рядом — сидела, соединяя, как головоломку, куски восточной вазы, — и потому трубку взяла тотчас, для чего ей понадобилось лишь протянуть руку. Но на другом конце провода отключились почти мгновенно, она успела услышать что-то вроде хруста скомканной бумаги — и опять короткие гудки. В третий раз телефон зазвонил, пока она была на кухне, и она нарочно пошла в гостиную медленно, совсем медленно, давая неизвестному шанс отказаться от своего намерения, прежде чем аппарат их соединит. На сей раз незнакомец трубку не бросил: перед Алисией повисло долгое молчание. Она дважды робко спросила, кто это, но слова летели в пустоту и никто их на лету не подхватывал; потом связь опять прервалась. Пожав плечами, Алисия вернулась на кухню, чтобы полить наконец свои конибры.
Три звонка подряд могли означать и просто ошибку, и, например, то, что уличный автомат глотает монеты, прежде чем успевает сработать механизм. Да что угодно! Но самая подозрительная часть ее натуры, вернее, тот двойник, который пробуждался в ней, по мере того как усиливались подозрения против соседей, стал нашептывать ей, скорее всего под влиянием примеров из кино: мол, звонить могли и ради того, чтобы проверить, дома она или нет, одна или нет. И от результата проверки будет зависеть дальнейшее развитие событий.
Алисия мотнула головой, отгоняя неприятные мысли, которые во всю прыть проносились у нее в черепной коробке, потом подставила цветочные горшки под кран. Да, верно, накануне вечером Эстебан опять что-то говорил о гипотетическом заговоре, а сегодня ей приснился непривычно четкий и внятный сон. В заговоре, как предполагалось, участвовали ее знакомые, вернее, соседи по подъезду, но цель заговора оставалась совершенно неясной, хотя и вообще вся эта история любому нормальному человеку должна казаться безумной и абсурдной. Да, именно безумной и абсурдной. Алисия закрыла кран и села за кухонный стол, нервно сунув в рот сигарету. Окно выходило во внутренний двор, туда, где, пересекаясь, тянулись бельевые веревки, образующие нечто вроде схемы воздушных путей. Из окна Нурии, расположенного этажом ниже, доносился звон воды, льющейся в какой-то сосуд. Алисия вспомнила, как она выглядела вчера у Нурии на кухне, какой балет устроила на столе, и почувствовала сложную смесь нежности и стыда: она не знала, заслуживает ли Нурия ее подозрений, но вместе с тем нельзя было не признать, что именно странное поведение Нурии толкнуло Алисию к окну в поисках путей спасения и спровоцировало мысль о бельевых веревках. Разум убеждал ее, что бояться тут нечего, что всю эту фантастическую интригу воображение Эстебана нарисовало под влиянием кошмарных книг, которые он с такой жадностью заглатывает, а весь заговор — не более чем мыльный пузырь, он сам по себе и лопнет. Жаль, конечно, что ей не хватает ума, чтобы соединить отдельные части происходящего в целую картину. Но в этот миг что-то, неподвластное велениям рассудка, приказало ей немедленно прекратить пустые мудрствования, взвешивание всяческих «за» и «против» и побыстрее покинуть квартиру. Она восприняла приказ, как воспринимают обещание или диагноз, — все случится именно таким образом, как кто-то наметил, и не иначе.
Она сунула в сумку сигареты, солнечные очки, французский роман, кошелек — даже не проверив, есть там что или нет, — потом долго давила на кнопку лифта, но та упрямо оставалась красной: пенсионер с шестого этажа любил проводить день, путешествуя вверх-вниз и болтая с соседями. В ожидании лифта Алисия задумалась об истинной причине своего бегства: а что, собственно, заставило ее спешно выскочить из квартиры — только ли желание уклониться от нежелательной и крайне неприятной встречи? Спускаясь неровным шагом по лестнице, она ответила себе на этот вопрос: надо во что бы то ни стало увернуться от таинственной руки, отвести от себя угрозу, выдернуть ногу из невидимого и еще не захлопнувшегося капкана. Алисия уже подходила к дверям, когда с легким шелестом остановился лифт и там, удвоенная зеркалом, стояла Нурия в знакомой кожаной куртке — словно кукла в коробке, из которой ее никак не решается вытащить юная хозяйка. Увидев Алисию, Нурия на миг окаменела, будто забыла о спешке, заставившей ее так стремительно распахнуть дверь лифта. Алисия сделала шаг навстречу, чтобы поздороваться, но тотчас поняла, что в пространстве между их взглядами пролегла трещина, что под соединяющий их мост подложен динамит.
— Привет, — сказала Алисия с фальшивой улыбкой актрисы из телесериала. — Куда ты?
— За сигаретами, — пробурчала Нурия, опустив глаза. — Ни одной не осталось, а я так работать не могу.
— Хочешь, дам тебе пачку?
— Нет, ты ведь куришь черный табак, это мне не годится. — Кривая улыбка червяком вползла ей
на губы, чуть оживив лицо. — Но благодарю тебя за любезное предложение.
В последней фразе прозвучала столь официальная и казенная вежливость, что Алисии захотелось влепить Нурии пощечину. Через стеклянную дверь было видно: день выдался холодным и ясным, ни одного облачка не застряло на небесах. Каморка консьержа пустовала; на столе лежал открытый журнал с портретом какого-то футболиста в белой форме; журнал терпеливо дожидался, пока Хосе кончит бегать по делам. Алисия и Нурия не могли разойтись, не сказав друг другу какие-нибудь слова, но слова сопротивлялись; казалось, с губ Нурии вот-вот, как с трамплина, сиганет ожидаемая фраза, но попытка не удалась. Губы только и сумели что прошептать:
— Пока, всего хорошего.
Сначала Алисия вовсе не собиралась изображать из себяшпионку, но ее продолжала грызть необъяснимая тревога, вызванная странными звонками; и никакими разумными доводами побороть беспокойство не удавалось. Ноги сами привели ее в бар, расположенный напротив дома; почти машинально она заказала кофе и анисовку, а потом выбрала столик, откуда через стеклянную стену хорошо просматривался подъезд, из которого она сама только что вышла. Через стекло просвечивала наклеенная картинкой наружу реклама картошки с каракатицей.
Она никогда еще не сидела вот так, разглядывая собственный дом, к тому же в весьма выгодной — и захватывающей — роли тайного наблюдателя, когда можно, словно скрытой камерой, фиксировать разные эпизоды — поведение людей и какие-то события — и когда все происходит естественно, так сказать, без оглядки на публику, без наигрыша. Она увидела, как в подъезд вошел мужчина с портфелем — и вроде бы узнала в нем соседа сверху. Увидела Хосе, сновавшего туда-сюда с молотками в руках. Увидела двух свидетелей Иеговы в душно-тугих галстуках. Увидела спускающуюся по лестнице Лурдес — и сердце у Алисии ёкнуло. Почему так получилось? Из-за абсурдных подозрений Эстебана она покатилась вниз по мерзкому откосу, бездумно швырнула в грязь накопленное за долгие годы доверие к людям, наплевала на их добрые слова, теплоту их рук, всегда готовых помочь, поддержать… Она спрашивала себя: неужели все, что она накануне вечером услышала от дона Бласа, было правдой и не приснилось ли ей это? Блас из ее прошлого и незнакомец, прижатый инспектором к стенке, были столь нее несовместимы, как лицо человека и попытка восстановить его облик в памяти. На дне чашки осталась лишь темно-коричневая жижа, когда Алисия, вдруг спохватившись, поняла, что Нурия слишком уж долго ходит за сигаретами — киоск расположен в двух шагах от дома. Алисии стало стыдно за свое любопытство: окружающий мир теперь представлялся ей не более чем сценой, на которой актеры разыгрывают некую пьесу. Беда в том, что на самом-то деле тот же спектакль продолжался и за пределами сцены, именно там развивалась подлинная интрига, распутывался драматический узел, правда если дело и шло к развязке, то никто не мог при этом присутствовать. В голове у Алисии вели борьбу, попеременно одерживая верх, здравый смысл и интуиция — так волны прилива снова и снова накатывают на берег, стирая следы, оставленные кем-то на песке. Благоразумие подсунуло ей несколько вопросов: почему, собственно, она не позвонила Эстебану, Марисе или Маме Луисе и не проверила: вдруг это они пытались до нее дозвониться? А может, заговор действительно существует и ей действительно следует на какое-то время покинуть свою квартиру? Но связаны ли с этим заговором предполагаемое преступление Бласа, спрятанный у Нурии ангел, сок Лурдес, а также сон Алисии и разгром в ее квартире? И почему заговорщики так долго кружат вокруг, не переходя к более активным действиям, и лишь время от времени показывают зубы? Чего ждут от нее, какого шага, чтобы начать атаку? Больше всего Алисию мучило состояние неопределенности: существует, в конце-то концов, этот заговор или нет? И участвуют ли в нем соседи?
Алисия глотнула анисовки и снова уставилась на подъезд. Пока она предавалась раздумьям, созерцая то кофейную гущу на дне чаши, то дым своей сигареты, на улице произошли некоторые перемены. Появился новый объект для наблюдения. К дверям приблизилась женщина, с ног до головы одетая в черное, и нажала кнопку на щитке домофона — номер квартиры Алисии. Алисия прищурилась, чтобы разглядеть получше: нет, никаких сомнений, каждые пять секунд рука в черной перчатке с явным нетерпением давила на кнопку с номером ее квартиры. Узнать женщину было практически невозможно: узкое, похожее на трубу черное пальто скрывало фигуру, черные очки скрывали лицо, а верхнюю часть лица скрывали поля черной фетровой шляпы. Женщина двигалась как тень, или как огромное насекомое, или как человек-невидимка из знаменитого фильма.
Вдруг Алисию словно ударило, и она поняла, что именно эта женщина трижды звонила ей по телефону, именно из-за этой женщины ей пришлось убежать из дома. Она почувствовала внезапный прилив храбрости и тотчас потеряла всякий интерес к анисовке и сигарете. Ее зеленые глаза снова устремились через дорогу и булавками впились в черную женщину, которая, покрутив головой по сторонам, опять стала жать на кнопку и вообще вела себя настороженно, как человек, который боится преследователей. Женщина, одетая во все черное да еще тщательно скрывающая свою внешность! Это же просто икс в квадрате, порожденный сном Алисии. Несомненно, во всей этой истории с самого начала подспудно присутствовала какая-то женщина — Хичкок в фильме Хичкока, который едва промелькнул в кадре, но на самом деле именно он плетет главную интригу. Женщина звонила Бенльюре в гостиницу, женщина звонила Бласу с просьбой срочно зайти к антиквару, женщина в рыжем парике приходила сюда и выдала себя за Марису. А ведь и Заговорщики объединялись вокруг женщины, вокруг папессы, любовницы сатаны. Кажется, именно женщина и здесь является ядром загадки, сердцевиной тайны. И может, именно вот эта женщина в черном, за которой, затаив дыхание, наблюдала теперь Алисия и которая, с подозрением осмотревшись, поднялась на три ступеньки и вошла в холл.
Решение созрело в возбужденном мозгу Алисии, прежде чем пепел с сигареты упал в чашку с остатками кофе. Она, не глядя, достала из кошелька несколько монет, расплатилась и вышла на улицу, сразу получив удар металлически-холодного ветра в лицо. Перебегая через улицу, она налетела на какого-то студента с папкой в руке, тот огрызнулся; она промчалась мимо комнатки Хосе, который возвращался с кучей отверток. Он поднял руку в знак приветствия. Но Алисия думала об одном: надо проверить, не на ее ли этаж поднялась женщина в черном и не придется ли им и дальше — до самого финала — разыгрывать назначенные фортуной роли преследователя и жертвы. Лифт оказался свободным, но Алисия побоялась попасть в плен к этому продолговатому ящику и упустить столь важную для нее встречу с таинственной женщиной. Перескакивая через ступеньки, она понеслась вверх. Кровь стучала у нее в висках, голова сделалась пустой, как магнитофонная лента, с которой стерли запись. Тишина, вечное мгновение тишины. Будущее Алисии, любые планы теперь зависели от скорой встречи с незнакомкой. Дальше этого воображение Алисии не шло, она понятия не имела, что может случиться за пограничным столбом, который охраняла загадочная черная фигура. Грудь Алисии хрипела, как разбитый аккордеон, когда она остановилась, чтобы оглядеться и прислушаться. Дверь ее квартиры была, как и положено, закрыта, не видно было ни Лурдес, ни другого соседа, вокруг царила гнетущая обстановка абсолютной нормальности. Все как обычно. Последние ступени Алисия одолела в крайнем волнении, ожидая врага за любым углом, ведь врага способны породить даже огромные мрачные тени, падающие на пол и на стены от висящей под потолком лампы. Алисия застыла перед своей дверью и, затаив дыхание, прислушалась, но полная тишина там, внутри, только усилила ее тревогу. Женщина могла стоять на верхней площадке и следить за тем, как Алисия поднимается по лестнице, могла выйти на плоскую крышу… А если она шла к своей подруге и вовсе не к Алисии, номер же квартиры — просто ошибка?.. Тем не менее Алисия действовала будто по велению неведомой силы; она достала из кармана ключ, вставила в замочную скважину, потом медленно повернула ручку двери — и все это, не отрывая взгляда от сине-желтой циновки. Та же необоримая сила заставила ее поднять голову и через полуоткрытую дверь обежать взглядом кухню, потом холл с созвездиями черепков и осколков на полу. Алисия шагнула вперед, и под ее ногой голосом простуженной лягушки хрустнуло стекло. Солнечный свет бил в балконную дверь, отчего резко вырисовывались очертания дивана и перевернутого вверх ногами кресла, а еще — человеческой фигуры, женской, если судить по округлым бедрам. Женщина держала в правой руке что-то тяжелое. В голове у Алисии стремительно пронеслось: это была она, она вошла в квартиру, и надо с ней поговорить, хотя легко было угадать, какую именно вещь она держит в руке. Услышав скрип двери и писк раздавленного стекла, женщина медленно обернулась в сторону холла. Благодаря солнечному лучу, падавшему теперь ей на руки, стало видно, что держит она какой-то черный металлический предмет. Больше Алисия заметить ничего не успела, в мозгу у нее от страха и неожиданности словно случилось короткое замыкание, сердце подпрыгнуло, и она выскочила из квартиры. Ей почему-то пришло в голову, что если побежать вверх, а не вниз, это даст шанс на спасение. Она бежала по ступеням, не щадя ног, не замечая боли, забыв обо всем. В таком беге повторялись самые жестокие из детских кошмаров: как кто-то преследует ее по лабиринту лестниц, которому нет конца, и за спиной звучат размеренные шаги, они вроде бы и не принадлежат конкретному человеку, а являются знаком присутствия рядом чего-то невыносимого, смертельно опасного, поставившего себе целью уничтожить ее. И точно так же, как в тех давних снах, она услышала сзади звук шагов — двумя или тремя пролетами ниже чьи-то каблуки стучали по плитам, кто-то гнался за ней. Перегнувшись через перила.. Алисия различила черную женскую фигуру, которая, приняв правила игры, продолжала исполнять роль охотника, преследующего добычу. Алисия почувствовала, что от страха мысли ее в панике разбежались, но, к счастью, сила в ногах сохранилась.
Ведущая на крышу желтая металлическая дверь была открыта; запор еще много лет назад покорился натиску ржавчины. Алисия толкнула дверь и очутилась среди антенн и башенок, на асимметричной шахматной доске из красных плиток, мокрых после недавнего дождя. Алисия бежала, словно ее подгоняло тайное желание взлететь — как только впереди закончатся плитки. И тут она поскользнулась. Тотчас серая боль разлилась по ноге и под ребрами. У Алисии перехватило дыхание. Краешком глаза она успела заметить, как сверху на нее кидается черная тень. Алисия хотела отползти в сторону, но не смогла. Тогда она закрыла глаза и увидела Росу с косичками, стоящую в холле, — тот образ, что с фотографической точностью застыл в памяти. Она хотела раствориться в родном лице, прежде чем навсегда покинет этот мир.
Она почувствовала, как чья-то рука без перчатки цепко тянет ее за плечо; почувствовала, как ее поднимают, хотя мускулы не хотят слушаться. Почувствовала, как рука сделала робкую попытку погладить ее по голове. Потом вернулась боль в ноге и боку. Голос, легким ветерком долетевший до слуха, окунул Алисию в мечты об уютной колыбели с чистыми простынями, пахнущими лавандой, запахом которой пропитаны ящики, где хранится белье.
— Алисия, ты что, с ума сошла? Ты чуть не сиганула вниз!
Длинные черные пряди Марисы в беспорядке падали на отвороты черного пальто, черные глаза с ужасом смотрели в лицо Алисии, которая не знала, радоваться ей или тут же сгореть со стыда. Она позволила поднять себя и уже сама поковыляла к шесту, поддерживающему бельевую веревку; соседские простыни колыхались на ветру. Мариса протянула ей сигарету. Алисия покорно приняла; потом Мариса поднесла ей массивную металлическую зажигалку — ту самую, что в предательском луче балконного света показалась Алисии стволом пистолета. Алисия засмеялась, выплеснув с этим слабым смехом всю душившую ее тоску, затем с удовольствием, какого давно не испытывала, затянулась и только тут осознала всю нелепость ситуации: Мариса угощает ее сигаретой? Мало того, пока Алисия созерцала тянущееся до самого горизонта кладбище антенн и башенок, Мариса тоже закурила «Коибру».
— Прости, Алисия, прости ради бога. — Мариса глотнула дым, но даже не поперхнулась. — Я звонила тебе по телефону… Потом пыталась связаться через домофон, ты не отвечала. Пришлось открыть дверь ключом, который ты мне когда-то дала. Нам надо поговорить, нам надо поговорить…
Голос ее мелко дребезжал и едва не сбивался на плач, но нет, сейчас Мариса сдерживалась, не давала воли слезам, а вот совсем недавно… У Алисии мелькнула мысль, которую она старательно гнала прочь, мысль о том, что подруга слишком уверенно пользуется ее ключом, и где гарантия, что это не Мариса побывала здесь несколько дней назад, не она разгромила квартиру… Но вокруг Алисии роилось так много вопросов, не имеющих ответов, что добавлять к ним еще один было бы полной глупостью, хотя казалось, что Мариса, сидевшая напротив с сигаретой в дрожащих пальцах, готова немедленно ответить на любые.
— Я знаю, что у тебя сразу возникла куча вопросов, Алисия. — Мариса старалась не глядеть ей в глаза. — Например, почему я явилась к тебе в таком наряде и… в таком состоянии?
— Да уж, — без тени сострадания отозвалась Алисия.
— Сама видишь: я курю. — Мариса затянулась. — Это я-то! Сколько раз я промывала тебе мозги, твердила о страшном вреде табака, а теперь вот не могу обойтись без сигареты. Мне это просто необходимо, нервы и все прочее… Стащила пачку у Хоакина, как только он отвернулся, и убежала из дома, а то кинулся бы за мной следом. Последние два-три дня он ведет себя настороженно, явно что-то заподозрил и в буквальном смысле глаз с меня не спускает. Думаю, он все знает. Я звонила тебе из дома, но он крутился рядом, и я не могла ничего сказать. Потом напялила на себя все это черное 6арахло — да, и шляпу с очками, — чтобы никто меня не узнал. Мне было нужно непременно встретиться с тобой, но так, чтобы никто не догадался, что это я. Бедный Хоакин!
— Мариса! — Алисия говорила строгим тоном и при этом смотрела сурово, как смотрят при самом серьезном разговоре. — Что происходит?
— Сегодня утром я услышала по радио, — голос Марисы снова задрожал, потом стал текучим, — что убили Рафаэля Альмейду.
— Да, убили. И что?
Собственно, ответа уже не требовалось, и без него все было понятно. По молчанию Марисы, по ее сдавленному голосу стала понятна причина как отчаяния Марисы, так и подозрительности Хоакина, стало понятно, почему ей не приносило душевного успокоения увлечение такими далекими от реальности и абстрактными вещами, как астрология или различные теории здорового питания. Она не могла родить ребенка и искала ему замену вдали от семейного очага. Алисия припомнила: она ведь от кого-то слышала, будто Мариса с Альмейдой были знакомы. Мариса пользовалась его услугами, и время от времени на стеллажах в ее квартире появлялись скандально дорогие вещи, которые на свои собственные деньги Мариса приобрести, безусловно, не могла. Алисию не задела скрытность подруги, хотя та утаила от нее часть своей жизни, и вот теперь тайное вдруг стало явным. Алисия уже привыкла, что к ней относятся как к неразумной девчонке и не доверяют секретов, считая, что она еще не достигла внутреннего совершеннолетия и потому не может некоторые вещи переварить. Но теперь ее волновало не прошлое, а настоящее, куда более тревожное, ведь это оно, настоящее, оставило у нее на бедре и боку фиолетовые метки.
— И когда это случилось?
— Два года назад, — всхлипнула Мариса и отшвырнула сигарету. — Только не спрашивай, лучше он был Хоакина или хуже. Нет, конечно, не лучше. А может, все-таки лучше. Просто я не находила в себе сил, чтобы отказаться от того или другого, а теперь судьба решила проблему за меня.
— Как все началось?
— Помнишь фарфоровый кувшин с двумя ручками у меня в гостиной? Я его купила у Альмейды. Ты ведь знаешь, я всегда сходила с ума от старинного фарфора. Рафаэль доставал для меня кое-какие вещи и всегда был подчеркнуто внимателен. Ну как тебе объяснить? Хоакин, он ведь очень добрый и покладистый, но порой мне кажется, что я для него все равно что мебель. А Рафаэль водил меня ужинать, однажды мы даже совершили тайное путешествие, можешь себе представить…
— Представляю, — скромно потупилась Алисия.
— И сейчас мне было совершенно необходимо рассказать тебе обо всем, Алисия, излить душу. Ведь когда я сегодня утром услышала о случившемся, у меня вот здесь, в груди, что-то заледенело. Я думала, что задохнусь, не выживу, а Хоакин смотрел так, будто я захлебнулась кофе. Для меня это было как удар кинжала. Прости, что я столько времени скрывала от тебя…
— Ничего, переживу…
— Спасибо! — Мариса сжала руки Алисии, которые оказались не такими теплыми, как она ожидала. — Да, разумеется, я должна была рассказать тебе раньше. Но мы с ним договорились держать наши отношения в тайне, в тайне ото всех. И дело не только в Хоакине. Поэтому мы почти нигде не показывались вместе: только иногда на улице, изредка, как я уже сказала, ужинали в ресторане или ходили в кино. Лучше было сохранять все как есть, ничего не меняя.
— И тебе это удавалось? — с большим сомнением в голосе спросила Алисия. — Я хочу сказать, удавалось каждого из них двоих поместить в отдельный ящичек и не давать им оттуда высовываться?..
— Да, понимаю, что ты имеешь в виду. — Искра недоверия мелькнула в глазах Марисы. — Тебе кажется противоестественным и даже отвратительным, когда вот так делят свою жизнь: вилки с одной стороны, ложки — с другой, и чтобы не смешивались, все на положенном месте, ничто не должно нарушать благопристойного и приятного течения жизни; мерзкое равновесие, никакого холестерина, никаких эксцессов, никакой путаницы — все безупречно с гигиенической точки зрения, все только с анестезией.
— Это ты теперь так говоришь, — попробовала возразить Алисия.
— Да, разумеется. Я свое отплакала, и с меня довольно, больше не буду. Я даже не знаю, положено мне было плакать или нет, и что в таких ситуациях велит любовный протокол. Да и вообще: из-за кого я рыдала? Из-аа него, из-за Хоакина, из-за самой себя? И прошу тебя, Алисия, хотя это и так понятно: пусть весь наш разговор останется строго между нами.
— Разумеется.
Алисия не нашла, что еще добавить. Она чувствовала, что привычные слова утешения слишком истерты, они похожи на грязные носовые платки; и лучшим выражением душевного сочувствия будет молчание. Она мягко погладила Марису по черным волосам, но жест получился неискренним, фальшивым. Потом улыбнулась. Теперь Мариса жаждала задать ей кое-какие вопросы.
— Это и вправду сделал дон Блас? — Голос Марисы продрался сквозь хрипоту. — В сегодняшней газете названа фамилия и первая буква имени подозреваемого. Это он?
— Не знаю. Но его допрашивали.
— Ирония судьбы. Это ведь я свела их, хотя мне с Бласом и разговаривать-то почти не случалось. Он спросил у меня совета по поводу какой-то вещи, которую хотел оценить, — о чем шла речь, я до сих пор так и не знаю. Я направила Бласа к Рафаэлю, а Блас его потом убил. Получается, что в некотором роде я к этому причастна. Правда? Я соучастник убийства.
— Перестань.
Рука Алисии опустилась на плечо Марисы, но теперь рука была куда теплее и заботливее, чем несколько минут назад. Они дошли до лестницы. Сегодня им очень пригодилась бы настойка пальма-дель-принсипе.
Было много причин, делавших для нее непереносимым обязательный субботний визит в маленькую квартирку на улице Франкос. И дело было не только в том, что приходилось несколько часов с неподвижностью статуи просиживать там и, пока остывает кофе и идет к концу очередная часть телесериала, нести вахту при вросшем в диван сухом теле старухи, дышавшей мучительно и надсадно, как ящерица. Конечно, пора было привыкнуть и не обращать внимания на многие отвратительные детали, но квартира свекрови буквально отравляла Алисию россыпью нестерпимых мелочей, отчего субботние посещения неизбежно превращались в крестную муку, хотя трудно сказать, что именно заставляло ее туда ходить — сострадание или мазохистская сторона ритуала. Она помнила, как и в ту субботу тоже прокручивала все это в голове, поднимаясь пешком по лестнице и готовясь войти в прихожую, страшную прихожую, где, словно удар хлыста, ее сразу встречало лицо Пабло с фотографии на консоле, лицо, пересеченное давнишней летнеотпускной улыбкой. Она поднималась по ступенькам, держа руку на перилах — металл был холодным, бедро болело тянучей болью, — опять и опять спрашивая себя: что питает эту необъяснимую инерцию, приказывающую послушно выполнять график визитов, садиться на диван, вытканный маками, подсолнухами и черт знает чем еще, и старательно отводить взгляд от того места, где притаилась другая фотография, словно случайно затерявшаяся среди видов Парижа, рядом с групповым портретом крепких молодых людей в мантиях. Потому что эта другая фотография гораздо в большей степени, чем та, из прихожей, являла собой символ жестокости, открытое объявление войны, покушение на израненное и агонизирующее терпение Алисии. Старуха, жизнь которой была заполнена умершими — видимо, они и научили ее жгучей ненависти, — отлично знала, что Алисия убрала из дома все фотографии Росы, набила ими мусорный мешок, чтобы не увязнуть в болоте памяти; Алисия не в силах была вынести присутствия этого лица и этих глаз, заключенных под стекло, в рамку и словно изчезнувших под водной гладью озера, по которой можно изредка скользнуть кончиками пальцев. Тем не менее Мама Луиса непременно ставила фотографию на полку перед энциклопедией, рядом с медными часами, застывшими на четверти шестого. Видно, она хотела напомнить Алисии — со всей жестокостью, на какую была способна, — что девочка, или призрак девочки, все-таки продолжает наблюдать за ней из неведомого далека, упрекая за стремление все забыть. Поэтому Алисия, после двух ритуальных поцелуев, передав Маме Луисе полдюжины бисквитов для диабетиков, выбирала кресло, в котором можно было расположиться спиной к книжным полкам, хотя потом, чтобы глянуть на экран, ей приходилось тянуть шею и выворачивать спину. До поры до времени она сидела, уставившись на балкон и на горшки с цветами. Мама Луиса обожала конибры и знала, что у Алисии они прекрасно растут, а вот у нее, театрально причитала она, когда она пару раз пыталась их завести, цветы не жили больше двух недель. Алисия каждый раз повторяла, хотя и не была уверена, что старуха ее слушает, что главное тут — любовь и забота.
— Мама, вы должны поливать их и ласково с ними разговаривать, они понимают, когда их любят. И очень к этому чувствительны. Как только заметят недостаток внимания, сразу гибнут. Сами морят себя голодом.
Наверняка, подумала Алисия, цветы чувствуют: жизнь требует определенного минимума теплоты — иначе не стоит цепляться корнями за землю в горшке, жизнь не должна зависеть от капризов судьбы. Сама Алисия не решалась прибегнуть к таким же радикальным мерам — скажем, уморить себя голодом, но в то же время отказывалась опереться на руку, которая страстно мечтала поддержать ее, приласкать, защитить от ненастья. На руку Эстебана, разумеется. В тот вечер он появился без десяти семь, то есть с получасовым опозданием, в еще не просохшей со вчерашнего вечера куртке. По глазам его было видно, что его зацепила какая-то мысль. Он подошел поцеловать Маму Луису. Алисия коснулась пальцами его затылка, и этот непонятный жест можно было равным образом принять и за ласку, и за упрек.
— Простите за опоздание, детки. — Эстебан поправлял ворот рубашки, после того как снял куртку и сунул ее в таз. — Я от часовщика, кажется, этому негодяю потребуется не меньше двух лет, чтобы починить папины часы.
— Просто эти часы давным-давно пора пришлепнуть чем-нибудь тяжелым, — засмеялась Алисия, — а ты все ждешь чуда.
— Я знаю из достоверного источника, что этот самый часовщик в самых безнадежных случаях умудрялся спасать часовые механизмы. — Эстебан явно не хотел уточнять, кто был этим «достоверным источником», — Часовщика зовут Берруэль. Его мастерская стоит на площади Пан, и внутри там вечно пахнет серой. Это недалеко от антикварной лавки, сама знаешь какой. Хочешь кофе?
Желудок Алисии едва справился с предыдущей порцией, но Эстебан так красноречиво двигал бровями, что она поняла: поход на кухню был совершенно необходим. Прихожую она пересекла, держа в руках две чашки и не глядя по сторонам. Эстебан ждал ее у стола, задумчиво посасывая сигарету. Воротник рубашки по-прежнему топорщился, хотя Эстебан всего минутой раньше старался найти ему нормальное положение между шеей и горловиной свитера. Алисия, как заботливая мать, поправила воротник. Прежде Эстебану случалось видеть, как она точно с таким же выражением лица одергивала форменное платье на Росе, когда та собиралась в школу. Обычно так исправляют недостатки в наряде манекена или куклы, чтобы затем приступить к облачению человека — то есть существа, которое дышит, плюется и пачкается. У него эта внезапная близость — когда Алисия оказалась совсем рядом — вызвала спазм в верхней части желудка. Хотя, разумеется, любая близость может быть использована и для того, чтобы побольнее укусить, царапнуть, но он заподозрил в этом многозначительном жесте тайную стратегию. И еще он сравнил его с выстрелом в упор.
— Это ты что, под дождем так вчера промок? — спросила она неожиданно, полоснув его взглядом.
— Да ерунда, не о чем говорить, — ответил он, отступив на шаг. — Куртка, правда, до сих пор не просохла — ты сама видела… Я добрался нормально, уложил маму, лег сам, но никак не мог заснуть.
— Не мог заснуть? — Эта новость, казалось, пробудила в Алисии потребность что-то сказать. — А вот я спала, Эстебан, и снова побывала там, внизу.
— В городе? — Эстебан опять шагнул к ней и теперь стоял так близко, что чувствовал запах кофе, шедший от ее губ.
— Да, — ответила она рассеянно. — Но он был гораздо отчетливее и понятнее, чем всегда. Я прекрасно все разглядела, как вот сейчас вижу тебя и словно я на самом деле не спала, а бодрствовала. После стольких бессонных ночей — вот это.
— Сок, — сказал Эстебан, жадно затягиваясь, — Ты обнаружила что-нибудь новое?
— Нет, то же, что и раньше, но теперь было куда больше деталей. Как ты думаешь, каким образом эти сны приходят ко мне?
— А может, прилетают, а не приходят?
—Да. — Она с грохотом поставила чашки в раковину и ударом каратистки открыла воду, — Вчера вечером ты сказал, что, вероятно, существует связь между тем фактом, что мои соседи вроде бы входят в секту Заговорщиков, и тем, что мне начал сниться проклятый город. Ты думаешь, я прервала чей-то праздник или нечто подобное? Что я ворвалась в чужие владения, хотя меня туда не звали?
— Что-то в этом роде.
— Ты сейчас скажешь, что я несу полную чушь, — Алисия с остервенением терла ручки у чашек и отмыла их до безупречного блеска, — но если мы хотим разгадать сны, наверное, надо обратиться к специалисту.
— К психоаналитику? — Эстебан выбросил окурок — Мне казалось, Мамен уже настроила тебя против злокозненного доктора Фрейда.
— Ты не понял. — Чашки едва не выскользнули у нее из рук. — Я говорю о гадалке. Мариса недавно оставила мне карточку: хиромантия, картомантия, ониромантия, папамантия и пипимантия… Это на Аламеде, можем прогуляться.
— Ага, только чур, уговор, ты пойдешь туда одна, без меня, — бросил Эстебан, стоя уже у двери рядом с календарем, на котором красовалась фотографил Альгамбры. — А я тебе лучше кое-что покажу.
Мама Луиса продолжала неотрывно следить за картинками, мелькающими на экране (мужчина и женщина обменивались пощечинами после жадного и совершенно чудовищного поцелуя), поэтому она не заметила, как Эстебан с Алисией быстро пробежали из холла в прихожую, где двумя параллельными рядами висели натюрморты-бодегоны — снедь и трупики серых птичек, которые, на взгляд Алисии, могли быть и куропатками, и голубями. Она не последовала за Эстебаном в его комнату, расположенную в конце коридора, откуда он вскоре появился с мятой бумажкой в руке. Он протянул лист Алисии; свет, бивший диагонально из гостиной, едва позволял различить непонятный набор имен и значков-стрелок.
— Завтра утром я еду в Лиссабон, — сообщил Эстебан, стараясь, чтобы его голос звучал тише голоса красавицы из телевизора, которая клялась, что уходит навсегда. — Я собираюсь встретиться с Себастиано Адимантой.
— В Лиссабон, — повторила Алисия таким тоном, словно угадала, кто на самом деле скрывается под масками волхвов,
— Посмотри сюда. — Он ткнул пальцем в самую середину скомканного листка. — У нас есть надписи с трех пьедесталов, не хватает одной. Последний ангел, как стало известно, находится в Лиссабоне, но я не могу попросить, чтобы мне прислали текст по факсу.
Напрягая глаза и пытаясь выдавить темноту в коридор, она обнаружила, что три строки, криво нацарапанные на листке, она уже видела:
ט.azazЁl.ע.hvmanaqve.
HOMINES.TESTIDRV.AETAESME.
IN.INSAENE.EVMOTE…
ש.AZAEL.בDENTE.DRACO.TGIVGERED.
ROAGD.MGEGD.MVTEE…
ל.MAHAZAEL.םMAGNA.PARTE.
BISSCSV.VEISEI.PIIEISEIOETI.ISSIE…
— Нам недостает главной части текста, — сказал Эстебан, поглаживая подбородок. — Но есть одно звено, которого мы до сих пор не заметили, потому что вели себя как настоящие ослы, — это звено не очень многое прояснит, но может навести на след. Посмотри, из чего состоит каждая надпись: еврейская буква, имя ангела, непонятный нам значок, два латинских слова, потом пять — на языке, который напоминает кукареканье, и наконец — фрагмент на греческом.
— Да, все так. — Мятая бумажка дрожала в руке Алисии.
— Два слова латинских. — Он посмотрел на нее, словно хотел заглянуть под ресницы, — Не узнаешь? Они тебе совсем ничего не напоминают? «Humanaque hominess, dante draco, magna parte». Это начало трех последних строк из стихотворения, которое ты отыскала в книге — там, где дракон пожирает собственный хвост. Помнишь?
Что-то заискрилось у нее в мозгу, и Алисия вспомнила гравюру: круглое скользкое чудовище словно ползет по пыльной, покрытой трещинами земле на фоне страшных развалин. Рукой Эстебана стихи были переписаны на листок, следом шел загадочный перевод на испанский: «Dira fames Polypos docuit sua rodere crura, / Humanaque homines se nutriisse dape. / Dente Dracocaudam dum mordet et ingerit alvo, / Magna parte sui sit cibus ipse sibi.».
— "Голод ужасный научил Полипоса пожрать свои ноги, — прочитала она, пробуя на вкус каждое слово, будто экзотическую приправу, — а людей научил питаться собственными внутренностями. Дракон кусает свой хвост зубами и заталкивает в брюхо, чтобы насытиться большей частью себя самого». Значит, существует связь между этими строками и надписью на пьедесталах.
— Да, с той надписью, которая одновременно является и заклинанием. — Эстебан порылся в карманах в поиске пачки сигарет, но она осталась на кухне. — Игнасио да Алпиарса и Ашиль Фельтринелли подружились в Лиссабоне. Последний еще в Италии руководил знаменитой сектой Заговорщиков, в то время как да Алпиарса молился дьяволу, чтобы спасти своего носорога. Оба принадлежали к секте, поклонявшейся сатане, при этом главной там была некая таинственная женщина — папесса. «Mysterium Topographicum» — детальное описание города, который неизвестно, существовал или нет; но Заговорщики уверяли, что собрания их проходили именно там. В городе имеется четыре площади с четырьмя ангелами, потом да Алпиарса сделал точно таких же ангелов и четыре разных надписи на пьедесталах. Теперь мы выяснили, что тексты включают в себя — по крайней мере частично — строки из стихотворения, завершающего книгу Фельтринелли.
— То есть все точки связаны между собой, — сказала Алисия, быстро рисуя в воздухе какую-то непонятную геометрическую фигуру. — Что-то вроде круга.
— Кольцо — это дракон, — ответил Эстебан, и глаза его вдруг засверкали. — «Dente Dracocaudam dum mordet et ingerit alvo». Почему текст на пьедесталах отсылает нас именно к этим строкам? Да и вообще, что значит само стихотворение? Научил людей «питаться собственными внутренностями». Каннибализм?
— Дурак. — Она улыбнулась, и давящее напряжение, которое успело повиснуть в воздухе, ослабило свои канаты. . — Итак, ты отправляешься в Лиссабон и оставляешь меня одну?
— Дня на три-четыре, не больше. — Пальцам Эстебана требовалась сигарета. — Я хочу увидеть Адиманту, поговорить с ним, поглядеть на ангела. Судя по всему, Адиманта — специалист по оккультизму, возможно, он что-то знает о Фельтринелли или да Алпиарсе. Что касается поездки, то Лиссабон — город дешевый, и я свободно могу потратить часть того, что накоплено на квартиру. А ты, надеюсь, позаботишься о маме.
Тут настал момент, когда нужно было что-то сказать, вбить клин, который закрепил бы возникшую щель, чтобы потом эту щель можно было расширить — и она станет вентиляционной отдушиной. Еще с того самого утра Алисия знала, что ее будущее предрешено, что ей суждено преодолеть глухую и давнюю неприязнь, которую внушал ей Эстебан в роли наследника Пабло. Замена была явно не равноценной.
Да, разумеется, Эстебан — не более чем продолжение Пабло, с теми же недостатками, но и с теми же гарантированными достоинствами. И хотя сердце ее протестовало, по-прежнему бунтуя против такого решения проблемы, альтернативы, по сути, не было, вернее, она была неприемлемой, потому что альтернатива — это одиночество, воспоминания, мрак, конец. Алисия должна кинуться в объятья Эстебана, хватит капризничать, она ведь не избалованная крошка, — ах, я не люблю горох, подайте мне шоколаду! — и, выбрав Эстебана, не совершит никакого предательства; Эстебан желает ее, хочет убаюкать и жаркими пальцами коснуться кожи под волосами. Надо прямо сейчас… Но как только губы Алисии начинали приоткрываться, как только истерзанная воля начинала подталкивать ее к стоящему напротив мужчине, словно из-под земли вырастал непреодолимый барьер, глухая стена; а биться об эту стену — все равно что спорить с тем, что дважды два — пять. И она замерла на месте и даже нашла какие-то слова:
— Знаешь, я хочу, чтобы мы поговорили, когда ты вернешься, — выдавила она, сгорая от смущения.
Он с улыбкой глянул на нее. А может, это был луч света, добежавший к ним из гостиной, неверный и изменчивый, этот луч, скорее всего, и нарисовал улыбку на его губах. Эстебан погладил ее по щеке кончиками пальцев, как гладят плюшевую игрушку, потом целомудренно поцеловал в щеку. Потом возвратился на кухню — его легкие уже давно жадно молили о новой сигарете.
9
Что-то в нем с благодарностью откликнулось на новую встречу
Что-то в нем с благодарностью откликнулось на новую встречу, стоило ему почувствовать тот же пыльный запах плюша и дешевого освежителя воздуха, который защищал дом от других, более постыдных запахов, например, от запаха прошлого, источаемого изъеденной жучком древесиной, ветхими простынями, или запаха горелого жира, на котором готовили самые разные блюда на узкой кухне под крышей — вернее, в чулане с потрескавшейся плиткой на стенах. Словно следуя маршрутом, подсказанным памятью, Эстебан вознамерился попросить ту же комнату, что и прежде, — четырнадцатый номер, с окнами, выходящими на центр площади, где храбрый Жоан I держит в руках жезл, похожий на жезл мажореток. Хозяйка тоже осталась прежней, и она не воспротивилась его капризу. И хотя в номерах двадцать третьем и тридцатом имелась большая ванна, спасающая от необходимости маяться в тесном саркофаге душевой кабинки, хозяйка все же вручила Эстебану ключ, но с таким видом, будто сдавала осажденный город. Это была огромная и пасмурная женщина с отекшими руками и все той же вечной бородавкой над небритой губой. Эстебан поднялся на второй этаж, убедившись, что лестница была такой же горбатой, скошенной вправо, словно ее изуродовали шаги сказочного великана. Потом Эстебан пересек коридор, где смешение запахов было явственнее и острее, и добрался до нужной двери. Казалось, запас воспоминаний успел иссякнуть, когда он, держа в одной руке чемодан — смена белья, долалгиаль (на всякий случай), непременная книга, которая ляжет на край ночного столика, чтобы на ней почивали пачка сигарет, кошелек и какая-нибудь открытка, — другой рукой вставил ключ в замочную скважину и повернул. Но, распахнув дверь в комнату, он понял, что в голове у него замелькали какие-то образы, прямо-таки рванули из небытия, как собачья свора. Обычно память заставляла его прилаживаться к подобного рода симметрии, хотя никакого смысла в ней давно не осталось и подобные картинки были все равно что литургия для человека, не верящего в таинство. Он находил мрачное удовольствие, сравнивая былое счастье с нынешним растерянным блужданием, и прикидывал, какая чаша весов перетянет. Он подошел к большому окну, раздвинул портьеры и тотчас вспомнил огромную новогоднюю елку, которая тогда, пять лет назад, высилась на площади, заслоняя памятник Жоану I, теперь же лучше всего был виден нагло выставленный круп коня. Он уже давно не вспоминал Эву, наверное, потому, что этот закуток памяти не стоил того, чтобы туда хоть изредка заглядывать, но сегодня, едва сойдя с поезда около семи утра, когда робкий рассвет неуклюже пробивался сквозь гигантские стойки моста 25 Апреля, он понял, что нынешний краткий визит пройдет под знаком былой любви, тех двадцати пяти уютных и скучных месяцев, которые они провели вместе и которые она решилась завершить, поставив точку в тот самый день, когда на нее снизошло просветление. Иначе, с улыбкой подумал Эстебан утром, эта благостная рутина так и тянулась бы: столики с жаровней, фильмы, наугад выбранные в видеоклубе, Биттер Кас и каждый год в январе — непременные оздоровительные, профилактические и гигиенические рождественские каникулы. Он мысленно поблагодарил Эву за то, что она перерубила узлы на веревке, которая связывала их, хотя оба они чем дальше, тем меньше желали сохранять эти путы. Потом еще несколько месяцев он с приближением сумерек чувствовал какую-то пустоту, но весьма скоро свыкся с мыслью: ему нужна совсем другая женщина — похожая на ту, что украл у него брат. Эстебан тряхнул головой, отгоняя побежавшие по запретной дорожке воспоминания, и решил заняться чемоданом. После чего необходимо было наметить план действий на день. Грудь у него болела от выкуренных сигарет, а вот большой усталости не ощущалось. В поезде Эстебана всю ночь баюкали непоседливые воспоминания, и всякий раз, как перед глазами всплывало некое лицо, он ощущал яркие вспышки надежды. Рассвет открывался перед ним старым морским пейзажем Тернера с серыми силуэтами и туманом, пока он ехал на такси по авениде Рибейра-дас-Наус в гостиницу «Фанкейрос», и за окошком просыпался Лиссабон, усталый и грязный Лиссабон. Наверное, следовало проявить заботу о своем организме и дать ему чуть-чуть отдохнуть, иными словами, остаток утра — а теперь едва пробило восемь — посвятить сну; но Эстебану не терпелось поскорее заняться загадками, которые привели его в этот город, город прошлого. Потому что Лиссабон казался городом, который пребывал в прошлом. Во всяком случае, нечто подобное Эстебан где-то прочитал.
В cafetaria, где он проглотил неаполитанскую пиццу и кофе со вкусом смолы, стены были, словно татуировкой, разрисованы детскими картинками — изображениями башни Белен и портретами графа де Помбала[391], которые в некотором усредненном варианте непременно украшали и все туристические путеводители по городу. Пытаясь приноровиться к непривычным монеткам, Эстебан с трудом отсчитал нужную сумму за завтрак и положил на стойку, потом на португальском, перемешанном с латынью и итальянским, попросил телефонную книгу: он хотел проверить адрес, указанный ему Альмейдой. Официант, научившийся понимать причудливый язык туристов, протянул ему огромный том, истерзанный, словно его грызли зубами, и очень потешно привязаный к стойке обычной бельевой веревкой. Эстебан, вытягивая из пачки предпоследнюю сигарету, без особого труда отыскал то, что ему было нужно. За фондом Адиманты значилось два телефонных номера, затем крошечными буквами сообщался адрес: проспект Портас-до-Сол, дом 4. «Алмафа», — ответил официант на вопрос Эстебана, где расположена эта улица, словно три слога объясняли все и незачем было продолжать расспросы. Окутанный клубами густого тумана, Эстебан пересек площадь Фигейра и дошел до площади Россиу. Выше, с правой стороны, находился замок святого Георгия, рядом, словно придавленные чем-то тяжелым, тянулись дома. Эстебан вполне мог проделать весь путь пешком и заодно прочистить бронхи, взбираясь на безжалостные лиссабонские холмы, но под напором особого рода воспоминаний, которые с минувшей ночи преследовали его и заставляли кружить по знакомым местам, возвращаться к знакомым именам и ритуалам, он сел на трамвай номер 28, забитый американцами в белых тапочках. Они с Эвой сошлись во мнении, что Лиссабон открывается тебе лишь тогда, когда ты взираешь на него через трамвайное окошко, словно через смотровую щель; и гладко отшлифованное стекло особым образом преображает даже сам цвет воздуха; ты как будто плывешь на утлой лодчонке и видишь настоящий, неприкрашенный Лиссабон; ты плывешь себе, а за окном разворачивается, движется мимо город-театр, и он подвластен механизму, который управляет сменой сцен-картинок: заполненные чиновниками свинцово-серые улицы, компактные белые церкви, неухоженные разваливающиеся дома, как будто брошенные обитателями. Трамвай оставил в стороне по-военному аляповатый Се; и Эстебан отметил, что пока они, жалобно скрипя, взбирались вверх по склону, душа его совершала параллельное восхождение: она покинула на земле свое прошлое, чтобы устремиться к куда более заманчивому будущему. По возвращении из этой краткой поездки он увидит Алисию, которая ждет его и готова наконец-то открыть ему свои чувства. Она не позволит глупым и нелепым сомнениям вмешаться в устройство их счастья. Будущее рисовалось ему теперь ровной дорожкой, по которой обстоятельства любезно приглашают его прогуляться. Губы Эстебана сложились в доверчивую улыбку — он с готовностью принимал гарантии, услужливо подкинутые воображением. Меж тем трамвай, одолев крутой подъем, остановился и изверг наружу обвешанных фотоаппаратами белокурых пенсионеров.
Изразцовая табличка с надписью «Ларго дас Портас-до-Сол» на облупленном, как после бомбежки, фасаде подсказала, что ему тоже пора выходить. Белобрысые и розовощекие туристы всем стадом кинулись к смотровой площадке Санта Лусия, но весьма нелюбезный туман позволил им разглядеть лишь какой-то ватный тюк и отдельные фрагменты зданий. Эстебан остановился перед статуей святого Висенте, потом поглазел на город, который отсюда рисовался в форме серпа, на черепичные крыши, каскадом спускающиеся вниз, к устью Тежу; а вот море и порт полностью исчезли под огромной волной белой пены. Забавы ради он принялся считать колокольни, которые, будто митры, парили над землей, над скопищем приземистых домов. Алфама гармоникой растянулась вниз, в сторону берега. Облокотившись на балюстраду, он выкурил сигарету и подумал, что туман делает Лиссабон еще более нереальным, еще более потусторонним, ещеболее концом земли, отодвинутым на самый край нашего мира. Город невозмутимо застыл над мысом полуострова, откуда начиналась новая вселенная — неведомая и чужая: казалось, город покорно растворяется в ничто, он завершает собой континент, став последним его часовым. Потом Эстебан пересек улицу и увидел лысого мужчину в майке, высунувшегося из окна и нагло демонстрирующего тюремную татуировку. Когда Эстебан наконец остановился перед нужным ему домом номер четыре, он услышал музыку, которая, видимо, летела из того же окна. Ему хотелось бы услышать фадо, это сделало бы картину более выразительной и типичной, но за окном звучала назойливая тропическая мелодия. Деревянная дверь со стеклом была приоткрыта. За ней виднелся темный холл в стиле прошлого века; выложенный плитами пол слегка напоминал шахматную доску. На дверном стекле висело объявление, торжественно возвещающее, что фонд Адиманты шестнадцатого числа начинает полугодовой цикл лекций под весьма заманчивым общим названием «Жизнь после смерти: свидетельства путешественников». За лекциями последуют семинарские занятия, посвященные темам, не менее будоражащим воображение: «Правда об исчезнувших цивилизациях», «Тайны реинкарнации», «Дао и мандала». В самом низу едва заметной строчкой на фоне чего-то похожего на египетский глаз — видимо, это был логотип фонда, — извещалось о том, что вход в фонд свободный.
Даже пронзительный запах щелока, царивший в холле, с трудом перебивал запах сырости, который свидетельствовал о близости сточных канав. Уложенные в шахматном порядке плиты вели к внутреннему дворику, откуда пробивался тревожный сероватый свет; чуть дальше поднималась наверх довольно широкая лестница. Эстебан задержался перед старым столом красного дерева, который стоял у входа; на столе кто-то забыл развлекательный журнал, календарь, карандаш и медный колокольчик. Эстебану померещилось, что в этом плохо проветренном холле время текло как-то неправильно: портье — или тот, кто выполнял эту функцию, — заставил себя ждать нестерпимо долго. Наконец появился маленький черненький человечек, но он не понимал испанского, как не понимал и того смешанного языка, который совсем недавно изобрел Эстебан. В ответ на каждое слово он по-китайски — и весьма усердно — кивал головой, будто пытался сбросить с себя какое-то обвинение. Эстебан произнес имя Себастиано Адиманты, старательно рисуя губами каждую гласную букву, пока на лице стража не появилось осмысленное выражение. Человек скачками помчался вверх по лестнице, потом опять спустился; волосатая рука знаком приглашала Эстебана подняться на второй этаж.
Верхняя площадка встретила Эстебана серым светом: пять больших окон выходили в патио, откуда струилось какое-то кварцевое свечение; коридор много раз делал излом под прямым углом, в таких местах стояли старые деревянные скамейки, а над ними висели маленькие литографии в стиле Блейка. Эстебан двинулся по коридору, задерживаясь перед каждой дверью; объявления на стекле неизменно оповещали о том, какие именно группы сидят здесь за партами и внимают наставникам, которые покрывают классные доски странными значками. Порой ученики, расположившись кружком, разыгрывали нечто вроде карточной партии. Некоторые аудитории были безлюдны, темны, пропитаны запахом щелока, который Эстебан почувствовал еще в холле. Коридор никак не кончался: каждый прямой угол сулил какое-то завершение — лестницу или выход, но снова и снова откуда-то пробивался пепельный свет, снова возникали скамьи и литографии, как будто дело происходило в опустевшем музее. Но вот за очередным поворотом Эстебан увидел, что коридор упирается в приоткрытую дверь. Он ускорил шаг, и стук его каблуков по плитам ему самому напомнил монотонный шум дождя. Прежде чем войти, он чуть помедлил, потом учтиво заглянул в комнату. В окне виднелась статуя святого Висенте, перед которой Эстебан и сошел с трамвая, дальше смутно различался каскад черепичных крыш, которые, обрушиваясь к Тежу, собственно, и составляли Алфаму. Светлая квадратная комната имела вид старомодный и заставляла подумать о некоем казенном помещении, скажем, клубе для пенсионеров, что вообще характерно для многих интерьеров Лиссабона. Мебель принадлежала к почтенному старинному роду, но это не мешало ей являть признаки дряхлости и своего рода усталости: массивный письменный стол, усыпанный бумагами и конвертами, стулья с резными спинками, стоящий поодаль металлический картотечный ящик, на нем — старый и бесполезный вентилятор, похожий на цветок, запутавшийся в проволоке. По стенам стояли книжные стеллажи, а там, где книги оставляли свободное пространство, висели портреты цвета сепии, и среди них Эстебан вроде бы узнал Эммануэля Сведенборга. В комнате находился один-единственный человек, но он, казалось, не замечал посетителя. Вернее, она. У стеллажей, сверяясь с содержанием какой-то книги, стояла женщина. Она была высокой; узкая синяя юбка доходила лишь до колен, открывая очень длинные, изящные и крепкие, как белые мачты, ноги. Волосы, заплетенные в косу, опускались на грудь. Сквозь очки были видны голубые спокойные глаза. Эстебан кашлянул, женщина обратилась к нему с певучим вопросом, но ее португальского он не понял. Поэтому попытался принести извинения на только что изобретенном им самим эсперанто; и тут женщина, видимо, узнала акцент.
— Вы испанец, — сказала она на жестком испанском, с очень четкими согласными.
—Да.
— Проходите, пожалуйста, садитесь. — Женщина поставила книгу на полку и с искрой интереса быстро оглядела Эстебана. — Мне сказали, что вы желаете видеть сеньора Адиманту.
— Именно так.
— Меня зовут Эдла Остманн, я заместитель директора фонда. — Эстебан пожал руку с похожими на иголки пальцами. — Я готова побеседовать с вами, если вы будете так любезны и сообщите мне о цели вашего визита.
Женщина говорила очень мелодично, в том, как она выстраивала слова, было особое очарование. Сев на старый стул, Эстебан почувствовал себя более уверенным и приободренным, как будто его приласкали.
— Меня зовут Эстебан Лабастида, я журналист. Пишу для еженедельника «Сфера». Мы готовим специальный номер, посвященный дьяволу, и мне стало известно, что в вашем фонде собрана целая библиотека на эту тему и даже есть маленький музей.
Ложь прозвучала вполне правдоподобно, да, собственно, с ходу придуманное объяснение неожиданного посетителя и не должно было вызвать особых подозрений. Двигаясь по коридору, Эстебан вырабатывал себе легенду — шаг за шагом, тщательно взвешивая каждую деталь, чтобы вся версия выглядела убедительно, как оформленный по всем правилам паспорт. Тем не менее женщина посмотрела на него так, что ему захотелось вдавить позвоночник в спинку стула. Глаза ее были прозрачны и чисты, и казалось, они просвечивают Эстебана насквозь, давая ему понять, что представился он самым наиглупейшим образом. Потом голубой взгляд опустился к столу, и руки женщины потянулись за пачкой сигар, украшенной золочеными завитушками. Она предложила и ему эти тонкие черные сигары, которые распространяли вокруг изысканный запах древесины. Эстебан отказался.
— Итак, вы журналист, — произнесла сеньорита Остманн, сунув сигару в рот, и Эстебан тотчас понял, что она распознала его ложь. — И что именно вы хотите узнать?
— Понимаете. — На какой-то миг слова застряли у него в горле, и он никак не мог восстановить ту версию, которую в подробностях придумал заранее. — Я собрал кое-какую информацию о сатанинских культах, сектах, жертвоприношениях и тому подобных вещах. Во всех исследованиях, в которые мне удалось заглянуть, упоминалось общество Заговорщиков, которым руководил Ашиль Фельтринелли, и это общество оценивается как одно из самых значительных в истории сатанизма. Насколько я понял, в вашем фонде хранятся экспонаты, связанные с обществом.
Глаза Эдлы Остманн теперь напоминали два симметрично расположенных телескопа; от губ к ним поднимались причудливые завитки дыма. Любой мрак, любой туман, любые завесы расступались под двухфокусной мощью этих голубых стеклышек. Медленно, не торопясь самому себе в том признаться, но прекрасно это чувствуя — как чувствуешь, когда подошва твоего ботинка наступает на жевательную резинку, — Эстебан начал осознавать, что включается в сложный ритуальный танец и что послушное выполнение назначенной роли есть непременное условие для достижения той цели, которую он преследовал и ради которой вытерпел долгую бессонную ночь в поезде. Сеньорита Остманн поняла, что он лжет, синее пламя ее взгляда испепелило его выдумку, но танец все равно продолжался, и каждый из них исполнял свою партию с непринужденностью хорошо тренированного актера. Эстебан смутно догадывался, что ему дозволено приблизиться к центру паутины, ступить в самую середину белой нитяной звезды, — правда, тут и последует укус, после которого бегство станет невозможным. Но ему не оставалось ничего другого, как шаг за шагом пробиваться вперед, рискуя жизнью ради поиска неизвестной величины.
— Мне хотелось бы рассеять ваше заблуждение насчет нашего фонда, — сказала Эдла Остманн, словно произнеся фразу, специально для нее включенную в некое либретто. — Мы не секта, и сектантство нас ни в малой степени не привлекает — и уж тем более сатанинского толка. Сеньор Адиманта основал фонд — при бескорыстной помощи нескольких лиц — исключительно для научного исследования паранормальных явлений, и в этой области мы можем считать себя первопроходцами. Наши специалисты не только регистрируют, классифицируют и описывают разного рода явления, связанные со спиритизмом, экстрасенсорным восприятием, телекинезом и чтением мыслей, но и способны в наших лабораториях, специально для того оборудованных, помочь проявиться на практике способностям тех людей, которые продемонстрировали рудиментарные склонности к сверхъестественному использованию собственной психической энергии. Иначе говоря, мы не только исследовательский центр, мы превратились, и теперь это главное, в школу парапсихологии.
— А музей? — спросил Эстебан, пытаясь остановить бурный поток чисто рекламного красноречия.
— Не торопитесь, сеньор Лабастида, — Синие озера в глазах Эдлы Остманн сделались совсем прозрачными, так что, казалось, молено различить их дно. — Если вы собираетесь написать о нас, я советовала бы вам с самого начала четко объяснить именно это: мы занимаемся исследовательской работой, а не сектантством.
— Я это непременно подчеркну.
Чтобы отпраздновать вступление в должность журналиста, Эстебан купил в привокзальном киоске потрясающую красную записную книжку и ручку, которая никак не желала писать и оставляла на бумаге царапины и только потом — с большой неохотой — жидкую чернильную линию. Эстебан принялся остервенело чертить в новой книжке какие-то значки, словно показывая, что выполняет условия сеньориты Остманн, но вскоре положил книжку на стол, рядом с ножом для бумаги в форме совы, и спросил позволения закурить. Женщина сидела на обтянутом темной кожей стуле, скрестив неправдоподобно длинные ноги, и вдыхала дым своей сигары, при этом правая рука ее рисовала дымом в воздухе серые нестойкие буквы. Спичка, которую женщина поднесла Эстебану, опалила его сигарету, в то же время синий взгляд полыхнул чем-то вроде чувственного любопытства — обычно это действует на вообраэкение и заставляет даже на улице раздевать взглядом незнакомых женщин. Но Эстебан уловил в глазах Эдлы Остманн и еще нечто, пробудившее в нем не столько искушение, сколько острый приступ тревоги.
— Будьте добры, следуйте за мной. — Женщина встала и глянула на посетителя сверху вниз. — Я хочу вам кое-что показать.
Они снова шли по коридору — мимо скамеек, мимо не слишком удачных подражаний Блейку. Вначале пути Эстебан еще пытался сориентироваться, сравнивая их нынешний путь с тем, который он проделал совсем недавно, чтобы добраться
до кабинета, но два поворота под прямым утлом и неожиданный боковой отвод, ведущий к закрытому окну, окончательно его запутали. Он покорно последовал за сеньоритой Остманн по коридорам, прислушиваясь к металлическому перестуку ее каблуков по каменным плитам. Она продолжала что-то ему говорить, но голос заглушался этим самым перестуком, и разобрать слова, к тому же летевшие откуда-то сверху, ему не удавалось.
— Я хочу, чтобы вы осмотрели некоторые лаборатории, где работают наши специалисты. Нет, мы не станем их отвлекать, просто понаблюдаем через стекло, не нарушая учебного процесса. Надеюсь, все увиденное вы запишете и используете в своей статье.
— Разумеется.
Они остановились у стеклянной стены. Им открылся темный зал, где за столами сидело энное количество человек; какой-то пористый, рассеянный свет делал картину мутной, тем не менее Эстебан различил тонкие провода, они тянулись от столов к вискам каждого ученика — к вискам были прикреплены электроды. На противоположном конце аудитории, у классной доски, стоял тип в белом халате и тыкал указкой в предметы, которые диапроектор показывал на экране: звезда, гора, точилка, луна.
— Это упражнение основано на экспериментах Торндайка[392], — пояснила сеньорита Остманн, быстро затянувшись сигарой. — Наши ученики обладают начальными экстрасенсорными способностями, и такой вид занятий помогает их развить. Это самое простое из упражнений по телепатии. Преподаватель думает о каком-то предмете, и ученики должны прочесть его мысли. Если восприятие адекватно, электрод стимулирует ипоталом испытуемого; если ученик ошибается, ему направляют слабый электрический разряд. Все элементарно, как вы можете убедиться, и очень научно. Запишите это.
Эстебан принялся что-то царапать в своей книжке, чтобы порадовать сеньориту Остманн. Рядом не было ни одной пепельницы, он не знал, куда бросить окурок: коридор сиял чистотой и таил в себе скрытую угрозу, совсем как любой коридор в больнице.
— А кто может стать учеником этой школы? — спросил Эстебан, которого вдруг одолел зуд журналистского любопытства. — Думаю, отбор здесь довольно строгий.
— Правильно думаете, — ответила сеньорита Остманн, снова тронувшись в путь по коридору. — Абитуриенты сдают сначала экзамен, а потом выполняют серию тестов. Мы стараемся найти истинные таланты, отсеять авантюристов и любопытных — а таких очень много. У фонда Адиманты есть прочная репутация, сеньор Лабастида, и мы заботимся о ней: мы должны знать наверняка, какого рода материал шлифуется в наших аудиториях.
— И много желающих принять участие в ваших испытаниях?
— Больше, чем вы себе представляете. — Эдла Остманн вдруг заговорила с чиновничьей сухостью: — И было бы куда больше, если бы не одно условие, которое, кстати, служит главным козырем в устах наших оппонентов. Чтобы быть допущенным к экзаменам, абитуриент должен перевести на наш счет определенную сумму — двести долларов, то есть оплатить расходы, связанные со вступительными испытаниями. Обязательно напишите в своей газете, что мы не благотворительное общество.
— Напишу.
Не дойдя до конца коридора, кривого и петляющего, как система трубопроводов, они остановились перед другим стеклом, за которым происходило нечто, напоминающее карточную игру. Мужчина в белом халате положил колоду карт на покрытый скатертью столик, отстоящий на три метра от первого ряда учеников. Затем мужчина, сияя улыбкой телевизионного фокусника, повернул к ученикам ладонь с первой картой из колоды — четверкой бубен. Он что-то говорил сосредоточенным ученикам, но слова его таяли, не долетев до стекла. Как объяснила сеньорита Остманн, они наблюдали занятие по телекинезу: ученики, не покидая своих мест, должны были попытаться переместить последнюю карту в колоде туда, где только что лежала первая. Эстебан кивнул, и они последовали дальше. Пока что его мозг не готов был ни принять, ни категорически отвергнуть экстравагантные методы обучения, практикуемые в фонде Адиманты; кроме того, эти методы даже не показались ему слишком уж абсурдными на фоне того, что происходит в нашем растрепанном, мечущемся и нелепом мире, где удивление вызывает лишь обычное и заурядное. Наконец перед ними возникла металлическая дверь; некогда ее покрасили в зеленый цвет, но теперь краска облупилась и висела струпьями. Это была дверь грузового лифта, который, по всей видимости, мог спустить их на первый этаж. Эдла Остманн нажала на кнопку, и пронзительный скрежет, напоминающий звук, с которым лиссабонские трамваи штурмуют холмы, медленно пополз к ним сквозь стену. Мрачная, ржавая коробка лифта явно не соответствовала росту сеньориты Остманн. Во время недолгого путешествия вниз Эстебан разглядывал колени спутницы и нашел их красивыми. Глаза Эстебана уже успели привыкнуть к кварцевому сиянию, которое белесым туманом заливало верхний этаж; поэтому теперь, когда двери лифта открылись, глазам трудно было освоиться в новом помещении. Эстебан сделал три шага следом за Эдлой Остманн и почувствовал под ногами нечто благородно твердое — видимо, здесь пол был мраморным. Окружающие предметы начали постепенно материализоваться: две длинные стены, целиком закрытые стеллажами, представляли собой мозаику в темных тонах из книжных корешков. Комната выходила в патио. Эстебан почувствовал характерный запах старой бумаги, кожи, а также смесь запахов дерева и застоялой воды. Он скользнул взглядом по названиям книг, разобрать ему удалось не все: имелись тома на древнееврейском и греческом, в основном же — на латыни. Губы Эстебана тронула веселая, но с примесью иронии улыбка, когда он прочел: Ричард Бове «Пандемониум», Бартоломеус Анхорн «Магиология», Питер Бинсфельд «Трактат о признаниях колдунов и ведьм», Балтазар Беккер «Заколдованный мир». Услышав голос Эдлы Остманн, он вздрогнул, к тому же голос доносился уже откуда-то издалека, видимо, помещение было довольно большим.
— Если желаете, можете взять с полки любую книгу, вдруг пригодится для вашего репортажа. Сеньор Адиманта разрешает вам воспользоваться нашей библиотекой.
Только теперь он понял, что женщина обращается к нему из другого конца зала, от окна, выходящего в патио, а рядом с ней застыла какая-то маленькая неподвижная тень. Эстебан направился в ту сторону и шел неправдоподобно долго; наконец он приблизился к окну. Тут выяснилось, что сеньор Адиманта — это всего лишь старое перекрученное, парализованное тело, облаченное в серый костюм с галстуком и вдавленное в инвалидное кресло. Какая-то безжалостная болезнь разрушила все его суставы, поразила весь организм, превратив руки и ноги в бесполезные отростки, обтянутые белой кожей. Это был труп с пронзительными голубыми глазами. Эстебан изумился тому, какое мощное пламя пылает в его прозрачном взоре, в котором, как ни странно, светился тот же острый ум, что и во взоре сеньориты Остманн. С некоторым беспокойством Эстебан приметил, как на протяжении нескольких мгновений некая непонятная искорка перескакивала из глаз старика в глаза женщины. Визитер даже заподозрил, что существует мистическая связь, которая помогает им обмениваться мыслями.
— Себастиано Адиманта, — произнесла Эдла Остманн, указывая на куль, усаженный в инвалидное кресло. — Несчастный случай заключил его дух в такое вот немощное тело, и оно день ото дня все более разрушается. Его тело — сломанная машина, но ум сверкает ярче, чем у любого из самых здоровых людей. Сразу после катастрофы сеньор Адиманта проклял Создателя и даже решил свести счеты с жизнью — то есть покончить с собой. Но прошло какое-то время, и он возблагодарил Господа, который отметил его подобной честью: освободил от груза материи, превратил в чистый дух и позволил целиком отдать себя мысли, устремиться в высший полет. Как вы можете убедиться, глаза — единственная часть этого организма, которая пока еще способна хоть к какому-то движению. Но связь между его разумом и окружающим миром не может осуществляться по физическим каналам.
Глаза старика устало моргнули в подтверждение сказанного. Эстебан подумал о Дюма, о графе Монте-Кристо, о старом Нуартье де Вильфоре — те же два острых глаза и немощное тело; а еще Эстебан не преминул отметить, что его собственный неисправимый грех — это литература, когда вся жизнь — всего лишь территория с размытыми очертаниями, которая остается за границей сюжета тех или иных книг.
Слившийся со своим креслом Себастиано Адиманта при мутном свете, что сочился из патио, обретал величественность изваяния — спокойный и словно окаменевший, он мог бы посоперничать с бессмертными колоссами Абу-Симбела…[393] Голубые глаза о чем-то размышляли, и сеньора Остманн немедленно сообщила:
— Сеньору Адиманте известна цель вашего визита. Обычно он журналистов не принимает, потому что их, как правило, занимает какая-либо весьма узкая тема, но вы заинтересовали его, потому что пришли с вопросами о Заговорщиках. Итак, что именно вы желаете узнать?
— Я вроде бы уже объяснил, — ответил Эстебан, понимая, что каждое произнесенное слово медленно затягивает его в центр паутины. — Я прочел о Заговорщиках в одной энциклопедии. Помнится, они основали город и поставили там статуи ангелов.
Колесо инвалидной коляски при движении пронзительно скрипело — звук напоминал писк раздавленной лягушки. Сеньорита Остманн подтолкнула коляску с безжизненным телом Себастиано Адиманты в сторону Эстебана, прямо к его ногам. Глаза старика, еще более живые и энергичные, чем прежде, теперь метнулись к длинному ряду книг справа; подчинившись этому знаку, Эстебан рассеянно посмотрел на корешки. Но женщина тотчас подвела его к нужной полке и указала нужную книгу. Эстебан вытащил очень большой, благородно-темный том. Названия на переплете не было — только мутные разводы, завитушки и потертости, оставленные сыростью и временем. На отлично сохранившейся первой странице Эстебан обнаружил расположенный треугольником зачин
MYSTERRIUM TOPOGRAPHICUM
ACHILLEI FELTRINELLII
Seu arcanae caliginosae eximiaeque urbis Babelis
Novae
Descriptio, a ministribus Domini nostril
Exaedificata ad maiorem sui
Gloriam
— Перед вами «Mysterium Topographicum», — сказала женщина, хотя, может быть, это сказал старик, — уникальное сочинение, редчайшая книга, которую с одинаковым рвением искали как фанатичные сатанисты, так и охотники за редкостями. Экземпляр подлинный, в образцовой сохранности, издание тысяча семьсот пятьдесят пятого года — самое первое.
— Но откуда вам известно, что оно первое? — возразил Эстебан, осторожно перелистывая страницы. — Здесь не указаны ни дата, ни место издания.
— Вы совершенно правы, сеньор Лабастида. — Глаза Адиманты холодно улыбались. — Сразу видно, что вы не такой, как большинство журналистов, и сразу видно, что вы прибыли издалека, у вас иной подход к делу — более заинтересованный и, если позволите, даже азартный. Надо полагать, вы и латынь знаете. Сделайте одолжение, прочтите самую первую строку.
Эстебан подчинился с неприятным чувством, что его все глубже затягивает в трясину: сперва по щиколотку, затем по бедра, теперь жижа добралась до пояса: «Moses affirmat(Genesis cap.XI v.4) ut hominess aedificaverunt turrem altam quam caelo ad Deum ad duellum provocandam. Nos aedificamus urbem totam ab Gloria sua obsistindam ».
Голос Эдлы Остманн тотчас перевел услышанное на испанский, при этом она особо старательно выговаривала буквы «р» и «л»:
— «Моисей утверждает, что люди выстроили башню высотою до небес, дабы бросить вызов Богу. Мы построим целый город, чтобы сокрушить Его победу». Целый город — как символ бунтарства, вероотступничества, отхода от Бога. Новый Вавилон, нечестивый город. Город сновидений, сотканный из сновидений со сновидческой же архитектурой. Взгляните на гравюры. Это само совершенство. Наш соплеменник Игнасио да Алпиарса создавал их мучительными бессонными ночами. Потом эти гравюры использовались и во многих других книгах, но те книги были изданы куда хуже, куда небрежнее. Да, над теми книгами работали Пиранези и Доре, туда включались изысканные работы Роберта Фладда, поэтому я вполне допускаю, что некоторые иллюстрации покажутся вам знакомыми.
Да, конечно, знакомыми ему показались все гравюры, он с растущей тревогой перелистывал страницы, и каждая будила в душе чудовищный призрак самого сокровенного чувства, напоминавшего о какой-то неведомой прошлой жизни — пренатальной, немыслимой и непонятно как связанной с этим вот кошмарным лунным городом. Да, каждая гравюра будила в нем атавистический ужас, у которого нет ни имени, ни обличья, — страх перед тем, что из развороченной могилы памяти будет извлечено то, что самим фактом нашего рождения было стерто и оставило по себе лишь слабое эхо тоски. Эстебану было знакомо такое ощущение, с ним нечто подобное изредка случалось, когда он смотрел на картины Магритта или слушал определенного рода музыку: под языком появилась горькая пленочка, и он знал, что похожую ситуацию ему уже когда-то довелось пережить, что эту картинку он когда-то видел — только вот потом его «я» с картезианской убежденностью отодвинуло ее на задний план, изгнало, превратило в нечто чуждое и опасное.
— Это один из тех двенадцати экземпляров, что спаслись от костра, — продолжила Эдла Остманн свой рассказ. — Всего двенадцать в целом мире! И один здесь, в библиотеке фонда, где хранится самое полное собрание книг по сатанизму, колдовству и демонологии, какое только существует в мире. В библиотеке Ватикана имеется пять экземпляров, в библиотеке Кремля — два, еще один — в университете Упсалы, один — в Севилье, один — в Библиотеке конгресса в Вашингтоне, один — в токийском собрании Оконо. И надо заметить, что все, кроме последнего, принадлежат государственным или общественным организациям, а это означает, что доступ к ним затруднен, нужны специальные разрешения и так далее. Но эта книга — в полном вашем распоряжении.
Тем временем Эстебан разглядывал самую последнюю страницу, которую отделяли от основного текста два или три совершенно чистых листа. Эстебан снова увидел свернувшегося кольцом дракона, под ним — четыре стихотворных строки. Дракон с изумлением взирал на пейзаж — что-то вроде земли после ядерного взрыва. Эстебан припомнил свой беглый разговор с Алисией о том, что Уроборос — это вечное возобновление; не было нужды во второй раз читать помещенный под картинкой текст, чтобы восстановить в памяти таинственную музыку загадки: «Ужасный голод побудил Полипоса грызть собственные ноги…» Голубые зрачки Себастиано Адиманты жадно впились в переплет, затем перескочили на гравюру с драконом; глаза старика теперь выражали нечто среднее между восторгом и бешенством.
— Вас, конечно нее, тоже заинтересовала эта гравюра, что вполне естественно, — сказала сеньорита Остманн. — Она находится в самом конце тома и на первый взгляд никак не связана с целым. Но гравюра присутствовала в книге с самого первого издания. К вашему сведению, рисунок не делался специально для данного произведения, иначе говоря, это не оригинал. Речь идет об одном из символов «Scrutinum Chymicum»[394] Микаэля Майера, которому соответствовала определенная эпиграмма. «Scrutinum» — труд по алхимии, написанный в семнадцатом веке, — в нем явственно просматриваются идеи розенкрейцеров.
— А зачем была нужна эта гравюра здесь?
— На ваш вопрос трудно ответить, — сказала сеньорита Остманн, и глаза Адиманты тотчас начали буквально сыпать искрами. — Скорее всего, это предсказание, наверное, к нему требуется ключ. Уроборос, или змея, пожирающая свой хвост, — символ алхимии, и даже шире — любой деятельности, любого предприятия. Это, разумеется, и символ восстановления: коронованный звездами возвращается на Землю. Но все, что я сказала, как вы понимаете, не более чем гипотезы.
— Хотя этот текст повторяется на статуях ангелов.
В глазах Адиманты что-то быстро замелькало, они стали совершать круговые движения, словно это был калейдоскоп из инея и стекла; Эстебан так и не понял, какие именно чувства пробудила в старике необычная осведомленность посетителя — удовольствие или, наоборот, гнев. Эстебан даже испытал мимолетный приступ ужаса и паники, когда понял, что эти глаза — два голубых туннеля, соединяющие наш мир с неизмеримой глубины разумом, с не доступной никому выгребной ямой, превращенной в хранилище мудрости; разум Адиманты непрестанно занимался онанизмом, или — самосозерцанием, он укрощал время, блуждая в сладострастной путанице собственных лабиринтов.
Глаза указали Эдле Остманн нужное направление, и она пробормотала что-то по-португальски, но о чем шла речь, Эстебан понял лишь в тот миг, когда они вышли в патио и сырой белесый туман коснулся их ресниц: «О museu».
Только несколько месяцев спустя, сопоставляя сведения, почерпнутые из разных журналов и развязно откровенных книг, Эстебан многое узнает об этом человеке. Прежде чем стать неподвижной тряпичной куклой по имени сеньор Адиманта, он звался Себастиано Каумеду, который родился в Сантарене в 1932 году. Среди его юношеских увлечений не обнаружилось ни одного, предвещавшего будущую одержимость исследованием эзотерических миров. В двадцать четыре года он имел: несколько книг на полке, невесту, карьеру морского инженера, вызывавшую у него стойкое отвращение, —~ поэтому он ее и бросил; имел он также и некоторые проблемы с законом — иначе говоря, все полицейские Лиссабона шли по его следу, потому что он убил человека. Причины ссоры никто в точности не знал, но вроде было установлено: именно молодой Каумеду — рослый молодой парень с глазами северянина — однажды ночью сцепился в баре с портовым громилой и несколько раз пырнул того ножом в живот. Спасаясь от преследований, он оказался в Анголе, где сменил имя, превратившись в Себастиано Асорду, и где кое-как перебивался, служа хроникером в местной газете. Потом — то ли в погоне за деньгами, то ли во искупление тяжкого греха — он вступил в ряды колониальной милиции. Однажды их часть выступила на север для подавления мятежа, вспыхнувшего на границе с Бельгийским Конго. Неподалеку от Макокольгего отряд попал в засаду — пришлось принять бой. По свидетельству командира, Себастиано Асорда сражался храбро и, когда кончились патроны, защищал свою жизнь с мачете в руках. Перед рассветом вражеская пуля разворотила ему череп; Асорда рухнул на кучу других тел, и сперва его посчитали мертвым. Но потом все же доставили в госпиталь в Луанду, именно там начали проявляться некоторые весьма странные последствия полученного ранения: в физическом плане он вполне оправился, но мозг его замутняли какие-то нелепые и бессвязные идеи, непонятно откуда взявшиеся. Со временем он осознал, что стал гораздо более чувствителен к восприятию чужих мыслей — иными словами, мысли и ощущения других людей проникали в его голову, и по тем значкам и следам, которые они там оставляли, он мог запросто их читать. Ясновидящий Себастиано Адиманта родился в 1964 году—именно тогда это имя появилось на цирковой афише рядом с именами некоего акробата и дрессировщика. Лет пять или шесть Адиманта колесил по Анголе и выступал с сеансами ясновидения в барах и театрах. Его сопровождала свирепая мулатка по имени Летиция Олайяс, на которой он женился после нескольких месяцев незаконного сожительства. Постепенно он обрел славу таинственного человека, от природы наделенного чудесным даром угадывать тайны, неподвластные разуму обычных людей. В конце концов он и сам поверил в то, что его болезнь, если это можно было назвать болезнью, должна помочь ему постичь самые потаенные загадки человеческого разума, сокрытые от прочих смертных. В Португалию он возвратился один и продолжал выступать со своим номером, добившись некоторой — правда, не слишком стабильной — известности. В1978 году на лиссабонской улице его сбил грузовик. Заметим, что как раз этого события он предсказать и не сумел. Адиманта выжил, но превратился в неподвижную куклу, неспособную даже управлять инвалидным креслом. Он просил друзей помочь ему отравиться, но никто не хотел рисковать собственной свободой, так что Адиманта остался один на один со своим несчастьем. К моменту катастрофы он успел скопить скромную сумму — говорят, он занимался еще и предсказаниями во время розыгрышей разного рода лотерей, — на эти деньги был основан фонд его имени, призванный заниматься исследованием эзотерических явлений. Но и тогда, и двадцать лет спустя источники финансирования этой организации оставались не слишком прозрачными. Ученики вносили помесячную плату, но кроме этого, фонд существовал за счет весьма темной системы квот, которые выплачивали ему филиалы, раскиданные по всему миру. Деньги поступали также и от каких-то частных лиц. Большинство из них сохраняло анонимность.
За очень редкими исключениями, главным принципом расположения экспонатов в музее фонда Адиманты оставалась случайность. Довольно большой и длинный зал очертаниями повторял библиотеку. Чтобы осмотреть гравюры и картины, развешанные по стенам, следовало соблюдать осторожность и стараться не натолкнуться на треножники, служившие подставками для деревянных и керамических скульптур. Шаги Эстебана гулко разносились по залу, и он ощутил некую робость — впрочем, не лишенную приятности, — осознавая себя единственным посетителем музея. С самого детства его порой навещала мысль о том, что по ночам музеи, закрытые для публики, превращаются в тайное место встречи персонажей, которые пользуются безлюдьем, чтобы сойти с картин — выпрыгнуть из рам и пройтись по залам, исподтишка стащить какой-нибудь фрукт с натюрморта или принять участие в битвах, изображенных на батальных полотнах. У экспонатов коллекции Адиманты было нечто общее: все они прямо или косвенно были связаны с древними легендами или суевериями, с кошмарными сновидениями, после которых люди просыпаются на рассвете с пересохшим ртом, с призраками, о которых шепчутся ночами вокруг костра, — связаны с существами из подземного мира, которые пугали человека еще в ту пору, когда он обитал в пещере. Теперь эти персонажи поглядывали на Эстебана с картин и с пьедесталов. Трагический образ высшего существа, превратившегося в чудовище, повторялся повсюду и в разных видах: персидская терракотовая статуэтка с собачьей головой и орлиными крыльями; на нескольких гравюрах — толпа обезумевших уродов, которые осаждают святого Антония; на полотнах, которые время затянуло густым коричневым туманом, — змей, грызущий землю под мечом святого Михаила или какого-то другого архангела. Но не один дьявол был героем музея; здесь присутствовали и свидетельства апостольского служения дьяволу на земле, а также древние пыточные инструменты, с помощью которых его поклонников принуждали к раскаянию, щипцы и клещи, с помощью которых вырывали признания у ведьм. И только в самом конце прямоугольного прохода, рядом с гравюрой, иллюстрирующей «Потерянный Рай» Мильтона, Эстебан увидел то, что искал: последнего ангела, четвертого члена команды — абсолютно такого же, как прочие. Ангел стоял, купаясь в свете яркой лампы, — еще один экспонат, обычная статуя, извлеченная из бурного прошлого, наполненного смертями и жертвоприношениями, где изваяние играло первостепенную роль. У левой ноги ангела застыл лев; на пьедестале были выбиты ряды значков, их-то Эстебан и жаждал увидеть и теперь прилежно переписал в свою тетрадь:
ן.SAMAEL.װ
DIRA.FAMES.VSVTSVC.EDRDD.ESADVDC…
— Много лет назад, — заговорила сеньорита Остманн, и голос ее шел словно бы из живота, — жил в Париже один венгерский маг и волшебник, который предлагал довольно еретическое трактование Ветхого Завета. Станислав де Гуайта, так его звали, утверждал, что когда Господь произнес знаменитое заклинание fiat lux, он не зажигал никаких светильников и не делил мир на свет и тьму, как полагали многие поколения комментаторов Библии. Веление «да будет свет» было исполнено самым первым из всех созданий, тем, кто уже сам по себе был факелом мира, — Люцифером, Носителем света, красивейшим из вселенских обитателей. Он стоял на самом верху ангельской иерархической лестницы, — среди серафимов, по утверждению Суареса[395]. Согласно некоторым преданиям, во лбу у него сияла утренняя звезда; по другим — он носил диадему с геммой, сверкающей ярчайшим светом. Но, как вы знаете, это был мятежный ангел.
Инвалидное кресло двигалось по залу — нестерпимый скрип снова резанул слух Эстебана.
—Книга Пророка Исайи повествует, что Люцифер хотел взойти на небо: «…взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой, и сяду на горе…» Святой Фома объясняет такое бунтарство гордыней, которая подтолкнула его соперничать с Всевышним, а Дуне Скот обвиняет его в загадочном грехе «духовного сладострастия». Согласно Тертуллиану, святому Григорию Нисскому и святому Киприану Князь мира сего завидовал человеку, созданному по образу и подобию Божиему, и это толкнуло его на мятеж. Суарес предполагает, что тот отказался почитать обретшего плоть Господа: сам он — чистый дух и никогда не преклонит колена пред существом, созданным из страстей и крови, каким является человек; Амброзио Катарино, архиепископ Понцы[396], еще в четырнадцатом веке выдвинул любопытный тезис: Люцифер почувствовал недовольство, ибо хотел, чтобы Слово воплотилось в его личности. Ангелы взбунтовались, на Небе произошла огромная битва. Иоганн Вир в своей «Pseudomonarchia daemonum»[397] подсчитал, что мятежное войско состояло из 6666 легионов по 6666 воинов в каждом. Чем это закончилось, вы знаете: «Videbam Satanam sicut fulgur de Coelo cadentem…»[398]
Глаза Адиманты несколько секунд оставались закрытыми, словно он пытался удержать воспоминаний, которые стремились взмыть вверх и там рассеяться; Эстебан дышал совершенно бесшумно, он боялся чем-либо порушить драматическую тишину. Скажем, если перевернет страницу записной книжки или сменит позу.
— Люцифер был сослан на самый край света, прикован на дне зловонной ямы, где он и начал плести мстительные замыслы. И прозываться с тех пор стал Сатаной, Вельзевулом, Астаротом, Левиафаном. Гемма, венчавшая его диадему, упала и оказалась в руках архангела Михаила, из нее тот позднее изготовил святой Грааль, чтобы туда собрали кровь Христову. А Люцифер превратился в чудовище, по его поводу Данте обронил прекрасное замечание в «Аде»: «S’ei fu si bel com’egli ora brutto…»[399] И тогда началась тайная работа: шпионаж, заговоры, интриги; его агенты, разбросанные по всему свету, начали подготавливать его возвращение. Росло число поклонников Сатаны, истинных творцов зла. И тут позвольте мне сделать отступление. Вам знакомо имя Артура Мейчена?
Вопрос обескуражил Эстебана, которому вдруг страшно захотелось закурить. Все его движения — то, как он медленно засовывал записную книжку в карман куртки, чтобы выиграть время и придумать подходящий ответ, — в мельчайших деталях, как на двух миниатюрах, отражались в голубых зрачках старика. Эстебан кашлянул.
— Автор романов ужаса, — заметил он без большой уверенности.
— Да, — рука Эдлы Остманн легла на спинку инвалидной коляски, — обычно о нем вспоминают как о предшественнике Лавкрафта, хотя, на мой взгляд, у него были немного иные интересы. В повести «Белые люди» есть место, которое цитируют также Повель и Бержье, Мейчен объясняет, что истинное зло, Зло с большой буквы, имеет мало — или не имеет ничего — общего с теми мелочами, которые мы почитаем за зло в нашей повседневной жизни. Настоящий злодей, как и настоящий святой, существа куда более необычные и редкие, чем, скажем, гидра или единорог. Истинное зло — явление духовное, а не материальное, оно относится к области теологии, а не технологии. Несчастный пьянчуга, до смерти забивший ногами свою жену, так же далек ото зла, как далека от милосердия старуха, подающая милостыню нищим на улице. Террорист может быть очень добрым человеком, образцовым гражданином и отцом семейства, а признанный филантроп может творить настоящее зло — в химически чистом виде. Не случайно ведь Шекспир обращает наше внимание на то, что Князь Тьмы — настоящий джентльмен.
— Так в чем же состоит зло? — прервал ее рассуждения Эстебан.
— Позвольте оставить ваш вопрос без ответа, — улыбнулась сеньорита Остманн. — Ответить — это все равно что дать точное описание благодати или того самого ничто, которое предшествовало творению. Давайте ограничимся скупой формулой: зло есть отрицание. Напрягите воображение и представьте: зло — это всегда что-то иное, что-то с противоположным знаком. Многие из тех, кто с самым невинным и безобидным видом шествуют по улице, нацепив заурядную маску лавочника, продавца лотерейных билетов, проститутки или предпринимателя, на самом деле могут быть членами зловещего братства черных лебедей. Они — поклонники Сатаны, темного царства, всего того, что несет в себе зло. Втайне ото всех и уже много веков подряд они подготавливают пришествие нового миропорядка, который будет полной противоположностью тому, что известно нам. Иными словами, зло — понятие метафизическое, а не нравственное.
— И началось все это много веков назад? — Губы Эстебана страстно мечтали о сигарете.
— Да, много веков назад. Человек, как правило, недоволен тем, что имеет, и призывает несчастное рогатое существо, требуя от него определенной программы непослушания и бунтарства. — При этих словах старик усиленно заморгал. — У сатанизма долгая и богатая история. Жиль де Лаваль, маршал Ре, в пятнадцатом веке предавал детей мучительной смерти, чтобы отслужить черную мессу[400]. Маркиз де Вильена, переводчик Данте и Вергилия, принес себя в жертву ради того, чтобы познать преисподнюю, чтобы воскреснуть в новом теле и с новым разумом. Королева Франции Екатерина Медичи носила привязанную в области желудка кожу обезглавленного ребенка с начертанными на ней цифрами и буквами, с помощью которых можно вызывать Сатану. После шестнадцатого века было написано несколько трактатов, доказывающих действенность таких заклинаний: «Исследование привидений» Самуэля де Казини, «Трактат о ведьмах» Бернара де Коме, «О явлениях ведьм и демонов» Сильвестра Мазолини, а также книги Бартоломея де Спины, Якоба ван Хохстратена или Педро де Сируэло. В тысяча шестьсот шестьдесят шестом году Мильтон в «Потерянном Рае» выказывает откровенное восхищение дьяволом и изображает его почти что королем в изгнании, который заслуживает наше преклонение. «Разбойники» Шиллера — попытка убедить нас, что предпочтительнее гореть в аду в компании бунтарей и смелых духом людей, нежели попасть в рай и оставаться там вместе «с самыми зауряднымиглупцами». В конце восемнадцатого века Леопарди пишет гимн Сатане, следом за ним то же делают Джозуэ Кардуччи и Мишле — последний объясняет человеческий прогресс тем, что тут не обошлось без участия мятежного дьявольского духа. Можно назвать еще очень много имен — Байрон, Виньи, Эрхард, Бирс. Сегодня в США существует Официальная Церковь Сатаны, и ее библия, сочиненная неким Антоном Ла Веем, призывает к последовательному и постоянному противостоянию, непокорности, бунту.
— А Заговорщики? — спросил Эстебан.
Веки прикрыли напряженный взгляд старика, из чего следовало, что с ответом на сей вопрос надо было повременить. Эдла Остманн укутала неподвижные ноги Адиманты красно-черным пледом и медленно развернула коляску в сторону патио. УЭстебана мелькнула мысль, что и сам сеньор Адиманта был частью музея, еще одним экспонатом странной коллекции, посвященной свергнутому с трона властителю: немощное тело Адиманты принадлежало к миру этих вот аккуратно расставленных и в большинстве своем отвратительных предметов, а не к тому привычному нам миру, который открывался за порогом музея. Коляска с мерзким скрипом покатила к стеклянной стене, за которой находился патио. Там сеньорита Остманн оглянулась и сказала Эстебану:
— Сколько еще вы собираетесь пробыть в Лиссабоне?
— Дня два или три, — ответил тот.
— Давайте встретимся завтра, сеньор Лабастида.
Наконец-то он мог вытащить из кармана пачку сигарет.
Чемодан и две дорожные сумки уместились в багажнике, а вот невиданную лампу, украшенную сверху птицами, в которую Мамен, по ее словам, влюбилась сразу, как только увидела в витрине на пасео да Грасиа, — эту лампу только после двух или даже трех попыток удалось засунуть на заднее сиденье, при этом окно с правой стороны пришлось оставить открытым, чтобы птицы могли высунуть туда свои головки. Почти всю дорогу Алисия промолчала. Она вела машину, крепко ухватившись за руль; и трудно было понять, чем объяснялся ее отсутствующий вид: сосредоточенностью или, наоборот, рассеянностью. Мамен решила, что получасовое опоздание самолета выбило Алисию из колеи, нарушило хрупкое равновесие в ее настроении.
Но на самом деле причина была иной: Алисия вела свой красный «клио», тормозила, как и положено, у светофоров — при этом лампа с птицами сотрясалась, и Мамен в ужасе оглядывалась назад, — но мысли Алисии ускользали из отведенного им места и сами по себе пускались в путь — преодолевая расстояние в 500 километров. Эстебан позвонил
ей накануне ночью и поведал о своих открытиях; потом продиктовал надпись с пьедестала четвертого ангела, которая для нее не имела никакого смысла; потом описал встречу с Себастиано Адимантой и его секретаршей, описал так выразительно и ярко, что Алисия с фотографической точностью представила их себе и испытала желание немедленно отправиться в Лиссабон, вместо того чтобы покорно, кусая губы, сидеть здесь. Весь вчерашний разговор, по сути, свелся к рассказу об ангеле и рассуждениям о Лиссабоне, который Алисия знала лишь по открыткам, но ей наверняка хотелось бы услышать безрассудные, опрометчивые слова, после которых она дрожащими руками повесила бы трубку. Но в том телефонном разговоре они старательно обходили по-настоящему важные для них темы, хотя только такого рода признания и могли оправдать звонок в половине второго ночи. А пока признания лишь подразумевались — ни один из них не рискнул нырнуть в мутные воды головой вниз. И теперь в мозгу Алисии маятником ходил туда-сюда вопрос: а хотела ли она на самом деле услышать эти самые слова? Наверное, хотела, потому что они укрепили бы ее решимость возвести на пустующем месте некое неприступное сооружение, где найдут приют ее чувства к Эстебану. И не хотела бы, потому что эти слова станут последним приграничным пунктом, вешкой, обозначающей, что пути назад нет. Но теперь надо было отогнать подальше, как назойливых мошек, все эти противоречивые настроения, пора обратить внимание на бедную Мамен, которая сидит рядом и покорно рассматривает летящие мимо деревья. Алисия постаралась найти самый безупречно вежливый тон для вопроса:
— Ну расскажи же, как там Барселона? Мамен взглянула на нее так, словно удивлялась: неужели Алисия все-таки умеет говорить?
— А! Наконец-то ты вернулась на планету под названием Земля, — проговорила она, доставая из сумки пачку сигарет. — Я ведь уже сказала: скучнейшая конференция на тему социоаффективных патологий и расстройств. Обмен мнениями с коллегами, доклады, круглые столы они, — эти столы, кстати, специально сделаны такой формы, что не дают клевать носом, — ну еще ужины в ресторане, попытка завязать интрижку… Все ерунда! Зато Барселона прекрасна. Меня всегда потрясают открытые пространства, там все непомерно, масштабно, повсюду небо. А что здесь? Как Эстебан?
— Эстебан в Лиссабоне, — ответила Алисия, и почему-то ее саму вдруг встревожил этот факт.
— В Лиссабоне. — Мамен повторила название города, зажав во рту сигарету. — Лиссабон я тоже обожаю. Очень красивый город. Ты была там когда-нибудь?
— Нет, никогда.
— Чудесный город, хотя у него какой-то обветшалый вид. А что делает там Эстебан? Поехал в отпуск?
— Не совсем.
Она понимала, что если откровенно скажет о цели поездки, то сдвинет крышку с сундука, где до поры до времени почивают громы и молнии. Ведь тогда обнаружится, что нелепая мания довела ее до предела, что она вовсе не забыла раз и навсегда, как велела Мамен, свои навязчивые идеи, не ограничилась спасительным рецептом на транквилизаторы. Голосом, в котором звучало фальшивое спокойствие, Алисия сообщила, что тот самый снежный ком — ангел, книга и так далее — продолжает катиться под гору, но теперь к нему присоединились еще несколько таинственных происшетвий, а также пара трупов. Да, Мамен может сколько угодно сердиться, может обругать ее, сказать, что Алисия ведет себя хуже, чем маленькая девочка, но интрига еще больше запуталась, паутина растет вширь — нить за нитью, и эта паутина в конце концов накрыла ее, Алисию, зацепив и бедного Эстебана, который только из любви к Алисии позволил втянуть себя в это дело, Мамен, как и следовало ожидать, рассердилась; она выкурила две сигареты подряд и не проронила ни слова, пока они не доехали до Золотой башни, откуда до дома Мамен оставалось всего несколько метров. И только после того как они вытащили из багажника вещи, пересекли тротуар, потом холл и зашли в лифт, Мамен выпалила:
— Алисия, ты не думаешь, что делаешь.
Да, да, она и не спорила с этим. Конечно, надо было слушаться указаний Мамен, надо было подавить навязчивые идеи, пока они не обрели такого масштаба и не стали по-настоящему опасными. Но теперь поздно причитать! Виной всему некий удивительный процесс, своего рода осмос: реальность — как внешняя, так и повседневная — в конце концов впитала в себя фантастические обстоятельства из снов Алисии, из того круга тайн и загадок, которые обступили ее сны. Все произошло помимо воли Алисии, просто два царства — внутреннее и внешнее — заключили своего рода соглашение и дальше развивались симметрично, завися друг от друга и включаясь в дела друг друга. Возможно, Алисия сходит с ума, но ведь и вправду существует загадка, которую необходимо разрешить. Почему мужчина с усами разыскивал ее? Почему Нурия прячет у себя ангела, похожего на ангелов из таинственного города? Как получилось, что план города, напечатанный в книге, совпал со сновидением Алисии? Почему именно Бласа подозревают в убийстве антиквара, который был еще и другом Марисы?
— Рафаэль Альмейда, — повторила Мамен, побледнев.
— А ты что, его знала?
Легкая заминка подтвердила: да, знала. Мамен поддалась минутной слабости, но быстро взяла себя в руки и заговорила о том, что надо бы сварить кофе — или лучше им выпить мансанильи? В квартире сильно пахло воском; запах, по всей видимости, шел от мебели или от каких-то предметов, стоявших в гостиной со стенами цвета сомон. Алисия сбегала за лампой с птицами и поставила ее в угол, под репродукцией Матисса — что-то вроде сине-зеленого подсолнуха. Взгляд Алисии упал на старинную деревянную фигурку святой Изабеллы, которая замерла на журнальном столике у дивана. Алисия нагнулась, взяла фигурку в руки, осмотрела. Мысли быстро закрутились в еще не совсем отлаженном мозгу — она чувствовала, как детали огромного конструктора начинают вставать на нужные места.
— Я купила ее у Альмейды, — сказала Мамен, подойдя к Алисии сзади. — Только прошу тебя, не воображай бог знает что! Мы были просто знакомы, не более того.
— А я ничего и не воображаю, — огрызнулась Алисия, ставя деревянную святую на место и прекрасно сознавая, что именно она должна была вообразить.
— Меня с ним познакомила Мариса, и я купила у него пару вещей — только и всего. Я, конечно, была в курсе их отношений. Ничего удивительного, он был мужчина видный, галантный, а бедный Хоакин, он, разумеется, очень добрый, но слишком заурядный, серый. Ты говоришь, что в убийстве обвиняют твоего соседа…
— Нет, он не убивал. На него пало подозрение, потому что он тоже был знаком с Альмейдой и в тот вечер заходил в лавку. Сейчас расскажу подробнее.
Но времени на подробности не осталось. Часы, взиравшие на них с телевизора, показывали, что время движется к половине седьмого: правый ус быстро опускался вниз. На этот вечер у Алисии была назначена встреча.
Инспектор Гальвес апатично ждал ее, сидя на скамье перед островом Картуха и глядя на сумбурные постройки Всемирной выставки; сумерки отражались в реке и окрашивали потоки воды в кроваво-красные тона; воду взрезали серебристые стрелы соревнующихся лодок. Алисия почти бежала, ориентируясь на полумесяц моста Баркета, и едва она вышла на аллею, как сразу заметила фигуру инспектора — сонного и неряшливо одетого. Инспектор курил какую-то дрянную сигарету, но теперь словно забыл о ней и чуть не обжег себе пальцы. Казалось, голос Алисии пробудил инспектора, помог вернуться в то место, где находилось его тело; он, отряхивая брюки, поднялся и поздоровался с обычной своей киношной вежливостью, потом предложил прогуляться. Их обогнала пара, совершающая footing, сзади им показалось, что светлая коса девушки — это рука, которая машет на прощание. Алисия подумала о том, что инспектор явно устал: движения его были куда медленнее и скованнее, чем всегда, будто каждому жесту, каждому слову он давал время вызреть, сперва проводил им технический осмотр и лишь потом позволял выплеснуться наружу. Поэтому Алисии показалось невыносимо театральным движение, которым он вытащил пачку «Винстона» из кармана невзрачного плаща и сунул в рот сигарету, — такое позволяют себе только очень плохие актеры, когда хотят показать, что происходит нечто чрезвычайно важное, поворотный путь в развитии действия, и публика должна это понять. Алисия шумно вздохнула; с реки дул мягкий ветерок, он шевелил заросли тростника у берега и вызывал улыбки на губах пенсионеров, сидевших на скамейках. Алисия отказалась от предложенного инспектором «Винстона», она предпочитала «Дукадос».
— Хочу еще раз поблагодарить вас за то, что вы уделили мне часть своего времени, — церемонно повторил Гальвес — Я понимаю, все это должно быть для вас очень неприятно, но войдите и в мое положение: мне платят за то, что я собираю свидетельские показания, исписываю кучу бумаги. Сказать по правде, я в глубине души благодарен начальству за то, что мне дали дело такого рода. Обычно мы возимся с молокососами, мошенниками, всяким поганым отребьем. В первый раз я столкнулся с загадкой интеллектуального характера: антиквариат, статуи, сатанизм. Только мечтать о таком можно!
— Сатанизм? — повторила Алисия, которая вдруг словно оглохла.
— Ах, разумеется, разумеется, я ведь забыл, что ваша роль — все отрицать, — Гальвес сделал жест в манере Богарта, но не слишком удачно, — или изображать крайнее изумление. Я говорил вам и вашему деверю, что у Асеведо не было серьезного мотива для преступления: пенсионер не стал бы рисковать и разбивать кому-то череп, чтобы последний оставшийся ему десяток лет прожить на деньги, заработанные таким вот способом. Ключ к преступлению — в том самом ежегоднике, в той толстой книге, которая валялась рядом с убитым, ведь из нее вырвали одну-единственную страницу. Я связался с некоторыми антикварами и, расстаравшись, нашел-таки целый экземпляр этого издания. На нужной нам странице речь шла об ангеле, вернее, о группе из четырех бронзовых ангелов, отлитых неким португальцем, поклонявшимся дьяволу. Прямо как в кино!
— Забавно!
Ночь уже начала разъедать небо, так что любители спорта и мамаши с колясками освобождали места людям совсем другого типа — сомнительного вида женщинам и юнцам с бутылками виски, принесенными в мятых белых пакетах. Наверху, слева, на улице Торнео, свет фонарей, смешивающийся со светом фар, создавал яркий желтый муравейник. Гальвес помолчал и глотнул дым, каждый его жест казался заранее тщательно отрепетированным.
— Я позвонил в Барселону, — продолжил он. — Поговорил с женой Бенльюре. Она подтвердила, что видела в мастерской мужа статую, похожую на ту, которую я описал ей по телефону, соответствующую размерам коробки, обнаруженной в гостиничном номере после убийства. В ежегоднике говорилось, что один из ангелов — а всего их было четыре — исчез после войны. Простите, но я не стану рассказывать вам всю эту историю, не хочу чувствовать себя полным идиотом. Разве я не прав?
— Понимаете… — Алисия смущенно кашлянула.
— Один ангел исчез после войны, второй был уничтожен. Я не знаю, как скульптура попала к Бенльюре, но можно с большой долей уверенности предположить, что это был тот ангел, которого считали пропавшим. Видимо, на каждом из четырех пьедесталов имелась надпись и все вместе они составляли древнее сатанинское заклятие; именно ради этого и были отлиты фигуры в восемнадцатом веке — для кучки безумцев. Ежегодник сообщает, что третья статуя находится в Лиссабоне, куда, как мне известно, отправился ваш деверь, последний ангел принадлежал старому каталонскому коллекционеру Жоану Маргалефу. Я попытался его отыскать, но он уже умер.
— Царствие ему небесное! — Алисия хотела показать, что ей все это совершенно безразлично.
— Я поговорил с его сыном, человеком равнодушным и не очень умным. Наследники поспешили поскорее избавиться от всей коллекции. Ангела продали. Кому, сын вспомнить не мог, а случилось это несколько месяцев назад. Они прокрутили столько сделок, что запомнить, кто и что купил, было невозможно. Мне пришлось повторить, что я из полиции и веду расследование преступления. В конце концов он сообщил, что ангела купила молодая женщина из Севильи.
— Молодая женщина, — пробормотала Алисия, давя каблуком окурок.
—Именно так. Вам что-нибудь пришло в голову?
Лучше бы ей совсем ничего не приходило в голову. Сейчас эта самая голова напоминала пчелиный улей, где пчелы в кромешной тьме яростно атаковали друг друга. Все указывало туда же, куда и самые первые подозрения, только страх тех дней теперь раздулся, словно огромная отвратительная опухоль, и нарыв вот-вот должен был прорваться. Но Алисия не желала при этом присутствовать. И хотя изначальная версия Эстебана послужила для нее довольно сильной прививкой от любых неожиданностей, она до сих пор не могла без ужаса принять то, что решительно отказывалось принять ее сердце, отыскивая смягчающие обстоятельства или опровержения. Да, в ее голову кое-что пришло, да, и не только кое-что, но еще и кое-кто, но она предпочитала бежать от подобных мыслей подальше, закрыть глаза и заснуть эдак на пару тысячелетий. Алисия принялась шарить по карманам в поисках сигарет, при этом она видела, с какой злостью смотрели на нее глаза инспектора — она мгновенно расшифровала цепочку мыслей, отраженных в этом взгляде.
— Подождите, подождите, — прошептала она. — Вы думаете, что это я…
— Я ничего не думаю, — перебил ее инспектор Гальвес, отводя взгляд. — Я хочу попросить вас, чтобы вы не покидали Севилью в ближайшие дни, даже если у вас возникнет непреодолимое желание отправиться в путешествие, как у вашего деверя. Тут ведь замешан сатанизм. А иметь дело с фанатиками — не из приятных. Вы обратили внимание, какой знак был на предплечье у Бенльюре? Или уже забыли?
— Знак?
— Две перевернутых буквы «t» — Рука Гальвеса нарисовала буквы в воздухе. — Если верить ежегоднику, то такой же знак был выбит на пьедестале погибшего ангела, Махазаэля. На самом деле, если вы заметили, на пьедестале каждого ангела имеется свой маленький знак — кроме еврейской буквы и текста. Я заглянул в кое-какие книги. Тема очень интересная.
— И что вы обнаружили? — попыталась выяснить Алисия с наигранным равнодушием, хотя чувствовала себя так, будто подступила к краю пропасти: отвлеченные рассуждения Гальвеса выводили ее из себя.
— Это stigmata diaboli — с важностью проговорил инспектор. — Дьяволовы меты. Демонологи объясняют, что речь идет о маленьком шраме или татуировке, которыми Сатана отмечал своих приверженцев, чтобы те могли узнавать друг друга, или еще для того, чтобы они могли выдержать пытки, оказавшись в тюрьме. Некоторые исследователи отмечают, что вышеназванный знак обычно ставится в тех местах, которые скрыты от посторонних глаз: под мышкой, на плече, под веком или в анальном отверстии; для женщин предпочтительны грудь или лобок — под волосами.
На краткий миг Алисии померещилось, будто инспектор Гальвес прямо сейчас захочет проверить, не несет ли она на себе проклятого знака. Она нервничала. Вокруг совсем стемнело, беспокойный ветер взметнул распущенные волосы Алисии и швырнул на лицо. Она глянула на часы, но циферблата не различила, сказала, что уже поздно, протянула руку в сторону огромного плаща инспектора и поспешила прочь, едва удерживаясь, чтобы не припустить бегом. Инспектор стоял у реки и курил; маленькая голубая луковка луны уже любовалась своим отражением в воде.
10
Улица Шау-да-Фейра
Улица Шау-да-Фейра. Когда Эстебан в последний раз поднимался на этот садистский холм, ему пришлось остановиться, чтобы обождать Эву, которая шла сзади, тяжело дыша, как ребенок с приступом астмы. Эстебан подвел ее к крепостной стене, и она бессильно привалилась к камням, а он достал из рюкзака бутылку воды. Японец с костлявыми коленками подошел к ним и любезно спросил, не нужна ли какая помощь. Нет, помощь им была не нужна. Эва терпеть не могла подобные восхождения, прогулки с препятствиями были не для нее: отпуск — это отдых в буквальном смысле слова, так что любые дополнительные трудности должны исключаться.
Теперь Эстебан шел по улице с тем же самым названием — Шау-да-Фейра, поднимался по неровной брусчатке вдоль ограды замка Святого Георгия, недавно отреставрированного, о чем свидетельствовали неряшливые пятна извести и цемента. Но общая атмосфера теперь была чуть иной, может быть, из-за освещения: все застилал разреженный розоватый туман, ничем не напоминавший чуть белесоватый свет сентябрьского Лиссабона. Ускорив шаг, так что заныли ноги, Эстебан размышлял о том, что наша память сама творит прошлое, а вовсе не возвращает его нам; память — это страдающее чрезмерной робостью воображение, которое не отваживается пустить свои выдумки в свободный полет. Предрождественский Лиссабон, каким они его увидели пять лет назад, был городом похороненным, несуществующим, хотя он и продолжал таить в себе лабиринты улиц и встреч. В чем-то главном тот Лиссабон отличался от города, в котором теперь очутился Эстебан, отыскивая конец нити, способной привести его в нужное ему будущее: настоящее никак не было связано с его воспоминаниями, а та сентиментальная и скучная прогулка ничего общего не имела с торопливыми поисками, которые занимали его теперь. И еще не дойдя до врат святого Георгия, где ему назначила встречу Эдла Остманн, он понял, что как Лиссабон минувшего успел рассеяться без всякой надежды на восстановление, так и тот Лиссабон, по которому он шагает теперь, тоже исчезнет, судьба этого города — быть упрятанным — или упакованным — в тоску по минувшему, как в бесполезный реликварий.
На сеньорите Эдле Остманн было пальто цвета морской волны, довольно короткое, так что оставались открытыми длинные стройные ноги, очень крепко стоящие на земле. После обмена приветствиями Эстебан бросил дежурное замечание по поводу погоды, и они тронулись в путь. Вместе с толпой туристов-северян прошли под аркой врат святого Георгия и повернули к смотровой площадке. Полдюжины покрытых ржавчиной орудий уставили стволы на устье реки. Утро было таким же туманным, как и накануне, и огромное белое пятно мешало разглядеть море — море лежало далеко впереди, за последней чертой, где суетились муравьи-грузчики, где стояли грузовые суда и краны, казавшиеся отсюда игрушечными, а порой и просто сотканными из воздуха. Площадь Комерсиу словно бы представляла собой последнюю линию в небрежных набросках, которые веером легли под воображаемой тяжестью тумана. Эстебан попытался пересчитать соборы, белые башни, увенчанные тиарами, пробежал взглядом по площадям. Вдалеке, над подъемником Санта Жуста, он различил окаменелый остов церкви до Кармо — доисторическое чудовище, разросшееся каменными блоками и контрфорсами. Эдла Остманн, стоя рядом с Эстебаном, бросила быстрый взгляд на панораму города и закурила еще одну маленькую ароматную сигару; затем вежливо, но довольно резко заметила, что они здесь не для того, чтобы любоваться достопримечательностями, и повела спутника вдоль крепостной стены к развалинам арки. За аркой открывалась кокетливая круглая площадь, где туристы-пенсионеры переводили дух и фотографировались. В центре площади на строгом мраморном пьедестале высился бронзовый архангел Михаил, вооруженный мечом и копьем, рядом поверженный дракон впился зубами в его сандалию. В фигуре архангела Эстебану почудилось что-то знакомое, словно он где-то уже видел точно такие же развевающиеся волосы и одежды. Кроме того, сама поза, изгибы женственного тела заставляли вспомнить другое изваяние. Они подошли поближе, у памятника толпились туристы преклонных лет, они обменивались шутками на каком-то загадочном языке, усыпанном фрикативными «х». Дракон был жилистым и сильным, казалось, нога архангела не до конца усмирила его, так что пасть с острыми клыками изрыгала воинственный клик, который не удалось передать в бронзе. Его оружие, сломанное и растоптанное противником, валялось вокруг: восточный кинжал, копье, круглый щит с вырезанным на нем носорогом — чудовищем с фантастическим панцирем.
— Игнасио да Алпиарса, — прошептал Эстебан, доставая пачку сигарет.
— Да, — подтвердила Эдла Остманн, посасывая свою черную как уголь сигару. — Однажды ночью во время грозы была разрушена старинная статуя святого Георгия, украшавшая эту площадь. Король Жозе Первый заказал да Алпиарсе
новую скульптуру на ту же тему, но скульптор предпочел изобразить совсем другого святого — только ради того, чтобы рядом с ним изваять своего хозяина Люцифера. Посмотрите: добро и зло сражаются беспощадно, до победного конца. Помните: носорог да Алпиарсы был посвящен дьяволу.
— А как Заговорщики попали в Лиссабон? — поинтересовался Эстебан, пока сеньорита Остманн давала ему прикурить.
— Пойдемте дальше, — сказала она вместо ответа.
Его воля снова растворилась в ее водянистом взгляде, который словно бы подавлял любую попытку выразить несогласие, проявить непокорность. Взгляд этот, пронзительный и властный, каким-то образом, будто просверливая лоб, проникал в самую глубь — туда, где крутились мысли, зарождались чувства, в ту область, которую Эстебан привык считать исключительной, недоступной посторонним частью своей личности. Пока они спускались по извилистым улочкам Алфамы, он неожиданно вспомнил, что однажды уже испытал подобное ощущение: кто-то чужой взломал его черепную коробку и хозяйничает в мозгу, завладевая сокровенной информацией; это случилось в тот вечер, когда Эстебан вышел из лавки Альмейды с ангелом под мышкой — именно тогда им внезапно овладело необъяснимое чувство паники, и он бросился бежать, потому что неведомый глаз проник в его мозг. Но сеньорита Остманн смотрела на него очень миролюбиво, ничего ужасного тут не было, и все-таки Эстебан содрогнулся, ясно поняв, что он для нее так же прозрачен, как прозрачны ее светлые глаза, в которых застыли голубые льдинки. Эстебан постарался отогнать тревожные чувства, постарался думать о чем-нибудь другом; они как раз проходили мимо украшенного зубцами собора Се, который так не нравился Эве: с ее точки зрения, собору непременно полагалось иметь готические пинакли и арочные контрфорсы. Тут Эдла Остманн вытащила из пачки очередную сигару и погладила ее длинными белыми пальцами.
— Чтобы проследить корни секты Заговорщиков, — сказала она бесцветным голосом, — безусловно, самой заметной и изощренной организации из всех известных нам в истории сатанизма, следует заглянуть в Александрию, во второй или третий век нашей эры. Вы ведь знаете, что в ту эпоху в Римской империи переживали подлинный расцвет всякого рода мистические верования, магические общества, колдуны, чернокнижники, поклонники темных и странных культов. В этом котле сформировались следовавшие одно за другим провидения Басилида, гностиков, Николая Антиохийского и Валентина. На фоне таких разнородных теологических и мистических течений, естественно было встретить псалмы, литании, заговоры и посвящения, обращенные к самым что ни на есть экзотическим божествам, да и цели у них были тоже самыми что ни на есть пестрыми: в этот период в империи с равным пылом совершались обряды на латыни, греческом, египетском и еврейском — в честь Юпитера, Исиды, Митры, Яхве, Персефоны. Некий греческий манускрипт со вставками на древнееврейском, написанный в ту эпоху, был доставлен одним византийским эрудитом во Флоренцию — город Фичино и платоников — в середине пятнадцатого века, сразу после падения Константинополя; позднее эрудит погиб во время кораблекрушения, а библиотека, где хранился манускрипт, сгорела. Но тем не менее Пико делла Мирандола или Эрмолао Барберо успели подержать его в руках, и не только они, а и некий анонимный переписчик, который спас текст от огня. В начале шестнадцатого века был известен лишь один экземпляр этого текста — он хранился в библиотеке Ватикана. Там с ним познакомился Родриго Борджа, потомок валенсианских эмигрантов, тот самый, что займет папский престол под именем Александра Шестого.
— Что это был за манускрипт? — спросил Эсте-бан. — Вернее, какой теме он был посвящен?
— В нем содержалось заклинание, — ответила Эдла Остманн, крутя в пальцах с фиолетовыми ноготками все еще не зажженную сигару. — Чтобы призвать беса Асмодея, мучителя Иова и Товия, или Аполлиона, ангела бездны, на еврейском прозванного Аваддоном-Губителем. У этого мрачного божества есть и другие прозвания: Велиал, Вельзевул, Люцифер. Текст должен был заставить Сатану предстать перед тем, кто произнесет заклинание, и тогда можно будет обратиться к нему со своими просьбами, которые дьявол обязан удовлетворить, прежде заручившись подписью просителя на особом договоре. Иными словами — легенда о Фаусте в самых различных вариантах, как ее представляют трактаты по магии. Заговорщики, видимо, появились именно в то время, когда Папа Александр предложил для оживления устраиваемых в Ватикане оргий и празднеств призвать туда дьявола. Среди членов секты находились и двое детей Папы — Лукреция и Чезаре, а также много других известных лиц — политики, художники, литераторы. Вы конечно же знаете — об этом снято множество фильмов, — что Апокалипсис предсказывает пришествие таинственного Антихриста, который откроет эру империи последних дней, за которой, в свою очередь, последует царствие Люцифера. Так вот, этот Антихрист должен родиться на свет от семени самого Сатаны. Заговорщики замыслили, чтобы дьявол, материализовавшийся с помощью заговора, соединился с женщиной, чтобы они зачали Антихриста: эта женщина должна быть высшей жрицей и носить пышный титул папессы. Лукреция Борджа, женщина неземной красоты, и стала папессой. Во время первого своего явления — если верить хроникам — Сатана предстал в странном облике, соединив в себе самым загадочным образом черты барана и высокородного господина. Он распределил должности среди паствы и отметил их знаменитой stigmata diabili — то есть печатью дьявола.
Они пересекли Байшу и направились на север; на улице Асунсау их обогнал трамвай, набитый, как казалось, только людскими головами с непрестанно двигающимися губами и глазами. Трамвай проследовал вверх по улице. Туман начал рассеиваться, и небо над ними и над компактными коробками домов стало гораздо синее и выше.
— Дьявол разделил группу своих поклонников на четыре церкви. — Остманн часто заморгала. — Во главе каждой поставил архиепископа, который, в свою очередь, подчинялся папессе. Почему на четыре? Обычно цифра четыре означает некую цельность — это число мира: четыре стороны света, четыре элемента, четыре времени года, четыре типа темперамента. Река, бравшая начало в саду Эдем, имела четыре рукава, Иезекиилю в его видении явились четыре херувима, четыре кары послал Господь на свой народ, как сказано в Книге Иеремии: меч, псов, птиц, зверей. Каждая из сатанинских церквей попадала под покровительство одного из князей Люцифера, тех, что присоединились к нему во время мятежа против Всевышнего: Самаэля, Азазеля, Азаэля, Махазаэля.
— Ангелы, — прокомментировал Эстебан, рассеянно глядя на носки своих ботинок.
Подъемник Святой Жусты представлял собой изящную железную клетку, которая доставляла пассажиров из Вайши в Байрру Алту. Служитель в форме с галунами взял у сеньориты Остманн деньги и указал им места на красной скамье, расположенной кругом по стенам подъемника. Несколько японцев обменивались впечатлениями на языке, похожем на язык героев мультфильма. Мужчина в форме сверился с наручными часами и нажал на рычаг; едва успела закрыться раздвижная дверь, как в огромных окнах поплыли вниз ближние дома, совсем как декорации в опере, передвигаемые скрытым механизмом. И перед глазами Эстебана стала медленно открываться Алфама — покрывало с охряно-серыми заплатами, над которым возвышалась усталая громада замка Святого Георгия. Там, справа, море уже избавилось от докучливого утреннего тумана и лежало огромное и пустынное, словно лунный пейзаж. Они вышли на площадь Кармо у костистых развалин церкви, которую Эстебан заметил еще от замка. Потом миновали длинный, застланный ковром коридор, и снова солнечный свет окрасил их головы золотым сиянием.
— В тысяча пятьсот первом году, — Эдла Остманн, кашлянув, продолжила свой рассказ, — Лукреция Борджа родила некоего «римского младенца», отцом которого, согласно легенде, был ее собственный отец, Папа Римский Александр Шестой. Но есть и более смелая версия: она называет отцом ребенка дьявола, и зачат он якобы был во время одной из черных месс, которые усердно служили в папской резиденции. Как бы то ни было, Лукреция в тысяча пятьсот втором году вышла замуж за Альфонсо д'Эсте и переехала в Феррару, где начала соверешенно новую жизнь, стараясь очиститься от грехов. А младенец был обезглавлен во сне, и тело его скормили охотничьим псам, принадлежавшим брату Лукреции — Чезаре. Лукреция же и на самом деле вела в Ферраре весьма скромную жизнь — желание искупить вину сделало ее чрезвычайно набожной. И все-таки какое-то время спустя Лукреция вернулась к занятиям магией. Умерла она в тысяча пятьсот девятнадцатом году — от потери крови после выкидыша. Смерть Лукреции, весть об убийстве ее брата и падение Александра спровоцировали жестокие репрессии, которые стерли Заговорщиков с лица итальянской земли. Пий Третий, новый Папа, приказал сжечь библиотеку Борджа и уничтожить все, связанное с сатанинским культом. Если бы не слуга Александра Шестого — который, по всей видимости, был его незаконным сыном, — потерявший язык, один глаз и руку во время пыток, от зловещего манускрипта с заклинанием не осталось бы и следа, но этот человек, совершенно не знавший греческого, старательно переписал значки и, прихватив копию, сбежал в Венецию.
Они по диагонали пересекли площадь Карму и начали подъем по улице Триндаде, почему-то вдруг прервав разговор. Длинные ноги Эдлы напоминали белые ножницы. Улица пестрела лавками, и витрины выставляли напоказ самый изысканный товар, но Эстебан и его спутница не могли позволить себе остановиться и полюбоваться на всю эту роскошь. Когда они подошли к дому с фасадом, расписанным ангелами и рогами изобилия, Эдла кивком указала на дверь. Человек, сидевший в холле за массивным столом, взял три монеты и вручил им билеты. Они проследовали во внутреннее помещение, где потолок был образован перекрещенными балками, черными и круглыми, — сеньорита Остманн едва не касалась их головой. В окно виднелся сад. Дом был старинный: беленные известью стены, выложенный красными плитами пол, запах ветхости и свежести — все говорило о минувших веках. У входа в прямоугольный зал, напоминающий обеденный, Эстебан заметил стеклянную витрину, а в ней — марионетку. Кукла была одета в камзол с позументом, на голове — парик. Маленький деревянный Казанова. Не слишком тонко вырезанные черты лица выражали уныние и сонливость. Кружевами, торчащими из рукавов, уже давно кормилась моль.
— Это один из самых старых домов Лиссабона, — сообщила сеньорита Остманн, и голос ее причудливым эхом раскатился по залу. — Один из немногих, переживших землетрясение тысяча семьсот пятьдесят пятого года, хотя одно крыло было разрушено, как и конюшня в глубине двора. Теперь здесь Лиссабонский музей марионеток. Его называют Домом лабиринта, потому что в саду находится красивейшая живая изгородь в форме лабиринта. А теперь взгляните вон туда, сеньор Лабастида, на цоколь.
Эстебан отвел взгляд от марионетки в витрине и увидел, что по всей длине стен над самым полом навязчиво повторяется маленький коричневый рисунок — носорог. Дом принадлежал да Алпиарсе, здесь держал он своего носорога. После этого открытия здание сразу показалось Эстебану одновременно и притягательным, и чудовищным. Он представил себе, как носорог возлежит на шелковом ложе в окружении слуг и, вознеся вверх свой рог, принимает визиты знатных персон. У Эстебана вдруг появилась смутная догадка, будто носорог тоже должен быть символом чего-то, как и орел или, скажем, голубь, но значение этого символа от него ускользало.
— Андреа Месауро, — сказала Остманн, — тот, что позднее стал известен как Ашиль Фельтринелли, был молодым прелатом, служил секретарем в Венеции в семействе Кастровальва — самом влиятельном в Венецианской республике. Ему-то и принадлежала честь обнаружения документа, то есть копии, сделанной слугой, которая попала в связку торговых договоров и потом затерялась на венецианской бирже. Ознакомившись с содержанием манускрипта, он вознамерился восстановить былую славу Заговорщиков, но княжеская гвардия нарушила его планы. Месауро скитался по Швеции, Германии, Испании и Франции, пытаясь распространять евангелие от дьявола, но везде наталкивался на враждебный прием властей. И только в Лиссабоне, где-то около тысяча семьсот пятьдесят третьего года, беглый итальянец нашел покровительство у экстравагантного скульптора, служившего при дворе короля Жозе Первого — дона Игнасио да Алпиарсы, смертельно озабоченного болезнью носорога, которого он любил больше жизни и о котором заботился, как о ребенке. Итальянец и скульптор собрали вокруг себя кружок знатных людей, недалеких и праздных, мечтающих о чем-нибудь новеньком, и опять основали общество Заговорщиков — второй его виток. Папессой сделали некую авантюристку из аристократического рода, англичанку, женщину обжигающей красоты, с пышной рыжей шевелюрой — леди Эстер Стэнхоуп. Еще до вступления в секту она пользовалась скандальной славой: например, разгуливала голой в садах своего дворца в сопровождении черного невольника, который ублажал ее, когда ей того хотелось. А еще она занималась фехтованием и принимала опий. Это для нее да Алпиарса отлил четырех ангелов и на пьедестале каждого выбил четвертую часть заговора — чтобы архиепископы четырех церквей хранили по одной из них.
— Но не только часть заговора, — немедленно заметил Эстебан.
— Не только, сеньор Лабастида, и вам это отлично известно. — Взгляд сеньориты Остманн сделался мрачным и весьма грозным, так что Эстебан даже отступил на шаг. — На пьедестале каждого ангела выбит фрагмент заговора, точно перенесенный из манускрипта, который Фельтринелли обнаружил в Венеции. Есть еще четыре еврейские буквы, которые, если их соединить, дают нам nun-tet-shin-lamed — Сатана. Этим именем называют Врага в Ветхом Завете. Но это не просто знак почитания, это еще и след: надписи на четырех статуях надо расположить между собой в определенном порядке, и тогда можно будет прочесть некий текст.
— Да, — сказал Эстебан, — и еще у нас есть начало строк из стихотворения, помещенного в конец «Mysterium» Фельтринелли, а также несколько строк на неизвестном языке. Что все это значит?
Эдла Остманн глубоко вздохнула. Они шли мимо марионеток — маленьких и внимательных зрителей, которые молча следили за каждым их движением своими внимательными нарисованными глазками. Миниатюрные драконы с бумажными языками, принцессы и рыцари, обезображенные молью и ржавчиной, — они висели по стенам, словно маленькие преступники, забытые палачом на виселицах.
Эстебану почудилось, будто они с сеньоритой Остманн здесь не одни и все эти затаившиеся наблюдатели тоже интересуются ужасными и волнующими событиями, которые происходили когда-то в этом самом доме. На пороге нового зала, охраняемого безруким арлекином, Эдла Остманн приостановилась и сказала:
— В венецианском манускрипте содержалось не только заклинание, там имелись еще и точные указания касательно того, где и как заклинание следует произносить. Но на пьедесталах нет и намека на это, так что мы вправе предположить, что стихи и текст на неизвестном языке несут в себе некий ключ. Честно признаюсь, я понятия не имею, какая связь существует между тем и другим и какой это язык. Книги знаменитых демонологов пестрят отрывками на неизвестных языках, на которых эти мудрецы пытались сообщаться с дьяволом и бесами: загляните в труды Тритемиуса или Джона Ди. В то же время остальную символику с пьедесталов нетрудно расшифровать. Вы, разумеется, заметили, что у левой ноги каждого ангела помещено маленькое существо — лев, орел, человек и бык. В Книге Иезекииля — первая глава, стихи с пятого по тринадцатый — есть описание четырех крылатых человекоподобных животных: у каждого четыре лица, центральное — человеческое, с правой стороны — лицо льва, с левой — лицо тельца, а над всеми тремя — орлиное. В Апокалипсисе чудовища появляются вновь, теперь это — человек, лев, бык и орел с крыльями, усеянными глазами. Комментаторы не сошлись во мнении относительно этих созданий, в своих толкованиях они говорят то о неявном присутствии Бога, то о способности дьявола преображаться; помещенные рядом с бронзовыми ангелами, они служат антагонистами четырем евангелистам: символика этих существ видится и в символике четырех евангелистов. Что касается хромоты, то во всех примитивных культурах физический изъян почитался знаком извращенности: в Книге Царств рассказывается о том, как жрецы Ваала хромали, исполняя ритуальный танец, а в Книге Бытия — о том, как ангел, сражаясь с Иаковом, повреждает жилу в ноге. Сатана охромел, упав с Небес на Землю.
Наконец они зашли в маленькую квадратную. комнату, где уже не увидели ни одной куклы на стенах, покрытых типично лиссабонскими голубыми изразцами с характерным растительным орнаментом или гротескными изображениями, какими, как правило, отделывают притолоку в кондитерских. Но здесь изразцы образовали настоящий город — бледно-голубой город, который казался призрачным, ирреальным, как театр марионеток. Голубые домики жались друг к другу, создавая террасы, а длинные гирлянды слепленных меж собой фасадов напоминали фантастическую оперную декорацию. Дворцовые перистили сменялись фронтонами академий, затем шли арены с трибунами, за ними — голубые крытые галереи, которые робко высовывались из-за балюстрад военных школ. А в центре каждой стены этого удивительного зала была изображена маленькая круглая площадь, приютившая едва различимую фигурку с едва намеченными крыльями и вывихнутой ногой, а рядом — некое существо. Этот амфитеатр, окружающий их, этот таинственный голубой мир точно повторял иллюстрации в книге, фрагменты из которой Эстебан пытался перевести и по страницам которой Алисия блуждала, спасаясь от удушающих ночных кошмаров. Этот Новый Вавилон, нарисованный на стенах, пустил корни в сердце дома, населенного марионетками. Впервые Эстебан созерцал город собственными глазами, а не представлял его по сбивчивым описаниям Алисии. Он как зачарованный двигался вдоль стен, останавливаясь у каждого рисунка. И только тут ему яркой вспышкой открылся истинный смысл собственного визита в Лиссабон: он приехал сюда, чтобы увидеть этот потаенный, невероятный город. Севилья и Лиссабон — отражения, маскарадные облачения, смехотворные толкования архетипического, идеального города, который Алисия исходила вдоль и поперек и который теперь явился Эстебану во всей своей притягательности. Новый Вавилон был столь же реален — или даже более реален, — чем все те смутные города, где Эстебан влюблялся, по которым бродил, которые стали главами его недолгой пока еще и скромной жизни, утекающей куда-то, как вода. Он вспомнил сказку из «Тысячи и одной ночи» (опять и опять литература): там человек спит во дворике своего дома под пальмами и видит сон, будто в каком-то далеком городе в некоем доме зарыт клад; он едет в этот город, отыскивает нужный дом, но хозяева гонят его прочь; тогда он описывает хозяину свой сон, а тот с издевкой советует пришельцу не верить снам: ему самому каждую ночь снится дворик с пальмой, где зарыт клад. Клад и вправду находился в доме того, кто совершил путешествие, но чтобы узнать об этом, ему пришлось проделать дальний путь. Эстебан проехал пятьсот километров, чтобы вникнуть в суть видений Алисии.
— Новый Вавилон, — сказала Эдла Остманн, делая широкий жест и словно представляя ему весь дом. — Именно в этом зале Заговорщики проводили свои сборища. Первый камень дома был заложен в годы властвования Борджа. Ужесточение репрессий в Италии оставило им единственныйвыход: тайком перебраться в другие широты. Они нашли вдохновение в выдумках Фладда и Бруно, которые утверждали, что силой мысли могут построить воображаемые города, дабы укрепить собственную память. И вот новые Заговорщики принялись, пользуясь силой коллективного воображения, расширять Новый Вавилон, который вы здесь видите. Они работали над этим каждую ночь — раздвигали и раздвигали границы, каждый вносил в строительство что-то свое: статуи, балюстрады, дворцы, мосты. Ночью первого ноября тысяча семьсот пятьдесят пятого года собрание проводилось в доме маркизы Стэнхоуп, и это было особое собрание: Заговорщики присутствовали при родах папессы — ребенок был зачат ею якобы от самого дьявола. Землетрясение погубило и мать, и дитя, да и всех присутствующих, за исключением двоих. Игнасио да Алпиарса был лишь ранен, но, несмотря на это, прибежал сюда. И обнаружил, что его носорог умер.
Палец сеньориты Остманн указывал в окно. Тусклое солнце освещало сад с огромным лабиринтом, зеленые буквы, вернее, причудливые каракули и спирали тянулись до стоящего вдалеке плоского здания с залатанными стенами. Эстебан и сеньорита Остманн спустились по ступенькам и снова оказались под открытым небом — оно раскинулось над их головами бескрайним синим шатром. Остманн хотела показать Эстебану конюшню, где содержался носорог, поэтому они двинулись по лабиринту. Он шел за ней, не отставая ни на шаг, так, чтобы все время слышать хруст гравия под ее каблуками. Они двигались по бесконечному коридору из рододендронов. И Эстебан не сумел бы сказать, сколько времени они уже шли, когда понял, что заблудился. На одном из изгибов дорожки он свернул направо и обнаружил, что больше не видит впереди ни спины Эдлы Остманн, ни ее длинных ног. Он хотел вернуться к входу в лабиринт, но дорожка дернулась куда-то вбок, и этот путь показался ему незнакомым. Он вышел к маленькой площади с фонтаном.
Терпеливо выкурил сигарету, собрался было покричать, чтобы привлечь внимание сеньориты Остманн, но ему стало стыдно. Его одолевали разные мысли: что за ним вот-вот придут, что никто никогда не выведет его из этой точки среди нелепого переплетения тропок и дорожек. Не было смысла самому пытаться искать выход, любые логические построения в данной ситуации оказались бы бесполезны — ведь план сада не отвечал законам обычной логики. Между тем по дорожкам начал свистеть ветер, он хлестал Эстебана по лицу, так что приходилось прикрывать глаза. За время блужданий он успел выкурить одну за другой четыре сигареты; ему попались три перекрестка, а может, три раза один и тот же перекресток. Он опять подумал, что ключ к лабиринту умом не отыскать и что никак нельзя перепрыгнуть через стену узкого коридора: разум тоже блуждал — словно по зеркальным отражениям лабиринта, — тоже плутал, не зная, какую из нескольких тропок выбрать. Оставалось покорно положиться на интуицию, ведь она и прежде нередко давала верные советы, подсказывала верные слова и поступки или же, наоборот, накладывала запрет на какие-то слова и поступки — порой исходя просто из законов симметрии или каких-то потаенных математических законов, которым подчиняется окружающий мир. Чтобы выйти, чтобы найти конюшню — истину, сокровище, — надо слушаться интуиции, подчиниться той слепой руке, которая на рассвете, пока хозяин ее еще не проснулся, безошибочно отыскивает будильник или лампу на ночном столике. Он раздавил каблуком очередной окурок и тотчас почувствовал, как кто-то схватил его за плечо, — сзади стояла Эдла Остманн, словно вынырнувшая из зеленой изгороди.
От Мамен они вышли около пяти — после бесконечных споров и пререканий и после того, как Алисия, выдохнув воздух из груди так громко, что звук разнесся по всей квартире, сунула руки в карманы куртки и шагнула за порог. Мамен догнала ее этажом ниже и даже извинилась, хотя довольно вяло: затеянный Алисией визит по-прежнему казался ей верхом глупости. Еще немного — и они начнут выполнять и прочие идиотские советы Марисы — например, есть силос, тщательно выбирая в ресторанном меню ту или иную его разновидность. Но разумеется, ежели это так нужно Алисии, если это ее успокоит, — пожалуйста, она, Мамен, готова соответствовать. Алисии ее бурчание успело надоесть, и она попросила подругу не повторять одно и то же в сотый раз, лучше пусть помолчит. Они повернули с Торнео к Аламеде, и Алисия снова принялась объяснять: речь идет о попытке, только о попытке и не более того, ведь никто не заставит их слушаться гадалку — ну заплатят несчастные две-три тысячи песет, а там видно будет. Алисии совершенно необходимо услышать еще чье-нибудь мнение. Мамен пришлось согласиться: да, вся эта история со снами, в которые запросто забредают посторонние люди, словно в городской парк воскресным вечерком, была не совсем обычной, и о таких приключениях не каждому расскажешь. Иными словами, необычная болезнь требует необычных лекарств. И кто знает, может, как раз нелепая и экстравагантная Азия Феррер отыщет ключ к этой безумно закрученной интриге.
Итак, продолжая скептически покачивать головой, Мамен шла с Алисией по улице Калатрава. Разумеется, она не одобряла глупой выходки Алисии, очередной ее глупой выходки, — только ясновидящей им и не хватало! — но оставить Алисию одну она не могла. Ведь та почти полностью утратила чувство реальности, а значит, на свой лад истолкует все, что скажет ей сумасшедшая гадалка. И уж тем более нельзя отдавать Алисию в руки Марисы, которая способна окончательно замусорить ей мозги, предложив искать объяснение всему происходящему в пятом измерении. Ничего загадочного в недуге Алисии не было: навязчивый невроз с огромной скоростью завладевал ее мозгом, завоевывал очередную территорию, стоило подкинуть в костер еще одно полено — нанести какой-либо визит или поговорить по телефону с Эстебаном, который и сам был без царя в голове. Да, да, конечно, он мечтает затащить Алисию в постель, но ведь существуют и более пристойные способы добиться подобной цели.
Четверо хиппи сидели на ступенях Аламеды и били в барабан, передавая друг другу банку пива и сигарету с травкой. Алисия и Мамен прошли через автостоянку до улицы Перис Менчета, где бары с вынесенными на тротуар решетчатыми заграждениями стали попадаться гораздо реже. Они шагали мимо ветхих домов, и лишь изредка им попадался какой-нибудь прохожий, какой-нибудь тип с сигаретой во рту. Дом, номер которого значился на визитной карточке, оказался двухэтажным, с цветочными горшками на балконе и мозаичной Девой Марией над входной дверью. Рядом приютилась ветеринарная клиника, о чем и сообщала разбитая вывеска. Мамен буркнула, что еще не поздно повернуть назад, что только новой головной боли им и недостает, но Алисия решительно зашагала по ступеням. Стена была когда-то побелена, теперь ее покрывали пятна сырости и трещины — вместе они напоминали очертания архипелагов. Наверху, где кончилась лестница, навстречу им из дверей выглянула неопределенного возраста женщина: большой кривой нос, густой слой косметики и множество колец на скрюченных артритом пальцах. Она была наряжена в тунику, но это, по мнению Мамен, вполне соответствовало традиции, то есть считалось непременным атрибутом данной профессии. Поразило ее другое: немыслимая грива фиолетового цвета, падавшая гадалке на плечи. Женщина вежливо пригласила их войти, и они тут же почувствовали резкий запах кошачьей мочи, шедший изо всех углов. Они миновали гостиную с телевизором, потом кухню. Кабинет Азии Феррер находился в конце короткого коридора, стены которого были украшены знаками зодиака.
— Мы от Марисы Гордильо, — извиняющимся тоном сообщила Алисия.
— А, от Марисы, — откликнулась женщина злым голосом. — Тогда вам будет скидка. Обычно я делаю скидку только тем, кто просит погадать на картах, но для вас — хоть на картах, хоть по руке.
Кабинет оправдал худшие предчувствия Мамен: все четыре стены были затянуты фиолетовой тканью, рассеянный свет от висящей в центре лампы падал на складной столик, рядом стояло некое подобие этажерки, украшенной картинками из дешевых книг. Тот самый кот, серо-белое чудовище, толстый, как куль, по вине которого и провоняла вся квартира, лениво потягивался на стуле. Азия Феррер взяла несколько ароматных палочек, потом предложила клиенткам сесть. Мамен почувствовала, как на смену раздражению подкатил смех. Лившийся сбоку белый свет углубил тени на лице гадалки, так что оно стало напоминать злую маску из греческой трагедии. Азия Феррер вытянула над скатертью унизанные кольцами пальцы и произнесла:
— Азия Феррер готова служить вам. Спрашивайте, что желаете.
По мере того как Алисия объясняла, что им не нужно гадание ни на картах, ни по руке, ни даже на кофейной гуще, брови доброй женщины ползли выше и выше на лоб. Все дело в сновидении. Странном сне, который нет смысла подробно пересказывать. Алисия хотела узнать: бывает ли, что одни и те же сны снятся разным людям, иначе говоря, что эти люди проникают друг к другу в сны, словно договорившись там встретиться, как, скажем, в баре или у кого-то дома. Она хотела узнать: неужели доступ в сны так же свободен, как доступ в любой музей или, например, в бордель? Пока Алисия задавала свои вопросы напряженно сжавшей губы Азии Феррер, Мамен чувствовала, как кот гадалки гипнотизирует ее: желтые зрачки смотрели пристально и неотступно.
— Видите ли, — сказала Азия Феррер таким тоном, словно объясняла принципы квантовой физики пятилетнему ребенку, — то, что с вами происходит, совершенно нормально. Не скажу, что обычно, хотя подобных случаев встречается немало, но совершенно естественно. Правда, чтобы понять это, надо иметь в виду кое-какие изначальные обстоятельства.
Веки Мамен опустились, она приготовилась стоически вынести неизбежную лекцию о тайном составе любых вещей на свете, весь набор неизъяснимых истин, опровергающих невероятную наивность эмпирических наук. Азия Феррер говорила веско, с пафосом, словно перед ней сидела тысяча ревностных поклонников.
— Сущее делится на семь планов, сеньорита: семь форм существования, семь восходящих категорий. В самом нижнем регистре находится Физический уровень, или Sthula, соответствующий материи, в человеческом существе это плоть, волосы, кости, кожа и так далее. Следующий план — астральный, Kama, на котором я еще остановлюсь; далее — ментальный, или Manas. Этот последний есть личностное сознание, то есть «я» каждого человека: наши опознавательные знаки, то, что мы признаем как нечто только нам принадлежащее в смысле полноценного использования собственных способностей. Возвращаясь к Ката, или астральному плану, надо сказать, что он содержит весь потенциал психических действий, которые человек не использует; он соответствует тому, что психологи, люди грубые и тупоумные, презрительно называют подсознательным.
— Отлично, — отозвалась Алисия, искоса поглядывая на Мамен, которая с трудом сдерживала хохот.
— Астральное тело — это тело, состоящее из очень тонкой субстанции, она связана с материей, но в определенных обстоятельствах отделяется от нее: во время сна, даже не самого глубокого, когда человек, например, находится под воздействием наркотиков или снотворного, но, конечно, прежде всего во время обычного сна. Освободившись, астральное тело может посещать разные пространства и овладевать какими-то предметами. Разумеется, тело это посещает не материальный мир, в котором мы привыкли находиться, а параллельный астральный мир, который не слишком похож на наш.
— Значит, существует два мира, — попыталась уточнить Алисия.
— Существует много миров, сеньорита, — с большим апломбом поправила ее Азия Феррер. — Но все заключены в нашем, в этом вот мире. Представьте себе два гостиничных номера, один над другим, в обоих одинаковая мебель, расставленная в одинаковом порядке. Материальное тело имеет доступ лишь в нижнюю комнату. Астральное тело способно проникать и в ту, и в другую. Астральный взгляд мы и называем ясновидением, так же как астральное прикосновение — телекинезом.
Можно было только восхищаться тем, насколько ясным казалось все вокруг этой женщине. В какой-то миг смех и бешенство, душившие Мамен, отступили, сменившись завистью: теперь она понимала, какую службу оказывают Марисе подобные откровения. Все, каждая вещь, поставлено на должное место с нужной биркой — хоть е ванной комнате, хоть на семи уровнях Бытия; в результате мы имеем прирученную энтропию и универсум, полностью очищенный от тайн, как приусадебный участок от пней. Кому нужна правда, если она обстругана и урезана? Такая правда не поможет понять окружающее в его совокупности.
— Астральная и материальная географии не всегда совпадают, — добавила Азия Феррер и схватила кота, угадав его намерение окропить портьеру. — Астральная копия какого-нибудь предмета не обязательно — вовсе не обязательно — находится в той же точке, где и материальная модель. В астральном плане вещи, здания, пейзажи могут перемещаться и комбинироваться, образуя противоречивый мир, загадочный мир, который мы видим во сне. Так что вы посетили именно астральный город, город, который находится где-то там, неведомо где, в отличие, допустим, от Рима или Парижа, которые всегда стоят на своих определенных местах.
— Хорошо, — такое объяснение на самом деле вполне удовлетворило Алисию, — но ведь, чтобы посетить Рим, я сажусь в самолет.
— Перемещаться в астральной зоне куда проще. — Рука ясновидящей утонула в пепельной шерсти кота. — Довольно всего лишь намека на желание оказаться в другом месте.
— Но я-то никогда не хотела попасть туда!
— Значит, ваш случай сложнее других, — Кот спрыгнул на пол. — Есть люди, отличные от других, у них очень мощное астральное тело, эти люди с детских лет демонстрируют способности к телепатии и телекинезу. Вот кто-то из таких людей находится в кругу ваших близких, он способен завладеть вашим астральным телом и перемещать его туда, так что вы и сами этого не замечаете.
— Сеньора, — со злорадной улыбкой перебила ее Мамен, — боюсь, ваш кот сейчас испортит вам портьеры.
Спускаясь вниз по улице Фериа, Мамен никак не могла отделаться от воспоминания о выражении паники на лице бедной Азии Феррер, доктора семи планов Бытия, когда она быстро шлепнула кота, который злобно мяукнул, а потом обрушился на консолу с вырезанными на ней красивыми пентаграммами. Нетрудно догадаться, почему у бедной женщины, вопреки активной рекламе Марисы, было так мало клиентов — в первую очередь из-за кота, который отпугивал их своими безобразиями. После того как они покинули кабинет гадалки, Алисия не проронила ни слова. Она шла по склону холма, засунув руки в карманы и не поднимая глаз от земли, но видела там, наверное, что-то свое. Сигарета медленно догорала у нее во рту. Загадки, которые встречались ей на пути, с каждым шагом делались все прозрачнее, она наконец-то отыскала калитку, которая могла вывести за границы садовой решетки. К сожалению, по иронии судьбы, ключ от калитки она добыла такими способами, что инспектор Гальвес умер бы от смеха, но главное, он, конечно же, отверг бы подобные аргументы, резко взмахнув своими толстыми руками. Мамен тем временем повторяла — и была права, — что надо быть совсем уж, мягко выражаясь, наивной, чтобы искать помощи у этой Аляски с фиолетовыми волосами, которая черпает все свои примудрости из дешевых журнальчиков, продающихся в любом супермаркете. С этим Алисия не спорила, но ведь ее голову занимала совершенно фантастическая загадка, а значит, и объяснение требовалось не менее фантастическое.
Они свернули в переулок, потому что Мамен решила заглянуть на минутку к Тоньи, чтобы та успела к четвергу перепечатать ей какие-то бумаги, привезенные с конгресса. Они пересекли Ресолану, дошли до района Торре-де-лос-Пердигонес, и Мамен четыре раза нажала на кнопку домофона, но ответа не получила. Возвращаясь на Торнео, они остановились у светофора перед переходом — рядом с группкой сеньор с перманентом и сумками в руках. До того как мимо прошел первый автобус, Алисия ничего не заподозрила, но, увидев свое отражение в мелькнувшем стекле, она заметила и какую-то странную тень у себя за спиной — пальто, темные очки. Она чуть повернула голову и краешком глаза зацепила те же детали, что показало ей отражение: сзади стояла мрачного вида женщина в мешковатом черном пальто. Алисия заморгала, и беспричинный страх начал грызть ей позвоночник. Она с мольбой обратила взор к Мамен, но та рассеянно разглядывала рекламу швейных машинок, висящую на доме напротив. Алисия не могла бы внятно объяснить, откуда возникло чувство опасности, но она нутром почуяла, что жестокая развязка приближается со скоростью локомотива и что эта женщина сзади, эта расплывчатая, похожая на отражение в луже, тень играет какую-то роль в спектакле. Алисия слишком поздно связала концы с концами, чтобы среагировать как надо: когда следующий автобус был от них всего в нескольких метрах, Алисия получила удар кулаком в поясницу, у нее подкосились ноги, она качнулась и упала вперед, но, к счастью, в ее распоряжении осталась секунда — чтобы рывком отдернуть тело с проезжей части, перед самым автобусом, который, громко сигналя, уже мчался на нее. Сердце бешено колотилось у Алисии в груди, Мамен бежала к ней, и брови у нее взлетели почти что на середину лба. Тут Алисия почувствовала, что та же рука, что пыталась вытолкнуть ее на проезжую часть дороги, теперь крепко вцепилась ей в руку. Алисия в панике дрыгнула ногой, попыталась вырваться, почувствовала, как каблук попал во что-то мягкое и это что-то отступило, а рука начала разжиматься. Тогда Алисия бросилась бежать, чуть не сбив с ног сеньору, которая громко возмутилась невоспитанностью нынешней молодежи. Алисия неслась по улице, которая внезапно превратилась в узкий и темный туннель.
Она не видела Мамен, но знала, что та бежит следом, проклиная свои туфли на высоких каблуках. Она громко звала Алисию, уже не сомневаясь, что случилось то самое короткое замыкание, от которого подруга окончательно и бесповоротно сошла с ума. Алисия задыхалась, воздух обжигал ей легкие, но вот ноги не желали останавливаться, да, казалось, и не могли остановиться: она боялась повторения только что пережитого ужаса, ведь от смерти ее спасло мгновенное отражение в автобусном стекле. Мамен продолжала кричать, срывая голос. Ей было совершенно непонятно, куда и зачем они бегут, но приходилось бежать, и она лишь на миг приостановилась, чтобы снять туфли и мчаться дальше босиком, и тут огромная черная тень, словно птица с распахнутыми крыльями, метнулась к ней. Отбиваясь, Мамен отодрала от себя цепкую руку и с новыми силами кинулась за Алисией. Она видела, что та добежала до моста Баркета, приостановилась и кинулась в готовый отойти от остановки автобус. Алисия протянула руку Мамен, которая босыми ногами почувствовала холод трех металлических автобусных ступенек. Дверь автобуса с ворчанием закрылась, и обе женщины жадно уставились в стекло: черное пальто застыло на тротуаре, а его хозяйка провожала взглядом удаляющийся автобус. Мамен почувствовала, как рот ее наполняется чем-то горьким и вязким, и поняла, что это страх.
— Алисия, ради всего святого, расскажи наконец, что происходит!
— Ты сама видела.
Они только что побывали совсем рядом с чем-то непонятным и очень опасным — протяни руку и обожжешься.
Когда Эстебан неспешно возвращался в гостиницу, ночь уже накрыла и площадь Россиу, и афинский фронтон Национального театра. С приходом темноты вернулся и туман, сырость липла к лицу и мешала закурить, хотя Эстебан несколько раз пытался это сделать, спрятавшись в арке. Двигаясь широкими шагами, он вновь подумал о странном разговоре, который состоялся у них с Эдлой Остманн. Мозги его работали как запущенная карусель: по кругу плыли носороги, марионетки в камзолах, призрачные голубые города. Блуждания в лабиринте дома Игнасио да Алпиарсы теперь казались ему точной метафорой нынешней ситуации, а может, и знаком, посланным то ли случаем, то ли судьбой, чтобы он понял, каким должен быть его следующий шаг: ведь реальность — это нечто вроде зашифрованного текста, она непрестанно отправляет какие-то послания, которые могли бы дать нам нужные ориентиры, сумей мы снова выучить нужный язык — давным-давно утраченный нами язык вещей. Чтобы выйти из лабиринта, нужно сперва отыскать его центр, островерхую пирамиду, с которой виден весь рисунок плутающих тропок. Чтобы разгадать загадку сновидений Алисии, нужно вникнуть в суть надписи, в тайну пьедесталов, снять печать и вскрыть конверт с ответами.
В кондитерской, куда заглянул Эстебан, сидели четверо пожилых мужчин с морщинистыми лицами, все четверо в низко надвинутых на лоб клетчатых кепках. Он сел за столик сбоку, рядом с большим окном, глядящим на памятник дону Педро IV, перед которым парами расхаживали какие-то черные люди в кожаных куртках. Девушка с печальными глазами принесла ему заказанные bica и стакан воды, правда, немного мутной, которую он отодвинул. Вечером Лиссабон снова превращался в нереальную копию или модель прошлого, возрождал обстановку былых времен, которую сохраняла пожухшая память. Эстебан различил сквозь туман лицо Эвы, увидел уплывающие вдаль трамваи, затосковал о суррогате счастья, разрушенного несколько лет назад. Постепенно лицо Эвы стало преображаться в другое лицо, куда более близкое, лицо с зелеными глазами, оно принадлежало женщине, ждавшей его возвращения у выхода из лабиринта, там, где все тайны окажутся разгаданными. Он порылся в кармане и задрожавшей вдруг рукой вытащил записную книжку, куда заносил свои журналистские изыскания, касающиеся фонда Адиманты. Он вырвал исписанные странички и положил на стол перед собой, рядом с остывающим кофе и стаканом негодной воды. На одном листочке содержались сведения о четырех ангелах — в том порядке, в каком случай открывал их ему, на втором — четыре строки из книги Фельтринелли:
DIRA.FAMES.VSVTSVC.EDRDD.ESADVDC…
HVMANAQVE.HOMINES.TESTIDRV.
AETAESME.IN.INSAENE.EVMOTE…
DENTE.DRACO.TGIVGERED.ROAGD.
MGEGD.MVTEE…
MAGNA.PARTE.BISSCSV.VEISEI.
PIIEISEIOETI.ISSIE.…
Dira fames Polypos docuit sua rodere crura,
Humanaque homines se nutriisse dape.
Dente Dracocaudam dum mordet et ingerit alvo,
Magna parte sui sit cibus ipse sibi.
Он почувствовал, что именно эти строки скорлупой покрывали ядро тайны. Почему каждая из надписей на пьедестале повторяла одну строку из книги? Как следует истолковать это странное алхимическое стихотворение, чтобы найти ключ, способный отворить запор? В любом случае зашифрованное послание должно содержать информацию о некоем месте — Остманн уверяла, что там указано точное место, где следует произносить заговор, иначе он не возымеет действия. Конечно, возможен и другой вариант: строки на пьедесталах написаны на каком-нибудь неизвестном нам древнем — или просто-напросто придуманном — языке, но тогда мы оказываемся в тупике. Правда, в картезианском закутке мозга Эстебана теплилась надежда на то, что загадка имеет решение, нужно только очень постараться, пустить в ход все мыслительные способности, целиком на ней сосредоточиться. Аналитическое мышление, которое помогало месье Дюпену восстанавливать картину преступлений, совершенных на расстоянии многих километров от дома, где он мирно беседовал со своим другом, должно помочь ответить и на вопросы, возникшие за несколько веков до нас — и очень далеко от кондитерской, где сидел теперь Эстебан, вспоминая лицо с зелеными глазами. Дракон, пожирающий свой хвост, владел тайной. Тот самый дракон, что завершался собственным началом, как и злосчастный лабиринт, где заблудился Эстебан. Он перебирал разные варианты сочетания букв и знаков, менял их местами, сравнивал латинские слова. Он что-то писал, зачеркивал, допивая кофе. Потом усталость и головная боль погнали его на свежий воздух.
Туман ватными шарами висел под фонарями. Эстебан купил в какой-то забегаловке дешевый виски и направился в гостиницу; затекшие руки он сунул в карманы куртки, где пальцы перебирали листочки с записью пробных переводов. Женщина с бородавкой, дремавшая внизу у стойки, увидав его, вздрогнула от испуга: она вручила ему ключ от четырнадцатой комнаты и снова погрузилась в созерцание художественной гимнастики на немом телевизионном экране. Гостиничный номер показался теперь Эстебану как никогда раньше тихим, уютным и уединенным местом. Подчинясь тупой привычке, он нажал на пульт дистанционного управления и увидел тех же истощенных девчушек с лентами и обручами, что и на экране в холле. Виски оказалось в буквальном смысле слова сногсшибательным — первый же глоток царапнул по горлу привкусом гнилого дерева, и Эстебан рухнул на постель. Ему вдруг захотелось позвонить Алисии; он представил себе ее голову на подушке, мягкие изгибы нагого тела под простыней. Он порылся в карманах и вытащил пачку сигарет, затем — два исписанных листочка и, сложив вместе, устроил их поверх абажура горевшей настольной лампы. Прежде чем снова улечься, он еще раз приложился к бутылке с отравой, потом принялся читать очень странную молитву, обращаясь к Эдгару По и прося дух поэта вдохновить его, наделить нужным чутьем, чтобы найти решение, как он озарил Огюста Дюпена и Уильяма Леграна. Затем Эстебан заснул — или ему показалось, что он заснул.
Вдруг он открыл глаза, не сознавая, сколько прошло времени. Он чувствовал себя удивительно посвежевшим, словно вынырнул из бассейна, где проплавал всю ночь. Девочки с экрана исчезли, теперь там сидел вежливый сеньор в пиджаке и что-то показывал на метеокарте. Эстебан лениво скользил глазами по потолку, пока не наткнулся на желтое пятно. Свет лампы проходил через бумажный прямоугольник, и на потолке отражались огромные буквы, черточки и поправки, сделанные рукой Эстебана. Два положенных один на другой листочка давали на потолке общее совмещенное отражение, так что получилось четыре неровных строчки. В голове у Эстебана что-то ярко вспыхнуло — и он нашел решение. Сердце часто забилось, он быстро схватил листочки и разложил перед собой на одеяле. Да, вот оно! Только последний дурак мог сразу не догадаться.
Он прижал руку к груди, пытаясь утихомирить сердце, а другой рукой зажег сигарету, потом отхлебнул виски, нанеся еще один жестокий удар по желудку. Вырвал из записной книжки новый листок и вывел в две строки:
DIRA FAMES POLYPOS DOCTIVIT SVA RODERE CRVRA
ABCD EFGHI KLMNOPQRSTVXYZ
Самый простой из известных способов шифровки текста — подставить вместо одних знаков другие. Предварительно составляется ключ — какая буква алфавита какой букве текста соответствует. Ключом могло служить и стихотворение из книги Фельтринелли; четыре ключа для четырех строк на пьедесталах. Достаточно сопоставить каждую строку стихотворения с латинским алфавитом, чтобы узнать, какую букву надо заменять на какую. Следовательно, в «Dira fames» с пьедестала первого ангела D соответствует А, I надо заменить на В, R — на С и так далее. Эстебан чувствовал, как кровь прилила у него к голове, в висках стучало. Он записал результат — ясности это не прибавило.
VSVTSVC.EDRDD.ESADVDC.
VOVYOVR.FRDAA.FODRVAR
Он проделал то же со второй и третьей строчками, но и тут получилась полная тарабарщина. В приступе отчаяния он схватил листочки и разорвал их в клочья, потом выкурил подряд пару сигарет, истерично кружа по комнате и терзая внутренности проклятым виски, словно именно беззащитный желудок был виноват в очередной неудаче. Эстебан хотел позвонить Алисии и сказать, что надеяться им больше не на что, он оказался никудышным переводчиком, и еще что он любит ее. Видимо, было уже совсем поздно, когда он снова упал на постель — измученный и пьяный; в памяти, как на экране в кинозале, чередой проходили картинки: музей в фонде Адиманты, маленькие сигары, которые Эдла Остманн курила во время разговора, крутившегося вокруг бесов и носорогов, разгромленная квартира Алисии, город, дракон, пожирающий свой хвост. Он вспомнил разговор с Алисией в парке, Уробороса, герметический символ времени, которое вечно вытекает из самого себя — и начало неотличимо от конца. Он продирался сквозь густой туман, которым выпивка затянула ему мозги, и вдруг его осенило: дракон, изображенный над стихотворением, означает, что конец — это начало. На сей раз он не позволил бешено бьющемуся сердцу диктовать ему решения, нет, указания должны поступать из мозга, а не от неведомой докучливой субстанции, подмешанной в его кровь вместе с малой долей водопроводной воды. Он медленно встал и подошел к умывальнику, полюбовался в зеркало на свои глаза — глаза страдальца, который проплакал всю ночь, оттягивая миг казни и пережевывая горькую правду. Он смочил себе лоб и подержал кисти рук под краном, потом зажег сигарету, глянул в окно и убедился, что туман над Лиссабоном был как никогда густым — на расплывчатой улице различались лишь матовые фонарные шары. Он снова взял в руки записную книжку, вырвал листок, опять перенес туда текст с первого пьедестала, но теперь расположил латинский алфавит в обратном порядке. Конец стал началом:
DIRA FAMES POLYPOS DOCTIVIT SVA RODERE CRVRA
ZYX VTSRQP ONM LKIHGF EDCBA
Дракон подсказывал, что ключ следовало использовать именно так: от последней буквы к первой, а не от первой к последней, как он пытался сделать раньше. Строка, которая у него теперь получилась, подтвердила, что на сей раз он не ошибся — калитка отворилась.
VSVTSVC.EDRD.ESADVDC
CORPORE.FILII.HOMINIS
Автор шифра не слишком требовательно отнесся к соответствию букв между собой: было очевидно, что он старался возвести как можно больше препятствий на пути профанов, рвавшихся к тайне. Буква V могла читаться как С в CRVRA, или как N в SVA, или как R вDOCVIT: надо было выбрать ту, какая больше подходила по смыслу, слушаться интуиции. Затем он взялся за следующую строку:
HVMANAQVE HOMINES SE NVTRIISSE DAPE
Z YXVTSRQ PO NMLKIHGFE DCBA
Здесь речь шла о камне и преисподней:
TESIDRV.AETAESME.IN.INSAENE.EVMPTE
LAPIDEM.CALCAQVE.IN.INFERNA.AMBULA
Через десять минут у него имелся полный квартет: в той последовательности, в какой нужно произносить заклинание, чтобы заставить Сатану явиться. Собственное открытие вдруг испугало Эстебана, он почувствовал озноб, ему померещилось, будто туман, там снаружи, утыкан глазами, которые молча смотрят на него. Его вдруг осенило: таинственные заговорщики, те, что убили Бенльюре и Альмейду и разгромили квартиру Алисии, ждали, чтобы он, Эстебан, раскрыл для них загадку этих четырех стихов, четырехгранную комбинацию, которая указывала то место, где земля пересекается с преисподней. Эстебан четыре раза перечел четыре строки, но не понял, что же они означают.
Corpore filii homini
Lapidem calcaque in inferna ambula
Hebreicis novem pedes tradi
Latinis septem, graecis quatuor adime.
Было еще не слишком поздно, отражение часов в экране телевизора показывало без четверти двенадцать. Видимо, виски и лихорадочное нетерпение растянули время, потраченное на расшифровку текстов, сделали его бесконечным, как ночь узника, мечтающего о смерти. Он надел куртку и спустился по лестнице вниз. Поравнявшись со стойкой, подумал, что следует позвонить Алисии — сообщить об открытии и, наверное, добавить что-нибудь еще, что-нибудь нежное и ласковое. Сеньора с бородавкой поставила перед ним телефонный аппарат; она смотрела на Эстебана взглядом кота, вздремнувшего на хозяйском диване. В ухо Эстебану полетели гудки. Потом законсервированный голос Алисии известил, что в данный момент ее нет дома, и предложил оставить сообщение после сигнала. Глядя на мясистую бородавку на лице сеньоры, которая снова прикрыла глаза, Эстебан продиктовал аппарату, что разгадал загадку четырех пьедесталов, но смысла полученного текста не понимает, что, если перевести его с латыни, он будет звучать так: «В теле Сына Человеческого, ступает на камень и шагает на запад, посвящает девять футов евреям, семь — латинянам, отнимает четыре фута у греков». Прежде чем положить трубку, Эстебан заговорил более нежным тоном, более мягким и произнес слова, в которых тотчас сам и раскаялся. Затем вышел на улицу.
Он остановил такси тут же, на площади Фигейра, и почти что шепотом назвал шоферу адрес: Ларго-дас-Портас-до-Сол, номер четыре. И только тогда, глядя сквозь окошко на черно-студенистый туман, превративший Лиссабон в трясину, он задался вопросом: почему Алисия не взяла трубку и где она может находиться в полночь? Он постарался успокоить себя приемлемым объяснением: она заснула, у нее кончились сигареты, и она спустилась вниз, в бар на углу. Ему захотелось закурить, но вежливая табличка, висевшая рядом с водителем, запрещала это. Кровь уже не так быстро неслась по венам, бешеный электрический ток, который еще несколько часов назад возбуждал нервы, сменился податливым спокойствием — именно в него погружался Эстебан, сидя на заднем сиденье такси. Он следил, как они поднимаются вверх, потом заметил, что справа появилась часть фасада, забрызганного желтым фонарным светом. Водитель остановился посреди черной мглы — словно в сердцевине какого-то не существующего в реальности места. Эстебан протянул купюру и вышел, не дожидаясь сдачи.
В глубине коридора, за дверью из дерева и стекла, через которую днем раньше Эстебан входил в здание и на которой по-прежнему висел перечень лекций фонда Адиманты на текущий семестр, тускло горел свет. Эстебан постучал в стекло — два-три раза, пока какая-то тень не показалась в конце холла. Это была сеньорита Остманн — и она открыла дверь. Ее длинные ноги показались ему теперь еще более длинными, но и более тонкими. Единственный фонарь, горевший на улице среди бескрайнего тумана, удваиваясь, отразился в ее голубых зрачках.
— Простите, что беспокою вас в такой час, — пробормотал Эстебан. — Но я должен задать один очень важный вопрос.
— Никакого беспокойства, — ответила Эдла Остманн свистящим голосом, — Проходите, мы как раз работаем.
Он последовал за ней по коридору, одолел дюжину ступеней, ведущих на второй этаж; стук ее каблуков был еще жестче, еще решительнее, чем раньше. В доме царила темнота, и Эстебану пришлось ориентироваться на этот стук, чтобы не сбиться с пути. Потом они вошли в большой квадратный кабинет, обшитый панелями из дорогого дерева. Перед камином, лицом к огню, сидел Себастиано Адиманта. У Эстебана мелькнуло тревожное подозрение, что они ждали его, что они всю эту ночь ждали его. От огня по темным стенам кабинета ползли желтые змейки — бледные и юркие, исчезавшие с той же скоростью, с какой возникали. В комнате размещалась обширная коллекция фотографий: под стеклом висели групповые портреты — на каждом по десять — двенадцать человек, выстроившихся в ряд перед объективом, как на выпускном вечере. Эстебан небрежно прошелся взглядом по снимкам, посмотрел на металлические таблички с указанием курса и года: от 1979-го и далее.
— Мы слушаем вас, сеньор Лабастида, — раздался голос Эдлы Остманн. — Вам понадобились еще какие-то, самые последние, сведения, чтобы закончить статью?
Сеньорита Остманн повернула кресло Себастиано Адиманты, и теперь острые глаза наблюдали за Эстебаном от камина, отражая змеистые блики. Эстебан достал из кармана куртки свои заметки и передал сеньорите Остманн. Повисла тяжелая тишина, как перед раскатом грома, она нарушалась лишь потрескиванием горящих поленьев. Белая рука Эдлы Остманн, похожая на птицу или на ножницы, поднесла листки к лицу Адиманты; его зрачки забегали вверх-вниз, потом веки опустились, закрывая запылавшие гневом глаза, глаза человека, обиженного словом, которого он никак не ожидал услышать. Этот взгляд внушал непонятную тревогу, и Эстебан сделал вид, что с интересом рассматривает фотографии на стенах.
— Текст с четырех пьедесталов, — проговорила Остманн с подчеркнутым холодком. — Мои поздравления, сеньор Лабастида. Хотя… результат явно не стоит затраченных усилий. Какая польза сегодня от этого стародавнего секрета, его надо было разгадать несколько веков назад.
—Что означают эти четыре строки? — спросил Эстебан, удивляясь собственному напору, при этом он не отводил взгляда от фотографий.
— Догадайтесь. — Эстебан не мог видеть глаз старика, но знал, что они полностью одобряют холодную ярость, прозвучавшую в ответе Эдлы Остманн. — Раз уж вы доказали, что являетесь не только журналистом, но и дешифровщиком криптограмм, сделайте следующий шаг. Сын Человеческий — это, как известно, Иисус Христос. Тело Христово — церковь. Вам надо отправиться в какую-то церковь.
Незнакомые лица не будили в нем никаких эмоций. Все эти люди на снимках под стеклом напоминали манекены в витринах, но фотографии помогали заглянуть в мир, каким он был десять или даже пятнадцать лет назад. Кто они, эти люди, подумал Эстебан, мужчины с бородками, женщины с давно вышедшими из моды прическами, в пальто, которые, наверное, уже съедены молью или попали к старьевщикам? Фотограф заставил их улыбнуться, хотя, вполне возможно, улыбаться им вовсе не хотелось. Эстебан конечно же никого из них знать не мог, поэтому знакомое лицо во втором ряду коллективного портрета, датированного 1982 годом, сразу приковало к себе его внимание и заставило подойти поближе, так что он едва не врезался носом в стекло. Несколько мгновений его память металась в толпе масок, рылась в скопище различных черт, отыскивая след — и вдруг он нашел то, что искал. И сигнал тревоги громко зазвенел у него в голове, как только мозг обработал полученную информацию и четко сформулировал смысл увиденного, а также указал бесконечную цепочку последствий сего факта. В объектив фотокамеры смотрела женщина с бесцветным лицом, на котором застыла злая ироничная усмешка. Сердце вновь бешено забилось у него в груди — вот оно, объяснение всех загадок, всей этой истории с ангелами, городом, сновидениями, Бенльюре, Альмейдой, Фельтринелли, Лиссабоном и лабиринтом.
— Вы дурно себя чувствуете, сеньор Лабастида? — спросила Эдла Остманн до отвращения приторным голосом. — Кажется, вы увидели что-то не слишком приятное.
Эстебан не стал терять времени и даже не простился с теми, кто ожидал его ответа перед камином. Автобус в Севилью отправлялся около половины второго, и надо было обязательно успеть на него.
11
Она вернулась домой за полночь
Она вернулась домой за полночь — вернуться раньше ей мешал страх: казалось, что если подольше не расставаться с Мамен, то испуг постепенно отступит. Они выпили по три чашки кофе, сидя на кухне, стены которой Мамен украсила весьма необычным образом — покрашенными в разные цвета дверными засовами. Они выкурили по пачке сигарет и условились поддерживать связь — на случай, если какой-нибудь новый зловредный призрак вздумает опять строить им козни. Алисия не пожелала переночевать в квартире на улице Колон, хотя ей явно не следовало пренебрегать приглашением Мамен; к тому же было опасно возвращаться одной по ночным пустынным улицам, подозревая угрозу в грохоте каждой консервной банки, опрокинутой кошкой, или в гулко грохочущих шагах запоздалого пешехода. Но нет, Алисия рвалась домой, чтобы ждать там Эстебана, вернее, звонка от Эстебана, потому что твердо знала: там, за пятьсот километров от Севильи, на сцене под названием Лиссабон разыгрывается решающее сражение, натягиваются тончайшие нити, которые в конце концов помогут им завладеть добычей. Да, думала Алисия, быстро шагая мимо ограды гаражей, мне нужен голос Эстебана, этот голос поддержит меня, сообщит, что мы в двух шагах от цели, и скажет еще что-нибудь, уже никак не связанное с проклятой загадкой, с убийствами, которые вот-вот будут раскрыты, скажет что-нибудь, что заденет ее очень глубоко, и она бросит трубку, почувствовав ватную пустоту под ребрами.
И действительно, когда она вернулась домой и стала прослушивать записи, оставленные на автоответчике, — привет от сестры и вопросы Марисы по поводу визита к Азии Феррер, а потом и голос Эстебана, долетавший словно из глухой коробки, — она успокоилась, ощутила, как утихают удары в груди — громкое ухание, с которым невозможно было справиться в одиночку. Она сбросила еще остававшиеся на диване подушки на пол и села слушать. Ее страшно мучило то, что нельзя ответить этому голосу, который обращается к ней с вынужденной и наигранной сухостью, хотя в сообщении и прорывались едва уловимые нотки нежности. Она прослушала перевод четырех строк, узнала, как Эстебану удалось расшифровать их после сумбурной ночи в компании с бутылкой виски, узнала, что удача пришла после молитвы, обращенной к духу Эдгара По, покровителя тех, кто плутает в лабиринтах тайн и жестоких авантюр. Затем, под самый конец, после хлипкого мостика молчания голос, сделавшись текучим и жарким, произнес слова, которые Алисия желала услышать. Она только теперь поняла, как желала их услышать, как они были нужны ей и как она боялась признаться в этом себе самой. Она услышала, что Эстебан любит ее, и от этого признания на нее накатил такой ужас, что она нажала на кнопку и вытащила пленку.
Не успела она спрятать постыдную улику любви в сумку, как зазвенел телефон, и Алисия буквально подпрыгнула от неожиданности. Сперва она с испугом подумала, что это опять звонит Эстебан, но услышала в трубке голос Мамен: та хотела убедиться, что Алисия без приключений добралась до дома. Алисия, как послушная ученица, отчиталась: домой дошла нормально, потом позвонил Эстебан, сообщил, что скорлупка тайны распалась надвое. Мамен дала несколько советов по поводу дверных и оконных запоров и распрощалась. Алисия осталась одна в полной тишине, она бродила по гостиной, и под ногами ее хрустели осколки. Она не знала, как реагировать на накаленные добела слова, завершившие монолог Эстебана. У нее в душе продолжали бороться два противоположных чувства, два исключающих друг друга взгляда на будущее, хотя теперь она и готова была строить его на фундаменте из тех последних слов, которые запечатлела магнитофонная лента. Она обругала себя за нерешительность, за тупость: ведь любовь Эстебана была охранной грамотой, а она бежала от этой любви с упрямством капризной девчонки. Почему? Из-за одной мелочи, пустякового недостатка: Эстебан — и это в первую очередь отпугивало ее —был чуть измененной копией того, другого — ее погибшего мужа Пабло. Да, опять Пабло и Роса, девочка с косичками, которая никогда не закрывает глаза… Они не покидают Алисию, они навек поселились в топком болоте ее памяти. Зажигая очередную сигарету, Алисия с ужасом поняла, что возвращается то, что было в самом начале: покойники будут кружить и кружить вокруг нее, и надежды на освобождение нет.
Она поспешила направить мысли в другое русло, и на помощь ей пришли четыре строки, которые она недавно услышала вместе с ужасным признанием Эстебана. Она решила загрузить себе голову разгадыванием их смысла. Правда, занятие это очень быстро ейнаскучило, она собралась было лечь спать, но спать не хотелось, и тут она обнаружила, что кончились сигареты. Было чуть больше половины первого; из угловой лавки ночью выставляли на тротуар автомат по продаже кока-колы и сигарет. Алисия схватила пальто, ключи и ринулась вниз по лестнице, хотя торопиться было совершенно некуда. Она посчитала, что если будет действовать быстро, то мысли невольно последуют за поступками, не успевая изменить их. А ведь нередко ее разум превращался в вязкий бассейн, где невозможно было добраться до другого берега.
Она вышла на улицу и убедилась, что вокруг темно и сыро, и только иногда мрак пробивали зеленые огоньки такси. Подчиняясь ритму шагов, мозг Алисии наугад подсовывал версии, какие до сих пор не приходили ей в голову. Гальвес в последнюю их встречу сообщил, что ангела из коллекции Маргалефа приобрела молодая женщина; какая-то женщина то и дело возникала в этой загадочной истории: звонила по телефону Бласу Асеведо и Бенльюре, смутное отражение женщины мелькнуло в автобусном окне. Да, но хорошо знакомая ей женщина прячет второго ангела за стенкой из банок и бутылок. Засовывая монеты в табачный автомат, Алисия рассеянно поглядела на витрину мебельного магазина, где служащие, уходя, видимо, забыли погасить свет, — там стояла лампа, очень похожая на ту, что Мамен привезла из Барселоны. Какая глупость: везти самолетом такую громоздкую вещь, если ее можно купить в двух шагах от дома.
Алисии надо было на что-то решиться — хоть раз в жизни поступить по своему разумению. Она всегда зависела от чужой воли, позволяла, чтобы Пабло, Мама Луиса, Лурдес или Эстебан занимались ее проблемами. Теперь пришла пора действовать, действовать без промедления; коль скоро возникшие у нее сейчас подозрения подсказывали следующий шаг, надо сделать его, прежде чем вмешаются липкие сомнения и будет поздно совершать реальные поступки.
Она выкурила пару сигарет в арке своего подъезда, потом зашагала к дверям, и с последним ударом каблука по мраморному полу словно рассеялись последние колебания. Она медленно поднялась по лестнице на четвертый этаж и, не включая света, постояла на площадке. Было так тихо, что Алисии чудилось, будто она слышит шорох, с каким одни ее мысли перетекают в другие. Надо убедиться, что Нурия спит, чтобы не повторилась такая же неприятная сцена, как несколько дней назад, когда подруга застала Алисию рядом с ангелом. Алисии нужно какое-нибудь доказательство, нужно найти улику — в ящике стола, или в кармане, или еще где-нибудь; фотографию или торговый чек, визитную карточку или открытку, — доказательство того, что Нурия и есть та женщина, тот призрак, который преследует Алисию. Она прижала ухо к двери: в квартире царила бездонная тишина, полная, глухая. По-кошачьи беззвучно Алисия поднялась на пятый этаж и вошла в свою квартиру. Что-то вроде суеверного страха помешало ей включить свет и снять пальто. Она проскользнула на кухню и в темноте выкурила сигарету; стараясь побороть себя, она крепко зажмурилась. Потом распахнула окно, и занавеска звонко хлестнула по раме. Алисия пододвинула стол к подоконнику. Веревка должна выдержать ее вес, ведь выдерживает она толстое одеяло, подаренное Мамой Луисой на последнее Рождество. Алисия была уверена, что окно на кухне у Нурии открыто: обычно та ставила вновь покрытые лаком деревянные предметы к окну на просушку. Алисия запретила голове думать, поэтому и мыслей об опасности у нее не возникло, мыслей о том, что спускаться вниз по веревке и проверять на себе законы земного притяжения — полное безумие.
На подоконнике она встала на колени, не испытывая при этом, к собственному удивлению, абсолютно никакого страха, потом обеими руками схватилась за веревки, потом каблуки ее скользнули по внешней стене здания, потом она почувствовала, как ноги провалились в пустоту. Теперь предстояло сделать самое трудное — то, что она забыла продумать; каким-то образом втолкнуть свое тело в оконный проем, и сделать это немедленно, пока веревки в кровь не ободрали ей ладони. Она вспомнила о законе маятника — самом подходящем для данной ситуации — и тут же пару раз качнулась и с размаху шмякнулась на кухонный стол Нурии, почувствовав, как пола пальто окунулась в холодную лужу вонючего лака.
В течение нескольких секунд, показавшихся ей бесконечными, Алисия ждала, что кто-нибудь, услышав шум, заглянет на кухню, но ничего подобного не случилось. Она слезла со стола и медленно двинулась в гостиную. Портьеры были задернуты, так что глаза наткнулись на сплошную черную стену. Такой неприятности она не ожидала, ведь свет фонаря с улицы должен был помочь ей сориентироваться в комнате и понять, где и что располагается, особенно с учетом того, насколько захламленной всегда была гостиная Нурии. Неудача поколебала решимость Алисии, она даже задалась вопросом: какой же надо быть дурой, чтобы залезть через окно в чужую квартиру в час ночи? Да еще этот вонючий лак, в котором она перепачкала пальто и который шибал ей в нос при малейшем движении. А много ли у нее, собственно, улик против Нурии? И мозг, который снова заработал, тотчас нарисовал портрет-робот предполагаемой убийцы: молодая женщина, которая знает Алисию настолько близко, что может свободно проникнуть в ее квартиру, может хозяйничать в ее сновидениях, этой женщине Альмейда позволил зайти в лавку после закрытия, она позвонила дону Бласу, заманив его на место преступления; она готова продать душу дьяволу, лишь бы добиться задуманного. Вдруг Алисию охватил панический страх, рассудок ее слегка помрачился — и она нажала на выключатель: глаза ее тотчас ухватили неподвижное тело, лежащее на знакомых инструментах, голова была неестественно повернута к стене, а из раны на голове ручьем текла кровь. И тут Алисия почувствовала удар по затылку — и больше она уже ничего не видела.
Первое, что сделал Эстебан, выйдя из автобуса, — это вытащил пачку сигарет и закурил, прямо на стоянке автовокзала, не откладывая ни на секунду удовлетворение этой острейшей из потребностей. Более шести часов провел он в проклятой коробке, не сделав ни одной затяжки, к тому же пришлось вытерпеть пытку двумя фильмами — про рак и про супружеские проблемы. За окошком плыла назад Португалия, но теперь это была всего лишь черная, непроницаемая завеса, которую изредка пробивали огоньки далеких ферм, — идеальный фон для того, чтобы голова продолжала лихорадочно работать, увязывать причины со следствиями, пытаясь взять власть над будущим и пустить его в то русло, которое нужно ему, Эстебану. Автобус прибыл в Севилью на рассвете. Неровное грязноватое свечение захватывало в плен все новые и новые городские крыши, пока Эстебан пил в вокзальном баре кофе, отдававший хлоркой. Он был так близко от цели и всю эту ночь так отчаянно мечтал оказаться именно на таком расстоянии от нее, что теперь он позволил себе мазохистское удовольствие чуть отодвинуть развязку и мелкими глотками выпить мерзкий кофе. Он не торопясь заплатил и тихим шагом покинул площадь Армас, где находится автовокзал, затем спустился по лестнице. Такси он брать не стал, потому что дом Алисии — и решение загадки—находились всего в нескольких шагах отсюда. Рассвет напоминал трудные роды; дневной свет все никак не мог пробиться сквозь тучи, затянувшие небо и покрасившие горизонт в иссиня-черный цвет. Пустынная улица, освещенная тусклым фонарем, похожим на одинокого часового, показалась ему точной копией какой-то улицы в Лиссабоне или улицы в несуществующем городе — той самой улицы, что тянулась через всю тайную географию сновидений. Он хотел доказать себе, что не испытывает волнения и не совершит никаких безрассудств. Но когда он наконец свернул на улицу Католических Королей и увидел чуть впереди огромный ресторан быстрого питания, который находится на углу рядом с домом Алисии, вопросы посыпались на него, как осколки разбитой вдребезги вазы. Почему, когда он позвонил во второй раз, перед тем как сесть в автобус, не сработал даже автоответчик; куда подевалась магнитофонная пленка, которая должна была записать его сообщение, та самая пленка, на которой содержалась разгадка тайны; и где была Алисия раньше, когда автоответчик подсунул Эстебану механический суррогат ее голоса; что он скажет Алисии — если, конечно, они встретятся, — глядя ей в глаза и вспоминая предательские слова, завершившие сообщение, хотя теперь он и сам не мог с уверенностью сказать, произнес их или нет.
Из ночной Португалии он добрался сюда без малого за семь часов, и всю дорогу его сжигал страх за Алисию, желание спасти ее, вытащить из беды, которая нависла над ней, о которой она не догадывается и которая похожа на проклятие, на болезнь, слишком глубоко проникшую в тело и потому незаметную. Теперь, стоя у подъезда, Эстебан швырнул дорожную сумку на землю и закурил, стараясь не дать страху затуманить сознание. Он нажал на кнопку домофона — пятый этаж, квартира три, нажал четыре раза. Докурив сигарету до самого фильтра и воспользовавшись тем, что какой-то пенсионер, имеющий привычку рано вставать, вышел на улицу, Эстебан юркнул в приоткрытую дверь и оказался в холле. Вдруг та же нестерпимая тревога, которая на лиссабонском автовокзале заставляла его курить сигарету за сигаретой и до мяса грызть ногти, теперь сжала ему сердце, и он, перепрыгивая через ступеньки, взлетел на четвертый этаж. Дверь в квартиру Нурии была открыта; он крадучись приблизился к ней и толкнул створку, но войти не решился, словно в прихожей его поджидал призрак, который и был главным конструктором лабиринта, где Эстебан заблудился. Еще не отдышавшись как следует после быстрого подъема, Эстебан все же почувствовал доносившийся из темноты непонятный запах, смесь акрила с сахаром — определить точнее он не мог. Эстебан шагнул в темноту, дважды споткнувшись о какие-то металлические предметы. Он держался поближе к стене и наконец нащупал выключатель. Вспыхнул свет, и открылась картина, которую незваный гость, собственно, и ожидал увидеть, вернее сказать, самый садистский вариант этой картины.
В квартире Нурии всегда царил беспорядок, но все же не такой, как теперь. Тут разгорелось сражение — или исполнялся некий сумасшедший балет, — поэтому все инструменты, все банки и бутылки валялись на полу, на устилавших его газетах, вперемежку с фрагментами скульптур; кроме того, по газетам разлилась лужа крови, она
стекала по стене — от прислоненной к ней головы Нурии. Эстебан сделал пару шагов вперед. Нурию ударили сзади, раскроив череп пополам, словно спелый арбуз; казалось, шея ее надломилась, как у выброшенного на помойку манекена. Орудие преступления лежало тут же — под неподвижной рукой жертвы, которая, очевидно, пыталась заслониться от рокового удара. Это был ангел, проклятый ангел, измазанный густой красной жидкостью. Борясь со страхом, Эстебан прошелся по комнате, он искал какой-нибудь след, какую-нибудь улику, что-нибудь, оставленное убийцей. Он понимал, что спектакль был срежиссирован очень давно и ему самому просто-напросто пришлось сыграть отведенную ему кем-то другим роль; он клюнул на приманку, подброшенную на дороге, по которой собирался идти. Теперь они, разумеется, хотели, чтобы он появился в конкретном месте, и указание на это место находилось где-то здесь, среди инструментов, покрывающих пол. Пачка сигарет, разорванные фотографии, пленка с записью Лу Рида, а чуть подальше — толстая, как словарь, книга. Из середины тома торчит сложенный вчетверо лист бумаги. Эстебан принялся изучать книгу, на переплете которой — в одном углу — остались следы крови: «Символика христианского храма». На 348-й странице, там, куда был вложен лист бумаги, Эстебан увидел несколько подчеркнутых строк; речь шла о севере и юге, и вообще о сторонах света:
В качестве символа всеобщности епископ начертал пеплом крест, соединивший противоположные части нефа, а еще он изобразил первые и последние буквы латинского, греческого и еврейского алфавита. Вышеназванная церемония несла в себе не только космический символизм, но и герметический: она заключала в себе метафору Иисуса Христа, начала и конца мира; кроме того, первые и последние буквы названных алфавитов, если их сопоставить определенным образом, дают еврейское слово Azoth, Философский камень, начало и завершение любого процесса.
На сложенном листе Эстебан увидел план церкви Девы Марии де ла Сангре, реставрацией которой занималась Нурия. На привычном чертеже основания в форме латинского креста фломастером были начерчены три пересекающиеся линии — концы линий были отмечены латинскими, греческими и еврейскими буквами. Красная линия, протянувшаяся с севера на юг, обозначалась буквами «а» и «зета»; зеленая, с востока на запад, — буквами «альфа» и «омега»; третья линия, синяя, шла с северо-запада на юго-восток, ей соответствовали буква «алеф» и еще одна, похожая на стул, которой Эстебан не знал.
Свидание назначено, и он понял, куда ему следует направляться, чтобы замкнуть круг и перешагнуть порог заветной двери. Эстебан швырнул книгу на пол и осторожно приблизился к телефону. Он сразу заметил, что кто-то вытащил из автоответчика магнитофонную кассету, кроме того, было видно, что этот кто-то с силой лупил по кнопкам, торопясь прослушать сообщения автоответчика, прежде чем забрать кассету с собой. Эстебан нажал три цифры номера полиции и стал ждать ответа. Страх и тревога отступили перед внутренней уверенностью, что все должно вот-вот завершиться, что осталось выполнить последние формальности; и ему даже показалось, что он уже живет в завтрашнем дне, то есть переместился в эпилог этой авантюрной истории. Тут он услышал в трубке сонный голос и попросил позвать инспектора Гальвеса. Инспектора Гальвеса в участке нет, он заступит на дежурство в девять утра. Эстебан продиктовал в трубку адрес и сказал, что инспектор должен явиться сюда как можно скорее. Потом Эстебан повесил трубку, не дослушав протесты невидимого собеседника, который хотел узнать, кто передал сообщение. Эстебан быстро пошел к лестнице, сигарета вяло висела у него на губе. Не было смысла подниматься в квартиру Алисии — пустая трата времени; теперь и так совершенно ясно, где она находится, где ждет его — под барабанную дробь, которая завершает симфонию. Небо над улицей Католических Королей напоминало огромный плавильный горн, куда лился желтый утренний свет, хотя ему все никак не удавалось сгуститься. Эстебан остановил такси и сел на заднее сиденье; ему больше ни о чем не хотелось думать — ведь скоро состоится встреча с персоной, которая ответит на все вопросы и, ясное дело, этой частью программы не ограничится. Он ехал навстречу гибели, послушно лез в капкан, и капкан должен непременно, как он знал, уничтожить его. Он вышел из машины рядом с массивной церковной дверью, в двери светилась щель, из чего он заключил, что его ждут. На фасаде все еще горела лампа — рассветный ветер раскачивал ее туда-сюда, и по двери пробегали какие-то каракули и тени. Входя в калитку маленького садика, Эстебан подумал, что ему не помешало бы оружие, но подумал как-то равнодушно и апатично: он готов был принять худшее, лишь бы все наконец разъяснилось и разрешилось. Он медленно толкнул дверь и, опустив глаза в пол, вошел в церковь. И тут же почувствовал страшную сырость, которая завладела всем помещением, до самых нервюр, вернее, сырость почувствовали его кости. Первый удар рассек ему щеку, но он успел отпрянуть, потом поднес руку к лицу и зажал рану, из которой струилась кровь. Второй удар пришелся на висок, и Эстебан только и успел осознать, что колени его подгибаются — темная пелена застелила ему взор, он рухнул на пол.
Повернув голову направо, он почувствовал, что в черепной коробке у него тотчас случилось землетрясение, поэтому он поспешно закрыл глаза. С болезненной отчетливостью он ощутил рану на лбу, боль от веревок, безжалостно впившихся
в запястья, знакомый запах шампуня, который шел от волос Алисии, касавшихся его лица. Он снова попробовал, преодолевая дикую боль, покрутить головой, попробовал коснуться своей щекой щеки Алисии. Их связали вместе за руки — спиной к спине, так что они могли двигаться только синхронно, что они сейчас и проделали, чтобы подбодрить друг друга. Они находились в середине трансепта, откуда хорошо была видна неброская изысканность церкви, хотя длинные реставрационные леса почти полностью закрывали стены, оставшиеся без росписи и скульптур. Богато украшенный алтарь был, как занавесом, затянут белой тканью и полиэтиленом. Эстебан снова покрутил головой, касаясь головы Алисии. Он с горькой иронией подумал, что это тот редкий случай, когда губы их разделяло совсем небольшое расстояние. Церковь освещал только луч света, проникающий сквозь витраж и слепящий Алисию. От каменной стужи движения Эстебана стали замедленными и тяжелыми. Они с Алисией переговаривались — очень тихо, почти шепотом, — когда губы одного доставали до уха другого. Оба, по их уверениям, чувствовали себя нормально. В центре нефа двигалась некая фигура — человек старательно собирал краски и кисти, демонстративно не обращая внимания на телодвижения пленников. Между тем Эстебан, раздирая в кровь пальцы, пытался справиться с узлами на веревках, мучительно стягивающих запястья. А еще у него болела грудь, словно легкие требовали прочистки, но все равно ему страшно хотелось курить.
— Я видел тебя в кабинете Адиманты! — закричал Эстебан, испугавшись грохота собственного голоса, взлетевшего к потолку. — Ты там среди других слушателей, принаряженная и с приклеенной улыбочкой — специально для фотографии. Тут я сразу все и сообразил.
— Правда?
— Правда, и ты отлично это знаешь. — Мизинец отвоевал кусочек веревки. — Ты ведь с самого начала надеялась, что я сумею во всем разобраться, иначе не стала бы устраивать весь этот театр, и нам пришлось бы поскучать. Благодарю, сеньора психолог. Большое спасибо.
— Не за что. — Мамен обмакнула кисть в банку с черной краской и теперь выбирала нужную точку на полу.
— Ты и вправду училась в Лиссабоне, да, но изучала ты не только психологию. Думаю, тебе вполне хватило двух курсов в фонде Адиманты, по крайней мере для того, чтобы наловчиться обрабатывать чужие мозги. Ведь это ты, ты еще в самом начале внушила Алисии образ проклятого города, ты травила ее, преследовала, едва не свела с ума. А потом прописала ей кое-какие лекарства — и вперед!
Эстебан спиной чувствовал, как часто задышала Алисия, — все, что она слышала, было для нее подобно ударам хлыста. Луч света, проникавший через витраж, по-прежнему бил прямо в зеленые глаза, поэтому она с трудом различала, что происходит вокруг. Бедная наивная Алисия, так и не научившаяся разбираться в людях. Сейчас она с удовольствием пожалела бы саму себя, если бы не чувствовала такого бешенства — и такого отчаяния.
—Да, дорогой мой филолог. — Мамен пыталась изобразить на четырех мраморных плитах круг. — Эта глупая гадалка, Азия Феррер, была недалека от истины, только вот ее дешевый лексикон все испортил. Господи, что она несла про астральные тела, какую чушь! Сон, любой сон — результат определенного психического состояния: достаточно заставить другого человека настроиться на ту же частоту, и он будет видеть во сне то, что ты захочешь. Не скажу, чтобы это было таким уж легким делом, но изобретать что-то тоже не пришлось. Хотя нельзя не отметить, что это требует больших затрат энергии. Алисия, радость моя, знаешь, я провалялась две недели в постели, после того как изготовила для тебя этот город и сеньора Бенльюре, который получился у меня только с четвертого захода.
— Да? Поверь, я тебе очень сочувствую, — вздохнула Алисия.
Руки Эстебана продолжали заниматься веревками и при этом щекотали ее.
— Годы, которые я провела рядом с Адимантой, принесли мне много пользы, — продолжила Мамен, нарисовав полукруг. — Да, Эстебан, и курс нейропсихологии в Лиссабонском университете я тоже прошла, но это — так себе, ничего особенного, должна тебе сказать. Зато Адиманта развил способности, которые с детства упрямо рвались наружу: во мне всегда жила какая-то стихийная неистовая сила — вот тут, внутри черепной коробки, и время от времени она порождала образы и мысли, хотя понять, откуда они брались, было невозможно. Видимо, тут нет ничего странного, некоторые люди с этим рождаются. Скажем, кто-то наделен талантом скрипача, но если не развивать талант, он исчезнет. Так что два года в фонде Адиманты я даром не потеряла, уж поверь мне, не потеряла. Я училась, тренировалась, я могла целые ночи проводить без сна — лишь бы укрепить свои способности.
Однажды я вдруг поняла, что раз природа наделила меня подобной властью, значит, я призвана взять на себя некую роль, значит, у меня есть особое предназначение. Не знаю, можете ли вы, обычные люди, понять то, о чем я сейчас говорю.
— Отлично можем, сеньора мессия, — отозвался Эстебан, который в этот миг почти справился с первым узлом.
— Я обнаружила книгу Фельтринелли в библиотеке фонда, и только много позже мне стало известно, что здесь, в Севилье, тоже имеется один экземпляр. Я не очень хорошо знаю латынь, но гравюры меня очаровали — прекрасные изображения дворцов, статуй, ангелов. Я заглянула на последнюю страницу, туда, где помещены дракон и стихотворение, и меня они здорово заинтриговали. Адиманта рассказал мне историю Игнасио да Алпиарсы, историю секты Заговорщиков. В музее фонда хранится один из ангелов, Самаэль — самый первый. Опять же, не думаю, что вы мне поверите, но в тот миг, разглядывая бронзовое лицо, я поняла, что моя судьба — стать папессой, супругой Сатаны, что я должна занять выдающееся место среди смертных.
— Конечно, еще бы, с такими-то руководителями. — Пальцы левой руки у него уже были свободны.
— Всегда есть чему учиться, сын мой. — Черный круг был завершен, Мамен начала рисовать второй — внутри первого, но уже красной краской, начав с востока. — Мне надо было получить четырех ангелов, четыре надписи на пьедесталах, чтобы восстановить зашифрованный текст Фельтринелли. Я стала как одержимая искать ангелов у европейских антикваров. В Лондоне, Берлине, Париже. Но находила лишь какие-то следы, какие-то упоминания, не более того. Потом узнала, что четвертый ангел, Махазаэль, безвозвратно погиб во время войны, зато в архивах коллекции Фанкельхейна нашелся текст с пьедестала. Тут я и познакомилась с Рафаэлем Альмейдой.
— Тебя познакомила с ним Мариса, — быстро вставила Алисия.
— Да, Мариса, конечно Мариса. — Мамен отступила на несколько шагов, чтобы проверить, ровным ли получался второй круг, — Разумеется, к тому времени Мариса уже успела пару раз с ним переспать. Мы, психологи, умеем догадываться о том, что происходит в жизни других людей. Альмейда был порядочной свиньей и любил, чтобы женщина выполняла некоторые его капризы, а если она соглашалась, он становился любезным, разговорчивым и даже щедрым.
— Значит, и ты спала с ним, — сказала Алисия, которую по-прежнему слепил луч света из окна.
— Не только я, детка. — Второй круг был готов. — Альмейда не пропускал ни одной юбки, хотя, по правде сказать, его интересовали не только женщины, ему, собственно, было все равно, но бедная Мариса, которая иногда ведет себя еще глупее, чем ты, искренне верила, что он отчаянно влюблен в ее диеты и четвертые измерения. Мы с ним встречались, как правило, раза два в неделю — то у меня, то в какой-нибудь гостинице. Я тщательно просматривала антикварные каталоги, приходившие к нему в лавку, отлично знала все, что он выставлял на продажу, а также то, что придерживал для тайных сделок, ведь вокруг много людей с черными доходами. Однажды я узнала, что в Барселоне умер некий Маргалеф и распродается его коллекция, при этом на аукцион среди прочих предметов выставлен и Азаэль — третий ангел. Я помчалась туда, заплатила такую сумму, что до сих пор не могу вылезти из долгов, но ангела заполучила. После аукциона ко мне подошел мужчина с усами, и вид у него был такой, словно его только что хорошенько отколошматила жена… немыслимый плащ, ботинки, в которых наверняка нельзя было даже приближаться к лужам.
— Бенльюре, — догадалась Алисия, но тут же по резкому рывку Эстебана поняла, что теперь левая его рука целиком была свободна.
— Да. — Мамен, нарисовав второй круг, прервала работу, с грохотом поставила банку с краской на пол и двинулась к трансепту. — Эстебан, дорогой, что это ты там затеял?
— Ничего особенного, радость моя, — отозвался Эстебан спокойно, хотя по спине его побежала капля холодного пота. — Приноравливаюсь. Эта поза не слишком удобна для продолжения разговора, сама понимаешь.
Только тут он заметил, на Мамен были новенькие резиновые перчатки, — руки в перчатках рылись в брошенной у стены сумке, потом вытащили оттуда маленькую металлическую игрушку, которую и сунули ему под нос. Эстебан посмотрел на Мамен и узнал этот взгляд — точно такие нее, глядящие куда-то вдаль глаза были у Себастиано Адиманты и Эдлы Остманн.
— Знаешь, что это такое? — спросила она.
— «Вальтер» ППК, — ответил Эстебан, изо всех сил стараясь, чтобы голос его не дрогнул, не разбился вдребезги. — Инспектор Гальвес сошел бы с ума от радости, найди он здесь пистолет.
— Могу себе представить. Дорогой, я понимаю, что тебе не очень удобно, но ведь мы не в театре. Ты уже получил одно предупреждение, оно на правой щеке, сейчас получишь второе — на левую, чтобы не вздумал делать глупости. Конечно, пуля — веский аргумент, но и рукоятка тоже кое-чему учит.
И тут же Эстебан почувствовал, как словно вспышка молнии обожгла ему лицо — так алмаз в мгновение ока оставляет глубокий след на стекле. Он выругался, по подбородку у него потекли струйки крови. Мамен между тем вернулась к своим кругам и начала выписывать буквы, но какие именно, они со своего места разглядеть не могли.
— Огромное спасибо, — прорычал Эстебан. — Вы очень любезно принимаете своих гостей.
— Бенльюре пригласил меня в бар, — продолжила рассказ Мамен, словно не расслышав реплики Эстебана. — Он видел, сколько я заплатила за ангела на аукционе, и решил сделать мне предложение. Сам он был старьевщиком, покупал на вес всякий хлам, металлолом… Уж не знаю, каким образом, но в руки к нему попал бронзовый ангел с вывихнутой ногой. Он увидел в каталоге совершенно такого же и явился на аукцион посмотреть, чего тот стоит. Я захотела глянуть на фигуру собственными глазами, он показал — это был Азазель, второй ангел. Старьевщик заломил немыслимую цену, и я ограничилась тем, что переписала надпись с пьедестала и обещала подумать о покупке. Теперь у меня появился полный текст, все четыре надписи.
— Но ты не могла их расшифровать, — бросил Эстебан, криво ухмыльнувшись.
— Именно, дорогой. — Она заполняла какими-то значками пространство между первым и вторым крутом, и ей осталось пару раз махнуть кистью, чтобы закончить последнее слово. — Несколько месяцев я ломала голову, но надо признаться: криптография — не для меня. От Адиманты я знала, что тайный текст указывает некое место, знала, что это место находится в церкви, потому что Заговорщики, враги Христа, служили свои антимессы в освященном месте. Я просмотрела кучу книг по христианской символике.
— И ничего! — Эстебан улыбнулся с явной снисходительностью. — И тогда ты подумала обо мне. Какая честь!
— Да, я подумала о тебе, дорогой мой. Твои знания палеографии и классических языков делали тебя самой подходящей кандидатурой. Но, разумеется, я не могла вот так прямо явиться к тебе и попросить расшифровать текст, который сделает меня супругой Сатаны. Пришлось двигаться окольными путями, кривой дорожкой. Ритуал требовал человеческой жертвы, и тут я придумала. У меня вдруг возник план — словно он всегда лежал где-то рядом, только и ждал, чтобы я взглянула в ту сторону и занялась его осуществлением.
Закончив последнюю букву, Мамен поднялась на ноги и стала рассматривать дело рук своих, но в этот миг она услышала шорох и краем глаза заметила, что какая-то тень метнулась в ее сторону. Она успела вовремя повернуться и увидела, как Эстебан с развязанными руками, с которых еще свисали обрывки веревки, изготовился к прыжку. Звук выстрела отскочил от сводов церкви — и словно гром прокатился по готическому храму. Алисия, которая из-за проклятого луча ничего не могла разглядеть, завизжала, перекрыв эхо от выстрела. Эстебан, взвыв от боли и ярости, повалился на пол. Где-то на уровне его подмышки начала образовываться лужа крови.
— Сука, сука, — словно молитву повторяла Алисия. — Ты его убила?
— Нет. — Мамен, скользя по мраморному полу, подошла к поверженному телу. — Я попала в плечо, но бедняга потерял сознание от страха. Сам дурак, ему ведь велели не рыпаться. Мне совершенно ни к чему убивать его. Пока.
— Сука, — снова запричитала Алисия, давясь слюной.
— А ты, детка, помолчи. — В первый раз Мамен встала перед ней и заслонила безжалостный луч света, бивший Алисии в глаза. — Не понимаю, почему тебя так пугает мысль о его смерти, ты же на самом деле его не любишь, да и не способна полюбить, как Бог велит.
— А тебе откуда это известно, дрянь?
— Известно, уж поверь, известно. — Мамен вытащила откуда-то пачку «Нобеля» и сунула сигарету в рот. — Бедняжка Алисия, беспомощная Алисия, Алисия, которая никогда и ничего не может решить сама. Погиб Пабло, которого ты вроде бы тоже не любила — ты этого ведь и сама толком не знала, и уж тем более не знаешь, любишь или нет этого несчастного дурачка, который теперь лежит на полу и истекает кровью. Всю жизнь ты останешься никчемным существом, золотко мое. Поэтому ты и оказалась отличным инструментом для осуществления моих планов. Эстебан безумно влюблен в тебя, ты страдаешь депрессией, и в голове у тебя царит полная путаница. Это облегчило мне задачу — я сумела без особого труда проникнуть в твои сны. Надо было заставить тебя поверить, будто вокруг плетется сатанинский заговор, будто прямо в твоем подъезде поселилась секта в стиле Поланского. Все сработало точно, как часовой механизм, мне удалось внушить вам эту мысль. А вы-то считали, что до всего доходите своим умом, сами делаете то одно открытие, то другое и что существует цепочка случайностей, совершенно необъяснимых совпадений. В Париже, в лавочке на набережной Сены, я заказала граверу копию с иллюстрации из книги Фельтринелли, где изображена площадь с ангелом. Несколько недель ушло у меня на то, чтобы подготовить место действия твоих снов, потом я туда тебя и сунула. Вспомни те пять сеансов дурацкого гипноза, пять скучнейших вечеров — ты целиком мне доверилась, чтобы я помогла тебе избавиться от кошмаров. Тогда я и внедрила в твою голову Новый Вавилон. Потом взяла копию с иллюстрации и подсунула в пачку бумаг в книжной лавке на улице Фериа, ведь я знала, что ты частенько заглядывала туда с Пабло. Это я изучала экземпляр «Mysterium» в Главной университетской библиотеке, где ты работаешь; это я уничтожила каталожную карточку и сунула книгу на другую полку, но так, чтобы ты ее нашла и подумала, будто кто-то этот томик спрятал. Я позвонила Бенльюре и предложила приехать в Севилью, пообещав купить у него ангела. Пару раз я назначала ему встречу у того дома, где находится моя консультация, когда знала, что ты навестишь меня и, значит, столкнешься с ним. В конце концов мы с ним встретились у твоего подъезда, и там я выпустила в него три пули. Потом нажала на кнопку домофона, ты спустилась вниз и нашла умирающего.
— А знак? — спросила Алисия. — У Бенльюре повыше локтя был знак — stigma diaboli.
— Сатанинский заговор, — важно подчеркнула Мамен. — Ты должна была заподозрить, что и Бенльюре является членом секты, что он приехал в Севилью, чтобы вручить тебе ангела, может быть раскаявшись в связях с этой зловещей организацией. В нее же, разумеется, входили Нурия и Блас Асеведо. Ангела, который хранился у Нурии, я приобрела у наследников Маргалефа. Нурию я попросила отреставрировать его, но в строжайшей тайне — якобы чтобы сделать тебе на день рождения сюрприз. О соке, который принесла тебе Лурдес, я узнала случайно и тотчас заменила прежние таблетки на снотворное. И ты, конечно, связала свою сонливость с этим самым соком. О жульничестве Бласа я узнала от Альмейды. Позвонить ему и вызвать в лавку труда не составило — чего уж проще!
— Но ты еще изображала из себя Марису.
—Да.—Мамен начала подтаскивать тело Эстебана к нарисованному на плитах кругу, и на мраморе оставался яркий кровавый след. — Из твоих рассказов я сделала вывод: Эстебан начал подозревать, что за всей этой историей кто-то стоял, вернее, стояла. Мариса была знакома с Бласом и Альмейдой, поэтому она подходила мне идеально. Тогда я пробралась в твою квартиру и перевернула там все вверх дном, потом заглянула к Лурдес и представилась Марисой.
— Но ведь ты была в Барселоне, — выпалила Алисия и тут же раскаялась в том, что ляпнула такую глупость.
— Нет, детка, нет. — Старательные руки Мамен снова связали веревкой запястья Эстебана. — Я укрылась в гостинице, оттуда тебе и звонила. Ты думала, я в Барселоне, но я была здесь, в Севилье, дергала за ниточки. А в день моего якобы возвращения просто взяла такси, погрузила туда два чемодана и жуткую лампу, купленную рядом с твоим домом, и доехала до аэропорта. Ты отвезла меня домой и ничего не заподозрила.
Значит, вот как оно все было. Теперь еще очевиднее стала ее, Алисии, никчемность, она просто не способна жить без страха: а вдруг ее, как хрупкую вазу, неуклюжие руки сейчас разобьют на тысячу кусков, вдруг кто-то захочет переставить ее с середины стола на консоль и при этом непременно споткнется, зацепившись ногой за складку на ковре. Алисия зажмурилась и вдруг поняла: жизнь ее была сплошной ошибкой, она выстроила крепостную стену из привычек и ритуалов, чтобы защититься от терзавших ее воспоминаний, только вот не получилось остаться внутри вожделенного уютного садика, заповедного и очень скучного, не утешал он ее и не исцелял душу. Безобидная привычность домашнего обихода оказалась лишь занавесом, за которым происходили ужасные события. Равнодушные пепельницы, зеркало в ванной комнате, медленный ежедневный маршрут часов, но за циферблатом скрывалась иная реальность, более насыщенная и зловещая, более совершенная и мучительная, и она обладала той нестерпимой материальной плотностью, какая бывает только во сне. Ей вдруг почудилось, что ее самой, Алисии, на самом деле уже нет — ни за зелеными зрачками, ни в серединке измученного сердца, которое с каждым ударом стремилось вырваться из телесной клетки. Страх сокрушил ее, обрушился сверху потоком густой смолы, образовав заслон между ней — или тем, что она считала собой, — и жестоким, устроенным в форме лабиринта миром, который остался снаружи, — с уличным движением, телевидением, небом, усеянным звездами.
— Вчера кто-то хотел убить меня, — проговорила Алисия, сжав зубы. — Меня толкнули под автобус.
— Ах да, — бросила Мамен, словно вспомнив о чем-то. — Знала бы ты, на что способны некоторые люди ради жалких двадцати тысяч песет. Эту женщину я наняла на Аламеде, мне ее порекомендовал один человек, не важно кто, к нашей истории он касательства не имеет, — надо иметь друзей повсюду. Эта идиотка перестаралась: я велела ей одеться в черное и так далее, ради сценического эффекта, но толкать тебя под автобус — такое в мои планы не входило. Я ведь отлично понимала, что дело близится к завершению. Эстебан у Адиманты, ты ждешь от него новостей. Все шло точно по плану. И нельзя было допустить, чтобы ты хоть в чем-то меня заподозрила. Нападение той сумасшедшей выводило меня из-под подозрений. Когда ты сообщила мне по телефону, что Эстебан разгадал тайну текста, я кинулась к Нурии — мне нужны были ключи от церкви, именно от этой церкви. Да, я убила ее, хватило двух ударов — легкая смерть, без мучений. Потом я хотела подняться к тебе, взять пленку из автоответчика, но ты явилась сама — через окно. Это надо придумать — такой безумный акробатический номер! Короче, ты облегчила мне задачу. К тому же последние сомнения относительно смысла полученного текста исчезли, не напрасно же я столько времени потратила, читая и перечитывая толстенные труды по христианской символике. Нурия имела степень лиценциата искусствоведения, в ее библиотеке нашлась известная мне книга — «Символика христианского храма» Стриндберга. «В теле Сына Человеческого наступи на камень и иди на запад, посвяти девять шагов евреям, семь — латинянам, отними четыре шага у греков». Тело Сына Человеческого — это тело Христа, то есть церковь, любая церковь. Камень — алтарь, в каждой церкви имеется камень Бетель, Краеугольный камень, освящающий помещение. В давние времена священник чертил в главном нефе три линии, каждая обозначалась первой и последней буквами соответственно латинского, греческого и еврейского алфавитов. Три направления, три оси координат. Двигаясь к закату — то есть к выходу, я должна была сделать девять шагов в одном направлении, семь — в другом и отступить на четыре шага—в третьем. Так я и отыскала нужную точку, вон ту, где я начертила два круга и где сейчас принесу человеческую жертву, чтобы следом прочесть заклинание.
По-прежнему не снимая резиновых перчаток, Мамен сунула руку в сумку и вытащила оттуда жутковатый мясницкий нож, который Алисия видела на кухне у Нурии. Мамен решительно схватила нож за рукоятку и шагнула во внутренний круг, где лежал истекавший кровью Эстебан. Красная жидкость нарисовала на мраморном полу огромный иероглиф. Руки и ноги Алисии мелко задрожали — то ли от страха, то ли от негодования, она попыталась ползком добраться до кругов, но оставила безнадежную попытку. Она понимала одно: надо выиграть время, непонятно зачем, но надо.
— Остановись, Мамен, остановись, — выдохнула Алисия.
— Так надо, сокровище мое, — ответила Мамен, приподняв за волосы голову Эстебана. — Я исполню ритуал, но отвечать за содеянное не собираюсь, поверь мне, этот груз я со своих плеч скину. Инспектор Гальвес подозревает, что ты — та самая молодая женщина, которая купила ангела из коллекции Маргалефа, да и все трупы тем или иным образом оказались связанными с тобой. Вся история плюс вкрапленный в нее сатанизм убедили его в том, что ты — опасная сумасшедшая и можешь твердой рукой в любой момент отрезать кому угодно голову. Типичный случай психопатии, из тех, о которых так часто пишет желтая пресса. Сейчас я перережу горло Эстебану, а потом, когда все будет кончено, пущу хорошенькую, маленькую пульку тебе в висок. Прости меня за откровенность, но я хочу быть честной, чего уж теперь играть в прятки. Версия полиции: психически больная женщина с навязчивыми идеями убила любовника, а потом кончила жизнь самоубийством. Все очень просто.
Алисия, у которой были туго связаны запястья и щиколотки, опять попробовала ползти боком и кричать. Ее голос метался под сводами церкви, словно металлическая птица, которая в отчаянии бьется о решетки. Алисия кричала так, будто ее голос сам по себе мог остановить готовое свершиться страшное преступление. Левой рукой Мамен снова приподняла голову Эстебана так, чтобы открылась шея, на которой застыли нарисованные кровью каракули. Правая рука занесла нож. Кривой луч, падавший сквозь витраж, играл на лезвии переливчатыми бликами. Алисия продолжала визжать и поэтому не услышала первого залпа, от которого, как от камнепада, вздрогнули церковные стены. Зато второй выстрел она отлично услышала, потом — третий, потом увидела, как Мамен рухнула на неподвижное тело Эстебана, как из горла ее брызнул фонтанчик, словно из засоренного водопровода. Нож чиркнул по полу, упав чуть впереди. В дверях церкви стоял инспектор Гальвес с белым как мел лицом, в руке он держал пистолет. В другой руке зажал измятый листок бумаги с планом церкви, перечеркнутым тремя цветными линиями.
Весь день она укладывала чемоданы, опустошала шкафы, не глядя, что-то куда-то совала. Она быстро уставала и тогда садилась на покрывало или на перевернутое кресло и курила одну сигарету за другой, без счета, смотрела на дым и пыталась расшифровать возникающие перед ней картины. Потом, чтобы избавиться от них, лихорадочно разгоняла дым руками. Мариса уже успела оставить на автоответчике пять отчаянных посланий, но на эти звонки Алисия отвечать не собиралась: телефон казался ей сейчас мерзким живым существом, и она быстро вытащила вилку из розетки, чтобы лишить его жизни. Сверкающий, золотистый день медленно катился к сумеркам. Уже несколько недель конибры не видели такого солнца. Конечно, больше всего ей было жаль расставаться с ними, покидать их на волю капризной судьбы, обрезать пуповину, которая связывала цветы и хозяйку все это время — время потрясений и блужданий во тьме. Беда в том, что у Алисии не осталось больше нежности, чтобы поделиться ею с кем бы то ни было, сердце ее превратилось в сухой плод и только по привычке занимало положенное место в грудной клетке. Она не желала ни о чем думать, не желала ничего вспоминать — из боязни обжечься.
Эстебан пришел в условленный час. С большим трудом он левой рукой сунул в рот сигарету; правая висела на перевязи, так что на ближайшую пару месяцев он сделался левшой. Вид у него был нездоровый и одновременно беспечный, как у человека, которого пригласили на праздник, а он не решается постучать в запертую дверь и всю ночь стоит на улице под проливным дождем. Все вещи Алисии уместились в два чемодана и тощую дорожную сумку. Даже левой рукой Эстебан легко поднял один из чемоданов. Они спускались на лифте, стоя рядышком, спиной к зеркалу, что-то нервно поправляя или насвистывая, но не произнесли ни слова, не попытались вырваться из тягостного футляра молчания. На улице мягкий солнечный свет, похожий на рассеянную пыльцу, окрашивал в желтый цвет ветровые стекла автомобилей. Они поставили чемоданы на тротуар, Алисия встряхнула руками, словно пытаясь освободиться от чего-то липкого, потом начала нервно рыться в сумке в поиске сигарет. Эстебан глядел на нее проницательно и сурово — обычный взгляд Эстебана, взгляд, который сбрасывал ее в пропасть сомнений, требуя принять решение. Наверное, именно так он смотрел тогда, в Лиссабоне, когда произносил в телефонную трубку роковые слова. Сперва Алисия пыталась отвести глаза, но потом, словно очнувшись, подумала, что должна выдержать его взгляд — хватит играть в детские игры, прятать голову под подушку. Пора, на чаши весов уже положены все гирьки, выбор сделан, и нет больше капризной девчонки с ее дурацкими выходками. Только вот надо еще что-то сказать — именно теперь. Произнести заключительную речь, которая формально обозначит начало нового этапа в их жизни. Алисия открыла рот, но смогла лишь пробормотать:
— Останови, пожалуйста,такси.
Он сохранял невозмутимость, в его глазах не мелькнуло ни тени грусти или разочарования — он принимал ее бегство как неизбежный этап на том пути, который должен привести их к последнему испытанию чувств, к развязке. Рядом затормозило такси, они погрузили вещи в багажник, сели на заднее сиденье — так, что их колени соприкасались. За окном мелькали улицы, а Алисия все пыталась собраться с силами, только вот сил уже не осталось — из горла не шли самые нужные слова, которые могли бы спасти ее жизнь, избавить от одиночества и ненастья. Да, новое будет повторением старого, повторится история ее с Пабло любви — чуть подправленная и чуть измененная, только ведь выбора-то нет, альтернатива настолько ужасна, что вынести ее Алисия не сможет. Когда машина остановилась у вокзала на площади Армас, Алисия полезла в сумку и стала лихорадочно рыться, отыскивая кошелек. Эстебан протянул водителю деньги и попросил помочь достать чемоданы. Автобус в Малагу отправлялся через четверть часа. Алисия почему-то страшно боялась опоздать и отказалась зайти в кафе. Они поставили чемоданы в багажное отделение и решили выкурить по последней сигарете.
— Передавай привет сестре, — сказал Эстебан с мрачной любезностью.
Честно говоря, она и сама не сумела бы объяснить, почему оказалась здесь, почему узлы затянулись так крепко, что окончательно удушили ее волю. Собраться с духом и сказать нужные слова? Но тут с холодной жестокостью, неожиданной для нее самой, она призналась себе, что не любит Эстебана и никогда не любила, просто он был ей нужен, вернее, нужна его безнадежная любовь — чтобы выжить, выдержать долгую бессонницу, уготованную будущим. Так что она с силой вдохнула сигаретный дым и решительно выпалила:
— Помнишь, я сказала, что когда ты вернешься из Лиссабона, мы с тобой должны поговорить?
Его глаза улыбнулись, но вовсе не счастливо — это был злой огонек, как у человека, который заметил, что соперник по нескончаемой карточной игре блефует. Левая рука Эстебана с зажатой в ней сигаретой быстрым движением коснулась волос Алисии.
— Да вроде бы и не о чем тут больше говорить, — отозвался он, медленно выдавливая из себя слова. — Счастливого пути.
Она с неприязнью отметила, что Эстебан целует ее в щеку бесстрастно, словно нежный брат. Не вымолвив больше ни слова, Алисия поднялась в автобус с ощущением, что в желудок ей воткнули железный прут. Автобус начал набирать скорость, и она почувствовала бесконечное одиночество и бесконечное облегчение. Фигура Эстебана на стоянке теперь казалась совсем маленькой. Алисия не могла плакать, но отрекаться ни от чего не хотела, горечь смоляного цвета закупорила в ее душе все щели, через которые наружу могли просочиться неконтролируемые чувства. Расстояние, Малага, встреча с сестрой, с которой их никогда не связывали особенно близкие отношения, — возможно, все это хоть отчасти притупит боль, возможно, она найдет на новом месте покой и на него не посмеет посягнуть ни один призрак. Возможно, кто знает. С невыносимой тоской она вдруг возмечтала о той, совсем другой, стороне, которая ей чуть приоткрылась, возжелала нижней стороны хлеба с маслом, поверхности воды, увиденной со дна, или задней стороны зеркала. Солнце лениво просачивалось сквозь окошко, оставляя на волосах Алисии россыпь золотых искр. В ту ночь, после появления инспектора Гальвеса и после дачи официальных показаний, они еще какое-то время находились в эпилоге сновидения, еще оставались запертыми под крышками лаковых ларей. Затем змея снова свернулась кольцом, лабиринт вывел на ту дорожку, с которой начинался, и должен был снова прозвучать зачин романа, та же раскаленная добела фраза с первой страницы. Пабло и Роса, их вечное присутствие рядом — от этого ей не уйти, не спрятаться. Они обязательное дополнение или приложение к ее жизни — как волосы, которые надо подравнивать каждые две недели, как кончики ногтей, как никому не нужный зуб мудрости, как утренний кофе. Она всхлипнула и вцепилась в сумку, лежащую на коленях. Подумала и поняла, что любое сильное желание бессмысленно, потому что никогда не исполняется; вожделенная цель недосягаема для бегущего к ней, так что бег никогда не завершится; она поняла, что для освобождения ей нужно переселиться в другое тело, обосноваться в другом городе, поменять марку сигарет. Забвение — трофей, который достается лишь безумцам и покойникам.
— Вот, — сказал старик, кладя ему на ладонь сверкающий, холодный, как рыба, предмет.
— Сколько я вам должен? — со вздохом спросил Эстебан.
Лицо старика сморщилось, а губы образовали щель, отдаленно напоминающую улыбку.
— Оставьте, — сказал он. — Я должен был починить часы еще две недели назад, как вы изволили вежливо мне напомнить. Что ж, теперь они готовы. Буду рад служить и в следующий раз.
Эстебан опустил отцовские часы в карман куртки. После отца часы перешли к Пабло — маленькая вещица напоминала о прошлом, как, впрочем, и не зажившая еще рана на плече Эстебана. Он не торопился покинуть душное помещение, где царили разные часовые механизмы. Свисавшая с потолка стеклянная лампа делила комнату на разноцветные зоны — зеленые, красные и желтые, — благодаря чему экзотические приборы, стоящие на полках и на столах и даже сваленные в затянутый паутиной угол, где они составили компанию старым газетам и банкам из-под пива, казались еще более фантастическими. По стенам висели в ряд высокие футляры с серебряной и золотой насечкой, похожие на гробы, в их животах качались маятники. Из глубины витрин выглядывали изделия кубической формы, поблекшие латунные пастушки отмечали своим появлением каждые четверть часа, они выходили балетными шажками, что выдавало не слишком отлаженный механизм. Стоя на пороге, за которым его ожидали ночь и одиночество, Эстебан рискнул задать вопрос:
— Скажите, а вы верите в дьявола?
— Что? — Словно изъеденные молью руки старика легли на прилавок.
— В дьявола, в Сатану и тому подобные вещи. Вы можете поверить, что еще существуют люди, которые мечтают вызвать дьявола?
Еще сильнее сгорбившись и словно даже осунувшись, сеньор Берруэль заковылял туда-сюда по лавке, потом снова встал за прилавок, будто нашел островок безопасности, который спасет его от неведомой беды. Ставший вдруг затравленным взгляд с тоской скользнул по инструментам, потом — по маленьким часам, разложенным под стеклом. Потом раздался текучий голос, он звучал искренне, с ноткой смирения:
— Люди не понимают, что даже дьявол нуждается в заслуженном отдыхе, имеет, так сказать, право на пенсию. На мой взгляд, он такой же служащий, как и многие другие, но по должности ему выпала неприятная роль — роль киношного злодея. Хотя понятно ведь, что это просто уставший чиновник. Где бы он ни находился, ему приходится заниматься всякой ерундой, а он на самом деле старается забыть о мирских тревогах. Я думаю, что сколько бы его ни призывали, дьявол не захочет вернуться. Может быть, он даже нашел где-нибудь свое скромное, непритязательное счастье.
— Может быть и так.
Эстебан почувствовал, как в нос его прокрался острый запах серы.
Трейси Слэттон
«Бессмертный»
ГЛАВА 1
Имя мое — Лука, и я умираю. Воистину всяк человек в свой час умирает, уходят в небытие города, угасают царства, блистательные цивилизации развеиваются без следа, как чад догоревшей свечи. Но я был не таков, отмеченный милостью или проклятием Бога, который посмеялся надо мной. В последние сто восемьдесят лет прожитой жизни меня звали Лука Бастардо — Лука-безродный, бастард. Но хотя я не ведал своего рода и племени, зато знал, что я — человек, неподвластный закону смерти. В этом не было моей заслуги: жизнь моя текла как придется в блестящем городе Флоренция, стоящем на вольно струящейся реке Арно. Великий Леонардо да Винчи однажды сказал мне, что прихотливой природе вздумалось однажды на потеху себе сотворить меня вечно молодым и посмотреть на боренье моего духа, рвущегося из тесной бренной оболочки назад к своему истоку. Я не обладаю блистательным умом великого мастера, но со всей скромностью смею сказать, что жизнь моя позабавила Создателя. И если бы не рука инквизитора, вознамерившаяся довершить Его дело, я и впредь был бы еще пригоден для жизни.
Но теперь ожоги и переломанные кости, гниющая от гангрены левая нога и смрадный запах тухлятины говорят о том, что дни мои сочтены. Пускай уж быть тому, чего не миновать. Я не собираюсь кичиться, перечисляя, какие знаменитости ходили у меня в приятелях, к каким красавицам я прикасался, в каких битвах сражался, какие видел чудеса, какую встретил неповторимую любовь. Все это тоже правда, все это было в моей жизни, наряду с богатством и голодом, болезнями и войнами, победами и поражениями, волшебством и пророчествами. Но не ради этого замыслил я свою повесть. Цель ее совершенно иная.
Я прожил так долго, что мне, недостойному, дано было исполнение самых несбыточных желаний. Мне, как и всякому человеку, выпадала возможность выбора. Иногда я выбирал правильное решение, иногда делал ужасные ошибки, иногда на меня обрушивались жестокие удары судьбы, ввергая меня в узилище, и тогда мне в неволе должно было отстаивать свободу моего духа. Сквозь все мучения и триумфы я пронес цель своего существования, достигнув того, в чем прославленный Фичино[401] видел задачу любви: «Союз с прекрасным, соединяющий вечное с бренной жизнью». Не стану утверждать, что достиг этого благодаря высшей мудрости. Просто я, пускай даже бессознательно, проживал каждое мгновение во всей его полноте. Лишь исчерпывающая полнота знаменует свершенность. И я готов предстать перед судом. Я готов предложить мою повесть тем, чья душа жаждет познать мировую душу. За без малого двухвековую жизнь немудрено понять, что в ней важно и в чем заключается истинная ценность земного существования, — ибо, внимая голосу смеющегося Бога, ты начинаешь различать, где в этой музыке кончается ирония и начинается песнь.
Мне неведомо, откуда я появился на свет. Я будто проснулся на улицах Флоренции в 1330 году уже девятилетним мальчиком. По сравнению с другими детьми я был мелковат — наверное, от постоянного недоедания, — зато был смышлен и проворен по жестокой необходимости. В те дни я ночевал на улице в нишах домов и под мостами, а днем подбирал оброненные сольдо. Я клянчил милостыню у богатых дам, обшаривал карманы прилично одетых мужчин. В дождливые дни расстилал у подъезда тяжелые ковры для знатных особ, приезжавших в каретах. Я опорожнял в Арно ночные горшки и чистил щетки для конюхов и трубочистов. Я взбирался на высокие крыши и чинил терракотовую черепицу. Я служил на побегушках у коробейника, знавшего мою исполнительность и расторопность. Однажды я прислуживал священнику, пел «Аве Мария» и длинные куски латинской мессы, потому что был переимчив, как обезьянка, и, раз услышав, мог повторить все что угодно; это так забавляло священника, что он расщедрился на милостыню. Я даже позволял старичкам затаскивать меня под мост и, стиснув зубы, терпел, пока они меня трогали, жадными руками ощупывали мои лицо, шею, спину и зад. Все что угодно — за монету или кусок хлеба! Я вечно был голоден.
Моим излюбленным занятием было подбирать с земли на рынке фрукты, упавшие с телег и прилавков. Обычно хозяева выбрасывали плоды с побитым бочком, запачканные, которые никто не купит, но я был непривередлив. То, на чем есть два-три темных пятнышка, всегда казалось мне интереснее. Иногда я находил потерянные монеты, а однажды даже нашел жемчужный браслет — вырученные за него деньги на целый месяц обеспечили меня хлебом и солониной. Я не мог часто бывать на рынке, потому что городские стражники так и следили за оборванцами вроде меня, а поймав, в лучшем случае избивали. Но хоть раз в неделю я спозаранку отправлялся на один из множества рынков, что обслуживали стотысячное население Флоренции, и глазел на ослепительное богатство всевозможных товаров. Рынок радовал взор и обоняние: душистые красные яблоки и пикантно веснушчатые абрикосы; ряды хлебов с золотисто-румяной корочкой, источавшие теплый дрожжевой дух; бочки и мешки хрустких круп; аппетитные орехи, плавающие в кадках с медом; приправленные специями свиные окорока, розовые говяжьи ребрышки и бледное нежное мясо барашка, пахнущее полевой лавандой; жирные ароматные клинья сыра и шары желто-белого масла… Я пожирал все это глазами и носом, обещая себе, что однажды наемся всего до отвала. И я расчетливо выбирал подходящий момент, чтобы слямзить оттуда лакомый кусочек. Даже несколько зернышек могли спасти от бессонной ночи, вызванной недовольно урчащим животом. Тут важна была каждая крошка.
Семью мне заменяли два мальчика — Массимо и Паоло, такие же бездомные, как я. Массимо был косолапый, лопоухий и с бельмом на одном глазу, этот глаз у него косил и никогда не смотрел прямо. Паоло был по-цыгански черномазый. За это они и оказались выброшенными на улицу. Флоренция была нетерпима к недостаткам. За что выбросили меня, я не знаю. Башковитый Массимо говорил, что я наверняка сын какой-нибудь знатной замужней дамы от вхожего в дом монаха, что случалось не так уж редко. От его шутки и пошло мое прозвище — Лука Бастардо.[402]
— Радуйся, что тебя хоть не придушили! — дразнился он, а в подтверждение его слов мы видели немало мертвых младенцев, брошенных в канавах. Каково бы ни было мое происхождение, мне повезло и я остался жить. Никаких физических недостатков, кроме малого роста и худобы, у меня не было. Я был хорошо сложен и имел приятную наружность. Мне не раз говорили, что у меня красивые белокурые волосы и персиковая кожа, а уж в контрасте с темными глазами это и вовсе неотразимо. Правда, когда меня лапали старики, я старался не слушать, а отвлекал себя мечтами о вкусной еде, пока они не закончат кряхтеть. Потом брал свои деньжата и покупал свежие булочки да ломоть пряной рыбы, чтобы утолить голод и заесть стыд.
Бездомное детство не было беспечным, но дни проходили в простых заботах о том, как бы поесть, укрыться от сырости и холода, а когда выдавался случай, то посмеяться и поиграть. Такую чистую жизнь мне довелось испытать с тех пор лишь один раз, более века спустя, и уж тогда я трепетно дорожил этим счастьем, зная по опыту, как легко можно его лишиться. Когда те безмятежные годы закончились величайшей трагедией всей моей жизни, я хотя бы мог сказать себе, что не растратил их зря и пережил каждый миг мучительной любви во всей его полноте. Это было слабым утешением и не могло залечить моих душевных ран, но насмешник Бог распределяет наш жребий по своей прихоти, неисповедимой для человека, какие бы вопросы он ни задавал.
Дитя улиц, я развлекался тем, что бегал наперегонки и дрался с Паоло, который был сильным и вспыльчивым. Его пылкий темперамент был под стать цыганской крови. Я всегда оставался побежденным, до того раза, когда мы фехтовали палками на заросшей травой площади близ церкви Санта Мария Новелла[403] в западной части города у его высоких стен из серого камня. Стоял ясный весенний день, слабый ветерок носился под бескрайним голубым небом, покрывая рябью серебристо-голубую гладь Арно. Дело было накануне праздника Благовещения. Здесь любили проповедовать могущественные ревнители веры — монахи-доминиканцы, но сегодня они заперлись у себя, готовясь к празднествам. Просторную площадь заполонили толпы народа: бегали и играли мальчишки, наемные солдаты, называемые кондотьерами, играли в карты и свистели вслед женщинам; женщины сплетничали, а их дочурки цеплялись за пышные складки парчовых юбок. Чесальщики и красильщики шерсти и их хозяева высыпали из лавок, чтобы пойти обедать; нотариусы и банкиры вышли будто бы по делам, на самом же деле лишь для того, чтобы сполна насладиться редким солнечным деньком сумасбродного марта. Нищие вроде нас повылезали из своих пристанищ под деревянными мостами через Арно. Я увидел, как мальчики, дети знатных господ, практиковались в фехтовании, и даже остановился посмотреть. На них были накидки из тонкой шерсти, и они тыкали друг в друга тупыми деревянными мечами под бдительным присмотром учителя. Я подбежал поближе, чтобы подслушать его наставления: во мне жила жадная любознательность, к тому же я легко запоминал все услышанное. У шалуна Паоло на уме было другое. Он схватил с земли палку и ткнул ею в меня, дико зафыркал, передразнивая мальчишек.
— Защищайся, Бастардо! — крикнул из-за спины Массимо и бросил мне палку.
Я поймал ее и ловко развернулся как раз вовремя, чтобы отразить удар Паоло. К счастью, я успел; Паоло не собирался меня ранить, но он плохо соображает и может нечаянно покалечить. Он встретил меня широкой улыбкой, и я сделал вывод, что он хотел позабавиться за счет этих богатеньких сынков. Я поклонился ему, а он поклонился в ответ. Вскинув фальшивые мечи, мы закружились, изображая знатных детей, передразнивая их жеманные движения и напыщенный вид. Кондотьеры неподалеку хрипло захохотали, и мальчишки не стерпели насмешки.
— Давайте-ка проучим этих голодранцев! — крикнул самый высокий и бросился на Паоло.
В следующий миг нас окружили пятеро и пустили в ход свои деревянные мечи против жалких палок. Кондотьеры радостно заулюлюкали. Паоло был силен как бык и почти сразу сбил с ног двух мальчишек. У меня силенок было поменьше, так что я просто уклонялся от ударов и проворно отскакивал в стороны. Краем глаза я увидел, как Паоло упал и из его носа струей хлынула кровь. Во мне вспыхнула такая злость, что я кинулся на мальчишек. Я махал палкой, тщетно пытаясь ударить кого-нибудь, и палка сломалась пополам. Поднялся насмешливый хохот, и я понял, что на этот раз кондотьеры смеялись надо мной. Это разозлило меня еще больше, и я бросился на своих противников с обрубком палки. Жалкие потуги! Двое мальчишек подлетели ко мне с двух сторон и одновременно обрушили оба меча. Я упал навзничь. Ребра вонзились в бока, дыхание застряло в груди. Кондотьеры загоготали.
— Что же ты, мальчик! — сказал незнакомый старик, склонившись надо мной. — Так ты добьешься, что тебя убьют.
Я не заметил его на площади, но поглазеть на драку уже собралась внушительная толпа. Флорентийцы ничего так не любили, как неравные стычки; с каждой минутой людей собиралось все больше, желая отхватить и свой кусочек веселья в канун праздника. Старичок был низенький и тучный, на вид простодушный, но его живые глазки, казалось, замечали и понимали все и сразу.
— Били моего друга! — кричал я, силясь подняться. — А они смеются надо мной! — Я ткнул пальцем в кондотьеров.
— Это Бог над тобой смеется, — сказал старик с таким сочувствием в проницательном взгляде, с каким на меня еще никто никогда не смотрел, и потому эти слова тотчас же навсегда запечатлелись у меня в сердце. — Что же ты сломанной палкой-то?
— У меня больше ничего нет!
— Неправда.
— Правда! Поглядите!
Я выставил перед ним обе ладони. Жалкая палка выскользнула из дрожащих пальцев.
Старик покачал головой и присел рядом на корточки.
— Парень, у тебя есть не только то, что можно удержать в руках. Это меньшее из того, что тебе принадлежит. То, что внутри тебя и чего ты не видишь, — вот чем ты должен защищаться.
— Не понимаю, — сказал я, вглядываясь в его лицо.
— В тебе есть многое. Разные свойства, подобные краскам или формам, из которых складывается красота великой картины, — серьезно сказал он. — И в тебе дремлют целые страны. Вот твое жизненное приданое!
— Во мне нет ничего, кроме улицы, — заныл я.
— Если так, то это флорентийская улица! Может, ты и тощенький коротышка, но ведь ты флорентиец, разве нет? А флорентийцы наделены великими душами. Нам дано воображение, творчество, ум. Из нас выходят лучшие художники и ученые. Вот почему мы славимся острым умом и сообразительностью, тем, что называется индженьо![404] В тебе тоже есть частица его, иначе ты бы не выжил на улице! — Он подмигнул мне, кивнув без осуждения на мои грязные лохмотья. Он явно не смотрел на меня свысока из-за моего происхождения. — Если ты слабее противников, если их больше и они бросают тебе вызов, загляни внутрь себя, найди свой индженьо, выросший на флорентийских улицах, и пусть он тебе поможет.
— Как это? — Я через силу втянул воздух и обхватил руками ноющие ребра.
— Я видел, как ты слушал учителя фехтования, пока не началась эта драка. Ты же не глуп. Ты умный, если умеешь слушать тех, кто знает больше тебя. Ты же можешь защищаться обманным приемом. Неожиданность, прием и увертка — вот твое оружие!
— Давай, девчонка-безродная, — презрительно крикнул один из богатеньких мальчиков. — Посмотрим, как ты дерешься своей сломанной палкой!
— Против троих? — прошептал я, еле сдерживая дрожащий подбородок. — Они большие и сытые!
— Индженьо, — только пожал плечами старик.
Я кивнул и кое-как встал на ноги. Он потрепал меня по плечу.
— Держи, девчонка!
Кто-то из мальчишек ногой подтолкнул ко мне палку. Я посмотрел на нее и, вместо того чтобы поднять, изобразил испуг. Нас окружила толпа зевак, рядом с богатыми мальчиками пристроились кондотьеры, мальчишки сбились в кучку в центре кольца зрителей. Взвизгнув, как девчонка, я забежал за спину мальчишек и кондотьеров, делая вид, что хочу удрать. Зеваки весело выкрикивали ругательства, видя, как я бегаю, а я, пользуясь моментом, вытащил у зазевавшегося кондотьера кинжал. Я ловко выхватил его с пояса привычным движением, и он даже ничего не заметил. Я снова выскочил в круг и выставил перед собой кинжал.
— Смотрите-ка, у этого ублюдка ублюдская шпажка! — съязвил кто-то из кондотьеров. Он сравнивал мой ничтожный рост с коротким клинком, который был у меня в руках.
Остальные купцы одобрительно загоготали над остротой и потрепали его по спине. Даже тот солдат, у которого я стащил кинжал, покатывался со смеху.
Трое мальчишек только смотрели на кинжал, а я подбежал к Паоло, который все еще лежал на земле в окровавленной рубахе и тихо стонал.
— Ну же! — с вызовом крикнул я, поводя перед собой острием клинка. — Кто теперь хочет отведать моей сломанной палки? Вас тут трое, вы меня одолеете, но я шустрый, так что сперва я проколю вас!
Для меня это была длинная речь, но я не шутил, и мальчишки это поняли. Они застыли, потеряв дар речи. Никто не хотел отведать моего кинжала. И они отступили.
— Идите, ребята! Наигрались, и хватит на сегодня. Ваш учитель еще хочет с вами позаниматься, — сухо сказал старик, давая мальчишкам шанс уйти с достоинством.
Он махнул рукой в сторону их павших товарищей. Мальчишки что-то недовольно буркнули, но бросили мечи и пошли поднимать приятелей. А когда учитель фехтования, крупный бородатый мужчина с мускулистыми руками и мощными плечами, проходил мимо, он так сильно ударил меня в грудь, что я едва не потерял равновесие.
— Умник, — улыбнулся он. — Можешь приходить и смотреть, как я учу этих балбесов. Но только издалека, — добавил он, поклонился старику и с огромным почтением произнес: — Мастер.
Старик склонил голову, а потом повернулся ко мне.
— То, что внутри тебя, открывает двери ко всему, — улыбнулся старик. — К тому, кем ты станешь, как сложится твоя жизнь. — Он погладил бороду. — А теперь верни кинжал солдату, парень, иначе твой разум заработает тебе увесистый подзатыльник.
Я знал, что он прав, и бросился к неудачливому кондотьеру. Я протянул ему кинжал рукоятью вперед. Он принял его, поклонившись по всем правилам, приложив руку к сердцу и низко опустив голову. Я тоже поклонился по его примеру, и кондотьер опять засмеялся, на этот раз с одобрением. Я бросился обратно к Паоло, который уже очухался, отдышался и пытался сесть. Я протянул ему руку, и он встал на ноги, улыбаясь и утирая нос рукавом.
— Ублюдская шпажка, вот умора! — сказал он, только сейчас поняв смысл шутки.
Мы с Массимо переглянулись.
— Пошли, поиграем у реки в кости, — предложил Массимо. — Я вытащил у одного кондотьера, пока они на тебя глазели. Он еще не скоро заметит пропажу!
— Нет уж! — протянул Паоло. — Я терпеть не могу с тобой играть, Массимо, ты все время выигрываешь! А я еще ни разу!
Он упрямо выпятил губу и нахмурил смуглый лоб. Что правда, то правда: Массимо всегда выигрывал там, где важны сноровка и везение, и всегда уговаривал нас поиграть.
— Верно, зато ты всегда побеждаешь в борьбе, — ухмыльнулся Массимо, и я подумал, что теперь, когда в моей голове плотно засел совет старика об индженьо, Паоло нелегко дадутся победы. Потом я понял, что могу использовать совет старика и против Массимо тоже: разум — это орудие, пригодное на все случаи. Я огляделся по сторонам, чтобы поблагодарить старика за этот дар, но его уже не было рядом: он перешел площадь и удалялся под нарядные зелено-белые своды недостроенной Санта Марии Новеллы. Должно быть, он почувствовал мой взгляд, потому что обернулся и помахал мне на прощание. Я махнул ему в ответ, и старик исчез в церкви.
— Давайте раздобудем чего-нибудь поесть, — предложил я свое любимое занятие.
Массимо наклонился.
— Я тут подобрал медяки, можно купить еды, поедим за игрой!
— Ладно, коли ты платишь, — лукаво ответил я, и Паоло опять расхохотался.
Массимо часто делился с нами своей добычей. Щедрость нападала на него под настроение. А когда он был не в духе, то тайком копил припасы. Мы же с Паоло обычно в угоду ему соглашались сыграть с ним в карты и другие игры, хотя у Паоло не хватало сообразительности, а я предпочитал зарабатывать на еду. Однако Массимо любил такие развлечения, а поскольку мы трое жили одной семьей, то уступали ему. Массимо откопал на помойках за многоэтажными домами старую шахматную доску, шашки для алькуерка[405] и шахматные фигуры. Ему долго пришлось уговаривать меня, чтобы я научился играть. Сам он научился у цыган, которым понравилось в нем забавное сочетание нескладной физиономии и живого ума. Как-то на целую весну и лето они избрали его объектом обожания, учили и кормили, а потом, как всегда, тронулись в путь, а его бросили. Массимо с удовольствием вспоминал о том времени и много привычек перенял у цыган. В хорошую погоду мы с ним часто устраивались за лавкой, в которой торговали шелком, и просиживали за игрой по нескольку часов подряд. Я, после того как усвоил совет старика с площади, стал серьезным противником, который не выдает свою стратегию. Моя неторопливая игра нарушалась внезапными ходами, которые заставали Массимо врасплох. Он скисал и начинал жаловаться на свою невезучесть. Массимо, при всем его уме, так и не понял, как важен неожиданный ход. То же самое и с Паоло. Бывало, схватит меня в охапку, а я ору: «Гляди-ка, кондотьеры!» или «Эй, там стражники!» Он ослабит хватку, обернется, а я вывернусь и опрокину его на землю. А потом удираю, как собака от сердитого хозяина с тяжелыми сапогами. Как и Массимо, Паоло любил выигрывать, но в отличие от Массимо в случае проигрыша Паоло обрушивался на меня с кулаками.
Зимой мы трое делились едой и лохмотьями и жались друг к дружке, чтобы согреться, а когда от голода становилось совсем туго, в нас откуда-то бралась смелость и мы вместе отправлялись на поиски еды. Я заговаривал зубы благородным дамам, придумывая разные небылицы, чтобы отвлечь их внимание, а Массимо тем временем ловко опустошал их кошельки. Или Паоло выскакивал из-под колес телеги, притворяясь, будто его сбили, а мы с Массимо бросались на возчика с угрозами: вот как заорем, вот как набегут стражники, священники и зеваки! Лучше гони деньжата! Для добывания еды у нас было множество разных способов, и время, точно быстротечная река, незаметно проходило за этими хитроумными занятиями, пока в один прекрасный день прихотливая судьба не обрушила на меня удар, изменивший всю мою жизнь.
В тот роковой осенний час я изголодался хуже некуда. Всю неделю лил колючий дождь, и молнии с треском рвали холодный воздух. Мы трое все эти дни просидели, скорчившись, под гвельфским щитом, который висел на внешней стене церкви Святого Барнабы в старинном и богатом квартале Сан-Джованни — в самом сердце Флоренции. Под вечер, когда стражники обыкновенно отсиживаются в тавернах, наливаясь вином, я отправился на Меркато Веккьо.[406] Я даже не стал зариться на выставленные товары, воображая себе, как когда-нибудь накуплю нежного шелка и священных реликвий, породистых скакунов и серебряных кубков. У меня не было ни единого сольдо — только голодное брюхо, которое пустовало уже четыре дня. Я обошел стороной мясную лавку в центре рынка, миновал палатки по краю площади, незаметно оглядываясь: а нет ли где полицейских. Но смесь чарующих запахов еды, фруктов, вина и масел, от которых кружилась голова, придавала мне смелости, и я совсем расхрабрился. Хорошее оливковое масло издает пикантный аромат с горьковатым пряным оттенком, а сушеный инжир пахнет мясом, подслащенным медом. Я рыскал среди прилавков, выворачивая шею, как будто она сидела на шарнирах, а глаза шарили по липкой грязи в поисках чего-нибудь брошенного или потерянного. Одновременно я искал удобного случая стащить что-нибудь у покупателей, которые, закутавшись в накидки, несмотря даже на изменчивую весеннюю погоду, шумной толпой заполнили рынок. Я приглядел одну дряхлую старушку с внучкой, просто, но не бедно одетых. При них не было служанки, которая бы помогала им. Отличные клиенты! Обе полностью поглощены друг другом и товарами и слишком заняты покупками. Пока они мнут овощи, нюхают дыни и считают динары, разве ж они заметят руку, которая вытащит из корзинки булочку?
Я шел за ними по пятам, сначала на приличном расстоянии, потом подбираясь все ближе. Девочка была примерно моего возраста, девяти лет, разве что пухленькая и гораздо невиннее меня. Вот такую я бы взял когда-нибудь в жены, будь у меня то же положение в обществе! Тихая, с веселыми глазами и нежными губами. Ее волнистые каштановые волосы были стянуты на затылке красной лентой, а лицо было такое же, как у бабки, — овальное и слегка удлиненное. У них даже движения были похожи: тот же наклон головы, те же жесты. На мгновение я даже позавидовал их теплым родственным отношениям. С малых лет я мечтал иметь семью. Вместо семьи у меня были Массимо и Паоло, которые в одну секунду отобьют у меня добычу, если увидят в моих руках что-нибудь лакомое и будет настроение драться. Потом я увидел, как бабка торгуется из-за каких-то булок, и чувствительное настроение улетучилось как ненужная шелуха. Ничто не помогает так сосредоточиться на деле, как голод.
Я уже сидел у них на хвосте, когда кто-то пихнул меня в плечо. Я инстинктивно отдернулся и, увидев, как мимо прошмыгнул Массимо, застонал. Он сам положил глаз на старушку с девчонкой. Я не собирался так легко уступить и остался стоять на месте. Массимо смерил меня лукавым и виноватым взглядом, закатив косой голубой глаз и покачав головой. И вдруг завопил:
— Вор! — Он ткнул в меня пальцем. — Этот мальчишка вор!
Мои ноги были хорошо приучены удирать (до того времени это было все мое образование), но меня так поразило обвинение Массимо, что я застыл как вкопанный. Девчонка обернулась и посмотрела на меня, удивленно разинув алый ротик. Я замахал руками, пытаясь усмирить Массимо, но его крики уже стали привлекать внимание.
— Вор, вор! — еще громче заорал он.
В конце концов я попятился и, споткнувшись, угодил прямо в лапы поджидавшего офицера городской стражи.
— Попался, грязный воришка! — прорычал офицер.
— Я не вор! — закричал я.
— Проверьте его рубаху, — подсказал Массимо. — Он туда сунул, я видел!
— У меня ничего нет, — возразил я.
Но тут, когда Массимо наклонился ко мне и ткнул в живот пальцем, я почувствовал, как что-то твердое коснулось моего ребра. Сердце похолодело и замерло. Теперь там что-то было. Офицер сунул руку под изорванный пояс, который стягивал мою рубаху. Он ощупал всего меня и довольно крякнул, когда нашел то, что подсунул мне Массимо.
— Печатка! — провозгласил офицер и помахал золотым кольцом, зажатым в мясистых пальцах. — Где взял, паршивец?
— Я не брал!
— Она моя, — раздался невозмутимый голос, в котором сквозило презрение.
Толпа замолкла, и от этого молчания пахнуло отвращением. Бабка спрятала внучку у себя за спиной. Кто же не знал тощего, хорошо одетого мужчину, которому принадлежал этот голос? Люди шарахнулись от него, как от гадюки. Он двинулся к нам и спокойно продолжил:
— Только что она была у меня в кошельке. Этот воришка, похоже, обшарил мои карманы.
У меня комок подкатил к горлу.
— Я вас не видел, синьор, — запротестовал я, но офицер влепил мне такую оплеуху, что в ухе зазвенело.
Голова гудела. Человек, заявивший, что я украл у него кольцо, подошел ближе, и я отпрянул. От него пахнуло духами, он наклонился к моему лицу так близко, что я даже увидел прыщики на впалых щеках и темные завитки тщательно расчесанной бороды. У него был выступающий вперед подбородок, которого не скрывала даже густая борода, и острый как ножик нос. Я отвернулся, чуть не давясь от запаха, и забился в крепких лапах офицера.
— Смотри на меня, воришка, — произнес он. Я скосил глаза вверх, и офицер вздохнул. Уголок рта приподнялся в ухмылке. — У тебя неплохо получится, — кивнул он и выпрямился.
— Он украл у меня то, что гораздо ценнее его жалкой жизни, — произнес Бернардо Сильвано. — Теперь он принадлежит мне. Ему придется отработать свой долг. Это наказание как раз для таких, как он.
Толпа даже не зароптала, а только откатила назад, и Сильвано впился пальцами в мое плечо.
— Связать его! — приказал он офицеру.
Тот кивнул, извлек на свет шершавую веревку и связал мне руки за спиной. Я открыл было рот, но, не успев сказать ни слова, опять получил от офицера затрещину. В ухе загудело так сильно, что я совсем оглох. Из уха потекла теплая струйка крови и закапала на шею. Я поднял голову и посмотрел на Массимо, не веря своим глазам. Он стоял потупясь и не поднимал на меня глаз. Остальные зеваки давно отвернулись; происшествие, хоть и не самым приятным образом, разрешилось, и люди разошлись, сочтя, что все закончено. Сильвано склонился и взял Массимо за руку. Другой рукой, почти ласково, он бросил что-то Массимо в ладонь. Блеснул металл, и Массимо быстро прижал флорин к груди. Целый флорин! На него можно кормиться месяц. Массимо бросил на меня равнодушный взгляд и, прошептав: «Я выиграл», скрылся прочь.
Офицер подтолкнул меня к Сильвано.
— Значит, ты его забираешь, — буркнул офицер. — Но чтобы больше от него не было бесчинства!
— Бесчинства я и сам не люблю. У меня на него другие планы, — холодно ответил Сильвано.
Я ощутил во рту горький вкус желчи. Если б не пустой желудок, меня бы вырвало. Я дернулся в сторону, но в его длинных гладких пальцах таилась опасная сила, и он держал меня за веревку, которой были связаны запястья. Он дернул веревку вверх и так больно вывернул мне руки, что я застонал. Я озирался по сторонам в поисках спасения, помощи, но ждать ее было неоткуда. Все вернулись к своим делам. Какая-то старуха плаксивым голосом выпрашивала милостыню. Я видал ее под Понте Веккьо[407] и даже, бывало, делился с ней объедками. Теперь она на меня даже не посмотрела. Массимо убежал, Паоло нигде не видно.
Сильвано поднял мои запястья, толкая вперед.
— Путь недалекий, — сказал он. — В пределах городских стен. Наверняка ты знаешь, где находится мое прекрасное заведение. Все знают.
Я вспомнил о сброшенных в реку трупах, иногда даже расчлененных, которые уплывали по Арно из этого заведения. Это всегда были совсем юные мальчики и девочки.
— Прекрасным ваше заведение люди не зовут.
— Да что они понимают! Красота повсюду, во всем, и она бывает разной, — весело ответил он и начал на ходу насвистывать церковный гимн.
Вечер раскинул над городом закат, точно розовый плащ поверх голубой туники. Меркли последние лучи солнца, и Понте Веккьо с каменными и деревянными домиками, скучившимися, как птичьи гнезда, решеткой перегораживал вечернее небо, будто черная лента, протянутая по желтому шелковому полотнищу. Городские строения являли собой гармоничную гамму серо-желтых тонов, а холмы Фьезоле[408] вдалеке уже покрывались индиговой тенью. Их красота словно подчеркивала мучительность ожидавшей меня судьбы. Я то и дело спотыкался и падал, стараясь сколько можно оттянуть время. Но Сильвано был терпелив. Он ловко скручивал веревку, выворачивая мне руки, а когда я вскрикивал, толкал меня вперед. Совсем скоро мы оказались у городских стен, перед дворцом, чей безукоризненно оштукатуренный фасад скрывал все, что происходило в этих стенах. Я не знал всех подробностей, да и не хотел знать, но кое-какие слухи до меня доходили. На улицах я, конечно, повидал много сцен распутства: мужчин с проститутками, любовницами и даже с мужчинами. Этот дом был пристанищем самого грязного плотского греха. Паоло и Массимо шепотом рассказывали, что за дверями, которые вот-вот готовы были меня поглотить, скрывался знаменитый на всю Тоскану своим неслыханным развратом публичный дом.
ГЛАВА 2
Нас встретила тишина, густая, как запекшаяся кровь. Она меня просто ошеломила. Я не привык к тишине. На улицах Флоренции всегда было шумно, отовсюду слышался то пьяный смех, то басистые выкрики драчунов, перебранки, ржание лошадей, лай собак, мычание коров, которых вели на убой, звон колоколов на башне Флорентийского аббатства, зазывные голоса проституток, грохот колес по мостовой, звон кузнечных молотов по наковальням, лязг якорных цепей на Арно, шлепки выкидываемых из окон отбросов, гомон каменщиков на строительстве новой огромной церкви Санта Мария дель Фьоре,[409] которая, по слухам, однажды будет венчать город, трубы глашатаев, призывавших послушать новости, звуки волынки или виолы да гамба[410] по вечерам… Даже ночью улицы вздрагивали от шума. Но я привык к этому. Более того, постоянный галдеж стал частью моего существования, как переплетение нитей создает рисунок на ткани. Поэтому тишина, окутавшая меня в борделе Сильвано, казалась неестественной и ядовитой. Она была непривычна мне, чужаку без семьи и без имени.
Сильвано не обратил внимания на мое изумление и просто толкнул к двум дородным женщинам, которые встретили нас в вестибюле.
— Накормите его и вымойте, а то воняет, как от помоев. — Сильвано наморщил нос, выражая свое отвращение. — Отведите в прежнюю комнату Донато. Ее уже приготовили. Вечером он будет работать.
Женщины кивнули, и одна из них взяла меня за плечо. У нее было лунообразное лицо, изборожденное горестными морщинами, темные волосы и усталые глаза, испещренные сеточкой красных прожилок. Изо рта у нее несло вином и чесноком. Другая, моложе и бледнее, с красным родимым пятном во всю щеку, сунула руку мне за спину. Видимо, у нее был нож, потому что запястья мои наконец освободились. Я прижал их к груди, и женщина перерезала оставшиеся узлы. Веревка упала на пол. Я потер запястья, а женщина подобрала с пола обрывки веревки. Сквозь тонкую белую сорочку я видел, что ее спина иссечена вздувшимися красными полосами.
— От вшей избавьтесь, — добавил Сильвано и пошел прочь. — Он предназначен для благородного класса. И не забудьте про ухо. Бракованный товар идет по низкой цене.
Он покинул вестибюль, и мое здоровое ухо уловило приглушенные шаги на лестнице.
Ведя меня по дворцу, женщины молчали. Дворец словно был опутан мраком. Окна затянуты плотными шторами, подрагивают высокие свечи, но даже в темноте я видел, что комнаты обставлены роскошно. Тканые шпалеры с богатым узором украшали стены, по углам — вычурная резная мебель и расписные сундуки. Я не мог скрыть восхищение. Бывало, я частенько украдкой из любопытства заглядывал в окна, чтобы посмотреть, как живут другие люди, но мне никогда не приходилось бывать во дворце. Я с разинутым ртом таращился на увесистые канделябры и плюшевые ковры, но не увидел ни одного человека, только один раз мне показалось, что кто-то очень маленький прошмыгнул за дверь. Женщины не теряли времени попусту и сразу привели меня в атриум,[411] ярко освещенный факелами и фонарями. Нас ожидала громадная кадка с очень горячей водой. Женщина с круглым лицом подвела меня к кадке и начала развязывать пояс вокруг рубахи. Я не привык к подобной интимности и шарахнулся в сторону. Молча и не меняя выражения лица, она продолжала свое дело, и скоро пояс с рубахой очутились на полу, а следом и штаны. Оказалось, в этом мире у меня только и было, что маленькая кучка грязных лохмотьев. Даже я видел, как в ней шевелились вши. Я прикрылся ладонями. Вторая женщина, что была побледнее, исчезла и вернулась с бутылочкой оливкового масла и какой-то тряпкой. Луноликая потянулась к моей голове, но я выхватил у бледной бутылочку и сделал большой глоток зеленого масла. Оно было густое и почти сладкое на языке, и я довольно замычал.
— Рано, рано еще, — прошептала женщина и мягко, но решительно забрала у меня бутылку.
Она кивнула луноликой, и та, схватив меня за голову, наклонила ее так, что мое здоровое ухо улеглось прямо на плечо. Потом бледная влила несколько капель оливкового масла в мое больное ухо. Масло медленно стекло в ушную раковину, и жгучая боль в голове немного утихла. Женщина оторвала от тряпки клочок, свернула его жгутиком и заткнула им ухо. Потом жестом приказала лезть в кадку.
— Это ведь не метка дьявола, да? — съехидничал я и попытался дотронуться до ее родимого пятна.
Ее кожа была мягкой и пульсировала. Несколько завитков выбилось из светлой косы и упало мне на руку. Женщина едва заметно пожала плечами, отвела мою руку от щеки и ткнула пальцем в кадку.
— Как тебя зовут? — спросил я, залезая в воду.
По ее изнуренному лицу пробежала улыбка. Я неуверенно стоял в воде, и она жестом приказала мне сесть. Я сел, расплескав воду. На моей памяти это была первая ванна. Летом я, конечно, плавал в Арно, но скорее чтобы освежиться после невыносимой жары. О какой чистоте может идти речь, если приходится уворачиваться от мусора и испражнений?
— Меня зовут Симонетта, а это Мария.
Она взяла с подноса щетку из свиной щетины, и Мария последовала ее примеру. Каждая взяла по куску мыла, окунула в воду, и вдвоем они принялись меня намыливать и скрести щетками. Я визжал и брыкался, отбиваясь от мыла, потому что оно щипало кожу, где были цыпки, и стертые запястья отзывались острой болью. Мария хлопнула меня щеткой по пальцам, и я перестал упираться. Вода в кадкеостыла и помутнела. Они вместе намылили мне голову, стараясь не задевать раненое ухо. Когда они наконец вытащили меня из кадки, я был весь в мыльной пене, и они ополоснули меня водой из ведер. Волосы на затылке отчего-то зашевелились, и я вздрогнул. Кто-то за мной наблюдал. Я обвел комнату взглядом и наконец увидел его — он стоял под решеткой, заросшей виноградными лозами.
— Эй! — крикнул я мальчику постарше, который с любопытством меня разглядывал.
И снова прикрыл тело руками.
— Не бойся, — ответил мальчик, — я пришел поздороваться. Меня зовут Марко.
Женщины зашикали на него, но он только отмахнулся. Они нервно огляделись, но все же вернулись ко мне и стали дальше тереть и полоскать. Марко вышел из тени и скоро оказался рядом со мной. Он шел изящной походкой, был высоким и стройным, с черными волосами и такими же глазами в обрамлении до смешного длинных ресниц. Его лицо напоминало мне фарфоровых кукол, которых привозили коробейники. Мальчик что-то держал в руке.
— Ты бродяжка?
— Лука, — ответил я. — Лука Бастардо.
— Все мы тут бастарды, — усмехнулся он, — даже хуже. Есть хочешь?
Он кинул мне то, что держал в руке. Это оказалась маленькая булочка. Я поймал ее на лету и стрескал в два захода.
— Он уже не одну неделю к тебе приглядывается, как бы заполучить. Вот, значит, и удалось. Жаль! А меня сюда отдали мои родители. Получили за это два флорина.
Я проглотил последний кусок прелестной мягкой булочки и облизал пальцы.
— Моему дружку Массимо дали за меня только один флорин.
— Наверняка я стою больше, потому что не зарос грязью и у меня не было вшей, — с насмешкой сказал Марко.
Я посмотрел на него, и он пожал плечами.
— Хорош дружок этот твой Массимо!
Настала моя очередь пожимать плечами. Люди готовы на все, лишь бы выжить. Меня научили этому улицы Флоренции. Марко смерил меня серьезным взглядом, который был мне непонятен, разве что я видел, что этот мальчик не желает мне зла.
Набравшись храбрости, я спросил:
— И плохо тут?
— Очень плохо, но кормят хорошо, — прямо сказал он. — Голодный-то не работник. В скором времени он тебя побьет. Так что не удивляйся. Не ори и не реви — он этого не любит и будет бить еще сильнее. Лучше прикуси язык и мочись под себя. Тогда ему станет противно и скорее надоест.
— Меня и раньше били, я не мочился и не орал, — ответил я даже с какой-то гордостью.
Я же не плаксивая девчонка, чтобы визжать от каждого подзатыльника! Сколько раз мне приходилось отведать кулаков Паоло, когда он знал, что у меня припасены хлеб или мясо, и требовал свою долю. Я нередко прятался, если удавалось чего-нибудь раздобыть. Пострадавшие при пожаре стены старого зернового рынка в Ор Сан-Микеле[412] или деревянные опоры Понте Санта-Тринита[413] служили хорошим убежищем. Я бы все отдал, чтобы скрючиться там сейчас, пусть даже без еды.
— Он тебя будет бить по-другому. Тебе сильно не поздоровится. Он хочет, чтобы ты понял — если не будешь делать все, как он скажет, ты будешь жестоко наказан.
— Трупы… в Арно… — начал было я.
Мария и Симонетта обливали меня каким-то цветочным зельем, втирая его в кожу грубыми рукавицами. Они оставили мыльную пену на голове, и вся кожа там горела, но меня бросило в дрожь, когда я вспомнил тело молодой женщины, почти еще девочки, которое вынесло волнами. Это была знаменитая, очень красивая и всеми желанная куртизанка. Все знали, что она жила здесь. Отступившая вода обнажила ее исполосанное в кровь лицо, куски кожи, отставшие вместе с волосами, и обугленные руки, которые торчали из воды черными обрубками.
— Если кто ему не угодит или он решит, что их время вышло, — мрачно продолжил Марко, — то об этом узнают все. Так что старайся ему угодить.
Он вскинул изящную голову, как будто что-то услышал, махнул рукой и снова исчез в тени.
— Тсс, мы работаем, — прошептала Симонетта.
По затылку пробежали мурашки, но, обернувшись, я ничего не увидел. Симонетта покосилась на окно, и я проследил за ее взглядом. Может быть, я краем глаза и заметил какое-то движение, но в окне никого не оказалось, словно это было зеркало, за которым никто не прячется. Я поборол желание опять прикрыться. Я догадался, что он смотрит, но, если бы он узнал об этом, ему бы не понравилось.
Последние лиловые тучи растаяли среди звезд, когда Симонетта и Мария наконец отложили свои щетки, рукавицы и полотенца. Женщины отступили назад, чтобы разглядеть меня с ног до головы при слабом желтоватом свете факелов. Волосы мои спадали светлой волной на острые плечи, кожа начищена до розового цвета и прямо вся светится. От меня даже исходил слабый аромат мускуса. Я поднес локоть к носу и понюхал. Никогда не думал, что буду вот так выглядеть и пахнуть! Симонетта лизнула большой палец и провела им по моей левой брови. Волоски ощетинились. Я такое уже видал раньше, холодным, безветренным утром, когда в капризной серебристой глади Арно отразилось мое лицо. Симонетта сердито взглянула на мою бровь и пожала плечами. Мария протянула мне желтую прозрачную рубашку, и я быстро натянул ее на себя. Наконец-то прикрыта моя нагота. Они повели меня обратно по дворцу.
Мы прошли еще одной залой, такой же пышной, как первая, и оказались в столовой. На столе лежал жареный кабан с яблоком во рту, блюдо с жареной дичью, миска горячего бобового супа, маленькая краюшка хлеба и корзинка с инжиром и виноградом. В воздухе парил аппетитный аромат розмарина и хрустящего сала. Симонетта указала на стол, и я ринулся к нему. Схватил тарелку с супом и быстро проглотил, громко чавкая. Наверное, в этом доме всегда вкусно кормили, но я слишком изголодался. Мне было все равно, лишь бы успокоить ноющую боль, которая пульсировала в крови и животе. Опустошив миску, я накинулся на дичь, отрывая одной рукой ножку и лакомую грудку — другой. Пока передо мной стояла дичь, кабан меня не прельщал: у него на рыле торчала черная щетина. Я набил полный рот мяса с бедрышек. Не успевая прожевывать, я глотал все подряд, чуть не рыдая от облегчения. Я уже потянулся за второй ножкой, когда за спиной раздался голос Сильвано:
— Ты жрешь, как голодная собака.
Я замер, все так же впившись пальцами в горячее мясо сочной птицы. Медленно я отнял руку и повернулся к Сильвано. Он стоял в дверях, равномерно покачивая в руке тяжелым длинным шелковым мешком. Сильвано подошел ближе, не сводя с меня пристального, изучающего взгляда. Свободной рукой он приподнял густую прядь моих чисто вымытых волос и выпустил. По спине побежали мурашки, но я сдержался, не дав им перейти в такую ощутимую дрожь, которая вряд ли ему понравится.
— Хорошо помылся, — сказал он с довольной ухмылкой. — Ты когда-нибудь был таким красивым и ароматным, а, Лука Бастардо?
Он отступил назад и медленно повел рукой, отчего мешок описал широкую дугу. Он источал столь злорадное наслаждение, что мои глаза невольно прилипли к мешку. Тот был бугорчатый и сильно округлый книзу.
— Я так рад, что ты вступил в нашу маленькую семью. Ты будешь чудесным дополнением. Но ты должен понимать, — сказал Сильвано, подергивая острым подбородком, — что в этом доме есть свои правила. Правила, которые всегда нужно соблюдать. — Он завертел рукой быстрее, и мешок набрал скорость. — Будь всегда чистым и веди себя тихо.
Он ловко и почти незаметно взмахнул запястьем, и мешок метнулся ко мне. Удар пришелся по ребрам и был таким сильным, что я пошатнулся и ударился о край стола.
Я открыл рот, чтобы закричать, но в голове всплыли слова Марко: «Не ори! Прикуси язык!» — и я выдохнул через открытый рот.
— Ты не будешь сопротивляться тем, кто придет к тебе. Ты будешь их ублажать.
Сильвано встряхнул запястьем, и мешок угодил мне по животу. Я согнулся пополам и упал на колени, бесшумно срыгнув.
— Будешь делать то, что тебе велят, — продолжил он, ударяя еще и еще.
Глаза налились слезами, но я не издал ни звука. Спустя какое-то время в его поучениях появилась нотка разочарованности. Хлестнув меня еще несколько раз напоследок, он вышел. Я скорчился на боку, обхватив живот руками. По щекам у меня стекали слезы, весь обед был на полу, и — да, подо мной растеклась лужица мочи. С тех пор я стал почтительно относиться к боли. Она способна лишить достоинства даже самого сильного человека, если оно у него еще есть. Достоинство покидает человека, когда ему незачем жить. И это я понял только сейчас, сто семьдесят лет спустя после того далекого дня моего посвящения в публичном доме Сильвано. Есть муки пострашнее телесных, и это муки сердца.
Когда я снова смог видеть мутными глазами, то увидел склонившегося рядом Марко.
— Пошли. Ты молодец. Не заорал.
— Я обмочился, как девчонка, и наблевал, как собака, — со стоном ответил я.
Он помог мне подняться.
— Но ты не закричал, а это ведь первый раз, ты даже не знал, чего ожидать, — возразил Марко.
Он протянул мне серебряный кубок, до краев наполненный вином. Я взял его трясущимися руками.
— Пей до дна, — настоял он. — Мария и Симонетта ждут, чтобы вымыть тебя и отвести в твою комнату. Постарайся отдохнуть. Позже Сильвано пришлет кого-нибудь к тебе. Просто лежи. Обычно им больше ничего и нужно, особенно поначалу. Просто лежи и дыши.
Я склонился над кубком в надежде, что Марко не увидит, как пурпурную поверхность вина окропили слезы.
— А что у него было в мешке? — спросил я.
— Золотые флорины, — ответил Марко. — Они твердые и тяжелые, но не ранят. Клиентам битые не нравятся, если только они сами их не бьют.
Я судорожно вздохнул, все еще пряча лицо.
Марко сказал:
— Давай же, пей.
Я кивнул и умудрился сделать большой глоток вина.
— Лучше бы я сдох на улице!
— Не смей так думать! Ты привыкнешь. Со временем, — тихо возразил Марко, затем встал и пошел прочь. — Мне надо идти. Кто-нибудь уже ждет. Если я опоздаю, Сильвано меня побьет, а со мной он не будет церемониться, как с тобой.
Он быстро вышел широким и грациозным шагом. В комнату вошли Симонетта и Мария, с тряпками, щетками и чистой рубахой.
Я едва успел осмотреться в комнате и увидел только кровать и маленький сундук, который также служил скамьей. Кровать была накрыта красным шелковым покрывалом поверх простыней из желтой пеньковой ткани. Приподняв простыни, я обнаружил невиданную роскошь — матрац. Он был тоненький, разорванный в уголке, и из дыры торчали пучки конского волоса, но я никогда не спал на матраце. В комнате было высокое окно, но плотно задернутое шторами, как и все прочие окна в этом мрачном замке. Несколько сальных свечей уныло освещали помещение тусклым светом, отбрасывая уродливые тени. Вот такой была моя комната. Раньше у меня никогда не было комнаты, по крайней мере я этого не помню. Я даже не помню, что когда-нибудь спал в постели. Я опустил руку на подушку, восхищаясь мягкостью плюшевых наволочек.
Тут отворилась дверь, и вошел широкоплечий мужчина с длинными вьющимися волосами и сединой в бороде. На нем была дорогая одежда, на ногах — добротные полусапожки из телячьей кожи. Я его сразу узнал. Это был глава оружейной гильдии, я видел его на рынке. Точнее, видел, как он за мной наблюдал. Он похотливо улыбнулся мне и посмотрел на меня тем же взглядом, каким я сам недавно смотрел на жареную дичь на столе. Он быстро подошел ко мне. У него тряслись руки, пока он стаскивал с меня рубаху.
— Такой нежный, такой красивый… — бормотал он, булькая горлом. — Такой юный…
Он, не глядя, затеребил свои штаны и ткнул меня лицом в кровать. У меня остановилось дыхание, когда он превратил меня в предмет своего удовольствия. Это было хуже смерти. Все, чем я был, умерло в тот невыносимый момент. Сопротивляться я не мог: Сильвано ясно дал мне понять, что иначе убьет меня. Да и к тому же оружейник был больше и сильнее меня. Тело само собой взбрыкнуло, но оружейник даже не заметил. Ему это не мешало. Я почувствовал собственную ничтожность, негодность — и отчаяние. От стыда даже не мог зареветь. Только зажмурил глаза и молился о смерти.
Именно тогда смеющийся Бог швырнул мне кроху милосердия: мне вспомнились слова старика с площади у церкви Санта Мария Новелла, так отчетливо и ясно, словно он громко произнес их в тот жуткий миг: «У тебя есть не только то, что можно удержать в руках. Это меньшее из того, что тебе принадлежит. То, что внутри тебя, чего ты не видишь, — вот чем ты должен защищаться. В тебе дремлют целые страны».
С этим магическим заклинанием, несмотря на лед в груди и тошноту в брюхе, я открыл в своих мыслях прекрасную страну. Туда отправился не только мой разум, но и весь я. Рассыпались границы между вещественным и воображаемым, моя реальность вместила и то и другое. Это был прыжок за пределы настоящего: сначала его совершило мое воображение, затем чувства и, наконец, все мое существо. Оно проникло в церковь Санта Кроче,[414] увидело яркие краски, услышало негромкие голоса хора, почувствовало запах сырого камня. Много времени я проводил там, в уединении разглядывая прекрасные фрески. Туда я вернулся в этот невыносимый момент. Перед глазами стояла притча о воскресении Друзианы из «Жития проповедников». Как-то я притаился за скамьей возле священника, который давал детям урок с помощью катехизиса.[415] Он рассказывал нам притчу о том, как сильно любила праведная Друзиана святого Иоанна, как исполняла все его заповеди и за это он воскресил ее во имя Всевышнего. Каждая деталь прекрасной картины оживала предо мной: начиная от разнообразия чувств на лицах в толпе до купола синего неба. Изумленные лица были так похожи на настоящие. Казалось, прикоснись пальцем к щеке или ко лбу, ты ощутишь теплую кожу. Как будто художник изобразил реальных людей, что столпились вокруг святого Иоанна, и я тоже был среди них и своими глазами видел, как вера вознаграждается новой жизнью. Должно быть, художник смог перенестись в тот чудесный миг, чтобы так живо показать это событие. Так же как я сейчас перенесся в церковь Санта Кроче.
Дверь затворилась, оружейник ушел. Я мешком повалился на пол, и удар о землю вернул меня из церкви Санта Кроче. Зад измазан белесой слизью, и я заелозил по полу, чтобы ее стереть. Потом я еще долго просто лежал там, снова начав дышать, изнывал от боли и пялился в лепной потолок. Все тело ныло — от побоев, от оружейника. А это только первый! Я знал, что навсегда пал в собственных глазах. Ни о каких достижениях и заслугах не могло быть и речи. Продлить свое существование — вот все, на что такой, как я, мог надеяться.
Спустя какое-то время вошла Симонетта с полотенцем и миской воды. Она подняла меня с пола и обмыла ловкими быстрыми движениями.
— Марко? — прошептал я.
Она отрицательно покачала головой. Видимо, Марко был занят.
— Я принесу поесть, — шепотом ответила она.
Здесь я хотя бы всегда буду сыт.
После той первой гадкой ночи дни побежали в едином ритме: еда, купание, работа и сон. Во время работы я путешествовал. Чаще всего в церковь Санта Кроче, где долгое время изучал фрески. Я разглядел детали, которые упустил, когда видел эти фрески живьем: изящно сложенные в молитве ладони, истовый порыв благочестия, выраженный на лице, мерцание звезд в синем небе, таком бездонном, что, кажется, ты в нем тонешь. Фрески для меня только становились еще прекраснее. Спустя несколько дней я поднялся в Аббатство Санта Кроче, куда однажды водил меня монах. Вновь я лицезрел великолепную фреску с изображением Мадонны. Прекрасная Мадонна с младенцем на руках, в окружении преклоняющихся ангелов. Монах говорил, что художника зовут Чимабуэ,[416] и этот Чимабуэ был учителем другого художника, Джотто, который украсил фресками церковь Санта Кроче. То, о чем говорил мне старик у церкви Санта Мария Новелла, оказалось на удивление верно: врата были в моей душе. Когда красота звала меня, врата распахивались, и я странствовал везде, где мне вздумается. Какое это счастье!
Иногда я замечал людей, тенью скользнувших по лестнице или торопливо скрывавшихся за дверью, но ни с кем, кроме клиентов, на лица которых я старался не смотреть, да Симонетты и Марии, близко не сталкивался. Было ясно, что Сильвано держал своих работников порознь и не поощрял между ними общения. В такой тишине и оторванности от мира мне было одиноко и скучно. Я привык к постоянному шуму и горластым приятелям Паоло и Массимо. Но однажды на закате, примерно через две недели, Марко наконец рискнул выйти в атриум.
— Как дела? — спросил он.
Я пожал плечами.
— Тебя больше не били, это хорошо, — заметил Марко.
Я бросил на него сардонический взгляд.
— Принес тебе сласти, — сказал он, точно утешая, и бросил мне угощение. — Теперь тебя не примешь за умирающего с голоду. Ты даже потолстел.
— Не думаю, что им бы понравилось, если бы я был тощий, как палка. Я нравлюсь им как невинный мальчик, — ответил я, посасывая конфету.
— А я-то думал, что ты, Лука Бастардо, и не такой уж невинный уличный мальчишка, — ухмыльнулся Марко.
— Для них не важно, кто я такой.
— Ты прав. Кто ты такой — никому не важно. Они делают это с тобой не потому, что это ты. Они делают это, потому что им так захотелось, потому что так можно, потому что ты мальчик подходящего возраста и потому что ты здесь.
Он обошел вокруг кадку, в которой меня опять купали Симонетта и Мария. Не одна понадобилась ванна, чтобы смыть следы детства, проведенного на улице, хотя голова уже не чесалась от вшей и сыпь на спине почти вывели.
— Вот бы слинять отсюда, — опрометчиво брякнул я.
Марко пожал плечами.
— Ты здесь, и отсюда не убежать. Так что отъедайся и поправляйся! Тогда продержишься здесь подольше. Ладно, выйду прогуляюсь по площади у Санта Кроче.
— Выйдешь? — пораженно воскликнул я, приподнявшись из кадки.
Мария надавила мне на плечи, и я с плеском уселся на место.
— Мне иногда разрешают. Потому что я здесь уже давно и хорошо работаю. И потому что мальчики выглядят лучше, если играют на свежем воздухе. Они выглядят ну… как настоящие. Обычные мальчики. Клиентам это нравится.
— Я не знал, что отсюда можно выйти!
— Но я же возвращаюсь.
— Я бы не вернулся, — тихо и решительно возразил я.
Симонетта подняла крупное усталое лицо и уставилась на меня.
— Вернулся бы как миленький, если бы увидел, что случается с теми, кто не возвращается, — сказал Марко. — Помнишь эти трупы в реке…
— Но должен же быть выход, — настаивал я. — В городе есть где спрятаться, я знаю много таких мест, и есть люди, которые уходят из города. Можно уехать на тележке коробейника. Я много думал об этом, но решил, что лучше остаться во Флоренции, где я знаю, как о себе позаботиться. Какой же я был дурак! Можно ведь даже переодеться так, чтоб тебя не узнали. И тогда найти тебя будет непросто!
Несколько секунд черные глаза Марко неподвижно смотрели на меня, как летящий с неба сокол. Он приблизился ко мне и провел длинным изящным пальцем по воде. Тихо спросил:
— И как же я переоденусь? Мне не на что купить одежду.
— Проще простого! — расхохотался я. — Любой нищий на улице поменяется с тобой одеждой. Или можно найти выброшенные вещи на свалке, да хоть стащить с веревки у прачки! Одежду даже раздают в церкви в виде благотворительности. Есть миллион способов раздобыть рубаху или плащ. Никто же из бродяг не ходит голым!
— Мне лучше всего взять одежду со свалки, — задумчиво повторил он. — Так, чтобы никто не узнал про это, иначе кто-нибудь сразу донесет Сильвано.
— Это просто, — сказал я. — Зайди в переулок за каким-нибудь дворцом, где знать скидывает свой мусор. Там ты найдешь, что осталось после того, как там порылись слуги.
— А переодевшись, куда мне идти?
— Иди на Понте Каррайя,[417] там проезжает много телег, люди привозят урожай и мясо из сел, а потом возвращаются в деревню с пустыми телегами, — сказал я.
Марко не отрываясь смотрел на меня.
— Надо бы придумать способ, чтобы забрать и тебя, — тихо сказал он. — Или вернуться за тобой.
— Я надеялся, что ты это скажешь, — кивнул я со всей серьезностью. — Я бы все отдал, лишь бы убраться отсюда! Как бы мне уговорить Сильвано, чтобы он отпустил и меня на прогулку, как тебя?
Марко мотнул головой.
— Только если он сам предложит. Скажем, у тебя будет нездоровый вид. Я, например, загрустил и перестал есть, тогда он меня выпустил…
— Значит, не буду есть, — решил я. — Буду голодать и чахнуть.
Даже мучительный голод, который сопутствовал мне все эти годы, казался мне лучшей участью, чем то, что выпало мне сейчас.
— Тогда, может быть, получится, — медленно произнес Марко. — Он не любит терять деньги, а клиенты не станут платить за больного мальчишку. Он захочет, чтобы у тебя опять появился аппетит и румянец. Когда тебя выпустят, я вернусь к Понте Каррайя, и мы вместе отправимся в Сиену или Лукку.
— Или в Рим, — добавил я. — Я слыхал о нем и всегда хотел там побывать!
— Далековато, но почему бы и нет? — улыбнулся Марко. — Это же Рим! Я убегу через три дня, потому что он обычно выпускает меня каждые три-четыре дня. Сегодня разыщу кого-нибудь, кто вывезет меня из города. А когда уеду из Флоренции, выжду две недели: ты успеешь поголодать и приобрести болезненный вид…
— Начну прямо сегодня!
— Отлично, ты скоро отощаешь! — кивнул он. — Через две недели я вернусь в город и передам тебе весточку. И буду ждать тебя у Понте Каррайя.
— С едой, — тревожно прибавил я. — Поголодав недельку-другую, я не просто отощаю, а высохну!
Это я знал наверняка по своей бродячей жизни. Если не есть пять-шесть дней, обмякают руки-ноги, в голове мутится, слабеет воля. Я по себе узнал, что голод — это не шутка.
— Ладно, я достану еды, вина и одежду для тебя, — решительно сказал Марко. — Раз уж ты помог мне придумать план!
— Нам помог наш разум! — бодро воскликнул я. — Итак, ты переоденешься в другую одежду. Потом спрячешься в телеге, направляющейся за город. Я начну голодать. Он выпустит меня, а когда ты пришлешь мне весточку о том, что вернулся в город, я с тобой встречусь!
— Сильвано умнее, чем кто бы то ни был, — прошептала Симонетта. — У него смертельный индженьо!
— Что верно, то верно, — согласился Марко. — План рискованный. Отсюда еще никто не уходил. Он всегда всех находит. Всегда.
— Но мы попытаемся, — надавил я. — Мы должны попытаться!
— Да уж, попытаться стоит, — согласился Марко.
Он беспечно помахал мне на прощание и убежал, оставив меня в раздумьях о побеге. Вряд ли кто-то из нас допускал мысль о провале плана и о том, что он приведет к самым катастрофическим последствиям, которые только можно себе представить.
Шли дни, я пил только воду и ничего не ел. Это оказалось легко: в конце концов, я же привык голодать. После многолетней практики это было нетрудно. Правда, запах жареного мяса и тушеных овощей, нарезанных фруктов и ароматного сыра, теплого хлеба с маслом, которые приносила Симонетта, сводил меня с ума. Но потерпеть стоило. Свобода стоит любых жертв. Я слабел и тощал, ожидая, когда Сильвано заметит это и разрешит мне прогулки. А еще я ждал вестей от Марко.
Но не приходило ни то ни другое, и спустя две недели я начал отчаиваться. Хоть я и был необычайно вынослив, но голод все-таки брал свое, и я ослабел. Прошло больше шестнадцати дней с тех пор, как я брал в рот что-то кроме воды или глотка вина. Еще немного, и у меня не останется сил, чтобы сбежать, если Марко наконец объявится. Я искал способы попасться Сильвано на глаза и не получить колотушек. Главное — чтобы Сильвано увидел, что я захворал и мне надо на свежий воздух. Приходилось верить, что Марко будет ждать меня у Понте Каррайя: я слишком ослаб, чтобы далеко уйти самому. Еще повезло, что мне хватило силенок продержаться так долго! Я верил, что моя решимость поможет мне добраться до условленного места, но Марко придется поухаживать за мной пару дней, прежде чем мы покинем Флоренцию.
Однажды ночью, после ухода клиента, все еще наслаждаясь чудесным вознесением святого Иоанна на небеса, я решил принять меры. Этот клиент занял у меня больше времени, чем все остальные, так что у меня было и больше времени, чтобы в полной мере насладиться фресками. Голодание усиливало ясность ощущений: краски еще никогда не были столь яркими, а кожа у персонажей Джотто — такой теплой и живой. Яркие впечатления придали силу моим ослабевшим членам, и я смог доковылять вслед за клиентом до двери. На трясущихся ногах я прошел через сумрачные залы замка, намереваясь натолкнуться на Сильвано, чтобы наконец-то обратить на себя его внимание и как-нибудь добиться от него разрешения на прогулку. Я прислонился к стене отдышаться.
— Лука, я как раз шла за тобой, — послышался голос Симонетты.
Она осторожно потрясла меня за плечо. Я и не заметил, как глаза сами собой закрылись и я заснул, не сходя с места.
— Почему ты не в своей комнате? Почему не вымылся? Берегись, как бы Сильвано тебя не заметил!
Она заставила меня оторваться от стены и вытерла, потом поманила за собой.
— Пошли, — сказала она и взяла свечу из подсвечника на стене.
Она повела меня через длинный коридор. Мы проходили мимо других дверей, она стучала и звала их обитателей с собой. Все это было так необычно, что я, даже несмотря на сонливость, таращился на них с нескрываемым любопытством. В большинстве это были такие же дети, как я, мальчики и девочки разного возраста, телосложения и роста. Были там белокурые, рыжие головки, темноволосые цыгане и даже несколько африканцев с лоснящейся кожей цвета эбенового дерева, под которой перекатывались округлые мускулы. Был один стройный бесцветный мальчик с красными глазами и кожей точно выбеленное полотно. Был карлик, едва достававший мне до пояса. Все мы вели себя очень тихо и так робко, что даже не смели поднять глаз. Кто-то из детей оглядывался на меня, и я пытался вообразить, как они попали сюда: отловили их на улице, как меня, или продали родственники, как это случилось с отсутствующим среди нас Марко. Нас уже собралась целая процессия, и мы свернули в другой коридор, а Симонетта все стучала в двери. К нам присоединились женщины, большей частью молодые и красивые, за исключением двух непомерно тучных теток. Даже двое взрослых мужчин не смогли бы обхватить их за талию обеими руками. Я пытался представить, сколько надо съесть, чтобы так распухнуть, но у меня помутилось в глазах при мысли о завтраке из сластей, масла и сливок, а еще обеде из горшочка супа и целой ляжки зажаренного на вертеле быка. Симонетта вновь свернула за угол, и мы оказались у тяжелой двери. Она сняла засов и повела нас по лестнице вниз.
Факелы на стенах освещали наш путь по разбитым каменным ступенькам. Шедшая за мной маленькая белокурая девочка с ленточками в волосах заплакала, и я замедлил шаг, пока мы не оказались рядом. Она судорожно вцепилась в мою руку и крепко сжала. Впервые в жизни кто-то обращался ко мне за утешением, и меня это страшно растрогало. Несмотря на головокружение от голода, я в ответ тоже ласково сжал ее руку и серьезно улыбнулся ей. Она испуганно поглядела на меня голубыми глазами, огромными, как плошки, потом отрывисто вздохнула и еще крепче схватилась за мою руку, как утопающая за соломинку. От этого мне еще сильнее захотелось защитить ее.
Мы вошли в большой и холодный подвал, озаренный факелами. Их пламя бросало зловещие тени на серые каменные стены, а посреди подвала стоял Сильвано — и несколько крепких мужиков, которых я раньше никогда не видел. У всех были одинаково жестокие лица кондотьеров — наемных солдат, которые защищали Флоренцию от давних городов-соперников — Пизы и Турина. Я находился впереди всех рядом с Симонеттой, уже многие дети, стоящие у меня за спиной, плакали. Лицо Сильвано с острым лезвием носа, красное в свете факелов, выражало полное спокойствие. Вдруг он повернулся и встал к нам в профиль; из-за обманчивой игры света и тени показалось, что у него есть еще одно лицо сбоку, где должны быть щека и ухо. Он жестом приказал мужчинам расступиться, и вперед вышли два высоких громилы, ведя под руки Марко. Бледный, оцепенелый Марко: его фарфоровое личико было измазано грязью и покрыто ссадинами, нижняя губа рассечена, одежда в лохмотьях, как после драки.
— Это Марко. Многим из вас он знаком, — бархатным голосом заговорил Сильвано, небрежно помахивая изящной рукой. — У него здесь было много привилегий, не так ли, Марко? — Марко кивнул, как будто в дурмане. — Но ты обманул мое доверие, верно, Марко? — Сильвано покачал головой и с притворным разочарованием щелкнул языком.
Он начал ходить кругами вокруг Марко. В руке у него блеснуло что-то белое. Сначала я подумал, что это гигантский клык, но потом он подкинул предмет в воздухе и виртуозно поймал другой рукой. Я увидел, что это длинный тоненький нож.
— С моего соизволения в виде особой милости Марко была дарована привилегия выходить на улицу, — продолжил Сильвано, беспечным и игривым тоном, как будто поддразнивая. — Ему было дозволено гулять по улицам нашего славного города. Но он решил, что ему можно там и остаться. Он даже решил, что можно никогда не возвращаться!
С этими словами Сильвано набросился на него и полоснул его под коленкой ножом. Из сухожилия правой ноги хлынула кровь. Марко заорал. Нога его обмякла, он согнулся вправо. Все дети и многие женщины беззвучно зарыдали. Я тоже.
«Не кричи, Марко, — молил я, — это его только раззадорит!»
Внутри меня что-то надорвалось. Марко ведь был так добр ко мне, щедр и великодушен! Разве честно я отплатил ему, выдумав несбыточную мечту? Она созрела и принесла такие жестокие плоды. У меня в груди будто крошились в пыль старые засохшие листья.
— Марко спрятался на телеге, которая направлялась в деревню. Он думал, что я не найду его там, за городом. Глупый мальчишка! — хмыкнул Сильвано и полоснул ножом еще раз.
Кровь забила струей, окропив его богатые одежды. Сильвано захохотал во все горло. Загоготали и мужики, державшие Марко. Они выпустили его, и мальчик, обливаясь слезами, с криком рухнул на пол.
— Перевяжи ему раны. — Подбородок Сильвано дернулся к Симонетте.
Она бросилась исполнять его приказ. Глаза Сильвано блуждали по толпе детей и женщин.
— Теперь желание Марко исполнится. Он будет жить за стенами моего прекрасного заведения. Он будет жить, где ему вздумается, коли здесь ему не понравилось. Он будет жить, но больше никогда не встанет на ноги.
Он переступил через безвольное тело Марко и направился к лестнице. Мы все расступились, давая ему дорогу. Сильвано задержался на второй ступеньке.
— Вот вам урок: отсюда выхода нет. Любого, кто попытается улизнуть, ждет та же участь, если не хуже! — Он повернулся и ткнул в меня пальцем. — Эй ты, ну-ка пошли со мной!
Маленькая голубоглазая девочка, которая цеплялась за мою руку, едва сдержала всхлип и выпустила меня. Меня всего трясло, но я живо подчинился Сильвано. Пока мы поднимались по лестнице, он молчал. Сильвано привел меня в столовую, где я побывал в первый вечер. На этот раз стол был накрыт еще богаче: жареное мясо, острые сыры, горы хлеба, крупные зеленые оливки и вино. Я подумал, а не собирается ли он меня снова побить. Я поискал взглядом шелковый мешок, но ничего не увидел.
Сильвано уселся за стол, вытер окровавленный нож о манишку и подцепил на него ребрышко барашка. Он бросил кусок на свою тарелку, отложил нож и, аккуратно взяв ребрышко пальцами, принялся кушать с величайшим изяществом. Я стоял молча, едва дыша, и ждал.
— Не хочешь поесть, Бастардо? — спросил он. — Может, вина? Вон, бледный какой! Вино придаст тебе сил.
— Нет, синьор, — отказался я.
— Точно? Ты что, болен?
— Не думаю, синьор.
— Может, тебе это не по вкусу? — предположил он.
Я мотнул головой. Он нахмурился.
— Сладкого хочешь?
Я снова мотнул головой.
— Мои клиенты тобой довольны, разве что вид у тебя хворый. Ты ничего не ешь. Ты точно не заболел, парень? — спросил он, бросив обглоданное ребрышко на тарелку. — Я еще помню, как ты стоял тут, впившись пальцами в каплуна. Ты был как голодный зверек, которого впервые по-человечески вымыли. — Он почти ласково усмехнулся. — Наверное, ты все-таки болен.
— Я не болен, — возразил я, проглотив застрявший в горле комок.
— Но ты же перестал есть, — задумчиво ответил он.
— Я не голоден, синьор.
— Мы не можем позволить тебе слишком отощать, Лука. Часть твоей привлекательности — в твоей хорошенькой пухленькой заднице. Так они мне говорят.
Я отвел глаза. Он негромко фыркнул.
— Какой мне от тебя толк, если ты сляжешь и помрешь от голода? Я потеряю большую долю возможной прибыли. Как думаешь, прогулка по городу поспособствует аппетиту?
— По городу? — Я выдохнул эти слова, охваченный мукой воспоминаний.
Мы с Марко думали, как сделать так, чтобы меня выпустили на улицу, и вот меня выпускают! Но Марко стал калекой, а я ужасно ослаб от голода. Хуже того, я упал духом и был совершенно убит, после того как увидел, что вышло из наших планов. Сильвано и правда сообразительнее, чем кто бы то ни был. Он всевидящий и всезнающий. Теперь ни мне, ни Марко не вырваться от него. В животе точно что-то оборвалось, это погибла последняя надежда. Воля будет рядом, но недосягаема для меня. Я ощутил горечь на языке.
— Некоторым мальчикам свежий воздух нужен больше, чем другим, — хмуро произнес Сильвано. — Без него они чахнут. Я видал такое и раньше.
Он подцепил ножом тушеную морковку и задумчиво начал жевать.
— Я бы хотел погулять, синьор, — прошептал я.
Еще бы! Конечно, мне очень хотелось хоть ненадолго вырваться из этой богатой, безмолвной и одинокой темницы с занавешенными окнами и тускло мерцающими свечами. Мне было дурно от воспоминаний — перед глазами неотступно стоял Марко. И я ненавидел себя за то чувство облегчения и благодарности, которое испытал, получив разрешение, означавшее малую толику свободы.
— Но существуют правила, — напомнил Сильвано, бросив на меня многозначительный взгляд.
— Да, синьор. — Я энергично закивал головой. — Я понимаю, что есть правила, и буду в точности их выполнять.
— Ты же не хочешь кончить так же, как Марко?
— Нет, синьор, — пропищал я, зная, что Марко так кончил из-за меня.
— Он еще легко отделался, — пожал плечами Сильвано и почесал узкий подбородок под завитой бородой. — Другие, кого я отпускал, попадали в прохладные объятия реки. В них долго не протянешь. А этот будет жить на улице. Там люди щедры к калекам. Не так ли, парень?
Вряд ли ему нужен был мой ответ, да я и не хотел отвечать, потому что пришлось бы врать, а я не хотел ни врать, ни навлекать на себя его недовольство. Люди там совсем не щедры. Мне приходилось трудиться изо всех сил, чтобы собрать милостыню, и все равно я часто оставался голодным.
— Тогда решено. Тебя будут ненадолго выпускатьна прогулку. И ты снова начнешь есть. Я предполагаю, что ты здесь будешь работать долго, раз уж ты так понятлив к правилам и так охотно выполняешь свою работу.
— Спасибо, синьор, — ответил я.
— Женщины дадут тебе денег купить еды на рынке. Тебе понравится. Я, бывало, наблюдал, как ты ходил там и облизывался. В твоей натуре заложена жадность и любовь к приобретательству. Давай ей пищу, и снова растолстеешь.
Он махнул стоявшей в дверях Марии, чтобы она отвела меня в мою комнату.
— Эи, парень, — позвал он.
Мы с Марией замерли.
— Да, синьор? — отозвался я, едва смея дышать.
— За прогулки тебе будет добавлено несколько лишних клиентов в неделю, — тоном, не допускающим возражений, сообщил он.
Мария крепко сжала мою руку, и мы вместе побежали в мою комнату. Мне казалось, будто я убегаю от видения Марко, искалеченного и потерявшего много крови. А еще я бежал от своей роли в его роковой судьбе. Как ни ужасны были клиенты, мне не терпелось поскорее навестить церковь Санта Кроче. Фрески сотрут из памяти Марко, а может быть, и чувство вины.
Несколько недель спустя я отправился во францисканскую церковь Санта Кроче. Наступала зима, на улицах было холодно и ветрено, и я вышел в плаще с горностаевой оторочкой. Никогда еще у меня не было такого одеяния. Я брел через лабиринт каменных улиц шумного рабочего квартала близ Санта Кроче, и сердце мое трепетало, я весь горел нетерпением. Скоро я воочию увижу фрески, которые столько раз навещал в своих мысленных путешествиях. Я миновал шерстяные красильни, здание суда и рынок, который раньше посещал редко, — теперь он стал излюбленной целью моих прогулок. С тех пор как Сильвано разрешил мне выходить на волю, я во время своих прогулок старался не посещать привычных мне мест. Мне не хотелось встречаться с Паоло и Массимо. Они должны были меня презирать. Я стал другим человеком. Я и так всегда отличался от нищих, цыган и изгоев, которых встречал на улице, но теперь отличался и от себя прежнего. Я до мозга костей был запачкан своим ремеслом, хотя снаружи был чистенький и нарядный. Я не ходил голодный и, к стыду своему, был за это благодарен судьбе. А еще я открыл в себе сокровенный мир тайных и дивных странствий, который еще более отдалил меня от былых товарищей и себя прежнего.
Я пересек правый трансепт[418] церкви Санта Кроче[419] и вошел в капеллу Перуцци. И вот наконец передо мною фрески с изображением святого Иоанна! Все было таким, как я видел это в моих странствиях. Все мельчайшие детали: гармоничное сочетание фигур и зданий, выразительность лиц и естественность жестов, дивные краски, явленные небесным озарением, все богатство полнокровной жизни, которым дышали эти фрески, предстали передо мной как некое духовное откровение. Это было дивное чудо, и я благодарно упал на колени.
— Неужели они так сильно тронули тебя, мальчик? — раздался приветливый голос.
— Ах!
Вздрогнув от неожиданности, я очнулся от экстаза и опомнился, сидя на полу, чувствуя, что попал в глупое положение. Обернувшись, я увидел в нескольких шагах от себя низкорослого старичка простоватого вида. Мы смотрели друг на друга с любопытством. И тут, узнав его, я вскрикнул:
— Ну да! На площади у Санта Мария Новелла! Это же вы — говорили об индженьо! Учитель!
— Хотелось бы оказаться достойным такого почетного звания, — сухо ответил он. — Я тоже узнал тебя. Ты тот мальчик со сломанной палкой и ублюдской шпажкой…
— Мальчик, над которым смеется Бог, — кивнул я.
— Не принимай это так близко к сердцу, — сказал он. — Бог смеется над всеми нами.
Я пожал плечами, а он вместо ответа обратил свой взгляд на картины.
Я тихо произнес:
— Они из чудесной страны.
Старичок вздернул седую бровь.
— Из чудесной страны, говоришь? И что же это за страна?
— Страна, откуда приходит все прекрасное, — ответил я. — Вы говорили мне, что в нас есть целый мир, но чудесная страна не в нас, хотя в нее можно попасть, обратясь в глубь себя. Она вообще не от нашего мира, где столько всего безобразного!
— Если чудесная страна не внутри нас, то откуда же мы знаем о ней? — Старик махнул рукой в сторону фресок и, шаркая, подошел ближе. — Однако откуда такой маленький щенок успел узнать о безобразиях?
В памяти всплыли клиенты, которые отворяли дверь в мою комнату, стражники, от которых я бегал, когда еще был уличным бродяжкой. Вспомнились равнодушные лица людей, которые проходили мимо, когда я голодал и просил дать хоть грошик, хоть крошку хлеба, хоть что-нибудь. На своем горьком опыте я убедился, что в людях больше мерзости, чем красоты. Я не хотел говорить это старику, который воплощал собой ум и сообразительность. Но потом подумал, что он все-таки поймет.
— Безобразное мы носим в себе в придачу к человечности. Это — грех, который лежит на нас с тех пор, как мы были в раю. А прекрасная страна — это Божья милость, дарованная человеку.
Он провел рукой по подбородку и пристально посмотрел на меня.
— У меня был друг, который с тобой бы согласился. Он бы сказал, что в красоте выражается милость Божья, и мы способны видеть ее, когда праведны и чисты от грехов настолько, чтобы увидеть творения Бога как одно неразрывное целое.
— Я не чист и вижу много зла.
— Смею сказать, что мой дорогой друг Данте сам нынче проводит много времени в чистилище.
Старик улыбнулся, и улыбка озарила его лицо светом сердечной доброты, в ней светились любовь и сожаление об утраченном, она обнимала собою все и ничего не отвергала. Никогда я не видел такой улыбки и запомнил ее, тотчас решив, что когда-нибудь и сам буду улыбаться так же. Какой бы скверной ни была моя жизнь у Сильвано, но если существует на свете такая улыбка, то в один прекрасный день я могу сказать про нее — она моя. Мне казалось, я стал на шаг ближе к той далекой чудесной стране, которая, по словам старика, находится в нас самих, но которой — я это точно знал — не было во мне. Доказательством были Сильвано и его клиенты и моя роль в горькой судьбе Марко. Однако даже близость к тому чудесному миру была бесценна, и я поднялся на ноги, немного шире расправив плечи.
— Так он умер! А он был хорошим другом? — спросил я, вновь обратив свой взор на «Взятие Иоанна Евангелиста на небо».
— О да, мой друг! Это был выдающийся человек и поэт, каких больше нет. Я все еще тоскую по нему.
— И у меня были друзья, но в одном из них оказалось слишком много злой мерзости. Другой был очень добрым, великодушным человеком и сам пострадал от собственного великодушия.
— Такова наша земная жизнь. Она редко бывает справедлива. У каждого есть друзья, которые страдают или причиняют страдания нам, — задумчиво произнес старик.
— Я тоже причинял страдания друзьям, сам того не желая, — признался я и вздрогнул при воспоминании о Марко, который так хотел помочь мне, как самому себе, последовал моему плану и в итоге обрек себя на страшные муки. Я не видел его после представления, устроенного Сильвано, но Симонетта украдкой шепнула мне, что его вывели и выбросили на улицу кондотьеры. Я с ужасом догадывался, что он уже может быть мертв, потому что не смог бы прокормиться милостыней, да и куда он пойдет без ног?
Старик пожал плечами.
— Все мы кому-то причиняли боль. Находим друзей и теряем. К счастью, есть еще семья, и она-то никуда от тебя не денется.
— Не всегда так бывает, — возразил я, остановив свой взгляд на небесах, куда восходил святой Иоанн.
Я надеялся, что Марко уже там, среди святых, и Господь по милости своей вознаградил его за доброту, простив ему ремесло, которым он вынужденно занимался. Я продолжил:
— Но у вас, наверно, это так.
— Жена и шесть гадких отпрысков и еще более гадкие внуки, — вздохнул он. — Эта шумная орава —дорогая обуза. Предпочитаю проводить время с друзьями.
— Вот моя семья и мои друзья. — Я раскинул руки, словно мог обнять ими фрески. — Эти никуда от меня не денутся.
Он молча стоял рядом, и какое-то время мы просто созерцали фрески. Наконец он повернулся ко мне.
— Я шел покупать краски, парень, и меня уже ждут. А потом нужно в другой город работать.
— У меня тоже работа, — ответил я и почувствовал на устах мертвый вкус пепла.
Он кивнул.
— Я вернусь во Флоренцию через несколько месяцев. Мне хочется подарить тебе что-нибудь на память. Ты похож на одного из моих детей, и мысли у тебя совсем как у взрослого, словно ты старше своих лет… И коли уж мои картины будут твоей семьей…
— Так, значит, он — это вы?! Вы тот удивительный художник? Вы написали эти священные фрески? — Широко раскрыв рот, я резко обернулся.
— Они почти достойны такой восторженной похвалы, — сухо ответил он, качая поседелой головой.
Я бросился на колени.
— Мастер, я не знал! Иначе разговаривал бы с большим почтением!
— Вздор! Ты был более чем почтителен, глупый щенок, — сердито сказал Джотто ди Бондоне.
Схватив меня за локоть, он с неожиданной для пятнистых старческих рук силой поставил меня на ноги.
— Где мне тебя найти, когда я вернусь?
Только не в борделе, нет, это было бы невыносимо! Меньше всего на свете мне хотелось, чтобы этот удивительный человек, семьянин, с улыбкой, в которой проглядывала искра Божественной благодати, художник, написавший чудесные картины, узнал, кто я таков на самом деле. Я стану ему отвратителен.
Мотнув головой, я ответил:
— Я сам найду вас, мастер.
— Хорошо, смотри только не забудь, щенок! — сказал он и, дав шутливый подзатыльник, удалился.
Спустя какое-то время я, запинаясь на ходу, вышел из церкви, окрыленный радостью. Ноги сами понесли меня вдоль берега блистающей реки под мост, где я, бывало, часто ночевал. Я стоял у самой кромки воды, которая вдруг заголубела и, покрывшись причудливой рябью, заиграла бликами под лучами зимнего солнца. Иногда Арно выходил из берегов и смывал мосты, унося с собой кричащих людей. Но сегодня река была тиха и игрива, и с моста доносился переливчатый смех.
Вскоре я опомнился: меня окликнули.
— Бастардо! Бастардо! — звал слабенький голосок.
Я обернулся. Прислонившись к опоре моста, вытянув перед собой бесполезные ноги, там сидел Марко.
— Марко!
Я подбежал к нему, приник головой к его груди и стиснул Марко в объятиях. Затем отстранился, чтобы разглядеть его. Он не потерял своей красоты, но был бледен и грязен. Ссадины на лице гноились, и он сильно исхудал. Я торопливо заговорил:
— Ты голоден? Хочешь есть? Сейчас я что-нибудь раздобуду.
Он отрицательно мотнул головой.
— Теперь уже нет. Хотел первые несколько дней.
— Я принесу тебе хлеба и мяса!
Я вскочил на ноги, собираясь уже бежать за едой.
— Постой! Не уходи, поговори со мной, Лука, — попросил Марко, слабо махнув грязной рукой.
Я присел рядом.
— Так, значит, он все-таки позволил тебе выходить. Наш план удался.
— Только в одном! — воскликнул я.
У меня будто пережало горло, но я выдавил еще несколько слов:
— Прости меня, Марко! Я не знал, что это с тобой случится.
— Но я-то знал! — горько усмехнулся он. — Знал, и теперь не могу ходить. По крайней мере, мне больше не нужно работать! Уже неплохо.
— Как ты тут? Тебе трудно?
Он сделал глубокий прерывистый вдох, и длинные ресницы, встрепенувшись, снова опустились вниз, оттенив бледность впалых щек.
— Трудно. Очень трудно. Улицы Флоренции немилостивы к калекам.
— Я знаю. Но я буду приносить тебе поесть каждый раз, как буду выходить на прогулку, — пообещал я.
Марко открыл впалые глаза и улыбнулся уголком рта.
— Я знаю, ты бы это сделал, — пробормотал он и легко коснулся моей ладони, — приносил бы мне еду и одежду и разговаривал бы со мной, как будто я еще кому-то нужен.
— Нужен! — пылко отозвался я. — Если ты бездомный, это не означает, что ты никому не нужен! Я буду рассказывать тебе обо всем, что происходит в городе, что нового у Сильвано. Я постараюсь сделать все, что можно, чтобы тебе было лучше.
— В тебе еще осталось что-то живое, поэтому ты так добр.
— Ты был добр ко мне, — тихо произнес я. — Ты был так великодушен, приносил мне сласти, давал советы!
— Ну разве же это доброта? Просто я поступал по-человечески. Когда я приносил тебе сласти и давал советы, то делал это не только ради тебя, но и ради себя самого. Послушай меня, Лука Бастардо! — серьезно продолжил он. — Мелочи, которые мы делаем друг для друга, помогают нам остаться людьми, помогают жить. Пока мы делаем что-то, пока мы не переходим в полное подчинение Сильвано и его клиентов, пока мы не превращаемся в жадных чудовищ, подобных им, у нас остается возможность выжить! Мы одерживаем над ними победу, пускай совсем крошечную, но она важнее всего на свете!
Я понимающе кивнул. Мне вспомнилось, как мы спускались в подвал Сильвано и маленькая белокурая девочка сжимала мою руку. Я был счастлив, что хоть немного мог ее утешить. Я тогда почувствовал себя нужным человеком, а не просто бездушной куклой, существующей для забавы клиентов. Тот момент, когда я по собственной воле помог этой белокурой девочке, придал мне силы пережить тысячи жутких минут.
Я тихо проговорил:
— Мы не сдадимся и не станем такими же пустоглазыми, как они.
— Браво, Лука, совершенно верно! Вот видишь, ты можешь продолжить мое дело. Приноси другим детям сласти, давай им советы. Отдавай все, что можешь. Не скупись, делись всем, всем, что нужно! Отдавай все! Только так ты спасешься! — кричал Марко.
Он задохнулся и умолк. А когда отдышался, добавил:
— И ничего не жалей, Лука. Когда есть возможность, отдавай все, что нужно, неважно, как трудно тебе будет самому. Потому что ты отдаешь другим то, что им нужно. Не ты выбираешь, а они.
— Я понял, — бодро закивал я. — А тебе сейчас нужна еда, и я достану ее для тебя!
— Мне от тебя нужна не еда, Бастардо, — улыбнулся Марко, но его черные глаза все так же серьезно впивались в меня.
— Воды? Вина? — спрашивал я. — Говори же!
— Свободы, — выдохнул он всего одно слово и подтянулся на костлявых руках. — Освободи меня, выпусти в реку!
— Чтобы я… — Я в ужасе отшатнулся, поняв, о чем он просит. — Нет, Марко, я не могу… Не проси у меня этого. Прошу тебя, не надо!
— Ты мой должник, Лука Бастардо, — тоном, не терпящим возражений, произнес он. — Ты первый заронил мне в душу мысль о побеге, и я следовал твоему плану, а он поймал меня. Ты не виноват в том, что он со мной сделал, но ты подтолкнул меня сделать первый шаг. Не отрицай. А теперь тебе придется исправить свою ошибку и помочь мне спастись.
— Я знаю, что виноват, но это не выход! Ты ведь живой человек!
— Какой там живой! Разве это жизнь? — Его прекрасное лицо исказилось от дикого негодования, и каждое слово ударяло по мне, как тяжелый шелковый мешок. — Моя нынешняя тюрьма еще хуже роскошного заведения Сильвано. Я на дне преисподней. Живу на улице, отданный на милость таких же нищих. Они плюют в меня, потому что знают, кем я был прежде. Третьего дня ночью шел проливной дождь, мне понадобилось несколько часов, чтобы доползти до этого укрытия, и я устал как собака и с тех пор валяюсь в луже собственной мочи.
— Нет, Марко… — Я чуть не плакал.
— Окажи мне эту милость, — просил он как о решенном деле. — Мне больше ничего не нужно. Я бы сам это сделал, но силы оставили меня еще два дня назад. На таком холоде они и не вернутся. Подтащи меня к краю и столкни в реку. Если я всплыву, топи меня.
— Я не могу! — закричал я. — Это ужасно!
Марко свирепо глядел на меня, впившись горящим взглядом в мои глаза.
— Можешь. Я тебя знаю, Лука Бастардо. Ты из тех, кто сделает все, что придется! Ты не отшатнешься от пропасти. Иначе ты бы не выжил на улице так долго. Поэтому ты не погиб в первую же неделю у Сильвано. Многие из нас погибают, ты же знаешь! А ты — нет. Я чувствую, ты единственный из всех выберешься от Сильвано живым! И не покалеченным. Я вижу это по твоим глазам. В тебе есть что-то, какое-то особое свойство, которое дает тебе силу выстоять!
— В нас есть разные свойства, целые страны, — ответил я, — чудесные страны, куда можно отправиться…
— Мне осталось только одно место!
— Ты просишь меня убить тебя, — прошептал я.
— Я прошу тебя спасти меня! Ты должен сделать это, чтобы спастись самому, — ответил он горько и торжествующе.
Я не горжусь этим, но я выполнил его просьбу. Это оказалось совсем несложно. Марко весил не больше воробушка. Мне, сильному и сытому, не стоило никакого труда оттащить его к краю воды. Дела на пять минут.
— Иди с Богом, — сказал я ему.
— Для таких, как мы, Бога нет, — ответил он, сверкнув глазами. — Ну же!
И я столкнул его в блестящую рябь реки. Жизнь обладает собственной волей, и ее не так-то легко преодолеть. Марко барахтался и бил руками, хватая ртом воздух и выныривая на поверхность. Я сильно надавил на его затылок и держал, пока бултыхания не прекратились и руки Марко не обмякли. Потом я выпустил голову и еще долго смотрел, как течение Арно уносит мертвое тело. Может быть, меня ждет такой же конец и я тоже буду утопленником, выброшенным на берег речной волной. Возможно, это случится скоро: прихоти Сильвано непредсказуемы. Всем сердцем желал я, чтобы рядом оказался кто-нибудь, для кого я буду что-то значить, чтобы не умереть в презренном одиночестве, в каком прошла моя жизнь. Быть может, какой-то друг сделает для меня то же, что я сделал для Марко, и предаст мое бренное тело на волю реки. Я не знал тогда, что жизнь с ее причудами уготовила мне другую судьбу, что минует сто семьдесят лет и смерть моя придет не от воды, а от пламени.
ГЛАВА 3
После смерти Марко я усвоил себе те вольности, которыми по молчаливому согласию прежде пользовался он. Живя на улице, я научился быть прытким и при необходимости скрываться в тени или сливаться с толпой. Вспомнив старые навыки, я подобно ему незаметно ходил по замку, изучая все входы и выходы. Как-то раз Сильвано застал меня врасплох в кабинете, где хранил свои деловые бумаги. На сарацинском ковре там стоял тяжелый дубовый стол и запертый комод с расписными дверцами.
— Бастардо! Ну и ловкач! Добрался-таки до стоящих вещей! — раздался за спиной веселый возглас Сильвано.
Я как раз копался у него на столе. Услышав голос, я осторожно выпрямился. Я не смог убрать руку со стола просто потому, что у меня подкашивались колени и я держался за стол.
— Это счетоводный кабинет, мой счетоводный кабинет, самая главная комната во всем доме, — продолжил Сильвано.
Я хотел вздохнуть и не мог, в груди все словно заледенело, и я не мог набрать воздуха. Сильвано подошел ко мне сзади и ласково стиснул за шею. Комната поплыла перед глазами и задрожала, как воздух над горячими плитами мостовой в жаркий летний день. Я наконец перевел дух и обернулся.
— Почему эта комната так важна? — спросил я, вцепившись руками в стол за спиной.
— Естественно, потому, что здесь я веду учет платежей и расходов, — улыбнулся он. — Так что дай-ка мне открыть учетную книгу, и если сумеешь прочесть, что в ней написано, то, раз уж ты такой умный, я отпущу тебя без поцелуев золотых флоринов. — Он хихикнул и потянулся через мое плечо за большой книгой на краю стола. — Смелее, Бастардо, открывай!
Я повернулся и открыл книгу. Страницы распахнулись, и моему взору предстали странные закорючки.
— Ну и как? — спросил Сильвано.
Я мотнул головой.
— Давай, читай! — настаивал он.
— Я не умею. — Мне с трудом удалось проглотить застрявший в горле комок.
— Не умеешь читать? — с притворным огорчением переспросил он. — Не умеешь читать, а вроде такой умный, даже пробрался в мою счетоводную комнату. Ну, ничего, развратников вроде тебя ценят за другие заслуги. — Он взъерошил мои волосы. — А ты очень даже хорошенькая вещица, рыжие волосики, большие черные глаза, такие сочные, почти лиловые, как сливы, верно? Если бы я любил мальчиков, то и сам бы от тебя не отказался. Но мне больше по душе богатство и роскошь, вкусные кушанья и дорогие вина. А больше всего я люблю власть, власть причинять боль и доставлять наслаждение, распоряжаться жизнью и смертью… И слава богу, что у людей есть другие пристрастия, за счет которых процветает мое дело.
Он резко выпустил меня, и я без сил навалился на стол.
— Я не раз слыхал от других флорентийских дельцов, принадлежащих к знати по достатку и происхождению, что, соблюдая должную осторожность и бдительность, необходимую в ведении наших дел, и вникая в мельчайшие подробности, возможно избежать неудачи. — Он пересек комнату и оказался у комода, вынул из туники ключ и отпер ящик. — Я с ним полностью согласен.
Стоило ему извлечь из темных недр ящика бугорчатый шелковый мешок, как меня прошиб пот. Я лихорадочно пытался придумать какой-нибудь вопрос, лишь бы оттянуть неизбежное.
— Вы… правда считаете, что таким способом можно предотвратить несчастье? — спросил я, пытаясь скрыть дрожь в голосе, но не сумел.
Безобразно узкое лицо Сильвано скривилось в глумливой усмешке. Он приблизился ко мне, покачивая мешком.
— Ничего лучшего не придумано. Разумеется, человек предполагает, а Бог располагает, — заговорил он с притворной набожностью и плохо скрываемой насмешкой.
А потом взмахнул мешком с такой силой, что побои, полученные в первый день, показались мне пустяковыми.
— Боже упаси тебя еще раз сюда зайти! — пригрозил он, когда закончил.
Я лежал на полу в луже мочи, блевотины и слез. Он позвал Марию, и она уволокла меня в мою комнату — идти я не мог. Два дня я мочился кровью, но знал, что Сильвано волнуют не столько мои блуждания по замку, сколько повод меня избить. Пролежав неделю в тесной комнате, где сами стены давили с четырех сторон, я вновь принялся за старое.
Побои обострили мои чувства, вернее, научили меня внимательнее к ним прислушиваться. Во мне проснулась какая-то сверхъестественная способность угадывать приближение Сильвано. Если по спине пробегали мурашки, я знал, что он приближается. Гусиная кожа на руках подсказывала, что он где-то рядом. Я научился втискиваться в темные ниши или ужом залезать за тяжелые шторы, которыми были плотно закрыты все окна. Бывали случаи, когда я готов был поклясться, что он только что обо мне подумал: в такие минуты в животе что-то сжималось, сразу мутилось в голове, словно мысль его хищно протягивала ко мне свои когти в безмолвии темного дома.
Вскоре я начал приходить, когда Мария и Симонетта купали других детей. Я держался в сторонке, наблюдая за ними, потом здоровался. Многие в ответ на мое приветствие только шептали что-то себе под нос. Я искал маленькую белокурую девочку и наконец увидел ее за открытой дверью в одной из комнат, откуда вышел клиент. Это был пузатый мужчина в роскошной одежде (впрочем, как и все остальные), судя по внешнему виду и говору — неаполитанец. Он томно посмотрел пресыщенным взглядом. Я вспомнил, как видел его на рынке с женой, детьми и слугами. За спиной у него на кровати сидела маленькая девочка в порванном белом платье. На личике застыло тоскливое выражение, которое более пристало тридцатилетней женщине, чем ребенку. Выходя на прогулки, я стал покупать ей на рынке сласти. Как сказал Марко, лишь то немногое, что я мог сделать для другого ребенка, помогало мне выжить. Послушав у замочной скважины и убедившись, что она одна, я приотворял дверь и бросал свой подарок. Всего на мгновение ее глаза загорались, когда пальчики сжимали засахаренный финик или булочку с начинкой из лесных плодов. Клиенты частенько приносили нам, детям, сласти: видимо, в ребенке, сосущем леденец, было что-то такое, что возбуждало их похоть, — но я знал, что девочка рада моему подарку, потому что мне за это ничего от нее не нужно.
Между тем, уходя на прогулки по Флоренции, я пытался разузнать что-нибудь о мастере Джотто. Он сказал, что мы увидимся, когда он вернется, и я поверил ему. Он был человек чести, это было видно даже такой дворняжке, как я. Когда он вернется, я хотел поразить его своим знанием его несравненных работ. И вот в холодный зимний день после Рождества я отправился к монаху брату Пьетро, который когда-то водил меня в аббатство Санта Кроче, чтобы показать прославленную фреску с изображением Мадонны.
— Asperges me. Domine, hyssopo, et mundabor: lavabis me, et super nivem dealbabor. Misere mei, Deus, secundum magnam misericordiam tuam,[420] — радостно произнес я, обнаружив его с метлой на тропинке перед строгим фасадом старинной церкви Санта Мария Маджоре.
Значения этих слов я, конечно, не понимал, но запомнил их, услышав во время службы, и знал, что ему нравится, когда я повторяю его слова из литургии.
— Salve,[421] Бастардо! Сколько лет, сколько зим! — Пьетро поднял бритую голову и улыбнулся сквозь толпу прохожих. — Давненько ты не показывался. Не один месяц, кажется, прошел с тех пор, как ты прятался на последней скамье и пытался выпросить у меня хлеб, оставшийся от причастия, да ходил за мной по пятам, повторяя слова службы.
— Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum,[422] — произнес я в ответ и кинулся к нему, прошмыгнув между четверкой смеющихся женщин в дорогих отороченных мехом накидках.
Под распахнутыми полами скрывались длинные блестящие туники, парадные платья из струящихся тканей, расшитых жемчугом и аппликацией. Обдав меня облаком духов, они остановились через дорогу от церкви у прилавка с мотками крашеной шерсти, за которыми торговали, судя по их иностранной речи, заезжие купцы из Ольтарно, расположенного на другом берегу Арно, — там селились иностранцы и евреи. Аристократки трогали шерсть и шутили по поводу цен и скверного акцента смотревшей за прилавками женщины. За дамами ходил нагруженный свертками старый толстый евнух. Он выразительно посмотрел на меня, и я кивнул в ответ. Околачивающиеся возле церкви кондотьеры, держась за кинжалы на поясе, громко заигрывали с дамами, те делали вид, что ничего не замечают. Подойдя к монаху, я произнес:
— Я хотел кое о чем спросить, брат Пьетро.
— Да что может знать старый монах? — вздохнул он. — Мне даже не хватает ума получить высокий сан. Я ни на что не годен. Повезло еще, что дают подметать дорожки перед церковью в морозный день. Мне даже не доверят трудиться в монастыре Сан Сальви с другими братьями нашего почтенного ордена.
— Ты много знаешь. По учености ты настоящий профессор. Тебе много известно о мастере Джотто, — возразил я, остановившись рядом.
Пьетро оперся на метлу. Изо рта у него вырывался белый пар. Он пристально посмотрел на меня слезящимися глазами.
— О мастере Джотто? — переспросил он. — А что ты хочешь знать об этом художнике? Он слишком велик для грязной уличной дворняжки вроде тебя!
— Конечно, — согласился я, а про себя подумал, что теперь-то я не такой уж и грязный, по крайней мере снаружи.
Интересно, заметил ли он, какой я теперь сытый и холеный, догадается ли, что за этим кроется?
— Но я хотел узнать о Джотто. Ты говорил, что его учителем был Чимабуэ. Что еще ты знаешь?
— Пошли! — Пьетро сдвинулся с места и, проворно дотрусив до стены церкви, прислонил к ней метлу.
— Эй, монах, гляди, какой сладкий мальчик! — крикнул один из кондотьеров, поправляя кожаную тунику. — Ишь какие шелковые волосы!
Они хрипло загоготали, а один даже присвистнул.
— По мне так стройненький, хорошенький мальчонка даже лучше, — продолжая похабничать, протянул другой. — Они почище баб! Они мне даже больше нравятся!
— Да на тебя ни одна баба не посмотрит! — крикнул я в ответ, хотя они стояли всего в двух шагах от нас.
Кондотьер зарычал и ринулся было ко мне, но я метнулся в церковь следом за монахом.
— Не связывайся ты с ним, — проворчал Пьетро. — Это же грубая солдатня, но наши власти считают, что они нам нужны. — Он жестом позвал меня за собой, и мы присели на задней скамье. — Значит, Джотто? А зачем тебе Джотто?
— Мне нравятся фрески в церкви Санта Кроче, — сказал я.
— Ты еще не видел фресок в Ассизи, — ответил он. — Джотто написал цикл картин о житии святого Франциска. Удивительные работы! Слышал, что картины в Падуе в часовне на месте римской арены тоже великолепны: «Страшный суд», «Благовещение», сцены из жизни Девы Марии, все это сильно и величественно.[423] В них столько жизни, что они кажутся одушевленными. А что тебе нравится во фресках Санта Кроче, Бастардо? — настойчиво спросил он.
Я пожал плечами.
— Естественность, композиция, мастерство аллегорий? — усмехнулся Пьетро, не ожидая от меня, что я пойму.
Его язык был для меня слишком сложен, но, проведя столько времени перед этими фресками, я уловил общий смысл. Однако лицо мое, наверное, не выразило ничего, потому что Пьетро, положив руку мне на плечо, ласково спросил:
— Или они просто показались тебе красивыми?
Я кивнул.
— Я слыхал парочку интересных историй о мастере Джотто, — сказал Пьетро, откинулся на спинку скамьи и почесал подбородок пухлой морщинистой ладонью. — Я видел его не раз, но никогда не говорил с ним.
Он замолчал, а я ждал продолжения. Пьетро кивнул.
— Он родился в бедной семье в Веспиньяно, пятьдесят пять лет назад.
— Пятьдесят пять? — удивился я. — Он прожил такую долгую жизнь?
— Ну, положим, время для каждого человека течет по-своему, — ответил Пьетро, и его лицо покрылось веселыми морщинками. — Мастер Джотто и в старости сохранил бодрость, не то что я, хотя родились мы в один год.
Я посмотрел на дряблые складки, испещрившие лицо монаха, и, вспомнив живое выражение неустанно работающей мысли, одушевлявшей лицо художника, невольно согласился с его словами.
— Конечно, я не тщеславен, ведь тщеславие неугодно Создателю и смиренным монахам больше пристала скромность, — богобоязненно прибавил Пьетро и продолжил: — Пока Джотто пас отцовских овец, он рисовал на плоских камнях заостренным камнем. Он рисовал все, что ни попадалось ему на глаза, и даже то, что представлялось ему в воображении. Однажды мимо пастбища проходил Чимабуэ и, увидев его, был поражен! Неученый пастух рисовал так, что сам Чимабуэ не мог сравниться с ним в мастерстве. Он тут же попросил отца Джотто отдать ему мальчика в ученики, чтобы вырастить из него настоящего художника. И с этого дня жизнь Джотто изменилась и судьба его была решена!
— А я-то думал, что только несчастья вмешиваются, чтобы изменить человеческую жизнь, — прошептал я.
— Несчастья и беды и впрямь навсегда меняют жизнь человека, но случаются и чудеса. Разве жизнь прокаженных, которых исцелил наш Господь, не изменилась к лучшему? — спросил Пьетро. — Или жизнь одержимых, из которых Он изгнал бесов? Или жизнь слепцов, которым Он возвратил зрение?
— Я никогда не задумывался над этим, — признался я.
— Нужно лучше учить катехизис, парень, — сказал он тоном, в котором смешались снисходительность и раздражение. — Приходи, и я буду тебя учить. Уж коли на такого уличного крысенка, как ты, Джотто произвел впечатление, значит, ты не безнадежен. Постарайся только избежать участи своего дружка Массимо.
— Массимо? А что с ним? — так и подскочил я.
Пьетро взглянул на меня с любопытством.
— Разве ты еще не слыхал? Он ввязался в драку со здоровенным кондотьером из-за флорина. Кондотьер заявил, что это его деньги, а Массимо кричал, что он их сам заработал. Кондотьер ответил, что не мог уличный бродяжка и урод заработать целый флорин, и ударил его ножом. В шею, вот сюда. — Пьетро наклонил голову и показал пульсирующую точку на линии между сморщенным ухом и ключицей. — Бедный уродец истек кровью, как свинья под ножом мясника. Я сам положил его на телегу, чтобы вывезти из города туда, где хоронят нищих. С тех пор минул уже месяц.
Я прикрыл глаза, вспоминая, сколько раз мы, бывало, с Массимо согревались, прижавшись друг к другу, делились коркой хлеба или придумывали игру, чтобы не замерзнуть зимой. Интересно, вспоминал ли он об этом, когда продавал меня Сильвано? У меня живот скрутило, как будто я отравился, хотя я и сам не мог бы сказать, случилось ли это от жалости к Массимо или оттого, что не мог его пожалеть. Разве не должен я был помянуть его с добрым чувством после стольких дней, прожитых вместе? Неужто я и впрямь такое ничтожество, каким чувствую себя перед клиентами, что не способен скорбеть о человеке, с которым прожил вместе столько времени? Но Массимо хотя бы не пришлось заниматься моим ремеслом! А теперь ему, как и Марко, уже никогда не попасться в лапы таких, как Сильвано.
— Не растравляй себе душу, парнишка, — сказал Пьетро, легонько коснувшись моего плеча. — А ты знаешь, что Его Святейшество однажды прислал сюда придворного разузнать, что за человек и художник этот Джотто? В один прекрасный день придворный явился в мастерскую Джотто, когда тот был занят работой, и потребовал, чтобы он дал какой-нибудь рисунок для Папы. Тогда Джотто взял листок бумаги, обмакнул кисть в красную краску и одним движением, без помощи циркуля, нарисовал идеально ровный круг! Просто рукой!
— А что такое циркуль?
Пьетро фыркнул.
— Такой инструмент, чтобы чертить круги, Лука-невежда. Ты пойми: Джотто до того искусен, что ему не нужен никакой циркуль. Придворный решил, что художник над ним посмеялся, и начал спорить, но по настоянию Джотто передал круг Его Святейшеству вместе с описанием того, как Джотто его нарисовал. Папа тут же послал за Джотто. Джотто написал для него столь прекрасные картины, что Папа заплатил ему шестьсот золотых дукатов!
— Такие деньги! — выдохнул я и попытался представить себе столь огромное богатство. За такие деньги можно купить свободу и столько прекрасных вещей! Но мой разум отказывался это вообразить, так же как не в силах был измерить беспредельный простор голубых небес. Наверное, Сильвано такое состояние даже не снилось.
— Пожалуй, на сегодня хватит, Бастардо. — Пьетро потрепал меня по плечу. — Ты надорвешься под бременем такой премудрости. — Он вздохнул. — А мне надо подметать дорожку, иначе настоятель подумает, что даже это мне не под силу. Вот и начнет винить меня в том, что люди жертвуют больше на францисканский и доминиканский ордены, чем на наш.
— Давай я за тебя подмету, — предложил я.
Монах только отмахнулся и встал со скамьи. У алтаря кто-то из послушников чистил золотой крест и натирал ларец с благовониями. Пьетро наблюдал за ними, нахмурив брови.
— Иди по своим делам, — ответил он. — Уличная крыса вроде тебя всегда найдет чем заняться.
— Я больше не уличная крыса, — тихо произнес я, не вставая с деревянной скамьи.
— Да я знаю, — ответил Пьетро. — Я слыхал об истории с печаткой на рынке… Да не так, идиот! — крикнул он послушнику. — Попортишь полировку! А за твое неумение настоятель отчитает меня! — Он торопливо засеменил прочь.
Я посидел еще немного, размышляя об идеально ровных кругах, чудесах исцеления и случайностях, которые меняют судьбу. Как бы хотелось знать, наступит ли для меня сей счастливый миг, или этот великий миг грядет от руки Сильвано, который освободит мой дух из телесного плена?
По пути обратно я прогулялся по берегу Арно и забежал в лавку неподалеку от Понте Грацие,[424] чтобы купить засахаренные винные ягоды для маленькой белокурой девочки. Хотя я и не скорбел по Массимо, но чувствовал жалость к бедной девочке, которая не заслужила такой судьбы, какая выпала нам у Сильвано. Когда я пришел, дверь в ее комнату была закрыта и заглушала доносившиеся оттуда звуки. По рукам и затылку не бегали мурашки, в животе не сжимало — значит, я могу не спешить в свою комнату, меня не ждут клиенты и не ищет Сильвано. Я подождал, спрятавшись за какими-то шторами (от них даже все зачесалось), пока из комнаты девочки не вышел, зевая и ухмыляясь, зажиточный торговец шерстью. Он даже не удосужился закрыть за собой дверь, так что я легко пробрался внутрь. Девочка стояла у кровати. На щеках — свежие синяки, тоненькая струйка крови змейкой струилась из носа, капая на светлые волосы.
— Я кое-что принес тебе, — сказал я и бросил ей пакетик с винными ягодами.
Ее лицо нисколько не изменилось, но одна рука потянулась за винными ягодами. Другой она вытерла нос, размазав кровь по синякам. Она торопливо открыла пакетик и бросила в рот одну ягоду. Я смотрел, как она ест, а потом сказал:
— Меня зовут Лука. А тебя?
Она еще жевала винную ягоду, но ее личико вдруг просветлело, как будто внутри зажгли свечу. Она взглянула на меня чистыми и бездонными небесно-голубыми глазами совсем по-детски, как и следовало в ее возрасте. Меня охватила непередаваемая радость оттого, что я, пусть даже такое ничтожество, сумел зажечь в ней этот свет. Быть может, она оплачет меня, когда я внезапно умру от руки Сильвано.
— Ингрид, — с улыбкой произнесла она, и я услышал незнакомый акцент.
— Ингрид, — повторил я и тоже улыбнулся.
И тут я почувствовал, как по рукам побежали мурашки. Я осторожно шмыгнул в коридор и кинулся в свою комнату. Я едва успел вбежать в нее, как открылась дверь и ввалился клиент.
Позже пришла Симонетта, чтобы отвести меня на купание. Ее бледное лицо осунулось от усталости больше, чем обычно.
— Не знаешь, откуда эта девочка, Ингрид? — спросил я, когда Симонетта намылила мне волосы.
— На твоем месте я бы держалась от нее подальше, — хмуро ответила Симонетта.
Ее длинная коса спускалась через плечо, и я дотянулся до нее пальцем, чтобы ощутить ее мягкость.
— Почему нет? Что с ней не так?
— А что не так со всеми вами? — переспросила Симонетта с редкой горечью в голосе. — Я подслушала разговор Сильвано. Он собирается продать ее какому-то богатому кардиналу на убой.
— Убой?
Она пожала плечами.
— Некоторые клиенты любят убивать. Это стоит больших денег, целое состояние. Если заплатят, Сильвано соглашается.
Я опустился глубже в теплую воду и закрыл глаза, стараясь побороть тошноту. Странно, что после всего, что проделывали со мной, меня еще могло что-то ужаснуть.
— Зачем кардиналу убивать маленькую девочку?
— Посланец кардинала сказал Сильвано, будто кардинал чувствует, что Бог велит ему покарать женщин за грех Евы. Он хочет очистить мир. Он заставит девочку терпеть мучения, на которые обрекла человечество Ева. Он делает это не спеша, долго и тщательно, как священнодействие. Использует огонь и ножи. Девочка должна быть юной и невинной, тогда это будет искупительная жертва. Он потребовал себе девственницу.
Мне сделалось дурно.
— Ингрид не девственница.
— Дело поправимое. — Симонетта понизила голос.
Она выдернула меня из кадки и быстро обтерла большим грубым полотенцем.
— Есть один хирург, он ее подштопает… Есть аптекарь, у него бальзам, который стягивает прорыв… Сегодня Ингрид работает последний день. Завтра придет хирург, чтобы все зажило к приходу кардинала. — Крупное лицо Симонетты опало. — Ее каждый день будут купать в бальзаме аптекаря, чтобы подготовить.
— И когда? — прошептал я.
— Недели через две, может, месяц. — Симонетта пожала плечами. — Кардинал приедет из Авиньона.
Я не смог удержаться от воспоминаний о том, как держал мягкую ладошку Ингрид в своей руке, как утешал ее. Не мог выбросить из головы ее улыбающееся личико. Ее образ настойчиво возникал передо мной — сначала счастливый и юный, как тогда, когда я спросил ее имя, а потом окровавленный и скорченный от боли, как Марко, когда его порезал Сильвано. Я не мог вовремя помочь Марко, но я должен помочь Ингрид, думал я, когда, шатаясь, шел в свою комнату. Ужас застилал мне глаза, я почти ничего не видел перед собой. Я знал только одно — я не могу допустить, чтобы девочка, которая обратилась ко мне за утешением, погибла от руки кардинала, слишком ревностно творящего Божий суд. Я не мог допустить это мучительство, иначе я сам перестану быть человеком.
— Забудь об этом, — прошептала Симонетта, прижав мою руку к своей груди.
Мы остановились у дверей моей комнаты. Я выпустил ее руку и повернулся, чтобы войти. Она удержала меня за руку.
— Лука…
— Что? — отозвался я почти шепотом.
— Сильвано приказал мне спросить, понравилась ли тебе лекция о Джотто, которую прочитал тебе твой старый друг брат Пьетро?
У меня отпала челюсть.
— Он знает?.. Откуда?
— Он все знает, — предостерегла она, и родимое пятно на пухленькой щеке покраснело. — Помни об этом, дорогой. Не подвергай себя такой опасности, как Марко.
— Все равно ничего хорошего из этого не получится, — в ответ прошептал я.
Она кивнула, сжав мое плечо, и тут же исчезла, а я вернулся в свою комнату, гадая, кто шпионит на Сильвано. Я пообещал себе, что теперь буду все время начеку и научусь чуять присутствие подручных Сильвано, как я чувствовал присутствие его самого. Это обещание почти успокоило испуганную дрожь где-то внутри.
Десять дней спустя я стоял, переминаясь с ноги на ногу, перед святым Иоанном Евангелистом в церкви Санта Кроче и все еще пытался придумать, как спасти Ингрид. Времени оставалось все меньше. А плана до сих пор не было. Я совсем отчаялся и обратился к чудодейственному средству — картинам Джотто. Если была какая-то правда в этих нежных тонах, линиях и выражаемом чувстве, если был на свете святой, прославляемый на этих картинах, он должен прийти мне на помощь. Раньше я редко молился и во все прожитые годы чаще поминал Бога в ругательствах, чем в молитвах, но сейчас я молился.
— Я прошу не за себя, святой Иоанн, — еле слышно произнес я, обращаясь к возносящемуся на небеса святому.
— О чем? — со смешком спросил чей-то голос.
Я резко обернулся.
— Мастер Джотто! — так и вскричал я на радостях, что вижу наяву этого плотного старика.
Позже я узнал, что не один я так радовался при встрече с ним. Между тем он не был красив в обычном понимании, лицо у него скорее было простецким, но светившийся в нем живой ум и воодушевлявшая его огромная человечность вызывали радость с первого взгляда.
— Неужели это тот самый щенок снова виляет хвостиком перед моими фресками все на том же месте, где мы с ним расстались? — поддразнил меня Джотто, вскинув брови.
— Я кое-что узнал о ваших работах, — выпалил я, захлебываясь от торопливости. — Я расспрашивал монахов…
— Смотри не заучись до утраты непосредственного восприятия! — Уголок его рта иронично приподнялся. — Непосредственное выражение чувств хорошо тем, что показывает незамутненную истину. — Я не знал, что ответить, но он покачал головой и махнул рукой, что, дескать, неважно. — Я так и думал, что найду тебя здесь. И вот принес тебе кое-что.
Он протянул маленький сверток.
Никто еще никогда не дарил мне подарков. Кроме Марко, который давал мне сласти. Поэтому я растерялся, не зная, как себя вести. Это явно не было чем-то съестным. Я молча смотрел на сверток в руках у Джотто. Он был завернут в дорогое тонкое полотно и перевязан красной ленточкой.
— Оно не кусается. — Джотто сунул мне сверток.
Я взял его и застыл с вытянутыми руками.
— Ну же! — подбодрил он.
Я сделал глубокий вдох и развязал ленточку. Обертка раскрылась, и я увидел четырехугольную деревянную дощечку. Я запихнул ткань за пазуху и провел рукой по дощечке. Оказалось, их было две, сложенных вместе. Я раскрыл створки. Каждая картина была размером с две мои ладони в длину и ширину. С одной на меня смотрела пресветлая Мадонна в лазоревом плаще. На другой в полный рост был изображен Евангелист, и с ним щеночек, который с обожанием смотрел на святого.
Голос застрял где-то в горле, и я упал на колени:
— Мастер, я этого не достоин!
— Как же, ведь это твоя семья, — ответил он. — Коли породнился с моими картинами, то надо, чтобы у тебя была и своя, которая всегда будет при тебе. Мне вот никуда не уйти от своих родственников, они так и липнут ко мне, как темпера к дереву, особенно когда оказываются без денег.
— Я этого не достоин, они слишком прекрасны!
— Нет уж, бери, — возразил он и жестом приказал мне подняться, но я был слишком ошеломлен, чтобы встать с колен.
— Мне нечего дать вам взамен, — произнес я, сбитый с толку его щедростью.
— Мне достаточно твоего восхищения, — ответил он и обратил свой взор на большие фрески, украшавшие часовню. — Они очень ценные. Так что береги их.
— Буду беречь! — поклялся я и медленно поднялся, прижимая к груди складень.
От потрясения никакие слова не шли мне на ум, я даже не сумел вымолвить простое «спасибо», хотя чувство благодарности переполняло меня через край, подобно серебристо-серым водам Арно, когда бурные волны захлестывают берега.
— Так о чем же ты просил, когда молился не за себя? — спокойно спросил Джотто.
Я держал складень дрожащими руками, жадно вбирая в себя каждую черточку, каждый цвет, каждый изгиб. Лик Мадонны излучал свет и был так тонко написан, что одновременно являл собою живую женщину и небесное существо, воистину Матерь Божию. Взор ее источал сострадание и любовь. Мне казалось, в них можно погрузиться навек. Нужно будет хорошенько спрятать это сокровище от Сильвано и его всевидящего ока, найти для него во дворце укромное местечко. Нелегко будет отыскать там недоступный уголок.
— Так о чем же? — Любопытный голос Джотто вернул меня к действительности.
Я вскинул голову.
— О свободе.
— Ты просишь у Евангелиста свободу для кого-то другого? А у тебя и без того свободы достаточно?
Я отрицательно покачал головой.
— Нет у меня свободы. Но у меня есть друг…
— Кто-то, кто тебя пожалел и сделал тебе добро? — спросил он.
— Ему самому нужно сделать добро. Очень нужно, причем прямо сейчас, а я не знаю, как его сделать, — печально ответил я.
— Так вот о чем ты молился, — кивнул он. — Понятно!
Он замолчал, а я вновь обратился к картинам и впился в них алчущим взглядом. Спустя некоторое время Джотто произнес:
— Мой друг Данте сказал бы, что величайшая свобода — это любовь, и прежде всего божественная любовь. Именно она движет небесные сферы, но бренной плоти она недоступна. Мы обретаем ее, подчинив свою плотскую часть воле Господней.
Я вспомнил о мужчинах, что приходили ко мне в комнату. Казалось, они вольны делать все, что пожелают. Они были плотской природы и преданы плотским заботам. Вспомнил Сильвано, который творил все, что ему вздумается, и безнаказанно убивал людей. Я бы усомнился в словах Джотто, но ведь это сказал Джотто. Поэтому я принял их серьезно. Подумав, я сказал:
— Один человек говорил мне однажды, что свободу ему даст смерть.
— Это крайний случай, — скорбно откликнулся Джотто. — Наверное, иногда это единственный выход. Жизнь на земле бывает невыносимой, она подчиняется законам, неподвластным нашим силам и нашему пониманию. Но потом смерть отпускает нас на небеса. Хотелось бы верить, что мой давний друг сейчас свободен. Но свободы можно достичь и по-другому. Например, благочестием.
— А если и благочестие не спасет? — с трепетом спросил я, ведь именно из благочестивого рвения кардинал обрек Ингрид на муки.
— Тогда, наверное, ты прав. Спасение в смерти.
В нефе послышались голоса: двое людей уже звали Джотто. Он вздохнул и приветственно поднял руку.
— Долг зовет. Я должен тебя покинуть, щенок, оставив наедине с твоими тяжкими вопросами.
— Когда я смогу снова вас увидеть? — прошептал я.
— Я вернусь во Флоренцию, хотя богатые вельможи и желают, чтобы я беспрестанно рисовал их портреты и украшал надгробия, — сухо ответил он, развернулся и тяжелой поступью двинулся к мужчинам.
Горячие приветствия, объятия. Посмотрев на это, я вновь обратился к двум удивительным картинам, столь великодушно подаренным мне художником. Взгляд мой упал на щенка, который не сводил глаз с лица святого Иоанна. Я бросился вслед за Джотто.
— Мастер! Мастер! — звал я на бегу, а потом заметил, как богато одеты его друзья, и чуть не сгорел со стыда. Боюсь даже представить, какое впечатление я мог на них произвести.
Но Джотто это нисколько не вывело из равновесия.
— Прошу прощения, я должен поговорить со своим юным другом, — сказал он.
Подойдя ко мне, он вопросительно поднял брови. Я проглотил комок:
— Собака…
По лицу Джотто растеклась лукавая, довольная улыбка.
— Что собака?
— Она… светленькая. Как я. У нее русая шерстка, немного с рыжиной, как мои волосы!
— Похоже, щенок по прозвищу Лука Бастардо совсем не дурак, — ответил Джотто. — Будь спокоен! Ты придумаешь способ помочь своему другу.
Я выпрямился и поднял в руках складень.
— Благодарю вас, — со всем достоинством, что было у меня, проговорил я.
Он подмигнул мне и вновь отошел к своим друзьям.
На следующий день, пока я работал, а душа моя витала в голубых небесах вместе с Евангелистом, написанным Джотто, меня вдруг осенило решение. Может, это была очередная крошка благодати от смеющегося Бога, божества, наложившего на меня свою десницу, то сжимавшую, то отшвыривавшую меня прочь, как ненужный хлам. И как всегда потом случалось на протяжении моей долгой жизни, этот миг благодати был сдобрен привкусом скорби. Однако я внезапно понял, как спасти Ингрид от жертвоприношения, задуманного кардиналом, и навсегда освободить от Сильвано. Так я освободил Марко. Только на этот раз без содействия реки. Нужно было найти иной способ, чтобы подарить ей свободу без мучений, так чтобы она даже ни о чем не знала, чтобы ее сердечко не трепетало, пронзенное ужасом. Мне и себя нужно было защитить: ведь Сильвано не простит мне, потеряв из-за меня целое состояние. Как ни горько мне было, но я ясно понял, что Ингрид нужно именно это, так же как ей нужно было держать меня за руку, когда мы шли смотреть на казнь Марко. После того как клиент закончил и Симонетта вымыла меня, я был свободен и мог идти на прогулку. С дрожащими руками, но твердо помня, что так нужно, я незаметно прошмыгнул за портьеру, где имелась расшатанная половица; под ней я прятал одну половинку складня, подаренного Джотто, — я разделил его и хранил в двух разных местах. Если бы Сильвано обнаружил одну, у меня сохранилась бы другая. Я достал из-под половицы Мадонну и с благоговейным трепетом прикоснулся лбом к ее прекрасному лику. Я не знал, жила ли на свете Дева, непорочно родившая дитя. Мне с трудом верилось в безгрешную чистоту. Мир был так полон скверны, что вряд ли в нем могла существовать чистота. Но человечность, которой Джотто наделил ее прекрасный образ, заслуживала моего преклонения. Засунув доску под тунику, я вышел из дворца. Спрятавшись в соседнем переулке, япроверил, не следят ли за мной. Убедившись, что никто из приспешников Сильвано не сидит у меня на хвосте, я торопливо зашагал дальше.
Я знал дорогу, потому что однажды бегал туда по чужому поручению, когда еще был бродяжкой и готов был делать что угодно, чтобы заработать себе на еду. Все, кроме, правда, того, что я делал сейчас. Один каменщик, который очень хотел продвинуться в своей гильдии, послал меня как-то на дальнюю окраину города. Взяв то, что я оттуда принес, он улыбнулся, сунул мне в ладонь пару монет и велел забыть о том, что мы когда-то встречались. Через день до меня дошли слухи, что его соперник умер.
Стоял погожий зимний денек, и молочное небо было пятнистым, точно скорлупа дроздовых яиц. Я прошел по берегу Арно мимо красилен до моста Понте Веккьо, где стояли маленькие деревянные лавочки и открывалась широкая панорама реки. Я перешел через мост на другую сторону Арно и очутился в Ольтарно. Покружив на всякий случай по улочкам, чтобы отделаться от хвоста, я обогнул церковь Санта Феличита[425] и, снова перейдя через Понте Веккьо, вернулся в Ольтарно через Понте Санта-Тринита. Я брел узкими улочками мимо шелковых и ювелирных мастерских, мимо монастыря Сан Ромуальдо, пока не набрел на маленькую лавчонку на южной окраине, где посреди трущоб держали свои лавки ворсильщики, шерстобиты и чесальщики шерсти и где селились иноземцы и евреи. На лавке была вывеска как у обычной портняжной мастерской, каких во Флоренции десятки, но я знал, что там трудится не портной. Лавка была закрыта, но я знал, что хозяин откроет, и нетерпеливо постучал в дверь.
Мне открыл высокий светловолосый мужчина. Увидев меня, он прищурился, и квадратное лицо его переменилось. Этот человек с далекого севера обладал хорошей памятью. Он вспомнил меня и, не говоря ни слова, впустил в лавку. Пока я осматривался по сторонам, он запер дверь на засов. В комнате никого не было, никаких подмастерьев, которые обычно, сидя на разложенных на полу ковриках, работают, сложив на коленях ткань и нитки. Здесь не было длинного стола для кройки, ни деревянных манекенов, ни ножиков, ни ножниц, ни иголок, ни рулонов грубого полотна, идущего на подкладку. Стоял только маленький рабочий столик из грубо отесанных досок и несколько стульев. Обернувшись, северянин вперил в меня пронизывающий взгляд.
— Меня снова прислали за тем же, что в прошлый раз, — тихо произнес я.
— Плата при тебе? — медленно, с сильным акцентом спросил он.
Я глубоко вздохнул и вынул из-за пазухи свою дощечку. Сердце сжалось от горя и сожаления. Мне так не хотелось расставаться с Мадонной, что я мысленно вызвал образ маленькой Ингрид — в порезах и ожогах, в муках, которые заставили Марко молить о собственной смерти. И тогда мои руки протянули ему доску. Мужчина громко ахнул и сел за стол, изучая картину. Он пробежал по ней пальцами, точно не смог удержаться от этого. Как мне было знакомо это чувство! Его суровое лицо смягчилось и даже совсем обмякло, и он пробормотал:
— Этого достаточно.
«Еще бы не достаточно! — воскликнул я мысленно. — Тебе не придется больше творить эти темные делишки, и ты сможешь вернуться в свою холодную страну, увозя с собой целое состояние!»
Но вслух я произнес:
— Эта штука, ее нельзя обнаружить?
— Невозможно, — заверил меня он.
— И никакой боли?
— Действует как снотворное. Рецепт моего деда.
Осторожно взяв доску, он скрылся в задней комнате и вынес оттуда крошечный флакончик. Он был синего цвета, изящной работы, с двумя ручками. Картины в его руках не было.
— Мне приказано спросить, можно ли подмешать это в сласти, — сказал я, не отрывая глаз от темного дверного проема, за которым скрывалась моя бесценная картина. Часть меня оплакивала ее, и я знал, что теперь буду вдвойне дорожить оставшейся.
— Так даже еще лучше, он сам сладкий, — ответил мужчина и сунул пузырек мне в руку. — Используй весь, здесь одна порция.
Он отодвинул засов и подтолкнул меня за порог, на холодную вечернюю улицу. Безлунное небо над Флоренцией подернулось рябью светло-лиловых и фиолетовых туч. Пронизывающий ветер обещал назавтра морозный день. Я побрел назад по узким улицам между двумя рядами высоких зданий и укрепленных особняков. Мимо чужих домов, где другие люди жили в мире и покое в окружении своих близких.
На следующий день в полдень Сильвано вызвал меня в столовую. Он сидел за столом, высасывая костный мозг из телячьих костей. В комнате стоял густой запах его мускусных духов, усиленный разгоряченным телом.
— Сегодня я жду посетителя, — сообщил он.
Я ничего не ответил. Мой взгляд метался по комнате в поисках тяжелого шелкового мешка. Его нигде не было. Сильвано отбросил кость и почесал острый выпирающий подбородок там, где кончалась борода.
— Важного посетителя. Очень важного. Но, к величайшему сожалению, этот посетитель будет разочарован.
Я прикусил язык и посмотрел на Сильвано.
— Дело обстоит так, — продолжил Сильвано ядовитым тоном, — что я вынужден возвратить ему солидный задаток. — Он обратил ко мне свое лицо, острый нос его вздрагивал, словно вынюхивая скрытую правду. — Я весьма недоволен!
— Синьор?
Я крепко сцепил за спиной руки, чтобы чувствовать, что я еще здесь, живой, что я по-прежнему тот самый Лука.
— Я очень сердит! Одну из моих девчонок нашли мертвой сегодня утром, девчонку, за которую он мне заплатил! — сказал Сильвано, его взгляд, казалось, прожигает меня насквозь. — Что тебе об этом известно, мой умный Бастардо?
— Откуда мне что-нибудь знать, синьор?
Я так сильно замотал головой, что даже в груди раскатисто задребезжали трещотки; может быть, это страх толкал мне сердце, играя им, как кошка лапой, прежде чем съесть несчастную мышь. И мне подумалось: а что, если страх способен убить? Тогда он откроет мне тяжкий путь к свободе, которым прошли Марко, Ингрид и даже Массимо. Я спрашивал себя, решит ли смерть, что я заслужил жестокой кончины за то, что я присвоил ее права в отношении Марко и Ингрид.
— Откуда тебе знать? Может, лица на фресках в Санта Кроче подсказали тебе что-то, пока ты столько времени их рассматривал! — протянул Сильвано. — А может, кто-то в Санта Феличита сказал тебе вчера? — Тонкими чистыми пальцами он взял с тарелки еще одну кость, неторопливо высосал ее и пустую бросил на тарелку. — Думаю, ты много чего знаешь. И думаю, ты что-то скрываешь. Думаю, у тебя много секретов.
— Нет, синьор, — шепотом повторил я.
— Я очень хорошо разбираюсь в людях, Бастардо, вот почему судьба мне благоволит, — самодовольно ухмыльнулся он. — И сдается мне, что ты умнее, чем хочешь казаться. Есть у тебя кое-какие мыслишки, недаром ты не спишь по ночам и думаешь. Мне это не нравится.
— Я постараюсь больше не думать, синьор, — дрожащим голосом выдавил я.
Сильвано хохотнул.
— Я не желаю больше терять ценных работников. Мы же не хотим разрушить нашу дружную семью, верно, Бастардо?
Я ничего не ответил, и тогда он запрокинул голову и зарычал на меня, оскалив зубы, точно бешеная собака.
— Я потерял целое состояние из-за смерти этого ребенка! Это недопустимо! Под угрозой моя репутация человека, который может исполнить любое желание клиента! И ты как-то приложил к этому руку! Я знаю, что ты заходил к ней в комнату и кормил конфетами. У меня нет доказательств, но я буду следить за тобой. Очень пристально. Отныне будешь сидеть дома. Без прогулок, — заявил он. — Не знаю, куда ты пошел после Санта Феличита, но больше ты туда не пойдешь.
Я понурил голову, пряча глаза, чтобы он не увидел в них слезы и злость. Сердце мое ныло от тоски по Ингрид, которую мне больше никогда не увидеть. И что-то в обвинениях Сильвано придало ее смерти завершение. Он больше ничего не сказал, и я попятился к двери.
— И вот еще что, Бастардо! — окликнул он меня с порога. Сильвано встал и ударил кулаком по столу, так что зазвенели тарелки.
— Я выясню, что ты знаешь и что скрываешь. Я раскрою твои тайны. Все до единой!
ГЛАВА 4
Время ползло медленно и однообразно. Дни превращались в месяцы, а те сонно перетекали в года. И слова Марко принесли свои плоды. Я привык к работе. Человек ко всему привыкает, если одно и то же продолжается достаточно долго. И только однажды моя работа принесла мне что-то приятное. Как-то раз дверь распахнулась, и на пороге появился постоянный клиент — высокопоставленный член гильдии меховщиков и скорняков, своей грубостью он превосходил даже кондотьеров, которые бывали в моей комнате. Он бросил на меня похотливый взгляд и вдруг схватился за левое плечо, тяжело задышал и со стоном упал на колени. Глаза его дико блуждали, изо рта на бороду капала пена. Я наблюдал за происходящим с кровати. Поры на мясистом лице расширились, пот ручьями бежал по лицу, стекая на пол, к которому он прижался одной щекой.
— Помоги мне! — выдохнул он. — Помоги мне, мальчик!
Он говорил с сильным деревенским акцентом, и я пожал плечами: мол, не понимаю. Затем я встал и отодвинул тяжелую багровую бархатную штору, изготовленную для турецких гаремов, но Сильвано приобрел их для своего заведения. Все-таки публичный дом — это идеальное место для попрания законов, регулирующих расходы.[426] Треугольник яркого желтого света разрезал пополам лицо клиента. Летний день клонился к вечеру, рынки уже закрылись, и близился ужин — самое горячее время для нашего ремесла, когда спрос особенно велик. Меховщик дважды дернулся, как будто он давится, и его вырвало. На полу осталась лужица зеленоватой желчи. Бледные губы еще шевелились, в солнечном луче над его головой кружились пылинки, но голоса было не слышно. Я опустился рядом с ним на пол и, обхватив руками колени, сидел и ждал. Со смертью я был на дружеской ноге и уже чувствовал ее приближение, когда она подкрадывалась исподтишка, как к Ингрид, или шумно врывалась, как к Марко, или являлась под личиной живого человека в образе Сильвано.
Меховщик начал корчиться и застонал.
— Позови Сильвано, — задыхаясь, выдавил он, немного приподнявшись.
Затем снова упал, шлепнувшись на пол, как рыба о пирс. Лицо его побагровело, затем снова сделалось бледным, и его еще раз вырвало. Я почувствовал скверный запах, и он затих. Я ждал. Я научился ждать, в этом бездушном пустынном темном замке я напитался жестокостью и страданием. Я смотрел, как треугольник света сползает по телу меховщика, пока последний кончик не свернулся, как скорпионий хвост, на его торсе, в то время как голова уже сползла на пол. Потом он лениво уполз в золотистую щель под дверью.
Поняв, что меховщик больше не встанет, я обыскал его тело. Нашел кошелек, в котором было несколько серебряных монет. Запустив руку под дорогой шелковый камзол, я сорвал с его шеи золотую цепочку с жемчужным крестом, который давно приметил на оголенной груди. Подумал было снять с пальца одно из колец, но решил, что его все равно не утаишь. От глаз Сильвано ничего не ускользало, он наверняка запомнил все вещи клиента, которые были на виду. Так что я забрал себе несколько сольдо, хотя и не все, и спрятал их вместе с цепью в мышиной дыре за комодом. Потом открыл дверь и позвал Симонетту.
Она явилась почти сразу, в глазах застыл вопрос. Взгляд ее упал на тело, и она, цокнув языком, пробормотала какието ругательства вперемежку с молитвами, перевернула тело на спину и зажала себе рот рукой. Светлая коса упала через плечо, и я потянулся к ней, чтобы погладить.
— Будут неприятности, — торопливо проговорила она и убрала мои руки с косы. — Я не хочу, чтобы тебе попало, Лука!
— Я его не убивал, — ответил я.
— А какая разница? — Она перекрестилась и помчалась искать Сильвано.
Я сел на кровать и стал ждать. На этот раз ожидание оказалось не из легких. Хотя оно продлилось недолго, но для меня время застыло в предвкушении боли. Я прикинул, сумею ли во время битья мысленно унестись к картинам Джотто. Обыкновенно при виде Сильвано, помахивающего своим мешком с флоринами, сосредоточиться мне не удавалось. Зато впереди у меня брезжила новая надежда: на днях Джотто вернулся во Флоренцию, чтобы наблюдать за строительством колокольни собора Санта Мария дель Фьоре. С его прибытием город заметно оживился. Собор должен был стать главным украшением нашего славного города, и все радовались, что дело вновь закипело после тридцатилетней спячки. Власти Флоренции уговорили Джотто приехать в город, посулив ему гражданство и сотню золотых флоринов. Так что теперь я мог часто видеться с мастером, хотя поговорить удавалось редко. Обычно я прятался неподалеку от стройки и смотрел, как он шутит с рабочими, одетыми в грубую одежду, и обсуждает чертежи с другими художниками. Иногда я выходил из своего укрытия и стоял на виду, дожидаясь, когда он меня заметит и позовет. Если он был не занят, то подзывал меня к себе, теребил за волосы, называл гадким щенком и рассказывал о своей работе, а потом устраивал экзамен на те знания, которые я получил в прошлый раз. Я всегда все отлично помнил, и ему это нравилось. Бывало, он только подмигнет и уйдет, и я понимал тогда, что у него есть дела поважнее, чем возиться с уличной швалью вроде меня.
— Так, значит, ты убил клиента, — вырвал меня из грез хитрый голос Сильвано.
Он появился в дверях, а следом за ним Симонетта — со свежим синяком под глазом. Она не взглянула на меня и стояла потупившись, беспрестанно то сцепляя, то расцепляя пальцы в широких синих шелковых рукавах. Сильвано всех нас неплохо одевал, добавляя этим лоска своему заведению.
— Умный же способ ты придумал, чтобы отделаться от работы! Что, понравилось, ублюдок? Поди, испытал наслаждение, отнимая жизнь? Захватывающее ощущение, не правда ли? Мне самому это нравится больше, чем все плотские наслаждения. А мы похожи с тобой, Лука! Ты, как и я, принадлежишь к избранным, не знаешь сопливой робости, которая делает слабыми других.
— Нет, синьор, — возразил я, — я его не убивал.
Я так и сидел на кровати, подальше от его лап, а не то не успеешь моргнуть, как он тебя зарежет!
— Жаль, я бы загордился, увидев, что ты мне подражаешь. Я бы даже, может, наградил тебя деньгами. Сходил бы на рынок, тебе же это так нравится. — Сильвано склонился над меховщиком и быстро, равнодушно потыкал его в бока. — Держу пари, ты не меньше часа смотрел, как он умирает. А я пари никогда не проигрываю. — Он залез к меховщику в кошелек и вынул оставшиеся деньги, потом стянул кольца с пальцев, оставив только печатку, возврата которой потребует семья. Закончив с этим, он выпрямился и посмотрел на меня. Несколько мгновений я выдерживал его взгляд, но это было все равно что смотреть в стылую бездну ада, и я отвел глаза.
— А ты не страдаешь излишней щепетильностью, ублюдок! — задумчиво произнес Сильвано, поглаживая подбородок.
— В моем ремесле это непозволительно, — ответил я.
Он усмехнулся, и смех просвистел надо мной, как крылья летучей мыши, рассекающие морозный воздух. Этот смех был еще страшнее его слов.
— На все находишь ответ, — презрительно выплюнул он. — А ты ведь у меня уже больше четырех лет, верно, парень?
— Да, синьор, — кивнул я, проглотив комок в горле.
Быть может, четыре года для него слишком долго? Вдруг Сильвано уже решил, что пора от меня избавиться?
— А выглядишь все таким же, как в первый день. Все тот же девятилетний мальчик, — продолжил Сильвано. — Ты ни на день не повзрослел. Ни на час. И это не от недостатка питания. Ты проедаешь почти столько же, сколько зарабатываешь за неделю.
Он переступил через тело скорняка, подошел ко мне и схватил меня за подбородок, наклонившись к моему лицу, совсем как в нашу первую встречу. Его рябые щеки и острый нос были всего на расстоянии руки от меня. Я уставился на седую прядку в его бороде, едва держа себя в руках, чтобы не спасовать под наплывом его противных духов. Всю оставшуюся жизнь из-за Сильвано и приходивших ко мне клиентов я так и не мог преодолеть свое отвращение к духам, даже когда мог позволить себе лучшие из них.
— Тебе следовало бы уже стать юнцом с пушком на щеках и ломающимся голосом. Но нет, ты все тот же, каким я встретил тебя на рынке. И как такое возможно, Бастардо? Ты что, колдун? А ты знаешь, как мы поступаем с колдунами? — Он замолчал, выжидающе глядя на меня.
— Их бросают в темницу, — спокойно ответил я, а про себя добавил, что все равно даже темница лучше этого.
— Не просто бросаем в темницу, а сжигаем на костре, — с радостью в голосе возразил он. — Привязываем к столбу перед Палаццо дель Капитано дель Пополо,[427] сложив под ним дрова. Костер зажигают, тщательно следят за пламенем, чтобы колдун горел медленно и не умер слишком быстро, наглотавшись дыма. Для того чтобы кожа расплавилась и спеклись мозги в черепе, требуется много времени, перед смертью приходится претерпеть все муки очищения. Не очень-то приятно быть колдуном, Бастардо! Повезло тебе, что ты служишь тут у меня. Постарайся и дальше как следует ублажать моих клиентов. А то если я выставлю тебя на улицу, люди заподозрят тебя в колдовстве.
— Я не колдун, синьор. Я просто не такой, как другие, — шепотом ответил я.
— Не такой? Да ты мерзость, гадкий урод, который не старится, как все добрые люди. — Его губы скривились в глумливой ухмылке. — Все, кроме тебя, старятся. Вот как Симонетта, например. Ты же стареешь, верно, Симонетта? Стареешь и боишься, что у тебя никогда не будет детей? Разве не так ты сказала на днях Марии?
Он бросал ей вопросы, даже не оборачиваясь. Женщина пошатнулась и прислонилась к стене, на побледневшем лунообразном лице рот казался кровавой раной.
Сильвано повернул мое лицо и так и сяк.
— В отличие от тебя, я старею. А старость побуждает человека думать, если он, конечно, не бездельник. И я много думал. Я хочу сына, наследника. — Он вдруг резко выпустил меня и шагнул назад. — Не развратного урода и колдуна, как ты, Бастардо, а сына, которому я мог бы передать свое дело, чтобы спокойно встретить старость. Сына, который был бы моей правой рукой. А такие стремления достойны уважения.
Выходя из комнаты, он сказал Симонетте:
— Есть один офицер, Альберти, частый наш клиент. Пошли за ним. Я объясню ему, что случилось. И пошли за врачом, евреем, который подтвердит мою историю. Пообещай ему флорин, если он скажет то, что скажу ему я. Если начнет артачиться, пригрози, что его семью вышлют из Флоренции.
Прошел почти еще год, а я по-прежнему не менялся. Я стал часто рассматривать свое отражение в темных зеркалах, развешанных по всему дворцу Сильвано для клиентов, которые смотрелись в них перед уходом. Лицо у меня нисколько не изменилось и оставалось мальчишеским, без пушка. А вдруг Сильвано прав и я урод? Мерзость? Я знал, что я никакой не колдун. Неужели из-за этого меня и выбросили в детстве на улицу? Что со мной не так? Почему я не взрослею, как другие мальчики? Даже Джотто однажды упомянул об этом, когда мы вместе прогуливались.
Стояло чудесное летнее утро, обещавшее ясный, погожий день. Со всех сторон нас обступала яркая, громкая, пахучая жизнь Флоренции, которую я так любил в те дни, когда трагические события еще не определили мою дальнейшую судьбу. Весь город был в цветах: цветы в горшках и на деревянных телегах, приехавших с деревенских ферм. Хорошенькие женщины в ярких платьях несли корзины со сладкими винными ягодами, молодыми бобами, мотками отличной флорентийской шерсти. Кондотьеры в кожаной одежде, вооруженные мечами, расхаживали с важным видом по улицам. Бегали мальчишки, скакали тощие собаки, коты — и вовсе костлявые — гонялись за крысами, попрятавшимися от жары. Рынки, заваленные пахучими сырами, свежей рыбой из Арно и розовым мясом, бочками с вином и гончарными изделиями, которыми славился город. И прочей всякой всячиной, с которой люди — обычные люди с семьями, нормальные люди — связывали свою жизнь. Вблизи от фронтона церкви Санта Мария дель Фьоре закладывали камни для колокольни Джотто, и лязг сливался с цокотом копыт, звоном церковных колоколов, скрипом и грохотом повозок, телег и фургонов; мычанием коров, блеянием овец и коз, доносившимися с городских рынков, и отдаленным шуршанием мельниц и чесальных мастерских, расположенных по берегам реки. В воздухе носился гомон бессчетных голосов: разговоры и ссоры, песни и приветствия, кто-то просто торговался. Старый валломброзсанский монах брат Пьетро, недавно в качестве наказания получивший задание написать летопись своего ордена, сказал мне, что сейчас во Флоренции живет сто тысяч человек, и в ясные деньки вроде нынешнего все они, похоже, высыпали на улицы. Мы с Джотто направлялись к месту стройки Санта Марии дель Фьоре, когда мастер вдруг остановился, запыхавшись от быстрой ходьбы, и указал на какой-то камень.
— Ты знаешь, что это такое, Лука Кукколо? — В голосе его звучала нежность, когда он назвал меня «Лука-Щеночек», но я знал, что она предназначалась не мне, а плоскому серому камню, лежавшему перед нами. На камне было что-то написано черными буквами, но я не умел читать, поэтому мотнул головой.
— Это место поминовения, неподвластное времени, святыня, подобная алтарю, — пояснил Джотто. — Я называю его Sasso di Dante, камень Данте. Он часами сидел здесь, наблюдая за строительством, размышлял и писал свою бессмертную «Комедию».
— Данте, великий поэт, который был вашим другом? — закивал я.
Джотто часто вспоминал Данте, с любовью и уважением. Ах, если бы я умел читать, то смог бы хоть как-то разделить его восхищение другом! Я подумал, нельзя ли убедить брата Пьетро обучить меня чтению? Искусство чтения было не по чину человеку моего низкого положения, однако тогда многие во Флоренции умели читать. Может быть, если я подарю брату Пьетро жемчужное распятие, которое я снял с мертвого клиента и спрятал в мышиной норке…
Я добавил:
— Значит, этот камень священен, потому что на нем часто сиживал великий, совершенный человек?
— Мой друг был далеко не совершенен. В своем великом произведении «Ад» он признается, что и ему свойственны похоть и гордыня…
— В аду, должно быть, народу больше, чем во Флоренции, если каждый, кто грешен в похоти и гордыни, признается в этом, — заметил я.
Простое, чудесное лицо Джотто расплылось в улыбке.
— Все мы люди. Ты тоже станешь жертвой похоти, когда вырастешь и станешь мужчиной.
— Меня погубит не похоть, — пробормотал я, тревожно вспомнив, как Сильвано обвинял меня в колдовстве.
Джотто засмеялся одному ему свойственным полнозвучным смехом, как бы идущим из самого нутра. Прохожие оглядывались на него и улыбались.
— И меня тоже. По милости Божьей, для таких есть чистилище.
— Если можешь поверить в милость, — сухо возразил я. — Ведь для меня, чтобы попасть в рай, одного чистилища будет мало.
— А я верю, — кивнул Джотто. — Итак, несовершенство делает камень священным. Данте был хорошим человеком, но со своими недостатками, как все мы. Данте даже отправили в ссылку за взяточничество, хотя это и было несправедливое обвинение.
— Значит, дело в его гениальности, — задумчиво произнес я, проводя рукой по шершавой поверхности камня. — В его поэтическом таланте. Поэтому этот камень священен, хотя он и не был совершенным человеком.
— Вот именно! — Джотто похлопал меня по плечу. — Совершенных людей не бывает. Бывают люди выдающиеся. А ты, Лука, понятлив!
— Не знаю, — с сомнением ответил я. — Я думал, что священно только то, что освящено церковью. Как хлеб и вино причастия.
Я никогда не причащался, так как не проходил обряда конфирмации. Я даже не был уверен в том, что меня крестили. Я не помню ни родителей, ни той жизни, которая у меня, возможно, была до улицы.
— Если хочешь познать святость, ищи ее у природы, — посоветовал Джотто.
— Священники говорят иначе, — отпарировал я, как всегда, наслаждаясь нашим спором.
— Ты слишком умен, чтобы верить словам священников, — снова рассмеялся Джотто. — Тебе уже достаточно лет, чтобы иметь собственное мнение.
Он остановился и, склонив набок свою седеющую голову, задержал на мне пристальный взгляд.
— Правда, годы не отразились на твоем лице и не повлияли на рост. Ты словно картина — не меняешься со временем. Ты нисколько не вырос за те годы, что я тебя знаю. Вероятно, ты родился под особой звездой, которая даровала тебе молодость. Возможно, тебя даже обойдет грех мужской похоти…
— Я думаю, ваши картины священны, — робко вставил я свое слово. — И картины Чимабуэ.
— Это почему же? — переспросил Джотто, отвлекшись, как я и хотел, от прежней темы.
Мне не хотелось, чтобы он вдавался в обсуждение моих недостатков. Я и без того с трудом скрывал в его присутствии обуревавшие меня сомнения. Неспособность к взрослению, как врожденное уродство, мучила меня с каждым днем все больше. Я не желал оставаться мерзким уродом. Я убаюкивал свое горе и отчаяние, сосредоточившись на картинах Джотто.
— Мягкие цвета, свет, — выдохнул я, вызвав в памяти знакомые образы. — Неспешные движения людей на ваших картинах исполнены… О! Такого достоинства! В этом безмолвном достоинстве столько глубокого чувства. А взгляд мой всегда невольно возвращается к центру, на что бы я ни смотрел.
Я мог бы сказать и больше, ведь я столько времени посвятил этим картинам, столько над ними размышлял. Я околачивался рядом со священниками, художниками и профессорами, что говорили о них, прислушивался всем своим существом к их ученым словам, однако я замолк, чтобы посмотреть, какое впечатление мои слова произвели на Джотто. Он внимательно смотрел на меня, склонив голову набок.
— В тебе есть какая-то загадка, Бастардо, — произнес он. — Лицом ты мальчик, а говоришь точно старец, слишком долго носивший в себе невысказанные мысли. Мне такое и раньше встречалось. Осторожно — как бы тебя не сожгли за это! Церковь не очень-то жалует тех, кто думает по-своему.
— Никто не жалует, — ответил я, вспомнив, как то же самое говорил Сильвано.
Джотто покачал головой.
— И осторожнее выбирай людей, которым ты доверяешь свои мысли, — добавил он, и уголки его рта опустились и на лице появилось непривычное для него печальное выражение.
Всего мгновение спустя его низенькое коренастое тело натянулось, как струна скрипки, и к нему вернулось доброе расположение духа.
— Пойдем, щенок, посмотрим на мою колокольню. Судей не устраивает стоимость, но красота стоит недешево, особенно прекрасная мраморная мозаика!
С того дня прошло совсем немного времени, когда в мою комнату ворвалась Мария. От меня как раз ушел клиент, и я решил, что она хочет выкупать меня. Но вместо этого она схватила меня за руку и повела по коридорам дворца, да так быстро, что я едва поспевал за ней чуть не бегом. Она притащила меня в угловую комнату на втором этаже.
— Я не могу этого сделать! — прокричала она и втолкнула меня в комнату.
— Симонетта! — выдохнул я.
Симонетта сидела, сгорбившись на маленьком трехногом стуле в углу комнаты. Ее светлые волосы были распущены, а сорочка испачкана в крови. Вокруг ног — лужа крови и испражнений, которые ручейками растекались по полу. Рядом с ней стояла старуха, придерживая Симонетту за плечи. Я испуганно подошел ближе и заметил, что лицо Симонетты было покрыто крошечными красными звездочками порвавшихся сосудов. По лицу и шее струился обильный пот. А потом она как-то странно пошевелила руками. Я опустил глаза и увидел в них младенца. Малюсенький, мокрый, испачканный в чем-то красно-рыжем, необрезанная пуповина тянулась под окровавленную сорочку Симонетты.
— Девочка, — сказала старуха.
Она была очень маленького роста, но говорила сильным голосом, ее гордое лицо дышало суровостью. Смуглая кожа говорила о том, что у нее, наверно, была бабка-цыганка, и платье под забрызганным кровью фартуком было не такое, какие носили флорентийские женщины. Я понял, что это повитуха из Ольтарно, которую звали принимать незаконнорожденных детей, близнецов, словом тогда, когда приходилось ожидать разные неприятности. Когда я еще был бродягой, она частенько попадалась мне навстречу, когда направлялась на работу.
— Мне нельзя иметь дочку, — задыхаясь, твердила Симонетта. — Он заставит ее работать. Девочки у него годятся только для этого! Он сделает мою дочь шлюхой, как только она начнет ходить!
Ее глаза с мольбой впились в меня. Даже белки были испещрены красными звездочками.
— Говорят, ты сильный, так будь же сильным сейчас! — подхватила старуха. — Вы оба должны быть сильными. Ты знаешь, что нужно делать.
— Вы хотите, чтобы я отнес ее на улицу? — спросил я, покачав головой.
Симонетта, сидевшая с опущенной головой, услышав мои слова, резко вздернула подбородок. В глазах ее пылала беспощадная ярость. Тело сотрясли судороги, она застонала, тяжело дыша.
— Скорее! Это нужно сделать, пока не вышел послед, пока она не закричала, и тогда я скажу, что она была мертворожденная, — ответила старуха.
Она указала куда-то пальцем, и я, проследив за ее жестом, увидел на кровати Симонетты подушку.
— Нет, только не ребенка, — прошептал я, весь сжавшись в маленький комок. — Не просите меня, пожалуйста!
— Умоляю тебя, Лука! — взмолилась Симонетта. — Ты один, кому я доверяю! Мне нужно, чтобы ты сделал это!
— Пускай она сделает, — сказал я, кивая на повитуху.
— Убиение младенцев противоречит правилам моего ремесла, — возразила она с гордым достоинством. — Какими бы ни были обстоятельства, я не убиваю детей. Это закон моей профессии.
— А в моем случае это противоречит правилам шлюхи, — взбешенно ответил я.
— Я не могу допустить, чтобы она работала здесь! Ты же знаешь, как это ужасно, Лука! — молила Симонетта, произнеся мое имя с надрывом. Ее тело вновь сотрясла судорога. — Скорее, прошу, пока я не полюбила ее!
Лучше любить и чувствовать боль утраты, чем не любить вовсе, подумал я, но в тот момент понял, что милая, добрая Симонетта считала иначе. Я подошел к кровати и взял подушку. Сдерживая тошноту, я вернулся к Симонетте, и она протянула ко мне руки. Я заглянул в скользкое морщинистое личико ребенка. У девочки была вытянутая головка, закрытые глазки, крошечный беззубый ротик открылся, готовясь закричать.
— Скорее, пока не поздно! — Повитуха торопливо встряхнула меня за плечи.
Итак, судьбой мне предначертано не чистилище, а ад. Но я готов был отправиться в ад ради Симонетты. Она была так добра ко мне. И я должен отплатить ей добром. Я отдам все без остатка и сделаю все, что нужно, как советовал Марко. Я зажал подушкой лицо ребенка, приглушив его первый крик. Симонетта закричала, подавив негромкий стон. По щекам моим катились слезы, меня сотрясал беззвучный плач, но я держал подушку, пока Симонетта не кивнула. Я отступил. Повитуха склонилась над руками Симонетты и тоже кивнула мне.
— Ты сделал все как надо, — сказала она, — ты помог этой женщине, как настоящий друг.
— Избавьтесь от подушки, — предупредил я и сунул подушку повитухе. — Сильвано не дурак. Если он увидит ее, то что-нибудь заподозрит.
— Спасибо тебе, — прошептала Симонетта.
— Больше никогда не проси меня это сделать, — с горечью ответил я.
Но Симонетта уже взвыла, и повитуха склонилась над ней, так что я отвернулся. Я никогда не испытывал к себе такой ненависти, как в тот момент. Крадучись я вернулся в свою комнату, и меня не оставляла одна назойливая мысль: под какой такой проклятой звездой я родился, отчего пришел в этот мир, где мои руки по локоть в крови, а каждый день наполнен злом и пороком? Я почти испытал облегчение, когда в комнате появился очередной клиент — купец, которому нравилось меня шлепать. Порка почти успокоила мою совесть.
ГЛАВА 5
Джотто умер в 1337 году, и его оплакивала вся Флоренция. Даже те, кто знал его только понаслышке, ходили в трауре и со скорбными лицами. Его похоронили под белой мраморной плитой в Санта Марии дель Фьоре, стены которой наконец достроили. Я не участвовал в пышных публичных похоронах и не присутствовал при долгой панихиде, а пришел через несколько дней и постоял у плиты, держа за пазухой маленькую картину — Евангелиста с рыжим щенком. Я не молился, а просто вспоминал фрески Джотто. Закрыв глаза, я представлял каждую увиденную мною когда-либо картину и рассматривал ее пристально, с благоговением. Я вспоминал добродушное лицо мастера, как он любил смеяться и как его веселый нрав притягивал людей. А еще я с особым наслаждением перебирал в памяти каждую нашу беседу за эти годы. Мне помнилось каждое драгоценное слово, когда-либо произнесенное между нами. Дружба с Джотто была самым дорогим в моей жизни. Благодаря ей я почти почувствовал себя человеком, почти достойным членом общества. Она вселяла в меня надежду на обретение новых друзей, лучшую жизнь, надежду, что я сам стану лучше, а когда-нибудь у меня даже будет жена. Очень смелые мечты для человека, которому, возможно, никогда не суждено выйти из детства! Но мне отчаянно хотелось подражать Джотто, а его мысли часто обращались к семье, о которой он вспоминал одновременно с иронией и нежностью. Всего за несколько месяцев до смерти он показал мне картину, которую написал для монахинь из Сан Джорджо. Он подвел меня к картине и молча ждал моей реакции. Я взвизгнул от восхищения.
— У него мое лицо! Это же я! — воскликнул я, тыча пальцем в мальчика в углу картины — набожного наблюдателя.
— Когда узнаешь самого себя — это хорошо, щенок, — рассмеялся Джотто. — Человек, который знает себя, далеко пойдет в жизни.
— Я этого не достоин, — пробормотал я, вспомнив, чем я занимался и что меня каждый день заставляли делать. Все это не прибавляло мне благородства. Вина прилипла ко мне, как черный плащ, который никогда не снять. Я распутник, я убийца. На гениальных работах Джотто должны были жить вечно лица Ингрид и Марко.
— Конечно достоин. Уж лучше твое лицо, чем кого-то из моих детей или внуков. Наше семейство Бог не одарил красотой, в особенности меня и мою жену. — Он с притворным отчаянием закатил глаза. — Зато мы прекрасно подходим друг другу, верно? Уж не знаю, как ты подберешь себе жену, Лука. Мало найдется женщин, которые по красоте своей будут тебе под стать. Это великий дар, хотя ты его, похоже, не ценишь.
— Ваш дар выше: вы создаете красоту, — тихо ответил я, с трепетом думая о том, что такое порочное ничтожество, как я, могло подарить каплю вдохновения великому мастеру. И раз уж он сам это сказал, то жена, спутница жизни уже не казалась чем-то невообразимым и далеким.
Во время нашей последней встречи, пока мы гуляли в самом сердце Флоренции возле восьмиугольного баптистерия Святого Иоанна, облаченного в яркий наряд из светлого мрамора, Джотто процитировал мне длинный отрывок из «Рая» Данте:
Все, что умрет, и все, что не умрет, —
Лишь отблеск Мысли, коей Всемогущий
Своей Любовью бытие дает;
Затем что животворный Свет, идущий
От Светодавца и единый с ним,
Как и с Любовью, третьей с ними сущей,
Струит лучи волнением своим
На девять сущностей, как на зерцала,
И вечно остается неделим…
[428]
— Это прекрасно, но мне не понятно, — сказал я восхищенно, остановившись перед фасадом, украшенным бело-зелеными узорами. Они были выложены лучшим каррарским мрамором и зеленым серпентином, цвет которого Джотто называл «verde di Prato».[429]
— Мой старый друг восхищался этим древним строением. Раньше это был римский храм, посвященный Марсу. Это здание столь совершенно, что мы никак не можем оставить его в покое и все продолжаем совершенствовать, — сказал Джотто, с улыбкой поглаживая бороду. — Арнольфо ди Камбио[430] добавил к угловым пилястрам полосатую облицовку, и ее точные формы отлично гармонируют с поверхностью стены. — Он провел рукой по одной из полос и обернулся ко мне. — Пусть тебя не беспокоит, что ты не все понимаешь в поэзии Данте, щенок. Ты умный, поразмышляй над этим и многое откроешь для себя. В этом и прелесть его таланта. Он был образованным человеком и неплохо разбирался в сокровенном смысле богословских трактатов. Он читал Аквината,[431] а в отрывке, который я тебе процитировал, он говорит о девяти ангельских чинах и о том, что все творение в этом мире, смертное и бессмертное, есть любовь, изливаемая, подобно свету, божественным разумом. В представлении Данте Бог — это свет.
— Я слышал, как об этих вещах говорят священники: о Троице, об ангелах и все такое. Не понимаю, как три или девять могут быть одним, и не верю в ангелов. Ведь если есть сверхъестественные существа, которые хранят божественный порядок и помогают людям, то почему тогда в мире так много зла? Почему одни люди стремятся сотворить зло, а другие вынуждены совершать ужасные поступки, которые невозможно забыть и которых они себе никогда не простят, для того чтобы не допустить еще худшее зло? Это неразрешимая дилемма, потому что, не совершив греха, ты обречешь другого человека на чудовищные мучения и будешь вечно себя винить. Но, совершив непоправимое, ты обрекаешь на муки себя самого.
— Из-за этой дилеммы ты считаешь, что Бог смеется над тобой? — спросил Джотто, тихо, почти шепотом.
— Вы же сами сказали мне, что Бог смеется, помните? Тогда, на площади близ Санта Мария Новелла, когда я дрался сломанной палкой со знатными мальчишками, — со всей серьезностью напомнил я. — Тогда вы рассказали мне об индженьо! Я навсегда запомнил ваши слова и во всем стараюсь следовать вашему совету!
Седые брови Джотто взметнулись вверх.
— Так эти немудреные слова произвели на тебя большое впечатление!
— Они стали для меня живительной влагой!
— Они пали на благодатную почву, — быстро возразил Джотто.
Он загадочно посмотрел на меня, и тут я, словно прозрев, понял, что означал этот взгляд. Уважение. Я покраснел и запнулся, резко сменив тему.
— И все равно мысли Данте о свете понятны мне, — произнес я. — Мне кажется, что Богу нравится находить свое отражение в красоте и искусстве, только в них человек может приблизиться к Богу, искусство и красота сродни свету. Светом сияет мрамор на Баптистерии Святого Иоанна, так же как вы наполняете светом свои картины.
Мы не спеша двинулись от Баптистерия через площадь к колокольне Джотто, где нас окружили рабочие из Санта Марии дель Фьоре, на ходу дожевывая свой полдник. Все так любили Джотто, что радостно приветствовали его приход и наперебой угощали его, предлагая отведать твердого пахучего деревенского сыра, сладких сушеных ягод инжира или краюшку хлеба, густо намазанного зеленым оливковым маслом домашнего отжима. Джотто, который был до крайности бережлив и к концу жизни накопил порядочное состояние, никогда не тратился, чтобы купить себе поесть. Поблагодарив от всего сердца дарителей и похлопав их по спине, он принял предложенное подношение.
Каменщик сунул ему в руку буханку, и он с серьезным выражением лица повернулся ко мне.
— Дилеммы, Божье чувство юмора, искусство как путь к Богу… Интересные идеи ты преподносишь! — Он покачал головой и, отломив кусок хлеба, протянул мне. — Постарайся держать их при себе, щенок! Человека с такими воззрениями могут заметить и начнут преследовать. Хорошо, что ты понемногу начал расти и уже не так сильно отличаешься ото всех, хотя люди все равно обратят внимание на твой необычный вид. Не хотел бы я, чтобы о тебе пошли разговоры.
Я наконец-то немного подрос и стал выглядеть чуть старше, как мальчик десяти-одиннадцати лет. Мое тело не повзрослело под мои года, но даже небольшая перемена успокоила мой страх остаться уродом, потому что втайне я боялся, что это мне наказание за грехи. Я не мог отделаться от чувства вины за смерть Марко, Ингрид и ребенка Симонетты и считал, что заслужил за это кару. Поэтому я обрадовался, когда Джотто отметил во мне перемену. Сейчас, у его могилы, я вспомнил, как довольный румянец прилил тогда к моим щекам, и я вслух произнес слова из поэмы его друга. Я надеялся, что теперь они оба в раю и вместе смеются и шутят, как любил Джотто. Я по-прежнему не верил в Троицу и ангельские чины. Но если Бог — это свет, то он должен быть доволен тем, как его изобразил Джотто на своих картинах. За одно это Джотто должны были сразу принять на небеса.
Несколько месяцев спустя, после сбора урожая, когда на столы подали мелкие винные ягоды второго урожая и город остывал от лета, Симонетта наконец родила хозяину сына. В честь такого праздника Сильвано освободил всех от работы на несколько дней. Он вызвал священника, часто посещавшего его заведение, и тот окрестил младенца. Это послужило еще одним доказательством, что щедрые церковные пожертвования могут купить что угодно, даже торжественные крестины незаконнорожденного сына убийцы и владельца борделя. Мальчика назвали Николо, и уже с пеленок в нем отчетливо обозначились черты его отца. У него был узкий выдающийся подбородок и крошечный острый носик. После крещения Сильвано устроил во дворце пир, созвав на него очень странное сборище: кондотьеров, владельца другого борделя, купцов, у которых он покупал предметы роскоши для украшения своего палаццо, двух банкиров, которые ведали его доходом, ростовщика, которого презирала вся остальная Флоренция, аптекаря, что приносил Сильвано лекарства, и коробейника с помощником, и даже нескольких аристократов — больших ценителей товара, который поставлял Сильвано. Все они напились контрабандным вином, которое Сильвано незаконно привез из Лукки, и начали гоняться за кучкой маленьких девочек, для которых это торжество не стало ни праздником, ни отдыхом от работы.
Симонетта сильно ослабла после трудных родов, и Сильвано был так доволен ею, что разрешил удалиться в свою каморку в жилом крыле дворца. На замену ей он привел другую. Эта девушка была чужестранкой — замкнутая, полноватая, с высокими скулами и косыми глазами. Она мало говорила на нашем языке, да и то плохо, и мне она не нравилась. Если Симонетта объясняла, что нужно, тихим словом или жестом, эта действовала тычками. И все же я был рад за Симонетту. Она перестала работать в заведении и осталась цела и невредима. Время от времени я прокрадывался к ней в комнату навестить ее, хотя нам строго запрещалось приходить в частное крыло. Я доверял своим чувствам, которые предупреждали меня о приближении Сильвано. Эти чувства со временем обострились, и мне редко доставались побои. Каким-то образом я всегда знал, где во дворце в этот момент находится Сильвано. Со временем я даже стал чувствовать, в какой части города он находится. Стоило мненемного подождать в неподвижности, отогнав от себя все мысли, и в голове всплывал образ, подобно тому как в реке при затишье проступает на глади воды отражение. Я мысленно видел площадь или лавку, рынок или дворец и точно знал, что Сильвано там. Мой страх словно связывал меня с ним такой неразрывной связью, что я всегда чувствовал его, куда бы он ни удалялся.
А годы шли. Работа оставалась прежней, но я словно стал к ней нечувствителен, подобно тому как был нечувствителен к ходу времени. Я никогда не болел и не уставал, как многие другие дети. Я был неестественно юн и здоров, испытывал недомогание только от сильных побоев, но даже после них я быстро поправлялся. Однажды меня сильно избили на улице. Это произошло в разгар банковских банкротств, когда рухнул лондонский филиал компании «Барди и Перуцци» и ряд других маленьких банков, из-за чего многим купцам и производителям шерсти пришлось прикрыть свое дело. Положение усугубилось неурожаем в Тоскане. Флорентийцы ходили хмурые, злые и напуганные. Дела у всех шли скверно, за исключением Сильвано — его дело, как и всегда, процветало. Как-то я отправился в церковь Оньисанти[432] на берегу Арно, чтобы взглянуть на алтарь. Там была изображена чудесная Мадонна с младенцем работы Джотто. Дивная Мадонна с круглой головкой и стройной шеей, пышнотелая, в синих струящихся одеждах, дышала глубокой, почти физически ощутимой одухотворенностью, а младенец Иисус с поднятой для благословения ручкой одновременно олицетворял собой нежность и печаль, величие, открытость и милосердие. Джотто изобразил на картине такие цвета одежд, какие носили во Флоренции, и потому Мадонна казалась особенно родной и знакомой. На нее с кротким умилением смотрели ангелы — истинные свидетели священного величия. Я, спотыкаясь, вышел из церкви, словно сердце мое пронзили стрелой, — столь сильное впечатление производил на меня талант Джотто. Я шел не разбирая дороги и налетел на прохожего. Он сердито зарычал и оттолкнул меня в сторону.
— Mi scusi, signore,[433] — пробормотал я, а потом узнал в нем одного из давнишних клиентов, купца, который торговал китайским шелком.
— Стой! Я тебя знаю! — рявкнул он.
Это был сухопарый сутуловатый мужчина. Его черные волосы очень поседели с тех пор, как он перестал наведываться к Сильвано. Он сощурил на меня свои голубые глаза.
— Ты все еще служишь у Сильвано?
Я ничего не ответил и весь напрягся. Он продолжил:
— Сколько ж лет прошло, десять? Но ты же почти не вырос! Сейчас ты бы должен быть взрослым мужчиной, и Бернардо Сильвано уже давно должен был тебя выгнать!
— Вы с кем-то путаете меня, синьор, — заикаясь, пролепетал я и попытался прошмыгнуть мимо.
— Погоди-ка! — крикнул он и схватил меня за руку.
Мы уже начали привлекать внимание людей, который шли по берегу Арно к Понте Каррайя.
— Ты точно такой же, как тогда, разве это возможно? Ты нисколько не вырос! Вот это чудеса. Что-то здесь нечисто, ты все еще ребенок. Неужто ты колдун? Да, точно, колдун!
Вокруг нас собиралась толпа, а я никак не мог вырваться из его лап.
— Вы меня с кем-то путаете! — снова выдавил я, уже отчаяннее.
Я оглянулся вокруг, но видел только удивленные и злые лица. В животе шевельнулся страх. Мое уродство привлекало внимание, а ведь я именно этого всегда и боялся. Я озирался в поисках спасительной лазейки.
— Это правда, он — Лука Бастардо из заведения Сильвано, и за десять лет нисколько не изменился! — раздался еще один голос, и я узнал в говорившем ткача, который, бывало, месяцами копил деньги, чтобы хватило на визит к Сильвано. Этот ткач талдычил мне о своей нищете прямо перед тем, как сорвать с меня одежду, как будто мне было до этого дело. Я вгляделся в толпу и увидел, что ткач тоже поседел.
— Колдун! Колдун! — кричало уже несколько голосов.
— Из-за его колдовства Флоренция обеднела! — завопил чей-то взволнованный голос. — Черная магия разорила наши банки!
— Черная магия обесценила нашу шерсть!
— Черная магия погубила наш урожай!
— Мы голодаем и пошли по миру из-за этих колдунов!
Толпа напирала, подступая все ближе. Люди кричали, и вдруг на меня посыпались первые удары, меня хватали и рвали на мне одежду. Я даже не пытался защититься. Я уже привык к побоям, и в душе я был отчасти согласен, что заслужил это своими поступками. А еще я знал, что на моем теле все заживает, — это было частью моего уродства, на которую я мог положиться. Одним словом, лучше уж не сопротивляться! Толпе скоро наскучит эта забава, а я как-нибудь уползу и через несколько дней или недель буду опять как новенький. Пока я размышлял таким образом, мне расквасили нос и разорвали в клочья одежду. Вид крови только подстрекнул толпу, и тяжелые кулаки загуляли по всему моему телу. Обвинения и брань звучали все громче и злее. Меня сбили с ног, а затем схватили за руки и за ноги и поволокли. Меня швырнули наземь на площади Оньисанти, выходящей на берег Арно, люди уже собирали в кучу дрова и хворост.
— Сжечь его! Сжечь колдуна! — слышались вопли.
Толпа вокруг меня набегала и отбегала волнами: одни бежали готовить костер, другие протискивались поглазеть на меня. Я лежал на боку, поджав к животу колени и закрыв голову руками. Зажмурившись, я мысленно вновь отправился к Мадонне из церкви Оньисанти. Я упал в объятия ангелов, которые созерцали Мадонну, и услышал их пение: «Мадонна! Мадонна!»
— Audi partem alteram! — раздался вдруг энергичный голос. — Выслушай другую сторону![434]
Толпа притихла, но я лишь смутно уловил эту тишину, потому что был поглощен своим путешествием. Я остановился в полете перед прекрасной Мадонной Джотто, ее сильным, благодатным телом и мирно сидящим у нее на руках младенцем Иисусом. «Какое наслаждение — слышать ангельский хор: „Мадонна, Мадонна…“», — пел кто-то. А потом я понял, что это пою я, и открыл глаза. Рядом стоял очень высокий мужчина, лет тридцати пяти, не смуглый и очень приятной наружности. Он жестом приказал мне сесть. Медленно, превозмогая боль, я заставил тело подняться и сел на колени. По толпе пронесся угрожающий ропот.
— Когда мы живем добропорядочной жизнью, то переживаем хорошие времена. Каковы мы — такова и жизнь, — уверенно произнес он и окинул меня горячим, проницательным взором, а затем обратился к тем, кто столпился вокруг. — Так говорил сам Святой Августин.[435] Прислушивайтесь к великим голосам прошлого и учитесь у них! Оттого что вы убьете этого мальчика, цена на вашу шерсть не поднимется, банки не окрепнут, а урожай не приумножится!
— Бог будет доволен, если мы казним этого колдуна! — в ответ заорал какой-то мужчина. — А коли Бог будет доволен, то к нам придет благоденствие!
— Верно, верно! — подхватила толпа.
— Нет! — крикнул незнакомец. — Наведите порядок в своей душе, умерьте свои потребности, помогайте нуждающимся, живите в христианском согласии, соблюдайте закон, положитесь на Провидение — вот что вы должны делать! Тогда дела вашего города поправятся и он снова станет сильным!
— Он прав! И хватит вам, перестаньте! — раздался властный и суровый голос, и я понял, что на площади появился Сильвано.
Он прошел сквозь толпу, которая шарахнулась от него в стороны, как от ядовитой змеи. Как же горько мне стало, когда я понял, что обрадовался его приходу!
На мгновение наступила тишина, и я шепнул высокому незнакомцу:
— Спасибо! Вы так добры, что вступились за меня!
— Выполнение долга не требует похвалы, ведь мы делаем лишь то, что обязаны сделать, — прошептал он в ответ, обратив живой и горячий взгляд на Сильвано.
Тот вновь заговорил:
— Синьор Петрарка почтил наш город своим посещением, и сейчас он, как всегда, прав. Убив этого негодяя, вы не вернете своих денег, — говорил Сильвано, как обычно криво ухмыляясь. — Возвращайтесь к своей работе! Ваш труд возвеличил Флоренцию, и он же вернет ей величие!
Кто-то засвистел, другие неодобрительно заворчали, но толпа разошлась. А Сильвано решительно подошел ко мне и поклонился, приветствуя моего заступника.
— Я читал ваши стихи, синьор. Меня необыкновенно тронули нежные чувства безответной любви, которые вы так блестяще выражаете!
— Я рад, что мои скромные строки взволновали вас, — вежливо ответил тот.
— Правду ли говорят, что вас приглашали в Рим и в Париж, чтобы увенчать вас лавровым венцом за поэтический талант? — спросил Сильвано льстивым голоском.
— Вы хорошо осведомлены, синьор, — ответил Петрарка и отвернулся.
Он не выказывал отвращения, но я могу поклясться, что чувствовал его.
— Я как раз на пути в Рим, чтобы смиренно принять уготованные мне почести.
— В моем деле осведомленность необходима, — лукаво ответил Сильвано. — Все только и говорят, что о ваших творениях. Вы оказали бы мне огромную честь, посетив мое убогое заведение.
Он жестом приказал сопровождавшим его кондотьерам схватить меня. Они рывком поставили меня на ноги и выставили на обозрение. От унижения я покраснел, и это было видно, несмотря на кровоподтеки. А Сильвано продолжал:
— У меня можно удовлетворить самый изысканный вкус. Даже если обычно ваши пристрастия несколько иные…
— У меня есть близкая мне женщина и сын, — сухо ответил Петрарка. — А моя главная цель — воздерживаться от плотских грехов.
— Как благородно с вашей стороны! — проворковал Сильвано и махнул кондотьерам, чтобы те меня увели.
Петрарка пожал плечами и провел себе рукой по лицу, провожая меня взглядом. Наши глаза встретились, и он спокойно кивнул. Колени у меня до сих пор подгибались и ноги подкашивались на ходу, так что один из кондотьеров взвалил меня себе на плечо. Сильвано подошел взглянуть на меня.
— Повезло тебе, что ты у меня под крылышком, Бастардо! Иначе кто бы пришел тебе на выручку? Этот жеманный стихоплет вряд ли отговорил бы толпу от хорошего костерка. С удовольствием бы послушал, как бы ты орал, пожираемый пламенем. — В его глазах сверкнул веселый огонек. — Благодари меня! — Поглядев на мой нос и разбитое лицо, он недовольно поморщился. — Хоть ты и побитый, но работать можешь.
И я, побитый, работал как миленький.
Я пережил нападение толпы, как пережил и все остальное, что выпало на мою долю за долгую жизнь. По крайней мере то, что выпало телу. В последнюю часть моей жизни мне, правда, выпало понести другие утраты, более глубокие, которых я не могу да и не хочу пережить. Они привели меня к этому предсмертному мгновению, в эту тесную каменную келью. Но в те давние времена я втайне гордился своей выносливостью и стойкостью. Другим детям не дано было такой живучести. Они то и дело умирали или их убивали, а на смену им приходили другие. Старые клиенты теряли аппетит — с возрастом, от болезней или капризов, но приходили новые, и лица вокруг меня постоянно менялись. Все, кроме моего. Я рос, но очень медленно, и к тому времени, к двадцати семи годам, я выглядел лет на тринадцать, тогда как должен был уже превратиться во взрослого мужчину. Одиннадцатилетний Николо, сын Сильвано, и то выглядел взрослее меня, к превеликой радости отца. Николо был того же роста, такой же худощавый, как отец, но у него уже был огрубевший голос, темный пушок на щеках и красные прыщи на лице. Я довольствовался еле заметным пушком над губой, но это уже лучше, чем ничего. А Симонетта улыбалась и звала меня porcino — «поросенок». Волосы ее давно побелели, на лице вокруг родимого пятна проступили морщины. Но это была та же тихая, добрая женщина, какую я знал уже почти двадцать лет. Ей как-то удалось убедить Сильвано отдать Марию ей в служанки, а за детьми теперь ухаживала другая, нездешняя и сварливая девушка.
Примерно в это время, как-то весной, когда меня по очередной злостной прихоти Сильвано вот уже несколько месяцев не выпускали из дворца, дела Сильвано сильно пошатнулись. Новость о чуме я узнал от одного из клиентов. Это был сушильщик шерсти, который вел прибыльное дело и держал несколько лавочек в более приличных северных окраинах города. В центре города богатые купцы и вельможи брали высокую плату за помещение, поэтому красильные и обрабатывающие мастерские располагались в самых дремучих трущобах Ольтарно, на южном берегу Арно. Этот красильщик, уважая себя, обосновался в районе получше. Люди вроде него всегда воображают, что я должен чувствовать себя польщенным, если они обратили на меня внимание. Этот приказал мне раздеться, прежде чем снизошел прикоснуться ко мне. Обычно он так не делал. Я подчинился, и он рявкнул, чтобы я медленно поворачивался перед ним.
— Бубонов нет… — пробормотал он. — Подними руки над головой!
Я поднял, и он кивнул.
— Набуханий тоже… Хорошо… Сделай глубокий вдох, мальчик, покашляй и сплюнь на пол.
Я сделал, как он просил, хотя раньше ничего подобного от меня не требовали. Не то чтобы это меня смутило. За восемнадцать лет необычные просьбы стали нормой. У людей и правда возникают странные и извращенные желания. Если человек — создание Бога, то тогда интересно, что за божество породило такие капризы. Ведь правда, вспоминая, о чем просили меня другие мужчины, я почти не чувствую вины за смерть Марко, и Ингрид, и ребенка Симонетты. Ведь все, что я делал, делалось для них, а не по моему желанию. Я старательно кашлянул, набрал в рот слюны и выплюнул. Красильщик склонился над плевком и принялся рассматривать, не касаясь руками.
— Крови нет, — с облегчением заключил он. — Все в порядке.
Ну а остальное прошло как обычно.
Потом новенькая из нездешних женщин пришла меня обмыть. Я так и не спросил ее имя: мне она не нравилась. Она была бледная, костлявая и неприветливая, говорила грубым, монотонным голосом, пихала и толкала меня, чтобы я ей подчинялся. Даже еду она приносила крошечными порциями и бранилась, если я просил еще, пока однажды я не высказался при ней, что Сильвано, наверное, накажет кого-то за отощавших работников. На это девушка сжала тонкие губы и убежала. С тех пор она всегда кормила меня досыта. А еще я дал ей понять, что Сильвано нравятся здоровые, пухленькие детки — на случай, если другие тоже недоедали по ее вине. Этим я мог хоть как-то помочь другим детям. А сегодня я прямо посмотрел ей в глаза и спросил:
— Скажи, женщина, в городе повальная болезнь?
Девушка вздрогнула.
— По соседству ходит поветрие, Бастардо. Оно уже дошло до окраин Флоренции. Люди напуганы. Они сидят по домам и даже бегут из города!
— Что за болезнь?
— Ее называют «черной смертью»,[436] — прошептала она. — Начинается страшная лихорадка, потом человек кашляет кровью, а на третий день умирает. Некоторые перед смертью покрываются черными нарывами — бубонами. Говорят, в странах на Востоке половина народа погибла! Иногда восемь человек из десяти!
— Восемь лет назад было поветрие, но многие выжили, — вспомнил я.
Она отрицательно мотнула головой.
— Сейчас все иначе. Эта болезнь убивает каждого, кто захворает. Каждого!
В следующем месяце, когда весна плавно перешла в лето, Сильвано вызвал меня в столовую, где они с Николо играли в кости.
— Я научу тебя толково играть, сын! — сказал он и наградил мальчика оплеухой.
Я как раз вошел в дверь. Увидев, что это случилось у меня на глазах, Николо покраснел и потупил глаза. Сильвано следил, чтобы сын не встречался с работниками, так что мы с Николо редко перебрасывались парой слов. Но при виде друг друга мы оба ощетинивались. Я видел ненависть в его глазах-бусинках, таких же как у отца, и решил избегать его.
От резкого вскрика я аж подпрыгнул. В углу комнаты в позолоченной клетке сидела птица с яркими пышными перьями. Я разинул рот.
— Ты знаешь, что это за птица, ублюдок? — спросил Сильвано.
— Откуда ж ему знать, папа, это же невежественная шваль, — вставил Николо.
— Это птица, — ответил я, напрягшись всем телом.
— Это не какая-нибудь там птица, — возразил Сильвано, подошел к клетке и вытащил птицу, посадил на палец и ласково поворковал с ней, погладил красную голову и зеленые перья. — Этот красавчик — птица особенная, я буду выставлять ее на всеобщее обозрение по праздникам, когда сюда пожалует много клиентов. Это очень редкая птица с Дальнего Востока. Я купил ее у торговца, чтобы прибавить славы и блеска этому славному заведению! Такой нет ни у кого во Флоренции, торговец мне жизнью клялся! — С довольным видом он вернул птицу в золотую клетку и обратился ко мне: — Бастардо, ты сегодня пойдешь в город.
— Может, сначала побьешь его для верности, чтобы уж точно вернулся? — с ухмылкой предложил Николо, поправляя разрезы на широких рукавах своей алой туники, чтобы из-под нее виднелся синий шелковый жилет.
Эту богато расшитую дорогую тунику вместе с сорочкой мог бы носить какой-нибудь важный сановник. Я потупил взгляд. Старинная флорентийская поговорка гласит, что «по одежде и цвету видно порядочного человека», но это неправда. Как бы хорошо ни одевался Николо, он всегда останется внебрачным сыном держателя борделя, а по сути — омерзительной крысой в человеческом обличье.
Сильвано засмеялся и почесал бороду, которая поседела почти до белизны.
— У меня на него другие планы. Он должен собрать информацию.
— Хотите узнать о новом моровом поветрии? — догадался я.
— Купец, что продал мне это чудо, говорит, оно уже косит народ в городе. Я и от других слыхал о чуме. И слыхал достаточно, чтобы не высовывать носа на улицу и повнимательнее присматриваться к приходящим клиентам. А знать я хочу, правду ли говорит купец? Стоит ли верить слухам? Добрался ли мор и до Флоренции? Неужто и впрямь люди мрут как мухи? Уличные подонки вроде тебя всегда находят уловки, чтобы выяснить наверняка. Ты же ловкий проныра по части подглядывания и вынюхивания, не так ли, Бастардо? Это твое врожденное свойство, как и вечная молодость. — Он поднялся, не дожидаясь ответа. — Иди! Загляни туда, где есть больные. Разузнай, правда ли, что их смерть быстра и ужасна.
Он скосил на меня глаза, и я заметил, как они померкли, затянутые белесой пленкой. Меня это поразило, потому что в моих глазах Сильвано оставался все тем же безжалостным злодеем, которого я повстречал на рынке много лет назад. А теперь я с удивлением понял, что старость не только выбелила его бороду. Его лицо осунулось и пошло морщинами, голова облысела, и розовая кожа на ней блестела, как тонзура, в окружении белого венчика седых волос. Прикусив губу, я пристально разглядывал брошенные на стол игральные кости. Сильвано не понравится, если он поймет, что я заметил в нем слабину.
— Не бойся, черная смерть тебе не грозит, — хихикнул Сильвано, приняв мое удивленное выражение лица за испуг. — Тебя же ни одна хворь не берет. Ты самый крепкий здоровяк, каких я только знаю. Ты даже триппера от клиентов ни разу не подхватил, а ведь мне приходится каждый месяц списывать по шлюхе из-за этой болезни.
— Но это же странно, тебе не кажется, отец? Он почти не взрослеет и никогда не болеет, — заныл Николо. — Это ненормально. Какая-то черная магия. Может, не стоит держать его во дворце? А вдруг эта магия перекинется на нас и наведет порчу? Может, лучше убить его и сбросить в реку? — Николо глумливо ухмыльнулся в мою сторону. — Давненько мы не забавлялись.
— Чепуха, сынок, он еще пригодится, да и клиенты его жалуют. — Сильвано ласково улыбнулся Николо. — Я на нем неплохо зарабатываю и не привык бросаться деньгами.
Он склонился над Николо и потрепал его по волосам. Я заметил, что его рука вся испещрена коричневыми старческими пятнами.
— Если хочешь позабавиться, — добавил Сильвано, — бери новенького испанчика, он какой-то задохлик, им все клиенты недовольны. От него никакого проку.
Он встал и жестом позвал сына за собой. Я вжался в стену, уступая им дорогу.
— Нет, правда, этот ублюдок чересчур зазнался, меня он раздражает, — заныл Николо, остановившись передо мной.
Он вскинул голову и, задрав острое лезвие носа, смерил меня презрительным взглядом.
— Хочешь — побей его, но не сильно, а то он не сможет выйти на улицу, — сказал Сильвано уже в коридоре.
Николо так и просиял. Еще не понимая, что делаю, я шагнул ему навстречу. Шажок был маленький, может, в ширину ладони, но в тот же миг сила, словно речная волна, подгоняемая могучим течением, прилила к рукам, на груди и в плечах от прихлынувшей крови заиграли мускулы. Я смело встретил его взгляд, я весь подобрался, стал холодным и жестким. Собрать в себе силы — очень тонкое искусство. Я научился этому, сталкиваясь на улице с злобными собаками — стоит показать слабость, они непременно набросятся на тебя, но против человека я еще ни разу не пользовался этим приемом. Возможно, виноват был страх, вызванный мыслями о врожденном уродстве, постоянная униженность от подлого ремесла и ужас от всего, что я сделал с Марко, Ингрид и ребенком Симонетты. Сила не для таких ничтожеств, как я. Но сегодня, уловив слабину в Сильвано, я не захотел поддаваться и терпеть побои от его сына. Николо побледнел и, торопливо отступив назад, ринулся вслед за отцом. Глубокий вздох, еще один — и вот я снова спокойный тихий мальчик. Сам себе удивился. Может быть, потом я и дорого за это заплачу, когда Николо уговорит Сильвано меня побить. Но сейчас я был готов защищаться. Тогда я еще не знал, что меня больше никто не побьет в последующие сто с лишним лет и от руки моей на обоих Сильвано обрушится страшная месть.
Я не стал тратить время, схватил плащ и тотчас же покинул дворец. Иногда, перед наступлением летней жары, когда солнце печет и долина Арно греется в его лучах, в мае некоторое время стоят прохладные дни. За недолгую прогулку я встретил на улице мало людей. Двери повсюду были заперты на засов, окна прикрыты ставнями. Закрылись мастерские и лавки, даже таверны. Флоренция была городом высоких башен, но не таких высоких, как в прошлом, когда их высота достигала более ста двадцати браччо.[437] Власти города решили ограничить высоту частных домов для лучшей безопасности жителей, но здания все равно производили внушительное впечатление. Теперь же в башнях были наглухо закрыты двери, а в окнах не горел свет. На аскетическом Палаццо дель Приори[438] неумолчно звучал скорбный набат. Люди, забившись в дома, варились в собственном страхе, который бурлил в них, как кипящая вода в закрытом котелке. На улицах было необычайно тихо, не считая цокота копыт: то уезжали нагруженные повозки и телеги. В воздухе стоял скверный гнилостный запах. Вскоре я увидел его источник. Тут и там валялись брошенные без разбору трупы. Над ними роились черные мухи, с карканьем кружили крупные вороны. По улицам сновали крысы, но не трогали распухших трупов. На вид это были в основном бедные красильщики шерсти в рабочей одежде. Попадались и дети — маленькие тельца, сваленные по двое, по трое. Крошечные черные руки спутались вместе. Город превратился в сплошной склеп.
Один труп выглядел немного иначе. Я робко приблизился к нему и увидел молодую девушку со сложенными на груди руками, как будто она умерла за молитвой. Среди остальных ее выделяла дорогая одежда: роскошное парчовое платье, расшитое золотыми нитями. Ее нежные щеки и шею покрывали черные пятна. А потом я увидел, что под платьем у нее большой живот, и понял, что она, должно быть, носила ребенка. Чума погубила и мать и дитя.
— Ужасная эпидемия, а ведь это еще только начало, — произнес серьезный голос, отмеченный южным акцентом.
Я обернулся и увидел худого темноволосого мужчину, в лице которого, несмотря на неаполитанскую интонацию, проглядывали черты франка.
— Вы думаете, все будет еще хуже? — спросил я, и он кивнул.
— Берегись, не подходи близко, — предупредил он, кивнув в сторону мертвой женщины. — Зараза в один миг переходит от мертвого к живому, от больного к здоровому.
И он зашагал прочь по улице. Редкие прохожие спешили, съежившись, каждый сам по себе, бросая друг на друга подозрительные взгляды. Никто не хотел ни к кому приближаться. Я затрусил следом за своим собеседником и скоро нагнал его, хотя, как правило, старался не подходить близко к другим горожанам. Этот человек заслуживал почтительного внимания. Наверное, решающий поединок с Николо вселил в меня мужество.
— А лекари разве не могут вылечить это? — громко спросил я.
Мужчина обернулся и улыбнулся уголком рта.
— Кажется, я тебя где-то прежде видел? — вместо ответа спросил он.
— Видели, если вы посещаете заведение Бернардо Сильвано.
— Нет-нет, я предпочитаю забавляться бесплатно, — пробормотал он. — Даже женщины глупы и недалеки, зачем же еще обращаться к обществу детей! Должно быть, мы встречались где-то еще.
— На рынке? — предположил я.
Он прищурил свои живые глаза, внимательно всматриваясь в мое лицо, а потом улыбнулся.
— Ты похож на мальчика с картины в аббатстве Сан Джорджо, — вспомнил он. — Но тот мальчик года на два-три младше тебя. Однако ты и впрямь вылитый он, словно его повзрослевший близнец.
Я так и зарделся от радости.
— Так вы знаете славные работы мастера Джотто!
— Как и ты, очевидно, хотя я не ожидал такого от подопечных Сильвано, — ответил он.
Мы остановились, когда из окна впереди вылетели на дорогу какие-то лохмотья. Хлопнули ставни, и лохмотья приземлились на мостовой всего в двух шагах от нас. Я уже хотел было подойти и посмотреть, но мой спутник вовремя удержал меня за плечо.
— Они наверняка принадлежали какому-нибудь бедняге, скончавшемуся от чумы, одежда мертвых заразна, — предостерег он меня. — Люди стараются избавиться от всего, к чему прикасался умерший.
Две тощие свиньи подбежали к лохмотьям, схватили их зубами и по-свинячьи затрясли добычу. Мы молча наблюдали, как они с хрюканьем и фырканьем расправляются с тряпьем.
— Отвечая на твой первый вопрос, — продолжал мой новый знакомец, — скажу «нет». Доктора не могут это вылечить. Либо природа болезни такова, что она неизлечима, либо лекари по своему невежеству ничего о ней не знают и не находят причину болезни, а потому не могут прописать должное средство.
— А правда, что она пришла с Востока? — спросил я.
— Правда, но по пути изменилась. На востоке у больных кровь шла носом, а потом они умирали. А теперь первые признаки — припухлости в паху и подмышках, которые вырастают до размера яблока или яйца. — Он глянул на меня. — Держись подальше от клиентов с такими припухлостями.
Он говорил со знанием дела, но без осуждения или упрека. Я пожал плечами.
— Если я смогу позволить себе такую роскошь.
Он покачал головой и нахмурился.
— Эх, Сильвано, старый паразит! Не понимаю, как только власти ему позволяют продолжать его деятельность. Не вижу нужды в таких омерзительных заведениях. Коли уж на то пошло, мужчина с неутоленными желаниями может найти чужую жену, чтобы удовлетворить свою потребность. Женщины — существа пустоголовые, как куклы. Их легко соблазнить.
— Среди отцов города тоже есть клиенты Сильвано.
На худом лице моего собеседника, словно вспышка молнии, мелькнуло грозное выражение.
— Иногда мне кажется, что эта чума послана Богом, которого мы прогневали, творя зло и беззаконие. Во Флоренции процветает грех, как, впрочем, и повсюду. Этот мор не могла принести какая-то злая планида. Сильвано заслуживает Божьей кары, и будет только справедливо, если он погибнет от чумы ужасной смертью!
— Вы говорите как служитель Божий, хотя совсем не похожи на священника, — заметил я.
На нем была простая, но хорошая одежда из добротной ткани (как с первого взгляда видно каждому флорентийцу): темный шерстяной плащ поверх узкой хлопковой туники, обычные, но хорошо скроенные черные штаны. На голове у него не было мягкой фоджетты, которую носили люди низших слоев, но не носил он и одежду темно-красного цвета, положенную служащему магистрата. Да и на купца не был похож — слишком уж отрешенное было у него лицо.
— Я поэт, хотя мой отец хотел, чтобы я пошел в юристы или завел свое дело, — улыбнулся он.
— Поэт? Как Данте? — переспросил я и, воспользовавшись своим даром подражания, повторил услышанные от Джотто слова:
Все, что умрет, и все, что не умрет, —
Лишь отблеск Мысли, коей Всемогущий
Своей Любовью бытие дает;
Затем что животворный Свет, идущий
От Светодавца и единый с ним,
Как и с Любовью, третьей с ними сущей,
Струит лучи волнением своим
На девять сущностей, как на зерцала,
И вечно остается неделим…
Он резко вскинул густые черные брови.
— Джотто, Данте! Неужели Сильвано открыл у себя школу?
Я рассмеялся в ответ. Мужчина показал куда-то пальцем.
— Смотри!
Я проследил за ним взглядом и увидел свиней, которые бились в судорогах, визжали, захлебываясь пеной и закатив глаза на изможденных мордах. Всего несколько минут — и оба животных остались лежать бездыханными трупами.
— От одежды умершего… — поразился мужчина. — Животные сдохли за считанные минуты от лохмотьев покойника!
Он потянул меня за руку дальше, обойдя стороной околевших животных. Когда мы проходили мимо богато украшенного дворца, из дверей, шатаясь, вышел человек с ребенком на руках. Дитя не шевелилось, безвольно повиснув в его объятиях. Мужчина покачнулся, голова мальчика повернулась лицом к нам, оно было покрыто черными нарывами. Мужчина приподнял свою голову — оно тоже было покрыто пятнами. На губах блестела кровавая слюна. Он измученно поглядел на нас и со стоном упал ничком на мостовую. Скоро и он замер. Отец и сын, мертвые, лежали у самых наших ног. Из дворца неслись вопли и стенания, но никто не выбежал на улицу, даже слуга. И снова поэт увлек меня за собой, мы постарались подальше обойти мертвых.
— А их кто-нибудь похоронит? — спросил я, оглянувшись через плечо.
— Да, но не родня. Мертвых слишком много, число их растет с каждым днем. Из страха подхватить чуму от умерших родственники перестали хоронить своих близких. Городские власти наняли беккини[439] — могильщиков для бедняков и людей среднего достатка. Могильщики собирают трупы по утрам. А богачи, как всегда, заботятся о себе сами. Они платят беккини за то, чтобы те отвозили тела умерших родственников в ближайшую церковь на похоронных носилках. Там над ними читают молитвы. Священники не хотят приближаться к мертвым. Цивилизованную заупокойную службу сократили до предела. Скоро, пожалуй, этот обычай и вовсе отменят. — Он обвел взглядом опустевшую улицу и, вздрогнув как от озноба, плотнее закутался в черный плащ. — Некоторые предались дикому разврату, между тем как другие соблюдают строжайшее воздержание и постятся. Эта чума уничтожит все привычные законы и обычаи.
— Трудно не заразиться, если болезнь передается через одежду и ее переносят животные, — заметил я. — Значит, умрет много людей: и развратников, и аскетов.
— Что верно, то верно, — согласился мой спутник.
Мимо нас промчалась карета с задернутыми занавесками. Пара гнедых лошадей пронеслась на полном скаку. Мой провожатый кивнул в их сторону.
— Они правильно делают, что уезжают.
— Разве чума не настигнет их в деревне? — с сомнением спросил я.
— Возможно. Но там у них есть надежда не заболеть, — сказал он. — Я и сам собираюсь уехать из города.
— Мне бы тоже хотелось, — задумчиво произнес я. — Покинуть город, уйти навсегда из заведения Сильвано. Оно, по-своему, не лучше чумы.
— Я слышал рассказы об убитых и искалеченных детях, — кивнул поэт. — Говорят, Сильвано убивает тех, кто пытается сбежать.
— Кто бы иначе пожелал там оставаться?
— Не знаю, — согласился он. — Может быть, проститутки идут в бордели, чтобы спастись от нищеты на улице?
— К Сильвано никто не идет за спасением. По сравнению с этим улицы — рай, — возразил я, не сдержав горечи в голосе.
Он положил мне руку на плечо и крепко сжал его.
— Ты так настрадался! Быть может, Сильвано скоро умрет, от чумы или от старости, и ты будешь свободен.
Взгляд его был полон сочувствия. Я пожал плечами. Сильвано состарился, но я не тешил себя надеждами, что его скоро не станет. К тому же на долю Марко выпали еще большие страдания, а если бы не я, то та же участь постигла бы голубоглазую Ингрид. Мои невзгоды ничтожны по сравнению с этим. Моя судьба по сравнению с их жизнью была терпимой.
Мужчина спросил:
— Ну а если бы для тебя нашлось прибежище от чумы, куда бы ты пошел? Что бы стал делать?
— Это только мечты, — улыбнулся я. — Я себя этим не тешу.
— Мечты иногда похожи на сильный ветер. Они распахивают двери разума, и перед тобой возникает совершенно новый мир, все предстает в новом свете. Мечты помогают в тяжелые времена, когда фортуна обходит тебя своими щедротами, осыпая одними невзгодами. Мечты даже могут подсказать иногда хороший совет, если у тебя есть уши, чтобы его услышать. Так что это не просто приятное развлечение. Ты не можешь не мечтать.
Я удивленно таращился на поэта: ведь мне никогда не приходило это в голову. Я привык мыслить прямолинейно и сейчас впервые услышал, что воображение может приносить утешение. Когда ко мне приходили клиенты, я уносился к фрескам Джотто, как мне представлялось, по-настоящему.
По крайней мере, так я считал. И яркость этих переживаний была так убедительна, что я и сейчас, в ожидании своего палача, верю — то были не просто мечты. Грань между реальным и нереальным иногда нарушается, позволяя им смешаться, точно жидкостям в колбе алхимика. И за свою долгую жизнь мне не раз доводилось окунаться в эту смесь. Само мое тело, которому почти двести лет, тому доказательство.
А в тот давно минувший день мной владело лишь одно желание: сказать приятное доброму и словоохотливому поэту, который шел рядом со мной. И, глубоко вздохнув, я сказал:
— Если бы я мог, то ушел бы на холмы, чтобы слушать звон цикад в оливковой роще и любоваться зеленеющими пастбищами. Я никогда не бывал за стенами города, но слышал, что в деревне от дуновения ветерка по пшеничным полям пробегает рябь, как по реке Арно. Я бы хотел уйти на природу, чтобы найти там святость.
Я посмотрел на него, с тоской вспоминая Джотто. Поэт будто почувствовал это и ободряюще кивнул.
— И с кем бы ты пошел, что стал бы там делать?
Мы неторопливо шли по западной части Флоренции, как раз мимо церкви Санта Мария Новелла, с витиеватыми инкрустированными узорами из зеленого и белого мрамора. В церкви имелось чудесное распятие работы Джотто. Милое и простое лицо живописца навсегда осталось в моей памяти. Одиннадцать лет минуло со дня его смерти, но я каждый день о нем вспоминал.
— Я бы отправился туда с другом. Я бы сидел у его ног и слушал. Десять дней подряд я слушал бы только его.
— Он рассказывает интересные истории? — с любопытством спросил поэт. — Он мог бы развлекать тебя баснями много дней напролет?
— Мой друг говорил удивительные вещи. Сейчас он на небесах, но игрой мечты я вызвал его на землю.
— Да, мечты возвращают старых друзей, — согласился поэт.
Мы замолчали, проходя по большой, заросшей травой площади Санта Мария Новелла. Именно здесь я когда-то впервые встретил Джотто, еще не зная, кто он такой. Я собирался драться с богатыми мальчишками сломанной палкой, а Джотто сказал мне, что Бог надо мной смеется и я должен заглянуть в себя, чтобы найти там то, что мне нужно. Я по-прежнему следую его совету, как много лет назад, когда меня еще не продали Сильвано. Бог по-прежнему продолжал надо мной смеяться, а мои воображаемые путешествия дарили мне смысл жизни, не давая умереть.
Набожные доминиканцы до сих пор любили читать здесь проповеди на поросшей травой лужайке перед своей церковью, но сейчас здесь никого не было. Несмотря на всю их набожность и восхваление Святой римской церкви, доминиканцы боялись черной смерти, как и все люди. Куда же подевалась их Святая Троица и девять ангельских чинов перед лицом чумы? На краю площади лежала груда трупов. Мы с поэтом переглянулись и свернули с дороги.
— Там их пять или шесть, — негромко проговорил поэт. — Брошенных без отпущения грехов, без погребения.
Из лабиринта узеньких улочек у западной стены церкви донеслись крики, и мы снова переглянулись. Крики становились громче, резче, в них гудело опасное напряжение. Из слитного гомона вырывались ругательства и угрозы.
— Кричат о евреях, — отметил поэт. — По-видимому, толпе попались на пути какие-то евреи, и она делает из них козлов отпущения.
— Евреи не насылали чуму. Почему они должны отвечать за это? — озадаченно спросил я.
— Люди всегда хотят найти виноватого, — пожал плечами поэт. — Такова уж наша природа. Желательно кого-нибудь другого. Мало кто способен признать виновным себя.
— Если уж искать, кто наслал чуму, так, скорее всего, это Бог. Вы сами думаете, что он покарал нас за зло, творящееся во Флоренции!
— Нельзя же винить Бога, а флорентийцы вряд ли захотят посмотреть на себя в зеркало и покаяться. Несмотря на законы, регулирующие расходы, флорентийцы — народ алчный и горделивый. Так что кто бы ни были эти евреи, — он махнул рукой в сторону криков и гама, — на них свалят всю вину и, скорее всего, убьют, а чума потребует еще много жертв.
— Но несправедливо винить в этом евреев — или колдунов! — воскликнул я, вспомнив, как однажды уже давно меня самого чуть не сожгли заживо на площади Оньисанти. При одном только воспоминании у меня на лбу выступил холодный пот.
— Есть много умных и почтенных евреев, я сам таких знавал, — сказал поэт, морщась. — Но их души обречены аду за неверие. Так какая разница, когда им умереть?
— Разница есть. — Я ускорил шаг. — Каждая жизнь имеет значение. Какая же вера считает иначе?
— Может, и имеет значение. Долгая жизнь дала бы им возможность обратиться в христианскую веру, — согласился он, не поспевая за мной, — поклониться священникам, принять крещение и искупить свои грехи.
— Долгая жизнь даст им больше времени, чтобы понять, насколько лицемерно духовенство, — бросил я, вспомнив о священниках и монахах, тайком посещавших заведение Сильвано.
В моей комнате их тоже много перебывало, требуя от меня чудовищных услуг, как будто беспрестанные молитвы до невозможного извратили их желания.
Поэт добродушно засмеялся, хотя я и не думал шутить.
— А главное — они увидят, как растет христианская вера, несмотря на порочность ее служителей, и это произведет на них должное впечатление. И происходить это может только по воле Святого Духа. Поняв это, они обратятся в истинную веру скорее, чем того могли бы добиться все проповедники.
Он остановился, и я обернулся к нему. Поэт покачал головой.
— Мне надо идти, — сказал я, кивая в ту сторону, откуда все громче доносились возмущенные крики. — Я знаю, что сделает толпа, когда найдет виновного в бедах города.
— Тогда и я покину тебя, юный почитатель Джотто и Данте, — ответил он, улыбнулся и, приложив ладонь к сердцу, склонил голову. — Надеюсь, и мои скромные творения окажутся достойны твоего восхищения. Меня зовут Джованни Боккаччо. Посмотрим, найдет ли моя поэзия отклик в твоем сердце.
— А я Лука Бастардо, и я не умею читать, — признался я, и мое внимание вновь привлекли угрожающие крики.
— Тогда, может быть, однажды я сам тебе почитаю, Лука Бастардо, — сказал он и указал рукой вдаль. — Иди же, куда зовет тебя судьба!
Его высокопарные, а может, и шутливые слова оказались пророческими, ибо судьба моя вот-вот должна была навсегда измениться.
ГЛАВА 6
К тому времени, когда я приблизился к источнику гвалта, толпа уже выросла до шестидесяти человек. Они суетились, топали ногами, гомонили и роптали наперебой с колоколами, которые трезвонили по всему городу. Их безобразная роящаяся масса прижала к стене ближайшей церкви двух прохожих: бородатого мужчину и ребенка, который прятался в его объятиях. Толпа, казалось, воодушевлялась единым стремлением, выражавшимся в ненависти, и сплошной стеной надвигалась на человека с ребенком. Я до сих пор удивляюсь, почему так часто люди предстают передо мной в самой худшей своей ипостаси. Может быть, потому, что я сам совершал невообразимые вещи? Взгляд бородатого мужчины тревожно метался из стороны в сторону, а когда он обратил свой взор на меня, я увидел искаженное страхом доброе осунувшееся лицо с крупным орлиным носом.
— Грязный жид! — кричал один.
— Ты наслал на нас чуму! — прокричал другой, бедный красильщик в жесткой робе и потертой шляпе.
Его трясло как в лихорадке, но я знал, что это не от болезни, а от терзавшего его страха. В этих трущобных кварталах, где стояли красильни, многие были в безнадежном положении. Я сам видел, как флорентийская нищета, обитающая в тесных, перенаселенных кварталах, гибла пачками, по пять — десять человек зараз, молодые и старые, мужчины и женщины. После чумы останется мало работников, занимающихся ремеслом, от которого зависело процветание Флоренции.
Тогда я еще не знал, что Флоренцию погубит не чума, а монах[440] более чем сто пятьдесят лет спустя. Прежде чем погубить былую славу Флоренции, этот священник успеет отнять у меня то, что было мне дороже всего на свете. Но тогда меня волновал не пожар реформ, а чума и убийственный страх, ею вызванный.
— Я даже не могу вернуться домой, чтобы позаботиться о детях, иначе сама умру! — крикнула одна женщина. — Мои дети умирают одни, брошенные на произвол судьбы! Они не могут сами покормиться или подтереться! Грязный жид, это твои грехи навлекли на нас черную смерть!
— Вся моя семья погибла!
— Я не открыл дверь жене, когда она пришла с рынка, пораженная болезнью, и она умерла на улице!
— Не надо было давать в городе пристанище грязным жидам! От них одно зло! Они ростовщики и христоубийцы!
С этими словами толпа еще ближе надвинулась на мужчину, прижавшегося к каменной стене.
— Жиды пьют христианскую кровь на своих языческих обрядах!
— Изгнать жидов из Флоренции!
— Ваш поганый народ убил нашего Господа и наслал чуму! — крикнул еще кто-то.
Это был костлявый смуглый мужчина, похожий на деревенского мужика. Он угрожающе размахивал вилами. Толпа одобрительно подхватила его возглас, и все, у кого были с собой заостренные палки, с воплями замахали ими в воздухе. Кто-то бросил камень. Еврей прикрыл ребенка своим телом. Камень отскочил от его плеча и грохнулся на булыжную мостовую у его ног. В него полетел другой камень, крупнее первого, и угодил в ребра. Даже сквозь злобный свист и улюлюканье толпы я слышал, как онзамычал от боли. Я прокрался по боковой улочке и, сделав круг, подобрался ближе и, когда вышел со стороны еврея, увидел, что он отчаянно уворачвается, пытаясь оградить ребенка от града камней. Я ощутил привычную зависть к ребенку, потому что ему дана была родительская забота, которой я никогда не знал.
Вокруг еврея валялись камни размером с кулак и крупнее, из носа текла кровь, капая на бороду и плащ. Я увидел перепуганное лицо ребенка. Это была девочка, с копной кудрявых черных волос и большими глазами — такими же синими, как у моей Ингрид. Слезы лились по нежным белым щечкам, на одной стороне темнело пятно, похожее на синяк, совсем как бывало с Ингрид. Можно было подумать, будто еврей и правда прикрывал Ингрид, только темноволосую. Мужчина с вилами швырнул их в еврея, и я, не задумываясь, кинулся, чтобы отразить бросок. Я оттолкнул их в сторону, но острый зубец оставил ссадину на руке. Кровь во мне вскипела, и я даже не заметил боли. Я знал, как опасно напуганное и разозленное сборище, и не мог допустить, чтобы пострадала маленькая девочка с большими глазами и темными кудрями. Я повидал слишком много детских страданий. Я своими руками лишил жизни младенца. Как мог я стерпеть еще одну смерть? Нет, только не теперь! Я собрал все силы, чтобы спасти отца и его дочурку. В этот момент не было для меня ничего важнее на свете. Если повезет, я использую ужас и злость толпы, чтобы ее разогнать.
— Бубоны! — завопил я, ткнув пальцем куда-то в задние ряды. — Этот человек болен! Он нас всех заразит! Бубоны!
Отовсюду понеслись крики: «Где, где?» и «Бубоны!»
— Здесь все здоровы! — заорал крестьянин. — Это уловка!
Я настойчиво тыкал пальцем.
— Бубоны! Черные пятна, черная смерть! Он кашляет! Он нас всех убьет! Бегите, спасайтесь, или вы умрете!
Поднялась паника, две женщины с визгом вырвались из толпы и кинулись прочь. Седой старик с воем заковылял следом. И вдруг началось какое-то столпотворение. Люди кидались во все стороны, визжа от страха и смятения. Я подхватил вилы и с силой швырнул их обратно в крестьянина, чтобы отпугнуть его от себя и еврея. Потом повернулся к еврею и крикнул: «Сюда!» и повел за собой в переулок. Еще из своей бродяжной жизни я помнил сточную канаву, которая заканчивалась у кирпичной стены, но стена была неровная, с выступами, за которые можно было ухватиться руками, и через нее можно было перелезть. За стеной был другой переулок с выходом на параллельную улицу. Лоб еврея был сплошь исчерчен порезами и ссадинами, но он в мгновенье ока проворно бросился за мной, по-прежнему прижимая к груди дочку и брызгая кровью из разбитого носа. Добежав до каменной стены, я залез наверх и протянул ему руки.
— Давайте мне ее и взбирайтесь сами! — сказал я.
Крестьянин с вилами и еще трое с палками побежали за нами — их не обманула моя уловка. Еврей бросил взгляд через плечо и трясущимися руками передал мне девочку. Ее мягкие ручонки потянулись ко мне и крепко обхватили за шею. Щеки ребенка были перемазаны отцовской кровью.
— Я их задержу, а ты отнеси ее в безопасное место! — прошептал он.
— Забирайтесь, и вы оба будете спасены! — заторопил его я.
В него со свистом полетел очередной камень и, угодив в стену, рикошетом отлетел вверх. Осторожно прижимая к себе девочку, я нагнулся и, поймав камень, что было мочи швырнул его в крестьянина. Камень попал ему прямо в нос, и он заорал.
— Скорее! — шепнул я еврею.
Он вскарабкался на стену, а я спрыгнул с другой стороны, приземлился на оба колена, прижимая к груди девочку. Она дохнула на меня чем-то сладким, как будто только что съела дома вкусное угощение перед тем, как на них напала дикая толпа. В следующий миг еврей приземлился рядом. По эту сторону стены улица распрямилась, открывая взору лазурное небо, а из-за верхушек высоких каменных зданий выглядывал краешек солнца.
— Я не хочу, чтобы она сегодня погибла! — отчаянно воскликнул еврей, хватая девочку в охапку.
Я покачал головой и, встав на ноги, протянул руку, чтобы помочь ему встать. Мы бегом припустили по улице. Я вел его по лабиринту улочек среди высоких зданий и похожих на крепости особняков. Все эти закоулки я знал еще с тех времен, когда удирал по ним, спасаясь от городских стражников. Не раз я стремглав бежал сюда, стянув с прилавка яблоко или абрикос. Еврей тяжело и громко дышал, но не отставал от меня. Крестьянин и его дружки скоро остались далеко позади. Спустя какое-то время я остановился и прислонился к серой каменной стене замка. Я совсем запыхался, а еврей и того хуже. Трясясь всем телом, он прислонился лбом к стене, но девочку не выпустил из рук. Она перестала плакать и с воркованием вытирала нос отца маленькой пухленькой ручонкой. Поцеловав измазанную ладошку, он бережно поставил девочку на землю, потом повернулся ко мне.
— Ты спас жизнь мне и моей дочери. Я навеки у тебя в долгу.
— Мне не нужно от вас ничего, — ответил я, вспомнив о Марко, Ингрид и малышке Симонетты.
Еврей думал, что он в долгу передо мной, но я сам был еще больше в долгу перед теми, кого лишил жизни. Эти ужасные дела были необходимы, и мне выпало их совершить. Я, урод без возраста, блудник и развратник, совершил требуемое. Я не обманывался надеждой, что когда-нибудь искуплю свои грехи. Но может быть, творя хоть какое-то добро, я смогу уменьшить свою вину.
— Я обязан тебе, — настаивал он, — больше, чем смогу когда-либо отплатить. Смотри, у тебя руки в крови. Ты отразил вилы, которые могли убить меня или, еще хуже, мою дочку.
Я поднял руку. По локтю тянулась длинная кровоточащая рана.
— Бывало и хуже.
— Я могу помочь тебе, я лекарь, врач, — сказал он. — Пойдем со мной, я подлечу твою рану.
Он осторожно взял меня за запястье и провел другой рукой вдоль раны, осматривая ее. Тепло его ладони согрело мою руку — это было первое целительное прикосновение в моей жизни. Что-то в груди успокоилось. Кровь свернулась, и рана перестала кровоточить. Я удивленно таращился на еврея. Он нахмурился, и его густые черные брови почти скрыли пронзительно-голубые глаза.
— Рана глубокая. С этим шутить не стоит, особенно во время чумы. Я могу зашить ее и дать тебе мазь, чтобы не пошло заражение. Ты же не хочешь умереть от гангрены?
Я отдернул руку, правда неохотно, потому что тепло его руки так успокаивало.
— Ко мне зараза не пристает. Я всегда выздоравливаю. И мне не нужны ваши услуги.
— Почему? Потому что я еврей? — Он выпрямился и пытливо посмотрел мне в глаза серьезным и настойчивым взглядом, требующим правдивого ответа.
— Нет, потому что я блудник, — с горечью ответил я. — Я не хочу навлечь позор на ваш дом!
Я кивнул на девочку, которая цеплялась за разорванный плащ отца. Она смотрела на меня лучистыми синими глазами, засунув в рот пальчик.
Он покачал головой.
— Какая разница, кто ты! Пойдем, я позабочусь о твоей руке.
— Для меня есть разница.
Я весь вытянулся в струну. Гордиться мне было нечем, но я мог уберечь честную семью от позора. Маленькое, но все-таки утешение, и мне оно было дорого.
Еврей погладил бороду, не отрывая от меня взгляда, и наконец спросил:
— Из какого ты заведения?
— Бернардо Сильвано.
Его лицо исказилось от отвращения, и он кивнул, глубоко вздохнув.
— Меня, конечно, могут убить за такие слова… — Его кадык дернулся, он сглотнул и решительно заговорил: — Я видел, как ты вел себя сегодня. По виду тебе лет тринадцать, хотя ты маловат для своего возраста, но ты силен и проворен. И очень сообразителен. Ты ведешь себя как мужчина, а не как мальчик. Ты способен о себе позаботиться. Тебе не надо там оставаться. Тебе больше не нужно быть… э-хм… это делать. Мне известно, как поступает Сильвано с теми, кто пытается сбежать. Но ты сумеешь постоять за себя. Ты придумаешь способ, слышишь? Ты можешь за себя постоять!
— Даже против отряда вооруженных кондотьеров? — отпарировал я.
— Оглянись вокруг! Много ли кондотьеров осталось во Флоренции? Люди бегут из города. Наемные солдаты гибнут или возвращаются на родину. Кто будет думать о войне с Пизой, Миланом или Луккой, когда люди мрут прямо на улицах? Сколько солдат осталось на службе у Сильвано?
Он впился в меня глазами, как будто я должен был что-то понять, но не понимал.
— Не знаю, — медленно произнес я, — не считал.
— Держу пари, не много. Может быть, Сильвано вообще остался без защиты, а он не так молод и силен, как ты.
Еврей говорил рокочущим басом, и смысл его слов проник мне в самое сердце, озарив все вспышкой молнии. Я чуть не споткнулся, но удержался, оперевшись рукой о стену. Я водил ладонью туда-сюда по шершавой поверхности, ее прикосновение меня успокаивало. Не только рука еврея обладала целительной силой. Его слова тоже. Постепенно дрожь утихла, и на меня снизошло невиданное спокойствие.
— Я так боялся все эти годы, что не заметил, когда бояться стало нечего, — понимающе прошептал я. — Но куда мне идти? Я же был уличным бродягой, и никто не подаст тебе милостыню, когда повсюду свирепствует чума.
— Мой дом открыт для тебя. Ты будешь жить со мной и моей семьей.
Предложение показалось жестоким из-за его невыполнимости. Я разрывался между знанием того, что моя запятнанная суть превратила меня в ничтожество, и таким чувством, которое ощутил бы Адам, если бы Бог вместо ожидаемой кары сочувственно посмеялся бы над ним и предложил ему убить змия, чтобы вернуться в Рай. Я покачал головой:
— Я не могу опозорить…
— Это для меня будет величайшим позором, если я не отплачу тебе за то, что ты рисковал своей жизнью ради спасения меня и моей дочери, — возразил он спокойным и звучным голосом, который я впоследствии так полюбил. — Ты же не допустишь, чтобы я себя опозорил, не так ли?
— Но ваша жизнь имеет ценность, моя же — нет, — тихо ответил я.
— Что за вздор! Любая жизнь ценна. Как тебя звать?
— Лука Бастардо.
— Хорошо, Лука. — Он крепко взял меня за плечо, заглянув мне в глаза серьезным взглядом. — Это Ребекка, а меня зовут Моше Сфорно. Я живу в Ольтарно, в еврейском квартале. Там все меня знают. Сделай все, что нужно, чтобы освободиться, что бы это ни было, — и ко мне, будешь жить в моем доме. — Он подхватил дочь на руки. — Мне нет дела до твоего прошлого. Сегодня ты спас мою дочь и меня от ужасной смерти. Это все, что важно знать, отныне и впредь. Приходи ко мне и будь у меня как дома, Лука.
Он вышел на улицу с маленькой Ребеккой на руках. Она помахала мне через его плечо. Еврей побрел прочь, а я следовал за ними переулками, боясь, как бы их не нагнала очередная бандитская свора. Уже тогда я понимал то, в чем так трагически убедился на собственном опыте: в толпе люди теряют рассудок и действуют не задумываясь, убивая других людей. Когда Сфорно с дочерью добрались до Ольтарно, я повернул назад. Пора было возвращаться к Сильвано.
В темный замок я вернулся уже под вечер. Там я свежим взглядом посмотрел на свое окружение. Сфорно был прав: из кондотьеров никого не было видно. Я пытался вспомнить, когда видел их в последний раз. С тех пор, наверное, прошел уже не один месяц. Да и все последние годы их было меньше, чем раньше. И как я этого не замечал? Неужели время в этом наглухо запертом здании застыло, убаюкав мою бдительность? Как я мог настолько поддаться страху, что с тех пор, словно персонаж на картине, пребывал в оцепенении в том положении, в каком меня застало избиение от руки Сильвано или — хуже того — в тот миг, когда он резал Марко? Я забарабанил в дверь, и тощая чужеземная служанка открыла.
— Прочь с дороги, женщина, — приказал я. Она отпрянула. — Оставь дверь открытой!
Я быстро подошел к окну у двери и дернул за толстые бархатные шторы. В воздух поднялась туча серой вековой пыли. Я снова дернул, и шторы, треснув, упали мне в руки. В вестибюль ударили медовые лучи заката, осветив столб взбаламученной пыли — праха, из которого сделан сам человек. Девушка разинула рот. Я уже хотел бросить шторы на пол, но придумал им лучшее применение и потащил за собой по полу шуршащее полотнище.
Сильвано сидел один в столовой. Перед ним лежала его счетоводная книга. Услышав шаги, он вскинул поседевшую голову. Я бросил шторы на пол. Из руки у меня сочилась кровь, собираясь в лужицу на полу, но мне было все равно.
— Я больше здесь не останусь, — заявил я.
Сильвано встал из-за стола, но с трудом, заметил я с удовлетворением. С возрастом у него ослабли колени. И как я это упустил?
— А я все думал, когда же этот щенок отрастит зубы, — холодно проговорил Сильвано.
Ноздри тонкого носа раздувались, глаза сузились до щелок. В руке блеснул нож, но я не испугался. Я сумею постоять за себя и раз и навсегда порву кабальный контракт. Я остался стоять где стоял, смело встретив его взгляд. Внутри вдруг вспыхнуло пламя, пронизавшее меня от самых пяток до макушки, и я понял, что настал долгожданный миг.
Сильвано вышел из-за стола и медленно двинулся ко мне.
— Ты об этом пожалеешь, Бастардо. Ты и представить себе не можешь, какие муки тебя ожидают. Клиенты любят тебя, ты один из лучших работников, тебе это известно? Ты, должно быть, любишь свое ремесло, раз так успешно трудишься. Ты прирожденная шлюха, — ухмыльнулся он, — отродье двух других шлюх.
— Не смей поминать моих родителей, — предостерег я.
Он злобно рассмеялся.
— Как же! Они, наверное, ненавидели тебя, раз бросили на улице! Экий срам!.. Две мерзкие шлюхи, такие же, как ты, произвели на свет порочного выродка, слишком красивого для человека и запятнанного от рождения. Вот и решили избавиться от тебя как можно скорее…
— Никогда в это не поверю!
— Уж поверь! Тебе повезло, что они не придушили тебя подушкой, как ты сделал с дочкой Симонетты, — презрительно фыркнул он, и я в ужасе отпрянул. — Что? Думал, я не узнаю, Бастардо? Как бы не так! Я знаю обо всем, что происходит в этом заведении! Я знаю, что ты — хладнокровный убийца. На младенца мне было плевать: пока она вырастет, я потратил бы больше, чем смог бы потом за нее выручить. Ты оказал мне услугу, избавив от нее. Держу пари, тебе понравилось! Зажать подушкой крошечное личико, убить ребенка, почувствовать власть…
— Я хотел спасти ее!
— Ты даже себя спасти не можешь! Ты прирожденный убийца, как и я, не так ли, паршивец? Ты ненавидишь меня, но ты ничем не лучше меня! — С полными злорадства глазами он приближался ко мне.
— Я совсем не такой, как вы!
— Такой, даже еще хуже, потому что ты шваль и на тебе пятно черной магии. Уверен, твои родители были того же племени — жалкие блудливые отбросы, — прошипел он.
Приближаясь ко мне, он перебрасывал нож из одной руки в другую.
— Не смей поминать моих родителей!
— Ты же никогда их не увидишь и не узнаешь! — точно ворон, каркал он. — Тебе суждено быть уродливым блудливым подонком! Может, ты и жил бы вечно со своим колдовством, пока тебя не сожгут на костре, как колдуна, но я убью тебя сейчас!
— Когда-нибудь я найду своих родителей! — закричал я. — Я не такой, как вы, и, когда найду их, это будут настоящие, честные люди!
Все мои чувства обострились. Под кожей стало покалывать. Я вдруг стал слышать, видеть, чувствовать все, как никогда прежде: свистящий писк дорогой экзотической птицы, которую Сильвано купил, чтобы добавить блеска своему борделю; едва слышное шуршание мыши под половицами; резкий запах щелока, которым служанка натирала полы; печальные стоны и плач какого-то ребенка наверху; глухие удары кровати о стену, где один из клиентов получал свое удовольствие; мяуканье кота на улице, щебетание птиц в саду, изысканный виноградно-дубовый букет вина в оплетенной бутылке на столе, духи Сильвано, учащенное биение его сердца и бурный ток крови в его жилах. Все это я воспринимал громче, сильнее, чем когда бы то ни было. А то, что я увидел, представить могут только художники, обладающие гением Джотто, или несравненного маэстро Леонардо, или Сандро Филипепи по прозванию Боттичелли, с которыми мне посчастливилось водить дружбу за мою долгую жизнь. А тогда, в тот день я увидел иной мир, иной космос.
Формы и очертания вокруг меня растворились. Контуры предметов смазались, как будто кто-то большим пальцем стер линию, проведенную на мокрой земле острой палкой. Осталась лишь залитая ярким светом поверхность, в которой плясали, переливаясь, отдельные блики и сочные мазки цвета. Даже стены исчезли, словно вода, вылитая из кувшина, и я увидел все, что было снаружи: кружащийся вихрь зеленых листьев, шелковистые пятнышки синего, красного и желтого — цветы, за которыми ухаживала Симонетта. И все это разлеталось, точно подброшенная вверх горсть песка на ветру. Я мог увидеть все что угодно и где угодно, но я сосредоточился на том, что было внутри. Мой взгляд был направлен только на Сильвано — единственный нерасплывшийся предмет, окруженный сумрачным светом и словно замерший в неподвижности. Прошел, казалось, целый час, прежде чем я заметил в нем какое-то движение в мою сторону. Он приближался ко мне целую вечность, а движение его руки было таким медленным, что я смог запросто схватить его за запястье и вытрясти из руки нож. Лезвие, звякнув, упало на пол, и я услышал нечленораздельный вопль — наверное, это кричал Сильвано. Но я не переставал трясти его за руку, сжав запястье еще крепче. Я почувствовал небывалую доселе силу, одновременно текучую и каменную, и эта сила держала Сильвано. Я ощутил, как с сочным хрустом прогнулись стиснутые косточки запястья, и вздрогнул. Другая его рука тянулась к моему лицу, и растопыренные пальцы как будто хотели выдавить мои глаза, но движение было замедленным. Я дернул вниз обмякшее запястье, Сильвано упал на колени — прямо на шторы. Он тщетно хватался свободной рукой за мой сжатый кулак, но я сжимал его еще сильнее. Откуда-то издалека донесся звук, и я понял, что это кричит Сильвано. В моем восприятии его слова блеснули, как тонкие металлические нити, вплетенные в ткань ощущений.
— Прекрати, умоляю! — взвыл он, обратив на меня свое бледное лицо. — Заплачу тебе сколько хочешь, столько флоринов, что даже не сможешь унести!
— Мешок золотых флоринов? Шелковый мешок, которым ты бьешь нас, детей, пока мы не начинаем мочиться кровью? — спросил я, наливаясь яростью.
Резко выпустив запястье, я обхватил его руками за шею. Меня удивило, какой дряблой она стала, но это меня не отпугнуло. Я словно опьянел, держа в руках его жизнь, ощущая жадными руками пульсацию голубых вен и зная, что его пульс скоро замрет в пустоте и для меня откроется свобода. Он перестанет дышать, и все ужасы прошедших восемнадцати лет умрут вместе с ним. Я жадно набрал полные легкие воздуха, как будто не дышал с тех времен, когда Сильвано приволок меня в свое «славное заведение». Он слабо хватал меня здоровой рукой, его лицо побагровело, потом посинело и стало совсем фиолетовым, глаза вылезли из орбит и налились кровью. Но я не выпускал его шею. После всего, что со мной здесь сотворили, после всего, что я сам наделал, краски смерти на его лице казались мне прекрасными. Голова моя кружилась. Марко, Ингрид и крошечный младенец Симонетты замелькали у меня перед глазами, и агония Сильвано стала мне радостью. Никогда еще я не переживал такого сильного наслаждения. Одно за другим передо мной возникали лица всех клиентов, которые перебывали у меня в комнате за эти долгие годы. Вся боль, все унижения, которые мне пришлось вынести, всплыли в памяти. Я стиснул пальцы сильнее. Во мне вдруг зазвучал торжественный марш. Я и раньше убивал, испытывая при этом лишь бремя стыда и отвращения. Но сейчас, убивая это исчадие ада, которое погубило столько детей, я испытал пьянящую радость. С того дня я убил еще много людей, но лишь в тот раз делал это с таким наслаждением. И тут, когда я уже собрался окончательно свернуть Сильвано шею, как цыпленку, кто-то ударил меня в спину. Это был Николо.
— Стой! Оставь моего отца в покое! — крикнул он.
Я двинул его кулаком так, что он улетел на другой конец комнаты. Много лет назад, когда я еще жил на улицах, цыганенок Паоло научил меня кулачному бою, а я никогда не забываю того, чему меня учат. Николо схватил с пола нож отца и кинулся на меня. Мне же в том состоянии сверхъестественно обострившегося восприятия его движения показались такими же замедленными, как движения Сильвано. Я врезал кулаком по его выступающему подбородку, прежде чем он успел достать меня ножом. Николо рухнул на груду штор. Я повернулся к Сильвано, который хватал ртом воздух и корчился на полу. В его расширенных зрачках отражалось мое лицо.
— Не убивай моего сына, — прошептал он, хватаясь за посиневшее горло. — Он же всего лишь мальчик!
Я ничего не ответил и, обхватив Сильвано за шею, резко вывернул ее. Послышался хруст, и тело обмякло. Я выпустил его, и оно упало.
— Папа! — завопил Николо и со слезами бросился на труп Сильвано.
— Я освобожу остальных детей, — заявил я и уже повернулся к двери, но Николо снова напал на меня сзади. Я резко развернулся и отшвырнул его от себя. Он с треском налетел на позолоченную клетку, и красно-зеленая птица испуганно закричала и захлопала крыльями, забившись о прутья.
— Больше никто не останется в неволе! — как клятву, произнес я и выпустил птицу.
Птица с криками закружила надо мной, хлопая крыльями и роняя на пол противные капли. Я поднял нож Сильвано.
— Возможно, мне придется убить и кое-кого из клиентов. Если будешь мешать, я убью и тебя. — Я посмотрел на птицу. — Я выпущу птицу на свободу!
— Нет! Я не отдам тебе папину птицу! — взвизгнул Николо, подпрыгнул и, схватив птицу, быстро свернул ей шею, как я только что свернул шею Сильвано. Затем он поднял безвольную птицу за ноги и засмеялся, точно безумный.
— Ха-ха! Лука Бастардо! Уродская шлюха!
Я точно обезумел. Не так сильно, как после той великой трагедии, которая роковым образом перевернула всю мою жизнь. Однако я был ослеплен яростью.
— Ты не смеешь отнимать у нее свободу! — закричал я и заметался по комнате, размахивая окровавленным ножом. — Не смеешь! — повторил я, надвигаясь на Николо. — Раз ты убил ее, так теперь жри! А ну! Жри ее! — Я приставил нож Сильвано к горлу Николо. Он дрожащей рукой подобрал птицу. — Жри ее! Жри! — повторял я снова и снова, приставив к его тощей шее нож, пока на ней не проступила капля крови. Я взмахнул ножом, будто собираясь полоснуть его по горлу.
Николо торопливо сунул птицу в рот и откусил шею. Прожевал и проглотил вместе с перьями. Потом поднял на меня прыщавое, измазанное слезами лицо. Он плакал навзрыд. Пузырьки соплей и крови повисли на тощих усишках. Острый нос и выдающийся подбородок живо напомнили мне его отца, и меня так и подмывало убить его, чтобы увидеть, как их положат в тесные ящики, неотпетых и неоплаканных.
— Еще! — зашипел я, и Николо на моих глазах, давясь, откусил еще.
С подбородка стекала птичья кровь. Мальчишка сложился пополам и наблевал на ковер, через силу извергая мокрые красные перья. Я засмеялся, нагнулся и подобрал одно красное перышко. Я швырнул ему перо в лоб, и оно, мокрое, там прилипло. Я хохотал и никак не мог перестать.
— Никогда этого не забуду! Никогда не забуду тебя и что ты сделал, Лука Бастардо! Когда-нибудь я отомщу за смерть своего отца. Клянусь собственной кровью над телом отца! Когда-нибудь я заставлю тебя страдать по-настоящему и добьюсь, чтобы ты умер страшной смертью! — Николо приподнялся и, стоя на коленях, с красным пером на лбу, потрясал кулаками. — Проклинаю тебя и твоих потомков до десятого колена!
Я покачал головой.
— Не верю я в проклятия, особенно когда их произносят девчонки в красных перьях.
Перешагнув через тело его отца, я отправился на встречу с клиентами, чтобы выпустить на волю детей. Знай я тогда всю силу жестоких намерений, подкрепленных неистовой злобой, я бы так легко не отмахнулся от его слов. Проклятия имеют силу, и проклятие Николо принесло свои плоды, наложив неизгладимую печать на мою дальнейшую жизнь и приведя ее к роковому концу.
ГЛАВА 7
На дрожащих ногах я стоял перед тяжелыми резными воротами, ведущими в дом Моисея Сфорно. Это был вполне обычный флорентийский дом в три этажа, построенный из камня, с равномерно расположенными окнами под арочными перемычками — такой обычный, что я, ужасный выродок, всегда живший либо на улице, либо в борделе, испытал благоговейный трепет. В окошко сквозь приоткрытые ставни сочился тускло-золотой свет свечи, отбрасывая на мостовую мою гигантскую тень. На первом этаже не располагалось ни мастерской, ни лавки, как это обыкновенно было у нас принято, хотя нынче от этого обычая все чаще стали отказываться, устраивая мастерские отдельно от жилых домов. Конечно, Сфорно врач, ведь евреям мало чем дозволялось заниматься, кроме ростовщичества, выдачи денег под залог да медицины. Поэтому мастерская ему была не нужна. Как и все лекари, он навещает больных на дому. Я понял, что погрузился в размышления, пытаясь отсрочить момент, когда придется войти. Я потянулся к латунному молотку в форме шестиконечной звезды с кольцом посредине, и рука моя замерла, когда полная луна осветила ее — я был по локоть в крови. Сытным запахом луковой приправы пахнуло из дома. Семья ужинала. Как смею я, посторонний человек, запятнанный кровью, нарушить покой семейного уюта?
Но едва я отступил от двери, как она распахнулась. На пороге стоял Сфорно, чернея на фоне освещенного желтым светом дверного проема.
— Я что-то услышал или даже почувствовал, — произнес он, поглаживая бороду. — Решил, может, это ты.
— Я освободился от Сильвано, — тихо сказал я.
В груди у меня заныло, я почувствовал себя опустошенным. Я удивился. Я не ожидал, что свобода, о которой я мечтал столько лет, может обернуться такой пустотой. Что осталось мне вместо темницы? Чем теперь заполнить свою жизнь? Неужели жизнь у чужих людей — единственный выход?
— Ну заходи!
— Я нечист, — нерешительно возразил я, внезапно почувствовав знакомый страх, который настигал меня у Сильвано, — страх нарушить правила и быть сурово наказанным.
Сфорно только пожал плечами и спокойно завел меня внутрь. Я стоял в прихожей на ветхом золотисто-синем ковре с сарацинскими узорами. Стены и потолок были окутаны теплым светом ламп, стоящих на старинных резных деревянных сундуках, которые назывались «кассоне». Пол в прихожей подметала темноволосая женщина в цветастом синем платье и желтом капюшоне.
— Моше, кто там? Кто пришел? — спросила она встревоженно.
Она подошла к Сфорно и устремила внимательный взгляд на меня. У нее были высокие скулы, раздвоенный подбородок и крупный нос. Она была полной, женственной и по-своему красивой, какой будет Ребекка, когда повзрослеет. Черные глаза, окруженные сеточкой морщинок, настороженно изучали меня. Взгляд скользнул по моим окровавленным рукам и запятнанной кровью одежде.
— Это мой друг Лука, он сегодня спас меня и Ребекку, — ответил Сфорно.
Женщина улыбнулась мне, прижав к груди руку:
— Благодарю тебя. Мало кто из джентиле[441] сделал бы это для еврея!
Моше кивнул.
— Он останется у нас.
— На ужин? — переспросила женщина.
— Он будет жить с нами, Лия, — спокойно, но твердо ответил Моше.
— Жить? Моше, он же…
— Женщина, поставь на стол еще один прибор для гостя, пока я отведу его помыться, — сказал Моше, и от предостерегающих ноток в его голосе у меня екнуло сердце.
— Я не хочу доставлять вам лишние хлопоты, — проговорил я.
— Считай, что ты уже это сделал, — прогудел добродушный бас.
За спиной Сфорно показался тучный старик, приземистый и широкоплечий, с мускулистыми руками, седой бородой до пояса и густой гривой седоватых волос. У него было широкое морщинистое лицо, украшенное самым большим носом и самыми лукавыми глазами, какие мне когда-либо доводилось видеть. Он был одет в грубую серую тунику, подвязанную бечевкой, как у монаха, на ногах — сандалии, как у служанки. Он скрестил руки на широкой груди и засмеялся.
— Ты похож на волчонка, который разделался со стадом овец.
— Я сегодня не убил ни одной овцы, — проворчал я, раздраженный его намеками.
— А если бы и убил, это что, так плохо? — Он с вызовом поднял кустистую бровь. — Иногда ведь это необходимо.
— Ты кого-то убил? Кого? — спросила Лия и сокрушенно отвернулась.
— Это не важно, — произнес Сфорно. — Этот юноша спас мне жизнь. И Ребекке тоже. Я же сказал, что толпа закидывала нас камнями. Мы обязаны ему большим, чем в состоянии отплатить.
Он положил руку жене на плечо. Ее полные губы сжались до тоненькой ниточки, но она склонила голову на его руку, и ее лицо смягчилось. Затем она снова нахмурилась, и морщины на лбу стали глубже.
— Но разве мы должны брать его в дом и подвергать опасности наших детей? — спросила она. — Если он убил кого-то, за ним придут стражники!
— Мы отправим их прочь, — возразил Сфорно. — Мы не обязаны знать, что сделал Лука.
Но если я буду жить здесь, жена Сфорно должна была знать правду. Я не хотел скрывать ничего, что могло навлечь опасность на этих добрых людей.
— Я убил владельца публичного дома, где вместо проституток держат детей, — сказал я, обращаясь прямо к женщине.
Если бы она подняла на меня взгляд, я бы смело посмотрел ей в глаза. Но она этого не сделала. Наоборот, она старалась не смотреть мне в глаза все годы, что я жил в ее семье. Как я ни старался, мне не удалось завоевать ее расположение. Но за что ее винить? Я явился в ее дом с места преступления, обагренный кровью убийца, пьяный от долгожданного возмездия.
— Это все? — бросила она.
— Еще я убил семерых клиентов, которые использовали детей. Двоих ударил в спину ножом, когда они лежали на детях. Троим перерезал горло, а еще двоим вспорол брюхо.
Я жестом изобразил это движение на своем животе. Я даже гордился, как мастерски расправился с клиентами. Ни один другой тринадцатилетний мальчик, каким я выглядел, не смог бы так легко справиться с взрослыми мужиками, защищавшими свою жизнь. Хотя бы сейчас мое уродство стало моим преимуществом. Сколько лет Сильвано терзал меня, напоминая об этом изъяне! И вот я неожиданно для себя понял, что прежний страх испарился, смытый пролитой кровью моих угнетателей. Вместо него в моей душе поселился покой, которого я не чувствовал с того дня, когда отправился на рынок и Массимо подсунул мне кольцо Сильвано, которое обрекло меня на многолетнее рабство. Только почувствовав, что страх ушел, я понял, какими губительными для меня были эти годы. И злость во мне разгорелась с новой силой, как после убийства Сильвано. Сегодня в замке было всего семь клиентов, иначе от моей руки их погибло бы больше. Чума нанесла урон прибыльному промыслу Сильвано. Я ожидал, что застану гораздо больше посетителей, надеясь, что среди них окажутся и мои постоянные клиенты; у меня был нож Сильвано, и руки так и чесались расправиться с ними. Я винил их за годы своего униженного рабства, за те страшные дела, которые мне пришлось совершить, чтобы спасти Марко и Ингрид. Осматриваясь в этом уютном доме, я впервые понял, что не по своей воле был ввергнут в жизнь, полную немыслимых поступков. Будь у меня выбор, я бы избежал насилия. Это понимание стало для меня спасительной соломинкой, за которую я мог уцепиться, чтобы не потонуть в пучине самообвинений. Какие-то поступки неизбежны — так человек действует, сталкиваясь с роковой последовательностью событий. Осознание этого сделало из меня взрослого мужчину, несмотря на обманчиво юную внешность и дикость, в которой я, лишенный доброго наставления, рос на улицах и в борделе.
— Хотелось бы мне, чтоб ты прикрывал мою спину в бою, — засмеялся старик. — Поистине волчонок!
— Стражники найдут его здесь, и мы не сможем их выгнать, — воскликнула женщина. — Они только и смотрят, как бы придраться к нам, евреям! Мы все время кочуем, как вечные изгнанники, бедствия сыплются на нас одно за другим, а теперь этот мальчик привлечет стражников к нашему порогу. Они разорят наш дом и изнасилуют наших дочерей! Он принесет несчастье всем нам!
— За мной никто не следил, — попытался я ее успокоить.
— Сейчас, во время чумы, изнасилования стали реже, — заметил старик. — Соблазн пропадает, когда всюду видишь черные бубоны.
— Почему бы тебе не остаться в борделе с себе подобными? — сказала женщина.
Я виновато отвернулся. Симонетта просила меня остаться, и я видел, что она хочет этого, но я отказался. Я хотел убраться оттуда, далеко-далеко, подальше от гробницы моих гадких воспоминаний.
— Лия, он выше того люда, что обычно обитает в таких местах, — сказал Сфорно. — Он заслужил того, чтобы начать новую жизнь в новом доме!
— Это же не бездомная собака, подобранная на улице! — возразила женщина. — Он не еврей и убивал флорентийцев, причем богатых, раз они ходят в бордель, может, даже священников и монахов…
— Не было там священников и монахов! — воскликнул я, и мои глаза наполнились слезами от возмущения. — Их бы я не убил так быстро, а сначала заставил помучиться.
Разве священники не дают обет безбрачия? Разве не им полагается быть воплощением добродетели, милосердия и сострадания? Где она была, эта добродетель, когда я работал у Сильвано? Я находил ее лишь на полотнах мастеров живописи.
— Если я сам не постою за себя, то кто? — вслух размышлял старик.
Сфорно покосился на него, и он пожал плечами, улыбнулся и почесал свою буйную бороду. Жена Сфорно содрогнулась.
— Его же будут искать! Они найдут его здесь. Я благодарна ему и всю жизнь буду его благодарить за спасение тебя и Ребекки, но мы должны быть благоразумны. Если мы его приютим, это кончится плохо. За укрывательство нас могут выгнать из города. Или хуже! Мы же евреи, для нас вдвойне опасно пускать в дом убийцу!
— Лия, если б не он, меня бы здесь не было. И твоего ребенка, — попытался успокоить ее Сфорно.
Он погладил жену по руке, но она ее сердито вырвала.
— Так давай накормим его, дадим денег, и пусть идет своей дорогой! Я с радостью отдала бы ему все, что у нас есть, в благодарность за его помощь!
— Волчонок, а что ты сделал после того, как порубил и заколол там всех? — спросил старик. Глаза его сверкали так весело, как будто я рассказал забавный анекдот, как будто не я недавно омылся в море теплой медно-красной влаги — источнике жизни.
— Отдал детям все деньги, какие нашел в борделе, и приказал служанкам о них позаботиться, — ответил я. — Выгнал сына владельца и сказал, что убью его, если он посмеет вернуться. Он знает, что мое слово твердо.
— После всего этого ты, наверное, сильно проголодался. — Старик развел мясистыми руками в сеточках синих вен. — Поужинай с нами! Лия чудесно готовит.
— Я бы сначала вымылся, — попросил я.
— Пойдем, я отведу тебя, — сказал Сфорно.
Его жена хотела было что-то сказать, но он предупреждающе поднял руки, потом взял лампу и повел меня через прихожую в другой коридор, завешанный обветшалыми шторами, к боковой двери.
— Уж эти женщины! — пробурчал он. — Вечно все усложняют. Вечно у них на все свое мнение.
— А разве оно есть не у каждого? — спросил я. — Если ему позволено.
Сфорно бросил на меня испытующий взгляд через плечо.
— Она добрая женщина, моя Лия, — медленно произнес он. — Не суди ее по словам. Нам, евреям, нелегко приходится.
— Не мне кого-то судить, — тихо произнес я. — А этот человек ваш родственник?
— Не думаю, — покачал головой Сфорно.
— А как его зовут?
Мы прошли по тропинке при свете его лампы. Тропинка привела к тесному, грубо сколоченному сараю, какие люди строят в Ольтарно, где не вся земля застроена домами.
— Не знаю даже, есть ли у него имя. Он странник. Знал моего отца. Кажется, он всех знает. Приносит вести от моего брата и двоюродных сестер из Венеции. Он захаживает время от времени, и мы его кормим.
Сфорно снял засов с двери сарая и жестом позвал внутрь. Нас встретило ржание двух гнедых лошадей и мычание коровы. Цыплята закудахтали, кукарекнул петух, чуть не набросившись на меня, но Сфорно махнул лампой и отогнал его. Затем хозяин подвел меня к корыту с водой и поставил лампу на низкий трехногий табурет.
— Вот ведро и щетка, мойся, Лука.
И вышел.
Мне почему-то не очень хотелось смывать следы собственной ярости, но я хотел угодить Сфорно. Я вынул из недр забрызганной кровью рубахи драгоценную картину Джотто — единственное, что я забрал с собой, уходя из дома Сильвано. Сначала я хотел взять нож, но потом отдал его одному из мальчиков постарше, на случай, если Николо вздумает вернуться во дворец и начнет буянить. Я искал укрытие для своего сокровища и увидел маленький выступ над дверью. Перевернув ведро, я дотянулся до выступа, сдвинул доску и спрятал картину в щели между наружной и внутренней стенами сарая. Картина была плотно завернута в промасленную телячью кожу, и я не боялся, что до нее доберутся мыши. Я спустился вниз и ополоснулся из ведра. Вода сбегала с меня на простой деревянный пол розовыми струйками. Я вылил еще несколько ведер себе на голову, выдернул несколько конских волос из щетки и вычистил грязь, застрявшую под ногтями. Один клиент отчаянно отбивался, и я вырвал с него ногтями длинный кусок кожи.
Вернулся Сфорно с изношенной рубахой, залатанным шерстяным камзолом, штанами и короткой накидкой.
— Нам придется сшить для тебя одежду, — сказал он и вздохнул. — Лия не захочет тратиться, но иначе никак. Вот тебе мой старый фарсетто.[442] — Он повертел на пальце заштопанный камзол. — Великоват, кажется, но вполне приличный.
— Когда я жил на улице, я собирал одежду на помойке, где надо подворачивал и подвязывал, чтобы было впору, — сказал я.
Эти давние воспоминания еще были живы в моей памяти; сейчас, когда тюрьма Сильвано осталась далеко позади, они всплыли особенно ярко. Картины прежней жизни нахлынули на меня и обступили со всех сторон: Паоло и Массимо, местечко под Старым мостом, где мы часто грелись зимой; наши игры, как мы просили милостыню, чтобы прокормиться, как ходили по рынкам с пустыми животами… Вдруг в воспоминания прошлого ворвался голос Сфорно, и я понял, что он говорит со мной.
— До того, как попал к Сильвано? — спрашивал он.
Я кивнул.
— Ты не похож на обычного бродяжку, — заметил он. — Ты не калека, не дурачок, не черномазый цыганенок. Светловолосый, красивый, сильный и умный — ты похож на сына знатного человека. Готов поспорить, так оно и есть, но в твоей жизни произошел крутой поворот. Может быть, тебя и сейчас еще кто-то ищет.
— Если искали, то почему до сих пор не нашли? — с горькой усмешкой спросил я.
Кинув на него острый взгляд, я решил не выдавать ему тайну своего уродства и несокрушимого здоровья. Сфорно — врач. Наверное, он и без меня все заметит. Я надеялся, мое уродство не слишком оттолкнет его.
— В мире чего только не происходит, в нем столько извилистых троп, — пожал плечами Сфорно. — Как бы там ни было, сейчас ты здесь. Возвращайся, как оденешься. Мы тебя ждем.
И он ушел, снова бормоча себе под нос что-то про женщин.
Умывшись и одевшись, я вернулся в дом, полный опасливых ожиданий. Меня поразило, как сильно я отличался от этих людей — я был с ними различной крови, нас разделяло разное прошлое, ни то ни другое водой не смоешь. Оробев, я шел по коридору. У меня над головой тянулись деревянные балки, на стенах висели картины с изображением каналов Венеции — об этом городе я много слыхал от людей. Как семья Сфорно примирится со мной, столь на них непохожим? Даже среди изгоев я выделялся, как побитое яблоко в цветущем саду. Моисей Сфорно принял меня в свой дом из чувства долга, но я не мог вечно злоупотреблять его гостеприимством. Пора подумать, что делать дальше. Я не хотел возвращаться на улицу, особенно пока черная смерть косила людей с еще большим рвением, чем я этой ночью. Не хотел я и возвращаться к ремеслу, которым занимался у Сильвано.
До меня донеслись звонкие девичьи голоса вперемешку с баритоном Сфорно, я свернул к двери и вошел в столовую. Разговор оборвался. Передо мной стоял высокий деревянный шкаф с выцветшей росписью из виноградных гроздьев под надписью, выведенной незнакомыми буквами. Рядом с ним — длинный прямоугольный обеденный стол, с простыми толстыми ножками, но сделанный из полированной ореховой древесины. За столом сидели Сфорно, его жена, четверо дочерей и Странник. Между Сфорно и Странником стояла еще одна тарелка. Все смотрели на меня, кроме госпожи Сфорно. Она внимательно изучала стол, на котором горели свечи, стояли серебряные кубки, жареная дичь, блюдо ароматной зелени в соусе, румяная буханка хлеба, графин с вином. Ребекка, самая младшая дочь, соскочила со своего стула и подбежала обнять меня. Я почувствовал на щеке ее теплое дыхание.
— Взгляните на него, в нем же сразу виден джентиле! — Госпожа Сфорно всплеснула руками. — Что скажут соседи? Они осудят нас за то, что мы пустили его к дочерям!
— Что бы ни говорили соседи, твои слова для меня не kaddish.[443] Садись, Лука!
Голос Сфорно звучал твердо, но спокойно. Ребекка подвела меня к пустому месту на скамье рядом с отцом.
— Девочки, это Лука, он будет жить с нами, — объявил Сфорно. — Лука, это Рахиль, Сара и Мириам. — Он по очереди указал сперва на серьезную девочку лет двенадцати с темно-каштановыми волосами, затем на черноволосую девочку лет десяти, которая от смущения склонилась к столу и закрыла лицо руками, потом на шестилетнюю девочку с каштановой косой и озорной улыбкой. — Ну а Ребекку ты уже знаешь. — Он потрепал по головке младшую.
— Четыре дочери, — пробормотал я.
Все девочки без стеснения разглядывали меня. Не скованные робостью, не запуганные, они совсем не были похожи на забитых девочек, каких я встречал у Сильвано, или растрепанных, грубых бродяжек с улицы. Я покраснел, приосанился и одернул на себе широковатый камзол Сфорно.
— Как у великого Раши[444] — четыре дочери и ни одного сына, — сказал Сфорно голосом, полным любви и смирения.
Девочки тихонько засмеялись. Их смех был для меня столь диковинным звуком, что я испугался и разинул рот. За все последние годы я ни разу не слышал веселого девичьего смеха. Поэт Боккаччо, которого я недавно встретил на улице, ошибался: женщины не пустые куклы. Даже самых юных трудно назвать пустышками. Им свойственна особая прелесть, благодаря божественной музыке их смеха. Сфорно погладил Ребекку по щеке и вздохнул:
— Божьи дары следует принимать с благодарностью.
— Мне кажется, Бог смеется над нами, — вдруг выпалил я со всей серьезностью. — Чем бы он нас ни одаривал, в его дарах скрыта некая шутка, понятная лишь ему одному.
Странник громко расхохотался.
— Воистину Владыка Сокровенных Тайн обладаетнепостижимым чувством юмора!
— А что такое шлюха-убийца? — певучим голоском спросила Мириам.
Сфорно застонал и закрыл себе ладонью глаза.
— Замолчи, Мириам! — сказала самая старшая, серьезная Рахиль.
— Это тот, над кем жестоко издевались и кто решил изменить свою судьбу, — мрачно ответил я.
— А здешняя жизнь становится все увлекательней, — произнес Странник. — Думаю, я еще немного побуду у вас, Моше. Я прочитаю киддуш,[445] можно?
Он поднял свой кубок с вином и нараспев произнес несколько слов на непонятном мне языке. У него был звучный красивый голос, чего я совсем не ожидал, поэтому он привлек мое внимание. Остальные по-прежнему не сводили с меня глаз. Странник сделал большой глоток вина. Пурпурная капля упала на его бороду, но не оставила следа. Он поставил кубок и застучал толстыми пальцами по столу.
— А где же мы будем держать этого мальчика джентиле — в ногах кровати, как покалеченную дворнягу, которую ты привел с улицы? — воскликнула госпожа Сфорно. — Я не пущу его к девочкам!
— Я мог бы спать в сарае, — ответил я, так и не сев. — Я вас не стесню.
— Об этом уж мы позаботимся, — вставил Странник.
— И я могу работать, — добавил я. — Я годен к тяжелому труду. Я могу чистить сарай, убирать за скотиной и делать все, что прикажете. Я заплачу вам за гостеприимство.
— Садись, Лука, — мирно проговорил Сфорно. — Что-нибудь придумаем. — Он указал на стул рядом ссобой, и я сел. — Поешь курицы. Моя Лия готовит лучше всех в округе.
— Перемены — единственное, что постоянно, — заметил Странник.
И так началась моя первая трапеза с семьей Сфорно, как началась и моя жизнь в этом доме. Она протекала поблизости от уютного семейного очага, но все же в стороне от него, ведь я как был, так и остался здесь чужаком. Но никогда больше я не был так близок к семейному теплу, как в этом доме.
После чинного ужина я отправился в сарай. Я принес с собой маленькую свечку, но, вступив на порог, задул огонь, чтобы случайная искра не подожгла солому. В щели вливался лунный свет, одевая дощатый пол, стойла, стены сарая в черно-белый костюм арлекина. Все вокруг затопил могучий прилив света и тени. Я улегся, но долго не мог заснуть. В ушах до сих пор звенели крики клиентов, которым я перерезал глотки. Они принимались орать, когда я входил, заляпанный кровью, с ножом в руке, орали, когда я их резал, и дыхание вырывалось у них из разрезанной глотки с пузырящейся кровавой пеной. Те, на кого я нападал со спины, умирали быстро и без шума. Те, кому я вспарывал живот, орали, стонали и молили о пощаде, пока не истекали черной кровью и не замолкали навсегда. Один черноволосый мальчик видел, как я пырнул его клиента в живот. Мы вместе смотрели, как мужчина корчился на полу и молился, хрипло выкрикивая «Аве Мария!», молил о спасении Отца Небесного, Сына и Святого Духа, Деву Марию. Наконец он умолк, а мальчик выглянул за дверь и устало спросил:
— А девушка придет, чтобы забрать тело и помыть меня? Наверное, следующий клиент уже ждет.
Мне долго пришлось ему втолковывать, что больше клиентов не будет. Вряд ли он даже понял, когда я ушел, что Сильвано мертв и душные стены рухнули…
…Я увидел океан, безбрежный и взволнованный, столь огромный, что я ужаснулся. Откуда такой простор? А потом на берегу ко мне подошел златовласый человек с безмятежно-спокойным лицом. Он выпустил из клетки белую птицу, и я возрадовался. Я проводил птицу взглядом, но воздух вдруг наполнился дымом. Он клубился вокруг женщины, лица которой я не видел, хотя ощущал ее запах — дивное благоухание сирени, лимонов и чистой ключевой воды. Я знал, что она принадлежит мне, и знание этого наполнило меня таким счастьем, что я едва мог его вместить. Но вдруг она упала в реку, и ее белое платье распласталось по волнам. Я ждал, ждал, и решимость ныла в моем сердце, в горле скребло, крик вместе с невыносимой мукой рвался наружу. А потом меня связали. Грубыми веревками опутали мое тело, они врезались в ноги и руки. Вокруг заклубился густой белый дым. А потом языки пламени заплясали у моего лица, а сквозь этот огонь я видел перед собой человека. Он смеялся, смеялся, и тут я узнал его. Это был Сильвано. Огонь растопил лицо Сильвано, точно воск, и он превратился в Николо, а потом на костре уже был не он…
— О-ох!
Я дернулся и проснулся. Уже рассвет, а я лежу на куче соломы. Сердце бешено колотилось, но покорность, стеснявшая мне грудь, исчезла, а в соломе шуршала, уползая, обыкновенная зеленая садовая змея. Я жадно перевел дыхание, а потом, когда буря в теле улеглась, стянул с себя шерстяное одеяло, которое мне дал Моше. Серая сарайная кошка, что мурлыкала во сне у меня под мышкой, метнулась за полевой мышью или, может быть, за змейкой. Я потянулся и глубоко вдохнул земляной запах коровника, конского пота, пыльных перьев и свежего навоза, мышиного помета, сырой соломы и мертвых насекомых. Здесь воздух не был пропитан благовониями, не было роскошной постели с тонким бельем, как у Сильвано. Интересно, когда я забуду запахи благовоний и прикосновение роскошных тканей — или мои чувства вобрали их навсегда? Со смущением и благодарностью я подумал о Сфорно, но тут мне вспомнился только что приснившийся сон, и меня охватил дикий, животный ужас. Однако, вспомнив об обещании, данном его жене, что буду помогать, я схватил лопату и начал вычищать стойла. Работал я неумело, ведь за эти годы я поднаторел совсем в другом ремесле. Я надеялся, что новое занятие развеет наваждение черного сна, в плену которого я находился. И тут в сарай вошел Странник, гремя деревянными башмаками.
— Что-то ты бледен, Бастардо, — заметил он. Схватив щетку, Странник зашел в стойло и бодро принялся чистить одну из лошадей.
— Кошмар приснился, — ответил я, стараясь говорить весело.
— Я мало сплю, снов вижу и того меньше, — пожал плечами он. — Кто же будет спать, когда творение Божье излучает такую благодать вокруг нас?
— Мало благодати видел я в творении Божьем.
— Так что же тебе такое приснилось, отчего ты впал в уныние?
— Такое, что и наяву не отпускает, — пробурчал я.
— Побитый пес будет сидеть в клетке, даже когда решетка открыта, — произнес Странник. — Решетка сидит в нем внутри.
Я перестал работать и, опершись на лопату, положил подбородок на сцепленные руки.
— Я думал, что я волчонок.
— А может, и то и другое?
Вопрос был задан так задушевно, что остатки холодной сдержанности исчезли во мне без следа. В его присутствии я почувствовал себя такой цельной личностью, как еще ни с кем рядом, даже с Джотто. Стоя боком ко мне, Странник чистил лошадь, та отзывалась на заботливые прикосновения тихим ржанием. Я только сейчас заметил, какой у этого человека большой крючковатый нос, который занимал самое важное место на его лице, но не делал его отталкивающим. Наоборот, нос только усиливал серьезность его выражения, которое сохранялось, даже когда Странник смеялся.
— Что это ты так разглядываешь?
— Ваш нос. Такого большого я никогда еще не видел, — признался я.
— Человек должен чем-то выделяться, — усмехнулся он, с гордостью потирая свой нос. — Не всем же быть красивыми златовласыми волчатами!
— Только что я был побитой собакой, — напомнил я.
— А противоположности не всегда исключают друг друга. Тебе нужно взглянуть на мир по-другому, Лука, и глаза твои откроют тебе добро во всем, даже в том, что на первый взгляд кажется воплощением зла.
— Какими же глазами нужно смотреть, чтобы разглядеть добро в такой жизни, в которой меня выбросили на улицу, а потом лучший друг продал меня в публичный дом? — горько воскликнул я. — Я не видел в жизни ничего, кроме жестокости и унижения. Где же тут добро?
Странник опустил пытливые глаза.
— Я всего лишь бездомный старик, откуда мне знать? Но если бы я что-то знал, то ответил бы, что жизнь тебя учит. Жизнь — это дар и великий урок. Возможно, сейчас ты страдаешь затем, чтобы в будущем испытать великую радость, а страдания помогут тебе оценить ее. Вот что бы я знал, если бы Бог шепнул мне это на ухо.
— Бог не шепчет. Он смеется, — покачал я головой. — У вас есть имя?
— Каким именем ты хотел бы меня называть? — Он подмигнул мне. — Я отзовусь на любое. Если ты расскажешь еще о твоем Боге, который смеется.
— Откуда мне знать о Боге? — перефразировал я его вопрос и снова налег на лопату. — Не думаю, что меня когда-нибудь крестили. Меня никогда не учили катехизису. Я слышал проповеди священников, но их благочестивые поучения никак не связаны с тем, что я видел и чувствовал.
— Значит, твое сознание пусто. Это хорошо! В пустоте можно обрести Бога.
— Я всегда думал, что Бога обретают в изобилии, — медленно ответил я. — Например, в величии и красоте прекрасных картин, написанных мастером. Бог присутствует в той красоте и той чистоте.
— Только в чистоте, красоте и изобилии? А в грязи, уродстве и пустоте? Зачем ты полагаешь ему такие тесные пределы?
Я снова забыл о работе и пристально посмотрел на него.
— Почему вы назвали Бога «Владыкой Сокровенных Тайн»?
— А как бы ты его назвал?
Странник тряхнул буйной гривой черных с сединой волос.
— Разве у евреев нет имени для него?
— Как могут евреи дать имя необъятному? Или христиане, или сарацины?
Где-то в мире есть место за гранью добра и зла.
Попадая туда, душа, утонув в высокой траве,
Переполнившись через край, забывает значения слов.
Жди, встречу я тебя там.
[446]
— Так говорил мой друг, а он знал, что говорил, опьяненный духом, словно вином. — Странник расправил грубую серую тунику на тучном теле. — Имена исчезают в той полноте и красоте, которые ты, точно плащ, навешиваешь на Господа, о, мальчик по виду, но не по сути.
— Я вас не понимаю, вы говорите загадками, — пробормотал я.
По его круглому лицу разбежались лукавые морщинки.
— Давая имена, мы пытаемся облечь в форму бесформенное, а это страшный грех. Ты понимаешь, что такое грех?
— Грех мне знаком.
Я выпрямился и посмотрел на Странника со всем высокомерием, на какое был способен. Я убийца, блудный развратник. А до этого был вором. Если уж кто-то и знал, что такое грех, то это я.
— Чудесно, какой дар! Ты скоро будешь вознагражден! На что тебе имена Бога? Зачем сворачивать на неверную тропу, когда путь так хорошо начинается?
— Вам кажется, что, давая Господу имя, мы ограничиваем его, а это неверно?
Я ломал голову, пытаясь разгадать слова Странника. Наш разговор напомнил мне беседы с Джотто, только сейчас от любопытства и смятения мысли мои кружились вихрем, как листья на сильном ветру, подувшем со стороны Арно.
— Разумеется, у нас есть имя для Бога. Но мы никогда не произносим его вслух. Слова, написанные или произнесенные, обладают магической силой, а из всех слов имена — самые священные и могущественные!
— Значит, у евреев все-таки есть имя для Бога. Получается, что они грешники? — живо произнес я в ответ, все более раздражаясь тем, что Странник продолжал ходить вокруг да около.
— А разве не все мы грешники? Разве ваш Мессия не говорил: «Пусть тот, кто без греха, первым бросит камень»? — Странник указал метлой на навоз, который я умудрился разбросать повсюду, не зная, куда нужно мести. — Работа у тебя получается неважно. Смотри, что ты натворил.
— Эту работу я совсем не умею делать, — согласился я и отбросил лопату. — Но я кое-что придумал. Есть другое дело, где не требуется много сноровки. Пойду поговорю со Сфорно.
— Ты мог бы научиться убирать навоз, если тебе хорошенько все объяснят. Попрактикуешься недельки две-три, глядишь и сумеешь, — сухо возразил Странник. — Собери-ка яйца из-под несушек и отнеси их в дом. Вон у двери висит корзина.
А в доме госпожа Сфорно в широком синем платье суетилась на кухне. Она наполняла маслом кувшины, переливая его прозрачной зеленовато-желтой струей из большого кувшина с носиком в маленькие. От ее рук исходил терпкий ореховый аромат оливкового масла. Ее дочь, рыженькая Рахиль, резала на столе хлеб. Она окинула меня с ног до головы серьезным, испытующим взглядом и иронично улыбнулась. Я смущенно улыбнулся в ответ.
— Я… э-э… вот. Принес яйца.
Я протянул корзину Рахили, но госпожа Сфорно быстро заткнула носик и выхватила у меня корзинку. В кухню вприпрыжку вбежала Мириам в розовой ночной сорочке с заплатами. Сорочка была ей великовата, видно было, что она перешла к Мириам после старших сестер. Девочка схватила с тарелки кусок хлеба. Рахиль заворчала и шутливо замахнулась на шалунью. Мотнув по воздуху каштановыми косами, Мириам резко повернулась ко мне, и ее проказливое личико загорелось.
— Доброе утро! — пролепетала она. — Хочешь хлеба? — Она разломила сворованный кусочек и, улыбаясь во весь рот, протянула мне. — Теперь, когда ты живешь с нами, ты по-прежнему блудный убийца?
— Мириам! — дружно воскликнули госпожа Сфорно и Рахиль.
— Ничего, — покраснев, сказал я и замялся под взглядами женщин, потом все же прокашлялся и спросил: — А где можно найти синьора Сфорно?
— Как раз вернулся после утреннего миньяна,[447] — ответил Сфорно, появившись в дверях.
На плечах у него поверх плаща была накинута длинная белая шаль, в нее он, обняв, игриво завернул жену. Она улыбнулась и стала его отталкивать, но он смачно поцеловал ее и только потом выпустил. Чмокнув в щечку Рахиль и дернув за косу Мириам, Сфорно притворно зашатался, когда у него на шее, хохоча, повисла Мириам, вызвав у той новый взрыв смеха.
— Лука принес яйца, — сказала Рахиль.
— Как заботливо, не правда ли? — воскликнул Сфорно.
Он посмотрел на жену, но та сделала вид, что не заметила, и Сфорно с Рахилью со значением переглянулись. Затем он повернулся ко мне и положил руку мне на плечо.
— Как поживаешь, Лука?
— Я придумал, как заработать денег, — сообщил я. — Тогда я смогу отдавать вам и госпоже Сфорно мой заработок.
— Мне хватает лекарского заработка, — ответил Сфорно. — У меня хорошая репутация среди богачей. Они посылают за мной под покровом ночи. Но хорошо платят. Тебе не обязательно давать нам деньги.
Он взял с тарелки кусок хлеба.
— Папа! — заворчала Рахиль. — На завтрак не останется!
— Я всегда работал, — возразил я.
— Так что же ты придумал?
— Город нанимает грузчиков, чтобы увозить трупы. Я тоже могу это делать. Это всякий сумеет, а я не знаю никакого ремесла. Нужна только сила, а у меня ее предостаточно, — сказал я и пожал плечами. — И я никогда не болею. Так что справлюсь.
— Надо научить его читать, — вставила госпожа Сфорно, не глядя на меня.
Я так и ахнул от радости.
— Я смогу читать Данте!
— И ремеслу какому-нибудь нужно выучить, — продолжила она, как будто я ничего и не сказал. — Только так мы освободимся от него.
— Лия моя, до чего ж ты практичная! — Сфорно дотянулся до жены и погладил ее по щеке.
— А пока я могу работать на город, — сказал я.
— Нужно сделать так, чтобы он не притащил нам заразу, — ответила госпожа Сфорно. — А деньги пускай откладывает, чтобы устроить свою жизнь.
— Лия права, зараза распространяется, как пожар, — нахмурился Сфорно. — Тебе придется делать то же, что я делаю после посещения больных, — как следует мыться щелочным мылом и переодеваться, прежде чем войти в дом. Чума может передаваться даже через одежду.
— Я буду так делать, — с рвением отозвался я.
— Я могу научить его читать, — предложила Рахиль.
Сфорно кивнул, но госпожа Сфорно обернулась и погрозила дочери.
— Я так не считаю, — сказала она. — У него будут деньги, чтобы нанять учителя!
— Тогда я пошел, — сказал я, пятясь, и, выйдя из кухни, полетел по коридору, мимо лестницы, где две другие девочки — робкая Сара и младшая Ребекка — играли с куклой.
Выбежав в прихожую, я выскочил за порог и захлопнул за собой тяжелую резную дверь, в которую не осмелился постучать прошлой ночью. Не знаю, что так гнало меня прочь из дома Сфорно. Отчасти причина была в том, как госпожа Сфорно старательно отводила от меня взгляд, как Мириам в объятиях своего отца заливалась смехом. Отчасти в этом виновата была маленькая зеленая змейка, которая, извиваясь, уползла прочь. А главной причиной были, конечно, побитые собаки и решетки, которые сидят у них внутри.
ГЛАВА 8
Рассветное майское солнце залило город белесоватым туманным светом. Повсюду лежали тела, бесцеремонно выброшенные из домов, в которых они некогда обитали. Если бы не черные бубоны, людей некоторых можно было принять за спящих, почему-то уснувших на улице в неестественных позах после какого-то дьявольского карнавала. Но попадались и другие, распухшие и почерневшие, источавшие отвратительное зловоние, гораздо худшее, чем обычно исходит от мертвецов. В бедных кварталах Ольтарно я встречал на улицах сваленных в кучу еще живых, испускающих там последний вздох. Одни подзывали меня, махая рукой, другие просто смотрели, не в силах даже поднять руку. По числу трупов и зловонию я догадался, что в городе не хватает могильщиков, чтобы убирать улицы. А летом дело станет еще хуже, ведь безжалостная дневная жара будет наступать все раньше и раньше. Не теряя времени, я поспешил к Арно, который струился под мостами ленивой серебряной лентой. Ему не было дела до заразы и смерти, носившейся по городу. Перейдя через мост, я оказался в центре Флоренции и поспешил в Палаццо дель Капитано дель Пополо, где священник или служащие магистрата нанимают могильщиков.
Во дворе Палаццо дель Пополо уже собралось несколько нищих и темных личностей. Его здание представляло собой внушительное и строгое каменное строение с арочными окнами и башней, возвышавшейся над крышей трехэтажного дворца. Снаружи дворец был похож на крепость — такие же мощные стены из грубо отесанного камня, но во дворе, где мне пришлось ждать, было очень красиво. Колонны поддерживали просторный сводчатый портик, а к пышной открытой лоджии на втором этаже вела парадная лестница. Собравшиеся смерили меня взглядом, но, увидев бедно одетого мальчишку, потеряли ко мне интерес, ведь у меня явно не было ни денег, ни драгоценностей. Появились еще люди и даже мальчики, изношенная одежда выдавала в них красильщиков шерсти. Пришли даже женщины — уличные проститутки, которым чума перебила работу. Однако тем, кого еще не затронула болезнь, нужно было находить себе пропитание. Я назвал свое имя нотариусу, он, устало кивнув, записал его в учетную книгу, и я, прислонившись к стене, стал наблюдать, как собираются люди. Услышав слова «…мы входим в дома, где все мертвы…», я прислушался к тому, что говорил этот человек.
Его собеседник живо кивнул.
— И берегись стражников! Вчера вот мужчина умер прямо на пороге своего дворца, я вошел за его женой и ребенком и нашел три золотых флорина! Дворец был пуст — ни служанок, ничего, я бы взял больше, но два конных стражника следили, как я гружу трупы. Пришлось привязать малышню к родителям, чтобы сложить нормально. Вот если б не офицеры, я бы огреб целое состояние!
Первый затряс кулаками.
— Считают себя хозяевами города, даже когда люд мрет или бежит прочь. Мы заслужили свою добычу, а то у самих, поди, кишка тонка мертвяков вывозить! Мы жизнью рискуем! Да город у нас в долгу.
Дородный мужчина с залысинами, стоявший рядом, пожал плечами и повернулся к ним.
— Слуги сейчас еще как загребают, — сказал он. — Они могут запросить сколько угодно за свои услуги, и богачи заплатят. Те, кто еще остался в городе. Почти все сбежали.
У меня глаза на лоб полезли при мысли, что можно найти пустой дворец с беспризорными богатствами — хватай и беги. А если хозяева мертвы, то это вообще не кража. На что им теперь это добро? Я мог набрать денег и драгоценностей, шелка и мехов, серебряных кубков и жемчужных ожерелий, и мне надолго хватит, чтобы прокормиться. Я был доволен собой, что не утратил сметливость уличного бродяги, таким бы я и остался, если бы не попал в плен к Сильвано и избежал бы его свирепой кабалы. И тут я вспомнил, что теперь живу в семье Сфорно. И подобная сметка для меня стала ненужной и даже неподобающей. Представить только лицо госпожи Сфорно, не желающей смотреть мне в глаза. Вряд ли ей понравится, если я приду с такой добычей.
Из дворца в лоджию вышел подтянутый судья с чересчур завитой бородой и с важным видом спустился по ступеням. На нем была роскошная бархатная мантия с широченными красными рукавами, которые при каждом шаге взлетали, как два больших крыла. Такая роскошь казалась неуместной и даже кощунственной в то время, когда город вымирал на глазах. Что это, если не нарушение закона о расходах? Судья окинул толпу мимолетным взглядом и покровительственным тоном стал разъяснять условия работы: каков заработок, что мы должны работать до захода солнца, но можем сделать перерыв на обед в полдень, где найти носилки и доски, чтобы складывать трупы, куда их относить. За трупами будут приезжать телеги, запряженные лошадьми, и отвозить их на окраину города, а когда зазвонят к вечерне, мы должны явиться туда, чтобы выкопать ямы для захоронения. Главное, объявил он, запрещается грабить дома умерших и умирающих, иначе нас бросят в тюрьму гнить с преступниками, среди которых уже гуляет зараза. И наконец, он предложил набить рубахи чесноком и травами — чтобы отбить вонь, а заодно защититься от болезни. С этой целью рядом с носилками стояла тачка, доверху наполненная травами, и еще одна с головками чеснока. Затем судья спустился в толпу разбивать нас на пары.
— Ты! — указал он на меня и взглянул, прищурясь.
В тот же миг мы узнали друг друга и оба покраснели. Я расправил плечи и выпрямился. Я больше никогда не позволю стыдить и позорить себя. Как не стану усмирять своей радости, зная, что вчера я убил ему подобных: мужчин, которые ходили в церковь, пили вино с коллегами по гильдии, одевали жен в лучшие платья, жили самодовольно, гордясь своим благочестием, а потом насиловали порабощенных детей. У меня прямо руки чесались схватить его за горло, я алкал его крови, словно меня мучила неутомимая жажда. Мне вдруг пришло в голову, что весть об учиненном мною разгроме в борделе Сильвано уже разнеслась по городу. Флоренция всегда жила пикантными сплетнями, даже во время чумы. А у большинства клиентов были свои семьи, жены, родители и друзья. Интересно, что собираются предпринять городские власти? Возможно, госпожа Сфорно была права, и я приведу солдат к ее порогу.
Потом судья опустил глаза, и чувство удовлетворения глотком холодного вина разлилось у меня в груди. Он решил притвориться, будто первый раз меня видит, будто никогда не залезал на меня верхом, отказываясь видеть мои тихие слезы ярости и обиды, и недешево за это откупился. Он мог так притворяться, только если власти решили не замечать убийства в заведении Сильвано. Значит, мне нечего опасаться преследований. Думаю, эпидемия чумы во многом повлияла на их решение. Болезнь опустошила город, а публичный дом Сильвано бросал уродливую тень греха на Флоренцию. Не один поэт Боккаччо видел в черной смерти кару Божью.
— А меня куда? — с вызовом спросил я, и его лицо еще сильнее покрылось алой краской стыда.
— Ты вон с тем. — Он щелкнул пальцами и торопливо ушел.
— Давай найдем носилки, — обратился я, не глядя, ко второму мальчику и только тут, обернувшись, увидел перед собой бледного как смерть Николо, который в ужасе пялился на меня.
Не долго думая, я зверем бросился на него. Он завизжал, но мои пальцы с нечеловеческой силой сомкнулись на его глотке. Николо хватал меня за руки, стараясь оторвать их от горла. Его лицо побагровело, ноги шлепали по каменным плитам. Тучный мужчина, слова которого я подслушал, ударил меня, но я не выпустил Николо. Он обмяк, а мужчина обхватил меня сзади поперек груди и оттащил от него. Затем он надавал мне затрещин.
— Ты что, мальчишка, совсем одурел — убивать прямо на пороге Палаццо дель Капитано дель Пополо? — со смехом спросил он.
Жидкие остатки волос на его голове были рыжими, в короткой бородке проглядывала седина. Из-за рыжих волос его лицо казалось скорее жизнерадостным, румяным и добродушным, нежели бледным. Он сказал:
— Это место кишмя кишит стражниками, членами магистрата, судьями! Да они бросят тебя за решетку раньше, чем ты успеешь заработать первый грош!
Я высвободился и чуть не испепелил Николо взглядом.
— Ты, бешеный пес, — прошипел Николо, потирая горло. — Убил моего отца, теперь решил и меня, я чуть не задохнулся, пока не выблевал перья! Погоди, я до тебя доберусь! И последнее, что ты увидишь, будут красные перья!
Не успел я ответить, как тучный мужчина оттащил меня подальше.
— Пойдешь со мной. Ты молодой, сильный, мне пригодится такой напарник.
Я не стал сопротивляться, ибо новообретенная свобода была мне очень дорога, да и человек этот был прав. Отцам города ничего не останется, как бросить меня в тюрьму, если я убью Николо прямо на ступенях общественного здания. Но я все равно хотел убить его. Чтобы он заплатил за все страдания, которые причинил мне его отец. Картины из прошлой жизни у Сильвано проносились у меня в голове, а я не спускал с Николо глаз, спрашивая себя, буду ли я когда-нибудь свободен от унижения всех этих лет. Я не отводил взгляда от его узкого противного лица, так похожего на отцовское, пока тучный мужчина не оттащил меня за угол и мы не оказались перед грудой деревянных щитов. Это были наспех сколоченные неотесанные носилки из трех-четырех досок, сбитых гвоздями, а сверху еще была одна, прибитая вместо ручки. Тучный человек выпустил меня, и я споткнулся, потирая плечо.
— Я вас вмешиваться не просил, — сказал я. — Это не ваше дело.
Он улыбнулся, обнажив гниющий синий передний зуб.
— Я видел, как ты спас вчера еврея и его дочку. Ты правильно поступил. Не знаю, виноваты ли евреи в том, в чем их обвиняют, но мне не нравится, когда людей убивают. За последнее время и так достаточно перемерло народу. — Он пожал плечами. — Да и зачем тебе за решетку! Им пришлось бы посадить тебя, если б ты при всех убил человека, пускай даже такого подонка, как сынок Сильвано.
Я смерил человека холодным взглядом.
— Вы что, были клиентом его заведения?
Он мотнул головой, и теплое выражение его глаз померкло. Он подошел к ближайшей бочке, зачерпнул из нее горсть порубленных трав: в основном это были полынь, можжевельник, лаванда — и запихнул себе под рубаху.
— Когда еще не началась эпидемия, у меня была хорошая жена. Мерзкие услуги Сильвано мне были ни к чему.
— Тогда откуда вы знаете, что это Николо Сильвано? — настойчиво спросил я.
— Да вся Флоренция знает Бернардо Сильвано и его сына! Все, кто еще жив, говорят о его убийстве. Кроме Николо, никто не оплакивает Сильвано. Сильвано получил по заслугам. Как и клиенты, что были там. Но то, что человеку сойдет с рук в борделе, ему не попустят на глазах у всего честного народа. — Он схватил носилки и протащил мимо меня, их тень едва касалась земли в лучах утреннего солнца. — Месть должна быть тайной. Ну-ка, хватайся за тот край.
Я схватился за ручку с другого края и зашагал в ногу с ним. Офицер увидел, что мы уходим, и окликнул нас:
— Rosso, ragazzo![448] Уберите тела с улиц по правому берегу реки возле Понте Санта-Тринита!
— Рыжий… Так меня дочка дразнила, — смеясь, отозвался тучный человек.
Итак, мы отправились в западную часть города, с густо населенными улицами возле реки, где нас ждет множество тел. Остальные пары могильщиков двинулись в разные стороны, оглашая улицы на своем пути шутками, ворчанием и гоготом. Их голоса были единственными живыми звуками в этом умирающем и обезлюдевшем городе. Мы миновали зерновой рынок у Ор Сан-Микеле. Крытую галерею его недавно перестроили, надставив еще два этажа для хранения зерна, и она возвышалась напоминанием о далеких временах, кипучей и богатой жизни. Теперь рынок пустовал, если не считать нескольких торговцев из окрестностей города. Если бы я знал Рыжего лучше, то попросил бы его зайти и посмотреть на чудесную Мадонну с младенцем кисти Бернардо Дадди.[449] Ему, конечно, не сравниться с Джотто, но Мадонна с золотым нимбом и в одеждах цвета индиго была восхитительна, а младенец Иисус, касающийся ручкой ее губ, был удивительно трогателен. Этот образ мог озарить светом мрачный трудовой день могильщика, как картины Джотто утешали меня, когда я жил у Сильвано. Но я еще не знал Рыжего, поэтому просто сказал:
— Сожалею о вашей жене.
— Я тоже, — тихо ответил он. — И о моих троих детях. У меня было двое сыновей и дочка. Мой старший был примерно твоего возраста, тринадцати лет. Дочке было десять. Хорошенькая девочка! Огромные голубые глаза, как у той евреечки на руках отца. Я бы удачно выдал дочку замуж, за высокопоставленного члена гильдии или даже за мелкого дворянина. У нее был ласковый нрав и красивые ручки, я бы хорошо ее воспитал и она делала бы честь своему мужу. А мой младшенький был озорник и любил шутить. Мне их так не хватает!
— Когда они умерли?
— Месяц назад. Черные нарывы так изуродовали ручки моей бедной дочурки, ей было так больно…
На его лице лежала печать такого безысходного и покорного отчаяния, что я не сразу его узнал. А потом понял, что вижу на этом лице ту же беспримесную безнадежность, что и в пустых глазах некоторых детей у Сильвано, когда тело продолжает жить, а душа уже умерла.
— Вы все потеряли, — тихо произнес я, и он кивнул. — Наверное, теперь жалеете, что женились и завели детей, иначе сейчас вам не было бы так больно.
— Нет, что ты! Я прожил с женой пятнадцать чудеснейших лет своей жизни. Мы были очень счастливы. Нас сосватали родители, но мы оказались прекрасной парой и скоро полюбили друг друга.
— Иногда мне тоже хочется иметь жену, — робко произнес я, ведь еще никогда и никому я не высказывал это желание вслух.
Я частенько думал об этом, когда еще беседовал с Джотто, хотя надолго забыл об этом после его смерти. Я был слишком занят тем, чтобы просто выжить. Но теперь я свободен и могу открыть двери в новые возможности.
— Любовь — величайшее счастье, величайший дар, какой только можно получить от Бога, — серьезно ответил он. — Она наполняет жизнь человека смыслом так, как ничто другое. — Он вздохнул. — Жаль, что меня не взяла чума! Хотя, — он помолчал, понурив лысеющую голову, — кто бы тогда похоронил их? Лежали бы, дожидаясь постороннего человека, который бросил бы их на носилки, как мы. Похоронив их, я закрыл свою лавку и пошел на эту работу, и буду ее делать, пока меня тоже не скосит чума — большинство могильщиков все равно в конце концов от нее умирают. Да и мало кому сейчас нужны крашеные ткани. Ни богатым, ни бедным. Все умирают, и уже не важно, во что ты одет.
— Вы сами похоронили свою семью? — Я украдкой бросил взгляд на его измученное лицо.
Мне трудно было представить себе, каково это — иметь жену и детей, любить их и потом потерять. Он кивнул.
— Я не мог найти священника, чтобы сделать все как положено, поэтому сколотил гробы и отвез их на холмы, там похоронил и сам помолился за них. Надеюсь, этого достаточно, чтобы их души приняли на небеса.
— Конечно, — заверил его я. — Что может быть святее отцовской любви к своим детям? Разве Господь не понимает этого? Уже поэтому ваши молитвы должны были быть приятны Его слуху.
Рыжий пожал плечами. Он остановился, чтобы вытереть проступивший на лбу пот, а потом снял плащ, скатал его и повязал поясом вокруг тучного живота. Я последовал его примеру, потому что тоже вспотел. Он кивнул мне.
— Теплеет, после прохладной весны. Не знаю, приятны ли мои молитвы Его слуху. Священники твердят нам, что, кроме как через них, к Богу достучаться невозможно.
— Да что знают эти священники? — воскликнул я, вспомнив некоторых, что захаживали к Сильвано. — Я видел только чревоугодников и пьяниц, сварливых, похотливых. Только и смотрят, как бы сбыть людям реликвии да индульгенции и повыситься в сане. Зачем такие нужны Богу? Только чтобы презрительно посмеяться.
Рыжий невесело усмехнулся.
— Ты бы лучше держал эти мысли при себе. Людей и за меньшее сжигали.
Я пожал плечами и замолчал. Мы побрели дальше по улицам, заваленным трупами. Когда мы пришли на место, он сказал мне работать на одной стороне улицы, а сам стал работать на другой.
— Мы сможем уложить… ох… шесть-семь тел на носилки, зависит от размера, — сказал он. — Не так уж много, но мы свалим всех там, потом за ними приедет телега. — Он указал на маленькую площадь, где сходились две улицы. — Это несложно. Будем возвращаться за новыми телами и подберем, сколько сможем.
И вот я перешел на свою сторону улицы, где на булыжниках лицом вниз распластался мертвец. Я перевернул его и увидел светловолосого мальчика примерно моих лет. У него были черты лица грубее моих, а невидящие глаза были не черными, а голубыми. На его щеке был огромный черный нарыв с куриное яйцо. Мальчик был завернут в дорогой плащ из зеленого бархата, который распахнулся, открыв взору черные нарывы по всему нагому телу. Схватив его за руку, я заметил, что он еще теплый, а его конечности еще мягкие и гибкие. Я оттащил мальчика к носилкам, на которые Рыжий укладывал трупы двух мужчин. От них несло гнилью, я поморщился и зажал нос пальцами.
— Привыкнешь, — сказал Рыжий, приподняв рыжевато-бурые брови. — Почти.
— Люди ко всему привыкают, — согласился я, с тоскливой иронией думая, что лучше бы это было не так.
Я остановился, оглядывая безмолвную улицу: серые каменные плиты мостовой, плотно закрытые окна и изуродованные болезнью трупы, на которых от сырости, кажется, истлевала одежда. Где-то вдали бурлила река, протекая под мостом. Все пришло в упадок и погибло. В конце концов и я тоже умру, даже если старею медленнее других. Это мой дар и проклятие, но я хотя бы мог себе поклясться, что больше никогда не сдамся. Я купил это право, убив Сильвано. Отныне, если мне что-то не понравится, я буду сам изменять условия жизни.
Я пошел за новым телом. Неподалеку от того места, где я наткнулся на мальчика, лежало еще два трупа — сморщенная старуха, приникшая седой головой к круглому животу мужчины средних лет. Они были схожи лицом — мать и сын.
Одной рукой он крепко держал ее руку, и мне не сразу удалось их разъединить. Будь я сильнее, то оттащил бы их к носилкам вместе, не разнимая любящего рукопожатия, которому я так завидовал. Если чума настигнет меня сегодня, никто не возьмет меня за руку и не встретит со мной смерть. Меня поразила печальная мысль о том, что умирать мне суждено одному. Наверное, и родился я так же, помеченный немыслимым уродством, из-за которого меня выбросили на улицу. Пусть Сфорно и высказал предположение, что меня наверняка кто-то ищет, но мои родители, скорее всего, знали о моем уродстве. Эта мысль разожгла мое любопытство: что думала обо мне моя мать, неужели она пришла в ужас, когда я родился? Любила ли она меня хоть в первое мгновение так, как Рыжий любил своих детей, прежде чем выбросить меня вон? Знал ли мой отец о моем существовании? Я редко задавался вопросом о своих родителях. Это просто не имело смысла — все равно я их никогда не увижу. К тому же, живя на улице, я был слишком занят добыванием пропитания, чтобы предаваться бессмысленным грезам, а у Сильвано я был занят постыдной работой и слишком увлечен спасительными мыслями о живописи.
А в тот долгий и далекий день во Флоренции передо мной лежал мертвец, свободной рукой неловко обхватив себя за грудь. Его голова запрокинулась. А рот был разинут, словно кричал от боли. На изможденном лице матери застыло выражение мучительного страдания, и я понял, что чума причинила им много терзаний, прежде чем отпустить на свободу. На миг я ощутил благодарность за то, что мне выпало освободить Марко, Ингрид и младенца Симонетты и им не пришлось терпеть подобных мучений. Вокруг сына и матери, словно лужица, выплеснутая приливом, розовели отливающие перламутровыми оттенками складки надетой на женщине юбки цвета шафрановой розы. Такие платья надевают, чтобы предаться невинным развлечениям, на карнавал или праздник. Юбка была такой яркой и неуместной, а человеческое стремление к радости — таким естественным, что я ускорил шаг и даже чуть улыбнулся. Повсюду смерть, но жизнь не обуздать! Она снова вернется во Флоренцию. Она вернется ко мне, несмотря на годы, проведенные у Сильвано.
После этого я обращал пристальное внимание на одежду мертвецов. На трупах она, конечно, была ничего не значащим жестом, но само это занятие отвлекало меня от измученных лиц и гноящихся бубонов, от одинаковой печати бессмысленности и обездушенности, которой метила свои жертвы смерть — что невинных, что виноватых, молодых и старых, богатых и бедных. Понять, кто есть кто, было легко, ведь каждый флорентиец, воспитанный на производстве материи — главном промысле города, разбирается в тканях и покрое одежды.
Каких только платьев я не перевидал за следующие несколько часов, пока мы собирали тела на носилки, укладывали их на площади и возвращались за новыми! Как правило, люди надевали вещи одну на другую в установленном порядке, и наряд отражал положение в обществе его носителя. Эти правила, как и многие другие, на которых зиждилось устройство публичной и частной жизни, нарушила чума. На некоторых трупах было только нижнее белье — сорочки, закрывавшие все туловище. Мужчины заправляли их в штаны, а у женщин они были еще длиннее. Сорочки шили из льна, хлопка, шелка, они были либо жемчужно-белые, либо естественного неотбеленного цвета. Мне подумалось, что, может, всем стоило носить только сорочки, потому что белый цвет означает пустоту, а Странник утверждал, что в пустоте можно обрести Бога. Я, правда, не мог с ним полностью согласиться, потому что фрески Джотто поражали богатством своего содержания, и кроме них я мало где в земном мире ощущал присутствие Бога. Но Странник, похоже, знал такое, что было неведомо мне, и, вероятно, для него в мире, где царит Ничто, открывалось нечто такое, чего не было даже на картинах Джотто.
Поверх сорочки мужчины обычно надевали фарсетто — узкий приталенный жилет, а его шили из чего угодно: хлопка, льна, бархата, парчи. На жилет надевалась туника «лукко». Следом часто шел цельнокроеный плащ, хотя в майскую жару без него вполне можно было обойтись. На сорочку женщины надевали простую облегающую юбку «гонну». Я видел много трупов в одной юбке, хотя такой наряд мог быть уместным только в кругу самых близких родственников и в домашней обстановке. Таким образом, я как бы стал братом бренных оболочек этих женщин, чьи души покинули пораженное чумой тело. Обычно только гулящие женщины позволяли себе показаться перед незнакомцем в одной лишь юбке «гонна», но сегодня я перетаскал на руках столько знатных и богатых дам старинных флорентийских родов, одетых в юбку «гонну», что казалось, чума сделала всех нас одной семьей, стерев все различия. Чума берет жертв без разбору, ей нужны все.
Поверх юбки «гонны» надевалась дамастовая тога джорнеа, или чоппа, с длинными рукавами. Чоппу старались шить пышной и богатой, насколько могла позволить себе семья, ее украшали жемчугом, кружевом, сверкающим серебряным и золотым шитьем, аппликацией и вышивкой, рукоделием, которое называли «фраске».[450] Как же мы любим уснащать театральным блеском свою жизнь! Я оттащил несколько женщин в необычайно роскошных облачениях, и даже в пышном убранстве они казались обобранными до нитки. Неужели они до самого конца стремились во что бы то ни стало поддерживать фамильный престиж и поэтому разоделись так, несмотря на слабость, зная, что скоро умрут? Наверное, они поступили храбро и совсем по-флорентийски. А еще мне казалось, что это особенно удачная шутка Бога, хотя и жестокая. Вероятно, этих женщин одевала после смерти любящая сестра, или муж, или даже мать, словно ожившая в разгар чумы Pieta.[451] Я бы сам оказал такую честь своей жене.
Корсажи и рукава шили из ткани контрастирующих тонов, а для подкладки, отделки и каймы подбирали другие цвета, чтобы сделать одежду еще более яркой: синий с золотым, бирюзовый с малиновым, белый в полоску с шелковыми нитями разных тонов. Люди таят в себе и грехи, и святость, поэтому один цвет преобладал в светлом тоне, а другой — в темном. До того дня, когда мне впервые пришлось тащить трупы к носилкам, я даже не задумывался, что мы, флорентийцы, — народ, любящий дерзкие и сложные цветовые сочетания, упрямо выставляющий напоказ свои наряды даже в смертный час. И ведь именно тогда, когда Флоренция полтора века спустя попыталась отказаться от своих щегольских привычек, она утратила свое могущество и славу.
Я размышлял над тканями, цветом и тщеславием, когда мое внимание привлекло тихое постукивание. Я поднял голову и увидел в окне третьего этажа человека, чье лицо было скрыто за прозрачной колышущейся занавеской. Он махал мне оттуда, рука звала и манила. Я был рад устроить себе передышку. Меня охватило любопытство, и я огляделся по сторонам: нет ли где стражников. Увидев, что никого поблизости нет, я снял с плеч двоих годовалых близняшек, которые были почти полностью покрыты коркой нарывов, и положил на землю. Подойдя к двери под окном, я распахнул ее и увидел узкий коридор, который привел меня к винтовой лестнице. Я поднялся на третий этаж, где передо мной открылась дверь. Из комнаты выплыла струйка шафранового дыма и, согнувшись перстом, точно поманила меня за собой. Я сжался от напряжения, но любопытство возобладало и я вошел.
Комната была заставлена столами со всевозможной утварью: пузырьками, перегонными кубами, колбами, маленькими горелками, из которых вырывались язычки пламени, лизавшие дно пузырьков с бурлящей жидкостью. Было там еще множество незнакомых и непонятных мне предметов. Я в изумлении таращился по сторонам.
— Тебя удивляют все эти принадлежности моего искусства, — тихо произнес человек, сидевший на скамейке у окна. — Это уже хорошо для начала. Тебе стало любопытно, значит, кое-какой ум у тебя есть.
— Ничего подобного раньше не видел, — ответил я и обратил свое внимание на говорившего.
Это был маленький человечек средних лет, худой и гибкий, с жесткими седовато-черными волосами и узким безбородым лицом. На нем была черная туника, а разрезы рукавов открывали черную рубаху. Его глаза закрывал какой-то прибор, сидевший на носу, — еще одна диковинка! Заметив, что я на него смотрю, он постучал по краешку аппарата у внешнего края густой черной брови.
— Не надо так таращиться, мальчик, открой рот да спроси! Это очки. Их изобрели больше шестидесятилет назад, но народ их пока не носит. Они улучшают зрение.
— Кто вы? — спросил я.
— Алхимик. Можешь звать меня Гебер,[452] — ответил он. — Судьба простерла над тобой свою руку, и она приказала мне поговорить с тобой. Иначе я бы не стал отвлекаться от работы. Видимо, я сделал что-то не так, раз меня постигла эта участь.
— Как вы узнали, находясь наверху, что мне станет любопытно?
Я обошел комнату кругом, разглядывая живое море предметов, которые заполонили столы, точно некая волшебная волна. Маленькие орудия для толчения, нарезки, смешивания лежали рядом со ступкой и пестиком. Колбы с краской, комки глины, иглы, нитки, книги с иллюстрациями, листы пергамента, перья и чернильницы, маленькие жестянки с порошками — грубыми и тонкими, камни всевозможных цветов, бутылочки с цветной жидкостью, мешочки с солью, баночки с маслами. Ароматы сладкой гвоздики и аниса смешивались с запахом серы, резким, но все же более приятным, чем запах от мертвецов. На одном столе лежала обезглавленная крыса, на другом под тряпкой стояла склянка с жуками, а на третьем лежал голубь с аккуратно отрезанными крыльями. Я остановился над голубем, потому что надрезы были такими точными и тело очень аккуратно зашито на местах бывших крыльев. Одно крыло было разложено веером рядом с птицей.
— Расстояние не препятствует познанию, — лукаво ответил он. — Расстояние — это всего лишь материя, которая растворяется в кислоте слияния. Ты и сам знаешь. Тебе доводилось путешествовать, преодолевая большие расстояния, и ты видел много вещей.
Я не на шутку испугался. Его слова как будто бы относились к тем путешествиям, которые я проделывал, работая у Сильвано, но я никогда не говорил никому об этом. Я в этом даже Богу бы не признался, если бы ходил на исповедь, — из страха, что он ради смеха положит конец моим путешествиям. Просто невозможно, чтобы Гебер догадался обо всем! Откуда кому-то знать о моих самых сокровенных открытиях?
Я бросил на него резкий взгляд.
— Вы занимаетесь искусством магии?
— Я занимаюсь природой, а она раскрывает многое тому, кто глядит глазами, а видит сердцем, — таинственно ответил он. — Небеса распростерты на земле, но люди этого не замечают. И не слишком сообразительные мальчики тоже.
— Сейчас на земле простирается ад, и повсюду трупы, пораженные чумой.
Покачав головой, я перешел к другому столу, разглядеть, что на нем. Там лежала раскрытая книга, груда сухих фиалок, мохнатая коричневая лапка какого-то мелкого зверька, глиняная плошка с белой яичной скорлупой и еще одна с синими черепками, а также миска с прозрачным треугольным камнем, опущенным в мутную воду. Гебер вздохнул:
— Эта чума никого не жалеет, что еще скажешь.
Я хотел было дотронуться до прибора из трех связанных между собой стеклянных сосудов, но он рявкнул:
— Осторожно! Это перегонный куб с тремя носиками, точно по инструкции самого Зосима.[453] Он нужен для дистилляции… выделения духа из материи, в которой он заключен.
— Как смерть, — заметил я.
Он кивнул.
— Но в алхимии смерть — еще не конец. Дух, пневму, можно снова вселить в тело после очищения. На том столе я построил керотакис Зосима, для сублимации… Иди сюда, дай-ка на тебя взглянуть! Даже с этим чудесным изобретением глаза мои слабы.
Я колебался поначалу и пробежал пальцами по изящно украшенным страницам книги, но он нетерпеливо поманил меня к себе.
— Иди, мальчик, я болен, но чума даст мне еще несколько месяцев. А тебя, как я вижу, она вообще не берет.
Он столько знал обо мне, что я очень опасливо подошел к нему. Встал перед ним, и он оглядел меня с ног до головы сине-зелеными глазами. Я потянулся к штуковине у него на носу. Перед обоими глазами у него было по круглому кусочку стекла, вставленному в оправу из металлической проволоки.
— Откуда вам известно, что зараза меня не берет?
— Иначе ты не нанялся бы в беккини, — ответил Гебер и оттянул пальцем сначала мое левое нижнее веко, потом правое.
Он ткнул указательным пальцем в уголок моего рта, и я его открыл. Он осмотрел мои зубы, потом взял меня за руку и изучил ногти. Перевернул руку и провел по линиям на ладони. Выдавил смешок и постучал по холмику большого пальца. Оставшись довольным увиденным, он скрестил руки на животе и кивнул.
— Многие работают как беккини, — возразил я, смущенно отодвигаясь от него.
Что он во мне разглядел? Какие секреты открыли ему его очки? Я заговорил, чтобы отвлечь его.
— Многие из могильщиков-беккини подхватят чуму. — Я подумал о Рыжем. — Некоторые сами хотят умереть.
— Только не я, — коротко ответил он. — Я потратил много лет труда, чтобы перехитрить смерть. И вот чума меня перехитрила, похитив у меня плоды моих трудов.
— Никто не может обмануть смерть.
— Но ты очень постараешься это сделать, — сказал он и снова усмехнулся. — Ты же знаешь, твои родители были какими-то колдунами. Ты унаследовал их талант, вот только у тебя не оказалось наставника, который научил бы тебя, как им пользоваться. Придется тебе потрудиться, чтобы его развить.
Я отошел от него и дотронулся до крыла, разложенного веером на столе. Почему он вдруг упомянул о моих родителях? Меня захлестнула волна смятения, всколыхнув вместе с неясными подозрениями целый клубок разнообразных чувств, которых я обычно тщательно избегал: печаль, тоску, даже легкую слабую надежду на то, что когда-нибудь, как-нибудь, где-нибудь я их наконец встречу и они полюбят меня.
— Я не знаю своих родителей.
— Но ты уже должен был заметить, как сильно отличаешься от всех окружающих!
— Зачем вы это говорите? Что вы обо мне знаете? — воскликнул я.
Неужели он видел моих родителей? Знает ли тайну моего рождения, а если знает, то расскажет ли мне? Могу ли я стать таким, как все, и все же остаться собой?
— От людей исходит свой свет, мы и есть этот свет, — горячо произнес он, придвигаясь ко мне. — Ради этого и существует алхимия. Несведущий люд думает, что мы пытаемся превратить обычный металл в золото или придумать эликсир вечной молодости. Но это только внешний слой. Алхимия ищет то, чего еще не существует, алхимия — искусство перемен, поиск божественной силы, скрытой в предметах! Божественные силы проявляются в свете… И тот, кто сумеет научиться искусству алхимии, увидит озаряющий все яркий свет!
Я не знал, что ответить на эти странные и пылкие речи, и не мог поверить, что есть нечто более важное, чем превращение обычного металла в золото, которым поддерживается жизнь. Я мог бы поверить в свет, который излучают люди, потому что именно такими их изображал Джотто — светящимися. Я отвел глаза в сторону. Этот Гебер говорил странные, но волнующие вещи с такой искренностью, которая не могла не найти у меня отклика. Жаль, если он подхватил чуму! Я тихо сказал:
— Вы не выглядите больным.
— Не суди по первому впечатлению, иначе будешь как все, — резко ответил Гебер, поднял худую руку и показал подмышку. — Ну же, давай, сам пощупай! Непосредственный опыт всегда дает больше! — И я вытянул руку и нащупал хлипкий комок под черной туникой. — Чума совсем недавно меня нашла. Я могу ей сопротивляться, но не вечно. В конце концов она свалит и меня.
Он говорил совершенно спокойно, без страха и тревоги.
— Может, и нет, у вас бодрый вид. Некоторые люди выживают, вы можете оказаться среди них.
Я не мог сдержать в себе желание утешить его. Он был настойчивым и прямолинейным, и я не хотел, чтобы он умер. Я чувствовал, что он может раскрыть мне многие тайны.
— Я не выживу. Я видел это. — Он пожал плечами. — Мой свет покрылся пятнами и потускнел. А когда погаснет внутренний свет, то и тело неизбежно последует за ним. Ты можешь убедиться в этом своими глазами, сын колдунов, и проверить правоту моих слов на основе собственного опыта. Посмотри, что ты видишь вокруг моей головы и руки…
Его приказ прозвучал мягко и ненавязчиво. И вот уже я почти осоловелыми глазами оглядываю его вытянутую руку, перекат плеча и шейную впадину и вдруг замечаю, как от плеча исходит вспышка голубого света. Он бормочет:
— Что сверху, то и снизу. Что внутри, то и снаружи. Еще одна синяя вспышка пробежала по руке, а потом свет расширяется в желтый ореол, который окружает все его тело, но желтое свечение помечено черными пятнами.
— Хватит! — закричал я. — Не надо, это делает из меня еще более странное создание, чем я уже есть сейчас!
Я отшатнулся и наткнулся на стол. Встряхнулся, часто заморгал и уставился на дымок, который поднимался от бурлящего горшочка. Дымок мягко струился, точно волны реки. Немного успокоившись, я обвел глазами круговорот трубочек, которые отводили дымок в закрытую колбу. Интересно, в чем цель этого алхимического эксперимента? Может, он превращает свинец в золото? Если бы Гебер согласился научить меня этому искусству! Мне бы оно пригодилось. Гебер, похоже, мало ценил это достижение алхимии, но я знал цену золота в человеческой жизни. Меня не интересовал свет, о котором говорил Гебер, но если я смогу из обычного металла делать драгоценные вещества, мне больше никогда не придется бояться голода и уже никто не вынудит меня ступить на путь разврата. И я сказал:
— Я знаю врача, очень хорошего человека. Я могу привести его, он вас осмотрит.
— Мне никакой врач не поможет.
— Но вы хоть дайте ему вас осмотреть. Попробуйте спасти свою жизнь! — возразил я.
— А разве жизнь еще представляет ценность, когда на земле распространился ад? — спросил он и покачал головой. — Не будем тратить попусту время твоего доброго лекаря. Я уже и так достаточно растянул отпущенный мне на земле срок. Но с тобой мы еще поговорим. Приходи завтра. Принеси мне кое-что.
— Что? — спросил я.
Он улыбнулся.
— Сам подумай.
Когда мы прощались, он стоял в дверях и пристально смотрел на меня. Я бросился бежать.
Уже потом, оттирая с себя грязь в сарае у Сфорно при слабом свете единственной лампадки, я случайно поднял глаза и увидел, что за мной наблюдает Странник. Я сразу увидел, что мой вид его не возбуждает, как других мужчин, которые наблюдали за моим купанием. Но все же я не хотел, чтобы он тут присутствовал. Хватит с меня мужчин, наблюдающих, как я купаюсь!
— Оставьте меня одного, — попросил я тихо, но серьезно.
В голове у меня накрепко засели роскошные богатые и яркие ткани, рельефная черная обтачка, желтый свет, исходивший из тела Гебера, и гнилая вонь, сочившаяся из трупов; сложенные штабелями тела во рву, пересыпанные негашеной известью. Мои руки, спина и шея ныли от перетасканных тяжестей и копания. В животе урчало, но я вряд ли бы смог сейчас что-то съесть, хотя и изголодался, как не бывало уже очень давно. Даже отсюда я чувствовал вкусный запах стряпни госпожи Сфорно. Но здесь было мое убежище: темный сарай, расчерченный млечными полосами звездного света, вливавшегося через окошко, из которого навстречу звездам пробивались слабые отблески желтого огонька. Здесь меня окружало тепло тихо блеявших животных, и я не хотел, чтобы кто-то нарушил этот хрупкий покой.
— От тебя воняет, — сказал Странник, расчесывая пальцами длинную бороду.
Я показал ему кусок щелочного мыла в руке.
— Видите, я отскребаюсь.
— Нет. — Он обошел вокруг меня и прислонился к стойлу гнедой лошади, к которой, видимо, питал привязанность. — От тебя несет колдовством и бессмертием. — Он по-волчьи оскалил зубы и погладил по ушам лошадь. — От тебя воняет богатством и тайноведением, как будто ты налетел на древо жизни и сбил с него яблоко. Набил себе шишку, удачливый волчонок?
— Сегодня вокруг меня было все, что угодно, кроме жизни и бессмертия, — устало ответил я. — И ничего мне на голову не падало. Видите, шишек нет.
Я наклонил голову и провел намыленной ладонью по своей голове.
— Это слишком буквально! Ничего, потом обнаружится, — усмехнулся себе под нос Странник, а когда я снова поднял голову, его уже не было, но его смех все еще звенел по сараю.
ГЛАВА 9
На следующее утро, проснувшись, я увидел, что надо мною стоит Рахиль. Ее темно-каштановые волосы были аккуратно зачесаны назад и собраны в одну длинную косу, которую девочка уложила узлом на затылке, чтобы подчеркнуть длинную, белую и стройную шейку. На девочке было простая желтая джорнея без рукавов поверх зеленой юбки «гонны».
— Я буду учить тебя читать и писать, Лука Бастардо, — сказала она со свойственной ей серьезностью.
В тонкой ручке была маленькая деревянная доска с выдолбленными на ней закорючками. В другой — восковая табличка.
— Вставай. Мы приступим сейчас же.
— Прямо сейчас? — Я медленно привстал, спихнув жирную серую сарайную кошку, и смахнул с лица налипшие соломинки.
В жемчужно-сером воздухе стояла прохлада, словно солнце уже приблизилось к кромке горизонта, но еще не показывалось.
— А твоя мама знает?
— Папа знает. Пойдем к окну, там лучше видно. У нас мало времени перед завтраком, а я хочу показать тебе все буквы. Папа говорит, ты умный и быстро схватываешь. Вот и проверим. Я хоть и девочка, но умею учить. Я научила Сару читать, а сейчас учу Мириам.
Она отошла к окошку и села. Я отбросил одеяло и сел рядом, но не слишком близко. Ее присутствие меня волновало. Она была еще девочкой, но уже на пороге юности, вокруг нее словно витал аромат розы. Сплошная мягкость округлых линий, мягкость рыжевато-каштановых волос, но совсем не мягкая уверенность поведения. Я не привык к таким девочкам, как она. Я вообще к девочкам не привык. И с каждой секундой меня все больше одолевала неловкость.
— Твой отец сказал, я умный? — спросил я.
Я был польщен таким отзывом, но занервничал еще больше: ведь теперь мне придется оправдать похвалу. Это что-то новое. Никто прежде не ожидал от меня ничего путного. Сильвано не видел во мне ничего хорошего. Джотто хорошее находил. Клиенты ждали от меня только удовлетворения своих желаний.
— Угу, папа думает, ты — потерянный сын дворянина. Садись сюда, а то не будет видно, — приказала она, указывая на место ближе к себе.
Я замялся, но она снова указала, на этот раз властно, и я осторожно придвинулся поближе. Она вытянула доску так, чтобы я видел ее.
— Это la tavola.[454] Я покажу тебе буквы, а ты перепишешь их на восковую табличку вот этим. — Она показала мне какой-то маленький инструмент, похожий на заточенную палочку. — У меня нет пера, чернильницы и пергамента, так что обойдешься этим.
— Переписать? — спросил я, глядя ей в рот. Губки у нее были розовые и полные.
— А как иначе ты их выучишь? — удивилась она и пожала плечами. — Я научу тебя ротунде, это простейшая форма письма.
— Ротунда?
— Да, потому что буквы круглые! — огрызнулась она, и я понял, что ее терпение уже на исходе.
Я отвел глаза от ее розовых губ, которые меня отвлекали, и сосредоточился на азбуке, распрямив плечи и втянув живот. Девочка продолжила:
— Когда испишешь всю восковую табличку, разгладь ее снова.
— Испишу табличку? — тупо повторил я.
Она язвительно посмотрела исподлобья, совсем как госпожа Сфорно.
— Уж лучше пусть папино мнение о тебе будет более верным, чем мамино, но пока ты меня не впечатляешь, хоть у тебя и золотистые волосы. Может, ты потерянный сын идиота.
— Я буду стараться.
— Посмотрим. А теперь — вот алфавит. — Она указала на закорючки.
— Это крестик, — сказал я, ткнув в первый значок азбуки. Я обрадовался, что хоть что-то знаю, однако удивился, увидев знак креста в еврейском доме.
— Я думал, евреи не чтят крест.
— Христиане думают, стоит показать нам достаточно крестов, и мы чудесным образом увидим их истину, забудем веру наших предков и обратимся в христианство, — произнесла Рахиль, изящно скривив губки. — Итак, для каждого звука в алфавите есть буква. Начнем с твоего имени. С какого звука оно начинается?
— Бас? — предположил я.
— Твое имя не Бастардо, и это был не один звук, а несколько, — возразила она. — Подумай еще раз!
— Мое имя Бастардо, — в свою очередь возразил я, хотя и мягким тоном, потому что хотел ей угодить.
Было что-то приятное и уютное во всей этой мягкости. И это несмотря на то, что она была не лучшего мнения обо мне!
— Неправда, это прозвище, потому что у тебя нет родителей.
— Это мое единственное имя.
— Неверно. Внимательней, Л-лука! — произнесла она, подчеркивая первый звук.
— Л-л? — предположил я.
— Правильно! Это буква «л». А вот как она выглядит. — Она показала, где искать в азбуке букву «л». — А теперь напиши сам.
Она положила восковую табличку мне на колени и вложила в руку острый инструмент. Я снова вместо руки уставился на ее розовые губы и тут же выронил инструмент. Она недовольно поцокала.
— Я подниму, — торопливо буркнул я и нырнул к полу.
Табличка взлетела в воздух, и Рахиль поймала ее, нетерпеливо вскрикнув, пока я шарил по полу в поисках палочки для письма. Потом я сел, по-дурацки улыбаясь до ушей.
— Вот она!
Урок продолжался недолго, но это было ужасно. Я все делал неверно. Каждый раз, пытаясь переписать буквы, я ронял табличку или инструмент или болтал какую-нибудь глупость. Я то и дело переписывал ее маленькие аккуратные буковки шиворот-навыворот, почему — сам не понимал. Моя рука своевольно выворачивала их в другую сторону, и Рахиль не переставала цокать. Под конец я уже просто корчился от отчаяния. Для меня это был первый урок, открывший мне власть женщины над мужчиной, хотя наша мужская власть над миром и кажется безраздельной. Неодобрение женщин лишает мужественности лучших из мужей. Позднее мне пришлось столкнуться с величайшей силой, которой владеют женщины, — любовью. Но это случилось больше века спустя, а в тот день, когда насмешник Бог достаточно натешился своей шуткой, урок наконец-то подошел к концу. Рахиль вздохнула и сунула доску с табличкой под мышку.
— На сегодня хватит, дурачок, в смысле, Бастардо, — сказала она, закатив глаза. — Завтра попробуем еще. Может, у тебя лучше получится.
— А может, послезавтра? — с надеждой заикнулся я. — Мне нужен отдых. Читать оказалось сложнее, чем я думал.
— Тебе надо усердно учиться, а не отдыхать! — фыркнула она и выпорхнула из сарая, оставив меня с острым инструментом, зажатым в потной ладони. Я посмотрел на него и вспомнил о Гебере, который просил меня что-нибудь ему принести. Теперь я знал что.
Дверь в жилище Гебера распахнулась, и оттуда просочились струйки синеватого дыма, перевитые, словно пальцы, выставленные против дурного глаза. Войдя, я остановился перед одним из длинных столов, заваленных всякой всячиной, у которого стоял сам Гебер.
— Это вам… — начал я.
— Тсс! — приказал он.
Я спрятал инструмент за пояс своих штанов и стал внимательно наблюдать, как он осторожно льет золотистую жидкость из нагретого горшочка в холодный. Горячий горшочек он держал толстыми кожаными перчатками с дополнительными кожаными подушечками на каждом пальце.
— Ты знаешь, что я делаю?
— Это золото? — вместо ответа спросил я.
— Оно желтое, тяжелое, блестящее, ковкое и обладает способностью выдерживать аналитические опыты купелирования[455] и цементации,[456] — ответил он.
— А?
— Это золото, — кивнул он. — Я собираюсь очистить его азотной кислотой.
— Зачем?
— Думайте, юноша! Для чего нужно очищение? Для того чтобы растворить примеси, быстро достичь природного совершенства… Очисти меня, о Боже, всели в меня чистый дух, — пробормотал он.
Его очки сползли вниз по вспотевшему носу.
— Помнишь, что я говорил тебе вчера о назначении алхимии? Или, может, опять будешь только мычать?
— Высказали: «Алхимия ищет то, чего еще не существует, это искусство перемен, поиск божественной силы, скрытой в предметах», — процитировал я.
— Замечательно! Уже не мычание! Ты понял, что только что сказал?
— Нет. И все утро я выставлял себя круглым дураком перед девчонкой, которая думает, будто все знает, так что с меня хватит отвечать на вопросы, — угрюмо сказал я.
— Красивая девчонка? — с усмешкой поинтересовался Гебер.
Я кисло скривился и отошел к столу у окна. Над столом колыхались тонкие занавески. На нем лежала маленькая черно-белая собачка с отрезанными ногами, вспоротая от горла до промежности; кожа была искусно приколота булавками вокруг тела, чтобы под ней видны были мышцы. Меня заинтересовало то, как эти мышцы сжимались и разжимались, а еще толстые вены бежали по ним, будто реки по холмам.
— Вы распороли эту собаку, чтобы увидеть, что у нее внутри?
— Да, только ничего не трогай, — предупредил Гебер. — Это называется «препарирование». Я начал с того, что вскрыл кожу, а потом буду по очереди изучать фасцию,[457] мышцы и скелет.
Он потянулся за стеклянной склянкой с жидкостью и взглянул на нее, будто бы взвешивая на глаз.
— А зачем вы делаете препарирование собаки?
— У меня осталось еще столько всего неизученного, что даже ста пятидесяти лет на все не хватило, — вздохнул он.
— Неужели вам так много лет? — изумленно спросил я. — Как такое возможно?
— А как возможно, что человек почти в тридцать лет похож на тринадцатилетнего мальчика? — Гебер метнул в меня взгляд, оторвавшись от своего золота. — Думающий человек всегда сначала задумается о себе. А мое время уже на исходе.
— Может, врач сумеет вам помочь, — предложил я, увиливая от темы возраста и времени.
Мне не раз ставили в упрек мою затянувшуюся юность, и я не хотел, чтобы и сейчас меня настигло чувство смущения, стыда и мучительное знание того, что я не такой, как все, — изгой. Я хотел сосредоточиться на Гебере и на том, чему он мог меня научить: как из простого металла сделать золото. С таким умением человек всегда будет надежно обеспечен, потому что, имея достаточно золота, ты всегда как за каменной стеной. Я подошел к другому столу, где лежала кучка перьев. Бурые, серые, красные и черные лежали вдоль длинных зеленых, а с их концов на меня таращились какие-то синие глаза. Природа вечно на меня таращилась.
— Вы правда можете превратить обычный металл в золото?
— Любой хороший алхимик это может, — небрежно ответил он. — Собаку обучи алхимии — и она сможет.
— Я тоже хочу научиться!
— Не все сразу. Сначала надо решить более важные проблемы. Пока я стою тут, меня пожирает чума. Я хочу создать идеальный философский камень… Я хочу воскрешать мертвых, сотворить гомункулуса[458] и получить власть над природой, чтобы предотвратить хаос. В этом назначение алхимии!
Он говорил с таким пылом и рвением и его слова были так не похожи на благочестивые пошлости, изрекаемые священниками, многие из которых были ложью, что меня это заинтриговало.
— А разве природа это не все? Как можно ее покорить? — спросил я.
— Многие с тобой согласятся: «Искусство столь голословно и лишено мастерства, что ему никогда не удастся оживить розу или сделать ее естественной… Ему никогда не достичь совершенства Природы, пусть мастер положит на это всю жизнь…» — Гебер мне подмигнул. — Так говорится в истории о любви к розе.
— Я мог бы полюбить розу, — сказал я, представив чудесную алую розу, вроде таких, какие держали в скрытых под перчатками руках благородные барышни на рынке. — За цвет, аромат и нежность ее лепестков.
— Но разве ты не любишь ее больше, когда она нарисована? Словно бы живая, но даже лучше, потому что к ней приложено искусство художника? — не унимался Гебер, и я вздрогнул, когда мне представилось, что он каким-то образом может знать о моих мысленных путешествиях.
Он продолжил:
— Ошибка в твоей логике, если это можно назвать логикой, заключается в том, что ты отделяешь мой труд от труда природы. Я по сути выполняю вместе с природой ее работу, подчиняя ее себе: «Госпожа Природа столь сострадательна и добра, что, видя, как Порочность, объединившись с Завистливой смертью, вместе губят творения, вышедшие из ее мастерской, она без устали продолжает готовить отливки и выковывать новые произведения, постоянно обновляя жизнь в новом поколении».
— Если бы Джотто рисовал розы, я бы любил их больше, — признался я. — Но Джотто обращался к природе в поисках священного и греховного. Он списывал с природы образы людей такими, какими они были в реальной жизни. Каким Господь сотворил человека. Отчасти поэтому его картины обладают такой силой и святостью.
— Но и алхимия — не дьявольское искусство, — ответил Гебер. — Хотя ему сопутствуют демоны, как и всему в этой жизни, даже святым… Многие живописцы покупали у меня свои краски, чтобы списывать природу еще ярче. Даже великий Джотто.
— Вы знали Джотто? Он приходил сюда? А у вас есть его работы? — Эти слова неудержимо вырвались у меня сами собой, на мгновение я почувствовал рядом присутствие мастера, вспомнил его шутки, его добродушие, и сердце мое радостно взволновалось.
— Я хорошо знал его, как и ты. — Гебер загадочно улыбнулся, и у меня между лопатками в который уж раз поползли мурашки.
Откуда этому Геберу столько обо мне известно?
— Бастардо! Бастардо! — донесся с улицы слабый голос Рыжего.
Я сказал ему, что буду здесь во время перерыва.
— Вы просили меня что-нибудь принести. Вот! — Я показал ему заостренную палочку и положил ее на стол рядом с перьями.
— Острая палочка?
— Для переписывания букв на восковой табличке. Это задание — адская мука на земле, — сказал я, едва сдержав стон, когда в голове всплыло беспощадное лицо Рахили. Учительница она была строгая.
— Своего рода алхимический дар, потому что он связан с превращением, — улыбнулся Гебер, с довольным и слегка удивленным видом. — Мысли превращаются в знаки, которые снова становятся высказанными словами и мыслями. Глубочайшая алхимия…
— Бастардо! Стражники! — тревожно повторил Рыжий. Я помахал на прощание и слетел вниз по лестнице. Рыжий ждал меня на крыльце у дверей. Взъерошив рукой жесткие рыжие волосы на лысеющем затылке, он махнул рукой: мол, пора и за работу. Плечом к плечу мы заспешили к двум телам на булыжной мостовой — на этот раз нам попались два кондотьера. Нас догнали три конных стражника. Двое, ехавшие впереди, уставились на меня, а я с демонстративной дерзостью уставился на них в ответ. Теперь я свободен. Я не должен прятать глаза и робко убираться прочь, как провинившийся пес, при первом приближении стражей порядка. Моя смелость, похоже, сбила их с толку, и они отступили. Третий, ехавший сзади, подвел ко мне свою гарцующую лошадь и плюнул в меня. Я поднял голову и увидел перед собой хорошо знакомое узкое лицо. На какой-то миг я рассвирепел и пришел в ужас оттого, что какой-нибудь жестокий алхимик мог соединить пневму покойного Сильвано с его телом. Затем я понял, что это был Николо Сильвано, одетый в красную мантию магистрата с нарядным воротником вокруг шеи.
— Похоже, городу и правда позарез нужны стражники, раз они набирают на службу таких подонков, как ты, — презрительно усмехнулся я, даже не отерев со щеки плевок.
— Есть в тебе что-то от колдуна, Бастардо, — прошипел Николо. — Мой убитый отец часто говорил, что с тобой что-то не так. Ты выглядишь слишком молодо для своих лет, и ты слишком силен. Ни один нормальный мальчик не смог бы так убить его… Я всем о тебе рассказываю, и мы за тобой наблюдаем!
Он пришпорил лошадь и затрусил прочь, сопровождаемый двумя стражникамм. В ярости я подобрал с земли камень и швырнул ему вслед.
— Осторожно, Бастардо! — предупредил Рыжий. — Николо Сильвано — твой враг. Вместе с чумой приходит страх, и люди запросто убьют любого, кого заподозрят в колдовстве.
Я пожал плечами, подавив злость. Подхватив под мышки по обезображенному бубонами трупу, мы отволокли их к одной из многочисленных куч сваленных грудой тел.
Следующие несколько недель прошли в устоявшемся ритме. Рахиль будила меня перед рассветом и учила грамоте, точнее, пыталась учить. Я обладал даром запоминать на слух или подражать голосам и никогда не забывал увиденную хоть однажды картину или скульптуру, но значение нарисованных ею закорючек оставалось для меня тайной. Я никак не мог усвоить, что процарапанные на воске черточки что-то означали: ведь это были не картины, которые можно увидеть, и не звуки, которые можно услышать. Я вечно забывал, что они обозначают. Рахиль приходила в отчаяние от моего тугодумия, и она начала щипать меня изящными крепкими пальчиками, если я, забывая, как правильно пишется буква, изображал ее наоборот, что случалось почти постоянно. Во мне шевелилось желание ущипнуть ее в ответ. Годы у Сильвано развили у меня сверхъестественную чувствительность к тонким прикосновениям и яростное желание защититься, когда эти прикосновения становились резкими. Но как я мог применить силу против такого мягкого, округлого и ароматного существа, против девочки? И я вовремя удержался от того, чтобы сообщить ей, как убил нескольких человек, когда она ущипнула меня в шестой раз в один и тот же синяк на плече.
Я всегда сбегал от ее уроков при первой возможности. Приходил из сарая в дом, желал Сфорно, Страннику и остальным доброго утра, хватал кусочек хлеба, обмакнутый в оливковое масло, ломоть сыра и несся к Рыжему на площадь дель Капитано дель Пополо. Несколько часов, пока мы собирали тела, он рассказывал мне о жене и детях. Мне нравилось слушать, как его старший сын ему подражал, как второй поддразнивал, а дочка с прелестными ручонками, бывало, помогала матери шить ему тунику. Однажды девочка шутки ради зашила ему штаны и хохотала до слез, глядя, как он скакал на одной ноге, пытаясь их надеть. А потом, когда Рыжий делал перерыв в работе, чтобы отдохнуть и перекусить, я бежал навестить Гебера.
В третий или четвертый раз Гебер встретил меня в дверях и, смеясь, произнес:
— Такими темпами ты никогда не научишься читать, мой невежественный колдун.
Его лицо и черная туника были измазаны истолченной в мелкий порошок охрой, и он весь пропах солью и мокрой кожей. У него за спиной по комнате вились струйки серовато-бурого дыма, обволакивая изобилие разнообразных предметов.
— Давай-ка я дам тебе урок. Обещаю не щипаться!
— Откуда вы все это обо мне знаете? — требовательно спросил я, отказавшись пройти за ним в комнату, пока он не ответит.
По правде сказать, у меня уже плечо посинело от постоянных нападок Рахиль.
— Мне поведал об этом философский камень, — таинственно ответил он, все еще посмеиваясь.
Он нетерпеливо пригласил меня войти и начал свой урок. С этого дня мы занимались с ним, пристроившись за столом, на котором бурлил его перегонный куб с тремя носиками. На кусочках полотна он рисовал буквы, потом сочетания букв. Когда я мог семь раз подряд правильно прочитать весь кусочек, он разрешал мне бросить его в огонь, и чернила, как по мановению волшебной палочки, окрашивали пламя в фиолетовый и зеленый цвета.
Вопреки самому себе через несколько месяцев, пока Флоренция пеклась в созданной природой печи под названием долина Арно, а потом снова охлаждалась, пока трупы, которые раньше росли на улицах, как грибы, наконец пошли на убыль, двойные уроки принесли свои плоды. Без всякой моей заслуги буквы сдались и открыли мне свои тайны, заговорив со мной сначала шепотом, затем отчетливо и уверенно. Как только я начал читать сначала слоги, а потом и целые слова, Рахиль, кроме предложений, принялась нацарапывать цифры и примеры на сложение. Как было до чумы, а я надеялся, что так будет и после, Флоренция с ее банками и многочисленными купцами могла похвастаться множеством народа, умеющим считать. Как однажды сказал мне Сильвано, это умение называлось abbaco,[459] и оно очень ценилось в торговле, поэтому я был рад ему обучиться. У меня были способности к точным наукам, и математика была мне понятна. Я прекрасно понимал, что, имея два рогалика и четыре абрикоса, можно съесть шесть предметов, и их можно разделить на три часа, съедая по два каждый час. Умнее, конечно, разделить этот запас на два дня, съедая по три штуки в день. Так я научился считать, пока жил на улице. И вычитание тоже не было для меня в новинку: мой старый друг Паоло кулаками вычитал еду, если только находил ее, из моего имущества. Рахиль была очень довольна и стала учить меня разрядам чисел, а потом ручному счету на пальцах, причем я загибал и выпрямлял пальцы на левой руке по-разному, чтобы обозначить цифры. Я всегда ловко управлялся со своими руками и мог за несколько секунд произвести сложные вычисления, и Рахиль приходила в восхищение. Синяки на руке начали заживать.
Когда я немного освоил чтение, Гебер начал говорить со мной о других вещах. Он знакомил меня с единицами мер и весов, учил, как рассчитать объем, показывал свойства металлов и трав, рассказывал о четырех стихиях — огне, воздухе, земле и воде, о четырех качествах — холодном, горячем, влажном и сухом, объяснял, как все руды получаются из ртути и серы. Он обсуждал со мной превращения материи: например, как вода, испаряясь, становится воздухом, а через сжижение снова превращается в воду. Он объяснил мне разницу между чисто подражательным искусством, которое копирует природу, и идеальным искусством, которое ее улучшает.
— Алхимик должен использовать средства самой природы и ограничиваться ими. Натуральность продукта достигается, когда он по возможности точно повторяет действия природы! — настойчиво восклицал он, как будто я с ним спорил (хотя это было не так).
У меня было такое ощущение, словно он мысленно продолжает какой-то давний спор. Еще Гебер ратовал за необходимость опытов, за постоянное подкрепление алхимического искусства результатами наблюдений, не принимая на веру недоказанных утверждений.
— Не все алхимики со мной соглашаются. Но я записываю свои наблюдения — во всех подробностях, — по секрету сообщал он. — Я уже написал толстую книгу под названием «Summa Perfectionis».[460]
Потом он взглянул на меня с непонятной печалью, но я воспользовался этим и снова попросил научить меня делать из обычного металла золото. Меня не оставляла мысль, что это умение способно защитить меня и стать мне опорой на всю жизнь, отмеченную неестественной молодостью и здоровьем.
— Еще рано, но когда-нибудь ты научишься, — ответил он, покачав головой.
Это обещание стало приманкой для меня. Я мечтал заполучить золото, и Гебер нашел во мне усердного ученика. Он учил меня не только своему искусству. Он не забывал и другие предметы. На длинном столе он развернул огромную карту и показал мне, где расположена Флорентийская республика на полуострове, который сапогом вытянулся в Средиземное море. На востоке было Тирренское море, а на западе — Адриатическое. Он описал города, с которыми мы издавна враждовали, — Лукку, Пизу и Сиену, и даже великий Рим, где, как он заверил меня с причудливой улыбкой, я однажды обязательно побываю. Когда я принес ему вести о том, как бродячая банда солдат в окрестностях города убила троих мужчин и надругалась над их женами, а городские власти ничего не предприняли, так как в большинстве они вымерли от чумы, Гебер рассказал мне об устройстве городского правления и об истории города.
Во главе города стояла Синьория из девяти человек, при ней были коллегии: коллегия buon’uomini[461] из двенадцати человек, а также вторая из шестнадцати gonfalonieri di compagnia[462] — по одному человеку от каждого из шестнадцати административных делений. Синьория и коллегии предлагали законы на одобрение двух советов — народного, или пополанского,[463] и совета коммуны. За соблюдением законов и порядка следили иноземцы: подеста или мэр с юридическим образованием, народный капитан и исполнитель судебных решений, которые приглашались во Флоренцию на полгода или год. Считалось, что иноземцы, не связанные ни с кем из флорентийских casate[464] или семей, смогут умерить родовое соперничество. Впрочем, это было слишком дальновидное решение, ибо Флоренция издавна пользовалась репутацией арены кровавых семейственных распрей. Но теперь чума поставила под угрозу все устройство, порядок пошатнулся, умерло столько людей, что даже casate не могли привести город в чувство.
Как говорил Гебер, в результате эпидемии даже влиятельнейшие семьи Флоренции пришли в упадок. История их уходила в далекую глубь веков. Это были Уберти, Висдомини, Буондельмонти, Скали, Медичи, Малеспини, Джандонати. Многие из них перебрались в город из деревень, чтобы приумножить свое состояние и расширить владения. Они управляли своими землями благодаря праву покровительства над местными церквями и монастырями, а еще благодаря связям с людьми, которые населяли их древние имения. К тому же это они взрастили дух вендетты, который с тех пор и висит над Флоренцией, а однажды, в 1216 году, вылился в кровавое побоище на свадебном пиршестве. Тогда Буондельмонти ранил ножом Оддо Фифанти, кровного родственника семейства Уберти-Амидеи.
— Вот дурак, — вслух заметил я, водя пальцем по рваным краям полотняного кусочка для письма. — Надо было просто убить этого Фифанти. А так только зря нож гнул.
— Убийством не решить всех проблем, невежественный ты мой колдун, — твердо ответил Гебер, и его глаза исчезли за белыми кругляшками очков.
— И все же это хороший способ, — возразил я и подумал, что я бы никогда не освободился от Сильвано и его гнусных клиентов, если бы не перерезал им глотку.
Пускай другие говорят, что так думать жестоко. Но я считаю, что это просто практично. Проработав несколько лет у Сильвано, любой бы пришел к такому мнению, если бы, конечно, пережил эти годы. С такими, как Сильвано, нет места для жалости. Они понимают только жесткую и решительную силу. Поэтому нужно было убить и Николо, если бы выдалась такая возможность. Тогда он бы не раструбил о своем враге на весь город, не начал бы распускать слухи. А теперь вот и другие могильщики смотрят на меня как на странного урода.
Нет, настаивал Гебер. Он рассказал мне продолжение истории о том, как Буондельмонти и Уберти решили заключить мир, поженив детей: юный Буондельмонти, который так лихо орудовал ножом, должен был жениться на девушке из рода Амидеи. Тем не менее одна женщина из рода Буондельмонти назвала молодого жениха трусом за то, что он отказался продолжить вендетту. Она предложила ему в жены свою хорошенькую дочку. Буондельмонти согласились, а Уберти поклялись отомстить. Они подкараулили Буондельмонти, когда он ехал со своей невестой через Понте Веккьо в Пасхальное воскресенье 1216 года, и бросили его окровавленный труп на улице возле статуи Марса.
— Вот видите, — вставил я, — они отомстили за то, что кто-то пренебрег женщиной из их рода, и за раненого мужчину. Вот так проблема и разрешилась.
— Но это было началом других проблем, которые продолжались больше столетия! — воскликнул Гебер, ударив кулаком по грубо отесанному дубовому столу, так что керотакис Зосима зазвенел.
Жители Флоренции разделились, в город пришел раздор. Тех, кто поддерживал Буондельмонти, стали называть гвельфами, или сторонниками Папы, а тех, кто поддерживал Уберти, называли гибеллинами, сторонниками императора. Так началась жестокая борьба за власть, пока наконец гибеллины не потерпели поражение.
— А это привело к соперничеству между Нери и Бьянки уже в этом столетии, когда раздор разделил между собой партию гвельфов, — продолжил Гебер.
Он поднял голову, словно бы обдумывая мысли, и я увидел у него на горле маленькое черное пятно. Я охнул и ткнул в него пальцем, но Гебер только кивнул:
— Чума и меня пометила. И вот теперь Донати, славный и древний флорентийский род, предводители черных гвельфов, пришли в ярость, когда выскочки Черчи, предводители белых, купили в их районе дворец у знатного семейства Гвиди. Донати пошли в наступление и вновь ввергли Флоренцию в войну…
Тем вечером я оттирал с себя зловоние чумы в сарае и только краем уха слушал Странника.
Он болтал что-то о том, будто вселенная — это соотношение светлых и темных сил, которые только кажутся враждебными, а на самом деле являются частью великого и бесформенного единого целого. Я погрузился в собственные размышления: в конце концов, Странник ведь не мог научить меня делать золото и не ущипнет за руку, если заметит, что я считаю ворон. Потом Моше Сфорно сам пришел в сарай отмываться.
— Я ухаживал за больными. Услышал, как в городе склоняют твое имя, Лука, — серьезно сказал Сфорно, забрав у меня едкое щелочное мыло. Из уроков Гебера я знал, что мыло содержит поташ, углекислый калий, который способствует очищению.
— И как они его называют? — спросил Странник, усевшись на трехногий табурет и поглаживая жирную сарайную кошку. — Ах, вопрос скорее в том (ведь главное задать его правильно), дают ли они ему имя или отбирают его? Ибо потерять имя — это, пожалуй, первый шаг на долгой дороге к древу жизни.
— Я не хочу, чтобы у меня отобрали имя, — упрямо ответил я. — Может, Лука Бастардо не самое лестное прозвище, но это мое имя. И с ним я намерен совершить великие дела!
— Высшая сущность не ограничивается именем, — заметил Странник, — хотя для удобства ее называют Эйн Соф,[465] а тот, кто созерцает ее, растворяется в море света, становясь неподвластным собственному рассудку и мышлению.
— Его называют колдуном, — ответил Сфорно. — Заболевшие могильщики и люди, видевшие, как Лука убирает трупы, пустили слух. Им сейчас заняться нечем, а внешность Луки привлекает внимание. И его прошлое тоже. Все знают о Сильвано, хотя никому нет дела до его смерти, но всем охота о нем пошептаться. У городских властей тоже свои заботы.
— И божественные имена раскрываются в согласии со своими собственными законами, — пожал плечами Странник, расчесывая пальцами густую черную с сединой бороду.
Скотина в освещенном свечами сарае покачивала хвостами, то и дело мычала, куры кудахтали, кони ржали, а серая кошка мурлыкала, как будто отвечая на его слова.
Сфорно взял у меня щетку и окунул ее в корыто с водой.
— Поговаривают, он пользуется черной магией, чтобы сохранить молодость и красоту. Поговаривают, что обычный мальчик не смог бы убить восемь человек за одну ночь, если только ему не помогало сатанинское воинство. Поговаривают, что он уже слишком давно остается мальчиком.
— А они говорят, что он убивает крещеных младенцев и пьет их кровь, как о нас с вами? — прокаркал Странник. — Добро пожаловать в наше племя, волчонок! Господь и тебя избрал, тебя тоже ждутпревратности и бедствия!
Он дотянулся до меня и похлопал по плечу мясистой рукой. От такого удара я аж закачался на ногах и сердито нахмурился, а он только ухмыльнулся в ответ.
Сфорно пожал плечами.
— Слухи распускает сын Сильвано. А те немногие, кто остался во Флоренции, его слушают. Флоренция всегда любила совать повсюду нос. А напуганные люди с легкостью верят в любую ерунду.
— Сейчас они мало что могут сделать, им и так хватает забот. Надо убирать тела умерших, — сказал я.
Сфорно сбросил с себя тунику, потом рубаху и намылился мылом. Его крепкая широкая грудь поросла растительностью, и хотя я видел много раздетых мужчин, но все равно отвернулся. Его нисколько не смущала его нагота, но я хотел сохранить пристойность.
— Наверное, тебе лучше избегать скоплений народа, — посоветовал Сфорно. — Толпа легко превращается в банду убийц.
— Десять человек превращаются в божью общину,[466] — произнес Странник.
Серая кошка спрыгнула с его полных бедер и погналась за полевкой, которая испуганно семенила по полу. Эта сцена напомнила мне о том, что надо проверить, цела ли картина, спрятанная в стене сарая. Я проверял каждый вечер — это был своего рода вечерний ритуал. Вместо того чтобы молиться, перебирая четки, я прикасался к маленькой рыжей собачке, столь прекрасно написанной мастером Джотто, и восхищался цветом одежд святого. И это священнодейство давало мне почувствовать благодать.
— Десять человек не станут собираться на улице, — заметил я. — Они слишком боятся чумы. Полгорода вымерло. — Я быстро вытерся грубым куском пеньковой ткани. — Синьор Сфорно, я знаю одного человека, которому нужен доктор. Вы сходите со мной?
— Я тоже с вами пойду, — сказал Странник. Он потянулся и зевнул. — Мне нужно как-то развлечься. Моше, как думаешь, твоя милая женушка зажарила на ужин барашка?
— Не знаю, что она раздобыла сегодня у мясника, — нахмурился Сфорно, — и вообще нашла ли там мясо. Женщины покупают товар друг у друга, и одна еврейская мясная лавка еще работает.
— Евреям повезло, что они могут покупать друг у друга. Съестного мало осталось, — сказал я. — Хоть весь город прочеши, и яйца тухлого не найдешь. Нам повезло, что мясная лавка еще открыта. Из деревень больше никто не приносит в город продукты. Рынки опустели. Люди голодают.
— Я заметил, что поставка еды сократилась, — согласился Сфорно. — Будет еще хуже, когда выжившие от чумы начнут умирать от голода.
Они со Странником мрачно переглянулись.
— Евреи — вечные козлы отпущения, — устало произнес Странник, и его радость в одно мгновение испарилась.
Его лицо оплыло, словно воск над огнем. Он точно постарел на глазах, превратившись вдруг в древнего, векового старца. В оплывших морщинах застыла скорбь. Казалось, он повидал больше горя и страданий, чем может вынести человек, оставаясь в здравом уме. А потом его лицо вновь приняло привычную маску иронии.
— Всегда найдется новая страна, куда можно сбежать.
— В следующем году — в Иерусалиме, — пробормотал Сфорно.
— Да будет так, — произнес Странник.
ГЛАВА 10
На следующее утро я повел Сфорно и Странника к Геберу. Я провел их вверх по ступенькам и в дверь, которая всегда таинственным образом распахивалась при моем появлении. Столы загромождало привычное множество живых, пульсирующих предметов: горшочки кипели, гремели мензурки, под потолком висел розовый туман, в воздухе перемешивались острые едкие запахи. Гебер стоял к нам спиной, склонив свою лохматую, чуть поседевшую голову над большой иллюстрированной рукописью в коричневом кожаном переплете. Из-под его локтя высовывался край пергаментной страницы, покрытый миниатюрными узорами из роз и четырехлистника. Когда Гебер обернулся, он и Странник одновременно вскрикнули. В следующую секунду они уже крепко обнимались, восклицали что-то и хлопали друг друга по спине.
— Друг, старина! Когда я последний раз видел тебя, ты спускался с Монсегюра в Лангедок[467] с сокровищами на спине! — гремел Странник. — Ты рыдал над властью сатаны и плоти и бранил ужасную войну добра и зла!
— Это было б марта 1244 года, через день после того, как моя жена, друзья и прочие «совершенные» были заживо сожжены в начиненной дровами крепости. — Узкое и серьезное лицо Гебера исказилось гримасой боли. — Я до сих пор слышу во сне ее молитвы, потому что знаю: она молилась перед смертью.
— Ересь навлекает самый убийственный гнев, — кивнул Странник, сжимая узкое плечо Гебера своей крупной рукой.
Гебер глотнул воздуха, точно сдерживая слезы. У окна под столом стояла клетка, и два голубя, ударившись грудью о дверцу, выпорхнули на свободу и с воркованием полетели по комнате, мелькая в розоватом тумане.
— В чем была причина? В том ли, что Папа ненавидел нашу веру, или в том, что он желал завладеть нашими сокровищами и распространить свою власть на всю эту землю? — горько произнес Гебер. — Лангедок жил в богатстве и изобилии, славясь образованностью и терпимостью, распространяя катарские идеи на Фландрию, Шампань и Мюнхен. Церковь не пожелала это терпеть. Вера тут была ни при чем! Как всегда, речь шла о светской власти!
— Так вы знакомы? — вмешался я.
Войдя в комнату, я подошел к беседующим и перевел взгляд с одного на другого. Они были полностью поглощены друг другом и глядели друг на друга с непередаваемым восхищением. Воздух между ними накалился от старых воспоминаний и свежих впечатлений, обсуждаемых мыслей и общих шуток. Стоило прищуриться, и я бы увидел протянувшиеся между ними золотые нити магической близости… Я моргнул, и видение исчезло. Передо мной вновь стояли два человека, знавшие друг друга в далеком прошлом и хранившие каждый общую тайну, а я, как всегда, оказался третьим лишним, который со стороны наблюдает чужие теплые отношения.
— Я слышал… как ты там себя теперь зовешь, мой «совершенный» друг? — спросил Странник с нескрываемой нежностью в голосе.
— Гебер.
Странник засмеялся.
— Абу Муса ибн Хайян был бы в восторге!
— Может быть, да, а может, и нет. — Лицо Гебера смягчилось и больше не выражало такой муки, его губы тронула нерешительная улыбка. — Я разработал кое-какие принципы, которые он вряд ли бы одобрил, хотя, конечно, я не знал его так хорошо, как ты. Ну а ты, проказливый странник, взял себе какое-нибудь имя?
— Ни за что! Ни за что не позволю другим обрести надо мной магическую власть, — серьезно ответил Странник, и я в первый раз услышал, как он не ушел от прямого ответа. — Гебер, позволь представить тебе моего хорошего друга, доктора Моше Сфорно.
— Для меня большая честь познакомиться со всяким другом Странника, — улыбнувшись, произнес Сфорно, а потом посерьезнел, сразу став похожим на свою дочь Рахиль в минуту сосредоточенности.
— Рад встрече, доктор. Вы пришли по просьбе Луки, — сказал Гебер, глянув на меня.
— Он сказал, что его друг болен, — кивнул Сфорно, и его глаза устремились на шею Гебера. — Вижу, и вас чума прихватила.
— Я не хочу, чтобы вы умерли, — сказал я Геберу. — Синьор Сфорно — самый лучший врач!
Гебер вздохнул и погрозил мне тощим, запачканным в чернилах пальцем.
— Ты слишком много на себя берешь, парень! Не стоило тратить время на меня, доктор. Мне уже ничто не поможет. Хотя я несказанно рад встретить старого друга!
Он крепко сжал руку Странника.
— И как я сразу не догадался, что этот мальчишка именно с тобой время проводит! — воскликнул Странник. — Он возвращается от тебя таким надутым от чванства, каким вряд ли можно сделаться от таскания трупов!
— Я не чванюсь! — горячо возразил я. — Я выполняю достойную работу!
— В мире полно нахальных мальчишек, и это доказывает мне, что я был прав в своих убеждениях, полагая, что зло равносильно добру, — сухо ответил Гебер. — А именно этот нахальный мальчишка убедил меня в том, что одному времени вряд ли удастся вбить что-то в эту упрямую башку!
— Чего-чего, а времени у него будет достаточно, чтобы это узнать, — добавил Странник даже с какой-то радостью. — Жаль, я раньше не знал, что ты во Флоренции!
— Инквизиция сожгла на костре Чекко д'Асколи всего двадцать лет назад, — сказал Гебер, разведя руками. — Хороший он был парень, хотя не стоило трубить на весь свет, что Вифлеемская звезда — обыкновенное явление природы. Священники берегут свои чудеса. Они разожгли большой костер на площади перед дворцом Капитано дель Пополо и радовались, глядя, как пламя выпаривает плоть и жир с его костей. Алхимикам лучше сидеть тихо и не высовывать носа.
— Но я бы хотел встретить тебя пораньше, — грустно возразил Странник, не отрывая глаз от черного пятна у Гебера на горле.
— Прошу вас, подойдите поближе к окну, я вас осмотрю при свете, синьор Гебер, — попросил Сфорно и мягко подвел Гебера к окну. — Я прощупаю ваш пульс, а вы расскажете всю историю по порядку. У вас в ночном горшке не осталась моча? Я и на нее хотел бы взглянуть.
— Сердце мое бьется, история моя — это крепкое здоровье до того момента, когда меня настигла чума. А моча у меня вонючая, как у любого, на кого напала черная смерть, — проворчал Гебер.
Мне показалось, что Сфорно еле сдержал улыбку.
— Думаю, ваша история немного сложнее. Вам и правда больше ста лет? Неужели алхимики изобрели-таки эликсир жизни?
— Даже сам Гермес Трисмегист[468] повелевал использовать разум, чтобы достичь бессмертия, — кивнул Гебер.
Он сел на скамью у окна, а Сфорно склонился над ним и заглянул ему в глаза и горло. Их тихий разговор не был предназначен для посторонних ушей.
Странник подошел к иллюстрированной рукописи, которую читал Гебер, и я, любопытствуя, тоже последовал его примеру.
— Каждое слово излучает множество лучей, — сказал Странник, пробегая толстым указательным пальцем по изящно расписанной странице.
Цветы и маленькие животные вздрагивали под его касанием.
— Знаешь ли ты, Бастардо, цепляющийся за свое имя, что это за слово? — Он указал в текст.
— Пан-та-ре-я,[469] — по слогам прочитал я.
— Все течет, — произнес Странник и раскинул мясистые руки, как бы обозначая весь необъятный мир и чуть не порвав при этом движении бечевку, которой подпоясал свой серый балахон на большом брюхе. — Даже твое чтение. Ты должен быть благодарен дочери Моше, хотя, если ее мать узнает о том, чем вы с ней занимались, могут возникнуть неприятности. Впрочем, Лие Сфорно некого винить, кроме себя. Вот что выходит, когда учишь грамоте женщин!
— А мы ничем и не занимались, — сухо ответил я, хотя у меня перед глазами возникли губы Рахили. — Рахиль честная девушка.
Я придвинулся к следующему столу и дотронулся до пирамидки из плоских серых камней, которые лежали подле горстки каштанов и разложенных рядком высушенных яблочных сердцевин. На сердцевинах были вырезаны лица. Рядом с ними лежала крошечная сморщенная голова — и она была так похожа на человеческую, что я даже чуть было не поверил, будто она действительно принадлежит маленькому человечку. Никогда не угадать, что найдешь на столе у Гебера. Я всегда обнаруживал нечто новое и диковинное и никогда не встречал дважды один и тот же предмет. И где только Гебер доставал эти вещи? А может, просто сам создавал в перегонных кубах и колбах по своему желанию? Я спросил:
— Почему вы зовете синьора Гебера «совершенным»?
— А почему бы тебе самому у него не спросить? — улыбнулся Странник, перевернув страницу рукописи.
Блеснул золоченый край белой пергаментной страницы, когда она встала вертикально и тут же упала.
— Кто я такой, чтобы судить о чьем-то совершенстве? Разве я похож на живое воплощение того, кто вершит божественный суд?
— Пожалуй, нет, — вздохнул я, и мне очень захотелось, чтобы Странник хоть раз просто ответил на мои вопросы, а не метал в ответ другие, как камни, которые должны разбить вдребезги стеклянные ящички моей головы.
— Ответ неверный, — тут же возразил он. — Кто же я, если не живое воплощение Божества? Я живое воплощение всех десяти сефирот, священных эманации или атрибутов Бога, как и все люди, и каждый из нас создан как Адам Кадмон[470] по образу и подобию Божьему.
— Вы говорите затверженными фразами, как церковный ханжа, — рассерженно ответил я. — А что священники знают о Боге? Не думаю, что хоть что-то! Да и откуда им? Откуда кому-то вообще знать о Нем? Мне кажется, нам известно только то, что Бог смеется. Великий мастер когда-то давно сказал мне, что Бог надо мной смеется, и я понял, что он прав и что Бог смеется не только надо мной. Он смеется над всеми. Мы знаем это, потому что иногда чудеса случаются посреди событий столь ужасных, что для них не находится слов. Это словно видение картины посреди зверства. А порой вдруг нечто ужасное врывается туда, где царила радость, например, чума, погубившая жену и детей человека, который был с ними так счастлив. Противоречия существуют везде. И в каком-то смысле, если отвлечься от человеческих чувств, это даже забавно. Сладкая горечь, горькая сладость! И очень смешная.
— Наконец-то, — сказал Странник, окидывая меня пронзительным взглядом, на его крупном лице с густой лохматой бородой было написано откровенное восхищение.
В этот миг подошел Моисей Сфорно, качая головой.
— Боюсь, синьор Гебер прав и я мало чем могу ему помочь, — нахмурился он. — Прости меня, Лука! И вы простите, — сказал он Страннику.
— Однако еще осталось время, — отозвался Гебер, поправляя черный балахон, и тоже подошел к нам.
— Какая обидная утрата! — вздохнул Странник.
По вечерам я поздно возвращался в дом Сфорно. Столько тел надо было похоронить, что мы, могильщики, начинали копать за городскими стенами еще задолго до заката, а заканчивали уже к ночи. Госпожа Сфорно нисколько не скрывала, что ей неприятно мое присутствие, поэтому, отмывшись в сарае от могильного смрада, я как можно тише и незаметнее прокрадывался в дом и на кухню. Там я находил краюшку хлеба и кусок мягкого ароматного сыра или цыплячью грудку, приправленную специями. Иногда на столе стояла пряная белая фасоль, тушеная капуста и миска хлебного супа, а то и пикантное рагу из бобов, чеснока и помидоров, тарелка гороха, запеченного с маслом и петрушкой. Еще госпожа Сфорно готовила чудесный нежный омлет с артишоками. Она вообще была отличной кухаркой, хотя и строго соблюдала все правила еврейской кухни. Я всегда был ей благодарен за любое угощение, оставленное для меня. Я шустро хватал еду и бежал обратно в сарай. Там я доставал из тайника картину Джотто и смотрел на нее, заглатывая ужин, как голодный волчонок.
Однажды, не насытившись тарелкой свежего шпината в оливковом масле, я снова вернулся в дом. На мне была только рубаха и штаны, и при тусклом свете лампы на комоде в прихожей я увидел, что Моше Сфорно идет за мной из сарая.
Он был явно не в духе: понуренная голова, плечи ссутулены под плащом, который в темноте казался черным и огромным.
— Чао, — пробормотал я.
Он поднял голову и с грустной улыбкой махнул рукой.
— Найдется у тебя для меня доброе слово, Лука? Я только что сказал человеку, что его жена и дети умирают от чумы и мне не под силу их вылечить. Единственное, что я мог ему посоветовать, — это постараться не заразиться, — прошептал он.
— Ваша жена приготовила отличный шпинат, — в ответ прошептал я и пожал плечами.
Что еще я мог сказать? Завтра мне хоронить добрых людей, которых он осматривал сегодня. Сфорно кивнул и пожелал мне спокойной ночи. Он начал подниматься по лестнице…
— Моше? — позвал его тихий голос. — Caro,[471] иди ко мне.
Это была госпожа Сфорно, и голосок, долетевший сверху, был таким нежным и чувственным, что я покраснел. Старость и усталость слетели со Сфорно, как сброшенный плащ, и он словно распрямился. Он даже не оглянулся на меня, хотя наверняка знал, что я еще не ушел. Он улыбнулся и заспешил наверх. Я застыл как громом пораженный, когда представил себе, что меня так же позвала бы женщина и ее нежные теплые руки ждали бы моего появления. Я тотчас же решил, что однажды обязательно должен найти для себя такой сладкий голос, так же, как когда-то, много лет назад, я решил, что однажды обязательно улыбнусь так, как улыбался Джотто, — улыбкой мудрого смирения. Жизнь полна страданий, скорби и ужаса, но человек способен пережить все, что угодно, если вечером его встретит такой голос.
Шли месяцы, и жертв чумы становилось меньше. Однажды Рыжий пришел к Палаццо дель Капитано дель Пополо с черным нарывом на пухлой шее.
— Нет, только не ты! — сник я.
Он провел рукой по плотной щеке и почесал лысину на затылке.
— Поневоле начинаешь задумываться: неужели все умрут? Исчезнут ли люди с лица земли, все до единого, покрывшись черными нарывами и харкая кровью? — Он улыбнулся, приоткрыв гнилой синий передний зуб. — Если эта чума убьет всех, если все умрут, то земля опустеет, не останется ни музыки, ни смеха, ни детей с их шутками. Тогда зачем все это? Мы любили, трудились и строили — а все зря.
— Не все умрут, — возразил я, и он бросил на меня пронзительный взгляд.
— Нет, тебя, Бастардо, чума не возьмет. А для меня это не так уж и плохо. Я наконец-то вернусь к своей семье, — пробормотал он. — Насколько я знаю свою жену, она сейчас ждет меня там, на небе, приготовив для меня десять важных дел, которые нужно сделать, а потом наградит меня нежными объятиями. И ручки моей дочки снова будут красивыми, она будет рассказывать мне шутки, смешные истории, которые ей нашептал на ушко сам святой Петр. Я готов принять свою участь. Я даже рад.
— Пускай для тебя все так и исполнится, — сказал я, смирясь перед его кроткой покорностью.
Я сам не мог бы так легко сдаться. Я пообещал себе, что буду бороться до конца. И не верил я в рай Рыжего, но коли его это утешало, а он был так добр ко мне, то мне оставалось только порадоваться за него.
Спустя два дня он не пришел на работу, и я обыскал все улицы города, пока не нашел его тело на крыльце лавки, которая, казалось, когда-то процветала. На этой улице две лавки были даже открыты, и появился прохожий, он заглянул в окна, как будто решая, заходить туда или нет. Ставни в домах были открыты, колокола снова звали народ на службы и молитвы, а не только предупреждали население об эпидемии. Под солнечно-лазурным осенним небом, этот город серо-коричневых каменных дворцов, древнегреческих и римских статуй и мостов, время от времени заливаемых водами Арно, делал первый вздох, пробуждаясь к новой жизни.
Но Рыжий не дышал. Его заплывшие кровью глаза остекленели и видели лишь пустоту. Наверное, он умер всего за несколько минут до моего прихода. Тело было еще теплое, а расширенные поры вокруг бубонов на лице еще гноились. Крепкую шею и сильные руки испещрили черные пятна, одежда на груди была запачкана блевотиной, а штаны — испражнениями. Он умер в муках. Жаль, что меня не было рядом, чтобы хоть немного облегчить его страдания.
Я затащил его тело в лавку — просторную комнату с оштукатуренными стенами. Там было два длинных рабочих стола и много полок с краской для шерсти и маленькими рулонами ткани. На всем лежал толстый слой пыли, собравшийся за долгий период чумы. Я присел на скамью и долго смотрел на бездыханное тело Рыжего. По улице рысью проехала повозка, запряженная парой лошадей. Проскакали стражники, но я не боялся, что они ко мне привяжутся. Чума отступала, и они были заняты восстановлением города. Я вспомнил истории Рыжего о его жене и детях, которые он не раз повторял за эти месяцы. Он спрашивал, какой смысл в том, если все умрут? Наверное, это бы позабавило Бога, и опустевшая земля, покрытая мертвыми телами, показалась бы ему отличной шуткой. В самом деле, на что мы ему? Спустя какое-то время я встал и выглянул в окно. Высокие каменные дома напротив закрывали все, кроме узкой полоски лазурного неба, пронизанного сочным медовым сиянием полуденного солнца.
— Бог-насмешник, дай же его душе соединиться с любимыми! — попросил я.
Затем я вытащил тело обратно на улицу и уложил на носилки. Сложил его руки на сердце в молитве, потому что знал, что скоро его конечности окоченеют. Несколько часов, обливаясь под солнцем потом, я тащил носилки по извилистым булыжным улицам за пределы крепостных стен, повидавших столько армий; и потащил их дальше мимо кедровых деревьев и оливковых рощ, заброшенных виноградников, где иссохшие от солнца лозы клонились к земле под тяжестью спелых гроздьев. Я дотащил его до холмистых вершин Фьезоле, где гуляет легкий ветерок, стынут древнеримские руины и высятся каменные башни и красные крыши города. Я остановился у храма Святого Ромула. Как-то Рыжий сказал мне, что похоронил здесь свою семью. Я знал, что не смогу найти точное место захоронения среди высоких зарослей полевой лаванды и среди рощ сосны и падуба. И в самом деле, теперь здесь было много могил, но я принес его достаточно близко к тому месту, где покоились кости его любимых. Возможно, его духу будет спокойнее. Я позаимствовал лопату с заброшенной фермы возле церкви, а когда нашел место, которое показалось мне спокойным и где небо было особенно голубым и чистым, как на картинах Джотто, начал копать. Мои руки, плечи и спина окрепли за те месяцы, пока я копал могилы. Поэтому с работой я справился быстро. Я положил его тело в могилу как можно осторожнее и засыпал землей. Хорошо закопал, чтобы псы или волки не добрались. По крайней мере, эта шутка у Бога не удалась.
К дверям Гебера я вернулся, полный решимости. Я собирался прямо спросить его о том, что он знает обо мне, о судьбе, о добре и зле и о том, почему мы теряем хороших людей, зачем Богу вообще нужны люди. Было уже темно и прохладно, чудная ночь была озарена множеством звезд и полной белой луной, на которой светились ее сказочные моря. Я прошел по городу, не опасаясь, что гуляю в такой час, когда горожанам запрещается выходить на улицу. Чума практически отменила запрет. Показались конные стражники. Они направились было в мою сторону, но, разглядев в серебристом свете мое лицо, поскакали прочь. Сегодня меня решили не трогать.
Впервые дверь Гебера оказалась заперта. Я постучался, но никто не откликнулся. Я позвал его по имени — и снова никто не ответил. Я попробовал толкнуть, но дверь не поддалась. Я бил в дверь ногами и кулаками — бесполезно. Прислонившись к ней спиной, я сполз на пол и сидел так какое-то время.
Спустя некоторое время, может быть, прошло несколько часов, а быть может, несколько минут, я не знаю, время остановилось для меня, как река перед скалой, преградившей течение, я вышел на улицу. Деревянные носилки, на которых я оттащил Рыжего к могиле, лежали у двери, и я принялся выковыривать железные гвозди, которыми была прибита рукоятка. Я не обращал внимания на разодранные в кровь пальцы, которых не защитили даже заработанные за много месяцев тяжелого труда мозоли. Наконец гвозди поддались, и ручка отвалилась. Подхватив носилки, я пошел с ними наверх, чтобы использовать вместо тарана. Как только я размахнулся для первого толчка, зернистая поверхность двери пошла рябью, как запотевшее зеркало или река Арно. Внезапно передо мной возникло рябое лицо Бернардо Сильвано. Он ухмылялся той злорадной улыбкой, с которой смотрел на меня все годы моего рабства в его заведении. Я двинул доской прямо по этому узконосому лицу с острым подбородком. И Сильвано захохотал. Он знал, что мне никогда его не забыть. Он знал, что навеки поселился во мне, как червь в гниющем яблоке. Во мне поднялась такая волна ярости, что закрыла весь горизонт. Я завыл, как волк на луну, и, озверев, стал колотить доской с той силой, какую ощутил в себе лишь однажды — в ту ночь, когда я убил всех клиентов в публичном доме. Толстая доска в моих руках раскололась на щепки. Но Сильвано не переставал хохотать. Вся ярость и обида, весь горький осадок унижения обрушились на эту деревянную дверь. Она затрещала и резко распахнулась. Я вошел внутрь.
А там вместо знакомой комнаты Гебера с игривым дымком и бурлящими диковинками меня встретила пещера. Она была каменная, сырая и темная, из нее несло пометом животных и затхлым, спертым воздухом. У входа пришлось пригнуться. Я остановился, и впереди мелькнул край знакомого багряного плаща. Мгновенно узнав его, я ощутил прилив злости. С длинной палкой от расколовшихся носилок я ринулся вслед за красным плащом. Я бежал по лабиринту низких тоннелей, со стен которых капала вода, и наконец прижал одетую в красное фигуру к стенке. Я взмахнул острой палкой, и он обернулся. Его лица я разглядеть не мог — оно скрывалось в тени под роскошным красным капюшоном. Но он отразил удар мечом. И меч этот был необычным. Это был один из тех дорогих мечей, какие делают на севере. Меч благородного вельможи, какие носят на поясе знатные господа, обладающие несметным богатством, семьей, друзьями, именем и домом. И мы сразились — моя деревяшка против его сверкающего меча, пока меч не застрял в дереве, и, вместо того чтобы отступить назад, я сделал выпад. Индженьо, о котором напомнил мне Джотто в тот далекий день перед церковью Санта Мария Новелла, а каждое слово Джотто я запоминал раз и навсегда. Мой противник в красном плаще не ожидал такого выпада и зашатался, тщетно пытаясь выдернуть меч из деревянной палки. Я взмахнул левой рукой и изо всей силы вонзил зазубренный конец палки ему в горло. Он закашлял и выпустил меч, его оружие вместе с палкой оказалось у меня в руках. Меч упал наземь, и я вонзил острый конец палки глубоко ему в грудь. Хлынула кровь, и мой противник упал — сначала на колени, а потом ничком на пол. Я пинком перевернул его вверх лицом и пнул еще несколько раз, давая выход своей ярости. Я наклонился и сорвал красный капюшон, который был сшит из самой тонкой шерсти, какую мне только приходилось держать в руках. Я едва не вскрикнул, потому что лицо, смотревшее на меня остекленелыми глазами, принадлежало не Николо. Это было мое лицо.
Пока я стоял как вкопанный, клубы серого дыма, наполнившие пещеру, поползли и рассеялись. Вокруг меня снова возникла комната Гебера, но на столах не было ничего, кроме свечей, и только на одном стоял перегонный куб. За спиной у меня стояли бок о бок Гебер и Странник. Вместо привычной одежды — черного балахона Гебера и грубой туники Странника, подпоясанной бечевкой, — на обоих были белые лукки.
— Пора тебе познакомиться с философским камнем, — сказал Гебер.
— Не вижу никаких камней, — обернувшись, ответил я.
Каменная пещера, которую, мне казалось, я видел, исчезла!
— Это не вещественный камень, — с упреком возразил Гебер и для пущей убедительности ударил кулаком по ладони.
— Тогда почему вы зовете его философским камнем? — спросил я.
— Это символ превращения, вот почему! Внимание! Тебе предстоит посвящение в благородное звание!
— Посвящение? Мне? — горько усмехнулся я. — Бродяжке с улицы, блуднику, убийце?
— Знаю, у тебя впереди еще долгий путь, — согласился Гебер голосом, в котором слышалась усталость. — Но ты уже готов, а у меня осталось мало времени.
У него на щеке вырос новый бубон, а под живыми глазами синели круги. Я понял, что чума постепенно изнуряет его.
— Пути космоса величественны, — добавил Странник. — Ты жених, идущий навстречу свету. Твое тело окрепло, и теперь настало время укрепить твою душу, чтобы объять этот свет.
— О чем вы толкуете? — спросил я, поглядывая то на одного, то на другого. — Наконец-то решили научить меня превращать обычный металл в золото?
— Имя Божье преображает все, — торжественно ответил Странник.
— Сначала — священный брак, — сказал Гебер и вытянул руки.
В одной была обычная свеча из пчелиного воска, в другой — серебряный кубок с выгравированным на нем перевернутым деревом, плоды его были сплетены в единую сеть.
— Стихия огня умножает. Чаша наполняет и опустошает.
Он вложил оба предмета мне в руки и жестом приказал следовать за ним. Я подошел с ним к столу, на котором стоял один из его огромных перегонных кубов. Он выдернул с моей головы несколько волосинок. Я ойкнул, но он не обратил на это внимания и оторвал у меня кусочек от сломанного ногтя. Пробормотав «В реторту!», он вынул пробку из бурлящего сосуда и осторожно бросил в кипящую жидкость волосы и ноготь.
— Что вы делаете? — спросил я.
— Есть четыре мира бытия: эманация, творение, форма и действие, — ответил Странник.
Он встал рядом со мной и начал, раскачиваясь, нараспев читать заклинание на непонятном мне языке. Затем произнес:
— Мы видим узор, но наше воображение не может представить создателя узора. Мы видим часы, но не можем узреть часовщика. Человеческий разум не в силах представить четыре измерения. Как он может представить Бога, перед которым тысяча лет и тысяча измерений — одно целое?
— Я могу представить смеющегося Бога и думаю, сейчас он как раз смеется, — смущенно ответил я и поставил на стол свечу и чашу.
Я оглянулся на дверь, но она была закрыта, и даже полоска света не проникала туда, где должна была находиться щель. Вместо нее появился циферблат горологиума,[472] новоизобретенного механического устройства. Такие в последние годы появились на башнях Флоренции, которая всегда, как тщеславная женщина, любила хвастаться самыми новыми, особенными украшениями.
— Это смех обманщика трикстера.[473] — Узкое, умное лицо Гебера смягчилось улыбкой.
Странник снова начал читать, раскачиваясь в стороны, и его буйная грива колыхалась серо-белыми прядями. Гебер налил вина в серебряный кубок с изображением необычного дерева и протянул мне. Я глотнул. Вино было сладким, с кисловатым послевкусием. Гебер произнес:
— Обманщик трикстер заставляет тебя почувствовать ничтожность человеческих желаний и величие чудесного порядка, явленного как в природе, так и мире искусства и мысли. Трикстер показывает тебе, что твое собственное существование — это своего рода тюрьма, и он вселяет в тебя желание познать космос как единое в своем значении целое. — Гебер зажег свечу, которую я поставил на стол, и надел кожаные перчатки с подушечками на каждом пальце. — Внимательно прислушивайся к трикстеру, ведь он — твоя единственная надежда на спасение из тюрьмы.
— Я больше не в тюрьме, я на свободе, — заупрямился я, потому что эти слова смутили меня и мне это не нравилось. — Я освободился сам и теперь всегда буду свободен!
Было бы в моем голосе достаточно ярости, я бы, наверное, даже поверил, что духовные стены, в которых я жил столько лет, исчезли и я вышел на волю.
— Заменить пустоту на хаос — значит обеспечить свободу, — сказал Странник. — В Царящем эта бездна существует наряду с безграничной полнотой. Поэтому Его творение — это акт свободно подаренной любви.
— Какое отношение творение имеет к свободе? — уныло спросил я, окончательно запутавшись.
— «В начале, когда воля Царя проявилась в действии, Он высек знаки на небесной сфере. И изверглось черное пламя из самых потаенных глубин, из тайны Бесконечности, точно туман, обретший форму в бесформенном, заключенный в кольцо этой сферы, ни белый, ни черный, ни красный, ни зеленый — никакого цвета не имеющий», — размеренным голосом сказителя повел свой рассказ Странник.
Он выразительными жестами иллюстрировал произносимые слова, и комната как будто даже озарилась светом.
— «И лишь когда пламя обрело размер и объем, оно заиграло яркими красками. Ибо из глубочайших недр пламени забил родник красок и залил цветом все сокрытое в сокровеннейших глубинах Бесконечности. Источник прорвался, но не прорвал эфир. Его нельзя было увидеть, пока внезапно не загорелась непостижимая точка под напором последнего прорыва. Что было до этой точки, неведомо никому, и поэтому она зовется „начало“, первое из слов, которыми была сотворена вселенная!»
— Помнишь, чему я учил тебя, мальчик, который жаждет лишь золота? — спросил Гебер с легкой насмешкой в голосе. — Я объяснял тебе процесс дистилляции. Из реторты, через конденсатор, — он провел пальцем в кожаной перчатке по трубке, ведущей из реторты, — и в дистиллят!
Он взял колбу с дистиллятом и вынул пробку. Что-то белое и блестящее выпорхнуло из колбы, его крылышки промелькнули так близко от моего лица, что я вскрикнул и отшатнулся. Гебер вздохнул. Странник засмеялся. Гебер извлек из своего белого балахона маленький золотой пузырек и вытряхнул из него две капельки густой маслянистой жидкости — в колбу-дистиллят. Он начал читать певучим голосом:
— Одна природа радуется другой природе. Одна природа торжествует над другой природой. Одна природа побеждает другую природу!
Внутри колбы с дистиллятом вспыхнула искра. Она занялась крошечной радужной точкой света и выросла в шар, заполнивший колбу. По мере своего роста он загорался поочередно разными цветами: сначала странным черным цветом, затем белым, желтым и лиловым. По комнате разнеслось эхо — резкий треск, похожий на треск ударившей в дерево молнии. И точка света набухла, выйдя за пределы колбы. Вспыхнув, она заполнила все пространство. Она бросала радужные полосы света на все поверхности в комнате: столы, грубо оштукатуренные стены, нашу одежду. Сквозь этот свет я увидел кости Гебера, но не его плоть. У меня перехватило дыхание, и я перевел взгляд на Странника. Вместо него тоже был виден лишь скелет. Я поднял руки и увидел перед собой тонкие фаланги. Я ощутил на руках покалывание, как будто по ним бежала вода.
— Что это за магия? — выдохнул я, и свет померк.
Комната стала прежней, и ее освещали только тусклые свечи. Гебер вылил дымящуюся жидкость из колбы в маленькую глиняную чашу и протянул мне.
— Прежде, чем был создан мир, существовал только Бог и Его имя, — произнес Странник. — Пока мы исправляем тебя камнем, который не является камнем, повторяй в уме слово, которое я шепну тебе на ухо. Это слово ты не должен говорить больше ни одному живому существу. Это одно из священных имен!
— Prima materia,[474] — сказал Гебер, — пей и возвращайся к своему существу!
Я взял чашу двумя руками, в которых до сих пор не прошло покалывание. Это была маленькая коричневая чаша, расписанная зелеными листьями и как-то странно холодная на ощупь. Я внимательно посмотрел на двух очень разных мужчин, что стояли передо мной в белых балахонах, и поднес чашу к губам. Странник наклонился и прошептал мне на ухо. Его шепот зазвенел у меня в ушах, и я глотнул горького эликсира.
Гебер и Странник исчезли. Их просто не существовало, как будто они никогда и не стояли передо мной — ни Странник со своими головоломными загадками, ни Гебер с его язвительными наставлениями. Комната Гебера осталась прежней: ее освещали оплывшие восковые свечи на пустых деревянных столах, а на столе в центре стоял перегонный куб, который при кипении свистел. Я словно задохнулся. Ноги подо мной подкосились, и я рухнул головой вперед. Кое-как я ухватился за край стола, но удержался только на секунду. Колени подломились — должно быть, именно так чувствовал себя когда-то бедный, добрый, обреченный Марко, когда Сильвано подрезал ему поджилки, а дети смотрели на это с ужасом и болью, которая до сих пор не оставляла меня, — и вот я уже лежу на полу. Из последних сил, еще оставшихся в руках, я сел, прислонившись спиной к ножке стола. Комната сотряслась, и мое тело расчленилось: обожженные ладони полетели в глубокую синюю бездну, а туловище осталось само по себе, отдельно от головы, от дыхания и мыслей, которые перемешались в голове, как предметы в мешке у коробейника. Все распалось… Я понял, что сейчас умру.
Мне было горько оттого, что я умираю один, после того как столько лет, пока смерть неотступно ходила за мной по пятам у Сильвано, я все время надеялся, что, когда наконец настанет мой час, я умру в мире и покое и рядом со мной будет какая-нибудь добрая душа. Я вспомнил о Рыжем: может быть, его дух витает где-то рядом, чтобы встретить меня в загробном мире? Он с таким достоинством покорился смерти, когда понял ее неизбежность, что я решил последовать его примеру. Я вздохнул — или подумал, что хотел бы вздохнуть, потому что застывшая грудь не двигалась…
Меня охватила судорожная боль, и дыхание мое остановилось. Непрерывное биение сердца, к которому я так привык, замерло и затихло. Я услышал падение какого-то тела и, увидев лежащего на полу худенького светловолосого мальчика, понял, что это я покинул свое тело. Красивое было тело! Оно выглядело так, словно в скором времени ему предстоит вступить в пору мужества. Стройные ноги, мускулистые, сильные плечи и спина, симметричное лицо, темные невидящие глаза, спутанные рыжеватые волосы. Но во всем этом больше не было меня. Темноту в комнате отогнал рассвет. Вошел Гебер и вскрикнул, увидев мою пустую оболочку. Он склонился пощупать пульс на шее, печально забормотал себе под нос, когда его пальцы не ощутили во мне биения жизни. Кряхтя от натуги, он вытащил меня вниз на улицу и дождался, пока придут могильщики с деревянными носилками. Они бросили мой труп поверх тел старика и беременной женщины — последних жертв чумы. Гебер ушел, а когда могильщики вынесли меня за стены города к месту погребения, Гебер вернулся вместе с семейством Сфорно. Странника с ними не было. Сгрудившись вместе, они ждали, пока могильщики выроют канаву и уложат дюжину тел, в том числе и мое. Могильщики забросали нас негашеной известью и засыпали доброй комковатой тосканской землей. Рахиль и Мириам тихо плакали. Моше Сфорно читал молитву, держа на руках Ребекку. Госпожа Сфорно смотрела через поросшие лавандой холмы на каменные стены Флоренции, над которыми на фоне бескрайнего синего осеннего неба возвышались темные силуэты башен.
И тогда я отвернулся. Я вдруг понял, что могу пойти куда хочу и теперь я по-настоящему свободен. Все существо мое переполнилось внезапной радостью. Теперь я смогу увидеть больше фресок Джотто. Я увижу прекрасный цикл фресок с историей святого Франциска Ассизского, о котором рассказывал мне старый друг брат Пьетро. А пока я парил над высоким холмом, украшенным двойным собором из белого мрамора — двумя церквями, поставленными одна на другой. От этих холмов струился бесконечный покой. Большое окно-роза в верхней базилике выходило на восток, и меня тянуло спуститься через него в трансепт церкви. И вот я парю перед изображением святого Франциска, читающего проповедь птицам. Это был добрый и веселый человек в коричневом монашеском одеянии. Склонив голову, он нежно протягивал руки к птицам, что летали по небу или сидели в гнездах. Его спокойные святые руки воплощали милость Божью к бессловесным тварям. И смирение великого святого было наполнено состраданием и жалостью. Из-за спины святого Франциска за этим чудом в великом изумлении наблюдал его товарищ, но он не делал резких движений, боясь потревожить робких пташек. Эту сцену обрамляли два дерева, а фоном была зелено-голубая святость самой природы. Благодаря своему дару мастер Джотто смог запечатлеть мгновение возвышенного покоя и святости, передав при этом живое тепло человеческих черт святого Франциска.
Я не смог задержаться, потому что рядом со мной что-то было — некая блистательная сила толкала меня дальше, кем бы этот «я» ни был. Сила открыла дверь, и я очутился среди вихря, неподвластного законам времени и пространства. Мимо меня, словно вода с карнизов, текли образы: булыжные улицы Флоренции, грязные, безмолвные и опустошенные чумой. Рынок с бочками зерна, корзины спелых абрикосов и столы со свежим мясом, только со скотобойни; прилавки с драгоценностями и вином, кувшины ароматного оливкового масла. Лица знакомых людей — смуглый Паоло, Массимо, предавший меня, и Симонетта с родимым пятном. Лица людей, которых я убил, — мужчин из борделя, Марко с длинными черными ресницами, едва родившаяся дочка Симонетты в красноватой жиже. Незнакомые лица, некоторые из которых очень напоминали мое. Кровать с матрацем, набитым конским волосом, в маленькой каморке у Сильвано. Взятие на небо Иоанна Евангелиста. Сено в сарае у Сфорно, жирная серая кошка, которая мяукала и скреблась до тех пор, пока я не пущу ее спать к себе под бок…
Образы пронеслись мимо, и я увидел огромные свитки времени, похожие на иллюминированный манускрипт, чьи страницы, шелестя, разворачивались, открывая взору сокрытые в них иллюстрации: незнакомые лица и кровавые войны, новое оружие, изрыгающее огонь; наводнения и мор, голод, поразивший целые страны, и огромные чужеземные города; диковинные машины, которые летали по воздуху или плавали глубоко под водой, и стреловидный корабль, полетевший на луну… Невообразимые зрелища открылись передо мной. Казалось, нет ничего, что человек не мог бы создать, испытать, а затем разрушить! Я мог лишь ошеломленно созерцать это, как созерцал фрески Джотто во время тайных путешествий, когда я работал у Сильвано. И все это время священное слово Странника не переставало звенеть в голове далеким колокольчиком.
Сердце мое разверзлось, и меня опалило черное пламя Геберова дистиллята. Оно было больше похоже на текучую воду, чем на огонь: оно промыло и раскрыло каналы между моей грудью и кончиками пальцев и совсем размягчило меня, оставив меня выжатым, преисполненным печалью и болью потерь, пробудив во мне глубоко скрытую жажду любви, скрытую в первую очередь от самого себя. Пламя было сырым и бодрящим, оно опаляло так, как никогда у Сильвано, ведь там я был защищен воспоминаниями о чужих словах, моей непрекращающейся работой, радостью ежедневных трапез и моей способностью мысленно улетать к картинам Джотто и Чимабуэ. Я наслаждался своей неприкрытостью и незащищенностью, когда ко мне подошла невысокая стройная женщина. На ней было нарядное платье синего и оранжевого цвета, ее окутывал серебристый свет, но лицо и волосы были скрыты в тени.
— У тебя есть выбор, — произнес голос, но он принадлежал не ей.
Голос этот был ни молодым, ни старым, ни мужским, ни женским, он не принадлежал ни флорентийцу, ни чужестранцу. Он исходил из ниоткуда и отовсюду, и он просто говорил. Голос звучал, и я увидел себя вдруг взрослым мужчиной, худощавым, не слишком высоким, хотя и мускулистым. Правильное мальчишеское лицо возмужало и, как отметил мой безразличный взгляд, казалось привлекательным. В новом мужском обличье я приблизился к женщине. Взял ее нежную руку, поцеловал мягкую ладонь и вдохнул аромат сирени и лимона, как будто она недавно собирала цветы в ясных лучах рассвета. Я обнял ее, и ее стройное тело растворилось во мне. Я почувствовал невыносимое, мучительное счастье, которое пульсировало во мне, и руки мои, державшиеее тонкий стан, отозвались в ответ теплотой и любовью.
— Ты можешь получить ту великую любовь, о которой мечтаешь, но ты не сможешь ее удержать навсегда…
И я увидел — нет, почувствовал себя в одиночестве. В горле запершило от тоски, черное пламя, открывшее меня, теперь безжалостно сжигало мое сердце, и одиночество надвинулось на меня, как железные стены с направленными на меня шипами. Не могли утешить меня ни картины Джотто, ни роскошные полотна еще не рожденных художников, которые открывались моему взору во время моего полета сквозь время. Такой муки даже я никогда не испытывал, а уж мне пришлось испытать многое! Язык мой стал горьким и ссохся от проклятий, обращенных к Богу. Руки еще были теплыми, но мои собственные ногти выдирали кожу с ладоней.
А потом вдруг все стихло.
— …И любовь твоя приведет тебя к несчастью и преждевременной кончине. Или же ты можешь жить, никогда не встретив ее, и проживешь на несколько столетий дольше, — произнес голос.
И мужчина, которым я стал, беспечной походкой шел вперед, и за спиной у него развевался роскошный шерстяной плащ, словно его обдувал прохладный ветерок на проселочной дороге. Мой кошелек оттягивали золотые флорины, и я знал, что обрел настоящее богатство. И был я спокоен, доволен, щедр, но чего-то все же не хватало. Руки мои были холодные и как неживые. Вокруг было свободно. Я буду жить долго и увижу собственными глазами диковинные машины, которые мне показали раньше.
И голос закончил:
— А теперь выбирай!
— Что за вопрос? — услышал я свой голос. — Конечно любовь!
Меня бросило куда-то, и вот я опять задыхаюсь и блюю на деревянный пол Гебера. Странник обхватил меня сзади рукой, а Гебер вытер лицо маленьким кусочком ткани, на каких мы обычно писали. Я закашлялся, и меня снова стошнило. Я не ел ничего с тех пор, как на завтрак пожевал ломоть черствого хлеба, обмакнутого в оливковое масло. Но в желудке еще что-то осталось. Утеревшись рукой, я удивился, когда почувствовал аромат сирени, пришедший из моего видения. Аромат не был тонким, наоборот, резким, как будто я вылил на себя пузырек духов. Это было вещественное доказательство моего невообразимого путешествия, и я был ошеломлен. Меня так взволновало это открытие, что я совершенно растерялся и не знал, как это понимать. Было ли все в действительности? А если так, то что тогда действительность? Мое уродство и запоздалое взросление, чудесные путешествия к фрескам Джотто, к которым я устремлялся, спасаясь от ужасов работы у Сильвано, заставили меня усомниться в вещах, которые остальные люди принимали на веру. Видение размыло границы, которые даже мне казались незыблемыми.
— Добро пожаловать обратно, — бодро сказал Странник.
— Понравилось путешествие? — спросил Гебер, и его худое безбородое лицо выражало любопытство.
Я переводил взгляд с одного на другого, и на языке у меня вертелась тысяча вопросов. Потом я согнулся, и меня опять вырвало.
— Внизу меня ждет ослик. Отвезу-ка я его домой, — сказал Странник.
Он взвалил меня на плечо и потащил вниз, гремя сандалиями по ступенькам. От этого грохота у меня еще пуще разболелась голова. Гебер пошел следом с тряпкой, чтобы подтереть, когда меня снова вырвет. Бурый крикливый осел был привязан к бронзовой коновязи. Странник бесцеремонно забросил меня на вонючее животное, так что головой я свесился на одну сторону, а ногами на другую. У меня в горле поднялась очередная волна рвоты, и я срыгнул прямо на пыльно-бурую шкуру ослика.
— Хорошо, что мой серый приятель не такой чистюля, как милая женушка Моше, иначе ты бы сейчас уже вытирал его и извинялся за дурные манеры, — пошутил Странник. — Лучше сейчас от этого избавься, волчонок, а то, если тебя вырвет прямо на пол в доме Сфорно, его женка отдует тебя метлой!
Голова моя бессильно моталась из стороны в сторону, но я собрался с силами и приподнял ее, чтобы взглянуть на своих провожатых. Меня переполняли вопросы, и башка трещала, как погремушка с горохом, но выскочил только один.
— А теперь я могу делать из свинца золото? — прохрипел я.
— Возможно, но нужна тренировка, — ответил Гебер, закатив глаза к небу.
Он взял мою руку и принялся разглядывать в лунном свете, пробежав пальцем по линиям, вычерченным на моей ладони. Я тоже посмотрел и с удивлением обнаружил, что там появился новый изгиб, начинавшийся от бугорка под большим пальцем. Задумчивым довольным голосом Гебер произнес:
— Да, вполне вероятно. Но не сегодня, нетерпеливый ты наш!
Странник фыркнул.
— Истинное золото — это познание. Боюсь, ты его еще не добыл.
— Но он хотя бы пытается, — сказал Гебер. — Это достойно похвал. Ему достаточно одного понятия, минимальных знаний — и вперед.
— В нашем юном волчонке многое достойно похвал, — усмехнулся Странник. — Вопрос в том, может ли он сам найти в себе главное — Бога внутри? Будет ли он и дальше видеть в своей душе врага или наконец увидит там друга? До того как опять умрет, не успев воспользоваться данной ему возможностью изменить мир к лучшему?
— С чего это мне изменять мир к лучшему? — снова простонал я, ерзая на осле, чтобы сесть на нем как положено.
Осел выгнул шею и попытался куснуть меня, сверкнув белоснежными зубами. Странник шлепнул его по боку, но ласково.
А я сказал:
— После того, как мир со мной обошелся — бросил меня на улице, продал в публичный дом, заставил убивать друзей и младенцев, снова и снова показывая зло человеческих душ, — мне как-то не кажется, что я этому миру чем-то обязан!
— А мне-то как раз почудилось, что он начинает подавать надежды! — возмутился Гебер.
— Волчонок, это не мир с нами так поступает, — добродушно произнес Странник. — Важно другое — как мы поступаем с миром. Нас этому не учат, но тебе была дана милость жить на улице, и ты чему-то научился. Тебе есть на что надеяться. Мы должны забыть все, чему нас учили, чтобы осталось одно удивление. И тогда вместо обычного зрения мы обретаем ясновидение. Твое зрение не изменилось?
Я и так ослаб, а вопросы Странника вконец меня вымотали. Я опустил голову на шею осла.
— Не знаю, что я видел, — признался я. — Не знаю, действительность это была или тени. Я уже вообще не различаю, где действительность.
— Значит, надежда есть, — повторил Гебер.
Он махнул на прощание, и Странник повел осла по улице. Ритмичный цокот ослиных копыт по каменным плитам убаюкал меня, и я задремал. Я поддался сну, подумав, что еще успею потом задать все вопросы и услышать ответы Гебера и Странника, что со мной было и что все это значит. Время не такое, каким мы его представляем. Оно неуловимо, неизмеримо и неожиданно кратко, даже для человека, чья жизнь гораздо длиннее, чем отмерено обычным людям.
ГЛАВА 11
Утром, едва рассвело, в сарай впорхнула Рахиль и принялась будить меня для очередного урока. Я замычал и перевернулся на другой бок, закрыв голову руками. Серая кошка задушенно мяукнула и вылетела из-под меня.
— Вставай, Бастардо, сегодня ты будешь читать басни Эзопа, — скомандовала она, подталкивая меня в бок носком туфли, совсем не деликатно.
— Хр-р, — ответил я, зарывшись головой еще глубже в одеяло и солому.
Рахиль не любила, когда от нее отворачивались, и со всем пылом своей горячей натуры отпустила пару язвительных замечаний в адрес такого глупого и никчемного лентяя, как я. Я уже слишком закалился, чтобы бояться ее упреков, и даже легкий пинок по ребрам не заставил меня подняться, а будь я бодрее, то мог бы и схватить ее за ногу, чтоб неповадно было пихаться. Но чувствовал себя я неважно: язык распух и не ворочался, все тело ныло, и малейший шум отзывался в голове пульсирующей болью, как топот сандалий с железными шипами. Короче, такое ощущение, как будто сначала я надрался в стельку, а потом меня избили палкой. Да и вообще неохота было вставать, потому что опять придется таскать трупы туда-сюда. Я похоронил Рыжего, который мне так нравился. Потом и сам умер. Все это сбило меня с толку. Видения постоянно повторялись в моей голове, вызывая странные мысли и несбыточные желания. Гебер сказал, что философский камень меня облагородит, и мне казалось по какой-то не совсем понятной причине, что так и случилось, хотя я этого не заслужил. Мне словно задали взбучку и сделали лучше. И теперь у меня появилось стремление к более почтенной работе, которой я бы гордился. К работе, которая будет достойна той любви, что была обещана мне в видении, если, конечно, станется так, что видение даст ростки на реальной почве. Это была недосягаемая мечта, но вместо того, чтобы развеяться, как сон, она во мне крепла. Я не знал, каким образом мог бы ее осуществить, и от размышлений мне становилось только еще тоскливей. Словом, я так и не поднялся, пока пополудни не пришел Моисей Сфорно, чтобы переодеться в уличное платье. Он снял с вешалки лукку. В голове мелькнул образ, оставшийся, наверное, от видения, и я увидел, как иду следом за Сфорно помогать больным.
— Подождите, синьор, я должен пойти с вами, — сказал я, с трудом заставив себя сесть.
— Ты не знаешь, куда я иду, — ответил он, прищурившись.
— Вы идете навестить больного. Больного чумой.
— Не сейчас. Один юноша из знатного семейства поранился мечом, и у него заражение крови.
— Можно мне пойти с вами и посмотреть? — спросил я. — Может, я сгожусь на что-нибудь, буду нести инструменты, ну хоть что-то.
Внезапное решение так удивило меня самого, что туман в голове даже немного рассеялся, и я поднялся на ноги.
— Почему-то мне не пришло в голову, что ты мог бы мне помогать, — задумчиво произнес Сфорно.
— Не могу же я вечно работать могильщиком, — заметил я. — Теперь, когда чума пошла на спад, городу они больше не нужны. А у вас четыре дочери и ни одного сына, который мог бы вас сопровождать.
— Нет сына, чтобы обучить его моему ремеслу! — вздохнул Сфорно.
— К тому же мальчика наверняка придется держать, если придется ампутировать руку.
— Верно. Ты тяжело работал и набрался силенок, да и достаточно закален, чтобы выдержать это зрелище, — с улыбкой согласился он. — Ты был бы мне хорошим подспорьем, может, даже когда-нибудь стал бы врачом. Давай-ка, одевайся.
Я вытряхнул коричневое шерстяное одеяло, под которым всегда спал, свернул его и очистил рубаху от сена и кошачьей шерсти. Моя рабочая одежда — штаны, фарсетто и накидка — висела на деревянном крючке у двери. Сфорно бросил мне одежду, и я оделся.
— Мне никогда раньше не приходило в голову, но, думаю, мне бы понравилось работать врачом. Это хорошее ремесло.
— И тяжелый труд, — добавил Сфорно. — Многому нужно учиться.
— Я не боюсь тяжелой работы и готов учиться, — сказал я и вдруг понял, что я действительно хорошо подготовлен.
Месяцы обучения у Рахиль и Гебера постепенно воспитали во мне жажду к знаниям. А после того, что мне показал философский камень, мне захотелось найти новый путь в жизни. И я сказал:
— Мне просто не терпится всему научиться!
Сфорно внимательно изучил мое лицо и кивнул.
— Ты пойдешь эмпирическим путем, начнешь с наблюдения. Будешь смотреть на меня и учиться, а потом практиковаться сам под моим присмотром. Если проявишь способности, я достану тебе труды Галена и, конечно, трактаты Аристотеля. Будешь читать. Еще могу послать за копией великого «Канона» Авиценны. В нем содержатся важные медицинские сведения — об инфекционной природе чахотки и туберкулеза, о переносе болезней через воду и почву, о взаимосвязи душевного и физического здоровья. Тебе придется выучить латынь. Авторы великих медицинских трактатов в большинстве были сарацинами, часть — греками, и их труды переведены с греческого. Я найду для тебя учителя. Ты быстро учишься, так говорит Рахиль, хотя и не добровольно. — Сфорно криво улыбнулся.
— Могу поспорить, сегодня она говорила совсем другое и совсем не рассыпалась в похвалах, — ответил я, и мы с пониманием переглянулись.
— Она похожа на мать, на все имеет свое твердое мнение, — снисходительно произнес Сфорно и вздохнул.
В сарае было по-осеннему прохладно, и Сфорно укутался поплотнее в плащ.
— Но опять же, предупреждаю: не думай, что стать врачом так уж легко!
— Легкой работы не бывает, это я уж понял, — тихо ответил я, и во рту снова появилась горечь.
Мое позорное прошлое бесспорно было полно тяжелой работы. Медицина все же должна быть легче проституции или собирания трупов на улицах. Я удивился, что мое прошлое так быстро напомнило о себе, даже после такой ночи, как вчера, когда все, что мне казалось незыблемым и реальным, вывернулось наизнанку. Похоже, несмотря даже на философский камень, несмотря на то, что я получил взбучку и сделался лучше, прошлое по-прежнему настигало меня и не собиралось оставлять. Возможно, так будет всегда. Я набросил на плечи накидку. На лице Сфорно появилось смущенное выражение, словно он каким-то таинственным образом подслушал мои мысли. Он потупил взгляд, и я понял, что ему трудно примириться с моим прошлым. Мне же ничего другого не оставалось, как принимать его таким, какое оно есть. Оттуда я смог сделать шаг в лучшее будущее. Странник как-то спросил меня, хочу ли я найти в своей душе друга. Я не знал иного способа это сделать, как стать другом самому себе.
Одевшись, я по знаку Сфорно вышел вслед за ним из сарая. Мы прошли плечом к плечу по каменистой тропинке через сад к дому. Мы заглянули на кухню, где я поживился куском сыра и ломтем черного хлеба. В печи готовился медовый пирог, и пахло пшеничной мукой, а не каштановой, к которой мы привыкли за время чумы. Интересно, где это жена Сфорно раздобыла пшеничную муку, ведь в городе не хватало продовольствия. Потом я увидел синьору Сфорно, которая разговаривала у стола с другой еврейкой. Моше весело мне подмигнул, приглашая посмотреть на подружек.
— Моя женушка страсть как любить поболтать. Так забавно за ней наблюдать, — прошептал он.
— Могу предложить тебе большую миску сушеных абрикосов, — говорила синьора Сфорно.
— Эти яблоки свежие и спелые, они прямо с загородной фермы моего кузена. Таких румяных яблок во всем городе не сыщешь, люди болели и запустили свои сады! — недовольно ответила приятельница, показывая на корзину яблок с блестящими бочками.
Она была полной, с желтой косынкой на темных кудрях.
— К тому же вчера я согласилась взять твои сушеные абрикосы за пшеничную муку, а синьора бен Джехель сказала потом, что дала бы мне за нее вяленого мяса!
— Чего ты хочешь, синьора Провенцали? Думаешь, у меня хоть что-то осталось? Думаешь, кто-то платил моему мужу за услуги? Едва он приходил, как они уже помирали! А твой муж не закрыл свою закладную лавку даже в такие тяжелые времена… — Синьора Сфорно запнулась, словно бы умалчивая о чем-то неприличном.
Я восхитился ее умением вести спор намеками — такая стратегия была одновременно активной и пассивной. Неудивительно, что Сфорно восхищался своей женой. Я подумал, что однажды тоже вот так остановлюсь, чтобы полюбоваться своей женой. Если оставленный мне вчера выбор был реальным, у меня будет жена. От радостного предчувствия и любопытства у меня по спине даже мурашки побежали. Я еще больше укрепился в своем намерении заняться почетным ремеслом, чтобы моя жена тоже могла мной гордиться.
— Люди закладывали свои ценности, чтобы заплатить слугам и те не отказывались бы за ними ухаживать перед смертью! — топнув ногой, воскликнула синьора Провенцали. — Джакопо за эти месяцы потратил огромные деньги и ничего не продал!
— Когда город вернется к жизни, обнаружится, что твой Джакопо скопил за это время целый склад драгоценностей, мехов и золотой посуды, скупленных за бесценок, — не унималась синьора Сфорно, уперев руки в боки.
— А разве мы не выполняем божье предназначение, возложенное на евреев, быть плодоносными? — ответила синьора Провенцали с той же набожностью, какую я частенько наблюдал у священников.
Я подумал: люди любой веры ссылаются на свою религию, когда им это выгодно.
— Так как же, синьора, есть у тебя вяленое мясо или масло в обмен на корзинку яблок?
— У меня есть брусок масла, но за какие-то яблоки я его не отдам! — огрызнулась госпожа Сфорно, но все же взяла корзину у синьоры Провенцали и поставила ее на стол, подмигнув при этом мужу.
Мы с Моше схватили по яблоку и вышли в коридор.
— Да уж, женушка у меня с характером! — весело произнес Сфорно. — Мне очень жаль, что ей пришлось так много работать эти месяцы. Но служанка скоро вернется и будет снова ей помогать. Я слышал, она выжила. В любом случае, как я уже говорил, — Сфорно с удовольствием надкусил хрустящее яблоко, — это ремесло не из легких. Всегда найдутся невежественные деревенские знахари, которые воображают, что знают больше ученого врача. Будут предлагать амулеты да заклинания вместо лекарства. Думаю, теперь станет еще больше колдунов, готовых поживиться на страхе суеверных людей, хотя чума, конечно, многих подкосила. И не забывай, что надо иметь выдержку, чтобы удалять конечности и опухоли, прижигать раны и вырезать гангрену, если это необходимо.
Он поднял с лестницы большой мешок из телячьей кожи, развязал шнурок и показал свои инструменты: ножи, лезвия, ланцеты, серебряный катетер, железо для прижигания, всевозможные иглы и зажимы. Затем достал запачканную в крови стальную пилу. Я кивнул, и он, поморщившись, положил пилу обратно в мешок.
— Разве люди не понимают разницы между лекарством и амулетами? — удивленно спросил я, выходя за ним на улицу.
— Куда там! — фыркнул Сфорно, сплевывая в бороду яблочные косточки. — Ну разве что в редких случаях. Заклинания и заговоры иногда помогают не меньше других средств. Видишь ли, некоторые священники любят изгонять дьявола, и ни один еврей не может противоречить священнику — а то рискует поджариться! Да еще эти брадобреи-хирурги, для которых кровопускание — верное средство от всех болезней. Я вообще не уверен, что кровопускание хоть от чего-то помогает.
— От большой потери крови люди умирают, — заметил я.
Я сам такое видел — это не раз демонстрировал нам Сильвано. Он дважды пускал ребенку кровь из бедра, заставляя остальных смотреть, как тот медленно истекает кровью. И я в который раз порадовался, что убил это чудовище.
— Меня никогда до конца не убеждали целебные возможности кровопускания, — признался Сфорно, швырнув в канаву огрызок.
Мы уходили из еврейского квартала через узкие кирпичные улочки Ольтарно, где по вине чумы остались заброшенными недостроенные дворцы флорентийской знати и зажиточных купцов. Обычные пекарни, кустарные мастерские, в основном закрытые, но не все. Я оглядывался и замечал, что мы уже не одни на улице. Трое детишек шли за женщинами, которые сплетничали о рыночных новостях. Два конных стражника протрусили мимо. Мужчина в багряной судейской мантии торопливо шагал в кузницу за углом, из которой доносился деловитый звон наковальни. Открылась парфюмерная лавка. Из окна на третьем этаже даже высунулась рука, чтобы убрать из ящика засохшие цветы. Сфорно увидел, что я озираюсь по сторонам, и кивнул.
— Теперь, когда чума уходит, люди возвращаются в город. Но Странник, наверное, ушел. Он не появился за завтраком.
— Он ушел, потому что чума отступила?
— Может, так, а может, потому что ему захотелось, — пожал плечами Сфорно. — Он приходит и уходит, когда ему вздумается. Он вернется. Он как бородавка, которую никогда не вывести до конца.
— А я думал, он ваш друг, — удивился я.
— Да разве этот смутьян кому-то друг? — ответил Сфорно с таким сарказмом, что мы невольно улыбнулись друг другу. — Он вечно доводит Лию. Умудряется задавать неподходящие вопросы в самое неподходящее время, а потом она два дня на меня злится. Недавно взялся за Рахиль и вчера вот ее тоже взбаламутил. Она ответственная, серьезная девочка, которая знает себе цену и не любит, когда ее задевают. Я уж было подумал, она в него чашкой запустит. Надеюсь, Странник успеет увернуться, а то ведь он немаленькая цель!
— Он с этими своими загадками сам похож на обманщика трикстера, — медленно произнес я, снова вспомнив вчерашнюю ночь.
Я никак не мог разобраться в своем приключении: что это была за пещера, где я подрался с Николо и вдруг оказалось, что он — это я, и кто показал мне будущее? Тогда все это было так реально и ощутимо, но сейчас таяло, как сны с наступлением дня. Я знал, что никогда этого не забуду, но не знал, что останется от них, когда пройдет время. И я решил поступить как всегда: сосредоточиться на ближайшей цели. Прежде, что бы ни случалось в жизни, я принимал все как должное, предоставляя событиям идти своим ходом. Но сейчас многое изменилось, отчасти из-за того, что, работая могильщиком, я насмотрелся на смерть, а отчасти благодаря философскому камню и вызванным им видениям. Сейчас я был больше готов выбирать и действовать.
Видения прошлой ночи, видимо, были сотканы из той же материи, что и давние путешествия к фрескам Джотто, а эти странствия были реальны и дороги моему сердцу. Уж кому, как не мне, знать! И выбор, который был мне предложен в видении, тоже был в каком-то смысле реален. В каком смысле реален — я не знал. Возможно, его плоды проявятся в моей обыденной жизни, а возможно, лишь в царстве грез. Может быть, в моей жизни все останется как и прежде. Я буду заниматься работой, картинами, а теперь еще и учением, а любовь, о которой я так мечтал, осуществится лишь в той, другой жизни, в мечтах и видениях и мысленных путешествиях, а не в реальном мире, полном страдания и лишений. Придется подождать, пока видения созреют, и тогда я увижу, что это было и что просочилось из той жизни в эту. Мне не верилось, чтобы смеющийся Бог действительно предложил мне на выбор такой замечательный удел. Разве это не испортило бы ему все удовольствие от его шутки? У меня накопилось много вопросов, и я собирался задать их Страннику и Геберу.
Но оказалось, что Странник ушел, а Гебер быстро угасал. Мне было еще горше сознавать это теперь, когда нас породнил философский камень. Гебер вмешался в мою жизнь и направил ее по другому руслу, которое было гораздо лучше прежнего. И он многое знал обо мне. Как много и что именно он знал, мне было до сих пор не ясно. Я не хотел терять его по многим причинам. Как и раньше, я намеревался добиться от него секрета превращения обычного металла в драгоценное золото. Какие бы видения меня ни посещали, но желудок требовал пищи, а тело — одежды, а лучшее средство для удовлетворения этих потребностей — золото.
— О Страннике можно не беспокоиться, он объявится, когда надумает. Скорее всего, в самый неподходящий момент. А пока, — сказал Сфорно, возвращаясь к нашим нынешним делам, — если уж ты хочешь сопровождать меня и обучаться лекарскому делу, тебе нужно изучать травы. Я знаком с одной женщиной из Фьезоле, которая знает о них почти все. Если она пережила чуму, попрошу ее тебя научить. Среди женщин тоже есть чудесные целительницы! — доверительно сообщил он. — Почти все ученые доктора не принимают их всерьез, но я всегда доверял знахаркам больше, чем кровопускателю из цирюльников. И даже ученому врачу нужна на подмогу хорошая повитуха. Без повитух не обойтись. Врач не может прибежать к каждой беременной корове, которая решила отелиться!
— Я однажды видел повитуху, — вспомнил я, и в голове пронеслось личико мертвого младенца. — Она сказала, что у повитух есть свои правила.
— Наверное, — кивнул Сфорно. — Чтобы быть повитухой, нужно иметь хорошие навыки и сообразительность. Это трудное ремесло: многие женщины умирают при родах. Я чуть не потерял Лию, когда родилась Ребекка. Я тоже был с ней рядом, я ведь врач, хотя, как правило, мужчинам нельзя присутствовать при родах. Ребекка никак не выходила из утробы, и повитуха сказала, что мне придется выбирать между ребенком и женой. Она могла раздробить ребенку череп и вытащить его — спасти только Лию, или разрезать Лии живот и спасти ребенка, но тогда Лия умерла бы от потери крови или от заражения. От слез я не мог и слова вымолвить. Лия перестала кричать и попросила повитуху: «У вас маленькие руки, попробуйте запустить руку поглубже и распутать ребенка». Повитуха посмотрела на меня, и мы поняли, что иначе измученная Лия умрет от горя, но я кивнул, и она сделала это. И спасла ребенка и Лию.
— Хорошо, когда мать и дитя переносят роды, — сказал я. — Много крови, боли. Начинаешь и впрямь верить в первородный грех, потому что если бы не смертный грех, то за что было обрекать нас на такое мучительное появление на свет?
— Кто мы такие, чтобы подвергать сомнению пути Господни? — пожал плечами Сфорно. — Детей у нас больше не будет. А значит, не будет сыновей. — Он обернулся и похлопал меня по спине, вдруг повеселев. — Может, именно поэтому Бог послал мне тебя, Лука Бастардо, спасти меня и Ребекку в тот день. Поэтому ты стал мне как сын! Был бы ты евреем, я бы тебя усыновил. — Он задумался, глядя перед собой. — Мало найдется хороших нееврейских текстов по медицине, но христианская женщина по имени Хильдегарда[475] написала несколько очень хороших. Женщин не стоит недооценивать в медицине, вот что я скажу!
— Измениться я не могу, — ответил я на высказанное им сожаление о том, что я не еврей.
И на собственное сожаление о своем прошлом, которое повлияло на мою судьбу и характер, которое будет омрачать мои мысли и воспоминания даже в будущем. Но его мысли уже были заняты трудами Хильдегарды о лекарственных свойствах растений, средствах от распространенных недомоганий и о человеческой физиологии. Стоило Моше Сфорно чем-то увлечься, он, как и его дочь, уже ничего не слышал. И поэтому наш разговор перешел исключительно на болезни, анатомию, травяные снадобья и способы выправления костей.
Мы подошли к новому дворцу у моста Понте Каррайя, по которому из города в деревню ездили телеги, и я с горькой нежностью вспомнил о Марко, с которым мы когда-то, еще в первые дни моего пребывания у Сильвано, уговорились встретиться здесь, когда сбежим из публичного дома. Вместе с воспоминанием нахлынуло чувство вины, ведь Марко следовал моему плану, когда его поймали и покалечили. Я своими руками столкнул его в Арно на верную гибель, и эти же руки задушили по указу повитухи младенца Симонетты. Я редко вспоминал о Марко и ребенке, но после пророческой ночи я вдруг спросил себя, смогу ли когда-нибудь простить себе свою причастность к их смерти. Наверное, если мне действительно суждено встретить любовь, обещанную мне видением, то я заслужил того, чтобы потерять ее за все то, что сотворил. А потом я спросил себя, как смогу пережить потерю того, о чем мечтал всю жизнь? Может, я все-таки сделал неверный выбор там, у Гебера? И как вообще мне был дан этот выбор, как сталось, что Гебер выбрал меня для чудесного путешествия с философским камнем?
Мои размышления прервал синьор Содерини, который встретил нас у двери, как будто давно ждал нашего прихода.
— Я ждал вас, синьор Сфорно, — взволнованно сказал хозяин дворца — коренастый черноволосый мужчина. Ему было лет за сорок с лишним, но все зубы у него были целы. Он бурно жестикулировал руками, прятавшимися в широких золотых рукавах.
— Идите скорей, помогите моему сыну!
Он провел нас через богато обставленный дом, в спальню на верхнем этаже. Там на постели беспокойно метался мальчик лет тринадцати. Он был гибкий, как я, у него были отцовские черные волосы и высокий лоб. Округлое лицо побледнело от жара. Его мать — крошечная полная женщина с милым круглым личиком, в светло-зеленом чепце на каштановых волосах, отирала его лицо влажной тряпицей.
— Вы тот еврейский врач, что учился в Болонье, — скорее не спросила, а заключила она, сурово покосившись на Сфорно. — Мой кузен Ланфредини хорошо отзывался о вас. Это он поторопил нас вернуться в город и послать за вами, чтобы помочь Убальдо.
— Ваш кузен хороший человек, — вежливо ответил Сфорно, склонив голову. — Синьора, не могли бы вы уступить мне место, чтобы я мог поговорить с юным синьором?
Она кивнула и встала, стиснув в руке складки шелковой юбки цвета лаванды. Сфорно поставил у кровати свою сумку из телячьей кожи и занял место женщины у постели мальчика.
— Это наш последний ребенок, — тихо произнесла она, и ее подбородок задрожал. — Двое других сыновей и дочь умерли от чумы. Вы должны спасти его!
Сфорно с сочувствием посмотрел на нее.
— У меня самого дети. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы спасти вашего сына, синьора.
Он повернулся ко мне и жестом подозвал ближе. Я подошел. Сфорно дружелюбно поздоровался с мальчиком.
— Сейчас я тщательно осмотрю тебя, Убальдо. Это мой ученик Лука, и он будет наблюдать. Тогда и решим, как тебе помочь.
Он оттянул нижнее веко мальчика и рассмотрел зрачки. Приложил ухо к груди мальчика, послушал и взял его забинтованную руку. Убальдо застонал и облизал губы. Он впился в нас черными, как у матери, глазами, но не закричал. Сфорно размотал повязку.
— Храбрый ты мальчик, Убальдо, — сказал Сфорно, и в нос ударил гнилой запах.
Сфорно указал на гнойную резаную рану на предплечье, но тут и без врача было ясно, что она заражена. Из раны сочилась жидкость со скверным запахом. Кожа вокруг стала сине-бурой и переходила в покрасневшую опухлость, а от нее шли темно-красные линии. Прямо на глазах границы заражения распространились еще дальше к запястью и к локтю, и еще больше коричневой кожи вокруг раны посинело. Убальдо застонал и заметался по подушке.
— Убальдо, мне нужно поговорить с твоими родителями, — мягко произнес Сфорно и многозначительно посмотрел на меня.
Я все понял: его взгляд означал, что рука пропала.
— Тебе повезло, что твои родители так заботятся о тебе, — прошептал я, когда Сфорно отошел.
Я не знал, станет ли отвечать Убальдо — сможет ли. Он приподнял голову и сделал храбрую, но мучительную попытку улыбнуться.
— Знаю. А разве не все родители заботятся о своих детях? Твои, наверное, тоже. Тебе лет примерно как мне. Я играл мечом с моим кузеном. Он не хотел меня поранить. Что возьмешь с мальчика! Он еще малыш. Я повел себя беспечно, не ожидая от него такой силы.
— Очень болит? — спросил я, разглядывая рану.
У меня закололо руки, как и прошлой ночью у Гебера. Я совсем не спал, но перед глазами мелькнули странные образы, точно во сне: о времени, которое еще только придет, однако я не спал. На меня как будто навалилось что-то тяжелое, невидимый камень. Дыхание стало глубже и медленнее. Ко мне возвращалась магия философского камня.
— Больно, только когда я не сплю. — Мальчик попробовал улыбнуться, но вместо этого застонал. — С тобой наверняка ничего подобного никогда не случалось, ты вряд ли повел бы себя так глупо.
— Но я знаю, что такое боль, — ответил я.
Руки у меня зудели и стали горячими. Меня охватил неуемный порыв дотронуться до Убальдо. Руки по собственной воле потянулись к его руке. Я крепко схватил его за руку, у запястья и у локтя. Жар в моих руках стал еще горячее, пока ладони не превратились почти в пламя.
— Какие у тебя холодные, приятные руки! — произнес Убальдо и вздохнул.
Я застонал, и поток ощущений хлынул мне в руки, как вода из подземного источника. Синяя и бурая кожа вокруг раны сначала вздулась пузырем, а потом из него засочилась липкая красновато-коричневая жидкость со сладковатым запахом. Она потекла по руке, запачкав белые простыни. Сам не знаю почему, но я продолжал крепко сжимать его руку, вперив взгляд в рану. Спустя несколько секунд жижа превратилась в молочно-белую жидкость, а затем стала бесцветной. Прямо у меня на глазах опухоль спала, как отступивший прилив. Покраснение на коже прошло, а сине-бурый цвет вокруг раны сменился красноватым, а затем розовым, как закат, возвратившийся после того, как спустилась тьма.
Убальдо застонал и, откинув голову, закрыл глаза.
— И поэтому руку необходимо ампутировать… — произнес Сфорно печальным и твердым голосом опытного врача, вновь входя вместе с родителями мальчика в комнату и указывая на больную руку.
И тут он вдруг ахнул.
— Лука, что ты делаешь? Что это значит?
— Мне прекратить? — испуганно воскликнул я, выпустив руку мальчика.
— Нет! — крикнул Сфорно. — Что бы ты ни делал, продолжай!
И я снова перевел взгляд на руку Убальдо. Покраснение бледнело, из опухлости до сих пор сочилась жидкость, а багровые линии втягивались обратно в рану, словно нити, сматывающиеся на шпульку. Мать Убальдо негромко вскрикнула. Я сосредоточился на руке, наблюдая, как она возвращается к почти нормальному виду. Порез никуда не исчез, но кожа вокруг него стала розовой и мягкой.
— Матерь Божья! — воскликнул синьор Содерини. — Благодарю тебя, Мадонна!
— Это чудо, — выдохнула мать. — Когда-то в Фьезоле я видела, как женщина возложила руки на мужчину и остановила кровотечение, как священники усмиряли бесноватых своими молитвами, но никогда не видела ничего подобного!
Она наклонилась поцеловать Убальдо, который уже громко храпел. Когда она прижалась щекой к его щеке, я позавидовал тому, как ласкова с ним мать.
— Жар спал! — воскликнула мать. — Жар спал! Слава Богу!
— Тебя, наверное, благословил Бог таким даром, — вслед за ней воскликнул синьор Содерини. — Я слыхал, про тебя говорили, будто ты в сговоре с дьяволом… Этот гаденыш, сын Сильвано, владельца борделя, такие сплетни о тебе распускает…
— Николо Сильвано и не такого наврет, — ответил я испуганно и отступил в сторону.
Может, стоило потихоньку двигаться к двери, на случай, если придется быстро уносить ноги? Я слишком живо еще помнил, что случилось, когда люди прошлый раз назвали меня колдуном, на площади Оньисанти. Меня чуть не сожгли на костре.
— Ну конечно он врет! — согласился Содерини. — Ты не можешь быть приспешником дьявола, ведь колдуны пользуются своей силой не для благих дел. Ни один колдун не вылечил бы так ребенка!
— Я не колдун, — заверил я смущенно.
Но в душе у меня шевельнулся страх, ведь вчерашнее путешествие могло быть колдовством. Конечно, Гебер сказал бы, что алхимия — это вовсе не колдовство, а тщательно продуманный метод и практическое применение природных стихий. Сам я не был в этом уверен, но Гебер думал именно так. Да и способность к таким путешествиям была моим свойством, как и мое уродство, замедленное взросление и неестественное здоровье. Как я могу сказать о себе, что я не колдун? Может быть, так оно и есть. Может быть, я от рождения был таким, и поэтому мои родители выбросили своего сына на улицу, в отличие от любящих родителей Убальдо. У меня появились новые вопросы к Геберу. А пока мне нужно было защититься.
— Я не колдун! — снова произнес я, почти прокричал.
— А я обещаю, что так и скажу людям — ты не колдун! — сказал Содерини, положив руку мне на плечо.
— Может быть, лучше вообще об этом не заговаривать, — предложил я.
— Люди будут допытываться, — шепотом произнесла мать Убальдо. — Флоренция полнится слухами, а некоторые вещи, которые шепотом передают о Луке Бастардо, — достаточно тяжкие обвинения, чтобы привести его на виселицу или на костер.
— Я не хочу ни на виселицу, ни на костер, — ответил я и услышал, как бешено заколотилось в груди сердце.
Она кивнула и бочком подошла ко мне.
— Николо Сильвано говорит, что Лука не стареет, как все остальные, что он получил вечную молодость за то, что заключил сделку с дьяволом. Это может и не быть правдой, но выглядит Лука удивительно. Он так красив, и его красота почти волшебна.
Она стрельнула в меня взглядом из-под опущенных ресниц и дотронулась до моей щеки. Меня это так напугало, что я едва не отшатнулся.
— Чем меньше обо мне говорят, тем лучше, — упрямо ответил я.
— Возможно, Лука прав, — вмешался Сфорно.
Он растерянно моргал, не в силах справиться с потрясением, но наконец все же овладел собой.
— Мой юный ученик очень талантлив. Я уверен, он обладает… гм… природным даром целительства, как та женщина из Фьезоле. Я хорошо знаю Луку и уверен — он не колдун. И с дьяволом он дел не имеет. Он умный и достойный молодой человек, которому выпало много трудностей в жизни.
— Он спас нашего сына! — сказал Содерини, сквозь слезы глядя на меня.
— Да, но люди выносят из разговоров то, что хотят услышать. Стоит только сказать: «Он не колдун», как многие начнут сомневаться, просто потому, что Лука был упомянут в связи с колдовством, — терпеливо возразил Сфорно.
— Я, конечно, готов выполнить ваше желание, и если уж вы хотите, чтобы мы молчали о способностях Луки, то мы никому не скажем, — надтреснутым голосом ответил Содерини. — Врач, я никогда не смогу сполна отблагодарить тебя и твоего ученика! Потерять последнего сына было бы для нас трагедией, и мы так благодарны, что его рука спасена и он поправится!
Он заключил Моше Сфорно в крепкие объятия. Сфорно замычал и попытался вырваться, и наконец Содерини, весь в слезах, выпустил его. Содерини повернулся было ко мне, но я нырнул под его руку и спрятался за спиной у Сфорно. Мужские объятия мне давно опротивели. Я озирался в поисках двери и уже готов был бежать.
— Мы рады были помочь, — сказал Сфорно, оправляя балахон, затем снова склонился над Убальдо и осмотрел его руку. — Перевязывать рану теперь нет необходимости. Не нужна даже мазь. Только приглядывайте, чтобы снова не попала инфекция.
— Раз уж вы не позволили нам защитить доброе имя Луки, то примите хоть это. — Содерини сунул Сфорно в ладонь два золотых флорина и многозначительно сомкнул его пальцы над монетами.
— Это гораздо больше моего гонорара, — замялся Сфорно.
— Многие врачи хорошо нажились во время чумы, хотя никого не спасли, — возразил Содерини. — А вы привели ученика, который исцелил моего сына!
Сфорно отрицательно покачал головой.
— Я не поднимал плату, чтобы нажиться на чуме.
— Вы должны принять это, — настоятельно сказала мать Убальдо. — Это лишь маленькое вознаграждение за спасенную жизнь нашего единственного сына!
Дрожащей рукой она дотронулась до руки Сфорно. Он снова поклонился, молча соглашаясь. Из-за его плеча она одарила меня чересчур нежной улыбкой. Я спрятался за Сфорно.
— Лука, — обратился он ко мне, — не будем мешать этим добрым людям ухаживать за сыном.
Он развернулся и направился к лестнице, а я и Содерини пошли следом.
— Мы будем молчать о том, о чем вы просили, но о вас как о еврее будем отзываться только хорошо, — сказал тогда вельможа таким тоном, словно делал этим великое одолжение.
По правде сказать, это было великодушное предложение, ведь все знали, что евреи, ослепленные дьяволом и не признающие истинную веру, гораздо хуже христиан. И тут я понял, как мне повезло, что я с детства был бездомным бродягой. Моя жизнь на улице, а потом в публичном доме, со всеми тяготами и унижениями, воспитала во мне простую веру в Бога, чью благодать я отчетливо видел только на картинах художников. Я не был обременен сложной системой предвзятых убеждений касательно божества, которого человеку все равно никогда не постичь. Поэтому мне не было надобности порочить и умалять других людей за их веру.
— Да, и мы будем оказывать вам почти такое же уважение, как христианскому врачу, — добавила синьора Содерини, прижав руки к сердцу.
— Вы так добры, — ответил Сфорно и, подойдя к лестнице, заторопился вниз.
— И мы всегда будем поддерживать евреев в праве на проживание здесь, — заверил его Содерини.
Мы вышли в вестибюль, и Сфорно обернулся к Содерини.
— Не каждый необычный мальчик колдун, и не все евреи бессердечные ростовщики, требующие огромных процентов, — почти грубо произнес Сфорно.
Они с Содерини посмотрели друг на друга, пристально и внимательно. Взгляды эти заключали в себе и их сходство как родителей, и их различия как еврея и христианина, изгоя и одного из отцов города, непохожего на всех чужака и уверенного в себе флорентийца. Еще один дар преподнесла мне жизнь на улицах — я мог разглядеть своеобразие одного и другого. Возможно, Странник был прав, когда сказал, что мое низкое происхождение имеет свои преимущества. Когда мы снова встретимся, я еще раз поговорю с ним об этом.
— Конечно нет, — наконец тихо произнес Содерини и, взяв Сфорно за руку, прижал ее к своей груди. — Дайте мне знать, если вам когда-нибудь что-то понадобится. Я в долгу у вас. — Он повернулся и подмигнул мне. — А ты, мальчик, который не колдун, будешь всегда желанным гостем в нашем доме!
Он открыл двери, и мы со Сфорно вышли на осеннюю прохладную улицу. Я посмотрел на Сфорно, но у него не было желания говорить. Всю обратную дорогу он задумчиво шел, поглаживая бороду и хмуря брови.
В конце концов, чтобы нарушить затянувшееся молчание, я спросил:
— Вы учились в Болонском университете?
— Да, евреям разрешают слушать лекции, сидя в последних рядах сзади у стенки, — ответил Сфорно и повернулся ко мне с удивлением на крупном лице. — Лука, как тебе это удалось?
— Не знаю, — пробормотал я.
Неужели я и вправду такой урод, или теплое покалывание в руках, которое исцелило Умбальдо, вызвано философским камнем? А может, это еще одно проявление врожденной особенности, которая делала меня чужаком и изгоем? Я был рад, что смог помочь мальчику, но меня снова испугало то странное, что таилось во мне, нежданно-негаданно вырываясь наружу. Ничего подобного я не видел даже в видениях прошлой ночи. Но почему-то мне казалось, что все это как-то связано. Своим посвящением Гебер и Странник изменили меня больше, чем я предполагал. Я покачал головой:
— Не знаю, как это получилось. Но знаю, у кого спросить. Сфорно изучающе вгляделся в мое лицо и кивнул. Я махнул на прощание и быстро пошел по улице.
Дверь Гебера распахнулась для меня, и его комната вновь вернулась к прежнему беспорядку. Деревянные столы снова были завалены странными и диковинными предметами. Я огляделся вокруг, но нигде не заметил ни вчерашней бутылки с вином, ни глиняной чаши. И меня встретила непривычная тишина. Перегонные кубы не работают, под потолком не гуляют клубы цветного дыма, бесчисленные приборы замерли. Кипучая деятельность, которую я ожидал встретить, замерла. Гебера не было в комнате, и, позвав его, я не услышал ответа. Обойдя его жилище, я вдруг наткнулся на лесенку, которой раньше не замечал. Я подошел к ней и остановился в удивлении, потому что частенько бывал в этой комнате и мог поклясться, что раньше ее тут не было. Постояв немного, я взбежал по лестнице наверх и обнаружил комнату без окон. Там на соломенной постели лежал Гебер. Он был укрыт тонким хлопковым одеялом, под которым казался маленьким и скрюченным. Глаза глубоко запали в глазницы, лицо было покрыто бубонами. На маленьком табурете у постели, подлемерцающей свечи из пчелиного воска лежали очки и стопка бумаг, перевязанная лиловой тесемкой.
— Не стой столбом, задуй свечу, — тихо проговорил Гебер. — Свет режет глаза.
— Синьор, как вы? — встревоженно спросил я, опускаясь рядом с ним на колени.
— Это как посмотреть, — ответил он и открыл глаза. Его белки пожелтели, а зрачки очень сильно расширились в тени, брошенной на потное лицо.
— Если с той точки зрения, что смерть — это конечный этап очищения, после которого я достигну совершенства, тогда со мной все хорошо. А так — неважно, мог бы и не спрашивать. Сам видишь. Мое физическое тело сильно разрушено. Это очевидно. Я покрыт бубонами, плоть усохла, и я нахожусь в лежачем положении. Так что не задавай вопросов, если и без того знаешь на них ответ или можешь сам до него додуматься. До всего можно дойти своим умом, разобраться, в чем следует, без посредников, вот так и поступай! Помни это, мальчик, когда меня не станет!
— Э… а… так как вы себя чувствуете? — попробовал я спросить, ощущая себя полным дураком.
— Спина ноет, в голове стучит, в брюхе бурлит, как море в шторм.
— Простите, — прошептал я.
— Ты-то здесь при чем?
— Неужели нельзя ничего поделать? — робко спросил я еле слышным голосом. — У вас столько снадобий и эликсиров! Неужели ни один не может продлить ваши дни?
Гебер зашелся в кашле, сотрясавшем его изможденное тело.
— Поздно уже. Даже лучший эликсир в конце концов перестает помогать.
— Мне еще столькому нужно научиться, — в отчаянии сказал я. — Я должен задать вам вопросы, очень много вопросов!
— Хорошо уже то, что ты знаешь, как многому тебе еще нужно учиться, — ответил он со слабой улыбкой. — До ответов, как я и сказал, ты должен докопаться сам. Тем увлекательней будет твое путешествие. Не так ли?
— Но вы же знаете ответы, — сникнув, сказал я.
— У меня свои ответы, а ты найдешь собственные.
Он отвернулся к стене и закашлялся, потом обернулся.
— Я бы посоветовал тебе изучить зодиак, значение созвездий и светил. На твоем дальнейшем пути тебе очень пригодится астрономия. Я вижу, как ты обучаешь ей дорогого тебе человека, прекрасную женщину… Ты найдешь несколько книг по этому предмету среди моих вещей.
— Ваших вещей? — переспросил я.
— Слушай внимательно, — строго приказал он, и в голосе его послышалась былая требовательность. — Ты мой наследник. После моей смерти все мое имущество переходит к тебе. Вместе с документом на владение этим жилищем. Я заверил его у адвоката.
От неожиданности я так и сел на пол.
— Мне не нужно ваше имущество!
— Тебе же нужны мои тайны, — просипел он со смехом, но тут же задохнулся.
Отдышавшись, он довольно произнес:
— Тебе нужны мои знания.
— Да, — признался я. — Я хочу научиться превращать свинец в золото! Я хочу понять, что именно произошло прошлой ночью и что вам известно о моем происхождении, и узнать действие философского камня, который вовсе не камень!
Увлекшись, я схватил его за плечи, а когда сделал это, вспомнил о том, что сегодня произошло с Убальдо Содерини и почему пошел навестить Гебера.
— Позвольте мне помочь вам вернуться к жизни и учить меня дальше, — возбужденно предложил я.
Задохнувшись от радостного возбуждения, я поднял руки. Сегодня они уже сотворили чудо, значит, смогут и еще раз. Я осторожно положил руки ему на грудь и выжидающе уставился на них. Но ничего не произошло. Никакого покалывания. Никакого жара. И ощущения хлынувшей воды. Гебер захохотал.
— Твой консоламентум[476] мне не поможет, — прошептал он. — Да и к тебе оно не придет таким путем. Пора подчиниться, дурачок, когда ты наконец это поймешь?
— Но я хочу вам помочь!
— То есть помочь себе, — ответил он и улыбнулся. — Когда ты научишься достигать успокоения, то сможешь сделать и то, к чему так стремишься. Это одно и то же.
— Консоламентум — это тепло в моих ладонях, которое направилось на болезнь и исцелило сегодня сына вельможи? — напряженно спросил я. — Как у меня это получилось и как сделать это снова?
— Консоламентум выше тепла и исцеления. Оно включает в себя завершение и совершенство.
Тщедушное тело Гебера сотряслось от кашля, а потом он отвернулся от меня и сплюнул кровь на подушку.
— Поэтому Странник называл вас совершенным? — задумчиво спросил я, пытаясь понять.
Было легче вернуться к привычному диалогу наших уроков, чем молча наблюдать, как он угасает у меня на глазах. И я хранил глупую, тщетную надежду на то, что смогу удержать его здесь, не дать ему умереть, если как ученик не соглашусь отпустить своего учителя.
— Потому что вы можете использовать консоламентум не только для исцеления, но и чтобы превратить свинец в золото?
— Мы не используем консоламентума, он использует нас! — воскликнул Гебер с таким накалом страсти, что она вспыхнула в его глазах дразнящими язычками желтого пламени.
Он приподнялся на локте, как будто собирался на меня накричать, но тотчас же бессильно упал на свое ложе. Я только поцокал языком при виде такой слабости. Я хотел поддержать его за спину, но он оттолкнул мою руку.
— Странник употребил старинное слово из языка прекрасной веры, которую я когда-то исповедовал, веры моей жены и друзей, хотя мы и не жили с ней как мужчина и женщина, после того как дали обет отказаться от плотского мира…
— Зачем вы это сделали? Если бы я женился, я хотел бы держать ее ночью в своих объятиях, — сказал я, испуганно представив, что кто-то мог добровольно отказаться от счастья супружеских объятий. — Я слышал, каким нежным голосом жена зовет во тьме своего мужа. Как можно от этого отказаться!
— Царство плоти — это царство сатаны, — прошептал Гебер. — Продолжать его — один из худших грехов. Поэтому мы пожертвовали плотскими узами супружества ради достижения совершенства. Наша любовь осталась любовью, как и всегда, сбросив шелуху плотской близости, которая есть служение Князю мира сего. Знай, мальчик, кому суждено прожить дольше, чем мне, что люди — это мечи, коими ведется великое сражение между добром и злом, светом и тьмой, между духом и материей. Силы противоборствующих сторон равны, и Бог-свет — это чистейший дух, чистейшая любовь, не запятнанная материей, совершенно отличная от вещественного творения. Князь мира сего — это сама материя, а значит, зло.
— Я в это не верю. В этом мире есть красота, красота от Бога, мы видим ее на картинах Джотто, — не унимался я. — Разве грех наслаждаться красотой, данной Богом?
— Как это похоже на евреев! — улыбнулся Гебер. — Неудивительно, что ты нашел к ним дорогу. Тебе это было суждено. Они будут говорить тебе, что наслаждаться Его творением — главное Его веление, самая священная Божья заповедь. «И Бог увидел, что это хорошо».
— Не знаю, как там насчет Его велений. А если и так, то повелитель из него неважный, не больно-то его слушаются! Судя по тому, что я видел, люди делают что им вздумается. Они насилуют, крадут, калечат и убивают всех подряд, не обращая внимания на священные заповеди, и не несут за это никакого наказания, кроме разве что тех, какие им перепадают от других людей, — сказал я с раздражением, потому что чувствовал, как секрет превращения золота ускользает из моих рук вместе со слабеющим дыханием алхимика. А с этим секретом канут в небытие и все ответы на мои незаданные вопросы: о прошлой ночи, о моих родителях… Под раздражением крылась мучительная боль, но я не хотел давать ей волю. Иначе потороплю Гебера на тот свет.
И я сказал:
— К евреям меня привел случай. Я встретил толпу, которая побивала камнями Моше Сфорно и его дочку.
— Нет такого понятия, как случай, — возразил Гебер. — Под поверхностью любых событий кроется плотно сплетенная ткань предназначения!
— Предназначение — это шутка Бога, причем подшутил Он над нами!
— Когда я вернусь, то еще поспорю с тобой об этом, — прохрипел Гебер.
— Боюсь, на этот раз вы не вернетесь, мастер Гебер, — негромко ответил я, не в силах больше скрывать свою боль. — Вы обречены. Я много раз видел смерть и узнаю ее приближение.
— Возвращение неизбежно для тех, у кого еще остались желания, — просипел он. — Помни это, когда тебя охватит жажда золота.
Потом он закашлял кровью и, не в силах даже повернуть голову, запачкал подбородок и щеки. Я вытер его лицо покрывалом.
— Принести воды, синьор? — заботливо спросил я, и меня кольнуло в сердце сознание того, что мне следовало бы ухаживать за ним, а не спорить. Хорош будущий врач!
Гебер отрицательно мотнул головой.
— Может быть, дать что-то, что облегчило бы боль? Вина и немного того очищенного отвара из маковых цветков? Вы показывали, где он хранится.
— Вся моя жизнь была дана мне для того, чтобы я научился умирать, — прошептал он. — Зачем затуманивать свой разум на главном повороте пути?
— Потому что смерть неизбежна, но страдать вовсе не обязательно, — печально ответил я. — Я мог бы избавить вас от мучений.
— Ты будешь хорошим врачом. Хочешь избавить разумные существа от страданий. Помни это, когда… — шепот Гебера угас.
Он улыбнулся краешком рта, качнул головой и взглянул на меня блестящими глазами. Я вдруг начал вспоминать, видел ли раньше эти глаза без оправы странных очков, и тут понял, что он уже не может говорить. Я просунул руку ему под голову, чтобы поддержать за плечи, а свободной рукой взял его за руку, потому что хотел, чтобы и при моей смерти со мной кто-то вот так же был рядом. И само собой, без всяких усилий с моей стороны, теплое покалывание снова возникло во мне. Я почувствовал, как оно растекается по груди, по рукам, а через ладони — в него. Его глаза на миг вспыхнули, а потом потухли, и тело сотрясли судороги. Дыхание становилось все более отрывистым, пока не превратилось в крошечный выдох с кончика языка, как дуновение от крыла бабочки. Перед самым концом он улыбнулся и пожал мою руку.
Было еще светло, когда я вышел на улицу, неся через плечо тело Гебера, завернутое в запачканное кровью одеяло. Я удивился, потому что в комнатушке было так темно и тесно, что я решил — солнце уже зашло. Меня ожидал Странник со своим бурым ослом, привязанным к той же бронзовой коновязи, что и прошлой ночью.
— Я думал, вы ушли, — сказал я, уложив тело Гебера на осла.
Еще прошлой ночью я вот так же лежал на осле. Но сейчас был жив и здоров, когда Гебер уже не сделает ни шага. Потерян еще один дорогой друг.
— Я подумал, тебе нужна помощь, — ответил Странник. Его лицо осунулось, уголки рта обвисли. Он осторожно похлопал Гебера по спине.
— Помощь нужна не мне, — сказал я, с грустью и горечью.
Он пожал плечами. Я надел на Гебера очки, решив похоронить его таким, каким я его знал — с этим странным прибором для видения на носу. Но Странник снял очки, сложил и протянул мне.
— Разве он не хотел бы, чтобы ты видел так же, как он? — лукаво спросил Странник.
— Думаю, я всегда буду видеть так, как вижу, а не как кто-то другой, — ответил я и неловко положил прибор во внутренний карман своего жилета, решив, что буду хранить его рядом с картиной Джотто.
Потом я достал стопочку перевязанных бумаг, которые лежали у Гебера на тумбочке. Я спрятал их за пазуху, прежде чем выносить тело Гебера. Я протянул стопку Страннику.
— Думаю, он отдал бы их вам. Вы хорошо понимали друг друга.
— «Summa perfectionis Magisterii», — прочитал Странник на обложке. — Как это похоже на моего старого друга! Я знаю, кому нужно это отдать. — Он взял поводья осла в крупную узловатую руку и неспешно повел его по узким улочкам близ Понте Санта-Тринита. — Смерть — это просто переезд из одного дома в другой. Мудрый человек, — а мой совершенный друг был мудрым, — сделает новый дом гораздо прекраснее прежнего.
— У меня никогда не было дома, — ответил я. — Но у меня было другое. Работа. Работа разная, хорошая и плохая, а сейчас, возможно, появится и достойная, если Моисей Сфорно сможет сделать из меня врача. В основном, у меня были путешествия и видения. Вы верите в то, что видения реальны?
— А что реально? — Странник развел рукой, почесав густую, буйную бороду. — И что иллюзия?
— Я так и знал, что вы скажете что-нибудь в этом роде! — вздохнул я. — Но после смерти Гебера осталось столько недосказанного, так много вопросов не получили ответа! Что все это значило — философский камень, потом эти странные видения? Как Геберу удалось их вызвать? Почему все это со мной случилось? Что он знал обо мне и моих родителях? Кем они были и почему выбросили меня на улицу? Прошлой ночью случилось со мной это путешествие, и мне предложили выбор, но был ли он настоящим?
Я говорил совершенно серьезно, и слезы заливали мое лицо, когда я схватил Странника за рукав.
— Мы скорбим, чтобы освободить себя от себя, — ответил он, сжав мою ладонь своей узловатой рукой. — А потом осторожно, капля по капле, ты наполняешь себя собой. На это нужно время.
Я хотел получить прямой ответ. Более того, хотел услышать прямые ответы на многие вопросы, а теперь, когда Гебера не стало, мне некому было задать их, кроме Странника. А он не желал отвечать. В то время мне шел третий десяток, хотя и походил я на мальчишку, но лишь много десятилетий спустя я понял, что Странник был прав: жизнь не дает прямых ответов. Я провел рукой по глазам, отерев слезы. Гебер не хотел бы, чтобы я его оплакивал. Он считал, что завершил свой путь и достиг совершенства. Он сказал, что прожил всю жизнь, чтобы научиться умирать. Наверное, он хотел, чтобы я отпраздновал его уход. А у меня от горя разрывалось сердце. Оплакивая Гебера, я вспомнил всех тех, кого оплакивал до него: Марко, Ингрид и младенца Симонетты. Боль утрат захлестнула меня. Возможно, я веду себя как эгоист. Но я жалел, что Гебер так мало пожил рядом со мной. Я буду скучать по его урокам, по его острому языку. Мне будет очень не хватать близкого присутствия столь отличного от меня человека. Какое-то время мы со Странником шли молча.
— Позволь мне рассказать тебе историю, раз уж ты спросил меня, что реально, а что иллюзия, — просветлев, начал Странник. — Вот живет человек, он идет по дороге и видит…
— Как его зовут? — перебил его я, сам удивляясь притворной серьезности своего вопроса.
Невзирая на горе, вызванное кончиной Гебера, удержался, чтобы не подразнить Странника. В игру обманщика трикстера могли играть двое: коли Странник не пожелал отвечать на мои вопросы, я задам ему вдвое больше. Однажды Гебер сказал мне, что у меня есть минимум ума, которого хватает на любопытство. Так вот теперь я воспользуюсь своим любопытством и отплачу Страннику его же монетой.
— Как звали этого человека? Это не имеет значения.
— Для меня имеет, — упрямо возразил я.
— Хорошо. Его звали Джузеппе. — Странник вскинул руки. — Джузеппе идет по дороге и видит женщину…
— А как ее зовут?
— Сара. — Он закатил глаза. — Он видит Сару, она прекрасна. Его поразило как молнией: без нее не могу! И вот он идет в дом ее отца — отца зовут Леоне — и просит руки этой женщины, Сары. Отец соглашается, и они женятся. Они очень счастливы. В положенный срок у них рождается трое прелестных детишек…
— А их как зовут? — не унимался я.
Странник пробормотал несколько фраз на неизвестном языке. Мне не нужно было перевода, чтобы понять: он бранится. Потом он сквозь зубы продолжил:
— Их зовут Авраам, Исаак и Анна. Тесть, очень состоятельный, умирает, и его состояние переходит к Джузеппе. У Джузеппе есть все: прекрасная любящая жена, прелестные дети, прекрасный дом, земля, овцы, скот и золото.
— Хорошая история!
— Да. Так вот, долго ли коротко ли, в стране случилось страшное, ужасное наводнение…
— Как наводнение в ноябре тысяча триста тридцать третьего, — заметил я. — Ужас, что было. Дождь лил не переставая, потоками четыре дня и четыре ночи. А какие молнии! Раскаты грома следовали один за другим! Вы тогда были во Флоренции?
— В Ирландии, — коротко ответил он. — Так вернемся же к…
— Потрясающее зрелище было, а звуков таких я ни прежде, ни потом не слышал, — продолжил я. — Непрерывно звонили все церковные колокола. Один мой знакомый монах, брат Пьетро, объяснил, что это мольба о том, чтобы Арно больше не поднимался. А в домах люди били в кастрюли и медные тазы, громко взывали к Богу: «Misericordia, misericordia!»,[477] но Бог только смеялся, а вода все прибывала, а люди, спасаясь от опасности, перелезали с одной крыши на другую, перебираясь от дома к дому по наспех сделанным мосткам. Люди подняли такой громкий гвалт, что не слышно было грома!
— Да уж, громко! Но в моей истории…
— Представляете себе, водой смыло все мосты, — сказал я, будто бы по секрету. — Я видел, как снесло Понте Веккьо, вместе с лавочниками, которые так и остались сидеть в деревянных хибарках. Ужасная трагедия!
Я невинно посмотрел на Странника широко распахнутыми глазами, а он посмотрел на меня, как на деревенского дурачка.
Я хорошо понимал, что его это бесит, и мне это доставляло удовольствие. Я нагло улыбнулся ему.
— В моей истории про Джузеппе наводнение было не лучше, — вставил Странник, скрежеща зубами. — Поднялись воды и смыли его дом, его урожай и скот, все его владения. А потом на горизонте появилась огромная волна, и он схватил жену и детей, посадил одного ребенка на плечи, двух других взял одной рукой, а жену другой. Накатила волна и смыла ребенка, который сидел у него на плечах, а когда он потянулся за дочкой, то в водах потерялись остальные дети и жена. А потом волна выбросила его обратно на берег. Он потерял все. Вот это иллюзия, — победно закончил он.
— Что из этого было иллюзией? — взволнованно воскликнул я.
— Что из этого иллюзия? — усмехнулся Странник, довольный собой. — Все — иллюзия! То, что было и чего не было.
— Не нравится мне эта история, — сердито буркнул я.
— Почему же? Это история твоей жизни. Точнее, жизни любого из нас.
— Жизнь должна быть не такая.
— Как жизнь может быть не такая, как она есть?
— Полная смерти, утрат и неотвеченных вопросов, — грустно ответил я.
Мы замолчали. Свет угасал, и заходящее солнце раскинуло по небу апельсиновые облака. В прохладном осеннем воздухе пахло лавандой. Мы шли по узким улицам в тени высоких домов и похожих на крепости особняков. Несколько серых фасадов венчали зубчатые карнизы. Высокие кирпичные башни и красные терракотовые крыши. Черные железные кольца для факелов, вбитые в грубые каменные выступы. Наконец мы пришли к каменной стене в двадцать локтей высотой, которая окружала город. На одном из уроков Гебер объяснил мне, что она называется третьим кругом, потому что это было третье ограждение, построенное для защиты города. Первое — неправильный квадрат, его построили еще древние римляне, и остатки этой стены до сих пор сохранились в некоторых местах города. Второй круг в 1172 году коммуна возвела, когда у дорог, ведущих от четырех древних римских ворот, выросли пригороды, и горожане не захотели, чтобы враги напали и сожгли эти поселки. Третий круг укреплений был достроен всего двадцать лет назад. Мы остановились у него, потому что к нам приближались три всадника. У меня по спине тревожно побежали мурашки. Ну конечно: Николо Сильвано в красном судейском одеянии восседал на передней лошади.
— Ты от нас так просто не отделаешься, что бы ты там ни унаследовал! — заявил Николо, наезжая на меня. — Я знаю, что ты сделал, и знаю, кто ты, — колдун. Колдун, который любит евреев.
Он плюнул в Странника, который, склонившись, смотрел на каменные плиты. Я ничего не ответил, но не сводил глаз с Николо, с его узкого гадкого лица с выдающимся подбородком и острым носом. Бурый осел закричал на гарцующую лошадь Николо. Остальные всадники тоже поравнялись с нами.
— Ты тот мальчик по имени Лука Бастардо, который несколько месяцев работал на общину могильщиком? — спросил один из магистратов.
Я кивнул.
— Ты получил наследство, — сообщил он и, помолчав, кивнул в сторону Гебера. — Там, на осле, тело купца по имени Антонио Гебер?
Я кивнул, а он добавил:
— Два наследства. Придется платить налоги! Пошли с нами, во Дворец народного…
— Два? — озадаченно переспросил я.
Магистрат натянул поводья и кивнул.
— Одно от Антонио Гебера, а другое от Арнольфо Джинори. Люди видели, как ты вывозишь его тело из города. Они оба оставили тебе все свои владения, банковские счета. Все.
— Джинори? — удивленно переспросил я.
— На которого ты наложил заклятие, колдун, — презрительно усмехнулся Николо. — Ты заморочил его своим колдовством, тем же самым, благодаря которому ты до сих пор мальчишка, а не взрослый мужчина!
— Джинори оставил тебе лавку, красильную мастерскую, — пояснил магистрат, не обращая внимания на Николо. — До чумы она процветала. Джинори был из старинного рода, у него были отличные клиенты.
Красильная мастерская… Рыжий, ну конечно.
— А я ведь даже не знал его настоящего имени, — пробормотал я, растроганный тем, что он вспомнил обо мне.
Подумав о нем, я пожелал ему мира в холмах Фьезоле, чтобы он воссоединился со своей любящей женой, дочкой с прелестными ручками и двумя сыновьями, которыми он так гордился. Неужели я похоронил его только вчера, а сегодня уже хороню Гебера? Прошло два дня, а мне казалось, что десятилетие. Время как-то сбилось, в одних местах растянулось, в других скрутилось узлами.
— Теперь ты богач, — с улыбкой сказал магистрат. — Как заявишь о наследстве, пора бы подумать и о женитьбе.
— Верно, — поддержал его другой магистрат. — Помолвки сейчас по десять раз на дню! И свадьбы тоже. Те, кто выжил, хлопочут, как бы поскорее выдать замуж своих дочерей. После чумы настало раздолье для покупателя. Ты еще молод жениться, но можешь сосватать себе на будущее невесту, богатую и красивую, может, даже из низших дворян. Выйдешь в люди. Сейчас у тех, кто выжил, появилась эта возможность.
— Он не так молод, как кажется, — прошипел Николо, впившись в меня взглядом.
Магистраты мельком глянули на него и вернулись ко мне.
— Позаботься о юридической стороне и налогах, — посоветовал первый магистрат и бросил взгляд на Странника. — Теперь у тебя есть недвижимость, тебе не нужно жить с жидами. — Он развернул лошадь и добавил: — Мне нужно объявить о других наследствах.
И они дружно поскакали дальше размеренной рысцой. До меня долетели слова второго:
— Странный малый! Как ты думаешь, он и вправду колдун?
Николо отстал от своих спутников. Он тоже услышал вопрос и улыбнулся той же глумливой ухмылкой, которую я так часто видел на лице его отца. Я снова пожалел, что не убил Николо тогда в припадке ярости, когда мною овладела жажда убийства. Я подумал, что скоро, наверное, так и сделаю, не дожидаясь, когда он обзаведется нужными друзьями и займет более высокий пост в пережившей чуму Флоренции. Но убить его я хотел без свидетелей. А пока придется ограничиться тем, что я сотру эту ухмылку с его лица. С подчеркнутой медлительностью я протянул:
— Твой отец вот так же улыбался, когда я свернул ему шею, как крысе. Да он и был крысой.
Николо завыл, а потом крикнул:
— Наслаждайся покуда привалившим богатством, Бастардо. Очень скоро я все у тебя отберу!
— Ты не можешь мне ничего сделать, — уверенно ответил я и небрежно отвернулся, как от мелкого насекомого, которое легко раздавить.
Я хотел разозлить его, унизить, заставить почувствовать себя ничтожеством, каким себя чувствовал я в борделе его отца.
— Только попробуй, и будешь жрать у меня еще одну птицу. На этот раз я попотчую тебя не такой хорошенькой красненькой пташкой. Думаешь, понравится?
— Уж я заставлю тебя пострадать, вот увидишь! — выплюнул Николо. — Ты пожалеешь о том, что вообще увидел эту красную птицу! Пожалеешь, что вообще родился на свет! Очень скоро люди ко мне прислушаются, узнают, какой ты выродок! А Флоренция не любит уродов. Тебя сожгут, Бастардо!
Он резко пришпорил лошадь и припустил за офицерами.
— Поздравляю, — сказал Странник и пожал мне руку. — Если я хорошо знаю своего друга, у него в распоряжении было предостаточно флоринов. Ты теперь богач. Ведь об этом ты всегда мечтал!
— Да.
— Тогда вот тебе вопрос, раз уж ты их так любишь. Что ты будешь делать, когда добьешься всего, чего хочешь?
Широко улыбнувшись мне, Странник сунул мне в руку поводья осла и сомкнул мои пальцы на веревке. Внезапной вспышкой сверкнуло во мне воспоминание: как когда-то очень давно, на Старом рынке Сильвано сжал пальцы моего друга Массимо, вложив ему в ладонь монету.
— Я выиграл! — прошептал мне Массимо тогда, давным-давно.
Но он не выиграл, если не считать выигрышем смерть от руки жадного кондотьера… Я пережил мучения, стыд и несчастья, каких и представить себе не могут обычные люди. Но я выиграл. Я выиграл, потому что мне больше никогда не придется голодать и побираться. Странник пытливо вглядывался в мое лицо, как будто мог прочитать мои мысли. Он снял со спины осла мешок и перебросил через плечо. И тут я понял, что он уходит.
— Я когда-нибудь еще увижу вас? — спросил я.
— Думаешь, от меня легко избавиться? — Странник покачал головой, заросшей бородой и черно-седой гривой. — Немало воды утечет, немало дорог останется позади, и мы снова встретимся, Бастардо.
— Всего доброго, Странник, — пожелал я.
Он махнул на прощание рукой и зашаркал обратно в город по булыжной мостовой. Пройдя несколько шагов, он оглянулся.
— Береги осла, Бастардо! Он тоже мой старый друг, — крикнул Странник.
Я ответил не слишком приличным жестом, отчего Странник расхохотался, а я медленно расплылся в улыбке. А потом мы оба замолчали. Странник пошел своей дорогой, а я — дальше, в Тосканские холмы, чтобы похоронить еще одного друга.
ГЛАВА 12
Теперь у меня было столько денег, сколько я и не мечтал получить. Похоронив Гебера, я отправился в Палаццо дель Капитано дель Пополо и обнаружил, что Странник был прав: Гебер оставил после себя солидный счет из тысячи флоринов, который пополнился от удачных вложений в шерстяную фабрику и виноградник в Анчьяно. Джинори, которого я звал Рыжим, владел примерно третью такого состояния. Но зато у Джинори был дом, где он жил, где располагалась его мастерская, а также запасы материалов, необходимых для его ремесла, — красящие вещества, рулоны тканей и прочее. Теперь я богач, владеющий устроенной мастерской и всем, что нужно для этой работы. Придется заплатить налоги, но я ведь мог вступить в права владения, когда пожелаю. Сейчас, когда умерло пол-Флоренции, юридические формальности, связанные с завещанием и получением наследства, улаживались быстро. Те, кто выжил, торопились вернуться к производству шерстяных тканей и международной торговле, торговле зерном и предметами художественных промыслов, банковскому делу и инвестированию, карнавалам и искусству, потому что именно все это делало нас Флоренцией, говоря словами Папы Бонифация — пятым элементом мироздания.
Я вышел из дворца, словно одурманенный. Стоял по-зимнему прохладный день, над головой раскинулось желтоватое небо, похожее на маслянистое молоко, а у меня в руках был листок бумаги, в котором перечислялось все мое наследство и который давал мне право снимать средства со своих новых счетов. На площади перед дворцом ветер вырвал у меня из рук бумагу и швырнул наземь. Когда я наклонился поднять ее, рядом раздался стук копыт скачущей лошади. Едва мои пальцы коснулись листка, как всего на расстоянии волоса от них в бумагу воткнулась шпага. Я поднял голову и увидел, что надо мной, вытянув оружие, с презрительной усмешкой склонился Николо Сильвано.
— Что, наследство собираешь, колдун? — спросил он. — Ну и долго оно у тебя продержится, пока люди не узнают, кто ты есть — порождение греха и источник зла? Мой отец говорил, что однажды спас тебя, когда толпа чуть не сожгла тебя за твое уродство!
— Твой отец меня не спасал. Твой отец за свою жалкую жизнь ни одного доброго дела не сделал, — равнодушно ответил я. — Меня спас великий человек, а твой отец просто оказался поблизости и утащил в свое логово.
— Мой отец был великим человеком! А кем был твой отец, таким же блудным уродом, как ты? А ты никогда не задумывался, Бастардо, какая дрянь породила такое чудовище и бросила на улице? — засмеялся Николо. — Не задумывался? Мой отец иногда размышлял над тем, что за человек мог породить такого красавчика, а потом бросить его на произвол судьбы.
— О чем я задумываюсь, тебя не касается, — ответил я, не позволив ему себя разозлить.
Задуманное убийство заняло все мои мысли. Посмотрев оценивающим взглядом, я увидел, как он сидит, в каком положении шпага. Держал он ее неловко, как будто она была новая, и я знал, что он никогда не брал уроков фехтования. Я резко выпрямился и вышиб ее ногой. Шпага отскочила от листка и чуть не вылетела из руки Николо. Он зашатался в седле и еле удержался, неуклюже вцепившись в гриву лошади. Присев, я подхватил листок, ловко увернувшись из-под железных копыт гарцующей лошади, обутых в железные подковы.
— Меч у тебя, может, и есть, но дворянином тебе никогда не стать, — довольно произнес я, не упустив возможность его уязвить. — Кем бы я ни был, ты-то все равно останешься отродьем гнусного держателя борделя, который порабощал и убивал детей!
— Я уже дворянин, отцы города дали мне дворянство, — ответил он, выпрямившись в седле, и покрепче взялся за шпагу, наворачивая круги возле меня. — Сейчас во Флоренции самое время ловить удачу, и я ухвачусь за нее, вот увидишь! Мой отец бы мной гордился!
Николо направил свою лошадь на меня, но я хлопнул ее по крупу, и лошадь пугливо отпрянула, чуть не скинув седока.
— Только змея гордится змеей.
— Ты завидуешь, потому что у меня есть отец, — пропел Николо и, снова выпрямившись, самодовольно ухмыльнулся, собрав узду в ту руку, в которой держал шпагу. — Я тоже оставил тебе особенное наследство, во дворце моего отца. Не забудь забрать, ублюдок!
Не успел я опомниться, как он наклонился и ударил меня свободным кулаком по лицу. Тут я вышел из себя и попытался неуклюже спихнуть его с седла. Он засмеялся и дал мне кулаком по зубам. На его стороне было то преимущество, что он сидел высоко в седле. Лошадь вздыбилась, и я отскочил, чтобы не попасть под ее копыта, а Николо, хохоча, умчался прочь.
Я не сразу пошел в бордель, хотя Николо наверняка хотел, чтобы я бросился туда со всех ног. Я поклялся, что больше никогда не буду следовать указкам тех, кто носит имя Сильвано. Я сам решу, куда мне пойти и когда. Поэтому я вернулся в дом Сфорно с разбитой губой и синяком под глазом. Моисей Сфорно стоял в кухне у очага, пил вино и доедал полдник — холодного жареного цыпленка и соленые черные оливки в специях. Я догадался, что он ходил навещать больных. Увидев меня, Сфорно удивленно вскинул брови, отставил кубок с вином и подошел осмотреть меня. Рука у него были мягкая, но твердая, и я решил, что если стану врачом, то и у меня будут такие же добрые руки. От целительных прикосновений Сфорно из меня испарилось все напряжение после стычки с Николо.
— Умойся, и все пройдет, — сказал он и отошел, взяв свой оловянный кубок. — Николо Сильвано?
Я кивнул.
— Синьор, я теперь богат. И у меня есть свой дом. И дело. Лавка, где продаются крашеные ткани.
Сфорно улыбнулся.
— Замечательно. Значит, ты уйдешь от нас и будешь торговать в лавке?
Он подошел к бутыли с вином и налил мне кружку. Я подумал секунду и сказал:
— Я переселяюсь сейчас. Синьора Сфорно будет рада. Но если вы согласны и дальше учить меня, я хочу стать врачом.
— Можешь не торопиться с переездом, — сказала госпожа Сфорно.
Она вошла в кухню в простом коричневом фартуке, с корзиной, в которой лежали картошка, капуста и морковь. Даже не взглянув на меня, она принялась чистить и резать морковку, и скоро на столе уже была груда тончайших оранжевых очистков. Женщина работала, склонив над столом красивую голову в желтом чепце.
— Ты еще очень молод. Тебе лучше пожить у нас и научиться всему, что тебе может дать Моше. Он говорит, у тебя талант и ты станешь хорошим врачом.
— Благодарю, синьора, — пробормотал я, довольный тем, что меня все-таки признали, пускай хоть небрежно.
Я робко глянул на Сфорно. На его крупном бородатом лице было написано удивление. Но потом он молча улыбнулся мне.
Госпожа Сфорно продолжила:
— К тому же ты не умеешь ни стряпать, ни убираться, а слуг в городе днем с огнем не сыщешь. Ты мог бы сдать мастерскую в аренду…
— Вы уже знаете? — удивился я.
— Хотя женщины и сидят по домам, это не значит, что они ничего не знают, — язвительно ответила она, напомнив мне Рахиль. — Так вот, тебе лучше всего сдать свою мастерскую в аренду.
— Столько людей умерло, трудно будет найти съемщиков, — заметил Сфорно, расчесывая бороду пальцами.
— Еще два-три месяца, и появятся, — уверенно сказала госпожа Сфорно. — Флоренция наполовину вымерла, но скоро понаедут люди из других мест. Черная смерть прошлась по многим городам, и люди потянутся во Флоренцию, чтобы начать жизнь заново. — В ее словах был здравый смысл. Она снова вернулась к работе. — Деньги за аренду будешь класть в банк. Пускай они там и лежат. Я не хочу, чтобы ты промотал их, играя в карты или растратив на… — ее белая рука с ножом остановилась, а потом продолжила строгать, — на прочие недостойные занятия.
— Да, синьора, — серьезно согласился я, поняв, что она имеет в виду.
Ей не стоило беспокоиться. Я давно поклялся себе, что никогда не буду платить за удовольствия, если захочу их получить, хотя при моем прошлом это было маловероятным.
— Вот повзрослеешь, тогда и съедешь от нас — и займешься достойным делом, — решительно закончила она.
— Лия, как же ты рассудительна и добра!
Моисей Сфорно обвил жену за талию и нежно приник к ее шейке. Я отвернулся и пошел в сарай. С женщинами семейства Сфорно не поспоришь! Хоть я и чужак, в прошлом — уличная шваль и шлюха, а теперь вот новоиспеченный богач (но не еврей), но раз сказано, ничего не поделаешь — придется еще пожить в сарае. Я был польщен ее заботой о моем благополучии, хотя меня и раздражало, что кто-то опять берется распоряжаться моей жизнью. Но все-таки я решил уважить желание госпожи Сфорно, а это значило, что я не смогу уйти отсюда, так же как долгие годы не мог уйти от Сильвано. Разумеется, тут я был связан более мягкими обязательствами. Но мне хотелось знать, когда же я снова буду по-настоящему свободен, так же как когда-то давно на улицах. Неужели во мне всегда, как больной зуб, будет жить ноющее чувство бесприютности и одиночества? Тогда я не знал того, чему меня впоследствии научила жизнь, — я никому не принадлежу и должен следовать только велениям своего сердца.
— И еще одно, Лука! — добавила госпожа Сфорно.
В голосе ее звучала предостерегающая нотка, и я резко обернулся.
— Найми себе учителя. Рахиль больше не будет ходить к тебе в сарай и оставаться с тобой наедине.
Я немного удивился и даже испугался сердитого тона синьоры Сфорно, поэтому не сразу ответил. Проглотив комок в горле, я произнес:
— Да, синьора! — И удрал к себе в сарай.
Умывшись, я вновь отправился обратно в город, на когда-то людную, а ныне пустынную узкую улочку на берегу реки у Понте Санта-Тринита, где жил Гебер. Я взбежал по лестнице в каморку Гебера и вновь был поражен ощущением пустоты, которое распространялось оттуда даже на лестничную площадку. Дверь для меня не открылась сама собой, как раньше, и мне пришлось ее толкнуть. Войдя, я окинул взглядом комнату, где за последние месяцы провел столько часов, повергших меня в недоумение и подтолкнувших к новым знаниям. Как будто все оставалось по-прежнему. На столах все то же нагромождение странных предметов: перегонные кубы, мешочки, коробочки, дохлые животные, камни, ступки с пестиками. Но сейчас движение, которым словно дышала комната, застыло. Огонь не оживлял перегонные кубы, выпускавшие цветной дым в потолок. Я подошел к одному столу, где лежала необыкновенно большая оранжевая бабочка с распластанными крылышками. Я подобрал мертвое насекомое и поднес к глазам, чтобы получше ее рассмотреть. Едва мое дыхание коснулось ее усиков, она вдруг рассыпалась в тонкую коричневую пыль, которая запорошила стол и пол. Я вскрикнул от неожиданности, и в тот же миг остальные предметы на столе тоже рассыпались в прах: засушенные цветы, катушки ниток, комки глины, мертвая змея, миска с чистой жидкостью — все превратилось в кучки пыли. Я ахнул и резко развернулся: то же самое происходило на остальных столах. Миски с травами или жидкостями, пузырьки с краской или чернилами, лоскутки ткани, баночки с краской, горки камней, павлиньи перья, мешочки с солью, кубки — все рассеялось в бурый прах. Всего за несколько мгновений. И на простых деревянных столах не осталось ничего, кроме пыли, иллюминированных манускриптов Гебера и стопок бумаги, на которой он писал. Исчез даже перегонный куб Зосима с тремя носиками, которым так гордился Гебер. Я собрал манускрипты и бумагу на один стол и отправился обратно в дом Сфорно.
Проведя несколько часов в мрачных размышлениях над тем, что Николо имел в виду под наследством, я, дождавшись вечера, решил-таки сходить в бордель. Мне не хотелось туда идти, но по какой-то противоречивой логике сердца ноги несли меня туда. Обретя свободу, я хотел по-новому взглянуть на свою прежнюю темницу. И я должен был смело встретить то, что мне было уготовано моим недругом. Я возвращался вместе со Сфорно от вельможи, чья жена мучилась такой сильной мигренью, что не выносила даже света. Сфорно осмотрел ее, пощупал пульс, посмотрел мочу и установил, что она беременна.
— У только что забеременевших женщин может быть много разных симптомов — или вообще никаких, — объяснял он мне.
Мы возвращались в Ольтарно через лабиринт каменных арок, подпиравших здания на узкой улице у Старого рынка. Разговор о беременности вызвал у меня в памяти милую и добрую Симонетту, которая прекрасно выносила обоих детей. А вместе с Симонеттой на память пришел и ее гадкий сынок Николо, хотя мне всегда было трудно помнить про их родство. Едва мальчик вышел из младенческого возраста, Бернардо Сильвано забрал его себе, не подпуская к нему Симонетту. Я оставил ее во дворце заботиться об остальных детях. Она не знала другой жизни и отказалась уходить после того, как я убил Сильвано и выгнал Николо, пригрозив убить и его, если он вернется. Придется мне все же выполнить свое обещание, потому что он, очевидно, все-таки возвращался, чтобы оставить для меня что-то. Интересно знать, что это могло быть.
— Синьор, я должен покинуть вас, — неловко произнес я.
Чего бы ни касалась рука того или другого Сильвано, от этого не следовало ждать добра. Сфорно кивнул, и я помчался к городским стенам на восточной окраине города. Миновал извилистые улочки, где сквозь просветы над низкими домиками, втиснутыми между башен, на сырой темный булыжник падали полосы света. Прошла, казалось, целая вечность, и я все-таки вернулся в украшенный лепниной дворец, куда поклялся никогда не возвращаться. Окна были не занавешены и пропускали свет. Они стояли так с тех пор, как я сорвал шторы. Во дворце все было тихо и безлюдно, как и во многих других домах: половина Флоренции лежала в земле, а остальные бежали из города и пока не вернулись. Я неторопливо приблизился к двери, чуткие волоски на затылке зашевелились. Там затаилась какая-то угроза. Я прислушивался, что подскажет мне некогда столь острое чутье, которое развилось у меня за проведенные тут годы, но внутреннее зрение ничего мне не показывало. Казалось, за те месяцы, пока я хоронил пораженных чумой мертвецов, восприятие мое притупилось. Но я не мог избавиться от чувства тревоги, и, когда толкнул дверь в публичный дом, рука моя задрожала.
Внутри было тихо, как и во время долгого правления Сильвано. Но когда я уходил отсюда, все было не так. Когда я уходил обагренный кровью восьмерых клиентов, дети свободно сновали по дворцу, говорили, а служанки переговаривались, убирая тела. Убийствами я вернул во дворец жизнь. Симонетта обняла меня, пожелав счастья в новом доме, а я заверил ее, что Николо никогда не вернется, потому что я пообещал ему за это горькую расплату. Он знал, что моими словами пренебрегать не стоит.
Я громко поздоровался, но мне никто не ответил. Я прошел через вестибюль в длинный коридор и тут же уловил тошнотворно-сладкий запах гниющей плоти. Все двери были закрыты, а когда я открыл первую, то увидел маленькое тельце на кровати.
— Нет! — вскрикнул я.
Сердце подскочило и бешено забилось, когда я подошел к кровати. Это был маленький ребенок из Китая — одно из новых приобретений Сильвано. Девочка пробыла во дворце недолго, когда я освободил ее, и дух ее еще не был сломлен. Она весело смеялась, как звонкий колокольчик, и улыбалась озорной улыбкой. Но теперь раскосые глазки на желтоватом личике остановившимся взглядом уставились в пустоту. У нее было перерезано горло. Вокруг тела — аккуратная лужица крови, и лежала девочка в спокойной позе, сложив руки на груди. Она либо не сопротивлялась, либо ее убили во сне.
Меня вырвало, и я, еле волоча ноги, пошел в следующую комнату. В ней жил маленький белокурый мальчик, неизменный фаворит, теперь он лежал на полу, лицом вниз, как мешок с картошкой. Я перевернул его и увидел, что ему тоже перерезали горло. И тогда я заплакал и бросился наверх, в жилую часть дворца. Распахнув дверь в комнату Симонетты, я увидел на кровати очертания ее крупного тела. Подбежал ближе: она лежала как будто во сне, и длинная светлая коса спускалась с роскошной бархатной подушки, которые были непременным атрибутом дворца. Она не дышала, а глаза с гусиными лапками в уголках были мирно закрыты. На шее ни крови, ни синяков, но жизнь ее покинула. Ее голову с милым морщинистым лицом и с красным родимым пятном кто-то свернул набок, и, как у девочки из Китая, сморщенные руки были сложены на груди. Николо, наверное, отравил ее. Я рухнул на плиточный пол у ее кровати. Симонетта была так добра ко мне все эти годы, и за это ее убили! Подлец Николо не остановился перед тем, чтобы убить родную мать. Он совершил это бесчеловечное преступление, чтобы ранить меня, а я потерял еще одного драгоценного друга. На этот раз по своей вине. Если бы я не ушел жить к Сфорно, она, возможно, осталась бы в живых. Мне нельзя было бросать ее здесь одну. А теперь сожаление и ярость ее не воскресят. Слезы лились у меня по щекам, и я не пытался их остановить.
Прошло какое-то время, и я поднялся. На город сошла ночь, и густые лиловые тени протянулись из ниш, за окнами завыл холодный ветер. Я обошел весь дворец, зажигая по пути лампы, свечи и факелы. Потом по очередипобывал во всех комнатах. Почти в каждой лежал мертвый ребенок — на полу или на кровати. У большинства было перерезано горло, хотя некоторых закололи ударом в грудь. Никто не сопротивлялся: я по своему горькому опыту знал, что их научили не сопротивляться, и даже несколько месяцев свободы не проломили воздвигнутую в душе стену. Напоследок я зашел в свою комнату. На моей кровати кто-то лежал, и, подойдя поближе, я увидел маленького рыже-бурого щенка, дворнягу из тех, какие часто бегают по городу и выпрашивают кусочки. Щенок лежал с отрубленной головой, разинув пасть, из которой вывалился розовый язык, а голова лежала рядом с телом, в которое несколько раз вонзили нож. Ног и гениталий не было. Это было явное предупреждение для меня, но вместо того, чтобы напугать, оно меня разозлило. Решимость убить Николо только вспыхнула с новой силой, обрела форму и укрепилась. Если бы я был колдуном, как утверждал Николо, если бы помимо зла, что творят люди, верил в Сатану, я бы в тот момент продал свою душу за жизнь этого подонка.
Хоронить предстояло около пятидесяти тел, одному человеку работы хватит на несколько дней. Но я больше не хороню мертвых, я уже не работаю могильщиком. Насмешник Бог в поисках новой шутки швырнул меня, как кот мышку, на новое место в жизни. Пришло время стать врачом, чтобы облегчать боль и страдания, исцелять людей. Просидев недолго в размышлениях на кровати с расчлененной собакой, я нашел выход. Незамысловатое решение пришло как озарение. Я снял со стены факел, зажег его и поднес к тяжелым шторам, которые загораживали свет в этой маленькой комнате — моей многолетней темнице. Шторы быстро занялись, и рыжие язычки пламени скоро уже лизали потолок. Я поднес факел к кровати с матрацем из конского волоса, и простыни со свистом подхватили огонь. Струйка огня пробежала по пасти собаки, и я бросился наверх, чтобы поджечь постель Симонетты. Я долго смотрел, как огонь нежно окутывает ее тело, точно одеяло, и ушел, не дожидаясь, когда запах обуглившегося тела начнет вызывать тошноту.
Я спустился вниз в длинный коридор. Я входил в каждую комнату, укладывал ребенка на кровать, если он еще не лежал в ней, и поджигал простыни, покрывала и шторы. Я не молился, потому что вновь был зол на Бога за то, что он позволил Николо совершить столько убийств. Я просто доверился огню, который перенесет этих маленьких пленников в лучший мир, каким бы он ни был после смерти. Я сомневался, что он так праведен и скучен, как твердили священники. Но там наверняка что-то есть. Лучшие люди, чем я, крещеные люди, твердо верили в рай. Возможно, Арнольфо Джинори пожалеет юных новичков и примет их с распростертыми объятиями. Он был хорошим человеком, никого не осуждал, и в нем хватит доброты на всех. Я обошел все комнаты в коридоре, где была и моя, и свернул в другой коридор, чтобы продолжить начатое.
Вскоре дворец затрещал, охваченный воющим пламенем. Черный дым растекался по потолку, в лицо хлестали жаркие порывы воздуха. Стены и потолок засветились золотым сиянием, напомнив мне сияющие выразительные нимбы на картинах учителя Джотто Чимабуэ. Чимабуэ написал прекрасный алтарный образ Мадонны в церкви Санта Тринита, он изобразил царственную Мадонну, выполненную в старом стиле: с овальным лицом, дугами бровей и узким продолговатым носом.[478] Его Мадонна восседала царицей на монументальном троне, ей прислуживали восемь чудных ангелов, а у подножия располагались четыре суровых пророка. Золотой фон подчеркивал ее божественное материнское начало, а на коленях у нее сидел младенец Иисус, поднявший руку для благословения.
Возможно, что запах дыма и горелого мяса помутил мой рассудок, или причиной был восторг, вызванный величественной Мадонной Чимабуэ, но на мгновение я почувствовал беспредельность, вызываемую философским камнем. Время закрутилось, словно слетевшее с тележной оси колесо, и перед глазами пронеслись сцены из моей прошлой жизни. Пламя расступилось, точно туман, рассеявшийся над поверхностью реки, и я увидел себя — тощего грязного мальчишку, которого вводит во дворец глумливый Бернардо Сильвано. Я увидел, как первый клиент входит в мою комнату, и бесчисленное множество других клиентов, которые приходили после него. Я увидел каждого в отдельности, каждое из ненавистных лиц. Я до сих пор их ненавидел и все еще чувствовал жар гнева, который снедал меня изнутри, когда я вспоминал, что они делали со мной. А потом я увидел других детей и клиентов, которые ходили по коридорам, и множество сцен дикой похоти, которые разыгрывались в этом дьявольском дворце. Они терзали меня, и я вновь и вновь переживал унижение.
И вдруг время перестало кружиться, и сорок восемь детей, чьи тела я предал огню, встали передо мной полукругом. Они стояли в торжественном, благоговейном молчании. На них были сорочки из голубого шелка, а вокруг голов — золотые нимбы, как у ангелов на картине Чимабуэ. Ближе всех ко мне стояла маленькая китаяночка, а когда наши взгляды встретились, она кивнула. Ингрид, которой я скормил отравленную конфету, чтобы спасти от дьявольских замыслов кардинала, тоже была среди детей. Она держала на руках младенца, и я понял, что это задушенный мною ребенок Симонетты. А потом в полукруг вступил Марко, взяв за руки стоявших рядом детей. Он был таким же, как до того дня, когда его покалечил Сильвано: красивым, изящным, излучавшим доброту. Я был так рад видеть его целым и невредимым, что позвал его по имени. Он подмигнул мне с прежним лукавством. И звук, похожий на песню, полился из уст детей, наполняя мне душу восторгом, и среди них появилась и Симонетта. Она снова была молода, и на ней не было шрамов, нанесенных хлыстом Сильвано. Она улыбнулась мне и указала…
Ба-бах! — упавшая балка приземлилась в шаге от меня, швырнув мне в лицо сноп голубых искр, это вернуло меня из царства грез на землю. Моя работа здесь завершена. Я положил факел на ковер, повернулся и вышел. Я отошел на некоторое расстояние и, убедившись, что отсюда еще хорошо видна пламенеющая в ночи громада дома, залез на стену заброшенного дворца возле дверей Санта Кроче, которые, как и все во Флоренции, были на ночь закрыты. Махнув рукой на поздний час, когда не дозволено находиться на улице, и на стражу, я вскарабкался на крышу, чтобы полюбоваться зрелищем пожара, пожирающего бордель Сильвано. С ним как-никак сгорало и мое прошлое. Я о нем не жалел. Из пепла восстанет лучший Лука и лучшая жизнь. Возможно, чтобы из головы побитой собаки исчезла воздвигнутая в ней темница, тюрьма должна сгореть.
Настал холодный и сырой рассвет. Первые робкие лучи солнца пробились из-за синего горизонта, и открылись городские ворота. Первыми в них вошли крестьяне из деревень, которые везли на телегах, запряженных ослами, товары на рынок. В потоке телег и навьюченных ослов спешил на утреннюю мессу набожный народ; глядя на него, я вновь поклялся убить Николо. Я пообещал себе и Богу, что отомщу за каждую отнятую им жизнь. Эту клятву мне суждено было нарушить. И случилось так, что она обернулась против меня самого, но лишь спустя сто шестьдесят лет.
К тому времени, как я вернулся в дом Сфорно, моросил мелкий дождик. Я тихонько прошел через дом к себе в сарай, чтобы вымыться. Меня ждала там Рахиль. Она сидела на сене, где я обычно спал, обняв колени руками, завернутая в мое шерстяное одеяло. При моем появлении серая кошка подняла голову с ее коленей.
— Я ждала тебя, Лука. Пора начинать урок, — сказала она.
Ее темно-рыжие волосы струились по спине блестящей волной, кудри обрамляли лицо, на лице играли розоватые тени. Она казалась необыкновенно хрупкой, даже для моих усталых глаз.
— Рахиль, твоя мать не хочет, чтобы ты сюда ходила, — тихо ответил я.
Я остановился в дверях и, пододвинув себе трехногий табурет, уселся на него в ожидании, когда она уйдет.
— Тебя не было ночью, — сказала она, потом запнулась, а когда я ничего не ответил, спросила: — Куда ты ходил?
— В город. Тебе лучше уйти, а то твоя мать на меня рассердится.
— Ты иногда так возьмешь и исчезнешь, — промолвила она тихо, сильнее сжав колени руками, — так таинственно. Куда ты ходишь, Лука Бастардо? В церковь? На рынок? К старым друзьям из прошлого? Или ищешь родителей, которых никогда не знал, но которые должны у тебя быть? Ты никогда не вспоминаешь о них?
— Вспоминаю, — признался я, теребя подол лукки.
Я не собирался вдаваться в подробности, и она пожала плечами.
— Мама говорит, мы не должны спрашивать тебя о твоей жизни, потому что у того, кто сделал то, что сделал ты, есть тайны, которых больше никто не должен знать.
— Мне велено нанять учителя, — сказал я и отвел глаза, — ты же знаешь.
Она кивнула и встала, свернула мое одеяло и расправила прямую джорнею персикового цвета. Она подошла ко мне, а я встал, чтобы подвинуть табурет и пропустить ее. Но вместо того чтобы пройти, она остановилась в нескольких дюймах от меня. А потом, я даже не успел сообразить, как она обхватила мое лицо ладонями и потянулась, чтобы поцеловать. Я заметил, что она одного со мной роста и ей не нужно вставать на цыпочки, на губах у нее остался легкий вкус масла, как будто она ела хлеб с маслом, пока ждала меня.
Всего на мгновение, несмотря на мое решение уважать желание ее матери, я поддался ей. Мне была интересна она и вообще все женщины, их нежная волнующая округлость, которую я стал замечать все чаще. Живя у Сильвано, я часто думал, что плотские удовольствия меня никогда не будут интересовать. Видение, пережитое у Гебера, в котором я выбрал любовь, показало мне не чувственность, а покой и близость, которые познаешь в любви. Целовавшая меня Рахиль была похожа на сочную винную ягоду, которая вот-вот упадет с дерева, переполненная сладостью. В голове мелькнула мысль, от которой мурашки побежали по телу: вдруг это она, та самая, которую мне пообещало видение, та Женщина, что завладеет моим сердцем и душой. Но я чувствовал лишь нежное, возбуждающее прикосновение ее губ и собственную благодарность за то, что она научила меня читать. Не грянул песней ангельский хор, не нахлынули ароматы сирени и лимона, по жилам не разлилась волна восторга. Вместо них — нежность от сознания того, что эта умная и честная девушка открылась мне, не боясь позора. И я мягко отодвинулся. Она пошатнулась и упала, я поднял ее и поставил на ноги.
— Я не могу так оскорбить твоих родителей, — тихо произнес я.
Она покраснела, как вишня, от шеи до корней волос, и отвернулась, закрыв лицо руками.
— Подожди, Рахиль, но это не значит, что ты мне не нравишься! — воскликнул я и потянулся к ее плечу, но отдернул руку, даже не коснувшись. — Твои родители столько для меня сделали!
— Я понимаю, — ответила она и выпрямилась.
Вздернув подбородок, хотя у нее горели щеки, а к юбке прилип лошадиный навоз, она, призвав на помощь всю свою гордость, с достоинством удалилась.
Пять лет прошло с тех пор, как я поселился в тесном сарае за домом Сфорно и стал учеником Моше Сфорно. Я внимательно наблюдал за работой Сфорно. Ему попадались пациенты со всеми мыслимыми недугами — от проказы до водянки и зловонного дыхания, от сломанных костей до простуды и эпилепсии. Я помогал ему вправлять кости, лечить лихорадку, перевязывать и прижигать раны, ампутировать пораженные гангреной конечности, лечить боль в ухе путем введения зонда, ставить банки, привлекая гуморы[479] к определенным участкам тела, промывать желудок и делать клизму. Он подсказывал, как готовить и использовать основные травяные лекарства, пластыри, припарки, жировые мази, притирания и зелья, хотя их приготовление, как правило, Сфорно поручал аптекарю, если таковой найдется. Под его руководством я упражнялся в важных навыках, постоянно считал у больных пульс, изучал мочу, прописывал особый рацион и промывал раны горячим вином. Сфорно редко занимался кровопусканием или операциями на теле, предоставляя это делать хирургам и цирюльникам. Все равно после операции люди умирали — чаще всего либо от заражения, либо от потери крови, либо от неумелости хирурга.
Я нанял учителя, который стал учить меня латыни. Это был старичок по имени Джованни Фалько, который занимался преподаванием не ради заработка, а ради любви к древнему языку. Как многие флорентийцы, он унаследовал землю и деньги от родственников, которых забрала чума. К нашему обоюдному удивлению, я очень быстро усваивал латынь, и, видя это, Моше Сфорно пожелал учить меня и древнееврейскому. По-латыни я читал помимо прочего длинные трактаты Галена:[480] «О назначении частей человеческого тела», «О цвете лица», «Малое ремесло» и «О пораженных болезнью членах»; а также «Канон» Авиценны, состоявший из миллиона слов, и «Афоризмы» Гиппократа. Сфорно был дотошным, строгим учителем, страстно преданным своей профессии. Ему стоило огромных трудов раздобыть для меня старательно переписанные копии манускриптов, и он настаивал, чтобы я прочитал эти сочинения полностью. Для меня было недостаточно внимательно прочесть несколько глав, знания которых обычно требовали от студентов-медиков в университетах. Я читал и более современных авторов, например Джентиле да Фолиньо, который умер во время чумы, посещая больных; Альберта Великого,[481] который описал анатомию человека; Арнольда из Виллановы,[482] который исследовал значение воздуха и ванн, физической активности и упражнений, сна, еды и питья, испражнений и эмоций для сохранения здоровья. А еще Пьетро д'Абано,[483] чей труд «Согласование противоречий» посвящен физиологии. На древнееврейском я читал Хунейна ибн Ицхака[484] — «Десять трактатов о глазе», Али Аббаса,[485] Разеса[486] и трактаты Маймонида.[487] Учитель Джованни также давал мне «Тетрабиблос» Птолемея, в котором рассматривается влияние Солнца, Луны и пяти планет на человеческую жизнь и здоровье, а также влияние зодиакальных созвездий на различные части тела. Поскольку еще Гебер хотел, чтобы я изучал астрономию, я, найдя среди его бумаг другие манускрипты на эту же тему, забрал их с собой в дом Сфорно.
Для меня это было увлекательное время. Я узнавал и обсуждал новые идеи, открывая для себя великих мыслителей прошедших столетий. Я открыл в себе жажду знаний, любовь к чтению и понял, что могу читать столько часов, сколько горит лампада — хоть ночь напролет, а утром все равно просыпаюсь свежим и бодрым. Под руководством Джованни и Моше Сфорно я узнал о комплекциях, различаемых Галеном, о балансе влажного, сухого, горячего и холодного, узнал, что болезни возникают от нарушений этого баланса. Врач может вылечить больного, восстановив природное равновесие при помощи лекарств, в которых эти качества присутствуют в обратном соответствии относительно организма. У каждого человека своя комплекция, комплекция зависит от пола и возраста: так, у женщин комплекция более влажная и холодная, чем у мужчин, а у молодых она горячее и суше, чем у старых. Я также изучил Гиппократову теорию гуморов об особых телесных жидкостях, влияющих на состояние организма. Существует четыре основных гумора: кровь, желтая или красная желчь, флегма и черная желчь. Кровь занимает особое место среди этих жидкостей. Гуморы необходимы для питания и переноса полезных веществ. Сочетанием гуморов определяется комплекция и поддерживается ее баланс, поэтому кровопускание является важным средством сохранения и восстановления здоровья. Но мы со Сфорно считали, что кровопускание назначают больным слишком часто, и он предпочитал прибегать к другим средствам, и я вслед за ним придерживался в своей практике того же правила и после его смерти.
В дополнение к Джованни я нанял учителя фехтования, он жил возле Санта Кроче, и я ходил к нему на дом учиться обращению с мечом и кинжалом. Эти уроки стали поводом частых поддразниваний со стороны Моше Сфорно и его дочерей: евреи не имели обыкновения этим заниматься. Но я всегда помнил о своей клятве отомстить Николо Сильвано и знал, что он тоже помнит обо мне. Мы словно ходили кругами один вокруг другого, готовясь к неизбежному столкновению. По какому-то молчаливому согласию мы в эти годы избегали встречаться. Я был поглощен своими медицинскими занятиями, а он, как я слышал, служил в городском управлении и наживал состояние. Судя по всему, он временно прекратил свои наветы. Вероятно, его остановил Содерини, вопреки своему обещанию ни с кем обо мне не говорить. И потому ли, что чувства мои обострились в борделе, или благодаря тому, что я слишком хорошо изучил Николо, но, даже не видя его, я знал, что он усердно совершенствуется в мастерстве фехтования, чтобы опробовать его на мне в день решающей встречи.
Итак, я почти не видел Николо, разве что издалека, хотя и этого было достаточно, чтобы понять: он всеми способами старается завоевать благосклонное покровительство знатных людей, магистратов и судей Флоренции и своим искательством добился желанного успеха. Черная смерть унесла слишком много людей, чтобы выжившие могли с прежней строгостью блюсти все правила, предписываемые сословными предрассудками. Николо никогда не отдадут под суд за убийство детей из борделя, так же как меня никогда не отдадут под суд за убийство Сильвано и клиентов или поджог публичного дома.
Не знаю уж почему, возможно, дело было в аппетитной стряпне синьоры Сфорно или в том, что я проводил время среди других детей по вечерам, после обычной работы, и жил вполне обычной жизнью, а возможно, помогло появившееся у меня ощущение уверенности благодаря банковскому счету и доходу от маленького виноградника в Анчьяно и от красильной мастерской, для которых я нашел арендаторов, но я начал взрослеть в нормальном темпе. Через пять лет, хотя мне и было уже за тридцать, я стал выглядеть как восемнадцатилетний юноша. Я все еще был худ и едва достиг средненького роста, хотя и сделался мускулистым благодаря урокам, которые брал у учителя фехтования. У меня были такие же светлые рыжеватые волосы, я отрастил их до плеч и прятал под обычную фоджетту — такую шляпу я выбрал нарочно за ее скромный вид. Я не собирался забывать о том, кем был на самом деле и откуда произошел: я был никто из ниоткуда. У меня стала расти борода, но такая скудная и тощая, что меня это раздражало, поэтому я брился. Мое лицо по-прежнему привлекало внимание мужчин, неравнодушных к мужчинам, но теперь и женщины стали на меня посматривать призывным взглядом. Однажды летом на Старом рынке на меня натолкнулась какая-то дама, прильнув к моему боку всеми своими округлыми прелестями. Меня тут же охватил жар, и тело недвусмысленно отозвалось на это прикосновение, чего еще никогда прежде не бывало. Она, казалось, поняла это и задержалась в таком положении чуть дольше необходимого, дав мне ощутить округлость своей груди.
— Простите мне мою неуклюжесть, синьора, я не хотел ничего дурного, — дрожащим голосом пробормотал я и отступил, отирая выступившую на лице испарину.
Лето только начиналось, но Флоренция уже задыхалась от жары, поскольку она стоит далеко от моря и вместо прохладного дыхания морского простора ее освежает серебристый Арно. Флоренция стала не такой многолюдной, как до чумы, но на рынке сновала целая толпа покупателей, заполняя площадь. Люди покупали розовые куски мяса и свежую рыбу в серебристой чешуе, ощипанных нежных фазанов и зайцев со свернутыми шеями. Они рылись в корзинках груш с белой мякотью и оранжевых пятнистых абрикосов, выбирали разную зелень, которая становится нежнее нежного под оливковым маслом, тушенная с дичью и белыми бобами. Они нюхали оливковое масло и пробовали вино из бочек, трогали мокрыми пальцами открытые мешки с мукой, чтобы оценить качество помола. Они слонялись туда-сюда, останавливались поболтать с продавцами фарфора и стеклянной посуды, тканей и кухонной утвари, которые арендовали одни и те же прилавки из года в год. Они меняли деньги и заглядывали в зубы лошадям, ощупывали плечи невольников. Они встречались, обменивались новостями, спорили о политике и все были частью великого многонационального смешения людей, которое проживало во Флоренции. Тут были флорентийцы, римляне и неаполитанцы, татары и каталонцы, белокурые северяне, франки и далматинцы, турки и монголы, евреи и мавры. Здесь были люди из всех возможных слоев общества. Дворяне с женами, картежники и сутенеры, проститутки и тунеядцы, разбойники и кондотьеры, хулиганы и нищие, крестьяне и ремесленники, работники шерстяных фабрик и воры, и вкрапленный среди них какой-нибудь ученик врача и колдун вроде меня, который не принадлежал ни к одному слою общества и не имел родословной. Моя встреча со знатной дамой не представляла ничего особенного, и наш разговор не привлек никакого внимания.
— Ничего, синьор, не стоит извиняться, это все моя вина, — проворковала она и, шагнув ко мне, дотронулась до моей руки.
Она была примерно лет на восемь старше того восемнадцатилетнего парня, на которого я был похож, и взмахнула густыми и темными, как горностаевый мех, ресницами.
— Такой красивый мужчина не может быть неуклюжим!
— Я… э… вы так великодушны, — заикаясь, ответил я и бросил взгляд на свою рубаху, чтобы убедиться, что она скрывает мое возбуждение.
Она проследила за моим взглядом, и я густо покраснел, когда она улыбнулась.
— В моем дворце нет ни одного мужчины, синьор. Их всех унесла черная смерть, — произнесла она.
У нее были большие темные глаза, а на голове — каппуччо небесно-голубого цвета, в тон шелковой накидке, распахнутой достаточно широко, чтобы я видел блестящие волны густых черных волос.
— Я очень сожалею, что вы потеряли своих родственников, синьора, — ответил я, с некоторым смущением и неловкостью вдыхая мускусный аромат ее духов.
Я еще не успел понять, как мне отнестись к проявлению своего естества; это было для меня слишком ново и неожиданно. И еще я не знал, как истолковывать ее поведение со мной. Надо быть дураком, чтобы не понять, на что намекает этот воркующий голос и нежный взгляд, а уж я-то дураком точно не был. И я смело ответил:
— Чума никого из нас не пощадила.
— Мне тоже было жаль, — вздохнула она, наклонив ко мне голову на длинной изящной шее. — Но теперь я понимаю, что она даровала смелой женщине определенную свободу…
— У вас есть индженьо, раз вы из несчастья смогли извлечь что-то хорошее, — ответил я.
Если она будет и дальше так откровенно и маняще улыбаться мне, я точно не сдержусь!
— Не столько хорошее, сколько возможность хорошего, — поправила она и приглушила свой грудной, сочный голос. — Возможность пригласить красивого мужчину в мой чудный дворец, чтобы приятно провести вечер!
— Думаю, это удача для мужчины, — ответил я, и сердце в груди заколотилось сильнее.
Она заливисто рассмеялась.
— Ах, мой юный друг, у женщин тоже есть желания! Ее огненный взгляд остановился на моих губах.
— У женщин есть желания? — повторил я и задохнулся от волнения. Не зная, что еще сказать, я почувствовал себя идиотом.
— Разумеется, особенно когда они уже делили брачное ложе и изведали наслаждение. Возможно, тебе захочется узнать его со мной, сегодня, после заката?
Она подняла на меня глаза, в которых горело неприкрытое и необузданное желание. Я так и застыл с раскрытым ртом.
Теперь уже моя рубаха ничего не могла скрыть. Я желал ее. Это было совершенно очевидно. Она снова рассмеялась: ее явно радовал произведенный на меня эффект. И она сказала:
— Дворец Иуди, к западу от Санта Кроче. Малый дворец. Мой покойный муж был младшим братом. А я Кьяра Иуди.
— После за… заката, сегодня? — заикаясь, переспросил я.
Улыбнувшись, она поправила капюшон и накидку, встряхнув на плечах шелк, чтобы ткань прилегала к одежде под накидкой, которая очерчивала изгибы ее тела. Странная томность охватила меня, и я обмяк, хотя кровь моя кипела. Конечно, я все знал о желаниях, ведь столько лет становился их предметом у Сильвано. Но сам еще никогда ничего подобного не испытывал. Я не ожидал, что ощущение будет вот таким — настойчивым, сладким и теплым. У меня горели щеки. Кьяра приложила ладонь к моей щеке и, одарив меня ослепительной улыбкой, направилась к крестьянке с корзинкой ранних винных ягод.
Остаток дня прошел как в бреду. Когда я вернулся со Старого рынка к Сфорно — без стручкового гороха, лука, лимонов и шалота, за которыми меня послала синьора Сфорно, Рахиль осыпала меня всеми возможными вариациями прозвища «Лука-Дурак». И, приведя таким образом в чувство, выпроводила снова под палящее полуденное солнце. На этот раз я сходил на ближайший рынок, расположенный в Ольтарно, и принес, что мне заказали.
Была суббота, и ужинали рано, семейство Сфорно каждую неделю праздновало шабат.[488] Сфорно молился по-древнееврейски и читал из своей Священной книги, синьора Сфорно и Рахиль зажгли свечи, и Сфорно благословлял хлеб и вино. Я столько раз слышал эти молитвы, что знал их наизусть, но никогда не присоединялся к молящимся. Бог семьи Сфорно — не мой ироничный Бог и не Бог с картин Джотто. А может быть, он был всюду, но прикасался к нам по-разному. Евреям, как народу, досталось, конечно, в жизни не меньше моего. Прочитав молитву и приступив к трапезе, Моше Сфорно, повернувшись ко мне, произнес мое имя, и я перевернул чашу с вином.
— Простите, синьора Сфорно! — Я расстроенно вскочил на ноги.
Она отмахнулась от моих извинений и поставила на стол горшок со вкуснейшим горохом, приправленным укропом.
— Лука, ты весь день где-то витаешь, — укорила меня Рахиль, а младшие девочки захихикали.
Сейчас ей было восемнадцать, и она во всем напоминала мать высокими скулами и красивым лицом с четкими чертами. Она вышла из комнаты и вернулась с тряпкой, чтобы вытереть пролитое вино. Цокая языком, она вытерла стол вокруг моей тарелки и бросила на меня безнадежный взгляд.
— Рахиль говорит, тебе нужна заботливая хозяйка, — сказала Мириам, теребя пальцами каштановую косу.
Сейчас ей было уже девять, и она осталась такой же бесхитростной и озорной, как и всегда.
— А как ты думаешь, Лука? Пускай бы Рахиль о тебе заботилась! Она тогда станет синьорой Бастардо?
— Мириам! — в один голос воскликнули синьора Сфорно и Рахиль.
Мириам засмеялась.
— Мужчинам нужно, чтобы о них заботились женщины, так устроен мир, — согласился Моше. — Поэтому Господь сотворил из Адамова ребра Еву. Мне повезло, у меня есть твоя матушка.
Он улыбнулся жене, и она улыбнулась ему в ответ.
— С вашего позволения, синьоры, я выйду, — произнес я.
Я знал, что не смогу высидеть весь ужин, когда все мои мысли заняты совсем другим, и Моше Сфорно посмотрел на меня, склонив голову набок. Госпожа Сфорно незаметно бросила на меня взгляд из-под опущенных ресниц.
— Конечно, как пожелаешь, Лука, — наконец ответил Моше.
Я пробормотал «спасибо» и выскочил вон. Я снова направился в город, держа путь к северу, где протекала река. Смеркалось; вечер простер над городом лиловеющие рукава златотканого света, проникая прохладными воздушными перстами в глубину узких извилистых улиц. Я пересек Понте Грацие и не спеша прошел вдоль берега Арно возле Санта Кроче, где скопились красильные мастерские, мыловарни и лавки чистильщиков шерсти. У уличного торговца я купил каравай румяного хлеба, начиненного вместо вынутой мякоти тушеным цыпленком в лимонном соусе и хрустящими белыми бобами. Я быстро съел все это, почти не почувствовав вкуса еды, и стал разглядывать небо, нетерпеливо дожидаясь приближения темноты, а для этого вскарабкался на опору моста и уселся там, дабы лучше видеть горизонт.
Никогда еще солнце не садилось так медленно! Я помнил времена, когда сумерки опускались слишком быстро и я с ужасом ожидал, когда подкрадется вечер, потому что Сильвано ждал меня во дворце на ночную работу. В это время суток его дворец наполнялся клиентами. Может, и я сейчас, так же как эти клиенты, сгораю от невыносимого желания. Я знал, что не люблю прекрасную Кьяру, что это просто влечение. Кровь во мне бурлила, я весь кипел от нетерпения, мечтая поскорее оказаться во дворце Иуди. Я не мог думать ни о чем другом. Желание туманило мой разум, как прежде на моих глазах оно доводило людей, у которых дома были жены и дети, до насилия и надругательства. Тогда где же разница между мной и ими? Этот вопрос уязвил мою гордость, и я чуть было не повернул обратно, чтобы прокрасться в сарай Сфорно и зарыться в свое сено. Но тут я вспомнил густые черные волосы синьоры Иуди, цветочный аромат, окружавший ее, подобно золотистому ореолу вокруг ангелов на картинах Чимабуэ, учителя Джотто. Я вспомнил, как она прильнула ко мне грудью, вспомнил ее сладострастную улыбку, когда она пригласила меня к себе. Нет, разница была: я-то никогда не приглашал клиентов в свою комнату. Я покорялся им со злостью, отчаянием и презрением. Теперь все иначе. Это было обоюдное желание, каким оно и должно быть. Прекрасная синьора желала меня так же, как я желал ее. Зная это, я едва смог сдержать радостный вопль, который разнесся бы далеко за врата города, вглубь тосканских холмов — туда, где наконец-то, наконец-то скрылось за горизонтом солнце!
Я отправился на запад от Санта Кроче, в район густонаселенных улиц. Там еще было довольно много прохожих. Люди расходились по домам, подчиняясь установленному порядку, и, спросив пару раз дорогу, я нашел нужный дворец. Я постучал в дверь, которая, как в доме Сфорно, была расположена в углублении стены. И сама Кьяра Иуди в одной лишь тонкой кремовой сорочке-гонне, без рубашки, открыла мне дверь. Зажженные в вестибюле лампы бросали мягкий свет, от которого юбка просвечивала, обрисовывая высокую грудь и тоненькую талию под тонкой тканью.
— Я надеялась, что ты придешь, — произнесла она тихим хрипловатым голосом, взяла меня за руку и втянула внутрь.
Закрыв за нами дверь, она повела меня через вестибюль наверх по крутой лестнице — молча, только улыбаясь мне. Мятежное сердце так и рвалось из груди и колотилось так сильно и громко, что она наверняка услышала. Я надеялся, это не вызовет у нее отвращения, но ей, похоже, было все равно. Не сводя глаз с моих губ, она привела меня в свои спальные покои. А потом притянула меня к себе и поцеловала, раскрыв губы под напором моих. Я застонал. Ее ловкие пальчики расстегнули мой камзол, и я стянул с себя рубашку и сбросил штаны. После всех лет, проведенных у Сильвано, я и представить не мог, что однажды буду так торопиться скинуть с себя одежду! Я и подумать не мог, что смогу возбудиться, как другие мужчины, после того как ненавидел их так долго. Но это случилось, и я вспотел от жара и возбуждения. Набравшись смелости, я осторожно опустил руки на ее округлые белые плечи и потянул сорочку вверх.
— Твое тело прекрасно, как изваяние греческого бога, — пропела она, и я бросил сорочку на пол. — Твои родители, наверное, были богами, раз создали такого прекрасного сына!
— А я никогда не видел ничего прекраснее тебя, — ответил я, и это стало чем-то вроде клятвы.
Она рассмеялась и, снова взяв меня за руку, подвела к постели. Всю ночь ее услаждало мое тело, как многих до нее, но и она неустанно услаждала меня, руками, губами и нежным влажным лоном. Во мне исцелилось что-то, разрушенное годами прежнего ремесла. Из моей памяти никогда не изгладится то, что я делал, но теперь я мог позволить себе быть мужчиной в полном смысле этого слова. Я принял это как дар, и, хотя прекрасная Кьяра Иуди не была моей суженой, я навек ей за него благодарен. Весь следующий год я высказывал ей свою благодарность, а когда она заговорила о браке, решил, пусть лучше наши отношения перейдут в дружбу. Я не хотел жениться на ней, зная, что это не женщина из моего видения. Для того чтобы обещанное мне сбылось, я должен хранить верность своей судьбе.
ГЛАВА 13
Наконец пришло время переселиться из сарая Сфорно. Целый год я вкушал наслаждение в благоуханных объятиях Кьяры Иуди, а теперь, посвященный в сладость чувственных удовольствий, положил глаз на пухленькую рыжеволосую девушку. Мы обменялись с ней улыбками на рынке. Я возжелал ее. Открыв для себя доступ к плотским наслаждениям, я начал вдруг замечать, как много вокруг прекрасных женщин, и увидел, что красавицы бросают на меня призывные взгляды. Для того чтобы ответить на их призыв, мне нужна была свобода движений, не стесненная ожиданиями, требованиями и даже заботой других людей. Хотя члены семейства Сфорно никогда не спрашивали, куда я иду, и не пытались мне помешать, я знал, что они замечают каждый мой уход и приход. Столько лет я мечтал о семье и родственном внимании! А теперь, когда получил и семью, и внимание, был готов бросить ее. Все-таки эта семья была лишь бледной копией того, что есть у большинства обычных людей.
Семейство Сфорно было мне не родным. Лия Сфорно по своей доброте оказывала мне практическую помощь: она кормила меня, посоветовала учиться у ее мужа. Но она с облегчением примет мой уход из своего дома. У нее было четыре дочери, все они чудесным образом пережили чуму, и она мечтала выдать их замуж в зажиточные еврейские семьи. После чумы брак и дети стали для людей гораздо важнее, потому что во время эпидемии умерло много народу. Дочерями Сфорно интересовались в Венеции, в Валенсии, в Арагоне. Лию Сфорно очень тревожило, что скажут другие евреи о живущем у нее в доме нееврейском мальчике с запятнанным прошлым. Она боялась, что мое присутствие плохо повлияет на судьбу ее девочек. В чем-то я всегда был в доме Сфорно чужим и никогда бы не мог стать своим.
Но я перестал быть мальчиком, который может спать на подстилке из сена, довольствуясь вместо подушки серой кошкой. Разумеется, я давно уже не был мальчиком по виду. На самом деле я был намного старше. Поэтому раньше мне было стыдно и неловко жить соответственно своему истинному возрасту. Я не хотел привлекать к себе внимание своей необычностью. А теперь, наконец-то став похожим на юношу, я решил, что могу зажить взрослой жизнью. Я заводил шашни с женщинами, носил меч, держал собственный банковский счет. Я хотел жить в собственном доме. Последнее время я даже носился с мыслью заняться выяснением своего происхождения. Гебер советовал мне самому доискиваться до ответов. И я последую его совету. Что бы ни обнаружилось: окажутся ли мои родители распутниками, как утверждал Бернардо Сильвано, или, как я сам втайне надеялся, оправдается высказанное Сфорно предположение, что они были людьми знатного рода, — у меня достанет сил вынести любой ответ. Я мог даже вынести отсутствие ответа. Но мое происхождение — дело личное. Итак, я решил поговорить с Моисеем Сфорно и покинуть его дом достойным образом, выразив всю свою благодарность за сделанное мне добро.
Пришла зима, холодная и тоскливая. Отсыревшие серые камни Флоренции стали скользкими, и тесные улицы пропитались промозглым холодом. Однажды я отправился со Сфорно на вызов к дворянину, чья жена тяжело переносила беременность. У нас было немного времени поговорить по дороге в его дворец, и я решил забросить удочку насчет своего ухода.
— Обычно повитухи лучше справляются с такими делами, — говорил мне Сфорно, пока мы обходили недостроенный собор Санта Мария дель Фьоре.
Раньше я все время удивлялся, почему Сфорно обычно предпочитает ходить пешком, а не ездить на лошади. Став его учеником, я понял, что он считает свежий воздух и движение полезными для здоровья и поэтому старается побольше ходить пешком. Это была одна из его причуд, как и неукоснительное ежевечернее умывание перед тем, как вернуться в дом. Его семья едва ли не единственная полностью пережила чуму, так что, вероятно, в его убеждениях была какая-то правда.
— Повитухи нужны, потому что у них больше опыта в обращении с беременными женщинами, — согласился я.
Когда я говорил, мое дыхание вырывалось клубами белого пара, растворявшегося в сером холодном воздухе. Сфорно кивнул.
— Они занимаются исключительно беременными женщинами. Они знают все болячки, — добавил он, плотнее запахивая на груди шерстяной плащ. — Они знают нужные сборы трав почти для любого случая: хоть прекратить рвоту, хоть вызвать схватки, чтобы устроить выкидыш. Врачу важно знать хорошую повитуху, которая поможет советом и рецептом. Желательно с хорошей репутацией, чтобы не специализировалась на абортах и не занималась обманыванием мужей, убеждая их в законном отцовстве, когда на самом деле женушка нагуляла ребенка на стороне.
— Есть повитухи любого достоинства, так сказать, — пробормотал я, вспомнив повитуху, которая помогала рожать Симонетте, и вдруг брякнул: — Синьор, я бы хотел кое о чем с вами поговорить. Надеюсь, это вас не обидит.
Сфорно улыбнулся и погладил свою темную бороду.
— Похоже, я догадываюсь, к чему ты клонишь. И меня это не обидит. Ты хочешь жениться на Рахили…
— Я хочу съехать от вас…
Мы произнесли эти слова одновременно и одновременно повернулись друг к другу и воскликнули:
— Что?!
Я таращился на крупное бородатое лицо Сфорно, а он, точно так же разинув рот, расстроенно таращился на меня.
— Ладно, говори, Лука, — наконец сказал он и перевел взгляд на восьмиугольный баптистерий, выстроенный из разноцветного камня.
— Я слишком взрослый, чтобы жить у вас в сарае, — смущенно произнес я, пожимая плечами под тяжелой шерстяной накидкой, которая защищала меня от несносного флорентийского холода. — Пора мне подыскать собственный дом. Конечно, я не перестану быть вашим учеником, если вы не против.
— Ты уже взрослый мужчина, Лука. Конечно, ты хочешь для себя чего-то получше моего сарая, — спокойно ответил Сфорно.
— Лучшего дома, чем ваш сарай, у меня никогда не было, — тихо проговорил я. — Но я уже взрослый мужчина. Я не растратил свое наследство, у меня есть деньги, и я могу позволить себе приличный дом.
— Я надеялся… — начал было он, но умолк и опустил глаза в землю.
— Рахиль? — не веря, переспросил я.
— Она красивая, — произнес он суховато, как будто я оклеветал его старшую дочь.
— Умная, сильная и честная! — воскликнул я. — Но я ведь не еврей и знаю, как важно для вас заключать браки с представителями своего народа. Именно поэтому я никогда не добивался Рахили. Думаю, синьора Сфорно содрала бы с меня кожу живьем своим ножом, если бы я посмел о таком подумать!
— Да, она проворно управляется этим ножом, я понимаю, почему ты так думаешь. — Угрюмая, еле заметная улыбка тронула губы Сфорно. — Но ведь можно найти выход. Ты мог бы стать евреем, поменять веру. Мы с Лией говорили об этом. Рахиль была бы счастлива. Ты знаешь, как она тебя любит.
— Поменять веру?
— «Твой Бог — мой Бог, твой народ — мой народ», как сказала Руфь своей свекрови. Раввин проведет обряд. Тебе придется сделать обрезание, но ты ведь выздоравливаешь быстрее и легче, чем остальные люди, да и я могу дать тебе маковой настойки, чтобы облегчить боль. — Он схватил меня за плечо. — Я бы гордился таким сыном, как ты, Лука. Ты больше не был бы безотцовщиной.
Я не знал, что ответить, и долго молчал. Бог как будто снова иронически подшутил надо мной, подкинув мне это предложение именно сейчас, когда я решил начать поиски своих родителей. Я не отвечал, и Сфорно впился в меня глазами. Наконец он выпустил мое плечо, кивнул, стиснув зубы, и отвел глаза.
— Я очень польщен, — нерешительно произнес я. — Я знаю, как вам дороги ваши дочери. И знаю, что значит для вас семья, я был свидетелем этого целых пять лет. Но…
— Но ты Лука Бастардо, а это что-то значит для тебя. Что-то, чего ты сам пока не понял.
— Да, — согласился я, — я Лука Бастардо. Я не знаю, что это значит, если вообще значит что-то, но мне кажется, это похоже на шутку насмешливого Бога, он любит так шутить, и я хочу докопаться до сути.
— Нам, евреям, несладко пришлось от божественных шуток, — сурово ответил Сфорно, — потому что от них мы оказываемся в дураках. — Он выпрямился и снова уставился вдаль. — Ты свободен и можешь уйти, когда пожелаешь, Лука. Я не буду задерживать тебя.
— Мне нужно ваше благословение, синьор Сфорно, — упрямо сказал я.
— Ты получил его еще пять лет тому назад, когда ты вмешался, чтобы спасти меня и Ребекку от беснующейся толпы, — успокоил меня он.
В этот миг мы, обойдя длинное здание собора, завернули за угол и нос к носу столкнулись с группой людей, остановившихся, как водится у нас в городе, чтобы поговорить на площади.
— Есть ли и впрямь нужда в таком братстве? — спросил рослый осанистый мужчина в дорогой одежде.
Его лицо было мне знакомо. Он стоял напротив меня, рядом с ним по одну сторону стоял священник, а по другую — худощавый темноволосый мужчина. Лицо темноволосого показалось мне смутно знакомым. Напротив них, спиной ко мне, стояли трое судей в алых мантиях. Их лиц я не видел.
— Синьор Петрарка, тайное братство Красного пера будет выполнять важную работу, нужную церкви, затаптывать плевелы языческих культов, выслеживая колдунов, астрологов, предсказателей, алхимиков, ведьм, торговцев заклинаниями, сатанистов и прочую нечисть! — горячо принялись убеждать его люди в красных мантиях.
— Все это существует только в воображении невежественного люда, так зачем же нам основывать общество для их розыска и искоренения? — спросил синьор Петрарка.
Это был господин средних лет с красивым и выразительным лицом, и тут я узнал его. Ведь это он несколько лет назад вмешался, когда на площади Оньиссанти толпа собиралась сжечь меня за то, что я якобы был колдуном. Он постарел с тех пор и выглядел лет на пятьдесят, хотя у него до сих пор была гладкая кожа, прямая осанка и приятные черты.
— Есть другие, более важные заботы: объединение Италии, возвращение на свое законное место в Рим папского престола…
— И вы не должны отвлекаться от написания своих «Канцоньере»,[489] писем и трактатов. У вас есть более важные дела, — с восхищением прибавил худощавый темноволосый мужчина. — Письма, которые вы посылаете принцам и монархам, оказывают влияние на весь ход нашей жизни.
— Я знаю живого колдуна, который практикует черную магию, чтобы продлить свою молодость, — заявил один из судей в красных мантиях, стоявших ко мне спиной, и я узнал этот громкий скрипучий голос с оттенком жалобного хныканья.
Моя рука потянулась к мечу, но его не было.
— Если бы он действительно практиковал колдовство, неужели бы он до сих пор не наслал на вас порчу, Николо Сильвано? — громко спросил я.
Николо так резко обернулся, что красная мантия взметнулась у него на плечах.
— Бастардо! — ахнул он и, тыча в меня пальцем,оглядел собравшихся. — Вот тот самый колдун! Дьявол всегда слышит, когда о нем говорят!
Он глядел на меня, злобно скривив губы, и я увидел перед собой точное повторение его отца: тонкий, острый, как лезвие, нос и выдающийся подбородок, тщательно причесанную, коротко постриженную бороду и изрытое оспинами лицо. От него несло теми же духами. Меня с ног до головы ошпарило ненавистью. Руки так и чесались прикончить его, я непроизвольно сжимал и разжимал кулаки.
— Хорошенько рассмотрите лицо этого колдуна, — сплюнул Николо. — Оно нисколько не меняется с годами!
— Лучше уж мое лицо, чем твоя гадкая рожа, — съязвил я.
Моисей Сфорно потянул меня за рукав, пытаясь увести, но я стряхнул его руку. Вся кровь во мне вскипала от ненависти, и я не мог так просто оставить в покое Николо с его враньем.
— Он не похож на колдуна, — задумчиво произнес Петрарка, склонив голову набок и прищурившись. — Он больше похож на приятного молодого человека, который не умеет выбирать головные уборы. Послушайте, юноша, вы не могли найти что-нибудь более щегольское, чем эта простая фоджетта? В вашем возрасте я не скупился на наряды и следил за своей внешностью, хотя был далеко не таким красавцем, как вы!
— И как долго он будет оставаться таким, как сейчас? — громко воскликнул Николо, почти прокричав эти слова. — Работая на моего отца, он почти двадцать лет оставался с виду двенадцатилетним мальчишкой! Это колдун!
— Он ведь старше вас, не так ли? — спросил Петрарка спокойным и невозмутимым тоном. — Откуда же вам знать, как он выглядел до вашего рождения?
— До меня тоже доходили слухи о его неестественной моложавости, — сказал человек, стоящий рядом с Николо.
Это был невысокий полноватый мужчина с жирной кожей. Окинув его высокомерным взглядом, я заметил под красной судейской мантией доминиканскую одежду. Он поджал тонкие губы и вздернул нос.
— Слухи — это все равно что грезы наивных дурочек, — ответил я гораздо спокойнее, чем был на самом деле, — они пустые. Разве вы, отец мой, наивная дурочка, чтобы принимать их на веру?
— Вот именно, — величественно произнес статный Петрарка. — Услышанное стоит подвергать сомнению, пока не доказана его истинность. Вернее, мы должны принимать сомнение как истину, не утверждая ничего и сомневаясь во всем, кроме тех вещей, сомневаться в которых было бы кощунственно!
— Пойдем, Лука, нам пора, — заторопил меня Моше Сфорно, подталкивая под локоть.
— Но я могу доказать это, синьор Петрарка, — коварно возразил Николо. — Вглядитесь в его лицо, а потом взгляните на картину, которую хранят монашки в Сан Джорджо. На ней его лицо, и оно ненамного моложе, чем сейчас!
— У него прекрасное лицо, которое с удовольствием изобразил бы любой художник, — пожал плечами Петрарка.
— Его написал Джотто! — взмахнув руками, воскликнул Николо. — Джотто, который умер за десять лет до черной смерти! Разве вы не видите, он не стареет, как нормальные люди, он урод, дьявол в человеческом обличье, безотцовщина! Он околдовал великого Джотто, чтобы тот нарисовал его!
Я вспыхнул от злости и шагнул к Николо.
— Не смей говорить о мастере Джотто, если тебе дорога твоя жизнь! Он величайший художник из всех, и ты, подонок, не имеешь права даже произносить его имя!
Николо выхватил меч и приставил его острием к моему горлу. Его костлявое, перекошенное лицо побледнело, он тяжело дышал, и рука у него тряслась. Я взял себя в руки, заставив гнев поутихнуть. Не чувствуя страха, я смело взглянул ему прямо в глаза. Он не сможет убить меня на глазах у этих людей. Это не в его духе. Он подождет, пока все разойдутся и я повернусь к нему спиной, и тогда вонзит в меня меч. Поэтому я не должен был предоставить ему такой возможности. Николо надавил на меч и порезал мне кожу. По адамову яблоку скатилась капля крови.
— Убери меч, а то поранишься, Николетта, — ухмыльнулся я, одним словом превращая его в девчонку. — А то я сам отберу его и любимые побрякушки в придачу! Я не ребенок, чтобы меня можно было безнаказанно зарезать в постели!
— Послушайте, это зашло слишком далеко, давайте прекратим эту безобразную сцену, нам не нужно кровопролития! — вмешался Петрарка и цокнул языком.
Протянутым пальцем он дотронулся до клинка и отвел меч в сторону. Николо опустил меч, но глаз от меня не отвел. Петрарка прочистил горло.
— Синьор Сильвано, я уверен, церковь оценит ваше рвение, но ваше братство не для меня. Я очень ценю ваше предложение, но во Флоренции я лишь случайный гость. Мой дорогой друг Боккаччо несколько лет назад сумел убедить Синьорию отменить указ об изгнании моего отца и конфискации его имущества, но после того как я отказался занять предложенную мне должность в Университете Флоренции, это решение было аннулировано. Я здесь только проездом на очень короткий срок.
— Братства Красного пера никто не остановит, — заявил Николо, тяжело дыша и сверля меня взглядом. — Мы отловим и уничтожим всех ведьм и колдунов! Мы сожжем их на костре и очистим Флоренцию от нашествия всякой нечисти!
— А как же быть со змеями, Николо? — спросил я, желая его помучить. — Тебе лучше оставить для них местечко в уставе, а то придется истребить и себя!
— Вам стоит подумать над этим предложением, синьор Петрарка. Нас многие поддержат. Это будет только способствовать вашей славе как величайшего поэта нашего времени, — заметил доминиканец. — Тогда и Синьория согласится тотчас отменить изгнание. Многие верят, что во всех несчастиях, которые постигли Флоренцию за последние годы, виновата нечистая сила! — Он бросил на меня испепеляющий взгляд. — Если мы избавим Флоренцию от исчадий зла, то, возможно, сможем предотвратить возвращение черной смерти!
— Как думаешь, Джованни, это решение принесет плоды? — Петрарка обратился к темноволосому мужчине, и я узнал в нем человека, которого встретил в тот день, когда по поручению Сильвано отправился в город разведать о чуме.
— Ты научил меня обращаться к великим голосам прошлого за советами и решением, — ответил Боккаччо со всей серьезностью на узком франкском лице. — А святой Августин говорит нам: «Коли живем хорошо, то и жизнь хороша. Каковы мы — такова и жизнь». Я верю, что именно это спасет Флоренцию. Добрая жизнь, добрый труд, а не чистка!
— Я склонен согласиться, — сказал Петрарка, вскинув бровь. — А как вы считаете, добрый человек, можем ли мы предотвратить чуму, если будем сжигать ведьм? — спросил он у Моше Сфорно.
Когда все обернулись посмотреть на Сфорно, он выпрямился.
— Не более, чем побивая камнями евреев, — уверенным, серьезным тоном ответил он. — Открыть, в чем причина чумы, не помогут ни суеверия, ни насилие. Только тщательные медицинские исследования обнаружат когда-нибудь причину этой болезни!
— Мы может устроить избиение евреев, — самодовольно хмыкнул Николо. — Вот выгоним их из Флоренции или избавим от них мир раз и навсегда, и это отведет небесную кару, которую навлекли на нас злодеи, убившие Христа!
Он и доминиканец зловеще переглянулись.
— Пойдем, Сильвано, меня чрезвычайно заинтересовали твои проекты, — произнес доминиканец. — Давай прогуляемся и все обсудим. У меня есть знакомый кардинал, пользующийся любовью Папы Иннокентия Шестого. Ему понравится твоя идея о братстве. Его очень беспокоит существование зла в этом мире, и он стремится очистить мир, дабы исполнилась воля Божья. Он душевно скорбит о первородном грехе, которым запятнало себя человечество по вине Евы, и вот уже много лет посвящает свои труды его искуплению!
— Я буду поддерживать вас всей данной мне властью, — добавил судья, который заговорил первым.
Покосившись на меня, он взял под руку Николо и увел его с собой. Николо бросил на меня презрительный взгляд через плечо, а судья добавил:
— Вы хотели бы провести первое собрание нашего братства до или после вашего венчания?
— Думаю, после, чтобы я смог должным образом вышколить жену по своему вкусу в постели, — хихикнул Николо. — Я считаю, что жену, как необъезженную кобылу, нужно учить шпорами и хлыстом. — Он остановился, повернулся и сказал: — Тебе будет любопытно это услышать, Бастардо. Через пару недель я женюсь. Так решили отцы города. Возможно, ты слыхал о моей невесте: она славится в городе своей красотой. Она уже была замужем, но ее муж умер несколько лет назад от чумы, прежде чем они смогли родить потомство. Но она слишком богата и молода, чтобы ей позволили остаться бездетной вдовой в эти отчаянные времена после чумы, когда в городе так мало детей. Поэтому я подал прошение, чтобы взять ее в жены, и получил разрешение. Она принесет мне приданое в тысячу флоринов!
Он важно выпрямился с выражением полного торжества и гордо поправил отороченную мехом алую мантию, а потом и мелко драпированный капюшон ей под цвет.
— Имя моей счастливой невесты Кьяра Иуди!
Глаза мои заволокла красная пелена. Взревев, я рванул в его сторону, но Моше Сфорно, Петрарка и Боккаччо меня удержали. В тот момент я убил бы Николо голыми руками, хотя он был вооружен мечом. Николо запрокинул голову и захохотал, а потом плавной походкой двинулся под руку с судьей и доминиканцем. Я бился и метался, изо рта вместо слов вырывалось какое-то клокотание, но меня крепко держали трое мужчин. Наконец я перестал вырываться. Петрарка и Боккаччо выпустили меня, но Сфорно продолжил крепко держать мою руку.
— Можешь отпустить, я не пойду за ним, — бросил я ему, сознавая свое бессилие.
Сфорно вскинул густые брови и неохотно выпустил меня.
— Очевидно, вам знакома эта дама? — дружелюбно спросил Петрарка. Я кивнул. — Необязательно переставать любить ее, юноша, только потому, что она принадлежит другому, — сказал он, внимательно вглядываясь в мое лицо. — Иногда безответная любовь возвышает и очищает твою душу, даже если поначалу ты не мог себе этого представить. Особенно в пылкую пору юности!
— Не то чтобы я люблю ее, — угрюмо ответил я. — Она мой друг. Она хорошая женщина и заслуживает лучшего, чем этот подонок Николо Сильвано.
— Да уж, в нем, прямо скажем, мало приятного, с этакими-то суевериями. — Петрарка кивнул и поджал губы, глядя на меня. — И все же твое лицо кажется мне знакомым…
— Я узнал тебя, — начал Боккаччо. — Такое утонченное лицо, персиковая кожа и светлые волосы… Я встречал тебя, когда ты был гораздо младше!
Я твердо взглянул ему в глаза:
— Вы тот поэт, которого я встретил, когда гулял по Флоренции, наблюдая ранние последствия чумы.
— Да, верно, — улыбнулся он. — Ты цитировал Данте и рассуждал о Джотто. Кажется, ты очень любишь работы мастера Джотто. — Он бросил любопытный взгляд на Сфорно. — В тот день ты помог еврею, которого избивала разъяренная толпа?..
— Лука спас жизнь мне и моей дочери, — кивнул Сфорно. — Без него они бы забили нас камнями. Нас обвиняли в распространении чумы.
Он посмотрел на Петрарку и пожал плечами.
— Вы рассуждаете о чуме как врач, я прав? — с интересом спросил Петрарка.
Его разговор, внимательность, редкое обаяние и живой интерес к собеседнику привлекали к нему людей, даже таких сдержанных, как Моше Сфорно.
Сфорно кивнул.
— Я учился в Болонском университете, — ответил он. — Они очень терпимы и евреям разрешают стоять у задней стены класса.
— Тогда мы братья по учению, потому что я тоже там учился, — одобрительно произнес Петрарка. — Я изучал юриспруденцию, со всем ее крючкотворством. Вообще я не очень люблю врачей и отношусь к ним довольно скептически, но для вас сделаю исключение. Я всегда просил моих друзей и наказывал слугам ни в коем случае не испробовать на мне никаких докторских штучек, а поступать в точности наоборот. Но вы, похоже, отличаетесь от большинства лекарей, синьор. В хорошем смысле этого слова.
— Вы очень добры, синьор, — просияв, ответил Сфорно. — Я вас вовсе не виню. Большинство докторов не лучше заклинателей бесов, если не хуже. Они же вечно прописывают обильное кровопускание! Заклинатели хотя бы просто пляшут, молятся да заклинания читают, этим пациенту не навредишь, даже если все бесполезно. — Он взглянул на священника и торопливо добавил: — Я не ставил целью оскорбить вас, синьор, если вы практикуете изгнание дьявола.
Маленький, щупленький священник, стоявший рядом с Петраркой, тряхнул лысой головой и вздохнул.
— Меня могут отлучить от церкви за такое признание, но я, как и синьор Петрарка, верю, что слишком много шума делают из ничего, твердя о дьяволах, ведьмах, астрологах и их великой силе. Церковь поступила бы разумнее, если бы перестала обращать внимание на эти россказни, и тогда они увянут, как растения без солнца.
— Раз уж мы все придерживаемся схожего мнения, почему бы нам не отужинать сегодня вместе? Мой друг Боккаччо нанял в свой дворец самого лучшего повара, — весело предложил Петрарка. — И я бы хотел показать вам кое-что, молодой человек. Вас это должно заинтересовать.
— Мы идем навестить больного, но это ненадолго, — ответил Сфорно, который никогда за все время, сколько я его знал, не ужинал в доме неиудеев.
Я удивленно взглянул на него, но он сделал вид, что не понял моего взгляда.
— Мы благодарны вам за приглашение, синьор Петрарка, и с радостью его примем.
При этих словах он ткнул меня локтем в бок, оставив маленький синяк. Моше Сфорно далеко не слабак.
— Благодарю вас, синьор Петрарка, — повторил я. — Мы придем на ужин.
День клонился к закату, и к вечеру из-за холмов набежали серые тучи. В узких каменных улицах стояла промозглая сырость, еще больше подчеркивая всю прелесть предстоящего удовольствия от званого ужина. Петрарка устроил ужин в доме Боккаччо, здесь был и щупленький лысый священник, а также брат Петрарки Герардо, монах картезианского монастыря, и еще один священник — тоже лысый, но очень веселый толстяк. Всемером мы уселись за богатое пиршество, за которым много обсуждали древних авторов — Цицерона, Ливия, Гомера (ни одного из них я не читал). Разговоры, шутки и споры согревали нас, несмотря на холодный колючий ветер, который стучался в окна и грозился ворваться внутрь. Ненастная погода только усиливала восхитительное смешение ароматов в столовой. Повар приготовил суп из бычьих хвостов с бобами, блюдо из аппетитного шпината с белой рыбой в масляном соусе, каплуна, зажаренного с тмином и розмарином, тушеного кролика с прозрачным красным луком и пасту с солеными сосисками и острыми листьями базилика. В перерывах между блюдами мы ели нежные золотистые персики в сахарном сиропе, а десерт из булочек с засахаренной клубникой закусывали ломтиками деревенского сыра. Как и пообещал Петрарка, повар оказался настоящим кудесником. И я решил нанять такого же искусного повара, когда заживу своим домом.
Мы выпили превосходного красного вина — вкусного, насыщенного и душистого, сделанного из винограда, собранного в Воклюзе,[490] где большую часть времени живет Петрарка, после чего Сфорно и Петрарка сыграли в словесную дуэль из латинских изречений. Петрарка вышел, правда, победителем, но для этого ему пришлось изрядно поднапрячь все способности своего ума, хранившего огромный запас познаний. Затем Петрарка стал пенять Сфорно за однобокость моего образования, которое ограничивалось одним Галеном. Когда проворная и кокетливая служанка с белозубой улыбкой убрала последнее блюдо, Петрарка подозвал меня к себе.
— Прошу нас извинить, господа. Мне бы хотелось показать кое-что юному Луке, если он, конечно, перестанет заигрывать с хорошенькой служанкой моего друга Боккаччо.
— Если синьор Боккаччо не хочет, чтобы гости улыбались его служанке, не надо было нанимать такую хорошенькую, — пошутил я, вызвав у всех дружный смех, смеялся даже Моше Сфорно, который обычно не смотрел на других женщин, кроме своей жены.
— Господи, даруй мне целомудрие, но не сейчас! — воздев глаза к небу, отозвался на шутку Петрарка.
Он встал из-за стола и отправился наверх, уводя меня за собой. Мы поднялись на верхний этаж дворца, который был выстроен по-старинному, как укрепленный замок, недоставало только крепостной башни; линии этажей, размеченные балюстрадами, были украшены окнами, смягчавшими грозный вид каменных стен. Петрарка привел меня в комнату с просторными окнами, по которой ходил сквозняк, принося с собой шорохи сырой ветреной ночи. Здесь было много разложенной на виду одежды: рубашки, камзолы, штаны и несколько дорогих плащей — все это красовалось на предметах мебели. Он подошел к изрядно поношенной кожаной дорожной сумке и пробормотал:
— Я люблю домашнее уединение, а сам все путешествую и провожу время в многолюдной компании!
Достав небольшой сверток, обернутый в ткань, он протянул его мне, и у меня затряслись руки, как будто я заранее знал, что там внутри. Я подумал, уж не проснулось ли во мне то чутье, которое я развил у Сильвано и которое с тех пор дремало. Я глубоко вздохнул и аккуратно развернул сверток. Внутри была картина Джотто с безмятежно прекрасной и полной сострадания Мадонной. Это была та чудесная картина, которую он подарил мне много лет назад и которую я, скрепя сердце, добровольно отдал, чтобы спасти маленькую Ингрид от участи жертвы богатого кардинала с жестокими замыслами. У меня чуть сердце не остановилось. После стольких лет мои обмякшие руки держали вторую створку драгоценного складня Джотто. На первую, с изображением святого Иоанна и собаки, я до сих пор каждую ночь благоговейно любовался, и вот теперь нашлась ее сестра, разлученная с ней так давно. Глаза мои заволокли слезы, и все поплыло передо мной, колени мои подкосились, и я опустился на пол. Мне пришлось выдержать паузу, чтобы вернуть голосу уверенную твердость.
— Как вы нашли ее? — наконец выдохнул я.
— Это подарок от епископа, который купил его у какого-то торговца за целое состояние, — ответил Петрарка, и его красивое морщинистое лицо загорелось от радости. — Я знал, что вам понравится, вы так любите работы Джотто!
— Она мне больше чем понравилась, — тихо произнес я, нежно проводя рукой по картине.
Мне вспомнился день, когда Джотто подарил мне двойной складень. Это был первый подарок, который я получил в своей жизни. Мне вспомнилась улыбка на его добродушном лице и искорки в мудрых глазах, когда я узнал в образе щенка себя.
— Кажется, она связана с вашими воспоминаниями, — проговорил Петрарка, беспокойно меряя шагами комнату в сгущающейся темноте.
Ветер снова налетел на окна и задул пуще прежнего.
— С моими она тоже связана. Лет тринадцать-четырнадцать назад я ненадолго остановился во Флоренции перед тем, как отправиться в Рим и получить там лавровый венок поэта, которым город увенчал мою недостойную голову.[491]
Он замолчал и, поджав губы, посмотрел на меня, теребя изумрудно-зеленую накидку, брошенную на резной деревянный стул.
— Я помню мальчика лет одиннадцати. Или десяти. Его собирались сжечь на костре. Я убедил обезумевшую толпу выслушать другую сторону: этот мальчик молился Мадонне. Он поблагодарил меня. Возможно ли, чтобы этому мальчику спустя тринадцать лет было сейчас восемнадцать?
— Когда Бог смеется, возможно все, — ответил я недрогнувшим голосом, глядя ему прямо в глаза.
Он кивнул и зашагал по комнате.
— У Бога, конечно, все возможно. Но кто-то скажет, что и для дьявола тоже нет ничего невозможного, например вечной молодости.
— На мне почиет рука Бога, а не дьявола, — ответил я с горячей уверенностью, охватившей все мое существо.
Теперь я знал о себе это, назло всем наветам Сильвано. Внутри я почувствовал облегчение. Грудь расслабилась и разжалась, как будто в чреве моем зажглась огненная искра и разгорелась многоцветной звездой с голубыми, оранжевыми, фиолетовыми и даже черными лучами, вплетавшимися в свечение серебряных и золотых.
— Моя жизнь — это дань Божьему чувству юмора, начиная с моего рождения и бродяжничества по улицам Флоренции в молодости и заканчивая жизнью в публичном доме для извращенцев, а потом нахлебником в доме евреев, которые сами живут в этом городе на птичьих правах.
— Ты наверняка сын знатных и образованных людей, — сказал Петрарка, пристально глядя на меня. — Ты слишком умен, чтобы это было не так!
Разумеется, я научился умно разговаривать, потому что мой разум развили такие люди, как мастер Джотто, Моше Сфорно, брат Пьетро и Джованни Фалько, Странник и Гебер-алхимик. Даже Бернардо Сильвано, каким бы мерзавцем он ни был, чему-то меня научил.
— Желание учиться еще не служит залогом благородного происхождения, — возразил я, покачав головой.
— Вдобавок ты миловиден и наделен самообладанием, — уверенно добавил Петрарка. — У тебя благородные манеры, никаких грубых замашек простолюдина.
Пока он говорил, ветер налетел с новой силой, бросая в окна волны воздуха. В комнате стало холодно, но я этого не почувствовал. Я весь горел.
— Неужели? — с вызовом спросил я. — Я бы убил Николо Сильвано голыми руками, если бы вы, Боккаччо и Сфорно не удержали меня. Разве убийство не грубо? Разве устроить перебранку — не замашка простолюдина? Вы не знаете, что я натворил в жизни! — воскликнул я, вскочив на ноги, и заходил по комнате, прижимая к груди картину. — Я был вором и убийцей, шлюхой и поджигателем. А теперь я ученик врача. Я занимался чем угодно ради того, чтобы выжить. Разве это означает самообладание? Или симметрия в моих чертах делает меня миловидным? Или, научившись от добрых людей грамоте, чтобы читать медицинские трактаты, я уже стал умен? Даже собак и медведей можно надрессировать и заставить показывать фокусы! — Я замер и покачал головой. — Я не знаю, что я такое. И совсем не помню своих родителей, так что мое происхождение не принесло мне никакой пользы. Я лишь помню себя нищим мальчишкой, который просил подаяния на улицах Флоренции в лето насмешника Бога тысяча триста тридцатое!
— Не важно, помнишь ты или нет. «Память рождает не реальность, канувшую в Лету, а лишь слова, вызванные образом реальности, которые, даже когда она исчезла, оставили след в разуме посредством чувств». Так говорил Августин. Я с ним согласен, — серьезно сказал Петрарка.
— И что это значит? — спросил я и протянул обратно картину.
Как бы я ни любил ее, теперь она принадлежит ему, и я должен вернуть ее.
— Это значит, что Лука Бастардо не то, каким он себя помнит вместе с делами, которые совершил, а лишь призрачный след расплывчатых образов?
— Это значит, что под взором Бога внутреннее время воскрешает прошлое, которому дарит жизнь настоящее, события настоящего, — произнес Петрарка, и его глаза вспыхнули на красивом состарившемся лице. — Своими делами и помыслами, написанными нами сочинениями мы, люди, облекаем в форму и наполняем содержанием наш путь к благой жизни. Воспоминания собирают воедино разрозненные частички нашей души. Память передается через историю, написанную или рассказанную. Однажды ты тоже расскажешь свою историю, Лука Бастардо. И, рассказывая ее, ты перестанешь искать во внешнем мире то, что находится внутри тебя. Так ты сможешь из разрозненных осколков восстановить цельность своей души. Так ты найдешь смысл. И так узнаешь, кто ты такой и что собой представляешь!
Он ударил кулаком в стену, подчеркнув последние слова. Мы стояли и смотрели друг на друга, а холодный ливень хлестал в окно.
— Я не горжусь своей историей! — воскликнул я. — В ней много дурных людей, чьи имена должны кануть в небытие вместе со мной и никогда не произноситься снова. Моя история умрет вместе со мной, когда настанет мой час!
— Каждый день я умираю, — пробормотал Петрарка и принялся снова мерить комнату шагами. — Люди листьям подобны: одни ветер бросает на землю, другие — древо цветуще к солнцу подъемлет, знаменуя весны наступленье. Это сказал Гомер. Только с тобой будет иначе. Если твоя долгая молодость — это знак, то ты переживешь несколько поколений. Ты проживешь долгую жизнь, Лука. Благодаря долголетию у тебя будет возможность познать скрытую причину вещей. И ты будешь благословлен этим даром.
— Пора бы уж и мне обрести хоть какой-то благой дар, — коротко ответил я и, отведя взгляд от Петрарки, выглянул в распахнувшееся окно. — Как бы долго Бог ни забавлялся, наблюдая за моей жизнью, но эта первая часть моей жизни вряд ли была богата дарами.
— Будь у меня сотня языков и губ, глотка железная с медною грудью, и то бы не смог я о всех страданьях людских миру поведать, — произнес Петрарка, заворачивая обратно в ткань драгоценную картину Джотто. — Так написал Вергилий в «Энеиде». Все люди страдают. Я всего лишь скромный поэт, недостойный этого звания в сравнении с бессмертным Вергилием, хотя кое-кто и сравнивал нас, поэтому мои мысли вряд ли что-то значат. Но разве не может быть так, что твои первые годы были так трудны, потому что ты должен был заслужить свой дар? Потому что ты начинаешь понимать, что ты не такой, как те дурные люди, с которыми тебе пришлось столкнуться, и что тебе не нужно сравнивать себя с ними, чтобы быть самим собой? Тебе не нужно стремиться к тому, чтобы твое имя кануло в забвение, для того чтобы вместе с ним канули их имена, ведь ты не связан с ними неразрывно в одно целое. Не значит ли это, что, пережив страдания в юности, ты будешь счастлив в старости, на склоне лет?
Эти вопросы были произнесены спокойно и тихо, но они обожгли меня. Стены комнаты вдруг исчезли, словно их снес дикий влажный ветер, ворвавшийся с улицы. Всего на мгновение я увидел лицо Бернардо Сильвано, а потом оно подернулось рябью и исчезло. Стены вернулись на место, но сейчас они не давили, а словно бы раздались. В бескостное тело вернулась крепость, мускулы налились тяжестью, но в то же время я был открыт и сердце билось ровно и спокойно. Я понял, что не знаю, каким буду в старости — счастливым или несчастным, но все это в моих руках, и я могу построить свою старость на нынешней юности. Ни Бернардо Сильвано, ни Николо, ни новое братство не смогут этому помешать. И я улыбнулся:
— Я знал одного алхимика, который предсказывал будущее, но я не он, синьор. Я буду считать себя счастливым стариком, если не окончу свои дни на костре, в страданиях и муках.
— Как знать, можно, наверное, и на костре умереть счастливым, — лукаво предположил Петрарка и широко улыбнулся ослепительной белозубой улыбкой, которая очаровывала любого, от нищего до короля. — Хорошая смерть венчает жизнь, Бастардо! Может, тогда ты хотя бы искупишь свою вину и почувствуешь благодать!
Он убрал картину обратно в сумку и вынул из нее что-то еще.
— Вот, — сказал он и бросил эту вещь мне. — Подарок для тебя. Для твоих воспоминаний. Хотел бы я сам дожить, чтобы их прочитать!
Молния прорезала ночной воздух и озарила комнату, как тысяча солнц. Я поймал подарок Петрарки, раскрывшийся на лету. Это был щедрый подарок от единственного человека, достойного того, чтобы быть обладателем Мадонны, которую написал для меня Джотто: книга, обтянутая телячьей кожей, с чистыми пергаментными страницами. Она была толстая и очень красивая, телячья кожа послушно мялась под пальцами, а страницы были идеально сшиты вместе. Удовольствие уже держать ее в руках! Это для меня до сих пор удовольствие, даже сейчас, когда я сижу в своей тесной келье и стены снова напирают на меня. Только теперь почти все страницы исписаны. А тогда я даже представить себе не мог, что заполню их. На самом деле книга оставалась чистой еще более ста шестидесяти лет, пока меня не бросили в эту камеру дожидаться казни. Время, пусть и недолгое, проведенное здесь, тянулось бы бесконечно, если бы не подарок Франческо Петрарки и маленькая картина Джотто с изображением святого Иоанна. И книгу, и картину принес мне сам Леонардо, когда солдаты инквизиции бросили меня в эту темницу. А в тот давний день я искренне поблагодарил синьора Петрарку: такие записные книжки были дорогой редкостью, ведь их делали вручную. И он живо превратил в шутку мои робкие слова благодарности, когда мы вернулись к гостям в столовой. Дождь барабанил в окна, грохотал гром, вспыхивала молния, рассекая ночное небо.
— Нам порадомой, Лука, — сказал Моше Сфорно, поднявшись со своего места. — Лия будет волноваться, как мы доберемся в грозу.
— Колесница дьявола несется по небу, — с любопытством покосился на меня Боккаччо, и они с Петраркой переглянулись.
— Вы поедете в моей карете, я настаиваю, — произнес Петрарка. — И мы должны снова встретиться. Я редко бываю в столь близкой мне по духу компании.
Он тепло пожал Сфорно руку.
— Мы будем очень рады, — ответил Сфорно с ответной теплотой.
Мы еще не раз ужинали вместе в последующие несколько лет, и гостей даже принимал я — во дворце, купленном в Ольтарно, недалеко от еврейского квартала, где жили Сфорно. Я приобрел одну из старых башен, которую снесли в прошлом веке, когда во Флоренции установили пределы высоты. Это был просторный, похожий на крепость дворец, почти как у Боккаччо. На первом этаже когда-то была мастерская, а когда Сфорно объявил, что теперь я могу сам лечить больных, я превратил мастерскую в кабинет для приема тех, кто мог сам ко мне добраться. Врачи обычно так не делали, потому что боялись заразиться и после больных всегда было грязно от крови и рвотных масс. Но меня это не пугало, потому что ни одна зараза ко мне не липла. Еще я редко прописывал кровопускание и лишь в редких случаях делал ампутацию, а тех, кому она требовалась, отсылал к хирургу. Переняв у Сфорно странную привычку к чистоте, я нанял человека убираться в комнате каждый день, и он намывал полы самым едким щелочным мылом, какое я смог найти. Сфорно часто приходил мне помогать.
И я был счастливее, чем когда-либо: ходил на свадьбы трех старших дочерей Сфорно, встречался с женщинами, с которыми знакомился на рынке или на улице, и продолжал общаться с Боккаччо, великодушной четой Содерини и кругом их знакомых. У меня нашлись средства, чтобы нанять сыщиков и поручить им тайно выяснить что-нибудь о паре, у которой, возможно, похитили ребенка или которая бросила своего сына где-то в середине 1320-х годов. Пока никаких новостей я не получил, но и не терзался этим. В ожидании женщины, обещанной мне философским камнем, я был доволен своей долей.
И вскоре понял, что мне не суждено наслаждаться спокойной жизнью. В 1361 году на город обрушилось новое несчастье: Пиза объявила Флоренции войну, и одновременно с этим с новой силой нагрянула черная смерть. На этот раз погибли многие, кто выжил в 1348-м. Петрарка написал мне, что он похоронил своего сына. Флорентийцы паниковали и слушали любого, кто находил «виноватого». Нашло поддержку и братство Красного пера, возглавляемое Николо Сильвано, и снова началось истребление ведьм. После того как сожгли на костре безобидную знахарку, которая была доброй христианкой, я решил скрыться.
ГЛАВА 14
Обратно во Флоренцию меня привело письмо. Не от Петрарки, хотя он регулярно переписывался со мной до самой смерти в 1374 году. Каким-то образом его письма всегда находили меня, где бы я ни был: плавал ли капитаном на пиратском судне по Адриатическому морю; боролся ли на стороне Эдуарда Черного в Испании;[492] убивал ли татар на Куликовом поле; защищал ли Иерусалим от христианских крестоносцев, чтобы потом принести флаг с изображением креста обратно в этот древний священный город; перевозил ли роскошные ткани и экзотические пряности по Шелковому пути, который разведал венецианец Марко Поло;[493] спасал ли древние тексты из греческих гробниц и монастырей; помогал ли бежать изгнанным евреям из Испании и Франции, а затем найти новое пристанище или рыбачил в Португалии. Сначала я работал врачом, поскольку это было единственное умение, которым я мог заработать деньги. Потом я понял, что меня интересуют и другие профессии, и решил изучить их тоже. Я был кондотьером, бандитом, купцом, рыбаком, торговцем древностями и подделками — всем, что я мог купить и перепродать подороже.
За четыре десятилетия между 1361 и 1400 годами я жил не сердцем, а своими капризами, которым потакал как бы в отместку за свое прошлое, когда у меня не было на это ни средств, ни возможностей. Теперь все это появилось, а впереди сколько угодно времени, и я бросился удовлетворять свои легкомысленные прихоти. Я постоянно пользовался свободой, о которой так страстно мечтал, пока работал на Сильвано. Я делал все, что мне вздумается, отправлялся туда, куда вздумается. Я объездил весь свет. Я увидел его чудеса — созданные природой и руками человека, встречал великих людей и делил ложе с красавицами. Я боготворил каждую из них, хотя ни одна не была Той самой из моего видения. Я был уверен, что тотчас узнаю ее и все сразу изменится: я тут же заведу семейный очаг и заживу домовитой супружеской жизнью. Поэтому я находился в предвкушении ее появления в моей жизни, хотя мне и хотелось, чтобы это не произошло слишком скоро. Я нисколько не скрывал от себя, что это был период забав и развлечений, познания всего, что только захватывало мое воображение. А любовь, думал я, подождет. Я ошибочно предполагал, что она ждет меня, хотя на самом деле ее ждал я.
За это время я не раз нажил и потерял состояние, хотя никогда не оставался совсем без гроша, потому что добросовестно клал в банк часть своего дохода. Через знакомых клириков Петрарка услышал, что во Флоренции есть банк, которым заправляет молодой, но способный человек по имени Джованни ди Бичи де Медичи, происходивший из старинного флорентийского рода. В этом Джованни мне нравилось то, что у него была репутация банкира, который сочувствует недовольной городской бедноте. Возможно, потому, что его отец не был богачом и кормил семью на деньги от полученного скромного наследства и от дохода, который получал, давая ссуды окрестным крестьянам. В Джованни чувствовалась народная закваска. На улицах Флоренции он был как дома, его любил народ, хотя его политических пристрастий не одобряла городская элита. В буржуазной Флоренции, где в почете были флорины, богатство считалось добродетелью, а бедность принято было скрывать и замалчивать. Я тоже восхищался, наблюдая, как этот умный и практичный молодой человек сумел расширить семейное дело, заведя фермы, занявшись производством шелка и шерсти и международной торговлей. Я часто через своих агентов отправлял во Флоренцию деньги, чтобы вложить их в банк Медичи.
Следуя совету Петрарки, я стал хранить деньги в банке, но в остальном поступал иначе. У меня не было желания засесть за ученье. Я присылал ему древние свитки, которые находил в Греции и Египте, но не читал греческих и римских авторов, как он настаивал в своих письмах. Мне нравились некоторые поэты, которые писали о любви, и я даже попробовал поучиться игре на виоле да гамба, но сам смеялся над своими попытками. Я практиковался в фехтовании и метании ножа у любого учителя с сильной и ловкой рукой и старался заводить знакомство с художниками и изучать их работы. Я решил, что когда-нибудь, когда вернусь во Флоренцию и женюсь, начну коллекционировать картины.
Я продолжал негласные розыски людей, у которых пропал когда-то сын, или таких, кто отличался необычайным долгожительством. Но никаких ответов пока не получил. Должен признаться, что я занимался этими розысками не слишком усердно. В тот легкий промежуточный период жизни я не хотел копаться в самом себе или своем происхождении. Такие вопросы вызывают слишком много беспокойства, в отличие от той простой жизни, которая наполнена погоней за удовольствиями и насыщением любопытства. Внезапно возникая вновь, они подталкивали меня вперед, как будто я мог заглушить их переездом в новый город и новым занятием.
Мне только и нужно было, что прибыльная работа да постоянное движение, потому что этого требовала моя врожденная неугомонность и потому что мой неизменно моложавый вид начинал вызывать пересуды, вопросы и даже пугал людей. Я выглядел двадцатипятилетним мужчиной, не старел, никогда не болел и любые раны заживали на мне так быстро, как несвойственно остальным людям. Я привык к мысли, что отличаюсь от других, — так было всегда, и я больше над этим не задумывался.
Однако окружающих смущали такие странности. И если я надолго задерживался в одном месте, неизбежно начинали ходить слухи. Сплетни обо мне привлекали внимание набиравшего силу, хотя и тайного, братства Красного пера, члены которого, казалось, находились повсюду. Это братство считало себя тайным оружием Священной римской инквизиции. Члены братства носили прикрепленное к одежде красное перышко и при встрече обменивались тайными знаками и жестами. Меня не оставляло ощущение того, что страх и стремление найти козла отпущения были гораздо заразнее чумы. Время от времени меня, где бы я ни был — в Риме, Вене или Париже, — находили, следя за слухами, стареющий Николо и его сынок Доменико, словно у них выработалось на меня такое же обостренное чутье, каким некогда обладал я на Бернардо Сильвано, но их чутье было направлено на меня и мое местонахождение. У нас случались опасные стычки, которые привлекали ко мне ненужное внимание. Я научился ускользать из города, как только там появлялись Сильвано. А потом начал покидать город, стоило только людям начать шептаться о ведьмах. Так я мог избежать столкновения с Николо, а потом и с его сыном Доменико.
Я всегда знал, что происходит во Флоренции, по крайней мере, в общих чертах. По письмам, рассказам других путешественников, по отчетам моих агентов, доставлявших мои вклады в банк Джованни ди Биди де Медичи, я был в курсе новостей своего родного города. За год до своей смерти Петрарка написал мне, что Боккаччо выступил с чтением «Божественной комедии» в церкви Сан Стефано, и образованные слои Флоренции были возмущены тем, что он несет Данте в народ, раздавая его как хлеб.[494] В 1374 году снова нагрянула черная чума, а через несколько лет после нее произошло восстание чомпи — фабричных чесальщиков шерсти, обутых в деревянные башмаки. Они взбунтовались против нечеловеческих условий работы. В том же 1378 году был избран антипапа,[495] что вызвало яростное возмущение и тревогу церкви, в папистской Флоренции это чувствовалось очень сильно. Город контролировала богатая семья Альбицци, через друзей и кандидатов в Синьорию. Эти Альбицци, будучи безжалостны к своим противникам, с типичным флорентийским индженьо стремились расширить территорию Флоренции. Напряженность достигла крайней степени в конце столетия, когда Флоренции стали угрожать Пиза и Милан.
В это время я жил на северо-западном побережье острова Сардиния в Босе — маленькой рыбацкой деревушке на берегах реки Темо. Там я смог наконец-то снова взяться за врачебное дело. Я приплыл туда на генуэзском торговом судне, которое торговало кораллами, и узнал, что многие босанцы больны дизентерией. От нее умерли и местный врач, и знахарка. Мне стало жалко босанцев, и я решил помочь им чем смогу. Когда жители пошли на поправку, я понял, что очарован Босой: пышными зарослями апельсиновых и оливковых деревьев, кустарниками со сладкой ягодой, древними лесами пробковых деревьев и богатыми виноградниками. В Босе делали янтарную мальвазию. Высоко над вулканическими холмами парили хищные грифоны и сапсаны, у пристани стояли яркие рыбацкие лодки, раскрашенные в красный, желтый и синий цвета. А сам маленький городок из розового камня полумесяцем обнимал холм над искрящимся голубизной морем, взбираясь узкими ступенчатыми улочками к вершине, к розовой крепости Кастильо Маласпина. Благодарные жители уговорили меня остаться, тем более что женщины там были красивы — миниатюрные смуглые создания смешанной крови. Я поселился почти в самом центре города, который оказался запутанным лабиринтом переулков, портиков и маленьких площадей; прямо на улице трудились ткачи и вышивальщицы.
В один жаркий полдень в начале лета за дверью раздался знакомый бас:
— Эй, здесь живет волчонок?
Я как раз закончил накладывать швы на порез юному рыбаку, который поранился, когда рыба неожиданно заметалась и он выронил нож. Так он, по крайней мере, мне сам сказал, хотя я догадывался, что на самом деле он поспорил с другим вспыльчивым смельчаком. Я как раз собирался предупредить его, чтобы он не связывался с этим парнем, но, услышав голос, вскинул голову.
— Заходите, если не боитесь, что вас покусают, — отозвался я.
Когда в дом вошел Странник, я так и подскочил к нему и на радостях обнял прямо на пороге. Он в ответ сжал меня в объятиях и отступил, чтобы хорошенько разглядеть.
— Да какой там волчонок! — улыбнулся он и потрогал мое плечо. — Только поглядите на эти мускулы, как окрепли от труда! Лука Бастардо, этот раненый белый волчонок, превратился в опасного зверя!
Но сам он выглядел все так же: толстый мешок за плечами, мускулистые руки и ноги, длинная густая борода с сёдиной и веер глубоких морщин возле глаз, светящихся лукавством, грустью и старческой мудростью.
— А ты совсем не изменился, Странник, — заметил я, обрадовавшись его виду. — Не один я так долго не старею.
— И никогда не изменюсь, — добродушно ответил он. — Как и ты теперь, когда стал матерым волком.
— Странное сходство, как стрела, у которой слишком много перьев на древке, — заметил я тихо, чтобы нас больше никто не услышал.
— Не знаю. Что такое время, почему мы должны с ним считаться? Что видишь ты в бездне прошедшего времени? — спросил он, швырнув в меня давние вопросы, точно сеть, в которую я должен угодить.
Я был так счастлив видеть его, что просто улыбнулся и покачал головой.
— Время — это то, чего у нас с тобой очень много, но у других людей гораздо меньше. Почему так?
— А почему должно быть иначе? Или ты боишься этого? Боишься, что мы из сказочной страны сердечных желаний, где никто не стареет, не обретает божественной мудрости и величия, где красота не иссякает и нет места смерти, а время и пространство продолжают вечный полет? — пропел он с только ему свойственной улыбкой, по которой я соскучился больше, чем предполагал.
— И снова загадки, над которыми я не задумывался уже много лет, — усмехнулся я.
— Потому что не хочешь, — твердо ответил он. — Не волнуйся, они о тебе помнят.
Я повернулся к юноше.
— Томазо, иди. И больше не спорь с Гильермо. Иначе в следующий раз зашивать придется не только руку!
Мальчик стал было что-то возражать, но я выдворил его вон и обратился к Страннику:
— Ах, эти упрямые сардинцы, вечно держат зуб на кого-нибудь, даже если он ноет!
— А разве не все люди лелеют свою вражду? — пожал он плечами. — Кстати, куда ты дел моего осла? Волк, что ли, съел?
— Этот осел жилприпеваючи во Флоренции, сначала в сарае у Сфорно, а потом у меня. Могу поклясться, что это упрямое мерзкое животное до сих пор не померло. Хотя я был вынужден уехать уже давно.
— Так вот как ты поступил с моим подарком? Бросил и оклеветал? — расхохотался Странник. — А ведь он тоже один из нас, проклятый Богом пережить собственную полезность! Тебе надо было взять его с собой. Он очень преданный и надежный, хороший товарищ, с которым и в бою не страшно!
— Ну прямо принц среди ослов! — протянул я, возводя глаза к небу. — Хотя я уверен, что он уже околел.
— А тебя никогда не мучают сомнения? — спросил Странник. — Кстати, а что ты делаешь здесь, в этой забытой богом деревушке?
— Здесь находится лучший цикл фресок во всей Сардинии, написанный тосканцем, который состоит при папском дворе в Авиньоне. Он находится в замке, в часовне, посвященной Nostra Signora di Regnos Altos.[496] Когда видишь «Поклонение волхвов», сердце от восторга замирает…
— Ты что, шутишь? Цикл фресок? Что это, если не идол, только под другим именем? Послушай, хочу рассказать тебе одну историю…
— Историю?! Да я не видел тебя сколько? Пятьдесят два года! А ты хочешь рассказать мне историю? — воскликнул я. — Если уж мне предстоит выслушивать очередную чертову историю, давай-ка сделаем это за бутылкой доброго вина! Пойдем наверх, я велю служанке приготовить нам обед.
Я повел его наверх, и мы сели за обеденный стол. Служанка принесла нам кувшин с вином, а потом быстренько сообразила обед. Я налил нам обоим по чаше. Он поднял свою в молчаливом тосте, а я склонил голову, принимая его. Мы выпили залпом. Я со всего размаху ударил чашей об стол, так что даже янтарная жидкость в кувшине заплескалась. Потом мы долго просидели в молчании. Со всех сторон на меня нахлынули впечатления окружающего мира: доносившаяся с кухни возня служанки, аромат поспевающих абрикосов на дереве за окном, пронзительный крик чайки, которая пикировала к прибрежной скале; далекий смех людей, работающих в поле, блеяние стада овец, которое прошло по улице мимо моего дома; порхание коричневой луговой бабочки за окном, теплые яркие лучи солнца, которые косо лились на некрашеный деревянный стол; запах сушеной соленой рыбы и сладкого деревенского сыра, ароматных колбасок, которые собирала служанка, резкий запах соли в воздухе, донесшийся с океана; вкус пряного вина на языке. Я ощутил мгновение, которое было гораздо ярче и полнее, чем те, что я испытывал за последние годы, как будто время, проведенное в увеселениях, было только мелькнувшей тенью того, какой могла быть жизнь. Я чувствовал родственную душу в Страннике, который сидел рядом, тихий, но полный жизни и внимания.
— Вы проделали далекий путь в Сардинию только ради того, чтобы рассказать мне какую-то историю? — наконец вымолвил я.
— А разве не стоит ради этого проделать долгий путь? — в ответ спросил он, приподняв седеющую бровь над живым горящим глазом.
— Зависит от того, какая это история, — хитро произнес я, и он усмехнулся.
— А разве в конце каждой хорошей истории нет морали? Позволь мне спросить. Вот ты теперь врач, каким был старик Моше Сфорно…
— Был?! — воскликнул я, заметив, что он говорит о Моше в прошедшем времени.
— Моше умер пятнадцать лет тому назад, — ответил Странник. — Хорошей смертью. Он умер в сознании. А теперь вот ты врач, помогаешь людям, излечил бы того, кто пришел бы к тебе с болезнью, верно?
— Если это в моих силах, то конечно, — ответил я, и у меня кольнуло сердце, когда я вспомнил, как добр был ко мне Сфорно.
Почему-то я долгие годы все никак не удосуживался справиться о его семье, а теперь, когда узнал о смерти Моше, сам удивился, почему этого не сделал. Неужели я в сердце своем остановил время, чтобы оно осталось как замерзший цветок, между тем как другие люди, те, кого я любил, доживали лето своей жизни, которое неизбежно клонилось к осени? Разве нельзя было получше распорядиться отпущенными мне лишними днями жизни?
— Так вот. Один человек…
— Как его звали? — перебил я, вызвав искреннюю улыбку на лице Странника.
— Некоторые вещи не меняются, да, Бастардо? Но я не стану портить хорошую историю, привязывая ее к определенным именам. Достаточно сказать, что этот человек был болен и невыносимо страдал. И вот он пошел к великому раввину.
— А его как звали? — еще раз ввернул я.
Странник поднял мясистую мозолистую руку, показывая, чтобы я помолчал.
— «Равви, исцели меня», — сказал он. И равви был сильно опечален страданиями человека.
— Еще бы, ведь страдать необязательно, — решительно ответил я.
Служанка поставила перед нами блюдо с мягким деревенским сардинским сыром, колбасками, ветчиной из дикого кабана, солеными сардинами, оливками, ранними винными ягодами и оранжевыми мелкими помидорами, блюдо с желудочком ягненка, зажаренным с бобами, миску с зеленоватым оливковым маслом, солонку и две круглые плоские лепешки хлеба. Я оторвал ломоть и обмакнул в оливковое масло.
— Страдания — это часть жизни, — изрек Странник, расправляя густую бороду. — Живой человек должен увидеть страдания в мире и сам их испытать, сохранив свое «я» вопреки и благодаря страданиям. Нельзя сохранить себя, не изведав страданий.
— Я бы предпочел сохранить себя наполовину, — попробовал поддразнить его я, — многого из пережитого я был бы рад избежать.
— Ой ли? — переспросил он. — Найдутся ли и впрямь в твоей жизни страдания, от которых ты откупился бы, оставив их позади? Разве не благодаря им ты стал тем, кто ты есть?
Я сделал большой глоток вина и посмотрел на окно, где среди цветов порхали колибри. По настоянию служанки на подоконнике росли в ящике цветы. Крохотная пташка порхала над пышным красным цветком ладанника и, полетав, унеслась прочь. Я вспомнил о Сильвано и годах, проведенных в публичном доме, вспомнил о Массимо и Паоло, своей жизни бродягой, вспомнил о Моше и его семье, годах, прожитых в его сарае. Прошлое еще крепко сидело во мне, подогревая мой ненасытный голод, но уже не держало меня на крючке. Я держал его, как воздух держит колибри, — не сжимая. Время, проведенное в скитаниях, помогло мне. Пространство и прошлое разместились в нем свободнее, чем прежде. И я с улыбкой произнес:
— Ты задаешь вопросы, каких давно уж никто мне не задавал, Странник.
— Вопросы ждут всегда, они царят вечно, без конца и начала, — ответил он. — Можешь удалиться в изгнание, но они нагонят тебя. Они царили еще до сотворения мира и будут царить даже тогда, когда мир исчезнет.
— Для меня это не было изгнанием, — тихо проговорил я. — Я не жалею об этом времени. Оно может показаться легкомысленным, но это не так.
— Радость — основа мироздания. — Странник пожал плечами. — Так я могу вернуться к своей истории? Итак, раввин пожалел человека, но ответил, что не может его исцелить. Человек был ужасно разочарован и разразился горькими стенаниями. Наконец раввин вздохнул и сказал: «Пойди к раввину такому-то. Он может тебе помочь». Второй раввин оказался младше по сану, не таким мудрым и ученым, не таким проницательным. Но человек пошел к нему, и тот раввин его исцелил.
— В чем же смысл поведанной вами истории, ради которой вы проделали такой путь спустя столько лет? — нетерпеливо спросил я.
Впившись зубами в вязкую кислую мякоть зеленой оливы, которая была размером почти со сливу, я выплюнул косточку в ладонь и бросил ее на стол. Служанка зацокала языком и принесла мне плошку для косточек, одарив взглядом, который сулил хорошую выволочку. Я обезоруживающе улыбнулся в ответ. Моя служанка была низенького роста, хорошенькая темноволосая женщина с кастильским лицом. Она все еще была очаровательна и мила, хотя юность ее уже прошла вместе с месячными, поэтому забеременеть она не боялась. Я, конечно, позволил ей первой обновить кровать в этом доме и наслаждался ею, не чувствуя за собой вины, исправно выплачивая приличное жалованье за работу по дому. И она, по всей видимости, была довольна таким положением дел. А сейчас, словно очнувшись ото сна, я вдруг сам удивился своей отстраненности, ведь я даже не помнил ее имени. Пускай это и не женщина из моего видения, моя суженая, не та, чье отсутствие я использовал как предлог для бесконечных любовных увеселений, она как-никак добрая душа. Она заслуживала чего-то в ответ на свою щедрость. Может быть, я не спрашивал ее имени, чтобы не расстраиваться из-за того, как далеки мы друг от друга из-за разной меры отпущенных нам дней?
Странник подвинулся ко мне, постучав пальцами по столу, чтобы привлечь мое внимание.
— А теперь подумай, почему великий раввин не стал лечить человека, а отправил его к другому?
— Может быть, этот человек предложил ему недостаточно денег? — предположил я.
Странник смерил меня холодным взглядом. Я пожал плечами.
— Великий раввин знал, что страдания человека — это милость Божья, и он не хотел лишать его этой милости, — неторопливо произнес Странник и ударил ладонью по столу, так что задребезжали тарелки. — Милость Божья!
— Хочешь сказать — смех Божий! — живо отозвался я, подливая себе вина. — Еще одна подлая шутка Бога!
— Болезнь человека уравновесила его долг перед Богом. Бог позволил человеку отработать свой долг, чтобы он мог вернуться к цельности!
— Долг? Какой долг? — воскликнул я.
— Я что, все тебе должен объяснять? — встряхнул плечами Странник. — Долг из этой жизни, из другой жизни, кто знает? Великий раввин знал и видел, что долг выплачивается через эти страдания и таким образом человек может подняться к высшему преображению. Он не хотел лишать человека этой возможности. Но и не хотел оставлять человека в его мучениях, поэтому послал его к низшему раввину, который не усмотрел бы в страданиях Господню милость.
Странник откинулся на спинку стула и скрестил руки на груди, вытянул грузные ноги и повертел ступнями, будто бы разминаясь.
— Другой жизни? Какой еще жизни?
— Как? Разве Гебер не говорил с тобой о переселении душ? — удивленно переспросил Странник.
Он сделал глубокий глоток вина, подцепил помидор с тарелки и бросил в рот. Сплевывая мелкие зернышки и сок, он проговорил:
— Гебер был хорошо осведомлен в этом вопросе. Он читал «Сефир Бахир»,[497] книгу просветления, даже со мной. Он знал, что души обязательно возвращаются на землю снова и снова, пока не выполнят свое предназначение. Полагаю, его век оборвался раньше, чем он успел обучить тебя всему, что тебе требовалось знать. Ты должен учиться сам, волк, который хочет остаться волчонком. В этом значение философского камня.
— Мне нужно было узнать, как превратить свинец в золото, а его век закончился прежде, чем он успел мне рассказать, — сказал я недовольным голосом.
Я всегда жалел о том, что не узнал главного секрета Гебера. Несмотря на то что теперь — благодаря наследству и работе — у меня было много денег, меня никогда не оставляло ощущение, что чего-то недостает и этот недостаток можно было восполнить только умением превращать свинец в золото. Я встал и рассеянно зашагал по комнате, которая вдруг показалась мне слишком тесной, слишком далекой от центра событий. Я жил в изгнании и даже не знал об этом. В кухню резво прибежала служанка, как будто что-то стряслось.
— Неужели ты так мелко мыслишь, Лука Бастардо? — с упреком произнес Странник. — Подумаешь, золото! Его легко получить. Я говорю о воспитании души! О человеческой судьбе и божественном порядке! О том, что каждая душа должна с должной истовостью выполнять все заповеди, потому что если какая-то частичка души не выполнит всего хотя бы в одном из трех аспектов — дело, слово или мысль, — вся душа будет вновь и вновь рождаться в ином воплощении, пока не выполнит все.
— Я слыхал об этом переселении душ, когда ехал на верблюде в Китай, слышал о том, что души облекаются в новые тела, как мы в новую одежду. И меня это не убедило! Это только приятная сказка для утешения людей. Мы всего лишь игрушки из праха и крови, игрушки Бога. Кто мы такие, чтобы заслуживать новую жизнь? Кто мы такие, чтобы вообще заслуживать жизнь? И без того это чудо или грандиозная шутка, что мы вообще рождаемся на свет, а на большее не стоит и рассчитывать! — горячо произнес я. — Величайшая радость человека — это искать и обретать красоту. Твоя история не для меня, Странник!
— Ты уверен, что стоит делать поспешные выводы прежде, чем она принесла свои плоды? — спросил он и улыбнулся.
Он достал что-то из разорванной и залатанной серой рубахи, и я увидел конверт. Он протянул его мне, и я выхватил письмо из его узловатой, исписанной толстыми венами руки, снова сел и бережно распечатал.
— Это от Ребекки Сфорно, отправлено недавно, — в изумлении сообщил я. — У нее и у всех Сфорно дела идут неважно. Во Флоренции снова свирепствует чума, и война у ворот. Ее внуки больны. Надеюсь, они еще не умерли.
— Я подожду, пока ты соберешься, — сказал Странник. — Слышал, сегодня вечером уходит корабль. У капитана передо мной должок.
— Я еще не сказал, что поеду с тобой.
— И пусть твоя милая служанка соберет нам в дорогу этих помидор, а? — добавил он. — А лучше пусть целую корзинку с едой снарядит. На этом острове превосходная еда.
И вот я собрал кое-какую одежду, взял картину Джотто, очки Гебера и записную книжку Петрарки, уложил все в сумку, которая повидала десятки портов за последние сорок лет — лет, которые вдруг показались мне такими же пустыми, как и страницы той записной книжки. Я попросил служанку собрать нам дорожную снедь. А перед уходом вырвал листок пергамента из незаполненной записной книжки Петрарки и написал записку, в которой передавал свою маленькую лачугу и весь скарб этой женщине. Отдал письмо ей вместе со всеми деньгами, какие нашлись в доме, и торопливо поцеловал. К моему удивлению, она взяла в ладони мое лицо и подарила мне нежный и долгий поцелуй в губы.
— Ты был добр ко мне, Лука Бастардо. А теперь иди с твоим чудным ироничным Богом, — сказала она. — Я всегда знала, что ты не долго тут пробудешь. Твои родители, наверное, были странниками, которые зачали тебя под беспокойной звездой.
Ее милое кастильское лицо погрустнело, и на темных глазах проступили слезы.
— Прощай, э…
— Грация, — подсказала она, улыбнувшись совсем без обиды.
— Грация, — повторил я.
И я отправился вместе со Странником вниз по крутому холму к побережью моря. Мы шли по булыжным переулкам, вниз по вырезанным в склоне холма ступеням, через заросли фиговых, оливковых и миндальных деревьев, мимо разбегающихся диких кошек, кабанов и куропаток, которые шныряли в буйной растительности. И наконец вышли к бухте с пляжем, покрытым темным песком, который, как утверждали местные жители, обладал целебными свойствами. Я слышал, что люди с тугоподвижными суставами ложились здесь на покрывало и им становилось легче, свободнее, в суставах появлялась гибкость. Я подумал, что природа полна чудес, больших и малых. А если учесть это, так ли уж странно, что она выбрала несколько человек для долгой жизни? Так ли странно, что время течет по-другому именно для этих людей? Я размышлял над этим, пока мы обходили побережье. Это был долгий путь под безжалостным сардинским солнцем.
— Ты сейчас не пожалел о том, что не взял моего осла с собой, а, Бастардо? — спросил Странник.
— В некоторых местах, где я побывал за прошедшие сорок лет, его употребили бы на ужин, — ответил я, вытирая рукой вспотевший лоб. — Не пора ли развлечь меня очередной байкой?
— Ты что, думаешь, я могу вот так по первому требованию рассказать тебе байку, как собака, которая лает по команде? — резко ответил он.
Я кивнул, и он демонстративно вскинул руки, словно взывая к Богу, и быстро-быстро заговорил по-еврейски, поэтому из его речи я понял лишь несколько слов. Столько лет прошло с тех пор, как я изучал древние языки, да и научился я только читать, а не говорить.
Тогда я сам решил развлечь его разговорами.
— Странник, а что это за книга, «Сефир Бахир»? Что в ней сказано о преображении и переселении душ?
— А что бы ты хотел из нее узнать? — спросил он. — Разве люди не вычитывают из книг то, что уже заложено в их сердцах?
— Верно, но ты вечно отвечаешь вопросами на вопрос. За прошедшие пятьдесят лет я и забыл, как это приятно, — с некоторым сарказмом заключил я.
Я обернулся и проводил взглядом большого баклана, заметив, что солнце, огромное и оранжевое, наконец опустилось над водой, обещая отдохновение от пекла. Сверкнув напоследок зеленым лучом, оно скрылось за горизонтом.
Странник улыбнулся своей лукавой улыбкой и нагнулся ко мне, так что его седые буйные космы коснулись моих щек. От него пахло кожей и ванилью, старым пергаментом и кедровыми листьями. После жизни у Сильвано я так и не избавился от отвращения, которое испытывал, когда мужчина стоял ко мне слишком близко, даже если я доверял этому человеку. Поэтому я отодвинулся, и он прошептал:
— Там сказано, что союз мужчины и женщины это путь к божеству. А твой союз с Грацией приблизил тебя к Богу?
— О да, бывало, что с ней я выкрикивал имя Божье, — шутливо ответил я и выразительно подмигнул.
— Тогда это — священный союз, — серьезно проговорил он. — Заключить такой союз и не вырастить вместе детей означает, что вы оба перевоплотитесь, чтобы встретиться снова и воспитать ребенка. Тогда предназначение будет выполнено.
— Если я и переселюсь в новое тело, чтобы быть с женщиной, это будет не Грация. Она милая, но всего лишь одна из сотни милых женщин, с которыми я был последние пятьдесят лет, — нетерпеливо ответил я. — Она не та, не Та самая. Понимаешь, Странник? Та самая, которая была обещана мне. Обещана в ту безумную ночь, когда мне было видение от философского камня! Я сохранил свое сердце ради этого обещания!
— У каждого есть свой мессия, — пожал плечами он, и мы продолжили путь молча, пока не дошли до каталонского корабля, куда нас взяли на борт, приняв как почетных гостей.
Я вернулся во Флоренцию. Флоренция — центр мироздания, город, серебряные стены которого воспевались в мадригалах, город, который Папа объявил пятым элементом космоса. Город, конечно, пекся под летним зноем, и серые камни так раскалились, что на улицах было жарко, как в печи. Естественно, вовсю свирепствовала чума, как будто мое появление не могло обойтись без черной смерти. И все же я был дома. Я дышал флорентийским воздухом, улыбался прекрасным, модно одетым женщинам. Я собирался съесть на обед суп с хлебом и фасолью, свежий шпинат под соусом из тосканского оливкового масла, жареное мясо на косточке и произнести тост за здравие этого города, отведав благородного вина из Монтепульчано, которое здесь выжимают из винограда испокон веку. Я прогуливался по улицам Ольтарно, дивился множеству новых дворцов, построенных для зажиточных купцов и богатых людей, принадлежавших другим гильдиям. Дорога Сан-Никколо, которая соединяла ворота Сан-Джорджо с воротами Сан-Никколо, была почти сплошь застроена каменными и гипсовыми фасадами, дома теснились вплотную друг к другу. Жилища были высокие, узкие, до четырех-пяти этажей, в глубину длиннее, чем в ширину, впрочем, как и всегда. Улицы по-прежнему представляли собой живое смешение дворцов и простых домишек, ткацких фабрик и лавок, церквей и монастырей. Каменотесы и сапожники жили бок о бок с банкирами и торговцами, ремесленниками и проститутками. Чума заставила город притихнуть, на улице встречалось не так много людей, но и не было так пустынно, как в первую эпидемию черной смерти. Люди научились не прятаться, когда к ним подкрадывается смерть.
Я пришел в еврейский квартал и направился к резным воротам семьи Сфорно, к массивной двери их дома, утопленной в стене. Я постучал медным молотком, и спустя минуту дверь мне открыла сгорбленная женщина преклонного возраста.
— Лука! — взвизгнула она.
— Ребекка? — нерешительно уточнил я.
— Кто же еще! — усмехнулась она. — Заходи скорей, не надо стоять на улице, а то тебя настигнет чума. Дай-ка я на тебя взгляну.
Она потянула меня за рукав, и я вошел в переднюю, которая осталась почти такой же, как в тот день, когда я впервые вошел в этот дом, а это было больше пятидесяти лет назад. Ребекка подошла ближе и улыбнулась мне. Ее кудри уже побелели, лицо было изрезано глубокими морщинами, но глаза остались ясными и добрыми, и голос не дрожал. Я чувствовал тепло и сияние юной девочки, которую впервые увидел на руках отца, когда он прятал ее от тяжелых камней. Интересно, каково ей видеть старого друга таким молодым? Завидует она мне или ненавидит за это? Мое отличие от нее стало еще очевиднее, и я чувствовал себя гораздо более чужим, чем даже чужд неиудей еврею.
— Я приехал, как только получил твое письмо, — неуверенно сказал я.
— Наверное, на крыльях прилетел, — восхищенно ответила она. — А где же наш старый друг, Странник?
— Мучает кого-то другого своими баснями и вопросами, — улыбнулся я и пожал плечами. — Он исчез сразу, как только мы вошли в ворота города.
— Очень похоже на него, не правда ли? Приходит и уходит, когда этого меньше всего ожидаешь! — Ребекка сжала в кулаке мой рукав и довольно потянула на себя. — Как я рада тебя видеть! Я знала, что ты придешь, хоть мы и не слышали ничего о тебе все эти годы!
— Как же мне не прийти, — тихо произнес я, растроганный теплой встречей.
— Бабушка, кто там? — спросил угрюмый молодой человек.
Он появился в передней и сурово окинул меня взглядом. Это был высокий юноша, выше меня, с широкими и сильными плечами, черными кудрявыми волосами и длинным овальным лицом. Его высокие скулы напомнили мне Лию Сфорно. Прищурив голубые глаза, он внимательно оглядел меня с ног до головы.
— Это Лука Бастардо, о котором я тебе рассказывала, — улыбнулась Ребекка. — Тот, что спас меня и которого папа выучил на врача! Я попросила его приехать помочь твоему брату и сестре!
— Хм, вот как? — буркнул себе под нос юноша. — Он, наверное, проголодался. Может, отведем его в столовую?
— Конечно, Аарон, будь по-твоему, — сказала Ребекка и просияла. — Что же я стою тут, дуреха, и таращусь на него? Пойдем, Лука, ты ведь еще помнишь, где мы обедаем?
Хихикнув, она проворно засеменила в кухню. Я двинулся следом, но мальчик остановил меня, положив руку мне на плечо.
— Если ты тот, о ком она говорит, тогда здесь замешана дьявольская магия, а ты какой-нибудь голем.[498] И родители твои демоны! — сказал он, понизив голос. — А если ты не тот, в чем я почти уверен, тогда ты какой-нибудь мошенник и пытаешься выманить деньги у глупой старушки.
— Мне не нужны ее деньги, — ответил я, вырвавшись от него. — Я приехал помочь.
— Брату и сестре ничем уже не поможешь, — сказал он. — Я похоронил их неделю назад. И тетушку Мириам, и родителей, и тетушку Руфь, дочь Мириам. На этот раз чума нас не пощадила, может, потому, что сберегала в прошлые разы. Остались только мы с бабушкой. Но она все время об этом забывает, так что не говори ей, а то сильно расстроится.
— Я не хочу причинять ей боль, — помрачнев, ответил я.
Я вошел в столовую, сел на старую скамью и позволил Ребекке хлопотать надо мной. Она поставила тарелку с холодным вареным цыпленком и жареными артишоками, налила чашу белого вина. Она сновала туда-сюда, но успела потрепать меня по волосам и ущипнуть за щеку. Ее внук Аарон стоял в дверях, сложив руки, и наблюдал за нами недобрым взглядом.
— Скажи, что слышно от Рахиль из Венеции? — спросил я.
— У нее все хорошо. Ты помнишь, она вышла за богатого стеклодува, у нее родилось четверо детей, и все мальчики, а теперь много внуков, целых пятнадцать, кажется. Она теперь почтенная матрона, у нее в Венеции красивый дворец в еврейском квартале, — ворковала Ребекка.
Аарон мотнул головой и знаком показал, что и там была чума. Я отвел глаза и задумался, одна ли Рахиль умерла и сколько ее потомков пережили ее. Скорбь прочно засела в моем сердце, когда я вспомнил горячую юную Рахиль, остроумную, язвительную, прямолинейную — и красивую. Надеюсь, она не мучилась и умерла легко (Странник бы сказал, «была в сознании», как и ее отец). Мне пришло в голову, что это мое необъяснимое долголетие совсем не обязательно дар. Я все еще носил в себе голодные улицы и публичный дом, как ненасытного живого гомункула. Но по-прежнему я встречал на своем пути все новых людей, привязывался к ним и должен был становиться свидетелем их смерти.
ГЛАВА 15
Я переночевал несколько дней в сарае, который до сих пор мысленно называл сараем Сфорно, хотя у Ребекки давно было другое имя. Сарай остался почти таким же, хотя теперь в нем обитал рыжий кот, который сидел на балках, махал хвостом и наблюдал за мной немигающими янтарными глазами. В сарае по-прежнему были стойла для пары одинаковых серых лошадей. Несколько кур-несушек, корыто, место для сена, железные крючки для инструментов, запах прелого навоза, шерсти, корма и стоялой воды. Щель в стене, где я прятал картину Джотто, тоже до сих пор сохранилась. Конечно, я не удержался и полез туда — и нашел вырезанную из дерева куклу, которую, должно быть, уже после меня прятал кто-то из детей. Я с усмешкой представил, как какая-нибудь из девочек Сфорно обнаружила мой тайник и присвоила его себе. Мои старые тайны всегда раскрывались. Я проводил много времени с Ребеккой, она несла всякую ерунду, но, бывало, в ней просыпался разум. Иногда она по много раз повторяла одни и те же вопросы, вроде: «Ты только вернулся, Лука? Ты уже поел?» Когда она начинала повторяться, я брал ее за руку и начинал говорить о прошлом, она потихоньку возвращалась в настоящее, настолько, насколько могла вынести, ведь ее сестры, дети и почти все внуки умерли от чумы. Это было горько-сладкое время, и у меня часто непривычно сжималось сердце. А потом настал день, который отправил меня обратно в изгнание, теперь уже на шестьдесят лет.
Тот день начался и закончился столкновением, а между ними была смерть, которая часто оказывалась моей спутницей.
На рассвете меня разбудил Аарон. Он вошел в сарай, ведя за собой орущего осла.
— Мой друг держал тут своего паршивого осла, пока я ухаживал за своими родственниками. Думаю, он принадлежит тебе.
— Не мне, — простонал я и сел, вытряхивая сено из воло — Он принадлежит Страннику!
— В нашей семье говорили, что он твой и ты придешь за ним однажды, чтобы забрать. Если, конечно, ты тот, за кого себя выдаешь. Нам он не нужен, он тупой и упрямый. Так что вот ты, а вот твой благородный конь, мы не хотим тебя больше задерживать, — твердо проговорил молодой Аарон, решительно вскинув упрямый подбородок.
Я пристально посмотрел на него.
— Я же не расстроил твою бабушку.
— Нет, расстроил, — упрямо возразил он. — Она сейчас очень взволнована, все ее воспоминания перемешались, время спуталось. У тебя то же лицо, как у человека, которого она знала в детстве…
— Я и есть тот человек, — тихо произнес я.
— Если так, то Красному перу это будет интересно услышать, — жестко сказал Аарон. — Они вечно ищут ведьм и дьявольское отродье. Если еврей сдаст одного из них, то принесет пользу всей общине. А нам нужна хорошая репутация, в конце концов, особенно в такие безнадежные времена, когда евреев в первую очередь винят во всех бедах, которые постигли город!
— Я сегодня же уйду из этого сарая.
— И забирай с собой этого осла. Эта скотина старше меня, но до сих пор все жива. Он только зря занимает стойло, — процедил Аарон сквозь зубы. — Если они будут искать ведьм и колдовство, то могут прийти к нам в дом, и начнутся расспросы, тогда нам точно несдобровать. Это кровожадное братство спит и видит, как бы искоренить колдовство.
Он швырнул мне веревочную уздечку, развернулся на каблуках и вышел вон.
Несколько часов спустя, под призрачным голубым небом и осенним солнцем, едва поднявшимся над горизонтом, я брел с ослом по Флоренции. Ветер теребил мою накидку, игриво намекая на наступление осени. Я искал открытый постоялый двор с конюшней. Но из-за эпидемии многие гостиницы закрылись. Иноземцев не жаловали, когда по городу ходила черная смерть. Во Флоренции многое изменилось, но многое осталось как было. Я радовался и тому и другому. А еще меня томила грусть, потому что чума вновь опустошала мой родной город.
Идя куда глаза глядят, я вел осла через Старый мост, где позакрывались все маленькие лавочки, кроме одной, а в ней сидел человек с бубонами по всему лицу. Он манил меня золотой цепью и кашлял, пока не начал плевать кровью. Я пожалел его и дал за цепочку флорин, а потом побрел в центр города. Я брел наугад, не выбирая направления, и меня переполняли десятки противоречивых чувств. Я был счастлив снова видеть Флоренцию и жалел, что расстался с Ребеккой Сфорно, я знал, что больше никогда ее не увижу. Последние сорок лет пролетели как сон, нечувствительно для меня, но нанесли большой урон семейству Сфорно. Ребекка состарилась, остальные умерли. Ее внук, на котором лежала ответственность за сохранение тех, кто еще остался, не знал меня и не доверял мне. Тут нет его вины, хотя я узнавал в нем черты его деда и бабки, вызывавшие во мне добрые воспоминания. Наверное, мне казалось, что я вновь продолжу прежние отношения с этой семьей, как женщина продолжает старый узор, когда вновь садится за ткацкий станок. Но я ошибался. Время, в котором я жил, текло иначе для других людей. Я не желал признавать то, что из этого следовало, однако факты настойчиво заявляли сами о себе, и отрицать их было бесполезно. И несмотря на радость от возвращения в мою несравненную Флоренцию, я чувствовал глубокую меланхолию, понимая, что я всем здесь чужой.
Навстречу мне подбежал хорошо одетый мальчик, бледный, с вытаращенными глазами. Было что-то необычное в его испуганном беге, и я оглянулся посмотреть, что его так напугало. Заметил двух бродяжек — мускулистых бородатых мужчин в грубых порванных камзолах, которые во весь опор неслись за мальчиком. Во времена чумы преступники всегда смелели, правильно полагая, что в городе стало меньше стражников. Когда жителей косит смерть, некому следить за порядком на улицах. Когда мальчик поравнялся со мной, я ухватил его за пояс и перебросил на осла.
— Прошу вас, они на меня нападут! — пропищал мальчик.
Я поднес палец к губам и шикнул, а потом хрипло загорланил залихватскую песню и начал шататься на ногах, как пьяный. Бродяги замедлили шаг и двинулись на нас. Я во все горло орал песню о пышногрудой неаполитанской красотке и своих доблестях в качестве ее любовника.
— Мальчишка пойдет с нами, — сказал один из бродяг, когда они подошли ближе.
Я загорланил еще громче и закачался, размахивая перед собой рукой с веревкой, в то время как моя свободная рука шарила в поисках кинжала, который я привязал под рубахой на бедре. Я не стал доставать мой короткий меч, потому что это было бы слишком очевидно.
— И любила она мой огро-омны-ый конек, и ни-и-когда не отказывала мне! — во всю глотку прорычал я, вынул кинжал из ножен и спрятал его за спиной.
— Погляди, да он пьяный, — сказал другой бродяга, растягивая губы в глумливой улыбке и выставляя напоказ черные зубы и щербатый рот. — Ты сбивай его на землю, а я хватаю мальчишку!
Первый бродяга ухмыльнулся и шагнул ко мне. Я скорчился, как будто у меня скрутило живот, и пнул осла, делая вид, что падаю на бродягу. Тот от удивления хрюкнул, когда мой кинжал очутился прямо у него в сердце. Я повернул рукоятку и вытащил, а бродяга повалился на землю. Другой уже собирался наложить свои грязные лапы на мальчика, но осел начал брыкаться, пытаясь тяпнуть бандита зубами, а бедный ребенок прилип к шее животного так, что бродяга сдался и, обернувшись, понял, почему его товарищ хрюкнул и упал. У него едва было время вскрикнуть, как мой кинжал вонзился ему в кадык. Я ударил быстро и так же быстро выдернул нож. Увалень рухнул, а я вытер кинжал о его грязный плащ и оставил обоих преступников там, где они упали. Могильщики, которые собирают чумные трупы, подберут и этих двоих.
— Они заслужили смерть! Хотели меня похитить! — горячо воскликнул мальчик тоненьким нежным голоском.
Я посмотрел на него и кивнул. Мальчик был худой, с желтоватым лицом и светло-русыми волосами, угловатым носом; некрасивое лицо, но с честным спокойным выражением, от которого он казался взрослее. Осел успокоился, и мальчик начал слезать, но я его остановил.
— Я отвезу тебя домой, — предложиля, — можешь ехать верхом.
Мальчик улыбнулся, и его серьезное лицо просветлело. Я подобрал уздечку осла, потрепал его за уши и поблагодарил за помощь в трудную минуту. Помощи мне ждать было неоткуда, единственная надежда была на крутой нрав осла, если его раздразнить.
— Куда идти? — спросил я.
Мальчик указал в сторону Баптистерия, и мы отправились туда. Меня переполняла радость оттого, что я буду идти вокруг купольного восьмиугольного сооружения в самом сердце Флоренции, где крестили всех флорентийцев. Я не знал, крестили ли меня самого, но надеялся на это. Не потому, что крещение имело значение для моей веры в Бога красоты и иронии, а потому, что в этом была бы еще одна нить, связывавшая меня с этим несравненным городом. Ни один другой город в мире не был так богат искусством, красивыми женщинами, торговлей, кухней, вином и непостижимым избытком человеческого индженьо. А я знал это наверняка потому, что повидал свет и мне было с чем сравнивать. Я вдруг понял, что хочу непременно увидеть Баптистерий, его точные и гармоничные геометрические формы из зеленого и белого мрамора. Несколько десятилетий минуло с тех пор, как я с наслаждением рассматривал его. Особенно мне нравился южный вход со скульптурными рельефами. Их создал Андреа Пизано[499] в 1330 году, отлил из бронзы в Венеции и поставил на южном входе в 1336 году, когда я еще был уличным мальчишкой и не подозревал о своем отличии от других людей. Мне не терпелось снова увидеть чудесные картины с изображением сцен из жизни Иоанна Крестителя. Воспоминания об этих образах, обрамленных четырехлистником, мелькали в памяти, пока я вел осла с ребенком, поэтому не сразу услышал слова мальчика.
— Они собирались потребовать выкуп у моего отца, он очень богат, — тихо произнес он.
Я посмотрел на чистое лицо мальчика, гладко причесанные волосы и добротно скроенную одежду.
— Он бы заплатил.
Мальчик кивнул.
— Но они бы, наверно, все равно меня убили. В этом беда богатства: люди хотят отобрать его у тебя. Если ты очень богат, лучше не показываться им на глаза.
— Может, и так. Если, конечно, люди знают о твоем богатстве, — пожал плечами я.
— Но что же делать, все время сидеть дома? — спросил он, как будто бы задавая философский вопрос о смысле жизни.
Он смотрел на меня очень открыто и серьезно. Я улыбнулся.
— У меня был друг, который всегда советовал мне читать и изучать великих людей прошлого, древнегреческих и латинских мыслителей, а они писали очень мудрые вещи о природе человека.
— Да, это разумно. Изучать природу человека по древним мыслителям, — задумался мальчик.
Я сдержал улыбку, дабы не оскорбить его достоинства, которого у него было выше крыши. Петрарке бы понравился этот мальчик. Петрарка несколько разочаровался в своем сыне, который был умен, но не любил книг. А из этого серьезного, задумчивого мальчика получился бы настоящий ученый, ему бы это понравилось.
— Как тебя зовут? — спросил мальчик.
— Лука Бастардо.
— Мой отец знает одного человека из Совета торговли шестерых, который скоро станет гонфалоньером и дружит с нашим подеста. Однажды я слышал, как этот человек говорил моему отцу, что всю свою жизнь ищет кого-то по имени Лука Бастардо.
— Очень некрасивый человек, вот с таким тощим носом, — я изобразил пальцем крючок, — и торчащим подбородком?
Мальчик кивнул.
— Кажется, мой отец звал его Доменико, какой-то Доменико. Ты и есть тот самый Лука Бастардо?
— Да нет, что ты, — коротко ответил я, скрыв тревогу, и осторожно огляделся.
Итак, Доменико Сильвано, несмотря на то что он внук владельца борделя, все-таки преуспел в этой жизни. У него есть власть и влияние. Он служит в престижном торговом Совете шестерых. Его могут избрать гонфалоньером, главой Синьории, которая правила Флоренцией. Он на короткой ноге с подеста, главой судебной власти. Николо Сильвано и правда не упустил возможности во время чумы, чтобы улучшить положение своей семейки, как он и обещал мне много лет назад, а его сынок Доменико теперь пожинает плоды. Братство Красного пера наверняка помогло ему в достижении этой цели, так как это братство во всем поддерживала церковь.
Я решил сменить тему.
— А тебя как звать?
— Козимо, — звонко отозвался мальчик, расправив худенькие плечи.
В тот момент осел решил присесть на задницу, и мальчик чуть не свалился. Я подхватил его и удержал рукой за плечо, он мне улыбнулся. Я потянул осла за хвост, чтобы поднять его на ноги. Моя скотинка неохотно подчинилась. Мы подошли к Баптистерию, и я украдкой огляделся, не шатается ли поблизости кто-нибудь с красным пером на камзоле или рубахе. Никого не увидев, я остановился перед роскошными бронзовыми дверями работы Пизано, каждая из которых вмещала четырнадцать квадратных рельефов. Из двадцати восьми рельефов двадцать рассказывали о жизни Иоанна Крестителя, а остальные восемь изображали добродетели: надежду, веру, милосердие, смирение, силу духа, сдержанность, справедливость и благоразумие — все те качества, к которым Флоренция стремилась, но которых так и не сумела обрести. Сложнее всего дело обстояло со сдержанностью и воздержанием. Флоренция всегда была городом, который умеет наслаждаться жизнью. Но все же хорошо иметь такие идеалы перед глазами, выраженные в скульптурах, которые передвигались в пространстве как настоящие люди, были одеты в осязаемые ткани, спадавшие естественными складками, как настоящая материя. И действительно начинало казаться, что Флоренция может воплотить в себе эти добродетели.
Цикл о жизни святого Иоанна напомнил мне о прекрасных фресках учителя Пизано Джотто в капелле Перуцци. Как и Джотто, Пизано придал своим фигурам подлинную человечность. Лица и жесты были красноречивы и даже трогали за душу: и мудрая решимость на лице святого, удаляющегося в пустыню, и скорбь на лицах его учеников, которые хоронят его тело.
— У тебя на глазах слезы, — заметил мальчик.
Он слез с осла и, подойдя ко мне, взял меня за руку своей маленькой ладошкой.
— Самое важное — это искусство и отраженная красота, — с благоговением произнес я. — Это дар, данный нам Богом. По большей части он смеется над нами, но потом дарует Свою милость в работах таких великих мастеров. Пизано, Джотто, Чимабуэ…
Мальчик внимательно посмотрел на картину с изображением наречения.
— Это Дева Мария отдает ребенка отцу для наречения. Ее можно узнать по нимбу.
Я кивнул, и мальчик задумчиво произнес:
— Это великая честь для Крестителя, что сама Богоматерь подносит его к отцу. Это возвышает его.
— Я об этом никогда не задумывался, — признался я. — Но посмотри, как нежно она склонилась над ребенком, как и над любым ребенком, ибо она мать мира. И посмотри, какие у нее сильные плечи и руки под одеждами, она может вынести страдания всего мира.
— Да, вижу, — согласился он удивленным тоном, как будто впервые что-то понял. — А на этой картине, где Иоанн крестит Иисуса, видишь, в каком благоговении застыл ангел, и он один так смотрит, поэтому мы понимаем, что это священный миг! А здесь Христос говорит с учениками Иоанна, он благословляет их рукой, но у него нет нимба, потому что ученики еще не поняли то, что понял Иоанн, — что Христос наш спаситель! Спустя мгновение они поймут это, и все изменится!
— У тебя зоркий глаз на искусство, Козимо, — улыбнулся я. — Сходи посмотри картины Джотто в Санта Кроче, и ты изумишься.
— Фрески Джотто столь же прекрасны?
— Джотто был учителем этого скульптора, его картины удивительны, они невероятно прекрасны, — тихо ответил я. — Флоренция не была бы Флоренцией без картин Джотто и рельефов Пизано, без всех великих художников. Они приезжают сюда, чтобы обогатить город цветом, формой и текстурой, наполнить его красотой, которой завидует весь остальной свет.
— Когда-нибудь я буду править Флоренцией, — произнес Козимо с уверенностью человека, который дает клятву.
Он подошел к картине, на которой ученики Иоанна посещают святого в тюрьме, и провел узкими пальцами по фигурам.
— Когда я буду править, то здесь обязательно будет много художников. Я привезу их сюда. Самых лучших!
— Лучшие художники всегда приезжают во Флоренцию.
— Ты ведь веришь мне, Бастардо, веришь, что я буду править Флоренцией? — взволнованно спросил мальчик.
Я присел на корточки и внимательно вгляделся в его желтоватое мальчишеское лицо. Я рассматривал его не одну минуту, чтобы он понял, что я честен с ним. Что-то в его чертах показалось мне смутно знакомым, хотя я знал, что никогда не видел его раньше. А потом что-то в моем разуме сдвинулось, точно осколки стекла со звоном упали на пол, и в памяти мелькнул Гебер-алхимик и ночь философского камня. Когда я увидел себя мертвым, и время устремилось вперед, и я увидел будущее, передо мной промелькнуло много лиц. Одно из них принадлежало могущественному человеку, правителю, который мог вырасти из юного Козимо. Этот парень хорошо одет — подходящая жертва для похитителей. Он из благородной семьи, и у него есть реальный шанс стать правителем города.
— Да, — со всей серьезностью произнес я, — я верю тебе. А когда ты будешь править Флоренцией, Козимо, никогда не забывай, что ее красота, ее искусство принадлежат всем флорентийцам, богатым и бедным, независимо от их происхождения!
— Я запомню. И ты будешь мне другом, когда я стану править, — решил он.
Я поднялся на ноги, прижал руки к груди и благодарно поклонился. Этот жест был лишь отчасти шутливым. Часть моей души верила, что лицо из видения принадлежало Козимо, как верил я и в то, что видение, подаренное мне философским камнем, говорило правду. Уж лучше пусть это будет правдой, а то ведь моей ставкой была вся моя будущая жизнь. Мне казалось, что все эти годы, пока превратности судьбы носили меня по земле, я почему-то не жил. Я все время откладывал жизнь на потом. Не совсем, конечно, но часть меня ждала, ждала, когда же жизнь начнется. И я знал, чего жду: женщину из видения. Ту самую женщину, любовь которой я выбрал, несмотря на то что эта любовь принесет мне мучения и в конце концов смерть. Ведь я мог выбрать богатство и благополучие на протяжении удивительно долгой жизни, такой долгой, как у Бога. А теперь, когда явернулся во Флоренцию, ожидание закончилось. Я отбросил прихоти, как забытый плащ, а вместо них появилось что-то другое, что-то мрачное и более прочное: предопределенность. Я пришел сюда за ней. Мне казалось, что она вот-вот подойдет ко мне и мы встретимся прямо там, перед Баптистерием. Я поймал себя на том, что оглянулся в поисках нее, а когда заметил это, сам над собой посмеялся. Я еще не знал, что на самом деле встречу ее у Баптистерия, только сначала пройдет еще несколько десятилетий. Я жестом попросил мальчика садиться обратно на осла, но он мотнул головой и пошел пешком рядом со мной. Мы обошли Баптистерий, и он указал на северный вход.
— Почему бы не изобразить что-нибудь чудесное и на этих дверях? — предложил он. — Здесь нужны столь же величественные двери!
— Но за это придется заплатить, — отозвался бодрый голос, — и придется найти такого же талантливого художника как Пизано, а как нам его выбрать? К нам обращался молодой круглолицый человек низковатого роста. На вид ему не было еще и двадцати, но волосы на голове уже редели. Я внимательно разглядел его одежду в поисках злополучного красного пера, но ничего не заметил. Молодой человек перехватил мой пристальный взгляд и чуть склонил голову.
— Я видел, как вы восхищались дверьми Пизано. Я сам часами могу там стоять. Эта красота разрывает мне сердце!
— Пока вокруг свирепствует чума, у всех, кроме разве что могильщиков, предостаточно свободного времени, — заметил я.
Юноша энергично мотнул головой.
— Я вовсе не прохлаждаюсь. Мне нужно закончить работу, чтобы вернуться в Римини и скрыться от этой безжалостной чумы. От нее нет спасения, и приходится ждать, пока она сама не пройдет. Меня зовут Лоренцо, — представился он.
— У меня есть младший брат по имени Лоренцо. А я Козимо, — ответил мальчик, вдруг заговорив надменно и рассудительно, и этот трюк ему неплохо удался.
— А я Лука Бастардо, — добавил я. — Вы художник, Лоренцо, раз так чувствительны к красоте?
— Я ювелир, но… еще и рисую, — скромно ответил он, покраснев до ушей. — Я давно мечтаю создать скульптурные двери, которые могли бы сравниться с работой Пизано и добавить блеска Флоренции!
— И что бы вы изобразили? — спросил я. — Какие сцены?
— Да что угодно, что будет предложено для дверей. — Он отмахнулся от моего вопроса. — Дело скорее не в том, что бы я сделал, а как. Я бы изобразил сцены, на которых фигуры одновременно грациозные и живые, в струящихся одеждах. Видите, сколько покоя в работе Андреа Пизано? Мои фигуры были бы полны движения, из них бы лилась жизнь! Я бы заполнил пространство, но в то же время сделал его важным элементом композиции…
Он стоял перед гладкой дверью, размахивая руками, как будто уже создавал свои бронзовые двери, похожие на замысел Пизано, но гораздо более волнующие и совершенные. Это был обман света или сказывалось смятение от всколыхнувшихся во мне воспоминаний о ночи философского камня, но на мгновение я почти увидел двери Лоренцо: двадцать восемь рельефов — верхние двадцать изображают жизнь Иисуса, и на самой первой в верхнем ряду несение креста… Потом я моргнул, и образ исчез, остались только амбициозный молодой художник, который разглагольствовал о своем искусстве, и еще более амбициозный мальчишка, который слушал его разинув рот.
— Может быть, вы и сделаете такие двери, — сказал я, — раз уж у вас столько идей.
— Да как, как такое может со мной случиться? — воскликнул он, ударив себя кулаком в грудь. — Я никому не известный ювелир. Никто во Флоренции не знает моего имени. Если кто-то и получит разрешение украсить эти двери, то это будет какой-нибудь знаменитый мастер!
— Никогда не знаешь, что уготовила тебе судьба. Яркие мечты имеют обыкновение сбываться, а ваша мечта очень яркая. — Я пожал плечами. — Возможно, будет объявлен конкурс на создание новых дверей, и вы его выиграете. Бога бы это позабавило.
— Конкурс? Вот это интересно! — воскликнул Козимо, закрыл рот руками и выпятил грудь, точно взрослый. — У моего отца есть хорошие друзья в гильдии Калимала, которая содержит Баптистерий. Я поговорю с ним об этом!
Лоренцо провел рукой по редеющим волосам.
— Заказ? Сейчас? Когда Милан лает в наши ворота, как бешеная собака, и черная смерть губит горожан? Да разве гильдия Калимала станет тратить деньги в такое время?
— Может быть, не прямо сейчас, — задумчиво произнес Козимо и стал в позу взрослого человека: положил локоть на солнечное сплетение и подпер подбородок ладонью, как будто погрузившись в размышления. — Но я все-таки поговорю с отцом. Он ведь ко мне прислушивается.
— Уверен, что прислушивается, — ответил Лоренцо без тени усмешки.
Козимо производил на людей сильное впечатление. Уже ребенком он обладал сдержанностью, благодаря которой его принимали всерьез. И позднее мне суждено было увидеть, как, повзрослев, он использовал свою непревзойденную серьезность еще более умело.
— Искусство во Флоренции всегда было предметом гордости граждан, — добавил я. — Деньги, потраченные гильдией, были бы потрачены с умом, чтобы воодушевить и поднять дух города перед лицом опасности. Они бы сплотили всю Флоренцию.
— Что верно, то верно, искусство — это душа Флоренции, — согласился Лоренцо.
— Искусство и деньги, — поправил его я, и он ответил сардонической ухмылкой, которую я повторил вслед за ним.
— Искусство, деньги и народ Флоренции, — поправил нас обоих Козимо, стерев с наших лиц маски цинизма.
Разумеется, величие Флоренции кроется в ее индженьо, в творческом духе горожан, и именно эти качества воплощали в себе искусство и деньги внутри ее крепких каменных стен.
— Устами младенца глаголет истина… Я должен вернуться в мастерскую. Кому-то еще нужны золотые броши и ожерелья, даже когда красоту сжирают бубоны, — вздохнул Лоренцо. — Чтобы и в гробу производить должное впечатление на соседей.
— Не забывай о своей мечте, Лоренцо…
— Гиберти. Лоренцо Гиберти,[500] — сказал он, и я кивнул.
— Такие мечты могут вдохновить на великие свершения, — сказал я. — Мечты и видения — это милость насмешника Бога, особенно мечты и видения о красоте!
— Она может вдохновить тебя на создание ворот Рая![501] — громко проговорил Козимо.
— Если будет так, юный Козимо, то я буду считать себя трижды благословленным человеком! Для меня большая радость — встреча с вами обоими!
Он учтиво поклонился и отправился в сторону реки Арно.
— Козимо, Козимо! — раздался голос. — Сын, где ты пропадал?
К нам подбежал коренастый мужчина в оранжево-зеленом лукко из лучшей ткани. Его окружали десятки людей: слуги, кондотьеры, офицеры и священники. Лицо его от тревоги осунулось, но стоило ему подхватить мальчика на руки, как все беспокойство растаяло и скрытые под капюшоном глаза смягчились.
— Мы боялись, что тебя похитили разбойники. Один из слуг видел, как тебя схватили…
— За мной гнались бандиты, но этот человек меня спас! — воскликнул Козимо и крепко обнял отца за шею.
Отец выглянул из-за плеча сына и внимательно посмотрел на меня с облегчением и благодарностью.
— Двое злодеев схватили меня, потащили и бросили в свою повозку, чтобы вывезти из города, но я одного укусил, и выпрыгнул из повозки, и бросился бегом, хотя болели ушибленные коленки, а они гнались за мной! Они были такие огромные и чумазые! А этот человек убил их, и я так обрадовался! Они заслужили смерть, потому что хотели причинить мне зло! Так страшно было, папа, но я старался быть храбрым!
— Я в этом не сомневаюсь, Козимо, сыночек! — прошептал отец.
Опустив мальчика на землю, он погладил светло-русые волосы и серьезно посмотрел на меня. У него был большой нос и крепкий подбородок, но привлекательность его заключалась в задумчивой величавости, полной достоинства, которую он передал своему сыну. Мужчина сказал:
— Я в огромном долгу перед вами, синьор. Мое имя Джованни ди Бичи де Медичи. Только скажите, и я к вашим услугам!
Я отрицательно покачал головой.
— Вы ничего мне не должны. Любой бы помог попавшему в беду ребенку. А ваш сын очень храбрый мальчик, синьор. Возможно, вы захотите послать кого-то, чтобы убрать тела и избежать недоразумений. Я имею в виду мою причастность к их смерти.
— Я сделаю все, чтобы у вас не было неприятностей из-за большой услуги, которую вы оказали мне и моему сыну, — ответил он и, слегка прищурившись, пытливо посмотрел на меня. — Ваше лицо мне почему-то знакомо. Можно узнать ваше имя?
— Папа, давай пойдем и по дороге поговорим с ним, — предложил Козимо высоким звонким голосом.
Джованни ди Бичи де Медичи посмотрел на сына, а Козимо многозначительно посмотрел на людей, которые от любопытства едва сдерживались, чтобы не подойти к нам вплотную. Их было много, и все возбужденно шептались, дожидаясь с едва скрываемым льстивым рвением возможности поздравить отца с благополучным возвращением сына. Козимо снова глянул на отца, и они без слов поняли друг друга. Отец взял сына за руку, похлопал по ладони и крепко сжал.
— Пойдемте, синьор, прогуляемся с моим сыном, — как бы между прочим предложил отец, обернулся и властно махнул свободной рукой. — Мы трое пойдем пешком!
По толпе пробежал свистящий шепот разочарования, и множество пытливых глаз впились в меня, как пиявки. Я вздрогнул и поплотнее завернулся в плащ, несмотря на то что солнце в этот поздний летний или ранний осенний день стояло еще высоко и согревало теплом.
— Сюда, — указал Джованни.
Он крепко держал сына за руку и повел нас прочь от Баптистерия к до сих пор не завершенной Санта Мария дель Фьоре, украшенной вычурными геометрическими и цветочными узорами из зеленого, белого и красного мрамора. Я потянул осла за веревку, тот заревел, но подчинился, и мы пошли. Джованни пробормотал:
— Надо уже наконец поставить купол на этот огромный собор! — Он вытер ладонью резко очерченное лицо. — Не годится, чтобы самый прекрасный и почитаемый храм в Тоскане выглядел словно руины. Так не пойдет!
— Надо устроить конкурс, пап, и найти мастера, который сумеет построить купол, — предложил Козимо. — Но сначала конкурс на новые двери Баптистерия.
— Конкурс, говоришь, молодой человек? — улыбнулся Джованни и ущипнул сына за нос. — Неплохая идея. — Он обернулся ко мне. — Синьор, с вашим именем какие-то проблемы?
— Мое имя меня вполне устраивает.
— Могли быть проблемы, — обеспокоенно возразил Козимо. — Папа, моего друга зовут Лука Бастардо!
Джованни взглянул на меня, и суровые морщины между густых бровей стали глубже. Он поджал губы и медленно кивнул.
— Ваше имя упоминалось при мне в такой связи, что я бы на вашем месте встревожился. Но еще я видел это имя в записях регулярных вкладов в мой фамильный банк. Вы благоразумный человек, Бастардо, разумно распоряжаетесь своими деньгами и копите их уже столько лет.
— Не такой уж и благоразумный, раз сумел нажить врагов, — сухо ответил я.
Осел Странника остановился и громко заревел, отказываясь двигаться с места. Я вернулся и хлопнул его по крупу, подталкивая вперед. Негодная скотина клацнула зубами, как будто хотела цапнуть, и я хлопнул его еще раз сильнее. Осел нехотя потащился дальше. Осеннее солнце светило с бескрайнего лазурного неба, и моя тень съежилась до крошечной чернильной кляксы у ног. Я снял плащ, свернул его и запихнул в сумку, привязанную к ослу.
— Братство Красного пера только и мечтает, чтобы вы попали ему в лапы, — безрадостно произнес Джованни. — Возможно, ваше благоразумие заставит вас поскорее покинуть город.
— Меня и так уже долго не было, но я ведь флорентиец!
— Я и сам не люблю покидать город больше чем на две недели, — признался Джованни. — И мне не нравится общество, основанное на суевериях, страхе и пытках. Флорентийцы могли бы найти занятие и поприбыльнее. Но вы должны понимать, что церковь благоволит Красному перу. С первого появления черной смерти церковь благосклонно смотрит на флагеллантов, которые терзают себя в надежде искупить все грехи, за которые Бог нас так жестоко покарал. И с каждой новой эпидемией таких кающихся становится все больше. А церковь относится с благоволением к тем набожным людям, которые трудятся во славу Божию, выпалывая плевелы греха и сатанизма. Братство Красного пера надеется получить папскую буллу,[502] которая объявит их орудием Инквизиции и предоставит им неограниченное право на гонения, подобно тому как булла Папы Александра IV сто пятьдесят лет тому назад разрешила применить любые пытки в отношении подозреваемых в ереси, при условии, что там будут присутствовать по меньшей мере два священника, которые затем отпустят друг другу грехи, даже совершив самые дьявольские надругательства над телом. А ваше имя у них одно из самых упоминаемых!
— Я знаю, как скрыться на улицах Флоренции, — упрямо возразил я.
— Я тоже кое-что знаю об улицах Флоренции, у меня контора рядом со Старым рынком, — ответил Джованни. — На улицах Флоренции за флорин можно купить все, что угодно, особенно информацию о местонахождении недруга. А у тебя есть непримиримый враг в лице Доменико Сильвано и его безжалостного старика-отца Николо. Очень неприятные типы, обманывали меня не раз, зато ходят в друзьях у влиятельных господ. Даже мне не раз приходилось молча терпеть их мошенничества и нести убытки.
Он остановился перед входом в Санта Мария дель Фьоре и, опустив глаза, посмотрел на своего сына, который, не смутившись, ответил на его взгляд. Обернувшись, он посмотрел на кучку слуг, которые следовали за нами на расстоянии, надеясь привлечь его внимание и благосклонность. Затем Джованни перевел взгляд на меня и расстроенно хмыкнул.
— Правда ли, что вам так много лет, Бастардо? По нашим записям, ваши вклады начались еще тридцать лет назад, а на вид вы так молоды! — Я промолчал, но не отвел взгляда, и в следующее мгновение Джованни покачал головой. — Наверное, мне лучше не знать, если теперь я у вас в долгу за спасение сына, а вы не желаете держаться подальше от греха. Какие же бедовые люди были ваши родители, если родили такого безрассудного сына!
— Я никогда не знал своих родителей, но знаю, что все Сильвано негодяи до мозга костей.
— Я и сам их не люблю, — признался Джованни, на его лице прочиталось отвращение. — Не только потому, что они нарушали условия сделки. У Николо было пять жен, и все знают, что он забивал их до смерти, когда они ему надоедали. Доменико — сын от второй жены и, по слухам, унаследовал отцовские вкусы… Но они богаты, у них хорошие связи, и приходится с ними считаться. — Он помолчал и посмотрел мне прямо в глаза, не мигая. — Синьор, вы правда колдун, как говорят?
— Я человек неизвестного происхождения и по непонятной причине долгие годы остаюсь молодым, — осторожно ответил я, но будучи уверен в том, что не по годам мудрый Козимо убедит отца не предавать меня. Мальчик и вправду кивнул.
— Папа, он хороший человек. Он спас меня, пошел один против двоих здоровенных громил! — взволнованно воскликнул Козимо. — Он убил их не колдовством, а просто оказался гораздо умнее их и ловко обращается с ножом!
— Ах, Козимо! — Джованни прижал голову сына к груди и закрыл глаза. — Я так беспокоился за тебя. При других обстоятельствах, Бастардо, я был бы так же встревожен вашей странностью, как и озадачен. Но вы вернули мне сына целым и невредимым… Я просто обязан еще раз настоятельно посоветовать вам покинуть Флоренцию. Говорят, Доменико скоро получит должность гонфалоньера. Сталкиваться с ним было бы неосторожно. Флорентийцы не забывают друзей, но еще лучше помнят врагов.
— Я не скажу ему, что мы знакомы, если вы не скажете, — ответил я.
Джованни приподнял уголок рта в ироничной улыбке.
— Что скажешь, сын? Как мы поступим с твоим упрямым спасителем? — спросил Джованни и сжал мальчика за плечо, спрашивая совета.
На мгновение я почувствовал зависть, глядя на этих двоих, и вовсе не из-за их богатства. У Джованни был необыкновенный сын, которым можно было гордиться, а у Козимо — любящий отец, который его ценил. Ничего подобного в моей жизни никогда не было. Тесные узы, которые их соединяли, заставили меня задуматься о себе, о своем одиночестве во Флоренции и во всем мире. Будет ли у меня ребенок от женщины из видения? Давняя мечта о собственной семье вновь встрепенулась в сердце птицей и забила крыльями. Я решил больше не растрачивать понапрасну отпущенное мне время, а жить так, чтобы заслужить свою жену и ребенка, даже если это будет не во Флоренции. Я не хотел, чтобы моя мечта и вновь окрепшие стремления угасли.
— Я знаю, как мы поступим. Поможем ему уехать из города, когда за ним начнет охотиться Красное перо, и позаботимся о его деньгах, чтобы у него было их предостаточно, когда бы они ему ни понадобились, — не задумываясь ответил Козимо, вновь удивив нас своей проницательностью. — Пошлем письма во все наши отделения, чтобы он мог получить деньги везде и без лишних вопросов!
— Вот, пожалуйста, вам и план, Бастардо! Превосходный план от моего превосходного сына! Козимо, сыночек, позволь мне внести в твой план одно добавление — давай пригласим твоего друга отужинать с нами? От разговоров мне захотелось есть, да и ты, наверное, после таких испытаний проголодался! И Лука тоже, после такой грязной работы, когда он расправился с негодяями. Это самое малое, что мы можем сделать, дабы выразить ему свою благодарность!
— О да, папа, давай позовем его на ужин! — Козимо захлопал в ладоши. — С ним так интересно, ты должен послушать, как он говорит о Джотто!
Джованни с улыбкой повернулся ко мне, вопросительно подняв бровь.
— Почту за честь, — ответил я и поклонился. — И раз уж вы так любезны, синьор, могу я попросить об одолжении…
— Все, что пожелаешь! — пообещал Джованни.
— Поставьте в стойло этого осла, — попросил я и вложил уздечку строптивого осла в руку одного из самых богатых и влиятельных людей Флоренции.
На улицу я снова вышел уже под вечер и на этот раз без проклятого осла. Небо приобретало оттенок роскошной синевы с розовой каемкой, как пышная мантия. В животе у меня не пустовало после изобильного пиршества: свежие зеленые дыни, равиоли в чесночном бульоне, лазанья, жареная цесарка в красном соусе с корицей, известном как savore sanguino;[503] телятина, обильно сдобренная пряностями, лук-порей и свекла под соусом. Мне подали лучший рыхлый, нежнейший сыр из козьего молока и пирог с рыбой, приправленный оливковым маслом, апельсиновым и лимонным соком, перцем, солью, гвоздикой, мускатным орехом, петрушкой, винными ягодами, изюмом и лавровым листом. На десерт был подан рис, запеченный в миндальном молоке и подслащенный медом, желе из миндального молока, подкрашенное шафраном и выполненное в виде маленьких осликов (Козимо шутки ради заказал повару приготовить и его в такой форме). Мы ужинали в узком кругу, по-семейному, за столом на трех ножках у распахнутых в сад дверей, в которые залетал приятный ветерок клонящегося к закату дня и проникали медовые лучи солнца. Мы сидели на крышках сундуков, и в дальнем углу для нас негромко играли музыканты. Джованни предлагал мне остаться на ночь, но я не хотел принести в их дом неприятности и сказал, что довольно и того, что он приютил моего осла. Итак, я снова отправился на поиски гостиницы, где еще принимают постояльцев. Если не найду, то лягу спать под мостом, решил я. Я пока еще не забыл, как это делается. За последние сорок лет мне доводилось ночевать в местах и похуже, чем берег серебристого Арно. Где бы ни пришлось мне сегодня заночевать, главное — я был сыт, и я довольно похлопал себя по брюху.
Вдруг до меня донесся крик птицы, и я сперва удивился, а потом понял, что этого не может быть. Это была не птица, в это время суток птицу не услышишь, да и звучал крик как-то не так. Это свистнули. Кому-то подавая знак, стараясь не выдать себя. Я резко обернулся, но никого не увидел. Но я почувствовал угрозу. На затылке зашевелились волосы, мурашки побежали по телу, мышцы напряглись, и мне захотелось схватиться за меч. Навострив уши, я двинулся дальше, резко свернув в ближайший переулок. Слева от меня послышался шум. Я прибавил шагу, и тот, кто следовал за мной, тоже двинулся быстрее. Я услышал справа чей-то топот. Я оглянулся, но никого не увидел. Небо становилось темно-синим, но городские фонари еще не горели, по булыжной мостовой протянулись иссиня-черные тени, не давая ничего разглядеть. Я пустился рысью и начал петлять по кривым улочкам, ныряя под каменные арки, между высокими зданиями, мимо недостроенных палаццо и старых прохудившихся лачуг, готовых под снос.
Шаги за спиной стучали все быстрее, все ближе, и уже это была не одна пара ног. Я свернул за угол. Два силуэта в плащах темнели посреди улицы, очерченные рыжим пламенем факелов в бронзовых держателях на серой стене каменного здания. В руках у них были обнаженные мечи. Я быстро повернул назад и метнулся к перекрестку. С другой стороны ко мне приближались еще трое мужчин. Я развернулся, ища какой-нибудь переулок, тропинку — хоть что-нибудь. Я был недалеко от старого Палаццо дель Капитано дель Пополо и помчался на север мимо него, к Арно. Я выскочил на площадь у Палаццо делла Синьория. Там меня поджидали шестеро в плащах, они встали полукругом, а трое догоняли меня сзади, и еще двое бежали слева, загоняя меня в ловушку.
— Ты человек по имени Лука Бастардо? — раздался в темноте зычный оклик.
— А кому до этого есть дело? — переспросил я и полез за кинжалом у бедра.
Двое схватили меня сзади и, не церемонясь, вырвали у меня кинжал. Один из них обхватил меня за пояс и отстегнул меч. Я остался без оружия. Они вцепились в меня с двух сторон, и из темноты, накрывшей улицы, вышли остальные люди в плащах.
— Мне, — ответил сварливый и ноющий старческий голос. К нему из полукруга вышли факелоносцы, и, когда лицо незнакомца озарил желтоватый свет, он опустил капюшон. Если бы я не узнал его по глумливому гнусавому голосу, то вмиг узнал бы это лицо, несмотря на то что оно постарело. Глубокие морщины и обвислая кожа не могли скрыть выдающийся подбородок, острый крючковатый нос. Черты отца, повторившиеся на лице сына. Передо мной стоял довольный Николо Сильвано.
— Я утверждаю, что ты Лука Бастардо и ты колдун, который поклоняется сатане и пользуется черной магией, чтобы обмануть время и смерть!
— Я преследовал Луку Бастардо тридцать лет, и я говорю, что ты и есть этот человек и ты нисколько не изменился с тех пор, как я был ребенком, — провозгласил другой голос, и поднятые высоко факелы осветили суровое лицо Доменико Сильвано.
У меня перехватило дыхание, и от страха в животе образовалась холодная пустота.
— Я заявляю, что только колдовство могло так хорошо сохранить тебе молодость! Ты используешь дьявольскую магию, чтобы продлить себе жизнь, а за твой грех кара Божья пала на всю Флоренцию!
Я хотел было ответить, но, когда открыл рот, человек справа изо всей силы ударил меня под дых, и я скрючился от боли.
— Видите, он даже не отрицает! — воскликнул Доменико и оглядел собравшихся вокруг людей. — У нас нет времени, чтобы подвергнуть этого колдуна пыткам на дыбе или колесе, дабы получить от него признание. Надо немедленно действовать. Пора очистить наш город от нашествия зла! Связать его и приготовить костер!
Меня стиснуло множество рук. Кто-то пнул меня под коленки, я упал, и меня поволокли вперед. Штаны порвались о булыжники, и я застонал, когда кожа на разбитых коленях пошла кровавыми полосами. До меня доносился скрежет бревен о землю, а когда люди на короткий миг расступились, я увидел, как на площади Синьории складывают дрова. Один столб, обвязав веревкой, подняли и поставили вертикально четверо или пятеро человек. С десяток мужчин сколачивали подмостки, и не прошло нескольких минут, как все было готово для казни. Меня силком поставили на ноги, все плевали в меня, били и рвали на мне одежду. Я скорее услышал, чем почувствовал, как хрустнуло два ребра, хотя не знаю, как мне удалось это расслышать среди криков «Колдун!» и «Посланец дьявола!». Оборванного и окровавленного, меня поставили к столбу. Плечи и грудь стянули толстой веревкой.
Разъяренная толпа вокруг меня расступилась, и ко мне приковылял старик Николо Сильвано. Он оскалился, обнажив беззубые десны, но ничего не сказал, пока не приблизился ко мне вплотную.
— Я знал, что этот день настанет, Бастардо. Вспомни о моем отце, когда огонь начнет лизать твои пятки, а потом станет поджаривать твои яйца и наконец сожрет тебя с потрохами! Это справедливое наказание за поджог дворца, который принадлежал мне по праву! — Он придвинулся ближе, обдав меня зловонным дыханием. — И вспомни прекрасную Кьяру Иуди! Она созналась, что любила тебя. Это были ее последние слова, — хихикнул он. — Только она уже не была прекрасной, после того как я разделался с нею ножом. Она получила лицо, какое заслуживала за то, что спала с такой швалью, как ты!
Глаза мои заволокла красная пелена, а затем всколыхнулось давнее холодное и чистое, как слеза, желание: убить Николо. За последние сорок лет, пока я предавался путешествиям и забавам, это простое желание было оттеснено в дальний уголок моей памяти, но оно никуда не исчезло. Оно рассеяло пелену, и вдруг во мне не осталось ни пыла, ни желания, вообще никаких чувств. Я просто стоял, привязанный к колу, и в душе у меня жило одно лишь желание — убить его.
— Я убью тебя, — пообещал я, — даже если для этого мне придется вернуться из ада. Я должен был убить тебя еще тогда, когда ты корчился над трупом своего отца. — И я плюнул ему в лицо.
Николо взвыл и отпрянул.
— Сжечь его! — выкрикнул он. — На медленном огне, чтобы он помучился!
Он отступил назад и захохотал, как безумец. Ноги мои выше колен утопали в куче хвороста. Под одобрительное улюлюканье толпы ко мне подошел человек с факелом. Он отдал факел Доменико Сильвано, тот облизнулся и улыбнулся мне.
И вдруг из ночного мрака грянула песня, словно обрели голос камни мостовой: «И любила она мой о-огро-омны-ый конек, и ни-и-когда не отказывала мне!» Это был целый хор сиплых пьяных голосов с сильным акцентом, который выдавал в них чужестранцев. Люди вокруг меня оцепенели, затем начали оборачиваться. Через просвет между их головами я увидел группу кондотьеров, которые, пьяно шатаясь из стороны в сторону, приближались, подпирая друг друга, чтобы не упасть. Я мало что разглядел, но в свете факелов различил, что они одеты в цвета наемных солдат с севера.
— Эге, да тут веселятся! — прохрипел кто-то.
Раздался требовательный ослиный рев, и я увидел в заднем ряду наемника, ведущего на веревке упрямое животное.
— Может, и нас примете в свою компанию? — проорал другой кондотьер.
— Вон отсюда! — крикнул Доменико Сильвано и махнул факелом. — Тут вам не веселье. Это наше дело, и вас оно не касается!
— А мы любим повеселиться! Где у вас женщины? Мы пошлем за ними! Если не найдем женщин, сойдут и эти флорентийские овечки! — прокричал в ответ последний кондотьер, и его товарищи весело загоготали.
Кондотьер выпустил веревку и изо всей силы хлопнул по заду осла. Тот взбрыкнул и ринулся вперед, клацая зубами, лягаясь и вызвав смятение в толпе.
— Ослик, ослик, ловите моего ослика! — завопил другой голос. — Черт подери, ты же обещал, что не выпустишь его, Ганс, ах ты подлюга!
Я услышал звук вынимаемого из ножен меча, и кондотьер, объявивший себя хозяином осла, прыгнул на несчастного Ганса в конце толпы. Ганс в ответ тоже выхватил меч, и разразилась отчаянная схватка. Третий кондотьер заорал:
— Я поймаю осла, поймаю! У него ножки, как у сестрицы Карла, а у нее хорошенький зад, жаль только, что ослиная морда симпатичнее! Хотя какая разница, если брать ее сзади!
С этими словами один из кондотьеров оторвался от группы и бросился к толпе следом за ослом.
— Эй, что ты там сказал про мою сестру? — прокричал еще один кондотьер, очевидно, Карл. — Да я тебе сейчас сердце вырежу, если ты украл ее цветочек!
Он тоже выхватил меч и ринулся в толпу за кондотьером, который ловил осла. Ну и тут началась невообразимая буча. Кондотьеры, обнажив мечи, с криками и воплями стали гоняться друг за другом в толпе, которая окружала меня. Осел ревел и визжал, расшвыривая народ копытами и цапая зубами. Отряд Николо Сильвано в смятении отступил, не зная, как остановить схватку.
Доменико ругнулся и отступил со своим факелом.
— Отойдите, назад, назад, прочь! — крикнул он, размахивая факелом.
Ему пришлось затушить его, потому что орущие наемники были повсюду. Они перемешались с его людьми, а в темноте было почти невозможно угодить пылающим факелом в цель. Кондотьер, гнавшийся за ослом, подскочил ко мне и выхватил меч, будто бы отражая удары Карла. Двое начали драться прямо у меня под носом, выплясывая вокруг меня и размахивая мечами, так что моим чуть было не состоявшимся палачам пришлось отступить в сторону. Они осыпали друг друга отборной бранью, проклиная родню противника до пятого колена, поминая гениталии и жен, и прочее и прочее самыми срамными словами. Кондотьеры наскочили на факелоносцев, и факелы попадали на землю, брызнули пламенем и потухли. Тьма обволокла нас еще плотнее. Карл, рослый светловолосый мужчина, мне подмигнул. Не глядя, он разрубил связывавшие меня веревки. Его меч двигался так проворно, что никто ничего не заметил, как будто удара, освободившего меня, и не было вовсе. Тем временем он продолжал выкрикивать ругательства:
— Стефан, дряблый член, твоя мамаша еще пострашнее твоей сестрицы, чего ты так переполошился? Только не говори, что не пробовал ее! Пока я до нее добрался, она и так уже была подпорченная!
Не дожидаясь специального приглашения, я отскочил от столба, перепрыгнул через дрова, один из кондотьеров уже поджидал меня и вручил сверток с одеждой.
— Надевай! — коротко крикнул он и заслонил меня собой, чтобы факел Доменико не осветил мое лицо.
Кондотьеры горланили мою песню о пышногрудой неаполитанской красотке, а сами тем временем размахивали мечами, не подпуская ко мне людей Николо. Я развернул плащ, и он оказался цвета одежды иностранных наемников. Я быстро накинул его на себя и надел на голову капюшон, низко опустив его на лоб. Ко мне подбежал осел, а за ним кондотьер, набросившийся на меня с пьяными объятиями.
— Ах, Фридрих, я не хотел тебя обидеть, ты ж хороший малый! Кто ж, если не ты, прикрывал мне спину, когда мы дрались с этими блохастыми, вшивыми миланцами! — Он украдкой сунул мне короткий клинок и поднял голову, настойчиво впившись мне в глаза. — Не пускай его в ход! — прошептал он без всякого акцента. — Он нужен для виду!
Я было начал возражать, но он опять забормотал свои извинения, и вдруг все кондотьеры принялись обниматься и извиняться друг перед другом, и я понял, что надо делать. Я обнял кондотьера за плечи, уткнулся ему в грудь головой, так что не видно было моего лица, делая вид, что принимаю его извинения и сам извиняюсь перед ним. Другой рукой я схватил уздечку осла. Люди Николо между тем призывали друг друга поскорее зажечь погасшие факелы, а я, на заплетающихся ногах, изображая пьяного, стал выбираться из толпы, крепко прижимаясь лицом к мускулистому плечу пространно извиняющегося кондотьера. Один факел уже подняли с земли и зажгли от него факел Доменико. Из-под надвинутого капюшона я краем глаза увидел в нескольких шагах от себя Николо. Хотя мне и не надо было его видеть: я бы почувствовал его присутствие с закрытыми глазами — холодное, пустое присутствие зла. У меня тело покрылось гусиной кожей, пальцы зачесались от нестерпимого желания вонзить свой клинок в Николо, залить его кровью всю площадь, на которой меня только что хотели заживо сжечь. Кондотьер почувствовал, как я напрягся, и ущипнул за сломанное ребро рукой, которой обнимал меня за пояс, не переставая рассыпаться в слезных извинениях. Николо, наверное, тоже меня почувствовал, потому что оглянулся на нашу парочку — меня и слезливо объясняющегося со мной кондотьера. Он ничего не сказал, хотя подозрительно нахмурился, и мое сердце застучало так громко, что мне казалось, он услышал. Мы прошли мимо прямо у него перед носом, провожаемые его пристальным взглядом.
Несколько шагов, и мы присоединились к остальным. Все взялись за руки. Один из кондотьеров выхватил у меня веревку осла, а другой завопил:
— Эй, я знаю, где идет настоящее веселье! У них самые лакомые девицы в городе… По крайней мере, почти у всех хотя бы зубы на месте… А некоторые даже не похожи на бабку Карла, зато с ними весело!
— Пошли, ребята! Люблю повеселиться в компании! — отозвался другой кондотьер, и вся группа пустилась рысью, а осел зацокал следом.
И вот уже мы бежим прочь от Синьории к Арно. Спустя секунду мы услышали яростные крики с площади.
— Игра окончена, — сказал мне голубоглазый кондотьер. — Пошли со мной!
И он побежал в другую сторону, отделившись от остальных кондотьеров, которые направились к Понте Веккьо. Я помчался следом, и мы бежали на запад вдоль реки к Понте Каррайя. Мы добрались до моста, но вместо того, чтобы перейти его, кондотьер повел меня к воде, где нас ждали два человека с лодкой. Лодка покачивалась на колышущейся поверхности реки, тронутой лунным светом. Один из поджидавших нас был гораздо ниже другого.
— Козимо! — выдохнул я, когда мы с кондотьером поравнялись с ними. — Ты переврал мелодию!
Козимо опустил капюшон накидки.
— Верно, ты же делал ударение на «огромный», а не на «конек», — кивнул он и улыбнулся.
Я потрепал его по волосам.
— В лодке деньги и оружие, — сказал Джованни ди Бичи де Медичи. — Мой человек Альберто вывезет тебя из города и прикроет на случай, если ты наткнешься на городской патруль, который начнет спрашивать, что ты делаешь на улице в неурочный час. Я распоряжусь о том, чтобы ты мог брать деньги у любого из моих агентов и в любом отделении по всему свету.
— Я так благодарен вам за помощь, синьор, — ответил я. — И тебе тоже, Козимо. Это ты придумал план, как освободить меня?
— Отчасти, — радостно кивнул мальчик, а его отец с гордой улыбкой положил руку сыну на плечо. — Ты мой друг, я же сказал. Если бы мы тебе не помогли, плохо бы тебе пришлось этой ночью!
— Если бы мы вовремя не подоспели, он бы превратился в жаркое, — мрачно сказал Альберто. — Они привязали его к столбу и уже поджигали трут, когда мы пришли.
— Очень вовремя, — заметил я.
Альберто и Джованни кивнули.
— Ты вернул мне сына целым и невредимым, — сказал Джованни. — Я этого не забуду и всегда буду помогать тебе, если потребуется. Но сейчас, Лука Бастардо, пора тебе покинуть Флоренцию, и советую тебе…
— Знаю, — сказал я, — никогда не возвращаться. Итак, я сел с Альберто в лодку, и мы в полночь уплыли из города, который я так любил. И мои стремления, и мои желания почти угасли.
ГЛАВА 16
— Я хочу войти, но боюсь, — произнес мальчик мелодичным голосом.
Он стоял, согнувшись и оперевшись рукой на колено, и, когда запрокинул вверх свою златовласую головку, чтобы взглянуть на меня, я впервые увидел его дивное лицо. Он был потрясающе красив, и мной чуть не овладело судорожное воспоминание, точнее кошмарная мысль о том, что Сильвано был бы не прочь заполучить такого мальчика к себе в публичный дом. Я так и видел, как Бернардо Сильвано с острым, как нож, носом и торчащим подбородком восхищенно кладет испещренную венами руку на голову мальчика, радуясь, сколько денег принесет ему такое сокровище. Я помотал головой, прогоняя эти ненужные мысли, и снова сосредоточился на мальчике. Он был даже еще красивее меня. Вовсе не тщеславие, а простое наблюдение привело меня к выводу, что я не встречал лица прекраснее своего до того самого момента, когда увидел этого тонкого, изящного мальчика одиннадцати или двенадцати лет. Даже сейчас, спустя много лет, красота и гениальность, дарованные Леонардо, поражают меня и в то же время успокаивают в этой тесной камере, где я, увечный калека, жду своей казни. Но этого не произойдет еще несколько десятилетий, пока ужасная трагедия не отнимет у меня волю к жизни. А тогда, давно, я все еще был Лукой Бастардо, мальчишкой с улицы, в прошлом шлюхой из публичного дома, а ныне опытным врачом, вечным путешественником, неугомонным искателем богатства и неутомимым любителем красивых женщин, который в очередную эпидемию чумы позволил себе осторожное возвращение во Флоренцию, по зову покровителя, который защищал меня еще шестьдесят лет. Возвращаясь сюда, я рисковал жизнью, но не мог отказать человеку, который столько времени берег мои тайны и деньги.
Сначала я приехал в Анкьяно, недалеко от Винчи, чтобы навестить виноградник, завещанный мне больше ста лет назад рыжебородым толстяком Арнольфо Джинори, с которым я работал могильщиком во время первой эпидемии чумы. В такой приятный денек я не удержался от прогулки по горе Монте-Альбано, которая одним боком спускалась к бассейну Арно и Флоренции, а другим вздымалась к скалистым вершинам с таинственными пещерами, холодными источниками и тяжелыми валунами. Вот так, прогуливаясь, я наткнулся на мальчика, который сейчас вновь повернулся к входу в пещеру, заслоняясь рукой от летнего солнца, палящие лучи которого частично поглощали и частично отражали каменистая осыпь и нависающие над головой скалы.
— Чего ты испугался? — спросил я мальчика и опустился возле него на колени.
— Там темно и страшно, — ответил мальчик и вдруг тоже сел рядом со мной.
— Зато там, наверное, столько интересного!
— Да, да! — воскликнул он. — Я хочу посмотреть, есть ли там что-нибудь интересное!
— Вот так задачка, не правда ли? Набраться смелости и шагнуть в темноту, которая зловеще смыкается вокруг, чтобы найти скрытые в ней чудеса? А может, там и нет ничего интересного? Вдруг там живет кто-то страшный и опасный или вообще ничего нет, одна пустота? Как же тут быть? — спросил я, сорвал несколько травинок и разорвал в длинные ниточки. — Тени очень нужны. Они придают глубину свету.
Мальчик повернулся ко мне лицом, поджав розовые лепестки губ и нахмурив брови.
— Ты говоришь не просто о пещере, — тихо произнес он и повертел пальцем золотистый локон. — Вопрос в том, говоришь ты обо мне или о себе?
— Да он не только красив, но еще и умен! — рассмеялся я.
Мальчик подхватил мой смех, и его звонкая трель разнеслась вокруг такой светлой радостью, как будто солнце вышло из-за тучи. Я не мог отвести от него взгляд, изумленный его красотой и мелодичным голосом. Он словно сошел с одной из фресок Джотто.
— Ты тоже красивый, — сказал мальчик, пристально глядя на меня большими, широко расставленными глазами на идеально вылепленном лице. — Самый красивый человек, какого я когда-либо видел. У тебя такое лицо, какое любой художник захотел бы увековечить на чудесной фреске в церкви. Но ты не просто красив, ты живой, словно у тебя много разных лиц. Мне нравятся такие лица, они интересны независимо от того, красивы они или уродливы. Скажите, синьор, вы согласились бы изменить свою внешность? Вы благодарны своим родителям за такую красоту? И как это повлияло на вашу жизнь? Вы смогли благодаря красоте найти больше любви? Это для вас проклятие или благословение?
Я перевел взгляд с мальчика на темную пещеру.
— И то и другое.
Этот мальчик задавал вопросы, затрагивающие такие глубины, в которых таилось то, чего я еще для себя не решил. Опасность, которая исходила от клана Сильвано, шестьдесят долгих лет не пускала меня во Флоренцию, но, стоило мне вернуться, появились вопросы. Почему-то каменный тосканский город, где я родился, всегда заставлял меня оборотиться на себя. Он бросил меня в темницу борделя и окрылил искусством Джотто. Он подарил мне знания алхимика Гебера и еврейского лекаря Моше Сфорно, а потом выгнал прочь, да не раз, а дважды. Он посулил мне великую любовь и страсть, но я продолжал ждать свою судьбу. И вот я, почти у стен города, неизбежно столкнулся с давним неотвратимым вопросом, который вновь вернулся ко мне и с прежним неистовством терзал мое закованное в латы сердце. Это был вопрос о моем происхождении, о том, что даровала мне судьба, чем я отличаюсь от других и что все это значит. Когда обещание, данное мне в ночь философского камня, сбудется? Вопросы, одни вопросы, без ответов! Я бы хотел познакомить этого ребенка со Странником: они бы осыпали друг в друга вопросами. Интересно, когда я вновь увижу Странника? Мне ничего не оставалось, как сменить тему.
— Однажды я попал в темную пещеру, — сказал я мальчику и криво улыбнулся, но скорее себе, чем ему.
Я говорил о пещере из видения, в ту ночь, когда философский камень вывел мою жизнь на стезю ожидания — ожидания выбранной мною любви и смерти взамен невообразимо долгой жизни, которая теперь минует меня. Была и еще одна пещера, которую я не мог не вспомнить, вернувшись во Флоренцию: публичный дом Сильвано. Я прожил там почти двадцать лет, и даже теперь, больше ста лет спустя, это адское логово, засев в моей памяти, не желало ее покидать. Как там сказал Странник? Побитая собака носит неодолимую стену в голове? Что же за стены я ношу в себе, если скитаюсь по свету, лишь бы не столкнуться с самим собой?
— И что ты сделал, когда увидел пещеру? — заинтересованно улыбнулся мальчик.
— Вошел и поборол свой страх, — ответил я, закрыл глаза и сжал кулаки, сам едва ли заметив это. — А потом мне было чудесное видение. Видение о грядущем.
Мальчик подобрался ко мне поближе.
— Расскажи мне про свое видение! — потребовал он, искренне уверенный в том, что я послушаюсь и скажу.
— Зачем тебе знать? — спросил я, чтобы подразнить его.
— Я хочу все знать! — горячо воскликнул он. — Я хочу узнать и изучить все, раскрыть тайны жизни и смерти, мира и природы, всего на свете! — Он вскочил, взволнованно жестикулируя красивыми руками. — Я хочу понять, почему глаза видят, как летают птицы, что такое тяжесть и легкость, какова природа силы, из чего сделаны солнце и луна, каково внутреннее строение человеческого тела, понять небытие…
— Ясно! — Я поднял руку. — Ты хочешь знать все!
— Кроме латыни, — ответил он, прижимая к вискам сжатые кулаки. — Мне она не дается. Как будто я ее знал и забыл, и в голове у меня закрытая дверь, никак не могу толком ее выучить. Но все остальное — да, я хочу знать!
— Один друг мне как-то сказал: «Если у тебя есть возможность узнавать и испытывать новое, понимать прямо и без посредника, ты должен это делать!»
— Твой друг очень умный человек, — серьезно ответил мальчик. — Я часто об этом думаю и уверен, что, несмотря на то чтоприрода начинается с причины и заканчивается опытом, мы должны поступать наоборот. Мы должны начать со своего опыта, а от него перейти к познанию причины!
— Очень серьезные мысли для такого юного человека, — одобрительно заметил я, потому что сам тоже был обременен в детстве неотвязными мыслями. Возможно, поэтому я так старательно избегал их, пока был в изгнании, и потому они нахлынули с такой силой, стоило мне только вернуться в родной город.
— Неужели я должен ждать, пока вырасту, чтобы заняться серьезными мыслями? — ответил он с той резкостью, которая, как я потом узнал, была почти ему не свойственна, ибо он всегда сохранял нечеловеческое терпение.
Он прищурил умные, ясные глаза.
— Размышления открывают для меня мир, дают мне свободу! Ты мне кажешься таким знакомым, словно я уже тебя знаю… Твой друг, тот, умный, наверное, сказал эти слова перед смертью?
Я кивнул. Сердце заныло от нежности при воспоминании об алхимике Гебере, как он лежал в своей мастерской, такой слабый и изможденный, покрытый бубонными язвами. Воспоминание было таким острым, что, падая на почву оживших чувств, грозило нарушить мое душевное равновесие. Я глубоко вздохнул и заставил себя усмирить волнение, вернув простое, безмятежное спокойствие, которым я наслаждался последние шестьдесят лет, странствуя по свету и практикуя врачебное ремесло. Мне хотелось, чтобы годы ожидания имели какой-то смысл. Мне хотелось, чтобы они усилили мое желание и стремление, а не отвлекали меня от них. Ведь лечить больных — благородное дело. Я смог бы заслужить любовь своей суженой, когда наконец вернусь во Флоренцию для встречи со своей судьбой.
Мальчик пытливо и выжидающе смотрел на меня, пока эти мысли мелькали у меня в голове. В конце концов я сказал:
— Мой друг умер хорошей смертью. Он был в сознании, когда умер.
Красивый мальчик медленно кивнул и обратил свои огромные глаза к солнцу.
— Я знаю, что ты имеешь в виду. Возможно, пока нам кажется, что мы учимся жить, мы на самом деле учимся умирать. Если честны с собой.
— Я не знаю, чему может научить меня честность, но я пытался быть честным в жизни.
Эта тема была гораздо приятнее. Она не вызывала бурю воспоминаний в душе.
— Тогда расскажи честно о своем видении, — потребовал мальчик и улыбнулся своей обаятельной улыбкой.
Я понял, что от этого никуда не уйти, поэтому улыбнулся и вздохнул одновременно. Я окинул взором горы, пышное изобилие полевых цветов: красных маков, лиловых ирисов, вьющихся роз, пучки зеленой и бурой травы, пробившейся между валунами, буйные заросли багульника и роскошные кусты рододендронов и вереска, покрывавшие склон горы выше. Над нашими головами кружил орел, и я улегся на землю, чтобы видеть бескрайнее голубое небо. Плечи мои напряглись, и позвоночник крепко зажали спинные мышцы, как будто меня только что скинула лошадь, но я тут же вскочил на ноги, невредимый и лишь слегка напуганный. Что там сказал этот необычный мальчик? Что он хочет понять небытие? Я и подумать о таком желании не мог. Моим самым сокровенным желанием всегда было познать полноту — полноту любви и человеческой привязанности. Это желание долгое время дремало во мне, ожидая своего часа, пока я утолял прочие, мелкие желания богатства, свободы, знаний и приключений. Шестьдесят четыре года я провел вдали от Флоренции, а теперь, упиваясь голубизной, которую небосвод всего на несколько мгновений набросил на этот несравненный город, я вновь, как при встрече с юным Козимо де Медичи, внезапно понял, что погоня за прихотями опять обманула меня. Это было что-то вроде приятного чистилища. Я не достиг никаких вершин и не падал в бездну. Я был не готов умереть, потому что и не жил по-настоящему в разлуке с Флоренцией, хотя уезжал и жил вдали от нее, чтобы спасти свою жизнь. А сейчас, в первый же день возвращения в Тоскану, едва сойдя на рассвете с торгового судна, прибывшего в гавань Пизы, я был брошен в свою изначальную сущность благодаря белокурому мальчику, ни больше ни меньше. Где-то там, где бы он ни находился, Бог вспомнил обо мне и продолжил начатую шутку. Он смеялся надо мной.
— Синьор? — неуверенно позвал мальчик, снова усевшись рядом со мной.
— Мой умный друг был алхимиком, — начал я, — и моим учителем. Однажды ночью он дал мне философский камень, когда я был очень расстроен и встревожен. Меня выбила из привычного хода мыслей смерть другого друга, я тогда только что похоронил его в холмах Фьезоле своими собственными руками.
— А что такое философский камень? — спросил мальчик.
Моя история привела его в полный восторг, и он таращился на меня огромными глазами, несмотря на яркое солнце. Вместе с красотой и изящностью он обладал даром концентрироваться и быть объективным. Рядом с ним любой мог почувствовать себя важным человеком, которого слушают внимательно и терпеливо. В то же время, несмотря на серьезность и проницательность, он излучал притягательную открытость. Благодаря этому люди всегда тянулись к нему.
— Магический эликсир для познания себя, — ответил я. — Эликсир преображения. Он заставил меня уйти в себя, и там я умер. А после смерти увидел многое…
— Да, это я и хочу узнать, что же ты увидел? — выспрашивал он, подвигаясь все ближе ко мне, пока его коленки не уперлись мне в локоть.
Он был наделен такой грацией, что даже подвинулся, как будто танцуя.
Я сделал глубокий вдох. Даже сейчас, сто шестьдесят лет спустя я боялся, что, рассказав о ночи философского камня, вызову к жизни его магию. Какое-то время после этого я был открыт тайным неземным вещам, которых я старался избегать, предпочитая буквальное понимание. Я вновь взглянул на мальчика, и тот кивком попросил меня продолжить. И я закрыл глаза.
— Я увидел людей и города настоящего и будущего. Я увидел великих королей и великих художников, орудие, которое изрыгало огонь. Я увидел машины, которые летали по воздуху и плавали глубоко под водой. Я даже увидел стрелу, которая полетела на луну! И я увидел войны, болезни и голод, новые государства, которые изменят судьбы мира. Лишь малое из увиденного уже произошло, но я чувствую, что все это будет. Нужно только, чтобы для этого пришло время.
— Я хочу летать, — признался мальчик, придвигаясь ко мне. — Я хочу узнать, как летают птицы и бабочки. Люблю птиц. И лошадей, потому что на спине скачущей лошади мне кажется, что лечу. Я люблю всех животных, но больше всего птиц и лошадей! — страстно воскликнул он.
— Возможно, именно ты и станешь тем, кто построит летающую машину, — прошептал я, все еще не открывая глаза.
Члены мои сковал сон, и врата в голове приотворились. Я понял, что сила философского камня даже спустя сто лет не иссякла до конца.
— Это мое самое заветное желание! — воскликнул мальчик. — Я все время наблюдаю за птицами, пытаясь узнать секрет полета, чтобы однажды построить летающую машину! А ты видел это в своем видении? Видел меня?
Вздрогнув, словно внезапно пробужденный ото сна, я открыл глаза.
— Я тебя не видел, — признался я и сел, пристально всматриваясь в его тонкие черты, умные глаза и волнистые золотые волосы с глянцевыми каштановыми прядями. — По крайней мере, не мальчиком. Интересно, каким ты будешь выглядеть в старости…
— У меня будут длинные вьющиеся волосы и длинная вьющаяся борода, — с полной уверенностью ответил он, — я по-прежнему буду хорош собой, но по-другому. Я тоже иногда вижу будущее во сне, и это я видел. Я буду известным и уважаемым человеком, и все будут помнить мое имя еще долгое время, даже после смерти. Меня зовут Леонардо, сын сера[504] Пьеро из Винчи.
— А я Лука Бастардо, — ответил я, — и не знаю своих родителей.
Хотя и искал их гораздо упорнее за время последнего изгнания.
— Я тоже незаконнорожденный, — признался он, шаловливо под мигнув. — Моя мать — Катарина, кухарка из таверны, очень красивая, веселая и добрая, она сама кормила меня грудью, и я очень ее люблю. Но какая, собственно, разница, законные мы или нет? У всех есть внебрачные дети, даже у священников и тем более у королей. Главное, кого ты вылепишь из себя, верно? Если посеешь добродетель, пожнешь честь, а происхождение тут ни при чем.
— Да, я тоже так думаю, — тихо произнес я, смущенно отведя взгляд.
Такого взгляда на безродное происхождение мне никто еще не высказывал. И снова этот мальчик затрагивает больные вопросы, которых я так старательно избегал! Он толкал меня на более глубокое изучение самого себя и своей жизни. Что я вылепил из себя за прошедшие сто лет? Состоятельного искателя приключений и любителя прекрасных женщин. Хорошего фехтовальщика и опытного врача. Мне выпала честь знать людей, которые повлияли на судьбы мира, провидцев и мечтателей: Джотто и Петрарку, Боккаччо и Козимо де Медичи. Я был близким другом мудрых и проницательных людей: алхимика Гебера, Странника, Моше Сфорно. Я научился читать и писать, выучил языки и математику, освоил ремесло врача, воина, купца и моряка. Меня наделили красотой и, по-видимому, вечной молодостью. И как же я воспользовался столь счастливыми дарами и преимуществами, чего достиг сам? Достоин ли я того, чем меня одарила жизнь? Я никогда не задавался этим вопросом, потому что еще не зажили раны от жизни, проведенной в публичном доме Бернардо Сильвано, я до сих пор был зол на те годы и работу, которую меня заставляли делать. Обида и злость до сих пор не давали мне раскрыться. Время научило меня не держаться за обиду и злость так крепко, как прежде, они жили во мне, как птица в клетке с открытой дверцей. Пора бы уже расстаться с клеткой, а заодно выпустить птицу.
Нужно было подумать над тем, что я делаю, как трачу неистощимые запасы времени. Лечить людей на полях брани и в чужеземных городах недостаточно. Ждать в изгнании своей судьбы, которая, я знаю, сама давно ждет меня, тоже недостаточно. Пора набраться смелости и заявить права на свою судьбу. Мне повезло, что Козимо позвал меня обратно во Флоренцию. Наверное, Бога крайне позабавили такие мысли, поэтому Он послал мне серого волчонка. Волчонок пробежал по склону, карабкаясь по нагретым солнцем камням и каменной осыпи. В следующий миг за ним показались два крупных поджарых волка. Где-то внизу под нами заржала моя лошадь, предупреждая меня об опасности. Я снял с пояса свой короткий клинок. Волки, видимо, искали своего сбежавшего детеныша, но я считал, что от божественных знамений всегда следует ожидать непредвиденных и опасных последствий.
— Если ты хочешь узнать, кто были твои родители, попробуй найти их, — говорил мальчик.
Он обернулся и посмотрел через плечо на весело тявкающего волчонка, за которым гнались его родители.
— Может, они сами тебя ищут, в этот самый момент, когда мы с тобой разговариваем. Думаю, они придут к тебе в один очень важный день твоей жизни, и ты обрадуешься как никогда прежде!
— Дай-то Боже, чтобы так оно и оказалось!
— А как звали твоего друга, Лука? — спросил мальчик. — Алхимика, который дал тебе философский камень.
— Один мой друг сказал мне однажды, что, привязывая хорошую историю к определенным именам, мы ее только губим, — серьезно ответил я, снова вспомнив о Страннике, который появился в ту ночь и которого я не видел вот уже шестьдесят лет, с тех пор как покинул Флоренцию.
— Это нечестно! — с негодованием воскликнул мальчик и встал передо мной подбоченясь. — И неправильно! Такие подробности, как имена, напротив, украшают историю!
— Ладно, — засмеялся я. — Его звали Гебер. По крайней мере, в то время он жил под этим именем. В другие времена у него были другие имена.
— Гебер, алхимик и твой учитель, — пробормотал мальчик. Проведя ладонью по щеке, он заглянул в пещеру, затем обернулся ко мне с горящими глазами. — Ты должен стать моим учителем, Лука Бастардо!
Я долго смотрел на него, думая: нет, это ты должен стать моим учителем, Леонардо. Ты научишь меня быть открытым. А потом, несмотря на мои размышления насчет того, чтобы остаться во Флоренции, я вспомнил, что жизнь моя в опасности, пока я здесь. Открытость — дело второстепенной важности, когда братство Красного пера до сих пор жаждет сжечь меня на костре. Я всегда старался быть в курсе новостей Флоренции и знал, что Братство по-прежнему существует. И у меня не было никакого желания попасть им в лапы. Я поднялся на ноги.
— Я не учитель, — твердо ответил я, из-за волков держа клинок наготове. — Ты необычный и загадочный ребенок, Леонардо, сын сера Пьеро из Винчи, но я должен выполнить взятое на себя обязательство. После этого я покину Тоскану. От этого зависит моя жизнь. — Я уже повернулся, собираясь уйти от пещеры. — К тому же не знаю, чему бы я мог тебя научить.
— Ты можешь выполнить свое обязательство, пока учишь меня, — упрямо возразил он. — И ты мог бы многому меня научить. Например, алхимии, как тебя научил Гебер.
— Я неудавшийся алхимик. Я так и не научился делать из свинца золото.
— Ничего, я все равно не верю в алхимию. Научи меня другому, что ты узнал в жизни! Ты выглядишь молодо, но очень много знаешь и хранишь много секретов, которыми тебе полезно поделиться с другими, я вижу это по твоим глазам. В них горит такой огонь, словно ты прожил очень долгую жизнь. — Он остановился под кипарисовым деревом на травянистой полянке перед пещерой. — Разве тебе не кажется, что ради того, чтобы научить другого и передать ему свои секреты, стоит рискнуть жизнью? Если, конечно, есть такой риск? Судя по твоим поступкам, ты не похож на убийцу или вора…
— Я был и тем, и другим, и много кем еще. Я творил такие черные дела, какие тебе и не снились.
— …которому вынесен смертный приговор, и я никогда не слышал ни о каком Луке Бастардо, которого изгнали по политическим причинам. Все знают врагов Медичи, они этого не скрывают, — закончил он, как будто бы я ничего и не произнес.
— Парень, я не учитель! — раздраженно упирался я.
— Ты можешь быть кем пожелаешь! — в ответ ввернул он, уверенно и нисколько не испугавшись.
— Только не сейчас! Когда-нибудь я рискну, может, даже пожертвую жизнью, но только во имя любви, великой любви, моей единственной и великой любви, которая была обещана мне в моем видении, — взволнованно воскликнул я.
Я выхватил из ножен кинжал и метнул так, что он вертикально вонзился в землю прямо у ног Леонардо.
— Тут волки бродят, может, он тебе пригодится. И возьми его с собой в пещеру.
— Любовь бывает самая разная, и всякая по-своему ценная, — спокойно ответил Леонардо и поднял кинжал с земли. — И меня все любят. Ты еще вернешься ко мне, я знаю.
Я мотнул головой, но отсалютовал на прощание, потому что такая уверенность во всеобщей любви заслуживала уважения. У меня такой уверенности не было. Я был рад уже тому, если люди не считали меня уродом и не пытались посадить на кол.
Леонардо зашагал обратно к пещере, задержался у входа и крикнул:
— Волки здесь потому, что так и задумано! Как и ты, Лука Бастардо. Все, что ни есть на свете, имеет под собой осмысленную основу — отдельные нити переплетаются в прочную ткань.
И он исчез в пещере, мрак которой еще не поглотил его, когда один из волков тоскливо завыл. Его поэтические слова и долгий протяжный вой в унисон отозвались эхом среди холмов и смешались, превратившись в одно-единственное слово, которое покатилось по склонам. Оно магически напоминало мне слово, которое Странник шепнул мне на ухо более ста лет назад, в ночь философского камня. Тогда, на следующий день, умер Гебер, произнеся ту же самую фразу, которая только что вылетела из уст Леонардо. Я был потрясен ощущением, что время возвращается вспять, сворачиваясь спиралью, как змея вокруг кадуцея, и обращает ко мне свой призыв. Возможно, юный Леонардо прав и мне суждено быть его учителем. Возможно, это стоит того, чтобы рискнуть жизнью, даже если после того, как меня чуть не казнило братство Красного пера, я поклялся себе вернуться домой, только чтобы найти женщину, которая должна стать моей женой. Прежде чем принять решение, я решил сначала вернуться во Флоренцию и отдать дань уважения постаревшему и хворому Козимо ди Медичи, который вызвал меня сюда.
— Больше никого не осталось, Лука, — дрожащим голосом сказал Козимо.
Он лежал на роскошной постели с дорогими простынями, расшитыми золотом и серебром и окрашенными в самые изумительные цвета: багровый, лазурный, изумрудный, шафрановый, розовый и персиковый. Я нашел его не в пышном дворце Палаццо Медичи на Виа-Ларга во Флоренции, а на изысканной вилле в Кареджи, в холмистой местности к северу от Флоренции. Там нашел пристанище Козимо, скрываясь от вновь разбушевавшейся чумы. Как это уже происходило на протяжении более чем ста лет, вельможи и богатые купцы, владевшие пригородными имениями, вновь покинули многолюдный город, спасаясь на уединенных виллах при первом появлении бубонной чумы. От грозной «черной смерти» по-прежнему не было найдено средства. Козимо, однако, всегда любил здесь бывать, и я много слышал об этой вилле. Раньше это была ферма, затем ее облюбовал местный лазарет. Сорок с лишним лет назад этот дом приобрели Джованни ди Бичи и Козимо, а затем здание было значительно улучшено благодаря Микелоццо ди Бартоломео.[505] У дома до сих пор были старинные зубчатые стены, но талантливый Микелоццо обновил их, придав им элегантную симметрию, разбил пышный сад и ухоженные дорожки. В саду росли миндаль и шелковица, которые Козимо посадил сам, оливковые деревья и виноград, за которым он лично ухаживал. Говорили, что эта мирная вилла — его излюбленное место не только во время чумы.
Люди предпочитали отсиживаться в четырех стенах, когда город посещала чума, но деловая жизнь и политика не давали им покоя даже во время эпидемии. И волей-неволей многие отправлялись в путь, чтобы повидать Козимо. Приехав, я застал у него множество народу, там были частные посланцы, государственные послы, целые депутации и магистраты. Когда объявили о моем приезде, всех их попросили удалиться. Я подошел к постели и взял сухую узловатую руку Козимо.
— Мне жаль, что ты не в добром здравии, Козимо, — произнес я, печально вглядываясь в его лицо.
Он выглядел неважно, хотя славился тем, что мог целыми днями обходиться без сна и без пищи. Цвет лица у него, правда, и раньше был бледный и нездоровый, а теперь добавились подагра и артрит. У него горели щеки, а лоб блестел от испарины. По его виду я понял, что у него плохо отходит урина. Знания, полученные от Моше Сфорно, сразу всплыли в моей памяти, и я начал думать о том, как можно облегчить его страдания.
— Увидев тебя, я сразу почувствовал себя лучше, — сказал он, раздраженный голос повеселел, а на губах заиграла непритворная улыбка. — Я рад, что ты приехал. Мне очень хотелось еще раз увидеть тебя напоследок. Мы, конечно, много раз встречались вдали от Флоренции, но я боялся, что ты не приедешь даже ради меня.
— Ради тебя — обязательно, Козимолетто, — возразил я, и, услышав прозвище, которым его называл отец, Козимо улыбнулся еще шире.
А потом на лице его мелькнула тень скорби.
— Больше никого не осталось, Лука, — повторил он. — Мой сын Джованни умер в прошлом году. Мой внук Козимо — три года назад. Ему еще не исполнилось и шести лет, он был такой славный мальчик, Лука! Я больше не мог оставаться во дворце на Виа-Ларга. Он слишком огромен для семьи, от которой так мало осталось.
— Тяжело терять любимых людей, — тихо ответил я и потрогал лоб Козимо.
У него был жар. Я пощупал пульс на запястье, и он мне тоже не понравился.
— Однажды у меня была встреча с посольством из Лукки, мы обсуждали государственные дела. Ну, ты знаешь, с Луккой всегда дело каверзное.
Он помолчал, ища подтверждения в моем лице, и я кивнул. Тогда он продолжил:
— Вошел Козимо и попросил меня смастерить ему дудку. Дудку!
— Держу пари, ты так и сделал, — улыбнулся я.
— Разумеется, — ответил он, сжав мою руку. — Для милого внука я отложил встречу, и мы с мальчиком вместе смастерили дудку. И только когда его желание было исполнено, я возобновил встречу. Что ж, делегаты стояли с оскорбленными лицами, а глава лукканской делегации вообще пришел в негодование. В конце концов он прокашлялся и сказал: «Должен заметить, синьор, нас более чем удивляет ваш поступок. Мы пришли от имени нашей коммуны, чтобы обсудить серьезное дело, а вы оставляете нас, чтобы посвятить время ребенку!» Знаешь, что я ему ответил, Лука?
— Ну-ка.
— Я обнял его за плечи и сказал: «Ах, боже мой, да разве вы сами не отцы и не деды? Разве вас удивляет, что я сделал дудку? Хорошо еще, что мальчуган не попросил меня сыграть на ней какую-нибудь мелодию, потому что и это я бы тоже сделал!»
Он усмехнулся, и я подхватил его смех. Потом он добавил:
— И я так рад, что я это сделал, Лука, потому что у меня больше никогда не будет возможности поиграть с ним. Он больше никогда не взберется ко мне на колени, не помешает собранию и не сунет лягушку в карман моего плаща, а когда я полезу туда рукой и заору, никогда не засмеется.
— Ты с пользой провел время, отведенное тебе и твоему внуку, ты подарил ему много своей любви, — успокоил я. — Тебя должно это утешить.
— Да! — воскликнул Козимо, и его осунувшееся, морщинистое лицо просияло. — Я любил его, а любовь не кончается! Тела умирают, дома рушатся, государства приходят к расцвету и упадку, картины блекнут, скульптуры крошатся, песни забываются, рукописи сгорают или рвутся на клочки, и даже сушу смывает море. Но любовь никогда не кончается! Любовь — это единственное бессмертие, которое у нас есть, Лука. Надеюсь, ты нашел ее для себя!
— Нет еще, — признался я. — В отличие от тебя. Но у меня есть старые друзья, которыми я очень дорожу, и ты один из них, Козимо. Мне тяжело видеть старых друзей в болезни. Надо нам придумать, как же тебе помочь.
— Помочь мне? Да я готов уже уйти, — фыркнул он.
— А вот этого я слышать не желаю, — сердито ответил я. — Как врач я много раз наблюдал, что человек, готовый умереть, обязательно умрет.
— А что плохого в смерти, а, Бастардо? Смириться со смертью не так уж страшно.
— Это же неволя и последнее унижение!
— Неволя и унижение? Нет, вряд ли. Может быть, капитуляция. Разве это поражение, когда человек переборол свой страх и отбрасывает этот… — Он подобрал усохшую дрожащую руку другой рукой, как будто взял палку. — Отбрасывает этот ящик! Но не тревожься о том, что будет с тобой после моей смерти. Я оставил распоряжения по поводу твоего счета. Твои деньги всегда будут получать самые высокие проценты, и ты всегда сможешь получить их, где бы ты ни находился, Бастардо, куда бы тебя ни занесло в твоих скитаниях, — поддразнил меня он, и прежний огонь блеснул в его глазах.
— Нет, вы только посмотрите, какой он мудрый! Нельзя допустить, чтобы мир лишился такого рассудительного человека! — растроганно отшутился я.
Дотронувшись до его руки, с которой Козимо так пренебрежительно обошелся, я почувствовал в ней всю хрупкость и бренность человеческого существа. Разве не все мы приходим к этому? Где-то в глубине кости, наверное, в мозге костей, дрожала замирающая струна, словно последние звуки почти допетой песни. Сердце мое растворилось, и из груди хлынул теплый поток, изливаясь через мои руки прямо в Козимо. Консоламентум Гебера, с удивлением подумал я. Много времени минуло с тех пор, как я чувствовал его течение, словно живительный поток, который струился в моем теле. Я не умел управлять им и еще не научился толком ему подчиняться.
Козимо вздохнул.
— Какие у тебя теплые руки, мой Лука, — еле слышно прошептал он, и его лицо разглаживалось вместе с уходящей болью.
Он приоткрыл серые губы, и кожа приобрела более здоровый оттенок. Я дождался, пока поток иссякнет, и произнес:
— Расскажи, друг, легко ли у тебя получается помочиться?
— Не слишком, — пожал он плечами и отвернул в сторону лицо с крупным носом, не желая об этом говорить.
Потом все же вновь посмотрел на меня:
— У меня есть несколько чудесных картин. Ты должен их увидеть. Это работы Фра Анджелико…[506]
— Это тот маленький праведный монах, о котором ты мне рассказывал, когда мы встречались в Авиньоне десять лет назад? — спросил я. — Тот, что молился перед тем, как прикоснуться кистью к священным фигурам?
— Он самый, — ответил Козимо, обрадованный тем, что я это запомнил.
Разумеется, я помнил: я никогда не забываю художников и произведения искусства. Даже сейчас, в ожидании своей казни, я до сих пор помню тот момент в своей тесной каморке у Сильвано, когда вошел первый клиент и мне во всей своей чудотворной красоте явились восхитительные фрески Джотто, чтобы уберечь и спасти меня.
А Козимо продолжил рассказывать о Фра Анджелико:
— Он плакал, рисуя Христа на кресте. Это был простой и святой человек, с этим художником было работать легче всего. А ведь большинство из них люди сложные, знаешь, невесть что вытворяют; вечно остаются детьми, но требуют к себе превеликого уважения.
— Они понимают и создают красоту, за это им можно многое простить.
— Я узнал это на примере другого художника, полной противоположности Фра Анджелико. Его звали Фра Филиппо Липпи.[507] Талантливый художник, но одержимый земными и чувственными желаниями, он не пропускал ни одной юбки. Даже сбежал, похитив из монастыря монашку. Мне недешево обошлось откупиться за него у церкви, и даже его благодарность ко мне не могла убедить его работать, когда на него нападало распутство. Как-то я даже пытался запереть его в комнате, чтобы он закончил картину, но он разорвал простыни, связал из них веревку и сбежал через окно!
— Люди всегда находят способ бежать, — заметил я, и мои собственные слова заставили меня задуматься: а правда ли я сам сбежал от Сильвано?
— В конце концов так и случается, — вздохнул Козимо. — Если какое-то место кажется им тюрьмой. Я думаю, Фра Анджелико, каким бы набожным он ни был, считал жизнь бренную своей тюрьмой, а картины помогали ему бежать от нее. Он написал великолепные фрески на стенах дома капитула,[508] в монастырях и коридорах Сан Марко, когда я решил его обновить.
— Сан Марко, старый доминиканский монастырь, недалеко от твоего дома на Виа-Ларга, — вспомнил я, и мне вдруг нестерпимо захотелось во Флоренцию: войти через ее крепостные ворота, постоять в ее бесподобных церквях и на шумных площадях, внутри каменных стен, возле прекрасных палаццо и общественных зданий, которые я так хорошо помнил: внушительного Палаццо дель Капитано дель Пополо, который ныне назывался Палаццо дель Подеста; асимметричного палаццо делла Синьория со строгим фасадом почти без окон и колокольней.
— Я вложил много денег в общественную работу, как и мой отец, — кивнул Козимо. — Я наказал своим детям и внукам продолжить эту традицию. Я давал много советов Фра Анджелико по поводу «Распятия со святыми», которое занимает всю северную стену дома капитула. Это удивительная фреска: три креста на фоне голубого неба, а на первом плане изображены святые. Прекрасный пример работы Фра Анджелико, простой и ясной, сдержанной, но полной чувства, в ней выражено задушевное переживание и благоговейное настроение. Нежная палитра и точное чувство пропорций и пространства. Она полна покоя и невинности, но передает трагизм момента, преходящего момента распятия, и в то же время она отражает вечное и неподвластное времени, о чем говорит присутствие святых, живших в разные периоды истории. Каждый художник изображает себя, и это видно по лицам Фра Анджелико, исполненным благоговейного страха Божия. Должен признаться, я с нетерпением жду встречи с тем Богом, который вызывает такое благоговение, Лука… Теперь, когда ты вернулся во Флоренцию, ты должен увидеть это! Ведь ты останешься, мой Лука? Будешь со мной до конца?
— Конечно, — пообещал я, чувствуя и сильное желание увидеть фреску Фра Анджелико, и острую боль от возможной скорой кончины Козимо, — но я надеюсь, что это еще не конец.
— Мы слишком долго были друзьями, чтобы обманывать друг друга, — возразил он. — Я еще помню, как ты спас меня от бандитов, которые собирались меня похитить. Давным-давно, во время чумы, когда я был обычным глупеньким мальчиком.
— Козимо, уж ты-то никогда не был обычным. Ты прикидываешься таким простым и скромным, но ты гораздо сложнее, чем может себе представить любой обычный человек!
— Это большая тайна! — воскликнул Козимо, сверкнув глазами. — Ты должен притвориться, что ничего не знаешь, и терпеливо слушать воспоминания старого больного человека! А я помню, каким ты тогда был красивым, ты был похож на ангела или святого, когда посадил меня на того строптивого осла. А потом вынул кинжал и убил тех разбойников, чего они и заслуживали. Одного ты ударил ножом в сердце, а другому перерезал горло. Уверенно и точно.
— Кстати, что стало с тем ослом? — поинтересовался я.
— Мне было пятнадцать лет, когда явился еврей с косматой бородищей и заявил, что он твой друг. Он сказал, что пришел за ослом, и мы отдали ему животное. Я до сих пор его помню: этот человек задавал много вопросов. Забавно, какие вещи вдруг вспоминаются в старости! А вот ты нисколько не изменился, ничуть не состарился. Ты наделен необычным даром. Завидую тебе, Лука.
— Не стоит, — коротко ответил я. — Я бы умер за то, чтобы познать любовь, какую познал ты.
— Ах, у тебя все еще будет, — улыбнулся он, как будто Бог уже посвятил его в свою шутку. — И смерть тоже, потому что она ко всем приходит. Но мне интересно, узнаешь ли ты старческие немощи? Это не для слабаков. Боль, страдания, унижения. Тело и даже дух подводят тебя так, как молодому никогда себе не представить. Это испытание не для тех, кто не выносит заточения.
— Я вдоволь узнал и боль, и унижения, — произнес я, взглянув на него серьезно. — А что нынче слышно о братстве Красного пера?
— Немного, но я ведь теперь мало хожу по улицам. Потомки Сильвано еще живут в городе… Например, молодой человек по имени Пьетро, как две капли воды похожий на Доменико. Тот же выдающийся подбородок и нос. У Доменико еще была дочь, она вышла замуж и родила сыновей, но я забыл их имена. Они уже, наверное, выросли. Но Лука, ведь прошло все-таки шестьдесят лет! Может, для тебя это и не долгий срок, но для нас-то это целая жизнь. Многое забывается за столько лет. Может, и старая вражда угасла…
— Мы же флорентийцы, наша вражда никогда не угасает! — рассмеялся я. — Ты знаешь это лучше кого бы то ни было, Козимо. Такая ненависть, как и ад, длится вечно!
— Значит, мы все время живем в аду, раз постоянно храним острое чувство ненависти! А с любовью живем в раю! — Он пожал плечами. — Я уже старый и больной человек и провел достаточно времени в размышлениях о минувшем, я жалею о многом, содеянном в жизни, Лука. Разве что иногда проявлял милосердие.
— Никто не проявляет милосердие к ядовитой змее. Ей просто отрубают голову.
Козимо вздохнул и снова сжал мою руку.
— Возможно, тебе понадобится вся твоя долгая жизнь, чтобы понять то, на что нам дается шестьдесят лет. Расскажи мне о своих путешествиях, Бастардо. Тот древний манускрипт, который ты прислал мне через гонца… неужели прошло всего три года? Ты приобрел его в Македонии, верно? Ты писал в письме, что с ним связана целая история…
— «Герметический свод», — вспомнил я. — Я нашел его в одном македонском монастыре.
— Я знаю название, — лукаво проговорил Козимо. — Правда, не был уверен, что его знаешь ты. Будь добр, развлеки умирающего старика историей о том, как ты нашел его.
Вечер давно уже перешел в темную ночь, когда я уходил и жена Козимо графиня де Барди остановила меня. Это была полная, суетливая и веселая женщина, которую я до этого видел лишь однажды, потому что всегда встречался с Козимо за пределами Флоренции; в путешествиях его сопровождала наложница черкешенка по имени Маддалена, к которой он был необыкновенно привязан. Мне она тоже нравилась: милая, приятная и неприхотливая девушка. Маддалена родила Козимо мальчика, которого назвали Карло и воспитали вместе с сыновьями от законного брака. Жена Козимо ничего не имела против. Как заметил Леонардо, у влиятельных людей всегда были внебрачные дети.
А сейчас графиня положила мне на плечо пухлую старческую руку.
— Я знаю, что он относится к тебе с особенной теплотой, — негромко произнесла она.
— Как и я к нему, — спокойно ответил я, с трудом подавив нахлынувшее чувство: радость от встречи с Козимо, боль при мысли о его грядущей смерти и страх перед тем, что ждет меня в будущем, когда не станет моего покровителя.
— Как это кстати, — прозвучал гнусавый скрипучий голос.
Я обернулся и увидел рослого, крепкого юношу лет пятнадцати. У него были густые черные волосы почти до плеч, длинный сплющенный нос, который выглядел так, словно его сломали и неудачно вправили, и мощная, тяжелая челюсть. Но в целом сочетание этих уродливых по отдельности черт производило незаурядное и даже притягательное впечатление, а его черные пронзительные глаза светились умом и волей. Он встретил меня холодной улыбкой.
— Многие клянутся в любви к нонно[509] теперь, когда он умирает, но мы-то все знаем, что беспощадность и щедрость его шли рука об руку.
— Я не вправе упрекать великого человека, — спокойно ответил я, и он прищурил глаза.
— Вы закрылись с дедом и несколько часов просидели вдвоем, а теперь ты говоришь лукавым языком шпиона, — прорычал Лоренцо.
В его голосе было больше зависти, чем ревности, и он развел худыми руками почти так же красноречиво, как мальчик Леонардо. А еще в его глазах мелькнул страх, который он тут же прикрыл высокомерием.
— Ты доносишь этому идиоту Питти или предателю Аньоло Аччайоли, которые как собаки раздирают на части величавого старого льва, пытаясь его прикончить? Медичи не потерпят измены! Может, дед и папа больны, но скоро и у меня появится власть, и уж я-то поставлю всех на место!
— Лоренцо, умоляю, — с упреком проговорила графиня и обратилась ко мне: — Прошу вас, простите моего вспыльчивого внука. У Медичи много недоброжелателей, и Лоренцо очень печется о дедушке.
— Качество, достойное похвалы, — вежливо ответил я, открыто встретив взгляд юного Лоренцо. — Я друг вашего деда, синьор. Меня зовут Лука Бастардо.
Подозрительность вмиг слетела с его лица, и глаза Лоренцо хитро заблестели. Он окинул меня взглядом с ног до головы и шагнул ко мне и встал, расправив плечи и широко расставив ноги, всем своим видом показывая, кто здесь хозяин.
— Я слыхал это имя, и совсем недавно. Говорят, у вас особый дар. Я и не думал, что вы так хороши собой. Кажется, вы очень бережливо относитесь к деньгам и оказали не одну услугу моей семье. Дедушка хорошо отзывался о вас, синьор. Многие бы позавидовали таким щедрым похвалам, которые вы получили от Козимо де Медичи. А он не из тех, на кого легко произвести впечатление. Я сам изо всех сил стараюсь, чтобы заслужить хоть толику похвалы, которой он так щедро осыпает вас.
— Я стараюсь быть достойным его доброго мнения, — ответил я, не в силах скрыть нотки сарказма в голосе.
Этот юный Лоренцо — воин, лев, гораздо более похожий на своего деда, чем его хилый отец Пьетро, страдавший подагрой. Однако Лоренцо умел показывать когти и клыки, в то время как Козимо всегда был очень сдержанным человеком, скрывавшим свою силу. Более того, с возрастом Козимо научился жить с открытым сердцем. Молодому Лоренцо еще потребуется время, чтобы достигнуть этой открытости. Как и мне, понял я вдруг, ощутив невероятную усталость во всем теле. Все мои мышцы ныли, требуя хорошего здорового сна.
— Я уверен, что вы этого заслуживаете, как и я. Дедушка никогда не ошибается, — сказал он и шагнул ближе, так что пространство между нами накалилось от сложной игры соперничества и неохотного взаимного признания, любопытства и вопросов.
Мы оба были важны для Козимо. Я знал, что Лоренцо скоро станет его преемником. Удивительная энергия Лоренцо делала его приход к власти неизбежным. Я хотел, чтобы и он защитил меня от братства Красного пера, как меня защищал Козимо. Чего хочет от меня Лоренцо, я еще не знал. Но по одному взгляду на него я понял, что выполнить это будет нелегко. Лоренцо требовались веские доказательства; спрос с тех, кого он к себе приблизит, будет велик.
— Синьор, я стояла за дверью его спальни и слышала, как оживленно мой муж разговаривал с вами, — вмешалась графиня, встав между нами. — Меня это очень порадовало. Он столько времени проводит в одиночестве и молчании. Это вредно для его здоровья. Я спрашивала его, почему он так делает, и он ответил: «Собираясь в дорогу, мы две недели тратим на сборы. Скоро я перейду из одной жизни в другую, неужели ты не понимаешь, сколько всего мне нужно передумать?» — Графиня покачала седой головой, и ее милое старческое лицо погрустнело. — Мне кажется, он слишком много живет в прошлом, в мрачных размышлениях, которые не прибавляют ему сил. Прошу вас, приходите почаще, отвлекайте его!
— Я пообещал ему то же, о чем вы просите, — ответил я и тут же принял решение остаться в Тоскане.
Что бы ни случилось со мной, я должен остаться рядом со старым другом Козимо до самой его смерти. А еще я стану учителем юного Леонардо, которому не нужно время, чтобы возмужать и открыть свое сердце. Его сердце и без того от природы было открыто. Пора занять свое место во Флоренции и встретить то, что мне уготовано здесь судьбой. Я знал, что тем самым подвергаю себя опасности. Тогда я не понимал, как понимаю это сейчас, оглядываясь в прошлое, что этим решением я перевернул свою жизнь: я оставлял позади прямую дорогу приключений, вступая в сложное переплетение союзнических и товарищеских отношений. Я выбрал дружбу вопреки страху, и она привела меня прямо к великой любви, о которой я мечтал всю свою жизнь. Сидя здесь, в своей камере, изувеченный, в ожидании казни, я вспоминаю тот день в Кареджи и вижу скрытую связь причин и следствий. Вижу, что, последовав велению сердца, несмотря на опасность, я получил награду, которая наполнила мою жизнь смыслом.
А тогда я просто сказал:
— Я остановлюсь в Анкьяно, буду учить там мальчика. Это недалеко отсюда, если добираться на лошади.
— У меня отличная идея! — Лоренцо щелкнул пальцами. — Мы устроим в вашу честь ужин, Лука Бастардо, через несколько дней! Я приглашу некоторых друзей нашей семьи. Вы еще не знакомы со скульптором Донателло? В искусстве он гений, хотя в денежных делах безнадежный тупица. Приходится мне самому заниматься его финансами, теперь, когда дедушка прикован к постели. А великого философа Марсилио Фичино? Это мой учитель и один из ближайших друзей деда, с ним он до сих пор играет в шахматы! Впрочем, Фичино бывает у нас каждый день: из окон его виллы видна наша. Мой брат Джулиано завтра приезжает, и я приглашу кое-кого из молодежи — друзей и родственников. Все разъехались из города по окрестностям, спасаясь от чумы. Устроим потрясающую игру в кальчо![510]
— Я в играх не разбираюсь, — ответил я.
— Если не знаете, как играть в кальчо, я вас научу. Дедушка любит наблюдать за игрой, это поднимет ему настроение, — тотчас нашелся Лоренцо. — С вашими-то талантами вы вмиг освоите игру!
Он посмотрел на меня прямо и почти презрительно, как будто бросая вызов, и я понял, что от кальчо мне никуда не деться и игра эта будет чертовски серьезной. Так же подумала и его бабка, тяжко вздохнула и похлопала меня по груди.
— Синьор Бастардо, простите, но моего упрямого внука не переспоришь. Вам придется прийти к нам на ужин и сыграть в кальчо. Вы на вид очень крепкий и мускулистый, так что у вас получится. — Она широко улыбнулась мне и состроила глазки, как юная кокетка, потом убрала пухлую руку с моей груди и строго обратилась к внуку: — Я поговорю с твоей матерью Лукрецией, когда она вернется завтра с твоим братом. Она захочет сама заняться устройством ужина, ты же ее знаешь. И я уж постараюсь, чтобы она не бросила приготовления ради очередной поэмы.
Графиня чуть сморщила полное лицо, и я увидел, что и в этой семье не обходится без конфликтов, даже между своими.
— Бабуля, мама вполне самостоятельная женщина, — возразил Лоренцо, обняв бабушку за плечи. — И пишет она очень даже неплохо, не отрицай!
— Мне нужно заниматься с моим новым подопечным, — сказал я, пятясь к выходу.
— Приводите и мальчика, — улыбнулся Лоренцо. — Мы и его играть в кальчо научим.
— Вы останетесь у нас на ночь, — кивнула графиня, разгибая полные руки в шелковых рукавах. — Это решено.
Был обычный для сельской Тосканы июньский вечер. По склонам холмов рассыпались огоньки светлячков, отовсюду доносились ароматы винограда, зелени и закрывшихся на ночь бутонов. Я расслабился, наслаждаясь сладким земным ароматом в ожидании моего скакуна, которого должны были вывести из конюшни. Это был высокий гнедой красавец, которого я назвал Джинори, за рыжину в шерсти, напоминавшую о моем давнем напарнике-могильщике. Жеребца выкупали, почистили и расчесали, пока я разговаривал с Козимо. На коне красовалось новое седло с нарядной отделкой — видимо, подарок от Козимо. Я провел по нему рукой, восхищаясь дорогой, отлично выделанной кожей и искусно выкованными металлическими деталями. Это было седло, достойное короля. На нем я мог гордо скакать навстречу судьбе. Эта вещь придаст мне уверенности, когда я, рискуя жизнью, вернусь, чтобы поселиться во Флоренции. Я проверил подпругу и уже собрался вскочить в седло.
— А у вас, видно, наметанный глаз на лошадей, — раздался пронзительный, надтреснутый голос, который, как я теперь знал, принадлежал Лоренцо.
— Я заплатил за него целое состояние, и он того стоит, — ответил я, вскакивая в седло. — Умен, надрессирован и ни разу не подвел меня в бою.
— Качество, достойное похвалы, — повторил мои слова Лоренцо.
Он вышел из темноты на свет лампы, и трепещущий огонь заплясал на его лице, искажая его резкие, уродливые черты, которые то распадались в игре света, то вновь возникали, в один миг то превращая его в демоническое чудовище, то преображая в божественно прекрасный лик, словно сошедший с одной из картин несравненного Джотто.
— У дедушки такой же верный глаз на друзей, и я стараюсь развить в себе это качество. Я хочу стать достойным деда. При моем положении мне нужны такие союзники, как ваш конь; друзья, выдержавшие испытание и доказавшие свою отвагу. Друзья, которые не покинут меня.
— Вашим друзьям придется сражаться без передышки между битвами, — сказал я, пристально глядя на Лоренцо.
Он приподнял уголок рта в кривой усмешке. Я пришпорил Джинори, конь повел ушами и взял с местабодрым шагом.
— Надеюсь, вам понравится седло, я заказывал его для себя, но ваш скакун заслуживает его больше, чем мой! — вдогонку крикнул Лоренцо. — Сдается мне, что вы лучший наездник, чем я, хотя мало кто может со мной тягаться!
В первый миг я оцепенел от удивления. Потом повернулся, чтобы поблагодарить, но Лоренцо уже и след простыл, и даже Джинори с чуткими ноздрями не смог его учуять. Еще один непростой Медичи, подумал я, только этот был мне еще совсем неизвестен. Нельзя было понять, окажется ли он мне таким же надежным и верным другом, как его дед, или принесет кучу неприятностей. Его подарок был не подарком, а проверкой, и я решил преподнести что-нибудь Лоренцо взамен. И еще я решил выяснить, какова власть братства Красного пера, по-прежнему ли к нему благоволит церковь и отцы города. Мне нужно узнать это как ради собственной безопасности, так и потому, что этим будет интересоваться Лоренцо. Мне не хотелось, чтобы он владел обо мне такой информацией, которая неизвестна мне самому. Этот человек не побоится использовать свою власть, а мне моя свобода была слишком дорога, чтобы добровольно отдать ее в чьи-то руки, будь это даже руки Медичи.
ГЛАВА 17
На следующее утро я проснулся оттого, что впервые за больше чем полвека моего лица, как старый добрый друг, коснулось золотисто-лавандовое тосканское солнце. Я переночевал на единственном постоялом дворе в Анкьяно. Это было обветшалое, заросшее плющом строение по меньшей мере столетнего возраста, с неплохой таверной. Я одновременно испытал сожаление и облегчение оттого, что проснулся, потому что был весь во власти увиденного длинного сна: Николо Сильвано читал с кафедры проповедь, тыча в меня пальцем и хохоча безумным смехом. Затем я увяз в паутине и ползал по ней, а паутина была огромной, розово-зеленой, вместе со мной по ней ползали другие люди, одни подползали ко мне, другие уползали. Я кричал и барахтался, наконец прорвал паутину и, выскочив через дырку, вдруг очутился в зале, посреди маскарада. Играла музыка, по зале расхаживали люди в роскошных костюмах и беседовали. Ко мне подошла стройная женщина, и сердце мое заныло еще до того, как она встала передо мной. Это была она, та женщина из видения философского камня, женщина, которую я выбрал, не испугавшись расплаты. Она стояла передо мной в ослепительном сиянии, ее лицо скрывала маска, и все во мне смягчилось, растаяло и раскрылось. Но когда я протянул руки, чтобы коснуться ее и обнять, она отступила. Я бежал за ней, а она все отдалялась, и мое сердце бешено билось от желания. А потом я почувствовал теплые пальцы на щеках и, открыв глаза, понял, что это был длинный лучик света, а не рука моей возлюбленной.
Я почувствовал себя нагим и беззащитным, но со сном не поспоришь. Вчера я понял, что, рассказывая о видении юному Леонардо, я уже знал, что тем самым вызову его из небытия и мною завладеют чары. Тоскуя, я спрашивал себя, когда же наконец я встречу свою избранницу в этой долгой запутанной жизни (если, конечно, я сделал настоящий выбор, и она была настоящей, ведь я прождал ее более ста лет и уже начинал отчаиваться). Я быстро оделся и спустился в таверну позавтракать. Хрустящий хлеб, густая горячая каша, кусочки деревенской ветчины и нарезанная дольками белая груша — все это принесла мне прелестная белокурая девушка. Стремясь избавиться от мучительного наваждения, которое навеяли эти сны, я обратил все свое внимание на эту женщину. Ее золотистые локоны спускались по спине такими мягкими волнами, что у любого мужчины руки сами так и тянулись их погладить. Она взмахнула ресницами и улыбнулась мне полными алыми губами, показав ровные белые зубы. Я ответил ей восхищенной улыбкой, а потом пристально вгляделся в ее большие, широко посаженные на изящно вылепленном овальном лице глаза и понял, кто она такая.
— Катарина, — произнес я.
— На вашей стороне преимущество, синьор. Я вашего имени не знаю, — ответила она грудным голосом, удивленно подняв брови.
— Его зовут Лука Бастардо, — пропел мелодичный голос. — Он будет моим учителем.
Это был Леонардо в изумрудно-зеленой рубахе с неровно обрезанным подолом, как будто он сам укорачивал его своими руками. Он вбежал в комнату и сел рядом со мной на скамью.
— Неужели, молодой человек? — переспросила Катарина и потрепала его по волосам. — Я принесу тебе хлеба с медом, детка.
И она ушла, покачивая стройными округлыми бедрами под платьем без рукавов. Плечи у нее были белые, крепкие: наверное, она поднимала и носила много тяжестей в таверне.
— Не стоит тебе так глядеть на мою маму, — предупредил Леонардо и положил передо мной на стол мой кинжал, а мою миску с кашей пододвинул к себе.
Я смотрел, как Леонардо набросился на еду, и вспомнил, как всегда ел один у Сильвано. Кормили там вкусно и до отвала, правда, в скудной и неприятной компании: компании себя самого. Леонардо и представить себе не мог такую бедность духа и как далеко человек может зайти, чтобы облегчить ее. Его жизнь питало нечто другое, нечто светлое и свободное, что составляло глубинную основу его существа.
— Я не сказал, что собираюсь тебя учить, — в очередной раз возразил я, хотя нежелание рисковать жизнью, оставаясь вблизи Флоренции и обучая этого мальчика, уже шло на убыль.
Я все смотрел на него, не в силах по какой-то причине отогнать воспоминания о том, как я и другие дети жили у Сильвано. Я несколько десятилетий почти не вспоминал о публичном доме, а теперь вспомнил все до мелочей. Вспомнил ночь, когда впервые собрали всех детей вместе и Бернардо Сильвано перерезал сухожилия на ногах Марко. Вспомнил, как из ног Марко хлестала кровь прямо на дорогую одежду Сильвано. Вспомнил, как Марко закричал и упал, вспомнил, как он, худенький и окровавленный, сидел, прислонившись к опоре моста. Леонардо, столь уверенный в своих привилегиях, и понятия не имел о таких страданиях. Я бы посчитал его поведение заносчивым и нескромным, если бы в нем не было столько искреннего тепла и доброты, если бы не ореол покоя, окружавший его, как нимбы над головами ангелов на картинах.
— Ты вернулся, а значит, решил учить меня, — сказал он между ложками каши. — Пожалуй, начнем сегодня. Я готов к занятиям, учитель.
— Сегодня я еду во Флоренцию посмотреть на собор, — возразил я немного резко, потому что мне никогда не нравилось, когда мной командовали или водили на поводке, как домашнее животное, а в последнее время это случалось слишком часто.
На моем кинжале остались следы засохшей крови, я взял его со стола и вытер своей рубашкой, а потом сунул в ножны на поясе.
— Флоренция, отличная идея! — с восхищением воскликнул он.
Его мать вернулась с тарелкой хлеба, намазанного сливочным маслом и густым медом.
— Мама, Лука сегодня везет меня во Флоренцию!
— Попридержи коней… — начал было я.
— Ах да, тот чудный конь в конюшне твой? Гнедой жеребец? — тут же перебил меня Леонардо. — Я бы хотел его нарисовать! Начну прямо перед отъездом, даже если мне не хватит времени закончить!
— Тебе не кажется, что надо сначала сказать папе о новом учителе? — спросила Катарина.
Она поставила тарелку перед Леонардо и сама села напротив нас. Ее полную грудь обтягивал желтый фартук, надетый на простое синее платье, а из расстегнутого воротничка выглядывала белая шея. Кроме цветочных духов, от нее пахло тушеным мясом, дрожжевым хлебом и разлитым вином. На нижней губе блестела капелька меда, который она, видимо, пробовала. Мне так и хотелось слизнуть этот мед. Она наклонилась ко мне через стол и спросила:
— И сколько вы спросите за уроки, синьор? Сер Пьеро щепетильно относится к деньгам.
— Я не знаю, сколько зарабатывают учителя, — ответил я и сделал большой глоток воды из чашки, чтобы скрыть, как от ее чар забилось мое сердце и участилось дыхание.
— Мы хорошо ему заплатим, я поговорю с папой, — серьезно заявил Леонардо. — Хорошо, но не слишком, чтобы папа не рассердился.
Он дотянулся до моей тарелки и стащил ветчину, сначала подмигнув маме, затем мне — и повторив все заново. Он был неотразим и знал это. Выхода просто не оставалось: мне придется стать его учителем. Я даже не представлял, чему буду его учить, зато ему, похоже, это было известно. Он будет руководить мною. С любым другим человеком, хоть живым, хоть мертвым, меня бы такое положение дел удручило. С тех пор как я вырвался из публичного дома, самым важным для меня было сохранять свою свободу. Ранее никогда и ни для кого я не сделал бы в этом ни малейшей уступки. Даже великую любовь из видения, женщину, обещанную мне в жены, я отодвинул в область туманного будущего, а сам отправился странствовать по свету. Теперь же, из-за просьбы Леонардо и потому что Козимо лежал на смертном одре, а мое непоседливое сердце полюбило их обоих, я добровольно согласился остаться в городе, где меня могли бросить в тюрьму и убить. Я злился, что оказался в таком положении. Я не мог понять, сержусь ли я на Леонардо за его просьбу, на себя ли — за то, что я так не хотел и в то же время так страстно желал это сделать, на Сильвано ли — за то, как он осквернил и испортил меня; или на Козимо — за его близкую смерть и за то, что он находит утешение в моем присутствии; на Гебера ли — за то, что он вызвал видение, повлиявшее на всю мою дальнейшую жизнь; или на Бога, который в этот момент, без сомнения, смеялся до слез. Кому-то как-никак доставляло удовольствие смятение в моей душе.
— Я должен кое-что подготовить, — сказал я и встал из-за стола, так ни к чему и не притронувшись, чего раньше со мной почти никогда не бывало: я слишком наголодался за свою жизнь, чтобы добровольно терпеть голод.
— Ты скоро вернешься? — крикнул мне вслед Леонардо.
Я кивнул ему через плечо и заметил, что Катарина поднесла ладонь сына к губам и пристально смотрит мне в спину. У меня засосало под ложечкой, я слегка расправил плечи и приосанился. В Анчьяно мне предстоит много интересного!
Я поскакал к маленькому винограднику, который получил в наследство, и представился арендаторам якобы потомком первого владельца Луки Бастардо. Так я превратился в своего сына, ради Леонардо и Козимо. За виноградником ухаживала пожилая чета с двумя взрослыми сыновьями. Сначала они встретили меня недоверчиво, и тогда я привел им цифры за последние десять лет, количество собранного урожая, проданных бочек вина и имена купцов, которые покупали вино, а также цену и прочее и прочее. Все в точности совпадало, потому что я вел тщательный учет своей доли урожая. Убедившись, что я тот, за кого себя выдаю, они начали из кожи вон лезть, лишь бы мне угодить. Я объяснил, что собираюсь задержаться в Анчьяно на неопределенный срок, и мы обсудили, где мне поселиться. С деньгами, которые я скопил за несколько десятилетий, я, разумеется, мог жить где угодно. Я не сказал им этого, потому что виноградник устраивал меня как нельзя лучше. Я не хотел выставлять напоказ свое богатство, ни привлекать внимание к своей персоне, обзаведясь собственным домом. Пожилая пара с одним сыном жила на главной вилле, а старший сын с женой и ребенком — в маленьком домике на территории виноградника. Мы порешили, что молодая семья вернется в дом к родителям, а я займу домик через два дня, когда из него вынесут вещи и сделают там уборку. Еще я сказал, что моей лошади нужен хороший уход, и младший сын, долговязый и мосластый деревенский паренек примерно одного возраста с Лоренцо, так и просиял и пообещал заботиться о Джинори «лучше, чем мужья за своими женами».
Устроив все по своему вкусу, я ускакал обратно в таверну. Леонардо играл на лужайке перед постоялым двором в какую-то игру с камешками, выложенными квадратом. В этой игре зачем-то нужно было прыгать, и он скакал по земле, размахивая листочком бумаги.
— Лука, вот твоя лошадь, хочешь посмотреть? — крикнул он, когда я спешился.
Я подошел к нему, и он вручил мне листочек дорогой льняной бумаги.
— Где ты раздобыл бумагу? — спросил я, потому что бумага в те времена стоила недешево и считалась предметом роскоши.
Весь листок был покрыт множеством маленьких рисунков: лиц, птичек и даже насекомых, был там и вид горы Монте Альбано. Рисунки были сделаны каким-то грубым угольным карандашом, но рука, державшая этот карандаш, была необычайно чуткой и умелой, слишком развитой для обычного одиннадцатилетнего мальчика. Использование теней для придания объема, постепенная градация поверхности — такие замысловатые приемы использовали опытные художники.
— Кто это нарисовал?
— Я, кто же еще! Мама покупает мне бумагу, когда у нее есть деньги. Иногда можно выпросить у папы, — весело ответил он, подхватил несколько круглых серых камешков и покидал в карманы. — Я люблю рисовать.
— А где лошадь? — спросил я, изумленно пожирая глазами миниатюрные рисунки.
Каждый из них был чудесным образцом смелой и эмоциональной графики. Любовь Леонардо к птицам проглядывала в каждом изящном изгибе крыла. Его восхищение человеком пульсировало в повороте щеки или взгляде. Всего несколько уроков — и этот мальчик превратится в великого художника. Но я не мог его научить этому. Держа в руках рисунки, я понял, что способен ему дать лишь немногое. Ему нужны лучшие учителя, гораздо лучше, чем я. Я одновременно почувствовал и облегчение, и грусть, и любопытство при мысли о судьбе Леонардо. Может, все-таки не стоило выселять из домика моих арендаторов. Мой срок на поприще учителя Леонардо, скорее всего, будет недолгим.
— Лошадь? Вот она.
Он дотянулся до моей руки и перевернул листок другой стороной и вверх ногами. Под наброском пухлого младенца и собаки была лошадь.
— Нравится? Как зовут твою лошадь? Мы на ней поедем во Флоренцию? А когда мы уезжаем? И долго займет путь? Мы скоро поедем?
Закончены были только шея лошади, холка, голова и одна нога. Небрежными штрихами были обозначены остальные три ноги и круп.
— Прекрасно, но не закончено, — заметил я.
Леонардо пожал плечами. Я посмотрел на листок и заметил, что большинство рисунков были брошены незавершенными. Половина лица идеально прорисована, а половина едва намечена, или одно крыло птицы прорисовано в деталях, а все остальное — лишь намечено парой штрихов по бумаге.
— Ты что, никогда не завершаешь начатое?
— Столько всего нужно узнать, — ответил он, и по обеим сторонам его широкой улыбки появились озорные ямочки, совсем как у его хорошенькой матери.
Я покачал головой.
— Ты должен научиться доводить начатое до конца, это важно.
Он одарил меня ангельской улыбкой на непроницаемом лице, и я подумал, что если уж ничему больше не способен его научить, то научу его хотя бы настойчивости и упорству, которых во мне было хоть отбавляй. Позже я сам смеялся над своим тщеславием. Уж не знаю, чему он научился у меня, но я, глядя на него, прекрасно усвоил: учить значит извлекать наружу то, что изначально заложено в человеческом сердце, и человека можно научить только тому, чему он сам хочет научиться.
— Возьми, если хочешь, — сказал он и легко взмахнул ангельской ручонкой.
Я всегда ценил подарки, и этот не был исключением. Я нежно дотронулся до его головы и потрепал волосы. А потом отправился на постоялый двор. Этот листок с детскими рисунками был для меня настоящей драгоценностью, и я решил сохранить его. Я взбежал по ступенькам к себе в комнату и открыл кожаную сумку. Ей было всего несколько лет, я купил ее на базаре в Константинополе, где товары резко подешевели после падения города несколько лет назад. Я вынул блокнот Петрарки, который всегда носил с собой, как и фреску Джотто с изображением святого Иоанна и рыжеватого щенка у его ног. Я осторожно открыл обтянутую кожей книжку на середине.
— Что это? Записная книжка? А почему она пустая? — спросил мелодичный голосок прямо у моего локтя.
Естественно, Леонардо Любопытный пробрался за мной в мою комнату.
— Она пустая, потому что я еще ничего в ней не написал, — ответил я.
— А почему нет?
— Не знаю.
— Ты должен, — заявил он, подбоченясь.
Я вздохнул.
— Наверное, ты прав. Я жду, когда случится что-то особенное. И тогда запишу это в книжку.
— Особенное? Что, например? — не унимался он. — Что-нибудь из твоего видения о будущем? Вроде великой любви, о которой ты рассказывал тогда у пещеры, когда я тебя первый раз встретил?
Он, конечно, видел меня насквозь, но мне не хотелось об этом говорить.
— Ты чрезмерно любопытен и расспрашиваешь о вещах, которые тебя не касаются, — сказал я как можно строже.
— Дай-ка посмотреть, — потребовал он и осторожно взял у меня из рук книжку.
Леонардо сел на пол и внимательно пролистал ее, разглядывая каждую гладкую пергаментную страницу, как будто на ней и впрямь было что-то написано или он мог прочитать то, что будет написано в будущем. Хотя если и был человек, способный прочесть книгу будущего, то это был Леонардо.
— Я что-нибудь для тебя нарисую в этой книжке. На первой странице, чтобы тебе захотелось в ней писать.
Он лукаво улыбнулся и достал из кармана огрызок карандаша.
— Не знаю, хорошо ли это, — ответил я, уперев руки в бедра.
Слишком поздно — Леонардо уже взялся за дело. Его рука проворно забегала по странице.
— Ты левша, — заметил я и в ожидании присел на кровать.
— Угу! — хмыкнул он, не поднимая головы.
Некоторое время я просто сидел, наблюдая, как рисует этот мальчик. Стоял ясный теплый июньский денек, за окном щебетала какая-то птичка, и комната вдыхала ароматы полевых цветов. Солнечные лучи, отраженные от мирных холмов и ярких подсолнухов, от скалистой Монте Альбано и струящихся ручьев, мягким, словно благоухающим светом заливали комнату. На какой-то миг я почувствовал, что погружаюсь в покой, растворяюсь в нем без остатка. Мое тело отяжелело, все мысли улеглись и замолкли. И мне вспомнился давно минувший день в Босе на острове Сардиния, когда с письмом от Ребекки Сфорно ко мне пришел Странник. Как и в тот день, дрожащие тени остальной моей жизни растаяли, оставив лишь этот единственный миг. Я ощутил пространство — не пустое, а наполненное чем-то неопределенным, что чувствовало сердце, — между мной и этим одаренным мальчиком, который рисовал в записной книжке, подаренной мне когда-то давно Петраркой. И вот я успокоился и принялся ждать, когда Леонардо закончит рисунок. Наконец он поднял голову.
— Это очень хорошая книжка. Мне тоже такую надо. Ты мне купишь? — спросил он с такой искренней мольбой в глазах, что я ответил «да» прежде, чем обдумал эту просьбу.
Мальчик так и просиял.
— Здорово! Спасибо, учитель Лука. Ты столь же щедр, сколь и красив!
— Ну-ну, — с сомнением пробормотал я.
Я знал, что он подлизывается. Но Леонардо запрокинул голову и засмеялся.
— Нет, правда! — воскликнул он. — Но моя книжка не останется пустой! Я заполню ее магическим письмом. А потом еще одну, и еще, и еще!
— Ну-ну, — повторил я, но с гораздо меньшим сомнением. Запросто можно поверить, что магия — прислужница златовласого Леонардо. А если так, то, может быть, именно ему я смогу наконец доверить воображаемую магию, которая преследовала меня всю жизнь: мою вечную молодость и долголетие. За все годы странствий я встретил только одного человека, который обладал тем же даром: это был Странник. Возможно, какие-то алхимики вроде Гебера и знали секрет долголетия, но никто не признавался в этом, по крайней мере, при мне такого не случалось. А я спрашивал. И у Леонардо я спросил, небрежно, хотя на самом деле вопрос был для меня очень важен:
— А как же ты его сделаешь магическим?
Он вскочил и вручил мне книжку.
— Не знаю. Я буду писать задом наперед или еще как-нибудь иначе.
Он вдруг вытаращил глаза и засмеялся. Я вопросительно посмотрел на него, и он пояснил:
— Ты рассказывал мне, что видел будущее. Иногда я тоже что-то вижу — мельком, словно мгновенно заглядываю вперед сквозь время. Я только что видел людей, которые живут в далеком будущем и пытаются прочитать мой перевернутый почерк. Они будут озадачены и сбиты с толку. Поэтому мое письмо покажется магическим другим людям, но объяснение будет простым и естественным. Магию всегда можно легко объяснить, разве нет?
Я промолчал, разглядывая его рисунок. На нем был привлекательный человек лет двадцати пяти с правильными тонкими чертами, не слишком изящными, но благородными. Было что-то задумчивое и печальное в его взгляде и едва заметной, ироничной и почти горькой усмешке на полных губах.
— Неужели я такой печальный? — тихо спросил я.
— А разве нет? — невинно переспросил он.
— Нет.
— Может, когда-нибудь станешь, — пожал он плечами. — Может, ты не сможешь найти свою великую любовь и будешь сильно опечален! Тогда ты будешь рад, что учил меня, и если не будет любви, то у тебя хотя бы будет моя дружба! Правда?
Я угрюмо посмотрел на него. Он дождался, пока я осторожно положу его листок с набросками в книжку Петрарки, закрою ее, завязав кожаным ремешком, и уберу обратно в сумку. А потом весело спросил:
— Итак, мы наконец едем во Флоренцию? Где я буду сидеть — впереди тебя или сзади?
Собор был достроен. Таким я никогда его не видел. Великолепный красный купол был самым большим во всем христианском мире, он возвышался над городом, покрывая едва ли не все население Тосканы своей тенью. Необязательно подходить к нему близко, как сделали мы: он был виден отовсюду, он возникал над каждой узкой каменной улочкой, неожиданно и властно врываясь в поле зрения, стоило только завернуть за угол или ступить на площадь. За долгое время, что я отсутствовал в моей несравненной родной Флоренции, строительство было закончено, и собор был мне горьким напоминанием о том, сколько всего я упустил. Хотя негодяю Николо Сильвано и не удалось сжечь меня на костре шестьдесят четыре года назад, ему удалось отнять у меня целый человеческий век воспоминаний о моей родине — Флоренции, где самые улицы, казалось, напитали меня небывало долгой молодостью, где церкви и дворцы были моей родней, где я получил крещение от вод реки Арно.
— Его построили круг за кругом, — рассказал Леонардо, прервав мои мысли. — нутренняя конструкция сделана очень изобретательно, так что начало и конец невозможно отделить одно от другого, поэтому давление сил распределяется по кругу и нигде не нарушается. Круги позволяют куполу вознестись на небывалую высоту, о какой до этого собора нельзя было и мечтать!
— Он восьмигранный.
— А внутри сложен кругами, — настаивал Леонардо. — В куполе имеется два внутренних каркаса, которые выполнены в виде серии концентрических колец, которые уменьшаются к вершине. Поэтому капомаэстро[511] Брунеллески[512] построил его без лесов. Он полагался на силы, которые сходятся у вершины купола, где фонарь своим весом может поглотить внутреннюю силу и перенаправить ее наружу. А еще он использовал древнеримский способ кладки кирпича «в елочку», соединяя каждый новый слой кирпичей с предыдущим таким образом, чтобы конструкция сама себя поддерживала. И вот собор тянется ввысь благодаря целостному замыслу, и Брунеллески был великим гением!
— Откуда ты столько знаешь, малыш? — спросил я и потрепал пушистые волосы, разглядывая купол.
Вокруг нас было мало людей, хотя стоял ясный летний день. Чума имела обыкновение заманивать людей в дома и за запертые двери.
— Все говорят о соборе, — ответил он. — А я слушаю!
— В этом я не сомневаюсь. А что еще ты слышал?
— Умный Брунеллески изобрел несколько механизмов для строительства. Разве не здорово? — воскликнул Леонардо. — Я тоже хочу многое изобрести! Он придумал лебедку для поднятия огромного веса на огромную высоту. Эту лебедку тянут волы. Ты только представь! Он поднимал мрамор, кирпичи, камни и известку под самые небеса! Это просто чудо, его лебедка, такая огромная и мощная, а уж эта двусторонняя шестерня…
— Хватит! — Я поднял руки. — Я не архитектор и не математик и ничего не смыслю в технике. Тебе нужен другой учитель, если хочешь этому научиться!
— Но разве тебя это не увлекает? Эти вопросы силы, и движения, и веса? — Он повернулся ко мне, жестом указывая на Собор. — Если мы сумеем их подчинить, то для человека не будет ничего невозможного! Мы сможем построить летающие машины, которые ты видел в своих видениях, плавающие машины и другие изобретения, в которые так трудно поверить! Разве ты не понимаешь, как это важно?
Мне с трудом верилось, что это тот самый ребенок, который звякал камешками в карманах после прыгалок на траве. О лебедке он говорил совсем как взрослый мужчина. Он заслуживал уважения к себе, и я поразмыслил немного, прежде чем ответить. Я окинул взглядом неестественно тихие улицы, и одна часть моего сознания высматривала лицо с острым, как нож, носом и выступающим подбородком, а другая — последствия чумы. Я слышал, что в настоящее время в городе умирает по сорок человек в день. Это меньше, чем умирало в разгар чумы 1348 года, во время первой эпидемии, но все равно это слишком много. Слишком много матерей, отцов, сыновей и дочерей умирали безвременной смертью. Что смешного видит Бог в таких ужасных бедствиях? Я посмотрел на Леонардо и решил защитить его. Мир безмерно обеднеет, если такой человек умрет молодым. Он терпеливо смотрел на меня, нахмурившись, в ожидании ответа на свой вопрос.
И я сказал:
— Мне больше интересен вопрос о красоте. Обрати внимание, насколько изящен восьмигранник, стройный, но величественный и в то же время массивный, как скульптура…
— Подумаешь, скульптура! Искусство живописи выше скульптуры, — ответил мальчик. — Живопись превосходит все человеческие творения, потому что включает столько тонких возможностей. Скульптуре не хватает многих естественных свойств живописи, она не может показать прозрачные, светящиеся или блестящие тела, как на картинах. Но если тебе больше нравится скульптура, пойдем со мной в Ор Сан-Микеле!
Он взял меня за руку и ринулся на юг от Санта Мария дель Фьоре, туда, где в мои молодые годы стояло сгоревшее зернохранилище, Ор Сан-Микеле. За время моего заточения у Сильвано там выстроили новый многоэтажный рынок с лоджиями: верхние этажи использовались под склады, а на первом отправляли богослужения. Со временем его окончательно превратили в церковь в честь чудотворного образа Девы Марии.
Леонардо остановился перед одной из наружных ниш.
— Вот великолепная скульптура, — указал он, запыхавшись от бега по улице.
Я заглянул в нишу, на которую он показывал. Это была самая западная ниша на южной стороне здания. И в самом деле, там стояла замечательная скульптура святого Марка. Убедительная поза, идеальное равновесие и внутренняя устойчивость. Я тотчас заметил, что скульптор с особым мастерством расположил складки одежды, которые ниспадали, как на живом теле. Облик святого дышал энергией и жизнью, в нем были соблюдены естественные, правильные пропорции. Каждая складка одежды, каждое место, где драпировка прилегала или ниспадала с фигуры, усиливали впечатление от крепкого, здорового тела под одеждой.
— Кто этот скульптор? — восхищенно спросил я.
Как раз в тот момент зазвонили церковные колокола, а потом набат подхватили и другие колокольни Флоренции. Эта какофония призвана была отогнать чуму, уносящую жизни горожан. На улицах появилось какое-то движение, раздались крики, и несколько встревоженных священников понесли куда-то образ Мадонны. Процессия с картиной выражала мольбу, одновременно служа оберегом от болезни и смерти. Я, как давний и опытный врач, только покачал головой. Суеверия ни от чего не спасают. Моше Сфорно верил, что чума, как и любые болезни, имеет естественные причины, их нужно найти, чтобы придумать лекарство.
— Этого святого Марка изваял Донателло на средства полотняной гильдии. Посмотри, как прекрасно его лицо и какое оно умное, — кричал Леонардо, стараясь перекрыть колокольный звон, и тембр его голоса оставался нежным и мелодичным, несмотря на громкость. — Видишь, как задумчиво он нахмурился. Посмотри, какой у него сосредоточенный взгляд — это потому, что на глазных яблоках насечены зрачки, чтобы глаз получал образы из воздуха. Разве Донателло не гениален?
— Ты говоришь как горячий поклонник скульптуры, — лукаво заметил я, ткнув мальчика локтем в бок.
— Я не отрицаю, что это прекрасно, — ответил он. — Просто мне больше нравится живопись, и мои рассуждения привели меня к выводу, что это высший вид искусства.
— Неужели? — переспросил я. — Ну, раз уж ты любишь живопись, тогда пойдем в церковь Санта Кроче и посмотрим на фрески Джотто. Вот это я называю красотой!
Три дня спустя мы с Леонардо отправились вместе в Кареджи на ужин на вилле Медичи. С нами поехал и второй долговязый сын моих арендаторов Нери. Я попросил Нери нас сопровождать, решив, что было бы благоразумно с моей стороны заручиться крепким плечом для игры в кальчо, даже если это плечо неученого крестьянина. Да и кто я такой сам, как не уличный босяк, шлюха и врач, богатый искатель приключений, превратившийся в учителя? Мой собственный опыт подсказывал мне, что положение человека в жизни не определяет его качеств.
Стояло солнечное июньское утро, на небе ни облачка, и легкий ветерок колыхал лаванду на тосканских лугах. Мы ехали через череду холмов, мимо аккуратных виноградников и серебристо-зеленых оливковых рощ и благоухающих кипарисовых островков. Мы видели крестьян за работой, но никто нас не приветствовал: как и всегда во время чумы, все сторонились незнакомцев. Я привез с собой сокола, которого получил от старого кондотьера, напарника в нескольких сражениях. Сварливый старый солдат был франком, а не флорентийцем, но после отставки обосновался в тосканской деревне, наслушавшись моих рассказов о Тоскане. Из его писем я знал, где он живет. Когда я появился у него на пороге, он со слезами обнял меня, а когда я сказал, что мне нужен подарок, достойный короля, он кивнул и еле согласился взять с меня деньги. Все-таки я настоял, ведь он был в отставке и нуждался в деньгах. Итак, он продал мне лучшего сапсана из своего питомника — красивую, обученную птицу с большими крыльями, которая спокойно позволила набросить на себя колпак. И мы отправились с подарком к Лоренцо де Медичи.
Леонардо шел передо мной в перчатке, держа за ремешок сидящую на руке птицу. Его привело в восторг это задание, и между воркованиями и похвалами, обращенными к птице, он попросил меня пустить лошадь галопом. Я уступил, и он взвизгнул от восторга. Джинори пошел шире, расправил плечи, и мы помчались через холмы к вилле Медичи.
Мы прибыли в Кареджи и рысью объехали скопление повозок с говорливыми дамами. Мы остановились около лошадей с заплетенными в косы гривами и хвостами, с которых спешивались мужчины. Слуга забрал Джинори и крепкую крестьянскую лошадку Нери, пока я озирался в поисках Лоренцо. Я не увидел его, но, когда вывел Леонардо из толпы, он сам нас нашел.
— Лука Бастардо, почетный гость! — донесся до меня его высокий гнусавый голос. — Добро пожаловать!
Он подошел к смеющейся переговаривающейся толпе, и люди почтительно расступились, пропуская его: хотя ему и было всего пятнадцать, но все уже чувствовали исходившую от него властную силу. Он направлялся к нам, черные волосы развевались на ветру, лицо светилось радостью. Быть может, мне это только показалось, но я и тогда уже догадался, что, когда дело касалось Лоренцо, тут никаких «показалось» быть не могло. На нем была простая рубаха поверх штанов, без камзола. Видимо, он готовился к игре в кальчо.
— Синьор, — поприветствовал я с легким поклоном.
Лоренцо засмеялся и сердечно обнял меня.
— Ты старый друг семьи. Дедушка тебя любит, неужели ты думал, что смог бы отделаться таким прохладным приветствием? А кто этот юный плутишка с такой чудной птицей на рукавице? — спросил Лоренцо и отступил на шаг, чтобы разглядеть Леонардо.
По лицу Лоренцо при виде Леонардо разлилось тихое умиротворение — типичная реакция на его дивную красоту. Однако страх, мгновенно промелькнувший в глазах Лоренцо, не был типичным. Интересно, чего он испугался.
Леонардо невозмутимо улыбнулся Лоренцо. Этот мальчишка редко чего боялся, скорее принимал все с полным спокойствием.
— Ты будешь очень важным человеком. Будешь править миром, — произнес Леонардо. — Я вижу это. Но твоя дорога будет полна опасностей.
Лоренцо задумался.
— А дедушка с тобой знаком, мальчик?
— Вряд ли. Меня зовут…
— Отлично, тогда я познакомлю тебя с семьей, — улыбнулся Лоренцо и потрепал золотистые кудри Леонардо.
— Разумеется, — кивнул Леонардо. — Меня зовут Леонардо, сын сера Пьеро из Винчи, — со всей серьезностью произнес он. — А это подарок для вас от моего учителя, Луки Бастардо.
Он протянул птицу Лоренцо, и у того загорелись глаза. Лоренцо смотрел на сокола, затаив дыхание. Он умело распутал путы на ножках птицы и быстрым движением пальцев спустил колпак. Потом он взял Леонардо за руку и подбросил птицу. Та взмыла в небо. Толпа замолкла, и все, запрокинув головы, следили за ее полетом. Она парила и кружила высоко над холмами темной крапинкой на фоне солнца, и ее контур вычерчивался тонким ободком лилового сияния. Я подумал, что вот так, наверное, выглядел мой дух в те давние годы, когда я уносился к фрескам Джотто, работая у Сильвано, хотя я был не хищником, а скорее жертвой, которую пожирали каждый день. Внезапно сокол поджал крылья и нырнул вниз, и его силуэт становился все крупнее и крупнее, приближаясь так стремительно, что захватывало дух. И вот он камнем упал на землю на холме неподалеку от виллы. Толпа зааплодировала, и все понеслись к месту падения.
— Заяц! — закричал Лоренцо, который, естественно, ринулся впереди всех, возглавляя гонку.
— Заяц, заяц! Браво! — присоединились другие голоса.
Леонардо подбежал к Лоренцо, тот взял у мальчика перчатку и посадил птицу себе на руку.
Через минуту и я подошел к ним, проталкиваясь через толпу зрителей.
— Этой красавице нужно мяса, — проворковал Лоренцо.
Волосы у него растрепались, сам он запыхался. Я вынул кинжал из ножен и, держа за кончик, протянул Лоренцо. Тот засмеялся и бросил мне зайца.
— Отрежь ей кусочек, — сказал он. — Ты не испугаешься крови и потрохов!
Я пожал плечами и вспорол зайцу брюхо.
— А теперь, учитель, если будете резать осторожно, то увидите тонкую мембрану, которая отделяет кожу от внутренностей, — заговорил мне под руку Леонардо, сам как старый учитель, а не одиннадцатилетний мальчик. — Не надо так резко. Осторожно, осторожно, внутренности чудо как хороши, ведь это механизм самой природы!
Я только покосился на него и вполголоса спросил:
— Кто тут у нас учитель, а?
Он хохотнул, но ничего не ответил. Я вырезал зайцу кишки и бросил кусок кровавого мяса Лоренцо, который он скормил соколу-сапсану.
— Прекрасный подарок, — произнес он и склонил голову. — Подарок, достойный короля. Принимаю его с удовольствием!
Но взгляд, который он бросил, был пронзителен, как у сокола, и я понял, что, выдержав первое испытание и ответив достойным подарком на подаренное седло, я еще не прошел проверку и испытания продолжаются.
— Не теряйте даром зайца, пусть ваши слуги его потушат, — предложил я.
Он весело засмеялся и показал на слугу. Я бросил зайца человеку, похожему на мавра, и тот низко поклонился.
— Я должен показать этой принцессе ее новый дворец! — объявил Лоренцо. — А потом готовьтесь играть в кальчо!
И он удалился, сопровождаемый дюжиной мужчин, которые поздравляли его с чудным подарком, нахваливая красоту и ловкость птицы. А я повернулся к Леонардо.
— Как играют в кальчо? — спросил я.
Леонардо тихо рассмеялся и зажал себе рот ладошкой.
— А ты никогда не играл?
— Откуда взять время на игры, когда надо зарабатывать деньги, чтобы не умереть от голода, предотвратить неудачи, разорения, бедствия и смерть? — спросил я резковато.
С тех пор как Массимо, мой старый приятель с улицы, продал меня Бернардо Сильвано, я никогда не испытывал судьбу. Я знал, как серьезно люди относились к состязанию, даже когда оно имеет вид игры.
— Да и кому вздумается играть в глупые игры, когда можно наслаждаться фресками Джотто и Фра Анджелико или скульптурами Донателло? И зачем…
— Не волнуйтесь, учитель, — ответил Леонардо, жестом призывая меня успокоиться. — Кальчо очень простая игра. После праздников мальчики из Анкьяно собираются вместе и играют против мальчиков из Винчи. Я еще маленький, чтобы с ними играть, но всегда смотрю, как они играют. Есть кожаный мяч, его нужно загнать за линию противника. Это называется гол. Бежишь с этим мячом или передаешь кому-нибудь другому. Еще его можно поддавать ногой.
— Да, вроде легко, — согласился я. — А правила?
— Какие еще правила? Загнать мяч за линию противника. Но это нужно сделать умело. Если попытка окажется неудачной, это дает половину гола для другой команды.
— И как же загнать мяч за линию противника?
— Да как угодно, — пожал плечами Леонардо.
— Естественно, вы в моей команде, мне нужны сильные люди, — бодро сказал Лоренцо и бросил мне зеленую тунику. — Мне надо самому посмотреть на уличный темперамент Бастардо, которым так восхищался дед, да и воспользоваться им, как он. Я непременно должен одержать победу!
Он бросил своей команде зеленые туники, а белые — команде противника. Затем сжал мое плечо — по-дружески, но этот жест был неумолимым и, наверное, оставил синяк. Вот и еще одно испытание, подумал я. Как хорошо я за него сыграю. Увидеть, каков мой темперамент, чтобы знать, как им воспользоваться. Мне это не пришлось по душе: ни испытание, ни скрытая за ним цель — оценить мою полезность. Если я докажу свою пригодность, Лоренцо заставит меня пойти к нему на службу, и моя свобода выбора будет резко ограничена. Если покажу себя непригодным, он даст мне отставку и лишит покровительства, которым я пользовался у его деда. Ни то ни другое меня не устраивало.
— Дай-ка зеленую рубашку и моему товарищу Нери, — ответил я, махнув через плечо на парня у меня за спиной.
Лоренцо метнул в него молниеносный оценивающий взгляд.
— Подкрепление? Разумно!
Он улыбнулся и бросил мне еще одну рубашку. Я поманил к себе Нери, который грелся с Леонардо на солнышке и жевал травинку. Нери подарил мне ленивую широкую улыбку и подошел, шаркая ногами. Я бросил ему рубашку, он стянул свой рваный и залатанный камзол и накинул рубаху. Я последовал его примеру: снял свой камзол и натянул зеленую тунику.
— Хорошая у вас рубашка. Надеюсь, вы не любите ее так, как своего коня, Джинори у вас всегда чистенький и гладенький, — серьезно сказал Нери. — А рубашки после кальчо у всех драные.
— А ты раньше играл? — спросил я, и он просиял.
— А как же! Столько раз, что и не сосчитаешь. Я хороший игрок. Меня не очень-то потолкаешь, я же вон какой здоровый!
— И какие тут правила?
Он почесал косматую голову.
— Надо загнать мяч за линию, и будет гол.
И он ткнул пальцем в деревянную загородку по грудь высотой, которая перегораживала с обоих концов поле — поросшую травой площадку за виллой.
— Понятно, — сквозь зубы процедил я.
Оглядевшись, я увидел деревянные скамейки, которые поставили вдоль поля под яркими, украшенными лентами навесами. Без умолку болтающие дамы в праздничных нарядах, орущие дети и ворчащие старики — все стекались из дома и сада, чтобы занять места под навесами. С каждой минутой гомон становился громче. Затем поднялся радостный приветственный гул, и, обернувшись, я увидел, как нетвердой прихрамывающей походкой из дома вышел Козимо. С одной стороны его поддерживала под руку жена, с другой — скверно одетый человек лет за тридцать, следом шли заботливые слуги. Козимо в знак приветствия поднял руку, а потом, заметив меня, махнул ею. Он указал на украшенную фестонами телку, которую вели сзади, и победно сцепил руки над головой. Я понял, что телка предназначалась победителю в качестве приза и Козимо пожелал мне удачи. Я улыбнулся, кивнул и помахал в ответ. Потом повернулся к Нери.
— Так как именно добиться гола?
— Можно бросить мяч за линию, можно забить ногой, — начал Нери, почесав затылок.
— Играют две команды по двадцать семь человек, — вмешался Лоренцо.
Он уже раздал всем рубашки и жестом подозвал к себе всех «зеленых». Он представил меня остальным «зеленым» просто как «Луку», хотя среди них я узнал много знатных людей. Даже те, чьи имена были мне неизвестны, были богачами, судя по добротным кожаным ботинкам и дорогим штанам. Лоренцо начал объяснять:
— Цель гола — это загнать мяч за линию противника. Его можно нести в руках, можно бросать, забить ногой или передать другому игроку. Нужно увертываться от защитников противника, которые всеми способами будут стараться не пропустить тебя: сшибать с ног, бить, пинать — да все что угодно.
— Все что угодно? — переспросил я.
Лоренцо улыбнулся и коснулся своего сломанного носа.
— Думаешь, как я это заработал? — Он подмигнул мне. — Ты же не боишься, Бастардо? После всего, что я наслушался о тебе от деда! Или ты бережешь свою храбрость для него?
— Лучше смерть, чем позор, — сухо ответил я, и «зеленые» с криками «Браво!» стали хлопать меня по спине.
Лоренцо подмигнул, уловив иронию в моем голосе, но тут же энергично закивал, словно воспринял мои слова всерьез.
— Вот таких игроков я люблю! — сказал он. — Твердых и решительных. Для меня нет ничего важнее победы. И я приближаю к себе людей, которые помогают мне добиться победы. — Он наклонился к самому моему уху, чтобы только я расслышал последние слова: — А те, кто не помогает победить, пусть катятся к черту!
Он многозначительно посмотрел на «белых», и я проследил за его взглядом. Я увидел худощавого юношу, который только что выбежал на поле поучаствовать в игре. Он сбрасывал жилет и натягивал белую тунику. На юноше были крепкие кожаные ботинки и недешевые штаны, сшитая по фигуре рубашка. Он, очевидно, был богат и пользовался успехом среди знатной молодежи, его обступили гурьбой, подтрунивая над ним за его опоздание. Затем юноша обернулся, и у меня внутри все похолодело, к горлу подступил комок. Это лицо преследовало меня в кошмарах: похожий на нож нос над острым торчащим подбородком. Я быстро отвернулся, пока он меня не заметил. Я костями чувствовал, что клан Сильвано меня помнит.
— Пьетро Сильвано, — прошептал я, и у меня перехватило дыхание.
— Рад, что ты понимаешь, насколько высоки ставки, — проговорил Лоренцо.
«Зеленые!» — кричали одни зрители, а другие: «Белые!»
Джулиано де Медичи, красивый и не по годамвозмужавший младший брат Лоренцо, возглавлял команду «белых». Он был на несколько лет младше Лоренцо, но быстро взрослел. Расхаживая с важным видом, он махал руками и посылал воздушные поцелуи посмеивающимся дамам. Одна полная матрона встала и крикнула что-то про его тощие ножки под штанами, и Джулиано демонстративно обхватил себя за промежность, чем вызвал еще больше смеха и гиканья. Лоренцо выразительно посмотрел на брата: не в его характере было рисоваться перед публикой, и стал громким голосом давать последние указания команде «зеленых». Меня он назначил защитником, а Нери приказал быть готовым брать пас. Затем раздалась барабанная дробь, запели фанфары, и зрители умолкли, приготовясь смотреть. Игроки начали занимать свои места на поле, между делом перебрасываясь хвастливыми репликами и добродушной бранью. Я встал сзади, заметив, где стоит Пьетро Сильвано, и решил держаться от него подальше. Веселый задор угас во мне, игра перестала быть для меня игрой. Или это было продолжением все той же смертельной игры, которая сопровождала всю мою жизнь — нескончаемый фарс на потеху Богу. Меня сильно разозлило то, что я вновь оказался в старом качестве невольного шута, объекта божественной иронии.
Мальчик в зеленой рубахе и с зеленым флагом занял место перед зеленой оградой на одном конце поля, а одетый в белое паренек с белым флагом встал на другом конце, обозначая линии обеих команд. Народ встретил мальчишек свистом и криками, призывая их держать флаги повыше, и ребята, залившись румянцем, подняли руки повыше. Через несколько секунд вновь трижды пропела труба. Коренастый судья в головном уборе с плюмажем и с зубастой улыбкой подбросил мяч в воздух, и началось побоище.
Лоренцо был выше и крупнее Джулиано и мог подпрыгнуть выше и ударить сильнее, чтобы заполучить мяч. Он пнул его зеленому игроку, и участники игры понеслись по полю в разные стороны. Я побежал к Лоренцо с намерением смести «белых» с его дороги, что, видимо, и должны были делать защитники. За мной бросился Нери, а потом меня сбили двое «белых». Я рухнул на землю, и по мне безжалостно замолотили ногами. Я знал то, чего не знали напавшие на меня игроки, — все мои ссадины заживут через день или два. Но меня все равно взбесило то, что меня бьют. Меня немного утешило, что среди этих игроков не было Пьетро Сильвано, хотя они словно намеревались выполнить за него его работу. К счастью, Нери заметил, что меня сбили. Он расшвырял «белых» и улыбнулся мне сверху.
— Это вы должны так делать с «белыми», — прокричал он, чтобы я услышал его за ором игроков и воплями зрителей.
— Буду иметь в виду, — прокричал я в ответ, вытирая кровь с губы.
Нери кивнул и помчался дальше, а я огляделся вокруг в поисках Лоренцо, Сильвано или мяча. Не стоило мне задерживаться надолго в одном месте, потому что в следующую секунду на меня сверху накинулся какой-то «белый». Он ударил меня, и мы покатились по земле. После первой схватки я был уже ученый и не дал уложить себя на лопатки. Я изо всей силы ударил мужчину между ног, он взвыл и откатился от меня. Я вскочил на ноги и побежал зигзагами. Я не знал, куда нужно бежать и зачем, но решил, что лучше не расслабляться и двигаться быстро, чтобы еще раз не напали. Я увидел, что мне навстречу бежит Сильвано, и свернул в другом направлении. В тот же момент ко мне полетел кожаный мяч и угодил со всего размаху в живот. У меня перехватило дыхание и глаза чуть не вылезли из орбит, но я не остановился, а прижал мяч к груди и огляделся, кому бы его передать. Недалеко от меня Нери разнимал игроков. Я бросился бежать дальше, виляя из стороны в сторону, а потом из-под кучи тел, которые растаскивал Нери, выскочил Лоренцо в порванной рубашке и с окровавленным лицом. Лоренцо увидел меня, и я изо всей силы бросил ему мяч. Он был тяжелый, но Лоренцо ловко поймал его и кинулся бежать, на бегу прижимая мяч к груди.
На Лоренцо кинулись двое «белых», но я рванул им наперерез, а нам на помощь уже бросился Нери с другими «зелеными». Лоренцо вырвался вперед, подбежал к загородке и метнул мяч через нее. Зрители взорвались криками, забили барабаны, зазвучали фанфары. Судья подбросил свою шляпу с плюмажем, возвещая гол «зеленых». Знаменосец «зеленых» с криками замахал флагом и перебежал на другую сторону поля, и вся команда «зеленых» с ликующими криками последовала за ним. На меня смотрели многие «белые», чего я очень хотел избежать, поэтому я, понурив голову, смешался с толпой ликующей команды. Знаменосец «белых» как бы под шумок тоже перешел на другую сторону поля, и теперь линии поменялись местами.
Затрубила труба, мы встали по местам, и я занял место сзади, приметив на другой стороне поля Сильвано. Ему порвали белую рубашку, на лице тоже была кровь, как и у большинства из нас. Может, подобраться к нему сзади и сшибить с ног так, чтобы он меня не увидел? Тогда он выйдет из игры, и риск быть узнанным сведется к минимуму. Может быть, я смогу даже убить его, выполнив наконец старую клятву убить Николо Сильвано? Я обвел взглядом команду, взвешивая шансы на успех. Шансы были неважные. Слишком большая неразбериха, а если я убью человека во время кальчо, это привлечет ко мне внимание.
Судья вновь подбросил мяч. И снова началась потасовка. На этот раз я не стал мешкать, и правильно сделал, потому что меня сразу окружили четверо «белых». Теперь они рассвирепели, потому что я помог забить гол, и пришлось вспомнить все уловки, которым я научился на улице, чтобы обхитрить их и не попасться на глаза Сильвано. Мне это не очень удалось, и один «белый», налетев откуда-то сбоку, дернул меня сзади за руку, и я завертелся волчком. Я потерял равновесие и влетел в кучу «белых», которые навалились на меня и сшибли на землю, а потом начали мутузить по лицу и по ребрам. Я выворачивался, закрывая лицо и горло руками, лягнул сначала одной ногой, потом другой. Казалось, это продолжалось целую вечность, но, скорее всего, заняло несколько минут, а потом «белые» скатились с меня, как мешки с зерном, сброшенные в кучу. Путь был свободен, и я вскочил, раздавая пинки, и, едва утвердившись на ногах, заехал кулаком в лицо показавшемуся передо мной «белому» игроку. Я угодил ему прямо в нос, из которого хлынула струя ярко-алой крови. Человек со стоном рухнул на землю и сгреб в кулак ленты на моей тунике, а рядом уже был верный Нери; тяжело дыша, он стоял рядом с Лоренцо, который мне подмигнул.
— Быстро учишься, — пропел Лоренцо.
Лоренцо и Нери снова умчались в разные стороны, а я бросился на «белого», который кое-как поднялся на ноги. Мне никогда не нравилось, когда меня били. Моей команде это вряд ли принесло пользу, зато я отвел душу, двинув его кулаком в челюсть и глядя, как он валится без сознания.
Вновь поднялся гвалт, но на этот раз гол забили «белые». Затрубили горны, судья швырнул свою шляпу к «белым», и знаменосец «белых» побежал через поле, уводя за собой игроков своей команды. Их возглавлял Джулиано, он бежал размашисто и высоко вскидывал руки, поздравляя себя и свою команду. У большинства игроков на белых рубашках расплывались багровые пятна, кто-то вообще уже остался без рубашки, сорвав ее с себя во время игры. Среди таких был и Сильвано, и он бежал впереди, рядом с Джулиано. Он, кажется, до сих пор не заметил и не узнал меня. Я юркнул за спины своим «зеленым» и, оглянувшись, увидел, как Леонардо машет рукой. Только волшебник Леонардо мог так командовать Медичи. Лоренцо подбежал к мальчику и наклонился к его златовласой голове. Леонардо жестикулировал, Лоренцо кивнул и убежал пошептаться с Нери и другими «зелеными». Они на минуту сгрудились вместе, а потом для нас зазвучала труба, призывая занять места на поле. Судья подбросил мяч, Лоренцо присел на корточки, вместо того чтобы подпрыгнуть, и Джулиано смог ударить по мячу. Юный Джулиано не ожидал получить мяч и ударил неудачно. Мяч соскочил на землю, и его поймал Лоренцо, отбежал на несколько ярдов прямо к «белым» и, крутанувшись, метнул мяч Нери, который вовремя вынырнул у него из-под локтя, затаптывая «белых», как бык овец. Нери не схватился за мяч, а бросил его перед собой и пнул в воздух. Удар получился сильный, потому что тяжелый мяч описал в воздухе широкую дугу и приземлился прямо в руки шустрого «зеленого», который поджидал у самой линии «белых». «Зеленый» проворно швырнул мяч через линию, и толпа взревела. Еще один гол в пользу «зеленых», и на этот раз сразу после гола противника. Лоренцо поднял большой палец, обернувшись к Леонардо, и дерзкий мальчуган, расплывшись в улыбке, отвесил ему учтивый поклон. Даже тогда я знал, что становлюсь свидетелем зарождающейся дружбы. И мне пришел в голову вопрос: может быть, вернувшись во Флоренцию, я, вместо того чтобы жить своей судьбой, помогаю осуществиться судьбам других людей? Во что же я ввязался?
Прошло совсем немного времени (я потерял ему счет из-за опасностей жестокой игры и попыток спрятаться от глаз Пьетро Сильвано), и счет уже был четыре — четыре. Каждый получил свою долю побоев, в той или иной степени. Я сам был весь покрыт синяками и залит кровью, хотя в основном это была чужая кровь. Одно ребро мне точно сломали, но я не остался в долгу: тоже дрался не хуже других. Человек, сломавший мне ребро, убрался с поля со сломанной рукой. Пришедший ему на замену опасливо поглядывал в мою сторону и обходил меня стороной. Остальные «белые» стали злыми и осторожными. Я ловил на себе их хмурые взгляды, слышал, как они шепчутся и топают ногами. С запозданием я понял, что не стоило давать себе волю и в пылу схватки ломать «белому» руку. Я стал гораздо заметнее, своего рода мишенью для остальных «белых». Мои глаза выискали Пьетро Сильвано, который смотрел в мою сторону, прикрывшись ладонью от солнца. Я отступил в задний ряд и решил держаться на время игры поближе к отважному Нери. «Белые» только что забили гол, и Лоренцо поглядел на Леонардо, который уже стоял между Козимо и двумя его прислужниками. Леонардо поймал взгляд Лоренцо и выбежал из-под навеса. Лоренцо подошел к нему, и они стали совещаться. Леонардо ткнул в меня пальцем, Лоренцо кивнул и затрусил ко мне.
— Теперь будете нападающим, — сжато сообщил он.
— Что? Да я не знаю как. Мне просто повезло, что я передал тебе мяч для первого гола, — испуганно ответил я. — Я просто каждый раз пытаюсь увернуться от побоев!
— Встаньте впереди слева от меня. Я пошлю вам мяч.
— Впереди? Ты шутишь? Да «белые» меня прикончат! Вон как разозлились, что я тому парню руку сломал!
— Этот парень, если хочешь знать, Леопетто Росси, наследник одного из старейших и богатейших родов Флоренции, и он собирается жениться на моей сестре Марии, — сказал Лоренцо, покосившись на меня.
Ему разорвали всю рубашку, как и всем нам, его резко очерченное лицо и вся мускулистая грудь были в подтеках и синяках. Гордо, как боевой конь, он словно не замечал своих ран и каждый раз бросался в самую гущу схватки, за что дамы и старики провожали его криками: «Браво, Лоренцо!» Думаю, для него было бы унижением остаться целым и невредимым. Он бы выглядел трусом. Могли бы даже подумать, что ему безразлично его положение. Этого он боялся больше всего на свете.
— Ничего себе! У твоего богатенького зятя полно друзей, и теперь они все ополчились против меня, — угрюмо ответил я.
Я надеялся, что вражда, возникшая во время этой игры, прекратится после ее окончания. Не хватало мне еще нажить новых врагов во Флоренции после того, как я вернулся сюда в поисках дружбы и любви, которая, как я надеялся, посетит меня по возвращении на родину.
— Ничего личного. — Лоренцо дружелюбно сжал мое плечо. — Это только кальчо.
— А Сильвано? — негромко возразил я, чтобы больше никто не услышал вопроса.
Лоренцо пожал плечами.
— Ради победы приходится идти на известный риск и на жертвы, не так ли? Когда судья подбросит мяч, бегите вперед и ловите. Вы должны стать героем для моей команды!
Пронзительно взревел горн, и все заняли свои места на поле. Лоренцо что-то объяснял другим жестами, но я не понял, что он хочет сказать. Я выбежал вперед и встал рядом с Лоренцо, как мне сказали, и человек, чье место я занял, улыбнулся и отошел назад. Меня увидели несколько «белых», в том числе Пьетро Сильвано. Тот, усмехаясь, переглянулся с остальными, и сердце мое ушло в пятки. Теперь уж меня определенно поколотят! Хуже того, теперь меня узнают, и если я выживу после избиения, меня потащит на костер Пьетро Сильвано со своим Братством. Судья подбросил мяч в воздух, и Лоренцо ринулся за ним, а я бросился вперед, к линии «белых». На меня накинулись по меньшей мере десять человек. Я не видел, был ли среди них Сильвано. Меня придавили так, что невозможно было дышать, но кости, кажется, остались целы. Я сражался, как мог, но не надеялся освободиться из-под навалившейся на меня своры, а уж тем более не видел возможности схватить мяч. И тут разом, в самом центре схватки, под грузом дерущихся тел, я понял, что и не должен был поймать мяч. План был совсем другой. Я должен был сделать именно то, что делал: забежать на линию «белых», отвлечь часть игроков и пожертвовать собой, чтобы Лоренцо передал мяч кому-нибудь, кого не опекают чужие защитники, чтобы он забил гол «белым». Меня использовали! Хуже того, я позволил себя использовать, несмотря на то что столько раз в своей жизни обещал себе, что никогда этого не допущу. Мне стало ясно, что Лоренцо де Медичи нет никакого дела до чужих обетов, данных самим себе или Богу. И еще мне стало ясно, что, оставшись во Флоренции ради Козимо, я сделался пешкой в руках его внука. Можно сказать, я снова вернулся в рабство, и хотя оно было гораздо мягче, чем в публичном доме у Бернардо Сильвано, но так же ограничивало мою независимость. Оставалось только надеяться, что обещанная в моем видении любовь скоро меня найдет и оправдает эту ужасную жертву.
Раздались фанфары, и я понял, что план Леонардо сработал: «зеленые» забили гол. Затем трубы и барабаны заиграли вместе, возвещая об окончании игры. Десяток человек, которые прижали меня к земле, никуда не делись, и два «белых» на самом дне свалки с азартом бросились щипать меня, а еще один «белый», придавивший своим телом мои ноги, больно уперся локтями в мое колено. Им негде было размахнуться, так что никто из них не мог отвесить толковый удар, но все же было больно. Во мне закипала злость, я начал кусаться и царапаться, потом обхватил первое попавшееся горло и крепко стиснул. Я знал, что это не горло Пьетро Сильвано, но он был где-то рядом, возможно, даже наверху кучи, и эта мысль придала мне сил. Мой противник дергался, но не мог издать ни звука. Груда тел начала распадаться, но я не выпускал горло «белого». Он хватал меня за руки, пытаясь разжать мои пальцы; наконец с него слез (или был сброшен) тот, кто его придавил. Кто-то схватил меня за локти и оторвал от горла «белого». Он перевернулся и свалился на землю, хрипло ругаясь и потирая посиневшее горло. Над ним склонились несколько «белых», в том числе и Сильвано, который стоял ко мне спиной. А надо мной нависли Нери и Лоренцо.
— Полегче, учитель, — предупредил Лоренцо и помог мне встать. — Это же товарищеская игра! Сегодня никто никого не собирается убивать, тем более Франческо де Пацци.
— Ладно, оставлю его на следующий раз, — буркнул я. — Может, сегодня я убью кого-нибудь другого!
Я посмотрел прямо в живые глаза Лоренцо, давая понять, что разгадал его план. Лоренцо улыбнулся.
— Выше нос, вы же у меня герой! Игра окончена, и «зеленые» выиграли!
— Потому что я шел впереди и отвлек на себя дюжину «белых»! — сердито прошипел я.
— Это была коварная жертва, вы вышли из схватки целым и невредимым и теперь получите дюжину приглашений от дам! — воскликнул Лоренцо.
— Я был бы не прочь заранее знать, когда меня хотят использовать! — огрызнулся я и нашел глазами Леонардо, который ликовал у навеса.
Я погрозил ему пальцем, он тихо рассмеялся и, хлопая в ладоши, заплясал, наслаждаясь моей злостью. Козимо поймал мой взгляд, хлопнул в ладоши над головой, закивал и крикнул:
— Браво, Лука!
— Мы с Леонардо знали, что вы рано или поздно догадаетесь. Меня очень заинтересовал этот мальчик, — тихо, но горячо произнес Лоренцо. — Совершенно необыкновенный юноша!
Потом вокруг нас столпилась вся команда. Они хохотали, хлопали меня по спине, взволнованно говорили о телке, которую мы выиграли, и обсуждали другие игры. Лоренцо сказал мне что-то, и я подставил к уху ладонь, не расслышав за поднявшимся гамом, что он говорит. Он позволил остальным заключить его в объятия и охотно присоединился к поздравлениям. Я потерял его из виду, когда и «белые» смешались с «зелеными». Все обнимались, целовались, а я отошел в сторону от игроков. Я был не в настроении, чтобы изображать притворное дружелюбие. Я не хотел нечаянно столкнуться лицом к лицу с Пьетро Сильвано. Прошло шестьдесят лет с тех пор, как его прадед чуть не предал меня огню, но я знал, чего можно ждать от этой семейки. Я знал, что зло сидит у них в крови. Они никогда не забудут кровной вражды. Пьетро наверняка рассказали обо мне и показали мое юное лицо на фреске Джотто, а я до сих пор был очень похож на того мальчишку.
Игра оставила во мне лишь беспокойство, тревогу и злость. Я был рад, что «зеленые» выиграли, но предпочел бы отметить это событие, отвернув парочке «белых» головы, в особенности Пьетро Сильвано. Не понравилось мне и то, что Лоренцо нечаянно подверг меня опасности. Я направился к Леонардо, чтобы высказать ему все, что я думал о подсказанном им стратегическом плане. Впрочем, одних слов тут явно было недостаточно. Хотя защита детей, можно сказать, заменяла мне религию, а благоговейное восхищение искусством было единственным ритуалом, который, как мне казалось, не может рассмешить Бога, но за боль и унижение, которые мне пришлось испытать, когда меня без предупреждения отправили на растерзание к противникам, где меня мог узнать мой заклятый враг, можно было отвесить и пару затрещин. А Леонардо был не дурак и, едва завидев меня, проворно спрятался за стулом Козимо.
— Отличная игра, Лука Бастардо! — засмеялся Козимо и протянул ко мне дрожащую руку в старческих пятнах. — Вы молодец, синьор! Отважный, смелый шаг с вашей стороны. Бросились в самую гущу «белых» и помогли «зеленым» одержать победу!
— Это я придумал, — подал голос Леонардо из-за стула. — Разве не отличная стратегия?
— А вот насчет этого, Леонардо… — мрачно начал я.
— Но стратегия действительно хороша, — отозвался старик рядом с Козимо.
Несмотря на пожилой возраст, он не потерял обаяния, которое очень молодило его. Одет он был в какие-то обноски, почти лохмотья, хотя было видно, что Козимо де Медичи его ценит. Старик положил руку мне на плечо.
— Меня зовут Донато ди Бетто Бард и, и я очень рад познакомиться с другом моего господина Козимо. Он много раз говорил мне о вас, но никогда не упоминал, как вы красивы!
Он жеманно опустил ресницы, нежно поглаживая меня по плечу, и я бы оскорбился, если бы не понял, кто он. Я все же убрал его дряблую закостенелую руку со своего плеча.
— Донателло, скульптор? — переспросил я, и он кивнул.
Я поклонился ему.
— Польщен встречей с вами. Ваш святой Марк просто великолепен, синьор!
— Об искусстве вы поговорите позже! — засмеялся Козимо. — Посмотри, Лука, вот еще один мой старый друг, очень одаренный ученый, врач, музыкант и глава Платоновской академии, лучшей философской школы в мире. Это Марсилио Фичино!
Из-за спины Козимо появился низенький, худой и немного сутулый человечек. Поклонившись мне, он произнес с улыбкой, слегка заикаясь:
— Синьор Козимо, никогда не прерывайте человека, когда он говорит об искусстве.
У него было румяное, пышущее здоровьем лицо и волнистые белокурые волосы, которые вились высоко надо лбом. В глазах его, напомнив мне Петрарку, сверкал огонь.
Фичино проговорил:
— Искусство напоминает бессмертной душе о ее божественном происхождении, создавая подобие мира идей. Говорить об искусстве значит говорить о Боге и нашем божественном происхождении. Оно напоминает нам, что в нашей власти стать кем угодно, и человек, имея должные инструменты и божественный материал, может создать настоящий рай. Говоря об искусстве, мы утверждаем свое достоинство!
— Если в нашей власти стать кем угодно и создать рай, то, наверное, мы могли бы создать летающие машины? Как вы полагаете? — спросил Леонардо, выглянув из-за стула Козимо.
Я протянул руку, но он отскочил прежде, чем я успел схватить его за шиворот. Выглянув с другой стороны стула, он показал мне язык. Я грозно нахмурил брови. Мальчик тихонько рассмеялся и спрятался.
— Мой юный Леонардо, думаю, что если бессмертная душа может летать, то недолго осталось и до изобретения способа, благодаря которому летать сможет и тело, — ответил Фичино.
Леонардо высунул голову, чтобы кивнуть ему, и я снова попытался его схватить, но мальчишка опять оказался проворнее меня.
— Любой разговор с Фичино всегда начинается и заканчивается бессмертием души, — произнес у меня за спиной незаметно подошедший сзади Лоренцо. — Если, конечно, не начинается и не заканчивается Платоном!
— Лоренцо, мой лучший ученик, в таком юном возрасте уже превосходный поэт, дипломат и атлет.
Фичино подмигнул юноше, который возвышался над ним. Высеченным, как из камня, лицом, гордо поднятой головой, обнаженными мускулистыми плечами, покрытыми кровью и потом, выпуклыми голубыми венами Лоренцо напоминал какого-нибудь древнего бога войны. Донателло влюбленно посмотрел на юного Медичи и вздохнул.
— Все, чего я добился, — это заслуга моего великолепного учителя, которого нашел для меня дедушка, и самого дедушки, — тепло ответил Лоренцо. — Но об этом позже. За ужином и на пирушке у нас будет время обо всем поговорить, — пообещал он, взяв меня под руку. — Я должен отвести героического Луку к моей матери, которая от него просто без ума. А затем надо ведь и заявить права на призовую телку!
— Я бы хотел побеседовать с синьором Фичино о природе человека и его бессмертной душе, — торопливо пролепетал Леонардо, который, пользуясь моментом, пока меня держал Лоренцо, высунулся из-за стула.
Я замахнулся, чтобы огреть мальчишку свободной рукой, но Леонардо оказался проворней. Он взял Фичино под руку и повел его прочь, бросая через плечо озорные взгляды.
— Моя матушка Лукреция из рода Турнабуони — удивительная, проницательная женщина, люди говорят, что она обаятельна и обладает острым умом, — сказал Лоренцо, уводя меня в противоположном направлении, к игровому полю. — Все, кроме бабушки, ее просто обожают, но так часто бывает в семейной жизни: женщины ссорятся, — пожал плечами он.
Кто-то окликнул его, он улыбнулся и помахал толпившимся рядом игрокам и дамам. И, понизив голос, чтобы только я слышал его слова, сказал:
— Вы мне нравитесь, Лука Бастардо. Вы храбрый, сильный, умный и готовы на все ради победы. Вы не боитесь подвергнуть себя опасности или придушить обидчика. Вы не страдаете излишней щепетильностью. Вы, наверное, сын опасного человека и женщины с трезвым, рассудительным умом. А еще вы скрытный и стараетесь не держаться на виду. Мне бы пригодился такой человек.
— Пригодился для чего? — тихо спросил я.
— Для деликатных поручений, которые требуют скрытности и осторожности. Следить за послами, собирать информацию… Да для многого, где правителю нужен скрытный и преданный человек, — ответил Лоренцо, пожав плечами. — Я же со своей стороны мог бы предложить такому опытному и верному человеку свое покровительство и защиту.
— Защиту от чего? — тихо переспросил я, стараясь угадать, сколько обо мне известно Лоренцо.
— Защиту от любого, кто захочет сжечь на костре человека за использование магии для продления молодости, — ответил он вполголоса. — Защиту от братства Красного пера, которое, как вы сегодня поняли, хотя и не пользуется популярностью, но пока еще тайно существует.
ГЛАВА 18
Козимо де Медичи умер несколько месяцев спустя. Было первое августа, и Леонардо заставил меня помогать ему с очередной задумкой. Его отец сер Пьеро, нехотя взяв меня в наставники для своего не по годам развитого сына и еще более нехотя согласившись платить мне скудное жалованье, дал Леонардо небольшой круглый щит из фигового дерева и попросил его расписать. Вдумчиво и тщательно Леонардо по-хозяйски осмотрел щит и пришел к выводу, что он сделан грубо и неаккуратно. Он сам распрямил его на огне, а потом мы отдали щит токарю, который его разгладил и выправил. Леонардо загрунтовал его и подготовил к нанесению краски. А потом, с мальчишеским энтузиазмом, он решил, что напишет на щите что-нибудь такое страшное, чтобы от одного взгляда увидевший окаменел от ужаса. Ну, вроде Медузы Горгоны. С этой целью мы обошли всю Монте Альбано, разыскивая ящериц, сверчков, змей, бабочек, цикад и саранчу, летучих мышей и прочих диковинных созданий, какие попались нам по пути. Мы собрали всю эту живность и принесли в комнату Леонардо в отцовском доме.
Леонардо жил, как ему захочется, то у матери, то у отца, но работать предпочитал все-таки у отца. От летней жары комната у сера Пьеро вскоре наполнилась вонью гниющих разлагающихся трупиков. Слуги и мачеха Леонардо пожаловались серу Пьеро, и тот устроил мне разнос за то, что я чересчур потакаю всем капризам мальчика. Я только пожал плечами: кто же мог отказать Леонардо в чем бы то ни было! В общем, трупы насекомых остались лежать, где лежали, а женщины закрывали носы платками, проходя мимо его комнаты. Но Леонардо и этого было мало. Требовательный и взыскательный, он еще не нашел идеального сочетания устрашающих черт для своей химеры. И вот мы ползали между лозами зреющего винограда на моем винограднике в Анкьяно, разыскивая редких червей и жуков, когда на гребне холма послышался отдаленный цокот копыт.
— Лошадь — вот что я должен изобразить! — воскликнул Леонардо, высунувшись из-под виноградного куста.
Гроздь рдеющего на солнце винограда застряла у него за ухом, и мальчик с золотистыми кудрями, с зажатыми в руках насекомыми, без рубашки, которую он снял из-за жары, больше всего на свете походил на дионисийского херувима. Я стоял рядом на коленях, рассматривая листья винограда, не видно ли где-нибудь гнили, которая могла погубить урожай. Он повернулся ко мне, сверкая ослепительной улыбкой.
— Я должен сделать лошадь из глины — красавца скакуна вроде Джинори, маленькую модель, которую можно затем отлить из бронзы. Начну прямо сейчас…
— Сначала закончи щит, — ответил я твердо. — Давай порадуем папу. А то он и так недоволен, что приходится платить мне жалованье. Если эти скромные гроши вообще можно назвать жалованьем. Я бы заработал больше, прося милостыню на улицах Флоренции, хотя флорентийцы не очень-то щедро подают нищим, уж поверь мне!
— Да, но ты же не зависишь от папиных денег, — хитро ответил Леонардо. — Ты же богат, у тебя собственный виноградник, много денег в банке Медичи. Я слышал, как синьор Козимо говорил об этом синьору Фичино. Ты, может, даже богаче папы. Зачем тебе его деньги?
— Из принципа, — упрямо ответил я. — Человеку должны платить за тяжелый труд.
— Это со мной-то тяжелый труд? — Леонардо запрокинул голову, и из его уст зазвенел музыкой прелестный смех. — Вчера мы весь день плавали в водоеме на Монте Альбано. А позавчера лазали по деревьям и бросали желуди в тех, кто подходил к колодцу! Хотя я заметил, тебе нравится кидаться только в хорошеньких девушек. И ты ухмылялся до ушей, когда они визжали!
— Я ж твоя нянька, — пожал я плечами. — И мне должны за это платить!
— Ты не нянька, ты мой учитель, и мне кажется, что раз уж ты богат и все богатеешь, то должен бы мне купить что-нибудь. Например, записную книжку. Ты обещал купить мне книжку. Когда это будет?
— Скоро, — ответил я. — Может быть, тогда, когда ты закончишь щит.
Я лучезарно улыбнулся, а он скривился и протянул мне садовую змею.
— Страшная?
— Просто дрожу от страха, — сухо ответил я, на что Леонардо бросил в меня змею.
Я поймал на лету ее извивающееся тельце одной рукой, и вдруг, наблюдая в лучах солнца причудливые изгибы буро-зеленого пресмыкающегося, я понял, что смерть, моя старая знакомая, решила нанести мне визит. Умер кто-то очень близкий.
— Этот всадник едет за мной, — тихо проговорил я и, швырнув змею обратно мальчику, встал и отряхнулся.
Лошадь не свернула, чтобы ускакать в сторону горизонта, а галопом неслась прямо к нам. Леонардо торопливо выбрался из зарослей винограда, вытащил из-за уха гроздь и натянул короткую изумрудно-зеленую тунику. Потом подошел ко мне, и мы дождались всадника. Это был мавр, слуга с виллы Медичи в Кареджи.
— Приезжайте скорее, — слегка запыхавшись, проговорил он, — Козимо умер.
К вечеру мы с Леонардо приехали на виллу. Я спешился, препоручил своего верного скакуна Джинори слуге и, не дожидаясь, пока соскочит Леонардо, ушел прочь, а мальчику пришлось семенить следом. Меня тут же отвели в покои Козимо, где собралось очень много людей, и все — будь то мужчины или женщины — рыдали, не скрывая слез. Марсилио Фичино, с которым мы сдружились за последние два месяца, увидев меня, поспешил обнять.
— Лука, его з-за-забрал Г-господь, — заливаясь слезами и заикаясь промолвил он. — Но он ушел с-с м-миром. Несколько дней назад Козимо встал с постели, оделся и ис-исповедо-вался перед настоятелем Сан Лоренцо.
Крошечный мудрец уткнулся лицом мне в грудь и судорожно зарыдал. Я ободряюще похлопал его по спине. После жизни у Сильвано мне всегда делалось неприятно, когда ко мне прикасался другой мужчина.
— Бабушка распорядилась о панихиде, — подойдя к нам, сказал Лоренцо.
Лицо мальчика было изрезано суровыми морщинами, опухшие от слез покрасневшие глаза потускнели.
— Папа сказал, что дедушка отвечал как полагается, как будто был в полном здравии. А когда ему предложили прочесть Символ веры, он произнес его правильно, слово в слово. А потом принял причастие.
— Никогда еще не было у нас такого правителя! Человека, который был в совершенном ладу со своей божественной, бессмертной душой, черпая из нее силы и мудрость! Он делал все, чтобы обогатиться духовно: выбирал цвета для дома и сада так, чтобы они успокаивали разум и способствовали размышлениям; гулял на природе, слушал музыку… Господи, скажи лишь слово, и душа моя исцелится! Козимо те-те-перь со своим дорогим Козимино и сыном Джованни, — лепетал Фичино, всхлипывая, а я молча высвободился из его объятий.
Он размазал слезы по лицу и поднял ко мне искаженное страданием лицо.
— Лука, ты должен помочь Донателло, он от горя потерял рассудок.
— Пускай Донателло еще повоет на полу в ногах дедушкиной кровати, — мрачно произнес Лоренцо. — А мне надо поговорить с Лукой.
И он зашагал прочь из покоев Козимо, уводя меня в сад, окруженный высокой стеной.
— Любимый архитектор дедушки Микелоццо не смог перестроить всю виллу в духе его любимых новых канонов: упорядоченности, классических линий, симметрии. Все вместе, — Лоренцо помолчал и провел неожиданно красивым пальцем, который совсем не сочетался с его уродливым лицом, по большому сплющенному носу, — создает впечатление сдержанного великолепия, как в палаццо на Виа-Ларга. Не правда ли, это определение очень подходит дедушке?
— О да, — улыбнулся я. — Он всегда таил в себе нечто большее, чем можно было подумать по его скромной наружности. Когда я впервые вернулся в Тоскану, то сказал Козимо, что ему нравится изображать из себя простака, но на самом деле он гораздо сложнее, чем может представить себе обычный человек.
— Он рассказывал мне об этом разговоре, — сказал Лоренцо. — Он говорил, что вы были его другом. Он рассказывал мне о том, чего не знает даже отец. — Лоренцо окинул взглядом сад. — Вилла была выстроена в старинном вкусе, слишком похоже на крепость, чтобы ее можно было полностью переделать на новый лад. Но этот сад был разбит по указаниям из писем Плиния.[513] Дедушка и Микелоццо строго учитывали рекомендации Плиния о том, что комнаты виллы должны переходить в «комнаты» сада. Они также следовали советам Плиния о том, как важно соблюсти гармонию между садом и окружающим ландшафтом. Дедушка любил бывать здесь. Он сам сажал деревья и цветы. Здесь он собирал Платоновскую академию.
Мы прогуливались под миртами, тополями, дубами и цитрусовыми деревьями, вдоль пышных цветущих клумб с дикими орхидеями и розами, лавандой и ухоженными лилиями.
— У истории дедушкиной исповеди есть продолжение, — тихо произнес Лоренцо. — Папа говорит, он просил прощения у людей за причиненные им обиды. — Лоренцо помолчал, глядя на меня, но я ничего не ответил, и наконец Лоренцо кивнул. — Вы же, как и я, знаете, что он слишком многих людей обидел, чтобы успеть у всех попросить прощения.
— Ваш дедушка возвышал своих друзей и сокрушал врагов.
— Вот именно. И теперь все станет гораздо сложнее. — Лоренцо сорвал сливу с дерева и жадно надкусил, прежде чем продолжить. — Враги Медичи заметят слабость и решат нанести нам удар. Наверняка заговор уже зреет, и не один. Я не могу допустить падения рода Медичи! Я должен жить по законам деда, стать его достойным наследником и защитить созданное его руками!
— Ваш отец не удержит власть надолго, — согласился я. — Ему не хватит ни здоровья, ни выдержки. Повезет, если он хотя бы пять лет продержится.
— Не смейте мне такое говорить! — рявкнул Лоренцо и, далеко отшвырнув сливовую косточку, взъерошил свои черные волосы, затем скрестил руки на груди. — Я люблю папу. Но вы правы. Он слишком болен. Подагра, распухшие железы на шее, экзема и артрит… — Лоренцо покачал головой. — И я сомневаюсь, что ему хватит сил и желания отразить готовящийся удар быстро и решительно. Сейчас нам как никогда прежде нужны друзья, Лука Бастардо!
Он остановился и положил руки мне на плечи, повернув меня к себе лицом.
— Я всегда был и буду другом Медичи, — ответил я, глядя ему прямо в глаза.
Он впился в мои зрачки пронзительным, испытующим взглядом. Затем вдруг тихо отпустил мои плечи.
— Хорошо. Тогда вот что мне от вас нужно. Послоняйтесь по Флоренции, разузнайте, не слышно ли о заговорах против нашей власти. Встречайтесь с людьми, разговаривайте с ними.
— Учитывая мое прошлое, я стараюсь этого избегать.
— Пьетро Сильвано уже отправлен из города с моим поручением. Найду предлог, чтобы выслать и всю остальную его семейку. Я веду переговоры о покупке церковных должностей для младших отпрысков. Мы с вами будем встречаться тайно. Возможно, я сделаю вид, что охладел к вам и отдалился. Ничего явного, зато люди будут думать, что я к вам неблагосклонен. Тогда вы сможете втереться в доверие к заговорщикам.
Я остановился под оливковым деревом.
— Снова отправляете меня вперед, чтобы отвлечь противника, а, Лоренцо?
— На этот раз вас не исколошматят, — улыбнулся он. — А если да, вы же все равно выживете, но станете еще большим героем!
Я смерил его язвительным взглядом, и он отвел глаза.
— Давайте вернемся в дом, — устало предложил я, зная, что ввязываюсь в клубок опасностей и интриг, вступая на путь союзничества с Лоренцо де Медичи. — Я бы хотел отдать дань уважения вашему дедушке и принести соболезнования вашим бабушке и отцу.
Мы молча вернулись на виллу. Когда мы вошли в покои Козимо, до наших ушей донеслась нежная печальная песнь. Кто-то играл на лире и пел; музыка и голос полны были такой глубокой скорби, что все в комнате горько плакали. За толпой скорбящих я разглядел, разумеется, Леонардо. С лирой в руках мальчик стоял у постели Козимо, где в пышном облачении неподвижно лежало тело покойного. Леонардо пел с закрытыми глазами, и все его существо было проникнуто утратой и любовью, которые всегда неразлучны и подстерегают нас, пока мы ходим по бренной земле.
Козимо де Медичи похоронили скромно и с наименьшими почестями, какие согласился оказать город своему любимому правителю. Таково было пожелание усопшего. Его похоронили перед главным алтарем церкви Сан Лоренцо, и на погребение пришла многочисленная и торжественная процессия скорбящих жителей Флоренции. Церковь Сан Лоренцо была храмом семейства Медичи. Построенная еще в древние времена, она была реконструирована на пожертвования Джованни ди Бичи и Козимо. Для реконструкции Козимо нанял прославленного Брунеллески, и, хотя фасад еще не был завершен, внутреннее убранство было чудесным, стены выполнены из жемчужно-серого камня. Брунеллески с изобретательным разнообразием использовал и во всей церкви, и в ризнице такие архитектурные элементы, как колонны, круглые арки, соединив отдельные детали в единое, гармоничное и пропорциональное целое. Церковь Сан Лоренцо была также украшена изысканными произведениями талантливых художников, которых любил и поддерживал Козимо: Донателло вырезал великолепные кафедры с необычайными рельефами, известные под названиями «Воскресение» и «Страсти». Филиппо Липпи, распутный человек, написал алтарный образ «Благовещения», на котором фигуры людей предстали в удивительно живых, реалистичных позах, а многочисленные архитектурные детали и холодноватый колорит превосходно сочетались с убранством Сан Лоренцо. На простой плите над саркофагом Козимо было выгравировано только имя и надпись: «Pater Patriae» — «отец отечества». Но лучше всего он запомнился мне серьезным мальчиком с грандиозными мечтами, которые получили свое воплощение в жизни.
Итак, началась моя новая жизнь в Тоскане. Жизнь эта доставляла мне удовольствие, если бы не сны, которые время от времени нарушали мой ночной покой. Мне снилась женщина, которой суждено было стать моей великой любовью. Я никогда не видел ее лица, но очень тосковал по ней. Во сне я ясно чувствовал ее загадочную и непостижимую сущность: ее доброту и юмор, ум и великодушие, веселость и печаль. Я даже ощущал ее запах: свежий и тонкий утренний аромат сирени, запах лимонов и чего-то белого, светлого и мягкого, как пушистые облака. Я как будто уже был с ней знаком, потому что выбрал ее в своем видении философского камня, а теперь всем сердцем тосковал без нее. Еще тогда я догадывался, что моя тайная любовная тоска по женщине, которую я никогда не встречал, должна была очень забавлять Бога.
Почти два года я жил исключительно в Анкьяно на своем винограднике. Там я возобновил свои тайные поиски и нанимал сыщиков, чтобы разузнать что-нибудь о моих родителях или моей семье. Я надеялся, что кто-то еще может о них помнить, несмотря на прошествие такого долгого времени: обрывок семейных преданий, рассказы о необычном младенце, появившемся в какой-то деревне, о наложенном проклятии, о колдуне или алхимике, который произвел над ребенком магический обряд. Иногда я думал, что мои родители наверняка разделяют со мной мой дар живучести и долголетия. Вопросы, которые должны были задавать мои посланцы, звучали туманно, но так, чтобы они привлекли внимание людей с такими же особенностями. Отклика они не находили, как будто у меня и не было прошлого, как будто я родился на улицах Флоренции и меня зачали ее серые камни и река Арно. Я практиковался в фехтовании мечом, часами носился на Джинори по тосканским полям. И учил своего юного подопечного Леонардо, сына сера Пьеро.
Леонардо все-таки закончил работу над щитом, изобразив на нем дивное и страшное чудище, выползающее из темной расселины в скале. Из разверстой пасти оно изрыгало яд, из глаз — огонь, а из ноздрей — ядовитый дым. Когда Леонардо представил свое творение серу Пьеро, на мольберте в затемненной части комнаты, казалось, что ужасное чудовище выскочило из стены. Сер Пьеро вздрогнул и вскрикнул. Леонардо пришел в настоящий восторг и тут же преподнес щит отцу. Вытирая со лба пот, сер Пьеро рассыпался в похвалах и даже снизошел до того, что похлопал меня по плечу и сказал, что я неплохо стараюсь.
— Я всего лишь невинный наблюдатель, — честно признался я. — Стараюсь не мешать ему, чтобы он учился сам. Ваш сын станет настоящим гением, и ему пора найти лучших учителей, чем я.
Сер Пьеро прищурился, размышляя над моими словами. Сам он был высоким, видным и статным человеком недюжинной силы и острой сообразительности. Его отличала скорее хитрость и практическая сметливость, нежели способность к отвлеченному мышлению. И он тут же уловил подтекст в моих словах.
Леонардо заметил, что его отец задумался, подбежал и положил руку ему на плечо.
— Пока не надо, папа! Мне нравится мой учитель. Мне еще многое нужно здесь изучить!
— Что ж, ты очень талантлив, — сказал сер Пьеро, взяв в руки щит.
Он внимательно рассмотрел его и улыбнулся. Сер Пьеро, как и все флорентийцы, был в душе торгашом, и я понял, что в голове у него крутятся цифры. Куда бы он раньше ни собирался пристроить этот щит, теперь решил его продать. А я решил послать к нему человека, чтобы тот приобрел его для меня.
— Я еще успею отправиться во Флоренцию, когда мне исполнится пятнадцать или шестнадцать, — торопливо прощебетал Леонардо. — С Лукой я узнаю столько нового! К тому же его услуги гораздо дешевле, чем любого преподавателя из Флоренции!
— Ладно-ладно, раз уж ты так хочешь остаться, — кивнул сер Пьеро, поджав губы. — Да и не хочу я, чтобы твоя милая мамочка по тебе скучала!
Он подмигнул мне, и я чуть заметно кивнул. Всем в Анкьяно было известно, что сер Пьеро, которому доставались в жены бесплодные женщины, обожал Катарину, родившую ему такого удивительного сына. И все знали, что он до сих пор к ней наведывается. Как раз из-за его визитов мне не удавалось подобраться к этой женщине. Ее задорные улыбки словно напрашивались на ухаживания, однако на мои попытки она только вздыхала и качала головой.
— Мне очень жаль, милый мой Лука, но сер Пьеро до сих пор считает себя моим господином, — сказала она с не меньшим, смею надеяться, сожалением, чем то, что чувствовал я.
Итак, Леонардо пока остался в Анкьяно, под моим смехотворным руководством, которое на самом деле состояло в том, чтобы следовать за Леонардо повсюду и смотреть, чтобы он не поранил себя или других в бесконечных исследованиях мира природы. Он был просто одержим мыслями о полетах и, как Икар, постоянно делал себе крылья из разных материалов: дерева, костей животных, воска, пергамента, кожи, обклеенной настоящими перьями. Не раз я спасал его, в последний момент стаскивая с утеса, откуда он уже приготовился спрыгнуть. Я купил ему записную книжку, как и обещал, и он наполнил ее рисунками и заметками, причем писал мелким перевернутым шрифтом, который он называл магическим. Впоследствии я покупал ему по две книжки сразу, потому что знал, как быстро они у него кончаются. Здесь и сейчас, в этой тесной камере, гдегниет мое тело в ожидании казни, я понимаю, насколько безмятежными были те дни. Я проживал с Леонардо детство, которого не знал в его годы.
В то же время меня постепенно вводили в курс дел Лоренцо де Медичи. В пятнадцать лет ему уже доверили серьезные поручения, и он уже собирал вокруг себя группу будущих сподвижников и доверенных советников. Его отправляли с дипломатической миссией на встречу с Федериго, вторым сыном короля Ферранте Неаполитанского; в Милан — представлять Медичи на свадьбе старшего сына короля Ферранте и дочери Франческо Сфорцы Ипполиты; в Венецию на встречу с дожем;[514] в Неаполь — к самому королю. Почти всегда Лоренцо посылал меня вперед на разведку. Я должен был прощупать, какие там царят настроения, и собрать слухи, которые ходят на улицах. Лоренцо хотел знать, что говорит и думает народ — от простолюдинов до вельмож. И мне это хорошо удавалось, потому что я умел смешиваться с толпой, перекинуться словом с сапожником, пошутить и с нищими, и с господами, полюбезничать с горничными, которые всегда были в курсе всего происходящего.
Лоренцо отправлял меня разузнать новости и во Флоренции. В1466 году, после смерти Франческо Сфорцы, правителя Милана и верного союзника Козимо, я принес Лоренцо весть о готовящемся заговоре. Я на день забрал Леонардо во Флоренцию, и мы долго ходили по Санта Мария дель Фьоре, споря о живописи и скульптуре. Мы остановились у левой стены нефа перед изображением сэра Джона Хоквуда работы Паоло Уччелло.[515] Хоквуд был прославленным кондотьером, который верно служил Флоренции и заслужил ее признательность. Мне нравилась эта картина, как и изображенный на ней человек. Я встречал его несколько раз перед тем, как он умер в 1393 году. Но у Леонардо было иное мнение.
— Мне нравится монохромная живопись, выполненная краской terra verde,[516] которая напоминает об античных конных статуях и подчеркивает славу кондотьера как достойного наследника римских полководцев! — сказал Леонардо.
Ему уже исполнилось четырнадцать, он теперь был скорее юношей, чем мальчиком, и он вдруг стал расти и в скором времени обещал перегнать меня. Глядя на него, я подумал, что сам совсем не высокого роста, и он скоро будет смотреть на меня сверху вниз. А он добавил:
— Но посмотрите, учитель, в этой фреске не все так, как надо. В ней присутствует два разных вида перспективы: саркофаг выглядит словно надгробие, выступающее из стены, а всадник и конь изображены строго в профиль, с четкими контурами на темном фоне.
— Во времена Уччелло перспектива еще не была достаточно разработана, — пожал плечами я, как всегда наслаждаясь интеллектуальным поединком с этим дерзким юнцом.
— Она и сейчас не доработана, — возразил Леонардо, разведя красивыми руками. — Когда-нибудь я доведу ее до совершенства. И прославлю этим свое имя. Еще многие поколения будут говорить о моих работах. Но взгляни, эта лошадь и наездник никак не общаются. Все знают, что наездники должны обмениваться сигналами с лошадьми! Где же здесь жизненность? А хуже всего, Лука, что ни одна лошадь так не ходит, передвигая ноги только с одной стороны! Она же упадет! Уччелло не наблюдал за природой, а художники должны это делать.
Я улыбнулся.
— Об этом я с тобой спорить не буду, дружок. Но мне кажется, что Джованни Акуто, как мы, флорентийцы, его называли, был бы доволен этой фреской.
Леонардо склонил златокудрую голову и прищурил большие чистые глаза.
— Ты говоришь так, будто сам его знал!
— Что ж, я думаю, Флоренция должна была отлить его бронзовую статую, как пообещала, — нахмурился я. — Но флорентийцы вечно считают деньги, а фреска стоит гораздо дешевле.
— Можешь и дальше стоять тут и пялиться на эту посредственную картину, а я пойду посмотрю на часы Уччелло. Меня интересует время и способы его отсчета, — фыркнул Леонардо.
Он ушел, пока я размышлял над сэром Джоном Хоквудом. Потом я присел на скамью и поднял глаза к чудесному куполу Брунеллески. Это было для меня что-то вроде молитвы, так я выражал свое почтение: внимательно рассматривая, восхищаясь прекрасным искусством, созданным человеком. Вероучения и мифы о непорочном зачатии и распятии мало что значили для меня, ведь я был абсолютно уверен, что человеческая жизнь — это всего лишь бессмысленная шутка божественного разума, если тот вообще существует. Но даже Бог сдерживает хохот и замолкает перед лицом великого искусства, когда видит в нем отражение собственного величия и творческого начала. В красоте и искусстве я находил молчание Бога, свободу и искупление грехов. Когда дни мои были наполнены ужасом в доме Сильвано, искусство спасало мою душу, каким бы ни был я странным созданием, помогало мне, так жаждавшему любви, несмотря на все мои особенности — неестественное долголетие и неестественно затянувшееся взросление. Возможно, мое благоговение перед искусством сделало меня достойным той великой любви, что была обещана мне, когда я освободился из публичного дома. Той до сих пор не обретенной и не воплощенной любви, которую я выбрал вместо почти бесконечной жизни. Пока я скитался по свету изгнанником и уродцем, я готов был мириться с тем, что любовь эта пока не осуществилась. А теперь, вернувшись во Флоренцию, найдя здесь друзей и обязательства, я вдруг стал с нетерпением искать ее. Я хотел встретить ее, обнять. Тогда, разглядывая дивный купол, созданный Брунеллески, я не знал, что осталось всего шесть лет до того, как я впервые увижу ее, и двенадцать до того, как мы с ней встретимся, а любовь к ней превзойдет все мои самые неудержимые фантазии о человеческой страсти и взаимоотношениях.
Не прошло и нескольких минут, как Леонардо вернулся.
— Лука, Лука, — прошептал он, подкравшись ко мне. На его красивом лице была написана тревога, и я вопросительно поднял брови.
— Там люди разговаривают. Тебе надо послушать! Мне кажется, они строят заговор против отца Лоренцо! Я услышал их разговор, а потом мне на миг удалось заглянуть в будущее. И знаешь, что я увидел? Кровь на дороге, ведущей во Флоренцию!
И я пошел с ним к выходу из церкви. Мы держались беспечно и небрежно, как бы случайно остановились перед часами Уччелло со стрелкой в форме звезды и двадцатичетырехчасовым циферблатом. Тогда мы услышали тихий разговор невидимых собеседников. Было непонятно, где они находятся, но благодаря какой-то особенности формы и строения громадного соборного пространства до нас доносились их слова. Я замер, полностью сосредоточившись на разговоре, а когда голоса замолкли, понял, что нужно делать.
— Немедленно отправляемся в Кареджи, — сказал я Леонардо. — Но сперва я отвезу тебя домой.
— Это не по пути, — возразил он. — Я поеду с тобой. Мне всегда нравилось болтать с синьором Фичино.
После полудня мы с Леонардо прибыли на виллу Медичи в Кареджи. Джинори и лошадь Леонардо были в мыле. Слезая, мы почувствовали, как тяжело у них раздуваются бока. Вообще я не любил так загонять Джинори — только когда этого требовала срочность. Слуга-мавр увел лошадей и сказал, что Лоренцо в саду, с Фичино и остальными. Я обежал сад вокруг и нашел боковой вход, Леонардо несся за мной по пятам. Фичино и несколько приезжих — греческих ученых — сидели на скамьях под тополями, и густое полуденное солнце лилось им на плечи. Я торопливо поприветствовал собравшихся и спросил о Лоренцо.
— Лоренцо ушел в дом, — сообщил Фичино и обратился к Леонардо: — Юный синьор Леонардо, вы все выше и выше с каждой нашей встречей! Скажите-ка, вы вернулись, чтобы закончить наш разговор о поисках демона, который будет вести вас по жизни?
— Демоны — это безымянные духи, которые управляют и руководят нами на жизненном пути, — улыбнулся Леонардо. — Вы говорите, что, покопавшись в себе, любой может найти своего демона. А я скажу, что, покопавшись в себе, можно узнать глубины, из которых истекает мой жизненный источник. Именно так можно прожить одухотворенную жизнь!
— А я скажу, что мне нужно немедленно найти Лоренцо де Медичи, — прорычал я в величайшем нетерпении, — иначе источник нашей жизни совсем зачахнет!
— Он в доме, Пьеро снова болен. Его принесли меньше часа назад из Флоренции, на носилках, — махнул рукой Фичино.
Я вбежал в дом и ворвался в прежние покои Козимо, которые теперь занял немощный Пьеро. Его как раз устраивали поудобнее в роскошной постели Козимо. На краю кровати сидел Лоренцо и говорил с отцом, пока вокруг суетились слуги.
— Прошу прощения, синьоры, — воскликнули. — У меня для вас срочные вести!
— Успокойся, Бастардо. Разве в доме пожар? — улыбнулся Лоренцо.
— Вот если бы Господь даровал мне такую прыть… — вздохнул Пьеро.
Он выглядел совсем не плохо, тем более что все-таки принадлежал к роду Медичи: резко очерченный подбородок, пропорциональные черты. Но распухшие веки и вздувшиеся на горле железы придавали ему сонный и больной вид. Я знал, что он терпелив и обходителен, а благодаря многолетней врачебной практике догадывался о том, что его кажущаяся холодность объясняется постоянным физическим недомоганием. Он стиснул губы, и я понял, что его снова мучает боль, и сердце мое упало. Ведь он нужен Флоренции — чтобы ответить на брошенный вызов.
— Дом Медичи может загореться, — ответил я, жестом попросив всех слуг выйти, и встал у постели. — Мы с Леонардо были в Санта Мария дель Фьоре и подслушали разговор. Они обсуждали неуравновешенность и даже невменяемость сына Сфорцы в Милане. Они говорили, что теперь, когда Пьеро болен, а главный союзник Медичи Милан находится в руках безумца, флорентийцы встревожились, доверие к Медичи ослабело, и пора отобрать у них власть!
— Союз с Миланом стал для дедушки краеугольным камнем внешней политики, — произнес Лоренцо и вскочил на ноги. — Он не предвидел опасности, которой мы подвергнемся со смертью Сфорцы! Лука, чей разговор вы подслушали?
— Думаю, Дьетисальви Нерони и Никколо Содерини. Я слышал их, но не видел, — признался я. — Полагаю, в этом замешаны и другие. Они упоминали о том, что просили военной поддержки у Венецианской республики и Борсо д'Эсте, герцога Феррарского. Судя по их разговору, герцог согласился.
— Значит, остальные заговорщики — это Аньоло Аччайоли и Лука Питти, — заключил Лоренцо, ударив кулаком в ладонь. — Отец, мы должны действовать!
— Может, это был всего лишь пустой разговор, — вздохнул Пьеро, прячась под льняную простыню. — Люди судачат, жарко, август, а армии не любят выступать в поход по жаре.
— Отец, дедушка очень любил Луку Бастардо, он ему очень доверял! Лука доказал, что он самый надежный человек, — настойчиво заговорил Лоренцо. — Ты должен к нам прислушаться! Слова Луки лишь подтверждают дошедшие до меня слухи — слухи, которыми я не хотел беспокоить тебя в болезни!
Он сжал руку отца, и Пьеро несколько раз моргнул тяжелыми веками, а потом позволил Лоренцо усадить себя на постели.
— Нам придется придумать какую-нибудь уловку, чтобы объяснить, откуда я это узнал, — пробормотал Пьеро, поглаживая вспотевшие брови. — Не знаю почему, но твой дедушка всегда покрывал Бастардо.
— Я храню опасные секреты… — начал я, надеясь, что мое признание побудит его к активным действиям.
— Ничего не хочу знать, — вздохнул Пьеро и махнул рукой. — Отец знал, Лоренцо знает, а мне незачем знать. Мне только нужно придумать уловку.
— Простите, синьоры, — позвал из дверей Леонардо, улыбаясь своей безмятежной улыбкой, которая всегда вызволяла его из неприятностей. — Я нечаянно вас подслушал. Что же до уловки, то, возможно, сойдет гонец, только что прибывший с письмом?
Лоренцо щелкнул пальцами и радостно воскликнул:
— Да! Письмо от правителя Болоньи, друга семьи Медичи. Гонец говорит, что письмо очень срочное и против тебя готовится заговор!
Менее чем через час мы с Лоренцо галопом скакали во Флоренцию. К нашему удивлению и счастью, Пьеро воодушевился, велел подать свои носилки и отправил нас вперед готовиться к его прибытию. Я ехал на горячем черном жеребце из конюшни Лоренцо, потому что было бы жестоко снова гнать Джинори. Увидев, что я сажусь на другого коня, он заржал из своего стойла, где его чистил конюх, и я понял, что доблестный Джинори тотчас бы рванул в путь и лез бы из кожи вон ради меня, пока не разорвется сердце. Но я не хотел подвергать его опасности. Лоренцо ехал на длинноногой гнедой лошади, которая шла гладко и грациозно, и мы буквально летели по дороге во Флоренцию. Мы поднялись на гребень одного из тосканских холмов навстречу длинным косым лучам густого предзакатного солнца, и впереди я увидел на дороге какие-то темные силуэты. Что-то зловещее почудилось мне в черных движущихся силуэтах лошадей на фоне золотисто-охряного тосканского поля, отчего у меня зашевелились волосы на голове. И меня охватило давно знакомое ощущение близкой опасности, от которого по спине побежали мурашки. Я вспомнил слова Леонардо о крови на пути во Флоренцию и был готов охотно поверить в его предсказание, потому что и сам однажды заглянул в будущее.
— Лоренцо! — позвал я. — Остановись! Эти люди опасны!
Лоренцо, пригнувшийся в седле, покосился на меня. Увидев, насколько я серьезен, он кивнул и попридержал лошадь, мы пошли рысью. Всадников было шестеро. Я знал, что встречи не миновать. На мгновение мысли у меня куда-то исчезли, а потом, точно призрак из прошлого, явившийся ко мне, в голову пришла любимая песенка. И я запел, громким осиплым голосом:
— И любила она мой огро-омны-ый конек, и ни-и-когда не отказывала мне!
Лоренцо ошеломленно воззрился на меня. Но он всегда соображал быстро и улавливал суть дела. Он тотчас же понял. Заткнув черные волосы под шляпу и сгорбившись над лошадью, он подхватил мою песню, басом, так не похожим на его привычный высокий тембр, и я подумал, что не зря разучил с ним эту песенку полгода назад, когда мы с ним выпили лишку, угощаясь молодым кьянти. Лоренцо любил похабные песенки, непристойные шутки и неприличные байки, и сейчас это его спасло.
— Ах, эта неаполитанка, с огромными сочными дынями и сладким зрелым фиником! — хором горланили мы, въезжая в самую гущу.
Я заприметил среди них взволнованного Луку Питти, который уже не был юнцом, и решительного на вид Никколо Содерини, но эти трое меня не знали. Они явно кого-то поджидали: либо союзников и подкрепление, либо Медичи. Лоренцо и Пьеро было бы несдобровать, если бы кто-нибудь сейчас узнал Лоренцо. Я расхлябанно помахал рукой и икнул.
— Она любила мой огромный конек! — рявкнул я во всю глотку и бухнулся на гриву коня, как будто пьяный.
Собравшиеся всадники загоготали — все, кроме Питти, в силу возраста лишенного таких амурных размышлений. Мы с Лоренцо, не останавливаясь, затрусили дальше, а когда перевалили за следующий холм, Лоренцо выпрямился в седле.
— Видели, там были Содерини и Питти! И их мерзкие дружки! Я вам должен бочку кьянти за то, что вы выручили меня!
— Только получше того, что мы пили, когда я обучил тебя этой песенке, — ответил я. — Предпочитаю благородное вино из Монтепульчано.
Лоренцо кивнул. Встреча с заговорщиками вызвала у него такой прилив юного негодования, что щеки его запылали румянцем. Сидя на вороном жеребце, я даже на расстоянии ощущал исходивший от него жар. Врагам Лоренцо точно не поздоровится! Видя решимость на его лице, я про себя подумал, что лучше не попадать к нему в опалу.
— Возвращайтесь и предупредите отца. Пусть едет другой дорогой, — отрывисто приказал Лоренцо. — А я во Флоренцию.
Вместо того чтобы лишиться власти, Медичи, наоборот, укрепили свои позиции. За последующий месяц они предприняли ряд решительных действий. В первый день предупрежденный мною Пьеро выбрал другую дорогу, которой редко пользовались. Его внезапное и неожиданное появление во Флоренции не на шутку испугало заговорщиков. Пожилой Лука Питти молил о прощении и поклялся в вечной верности. Лоренцо сверкал глазами и настаивал на казни Питти, но Пьеро сказал, что Питти когда-то был другом Козимо и на первый раз его нужно простить. Остальных заговорщиков сковала нерешительность. Тем временем Пьеро созвал свою армию, отправил гонцов в Милан с просьбами о помощи, а сам втихомолку готовился к предстоящим выборам в Синьорию, продвигая в нее своих сторонников. Тщательно отобранные кандидаты были избраны, и власть Медичи укрепилась. Содерини, Нерони и Аччайоли были навеки изгнаны из Флоренции.
Позже в том же году Лоренцо, чрезвычайно довольный мною за своевременное раскрытие заговора, едва не закончившегося свержением его отца, взял меня с собой в Рим. Его отправили с поздравлениями к новоизбранному Папе Павлу П. Разумеется, хотя Лоренцо еще был подростком, он должен был заниматься и торговыми делами. Ему предстояло обсудить с Папой договор об использовании квасцовых шахт в Тольфе. Квасцы необходимы при производстве стекла, в медицине, при дублении кож, они нужны художникам для закрепления красок, а самое главное — для окрашивания тканей, ведь это существенная часть флорентийской ткацкой промышленности. Медичи намеревались взять под свой контроль эти квасцовые месторождения. До недавнего времени квасцы привозили в основном с Востока, точнее из Смирны. В 1460 году в Тольфе близ Чивитавеккьи в Папском государстве были обнаружены большие залежи. Могущественный банк Медичи почуял прибыльное дело и, вполне естественно, захотел разрабатывать это ценное месторождение. Лоренцо отправили обсудить это лично с Папой Римским. К моему изумлению, Лоренцо даже добился моего приглашения на закрытое совещание с Его Святейшеством.
Кардинал в красной шапочке быстро проводил меня в покои Папы в Ватиканском дворце. Юный Лоренцо и Павел II сидели в роскошных резных креслах, склонив друг к другу головы. Услышав мои шаги, Лоренцо вскинул голову, улыбнулся и поманил меня рукой. Преисполненный благоговения от близости к Папе, которого я никогда не ожидал увидеть, я несколько робко подошел к ним, склонив голову и потупив глаза. Лоренцо слегка кивнул, и я опустился на одно колено.
— Святой отец, это мой близкий друг Лука Бастардо, — произнес Лоренцо.
Папа протянул мне руку, я взял ее и неловко замешкал, прежде чем поцеловать его кольцо.
— Ты не исповедуешь христианскую веру, сын мой? — спросил он с легкой смешинкой в голосе.
Я поднял глаза на статного и внушительного мужчину, который смотрел на меня, удивленно подняв брови.
— Я собирался назваться Формозус, что означает «красивый», но это не я, а ты заслуживаешь такого имени!
— Это слишком большая честь для меня, синьор, и вы чрезмерно принижаете себя, — ответил я.
Он засмеялся и, отняв руку, положил ее обратно на колени, дожидаясь ответа на свой вопрос.
— Я христианин, синьор, по крайней мере я так полагаю. Не знаю, крестили ли меня в детстве. Не зная наверняка, крещен я или нет, я боялся оскорбить ваше достоинство, поцеловав кольцо.
Я не посмел сказать ему, что могу заставить себя поверить лишь в Бога-насмешника, который, возможно, в эту самую минуту упивался забавным фарсом, где уличный босяк, безотцовщина и шлюха разговаривал с Папой Римским. Мне даже чудился витающий под позолоченным арочным потолком его заливистый божественный смех. Но признаваться, в чем состоит моя истинная вера, было бы неразумно: Папа мог рассердиться. А ненасытный костер все еще поджидает свою добычу, а я все время оттягиваю его желанное пиршество.
— Я могу это исправить, — шутливо предложил Папа.
Он возложил ладонь мне на голову и торжественно произнес:
— Крещу тебя Святым Духом, во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.
Я почувствовал исходящую от его руки теплую струю, которая, как легкий ветерок, коснулась моей макушки. Это напомнило мне об учении алхимика Гебера: действительной и истинной передаче чего-то духовного. Я испугался. Я так и присел на пятки и воззрился в изумлении на Папу Павла, а он кивнул мне.
— Бастардо, говоришь? Уверен, твои родители были добрые христиане, Лука. Такое красивое, чистое лицо ты мог получить только от таких людей, — доброжелательно проговорил Павел II. — Тебе не обязательно носить имя Бастардо, ты же знаешь. Я могу подарить тебе более достойное и честное имя, которое ты сможешь с гордостью передать своим детям.
— Вы более чем великодушны, Ваше Святейшество, — ответил я, проникнувшись к нему еще большим уважением, — но мне кажется, что это от меня зависит, станет ли мое имя достойным и честным, а не наоборот.
Папа снова приподнял брови.
— Ты же не из тех язычников-гуманистов? Они занимаются пустой болтовней, разглагольствуют, дабы прикрыть моральный упадок под внешним лоском учености, силясь примирить древнегреческих и римских языческих богов с единственной истинной религией, которую принес миру Иисус Христос. Как будто христианство можно примирить — или, хуже того, слить — с древней мифологией! Такого пошиба, с позволения сказать, гуманисты только позорят науку в глазах остальных людей!
Я глубоко вздохнул.
— Синьор, я человек, выросший на улицах Флоренции и старающийся вылепить из себя что-то, достойное уважения.
— Святой отец, мой друг Лука начал жизнь уличным бродягой, а потом по несчастливой случайности столкнулся с дельцом, который воспользовался его юностью и красотой. Он освободился из его плена и своими трудами и бережливостью добился благосостояния. Он осторожно выясняет собственное происхождение, нанимая людей, которые повсюду ищут сведения о возможных его родственниках, — сообщил Лоренцо, продемонстрировав поразительную осведомленность о моей жизни.
Я потрясенно смотрел на него. Должно быть, что-то ему стало известно от Козимо, а что-то от шпионов, хотя я представить не могу, откуда они могли это узнать. Медичи никогда не переставали меня удивлять. Я вновь напомнил себе, что с Лоренцо стоит держаться настороже. Он коварно улыбнулся мне, наслаждаясь моим смущением, и продолжил:
— А главное, Лука — человек, который всегда стремится к абсолютной честности. Он доказал роду Медичи свою преданность и надежность.
— К честности! — взорвался Папа, беспокойно вскочил с резного кресла и закружил по комнате. — Честность! Это слово принесет неприятности моему папству. Кардиналам и правда нужна власть, они настаивали, чтобы я дал клятву, благодаря которой они получат ее, несмотря на свирепствующий непотизм[517] и неприкрытое взяточничество в курии.[518] Кроме них, есть еще разбойники бароны и воры, которые хозяйничают на дорогах Папского государства. Среди христианского мира бедняки голодают, кровная месть позорит нашу страну, мусульмане стоят у ворот, а рядом Русь с целым христианским народом, который может и должен воссоединиться с матерью церковью! — Он обернулся к нам и от переполнивших его чувств взмахнул руками. — Храни же свою честность, Лука Бастардо, и я желаю тебе в этом удачи!
— Благодарю вас, ваша милость, — тихо произнес я.
Лоренцо жестом попросил меня подняться, и я начал пятиться к двери. Святой отец заметил, что я собираюсь уйти, и так же молча указал на роскошную резную скамью из красного дерева в углу комнаты, где я бы не мог услышать их разговор. Я стал развлекаться, рассматривая старинные шпалеры и замечательные картины на стенах. Среди них я обратил внимание на чудную картину с изображением Мадонны, которая могла выйти только из-под кисти Фра Анджелико. Ее милое, безмятежное лицо, благородная осанка, скульптурная четкость форм и то, как изображены были окружающие Мадонну ангелы, создавая впечатление пространственного объема, — во всем этом безошибочно узнавался его благочестивый стиль. Козимо бы понравилась эта картина. Тем временем Папа и Лоренцо вернулись к своей беседе. Прошло еще несколько минут, и Лоренцо склонился перед Его Святейшеством для благословения и поманил меня к себе.
— Ты мне нравишься, — с улыбкой произнес Папа. — В тебе есть что-то благородное. Твои черты выдают добрую христианскую душу. Я бы хотел укрепить твою веру на жизненном пути.
— Благодарю, Ваше Святейшество, — ответил я и низко склонил голову.
Он поднял руку.
— Юный Лоренцо сказал мне, что ты живешь на винограднике в окрестностях Флоренции. Есть ли у тебя жилище в городе?
— Нет, синьор, — ответил я, так как давно избавился от всей собственности во Флоренции.
Все сделки заключались через агентов Медичи, и Лоренцо наверняка об этом знал, так как имел доступ к архивам отца.
— У церкви есть собственность во Флоренции. Я похлопочу, чтобы какой-нибудь подходящий дворец передали тебе в собственность, — произнес Папа.
— Что? — выдохнул я, не веря своим ушам. Статный Павел II засмеялся.
— Будем считать, что это папская приманка для праведной христианской жизни. Я надеюсь, что ты обзаведешься женой и она родит тебе детей, которых ты должным образом окрестишь и научишь катехизису.
— Святой отец, благодарю вас за великодушный дар!
— Ну, разумеется, — улыбнулся он. — Будь добрым другом юного Лоренцо. Как и мне, ему нужны друзья, которые защитят его. Он наживет себе врагов, хотя я и предвижу, что у него впереди долгий и славный жизненный путь.
Затем Папа вздохнул и провел ладонью по лицу.
— Хотел бы я то же самое сказать о себе, — пробормотал он и попрощался с нами.
И вот мы с Лоренцо вновь отправились во Флоренцию, выбрав другой маршрут. Так начался новый период моей жизни в родном городе, в чудесном дворце, который подарил мне сам Папа Римский, глава христианской церкви и наместник Бога на земле.
ГЛАВА 19
Пришло время Леонардо выйти из-под моей опеки. Ему исполнилось шестнадцать, и сер Пьеро, как часто бывало, привез его на денек ко мне во дворец, когда я был в городе. Они постучали в мою дверь, и сначала я решил, что это просто очередной визит. Сер Пьеро тоже перебрался во Флоренцию и частенько приходил ко мне на обед: у меня был хороший повар, а сер Пьеро всегда был не прочь откушать за чужой счет. Потом он оставлял со мной Леонардо и отправлялся по своим делам. Слуга впустил их в дом, и я вышел им навстречу. Стоило мне увидеть важное и замкнутое выражение на лице сера Пьеро, я понял, что он что-то задумал, причем Леонардо об этом пока еще не знает.
— Добро пожаловать, — поприветствовал я их и обратился к Леонардо, который уже перерос меня: — Мальчик мой, я слыхал от твоего друга Фичино, что в библиотеке Медичи появились новые манускрипты. Почему бы тебе не пойти и не посмотреть?
Дважды повторять ему это предложение не пришлось. Он весь загорелся, махнул рукой и умчался в Палаццо Медичи на Виа-Ларга, который находился недалеко от моего дворца, просторного особняка, который для меня заботливо выбрал Папа Павел П.
— Мой повар приготовил на обед превосходную риболлиту, — сказал я серу Пьеро.
Тот отрицательно покачал головой и грузно уселся на скамью в вестибюле. И тогда я понял, что происходит нечто серьезное, ведь сер Пьеро отказался от приглашения на трапезу! Я выжидающе сел на другую скамью напротив.
— Я показал художнику Вероккьо[519] некоторые рисунки Леонардо, — произнес сер Пьеро.
Стоял прохладный весенний день, но в последнее время сер Пьеро заметно располнел и сейчас утирал платком вспотевший лоб.
— И когда же Леонардо начнет у него учиться? — спросил я нейтральным тоном, который скрывал мою печаль оттого, что я потеряю постоянное и тесное общение со своим юным подопечным.
Конечно, я знал, что этот день когда-нибудь настанет, но не ожидал, что это случится сегодня, и не думал, что буду так расстроен. Жизнь всегда так поступает с нами: подбрасывает неприятный сюрприз, как тяжелый мяч. Я скрестил руки на груди, надеясь усмирить боль в сердце. Леонардо был мне как родной. Мои поиски родителей до сих пор не увенчались успехом, и суженая, обещанная мне в видении, пока еще оставалась где-то в неопределенном будущем, хотя я ждал ее с растущим нетерпением. Леонардо был мне почти как сын, возможно, даже единственный сын, который у меня когда-либо был или будет. Я буду скучать по нем.
— Завтра, послезавтра. Скоро. Вероккьо был поражен. Я честно спросил у него, будет ли полезно моему сыну учиться у него, и, посмотрев на рисунки мальчика, он начал умолять меня, чтобы я отдал Леонардо ему в ученики прямо сегодня!
Сер Пьеро с гордостью посмотрел на меня, и я только кивнул. Хотел улыбнуться, но не смог. И он заметил:
— А вы нисколько не удивлены.
— Нет, синьор.
— Вы, конечно, знакомы с его выдающимся умом, — прошептал сер Пьеро, скорее самому себе, и посмотрел на меня. — Он хоть как-то продвинулся в латыни?
— Не особенно. И Фичино тоже пытался с ним заниматься. В его голове как будто есть дверца, которая запирается, чтобы не впустить эти знания, — честно ответил я. — Словно он когда-то принял решение не учить этот язык. Но я никогда и не настаивал. Леонардо похож на старую мудрую лошадь, которая уже знает путь в горы, так что не надо вмешиваться, и пусть она идет своей дорогой.
— Я знаю, о чем вы говорите, и во всем остальном он тоже талантлив, — развел руками сер Пьеро.
— Особенно в математике, — заметил я. — Я научил его всему, что знал, за несколько месяцев, и теперь он только смеется над моими жалкими попытками обсуждать с ним эти вопросы!
— Вы хорошо потрудились, синьор. И он с удовольствием у вас учился. — Сер Пьеро с натугой поднялся на ноги и шагнул к двери с проворностью, которой не мешал его вес. — У меня еще дела, Лука. Вы ведь скажете мальчику, да?
— А вы еще не сказали? Что он станет учеником Вероккьо? — в замешательстве переспросил я.
— Это относится к вашей области, разве нет? — ответил он и выскочил за дверь прежде, чем я успел возразить.
Палаццо Медичи высился над улицей, массивный и неприступный, на три необъятных этажа и три пролета сбоку. Высота этажей постепенно уменьшалась, как в Палаццо делла Синьория, подчеркивая связь Медичи с городской политикой. Первый этаж был выстроен из грубо отесанных каменных блоков. Дворец был покрыт рустом на шестикратную высоту человеческого роста. Разнообразные по рельефу грубые каменные блоки неодинаковой длины были выложены рядами в треть человеческого роста, они отбрасывали на стену неровные тени, создавая впечатление первобытной силы, достатка и власти. Два верхних этажа, оформленные один лучше другого, как будто бы говорили, что именно здесь и живут владельцы, и были украшены рельефными арочными окнами, расположенными через равные промежутки. Второй этаж, так называемый piano nobile,[520] был выложен обтесанным камнем фигурной кладки. На обоих фасадах красовалось по десять окон, форма которых повторяла разделенные колонкой окна в Палаццо делла Синьория, но здесь они были больше и современнее, с круглыми арками и колонками в классическом стиле. Третий этаж был выстроен из гладкого камня, обильно выкрашенного известью, и его венчал великолепный фриз в античном стиле, который по высоте равнялся одной трети верхнего этажа, таких пропорций, которые соответствовали массивности здания.
Любимый архитектор Козимо Микелоццо спроектировал дворец так, чтобы поразить любого, кто его увидит. Это необъятное здание заняло место двадцати двух домов, которые стояли там раньше, выдавая родство с внушительными башенными крепостями, некогда переполнявшими Флоренцию, в которых в давние времена, до моего рождения, жила военная знать. Таким образом, Медичи смогли показать и свое могущество, и связь с древними традициями флорентийской аристократии. Помимо этого, им удалось продемонстрировать оригинальное новшество, потому что Микелоццо придал этому дворцу приятную стройность и изящную продуманность всех деталей. Я прошел через главный вход и почувствовал запах цитрусовых деревьев и приятную влажность теней и сбрызнутых водой камней. Затем я попал в хорошенький внутренний дворик с открытой аркадой, которую поддерживали классические колонны. Двор был построен по четкому симметричному плану, архитектор создал здесь огромное огороженное пространство, сумев избежать гнетущего ощущения сдвигающихся стен. Во дворике был разбит окруженный лоджиями сад. Скульптурные медальоны, напоминающие о древнеримских инталиях,[521] хранившихся в богатой коллекции Медичи, украшали фриз над аркой. И повсюду встречался герб Медичи: семь palle, то есть шаров на щите.
Количество шаров было непостоянным и все время менялось. Говорили, что они представляют либо вмятины на щите первого Медичи — воина по имени Аверардо, который сражался в войске Карла Великого и получил эти вмятины в героической битве против великана, который наводил ужас на крестьян тосканских деревень, либо округлые формы пилюль или банок, так как первые Медичи были аптекарями. Но некоторые считали, что шары обозначали монеты. Думаю, неопределенная форма была отличной забавой и хитростью для всегда дальновидных Медичи. Она позволяла людям видеть в шарах то, что они сами хотели видеть, и в то же время давала почву для многочисленных легенд о происхождении рода Медичи. Медичи знали, как пленить воображение, а следовательно, и сердца своих подданных.
В центре двора на пьедестале стояла статуя Давида работы Донателло. Меня восхищала в этой скульптуре блестящая техника и смелость замысла, ведь со времен античности это была первая статуя, изображавшая обнаженное тело. И все же эта скульптура меня смущала, точнее, смущала ее излишняя эротичность: округлые, почти девичьи бедра и вызывающая поза, подчеркнутая кокетливыми высокими сапожками. Зачем было придавать Давиду такую вызывающую чувственность? Я не видел другой причины, кроме как желания угодить мужчинам, которые любят мужчин. Я до сих пор слишком хорошо помнил, хотя мне очень хотелось просто забыть обо всем спустя столько лет, всех клиентов, которые донимали меня у Сильвано. Странно, почему столько подробностей до сих пор не забылось спустя много лет! Очень многие клиенты приходили ко мне в кожаных сапогах. Кто-то приносил женскую одежду — платье, юбку и даже фартук. Другие приносили мужскую одежду, которая была мне слишком велика. Некоторые даже приносили пеленки, в какие заворачивают младенцев. Невозможно предсказать или хотя бы понять причудливую природу человеческих желаний.
В моих собственных желаниях отсутствовала изощренность. Я просто получал наслаждение от женщин, их нежной кожи и длинных шелковистых волос, прелестного изгиба талии, волнующих бедер, нежной груди — пусть большой, пусть маленькой — и темных, как вино, нежно-розовых или любого другого соблазнительного оттенка сосков. Я следовал своим простым желаниям и не судил других людей без надобности. Этого не позволяло мое собственное темное прошлое и темные делишки, которые я совершал, лишь бы выжить. Более того, Донателло был мне хорошим другом до самой своей смерти. Умер он в тот же год, когда Пьеро чуть не свергли. И благодаря Сильвано, мне было неловко общаться с мужчинами, которые любили других мужчин.
Я нашел вечно бурлящего идеями и взволнованного Леонардо в солнечном уголке дворика, где он болтал с переписчиком. Тот сидел на мраморной скамье, пользуясь преимуществом мягкой погоды, дабы переписать на улице один из свитков Медичи. Медичи нанимали десятки переписчиков, чтобы копировать манускрипты, а затем продавали рукописи или преподносили в качестве подарка иностранным правителям, чтобы завоевать их благосклонность. В своих поступках Медичи, преследуя благородные цели, всегда руководствовались и другими, скрытыми мотивами. Козимо, а теперь и Пьеро всячески покровительствовали образованию и оба намеревались распространять рукописи как можно шире, чтобы знания стали доступны миру. Поэтому переписчиков, переводчиков и иллюстраторов здесь всегда было пруд пруди. И невозможно было прийти в Палаццо Медичи и не наткнуться на кого-нибудь из них.
— Учитель! — воскликнул Леонардо, заметив меня, и поманил к себе. — Это один из тех манускриптов, которые вы послали Козимо?
— «Герметический свод»? — переспросил переписчик, худой человечек с тонкими губами, испачканными в чернилах руками и крупным горбатым носом. — Не думаю. Этот манускрипт попал к Медичи в шестьдесят первом году. А ваш учитель, больше похожий на кондотьера с большими мощными мускулами, — он закатил глаза (видимо, ему казалось забавным, что я могу быть учителем), — тогда был вашего возраста!
— Я старше, чем кажусь на вид, — ответил я.
— И более проницательны? — улыбнулся переписчик, взглянув на меня сверху вниз, что было мастерским трюком, поскольку он сидел, а я перед ним стоял.
— Насчет этого — не знаю, — нашелся я. — Но я достаточно проницателен, чтобы предположить в вас другие способности, синьор, помимо переписывания манускриптов. Говорят, что уже придуман новый способ печати с наборными литерами, так что скоро ваше ремесло станет ненужным.
— Мое ремесло никогда не станет ненужным, — резко возразил переписчик. — Этим грубым средством пользуются варвары в некоторых немецких городах. Настоящие коллекционеры вроде Медичи никогда не опустятся до того, чтобы держать в своем собрании печатные книги. А трактат, настолько ценный, как этот, — великий перевод Марсилио Фичино «О божественной мудрости» из драгоценного «Герметического свода», написанного Гермесом Трисмегистом, жрецом древнеегипетской религии, — никогда не предадут такому надругательству, как перепечатывание грубым машинным способом!
— Возможно, нет. Но печатные машины уже появились в Неаполе и Риме. Дойдут они и до Флоренции, это только вопрос времени. Печатные машины — полезная вещь, книги станут дешевле и доступнее. Думаю, это новшество приживется, — ответил я. — Вам стоит обучиться новому ремеслу, так, на всякий случай. Ну, например, пасти овец.
— В вас говорит низкий и пошлый ум, синьор, — прошипел писец.
Он прижал к груди свой пергамент, чернила и старый манускрипт и рванулся прочь с грозным пыхтением. Я занял освободившееся место и присел рядом с Леонардо.
— Что ж вы так бедного Армандо! — с упреком произнес Леонардо.
— Не люблю самовлюбленных писак.
— Впрочем, думаю, ты прав насчет печатных машин. Знаешь, когда я фантазирую, то мне кажется, что краем глаза заглядываю в будущее. Я видел, как мир переполнился обилием недорогих книг, и все читали, и это благодаря печатной машине.
— Интересный мир ты видишь!
— Как и ты. Я часто думаю о том видении, о котором ты рассказывал в день нашего знакомства. Но, кажется, что-то произошло? Лука, ты пришел мне что-то сообщить, и это не самые добрые вести? — вдруг спросил юноша, повернувшись ко мне лицом и подогнув под себя ноги.
На нем была желто-оранжево-розовая туника, которую он сам укоротил. Этот яркий наряд он наверняка упросил сшить Катарину, которая никогда ему ни в чем не отказывала. Еще на нем были рваные серые штаны с дырами. Я знал, что у него есть по крайней мере две пары приличных и целых штанов, потому что сам отвел ворчуна сера Пьеро к портному, где мы их и приобрели. Но Леонардо предпочел им это рваное старье. В одежде у него был своеобразный, ему одному свойственный вкус.
— Ты слишком проницателен, парень, — ответил я. — Ты читаешь меня, как манускрипты Армандо.
— Надеюсь, что все-таки лучше, — усмехнулся Леонардо. — Армандо переписывает манускрипты на латыни, а для меня нет ничего хуже, чем читать латынь! Мне все время кажется, что я уже когда-то знал ее, поэтому больше учить ее мне не нужно.
— Твой отец отдал тебя в ученики Вероккьо, — быстро сообщил я, потому что не хотел слишком долго откладывать.
— …Но тебя я вижу насквозь, — тихо сказал Леонардо своим мелодичным голосом, как будто я ничего и не произносил. — Иногда словно какой-то свет льется из людей, и я едва могу его разглядеть. Твой свет будто идет сквозь порванную местами вуаль. Сквозь нее проникают лучи, как бы против воли. Но там, где свет не виден, таится не пустота, там что-то есть. Там кроются тайны. Ты хранишь много тайн, Лука Бастардо. Тайные таланты, тайные страхи. И на тебе лежит рука судьбы.
— У всех людей есть тайны.
— Но у тебя не так, как у всех.
Он покачал златовласой головой, и я взглянул на его прекрасно вылепленное лицо, заметив, что его щеки и подбородок потемнели от каштанового пушка. Уже отрастает бородка. Мне придется отвести его к брадобрею или научить ухаживать за бородой. Вообще-то мне нужно было сделать это раньше. Какой же я нерадивый учитель! Я вручаю его Вероккьо еще не завершенным творением, как один из набросков Леонардо. Какая-то часть меня знала, что мне доверили Леонардо лишь на короткий срок, но другая часть думала, что это драгоценное время продлится вечно. Несмотря на долголетие, дарованное мне моим уродством, я до сих пор не мог постичь, что такое время. Остались вещи, которым я еще только собирался научить моего подопечного, о которых хотел ему рассказать, а теперь у меня уже не будет такой возможности. Я оторвал от него взгляд и перевел его на Давида.
— Тебе не нравится скульптура Донателло, — заметил Леонардо.
Я пожал плечами.
— Сам он мне нравился.
— Почему она тебе не нравится? — спросил он.
— Не то что бы не нравится, — ответил я и закрыл глаза, желая быть более честным и откровенным с ним перед разлукой. — Виноваты воспоминания детства. Мне приходилось терпеть внимание мужчин, которые любят других мужчин, вернее мальчиков. И мне трудно вспоминать об этом.
Я открыл глаза и увидел, что юноша пристально смотрит на меня.
— Твое детство! Ведь это было очень давно, не правда ли, Лука Бастардо? У монашек в Сан Джорджо есть картина. На ней мальчик, который смотрит со стороны, и у него твое лицо. Я много раз рассматривал его, чтобы убедиться. Те же краски, те же черты… Это могли быть только вы, учитель. Я точно знаю. То, что вы сказали переписчику, верно: вы гораздо старше, чем кажетесь с виду.
Я медленно выдохнул и кивнул, обратив взор на небо. Я вспоминал чудесные фрески Джотто с вознесением святого Иоанна и безбрежное голубое небо, куда так красиво поднимался святой. Это голубое небо со своим обещанием свободы помогло мне пережить много ужаса и невыносимых вещей, которые я больше ста лет пытаюсь забыть. И я прошептал:
— Эту картину написал Джотто. Он показал мне ее, не сказав, что на ней изображено мое лицо, а потом, когда я узнал себя, рассмеялся и сказал, что человек, знающий себя, далеко пойдет в жизни.
Какое это облегчение — признаться кому-то, кому искренне доверяешь, кто не станет использовать мое прошлое в своих целях как орудие против меня. Вот уже более ста лет я прожил,оберегая свою тайну, скрывая от людей свой истинный возраст, делающий меня отверженным среди них, и сейчас, чувствуя, как у меня мурашки побежали по коже, я открыто и бесстрашно объявляю об этом!
— Фичино говорит что-то подобное, — сказал Леонардо совершенно спокойно, как будто я не открыл ему только что все свои тайны. — Фичино любит собирать друзей и вести застольные беседы, и он рассуждал о бессмертной душе. Что есть душа? Можно ли ее познать? Это нечто вещественное или это сущность? То же ли это, что дух, бестелесный и невидимый? Я думаю, что душа — это некое качество или широта взгляда, и она связана с воображением, любовью и природой. Меня не так занимают эти разговоры, ведь в природе еще много менее туманных, но неизученных вещей.
— Фичино говорит, что сущность каждого человека зарождается, как звезда на небе. Другой вопрос — что такое звезда? И что такое солнце, земля? По каким правилам они существуют? Любой разумный человек, взглянув на ночное небо, тут же поймет, что именно земля вращается вокруг солнца, а не наоборот! Значит, звезды — это природные объекты. И могут ли они действительно определять судьбу человека? Фичино предложил бы вам обратиться к гороскопу, чтобы понять ваше необычное долголетие. Он умнейший человек, но эта его астрология, как и черная магия, полный вздор. — Юноша покачал головой. — Может ли звезда даровать вам вековечную жизнь, учитель?
— Некоторые люди считают, что долголетием и молодостью я обязан колдовству и магии, — признался я, и сердце мое еще сильнее потянулось к этому необыкновенному юноше.
Я открыл ему то, в чем меня обвиняли, хотя сам втайне боялся, что это на самом деле правда.
— В этом-то и дело, — довольно ответил Леонардо. — Колдовство и магия существуют лишь в воображении глупцов! Должна быть какая-то естественная причина вашего долголетия. Возможно, она кроется в вашем теле. — Он склонил голову и внимательно окинул меня взглядом с ног до головы, изучая меня так, словно я какой-нибудь образец со стола в лаборатории Гебера. — Очень жаль, что мы не знаем ваших родителей, иначе смогли бы понять, получили ли вы этот дар от них по наследству, как наследуют цвет волос, особую форму носа, или это свойственно лишь вам одному.
— Я искал своих родителей. У меня к ним всего один или два незначительных вопроса, — ответил я с усмешкой и сожалением, в котором угадывалась давняя тоска.
И вновь меня охватила нежность к Леонардо, который всегда возвращал меня к сокровенным глубинам моего существа.
— Знаю, — улыбнулся Леонардо. — Я видел ваших посланцев, когда они приходили в ваш домик на винограднике. Я прятался за дверью и подслушивал ваш разговор.
— Ах ты, негодный проныра, вечно суешь нос в дела, которые тебя не касаются! Что ж, тебе придется покопать где-то еще, чтобы разгадать секрет моей жизни. Возможно, моя душа чрезмерно переполнена сама собой, — предположил я с иронией.
Если уж мне неизвестно мое происхождение, то я хотя бы знаю себя. И знаю, что душевности во мне меньше, чем у Джотто и Петрарки, Леонардо и Фичино, у меня ее даже меньше, чем у великолепного, властного и жесткого Лоренцо, несмотря на всю его любовь к поэзии, атлетическим играм и талантам политика. Я же прямолинеен, упрям и не склонен к творчеству, хотя уважаю его, когда вижу в других. Я не умею писать картины, ваять статуи или слагать поэмы. За мой дар нельзя требовать признания. Получив его, можно только пожать плечами, видя в этом удачную шутку Бога.
— «Герметический свод» подтвердил бы, что вы в переизбытке обладаете пятой сущностью помимо четырех природных стихий. Утверждения этого трактата могли бы привести нас к выводу, что ваш арканум имеет особенные свойства, он вмещает больше небесных токов, коими пронизаны души всех существ и каждого человека. Но я так не думаю. — Леонардо поджал губы и поднял брови. — Я думаю, что дело скорее не в таинственной силе, а в природных явлениях, которые можно измерить и изучить. Возможно, ваши органы сами собой обновляются, или же это связано с их структурой и здоровой природой телесных жидкостей. Любопытный вопрос! Хотелось бы мне больше знать об органах. Когда-нибудь я серьезно займусь изучением внутреннего строения человека, его механической структуры, чтобы раскрыть внутренние загадки. И тогда я пойму, что с вами происходит, Лука. Я уверен, что душа Фичино каким-то образом вернется, чтобы слиться с телом. Не хочу, чтобы меня сочли еретиком, но я думаю, — он помолчал, и его глаза вспыхнули, — я думаю, что душа пребывает там, где рождается способность суждения, суждение же пребывает там, где сходятся все чувства, то есть в том, что зовется здравым смыслом. А чувства слуха, зрения, обоняния и осязания проходят через тело, а тело — это сосуд…
— Ты скоро начнешь обучение у Вероккьо. Может, даже завтра. На него произвели большое впечатление твои рисунки, и он просто умолял твоего отца начать прямо сегодня, — произнес я. — Ты станешь выдающимся художником, мальчик мой! Мир узнает о твоем гении. Фортуна и слава в твоих руках!
— Я состарюсь прежде тебя, Лука, — с некоторой грустью ответил Леонардо и пристально посмотрел на меня, словно увидел какую-то неземную сущность, которую другие люди чувствовали, но не могли вполне воспринять. И задумчивым голосом он произнес:
— Правда, не знаю, умру ли я раньше вас… И мне кажется, у вас есть другие тайны, опасные тайны, о которых известно Лоренцо де Медичи, и с помощью их он смог привязать вас к себе. Я вижу, как вы иногда на него смотрите — с недоверием и злостью вперемешку с уважением. Лоренцо приятный, щедрый человек, он, как и я, любит лошадей, но человек он сложный. Я бы даже сказал, что неискренний.
— Я всегда буду твоим другом и явлюсь к тебе в конце, чтобы ты не умер в одиночестве, — тихо произнес я.
Он, видимо, не собирался обсуждать свое будущее ученичество и нашу предстоящую разлуку. Это слишком больно затрагивало его сердце, ведь он сам выбрал меня в учителя. Но он был просто одержим всепоглощающей, ненасытной жаждой знаний. Уж я-то знал это лучше кого бы то ни было! По большому счету он должен быть рад предстоящему ученичеству. Его новый учитель пользовался большим уважением. Если Андреа дель Вероккьо и не считали величайшим художником из всех, которых когда-либо рождала Флоренция, то он славился основательностью и добросовестностью. Он изучал науки, особенно геометрию, имел хороший опыт в ювелирном деле, скульптуре, живописи, резьбе по дереву и музыке. Он обладал репутацией терпеливого и рассудительного человека и умел видеть красоту. Особенно очаровательными мне казались написанные им женские головки, со струящимися колечками волос. Такой учитель сможет развить гений Леонардо.
Я поднялся и встал перед Леонардо.
— Пройдет несколько лет, прежде чем мы сможем часто видеться, мой мальчик. Ученики работают день и ночь, чтобы освоить ремесло и добиться в нем совершенства. Они всецело в распоряжении своих учителей. С Вероккьо у тебя не будет ни одной свободной минутки, а так и должно быть.
Я положил руку на плечо Леонардо и неожиданно почувствовал, как сам собой возник консоламентум — теплым лирическим ручейком, движением души или духа или еще какого-нибудь природного явления, как, вероятно, назвал бы его Леонардо. Рожденное теплом моего бьющегося сердца излучение перетекло в юношу, сидевшего на мраморной скамье передо мной. Его лицо смягчилось, и он чуть заметно улыбнулся, закрыл глаза и впитал этот ручей. Исходившее от него сияние, от которого он казался живее остальных людей, разгорелось ярче и шире. Я дождался, пока поток замедлится до ровного пульса, потом отнял руку и положил на сердце.
— Для меня было честью и радостью проводить с тобой время. Ты сделал мою жизнь богаче.
У Леонардо увлажнились глаза, он быстро заморгал и отвел взгляд. Он не мог ничего ответить, и в конце концов я просто повернулся и пошел к выходу.
— Я разгадаю все ваши тайны, учитель! — крикнул он мне вслед. — И найду способ помочь вам!
И Леонардо перешел к гораздо лучшему учителю, чем я. У меня стало больше свободного времени, и Лоренцо не преминул воспользоваться этой возможностью. Когда ему исполнилось девятнадцать, его мать Лукреция выбрала ему в невесты римскую аристократку Клариссу Орсини, и это событие вызвало пересуды во всей Флоренции. Жениться на женщине не из Тосканы было равносильно государственной измене, тем более что тосканские женщины самые красивые и умные во всем христианском мире! Неужели Лоренцо считает себя лучше остальных флорентийцев? Медичи были первыми гражданами Флоренции, и все это признавали, но они же не принцы! Все-таки Флоренция — республика. Но проницательный Лоренцо предпочел возмущение всей Флоренции, сочтя, что это лучше, чем навлечь на себя гнев нескольких обиженных его выбором знатных семейств. Всегда помня о политической подоплеке, он также видел преимущество в том, чтобы заключить союз с древним знатным родом, который имел важные связи как в Риме, так и в Неаполитанском королевстве. Но для Лоренцо, который славился неистощимой мужской силой, была невыносима мысль о браке с безобразной женщиной, тем более что римские женщины не были так хорошо образованы, как флорентийки. Его приводила в отчаяние одна перспектива общения с этой девушкой. Несмотря на заверения любимой матери о том, что Кларисса очень даже миловидна, он тайно отправил меня оценить ее красоту.
— Я выбрал жену за благородное происхождение, в надежде на богатое приданое и прочие благоприятные возможности, — сказал он мне. — Но эта женщина не должна быть безобразной. И я поверю только мнению другого мужчины о ее прелести и зрелости.
Подкупив нескольких слуг, уложив в постель горничную девушки, а также путем прочих ухищрений я устроил для Лоренцо возможность увидеть свою невесту на церковной службе. Он одобрил ее рост, белоснежную кожу, рыжеватые волосы, изящные руки и ладную грудь. Итак, сватовство состоялось. Лоренцо женили заочно в Риме, а в июне 1469 года, через год после того, как Леонардо начал обучение у Вероккьо, Кларисса наконец прибыла во Флоренцию, и в честь нее устроили великолепный турнир и пышное свадебное празднество.
Несколько месяцев спустя, в начале декабря, от подагры умер Пьеро. Через два дня после его кончины из города к Лоренцо прибыла торжественная делегация с просьбой взять на себя управление Флоренцией. Лоренцо принял предложение, хотя ему было всего двадцать лет и он, как любой молодой человек, еще не утолил все свои желания и страсти. Но Лоренцо тут же продемонстрировал свойственную ему проницательность и пригодность для должности, которую он унаследовал скорее от деда Козимо, чем от вечно прихварывавшего отца. Он назначил себе в советники опытных приближенных. Меня тоже включили в эту основную группу, хотя я редко общался с остальными. Лоренцо использовал меня в качестве тайного советчика. Этот порядок меня вполне устраивал: я не хотел привлекать внимание к себе и своему неестественному долголетию. Клан Сильвано разъехался из Флоренции по разным городам, но это, может быть, только на время. И даже несмотря на их отсутствие, здесь оставались их союзники. Говорили, что братство Красного пера все еще тайно существует, ожидая возрождения инквизиции и прочих орудий религиозной нетерпимости. К тому же и другие люди могли заметить, что я не старею, как они. Мне надлежало соблюдать осторожность. Поэтому Лоренцо использовал меня для личных поручений, щекотливых дипломатических миссий и передачи тайных посланий иностранным послам и государям. Иногда я даже договаривался для него о встрече с понравившейся женщиной. Лоренцо испытывал неутолимую страсть к прекрасному полу, как и я. Я не осуждал его за супружеские измены, хотя он был счастлив с Клариссой, и сам я считал, что если ты счастлив с женой, то должен быть верен. Но Лоренцо как правитель Флоренции считал себя выше таких мелочных предрассудков. Он намеревался принести городу великую славу, ради самого города и рода Медичи. Но ход истории изменился. В 1471 году умер щедрый и красивый Папа Павел II, добрый друг Лоренцо, а на папский престол взошел францисканец Франческо делла Ровере, нареченный Сикстом IV.
Лоренцо вызвал меня в ясный июньский день 1472 года, и я решил, что он собирается обсудить очередной карнавал, маскарад, пышное шествие или процессию, которыми постоянно забавлял Флоренцию, таким образом завоевывая любовь флорентийцев, всегда обожавших веселье. Я прогуливался по старому рынку с Сандро Филипепи, который по непонятной причине назвал себя Боттичелли. На самом деле это было прозвище его брата. Мы без цели слонялись среди прилавков с розовой клубникой и красной малиной, копченой колбасой и серебристой рыбой, привезенной с моря. Столы ломились от свежей дичи — шотландских куропаток и оленины из деревни. Мы шутили и между делом обсуждали цену за тондо с Мадонной и младенцем, которое я хотел приобрести для своего дома. Не из набожности и не по религиозным причинам, хотя, может, и по ним, если считать, что искусство для меня своего рода религия. Стиль Сандро был изящным, лиричным, он изображал человеческое тело одновременно неземным и чувственным. Особенно восхитительны были его женские фигуры — истинное торжество красоты и женственности, света и чувственности. Я намеревался приобрести одну из его работ, чтобы пополнить ею личную коллекцию и оказать ей тот почет, какого она заслуживала.
А еще я собирался украсить свой дом — дворец, который мне передал Папа. За последние четыре года, скучая по Леонардо, я с новой силой почувствовал давнюю тоску по собственной семье. Я часто видел сны о незнакомой пока мне женщине, и они не давали мне ни на минуту забыть об этой тоске. Если раньше я мог встряхнуться и наваждение сходило с меня, как с гуся вода, то годы, проведенные возле Леонардо, заново открыли мое сердце миру. Я был готов обзавестись женой и ребенком — своими женой и ребенком. Будет ли это сын, похожий на Леонардо, или милая дочурка, которую я буду баловать и нежить, я был готов к тому и другому и стремился к этому всей душой. В ночь философского камня видение пообещало мне великую любовь, и я ждал ее. Хотя видение показало мне, что я должен был ее потерять, а в конце концов поплатиться жизнью, я возомнил, что и судьбой тоже можно управлять. Я воображал, будто смогу поспорить с судьбой за исход моего выбора и избежать трагедии. Я думал, что приму решение судьбы и в то же время могу жить по своей воле. Но я ошибался, хотя в чем-то и был прав. Судьба и свободная воля движутся параллельно от начала и до конца, устремляясь ввысь, как круги, которые поддерживают несравненный купол Брунеллески. Их движение происходит в человеческом сердце, и я был готов жить сердцем в полную силу. По крайней мере, я так думал. Но сначала меня ждали новые испытания.
— Какая разница, сколько я тебе заплачу? Ты все тут же пустишь на ветер и растранжиришь, — говорил я Сандро.
— Тогда заплати мне кучу денег, чтобы я не спустил! — смеясь, возражал Сандро.
Это был добродушный, умный человек, который любил шутки, каламбуры и веселье. Он всегда был занят искусством, хотя, как я не раз замечал, ему не хватало необходимых навыков обращения с деньгами. Он был довольно привлекателен: глубоко посаженные глаза, длинные вьющиеся локоны, которыми он особенно гордился, большой нос и выдающийся расщепленный подбородок.
— Пятьдесят флоринов это и так куча денег.
— А сто флоринов — две кучи. — Он улыбнулся и добавил: — Тогда мне будет что пускать на ветер!
Я вскинул руки и засмеялся, и тут у прилавка с абрикосами меня окликнул слуга Лоренцо. Сандро похлопал меня по плечу.
— Иди, тебя снова зовет твой великолепный Лоренцо, который не стал бы пререкаться со мной из-за пятидесяти флоринов. Но мы ведь увидимся через пару дней в Кареджи, на ужине у Фичино?
— Да, я там буду. Шестьдесят флоринов! — крикнул я и отошел к слуге.
Все-таки когда-нибудь я мог бы подарить своей жене работу Боттичелли.
— Семьдесят пять!
— Согласен! — ответил я.
Сандро запрокинул голову и засмеялся, стиснув над головой руки в знак одержанной победы.
— Я бы сделал и за пятьдесят, но мне нравится тема! — отозвался он.
— А мне нравятся твои работы, я бы заплатил и сотню!
— Может, еще и заплатишь! — добродушно крикнул он в ответ.
Я хотел ответить ему, но слуга-мавр дернул меня за рукав.
— Синьор Лоренцо требует вашего присутствия. Возьмете мою лошадь? — предложил он и указал на окраину рынка, где были привязаны лошади.
Я отрицательно покачал головой и порылся в кармане в поисках монеты. Купил мясистых абрикосов, и торговка расторопно вручила мне сверток. Я впился зубами в сладкий, сочный плод и, прожевав, ответил:
— В такой день неплохо пройтись пешком, да и идти недалеко. Езжай и скажи своему хозяину, что я скоро буду.
Томмазо Содерини и Федериго де Монтрефельто, граф Урбинский, уже присутствовали, когда я прибыл в Палаццо Медичи и прошел в пышные покои Лоренцо, с выложенным мрамором полом, искусно отделанным потолком. Они стояли у одной из трех картин Паоло Уччелло — «Битва при Сан-Романо». Такого рода живопись обыкновенно украшала правительственные здания в память о военных победах. В покоях Лоренцо эти картины создавали впечатление, будто находишься в королевском дворце или в зале заседаний правительства. Это впечатление усиливали мраморные портретные бюсты Пьеро и его брата Джованни, которые Лоренцо после смерти отца поставил в своей комнате. Бюсты напоминали портреты великих деятелей античного Рима, какие можно увидеть в парадных залах. И все же великолепие убранства не скрыло от меня атмосферу напряженности, и, увидев мрачное лицо Содерини, я догадался: происходит нечто серьезное.
— Рад, что вы пришли, Бастардо, — холодно произнес Лоренцо, и я понял: он недоволен, что я явился недостаточно быстро. — Мы как раз обсуждали нового Папу, Сикста.
— Он был очень любезен и утвердил за Медичи управление папскими финансами, — осторожно ответил я и встал рядом с Содерини.
— Любезен, но холоден, — добавил Содерини-старший, преданный Лоренцо. Он был в ужасе от попытки своего кузена Никколо организовать против Пьеро заговор и с тех пор стал одним из ближайших друзей и верных союзников Лоренцо. Некоторые даже считали, что Содерини — единственный человек во Флоренции, который может не согласиться с Лоренцо. На самом деле Содерини и Лоренцо вполне слаженно сотрудничали во всем, и их дружеские разногласия поддерживались ими лишь для видимости, чтобы не разрушать в глазах флорентийцев приятную иллюзию республиканской свободы.
Затем Содерини обратился ко мне:
— Наши давние соперники Пацци делают ему авансы, и, как мне кажется, с успехом.
— Медичи были банкирами Папы еще со времен Козимо, когда все только начиналось, — ответил я. — Неужели Сикст и вправду захочет нарушить проверенное временем соглашение? Для пап, как и для Медичи, эта система была прибыльной.
— К тому же Сикст поглощен внешней политикой, — добавил Федериго.
Это был пожилой знатный вельможа, известный как талантливый военачальник и покровитель наук и искусств. Его дворец в Урбино по слухам был прекраснейшим во всей Италии, а его библиотека соперничала даже с библиотекой Медичи. Он был такого же телосложения, как я: худой, мускулистый и недурен собой — если смотреть слева, потому что справа у него не было глаза и лицо было рассечено шрамом, полученным еще в юности на турнире. Я знал, что это человек чести, который всегда держит слово, и все же не доверял ему до конца. В своей жажде не проиграть ни одну битву, он, бывало, вел осаду города, в результате которой гибли самые слабые жители — женщины и дети. Мне это казалось немыслимым — заставлять страдать женщин и детей, чтобы нанести поражение мужчинам. Что бы ты ни делал, нужна взаимная готовность обеих сторон, чтобы не отыгрываться на тех, кто слабее.
Федериго продолжил:
— Папа намерен выступить в поддержку крестового похода против турок, способствовать укреплению церковной власти во Франции, где Людовик XI добивается независимости французской церкви, и поддержать борьбу за воссоединение русской церкви с римской.
— Вы забыли упомянуть самое важное: содействовать интересам своих племянников, — сухо добавил Лоренцо. — Вот чего я больше всего боюсь! Как бы он не вздумал отдать Флоренцию под власть какого-нибудь бездарного дурака из числа своих родственников.
— А какая проблема на первом месте сейчас? — спросил я, зная, что она есть, иначе бы Лоренцо за мной не послал.
Сцепив руки за спиной, я ждал ответа, вглядываясь в каждого из присутствующих по очереди. Угловатое лицо Лоренцо выражало холодную сосредоточенность, хотя губы были сердито сжаты. Содерини, круглолицый мужчина зрелого возраста, то и дело бросал быстрые взгляды на Лоренцо. Понять, что думает Федериго Монтрефельто, было сложнее, потому что его чувства выражала только одна половина его лица, и ему приходилось поворачивать голову, чтобы здоровым глазом видеть находящегося перед ним человека. Казалось, что он про себя чему-то радуется.
— Вольтерране бунтуют, — сообщил Содерини.
— Проблема в квасцовых рудниках, — пояснил Лоренцо гнусавым, размеренным голосом. — В деньгах и квасцовых рудниках. Банк Медичи обеспечил капиталом тех, кто получил разрешение разрабатывать месторождения, обнаруженные несколько лет назад. За это подряд на добычу квасцов перешел к консорциуму из трех флорентийцев, трех сиенцев и двух вольтерран. Разумеется, эти флорентийцы — мои люди. Теперь же месторождения доказали свою прибыльность. И вольтерране при поддержке своего города требуют увеличить их долю от прибылей.
— В таком деле никогда не обходится без взяток, — произнес Содерини, расхаживая вокруг нас. — Подрядчики вынесли этот вопрос на суд Синьории. Из разговора с ними я знаю, что Синьория проголосует за то, чтобы прибыль шла в главную казну всего флорентийского государства.
— Это вольтерранам не понравится, — заметил я. — Им нужны деньги для Вольтерры.
— На это мы и рассчитываем. Они взбунтуются, и тогда я немедленно выступлю с войском, чтобы подавить мятеж, — небрежно ответил Федериго.
Он происходил из знаменитого рода военных, где все были предводителями наемных армий кондотьеров. На войнах он сделал свое состояние.
— Если действовать быстро, то победа будет в кармане, а моя армия уже готова к бою!
— Постойте. Вы хотите сказать, вольтерране еще не взбунтовались? — потрясенно переспросил я.
— Взбунтуются, — ответил Лоренцо, пронзительно посмотрев на меня.
Они с Федериго обменялись многозначительными взглядами.
— Их роптаниям и угрозам нет конца. Это заядлые мятежники. Они давно ищут предлога, чтобы заявить о своей независимости. Думают, я слишком молод, чтобы действовать решительно, и постараюсь договориться с ними по-хорошему из-за моей «слабости».
— Синьор Лоренцо, никто из тех, кто когда-либо встречался с вами, не посмеет усомниться в вашей силе! — воскликнул я.
— Выступая в Синьории, я выскажу мнение, что демонстрация силы не нужна и только раздразнит вольтерран, — кивнув, произнес Содерини. — Я буду рекомендовать прибегнуть к примирительным мерам. Я напомню Синьории старую поговорку: «Худой мир лучше доброй ссоры». Это выгодно оттенит смелость и предприимчивость Лоренцо, публично продемонстрирует его решительность и дальновидность.
— Вольтерране послужат хорошим примером того, что случается с теми, кто противится моей власти, — с некоторым удовлетворением заявил Лоренцо. — Это будет уроком для всех городов, находящихся под властью Флорентийской республики. Я не допущу, чтобы Флоренция потеряла территории, которые с таким трудом присоединял мой дед! Я докажу, что достоин его наследия, и укреплю флорентийские границы! А Сикст увидит, что у меня хватит средств, чтобы не дрогнув выставить боеспособную армию на защиту своих интересов. Он поймет намек.
— Так ли это необходимо? Сколько вольтерран погибнет, чтобы доказать вашу правоту? — рассерженно спросил я.
— Не более, чем необходимо, — пожал плечами Лоренцо и повернулся ко мне. — Вы отправитесь с Федериго, Бастардо.
— Я не буду убивать невинных людей, — буркнул я. — Эта часть моей жизни закончилась!
— Есть люди, которых я мог бы вызвать во Флоренцию, и уж они-то позаботятся, чтобы закончилась вся ваша жизнь! — рявкнул Медичи.
Я холодно смерил Лоренцо спокойным взглядом, и он, смягчившись, положил руку на мое плечо и крепко сжал его.
— К тому же я не прошу вас убивать, мой дорогой Лука. Вы будете делать то, что вам так хорошо удается: послушать, что говорят на улицах, прощупать настроения в народе. Будете сообщать мне о происходящем. Будете моими глазами и ушами в Вольтерре. Поймут ли они преподанный им урок? Я хочу это знать. Я отзову армию, как только они покорятся. На самом деле вы поможете мне свести потери к минимуму.
— Я не буду сражаться против вольтерран, — возразил я. — Надеюсь, вы это поняли.
Стояло раннее июньское утро, продуваемое бодрым чистым морским бризом, и холмы вокруг нас волновались золотистой зеленью типичных для Тосканы оливковых рощ, кипарисовых аллей и виноградников. Однако здесь встречались и дикие, суровые ущелья и овраги с глиняными склонами, заросшие дремучими лесами могучие утесы, с которых открывалось прекрасное Тирренское море. С самого высокого песчаного холма, на пересечении рек Бра и Чечина виднелся силуэт города. Столетние или даже тысячелетние каменные стены кольцом окружали город, расположенный к юго-западу от Флоренции. Я ехал на Джинори впереди армии Федериго, держась в стороне от движущейся колонны на таком расстоянии, куда не достигала поднятая ею туча пыли и оглушительный шум. Военный отряд — это шумное, грязное, скотское стадо. Даже расстояние не спасало от какофонии звуков: цокота копыт и топота сапог, звона оружия и треска щитов, шуршания волочащихся по грязи копий, скрипа стальных арбалетов. Огромные тяжелые колеса массивных железных пушек с грохотом катили по дороге, позади гремели повозки с провизией, музыканты то и дело начинали барабанить или трубить в трубы, репетируя марш, а над всем этим — гомон громко переговаривающихся, кричащих, смеющихся и поющих людей, словно бы смерть, разрушения и раны — это какой-то праздник. В воздухе клубилась пыль, поднятая ногами, а сам он пропитался насквозь запахами пота, человеческой и животной мочи, испражнений, плевков, которые оставляла за собой любая армия в походе, не говоря уже о газах, которые скапливались в организме из-за грубой, трудно перевариваемой пищи: черствого хлеба, копченого или вяленого мяса, вина или воды. Позади, за шеренгами солдат, двигался дополнительный личный состав, необходимый в каждой движущейся армии: несколько священников, лекарей и брадобреев-хирургов, кузнецы, оружейники, седельники, чтобы чинить седла, слуги для ухода за лошадьми, и так далее, и так далее. По крайней мере, за армией Федериго не шли хвостом женщины. Он был серьезный, опытный предводитель кондотьеров и установил в своей армии строгую дисциплину. Он воздерживался от обычной практики, которую проводили другие полководцы, беря в поход целый взвод проституток. Я отвернулся от армии и вновь обратил взор на высокую зеленую гору, на которой стояла Вольтерра.
— Красиво, не правда ли? — крикнул мне Федериго, который оторвался от главного корпуса и теперь ехал рядом.
— Старый и хорошо укрепленный город, — заметил я. — Подойти можно только с одной стороны, у церкви Сан Алессандро. Другие стороны прекрасно защищены. И какова будет ваша стратегия?
— Мы поднимемся прямо с доступной стороны и вежливо попросим открыть ворота, — ответил он и улыбнулся здоровой половиной рта.
— Что, скажете «будьте добры, прошу»? — отозвался я с изрядной долей скептицизма.
— По-моему, очень вежливо, а вы как думаете?
— И что же, они так прямо и откроют ворота?
— Разумеется! У меня хорошие аргументы.
Он подмигнул мне здоровым глазом, и мне это показалось поступком храбрым, учитывая, что он, одноглазый человек, сидит верхом на громадном, горячем сером жеребце, который скачет рысью на приличной скорости. Но впрочем, в трусости никому не пришло бы в голову обвинить Федериго Монтрефельто, графа Урбинского!
Я развернулся в седле и посмотрел на десять тысяч пеших воинов, которые строем шагали у меня за спиной, и двухтысячную кавалерию, сопровождавшую их по бокам.
— У вас примерно двенадцать тысяч хороших аргументов, — произнес я.
— Нет. Я приведу одну тысячу, — возразил он. — Но мы сделаем остановку, прежде чем вступать в беседу. Я хотел бы провести мессу для солдат. Перед битвой неплохо сосредоточить умы солдат на Господе и состоянии души. На случай, если все-таки придется драться.
Он пришпорил лошадь и понесся обратно к армии.
— А почему тысячу? — крикнул вслед я.
— Это численность кондотьеров, которых они наняли для своей защиты! — ответил он и исчез среди рядов армии.
Точно как и предсказывал Федериго, вольтерране открыли ему ворота. Его армия собралась с доступной стороны, и солдаты со знанием дела начали готовить тяжелые железные пушки, заряжать стрелы в арбалет и так далее. Обычные насмешки и оскорбления летали взад и вперед через вольтерранские стены. Вольтерранские кондотьеры небрежно метнули несколько горящих стрел, и затем Федериго послал гонца передать вольтерранским предводителям приглашение на переговоры. Меня не было на этом совещании, но позже я услышал, что Федериго обратил внимание вольтерран на то, что их кондотьеры напуганы его армией и, скорее всего, побегут на его сторону и перебьют в городе много народу. Наемным солдатам, кроме тех, которыми командует он, доверять не стоит, они мало чем отличаются от организованной банды разбойников, которые ищут собственной выгоды и, спасая свою шкуру, всегда готовы среди боя переметнуться на сторону противника. Видимо, он говорил убедительно, потому что предводители вольтерран резво ускакали в город и открыли ворота. И вот тогда смерть обрушилась на город.
Я въехал в город вместе со средним звеном войск, и разрушения, представшие моим глазам, потрясли меня до глубины моего существа. Из домов и лавок рвалось алое, рыжее, синее пламя. Улицы были завалены пожитками, выброшенными из окон: порубленной мебелью, черепками посуды, разорванной одеждой, разбитыми флакончиками от духов, пролитыми бочками вина и перевернутыми кувшинами с оливковым маслом, из которых масло сочилось прямо на мостовую. Скотину повыгоняли из стойл и сараев. Лошади, свиньи, овцы, козы, коровы и цыплята с ржанием, хрюканьем, блеянием, мычанием и кудахтаньем бродили по улицам. Кондотьеры с обеих сторон озверели: они взламывали двери, закалывали безоружных людей, гонялись за женщинами, выносили ценности. Солдаты прочесывали улицы города, снаружи били стекла копьями и мечами, а изнутри вышвыривали тяжелые глиняные горшки и мебель. Они смеялись и ревели, как животные, их крики заглушали грохот выламываемых дверей, треск щепок, шипение огня и стоны женщин, вопли стариков и пронзительный визг детей. Они выносили кувшины с вином из таверн и жилых домов, осушали их и запускали кувшинами в бегущих вольтерран. Я увидел, как три кондотьера гнались по переулку за девочкой, спрыгнул с Джинори и кинулся следом. Переулок заканчивался извилистым лабиринтом меньших переулков, и я увидел, как один из кондотьеров отстал от остальных и схватил за волосы съежившуюся женщину. Тогда я выхватил меч и вонзил ему в основание шеи. Кондотьер беззвучно рухнул на землю, а женщина вцепилась мне в колени, лопоча что-то бессвязное.
— Прячьтесь! — сказал я ей, это было все, что я мог для нее сделать, а сам бросился разыскивать девочку.
Я добежал до конца переулка и увидел за поворотом тупик. Я повернул обратно и, чертыхаясь, свернул в другой, потом в третий. Наконец, упершись в каменную стену какого-то дворца, я увидел двух оставшихся кондотьеров. Но было слишком поздно. Один мерзавец с грубым гоготом уже натягивал штаны, в то время как другой, спустив штаны до щиколоток и обнажив волосатые ляжки, встал на колени. Из-под него торчали длинные ноги девочки. Он похохатывал, размахивая окровавленным кинжалом. Похоже, насиловать он ее уже закончил и теперь забавлялся тем, что резал тело девушки коротким клинком. Не долго думая, я кинулся на него, взмахнув мечом. Крутанувшись всем туловищем, я снес ему голову с плеч одним широким взмахом. Голова покатилась в канаву, и из обезглавленного тела, упавшего на девочку, хлынула багровая кровь. Другой кондотьер орал, пытаясь вытащить меч, и я выпустил из него кишки, как потроха из рыбы. Я повернулся к девочке. Она не издавала никаких звуков, и я испугался, что она мертва, но, когда стащил с нее мертвое тело, она села сама. Платье на ней было изодрано, юбка оторвана.
Девочка была перемазана кровью, и не только, и кондотьеры вырезали глубокую метку у нее на бедре, похожую на крест. Она обратила на меня измученное, заплаканное лицо, и я с трудом поверил, что можно быть такой прекрасной. Ей было всего лет двенадцать, у нее было тонкое личико сердечком, высокие скулы, большие глаза с золотистыми крапинками, в которых горел ужас, крупный рот с алыми губками, открытый в безмолвном крике. Видя, как я на нее смотрю, она выхватила кинжал из руки обезглавленного солдата. Я понял, что она хочет наложить на себя руки, и вырвал у нее нож.
— Дай мне умереть! — сквозь слезы взмолилась она, но даже этот измученный голос был мелодичен и красив.
— Нет, нет! — воскликнул я. — Ты должна жить! Ты будешь жить! Ты это переживешь! Тебе кажется, что это конец, но это не так! Ты выживешь!
— Я не заслуживаю жизни. Теперь я ничто! — рыдала она. — Хуже дерьма!
— Прекрати! — сердито ответил я. — Ты жива, а сегодня многие погибнут. Ты нужна своему городу. Ты нужна своей семье. — Я пошарил глазами в поисках остатков юбки, нашел и оторвал от нее несколько длинных полос. — У тебя глубокая рана, но не очень опасная. Я перевяжу ее. В следующие дни следи, чтобы не было заражения.
— Какие еще могут быть следующие дни? — вскрикнула она.
— Они просто будут, жизнь продолжается, — ответил я и заботливо посмотрел на нее. — Прячься. Пойду посмотрю, нет ли еще детей, которым нужно помочь.
— А вы разве не из кондотьеров? — робко прошептала она.
Я помотал головой, и слезы закапали по юному прелестному личику.
— Другие дети… да… Им тоже нужна помощь. Я пойду с вами…
— Нет! Ты должна спрятаться. Сейчас ты никому не можешь помочь, а если не спрячешься, то сама пострадаешь. Не попадайся никому на глаза. Спрячься в переулке или в канаве, только не в здании. Их поджигают.
Нарвав полос, я набрал в грудь воздуха и осторожно взялся за ее бедро. Я закрыл глаза и расслабился, надеясь осуществить исцеление, отдаваясь жалости к этому ребенку. И оно пришло: консоламентум, теплым сладким потоком, как родниковая вода, омыл мое сердце и полился из рук. Я выдохнул и выпустил его. Девочка замолкла и перестала плакать. Когда поток иссяк, я перевязал ей ногу.
— Будет больно, но я хочу остановить кровотечение.
— Какая разница, что со мной будет, — тихо произнесла она. — Кажется, они убили моего отца. Они смеялись. Он лежал на полу, у него были такие пустые глаза. И у меня никого не осталось, никого! Никто не даст мне приданое, и я никогда не выйду замуж, да и кто же вообще захочет на мне жениться? Меня замарали, обесчестили!
— Не надо так думать, — сиплым голосом ответил я, затягивая потуже импровизированную повязку.
— Моя жизнь ничего не значит. Родителей нет, и это было так больно, то, что они со мной сделали!
Она сжала худенькие плечи и обхватила голову руками. У нее была густая копна мягких черных волос, но, когда она повернула голову и на нее упал свет, я увидел, что они совсем не черные. Ее волосы были каштанового цвета, в котором перемешались разные оттенки: яркая рыжина, умбра, черный цвет и даже золотые прядки. Я никогда не видел ничего подобного.
— Что будет значить твоя жизнь, зависит от тебя, — горячо воскликнул я. — Что бы с тобой ни сделали, ты выше этого! Здесь, в Вольтерре будет много работы по восстановлению города. Нужно помогать другим детям и женщинам. Думай о деле, которое нужно сделать! И ты сможешь забыть!
Она кивнула, но на ее восковом лице было написано такое страдание, что я сомневался, слышит ли она меня вообще. Я закончил свое дело и двинулся от нее.
— А теперь иди. Спрячься где-нибудь в безопасном месте. Ты же найдешь, где спрятаться в городе, дети знают такие места. И ни в коем случае не выходи, пока не услышишь, что кондотьеры покидают Вольтерру!
Она кивнула и поднялась на четвереньки, а потом встала. Ее качнуло, потом она посмотрела вниз и прикрылась руками. Я снял свою темно-синюю тунику и отдал ей. Она чуть повеселела и натянула тунику через голову.
— Прячься, — сказал я и подобрал меч с земли.
Она кивнула и бросилась прочь. Интересно, увижу ли я ее когда-нибудь снова, когда она вырастет и станет взрослой? Пройдя по запутанным закоулкам, я вышел на широкую улицу. Моему взору предстали те же сцены: грабежи, насилие. Я поднял меч и опустил его на плечо кондотьера, который пробегал мимо в погоне за женщиной с ребенком на руках. Он рухнул и закричал, но умолк, когда я полоснул его мечом по глотке.
— Прячься! — крикнул я женщине.
Она кивнула и исчезла.
«Прячься» — это слово я повторил, наверное, тысячу раз за этот день. Только так я мог помочь жертвам, прокладывая себе путь по улицам Вольтерры и пытаясь предотвратить убийства и надругательства. Естественно, усилия мои были совершенно напрасны. Я был один против армии из двенадцати тысяч, и казалось, что каждый из них стремится совершить самые жестокие зверства. И я все время опаздывал. Но все же мне удалось сделать так, чтобы пара дюжин человек уже никогда никому не причинили зла, а несколько раз смог согнать кондотьеров с беспомощных женщин или детей прежде, чем они совершили свое грязное дело. Я уже потерял счет тем, кого убил, и просто бежал на крики. Кондотьеры от похоти как с цепи сорвались, опьянев от собственного зверства. Они вели себя как обезумевшее стадо, беспорядочное и бездумное. Они ни о чем не думали, иначе и мне пришлось бы плохо. Я бы не выстоял более чем против четырех или пяти вооруженных и обученных солдат, действующих заодно.
Я был на узкой улочке и только что отправил еще одного кондотьера в мир иной послушать божью ругань, когда краем глаза увидел мелькнувшую знакомую синюю тунику. Я обернулся и увидел ту девочку. Она несла ребенка на руках и вела еще четверых через булыжную мостовую от горящего деревянного дома к каменному дворцу. Детишки шли за ней, как утята за матерью. Люди до сих пор кричали и разбегались в разные стороны, и я подумал, что дети доберутся туда, куда их ведет девочка. И тут крики стали громче. К детям с гоготом бросились три кондотьера. Главный метнулся на них, размахивая мечом, и окровавленный кончик меча метил как раз в пухленький живот самого маленького карапуза в конце цепочки. Я понял, что он хочет насадить ребенка на меч. И оказался проворнее его. Вместо мягкого детского тельца кондотьер напоролся на мой меч. Два его товарища с криками кинулись на меня. Огромные и страшные, оба бывалые бойцы, пышущие злостью от зрелища убитого на их глазах товарища. Перекинувшись взглядом, они решили разделиться, чтобы напасть с двух сторон и без труда со мной разделаться. Но я владею мечом уже сто лет, и даже сообща у них не было шанса сравняться со мной по ловкости и опыту. Они набросились на меня одновременно, я предугадал это еще по первому вздрагиванию мышц на ногах и отскочил в сторону. Потом молниеносная защита, удар, еще удар — и оба мертвыми повалились на землю.
Девочка не мешкая перевела детей через улицу. Я бросился за ними.
— Я, кажется, сказал тебе спрятаться, — мрачно произнес я, догнав ее.
— Возьми тех двоих на руки.
Она указала на малыша, которого едва не проткнул мечом кондотьер, и еще одного перед ним, который был лишь чуточку старше. Я схватил их на руки и побежал за девочкой в каменный дворец. Она прошла в заднюю часть дворца, и мы оказались в каком-то чулане.
— Там есть подвал! — крикнула она мне.
Я пошел за ней. С трудом она отодвинула одну из каменных плит в полу.
— Я не одна, — предупредила она, махнув рукой в мою сторону.
Я подошел к яме и заглянул в вырытый лаз. На меня из черной дыры смотрели несколько пар глаз, и я понял, что туда уже набились женщины и дети.
— Потеснитесь, — сказал я и протянул им ребенка. Женщины молча освободили место для детей. Девочка залезла последней. Я ласково коснулся ее головы.
— Сиди и больше не вылезай!
— Какие-то кондотьеры утащили их мать, не могла же я оставить их в горящем доме, — ответил она, широко распахнув глаза.
И я понял, что она переживет этот день и сердце ее останется нетронутым. Она заплатит дорогую цену, но сможет выжить. Я задвинул камень, прикрывая вход. Мне было жалко этих людей, но чувствовал я и облегчение оттого, что хотя бы одна юная девочка вопреки всему сохранит то, что составляет основу ее существа.
Остаток дня, пока шло разграбление Вольтерры, я провел на той безымянной улице, рядом с подвалом. Я перекрыл все пути, связывающие мои чувства с окружающим миром, запер все дверцы разума и сердца, через которые получал впечатления о происходящем вокруг. Я замкнулся в себе, в каком-то холодном и жутком убежище, где царило бесчувственное безумие, куда не мог проникнуть даже смех Бога. Я убивал любого кондотьера, который приближался к укрытию. Это были не мужчины, а черные движущиеся тени, которым не терпелось поцеловать мой меч. А я больше не был Лукой Бастардо. Точнее, я был тем Лукой Бастардо, который мальчишкой убил семерых клиентов и владельца борделя. Я сражался мечом, обливаясь потом и кровью, но был неутомим и бесчувствен.
В уши ударил какой-то звук. Крики. Кричал человек. Кричал человек, с которым я боролся. Это был сильный, опытный боец и грозный противник. Он пытался мне что-то сказать. Я отскочил, выставив перед собой меч.
— Что? — вскричал я. Перед глазами у меня стояла красная пелена, постепенно сквозь нее пробились мутные серые проблески света с затянутого тучами неба. Вместе со зрением у меня прояснился и слух.
— Пресвятая Матерь Божья! Сколько моих людей ты убил, Бастардо? — спросил Федериго, и ужас был написан на здоровой половине его лица.
— Сколько женщин и детей изнасиловали твои люди? — бросил я в ответ. — Сколько стариков зарезали, когда те пытались защитить своих внуков?
— Знаю, сам знаю, скверноедело вышло, — пробормотал он.
Неожиданно с неба брызнули крупные капли дождя, а через секунду они слились в плотную стену воды. Федериго свободной рукой вытер с лица капли.
— Как ты мог такое допустить? Такой разгул насилия, убийств, грабежей… Я доложу об этом Лоренцо!
— А кто, по-твоему, велел мне это сделать? — резко возразил Федериго.
И на мгновение весь мир замер, как будто алебарда кондотьера настигла меня и разрубила пополам. Я застыл, тяжело дыша, мгновенно промокнув под стремительно набирающим силу ливнем. С открытым ртом я ошеломленно смотрел на Федериго. Я не мог представить себе, что Лоренцо способен на такое.
— Мне это тоже не по душе, — проговорил Федериго, отвернув от меня здоровый глаз. — Только не трубите всему свету. Позже приедет Лоренцо, чтобы возместить ущерб, и заявит, что и не предполагал, будто такое случится.
— Возместить? Да как он может возместить ущерб девочкам, которых обесчестили, у которых убили отцов? Как он может возместить ущерб женщинам, которые через девять месяцев родят никому не нужных ублюдков! Люди убиты, их жизни сломаны! Почему? Чтобы Лоренцо мог кому-то что-то доказать?
— А что вы хотите от меня услышать? — прорычал Федериго. — Лоренцо хотел установить прецедент, дать людям урок и выбрал меня для выполнения этой задачи! Мне заплатили за эту работу, грязную работу, и я ее выполнил!
— Поэтому люди и называют это продажностью, — тихо проговорил я.
Федериго поднял меч, я решил, что он хочет ударить меня, и уже приготовился сразить его. Мне доставит это истинное наслаждение!
Он посмотрел на меня, чертыхнулся и отвернулся, презрительно скривив губы.
— Я не дам себя так легко убить, Бастардо. Я опытный фехтовальщик, но никогда не видел, чтобы кто-то владел мечом, как вы.
Он убрал меч в ножны, отвернулся и поспешил укрыться под карнизом ближайшего дворца. Я пошел следом и увидел, как он достает из кармана плаща какую-то вещь и вертит ее в руках.
— Что это у вас? — требовательно спросил я.
— Это? Библия. Я ее нашел. Редкая Библия на нескольких языках. Не хочу, чтобы дождь ее испортил.
— Вы взяли Библию?
— Я коллекционирую рукописи. Моя библиотека может соперничать с библиотекой Медичи, а эта Библия очень редкостная и красивая…
— Красиво сказано о неприглядном деле! Вы разграбили библиотеку какой-то знатной семьи, украли религиозную книгу и говорите, что ее нашли? И это допустимо в вашей религии, после того как вы отслужили службу перед кровопролитием? Какой толк от ваших книг или религии, если они не останавливают вас перед насилием и позволяют мучить людей?
Мне стало невыразимо противно, и под моим взглядом Федериго стиснул зубы и слегка покраснел.
— Моя религия это и ваша религия, Бастардо, или вы исповедуете отступничество?
— Вы ничем не лучше скотов, которыми вы командуете!
— Такова война, Бастардо, она и не бывает красивой! — огрызнулся он.
Я покачал головой. Рука моя хладнокровно сжимала меч, и мне так хотелось убить его. Но это ничего не изменит. Я только навлеку на себя гнев Лоренцо. Он захочет наказать меня, но сам этого никогда не сделает. Он просто вызовет Сильвано, которых выслал из города под разными предлогами.
— И сколько продлится разграбление?
— До заката. Я уже отзываю людей. Дождь их охладит и зальет пожары.
— Уведите своих людей с этой улицы, — с горечью произнес я. — И пусть держатся отсюда подальше. Любой, чья нога ступит сюда, покойник.
ГЛАВА 20
После резни в Вольтерре жизнь моя изменилась. В тот вечер ливень лил с таким неистовством, что случился оползень, нанеся еще больший урон городу. Войска Федериго ушли из стен города на закате, а когда за ними закрылись ворота, я отодвинул плиту и выпустил женщин и детей, прятавшихся в подвале. За время ожидания одна пожилая женщина с синими венами и пергаментной кожей умерла. Я вынес ее и передал остальным женщинам для погребения. Город превратился в адское смешение дождя, грязи, крови, дыма пожарищ, сваленных обломков мебели, черепков посуды и раненых людей. Всю ночь напролет я помогал вольтерранам ухаживать за ранеными. Многие из выживших навсегда остались калеками. Мужчины с отрезанными ногами или руками, изнасилованные женщины, изрезанные с той бесчеловечной жестокостью, какая может родиться только в больных головах обезумевших солдат.
На следующее утро дожди прекратились, но небо было по-прежнему пасмурное. Как-то одна повитуха, умевшая варить травяные настои, говорила мне, что чай из корня воронца может предотвратить беременность, и я сказал об этом многим женщинам, извинившись, что сам не знаю, как приготовить этот чай. Я помогал детям находить матерей, а женам — мужей, отцов и сыновей, мертвых или раненых. Много детей погибло в пожарах, чаще от угара, чем от огня. Мы нашли только два обугленных маленьких тельца. И я пытался убедить скорбящих матерей в том, что их дети умерли без мучений.
Утром я почувствовал, что проголодался и устал. Я сел, привалившись спиной к шершавым камням городской стены. Все у меня болело: руки, плечи и спина от взмахов мечом, ноги от выпадов, глотка от криков, челюсть оттого, что я со злостью стискивал зубы при виде разрушений. Я был весь покрыт грязью и кровью и уже не помнил, когда последний раз ел. Я закрыл глаза и прислонился головой к стене, не с размаху, но так, чтобы ощутить прикосновение к шероховатым камням. Как уже не раз, я мысленно проклинал Бога за то, что он развлекался, позволяя людям творить такое варварство. Тут что-то коснулось моих пальцев, и я устало открыл глаза. Кто-то сунул мне в руку тарелку с едой.
— Вам надо поесть, — произнес низковатый женский голос.
Это была девочка, которую я не успел вовремя спасти от кондотьеров. Сейчас она была умытая, длинные волосы, заплетенные в косу, были убраны ото лба, открывая ее прелестное личико, на ней было хорошенькое платье с бледно-розовой юбкой. Цвет, неуместный среди разрушений, но я улыбнулся.
— Ну же, давай! Это вкусно! Ветчина, твердый сыр с хлебом и оливковым маслом, — негромко проговорила она.
Я кивнул. Она права, мне нужно поесть, хотя желудок бунтует при воспоминании о необузданной жестокости, которую я видел вчера. Я откусил немного ветчины и медленно прожевал. Она смотрела на меня большими умными глазами, они были карие с зелеными и золотистыми крапинками, но казались черными рядом с белизною белков. Ее глаза такие же разноцветные, как и волосы, подумал я и снова улыбнулся. Я не знал, что эти самые глаза будут преследовать меня остаток жизни и что даже сейчас, в этой тесной камере, я до сих пор вижу их во всех возможных оттенках и в разном настроении: прищуренные, искрящиеся смехом, оживленные внезапной мыслью, широко распахнутые от озорного веселья или черные, с расширенными зрачками, полные любви и желания. Она была такая живая, что менялась каждую секунду, и ни у кого не было столько разных выражений лица и настроений, как у нее, так что я не переставал удивляться. Но тогда она была еще только хорошенькой девочкой, которая смотрела, как я ем. Ветчина была вкусная, и я поел с удовольствием. Она робко улыбнулась и отошла.
Закончив есть, я прислонился головой к стене и поспал с часок. Проснулся потому, что кто-то тыкался мне в лицо носом и нежно лизал языком ухо. Полусонный, я решил, что это та милая девочка, которая заставила меня улыбнуться, и, еще не совсем проснувшись, повернул голову, чтобы посмотреть. Потом, вспомнив, как она юна, я охнул и вскочил. Я никогда не позволил бы себе завести любовные шашни с девочкой, еще не вышедшей из отрочества. На самом деле я предпочитал, чтобы мои женщины были достаточно зрелыми. Но оказалось, что этими сладострастными ласками меня одаривал не кто иной, как мой верный конь Джинори.
— Джинори! — завопил я и, обезумев от радости, обнял его.
Конь заржал и затопал копытами, просясь домой.
— Я еще не могу ехать отсюда, мне нужно работать, — ответил я, и он понимающе потерся об меня носом.
— Я знала, что это наверняка твой друг, — пропела девочка, подойдя с другой стороны. — Я видела, как он бродил поблизости, нюхая воздух, и поняла, что он идет на твой сильный запах!
— Эй, да кто угодно будет вонять после таких боев, — ответил я с некоторой обидой.
— Да я не то хотела сказать! — покраснела она. — Я хотела сказать, что ты сильный. Сильный и храбрый, потому что помог мне и многим другим. Значит, у тебя запах силы и храбрости!
— Как бы от меня ни пахло, Джинори всегда нашел бы меня где угодно. Это один из лучших коней на всем белом свете, — со смехом сказал я и почесал его шею.
Он тоже был грязный и забрызганный кровью, но, ощупав его тело, я не обнаружил на нем ран.
— Я его вымою и отскребу для тебя, — застенчиво предложила девочка.
Я обернулся к ней, а она потупила глаза в землю, сцепив руки за спиной, и переминалась с ноги на ногу. Она была так прелестна, что иногда я забывал, как мало ей лет, и сейчас поморщился, вспомнив, как мне приснилось, что она ко мне ластится.
— У тебя много других дел, детка, — спокойно ответил я. — Теперь ты нужна Вольтерре. Джинори большой сильный мальчик, он побывал во многих сражениях и как-нибудь уж потерпит.
— Хочешь, еще еды принесу? Или, может, вина? Или чистую одежду? Ты же промок и весь в грязи, я могу принести тебе одежду! — Она выпалила это одним духом.
— Я не раз бывал мокрым и грязным, иногда гораздо хуже, чем сейчас.
— Но сейчас это не обязательно. Я рассказала людям, как ты мне помог. Вольтерране очень благодарны тебе. Они дадут тебе все необходимое.
— Мне и так хорошо, — пожал я плечами. — Я могу сам о себе позаботиться. Если мне что-то понадобится, я просто попрошу.
На эти слова она фыркнула и упорхнула прочь, покачивая бедрами под юбкой. Только подумать, каково на это будет смотреть через пару лет — просто беда! Я повернулся к Джинори, и тот потянул носом в поисках еды.
— Через пару лет просто беда! — сказал я ему, и он заржал в ответ.
Я повел его на улицу искать корма. Когда он наелся до отвала, я решил помочь вольтерранам собрать сломанные жизни.
Лоренцо прибыл в Вольтерру ближе к вечеру. Под звонкие фанфары он подъехал к городу на одном из своих отборных жеребцов, окруженный говорливой свитой приближенных, советников и просто зевак. Их было около тридцати человек, все чистые и сытые, безмятежные и болтливые — люди, не задетые трагедией. Лоренцо спешился у городских ворот и вошел в Вольтерру пешком, ведя коня за узду. При виде представшей ему картины он издал заранее заготовленный возглас. Я вправлял сломанную руку молодой белокурой женщине, которую изнасиловали и избили, бросив умирать в закоулке. Но люди гораздо живучее, чем им самим кажется. Она выползла из закоулка, и ей помогли добраться до самодельных временных подмостков, где я, городской врач и несколько повитух помогали пострадавшим. Мы услышали, что Лоренцо со своей свитой прибыли в город, и женщина подняла на меня заплывшее, покрытое синяками лицо. Я пожал плечами, а она стиснула распухшие губы, закрывая щербатый рот с выбитыми зубами. Я ощупал пальцами ее руку: кости вроде бы хорошо вправлены — и начал перевязывать руку полосками ткани, чтобы перелом сросся. Хорошенькая девочка пришла и принесла в заплечной котомке кувшин вина и чашки. Она налила женщине кружку и проворковала:
— Изабелла, у тебя такие спутанные волосы, давай я расчешу?
Она осторожно погладила женщину по голове, пока та пила вино.
— Я с ней почти закончил, — сказал я, завязывая последний узел, и заботливо заглянул в лицо Изабеллы. — Думаю, у вас нет внутренних кровотечений. Но я не могу быть полностью уверен. Отдохните несколько дней и пока не работайте. Посмотрим, как будет через три дня.
— Слышишь, Изабелла? — тешающе пропела девочка. — Отдохнешь и поправишься. Пойдем, я помогу тебе дойти до постели, умою и расчешу.
Белокурая Изабелла кивнула и, шатаясь, поднялась на ноги. Я протянул ей руку, чтобы поддержать, но она вздрогнула, и я понял, что пройдет еще немало времени, прежде чем Изабелла сможет терпеть прикосновения мужчины, даже если этот человек хочет ей помочь, как я. Девочка подставила Изабелле худенькое плечико, чтобы та на нее оперлась, и они медленно поплелись прочь. Девочка серьезно глянула на меня через плечо.
— Отвратительная, немыслимая разнузданность! — проговорил гнусавый голос у меня за спиной.
Я весь напрягся и медленно обернулся.
— Синьор? — тихо спросил я, глядя в блестящие черные глаза Лоренцо Медичи.
Что-то сверкнуло и тут же погасло в его глубоко посаженных глазах, и в суровых чертах проступило жесткое выражение, но тут же они смягчились, это произошло мгновенно. По лицу разлилось выражение глубокого сочувствия, и он кивнул в сторону Изабеллы и девочки, которые вдвоем ковыляли к дворцу, где отдыхали раненые.
— Так разорить город! Отвратительно! Не представляю, как такое могло произойти! Войска просто озверели!
— Думаю, вы прекрасно представляете, как такое могло произойти.
— Да как ты смеешь говорить подобные вещи? Я просто в ужасе! Все граждане Флоренции в ужасе!
— Да уж, я в этом не сомневаюсь. Как и остальные флорентийские земли. И Сикст.
— О чем ты говоришь, Бастардо? — вскричал Лоренцо и зашагал прочь, качая головой.
Он подошел к скамье, где сидел сухонький старичок в лохмотьях. Старик весь сжался в комок, и Лоренцо, дабы продемонстрировать свою доброту, приподнял его руку и взглянул на рубленые раны, покрывавшие ее вдоль и поперек. К счастью для старика, раны были неглубокие. Я знал, что и от них очень больно, но он терпеливо дожидался своей очереди. Лоренцо взял человека за окровавленную руку и прижал ее к своей груди. Потом обратился к скопившейся толпе вольтерран.
— Мои сограждане флорентийцы и я потрясены до глубины души! Мы безмерно скорбим. Словами не выразить, насколько ужасны все эти несчастья для Вольтерры! И я приехал, чтобы возместить причиненный ущерб!
Он кивнул Томмазо Содерини, и тот суетливо подскочил к Лоренцо. За спиной Содерини стояли два крепких мавра, они принесли сундук, и по их напряженным спинам я понял, что в сундуке лежат тяжелые золотые флорины. Лоренцо кивнул, и Содерини отпер сундук. Лоренцо запустил в него руку и достал золотую монету. Он поднял ее вверх, но на небе не видно было солнца, и монета не заблестела, а осталась просто тусклым желтым кружочком в его слишком ухоженной руке. Он обвел толпу взглядом, но никто не произнес ни звука.
— Я возмещаю ваш ущерб! Я раздам деньги всем, кто понес убытки! — громко провозгласил он.
Ни звука не раздалось из толпы стариков, женщин и детей, которые молча наблюдали за ним. Все они были грязные и оборванные, на многих — окровавленная одежда, некоторые стояли в повязках. И среди них не было ни одного взрослого мужчины. Лоренцо вертел темноволосой головой во все стороны, ожидая отклика толпы, но они просто смотрели на него в холодном молчании. Он швырнул монету Содерини, и тот вышел к толпе и охотно вручил флорин черноволосой женщине с повязкой вокруг головы. Я знал то, что было неизвестно Лоренцо: она потеряла ухо, его откусил кондотьер, который хотел ее изнасиловать, от злости, что не смог возбудиться. Хотя ей в каком-то смысле повезло: ее муж выжил. Его пырнули ножом в бедро, он мучился, но он будет жить. Если не начнется заражение, он будет жить. Не улыбнувшись, не произнеся ни слова, женщина взяла монету и отвернулась. Содерини торопливо махнул своим маврам. Они подтащили сундук, и Содерини запустил в него руку, сунул женщине еще несколько монет и начал раздавать деньги всем, кто собрался вокруг него. Никто не произнес ни слова. Гордо подняв голову, Лоренцо наблюдал за этой сценой со стороны. Я подошел к Джинори и снял с него седло. Это было то самое седло, которое восемь лет назад подарил мне Лоренцо, седло, искусно сделанное из мягкой прочной кожи, с металлической отделкой и лучшими стременами. Седло, которое стоит целое состояние. Как всегда, получив в подарок красивую вещь, я очень дорожил ей.
— Ваши деньги не залечат нанесенных ран, — произнес я и швырнул перед ним в грязь его седло. — Не купят они и моих услуг.
Сузив глаза, он посмотрел на седло и склонил голову набок, как будто одноглазый Федериго.
— Я слышал, ты зарубил пятьдесят хороших воинов Монтрефельто, — сказал он тоном, в котором пополам смешались зависть и упрек.
Медичи скосил глаза на мой меч, словно прикидывая что-то, и я понял: Лоренцо задается вопросом, сумел ли бы он уложить так же много народу, окажись на моем месте.
— Да уж, хороши молодцы, поработали на славу! — хмыкнул я и обвел рукой разрушенный город и раненых людей. — Даже если они и выполняли приказ!
Лоренцо медленно кивнул.
— Вы же понимаете, долгожитель мой, Лука Бастардо, что я не смогу защитить вас, если вы не желаете прибегать к моему покровительству.
— Уж лучше быть под покровительством дьявола!
— Так, кажется, считает клан Сильвано? — презрительно усмехнулся он, и я понял, что нажил непримиримого врага.
Но мне это было уже безразлично. Я решил оставить за собой последнее слово в объяснении с этим наглым молодым принцем, который ради своих политических амбиций обрушил такие бедствия на ни в чем не повинных людей, и я не пощажу его чувств. Я наклонился и, положив руку ему на плечо, заговорил доверительным тоном так тихо, чтобы только он меня услышал:
— Мой дорогой друг Козимо де Медичи никогда бы этого не сделал. Он никогда бы до этого не опустился. Ему бы это и не понадобилось.
Лоренцо отшатнулся, как будто я нанес ему удар кинжалом, что я, собственно, и сделал. Лоренцо вырос в гигантской тени человека, который стоил двух таких, как он; в тени человека, с чьим гением и заслугами Лоренцо надеялся лишь сравняться, не надеясь его превзойти. И он хорошо это знал.
Стояла уже ночь, и длинные темно-лиловые тени туманной сетью накрыли промокшую, залитую кровью Вольтерру. Я складывал и раскладывал седельную подушечку, придумывая, как бы лучше защитить пах, когда без седла поскачу во Флоренцию на Джинори. Мужчине трудновато скакать на лошадином хребте. Я слышал о цыганах и людях с Дальнего Востока, которые всегда ездят на лошади без седла. Вероятно, если с младенчества тебя сажают на коня, можно как-то наловчиться. Но мое детство было другим, и у меня без седла были проблемы.
— Маддалена, — раздался за спиной низкий мелодичный голос.
— Что?
Я обернулся. Неровный белый свет факела, воткнутого в латунный держатель на каменной стене, озарил лицо девочки, которая пленила меня своей необычайной красотой.
— Это мое имя — Маддалена, — улыбнулась она и показала мне большое красивое седло непривычной старомодной формы.
Я озадаченно поглядел на седло. Наконец она громко вздохнула и сунула седло мне.
— Тяжелое, знаете, очень!
— Это мне? — спросил я, подхватив седло и чувствуя себя дураком.
— Говорят, ты отдал свое седло синьору Медичи. Я и подумала, что тебе нужно другое. Это было папино седло. Ему оно больше не понадобится, — вздохнула она.
Я внимательно вгляделся в ее лицо и увидел, что она печальна, но не убита горем. Я был этому рад. Мне всегда нравились люди, которые способны с достоинством переносить страдания. Это важное умение в таком мире, где Бог хохочет над человеческим горем. Я повернулся и положил седло Джинори, приладил и закрепил подпругу. Оно, конечно, было не такое блестящее и нарядное, как седло от знаменитого флорентийского седельника, однако добротное и удобное. И защитит мое мужское достоинство в долгой поездке домой.
— Почему ты отдал свое седло великому господину? — спросила Маддалена.
— У меня были причины, — туманно ответил я.
— Ты какой-то недоверчивый.
— Я считаю, что люди такие, какие есть.
— А разве у них есть выбор? Кстати, отчего ты так и не назвал мне свое имя? Ведь когда другой тебе представился, полагается отвечать тем же!
В ее голосе звучала легкая обида. Я оглянулся на нее и улыбнулся.
— Меня зовут…
— Лука Бастардо, знаю, — перебила она. — В следующем году по Вольтерре будет бегать много бастардов. Может, они все возьмут себе имя Бастардо, и тогда вы станете одной большой семьей!
Голос у нее сделался живой и веселый, а когда я посмотрел на нее, она взмахнула ресницами. Да она же меня дразнит!
— Вот о чем я всегда мечтал, — ответил я, возведя глаза к небу, потом посерьезнел. — Может, повитухи помогут избежать нежелательных детей.
Я смерил на глазок стремена, отвязал и удлинил. Отец Маддалены, которого я не видел среди мертвых, должно быть, был ниже меня, хотя я и сам невысокого роста.
— Надеюсь. Вряд ли они помогут мне. Я слишком маленькая, чтобы иметь детей, но одна женщина сказала, что у меня теперь их может не быть вообще. — Говорила она бесстрастным тоном, но в нем чувствовалось беспокойство.
Я бросил на нее еще один взгляд и запрыгнул в седло.
— Все с тобой будет в порядке. Найдешь мужа. Будут у вас дети.
Она пытливо посмотрела на меня.
— Откуда ты знаешь?
— Я не раз убеждался, что от внутреннего настроя зависит, что станет с телом, — ответил я, сдерживая Джинори, который от нетерпения и желания возвратиться домой чуть не встал на дыбы. — Тот, кто готов умереть, умрет. Тот, кто намерен жить, будет жить. А у того, кто намерен жить полной жизнью, она такая и будет. Все просто.
— Надеюсь, ты прав, — робко сказала она и тихонько засмеялась. — Я знаю, что найду мужа, потому что взяла горсть золотых флоринов у синьора Медичи и собираюсь отложить их на приданое!
Она прикрыла рот маленькой тоненькой ручкой, как будто у нее вырвалась неприличная шутка. Этим она вновь напомнила мне о том, что еще совсем маленькая. Маленькая, но практичная. Она поступает очень благоразумно, откладывая деньги на приданое. Она наклонилась и погладила Джинори по шее, потом подняла на меня глаза.
— А ты вернешься в Вольтерру, Лука Бастардо?
Она растянула слоги моего имени в песню, соблазнительно, как женщина, если она желает мужчину. Я проглотил комок в горле, и Маддалена заметила мою реакцию, поэтому кокетливо прибавила:
— Мне бы очень этого хотелось!
— Для тебя я синьор Бастардо, детка, — поправил я, силясь сохранить дистанцию, образованную разницей в возрасте.
Но меня влекло к ней, и я ничего не мог с этим поделать. Пришпорив Джинори, я направился к городским воротам, но потом обернулся и с улыбкой сказал прелестной Маддалене:
— Прибереги приданое лет на десять, может быть, я и вернусь!
Я подъехал к стенам Флоренции, когда на небе забелел рассвет. Приближаясь по широкой дороге прямо к городу, я заметил впереди силуэт идущего человека. Он двигался по дороге среди крестьянских повозок, которые тянулись на городской рынок. В бледном зареве рассвета силуэт, казалось, был очерчен пламенем рыжего и темно-синего цвета. И все же было в этой глыбе что-то знакомое. Человек нес на плече мешок и вел бурого осла, который то и дело останавливался пощипать придорожную травку. Я пришпорил Джинори и догнал путника. Осел скалился и громко кричал.
— Не могу поверить, что эта скотина до сих пор не сдохла, Странник! — с удивлением сказал я.
— А с чего бы? — откликнулся Странник, и сквозь косматую бороду блеснули в улыбке зубы. — Мы же не помираем! Думаешь, только нам так повезло отсрочить неизбежное?
— Еще вопрос, везенье это или, наоборот, невезенье, — поддразнил его я, переполненный радостью от встречи с ним именно в тот момент, когда сердце мое болело от увиденного в Вольтерре.
— Чем не вечный вопрос? — крикнул он снизу.
Я спешился, и мы крепко обнялись, хохоча и хлопая друг друга по спине. Он отступил на шаг и окинул меня взглядом с ног до головы.
— Волк превращается в мужчину. Ты наконец-то немного повзрослел, Бастардо. У тебя под глазами даже появились морщинки.
— Это не годы, а невзгоды, — скривился я, взял Джинори за поводья, и мы пошли рядом.
Осел шел с другой стороны от Странника, но я и оттуда чувствовал вонь. Я уже и забыл, как несет от этого животного. Я покачал головой и посмотрел на его хозяина.
— Что привело тебя снова во Флоренцию?
— Вопрос в том, что привело тебя? Что собираешься делать теперь, когда ты отвадил от себя своего покровителя? — спросил он совершенно серьезно.
— Как тебе удается всегда быть в курсе событий? Кто тебе рассказывает? Откуда ты берешь эти сведения?
— Вести так и кишат в воздухе для того, кто хочет услышать, — загадочно ответил он и подмигнул. — Я тебе это уже говорил: «В самом начале, когда возымела силу воля Божья, Он начертал знаки на небосводе». Нет ничего тайного, просто люди не хотят обращать внимание на знаки вокруг них!
— Дай-ка догадаюсь! Ты, похоже, придумал, чем мне следует заняться, — ответил я устало, потому что уже два дня не спал.
— Скажи-ка, ты сам доволен своим образованием? Ты так и не продолжил заниматься наукой, в которую тебя ввел твой старый учитель и мой друг Гебер, — сказал он и погладил узловатыми пальцами свою кустистую черно-белую бороду. — Теперь, когда он переселился в душу твоего юного друга художника…
— Не верю я в это, я тебе уже говорил! — нетерпеливо возразил я.
Странник пожал плечами.
— А как иначе объяснить многие вещи?
— Это шутки Бога!
— Ты и Божий смех! — покачал он головой. — В один прекрасный день ты примиришься с Богом и услышишь не смех, а живую песнь… Это же просто: если душа присутствует в теле, это значит, что она еще не завершила свою миссию и должна переселяться, пока не выполнит свое предназначение, пока все не исправит, пока она не пройдет все ветви древа жизни. Процесс творения постепенно просветляет зеркало существования до лучшего и более тонкого состояния, чтобы в его отражении у каждого человека высветился более ясный и яркий образ Бога. Тогда душа сможет вернуться к своему первоисточнику.
— Ох уж эти ваши с Фичино разговоры о божественной природе души! — вздохнул я. — Какой от них прок? Разве наша жизнь от этого станет лучше? Разве они остановят войны, насилие, грабежи, убийства и гибель невинных людей? Фичино только впадает в депрессию, и ему приходится слушать музыку для поднятия духа!
— Похоже, интересный человек этот Фичино, — улыбнулся Странник. — У него есть будущее.
— Вам определенно надо познакомиться.
— Звучит как приглашение, и я его принимаю. У тебя большой дом во Флоренции, верно? Но жены пока нет. Тогда мы с ослом составим тебе компанию. Поможем устроить мастерскую, как у Гебера, чтобы ты смог вернуться на круги своего обучения.
Странник подмигнул мне и потянул осла за уздечку, чтобы поторопился.
— Вот чего мне как раз не хватало, так это гостей! — буркнул я, хотя вовсе не был недоволен.
Мне надо было чем-то заполнить время, теперь, когда я бросил служить Лоренцо де Медичи. Я вспомнил острого на язык Гебера и дни, которые провел с ним, когда он медленно умирал от чумы. Он умер, так и не научив меня тому, что я хотел знать: как превращать свинец в золото. Это бы мне очень пригодилось, особенно сейчас, когда Лоренцо на меня зол. Кто знает, сохранятся ли в банке Медичи деньги, которые я скопил за столько лет! А вдруг Лоренцо найдет способ отобрать их у меня в качестве наказания. Лоренцо очень мстителен, и Вольтерра это доказала.
Я задумчиво проговорил:
— Вообще-то, алхимия меня бы сейчас заинтересовала.
— Превращение, о котором я толкую, касается не одной лишь грубой материи, — проговорил Странник, поправляя рваную серую тунику. — Хотя все низменное тоже преображается, когда труд становится служением. Все идет от сердца, и нужно учить сердце подчиняться.
— Мне не нравится подчинение, но я люблю трудиться.
— С этого и начнем, — пожал он плечами. — Так и открываются все двери.
Итак, я вернулся в свой флорентийский дворец и начал новый этап своей жизни с двумя постояльцами — Странником и его ослом, хотя последний, конечно, жил в стойле. Странник помогал мне превратить свободную комнату в мастерскую, какая была у Гебера. Он уходил после завтрака и возвращался к обеду с разными предметами, которые находил на рынке или в закладной лавке, а то и на свалке за аптекой. Это были мензурки, дистиллятор, разные бутылочки, однажды он принес редкую эбеновую ступку, на другой день алебастровый пестик. Я тоже ходил на рынок к торговцам и поставщикам других редких товаров: пергамента, пузырьков с красящими веществами и чернилами, глиной, разными порошками и эликсирами, воска, пигментов и масел, солей и минералов, высушенных животных и насекомых, перьев, морских раковин, птичьих яиц. Я собрал запасы серы, ртути, купороса и образцы всех семи алхимических металлов: свинца, железа, олова, ртути, меди, серебра и золота. Я также начал искать нужные книги. Я еще не начал экспериментировать с получением золота из свинца, но приготовил все, что требуется для начала опытов.
Через несколько месяцев после начала приготовлений я вернулся домой с рынка с пузырьком ладана. Я был очень доволен этим редким и ценным приобретением и вошел во дворец с желанием поскорее показать его Страннику. Я вбежал в мастерскую и застал там Странника и высокого бородатого юношу с каштановыми волосами. Оба внимательно изучали разложенную на столе книгу.
— Не знал, что у вас гости, — произнес я, и оба вскинули головы.
Я взглянул на лицо бородатого юноши, у которого был ладно вылепленный нос и широко поставленные глаза, рыжеватая борода его отливала золотом.
— Леонардо!
Он чуть через стол не перепрыгнул, чтобы обнять меня, и глазам моим не верилось, как он возмужал. Теперь это был взрослый мужчина двадцати лет. Он засмеялся.
— Учитель, что-то вы не сразу меня узнали! А я вот навсегда запомнил ваше лицо!
— Как ты? Чем сейчас занимаешься?
Я отступил на шаг, но не выпустил его руку. До чего же я был рад его видеть! На нем была роскошная шелковая туника из чистого оранжевого шелка с серебряной вышивкой, которую он украсил широкими рукавами с желтыми и черными полосами. Я заметил, что эта туника гораздо короче, чем сейчас носили, и понял, что он по-прежнему подлизывается к Катарине, чтобы она сама его обшивала.
— Меня приняли в Товарищество святого Луки, гильдию аптекарей, врачей и художников, — ответил он, гордо поглаживая бороду. — Теперь у меня больше свободы. Вот решил вас навестить. Услышал, как о вас сегодня говорил наш старый друг Лоренцо де Медичи, и мне это не понравилось.
— Этот человек мне больше не друг.
— Тогда понятно, — ответил Леонардо, пристально заглянув мне в глаза. — Я был в мастерской Вероккьо, когда пришел Лоренцо взглянуть на работы его учеников. Я работал над ангелом для картины Вероккьо,[522] и он подошел посмотреть. С ним был Содерини, и они заговорили. Наверняка знали, что я все слышу.
Он помолчал, выразительно выгнув золотистую бровь. Я понял намек и кивнул. Тогда он продолжил:
— Лоренцо говорил о том, чтобы вернуть кого-то во Флоренцию. Человека, который вас очень не любит.
Так вот чем это все обернулось! Впрочем, как я и ожидал. Сам Лоренцо со мной ничего не сделает: он вернет во Флоренцию клан Сильвано, они-то и решат за него его проблему. Я посмотрел на Странника, который листал книгу. Тогда я снова обратился к Леонардо, изобразив невозмутимость.
— Как получился ангел?
— Неплохо, — улыбнулся юноша и отвел глаза, как будто был доволен собой, но не хотел хвалиться.
Он не только вымахал в высоту, но и окреп. Теперь у него были широкие плечи, и даже просторная рубаха не скрывала крепких мускулов. Он двигался с той же неподражаемой грацией, а теперь к ней добавилась еще и сила. Гордо подняв голову на крепкой длинной шее, он вернулся к столу и встал рядом со Странником.
— Я слышал, что ангел просто восхитителен. Увидев его, Вероккьо поклялся, что больше никогда не возьмет кисть в руки, — подтвердил Странник, прищелкнув толстыми пальцами.
— Ну, это он так, для красного словца, — отмахнулся от его слов Леонардо. — Лука, я принес вам подарок. А когда пришел, ваш друг был здесь. — Он указал на Странника, который лукаво повел густыми черно-белыми бровями, и Леонардо засмеялся: — Мне кажется, я его где-то раньше видел. Вы нас не знакомили, когда были моим учителем?
— Да, мы старые друзья, — ответил Странник, и широкая улыбка раздвинула его косматую бороду.
Я покачал головой.
— Так что за подарок ты мне принес, парень? Тебе вовсе не нужно было ничего приносить, твой приход уже подарок для меня!
— Это «Герметический свод» в переводе Фичино, — ответил Леонардо и показал на лежащую на столе книгу. — Хорошая копия, написанная от руки, хотя я уверен, вам нравятся эти новые печатные книги! Мы как-то говорили о ней, и я… я вижу, вы тут устроили неплохую мастерскую, учитель. И зачем? Собираетесь стать аптекарем или производить краску?
— Краски оставлю тебе. Мне хочется осуществить некоторые давние алхимические стремления.
Леонардо покачал головой.
— Алхимия… Это же чепуха. Вы знаете, что я об этом думаю. Хотя меня заинтересовали у вас кое-какие животные. Вот это, например! Что это — дикая кошка? Или собака?
Он подошел к соседнему столу и показал на мое недавнее приобретение, полученное от купца, который путешествовал на Дальний Восток и привозил оттуда разные новинки. На самом деле ни купец, ни я не знали, что это за животное. Он купил его живым, но не знал, чем его кормить, и зверек околел.
Торговец сделал из него чучело. Мне понравилась эта диковинка, и я забрал его к себе в мастерскую.
— Точно не знаю, Леонардо. А что?
— М-м, просто любопытно, — ответил он, склонившись над зверьком. — Вы не против, если я в нем покопаюсь, посмотрю внутренности?
Не дожидаясь ответа, он начал искать на столе какой-нибудь нож.
— Полагаю, ты останешься на ужин, — произнес я.
— Может, даже дольше, — пробормотал он, перевернул животное на спину и начал разглядывать позвоночник.
— Я велю горничной приготовить тебе комнату. У нас тут есть фартуки. Надень, а то испортишь одежду.
— Только посмотрите на эти клыки, а зубы! Как странно! — восклицал он, как будто совсем меня не слышал. Потом все же поднял глаза: — Я постараюсь справиться как можно скорее, но мне понадобится целая ночь, чтобы изучить все ткани и органы. А потом, скоро очень скверно вонять начнет.
— Занимайся, сколько захочешь! До запаха мне дела нет. Я улыбнулся ему, счастливый уже оттого, что он пришел.
— Завтра вы другое запоете, запах разойдется по всему дому, — засмеялся он. — Кстати, помогают горшочки с угольной пылью, если в них положить немного хвои или кипариса.
— Надеюсь, вы любите, когда в доме есть общество, — произнес Странник. — Думаю, теперь у вас его будет предостаточно.
И в последующие несколько лет так оно и было.
ГЛАВА 21
— Мужеложство, Леонардо? — резко бросил я.
Я шел прочь от строгого Палаццо делла Синьория, который, словно воздетым перстом, сурово грозил нам высокой каменной колокольней. Леонардо шел рядом со мной. Благодаря моему вмешательству его только что отпустила комиссия, надзиравшая за общественной нравственностью. Если бы это обвинение было доказано, Леонардо, вероятно, ждало бы тюремное заключение.
— Что вы хотите от меня услышать, учитель? — тихо спросил он, и его мелодичный голос охрип от волнения. — Я и без ваших упреков достаточно потрясен пережитым унижением. Почему нужно выделять меня из толпы, когда во Флоренции и за ее пределами так много мужчин, которые вступают в связь с другими мужчинами? И многие не скрывают этого!
— Ты со своими приятелями собирался заплатить какому-то м-мальчику? — запинаясь, спросил я.
От волнения я даже заикался и не мог смотреть Леонардо в глаза. В животе противно гудело, будто там дрожала порвавшаяся струна, издавая неестественные болезненные звуки. Я не мог отогнать от себя воспоминания о пустом мертвом ожидании в комнатушке у Сильвано, о матраце из конского волоса, занавешенных окнах, когда я знал, что в любую минуту может войти клиент. Жестокие желания и еще более жестокие требования — эта острая жалящая боль не забылась и за сто с лишним лет. Возможно, какие-то цепи никогда не покидают мыслей побитой собаки, даже если животное уже давным-давно наслаждается свободой.
— Ты хоть понимаешь, каково это терпеть над собой мальчику? Как это постыдно и унизительно? Ты понимаешь, что мальчик всегда будет считать себя куском дерьма из-за того, что ты ему причинил?
— Не мальчик, Лука! Мужчина.
— И все равно! Мужчина! Это же мужеложство!
— Я взрослый человек, у меня есть желания и потребности!
— Любить мужчину?
— Лука, а разве вы этого не знали? — натянутым, как струна, голосом процедил он. — Сколько лет мы были друзьями, сколько часов провели вместе… На той неделе мне будет двадцать четыре, и вы были моим учителем с двенадцати лет… Неужели вы не понимали, какой я?
Он опустил руку мне на плечо, но я стряхнул ее. И все же он прав. Мне надо было давно догадаться. Я же не наивный, я изучил все мужские желания в школе Сильванова борделя, да и с тех пор я встречал много мужчин, которые предпочитали мужчин женщинам. Я был близким другом Донателло, скульптора Козимо, а его пристрастия ни для кого не были секретом. Но Леонардо, ставший мне почти сыном!.. Я закрыл глаза и вздрогнул.
— Это невыносимо, что ты… такой!
— Это не то, что вы испытали в детстве! Я никого не принуждаю насильно, и никто не принуждает меня. К тому же то, что вы пережили, связано с мужчинами, которые испытывали страсть к детям, а не к таким же, как они, мужчинам.
— Я редко осуждаю других людей.
— И не осуждайте! У вас вот каждый месяц новая женщина. Вы заигрывали с моей матерью, когда она еще спала с отцом! — Взгляд его был спокойным и уверенным, прямолинейным и без всякого лукавства, и мне пришлось отвести глаза. — Я ухожу от Вероккьо, — тихо добавил он, закутавшись поплотнее в персиково-зеленую шерстяную накидку с горностаевой оторочкой.
Стоял апрель, и затянутое тучами небо грозило пролиться дождем. Холодный ветер, как по ущельям, носился по серым каменным улицам Флоренции. Я огляделся и понял, что мы просто бродим бесцельно. Я свернул к Арно и ускорил шаг. Леонардо нагнал меня и произнес:
— Пора мне обзавестись собственной мастерской. Я получаю заказы и могу позволить себе снять помещение.
— Ты же знаешь, если тебе нужны деньги, я всегда могу их одолжить, — уныло ответил я.
Мы подошли к Понте дела Грацие, каменному мосту в семь пролетов, переброшенному на другой берег через самую широкую часть реки. Мы миновали маленькую церквушку, построенную на одном из устоев, и несколько лавочек, а потом долго стояли и смотрели на холодные воды Арно, разбивавшиеся об опоры моста с таким ожесточением, словно хотели его снести.
— Нет, мой дорогой Лука, вы не стали бы одалживать денег, вы бы отдали их просто так, — улыбнулся он. — А я не могу этого допустить. Я уже взрослый и могу сам заработать.
Он отошел от поручней и зашагал через мост по направлению к Ольтарно. Я зарылся лицом в ладони, застонал и пошел следом. На другой стороне был маленький рынок, и мы прошлись по нему. Вокруг стояли прилавки с большими коричневыми яйцами и хрустящим свежим хлебом, сушеными фруктами и соленой треской, деревенским сыром и кусками сбитого масла, завернутого в вощеную ткань, маринованными овощами. Леонардо вскрикнул и бросился вперед, а я погнался за ним и догнал у клетки с голубем. Он полез в карман и вынул монету, посмотрел на нее и вручил старухе за прилавком.
— У тебя есть еще деньги или это последние? — с укором спросил я.
— Посмотри на ее лицо, она бы прекрасно подошла для портрета, старость ее практически изуродовала! — прошептал он.
Я бросил на старуху внимательный взгляд. И в самом деле: время, которое давно забыло обо мне, сильно обезобразило ее. Оно приплющило и оттянуло вниз нос, растянуло пятнистую кожу складками, как мягкое тесто. Леонардо всегда подмечал такие мелочи в людях, обращая внимание на все вокруг. Он наверняка потом будет ходить за ней, присматриваться, пока ее черты не засядут у него в памяти. Потом он вернется домой и нарисует ее. Старуха радостно схватила монету и улыбнулась Леонардо беззубой улыбкой, а потом протянула ему клетку. Леонардо открыл ее и достал голубя. Он взял его обеими руками и прижал к щеке, прикоснувшись аккуратно остриженной бородой к крылышку. Он даже, кажется, что-то говорил птице или пел, но так тихо, что я ничего не расслышал. Потом он прикрыл глаза и благоговейно прижался губами к серой головке голубя. Он подбросил птицу в воздух и тихо вскрикнул, когда она встала на крыло. Его прекрасное лицо светилось радостью и одушевлением, все тело его напряглось, словно хотело унестись вслед за парящим голубем.
— Помните, как вы первый раз взяли меня на виллу Медичи в Кареджи и мы купили в подарок Лоренцо сокола? — Леонардо посмотрел на меня огромными сияющими глазами. — И вы дали мне подержать ту чудную птицу, пока мы скакали на вашем рыжем жеребце Джинори? Верхом на лошади, с птицей в руках я, словно летел! Помните, Лука Бастардо?
Я собирался ответить, но тут чей-то юный голосок пискнул:
— Бастардо? Какое странное имя!
Я с улыбкой обернулся и увидел маленького мальчика, который стоял рядом. Но когда глаза мои упали на его лицо, сердце остановилось и у меня перехватило дыхание. Острый, бросающийся в глаза подбородок и резко очерченный нос. Этот низкорослый маленький мальчик лет шести был точной копией Николо Сильвано в его возрасте! Мальчик смотрел на меня открытым любопытным взглядом. И вся моя история, связанная с его порочным кланом, мгновенно пронеслась передо мной, гудя, словно разбуженный пчелиный рой. Он наклонил голову, как будто тоже это почувствовал.
— Герардо, Герардо, где ты? — позвал женский голос, и мальчик оглянулся.
Я ничего не сказал, развернулся на каблуках и пошел прочь. Леонардо следовал за мной.
— Лука, в чем дело? — спросил он с тревогой в голосе.
Я недоверчиво взглянул на него. Леонардо резко остановился.
— С моими пристрастиями вам придется смириться и научиться любить меня таким, каков я есть, а не таким, каким вы хотели бы меня видеть. Но почему вы убежали от ребенка?
— Он похож на человека, которого я когда-то знал, — пробормотал я, поплотнее заворачиваясь в плащ.
— Ваше прошлое рыщет вокруг, как пес, и не дает вам покоя, — тихо проговорил он. — Будьте осторожны, как бы он однажды не укусил! — Он хотел дотронуться до моего плеча, но потом с большим достоинством отвел изящную руку, прежде чем она опустилась мне на плечо. — Раз уж у вас разбередилисьстарые раны, должен вам кое о чем рассказать. Я недавно обзавелся новыми знакомствами…
— Ну-ну.
— Да не то! — вспыхнул он и продолжил, сохраняя самообладание. — До меня дошли некоторые слухи. Люди шепчутся о том, что против Лоренцо де Медичи затевается заговор. Его зачинщики — Пацци.
— Пацци должны быть счастливы, ведь они отвоевали у Медичи управление папскими финансами.
— Да, но Лоренцо отплатил тем, что поддержал закон, лишающий наследства дочерей, у которых нет родных братьев, но есть двоюродные. В результате жена Джованни Пацци не получила огромного отцовского наследства, на которое они так рассчитывали. И поэтому Пацци затевают заговор. Папа его поддержал, он давно хотел подчинить себе Флоренцию и отдать своим племянникам. И Неаполитанский король тоже с ними заодно, у него свои политические цели. От смерти Лоренцо многие выиграют. Заговор еще на ранней стадии, все это пока только слухи и сплетни. Но мне кажется, в них есть доля правды, и в скором времени этот заговор принесет плоды. Вам, наверное, захочется предупредить его.
— Я не разговаривал с Лоренцо четыре года, с той резни в Вольтерре, и вовсе не собираюсь теперь мириться, — прорычал я. — Он не слишком хорошо ко мне расположен. Мне повезет, если он не подстроит так, чтобы меня сожгли на костре. Какое мне дело, если Пацци и Папа добьются его свержения?
— Он внук вашего близкого друга. Он еще мог бы сослужить вам службу, может, уберечь вас от костра, если вы убережете его. И мне кажется, что его младший сын Джованни когда-нибудь станет Папой Римским.[523] Вам было бы полезно завести друзей в высших кругах, — посоветовал Леонардо.
— Этому мальчику всего год, он может стать кем угодно, — ответил я и покачал головой.
Леонардо пожал крепкими плечами.
— Что ж, это только мое предчувствие, мне как-то привиделось нечто подобное. Итак, приглашаю вас отобедать у меня в мастерской, когда я ее должным образом обустрою, чтобы принимать посетителей. Вы ведь придете, Лука? Если, конечно, у вас найдется свободная минутка и вы сможете оторваться от этого всепоглощающего занятия — превращения свинца в золото…
Его голос неуверенно стих, как будто он снова превратился в маленького мальчика, которого я встретил у входа в темную пещеру. Этот мальчик изменил мою жизнь. Он сделал меня своим учителем и преподал мне самый важный урок: что значит иметь близкого человека, доверять ему самые сокровенные мысли и тайны. На своем пути я встречал людей, которые мне нравились и кому я частично доверял: Джотто, Петрарка, Козимо де Медичи. Но до Леонардо не было никого, кому бы я доверял безоговорочно. Возможно, это был последний урок в воспитании моего сердца, который мне преподал этот непревзойденный гений: урок безоглядной любви. Мне придется смириться с его пристрастием, отвращением к которому я с детства проникся до мозга костей. Я не знал, как примирить это отвращение с любовью к Леонардо, который был мне как сын. Когда-нибудь я найду способ. Но я не могу осуждать Леонардо. И не могу отказать ему в сердечной привязанности.
— Ну конечно, я приду к тебе в мастерскую, — ответил я.
Это разбивало мне сердце, но и делало его шире, я знал, что это так и не может быть иначе. Что бы ни делал Леонардо, как бы это ни было отвратительно для меня, я никогда не перестану быть его другом. А вспоминая долгие годы жизни, я теперь понимаю, что, поставив любовь выше страха смерти, поставив любовь к Леонардо выше отвращения к противоестественным человеческим наклонностям, я заслужил любовь Маддалены.
Впервые я встретил повзрослевшую Маддалену в апрельское воскресенье 1478 года. Леонардо явился ко мне во дворец и прервал мою работу над воссозданием перегонного куба Зосима.
— Пойдемте со мной на мессу, дорогой Лука, — позвал он из дверей мастерской.
— На мессу? Я туда не хожу, — отказался я. — К тому же сегодня у меня, кажется, все получается с возгонкой, а дальше пойдет еще лучше.
— У вас получается с возгонкой, только и всего, — со смехом ответил он.
— Нет, парень, сегодня я, возможно, сумею превратить свинец в золото! И тогда мне больше никогда не придется волноваться о деньгах!
— А вам и не нужно волноваться о деньгах, вы богаты как Крез,[524] — проговорил Леонардо, подошел ко мне и смерил взглядом аппарат, с которым я возился. — Вы разожгли слишком высокое пламя, — заметил он и беспокойно зашагал по комнате, копаясь в разнообразных предметах, разложенных на грубо оструганных столах, которыми я обзавелся, потому что они напоминали мне обстановку лаборатории Гебера.
Однако создать точную копию этого волшебного места мне не удалось. Я мог воссоздать обстановку, но не атмосферу. Я не мог раскрасить дым, который бы совался цепкими пальчиками повсюду, не мог сделать так, чтобы мензурки позвякивали вразнобой, словно переговариваясь друг с другом. Но я думал, что у меня есть время и в конце концов я этого добьюсь.
Леонардо вздохнул.
— Надеюсь, вы не ждете от алхимии чего-то большего, чем развлечения. Это то же самое, что астрология. Глупая трата драгоценного времени.
— Ты так говоришь только потому, что Марс у тебя находится в знаке Водолея, — не отрываясь, ответил я. — Поэтому у тебя бунтарская противоречивая натура.
— Только не говорите, что вы астрологией занимаетесь! — простонал Леонардо.
— Фичино приносит мне книги и дает уроки, — признался я.
Пламя под перегонным кубом вдруг вспыхнуло синевато-рыжим всполохом, выплеснув жидкость, и весь аппарат затрясся от кипения. Горелка чихнула и погасла. Я разочарованно всплеснул руками.
— Теперь у вас нет предлога отказываться, — пропел Леонардо. — Пойдемте со мной на мессу. Сегодня будет интересно. Нет, правда, думаю, вам стоит сходить!
— Надеюсь, ты не потащишь с собой тех красавчиков, что вечно вьются возле тебя!
— Только вы и я, — пообещал он, и я согласился.
Проводить время с Леонардо всегда было приятно. Находиться в его компании, вникать в его мысли было уже удовольствием. Даже если для этого придется пойти на церковную службу.
Мы были недалеко от Санта Мария дель Фьоре, раскинувшей свой огромный купол, и неспешным шагом шли по Виа-Ларга.
— Знаешь, мне кажется, что Богу совершенно все равно, ходят ли люди на мессу, — мрачно произнес я, но прежде, чем успел углубиться в детали своих размышлений, Леонардо запел тихий и скорбный церковный гимн своим чудесным завораживающим тенором.
Мы пришли в церковь и встретили там сборище пышно одетых людей.
— Кардинал Сан-Джорджо, Лоренцо де Медичи, архиепископ Пизанский, граф Монтесекко, семейства Пацци и Сальвиати, — негромко перечислил Леонардо, прервав песню, и загадочно покосился на меня. — Вы знаете, что преданность моя принадлежит в первую очередь вам, учитель? С тех пор, как я выбрал вас себе в учителя. — Он понизил голос до шепота и горячо закончил: — Если бы кто-то был вашим врагом, пусть бы даже он явился моим другом, я бы не стал ему служить!
— Я рад это слышать, парень. Я никогда не сомневался в твоей преданности, — ответил я.
Интересно, что он задумал? Поступки Леонардо невозможно предугадать. Его интересовало и увлекало всё и вся, в голове всегда теснились замыслы. Он притягивал к себе людей так легко и непринужденно, что всегда был в курсе еще едва зарождающихся событий. Он впился в меня глазами и сжал мою руку, а потом повел в церковь.
— Джулиано де Медичи с ними нет, — прошептал он удивленно.
Мы заняли места на скамье, и спустя короткое время началась месса. Часть моего существа с интересом слушала, и глаза были устремлены на купол Брунеллески. Раньше, еще бродяжкой на улице, я ходил на службу скорее чтобы согреться зимой и отдохнуть в тени летом, чем из религиозного чувства, которое у меня совершенно отсутствовало. Но латынь звучала красиво, и незаметно я унесся в мечты об алхимических исследованиях. Чтобы превратить обычный металл в золото, нужно в правильных пропорциях смешать серу и ртуть, подумал я, когда Леонардо подтолкнул меня в бок.
— Джулиано пришел!
— Ite, missa est,[525] — провозгласил священник, тут раздался слабый возглас: «Вот тебе, предатель!»
И следом поднялся крик. Леонардо вскочил с ногами на скамью, чтобы лучше увидеть, и потянул меня за рукав, пока я не последовал его примеру. Джулиано де Медичи шатался, истекая кровью из раны в груди. Несколько вооруженных человек окружили его.
— Купол рушится! — крикнул кто-то, и крик тотчас был подхвачен хором голосов.
Люди заорали, завизжали. Тысячи ног затоптали по мраморному полу. Собор заполнился испуганной толпой: мужчины, женщины и дети разбегались во все стороны, стремглав покидая церковь. Леонардо указал на южную часть церкви, где находилась старая ризница, и там я увидел, как Лоренцо, забрызганный кровью и с мечом в руке, перепрыгнул через низкие деревянные перила в огороженный восьмиугольник хора. Несколько человек прикрыли его, когда он побежал к главному алтарю, перед которым молился на коленях кардинал Сан-Джорджо, юноша лет семнадцати. Один из Пацци начал визгливо оправдываться, в то время как другие с окровавленными кинжалами бросились за Лоренцо. Я увидел, как старый друг Лоренцо Франческо Нори бросился защищать его от группы людей, — как мне показалось, это были вооруженные священники, — и сам пал, сраженный ударом меча в живот. Пацци кинулись к священникам, и уже всем скопом они бросились за Лоренцо. Он и его защитники, подхватив Нори, отступили в северную ризницу и захлопнули дверь.
— Пошли отсюда, — сказал Леонардо.
Он спрыгнул со скамьи и потянул меня за собой, и мы ринулись прочь вслед за орущей толпой, которая выплеснулась из собора на площадь. Рука его выпустила мой плащ, и он затерялся в толпе; после долгих пиханий и толканий меня притиснули к Баптистерию. Я прижался к стене спиной, чтобы пропустить обезумевшую, беспорядочную толпу. Из толпы на меня вылетела вытолкнутая из нее под напором бегущих женщина, и я поймал ее, чтобы она не упала. Я ощутил ее аромат: сирени, лимонов, чистого света и всего хорошего, что я когда-либо видел, слышал, чувствовал или представлял за сто пятьдесят лет. А потом она подняла на меня глаза. Забыв о долгом пройденном пути, моя жизнь сузилась до одного-единственного момента, когда ее многоцветные глаза встретились с моими. В тот же миг я узнал ее. Всю как есть: ее сущность, ее жизненную природу, дух, душу (или как там еще называют ту бессмертную точку света, которая живет в глубине каждого человека?). Это было чудо и гибель моя! Точно удар молнии пронзил меня до самых потаенных уголков моего существа. Он вызвал музыкальный резонанс, возникший между нами, как безмолвная песня. Это было нечто более интимное, чем любовные отношения, и возникло без соприкосновения тел.
Вокруг нас с криками бежали охваченные паникой люди, в церковь хлынул отряд солдат, а я трепетал от благоговения. Я видел только ее прекрасное лицо сердечком, прелесть которого расцвела божественной красотой: тонкий изгиб бровей над чарующими темными глазами, сбрызнутыми черными, янтарными и зелеными крапинками на фоне ярких белков; высокие скулы и маленький прямой нос, изящный раздвоенный подбородок, большой подвижный рот, алые губы и ровные белоснежные зубы. Румянец на щеках подчеркивал насыщенный цвет ее волос, в котором смешались каштановые, рыжие, золотистые, сливовые и черные тона.
— Маддалена! — выдохнул я.
Ей было лет восемнадцать, она была миниатюрная, но гибкая и сильная. Легкий аромат сирени и лимона, чистого рассветного воздуха и бегущего ручейка становился сильнее. Я прижимал ее к груди и ощущал биение жизни, звонким ручьем звучавшее в ее стройном теле, облаченном в роскошное платье из лучшего розового шелка с широкими белыми рукавами, отделанное тонкой золотой парчой и расшитое по воротнику крупными розовыми жемчужинами.
— Синьор Бастардо, — покраснев, промолвила она и стала вырываться.
Мне пришлось ее выпустить и прижать к стене Баптистерия, загородив рукой. Меня охватил страх, но он был никак не связан с царящей вокруг паникой и кровопролитием. Я боялся, как бы она не пострадала, когда наконец-то я ее нашел. И жизнь моя отныне изменилась. Уже ничего не будет как прежде: обещание философского камня внезапно, в самый неожиданный момент, начало сбываться. Меня ожидали любовь и смерть, и, заглянув в глаза Маддалены, я понял, что они того стоят. Много лет назад я сделал правильный выбор.
— Давайте зайдем! — предложила она, выскользнув из моих рук, и открыла двери, некогда созданные ювелиром Лоренцо Гиберти, который выиграл конкурс, предложенный юным Козимо. Она забежала в здание, и я последовал за ней. Там было пусто и тихо. Она, запыхавшись, села на скамью.
— Мне надо подумать. Мне надо понять. Я уверена, что Джулиано де Медичи мертв, он истек кровью, — произнесла она и подняла на меня взгляд. — Но Лоренцо сбежал и может выжить. Он объединится с миланцами, и они его поддержат. Медичи останутся у власти, несмотря на сегодняшние события.
— Вполне вероятно, — едва переводя дух, согласился я с ней, не в силах оторвать от нее глаз, чтобы взглянуть на великолепную мозаику Страшного суда, которая украшала потолок, или на замысловатые геометрические узоры мощенного разноцветными плитками пола.
Впервые я видел женщину более прекрасную, чем произведения художника! Я стоял, а Маддалена сидела, сцепив узкие ладони на коленях. Она задумчиво склонила голову, и я увидел пульсирующую на длинной шейке голубую жилку. И мир за этими стенами мог рушиться, гореть в огне и гибнуть под копытами гонцов Апокалипсиса, мне это было все равно. Для меня не существовало тогда ничего, кроме Маддалены. Это был самый священный момент в моей жизни. Родилось чудо, предначертанное более века назад. И все мое тело звенело, и дрожащий воздух между нами наполнился невидимым сиянием и безмолвным криком тысячеликой мечты, сбывшейся наяву.
— Это неслыханно! Такой ужас, что даже не верится! Словно кошмарный сон! Кровопролитие посреди мессы, осквернение великого собора! Теперь все навсегда изменится. Флоренция уже никогда не будет прежней, даже если Лоренцо останется у власти. Кто это устроил и зачем? — говорила она, и в ее низком голосе, в котором при первых словах звучал ужас, появились задумчивые нотки.
— Семейство Пацци, Папа Римский и Неаполитанский король. Ради денег, власти, земель и мести. У Медичи много врагов. Лоренцо не сумел править нашей якобы республикой так же талантливо, как Козимо, который приближал к себе друзей, а врагов и тем более, — не задумываясь, ответил я.
Я не мог поверить, что мы обсуждаем политику, как обыкновенные флорентийцы, ведь она-то совсем необыкновенная и мне больше всего на свете хочется сесть рядом, упиваться ее красотой и прикоснуться к нежной коже.
— Вольтерра тоже входит в список его врагов, хотя мой родной город никогда не осмелится напасть после того разгрома, — кивнула она и робко улыбнулась мне, отчего мое сердце вспорхнуло куда-то в горло, а колени обмякли. — Нам, похоже, суждено встречаться, когда вокруг льется кровь, синьор! К счастью, на этот раз она не моя. И я одета. Рада, что и вы в добром здравии. А вы совсем не изменились с тех пор, как спасли меня от кондотьеров!
— Что ты делаешь во Флоренции? — спросил я.
— Теперь я здесь живу. Перебралась сюда полгода назад, — ответила она, отводя взгляд.
Я хотел было спросить почему, но тут двери Гиберти распахнулись.
— Маддалена? А, вот ты где, милая! Я заволновался, когда потерял тебя в толпе! — воскликнул хорошо одетый немолодой человек и подошел к скамье.
Он заключил Маддалену в объятия, поцеловал в лоб и что-то зашептал. У него были белые волосы и почти седая борода, он был высок, худ и похож на ученого. Она на мгновение прильнула к нему, опустив нежную ладонь ему на грудь, и я отдал бы все деньги на своем банковском счете и сто лет своей жизни, лишь бы быть сейчас тканью того камзола, который нежно поглаживала ее рука.
— Ринальдо, этот господин — мой давний знакомый, синьор Лука Бастардо. Он сейчас спас меня, когда я чуть не упала. Без него меня бы затоптали насмерть. Синьор, это Ринальдо Ручеллаи, мой муж. — Она улыбнулась ему, и я никогда еще не испытывал такой зверской ревности за всю свою чертовски долгую жизнь.
Вслед за ревностью налетела душевная боль, но в следующее мгновение она сменилась злостью. Я злился потому, что теперь, когда наконец нашел ее, ту самую женщину из моего видения, она оказалась замужем за другим. Она — моя суженая, она обещана мне! Какой еще муж! Она не может быть замужем! Я же так долго ждал! Холодный, красный туман стоял у меня перед глазами.
— Синьор Бастардо, вы спасли мою жену! Я у вас в неоплатном долгу, — воскликнул Ручеллаи. Он вскочил и принялся трясти мою руку обеими руками. — Вы должны прийти на ужин! Я настаиваю, синьор! Я должен отплатить за вашу доброту к моей жене!
— Да, это было бы замечательно! — Маддалена поднялась и встала рядом с мужем, который обнял ее за талию.
В голове мелькнула сцена: я отрубаю руку, лишь прикоснувшуюся к моей Маддалене, а потом я заметил, что мои пальцы и вправду нащупывают меч. Разумеется, отправившись на мессу, я оставил его дома. Но под туникой был привязан кинжал, и я мог пустить его в ход. Ведь зарезал же кто-то Джулиано де Медичи на торжественной обедне в Санта Мария дель Фьоре, кафедральном соборе Флоренции! Так почему же мне не сойдет с рук убийство какого-то там Ручеллаи в старинном Баптистерии?
— Вас поранили, синьор? — спросила Маддалена встревоженным голосом.
— Простите? — прохрипел я.
— Вас беспокоит рука. Вы ранены? — повторил Ручеллаи. Я мотнул головой, и Ручеллаи взял меня за плечо.
— Ужасные последствия ожидают нас после сегодняшних грозных событий, и я должен буду предложить свои услуги Лоренцо де Медичи. Но вы непременно должны прийти на ужин. Скажем, через две недели?
Я не смог ответить ничего внятного и только неопределенно кивнул. Они попрощались и ушли. Я присел на скамью Баптистерия. По всему городу тревожно трезвонили колокола, их перезвон подхватили колокольни на окраинах и даже в отдаленных деревнях. Флоренция вооружается. Я слышал, как за стенами Баптистерия волновался мир: крики людей, беготня, топот стягивающихся отрядов, стук копыт разъезжающих по улицам кондотьеров, лай собаки, колокольный набат. Один я сидел в Баптистерии. Спустя какое-то время я услышал с улицы два разных клича: «Народ и свобода!» — старинный призыв к свержению деспота, и «Герб Медичи!»— крик приверженцев Медичи. Для меня все это было пустое, важным было одно: я нашел Маддалену, но у нее есть муж.
В конце концов, промерзнув до костей, в блеклом свете скрытого за зловещими тучами солнца я побрел домой, сгибаясь перед порывами резкого ветра. Я избегал тех, кто носился по улицам с мечами наперевес. Некоторые несли надетые на копья и мечи капающие кровью отрубленные головы. Перуджийцев нашли в Палаццо делла Синьория и перебили всех до единого. Никем не остановленный, я благополучно дошел до дома и бегом взлетел по лестнице в мастерскую. Проклиная весь свет, я схватил какой-то пустой пузырек и швырнул о стену. Звон разбитого стекла принес мне облегчение, тогда я взял склянку с морской солью и тоже запустил в стену. С громким хлопком она разлетелась на мелкие осколки, брызнув фонтаном кристаллов. И тогда я завыл. Я метался по мастерской, хватая стеклянные или керамические предметы, и со всей силы швырял их о стену. Бутыль с бордовым вином оставила на полу кровавое пятно.
Наконец я, задыхаясь, остановился посреди комнаты.
— Чтобы все восстановить, вам понадобится очень много флоринов, — проговорил Леонардо.
Он стоял в дверях, скрестив на груди руки. Понятия не имею, сколько времени он оттуда за мной наблюдал.
— К черту деньги! — рявкнул я.
— Вот уж чего никогда не ожидал от вас услышать, — заметил Леонардо и недовольно скривился, хотя его голос, как всегда, остался спокойным и звучным. — Я выбрался целым и невредимым, вы напрасно беспокоитесь. Потеряв вас в толпе, благополучно добрался до дома. Я действительно слышал, что на сегодня назначен какой-то отчаянный шаг. Но Лоренцо де Медичи я не предупреждал. Ведь последнее время он к вам неблагосклонен.
Мне недосуг было слушать разговоры про политические события во Флоренции и про то, какую позицию решил занять Леонардо. У меня была проблема поважнее.
— Женщина, — произнес я, добавив пару ругательств, затем, скрипнув зубами, ударил себя кулаком по лбу. — Я сегодня встретил женщину! Точнее, снова встретил. Я знал ее девочкой.
— Женщину? Ну вот, видите, почему я предпочитаю мужчин! Женщины вредны для здоровья. — Леонардо с улыбкой погладил бороду.
Я оскалился и зарычал на него, как волк. Он вскинул каштановые брови и примирительно махнул руками.
— Тише, тише, учитель! Давайте пойдем куда-нибудь, выпейте со мной хорошего вина, а тем временем скажем служанке, чтобы прибрала этот мусор.
— Не хочу я вина! Я хочу ее! — вскричал я и понял, что сказал правду.
Я хотел Маддалену больше всего на свете. Ни одна женщина еще не казалась мне такой прекрасной. Возможно, это отчасти из-за очень долгого ожидания, ведь я не мог дождаться, когда же сбудется видение. А может, дело в том, что меня поразила не только красота Маддалены. Другие ее достоинства были для меня очевидны: как рассудительно она размышляла о политической ситуации, как смело пережила насилие и позор, какой милой, любезной и доброй она была со стариком-мужем, которого, очевидно, совсем не любила. Она наверняка мечтала обо мне. И я мечтал о ней. Сильнее, чем мечтал освободиться от Сильвано; все годы, миновавшие с тех пор, не могли притупить во мне остроту тех воспоминаний. Она должна стать моей! Эта мысль жгла меня и леденила, и раздирала мне сердце, и не давала думать ни о чем другом.
— Она будет твоей, — пожал плечами Леонардо. — Ты самый красивый мужчина во Флоренции, после меня, конечно. Любая женщина, стоит тебе пожелать, будет твоей. Даже у моей матери ты добился успеха, а ведь она была предана мне. Она только не хотела сердить отца, который не желал делиться ею ни с кем, несмотря на то что сменил столько жен.
— Она замужем.
— И что?
— Она не из тех, кто станет изменять мужу! — отчаянно воскликнул я, хотя не знаю, с чего я это взял, но в одном был уверен точно: она не захочет разрушить целостность своего брака.
— Да, это усложняет дело, — согласился Леонардо.
Он подошел ко мне и обхватил меня сильными руками, крепко, так что теперь вел меня он. Я пытался сопротивляться, но он был выше меня и сильнее, к тому же был полон решимости увести меня из этого бедлама битой посуды.
— Пойдемте, Лука, дорогой, я налью вам вина, — успокаивающе приговаривал он. — Если вы тут останетесь, то, чего доброго, поранитесь. Пойдемте со мной наверх в открытую лоджию, посидим, подышим ночным воздухом, послушаем, как люди дерутся за власть во Флоренции. Вы расскажете об этой удивительной женщине. Я могу слушать вас сколько угодно, я останусь у вас на всю ночь, в комнате, которую вы для меня отвели. Не хочу выходить на улицу, пока там льется кровь. Скажите, как ее зовут?
— Маддалена Ручеллаи, — ответил я и позволил вывести себя из мастерской.
Леонардо цокнул.
— А у вас глаз-алмаз! Знаю эту даму. Она удивительно красива. Вольтерранка, молодая жена Ринальдо Ручеллаи. Это двоюродный брат отца того человека, что женился на Наннине, сестре Лоренцо. Первая жена Ринальдо умерла несколько лет назад. Слыхал, он встретил Маддалену, когда ездил в Вольтерру по поручению Лоренцо, и был сражен наповал. Они хорошая пара: он состоятельный человек, бездетный, из старинного, почтенного рода. Многие вольтерранки не смогли найти себе мужей: кого-то обесчестили, у других убили отца, семья разорилась, и они просто не смогли собрать приданое.
— Может, сегодня Ручеллаи погибнет, — хладнокровно произнес я. — Может, я могу ускорить его путешествие к первой женушке на небеса? Где мой меч?
— Лука, я не позволю вам совершить глупость! — решительно возразил Леонардо. — Но я могу сказать, где она живет.
На следующее утро я отправился ко дворцу Ринальдо Ручеллаи и стал ждать, когда выйдет Маддалена. Вся Флоренция бурлила из-за убийства Джулиано де Медичи и покушения на Лоренцо. Все мужчины в городе были так или иначе вовлечены в эти события. Одни принимали участие в заговоре, другие сделали ставку на победу заговорщиков и Пацци, третьи кинулись на защиту Медичи. За прошлую ночь заговорщики и их наемники погибли ужасной смертью. Нескольких уже повесили, в том числе Франческо де Пацци и даже такую видную персону, как архиепископа Пизы. Расправа — казни и ссылки виновных — продолжалась и сегодня. Архиепископа, несмотря на высокий духовный сан, четвертовали, да еще отрубили ему голову. Я знал, что Лоренцо будет беспощаден и не перестанет расправляться с врагами еще несколько месяцев, но мне до этого не было никакого дела. Я ждал, когда покажется Маддалена. Женщина из моего видения наконец-то появилась после целой жизни ожидания и теперь просто не могла меня отвергнуть.
Спустя несколько часов она вышла из дворца в сопровождении служанки. Я улыбнулся: пустяки вроде бунта и убийств на улицах не могли удержать ее дома. Ведь, еще будучи ребенком, которого только что изнасиловали, она, истекая кровью, бросила укрытие, чтобы помочь другим детям. Я не сомневался в ее храбрости. Дом ее мужа находился рядом со Старым рынком, туда она и направилась. Я пошел следом, держась на достаточном расстоянии, чтобы ни она, ни служанка не заметили моей слежки, но все же оставался вблизи и наблюдал за ней.
У самого рынка к ней с протянутой рукой подбежал нищий мальчишка. Видимо, он ее знал, потому что закричал: «Маддалена! Маддалена!» Она жестом попросила у полной неповоротливой служанки кошелек и вынула монету. Она вручила ее оборванцу, и тот, рассыпавшись в благодарностях, умчался прочь. На моих глазах подобная сцена повторилась неоднократно. И наконец Маддалена шагнула в ворота рынка, а ее дородная служанка нагнулась поправить туфлю. Это был мой шанс, и я мигом подскочил к женщине.
— Синьор Ручеллаи срочно просит вас вернуться во дворец, — сказал я. — Немедленно!
— Но как же моя синьора… — Она указала на Маддалену.
— Я скажу ей, что за вами послал ее муж, — ответил я, но ее это не убедило, и я пожал плечами. — Ну, если вы предпочитаете объясняться перед синьором Ручеллаи, почему не исполнили его приказание…
Она помотала головой и вразвалочку засеменила в обратном направлении. Я решительно шагнул следом за Маддаленой. Сегодня на рынке было столпотворение: люди приходили не столько за покупками, сколько для того, чтобы посплетничать и обменяться новостями. Я с трудом пробирался сквозь толпу, а когда догнал Маддалену, она вручала монетку очередному бродяжке. Ничего не говоря, я просто наблюдал за ней. Дыхание мое стеснилось, сердце так и трепыхалось в груди, словно пойманная на крючок рыба. У меня так пересохло во рту, что я вряд ли смог бы произнести хоть слово. Она потрепала чумазого мальчишку по волосам.
— Вы так щедры, Маддалена, — выдавил я осипшим голосом.
Она вздрогнула.
— Синьор Бастардо? Я вас не заметила, — произнесла она, посмотрела на синий парчовый кошелек, который распух от монет, и, раскрасневшись, усмехнулась. — Флорентийцы так практичны в денежных вопросах! Наверное, я кажусь вам дурочкой. Это всего лишь динары, но мне нравится раздавать деньги нищим, особенно детям. Ведь и я могла оказаться на их месте. Если бы не те деньги и не добрые соседи, так бы и осталась на улице без отца и без дома. Мне повезло. Поэтому я считаю своим долгом помогать этим бедняжкам. Ручеллаи одобряют щедрость и милосердие, и мой муж так добр, что, отпуская меня на рынок, дает с собой полный кошелек денег.
«Еще бы ему не быть к тебе добрым!» — подумал я, но прикусил язык, чтобы не произнести это вслух. Приняв равнодушный вид, я небрежно спросил:
— А синьор Ручеллаи с вами?
— О нет, он ушел помогать Лоренцо де Медичи, — ответила она, озираясь по сторонам, и озадаченно добавила: — Со мной была служанка, но она куда-то исчезла…
— Сегодня такая толкучка, наверное, она вас потеряла в толпе, — предположил я. — После вчерашних волнений тут может быть небезопасно. Позвольте мне вас сопровождать?
— Ах, я не хотела бы вас утруждать, — ответила она и, слегка покраснев, отвернулась.
— Мне совершенно не трудно, — твердо сказал я и жестом пригласил ее следовать дальше.
— Полагаю, сегодня и в самом деле лучше не выходить одной, — проговорила она, украдкой глянув на меня.
Она двинулась дальше, а я, пользуясь случаем, наклонился к ней и вдохнул аромат сирени, исходивший от ее волос. Мы молча шли через скопление галдящих людей, мимо прилавков с яркими весенними цветами. Сегодня продавцы меньше думали о том, как продать свой товар, а только и делали, что чесали языками, гадая, что будет дальше с Флоренцией.
Маддалена повернулась ко мне.
— Итак, синьор Бастардо…
— Зовите меня Лука, — попросил я, зная, что ей не подобает этого делать, но мне это было безразлично.
Она чуть улыбнулась и скрыла глаза под густыми ресницами. Сегодня на ней было бархатное платье цвета индиго, расшитое серебряными нитями и украшенное по корсажу богатым узором из жемчужин. Поверх платья она надела белую шерстяную накидку. Этот наряд удивительно шел к ее белоснежной коже, сложному колориту волос и агатовой гамме глаз.
— Полагаю, можно считать вас старым другом. Вы повидали меня в худшем виде! Что ж, Лука, выглядите вы замечательно, точь-в-точь так же, как много лет назад. Как-то даже удивительно видеть, что мои воспоминания о вас вовсе не были детскими фантазиями, — усмехнулась она, и ее щеки вновь залились румянцем.
— А что вы обо мне фантазировали? — негромко спросил я. — Что-нибудь хорошее?
Я улыбнулся ей многозначительно и почти вызывающе.
— Я не то хотела сказать! — Она покраснела от корней волос до хрупких ключиц.
— Я знаю, что вы хотели сказать. Просто хотел понять, что еще может за этим скрываться.
— Намеки — порождение нечестных намерений.
— Незаконное, как я сам, — согласился я, обыграв мою фамилию.
— Прошу вас, синьор, я не такая искушенная, как ваши флорентийские женщины, и нахожу этот разговор непристойным! — Она глубоко вздохнула. — Я… я вас тогда не спросила, чем вы занимаетесь во Флоренции? Тогда в Вольтерре вы сражались, как кондотьер, так умело лечили раненых. Я решила, что вы наверняка врач.
— Я был в свое время и воином, и врачом. А теперь занимаюсь алхимией.
— Алхимией? Как интересно! — просветлела она. — Мы обедали во дворце Медичи две недели назад, и я слышала, как Марсилио Фичино рассуждал на эту тему. Он удивительный человек, такой умный и загадочный. Он знает все обо всех великих мыслителях древности и весьма убедительно говорил о том, в чем языческие верования совпадают с христианством! Я увлеклась, слушая его. Я хочу изучать алхимию. И астрологию. Боюсь, я не так образованна, как ваши умные флорентийские женщины, но очень хочу наверстать упущенное. Мне очень понравилось учиться. И хочется знать все больше и больше. Мой муж был так добр, что нанял мне учителя.
«Еще бы ему не быть к тебе добрым!» — снова подумал я. Я был уже не в силах сдерживать свою ревность. Она просто была слишком красива: эти яркие волосы, белая кожа и маленькие нежные ручки! Я хотел заполучить ее для себя. Я хотел обнимать ее. Хотел опрокинуть ее на землю прямо здесь, на рынке, и сделать такое, что она стала бы кричать от наслаждения. Я еще никогда не испытывал такого безрассудного вожделения и с трудом узнавал себя в ее присутствии.
Но вслух я произнес:
— Даже во Флоренции мало найдется женщин, которые занимались бы алхимией и астрологией.
— Что ж, а мне бы хотелось, — ответил она, искоса смерив меня задумчивым взглядом. — Может быть, вы взялись бы меня учить.
«Еще бы, — подумал я, — охотно бы взялся, только твоему мужу не понравится тот предмет, которому я стал бы тебя учить». И я сказал:
— А что вы собираетесь покупать? Если не знаете, у кого что купить, могу показать вам лучших поставщиков.
— Мой муж был так внимателен, что поводил меня по Флоренции и познакомил с лавочниками. — Изящным жестом она обвела прилавки. — Впрочем, сегодня я пришла сюда скорее послушать, о чем судачат люди. Ручеллаи принимают активное участие в политической жизни Флоренции, и об этом всегда много разговоров дома. Хочу быть в курсе событий, чтобы мне было о чем рассказать родственникам за обедом.
— Уверен, ваш муж ценит ваши старания, — произнес я, не сумев скрыть резкости в голосе.
Маддалена вскинула голову и взглянула на меня, нахмурив брови.
— Я чем-то обидела вас, синьор? — спросила она, и по ее прелестному лицу разлилось беспокойство.
Я мотнул головой. Но не смог удержаться и ответил упреком:
— Я думал, вы дождетесь, когда я вернусь за вами в Вольтерру.
— Дождусь? — испуганно переспросила она. — Вы имеете в виду тот последний разговор, когда вы садились на коня… как его… Джинори… уезжая из Вольтерры?
— Вы звали меня вернуться. И я вам пообещал, что приеду.
Она покраснела, засмеялась и схватилась рукой за шею.
— Синьор, как я могла принять всерьез сказанное по доброте несчастной обиженной девочке!
Я ответил угрюмым взглядом, и она добавила:
— Вы же сказали это не всерьез, правда?
— Мы этого никогда не узнаем, не так ли? — с сарказмом ответил я.
Она долго смотрела на меня, озадаченно наморщив лоб. А потом отвела глаза, и, может, мне только показалось, но я заметил грусть в ее переливчатых глазах.
— Маддалена, Маддалена! Где ты там бродишь? — воскликнул знакомый голос.
К нам, обнажив меч, спешил Ринальдо Ручеллаи, сопровождаемый двумя вооруженными людьми, в которых я узнал друзей Лоренцо — один был родственником Ручеллаи, другой — член семейства Донати.
— Милая, тебе не стоит выходить на улицу, пока народ бунтует, — встревоженно укорил жену Ручеллаи, целуя ее в лоб.
«Какая трогательная сцена, как мило!» — подумал я.
— Среди заговорщиков есть вольтерранин. Тот, что ранил Лоренцо в шею, — вольтерранин, — продолжал Ручеллаи. — Тебе лучше переждать дома, чтобы никто не подумал, будто ты как-то связана с ним, и не отомстил тебе! Я не хочу, чтобы тебя убили на улицах Флоренции. Я же сойду с ума от горя, если потеряю тебя!
— На рынке, кажется, все спокойно, люди собрались, чтобы обменяться новостями, мне здесь ничего не грозит, — возразила Маддалена, обведя рукой толпу людей, которые без умолку говорили, перебивая друг друга.
— Это уж мне решать, теперь я в ответе за твою жизнь, моя Маддалена, — повелительно заявил Ручеллаи непререкаемым тоном, который был ему очень к лицу, соответствуя и внушительному росту, и коротко подстриженной седой бороде, и белоснежным волосам.
«Только послушайте его, — подумал я, — как он уверен в своих неоспоримых правах!» И снова во мне взыграла озлобленная ревность. Я потупил глаза, чтобы скрыть недобрые мысли. Правая рука налилась кровью, пальцы напряглись, готовые схватиться за меч.
— Это спокойствие ненадежно, синьора, — предупредил другой Ручеллаи, статный миловидный юноша, которого я часто встречал с Леонардо. — Из деревень стекается народ, чтобы присоединиться к мятежникам. Послушайтесь лучше мужа и посидите дома. Лоренцо де Медичи отправил свою жену и детей к друзьям в Пистою.
— Я могу сопроводить синьору до дома, — предложил я.
— Буду вам очень признателен, — отозвался Ринальдо Ручеллаи и в знак благодарности пожал мне руку. — Я вновь перед вами в долгу. Мне нужно заниматься делами Лоренцо, но вы же скоро отобедаете у нас, синьор Бастардо? Позвольте нам выразить наше уважение!
— Разумеется, — согласился я.
Все трое ушли, и мы с Маддаленой проводили их взглядом.
— Пойдемте, синьора, вам нужно подчиниться своему супругу и повелителю.
Она даже не взглянула на меня. Ее губы дрогнули, но тотчас же она успокоилась. «Маленький бунт — это хорошо, — подумал я. — Интересно, смогу ли я разжечь из этой вспышки костер?» Мне хотелось вбить клин между Маддаленой и дряхлеющим стариком, который был ее мужем. Я хотел, чтобы она знала: она достойна другого, лучшего.
— Я бы не стал властно приказывать своей жене, — ласково произнес я. — Я считаю, что муж должен дать жене возможность самой принимать решения.
— Тогда, возможно, ваша жена пострадала бы во время бунта на улице, — беспечно ответила она, взмахнув густыми черными ресницами.
Она незаметно покосилась на меня, почти кокетливо.
— Мой муж любит меня и поэтому так печется.
— Любить можно по-разному, и вовсе не обязательно держать жену под замком, — проворчал я, потому что мне не нравилось, как она его защищает, и я отчаянно хотел ей показать, как сильно бы я ее любил.
— Синьор Бастардо, я вовсе не сижу под замком, для меня удовольствие выполнять мужнюю волю. Он очень предусмотрительный человек, а сейчас не самые спокойные времена!
«Не одна лишь седина делает его предусмотрительным», — подумал я и на мгновение представил себе, как ей, полной жизни молодой женщине, должно быть, скучно в его объятиях. Со мной все было бы иначе. Вот я бы ей показал, как все должно происходить между мужчиной и женщиной. Но я промолчал. Я не подавал виду, хотя внутренне весь затрепетал, когда взял ее под руку, чтобы проводить до дома. Локоток ее был маленький и тонкий, как и все остальное. Косточки как у птички, и я восторженно держал их в руке. Если уж мне нельзя нигде больше к ней прикоснуться, то я хотя бы почувствовал, какой у нее локоток! Сквозь рукав.
— Я написал пьесу для моих детей, — говорил Лоренцо, когда слуги убрали десерт, — называется «Сан-Джованни и Сан-Паоло». Для каждого из них есть там роль, как и для меня. С ними так весело устраивать представление! Мы надеваем костюмы и играем перед их матерью, все от начала и до конца, а она смеется над нами всю пьесу. Я по ним очень соскучился. Добрая жена и много детей — величайшая благодать, какая дается нам в жизни. — Он сделал глоток вина и, не опуская кубка, смерил меня через весь стол язвительным взглядом сверкающих черных глаз. — Вам бы уже пора подумать о женитьбе, Лука. Вы богаты, у вас есть друзья в лучших семействах.
Он кивнул Ринальдо Ручеллаи, тот поклонился, польщенный вниманием Лоренцо. Лоренцо продолжил:
— Разве вам не давно уж пора обзаводиться семьей? Вы выглядите моложе своих лет, но любому человеку природой предназначено когда-то остепениться наконец и позаботиться о потомстве.
— С недавних пор я об этом подумываю, — признался я.
— С вашей красотой и хваленой мужественностью вам наверняка ужасно хочется иметь жену, — продолжил Лоренцо, играя со мной в давно знакомые «кошки-мышки». — Правду говорят сплетники, что вы иногда за одну ночь посещаете несколько женщин? Вот это неутомимость! Я вам искренне завидую!
Маддалена, сидевшая рядом с мужем во главе стола, опрокинула бокал с вином. Слуга бросился суетливо подтирать гранатовую жидкость.
— Мужественностью могут похвастаться многие флорентийцы, которые берут пример со своих предводителей, — ответил я, невозмутимо глядя на Лоренцо. — А я не придаю значения слухам.
— Возможно, он намеревается увековечить свое имя, — проскрипел Сандро Филипепи. — И Флоренцию наводнят бастарды! Лука, вы, наверное, сын энергичного мужчины и ненасытной женщины!
— Бастардов много, — ответил сидевший рядом со мной Леонардо. — А Лука один.
Дело было поздно вечером, и в столовой богато обставленного дворца Ринальдо Ручеллаи собралась дюжина гостей. Ужин закончился, все были сыты и довольны и повеселели от хорошего вина. Так как ужин давался прежде всего в мою честь, мое место было возле хозяев, рядом с Маддаленой, которая сидела по левую руку от Ручеллаи. Я находился достаточно близко от нее, чтобы весь вечер дышать ее духами с ароматом сирени и лимона, который просто сводил меня с ума. Лоренцо сидел по правую руку от Ручеллаи, напротив меня. После событий в Вольтерре мы впервые за шесть лет встретились в одной комнате и впервые заговорили друг с другом. Мне было не по себе. И Лоренцо с чутьем уличной крысы это чувствовал.
— Ну так как, Лука, собираетесь вы в недалеком будущем жениться? — не отставал от меня Лоренцо.
— Рано или поздно.
— А есть невесты на примете? — спросил Ручеллаи, заинтересовавшись.
Предполагаемые браки, связанные из-за приданого невесты с передачей крупных денежных сумм из одних рук в другие, всегда вызывали во Флоренции оживленный интерес.
— На примете нет, — ответил я.
— Я могла бы представить вас матерям некоторых очень милых девушек, с которыми знакома здесь во Флоренции, если вас, конечно, можно оторвать от ваших женщин, — ледяным тоном предложила Маддалена.
Я повернулся к ней, пораженный таким неожиданным предложением. Опустив длинные ресницы, она не дала мне прочесть свой взгляд. Пришлось напрячься, чтобы не выдать отвращения, вызванного ее словами. Коварный Лоренцо, заметив что-то, даже приподнялся на стуле.
— Думаю, наш дорогой Лука сейчас слишком занят превращением свинца в золото, чтобы думать о женитьбе, — беспечно произнес Леонардо, дабы отвлечь внимание гостей.
— Я слышала, что синьор Лука алхимик, — отозвалась Маддалена. — Как это интересно! Я бы хотела изучать алхимию!
— Лука был бы для вас отличным учителем, — ответил Леонардо, словно обращаясь к ней одной. — Он проводит в мастерской за работой дни напролет. Он читает и перечитывает «Герметический свод» в переводе Фичино. У него вся мастерская завалена трактатами алхимиков. Этот человек одержим главной тайной алхимии!
— Я думал, главная тайна алхимии заключается в бессмертии, — произнес Лоренцо, вертя в руке кубок.
Он изобразил на уродливом лице многозначительную улыбку, напоминая мне, что знает мои тайны.
— Ваш дед как-то сказал мне, что единственное бессмертие, на которое мы можем надеяться, — это любовь к другим людям, — ответил я, зная, что упоминание имени Козимо его затронет.
Лоренцо судорожно отодвинул от себя кубок, и Маддалена молча приказала слуге, чтобы он заново его наполнил.
— Мне хочется верить, что моим картинам суждено своего рода бессмертие и они будут неподвластны времени, как природа, — безмятежно вмешался Леонардо, вновь спасая меня от нежелательного внимания. — Живопись воплощает в себе все разнообразие природы. Поэтому так важно рисовать с натуры, учиться у природы. С этой целью я нанялмолодую крестьянку с ребенком, чтобы позировать мне для эскизов Мадонны с младенцем. Эта крестьянка внешне необычайно красива, и я хотел бы запечатлеть сущность ее красоты, чтобы она приводила в восторг зрителя. И не только красоту, но и загадку женственности и обаяния!
— Бессмертна душа, обращенная к Богу и движимая любовью, — заговорил Сандро. — В этом ее обаяние, в той силе, что ею движет. Как говорит Фичино, душа столь восприимчива к красоте, что земная красота становится средством обретения небесной красоты, сущность которой есть вечная гармония и добро.
— Если кто-то и сможет нарисовать божественную красоту, то это будете вы, Леонардо, — тепло сказала Маддалена, и я полюбил ее еще больше за то, что она поддержала Леонардо.
— А я должен считать себя грубым, второсортным ремесленником, которому отказано в благосклонности природы, как мужу, жена которого смыкает колени! — воскликнул Сандро.
— Нет, синьор Филипепи, вовсе не это я имела в виду, ваши работы полны очарования! — горячо отозвалась Маддалена. — Мне нравится ваше «Поклонение волхвов» в Санта Мария Новелла. Эта картина прекрасна, и такое сияние исходит от звезды над нимбом младенца Иисуса, его так нежно держит на коленях мать, и вы так точно уловили взволнованное лицо Козимо де Медичи, изобразив его в образе мудреца, и синьора Лоренцо, и блистательного юного Пико делла Мирандола, коего так высоко ставит Фичино…
— Синьора, не обращайте внимания на Сандро, это великий лукавец, который умеет играть на вашей отзывчивости, — любезно проговорил Леонардо, улыбаясь Маддалене.
— Ну вот! Испортили мне шутку! — проворчал Сандро, но с большой охотой поднял кубок в честь Маддалены.
— Сами знаете, что нужно делать с женой, которая смыкает колени, — совершенно серьезно проговорил Лоренцо. — Перевернуть ее на живот!
Сандро загоготал, Леонардо подавился вином, стараясь не рассмеяться, а Ринальдо Ручеллаи покраснел и улыбнулся под аккуратной седой бородкой. Что же до Маддалены, то она и бровью не повела, сохранив достоинство.
— Бедняжка Кларисса, я выражу ей свое сочувствие, если увижу, что она хромает, — сказала она совершенно невозмутимым тоном.
Ее замечание вызвало дружный смех за столом, и только когда на другом конце стола жены Донати и Томмазо Содерини захлопали и закричали: «Браво, брависсимо!», она покраснела и потупила взор. Она была так восхитительна в тот момент, что я совсем потерял голову и едва мог сдержаться, чтобы не дотронуться до нее.
— Тост за вашу жену, Ручеллаи, она столь же остроумна, сколь и прекрасна! — зааплодировал Сандро.
— Она — сокровище! — согласился Ручеллаи и пожал ее руку.
Я вцепился взглядом в его руку и представил, как отпилил бы ее тупым лезвием. А Ручеллаи сказал:
— Мне бы хотелось заказать портрет Маддалены, Сандро! Может быть, потом мы это обсудим?
— Кстати о портретах, мне нравится твой портрет Джиневры де Бенчи,[526] Леонардо, — заметил Лоренцо. — Такое тонкое письмо, и эти веки! Ее лицо будто светится! Я бы хотел заказать портрет моей Клариссы. Она все еще очень мила, а из-под вашей кисти вышла бы чудесная работа!
По лицу его было видно, что он гордится своей римской принцессой, хотя эта гордость и не мешала ему заводить шашни с другими женщинами. Я подумал, что, если бы Маддалена была моей женой, для меня не существовала бы больше ни одна женщина.
— Мы хотим раздать заказы на портреты изменников которые будут помещены на одной стене Палаццо дель Капитано дель Пополо, дабы публично заклеймить их позором. А вы двое не хотели бы принять участие? По сорок флоринов за лицо?
— Я сейчас слишком занят, — уклончиво ответил Леонардо, и его опущенный взгляд нашел мои глаза.
— А я согласен! По сорок флоринов за фигуру я готов нарисовать каждого уличного мальчику во Флоренции, — охотно отозвался Сандро.
— Я как-то слышал, что эту традицию рисовать уличных босяков ввел Джотто, — вставил Лоренцо и, откинувшись в кресле, постучал пальцами по столу.
— Такой заказ мог бы предложить несравненный Козимо, который славился щедростью и чувством гражданского долга, — сказал я и, подражая Лоренцо, тоже застучал по столу.
— Великолепие работ Джотто заключается в том, что он рисовал только с натуры, начиная с детства, когда он был пастухом и рисовал овец и коз в горах! — настойчиво произнес Леонардо, и они с Сандро завели разговор о значении натуры в живописи.
Я их не слушал, а наблюдал за тем, как Маддалена ведет беседу. За минуту на ее прекрасном, выразительном лице пробежало, сменяя друг друга, множество эмоций, мыслей, идей и мнений, словно звуки, льющиеся со струн лиры. И ее нежные руки тоже жили одушевленной жизнью, подкрепляя жестами слова, прикасаясь к руке мужа, напоминая слугам, чтобы они наполняли кубки. Я не хотел слишком пристально смотреть на нее, но ничего не мог поделать с собой и нашел в себе силы опустить глаза лишь после того, как почувствовал, что кто-то под столом надавил на мою ногу. Это был Леонардо. С этой минуты я старался любоваться ею только краем глаза. В основном.
Мы с Леонардо уходили последними. У высоких резных дверей дворца Ручеллаи мы на прощание поблагодарили хозяев.
— Синьор Лука, я поговорила с мужем о том, чтобы учиться у вас. Он согласен, если, конечно, у вас найдется время, — сказала мне Маддалена.
Она стояла рядом с мужем в дверях, и тающий свет от свечей из вестибюля мягко обрисовывал стройные линии ее тела.
— Разумеется, я буду платить вам за потраченное время, — подтвердил Ручеллаи.
Я хотел было сказать, чтобы он пошел и зарезался за мое потраченное время, но Леонардо обхватил меня за плечи и выпихнул с крыльца на улицу.
— Над этим надо подумать, — ответил за меня Леонардо. — Еще раз спасибо за превосходнейший ужин!
Я помахал рукой, и они попрощались, а я все смотрел на дверь, когда она захлопнулась, оставив меня снаружи, а Маддалену внутри — наедине с мужчиной, ее мужем. Вероятно, он сейчас возьмет ее за руку и поведет в спальню. На его месте я бы, по крайней мере, так и сделал. Правда, он уже стар, и, может быть, его кровь сейчас остынет, и он не станет раздевать ее медленно, чтобы с наслаждением обнажить каждый кусочек ее идеальной кожи, упругую грудь и тонкую талию.
— Прекратите! — резко оборвал мои мысли Леонардо. — Лука, на вас жалко смотреть! — Он схватил меня за плечо камзола и встряхнул разок, уводя прочь от дома по освещенной луной улице. — Красота этой женщины превратила вас в мальчишку!
— Думаешь, кто-нибудь еще заметил? — спросил я.
Леонардо усмехнулся и покачал головой.
— Быть может, Лоренцо. Он ничего не упустит.
— Никогда она не станет моей, — печально произнес я, и мы какое-то время шли молча.
Грудь мою давила тоска, точно кожаный ремень, затянутый слишком туго. Для меня она неприкасаема. Как я мог подобраться к любви так близко и быть отвергнутым? Я поднял глаза к иссиня-черному небу, усыпанному молочными звездами.
— Ну не будет! И что же в этом такого… как вы там выражаетесь, мой Лука… э… нестерпимого? — спросил Леонардо.
Он резко остановился и повернулся ко мне, взял меня за руки и, обхватив их ладонями, поднял наши руки вверх. Лунный свет серебрил его золотисто-рыжие волосы, окружив его голову расплывчатым нимбом, как у святого. Он впился в меня настойчивым, пристальным взглядом, словно стараясь проникнуть в мои мысли.
— Леонардо? — неуверенно промямлил я, и он отпустил мою руку.
— Неужели вы не понимаете, что я чувствую к вам? — тихо спросил он, глядя на меня с высоты своего роста. — Что я чувствую с того самого дня, когда увидел, как вы, прекраснее ангела, поднимаетесь по склону Монте Альбано к моей пещере? Все эти годы я любил вас. Только вас, Лука. А вы представляете, что могло бы быть между нами?
Он прерывисто дышал, и я чувствовал, как просыпается в нем мужская чувственность, сокровенное эротическое начало. Он был возбужден и одновременно нежен, его через край переполняла сила и незащищенность человека, который предлагал себя мне. И, как ни странно, отвращения я не испытал. После того, что я пережил ребенком у Сильвано, я думал, что от подобного меня просто стошнит, я приду в бешенство, не выдержу и схвачусь за кинжал, который носил на бедре. Но это же Леонардо, которого я люблю! Ничто в нем не вызывало у меня омерзения. Я был тронут его искренностью, которую очень ценил, и прямотой, с которой он не побоялся открыться мне, — у меня бы никогда не хватило на это духу.
— Нет, мальчик мой, я не такой, — тихо ответил я, но не отпрянул.
Я просто стоял, ощущая свою пробудившуюся чувственность, но она была наполнена Маддаленой, и, возможно, это произошло с самого первого дня нашей встречи, когда я увидел эту прелестную девочку, храбро перенесшую страдания. Я знал, какие ужасы она пережила, когда ее изнасиловали два кондотьера. Точно такой же ужас запечатлелся в моей памяти и навсегда отразился на всем моем существе. Я видел, как она помогала другим детям. Я тоже пытался делать это когда-то у Сильвано. Оставшись без отца, она оказалась одна в целом свете, так же как я. И я видел, как она сумела пережить обрушившееся на нее зло, сохранив несломленный дух. Я знал, чего это стоит. Я понимал ее и все эти годы ждал именно ту, кто сможет понять меня. Только женщина, перенесшая такие же зверства и сохранившая себя теми же средствами, что и я, могла бы меня понять.
— Ты не такой, как я! — с надрывом воскликнул он. — Я люблю тебя, но это невозможно, потому что ты не такой, как я, ни на йоту!
В голосе его звучала нестерпимая боль. Я остался стоять неподвижно и только кивнул. Он отшатнулся от меня, как от ползучего гада. Затем выпрямился и гордо вскинул благородную голову.
— Все равно это пустая трата времени. У меня много работы, мне нужно писать, наблюдать, изучать анатомию. Чувственность только помешала бы в моих трудах. А страсть к знаниям прогоняет из головы чувственность.
Его отрешенный взгляд был направлен куда-то в пустоту.
— Леонардо, ты еще полюбишь, — тихо ответил я, чувствуя жалость.
— Я все равно скоро уеду из Флоренции. Может быть, в Милан или в Венецию. Есть кое-какие задумки насчет нового оружия, — произнес он, точно говоря сам с собой.
Он ускорил шаг, и мне пришлось его догонять.
— Задумки об изобретениях… Напишу письмо, посмотрим, куда можно устроиться. Но не сейчас.
— Леонардо, мы всегда останемся друзьями, — ответил я.
Он шел, не сбавляя шага, и я помедлил у поворота на мою улицу. Он оглянулся через плечо, увидел, что я сейчас сверну, и остановился.
— А ты, Лука? Ты? Полюбишь снова? Если Маддалена не станет твоей? — спросил он с такой горечью в певучем голосе, какой я не слышал ни до, ни после этого разговора.
Я не ответил, потому что ответ был очевиден. Для меня существует лишь Маддалена. Отныне, если она не станет моей, женщины для меня перестанут существовать.
Леонардо кивнул:
— Я так и думал! Любовь бывает лишь однажды — и на всю жизнь!
ГЛАВА 22
Несколько недель спустя я столкнулся с Маддаленой в дверях аптеки неподалеку от церкви Санта Мария Новелла, фасад которой двадцать лет назад обновил Альберти. Средства на реконструкцию выделил Джованни Ручеллаи, двоюродный брат Ринальдо. Своей реконструкцией Альберти добился того, к чему стремились гуманисты, а возможно, и все мы остальные тоже. Он сумел слить прошлое с настоящим. Он сумел соединить традиционные для церквей витраж-розу, замысловатую инкрустацию по дереву и арочные ниши с классическим стилем в духе нашего времени. Он использовал острые арки для обрамления ниш, колонны, чтобы создать устремленность здания ввысь, и увенчал центральную арку цилиндрическим сводом. Он мастерски включил симметричные геометрические узоры и увенчал их треугольным фронтоном, напоминающим древнегреческие и древнеримские храмы, которые, как утверждал Фичино, несли поколениям истину. Меня интересовала не столько истина Фичино, сколько выдающаяся работа мастера, заключенная в этой церкви. И, оказываясь поблизости, я заходил в доминиканскую церковь полюбоваться чудесной фреской Мазаччо «Троица». Эта фреска восхищала меня пристальным вниманием к архитектуре и перспективе и спокойной треугольной композицией, увенчанной изображением Бога Отца, возвышавшегося над распятием, в середине которого располагалось изображение Христа. Я, конечно, затруднялся поверить в то, что Бог Отец выглядит именно так, как на этой фреске. Каким бы ни был Бог, я был склонен представлять его бестелесным смехом, а не белобородым старцем. Хотя, возможно, если бы художник изобразил его смеющимся, я бы в него поверил.
А в той самой аптекарской лавке в западной части города неподалеку от мощных городских стен можно было купить разнообразные склянки и мензурки, а я до сих пор восполнял утраченное во время учиненного мною разгрома. Я остановился на пороге и, бросив взгляд через плечо на церковь, стоящую по другую сторону площади, вошел в аптеку.
— Лука! — окликнул меня сзади грудной, манящий голос.
Я закрыл глаза и ничего не ответил, тогда она повторила мое имя, и я смог насладиться им на ее устах.
— Лука Бастардо!
— Маддалена, — выдохнул я и обернулся.
Она быстро шла мне навстречу через площадь, которая до сих пор серела прошлогодней травой. Сегодня на Маддалене было бледно-зеленое парчовое платье с желто-голубыми рукавами и алой вышивкой. Ее плотный шерстяной плащ светло-пурпурного цвета был оторочен белым мехом. Все на ней искрилось и переливалось многоцветными красками, как она сама, поэтому наряд был ей очень к лицу.
— Мне нужно поговорить с вами, — сказала она, остановившись на краю площади.
Я подошел к ней, не в силах усмирить биение сердца и судорожное дыхание. Я остановился чуть поодаль, потому что не смог бы контролировать себя, если бы приблизился к ней. Я готов был схватить ее в охапку и покрыть все лицо и шею поцелуями, осыпав ее мольбами и обещаниями.
— Я знаю о ваших чувствах ко мне, синьор.
— Правда?
— Да. Но это разговор не для посторонних ушей. И это меня тревожит. Я хотела учиться у вас алхимии. Мой муж не заметил, как вы на меня смотрите, и согласился. Он хороший человек, и я никогда не опозорю его. — Ее многоцветные глаза смотрели совершенно серьезно, и мне показалось, что сегодня я вижу в них отблески серо-зеленого, каким бывает Арно, когда выходит из берегов и смывает мосты. — Он заслуживает моей преданности, несмотря ни на что. Я перед ним в неоплатном долгу и бесконечно благодарна ему за то, что он женился на мне, невзирая на обстоятельства, которые оттолкнули бы всякого другого мужчину.
— Не всякого, — перебил я. — Меня бы это не оттолкнуло.
Она покраснела, но продолжила, не обращая внимания на мои слова:
— У меня не было семьи, не было приданого. Я могла предложить только себя. И все же каждый день Ринальдо дает мне почувствовать, как он рад, что женился на мне. Я благодарна ему и всегда буду благодарна. Я надеюсь родить ему много детей и принести ему гордость и счастье.
Разумеется, Маддалена, как ему не радоваться? Предложив себя, ты отдала ему все. И снова тянущая боль терзала мое сердце, но я отмахнулся от нее. Ведь она разговаривает со мной!
— А чего вы хотите от меня?
— Я хочу, чтобы вы стали моим учителем и в дальнейшем строго соблюдали приличия. Только попробуйте еще раз отослать мою служанку! Во мне есть неутолимая жажда к знаниям. Я поздно пришла к этому и думаю, что наука как раз для меня. Я хочу быть достойной уважения, как другие флорентийские женщины из благородных семей, получившие блестящее образование. Я хочу, чтобы вы научили меня всему, что знаете сами!
Она порывисто шагнула ко мне, чуть раскрыв губы, и я увидел розовый кончик ее языка. Интересно, какой у него вкус? На меня пахнуло ее нежным лимонно-сиреневым ароматом.
— Не образованием определяется достоинство человека. Оно дано нам от рождения, а от нас зависит, упрочим мы его или потеряем, — ответил я.
Собственно, именно это я понял за свою чертовски долгую жизнь и хотел передать этот дар Маддалене, как бы она его ни оценила.
— Мне нужно доказать это самой себе. Я пожал плечами:
— Я неудавшийся алхимик.
— Я всем сердцем уважаю Леонардо. Это удивительный и необыкновенный человек. Он говорит, что вы лучший алхимик, которого он знает, после Фичино, конечно. Но Фичино слишком занятой и слишком важный человек, чтобы быть моим учителем.
— А я совсем не важный, — мрачно улыбнулся я и уставился на зелено-белый фасад Санта Мария Новелла, чтобы хоть как-то отвлечься и не выдать неприкрытого голода в глазах.
— Я не то имела в виду! — воскликнула она. — Вы очень, очень важный человек, я уверена. Когда я говорю о вас или расспрашиваю у людей…
— Зачем вы расспрашиваете обо мне людей, Маддалена? Что вы хотите знать? Я могу сам вам все, что угодно, рассказать. Все, что хотите. Вам стоит только попросить.
— Прошу вас, синьор, позвольте мне объяснить! — Маддалена покачала головой и отчаянно покраснела. — Фичино возглавляет Платоновскую академию. Люди говорят, что вы держитесь обособленно и открываетесь только немногим друзьям. Вы не любите появляться на людях. Именно это я называю «важным».
— Я понял, что вы хотели сказать.
— А знать я хочу, можете ли вы меня научить. Как друг и только друг, всегда помня о том, что я замужем и верна мужу!
Нет, кричало мое тело и душа, и разум, и каждая клеточка.
— Да, — вслух ответил я.
Вновь переведя взгляд на нее, я поклялся, что всегда буду говорить ей только «да». Если я не могу подарить Маддалене любовь, то в моей власти было дать ей другое — уверенность в том, что я всегда исполню любое ее желание. Каким бы оно ни было.
Прекрасное лицо Маддалены озарилось счастьем, и она в порыве радости коснулась рукой моей груди. А потом заметила, что делает, и торопливо отдернула руку.
— Благодарю вас, синьор! Может быть, начнем завтра? Я приду после завтрака к вам домой. Мне что-нибудь принести с собой? Мой муж разрешил мне покупать все, что понадобится для моих занятий!
— Приходите сама. Этого достаточно, — ответил я, и ее широкий, подвижный рот открылся в улыбке.
Она повернулась и бегом умчалась через площадь, как девочка. Впрочем, восемнадцать лет — это не так уж и много, хотя к этим годам почти каждая флорентийка с приданым уже была замужем. К ней поспешила служанка, но Маддалена не замедлила бега, и тучная женщина пустилась следом, когда ее хозяйка скрылась за углом церкви. Я подумал, не пойти ли мне в церковь помолиться. Молиться не входило в мои привычки, но сейчас для этого было самое время. Помолиться о понимании, об ответе, о том, чтобы Ринальдо Ручеллаи скоропостижно умер, помолиться за возможность обнять Маддалену хотя бы на несколько секунд. Пока я раздумывал, мимо пронеслась орава детей, которые гоняли деревянное колесо. Сытые и хорошо одетые в добротную шерстяную одежду, хохочущие. Пробегая мимо, одна девочка обернулась, взмахнув белокурыми косичками, в ее глазах плясали смешинки.
— Вот умора! — крикнула она, указывая куда-то, но куда, я не видел.
Потом я понял, что это и не важно. Ее слова были знаком: Бог дал мне понять, что шутка в самом разгаре. И, как обычно, ее предметом был я. Какая разница, молюсь я или нет! Под поверхностью всего скрывается плотно сплетенная ткань смысла. И в этом состояла самая главная шутка.
Когда я стал другом Маддалены и начал обучать ее алхимии, я был так поражен ее красотой, что боготворил ее. Она казалась мне недосягаемой королевой или богиней, и я ожидал, что она будет понятливой, покорной ученицей, уважающей учителя и готовой ему угодить. Я тешил себя надеждой, что она будет являться каждый день в облаке собственной красоты, подобно Афродите на раковине, а потом так же послушно принимать поучения хранителя высшего знания, как лист пергамента принимает все, что пишет на нем перо. Но все это, конечно, были только иллюзии. Короткий и сладостный отрезок времени, когда она была моей ученицей, показал мне, что она такая же женщина, как все: сложная, умная, вспыльчивая, своенравная, смешливая, колкая, чуткая, норовистая, мягкая, медлительная, нетерпеливая и упрямая — смотря по настроению. Как ученица она напоминала мне норовистую кобылку. Я предлагал ей идею, и если она ей нравилась или если я с достаточной твердостью предъявлял аргументы, доказывающие ее важность, Маддалена резво шла, куда я ее направлял. И что за красоту излучал ее ум, когда она проверяла, анализировала и вставляла комментарии! Но если я не находил нужного подхода, как с ней поладить, она взбрыкивала, огорошивая меня неожиданными вопросами и язвительными замечаниями, и я плюхался в лужу, выбитый из седла. Потом она спускалась с лестницы, победоносно удалялась из моего дома, покачивая «крупом» тем только ей присущим упоительным движением, которое сводило меня с ума. Это зрелище я мог наблюдать лишь мельком, потому что мощная служанка, ходившая за ней по пятам, сразу же загораживала мне вид.
Несколько лет мы встречались раз или два в неделю, если она была во Флоренции. Когда Маддалена уезжала с мужем на загородную виллу, я подолгу ее не видал, и это печальное одиночество могло растянуться на целый месяц. Я начинал урок с упражнений в латыни, поскольку она знала ее в пределах церковной службы, а большинство текстов по алхимии, включая «Герметический свод» в переводе Фичино, были написаны на латыни. Маддалена оказалась сообразительной и через год освоила латынь лучше меня. Если я путался со склонением или спряжением, она радостно смеялась, носилась по комнате, цокая каблучками, и беспощадно дразнила меня весь остальной урок. Ничего удивительного — ведь в дополнение к моим урокам муж покупал ей рукописи и книги на латыни, и это было ее тайным оружием.
Та же самая история произошла, когда я начал обучать ее астрологии, то есть как только Фичино закончил объяснять ее мне. Она схватила метафорический смысл двенадцати знаков зодиака, двенадцати домов и семи планет гораздо быстрее и глубже, чем я с моей склонностью к буквальному пониманию. Для меня Лев был роскошным надменным животным, а Стрелец — человеком, который стреляет из лука. А для Маддалены Лев — это арена жизни, где проявляется величие души, а Стрелец означал душевный поиск. Я видел в красном Марсе грозного предвестника войны и разрушений; она же видела в нем деятельное душевное начало, способное обернуться беспорядком и разрушением. Для меня Венера была богиней любви и красоты, воплощенной в самой Маддалене, хотя я и не говорил этого вслух. А для нее Венера означала способность любить и ценить красоту. В ее представлении вещественным миром управляли звезды, то есть законы астрологии, в том смысле, что человек всегда ищет откровения, постижения божественного начала и спасения души. Я же хотел знать, когда случатся конкретные события, чтобы соответственно строить свои планы. Я справлялся с гороскопом, как с часами на колокольне. А Маддалена видела, что на вещественном мире лежит печать божественного. Для нее земная жизнь протекала, движимая божественным духом, звезды были живыми божественными созданиями, солнце горело божественным огнем, и все в природе было прекрасно, потому что все в ней — часть Бога. По правде сказать, она быстро превзошла меня в астрологии. Я занимался наукой звезд только ради достижения одной цели — научиться превращать свинец в золото. Я думал, что звезды подскажут мне, когда у меня наконец все получится. А Маддалена смотрела на небо так, как, наверное, и следовало — видя в нем карту души.
Согласно желанию Маддалены я составил для нее план занятий. В этом отношении она была непохожа на Леонардо. Он взял меня себе в учителя, но на самом деле я выполнял другое назначение, помогая ему в изучении всего, что его занимало, и сопутствуя ему как товарищ в избранных предприятиях. Я гордился тем, что вовремя удержал юного Леонардо от попыток проверить свои теории полета на самом себе, спрыгнув с утеса. Маддалена не пыталась никуда прыгнуть. В ее разуме все было разложено по полочкам, и она хотела подниматься к знаниям постепенно. И я с радостью шел ей навстречу. Еще я хотел растянуть подольше период нашего обучения. Я не стал сразу переходить к той алхимии, которой занимался в своей лаборатории, связанной с кислотами, металлами, растворами и аппаратами. Я предпочел окольный путь. Мы часто обсуждали политику, потому что Маддалена проявляла к ней горячий интерес. Мы спорили о значении объявленного Папой Римским после неудавшегося покушения на Лоренцо отлучения Флоренции. Спорили об угрозе со стороны Калабрии и смуглокожего Лодовико Сфорцы из Милана; о введении непосильных налогов из-за войны с герцогом Калабрийским; обсуждали побег Лоренцо де Медичи в Неаполь и вторжение турецкой армии в Отранто, на далеком юге. Маддалена обладала живым умом и на все имела свой взгляд. Иногда весь наш урок проходил в политической беседе, а я был рад, что мы не продвинулись дальше в алхимии и конец обучения еще далек.
В дальнейшем, освоившись с латынью и начатками греческого и без спешки хорошенько поработав над астрологией, я собирался перейти с Маддаленой к чтению и разбору великих трудов по алхимии, таких как Ars Magna Раймунда Луллия.[527] Я однажды достал эти книги перед ее приходом в мою мастерскую. Однако когда Маддалена пришла тем утром со своей служанкой, я ничего не сказал. Стоя возле воссозданного керотакиса, я дождался, пока она уселась напротив меня на низенький табурет, а пышная служанка принялась за вышивку. Маддалена выжидательно смотрела на меня, но я по-прежнему молчал. Я ждал. Наконец она проговорила:
— Я вижу рукописи. Что это такое?
— Алхимия — это поиск несуществующего, искусство изменений, поиск божественной силы, скрытой в предметах, — торжественно произнес я.
— И какое отношение это имеет к рукописям? — требовательно спросила она, и на ее милом личике в форме сердечка проступило недовольное, отчужденное выражение.
Я торопливо отскочил в сторону — на случай, если она запустит в меня чем-нибудь. Однажды это уже случилось, когда я поправил ее ошибку в греческом спряжении и она обиделась.
Тогда она сказала:
— Надеюсь, среди них есть работа Фичино. Я уже готова ее изучать, потратив два года на латынь и астрологию!
— Велите ему дать вам эту книгу, — прогудел знакомый голос, которого я давно уже не слышал.
Я улыбнулся. Маддалена обернулась, и служанка тоже любопытно вытянула шею из-за вышивки.
— С чего бы это так долго приходилось ждать самого лучшего? Вы его спрашивали? — продолжал Странник с порога, где он остановился, заслонив дверной проем своей широкоплечей фигурой.
Он неуклюже вошел и плюхнулся на табурет рядом с Маддаленой. Она во все глаза смотрела на него, он взглянул ей прямо в лицо. Посмотрев, она потянулась рукой к его черно-белой бороде. Он рассмеялся и отодвинулся, уворачиваясь от ее руки.
— И долго вы ее отращивали? — нисколько не обидевшись, спросила она.
— А сколько требуется на любую хорошую работу?
— Это зависит от работы, — ответила она, нахмурив черные брови. — Иногда несколько дней, а бывает, и сотни лет. Это может быть мгновение или целое тысячелетие!
— Вот именно! — ответил он, расправив залатанную серую тунику.
— Ты поставил своего грязного осла в конюшню, Странник? — спросил я вместо приветствия.
— Да как я мог его так оскорбить! Он внизу, в вестибюле! — ответил Странник.
Я не понял, шутит он или нет, потому что, когда дело касалось Странника, не было ничего невозможного. Так что пришлось махнуть служанке, чтобы она сбегала вниз и проверила. Странник улыбнулся до ушей и протянул мне толстую книгу в кожаном переплете с блестящими золотыми краями.
— Summa Perfectionis,[528] — прочел я и вдруг завопил, поняв, что я держу в руках. — Манускрипт Гебера, труд всей его жизни! Ты ее опубликовал!
— Что это за манускрипт? — спросила Маддалена. — И откуда вы о нем знаете? Это текст по алхимии? Почему вы раньше о нем никогда не упоминали? А Фичино о нем знает?
— Чего только не знает этот Бастардо!.. А вы когда-нибудь говорили ей о консоламентуме? — спросил Странник.
— Консоламентум? Что это? — в свою очередь спросила Маддалена, и глаза ее тут же загорелись, как у сокола.
Странник махнул в мою сторону.
— Ну же, рассказывайте, Лука! — потребовала она.
— Это передача души или духа, что-то в таком роде, — со вздохом ответил я. — Это проходит через руки и исцеляет больных.
— Это когда в руках появляется теплое покалывание и все вокруг становится ярким и расплывчатым! — воскликнула Маддалена. — Вы передали мне утешение тогда в Вольтерре, в тот ужасный день! И мне стало немного лучше! Может, это даже спасло мне жизнь, потому что, когда меня потом одолевала ужасная тоска, я вспоминала об этом и начинала надеяться, что все пройдет и мне станет лучше.
Она одарила меня нежным взглядом, хотя словно поневоле, как будто не смогла удержаться. И я растаял.
— В вестибюле осел! — крикнула с лестницы служанка.
Странник расхохотался, развалясь в кресле. Глаза у него сверкали, бородища тряслась, точно пушистый зверь на бегу. Маддалена, которая, как и Леонардо, отличалась ненасытной любознательностью, вскочила с табурета и бросилась вниз.
Особенно я дорожил одним моментом, который был для меня большой победой. Даже сейчас, когда я о нем вспоминаю, на меня накатывает волна тепла и радости. Это случилось во время народных гуляний, устроенных на деньги Лоренцо ради поднятия духа флорентийцев после заговора Пацци. В месяц перед постом состоялся роскошный бал-маскарад. Веселье началось с утра, но я пришел на закате, когда свет стал прозрачным и небо окрасилось в пурпур, излучая аромат сирени. Как и все, я надел маскарадный костюм. На мне была кожаная форма кондотьера, а лицо скрывалось под черной маской. Я был приглашен на несколько пирушек, и по крайней мере одна из них должна была перейти в оргию, но я был слишком подавлен, чтобы принять приглашение. В тот день, пока народ веселился и предавался разгулу, я предпочел остаться наедине с моими мыслями о Маддалене.
Я купил у торговца флягу вина и отправился вдоль берегов жемчужного Арно, наслаждаясь звоном лир, пением флейт, воплями труб, барабанной дробью, голосами певцов и визгами, эхом отдававшимися от каменных стен. По улицам в маскарадных костюмах гуляли компании знатной молодежи, распевая срамные баллады, способные смутить неаполитанского моряка. По Виа-Ларга двигалось шествие с живыми картинами по рисункам Леонардо, установленными на повозках. Некоторые картины, в которых перед декорациями из оштукатуренных щитов выступали живые актеры, представляли сцены из «Поклонения волхвов». Разумеется, это была дань дому Медичи, которые считали себя волхвами Флоренции. Но и это не было единственным развлечением: по всему городу шли гулянья. На Старом рынке устроили массовые пляски. На площадь Синьории выпустили побродить диких животных, а по улицам скакали лошади без наездников с колокольчиками на шее. И все же ни один бык или кабан не буйствовал так, как флорентийцы, ведь сегодня можно было нарушать все обычные правила. Всем хотелось погулять напропалую, и все пользовались этой возможностью.
Я не стремился посмотреть на шествие, после того как до изнурения обсуждал его с Леонардо. Он с самого начала показывал мне наброски живых картин. Я даже видел, как их выполняли в натуральную величину, следуя указаниям требовательного художника. Так что теперь я праздно шатался по Понте Тринита, попивал вино, мечтая оказаться сейчас рядом с Маддаленой. Одиночество мое было вдвойне тягостным потому, что я был не только уродцем с сомнительным прошлым, вдобавок я был еще и одинок и обещанная мне великая любовь не могла стать моей. Мимо меня промчалась необычайно статная черная кобыла. И вдруг откуда ни возьмись на меня налетела женщина в роскошном платье, украшенном перьями, мехом и драгоценными камнями. Она долго бежала и совсем запыхалась.
— Привет, незнакомец! — засмеялась она, и я тут же узнал ее низкий грудной голос.
Я ничего не ответил и просто смотрел на нее. Ее лицо было скрыто под фантастической, украшенной перьями и, видимо, очень дорогой маской, а волосы были спрятаны под такой же экстравагантной шляпкой в виде морды дикой кошки. Но я бы узнал эти стройные формы где угодно. Она захохотала и помахала у меня перед носом меховой перчаткой. Интересно, сколько ей пришлось выпить, подумал я.
— Ты со мной не поздороваешься?
— О да! — ответил я, обхватил ее за талию, притянул к себе и поцеловал, не обращая внимания на маску.
Она разомкнула губы, и я ощутил сладкий вкус вина на языке. Еще она ела что-то сладкое, у нее во рту остался вкус меда. Каждая частица моего существа истосковалась по этому поцелую, и я сполна воспользовался подвернувшейся возможностью. Она растаяла в моих руках и обняла меня за бедра. Я чуть не занялся с ней любовью прямо там, на мосту. Наконец пришлось ее выпустить. На руках моих и на груди волшебной пеленой остался аромат сирени, лимона и бодрящего весеннего утра. У Маддалены подкосились ноги, и она чуть не упала. Я подхватил ее под локоть и поддержал.
— Я не то имела в виду, — вздохнула она.
— Я знаю, что вы имели в виду.
— Я хочу еще! — пьяно попросила она и шагнула ко мне. Я уже собрался выполнить ее желание, когда нас окружила веселая толпа людей, одетых в звериные маски.
— Глядите, солдат! — крикнул другой знакомый голос.
Это был Ринальдо Ручеллаи. На нем была шляпа в виде львиной головы и балахон из коричневого меха. Он чуть не повалился на меня, и я отошел от его жены.
— Вы кого-нибудь сегодня убили, солдат? — весело спросил он пьяным голосом.
— Еще нет, — ответил я. — Но как раз собираюсь это сделать.
Мои слова были встречены бурным смехом, и толпа, окружив Маддалену, удалилась туда, откуда я только что пришел. Один раз она обернулась, посмотрела на меня и подняла руку в меховой перчатке, я кивнул.
Во время уроков мы никогда не говорили о том случае, потому что таких пернатых существ, которых встречаешь на карнавале, не полагается узнавать в лицо. Да и она не была единственной, кто в ту сказочную ночь был одет в перья. Позже, на другом мосту, когда звезды высыпали на темно-синем небе, точно их вытряхнули из одеяла, я после обильных возлияний лицом к лицу столкнулся с мальчиком. Я уже видел его однажды. Его узкое лицо, острый нос и выступающий подбородок нельзя было не узнать. Ему было уже около десяти лет, он был чуть старше, чем я в то время, когда его предок сделал меня пленником своего борделя. На его рубахе были нашиты красные перья, он тоже меня узнал и взглянул с нескрываемым презрением.
— Лука Бастардо, — произнес он и отсалютовал.
— Джерардо Сильвано, — отозвался я.
— До скорого, — кивнул он, теребя красное перышко на груди, и отошел.
Кровь моя похолодела, но я ни разу не пожалел о том, что вышел на улицу в ту ночь, потому что ради нескольких мгновений в объятиях Маддалены не жалко было даже умереть.
Всему на свете когда-нибудь приходит конец, даже мне, а любой конец предполагает начало. Здесь, в своей клетке, в ожидании казни, я не знаю, каким будет начало после того, как меня сожгут на костре. Но я знаю, что начало будет. И драгоценные часы, проведенные с ученицей Маддаленой, тоже пришли к концу. Миновало совсем немного времени после карнавала, и вот раздался стук в дверь. Стояла поздняя ночь, и на мне была только рубаха, которая свободно свисала с плеч. Я шел из мастерской, все слуги куда-то подевались, поэтому я спустился с лестницы, открыл скрипучую дверь и выглянул на улицу. За дверью стояла Маддалена — одна, без служанки. На ней была только синяя шерстяная накидка поверх простой бледно-розовой сорочки. Я никогда не видел ее в таком интимном облачении, и у меня дыхание перехватило. На спине и на лбу выступил пот. Я вздрогнул. Сквозь полупрозрачную ткань сорочки видны были очертания ее груди и сочные темные пятнышки сосков. Она пришла, чтобы остаться со мной, решил я, охваченный радостью. Она бросила Ручеллаи и пришла ко мне! Мое терпение принесло плоды. По всему телу у меня разлилась вдруг такая легкость, какой я никогда еще не испытывал. От нее кружилась голова. Я таял, не чуял под собой земли, воспаряя как на крыльях. Я ведь и не знал счастья до этого момента, понял я с удивлением. Я распахнул настежь дверь, не обращая внимания на свою наготу и вполне заметный признак возбуждения, которым я ее встретил. Раскинув руки, я был готов впустить ее в дом и прижать к груди.
— Лука, скорее! Ринальдо болен, я боюсь, что он может умереть! Вы должны дать ему консоламентум и спасти его! — воскликнула Маддалена.
«Только не это!» — подумал я, безвольно уронив руки. Я застыл на месте в каменном оцепенении. Это даже в каком-то смысле хуже, чем тот момент, когда ко мне явился первый клиент. «Пускай он умрет», — подумал я.
— Прошу вас, Лука. — Она шагнула внутрь и схватила меня за руку.
Ее длинные мягкие волосы струились по щекам и шее, и даже при свечах они переливались рыжим, фиолетовым и золотым. Ее окружал тот же неповторимый аромат, от которого я приходил в восторг.
Она снова воскликнула:
— Доктора ничем не могут ему помочь! Но я знаю, что вы можете! Не дайте ему умереть! Он был так добр ко мне!
— Нет! Не проси у меня этого!
— Вы моя единственная надежда, Лука! Вы мой друг. Прошу вас, пойдемте со мной, спасите моего мужа! — умоляла она.
От слез, застилавших ее ясный взор, глаза Маддалены казались еще больше. Ах эти глаза, которые подолгу стояли передо мной, когда она уходила из лаборатории после уроков алхимии, которые я давал иногда по памяти, иногда подготовясь по книгам, иной раз и вовсе придумывая на ходу, только бы удержать у себя ученицу, чтобы она не бросила занятий!
Она молила:
— Одевайтесь, пойдемте! Скорее! Неужели вы не пойдете?
— Хорошо, — ответил я.
Ведь я дал себе слово никогда не отказывать ей, а человек только тогда чего-то стоит, когда держит данное себе обещание.
Ринальдо Ручеллаи был совсем плох. Бледный, с красными пятнами на лице, обливаясь потом, он лежал на своем ложе — супружеском ложе, которое делил с Маддаленой. Спутанные седые космы были влажными от испарины, бородатое лицо обвисло набрякшими складками. Я склонился над ним и пощупал пульс, он был нитевидный и неровный. Я послушал его дыхание и понял, что конец близок. Дыхание было поверхностное, он только пыхтел, но дальше губ воздух не проникал. Ручеллаи умирал. И Маддалена наконец станет моей. Эти два года, что я учил ее, соблюдая дистанцию, как того требовали ее моральные правила, и ограничиваясь дружескими отношениями, были для меня адом. А теперь наконец-то я из него выбрался и впереди открываются небеса. Я чувствовал, что заслужил это счастье. Я достаточно долго ждал обещанную мне женщину. Она была моей по божественному праву, и я был уверен в этом не меньше, чем в том, что Бог смеется и что он радуется, глядя на свое отражение на фресках Джотто.
Но Маддалена хотела, чтобы я спас его. С тяжелым чувством я опустился на край кровати и закрыл ладонями лицо. Все внутри меня, каждый орган, кости и кровь, трепетало и растворялось. Маддалена просит меня помочь ему!
— Будь добр к ней, — прошептал Ручеллаи.
— Что? — Я удивленно вскинул голову.
Он больше ничего не сказал и только кинул на меня сочувственный взгляд из черных провалов глазниц на белом пергаментном лице. Его дыхание успокоилось и стало еще поверхностней. Он чуть улыбнулся.
Маддалена пожелала, чтобы я его спас. А я желал Маддалену. Я смотрел на Ручеллаи и думал о тех людях, которые встретили смерть на моих глазах: Марко, ребенок Симонетты, Бернардо Сильвано, Гебер. В некоторых из этих смертей я сам был виноват. Я убил в бою сотни солдат, бандитов и дорожных разбойников. Я не щепетильничал. Я не боялся делать то, без чего было не обойтись. Я был хорошо знаком со смертью, хотя смерть и ее сестра дряхлость не трогали меня вот уже сто шестьдесят лет. Я не боялся увидеть смерть Ринальдо Ручеллаи.
Маддалена желала, чтобы ее муж остался жить. А я желал Маддалену. Я озирался по комнате, вглядывался в искусно вырезанные столбики кровати, хлопковые покрывала, изображение Мадонны, похожее на работу Сандро Боттичелли. На окнах висели воздушные прозрачные занавески, на комоде стоял искусно сделанный серебряный канделябр. Это была спальня богатого человека. Но ведь и я тоже богат. Я могу разделить свое состояние с Маддаленой, состояние, собранное за целую жизнь. В золотисто-голубой венецианской вазе на комоде в ногах кровати стояла дюжина роз — розовых, алых, желтых и белых. Наверное, Маддалена поставила этот букет, чтобы порадовать мужа. В изобилии ярких цветов, нежных, но не худосочных; лепестках разной степени зрелости — от закрытых бутонов до увядающих; сладком аромате — и в шипах, во всем чувствовался ее отпечаток.
Маддалена желала, чтобы ее муж жил. Я повернулся к нему и положил ладонь ему на грудь. Я не знал, смогу ли я спасти его. Он был уже при смерти. И долгие годы я никогда не вызывал в себе консоламентум. Я не знал, появится ли он по моему желанию. Он струился из меня по своей воле, а не тогда, когда я хотел его вызвать. Но я попробую, ради Маддалены, потому что она этого хочет. Как там говорил Гебер? «Это все равно что сдаться, идиот, разве ты не понимаешь?» Мне было больно улыбаться, но я улыбнулся, вспомнив, как остер на язык был Гебер. Потом закрыл глаза и покорился. Я забыл о собственных желаниях и словно растворился. Меня охватило отчаяние, я боялся вновь потерять Маддалену, и я ощущал это как новую утрату. И сердце мучительно сжималось от боли, тоски и любви. Меня переполняли эти бессмертные хранители человеческой жизни, приходившие всегда вместе, — любовь и утрата, и я держался из последних сил. Еще немного, и они разорвут мне сердце.
И дверца во мне распахнулась. Консоламентум хлынул с такой силой, что все тело мое затряслось. Надо будет рассказать об этом Леонардо, подумал я. Его всегда интересуют вопросы, связанные с силой. Настоящий поток хлынул из моих рук в грудь Ручеллаи. Он ахнул. Его словно подбросило вверх, туловище изогнулось над кроватью, затем он снова рухнул на постель. Снова ахнул. Лицо залила краска. Он в третий раз разинул рот и вдруг глубоко вдохнул воздух всей грудью. Затем выдохнул, издав звук, похожий на бурлящие волны стремительной реки.
Ручеллаи будет жить. Я лил консоламентум из несчастного сосуда своего тела, пока поток не иссяк, словно остановившийся прилив. Я убрал руки. Потрясенный, он смотрел на менярасширенными глазами, хотел что-то сказать, но я не позволил. Чувствуя полное опустошение, я встал и на заплетающихся ногах вышел в коридор, где ждала Маддалена. Я кивнул, и она поняла. Она обхватила мою шею руками и прижалась к груди, бормоча слова благодарности. Какое сладкое мучение — чувствовать ее тело так близко! Но я убрал ее руки и оттолкнул ее, не дожидаясь, когда во мне вспыхнет безумие.
— Я больше не могу с вами встречаться, — тихо произнес я, заглянув ей в глаза.
Я смертен, я всего лишь человек, я дошел до предела сил и больше уже не мог этого вынести. Все прожитые годы обрушились на меня такой тяжестью, словно я очутился на дне глубокого колодца, заваленного камнями.
— Найдите себе другого учителя.
Я вышел на улицу, обливаясь слезами. Еще никогда в своей жизни — даже в борделе Сильвано — не чувствовал я такого одиночества, как в ту полночную прогулку до дома. Раньше я утешался мечтами. А теперь они развеялись — мечты о любви и обещание философского камня, которые я так бережно лелеял в своем сердце, на которые так уповал. Все это теперь точно унес тосканский ветер. Стояла сырая весна, и было слишком холодно и туманно, чтобы увидеть звезды.
Я вошел в свой дом и поднялся наверх. Я собирался сразу лечь в постель, но изумленно остановился у дверей в лабораторию, потому что оттуда тянулась струйка зеленоватого дыма, поднимаясь к потолку. Я распахнул дверь и увидел, что в моей лаборатории все оживленно тарахтит: дребезжат дистилляторы, на фитильках пляшут язычки пламени, блестят кусочки металла, соль трется в ступке, жидкости весело булькают и пузырятся, как расплавленный металл, будто в них резвятся какие-то существа. Удивленный и озадаченный, я подошел к месту последнего опыта, где экспериментировал с серой и ртутью. Я взял колбу в руку, ладонь мою все еще покалывало точно иголочками. В колбе курился дымок. Я заглянул в нее, в самую глубь того, чего никому не дано познать до конца. Там вспыхивало черное пламя, озаряя темные предметы в лаборатории молочно-белым светом, тогда как в свободном пространстве, освещенном свечами, сгустилась плотная тьма. Затем в воздухе раздался треск, словно ударила молния, после чего свет и тьма снова поменялись местами. В центре блестел золотой самородок.
Я понемногу привыкал к жизни без Маддалены, хотя это было нелегко. За десятки прожитых лет я никогда еще не замечал, что жизнь моя на самом деле пуста. Маддалена больше не приходила ко мне дважды в неделю, и, лишенный радости воспоминаний о недавнем свидании и предвкушения следующих, я медленно погружался в бездонную пустоту, составлявшую глубинное содержание всей прочей моей жизни. Много месяцев, зная, что никогда она не будет моей, я был безутешен. Потом пришла злость. Потом безразличие. Я таскался по городу, потеряв вкус ко всем прежним моим занятиям. В памяти все время всплывало ее тонкое лицо, горящее любовью к знаниям, светящееся от смеха или сосредоточенно думающее над какой-нибудь лингвистической загадкой.
Случалось, на рынке мне казалось, я слышу ее смех, но он принадлежал другой женщине. Я заглядывал в окна проезжающих карет, высматривая ее лицо, заглядывал в винные погреба и трактиры, надеясь заметить ее миниатюрный стройный силуэт. А после бичевал себя за то, что вспоминал ее. Все потеряло смысл. Я научился превращать свинец в золото, но и эта тайна потеряла свою прелесть. Я уехал на виноградник в Анкьяно и хандрил там несколько месяцев, пока сам себе не сделался противен. Хватит, сказал я себе, достаточно! И погнал Джинори обратно во Флоренцию.
Стояла весна 1482 года. Во Флоренции настал тревожный мир, и хотя обстоятельства складывались не слишком благоприятно в финансовом отношении, все же город мог вздохнуть после нескольких лет войны с Калабрией, последовавшей после заговора Пацци. Лоренцо выплатил огромную компенсацию герцогу Калабрийскому, и все во Флоренции знали, что он сделал это, дабы расстроить планы Папы Сикста, который хотел поставить во главе Тосканы своих племянников. Въехав в город через монументальные ворота, я увидел, что в нем царит спокойствие и кипит торговая жизнь. Открыты были лавочки, работали шерстяные фабрики, из кузниц разносился звон, шумели рынки. Кони стучали копытами по каменным мостовым, таща за собой коляски. Повсюду стояли телеги с товарами из деревень. И я был рад вернуться в родной город. В моем дворце все окна были закрыты ставнями, потому что я не предупредил слуг о своем приезде. Ну и ладно. Я отвел Джинори в конюшню и вошел во дворец. Поднялся по ступенькам в лабораторию, куда не ступал с той самой ночи, когда мне удалось получить из свинца золото. В комнате стояла мертвая тишина и холод. Совсем как в моем сердце, уныло подумал я. Все покрылось толстым слоем пыли, потому что я никогда не позволял слугам здесь убирать.
— Я думал, вы быстрее вернетесь, — удивленно произнес Леонардо своим сладкозвучным голосом и подошел ко мне. — Я ждал вас еще месяц назад. Вы не вернулись, и на этой неделе я собирался поехать проведать вас в Анкьяно.
— Как ты, мальчик мой? — спросил я и радостно обнял его.
Потом отошел на шаг и оглядел с ног до головы. Он был такой, как и всегда: те же правильные прекрасные черты, аккуратно остриженная борода, тот же стройный и мускулистый стан, яркий изысканный наряд, на лице по-прежнему отражается живая игра любознательности и неутомимой мысли.
— А ты неплохо выглядишь!
— Так и есть, — кивнул он. — Я уезжаю из Флоренции. Меня пригласили к Миланскому двору, и Лоренцо горит желанием, чтобы я укрепил отношения Флоренции с Лодовико Сфорцей.
— Все работают на успех Лоренцо.
— Меня это устраивает, — сказал Леонардо. — Я буду играть на лютне. А Сфорца в своем письме обещает дать мне заказ на бронзовую лошадь. Занимательный проект. — Он посмотрел на меня с вежливой улыбкой. — Я подумал, что мог бы использовать старые наброски Джинори. Где найти другого такого же складного и благородного скакуна!
— Сердце его до сих пор благородно, хотя он понемногу стареет, — заметил я.
— Все мы стареем. Все, кроме вас. Вы обладаете вечной молодостью и красотой. Но со мной такого не будет. Мне уже перевалило за тридцать. Я уже не мальчик, учитель, даже для вас. Все пожирает время!
Он подошел к ближайшему столу, провел по нему пальцем, оставив глубокий след на пыльной поверхности, потом повертел склянки на керотакисе, подправил что-то.
— Не знаю, когда вернусь. Думаю, Сфорца все-таки будет мне лучшим патроном, чем Лоренцо. Говорят, Лоренцо теряет свое состояние.
— Он — Медичи, и его не стоит недооценивать, — возразил я. — Он еще может увеличить его в десятки раз.
— Он коварный политик, но что касается денег, до Козимо ему далеко, — улыбнулся Леонардо. — Вам это известно лучше всех!
— Тогда служи герцогу Сфорца. Я как-нибудь навещу тебя в Милане, путь недалекий, — сказал я, и снова за сердце потянула тоска.
Сначала Маддалена, теперь вот Леонардо. Мне суждено терять самых любимых людей.
— А разве здесь у вас не будет дел? — озадаченно спросил он.
— Не знаю, меня как-то уже не слишком интересует алхимия, — засмеялся я и присел на стул, вытянув перед собой ноги. — Думал остаться во Флоренции, пока летняя жара не станет невыносимой, тогда, может быть, отправлюсь на Сардинию. Там есть рыбацкая деревушка под названием Боса…
— Рыбацкая деревушка? — удивленно переспросил Леонардо. — Маддалена собирается уехать в рыбацкую деревушку на Сардинии?
— Маддалена? При чем тут Маддалена? — растерялся я.
— Я просто подумал, что с вами… — Он смущенно умолк и вдруг рассмеялся. — Ах, так вы не слышали? Вот забавно! А я думал, вы только ради приличия выжидаете в деревне, когда пройдет достаточно времени, чтобы не пошли сплетни!
Я вскочил на ноги.
— Не слышал о чем?
— Ринальдо Ручеллаи умер во сне месяц назад. Маддалена вдова.
Когда я пришел, она сидела со служанкой в гостиной. Она держала на коленях книгу, а ее служанка занималась шитьем. На ней было черное узорчатое платье из муарового шелка, который подчеркивал нежную белизну ее лица и изменчивый тон глаз и волос. В окна косыми лучами проникал полуденный свет, падая на пышные турецкие ковры, устилавшие пол. Она подняла глаза и испуганно вздрогнула, увидев меня.
— Синьор…
— Уйдите! — рявкнул я служанке, и та при одном взгляде на мое грозное лицо бросила вышивку.
Подобрав юбки, она засеменила прочь из комнаты так быстро, как только позволяли ей короткие толстые ножки. Маддалена встала и подошла к камину. Я остался на месте, в другом конце комнаты, потому что не доверял своей выдержке. Я не знал, что случится, если я подойду к ней слишком близко.
— Я думала, вы забыли обо мне и вернулись к своим любовницам, — едва слышно выдохнула она.
— Разве это возможно? Неужели я похож на человека, которому изменяет память?
— Нет, я хотела сказать, что, если вы не могли быть со мной…
— Я знаю, что вы хотели сказать. Будьте моей женой!
— Лука… — Маддалена залилась румянцем.
Сейчас она казалась такой юной и беззащитной.
— Будьте моей женой прямо сейчас, — потребовал я. — Я больше ни одной минуты не могу быть вдали от вас!
По ее лицу медленно расплылась улыбка.
— Я не знала, нужна ли еще вам. Когда вы не пришли, я решила, что была для вас всего лишь мимолетным увлечением. Что вы проводите время с другими женщинами.
— У меня не было ни одной женщины с тех пор, как я увидел вас в день покушения на Лоренцо, — ответил я. — Я четыре года не прикасался ни к одной женщине!
— Не знаю, смогу ли я получить в наследство собственность Ринальдо, — проговорила она, глядя мне прямо в глаза. — Детей нам так и не довелось родить, зато у него есть двоюродные братья. Уж не знаю, какое я принесу вам приданое.
— Мне не нужно приданое. Я богат, даже богаче, чем Ручеллаи. У вас будет прекрасный дворец. Я построю другой, еще больше этого, больше, чем дворец Пацци или Медичи. Я отдам вам все, что вы ни пожелаете!
— Я бы вышла за вас, будь вы даже нищим, — тихо произнесла она. — Я жила бы с вами даже на улице!
— Я лучше умру, чем позволю нам обеднеть, — ответил я и преодолел расстояние между нами, как на крыльях.
Я обнял ее и прижал к себе крепко-крепко, вбирая тепло ее тела и жизнь, звеневшую в ней хорошо настроенной струной лиры. Когда она взяла мое лицо в ладони и ее нежные губы прикоснулись к моим губам, я понял, что не прогадал. Долгое ожидание оправдало себя. Каждая минута себя оправдала.
Но теперь я больше не мог ждать, и она отвела меня наверх. Вечер только начинался, и лиловые и зеленые тени очерчивали края предметов, растворяя их текучие очертания. Маддалена привела меня в другую спальню, не туда, где я дал Ручеллаи консоламентум. Я сразу догадался, что это ее комната. На шторах перемежались полосы прозрачной зеленой ткани и зеленого бархата. На стенах висели чудные работы Боттичелли и старинная шпалера с изображением святого Франциска, проповедующего птицам. Маддалена притянула к себе мое лицо, и губы наши соприкоснулись, едва мы переступили порог комнаты. Я пнул ногой дверь, и она захлопнулась.
— Ты так прекрасен! Я так давно об этом мечтала, — прошептала она.
— А я думал, это только моя участь!
Я медленно вынул из ее волос заколки, неторопливо, потому хотел оттянуть момент, когда ее густые многоцветные волосы рассыплются по стройным плечам.
— Я не могла сказать тебе о своих чувствах! Я ведь была замужем. А Ринальдо был добрым человеком! — Она потянула вверх мою тунику.
Я позволил снять ее с меня и вернулся к ее волосам, которые так мягко лежали в ладони, будто чистейший шелк. Она дрожащими руками расстегнула мой жилет, и я стряхнул его на пол. Я покончил с ее заколками, и волосы рассыпались каштаново-рыже-черной волной, пахнув ароматом сирени, лимона, росы и всего прекрасного, что Бог или человек когда-либо создавали на земле. Я опьянел от счастья. У меня подкашивались колени, пересохло во рту, и комната кружилась перед глазами.
— Слишком много всего, — хрипло проговорил я. — Ты — это слишком…
— Хочешь остановиться?
— Нет, я не это имел в виду. Но ты так прекрасна! — воскликнул я.
— Я знаю, что ты имел в виду, — улыбнулась она, чуть не погубив меня своей улыбкой.
— Я больше не могу ждать, — прошептал я и потянулся к пуговицам ее платья.
— Тогда не жди, — ответила она и помогла мне снять пышное платье, а потом и шелковую сорочку.
И вот наконец она предстала передо мной, миниатюрная и ослепительно прекрасная, совсем такая, какой я ее представлял последние четыре года. Дрожащими руками я подхватил ее и отнес на кровать. Я еще никогда не касался столь нежной и благоухающей кожи. Ее тело сводило меня с ума, я не удержался и провел языком по изгибу ее плеча. Она оторвалась от меня, только чтобы улыбнуться.
— Я всегда говорила себе, что если мы будем вместе, если мне выпадет на долю такая Божья милость и я окажусь в твоих объятиях, то буду всегда говорить тебе «да». Всегда! Что я ничего для тебя не буду жалеть, ни в чем никогда не откажу. Что ж, я говорю тебе «да», Лука Бастардо!
И она снова произнесла «да» одиннадцать месяцев спустя, когда мы поженились. И она всегда говорила мне «да», все годы, пока мы счастливо жили в браке. И это были самые счастливые годы моей жизни.
ГЛАВА 23
Жизнь наша с Маддаленой потекла, как бурные воды Арно. Блеску и могуществу Флоренции под властью Лоренцо де Медичи пришел конец. Мы справили свадьбу на пике могущества и влияния Флоренции, а потом зажили вместе в счастливом неведении о том, какие события разворачиваются вокруг. И я не замечал знаков, которые мне подбрасывал насмешник Бог, пока не стало слишком поздно. Случилась трагедия, и я потерял все, что мне было дорого. В скором времени я поплачусь и собственной жизнью. Такова цена за то, что я долгое время пропускал мимо ушей Божий смех. Возможно, мне было предназначено судьбой: смотреть и проходить мимо. Возможно, я был не создан для того, чтобы моя жизнь вплелась в общую ткань человеческого существования. Все-таки я уродец, взращенный серыми камнями Флоренции и жестокой рекой, непредсказуемым Арно. Возможно, дар долголетия заключается только в том, что ты созерцаешь эту жизнь чуточку дольше, чем другие. А когда я захотел сделать что-то большее, чем просто созерцать, для Бога-насмешника это послужило новой забавой.
В самом начале нашей семейной жизни Маддалена глубоко меня потрясла. Я с привычной бодростью проснулся в нашей постели и потянулся к ней, ведь она всегда была послушна моим желаниям и принимала их с благодарностью. Но тут постель оказалась пуста. Маддалена исчезла.
— Маддалена? — позвал я. — Маддалена?
Ответом на мой зов было только молчание, и сердце в груди заколотилось в лихорадочном ритме. Я выскочил из постели и бросился заглядывать во все комнаты. Я носился по дворцу, не обращая внимания на свою наготу, и выкрикивал ее имя. Внезапно я вспомнил о последствиях выбранной любви: я ее потеряю. Я потеряю ее. Неужели это уже случилось? Так скоро?
— Маддалена! — надрывался я.
— Успокойтесь, синьор, — выглянул из гостиной повар, — она ушла со своей служанкой. Кажется, на рынок.
— Вы уверены? — спросил я, с трудом переводя дыхание. — С ней ничего не случилось плохого, она вернется?
— Плохо будет только вашему карману, — сдавленно фыркнул повар. — Мне знакомо это выражение на лице, когда женщина твердо решила хорошенько порастрясти мужнины денежки. Поэтому я и не женюсь. Женщины влетают в копеечку.
— Я должен был пойти с ней!
— Что ж, тогда вы можете пойти за ней и найти ее на рынке. Только сначала… э… оденьтесь. — Повар закатил глаза.
Не прошло и часа, как она вернулась. Руки ее были заняты покупками, и следом шли еще две женщины и ребенок. К тому времени я уже оделся и выбежал встретить ее у двери. Меня переполняла такая радость от ее благополучного возвращения, что я схватил ее в охапку и расцеловал так, словно она отсутствовала целый год. Моя пылкая радость вызвала у женщин хохот, и Маддалена, покраснев, отодвинулась.
— Лука, это мои хорошие подруги и бывшие золовки, Алессандра и Розария, а также дочь Розарии Мария, — сообщила она.
Мы поздоровались.
— Добро пожаловать, — сказал я, даже не глядя на них, потому что меня не интересовал никто, кроме Маддалены. — Давай-ка мне свои свертки, Маддалена. Позволь мне помочь тебе!
Я выхватил у нее покупки и свалил поверх предметов, которые уже и так еле держала служанка. Служанка топнула ногой и недовольно заворчала.
— Все хорошо! Со мной все в порядке, Лука, правда, — пробормотала Маддалена.
Она протянула свою накидку горничной и попросила подруг сделать то же самое.
— Розария и Алессандра решили меня навестить, а я хотела, чтобы ты посмотрел Марию. Она себя неважно чувствует, вот уже больше недели как ей нездоровится.
— Ей лучше показаться врачу, — ответил я и поцеловал Маддалену в губы.
Мне не терпелось поскорее выпроводить ее подруг и снова остаться вдвоем. Прошло, по меньшей мере, несколько часов с тех пор, как я занимался любовью с женой.
— Да, девочке нужен врач, — ответила Маддалена, выгнув тоненькую бровь.
— Я… э… сейчас не занимаюсь этим. Я хочу лишь быть с тобой, — честно признался я.
— Вижу, вижу, — сказала она, бросив мне многозначительный взгляд.
— Ты не хочешь, чтобы я был с тобой?
— Розария, Алессандра, я попрошу горничную провести вас в гостиную. Мы с Лукой сейчас придем, — с улыбкой обратилась Маддалена к подружкам.
Они ушли в комнаты, лукаво посмеиваясь, что мне показалось несколько непристойным. Маддалена смерила меня строгим взглядом.
— Лука, мы же не можем все время так жить, затворившись от всех в твоем дворце!
— Мы можем купить новый дворец, если этот тебе не нравится, — ответил я, нежно убрав ей волосы с плеча, чтобы погладить его.
Ее кожа была такой нежной, упругой и благоухающей, что даже сейчас, сидя в этой каменной келье, обожженный, избитый и пораженный гангреной, я чувствую возбуждение, которое вызывал во мне этот аромат.
— Это чудесный дворец, тебе подарил его сам Папа, и я не вижу нужды тратиться на новый, — фыркнула она. — Это же расточительство! Я не трачу деньги только ради удовольствия их потратить.
— Тогда в чем дело? — озадаченно спросил я, хотя недоумение не помешало мне прикоснуться губами к ее стройной тонкой шейке.
Как же она могла уйти, не дождавшись моего пробуждения?
— Ты не работаешь, Лука, — ответила она тоном женщины, чье терпение подходит к концу.
— У меня предостаточно денег, мне незачем работать, — сказал я, не переставая поигрывать ее волосами.
Она оттолкнула меня.
— Ты не занимаешься никаким мужским делом, как остальные мужчины, — с раздражением произнесла она. — И ты не даешь мне выполнять мои обязанности. Посмотри, я же первый раз смогла выйти и купить полотна, чтобы сшить тебе новые рубашки, хотя твои старые уже давно износились. И мне пришлось уходить украдкой, пока ты спал. Разве так можно?
— Ты купила ткани, чтобы сшить мне рубашки? — спросил я в изумлении.
Для меня еще никто никогда этого не делал. На улицах, если мне нужна была одежда, я рылся в мусоре. У Сильвано мне просто давали одежду, которая нравилась клиентам, как скотине дают ошейник или седло, чтобы угодить хозяину. Выйдя на свободу, я стал ходить к портному. Свобода означала, что мне придется самому заботиться о себе, и я всегда делал это с удовольствием. Поэтому не мог решить, как мне отнестись к поступку Маддалены, захватнически присвоившей себе это право. К тому же меня вполне устраивали мои старые рубашки, которые я достаточно заносил, чтобы они стали удобными.
— Да-да! Я сошью тебе новые рубашки. Старые давно пора выбросить. И ты моешься слишком грубым мылом, а между тем существует отличное авиньонское мыло, которым прекрасно можно отмыться…
— Да от меня будет нести, как от шлюхи! — воскликнул я.
— Вовсе нет! У него чуть заметный кедровый аромат. Это чистый мужской запах.
— Я не пользуюсь духами!
— А это не духи. Ты вовсе не будешь казаться надушенным. Но зато от тебя не будет нести щелоком, милый, и это было бы неплохо, если учесть, что ты ложишься на меня. Я чувствую себя матрацем, я вся под тобой! И еще. Может, хватит ходить к этому неуклюжему брадобрею из Ольтарно? Он же вдоль и поперек исполосовал порезами твое красивое лицо. Уж лучше я отправлю тебя к хорошему цирюльнику неподалеку от нашего дома, который обслуживает всех знатных мужей!
— Ну уж нет! Я буду ходить к своему прежнему брадобрею. И не нужен мне какой-то особенный дорогой цирюльник! И старые рубашки мне нравятся, мне в них удобно! — закричал я, и тут между нами произошла первая ссора, хотя и не последняя.
Мы с ней оба были прямые и своенравные люди. За те драгоценные годы, что мы прожили вместе, мы много раз ссорились, как и все семейные пары. Брак наш не был безоблачным, но мы испытывали друг к другу страсть, и хотя бы в этом нам повезло. А еще нам повезло, что наши ссоры быстро заканчивались. Даже в ту первую ссору уже через несколько минут, как все умные мужья, я полностью капитулировал. Я буду мыться ее мылом, носить сшитые ею рубашки и послушно ходить к тому брадобрею, к которому она меня пошлет! И Маддалена снова мне улыбнулась, и моя жертва оказалась не напрасной. Я просто дрожал от желания угодить ей. На меня было жалко смотреть. Я бы, наверное, согласился даже надеть розовую юбку, если бы она тогда попросила. Оглядываясь назад, я понимаю, что именно в тот момент стал настоящим мужем.
— Теперь о твоей работе! Ты хороший врач, ты подарил бедному Ринальдо еще несколько лет драгоценной жизни, у тебя дар консоламентума. Этот дар нужен людям, больным людям и детям. Я считаю, ты должен им помогать, — сказала она, ласково дотронувшись до моей щеки.
И тут до меня дошло, в чем дело!
— Ты хочешь от меня избавиться, потому что я путаюсь под ногами, — проговорил я чуть печально и в сильном раздражении.
— Нет, милый, ты никогда не… ну… Точнее, да, «путаться под ногами» — это, пожалуй, очень точно подмечено, — спокойно ответила Маддалена.
Но тут же она прижалась ко мне и провела нежным языком по моей нижней губе, потому что от таких ласк я всегда начинал стонать. Она заглянула своим мягким, чудесным языком ко мне в рот, притупив острое жало своих слов.
— Ладно, постараюсь не путаться под ногами, — согласился я, поднимая голову, и крепко прижал ее к себе. — А теперь ты избавишься от этих дамочек?
Она ласково укусила меня за мочку уха и прошептала:
— Да, мой Лука, только сначала посмотри Марию. Я за нее очень беспокоюсь.
И я поспешил в гостиную, чтобы осмотреть девочку, а потом принялся лечить больных. Маддалена всегда находила для меня пациентов, так что работы мне хватало. Она не могла пойти на рынок или в гости к подругам, не притащив оттуда кого-нибудь больного. Скоро я снял маленький кабинет недалеко от Старого рынка, чтобы не заносить заразу в дом: Моше Сфорно всегда твердил мне, что это очень важно. О себе я знал, что никогда не подцеплю болезни, но жена-то моя не была так устойчива против заразы! И я собирался оградить ее от болезней. Я собирался всегда беречь ее счастье. Я прождал Маддалену не один человеческий век. А теперь, когда она со мной, я должен заботиться о ней. Я дам ей все, что она пожелает. И нет большей радости для меня, чем видеть ее улыбку.
А взамен Маддалена дала мне то, о чем я больше всего мечтал: родную семью. В начале 1487 года она родила мне прелестную дочь. Мы не знали, почему пришлось ждать так долго, целых пять лет. Может быть, изнасилование в Вольтерре повлияло на ее детородную способность. Ежедневные брачные отношения наконец принесли плоды, и, будучи врачом, я присутствовал при родах и услышал первый крик нашей чудной девочки. Мы назвали ее Симонетта. У нее была персиковая кожа и рыжевато-золотистые волосы, а от мамы ей достались потрясающие многоцветные глаза. Кто знает, может быть, ей тоже суждено долголетие, хотя сам я свой дар до сих пор с Маддаленой не обсуждал. Мы были слишком счастливы, чтобы я мог омрачить наше счастье таким вот фактом своей биографии. И не хотел я ускорить утрату, углубившись в неразрешимые загадки. Поэтому я молчал об очень важных вещах, которыми нужно было поделиться с женой, хотя бы потому, что она имела право знать обо мне все.
Прошло несколько месяцев после рождения Симонетты. Как-то раз теплым весенним вечером я, при полной луне возвращаясь после работы, не спеша брел домой и размышлял о тайнах и тенях. Серебряный свет ночного светила бросал загадочные и зловещие тени на булыжные мостовые. Я ходил навещать больного господина, мужа одной из многочисленных подруг Маддалены. И вдруг меня вывел из задумчивости чей-то голос. Кто-то окликнул меня по имени, и я резко обернулся. Мне весело махал жизнерадостный Сандро Филипепи.
— Эй, Бастардо, что же подвигло тебя выйти из дома после заката? Поразительное событие! Я думал, твоя прелестная жена привязала тебя к кровати, чтобы хорошенько отшлепать ночью! — пошутил он, намекая на мое домоседство, неослабевающую страсть, которая связывала нас с Маддаленой, и то, что она помыкает мной, распоряжаясь моим временем и работой.
— Будет тебе! Вечно ты меня высмеиваешь, — усмехнулся я.
— Ты же совсем без ума от своей жены, отчего ж не посмеяться, — ответил он и пошел со мной рядом.
— За это я охотно готов терпеть насмешки.
— Даже, я бы сказал, с восторгом, — ухмыльнулся Сандро. — С такой роскошной кобылкой никто бы не жаловался! Объезжай ее, пока она молодая да гладкая! Красота, сам знаешь, недолговечна. Да и наездничать нам дано недолго. Ничто не вечно.
— Жизнь полна перемен, — пробормотал я.
Это правда, и сладкая безмятежность жизни тоже не вечна. Мне вспомнилась вторая — неприятная и жестокая часть обещанного мне будущего за выбор, сделанный в ночь философского камня. Мне суждено потерять Маддалену. Для меня это значило потерять все. Я никогда не боялся перемен, но эта перемена приводила меня в ужас.
— А жизнь тебя мало меняет, — произнес Сандро, толкая меня в бок локтем. — Неужели есть доля правды в тех слухах, что будто бы ты совсем не старишься, как все мы, грешные?
— Охота тебе слушать всякую ерунду! — проворчал я, пытаясь уклониться от этой темы. — Только маленькие девчонки верят слухам и сплетням.
Сандро пожал плечами.
— Лучше бы уж ты старел, Лука, если хочешь удержать жену.
Я так резко повернулся к нему и толкнул пальцами в грудь, что он отскочил.
— Почему ты так говоришь?
— Эй, полегче, друг! Я слухам не верю, потому что знаю тебя. Ты Лука Бастардо, коллекционер искусства, который долго не торгуется с честным художником. Ты хороший врач, отличный собутыльник, человек, по уши влюбленный в свою жену. Просто я тоже немного знаю женщин, как они пропитаны тщеславием Венеры, хотя нам бы хотелось, чтобы они обладали добродетелью Мадонны.
— Ну и что дальше? — спросил я, повернулся и зашагал дальше.
— Для красивой женщины старость страшнее смерти, — сказал он, убирая с плеч длинные волосы. — А твоя Маддалена очень и очень красива!
— Маддалена будет для меня прекрасной, даже когда волосы у нее поседеют и спина согнется от старости! — заявил я.
— Ну я-то в этом не сомневаюсь, — улыбнулся Сандро. — Но для себя она не будет красивой.
— Я тебе не верю, — резко ответил я.
Но это правда. Маддалена уже обнаружила у себя под глазами морщинки, и ей это очень не нравилось. Чтобы скрыть их, она бросилась на поиски кремов и красок, хотя я уверял ее, что они ей нисколько не нужны. Я понял, что если не хочу вызвать у нее подозрения, то должен скоро объясниться по поводу своего долголетия. Она же сообразительная и скоро заметит, что я не старюсь вместе с ней. Я по многим причинам должен был рассказать об этом Маддалене, но что-то мне мешало. Мне не хотелось говорить ей о своем странном даре. А надо было сделать это уже давно. Я боялся, что мой дар воздвигнет стену между нами, а я этого просто не вынесу. Я не вынесу, если моя жена отгородит от меня свое сердце из-за того, что я сохраню молодость, а она нет. К тому же сейчас я был слишком счастлив, чтобы ворошить прошлое и задумываться над будущим. Объяснение подождет. Я почувствовал приступ тревоги и, стараясь ее заглушить, возразил с тем большей горячностью:
— Ты несешь вздор, Боттичелли! Моя Маддалена практичная женщина.
— Еще увидишь, — самоуверенно ответил Сандро.
Я чуть не испепелил его взглядом. Мы дошли до каменного моста Понте делла Грацие, который переливался серебряным блеском, словно камень, напитавшийся лунным светом, сам излучал его с умноженной силой. Под мостом белым золотом вспыхивал, кружа водовороты, Арно, и легкий ветерок разливал в воздухе душистое дыхание полей. Сандро жадно вдохнул его и произнес:
— Хорошо, хорошо! Разве можно сердиться в такую чудную ночь? Лучше расскажи, как твой ребенок?
Я тут же заулыбался. Симонетта стала самой настоящей кульминацией нашего с Маддаленой счастья.
— Она очаровательна, просто восхитительна! — полилось из моих уст. — Она уже улыбается. Ей десять недель, и она улыбается нам с Маддаленой, едва услышит наши голоса. Она даже воркует что-то в ответ. Она такая умница и красавица!
— Конечно, первые дети всегда такие, — пропел он. — К третьему родительские восторги уже стихают. Скажи-ка, а вы собираетесь завести еще детей? Уже трудитесь над этим?
— Ну, нет. Ты же знаешь, после родов мужу приходится подождать, прежде чем вернуться в объятия жены, — сказал я, гораздо более сурово, чем собирался.
Воздержание стало для меня пыткой. Маддалена была так близко, но я не мог прикоснуться к ней, и это сводило меня с ума. Меня уже начинали раздражать эти ограничения, а придется подождать еще несколько недель.
— Да что ты? Тебя лишили этого на целых десять недель? Как же ты обходишься? — снова начал дразниться Сандро. — Наведываешься по очереди ко всем куртизанкам Флоренции? Посмотри, вон та, на мосту, тебе, наверное, подойдет…
Я начал было возражать, что, мол, храню верность своей жене, но не мог не посмотреть на женщину, которую показывал мне Сандро. Она была похожа на тех богинь, которых он изображал на своих полотнах. Ее окружал ореол ослепительно яркого лунного света, преображая миниатюрный и стройный силуэт. А грудь ее была до того пышная, что выпирала из простенькой сорочки, которую совсем не скрывал тонкий шелковый плащ. Наверное, очень дорогая, подумал я, потому что до сих пор помнил цены за удовольствие от такой красоты. Потом я увидел ее длинные густые волосы, которые струились волной до талии. Они были перевязаны множеством маленьких ленточек. Черные, каштановые, рыжие, золотистые, они мерцали переливчатой радугой под платиновым светом полной луны.
Сандро засмеялся и наклонился ко мне.
— Мне кажется, тебе уже хватит ждать, друг. Как же я тебе завидую!
Я оцепенел и ничего не смог ответить.
Сандро незаметно удалился, а женщина летящей походкой подошла ко мне. Первым до меня долетел ее аромат: сирени, лимона, ванили, белой морской пены и чего-то еще, кажется, мускуса. Запах женщины, которая готова ублажить мужчину. Я потянулся к ней, и она остановилась на расстоянии вытянутой руки. Медленно, соблазнительно, она сбросила накидку, и та с шорохом соскользнула на землю. Я вздрогнул и застонал. Она подошла чуть ближе и дала мне погладить ее густые волосы. Я воспламенился, снедаемый внутренним огнем. Она вспорхнула в мои объятия, и я поднял ее на себя. Она обхватила меня ногами, и ее юбка задралась до самой талии. Под сорочкой на ней совсем ничего не было. Я вскрикнул от нетерпения. Она притянула к себе мое лицо и поцеловала. Одной своей маленькой проворной ручкой она ласкала мое лицо и шею, другой держалась за плечо. Она запрокинула голову и выгнулась, так что лицо мое окунулось в ее грудь. Рассудок покинул меня. Я повернулся, придавил свою жену к стене моста, сорвал с себя штаны и взял ее прямо там.
— Ну что, полегчало тебе? — хихикнула Маддалена, когда все закончилось. — Я подумала, тебе хочется чего-нибудь такого!
Меня била мелкая дрожь, и я поднес руку к ее роскошным душистым волосам, которые теперь спутались и висели прядями, сверкая обилием цветов в лунном свете. Она удивила меня, хотя и не в первый раз. В постели Маддалена была шаловливой и изобретательной. Занимаясь с ней любовью, я точно пребывал в восхитительном сне и был благодарен ей за это.
— Нас арестуют за непристойное поведение в общественном месте, но оно того стоило, — вздохнул я.
— Арестуют, не сомневайтесь! — крикнул кто-то у нас за спиной.
Маддалена подхватила с земли накидку и попыталась прикрыться. Я медленно повернулся и уперся взглядом в мужчину. Это был доминиканский монах, худой, безобразный человек с крючковатым носом и чересчур блестящими глазами. У него был потрясенный и возмущенный вид. Увидев его взгляд, неотрывно и жадно прикованный к Маддалене, я поймал себя на странной мысли, что он просто ее хочет и никогда теперь не забудет.
Монах громко обрушился на нас:
— Я видел, видел, как вы совокуплялись, я в ужасе! Мало того, что вы наняли… э… проститутку, так еще и делали это прямо здесь, на глазах у всех! — Он затряс головой, не отрывая глаз от Маддалены. — Я приехал в этот город, где когда-то читал проповеди, и вижу, что он погряз в разврате и пороках! Шлюхи, распутство, чревоугодие и пьянство, зло во всех разновидностях! Господь покарает этот город, и кара его будет ужасна!
— Вы не поняли, святой отец, — перебил я его. — Эта женщина моя жена!
— Тогда ваш поступок еще греховнее! — воскликнул он, воздев руки над головой.
Он принялся разглагольствовать, а мы с Маддаленой кинулись наутек. По пути на нас вдруг напал такой смех, что мы хохотали, не в силах остановиться, до самого дома, до самой постели, где я снова занялся с женой любовью, на этот раз с куда большими изысками и в более приватной обстановке.
Когда Симонетте исполнилось пять лет, меня вызвали на виллу Медичи в Кареджи. Я оседлал новую лошадь по кличке Марко. Доблестный Джинори, чью рыжую шерстку выбелила седина, все еще жил, но был скован артритом и старостью — болезнями, которых мне не суждено было испытать на себе. Знал я только, что был счастлив: счастлив с моей несравненной Маддаленой, единственной моей женой; счастлив с милой дочуркой Симонеттой; счастлив в узком кругу друзей, куда входили Марсилио Фичино, Сандро Филипепи по прозвищу Боттичелли, Леонардо, сын сера Пьеро из Винчи, а последнее время еще и остроумный юноша Пико делла Мирандола,[529] который владел двадцатью двумя языками. Я был счастлив в своем дворце и со своим банковским счетом. И поэтому разъезжал по улицам, насвистывая песенки. Величайший в мире город, моя родина Флоренция наконец-то стала для меня родным домом.
Стоял апрель 1492 года, теплая весна принесла с собой немало ливней. На мне была легкая шерстяная накидка, и я радовался, наслаждаясь скачкой по сельской дороге. Слуга провел меня на виллу Медичи, в покои Лоренцо. Старость к нему еще не пришла, ему было только за сорок, но его свалила серьезная болезнь. Он горел в лихорадке, которая действовала не только на артерии и вены, но и на нервы, кости и костный мозг. Его подводило зрение, суставы распухли от подагры. Он выглядел гораздо старше своих лет. Мало что осталось в нем от былого великолепия, когда он преуспевал во всем, за что бы ни брался. Он все успел: накопил состояние, обзавелся семьей, получил власть над республикой, искусно ездил на лошади, сочинял музыку, писал стихи, коллекционировал искусство, заводил союзников, поддерживал художников и философов, разводил ловчих птиц, играл в кальчо и соблазнял женщин.
— Я не был уверен, что ты придешь, — тихо проговорил он.
— Я уйду, если ты снова начнешь игру в «кошки-мышки», — с досадой ответил я.
Он рассмеялся.
— А мы здорово поиграли, не так ли, Бастардо? — сказал Лоренцо.
Я сел на край его кровати.
— Я не очень люблю игры.
— Что верно, то верно, у тебя всегда было неважно с чувством юмора, — вздохнул он и отвернул к стене распухшее, изуродованное болезнью, бледное лицо. — Ты помнишь, как мы впервые познакомились?
— Здесь, когда заболел твой дедушка.
— Да. Я часто вспоминаю о том дне, — признался Лоренцо. — Ты явился, словно молодой бог, точно такой же, как сейчас, и мой дед страшно обрадовался твоему приходу. Как я завидовал тебе!
— Ты был его внуком. Мне он, может, и обрадовался, но ты был светом его очей.
— Козимо де Медичи не просто обрадовался тебе. Он искренне любил тебя. Я слышал, ты был с ним в Венеции, когда его сослали туда в молодости. Это правда? — спросил Лоренцо, и его безобразное лицо исказилось от боли.
Я кивнул, и он спросил, словно ему только что пришла запоздалая мысль:
— Ты ведь никогда не простишь мне Вольтерру?
Я отрицательно покачал головой.
— Ты ведь там встретил Маддалену?
— Не говори о моей жене, — сердито остановил я его.
Лоренцо снова засмеялся.
— Я нехорошо поступил с тобой, Лука Бастардо. Но последнее слово останется за тобой. Ты ведь знаешь, что я умираю? От этой болезни мне не поправиться. И я все время вижу предзнаменования и знаки. Два флорентийских льва умерли в драке в своей клетке. Волчицы воют в ночи. Странные разноцветные огни мерцают на небе. Во время службы в Санта Мария Новелла одну женщину охватило божественное безумие. Она бегала по церкви и кричала, что на церковь мчится бык с огненными рогами. Но хуже всего, — он вытер пот с лица, — один мраморный шар, шар с фонаря на кафедральном соборе оторвался и упал в сторону моего дома. Свалился шар. Это знак.
— Знаки означают то, что ты сам в них видишь. Чаще всего Бог просто шутит.
Лоренцо засмеялся, но уже гораздо слабее.
— Ты боготворишь комедию, а я-то недооценивал твое чувство юмора.
— Чего ты от меня хочешь, Лоренцо? — спросил я его беззлобно.
Он повернулся ко мне лицом и сначала долго молчал. Лицо его было искажено болью.
— Перед своей смертью дедушка сказал мне, что в твоих руках заключена чудодейственная сила. Ты прикоснулся к нему и успокоил его сердце. Ему это помогло. Он сказал, что ты дал ему несколько лишних дней жизни!
— Это не сила. Наоборот. Это происходит, когда ты отпускаешь силу.
— Ты можешь и ко мне так прикоснуться? — прошептал он.
Я долго смотрел на его безобразное лицо, уродливый нос и сверкающие огнем черные глаза. Я не мог представить, как отворю для него сердце, ведь именно это требовалось для консоламентума. Я встал, скрестил руки на груди и подошел к окну. Там, за ним, росли покрытые густой листвой тополя, которые Козимо когда-то посадил вокруг виллы. Лоренцо сипло захохотал и сказал:
— Я понимаю, Бастардо, для тебя это невозможно. Мы слишком много играли в ненавистные тебе игры, начиная с той игры в кальчо за несколько недель до смерти деда. Тогда-то мы с тобой все-таки выиграли? Были у нас победы, хотя последняя останется за смертью.
— Я попробую дать тебе консоламентум, — скупо сказал я.
— Да, но ради кого ты будешь стараться? Или ради чего? — прошептал Лоренцо. — Мне не нужны объедки со стола Козимо и никогда не были нужны!
— Так что же я могу для тебя сделать? — сердито бросил я, подойдя обратно к кровати.
— Ты можешь быть свидетелем, — сказал он, облизав сухие губы. — Помнить о моих славных подвигах. Твоя молодость, видимо, не знает конца. Возможно, и жизнь твоя тоже не закончится. Ты вроде тех ветхозаветных патриархов,[530] о которых рассказывает Библия. Они жили сотни лет. Быть может, твои родители были из таких, как они. У тебя есть этот дар. И я хочу, чтобы ты с его помощью поведал о моих дарах. О том, что я сделал для Флоренции.
— Твоя болезнь, быть может, еще отступит, ты встанешь на ноги и вернешься в Синьорию, будешь снова править городом, — взволнованно произнес я. — Консоламентум тебе совсем не нужен. Возможно, твоя болезнь уже проходит и улучшение уже началось.
— Не говори мне того, что я хочу услышать! Ты никогда так не делал раньше, и тебе это не пристало! — резко огрызнулся Лоренцо.
— Когда-то я сказал тебе не то, что ты хотел услышать о Вольтерре, и ты вернул во Флоренцию семейство Сильвано, запустив колесо, которое должно меня раздавить! — бросил я в ответ.
— Ты сам оставил мою службу после Вольтерры! — ответил Лоренцо. — Что ты так злишься? Разве не там ты повстречал прекрасную Маддалену? До меня дошли кое-какие слухи! Если бы не разгром Вольтерры, разве встретил бы ты женщину, которую полюбил?
— Но пострадали невинные люди! Невинные люди погибли!
— Невинных людей не бывает! — презрительно бросил он. — Родиться на свет значит родиться на страдания! И мы даже не знаем, какие радости заслужим этими страданиями!
— Вот над чем Бог смеется! — ответил я с такой свирепостью, с какой ни один живой человек не посмел бы обращаться к Лоренцо де Медичи.
— Если Бог смеется, то смеется Он надо мной, потому что я умираю! Тебя Бог заключил в свои объятия: у тебя были любовь и уважение Козимо, бесконечная молодость и красота Аполлона! — в сердцах ответил Лоренцо.
Мы в бешенстве смотрели друг на друга, но ярость сменилась болью. Мы оба настрадались и оба видели это. Без единого слова мы поняли друг друга в тот момент. Я все равно не мог дать ему консоламентум, но ненависть моя прошла. С тех пор я не раз спрашивал себя, в свете прошлых событий: как изменились бы время и история, если бы тогда я просто возложил на него руки? Полился бы из меня спасительный поток, помог бы он ему так же, как воскресил Ринальдо Ручеллаи? Если да, то мог ли я предотвратить личные и политические трагедии, которые произошли после смерти Лоренцо де Медичи? Вдруг я сам отчасти виноват в тех ужасных трагедиях, которые примирили меня с мыслью о смерти? Не только потому, что я сам выбрал любовь и смерть, но еще и потому, что не изменил ход истории, когда мне представилась такая возможность. Мог ли я изменить свою судьбу, если бы поставил любовь выше злости и страха тогда, когда Лоренцо де Медичи, покровитель Флоренции, лежал на смертном одре?
Но тогда я не задавался этими вопросами. Не было больше злости, осталась только жалость к Лоренцо, и я начал мерить шагами его комнату, которая некогда принадлежала Козимо. Я заметил, что с тех пор она нисколько не изменилась. Те же картины Фра Анджелико и Фра Филиппо Липпи украшали стены. Все та же мебель. Даже роскошные простыни те же, хотя и выцвели с годами. Странно, что Лоренцо, человек, который беспощадно утверждал свою волю, не стал переделывать комнату под свой вкус. Какбудто Лоренцо хотел впитать в себя дух Козимо, живя в его комнате.
— Тогда послушай же, Лука Бастардо, ты, который, чая спасения, уповаешь на Божий смех. Послушай, что я сделал! Я был сыном, мужем и отцом. Я был братом и другом. Я был любовником прекрасных женщин. Я был музыкантом, атлетом, поэтом, которого шумно приветствовала публика. Я привел Флоренцию к процветанию в торговле, литературе и искусствах. Я сидел с Папами и был отлучен от церкви. А самое главное, я сохранил мир между государствами, — мечтательным голосом произнес Лоренцо. — Из всех моих гражданских достижений, а я поддерживал художников, философов, сыпал деньгами ради восстановления и украшения Флоренции, из всех моих достижений вот мой главный подвиг: я удержал Милан и Неаполь от войны, сохранил мир между Венецией и Римом. Мой мир укрепил силу полуострова Италия. Эта сила не переживет меня. В наши земли вступит франкский монарх. И это будет конец целой эпохи. Итальянским государствам не хватает силы единства, а он объединил под своей властью франкские государства. Есть единая Франция, но нет единой Италии. Со своей многочисленной армией он пройдет весь полуостров насквозь. Один за другим города-государства покорятся ему. Даже если не весь итальянский полуостров ему покорится, он высосет могущество Флоренции. Вот увидишь! Я люблю своего сына Пьеро, но он не сможет поддерживать равновесие сил, которое спасало нас от нашествия франков. Возможно, если бы я прожил еще десять лет, из Пьеро получилась бы фигура, достойная имени Медичи. Но сейчас он слишком молод, глуп и опаслив. Он слаб.
— Ты был молод, когда твой отец передал тебе управление Флоренцией, — заметил я и снова присел на край кровати, где когда-то давно разговаривал с больным Козимо.
— Слишком молод! — вздохнул Лоренцо. — Достаточно силен, чтобы делать то, что должен был. Но я наделал много ошибок.
— Я никогда не думал, что ты способен признаться в этом!
Лоренцо поднял глаза на украшенный лепниной потолок.
— Я вернул во Флоренцию людей, которых здесь быть не должно.
— Семейство Сильвано.
Он криво усмехнулся и от боли зажмурил глаза.
— Других, не имеющих к тебе отношения. Но я сожалею, что вернул эту семью, Лука Бастардо! Правда сожалею. Я был рад за вас с Маддаленой, когда вы поженились. Я понял, что ты любишь ее, когда вы сидели рядом за ужином, вскоре после покушения на мою жизнь и убийства моего брата Джулиано. А ты получил мой свадебный подарок?
— Несколько бочек отборного вина, — ответил я, подняв брови. — Конечно. И все проверил, не отравлено ли оно.
Лоренцо снова засмеялся, и на этот раз смеялся, пока не закашлялся. Его пронзительный гнусавый голос зазвучал почти бодро, когда он заговорил снова.
— Значит, я все-таки правильно тебя оценивал, Лука Бастардо! Это утешает. У тебя нет чувства юмора. Убив тебя, я бы испортил игру, Бастардо. Закончил бы ее слишком рано. Ты еще не понял?
— Гораздо забавнее смотреть, как я корчусь.
Лоренцо медленно кивнул.
— На твоем месте я бы опасался не семьи Сильвано. Ты успешно избегал их долгое время… Сто лет? Больше? — Он помолчал, пристально глядя на меня, но я не ответил, и он глубоко вздохнул. — Два года назад я вернул во Флоренцию человека, которого нельзя было возвращать. И он может стать причиной беды. У меня плохое предчувствие на его счет. Это доминиканский проповедник, родившийся в Ферраре.
— Моей жене нравится красноречивый августинианский монах Фра Мариано.
— Как и всему высшему классу. Но у popolo minuto[531] другие пристрастия, — возразил Лоренцо. — Им нравится слушать о греховности. Им нравится слушать, как обличают тщеславие высших классов. Они-то не могут себе его позволить, того самого тщеславия, которое привело Флоренцию к величию, поэтому хотят слышать, как его осуждают.
Я прищурился, соображая.
— Ты говоришь о том дураке, который проповедует против хорошего искусства и платоновской философии и пугает людей неминуемым концом света, если мы немедленно не одумаемся и не исправимся?
— Он не дурак, хотя даже уродливее меня. Он утверждает, что его устами глаголет сам Бог, и его проповеди стали так популярны, что Сан Марко уже не вмещает его последователей. Он перебрался в Санта Мария дель Фьоре. Юный гений Пико делла Мирандола утверждает, что этот монах святой человек, хотя тот беспрестанно критикует нас, Медичи. Он хочет, чтобы Флоренция приняла новую конституцию, основанную на венецианской, но без должности дожа!
— Его проповеди собирают огромные массы людей, — согласился я и пожал плечами. — Меня это не волнует. Флорентийцы останутся флорентийцами, мы — народ, который любит удовольствия, деньги и вкусно поесть, он рождает великих художников, мыслителей и банкиров. Ни один монах, как ни гори он ревностным пылом, не способен изменить природную основу Флоренции и ее народа.
— Окончательно не изменит, — прошептал Лоренцо, — но он зажег воображение людей, и через несколько лет это приведет к беспорядкам, вот увидишь! Я знаю наш народ. Я знаю, чего он хочет. Этот монах воспользуется вторжением франков, чтобы переделать Флоренцию на свой лад. Он выгонит Медичи. Его проповеди затронут церковь и потрясут ее основы. Он уже назвал церковь продажной девкой. Он навлечет на Флоренцию гнев Рима. Он хочет реформ, в церкви и во всем городе. Между двух огней — между ним и франками — Флоренция потеряет силу. Она больше никогда не будет пятым элементом и величайшим городом на земле. Если бы я остался жив, то изгнал бы этого монаха. А скорее всего, умертвил бы его во сне. Следи за ним и остерегайся, Лука! У тебя необычный дар, и если Сильвано привлечет к нему внимание этого монаха, тот обвинит тебя в связи с дьяволом. На твоем месте я бы боялся за себя и свою семью. Бойся Савонаролы![532]
Лоренцо умер несколько недель спустя, и слова, сказанные им на смертном одре, исполнились. После смерти Лоренцо проповеди Савонаролы стали еще более яростными, предрекая Апокалипсис. Этот монах твердо решил искоренить во Флоренции разврат и пороки и утверждал, что все это взрастили Медичи. Он предсказывал бедствия и опустошительные войны. В1492 году Савонарола предсказал, что умрут Лоренцо и Папа Иннокентий, а когда они действительно умерли, он еще больше осмелел. Он обрушивал тирады с кафедры главного собора: Флоренция очистится силою франкской армии. Как он и предсказывал и как предупреждал меня Лоренцо, в 1494 году на полуостров вторглась многотысячная франкская армия короля Карла. Армия пересекла Альпы под белыми шелковыми знаменами с надписью: «Voluntas Dei».[533] Лодовико Сфорца, правитель Милана, решил воспользоваться этим для осуществления собственных амбиций и приветствовал вторжение, несмотря на союз Милана с Флоренцией.
Армия двинулась на юг, и Пьеро де Медичи, сын Лоренцо, попытался мирно договориться с Карлом, уступив ему Пизу и несколько других крепостей на тирренском побережье. Флоренция, которая гордилась господством над Пизой, пришла в негодование от такого малодушия. Синьория закрыла свои двери для Медичи и изгнала их из Флоренции. Взбунтовавшаяся толпа ворвалась в легендарный дворец на Виа-Ларга и разграбила его. Савонарола использовал свое влияние на народ, чтобы провозгласить новую республику. Он объявил вне закона азартные игры, скачки, непристойные песни, сквернословие и богохульство, чрезмерную пышность и все проявления безнравственности. Он назначил суровое наказание для нарушителей: за богохульство прокалывали язык, а за мужеложство кастрировали. Безобразный монашек приветствовал армию франков как освободителей. От имени Флоренции он договорился с королем Карлом, что его армия станет лагерем за пределами городских стен. Но 17 ноября 1494 года переговоры Савонаролы обнаружили свою несостоятельность: король Карл ввел во Флоренцию двенадцатитысячное войско.
Для Флоренции это было нелегкое время: сначала Савонарола присвоил себе власть, затем франкская армия оккупировала город на одиннадцать дней. Даже после отступления франков во Флоренции не восстановилось спокойствие. Закрылись таверны и публичные дома, юноши пели псалмы вместо похабных песенок, и в городе хозяйничали неуправляемые банды детей, которые называли себя «плакальщиками» и приводили в исполнение жестокие законы Савонаролы. Торговля приходила в упадок, Пиза заключила союз с Венецией и Миланом, франкская армия отступила, к этому добавился неурожай, и Флоренция, город банкиров и купцов, разорилась.
Каким-то чудом напряжение тех дней никак не коснулось нас с Маддаленой. Мы жили просто и тихо, стараясь не привлекать к себе внимания. Мы были поглощены друг другом и нашей любимой Симонеттой. Мы довольствовались нашей любовью и гордостью за нашу дочь, и они защищали нас, как щитом, поэтому перипетии политической жизни нас мало затрагивали. Мы отгородились ото всех блаженством нашей любви. Оглядываясь сейчас назад, я считаю это настоящим даром судьбы. Рядом происходили трагические события, но мы их не замечали, мы жили и любили. Если бы я знал, как скоро все потеряю, я бы не смог насладиться тем временем сполна. Наше неведение и общие радости позволяли нам плыть по течению времени, как река, свернув в новое русло, впадает в океан. Маддалена легко подчинилась ограничениям в одежде, которые ввел Савонарола, хотя никогда не посещала его проповедей. А потом, в феврале 1497 года, она пришла домой и убедила нас с Симонеттой пойти на карнавал трезвости и самопожертвования, устроенный Савонаролой.
Когда она пришла, мы с Симонеттой занимались латынью. Я отказался нанимать учителя и предпочел сам проводить время с дочерью. К тому же я был неплохим учителем. Я ведь учил мать этого умного дитяти и даже был учителем такого выдающегося человека, как Леонардо, о чьих работах в Милане трубила вся Италия. Он прислал мне письмо и набросок с изображением фрески «Тайная вечеря», которую завершал на стене трапезной в доминиканском монастыре Санта Мария делле Грацие. Я собирался съездить в Милан, чтобы посмотреть на нее. Сандро Боттичелли видел ее, он плакал, когда описывал мне эту картину. Боттичелли клялся, что это чудо, поразительное и мастерски исполненное изображение драматического момента — момента, когда Христос сказал: «Один из вас предаст меня». Характер каждого апостола раскрыт в выражении лиц персонажей фрески: потрясенный Андрей с разинутым ртом; готовый хвататься за нож, дабы доказать свою невиновность, вспыльчивый Петр; черноволосый, застывший в одиночестве Иуда, который виновато отстраняется от Христа. Сам Леонардо написал мне: «У художника две цели: изобразить человека и замысел его души. Первое легко, второе сложно, потому что душу нужно передать через движения тела».
Но Леонардо превосходно показал на своей фреске каждую душу, в том числе глубоко трогающее сердце безмятежное душевное спокойствие и красоту Христа. К виртуозному портретному изображению Леонардо добавил безукоризненную композицию из скрытых треугольников и восхитительную сопряженность обычных, но преображенных его кистью предметов последней трапезы Христа и первого святого причастия: винных кубков, вилок, караваев хлеба и оловянной посуды. Символ жизни хлеб предвещал смерть. Но неотъемлемой частью последней трапезы перед распятием была святость причастия, вечное благословение для верующих. Поэтому смерть неотделима от жизни, а самый обычный момент заключает в себе искупление и трагедию.
Один из таких обычных моментов застал нас с Симонеттой наверху, в мастерской, которую я превратил для нее в детскую. Мы работали над переводом Цицерона. Для десятилетней девочки это было трудное занятие, но умница Симонетта справлялась. Послышался звук хлопнувшей двери, и мы сбежали вниз посмотреть, кто пришел.
— Мама! Как я рада тебя видеть! — засмеялась Симонетта и запрыгнула в объятия матери.
— Милая Симонетта! — Маддалена обняла девочку. — Как ты? Все мучаешься с латынью?
— Да, час, который мы провели без тебя над латынью, был для малышки настоящей пыткой, — сказал я и через маленькую белокурую головку потянулся, чтобы поцеловать Маддалену, вдохнуть аромат сирени и лимона и провести рукой по нежной щеке.
Я никогда не упускал возможность прикоснуться к жене, и позже меня это утешало. Она весело произнесла:
— Лука, Фра Савонарола устраивает очередной карнавал.
— Карнавал? Вот как он называет эти унылые сборища? Карнавал — это когда прекрасная женщина в маске целует мужчину на мосту так, словно он единственный на всем белом свете!
Маддалена засмеялась.
— На этот тоже стоит посмотреть. Весь город сегодня гуляет, слушает его проповеди и участвует в шествии. Почему бы тебе не пойти, и малышку тоже возьмем, повеселимся на славу?
Я старался не попадаться монаху на глаза из опаски привлечь внимание после того, как меня предостерег проницательный Лоренцо. Но когда-то давно я пообещал говорить Маддалене только «да». Даже после пятнадцати счастливых лет, проведенных вместе с ней, для меня было делом чести сдержать эту клятву. Я согласился, надел самую скучную и строгую тунику, плащ, и мы втроем вышли из дома.
Ярость выжигала улицы Флоренции: ярость очищения, совершенствования, слепого подчинения безумцу, самопровозглашенному голосу Бога. Мне надо было догадаться, что подобное стремление к очищению в конечном итоге приведет к трагедии, смертям и горю. Толпы людей в серой тусклой одежде хлынули на площадь Синьории. Стоило нам свернуть на Виа-Ларга, как к нам подлетели малолетние разбойники, исполнители воли Савонаролы.
— Отдайте нам одну из ваших суетных вещей! — потребовал коренастый черноволосый мальчуган лет двенадцати. — Какое-нибудь имущество, к которому вы чрезмерно привязаны, которое мешает вам подчиниться добродетели!
Остальные восемь детей, все одетые в белое, с криками обступили нас, и Симонетта, которой было всего десять лет, с любопытством уставилась на них.
А мальчик пригрозил:
— Мы не уйдем, пока вы не отдадите суетность, мы собираем ее для самого святого Савонаролы!
— Вот, вот, — засмеялась Маддалена и, стряхнув с плеч накидку, отстегнула рукава из чистейшего изумрудного шелка.
Дети радостно закричали и схватили рукава. Я улыбнулся при виде тонких белых рук Маддалены. Они вызывали у меня безнравственные мысли, которых праведный Савонарола никогда бы не одобрил.
— Вы будете вознаграждены на небесах! — воскликнул мальчик, и дети убежали приставать к очередному флорентийцу.
— Ты слишком щедра, Маддалена, — сухо сказал я и помог Маддалене надеть серую накидку.
— Мама всегда замечательная, но вряд ли сейчас у нее был выбор, — практично заметила Симонетта. — От них так легко не отделаешься! Интересно, если бы они читали Цицерона, то были бы более воспитанными?
От таких слов мы, естественно, прыснули со смеху и бросились обнимать дочку. Вот так, прижавшись друг к другу, мы трое шли к площади.
Даже на подходах к площади было так тесно, что яблоку негде упасть. Ропот толпы казался зловещим, и грудь моя сжалась от тревожного предчувствия. Я по опыту знал, что большие скопления людей можно легко подбить на жестокости. Я помнил, как в первую эпидемию чумы толпы хотели сжечь меня якобы за колдовство, забрасывали камнями Моисея Сфорно и маленькую Ребекку. Я вспомнил армию, которая громила родной город Маддалены Вольтерру. Есть что-то в человеческой природе, отчего люди, собравшись в достаточном количестве, принимаются беспричинно разрушать что попало. Я подумал было повернуть обратно домой, но сквозь толпу было не пробиться. Маддалену, Симонетту и меня толкали вперед напиравшие сзади ряды. Я крепко держал Симонетту за одну руку, а Маддалена вцепилась в нее с другой стороны.
Наконец в центре площади перед нами предстало ужасающее зрелище: высокая пирамида из обломков тянулась в небо на десять этажей. Подталкиваемые сзади, мы медленно приближались к подножию пирамиды, и тут предметы приобрели четкие очертания прекрасных вещей, которыми полнилась и была богата Флоренция. Там были книги, картины, карнавальные маски времен Лоренцо, зеркала, пуховки для пудры, кости и карты, баночки с румянами, флакончики духов, бархатные шапочки, шахматные доски, лиры и бесчисленное множество других вещей. Здесь были дешевые безделушки и драгоценности. В куче я разглядел несколько картин Боттичелли, Филиппино Липпи, Гирландайо и одну картину, в которой я безошибочно узнал раннюю работу Леонардо. Сердце мое стеснилось в груди. Я увидел дорогие платья и отороченные мехом накидки, расписные сундуки, золотые браслеты, серебряные потиры и даже усыпанные драгоценными камнями распятия. И толпа, кольцом окружившая пирамиду, продолжала бросать в кучу новые предметы, расставаясь с драгоценной искусной суетой, обладание которой превратило Флоренцию в ослепительную королеву городов итальянского полуострова.
— Швыряйте, швыряйте все золото и украшения, швыряйте туда, где бренная плоть становится добычей червей! — кричал голос, и я понял, что это сам Савонарола.
Я никогда его не видел, меня не интересовали его проповеди, я не хотел иметь с ним ничего общего, но теперь вытянул шею, дабы разглядеть его лицо. Все-таки этот монах вывернул Флоренцию наизнанку. Его слова вызвали дружный рев, который почти поглотил его следующую фразу:
— Кайся, о Флоренция! Облачайся в белые одежды очищения! Не медли, ибо времени на покаяние больше не будет! Господь прислал меня сказать вам: «Кайтесь!»
Наконец я сумел протиснуться и разглядеть его лицо. И тут же узнал его. Это был худой монах с горящими глазами, которого мы повстречали много лет назад, сразу после рождения Симонетты. Это был монах, который видел, как мы с Маддаленой занимались любовью на мосту. Все мои давние инстинкты проснулись и кричали мне об опасности, что находиться здесь нам нельзя и добром это не кончится. У меня мурашки забегали по рукам и шее, в животе бурлило, как будто я до сих пор был в борделе, а Савонарола на самом деле не кто иной, как Бернард о Сильвано.
— Маддалена, нам нужно уйти! — настойчиво проговорил я. — Немедленно!
Но она меня не слышала. Слева от нас поднимался какой-то гвалт: кто-то с венецианским акцентом предложил двадцать тысяч скудо за все предметы искусства, которые были свалены в эту кучу. Разумный человек среди диких животных, подумал я, но обезумевшая толпа изрыгнула вопль возмущения. И голос венецианца внезапно умолк. Я снова закричал Маддалене — бесполезно! Трубили трубы, звонили колокола, и Симонетта выпустила мою руку. Она ткнула во что-то пальцем и побежала, Маддалена едва успела ее поймать. Я пытался бежать следом, но путь мне преградила группа бесноватых, схвативших венецианца и начавших избивать его. Я проталкивал себе путь кулаками и ногами, но не мог высвободиться из этой группы, пока безжизненное тело венецианца не бросили в кучу. К тому времени Симонетты и Маддалены и след простыл.
Я в панике вертелся по сторонам, выкрикивал их имена, но на площадь уже хлынули стражники, чтобы окружить кострище, и я даже не слышал собственного голоса за гулом толпы и звоном всех городских колоколов. Казалось, на площади и окружавших ее улицах сейчас собрались все сто тысяч жителей Флоренции. Я расталкивал людей, лихорадочно вглядываясь в лица. Я звал жену и дочь, пока не осип. Стражники подожгли пирамиду сует, и за этим зрелищем с балкона наблюдала Синьория. Я взбирался на стены и ворота, заглядывал в толпу сверху, но тщетно. Спустя несколько часов я отправился домой, зная, что Маддалена и Симонетта вернутся туда.
Я прокладывал себе путь сквозь встречный поток людей, которые направлялись к кострищу Савонаролы. Желто-красное зарево погребального костра Флоренции озаряло небеса. Когда я наконец добрался до дворца, у дверей меня ждал Сандро Филипепи. Лишь бросив взгляд на него, я понял: что-то случилось. Сандро, этот веселый и неунывающий человек, рыдал.
— Не заходи, — отрывисто выдавил Сандро и обнял меня, прижавшись к моей щеке залитым слезами лицом.
— Что случилось? — воскликнул я. — Где Маддалена и Симонетта?
— Возьми себя в руки, Лука, — всхлипнул Сандро и схватил меня за руки. — Я думал, что Савонарола спаситель, что он предложил нам хоть какое-то решение… Но это!
Он отступил в сторону.
Я вбежал через открытую дверь в вестибюль, где маленьким безмолвным кружком стояли люди: мои слуги, толстая служанка Маддалены, две подруги жены и несколько незнакомцев. Все они рыдали. Поняв, что произошло, я в ужасе вскрикнул. И они расступились. На полу лежали Маддалена и Симонетта. Обе насквозь мокрые, их темные платья раскинулись веером вокруг бледных светящихся тел, как чернильные кляксы. Одного взгляда мне хватило, чтобы понять: они мертвы, но я все равно пощупал пульс. Сначала склонился над Симонеттой, потому что знал: так захотела бы Маддалена. Светло-рыжие, как у меня, волосы нашей дочурки пропитались водой, как и простенькое коричневое платьице, какие требовалось носить по распоряжению Савонаролы. Накидки не было, и я убрал с лица дочки густую прядь волос, прежде чем мои дрожащие пальцы осмелились опуститься на шею. Ничего! На запястье тоже ничего. То же самое с Маддаленой. Я вернулся к Симонетте, поднял ее маленькую, милую головку, запрокинул назад и вдохнул ей в рот воздух. Не знаю, сколько раз я дышал за нее, чтобы она очнулась, но потом Сандро сумел оттащить меня.
— Хватит, достаточно! Им уже не поможешь, Лука, — всхлипнул он.
— Как это произошло? — в оцепенении спросил я.
На стене горели яркие факелы, но я почти ничего не видел. Перед глазами все расплывалось — люди и стены смешались в моих глазах, буйный калейдоскоп красок придавил меня сверху каменной стеной. Я едва мог сосредоточить взгляд. В груди моей не осталось воздуха, я не дышал, замкнутый в своем теле.
— Я увидела, совершенно случайно, — в слезах прошептала служанка Маддалены. — Сам Савонарола заметил ее в толпе и ткнул в нее пальцем, как будто он ее знал. Он начал кричать: «Шлюха! Шлюха!» Люди подняли ее на плечи, чтобы монаху было виднее, и он начал обличать книгу, которую она держала в руках. Она хотела спасти эту книгу из костра. Кажется, это была книга по астрологии, потому что он орал: «Шлюха! Звездочетка!» А потом ее уронили с плеч, и целая свора народу погнала Маддалену к Арно. Они обзывали ее шлюхой, кричали, что астрология — это богохульство, что ее нужно очистить. Симонетта помчалась следом и бросилась в реку, чтобы помочь матери. Тут накатил огромный вал, и они утонули! Немного спустя они всплыли.
— Я слышал то же самое, — скорбно произнес Сандро. — Савонарола как-то увидел книгу по астрологии и магии, которую держала твоя жена, и заорал: «Шлюха! Колдунья!» И потом все закричали, и бешеная толпа погналась за ней. Девочка бросилась следом, хотя Маддалена старалась ее оттолкнуть и уговаривала бежать от нее. Но решительная Симонетта не стала ее слушать.
— Решительная… — прохрипел я. — Она была предана мне и матери.
Я помотал головой, чтобы прояснить зрение. Меня окружали потрясенные лица, и я махнул им, чтобы уходили. Я выгнал всех, даже служанку, которая выла от горя, и другим слугам пришлось увести ее силой.
Оставшись один, я лег на пол между Маддаленой и Симонеттой. Я взял обеих за руки. Речная вода с одежды собралась в лужу на полу, впитываясь в мою одежду, в мою кожу и кости, словно пытаясь растворить то, что осталось от меня после этой утраты, — пустую, бесполезную телесную оболочку. Я пролежал так молча долгое время, дожидаясь смерти, молясь о ней. Я молился прежде только дважды: когда стоял перед фресками Джотто в Санта Кроче и после похорон толстого рыжего Джинори в фьезольских холмах. Я завидовал Джинори, который умер вскоре после своей семьи, и молился о том же. Я молился о смерти. Я молил Бога о том, чтобы он соединил меня с женой и дочерью, где бы они ни были. Я умолял его и обещал отдать все, лишь бы он закончил эту шутку и дал мне умереть.
Но мои молитвы не сразу были услышаны. Стало ясно, что этой ночью я не умру, и тогда я начал говорить с Маддаленой и Симонеттой. Я говорил о том, как сильно их люблю. Я говорил, как много они для меня значат, как они важны для меня, как бесконечно я благодарен за возможность любить их. Я не раз говорил им об этом и раньше, и хотя бы в этом было какое-то утешение. А потом я начал рассказывать им свои тайны. Тайны, которые должен был раскрыть любимой Маддалене, пока было не поздно, но не сделал этого, потому что во мне засел страх.
— Мое имя Лука, и, наверное, я бессмертен, — заговорил я. — Мне больше ста семидесяти восьми лет. Я не старею, как другие люди. Я знал Джотто, а мой лучший друг по имени Массимо продал меня в бордель. Я убил многих людей.
Когда от звуков моего голоса по закопченным от факелов стенам побежали дрожащие тени, мне показалось, что мои жена и дочь сидят рядом и слушают.
Когда на другое утро пришел Сандро, я уже потерял рассудок.
К похоронам Маддалены и Симонетты рассудок мой еще не вернулся. Сандро одел меня и продержал всю панихиду, поэтому я не порвал на себе одежду и не носился с воем по церкви. А потом я бросил дворец и стал жить на улице. Богатства, сытость и прекрасный дом больше не имели для меня значения. Как в далеком детстве, я спал на площадях и под стенами близлежащих церквей, под четырьмя мостами через Арно и у высоких каменных городских стен. Я ел то, что находил или что мне подавали. Мне уже было все равно. Я снова стал оборванным нищим, с длинными грязными космами и запущенной, свалявшейся бородой. На один короткий миг в моей голове настало просветление, когда погребальный костер раздвинул пелену, которая застилала мой разум, и что-то в нем ненадолго прояснилось. Костер горел на площади Синьории. На том же самом месте, где Савонарола устраивал сожжение сует, был воздвигнут дощатый эшафот. На костре сожгли тела Савонаролы и еще двух монахов, после того как их повесили инквизиторы. Пока языки пламени лизали небо, я на короткий миг почти снова стал собой. Находясь на грани безумия и рассудка, я отчетливо понял, в чем ошибся этот монах. Савонарола не понимал одного существенного факта. Если правда, что потусторонний мир наполняет смыслом эту жизнь, то правда и то, что этот мир наполняет смыслом мир иной. Аксиома человеческого сердца заключается в том, что мы, как верил Фичино, боги, но в то же время мы прах и пыль, плодоносная бурая земля, что лежит на холмах, под зеленой порослью лесов и на черных полях, вспаханных перед севом. Мы — создания небес и земли. И спасение наше не в чистоте, а в богатстве, которое дает нам земля.
Через несколько часов тела трех монахов сгорели, и обуглившиеся конечности постепенно отвалились. Остовы еще свисали с цепей, которыми они были привязаны к эшафоту, и толпа забрасывала их камнями. А потом палач с помощниками подрубил подмостки и сжег их на земле, добавляя горы хвороста и вороша огонь над трупами, чтобы он поглотил каждый кусочек этих тел. Прибыли повозки и увезли прах, чтобы сбросить в Арно у Понте Веккьо, дабы останки не собрали для поклонения флорентийские глупцы, которые привели своего губителя к власти.
Время свернулось для меня в бессмысленный узел, так что я не знаю, сколько прошло времени, прежде чем ко мне пришел священник. Я целыми днями сидел у Арно, вглядываясь в его глубину. На поверхности воды пеленой растворенных красок и переливчатых радуг расплывались прекрасные лица моей жены и дочери. Иногда, прищурив глаза, я даже видел Марко. Моего старого друга Марко, который давал мне сласти и добрые советы. Я помнил его длинные густые ресницы и грациозную походку. В волнах мне виделись и другие люди: Массимо, его уродливое тело и острый ум; белокурая Ингрид с измученными глазами; Джотто, лучащийся добротой и живым умом; врач Моше Сфорно и его дочери, особенно Рахиль, которая учила меня, дразнилась и однажды попыталась поцеловать меня; Кьяра Иуди, которая ввела меня в мир любовных наслаждений; Козимо и Лоренцо де Медичи; Гебер, Странник и Леонардо. И никогда не оставляла меня Маддалена, запавшие мне в память переливчатые глаза и густая волна разноцветных волос, которые я никогда не уставал целовать. Иногда, видя, как она смотрит на меня из воды, я даже чувствовал аромат сирени с лимонным оттенком. Я просыпался в грязи с ее запахом в ноздрях и на языке, как будто любил ее во сне. И я не хотел просыпаться. И не мог позабыть о милой крошке Симонетте, на которую возлагал столько надежд. Она должна была стать ученым и философом, как Фичино, художником, как Леонардо или Боттичелли, и выйти замуж за короля. С такой красотой и очарованием, огромным приданым перед ней были открыты все пути. И она оставалась бы вечно молодой, как и я.
Однажды весной за мной пришел священник.
— Пора, Лука Бастардо! — сказал он и довольно улыбнулся.
Ему было лет тридцать, и в чертах его было что-то знакомое, но я пока не мог припомнить, где я его видел. Узнавал я только лица своей жены Маддалены и дочери Симонетты, которые пели мне из реки.
Священник улыбнулся еще шире.
— Пора!
Я ничего не понял. Для меня он едва ли отличался от дрожащего воздуха над раскаленной мостовой в знойный полдень, но я пошел за ним по собственной воле. Я откуда-то знал, что он ведет меня в трапезную. Там слуга меня вымыл, побрил, одел в чистую одежду. Затем он вывел меня к священнику, который сидел за большим столом, и я начал смутно догадываться, что это очень важный человек. Я огляделся по сторонам и понял, что нахожусь в монастыре Сан Марко, которому Медичи жертвовали столько денег. Там была изысканная алтарная картина работы Фра Анджелико, благочестивого художника, который молился и плакал перед тем, как прикоснуться кистью к священной фигуре Христа. На алтаре была изображена Мадонна с младенцем на золотом троне, в четко продуманной композиции, а на заднем плане зеленели тосканские кипарисы и кедры.
Туман в голове прояснился и впустил чуточку света. Я повернулся к священнику и внимательно вгляделся в его лицо: черные волосы, узкое лицо, выступающий подбородок и похожий на лезвие нос. И вдруг я понял, кто это. Сильвано! Путаница сумбурных образов и воспоминаний, в которых я жил, вдруг треснула, точно пораженное молнией дерево, и все стало для меня ясно. Вернувшийся разум осветил мое внутреннее я и вместе с ним весь ужас моей утраты. Я вскрикнул и упал на колени.
— Правильно, так и надо! — довольно проговорил священник. — Ты ведь узнал меня?
— Сильвано… — почти беззвучно промолвил я, потому что смерть жены и ребенка ударили меня, точно ножом в живот. Я не мог дышать и, тужась от рвоты, согнулся пополам.
— Джерардо Сильвано, — кивнул монах. — Я дальний потомок Бернардо Сильвано и Никколо Сильвано. Я видел твое лицо на картине Джотто, и с малых лет мне твердили, как важно тебя уничтожить. Моя семья долго ждала возможности обрушить на тебя свою месть, Лука Бастардо. Ты урод, богомерзкое создание, колдун, проживший безбожно долгую жизнь, ты убийца! Смерть жены и ребенка ослабила твои дьявольские силы и подготовила тебя. А теперь я предам тебя суду и осуществлю то, что завещал мне проклявший тебя мой пращур. Для этого я использую тебя самого. Ты сам, по собственной воле, навлечешь на себя возмездие. Мимо тебя пройдет кардинал, которому сулят папский престол, и ты объявишь, кто ты такой.
— Я готов, — ответил я.
Какая ирония судьбы, какая чудная шутка, достойная божественного Провидения: Сильвано станет средством моего освобождения!
Я стоял на Соборной площади в тени несравненного купола Брунеллески. К тунике моей было привязано красное перо. Джерардо подробно объяснил мне, что нужно делать, и я понял. Я с нетерпением стремился исполнить задуманное. Сын Лоренцо, Джованни, который стал важным кардиналом, прибыл во Флоренцию с посланниками инквизиции. Они должны были выйти из собора Санта Мария дель Фьоре после мессы. А когда они выйдут, я обращусь к ним.
День был теплый и чуть ветреный, один из тех тосканских дней, когда небо парит бескрайней лазурно-белой сетью, а деревни вокруг Флоренции вспыхивают яркими красками весенних цветов. Я стоял на маленьком деревянном ящике и дрожал от нетерпения. Я был чист и сыт, на мне была добротная шелковая туника. Сердце свободно билось в открытой груди, и я был весь в лихорадке от радостного нетерпения. Скоро я воссоединюсь с Маддаленой! Из величественного собора стали выходить прихожане: женщины в шелковых и бархатных платьях, с дочерьми, повисшими на их юбках, лавочники и чесальщики шерсти, горстка наемных солдат, нотариусы и банкиры, ювелиры и кузнецы, оружейники и купцы, парочка уличных бродяг, которые сидели на задних скамьях, а после службы просили милостыню в надежде на то, что месса вдохновила христиан на пожертвования.
И наконец, в богатом одеянии из собора вышел Джованни, сын Лоренцо де Медичи. Я вспомнил, как Леонардо однажды провидчески сказал мне, что Джованни станет Папой. Я видел только высокого крупного мужчину с одутловатым лицом, вздернутым носом и близоруко прищуренными глазами. Он был больше похож на свою мать римлянку Клариссу, чем на Лоренцо. Двигался он медленно, потому что его окружали скромно одетые священники со строгими лицами. Это были инквизиторы.
— Я Лука Бастардо! — крикнул я.
Люди замерли и повернулись ко мне, в том числе мрачные спутники кардинала.
— Я прожил больше ста восьмидесяти лет! Я поклоняюсь Богу-насмешнику, и только ему! Я Лука Бастардо!
Если не считать необычайного выбора, который я сделал когда-то давно, в ночь алхимии и превращения, то история моего заключения и пыток ничем не отличается от истории таких же тысяч жертв инквизиции. Меня бросили в камеру и допросили. В 1484 году Папа Иннокентий издал папскую буллу против колдовства, и доминиканцы установили порядок процедур для расправы с ведьмами, которому четко следовали, строго соблюдая соответствующие правила. Меня раздели, побрили и изучили на предмет меток дьявола. На теле ничего не нашли, и тогда священники искололи всего меня иголками, разыскивая нечувствительные точки, доказывающие колдовскую неуязвимость. Потом они обсуждали, стоит ли применять пытки. Это означало, что меня привяжут к доске за запястья и лодыжки, а потом будут растягивать, пока не вывихнут все мои суставы. Или пытка при помощи страппадо: мне свяжут руки за спиной, веревку привяжут к подмосткам, а потом будут сбрасывать меня с подмостков до тех пор, пока не вывихнут руки и плечи. Джерардо Сильвано одобрил использование турки: мне вырвут ногти, а потом в раны будут втыкать раскаленные иголки. Джованни, зашедшему взглянуть, как идет дело, споры надоели, и он приказал высечь меня хлыстом, двести раз. Дальше он не решился смотреть и ушел, когда докрасна раскаленные щипцы были готовы, чтобы начать пытку.
Закончился мой первый день, который на самом деле был концом второго, потому что допрос начался ночью. Наконец инквизиторам наскучила эта забава и они ушли. Возиться со мной им было неинтересно, потому что я с готовностью признавался во всем, в чем меня обвиняли. Да, я колдун. Да, я поклонялся дьяволу. Да, я практикую черную магию. Разумеется, я пил кровь христианских младенцев на сатанинском ритуале, который шутовским образом издевается над святым причастием. И меня бросили в эту маленькую келью. Все тело кровоточило после хлыстов, из ожогов сочился гной. Пальцы на левой ноге сломали в тисках, левую лодыжку раздробили ударами молотка, пока кость не превратилась в кашу, а кожа в лохмотья. Я лежал на полу и задыхался, не обращая внимания на воду, которая капала из глаз. На самом деле мне повезло, что у меня еще остались глаза. Джерардо хотел выжечь их раскаленным железом.
Прошло время — может, день, может, два, обо мне точно забыли. Через прутья на двери мне совали плесневелые хлебные корки. А потом я услышал встревоженный голос, который звал меня по имени:
— Лука, мой Лука!
Даже сквозь боль я узнал певучий голос Леонардо. Я через силу подтянулся и сел, прислонившись спиной к стене своей клетки.
— Как поживаешь, мой мальчик? — прокаркал я.
— Лучше, чем ты, — ответил Леонардо.
Он просунул руку сквозь прутья решетки и осторожно прикоснулся к моей голове. Его прекрасные глаза наполнились слезами, и благородное лицо исказилось от боли.
— Я сделаю для тебя все возможное, дорогой! Я уговорю Сфорцу просить у Папы о твоем помиловании. Я уговорю влиятельных людей вмешаться, я все сделаю!
— Как сталось, что ты здесь? — спросил я, мелко моргая от невыносимой боли, которая накатывала пульсирующими волнами.
— Филипепи прислал ко мне гонца в Милан, когда тебя схватили. Гонец искал меня несколько дней. И я сразу приехал. Я подкупил тюремщика и кучку священников, чтобы меня пустили к тебе. Ах, Лука, как же это могло случиться! — срывающимся голосом пробормотал он.
— Вообще-то мне все равно, — вздохнул я. — Не хочу жить без Маддалены и Симонетты.
— Почему ты не послал за мной, когда они погибли? — отчаянно воскликнул он. — Я бы утешил тебя! Я поздно узнал, а когда узнал, ты уже исчез! И никто не мог найти тебя.
— Я сошел с ума, — тихо произнес я и дотянулся до его руки. — Я только ждал возможности освободиться, чтобы соединиться с ними. Я проклял свою долгую жизнь, которая отдаляла меня от них.
— Тебя скоро освободят, — сквозь слезы ответил он. — Я-то знаю, что ты не колдун, Лука. Мы должны тебя как-то спасти!
— Теперь это уже невозможно. Да и почему это я не колдун? — спросил я и пожал плечами. — Почему нет? Я помечен этим проклятым бессмертием, которое я так долго скрывал. Может, доминиканцы и правы и какое-то черное колдовство сохраняет мне неестественную молодость.
— Нет! Этому есть другое, естественное объяснение! Например, твои органы и жидкости восстанавливаются! Я не знаю этого сейчас, но в будущем ученые изучат тебя и узнают, как устроен твой организм! — Он замолк, чтобы перевести дыхание.
— Кто знает, природа прихотлива, может, она создала меня ради забавы, — пожал я плечами. — Человека, который живет слишком долго, гораздо дольше, чем положено. И человек это понимает, когда умирают его жена и ребенок.
Он долго смотрел на меня, а потом кивнул.
— Должно быть, природа хотела увидеть, как дух, запертый в твоем теле, будет бороться за возможность вернуться к первоисточнику.
— Теперь мой дух освободится, — сказал я. — Завтра меня сожгут на костре.
Всеми правдами и неправдами, взятками, лестью и прочими хитростями Леонардо добился в виде исключения разрешения принести мне чистую одежду. Он ушел и вернулся с одеждой, книжкой Петрарки и картиной Джотто, которую я тут же отдал ему в наследство. Он был расстроен и не хотел принимать ее, но я уговорил его. Наконец он ушел, и как я его ни любил, но с его уходом испытал облегчение. Его скорбь меня угнетала.
И я принялся записывать свою жизнь, о которой нисколько не сожалел, несмотря на эти страдания. Я любил Маддалену, и это главное. То, что она любила меня в ответ, было милостью улыбчивого Бога. Некоторые проживают всю жизнь без такой любви, они ищут по свету долголетие или богатство вроде того, что нажил я. Они и не понимают, что величайшее сокровище — это то, что у тебя в сердце.
Всю ночь я писал на пергаментных страницах книжки, которую мне подарил Петрарка. Скоро рассвет, наступает день, когда меня поведут на костер. Я сижу, опершись на каменную стену камеры ободранной до мяса спиной, и подо мной растекается лужа моей собственной крови.
Слышу какой-то шорох возле решетки, и ко мне заглядывает тюремщик.
— Они прилично заплатили, чтобы увидеть тебя, колдун. Надеюсь, ты того стоишь.
Он плюнул в меня и затопал прочь. Глаза мои закрываются. Интересно, кто пришел посмотреть на мои предсмертные унижения.
— Лука! — зовет отрывистый женский голос.
Я поднимаю глаза и вижу за прутьями красивую женщину с черными волосами и умными лилово-голубыми глазами. Рядом с ней мужчина и женщина зрелого возраста, им, наверное, лет пятьдесят. Все трое стройны и красивы, они хорошо одеты в платье не флорентийского покроя, и на глазах у них слезы. Я понимаю, кто они, еще прежде, чем они начинают говорить, упираюсь руками в шершавую поверхность стены и кое-как поднимаюсь на ноги. Я плачу, но не от нестерпимой боли, от которой почти теряю сознание. Эта боль гораздо сильнее, чем я вообще мог себе представить, даже живя в публичном доме. Я молю самого себя: не теряй сознание! Скоро, очень скоро боль и все остальное уйдет.
Пожилая женщина тоже плачет. Тихие рыдания со стоном вырываются у нее из груди, через прутья она протягивает руку. Я на шатких, обожженных и переломанных ногах подхожу к ней, спотыкаясь на каждом шагу, падаю на колени и уже не могу подняться.
— Простите, — шепчу я.
— Не надо! — отвечает она с легким акцентом.
Она тоже опускается на колени и, скользя руками по прутьям, изо всех сил вытягивает руку и наконец дотягивается до моей руки.
— Я твоя мать.
— Я твой отец, — говорит мужчина прерывающимся голосом.
Он опускается рядом с моей матерью, вытягивает руку и берет меня за плечо. Прикосновения их добрые, теплые, полные нежности, о которой я тосковал всю жизнь и которую уже отчаялся узнать. Я внимательно разглядываю их, и правда: ее волосы, посеребренные сединой, такого же цвета, как у меня, а у него похожие на мои черты. От этого сходства меня охватывает безмерная радость. В конце концов, какое имеет значение, что я узнал свое происхождение, если очень скоро мне предстоит умереть?
— Я хотел спросить, — прохрипел я, — почему вы выгнали меня на улицу, когда я был маленьким ребенком? Что со мной не так? Разве вы сами не отличаетесь от остальных людей так же, как я? Вы до сих пор живы, вы даже старше меня, а мне больше ста восьмидесяти лет!
И пока свет за окном постепенно перетекает из темно-синего в лавандовый и золотой, они рассказывают мне мою историю. Я родился в семье, которую природа наделила загадочным даром долголетия.
— Мы такие, как патриархи. Наша родословная действительно восходит к библейским предкам, к нескольким семьям, которые выжили после Всемирного потопа, — серьезно говорит мне отец, не убирая сильных, теплых рук с моего плеча. — Сейчас таких семей шесть. Мы знаемся между собой, но скрываем наш необычный дар от остального мира, храня нашу тайну. Мы живем в горах среди чужеземных племен далеко на Востоке. Мне больше пятисот лет.
— Случилось так, что мы путешествовали, и твои родители были в Авиньоне, а я во Флоренции, и тут я услышала, что ты кричал на площади несколько дней назад, — продолжила молодая девушка, моя двоюродная сестра Деметрия. — Ты говорил о своем возрасте. Твой цвет волос, благородныечерты… Я сразу поняла, кто ты! И тотчас поехала за твоими родителями!
— Тебя украли из колыбели, когда тебе еще не было и трех лет, — добавляет моя мать, и я вижу на лице ее те муки, которые она тогда пережила.
Она гладит меня по руке, и это прикосновение даже чуть облегчает мучения в моем теле. Какое счастье, что я испытал это прикосновение перед смертью! И она говорит:
— Я выгнала няньку, и она решила отомстить. В то время мы жили далеко отсюда, в деревне на Ниле. Я и не представляла, что она так далеко тебя увезет! Я не переставала искать тебя. Я всегда знала, что когда-нибудь мы тебя найдем!
— Значит, если бы не злая нянька, у меня был бы и дом, и семья, — тихо произнес я.
Меня пронзает острый приступ обиды, сожаления и гнева, а потом я вдруг подумал, как же это смешно. Простая нянька нанесла такой сокрушительный удар людям, наделенным жизненной силой богов! Я посмеялся, но только немного, потому что смеяться мне больно.
— И все равно я бы не хотел ничего изменить, потому что, живя своей жизнью, я полюбил Маддалену. Поэтому я ни о чем не жалею.
— Жаль, что я не знала твою жену, — печально говорит моя мать. — И мою внучку!
— Мне жаль, что ты потерял их, — говорит мой отец.
— Мне нужно было настойчивее искать, искать тебя в других городах, — всхлипывает моя мать. — Я не все сделала для тебя, нужно было лучше стараться, сделать все, чтобы разыскать тебя!
— Я тоже вас искал, — спокойно отвечаю я. — Я сам пытался выяснить, когда меня изгнали из Флоренции. А когда жил здесь, посылал на поиски людей.
— Мы очень хорошо скрываемся, — говорит отец. — Иначе нельзя, чтобы нас не поймали и не убили. — Он со стоном скрежещет зубами. — Мы и не думали, что ты нас ищешь!
— Не знаю, сможем ли мы вызволить его отсюда, — встревоженно говорит Деметрия.
Деметрия — высокая, стройная и очень красивая девушка. Она все время всплескивает руками, испуганно смотрит на меня и меряет шагами камеру.
— Ничего не поделаешь, уже слишком поздно, — отвечаю я. — Я не хочу уходить от судьбы. Я воссоединюсь с Маддаленой. Я готов уйти.
Моя мать издает такой звук, будто ломается кость, и прячет лицо на груди Деметрии. Та ее обнимает.
— Я могу заплатить палачу, чтобы он сломал тебе шею, и ты не будешь долго страдать, — вымученно говорит мой отец хриплым, прерывистым голосом, и я понимаю, чего ему стоило произнести эти слова, ведь у меня тоже был ребенок. Может, мне даже было легче, потому что мне не пришлось смотреть, как она умирает. А они увидят.
Он отчаянно сжимает меня за плечо, словно хочет сам влиться в меня и занять мое место на костре. Интересно, каково было бы вырасти рядом с ним, узнать его любовь и заботу? Но я помню, что никогда бы не встретил и не полюбил Маддалену при других, более счастливых обстоятельствах. А в ней весь смысл моей жизни, в ней вся моя душа, и я ничего не хотел бы изменить в своей жизни. Ни детство на улицах, ни бордель Сильвано, ничего! Потому что изменить все это, возможно, означало не встретить ее. По крайней мере, в эти последние часы перед смертью я узнал близость и тепло семьи, моей семьи.
— Не надо платить палачу. Я хочу быть в сознании, когда умру, — сказал я, чувствуя в сердце что-то похожее на радость. — Тогда это будет хорошая смерть.
Меня связывают, суют кляп в рот и ведут через насмехающуюся надо мной толпу на площадь Синьории. Там меня ожидает столб и гора дров. Они ждали меня всю жизнь. Люди бьют меня, плюют в меня, даже секут мечами и бросают в меня грязью. Но мне все равно. Я чувствую присутствие Маддалены. Я слышу ее аромат сирени и лимонов, как будто она идет рядом. И я улыбаюсь. Меня привязывают к столбу, и рядом священник Джерардо Сильвано следит, крепко ли держатся цепи на ногах. Я обвожу толпу взглядом и вижу Леонардо, сына сера Пьеро из Винчи, и он плачет. Рядом стоит Деметрия, обнимая моих родителей. Они тоже плачут. Мне жаль видеть их горе, хотя я знаю, что от этого никуда не деться.
А потом сквозь толпу проходит человек, крупный, мощный, с косматой бородой, на голове у него густая копна черных с проседью волос. Его глаза превратились в бездонные озера скорби и пустоты, в его взгляде есть что-то, что вытягивает из меня мою боль, и я чувствую большое облегчение. Я благодарно киваю Страннику, и он кивает в ответ. Он разводит руками, и я вижу, что одной узловатой рукой он держит заруку Маддалену, а другой — Симонетту. Маддалена склонила прелестную голову, ее чудесное и серьезное лицо наполнено горем, и я знаю, что ей тяжело видеть мои страдания. Плотной группой за ними стоят Гебер, Марко, Массимо, Джотто, Джинори, Ингрид, Моше Сфорно с дочерьми, Петрарка, Донателло, Козимо де Медичи и все люди, которых я любил. Все они здесь и все ждут. Из меня вырывается громкий крик радости и свободы, факел палача поджигает костер, и пламя озаряет мое тело. И я стою в самом сердце солнца. И повсюду свет.
Джозефина Тэй
Человек из очереди
Человек из очереди
Глава первая
УБИЙСТВО
Был мартовский вечер. Между семью и восемью у театров по всему Лондону установили турникеты, закрывавшие доступ на галерку и в партер. «Бах, трах, бум» — звуки далеко не мелодичные, но они служили прелюдией к будущим представлениям, и для всех истомленных поклонников Феспсиса и Терпсихоры, выстроившихся в колонны по четыре у врат обетованных, будь то последний бродяжка, не было ничего слаще этих звуков. Такое, правда, наблюдалось не везде. Возле театра Ирвинг всего пять человек расположились на ступеньках у входа, явно предпочитая комфорт теплу внутреннего закутка у кассы: греческая трагедия в этом сезоне была явно не в моде. Плейбокс-театр посещали исключительно снобы, которые к галерке относились с пренебрежением. Однако возле театра Уоффингтон две живые цепочки вились, загибались и, казалось, уходили в бесконечность. Уже давно величественный служитель прошел вдоль очереди и, жестом простертой длани отсекая все надежды, произнес сакраментальную фразу: «Отсюда и дальше — только стоячие места».
Итак, одним сокращением дельтовидного мускула отделив овсы от плевел, он с олимпийским спокойствием проследовал сквозь зеркальные двери в ласковый уют вестибюля. Однако из длинной очереди никто не ушел. Тех, кому предстояло провести на ногах следующие три часа, казалось, ничуть не опечалило выпавшее на их долю испытание. Они болтали и смеялись, поддерживая свои силы ломтиками шоколада в серебряных обертках. Только стоячие места? Подумаешь! Можно и постоять ради удовольствия еще раз увидеть «А вы и не знали?» — мюзикл, родимый лондонский мюзикл, который не сходил с подмостков целых два года, а теперь шел последнюю неделю. Исполнял свою, можно сказать, лебединую песнь!
Места в кресла и ложи были раскуплены давным-давно, и масса наивных девиц, не привыкших к очередям, толпилась у закрытого входа, поскольку на этот раз никакие подкупы и соблазны на кассиров не действовали. Казалось, весь Лондон жаждал попасть в Уоффингтон, чтобы сегодня еще раз устроить овации своим кумирам; услышать, что нового вставит в свой каскад дурачеств Голли Голан — тот самый Голан, которого недавно извлек из провинциального небытия отважный менеджер и который, получив шанс стать известным, использовал его сполна. О, и еще раз погреться в лучах веселья и красоты, исходивших от Рей Маркейбл — этой кометы, внезапно появившейся на театральном небосклоне два года назад и стремительно взлетевшей к зениту славы, затмив всех прочих, известных и незаменимых; Рей, которая кружилась и танцевала, как листок, подхваченный ветерком; чья легкая улыбка Моны Лизы за шесть месяцев положила конец рекламной моде на белозубый оскал. Критики писали о ее «непередаваемом обаянии»; ее горячие поклонники тем не менее пытались его передать каждый по-своему, прибегая к жестам и гримасам, когда не хватало слов. И вот теперь она, как и многое другое из старой доброй Англии, уплывала в Америку. Два года она пробыла с ними, и без нее Лондон покажется безводной пустыней! Да тут согласишься стоять хоть целую вечность — лишь бы увидеть ее еще в последний раз!
Уже с пяти вечера начало моросить, и время от времени легкий, пронзительный ветерок, подхватывая морось, будто взмахом кисти опрыскивал всю очередь от начала до хвоста. Однако и это обстоятельство никого не обескураживало: погода явно вела себя несерьезно, и легкий дождик воспринимался как терпкий аперитив перед предстоящим пиршеством для зрения и слуха. Люди поеживались, перебирали пальцами ног и, как полагается истым кокни, использовали любую возможность поразвлечься, какую только предоставляла узкая, словно ущелье, улица.
Сначала появились мальчишки-газетчики, верткие, с худенькими личиками и не по-детски настороженными глазами. Они промчались вдоль очереди как степной пожар и исчезли, оставив после себя обрывки реплик и шелест газетных страниц. Потом появился маленький уродец, с ногами короче туловища. Расстелив серенький коврик на мокрой мостовой, он принялся завязывать себя в немыслимые узлы, пока наконец не стал напоминать застигнутого врасплох съежившегося паука: его глаза вдруг зыркали на очередь из совершенно неожиданных мест, и от этого даже у самых нечувствительных мороз бежал по коже. За ним последовал скрипач — исполнитель популярных мелодий, который, судя по всему, пребывал в счастливом неведении, что одна из басовых струн у него брала на полтона ниже. Вслед за ним появились одновременно исполнитель чувствительных романсов и нестройный оркестр из трех человек. Минуту-две они мерили друг друга недружелюбными взглядами, после чего певец, действуя по принципу «кто смел, тот и съел», с места в карьер жалобно затянул «Все оттого, что ты пришла ко мне». Но тут глава оркестрика передал гитару подручному и, широко расставив локти и вытянув руки перед собой, направился к тенору выяснять отношения. Тенор попытался было выразить свое полное пренебрежение тем, что продолжал петь и глядел поверх головы оркестранта. Однако вскоре обнаружил, что это довольно трудно, поскольку музыкант был выше него на полголовы и держался весьма нахально. Бедняга умудрился пропеть еще две фразы, после чего неуверенно смолк и завершил выступление горькими жалобами, перейдя на вполне прозаическую речь, а минутой спустя, извергая угрозы и проклятья, исчез в темной аллее. Оркестранты, не теряя времени, рванули с ходу самую популярную танцевальную мелодию. Поскольку она более соответствовала современным вкусам, чем неуместное обращение к выцветшим сантиментам прошлого, все тут же забыли о несчастной жертве насилия над личностью и принялись притопывать в такт. После оркестра, сменяя друг друга, публику развлекали проповедник-евангелист, а также человек, который сперва разрешал завязывать себя внушительными веревками и со впечатляющей ловкостью тут же от них освобождался. Каждый, отработав свой номер, следовал дальше, но перед уходом проходил вдоль всей очереди от головы до хвоста, время от времени просовывая в редкие просветы между плотно стоявшими людьми свой истрепанный, но обладавший магической силой преодолевать все преграды головной убор, прочувствованно повторяя: «Спасибо вам! Спасибо! Еще раз спасибо!» — призыв, которому надлежало расположить публику к щедрым пожертвованиям. Продавцы сластей, спичек, игрушек, торговцы открытками — каждый со своим товаром — успешно заполняли паузы между отдельными номерами этой развлекательной программы.
Очередь добродушно расставалась со своими пенсами, вполне довольная немудреным развлечением. Но вот трепет пробежал по толпе — трепет, который искушенному зрителю был прекрасно знаком и мог означать лишь одно. Складные скамеечки и стульчики были моментально убраны, свертки с едой исчезли, и появились кошельки. Двери наконец-то растворились. Начиналась захватывающая, увлекательная игра. Что сулило им сегодня заветное окошечко кассы: победу — то есть билет — или же поражение? Где-то впереди, у самой головы очереди, напряжение выросло настолько, что на минуту-другую основной инстинкт, призывающий англичанина всегда знать свое место, был забыт, — я здесь вполне сознательно говорю именно об англичанах, потому что шотландцу это чувство просто незнакомо, — и очередь утратила свой математический расчет на «первый — второй». Произошла небольшая давка, незаметная на первый взгляд концентрация сил, пока наконец очередь перед турникетом не приняла вид однородной, тяжело дышащей массы. Звяканье опускаемой в прорезь монетки означало, что впуск продолжается и что очередной счастливец переступил порог рая. Один этот звук заставлял стоящих сзади бессознательно напирать сильнее, пока передние не стали протестовать во всю силу своих сдавленных легких и полицейскому не пришлось пройтись вдоль очереди, увещевая чересчур нетерпеливых: «Подайте-ка назад. До начала еще пропасть времени. Напирать бессмысленно, это ничего не даст. Соблюдайте порядок!» Время от времени вся очередь делала небольшой рывок вперед, это происходило, когда счастливцы, стоявшие первыми, по двое и по трое откатывались от нее, как бусины разорванной нитки. Но случались и неожиданные задержки. Вот какая-то толстуха замешкалась и шарит в кошельке. Дуреха. Не могла, что ли, заранее приготовить нужную сумму!
Будто почувствовав, что вызывает всеобщее негодование, женщина обернулась к стоявшему позади мужчине и раздраженно сказала:
— Эй, перестаньте толкаться, уважаемый! Неужели даме нельзя спокойно достать сумку? Обязательно надо ее пихнуть!
Но человек, к которому были обращены эти слова, остался глух и нем. Голова его свесилась на грудь, и негодующий взгляд женщины уперся в верхушку его мягкой фетровой шляпы. Она фыркнула, резко отвернулась от него, шагнула к окошечку и выложила деньги, которые перед этим так долго считала. В тот же момент мужчина неожиданно осел на колени, так что стоявшие за ним едва не попадали, и тут же медленно повалился вниз лицом.
— Да ему плохо, — произнес кто-то, но с места не сдвинулся ни один. В наши дни инстинкт самосохранения, призывающий ни во что не вмешиваться, находясь в толпе, стал столь же ярко выраженным, как общеизвестное свойство хамелеона в минуту опасности менять окраску. Может, кто-нибудь его знает? Но нет, таковых не нашлось. И все-таки нашелся человек — то ли более сознательный, то ли с большим чувством ответственности, — который решился подойти к упавшему, чтобы оказать помощь. Он уже наклонился было к нему, но замер и вдруг отпрянул, будто его укусили. Трижды над толпой прозвучал истерический женский крик — и пыхтящая, напирающая очередь внезапно застыла в полной неподвижности.
Тело мужчины осталось одиноко лежать на мостовой, отчетливо видное в ярком круге электрического света, падавшего с крыши театра. И тот же безжалостный свет холодно блестел на маленьком серебряном предмете, косо торчавшем из серого твидового пальто.
На рукоятке кинжала.
Полицейский, утихомиривавший очередь, появился даже прежде, чем кто-то вспомнил о полиции. При первом же женском вопле он поспешил от хвоста очереди. Он знал: так кричат лишь в одном-единственном случае — при виде внезапной смерти. Полицейский постоял, огляделся по сторонам, потом склонился над телом, осторожно повернул к свету голову, вернул в прежнее положение и, выпрямившись, проговорил, обращаясь к человеку в окошечке:
— Вызовите «скорую» и позвоните в участок.
Потом обвел несколько ошарашенным взглядом всю очередь и спросил:
— Кто-нибудь знает этого джентльмена?
Нет: заявить о своей хотя бы отдаленной причастности к тому, кто сейчас тихо лежал на мостовой, желающих не нашлось.
Позади этого человека стояла солидная супружеская чета, видимо из пригорода. Сквозь тихие стоны женщина монотонно повторяла одну и ту же фразу:
— О, Джимми! Поедем домой! Скорее поедем домой!
По ту сторону турникета толстая женщина будто окаменела; ее рука в черной нитяной перчатке сжимала вожделенный билет, а она, судя по всему, и не помышляла о том, чтобы скорее занять место. «Человека убили!» Эта новость облетела очередь с быстротой пламени, охватывающего сухой подлесок. Толпу завертело и закружило, одни старались поскорее отойти подальше от того, что вконец испортило им все удовольствие; другие, наоборот, пробивались вперед, чтобы увидеть все своими глазами; третьи негодующе боролись за то, чтобы удержать свое место в очереди, где простояли столько часов подряд.
— Поедем домой, Джимми! О, едем скорее домой!
— Думаю, пока это невозможно, дорогая, — проговорил наконец муж. — Придется подождать: вероятно, мы будем нужны полиции.
— Вы совершенно правы, сэр, — тут же отозвался полицейский. — Всем действительно нельзя уходить. Вот вы, шестеро, кто впереди, — и вы, миссис, — обратился полицейский к толстухе, — оставайтесь каждый на своем месте. Остальные — проходите. — И он сделал знак, как постовой, направляющий движение транспорта в объезд сломавшегося автомобиля.
Супруга Джимми разразилась истерическими рыданиями, а толстуха наконец раскрыла рот и заявила, что пришла на спектакль и знать не знает этого человека. Те четверо, что стояли следом за супружеской парой, также обнаружили явное нежелание быть замешанными в неприятное дело, последствия которого трудно было предугадать, и тоже заявили, что абсолютно ничего не знают.
— Охотно верю, — ответил полицейский. — Но это вам предстоит объяснить в полицейском участке. Тут нет ничего страшного, — добавил он в утешение, хотя при данных обстоятельствах эта фраза прозвучала довольно неубедительно.
Очередь задвигалась снова. Швейцар притащил откуда-то зеленый занавес и накрыл им тело. Возобновилось щелканье турникета и безучастный, как шум дождя, стук монет. Швейцар, в обычное время отчужденно молчавший, как Иов в брюхе кита, то ли проникшись сочувствием к шестерым допрашиваемым, то ли в надежде на некое вознаграждение, вызвался сохранить для бедняг сидячие места. Наконец появилась машина «скорой помощи», явились и представители закона из отделения полиции округа Гоубридж. Местный инспектор поговорил с каждым из семерых, записал их фамилии, адреса и, отпуская, предупредил, что их могут вызвать для дополнительных показаний. Джимми усадил свою рыдающую супругу в такси, а остальные пятеро озабоченно проследовали на места, которые стерег для них швейцар, и едва успели усесться, как поднялся занавес и началось вечернее представление пьесы «А вы и не знали?».
Глава вторая
ИНСПЕКТОР ГРАНТ
Старший инспектор уголовного отдела Скотланд-Ярда Баркер нажал наманикюренным пальцем на кнопку слоновой кости, что находилась под крышкой его рабочего стола, и не отпускал ее, покуда в кабинете не возник один из его бесценных подданных.
— Передайте инспектору Гранту, что мне необходимо его видеть, — сказал он вошедшему, который в присутствии высокого начальства изо всех сил старался держаться почтительно, но с достоинством. Однако, увы: холодная вежливость и неприступный вид старшего инспектора мало этому способствовали. Молодой человек дрогнул и, чтобы сохранить равновесие, был вынужден чуть отклониться назад в ужасе при мысли, что его орлиный нос мог быть истолкован как выражение крайней непочтительности. Удрученный неудачей, он отправился выполнять поручение, чтобы затем похоронить память о своем фиаско под кипами аккуратнейшим образом подшитых досье и копий документов — что и являлось, собственно, его непосредственной обязанностью. Инспектор же Грант меж тем вошел в кабинет шефа и непринужденно поздоровался — они были давними и добрыми приятелями. При виде его Баркер заметно повеселел.
Помимо таких обычных качеств, как преданность долгу, мужество и ум, у Гранта было перед коллегами одно неоспоримое преимущество: он нисколько не был похож на полицейского. Среднего роста, стройный, всегда безукоризненно одетый, — я назвала бы его щеголем, если бы не была уверена, что это вызовет в вашем воображении некоего субъекта, начисто лишенного индивидуальности, наподобие портновского манекена, — но уж в чем, в чем, а в недостатке индивидуальности Гранта никак нельзя было упрекнуть. Однако представьте, если можете, щеголя, нисколечко не похожего на манекен, — и вы получите верное представление о Гранте. Баркер уже много лет как тщетно пытался перенять грантовский шик, но, увы, — единственное, в чем он преуспел благодаря Гранту, так в том, что стал похож на денди. Баркеру недоставало вкуса в выборе модной одежды — так же как и в отношении многого другого. Слепо и упорно следовать за кем-то было основным свойством его натуры: сам он никогда не проявлял инициативы. Это можно было считать его единственным недостатком. С другой стороны, если уж Баркер начинал за кем-то следовать, то этот «кто-то» вскоре понимал, что лучше бы ему вовсе на свет не родиться.
Сейчас Баркер с неподдельным удовольствием глядел на своего безмятежно улыбающегося, как летнее утро, подчиненного — сам он всю ночь промаялся с прострелом — и перешел к делу.
— В Гоубридже все носы повесили. И вообще им там на Гоу-стрит уже мерещится, будто против них целый заговор.
— Даже так? Их что, кто-нибудь решил серьезно проучить?
— Да нет, просто вчерашнее происшествие — уже пятое крупное дело на их участке за последние три дня. Они сыты по горло и хотят, чтобы вчерашнее дело мы взяли на себя.
— А что там стряслось? Случай в очереди у театра, да?
— Совершенно верно. А кто у нас сейчас в оперативном отделе? Вы. Вот и приступайте. Можете взять Уильямса. Барбер мне нужен самому: я его посылаю в Беркшир в связи с ограблением в Ньюбери. Там придется умасливать местную полицию — они в обиде, что Ярд вмешивается; у Барбера это лучше получится, чем у Уильямса. Ну, пожалуй, это все. И знаете, отправляйтесь-ка на Гоу-стрит прямо сейчас. Желаю успеха.
Полчаса спустя Грант уже беседовал с полицейским врачом на Гоу-стрит. Тот подтвердил, что когда мужчину доставили в больницу, тот был уже мертв. Орудие убийства — тонкий, очень острый стилет. Его всадили в спину с левой стороны от позвоночника с такой силой, что рукоятка оказалась вжатой в ткань плаща; это образовало своеобразную прокладку, так что то небольшое количество крови, которое вытекло из раны, даже не просочилось наружу. По мнению врача, беднягу закололи минут за десять или чуть больше до того момента, когда очередь двинулась вперед и он повалился. Зажатый в толпе, труп, вполне вероятно, мог какое-то время оставаться в стоячем положении. Более того, в такой давке упасть было просто невозможно. Врач считал, что мужчина вряд ли даже успел почувствовать удар. В плотной очереди, где вольно или невольно все друг друга жмут и толкают, мгновенный удар ножом, к тому же вряд ли особенно болезненный, вполне мог пройти незаметно.
— Хорошо. Теперь о человеке, который его заколол. Есть ли что-нибудь необычное в том, как он это проделал?
— Ничего. Могу лишь утверждать, что это человек сильный и к тому же левша.
— Это могла быть женщина?
— Нет, не думаю. У женщины на такой удар вряд ли хватило бы сил. Видите ли, там не было возможности замахнуться. Удар приходилось наносить из положения покоя. Нет, это определенно дело рук мужчины. Причем очень решительного.
— Есть какие-нибудь данные насчет убитого? — спросил Грант, который всегда высоко ценил суждения профессионалов.
— К сожалению, немного. Вполне упитанный, вероятно, в деньгах не нуждался.
— Уровень интеллекта?
— Думаю, высокий.
— Какого типа?
— Вы имеете в виду род занятий?
— Нет, с этим я разберусь сам. Я спрашиваю о том, что вы называете, насколько я знаю, темпераментом.
— А, понимаю.
Врач немного помолчал, задумчиво глядя в свои записи, и после некоторого колебания произнес:
— Вы, разумеется, понимаете, что тут за абсолютную точность ручаться нельзя?
Грант уверил его, что отдает себе в этом полный отчет.
— Я бы для себя отнес его к категории неудачников — тех, кому постоянно не везет. — При этом врач вопросительно взглянул на Гранта и, убедившись, что тот понимает, о чем речь, добавил: — У него лицо человека практического, но руки — мечтателя. Взгляните сами.
Они оба перевели взгляд на тело. Перед ними лежал молодой человек лет двадцати девяти-тридцати, белокурый, зеленоглазый, стройный, среднего роста. Руки, как справедливо заметил доктор, были тонкие, с длинными пальцами, руки человека, явно не привычного к физическому труду.
— Вероятно, ему приходилось проводить много времени стоя, — произнес доктор, бросив взгляд на ноги мужчины. — И ходил он не прямо, а немного загребая левой ногой.
— Как вы полагаете, чтобы нанести такого рода удар, убийце надо ли было обладать специальными анатомическими познаниями? — спросил Грант.
Казалось просто невероятным, чтобы такая едва заметная ранка могла привести к смертельному исходу.
— Вы имеете в виду, нанесен ли удар точно с медицинской точки зрения? О нет. А что до знаний в области анатомии, так теперь любой, кто прошел войну, обладает достаточными практическими знаниями в этой области. Скорее всего удар был нанесен вслепую — просто угодил удачно.
Грант поблагодарил врача и перешел в соседний отдел, к полицейским. Перед ним на столе было разложено скудное содержимое карманов убитого. Малочисленность предметов вызвала у Гранта легкое разочарование: белый хлопчатобумажный носовой платок, горсточка мелочи (две полукроны, два шестипенсовика, один шиллинг, четыре монетки по пенни и один полупенсовик) и — совсем неожиданно — служебный револьвер. Платок был не новый, но без меток; револьвер заряжен.
В брезгливом молчании осмотрев эти предметы, Грант осведомился, есть ли метки прачечной на одежде. Таковых не оказалось.
— Никто не обращался по поводу него? Может, хотя бы наводили справки?
— Нет, никто не приходил, кроме одной сумасшедшей старухи: она готова забрать все трупы, которые подбирает полиция.
Ладно, он сам осмотрит всю одежду. И тут же приступил к делу, дотошно разглядывая один предмет за другим.
И шляпа, и ботинки были далеко не новые; последние поношены настолько, что наименование фирмы на внутренней стороне стерлось начисто. Шляпа была куплена в одной из торговых фирм, имевших магазины во всех районах Лондона и в провинции. И то и другое было добротным и еще вполне приличного вида. Модный, даже слишком кричащего покроя синий костюм; то же самое можно было сказать и о сером плаще. Нижнее белье хоть и не самое дорогое, но хорошего качества; рубашка самого что ни на есть популярного оттенка. Короче, судя по одежде, этот человек либо сам любил хорошо одеваться, либо проводил время там, где придавали этому особое значение. Может, продавец в отделе готового платья? Меток прачечной, как и сообщили Гранту, действительно нигде не было. Это могло означать одно из двух: либо этот человек не хотел быть опознанным, либо все белье ему стирали дома. Поскольку следов того, что метки удалены намеренно, обнаружить не удалось, то наиболее вероятным представлялось второе. А вот бирочка с именем портного была спорота с костюма явно неслучайно. Это, как и немногочисленность найденных предметов, определенно наводило на мысль, что человек хотел скрыть свое настоящее имя.
И последнее — стилет. Крошечное, коварное, хищно заостренное оружие. Серебряная ручка длиною около трех дюймов была выполнена в виде фигуры святого — с бородой и в должном одеянии. Кое-где на ней поблескивала цветная эмаль броских, грубоватых тонов, характерных для такого рода изображений в католических странах. Подобные кинжалы чаще всего можно увидеть в Италии или на южном берегу Испании.
Грант осторожно поворачивал клинок, внимательно разглядывая.
— Сколько человек держало его в руках?
В полицейский участок кинжал доставили из больницы, сразу же как вынули из раны. С того момента никто к нему не прикасался. Вот и хорошо! Но довольное выражение исчезло с лица Гранта, когда поступило сообщение о дактилоскопической экспертизе: отпечатков пальцев обнаружено не было. Ни один, даже самый смазанный отпечаток не осквернил собою сверкающее изображение католического святого.
— Н-да, — со вздохом произнес Грант. — Все это я забираю и приступаю к делу.
Снять отпечатки пальцев у убитого и обследовать револьвер на предмет возможных отличительных признаков он поручил Уильямсу.
По первому впечатлению пистолет был ничем не примечателен — вполне заурядное боевое оружие, какое после войны стало в Англии таким же привычным предметом, как старые дедовские часы. Однако, как мы уже упоминали, Грант предпочитал опираться на суждения профессионалов.
Он тут же сел в такси и остаток дня посвятил беседам с теми семью людьми, которые в предыдущий вечер находились в непосредственной близости к неизвестному в момент его смерти.
По дороге он начал обдумывать ситуацию в ее различных вариантах. Он нисколько не обольщался надеждой, что предстоящие интервью со свидетелями как-то ему помогут. На первом допросе они все до одного отрицали всякое знакомство с убитым и теперь вряд ли откажутся от своих слов. Заметь они до этого рядом с убитым кого-либо или улови хоть что-то подозрительное — наверняка сказали бы сразу же. Грант знал по собственному опыту, что девяносто девять опрашиваемых из ста дают абсолютно никому не нужную информацию, а сотый — вообще никакой. К тому же, по словам врача, мужчина был заколот минут за десять до того, как это было замечено, а какой убийца станет оставаться рядом со своей жертвой и дожидаться, пока содеянное им будет обнаружено? Если даже допустить возможность бравады со стороны убийцы, то для любого здравомыслящего человека — а человек, заинтересованный, чтобы его не поймали, обязан мыслить здраво! — вероятность быть замеченным рядом с убитым была слишком велика, и он вряд ли стал бы подвергать себя такому риску. Нет, разумеется, тот, кто это сделал, успел отойти от очереди заблаговременно. Нужно отыскать кого-нибудь, кто, возможно, был свидетелем разговора между убийцей и его жертвой. Конечно, есть шанс, что никакого разговора не происходило; убийца просто встал позади, совершил задуманное, а потом незаметно ускользнул. В таком случае задача Гранта состояла в поисках того, кто видел, как тот уходил. Тут особые сложности не возникнут. Можно будет подключить прессу.
Грант стал мысленно прикидывать различные варианты — кто это мог сделать? Англичанин вряд ли воспользовался бы кинжалом. Если уж он решил отдать предпочтение холодному оружию, то избрал бы бритву и просто-напросто перерезал своей жертве горло; обычно же в подобных случаях он применил бы кастет или, на худой конец, револьвер. Нет, это не англичанин. Преступление было задумано и осуществлено с изобретательностью и изяществом, не свойственными англичанину. В самом способе было нечто не мужское, и это наводило на мысль об итальянце-даго или, во всяком случае, о человеке, которому знакомы приемы даго. Моряк. Да, это мог быть матрос с одного из судов, курсирующих по Средиземному морю. С другой стороны, способен ли простой матрос додуматься до такого хитроумного способа — прикончить человека в очереди? Он скорее всего предпочел бы для расправы темную ночь и безлюдную улицу.
В замысле был привкус чего-то романтического — в итальянском духе. Для англичанина главное — поразить жертву, нанести смертельный удар. Способ и средство для него вещи второстепенные.
Эта мысль логически повлекла за собою и другую — о возможных мотивах, и Грант стал перебирать наиболее часто встречающиеся: кража, месть, ревность, страх. Первый отпадал сам собою. В такой давке опытный вор мог сто раз обшарить карманы, привлекая к себе не больше внимания, чем севшая на рукав муха. Месть или ревность? Вполне вероятно, — даго известны своей нетерпимостью в этих делах: оскорбленная честь требовала смерти обидчика; неосторожная улыбка предмета обожания — и возлюбленный уже готов потерять рассудок. Возможно, мужчина с зелеными глазами — а он несомненно был привлекателен — встал между даго и его девушкой? Однако Гранту почему-то казалось, что причина убийства заключалась не в этом. Разумеется, он не исключал такой возможности, но полагал, что дело было не в ревности. Значит, в страхе? Может, тому, кто вонзил стилет в спину мужчины, предназначалась пуля из заряженного револьвера? Может, убитый грозился застрелить даго и тот устал пребывать в постоянном страхе? Или наоборот: убитый носил при себе оружие, но это не спасло его? Но как увязать с этим явное стремление погибшего скрыть свое имя? При подобных обстоятельствах револьвер скорее указывал на попытку совершить самоубийство. Тогда к чему было откладывать задуманное и зачем идти в театр? Какой иной мотив мог вызвать у человека желание остаться неузнанным? Перспектива быть схваченным полицией, угроза ареста? Может, он намеревался кого-то застрелить, но, готовясь к побегу, чтобы не попасться, решил скрыть свое имя? Возможно.
Одно казалось достаточно бесспорным: убитый и человек, которого Грант окрестил про себя Даго, были знакомы, — иначе как бы между ними возник конфликт?! Грант никогда не принимал всерьез версии о тайных обществах, которые якобы практиковали такого рода красочные убийства. По собственному печальному опыту Грант знал, что тайные общества обычно предпочитают грабеж, шантаж и прочие такие же неаппетитные способы легкого добывания денег, и ничего живописного в их деятельности, как правило, не было. К тому же в настоящий момент в Лондоне ни одного более или менее внушительного общества такого типа не числилось, и, как хотелось бы надеяться Гранту, вряд ли оно вдруг объявилось именно теперь. Убийства по заказу нагоняли на него смертную тоску. Его увлекала игра умов, переливы чувств. Как в этом случае с Даго и Неизвестным. Что ж, нужно прежде всего постараться выяснить личность Неизвестного — это послужит ниточкой к Даго. Почему убитого никто до сих пор не хватился? Правда, прошло совсем немного времени. Может, как раз сейчас его уже опознали? Ведь для домашних он, собственно, «отсутствует» всего одну ночь, а редко кто кинется на поиски, если брат или сын отсутствует всего одну ночь.
Терпеливо, спокойно и вежливо, но постоянно анализируя каждое выражение, Грант опросил всех семерых, которых наметил повидать — повидать в буквальном смысле слова. Он не рассчитывал получить от них непосредственную информацию — хотел только посмотреть на них сам и составить о каждом собственное мнение. Все они занимались своими обычными, повседневными делами; все — за исключением миссис Джеймс Рэтклиф, которая лежала в постели и к которой был вызван врач, констатировавший сильный шок. Грант разговаривал с ее сестрой — премиленькой девушкой с медового цвета волосами. Она вышла к нему в гостиную, явно приготовившись быть суровой с полицейским, осмелившимся побеспокоить ее больную сестру. Однако внешность представшего перед ней Гранта настолько расходилась с ее представлением о полиции, что, пораженная, она невольно еще раз взглянула на его визитную карточку, что весьма его позабавило, хотя он и сдержал улыбку.
— Я знаю, как ненавистен вам сам вид полицейского, — сказал он извиняющимся тоном, сказал почти без наигрыша, — но, с вашего разрешения, я хотел бы поговорить с вашей сестрой всего две минуты. Можете подождать у дверей и засечь время или, если хотите, присутствовать при разговоре. Ничего тайного в нем не будет. Просто мне поручено расследование, и в мои обязанности входит опросить тех семерых, кто прошлым вечером находился в непосредственной близости к убитому. Мне бы это ужасно помогло, если бы я покончил с опросами сегодня, с тем чтобы завтра заняться другими версиями. Вы меня понимаете? Чистая формальность, но мне это необходимо.
Как он и ожидал, его аргументы возымели действие.
— Пойду узнаю, может, сумею ее уговорить, — сказала девушка после небольшого колебания. Чары инспектора были потрачены не впустую: видимо, девушка описала его сестре в таком выгодном свете, что та согласилась даже скорее, чем он рассчитывал.
Гранта провели в спальню, где он имел беседу с плачущей женщиной, которая упорно утверждала, что вообще не обращала внимания на стоявшего перед ней мужчину, пока тот не упал; при этом ее распухшие от слез глаза оглядывали Гранта с неистребимым любопытством. Рта ее он не мог рассмотреть: она прикрыла его, плотно прижав к губам носовой платок. Гранту очень хотелось, чтобы она хоть на мгновение отняла от лица этот злосчастный платок. У него была теория, что рот выдает человека куда больше, чем глаза, — в особенности когда речь идет о женщинах.
— Когда он упал, вы находились позади него?
— Позади.
— А кто стоял рядом с вами?
Она не могла вспомнить: все думали только об одном — как бы попасть в театр, и потом не в ее привычках разглядывать людей на улицах.
— Мне очень жаль, — проговорила она слабым голосом, когда Грант прощался. — Я была бы рада помочь, будь это в моих силах. У меня этот нож постоянно перед глазами, я бы все отдала, только чтобы убийцу поскорее арестовали.
Выйдя от нее, Грант тут же сбросил эту свидетельницу со счета — пустой номер!
Встреча с ее мужем, ради которой Гранту пришлось отправиться в Сити, — разумеется, он всех их мог вызвать к себе в Ярд, но ему было важно увидеть, как каждый из них проводит день непосредственно после убийства, — была более плодотворной. По словам мистера Рэтклифа, когда отворили двери театра, вся очередь пришла в движение и ее порядок нарушился. Насколько ему помнилось, человек, до этого находившийся непосредственно рядом с мужчиной, тотчас присоединился к своей четверке, стоявшей впереди. Так же как и его жена, он не обращал никакого внимания на мужчину, пока тот не повалился.
Остальные пятеро опрошенных на первый взгляд показались Гранту столь же непричастными к делу, и разговор с ними дал столь же мало. Никто из них не запомнил убитого. Как это могло случиться? — озадаченно подумал Грант. Он ведь, должно быть, стоял там с самого начала, иначе привлек бы к себе внимание: кто же станет спокойно смотреть, как человек лезет без очереди у самой кассы? В этом случае даже самый ненаблюдательный невольно припомнил бы увиденное.
Грант вернулся в Ярд, так и не избавившись от этого чувства легкого недоумения.
Он дал знать в редакции газет, чтобы поместили объявление с просьбой всякого, кто заметил человека, покинувшего очередь перед открытием кассы, связаться со Скотланд-Ярдом. Вдобавок Грант просил дать подробное описание убитого и краткое сообщение о ходе расследования. Затем он призвал Уильямса и выслушал отчет о его действиях. Тот доложил, что фотографии отпечатков пальцев убитого уже переданы в информационный отдел, но в их картотеке таковые не значатся. Эксперт-оружейник не обнаружил на револьвере никаких особых примет.
Вероятно, он был куплен с рук, довольно долго находился в употреблении и, разумеется, квалифицировался как опасное и мощное оружие.
— Тоже мне эксперт! — пренебрежительно фыркнул Грант, чем вызвал у Уильямса улыбку.
— Он по крайней мере сказал, что револьвер без особых примет, — заметил последний и затем добавил, что перед тем как послать оружие на экспертизу, он проверил его на предмет отпечатков пальцев. Их оказалось много, и он, Уильямс, распорядился их сфотографировать. Снимки вот-вот будут готовы.
— Молодчина, — отозвался Грант и отправился к старшему инспектору, прихватив снимки с отпечатков пальцев Неизвестного. Он кратко доложил Баркеру о результатах однодневной работы, оставив при себе домыслы относительно Даго. Он заметил лишь, что преступление носит непривычный для англичанина характер.
— Да уж, ключики у нас не ахти какие, — подвел итог Баркер. — Ничего, кроме кинжала, да и тот относится скорее к области приключенческого романа, чем к нормальному преступлению.
— Согласен. Я того же мнения, — отозвался Грант. — Интересно, большая ли сегодня будет очередь в театре Уоффингтон? — прибавил он без всякой видимой связи с предыдущим.
Человечеству так и не суждено было узнать мнение величественного Баркера по поводу столь захватывающей проблемы, потому что как раз в этот момент явился Уильямс.
— Вот отпечатки пальцев с револьвера, сэр, — отчеканил он, раскладывая на столе фотографии.
Грант без особого энтузиазма стал перебирать их, сравнивая с теми, которые зачем-то принес с собой. И тут же замер, весь напрягшись, как пойнтер в стойке: четких отпечатков было всего пять и еще помимо них несколько смазанных; но среди них не было ни одного, который совпадал бы с отпечатками пальцев убитого. К фотографиям прилагалось заключение экспертов: в полицейской картотеке эти отпечатки не значились.
Вернувшись к себе, Грант погрузился в глубокое раздумье. Что все это означало и что давало следствию? Значило ли это, что револьвер не принадлежал убитому? Может, он взял его у кого-нибудь на время? Но и в этом случае остались бы хоть какие-то, пусть едва заметные следы, свидетельствующие о том, что револьвер какое-то время находился у него в руках. А вдруг он и на самом деле никогда не принадлежал убитому? Может, револьвер просто подбросили — опустили ему в карман? Однако мало вероятно, чтобы такой тяжелый и довольно объемистый предмет можно незаметно положить в чужой карман. Верно: живому не подкинешь. А если его подкинули после удара ножом? Но зачем? Для чего? Ни одного, даже самого неправдоподобного объяснения не приходило в голову. Грант вынул стилет из конверта, стал разглядывать его в микроскоп, но и это занятие не принесло озарения. Он явно засиделся. Надо пойти прогуляться. Был всего шестой час. Он пройдется, пожалуй, до театра Уоффингтон и переговорит со служителем, который прошлым вечером стоял у дверей.
Вечер выдался ясный, безветренный, и на фоне розовеющего неба перед ним в сиреневой дымке возникла четкая, словно набросанная густыми мазками, панорама города. Грант с наслаждением вздохнул полной грудью. Пахло весной. Когда выследит Даго, он всеми правдами и неправдами — под предлогом болезни, если понадобится, — выбьет себе несколько дней отпуска и отправится куда-нибудь с удочками. Только вот куда? Лучшая рыбалка — в Шотландии; правда, народ там подбирается на редкость неинтересный. Поедет-ка он, пожалуй, на Тест, в район Стокбриджа. Форели там негусто, зато уютная пивная и отличная компания. Там можно будет взять напрокат верховую лошадь, да и треки там прекрасные. А сам Хэмпшир в весеннюю пору!..
Итак, быстрым шагом идя по набережной,Грант думал о разных разностях, только не о деле. Таков был его личный метод. Баркер, например, действовал по принципу: «Жуй да перемалывай! Жуй без передышки, пока бодрствуешь и когда спишь, — тогда в конце концов обнаружишь, что ищешь». У Баркера это получалось, но Гранту решительно не подходило. Он как-то объяснил Баркеру, что, когда долго жует, у него сводит скулы, а от боли в деснах он уже ни о чем думать не в состоянии. И это была чистая правда. Если что-либо ставило его в тупик и он принимался неотвязно об этом раздумывать, то в итоге напрочь терял ощущение реальности. Вот почему, когда у Гранта не оставалось никаких идей, он прибегал к тому, что называл «зажмуриться». А после этого он снова как бы «открывал глаза» — и все знакомые факты виделись ему уже в ином свете, что помогало найти новый подход к застарелой проблеме.
В Уоффингтоне уже прошел дневной спектакль. Театр встретил Гранта зачехленным безлюдьем в зале и неряшливым убожеством за кулисами. Швейцар находился в помещении театра, но никто не знал, где именно. Перед началом вечернего представления, как выяснилось, выполняемые им функции были многообразны и многочисленны. После того как запыхавшиеся гонцы возвратились один за другим из чрева театра с сакраментальной фразой: «Его нигде не видно, сэр», — Грант сам принялся за поиски и наконец изловил этого джентльмена в одном из полутемных коридоров за сценой. Стоило Гранту объяснить, кто он такой, как привратник, гордый оказанным ему доверием, стал на диво словоохотлив. То, что актеры, эти аристократы сцены, допускали его до себя, было ему не в диковинку; зато далеко не каждый день выпадает шанс пообщаться на равных с лицом гораздо более значительным — с самим инспектором уголовного отдела Скотланд-Ярда. Он весь сиял; он постоянно поправлял форменную фуражку; он перебирал орденские ленточки на лацкане; он то и дело вытирал вспотевшие ладони о штаны и, в угоду инспектору, без всякого сомнения готов был бы признать, что своими глазами видел в очереди обезьяну. Грант стонал про себя, но его второе «я», всегда выполнявшее роль стороннего наблюдателя, оценило по достоинству колоритность старика и зафиксировало в памяти его облик на всякий случай — а вдруг когда-нибудь пригодится? Для хорошего детектива со временем это становится своего рода второй натурой. Грант уже собирался вежливо распрощаться с этим воплощением преданной бесполезности, как вдруг мелодичный голос за его спиной произнес:
— Инспектор Грант? Неужели это вы?
Он обернулся и увидел Рей Маркейбл. Она была в обычном, уличном платье и, очевидно, направлялась в гримерную.
— Хотите подработать? Боюсь, мы не сможем вам дать даже самой крошечной роли без слов, ведь уже скоро начало.
Она слегка улыбалась своей знаменитой дразнящей полуулыбкой, ласково поглядывая на него из-под полуопущенных век. Они познакомились год назад, когда у нее украли чудовищно дорогую шкатулку — подарок одного из ее самых богатых поклонников, и, хотя с тех пор ни разу не виделись, она явно запомнила Гранта. Он невольно почувствовал себя польщенным, при этом его второе «я» тут же отметило это обстоятельство и ехидно хихикнуло. Грант объяснил причину своего визита в театр, и улыбка тотчас же сбежала с ее лица.
— Бедняга! — проговорила она. — Да и вы, инспектор, — тоже! — И она легко коснулась его руки. — Небось весь день вели допросы? И в горле совсем пересохло? Пойдемте-ка выпьем чаю у меня в гримерной. Моя горничная уже там, сейчас она нам все приготовит. А мы уже укладываемся. Это всегда грустно, мы так долго здесь играли.
Она провела его в свою гримерную — комнату, наполовину состоящую, казалось, из зеркал и шкафов с костюмами и больше похожую на цветочный магазин, чем на жилое помещение.
— В мою квартиру они больше не вмещаются, поэтому приходится оставлять их здесь, — заметила она, небрежным жестом указывая на цветы. — А в больницах очень вежливо, но твердо отвечают, что они уже взяли столько, сколько смогли, и больше не требуется. Не могу же я, право, объявить, как делается иногда на похоронах: «Просим цветов не приносить»! Публика обидится.
— Это единственное, чем люди могут выразить вам свою признательность.
— О, разумеется. Я понимаю. И я благодарна. Даже очень. Только все хорошо в меру.
Она налила ему чай, а горничная достала коробку с крекерами. Он размешивал сахар, а Рей наполняла свою чашку — и вдруг он невольно дернулся, как конь, когда неопытный наездник резко натягивает поводья, — она была левшой!
«Ну и дела! Да ты, братец, не только заслужил отдых, ты в нем просто остро нуждаешься! — с отвращением к самому себе подумал он. — С чего тебе взбрело в голову придавать этому факту особое значение? Как ты думаешь, сколько таких в Лондоне? Наверное, целая уйма. Это уже какая-то болезненная подозрительность!»
Чтобы прервать молчание, а также оттого, что эта мысль не давала ему покоя, Грант вдруг произнес:
— А вы, оказывается, левша.
— Да, — равнодушным тоном, как того и заслуживал такой пустяк, подтвердила она и стала расспрашивать о ходе расследования. Он сообщил ей только то, что должно было появиться завтра в утренних выпусках, и перешел к описанию стилета, как наиболее примечательной детали этого дела.
— Его ручка выполнена в виде фигуры святого — из серебра, с синей и красной эмалью.
На миг что-то странное промелькнуло в безмятежных глазах Рей Маркейбл.
— Что-что? — вырвалось у нее.
Он едва не спросил, не видела ли она где-нибудь такой же стилет, но передумал, мгновенно сообразив, что Рей наверняка ответит отрицательно; он же выдаст свой особый интерес к этому предмету.
— Святой? Как забавно! И как неуместно. С другой стороны, когда решаешься на такой отчаянный шаг, как убийство, вероятно, ждешь чьего-то благословения.
Спокойная, ласковая, она протянула левую руку, чтобы взять у него чашку, и, пока наполняла ее снова, он невольно отметил, как прекрасно она владеет собой, тут же подумав: может, он опять проявляет нездоровую подозрительность?
«Ну нет, — отозвался его внутренний голос, — ты, может быть, и страдаешь от избытка воображения, но оно у тебя еще не настолько больное, чтобы видеть то, чего нет на самом деле».
Они заговорили об Америке, которую Грант хорошо знал и куда она как раз отправлялась в свое первое турне, и к тому времени, когда Грант собрался уходить, он был искренне благодарен ей за чай. В деловой суматохе он совсем забыл, что ничего не ел с самого утра. Теперь можно было не спешить с обедом. Покидая театр, Грант попросил у швейцара прикурить и в процессе обмена дружескими репликами успел выяснить, что предыдущим вечером с шести и до момента своего первого выхода мисс Маркейбл оставалась в своей гримерной. «У нее был лорд Лейсинг», — сообщил швейцар, выразительно подняв бровь.
Грант улыбнулся, кивнул на прощанье, но когда отошел и двинулся по направлению к Ярду, то уже не улыбался. Чем объяснить странное выражение, промелькнувшее в глазах Рей Маркейбл? Не страхом, нет. Тем, что она узнала стилет по описанию? Скорее всего, так. Да, наверняка.
Глава третья
ДЕННИ МИЛЛЕР
Грант открыл глаза и раздумчиво уставился на потолок. Последние несколько минут он практически уже не спал, однако мысль еще работала вяло: мешала сонливость и ощущение, что утро выдалось холодное. Тем не менее даже в этом сонном состоянии в нем с каждым мгновением крепло чувство внутреннего дискомфорта. Ему предстояло нечто неприятное. Чрезвычайно неприятное. Растущее чувство беспокойства прогнало остатки сна; именно в этот момент он открыл глаза, созерцая полоски утреннего солнечного света и узорчатую тень от листьев комнатной пальмы. И сразу же догадался о причине неприятного ощущения: наступил третий день расследования, то есть день слушания дела, а ему нечего предъявить коронеру. Он даже и на след еще не напал.
Мысленно Грант вернулся к событиям прошедшего дня. Еще утром, обнаружив, что личность убитого не установлена, он отдал Уильямсу галстук — самую новую и наиболее индивидуальную вещь из всех, что принадлежали мужчине, — и поручил обойти городские галантерейные магазины. Как и остальная одежда, галстук был приобретен в одном из многочисленных филиалов известной фирмы, и надежды, что кто-то из продавцов запомнил человека, купившего у него именно этот галстук, не было почти никакой. Да если такой продавец и отыщется, то вовсе не обязательно, что он запомнил именно того, кто им сейчас нужен. В одном только Лондоне отделения фирмы «Братья Феар» за день, надо полагать, продают десятки, а то и сотни галстуков с таким рисунком. Однако какой-то, пусть крошечный шанс все-таки был; Гранту в его практике слишком часто приходилось сталкиваться с совершенно непредсказуемыми ситуациями, и он приучил себя просчитывать до конца все, даже самые безнадежные варианты. Уильямс собрался было отправиться на задание, и тут Гранта впервые с начала расследования осенила идея: а не был ли убитый сам продавцом в одном из отделов готового платья? Тогда, возможно, он вряд ли покупал свою одежду обычным порядком, через продавцов. А может быть, он даже служил в одном из магазинов «Братьев Феар»?
— Выясните, не было ли в последнее время в каком-то из их отделений продавца, по описанию похожего на убитого, — сказал он Уильямсу. — Обнаружите хоть что-нибудь интересное, даже если это покажется вам незначительным, — сейчас же дайте мне знать.
Оставшись один, Грант стал просматривать утренние газеты. Варианты описания самого убийства его занимали мало, зато все остальные сообщения, начиная с колонки объявлений частного характера, он штудировал очень внимательно. Однако ничего, стимулирующего мысль, не обнаружил. Его собственная фотография с надписью: «Инспектор Грант, которому поручено расследование убийства в очереди» заставила его нахмуриться.
— Идиоты! — проговорил он вслух. Затем взялся за присланные из всех полицейских отделений Англии списки без вести пропавших. Таких набралось всего пять, причем один из небольшого городка в Дархэме по описанию напоминал убитого. После довольно долгих проволочек Гранту удалось связаться по телефону с дархэмской полицией, где ему сообщили, что пропавший — шахтер и лихой парень. Ни то, ни другое никак не совмещалось с внешностью погибшего.
Остаток утра прошел в текущих делах — подготовке документов к судебному заседанию и прочих связанных с этим формальностях. Когда время близилось к ланчу, позвонил Уильямс. Он находился в одном из наиболее крупных филиалов «Братьев Феар» на Стренде. Утро у него было утомительное и малопродуктивное. Никто не только не припомнил такого покупателя, но даже не помнил, продавал ли он в последнее время такой галстук. Сейчас галстуки этой расцветки к ним не поступали. Это заставило Уильямса поинтересоваться партией этих галстуков и привело в центральный магазин, где он прошел к управляющему и объяснил ему суть дела. Управляющий в свою очередь попросил дать ему на время галстук: он отошлет его на фабрику-изготовитель в Норвуд, где имеются точные сведения о том, куда и в каких количествах доставлялся товар, скажем в течение всего прошлого года. «Можно ли отдать галстук управляющему?» — спрашивал Уильямс.
Грант одобрил его действия и, отметив про себя разумный подход Уильямса к делу, — многие на его месте так и продолжали бы обходить лондонские магазины, благо таков был приказ, — он не преисполнился оптимизма: по Шотландии и Англии у «Братьев Феар» насчитывалось сотни отделений. Шансы несколько повысились, когда Уильямс явился вооруженный дополнительной информацией. Оказалось, такие галстуки паковались в коробку по шесть штук, и каждая коробка содержала галстуки разных оттенков, но одной цветовой гаммы. Каждый филиал получал, как правило, не больше одной, от силы двух коробок. Соответственно, надежд на то, что продавец мог запомнить посетителя, купившего у него галстук определенного оттенка, стало больше, чем если бы все они оказались одинаковые. Грант-детектив с одобрением слушал рассуждения Уильямса, в то время как Грант-наблюдатель забавлялся тем, как сержант уснащает свою речь специальными терминами, принятыми в среде галстукоизготовителей. Полчаса, проведенные с менеджером «Братьев Феар», не прошли даром: обычно небогатая по словарю и простая по построению фраз речь Уильямса украсилась удивительными перлами в виде технических терминов. Он бойко сыпал словечками вроде «линии», «повторяющийся мотив» и прочими, еще более витиеватыми, пока наконец Гранту не стало мерещиться, что в мощной фигуре Уильямса, как на экране телевизора, он различает и самого менеджера. Тем не менее он остался доволен Уильямсом, о чем ему и сказал. Значительная часть обаяния Гранта как раз и состояла в том, что он никогда не забывал сказать доброе слово своим подчиненным.
Во второй половине дня, оставив надежду выяснить еще что-нибудь самому, он отослал стилет в лабораторию на анализ.
— Сообщите мне о нем все, что можете, — попросил он.
Вчера, когда он уходил, ответа все еще не было. Сейчас он зябко потянулся, придвинул к себе телефон, набрал нужный номер и спросил: «Есть что-нибудь новое?» — Ничего нового. Два человека заходили опознавать труп, но не признали. Да, их имена и адреса записаны, лежат у него на столе. И рапорт из лаборатории — тоже.
— Ясно! — сказал Грант, бросил трубку на рычаг и спрыгнул с постели.
Мысль заработала четко, дурные предчувствия рассеялись. Он насвистывал, принимая холодный душ, продолжал насвистывать, пока одевался, и его квартирная хозяйка сказала мужу, который спешил на восьмичасовой автобус: «Сдается мне, недолго осталось гулять на свободе этому анархисту». Для миссис Филд что убийца, что анархист было одно и то же. Сам Грант вряд ли согласился бы с таким оптимистичным заключением, однако мысль о лежащем для него на столе запечатанном конверте с рапортом радовала его как мальчишку, которому достался пакетик с сюрпризом: может, в нем пустяк какой-нибудь, а может, и бриллиант. Грант перехватил устремленный на него, полный прямо-таки материнской заботы взгляд миссис Филд и, как бывало в детстве, вдруг спросил:
— Как вы думаете, ждет меня сегодня удача?
— Насчет удачи не знаю, мистер Грант. Не больно-то я в нее верю. Я верю в Провидение. И считаю, Провидение не допустит, чтобы убийца безвинного молодого человека не понес наказания. Полагайтесь на Господа, мистер Грант.
— А коли доказательства вины уж очень хлипкие, так на Господа и Уголовную полицию, — по-своему переиначил ее всегдашнюю присказку Грант и принялся за яичницу с беконом. Миссис Филд чуть-чуть помедлила, сокрушенно покачала головой и вышла, оставив его наедине с газетами и с завтраком.
По дороге на службу Грант размышлял над тем, почему до сих пор никто так и не опознал труп. По мере того как шло время, это обстоятельство вызывало все большее удивление. В Лондоне действительно каждый год объявлялось несколько трупов, которые, пролежав несколько дней невостребованными, захоранивались в могилах для бедняков. Но, как правило, это были либо старики, либо нищие, а чаще — и те и другие, — в общем, городские отбросы, от которых задолго до их смерти отреклись и родственники, и друзья; к тому времени, когда наступал конец, не находилось никого, кто знал бы что-нибудь об их прошлой жизни. За все время службы в полиции Грант ни разу не был свидетелем того, чтобы человек такого типа, как погибший, — человек, наверняка имевший обычный круг знакомых, — оставался неопознанным. Будь он даже приезжий — иностранец или из провинции, во что Гранту не верилось: весь внешний вид мужчины говорил о том, что он был коренным лондонцем — сейчас он наверняка жил в Лондоне или поблизости — в гостинице, в клубе, — где его уже давно должны были бы хватиться. Объявления в газетах с настоятельной просьбой немедленно сообщить в Скотланд-Ярд о любом пропавшем непременно должны были заставить поторопиться с таким сообщением.
Но если он местный — а Грант был в этом почти уверен, — почему не объявились его родственники или квартирная хозяйка? Ответ напрашивался сам собой: либо эти люди считали его последним негодяем, либо сами они почему-либо не хотели привлекать к себе внимание полиции. Банда? Банда, которой нужно избавиться от одного из соратников? Но бандиты, как правило, не дожидаются, пока человек окажется в очереди, чтобы свести с ним счеты. Они выбирают менее рискованные способы. Если только… да, убийство могло быть задумано как возмездие и предупреждение другим. Убийство несомненно носило демонстративный характер. Об этом говорило многое: и выбор оружия, и то, что человек был заколот в публичном месте — в толпе, в которой можно скрыться; наконец, сама дерзость, с которой замысел был приведен в исполнение. При подобной расправе предатель получал свое, а остальным это должно было послужить суровым уроком. Чем дольше Грант прокатывал эту версию, тем вероятнее представлялось ему именно такое объяснение загадки. Причастность к убийству какого-то тайного общества он исключил для себя с самого начала и продолжал считать так до сих пор. Месть тайного общества никак не помешала бы друзьям покойного заявить о его исчезновении и востребовать тело. Провинившийся член банды — совсем иное дело. В этом случае его приятели либо знали, либо наверняка догадывались, как и почему он умер, а потому вели себя осмотрительно и не высовывались. Подходя к Ярду, он стал перебирать в памяти наиболее крупные банды, которые в настоящий момент резвились в Лондоне. Из них без сомнения самую значительную возглавлял Денни Миллер. Уже три года, как он «гулял на воле», и если ни на чем не сорвется, то будет гулять еще долго. Денни вернулся из Америки, отсидев свой второй срок за ограбление; вернулся, набравшись ума и веры в американскую идею групповой организации. Английский мошенник — индивидуалист по натуре и с почтением относится к британской Уголовной полиции. В результате, хотя его подручным случалось оступаться и расплачиваться за легкомыслие недолгой отсидкой, сам Денни оставался на свободе, преуспевал и, к неудовольствию уголовного отдела, даже чересчур преуспевал. Надо сказать, в расправах с врагами Денни был беспощаден, как умеют быть беспощадными одни американские гангстеры. Его любимым оружием был револьвер, но и всадить в человека нож для него было все равно что прихлопнуть надоедливую муху. Грант решил, что стоит пригласить к себе Денни для разговора, а пока… пока на столе его дожидался пакет.
Грант с нетерпением вскрыл его и с таким же нетерпением пробежал глазами первую, полную несущественных деталей половину заключения. Автор рапорта — некто Бретертон — был склонен составлять бумаги языком выспренним и наукообразным. Если бы к нему на экспертизу отправили персидскую кошку, он наверняка посвятил бы всю первую страницу обоснованию того, почему шерсть у нее согласно его экспертизе серая, а не светло-коричневая, и только на второй добрался бы до сути. В данном же случае суть состояла в том, что чуть повыше места соединения лезвия с рукояткой Бретертон обнаружил пятнышко крови, не совпадающей с той, что осталась на лезвии. Основание, на котором держался святой, было полым, с маленькой зазубриной сбоку. Из-за крови зазубрина была незаметной. При нажатии один отбитый краешек приподнимался чуть выше другого. При ударе краешек этот выступил, и убийца, видимо, слегка поранил руку. Сейчас у него, вероятно, на левой руке сильный порез либо на указательном пальце со стороны большого, либо на большом со стороны указательного.
«Это все замечательно, — подумал Грант, — однако просеять весь Лондон в поисках левши с царапиной на пальце и за одно это его арестовать? Невозможно!»
Он послал за Уильямсом и, когда тот явился, спросил:
— Вы не знаете, где сейчас проживает Денни Миллер?
— Нет, сэр, не знаю. Но Барбер наверняка в курсе. Он только что вернулся из Ньюбери, и про Денни ему известно все.
— Тогда выясните. Или нет, лучше пришлите его сюда.
Явился Барбер — высокий, медлительный, с обманчиво сонной улыбкой, — и Грант повторил свой вопрос.
— Денни Миллер? — немедленно откликнулся Барбер. — Конечно знаю. Снимает апартаменты на Эмбер-стрит, в районе Пимлико.
— Да? Что-то он в последнее время затих.
— Мы так считали. Я-то думаю, ограбление ювелирного магазина, которое сейчас расследуют наши в Гоубридже, — его рук дело.
— Мне казалось, он специализируется по банкам.
— Так оно и есть. Но он завел себе новую «практику». Возможно, ему нужны наличные.
— Понятно. Номер его телефона знаете?
Барбер знал и это.
Часом позже Денни, неспешно и тщательно занимавшийся своим туалетом у себя на Эмбер-стрит, был поставлен в известность, что инспектор Грант был бы весьма признателен, если бы Денни посетил его в Ярде для краткой беседы.
Бледно-серые, настороженные глаза Денни внимательно оглядели явившегося к нему с этой просьбой человека в цивильном платье.
— Если он считает, у него что-то на меня есть, пусть подумает еще раз.
Насколько ему известно, заявил штатский господин, инспектору нужна всего лишь информация!
— Ах так? И что же инспектор сейчас инспектирует?
Штатский либо не знал, либо не пожелал сообщить.
— Ладно, — произнес Денни. — Сейчас буду.
Денни, который был строен и мал ростом, предстал перед Грантом в сопровождении внушительных объемов констебля; после чего, кивнув в сторону удалявшейся плотной фигуры, произнес, насмешливо двинув бровью:
— Надо же! Докладывают о моем прибытии! Нечасто мне выпадает такая честь!
— Верно, — в тон ему отозвался Грант. — Чаще случается как раз обратное: нам докладывают о вашем отбытии.
— Вы шутник, инспектор. Вам палец в рот не клади. Надеюсь, вы не думаете, что у вас на меня что-то есть?
— Отнюдь нет. Я жду от вас помощи.
— Польщен, — сказал Денни то ли в шутку, то ли вполне серьезно.
— Не знаком ли вам вот такой человек? — спросил Грант и стал подробно описывать убитого, между тем как его глаза не отрывались от лица Денни, а мысли были заняты тем, что видели глаза. Перчатки! Как бы, не выдавая своего интереса, вынудить Денни снять перчатку с левой руки?
Наконец, когда Грант завершил свое описание, не забыв упомянуть даже об особенностях походки — левой ступне, чуть повернутой внутрь, — Денни спокойно сказал:
— Мне жаль вас разочаровывать, инспектор. В жизни не встречал этого человека.
— Вы не откажетесь пройти вместе со мной и взглянуть на него?
— Если это вас успокоит — пожалуйста. Всегда готов оказать вам услугу.
Инспектор с отсутствующим видом сунул руку в карман и достал пригоршню монет, будто бы собираясь убедиться перед уходом, что у него есть мелочь. Шестипенсовик скользнул у него между пальцев и покатился по гладкой поверхности стола по направлению к Миллеру. Тот непроизвольно подставил руку, чтобы монета не скатилась на пол. Он неуклюже словил ее рукой в перчатке и положил на стол.
— Скользкие штучки, — заметил он невозмутимым, вполне дружелюбным тоном.
Денни словил монету правой, а не левой рукой.
В машине, пока они ехали к моргу, Денни повернулся, беззвучно выдохнул воздух, что у него означало смех, и проговорил:
— Увидел бы меня сейчас кто-нибудь из моих парней, так и пяти минут не прошло, как они мчались бы уже со всех ног в Саутгэмптонский порт. И пожитки не стали бы паковать.
— Ну мы бы и сами все запаковали и назад доставили.
— Небось думаете, вы нас всех под колпаком держите? Хотите поспорим? Ставлю пять против одного в долларах, — нет, лучше в фунтах, — пять против одного, что в ближайшие пару лет вам никого из нас не засадить. Не хотите? Ну и правильно делаете.
Когда Миллер подошел к телу убитого, Грант, как ни старался, не смог уловить ни тени волнения на бесстрастном лице Денни. Холодные серые глаза Миллера равнодушно, почти без всякого интереса оглядывали мертвеца. И Гранту стало ясно, что даже узнай Миллер этого человека, надеяться на то, что он себя выдаст словом или жестом, было совершенно напрасно.
— Нет, — повторил Денни. — Не видел этого человека никогда в… — Он вдруг замолчал, а потом воскликнул: — Да нет, я его видел! Черт, дайте-ка вспомнить! Где это было? Где? — Ладонью, затянутой в перчатку, он стал хлопать себя по лбу.
«Неужели это игра? подумал Грант. — Если так, то очень талантливо сыграно. Хотя от такого, как Миллер, другого ожидать было трудно».
— Нет, никак не вспомню! Я даже говорил с ним! Имя его я вряд ли знал, но говорил с ним — это точно!
В конце концов Гранту пришлось отказаться от дальнейших расспросов — ему еще предстояло судебное заседание. Но Миллер никак не мог успокоиться. Сознание, что его подвела собственная память, приводило его в бешенство, — такого с ним еще не случалось.
— Никогда не забываю лица, — твердил он упрямо. — У меня память на лица как у шпика.
— Если вдруг вспомните — позвоните. А пока не выполните ли вы одну мою небольшую просьбу? Снимите, пожалуйста, перчатки.
Глаза Денни мгновенно вспыхнули и сузились, как щелка прицела.
— Это что еще за дела? — отрывисто произнес он.
— Да почему бы вам их не снять?
— Откуда мне знать, что вы задумали?
— Послушайте, — добродушно проговорил Грант. — Всего минуту назад вы готовы были заключить пари. Ну вот, я согласен. Снимите перчатки — и я вам скажу, выиграли вы или проиграли.
— А если проиграю?
— Вы же прекрасно знаете, у меня нет на руках ордера на ваш арест, — с улыбкой произнес Грант, спокойно встречая пытливый взгляд острых глаз-щелок.
Денни перестал упрямиться, и на лице его снова появилось вызывающе беззаботное выражение. Он снял правую перчатку и протянул Гранту руку. Грант молча кивнул головой. Тогда Денни проделал то же самое с левой рукой, сунув при этом правую в карман пальто. Предложенная Гранту левая рука была чиста, цела и невредима.
— Вы выиграли, Миллер. Честно выиграли, как настоящий спортсмен, — сказал инспектор.
В тот же миг правый карман на пальто у Денни перестал оттопыриваться.
— Дадите знать, если вдруг на вас найдет озарение и вы вспомните. Идет? — сказал на прощание Грант.
— Можете не беспокоиться. Я не допущу, чтобы собственная память безнаказанно меня подводила.
Грант перекусил и отправился на предварительное слушание. Присяжные, быстро, в один присест завершив самую неаппетитную часть своей работы — ознакомление с трупом, — вернулись на свои места. Вердикт был известен заранее; им не нужно было ломать над ним голову. Теперь они могли целиком посвятить себя захватывающему занятию: слушанию всех подробностей самого нашумевшего из недавних преступлений из уст очевидцев. Грант глядел на них с иронией и благодарил Всевышнего, что ни его дело, ни его жизнь не зависят от их умственных способностей. Вскоре он и вовсе позабыл об их существовании и предался наблюдению за развертывающимся перед ним фарсом — опросом свидетелей. Его всегда поражал контраст между мрачными событиями, о которых шла речь, и комическими типажами самих свидетелей. Он давно знал все эти типажи наперечет, но ему никогда не надоедало наблюдать, до чего четко они выдерживали каждый свою характерную роль. Вот констебль, тем вечером несший дежурство у очереди: он весь блестел и сиял, в особенности его потный лоб! Он был предельно точен в своих показаниях и несказанно доволен собой. Вот Джеймс Рэтклиф — типичный добропорядочный домо владелец, которому претит неожиданная шумиха вокруг его имени и очень не по вкусу сам факт причастности к неблаговидному делу. Но, как честный гражданин, он полон решимости выполнить свой долг до конца. Такие люди, как он, являлись главной опорой законности и порядка. Инспектор знал это как никто другой и отнесся к нему с расположением, хотя тот ничего полезного для дела не сообщил. Он заявил, что не терпит очередей, и, пока еще было светло, читал, потом открылись двери, началась давка, и чтение пришлось прекратить. Затем настала очередь его супруги, которую инспектор видел плачущей и простертой на постели. Она, как и в тот раз, прижимала платочек ко рту и явно рассчитывала, что после каждого вопроса ее будут подбадривать и успокаивать. Ее допрашивали дольше всех, ведь она стояла непосредственно за убитым мужчиной.
— Следует ли нам понимать вас таким образом, будто, простояв почти два часа в непосредственном соседстве с этим господином, вы тем не менее не запомнили ни его, ни тех, кто с ним разговаривал, если таковые были? — спросил председательствующий.
— Но я вовсе не все время стояла за ним! Говорю вам, я обратила на него внимание, только когда он упал!
— Кто же тогда находился между ним и вами?
— Не помню. По-моему, какой-то мальчик. Или молодой человек.
— Ну и что с ним сталось потом?
— Не знаю.
— Вы заметили, как он отошел от очереди?
— Нет.
— Можете его описать?
— Да. Он был смуглый и… и похож на иностранца.
— Он был один?
— Не помню. Кажется, не один. По-моему, он с кем-то говорил.
— Как могло случиться, что вы так плохо помните то, что произошло всего три дня назад?
Она ответила, что была в шоке и поэтому все позабыла.
— Кроме того, — выпрямляясь, добавила она с вызовом; плохо скрытое презрение председательствующего, как видно, прибавило твердости ее слабому позвоночнику, — в очереди обычно никого не замечаешь. И я, и мой муж почти все время читали.
Тут она разразилась истеричными рыданиями.
Ее место заняла толстуха, обтянутая лоснящимся шелком, с лоснящимся от мытья мылом лицом. Она, видимо, уже отошла от оцепенения, в котором пребывала при первом опросе среди толпы в момент обнаружения трупа, и теперь с готовностью отвечала на вопросы. Она говорила, а ее красное, расплывшееся лицо и маленькие темные глазки-пуговки, казалось, выражали мрачное удовлетворение. Ей нравилась роль свидетельницы, и, когда председательствующий, поблагодарив, прервал ее на полуслове, это ее явно разочаровало.
За ней последовал тихий коротышка, по подробности изложения не уступавший констеблю, но явно дававший всем понять, что он невысокого мнения о коронере. Когда сей долготерпеливый джентльмен позволил себе заметить, что ему прекрасно известно, как в очереди люди обычно стоят по двое в ряду, среди присяжных раздались смешки, а коротышка оскорбился. Поскольку ни он, ни другие три свидетеля из очереди не помнили убитого в лицо и не заметили, как кто-нибудь отлучался, то их слушали невнимательно и долго не держали.
Швейцар, очень довольный тем, что именно он обладает самой важной информацией, сообщил, что и прежде видел убитого молодого человека, причем не один раз. Он бывал в Уоффингтоне постоянно. Однако ничего больше швейцар о нем не знал. Одевался молодой человек всегда очень хорошо. Нет, он не припоминает, с кем именно приходил покойный, но уверен, что иногда он бывал не один.
Атмосфера бесполезной говорильни во время слушания угнетающе подействовала на Гранта. Юноша, никому, по всей видимости, не известный, убит ударом кинжала в спину человеком, которого никто не видел. Никаких следов, оставленных убийцей, — за исключением кинжала, да и этот след указывал лишь на то, что у убийцы порез на большом или указательном пальце. Никаких следов, по которым можно выяснить личность убитого, лишь надежда, что один из продавцов фирмы «Братьев Феар» вдруг да вспомнит человека, покупавшего у него светло-коричневый, с розовыми разводами галстук. После того как зачитали предсказуемый в этой ситуации вердикт о совершении убийства неизвестным лицом или несколькими лицами, Грант направился к телефону, обдумывая слова миссис Рэтклиф о молодом иностранце. Являлся ли этот иностранец чистой фантазией, навеянной упоминанием о кинжале? Или же это впечатление возникло у нее само по себе, странным образом совпав с его версией о Даго? Юного иностранца миссис Рэтклиф уже не было поблизости, когда обнаружили убитого. Он исчез, а тот, кто исчез, почти наверняка и был убийцей.
Ладно, сейчас он выяснит в Ярде, есть ли что-нибудь новенькое, и, если ничего не появилось, пойдет и подкрепится чаем. Ему это просто необходимо. И потом, когда, медленно прихлебываешь чай, хорошо думается. Это далеко не так мучительно, как пережевывание, предписываемое главою старших инспекторов, многоумным и благоразумным Баркером. Для Гранта вдумчивое, неторопливое размышление обо всех обстоятельствах было самым продуктивным. Среди его знакомых был один поэт, он же очеркист, который именно так, ритмично и монотонно прихлебывая чай, рождал лучшие свои творения. Пищеварительный тракт у него был в ужасном состоянии, зато он считался одним из лучших стилистов своего времени.
Глава четвертая
РАУЛЬ ЛЕГАР
Однако по телефону Гранту сообщили нечто, заставившее его начисто позабыть о чае. Его ожидало написанное печатными буквами послание. Грант прекрасно понимал, что это означает. В Скотланд-Ярде был большой опыт по части таких посланий. Садясь в такси, Грант про себя улыбнулся. Если бы люди догадывались, что печатные буквы нисколько не помогают скрыть почерк! Он искренне надеялся, что никто об этом не догадается и впредь. Перед тем как распечатать конверт, он посыпал его специальным порошком и обнаружил массу отпечатков. Он аккуратно разрезал этот довольно объемистый, пухлый конверт, бережно придерживая его пинцетом, и достал пачку пятифунтовых банкнот и полстранички печатного текста. Текст состоял всего из одной фразы: «На похороны мужчины, найденного в очереди». Банкнот было пять. Итого — двадцать пять фунтов.
Грант опустился на стул и уставился на банкноты. Это был самый неожиданный случай за всю его службу в криминальном отделе. Сегодня где-то в Лондоне нашелся человек, который был привязан к покойнику настолько, что не пожалел двадцати пяти фунтов, только бы тот не лежал в общей могиле для бродяг и нищих, но востребовать его тело не пожелал. Можно ли было считать этот жест подтверждением версии о расправе с целью устрашения? Или же этими деньгами кто-то хотел заглушить укоры совести? Может, убийцей руководило суеверное желание таким образом загладить свою вину? Гранту это казалось маловероятным. Человека, спокойно пырнувшего своего ближнего ножом в спину, вряд ли будет волновать, что станется с телом его жертвы. Видимо, на сегодняшний день у покойника в Лондоне есть друг — мужчина или женщина, неизвестно, — и этот друг готов пожертвовать ради него двадцатью пятью фунтами.
Грант призвал Уильямса, и уже вдвоем они стали изучать простой дешевый белый конверт и прямые, жирные заглавные буквы.
— Так-то, — произнес Грант. — Что скажете?
— Мужчина, — откликнулся Уильямс. — Писать не привык. Опрятен. Курит. Угнетен.
— Пять с плюсом! Но в Ватсоны вы не годитесь, Уильямс. Больно догадливы: все пенки хотите сами снять, да?
Уильямс, который про Ватсона прекрасно все знал, — сколько лихорадочных мгновений он, одиннадцатилетний, провел на сеновале в Ворчестершире, урывками глотая «Банду рыжих» и каждую минуту ожидая, что его вот-вот обнаружат родители, которые запрещали подобное чтиво, — улыбнулся и сказал:
— Сдается мне, что вы из этого извлекли куда больше моего, сэр.
Но Гранту нечего было добавить — за исключением того, что, видимо, даритель такими делами заниматься не привык. Послать как раз те купюры, которые проще всего идентифицировать, — это надо же!
Грант «попудрил» и листочек бумаги, но на нем отпечатков пальцев не оказалось. Он вызвал констебля и отправил с ним бесценный конверт и банкноты в фотолабораторию. Клочок бумаги с печатными буквами был отослан в дактилоскопический отдел.
— Банки сегодня уже закрылись, как это ни печально. Вы торопитесь домой к своей хозяюшке, Уильямс?
Уильямс не торопился. Его «хозяюшка» уехала с ребенком на неделю к своей матери в Саутэнд.
— В таком случае мы сегодня пообедаем вместе, и вы поделитесь со мной своими ценными идеями касательно убийств в очередях.
Несколько лет назад Грант получил значительное наследство — вполне достаточное для того, чтобы, будь у него такое желание, уйти в отставку и провести остаток дней в праздной безвестности. Однако Грант любил свою работу, что не мешало ему временами проклинать ее и говорить, что у него собачья жизнь.
Полученные деньги он употребил на то, чтобы, по возможности, скрасить эту жизнь, исключить из нее неприятные моменты и устроить так, чтобы этих неприятных моментов стало поменьше и в жизни других. На южной окраине появился маленький продуктовый магазин — своего рода бриллиант среди ему подобных. Своим появлением он был обязан Гранту, а также случайной встрече с одним человеком, только что покинувшим тюремные стены. Благодаря Гранту он туда попал и благодаря ему же получил возможность начать новую жизнь, став хозяином магазина. Это же наследство позволило Гранту сделаться постоянным посетителем такого престижного ресторана, как «Лорен», и, что куда важнее и удивительнее, попасть в любимчики к метрдотелю. Во всей Европе лишь пять особ могли похвастаться благосклонностью старшего распорядителя «Лорена», и Грант очень дорожил выпавшей ему честью, хотя нисколько не обольщался относительно ее причины.
Они вошли в зеленый с золотом зал ресторана «Лорен», и Марсель встретил их почти у входа. Его лицо выразило крайнюю степень озабоченности. Он просто в отчаянии: во всем зале не осталось ни одного свободного столика, который подошел бы месье. Ни одного — за исключением вон того, совсем уж неприличного, в углу. Месье не дал знать заранее, что собирается посетить их. Он, Марсель, безутешен, просто безутешен.
Грант без тени протеста занял столик, о котором столь пренебрежительно отозвался Марсель. Он был голоден, и ему было безразлично, где сидеть, — только бы его вкусно накормили; за исключением того, что столик находился в непосредственной близости от двери, ведущей в кухню, других недостатков Грант за ним не обнаружил. Кухонную дверь прикрывали зеленые створки ширмы, и, когда двери за ними раздвигались, мелодичное позвякивание посуды на кухне оглушало, как щелканье кастаньет. За обедом Грант решил, что Уильямс с утра обойдет все банки в районе, указанном на штемпеле, и постарается выяснить все возможное касательно банкнот. Это, вероятно, не составит большого труда — банки всегда с охотой оказывали им полное содействие. После этого они стали обсуждать само преступление. Уильямс был убежден, что здесь замешана банда: покойный провинился, зная об этом, взял у одного из приятелей оружие, но не успел им воспользоваться. Сегодняшние деньги посланы все тем же, втайне сочувствовавшим ему приятелем. Версия выглядела неплохо, но объясняла далеко не все. Например, почему при убитом не было ничего, позволяющего выяснить его личность?
— Может, потому, — резонно заметил Уильямс, — что у бандитов такое правило: не носить при себе никаких документов, на случай, если поймают.
Это было вполне допустимое объяснение, и Грант замолчал, раздумывая над ним. Подали салаты, и тут вдруг Грант — тем шестым чувством, которое за годы службы в уголовном отделе и в особенности после пребывания на Западном фронте обострилось у него до чрезвычайности, — уловил, что за ним наблюдают. Удержавшись от того, чтобы немедленно обернуться — он сидел спиной к залу и лицом к кухонной двери, — Грант как бы невзначай посмотрел в зеркало. Однако, казалось, никто не обращал на него ни малейшего внимания. Грант продолжал есть, но через некоторое время повторил свой маневр. Со времени их прихода зал заметно опустел, и оставшиеся были все на виду.
Зеркало отражало лишь курящих, жующих или пьющих людей. И тем не менее Грант продолжал ощущать на себе чей-то пристальный взгляд. От этого упорного тайного наблюдения у него даже мурашки пошли по телу. Поверх головы Уильямса он посмотрел в направлении створок, прикрывавших выход на кухню, и тут же заметил глаза, следившие за ним сквозь щелку. Очевидно, догадавшись, что их обнаружили, глаза мигнули и исчезли, а Грант как ни в чем не бывало продолжал есть. Он решил, что это какой-нибудь не в меру любопытный официант. «Вероятно, узнал меня и хочет поглазеть на человека, близко связанного с убийством», — подумалось ему. Любители поглазеть всегда действовали ему на нервы. Но на полу фразе взглянув в сторону двери, он снова поймал на себе все тот же изучающий взгляд. Это уже было чересчур. Уже не скрываясь, Грант тоже посмотрел прямо туда. Однако обладатель глаз, видимо, полагал, что его нельзя заметить, и продолжал свою слежку. Время от времени, когда мимо ширмы проходил официант, глаза исчезали, но неизменно возвращались вновь, и Гранту захотелось взглянуть на того, кто так внимательно его изучал.
— За створками кто-то проявляет к нам нездоровый интерес, — сказал он Уильямсу, который сидел спиной к выходу на кухню. — Как только я щелкну пальцами, отведите правую руку назад и сбейте ширму. Постарайтесь, чтобы это выглядело как случайность.
Он выждал паузу в передвижении официантов и, когда глаза снова оказались прикованными к его лицу, легонько щелкнул пальцами. Уильямс двинул своей могучей рукой, ширма покачнулась и упала набок. Никого. Только раскачивающиеся двери выдавали чье-то поспешное бегство.
Уильямс громко извинился за свою неловкость, а Грант решил не придавать этому эпизоду большого значения. Тем более что идентифицировать человека по одним глазам — задача неразрешимая. Они с Уильямсом без дальнейших осложнений мирно завершили свой обед и отправились в Ярд в надежде, что снимки с отпечатков пальцев уже готовы.
Снимков все еще не было, зато пришел ответ из Норвуда о галстуках «Братьев Феар». В прошлом году всего одна коробка галстуков с таким рисунком в количестве шести штук разных оттенков была отослана по повторному заказу в филиал города Ноттингема. Дирекция выражала готовность оказать и в будущем любую необходимую помощь, а галстук посылала обратно.
— Если до завтрашнего дня больше ничего не прояснится, я сам поеду в Ноттингем, пока вы тут будете разбираться с банками, — сказал Грант.
Затем явился наконец человек со снимками, и Грант взял со стола для сравнения уже имеющиеся у него фотографии отпечатков пальцев — взятых у убитого и обнаруженных на револьвере. Согласно экспертизе на банкнотах все отпечатки были смазанные, и потому Грант и сержант Уильямс сразу занялись отпечатками пальцев с конверта. Как и следовало ожидать, различных отпечатков оказалось множество, поскольку с момента отправления пакет прошел через много рук.Однако в правом углу с обратной, заклеенной стороны был один четкий и целый отпечаток указательного пальца, и без малейшей тени сомнения он был тот же, что и на рукоятке револьвера, найденного в кармане убитого.
— Что ж, это только подтверждает вашу версию о приятеле, одолжившем револьвер, — заметил Грант.
Сержант издал какой-то странный звук, словно поперхнувшись, и как завороженный продолжал смотреть на конверт.
— В чем дело? Тут же все ясно как дважды два!
Уильямс выпрямился и как-то странно посмотрел на своего шефа. Дрожащим пальцем он указал на отпечаток в самом нижнем углу слева и одновременно пододвинул снимки отпечатков покойника, лежавшие в стороне, к самому носу Гранта.
— Готов поклясться, что не перебрал со спиртным, сэр. Но либо это все же случилось, либо вся дактилоскопия ни к черту не годится. Взгляните сами!
Наступила пауза: инспектор сравнивал оба снимка, а сержант, с опаской глядя через его плечо, уверился, что не ошибся. Полоски и завитушки на обоих неумолимо свидетельствовали о том, что отпечатки в нижнем углу принадлежали покойнику. Гранту потребовалось не более двух минут, чтобы найти объяснение этому поразительному факту.
— Общие письменные принадлежности — только и всего, — произнес он небрежно, между тем как Грант — сторонний наблюдатель пристыдил Гранта-инспектора за то, что он позволил себе, хоть на краткий миг, испытать ребяческое изумление.
— Ваша версия, Уильямс, расцветает на глазах. Человек, одолживший оружие и пославший деньги, жил вместе с покойным. А раз так, то по поводу исчезновения приятеля он мог наплести что угодно и кому угодно начиная от квартирной хозяйки и кончая женой. Посмотрим, что нам имеет доложить эксперт по почеркам, — сказал Грант, набирая номер.
Но эксперт не имел доложить ничего такого, о чем уже не знал или не догадался сам Грант. Бумага была самого обыкновенного типа, какую можно купить в любом киоске и у любого книжного прилавка. Печатные буквы выведены мужчиной. Будь у них в руках образец почерка подозреваемого, можно было бы установить, сходен ли он с тем, что на клочке бумаги. Пока же больше ничего сказать нельзя.
Уильямс отправился к себе — во временно осиротевшее жилище, утешая свое любвеобильное сердце мыслью, что неделя пролетит незаметно и что миссис Уильямс вернется из Саутэнда заметно похорошевшая, а Грант, оставшись один, принялся сверлить глазами стилет, будто надеясь, что под его гипнотическим взглядом тот выдаст наконец свою тайну.
Стилет лежал на темно-зеленой кожаной поверхности стола — изящная, коварная, игрушечная вещица. Тонкое, хищное лезвие являло странный контраст святому на рукоятке, с глупым маловыразительным лицом. Как это сказала Рей Маркейбл? «Когда собираешься совершить такое серьезное дело, тебе требуется чье-то благословение».
Нет, решил Грант, сам бы он для выполнения самого важного деяния своей жизни выбрал себе более могущественное покровительство, чем этот дутый святой на рукоятке. Мысли Гранта перенеслись к Рей Маркейбл.
Утренняя пресса была полна сообщениями о ее предстоящем отъезде в Америку — популярные газеты писали об этом с глубоким сожалением; некоторые же — те, что читали снобы, — с горечью и негодованием по поводу английских менеджеров, которые допустили, чтобы самая блестящая из звезд музыкальной комедии нынешнего поколения покидала Англию.
Может, ему наведаться к Рей и спросить ее прямо, отчего ее удивило описание кинжала? Между нею и преступлением не могло быть никакой, даже самой отдаленной связи. Он знал ее предысторию — видел небольшое, полузаброшенное строение в унылом пригороде, которое она называла своим родным домом; знал обычную городскую школу, где она училась, знал ее настоящее имя — Рози Маркхэм. В связи с делом о краже шкатулки он даже встречался с мистером и миссис Маркхэм. Казалось невероятным, чтобы она могла пролить хоть какой-нибудь свет на «убийство в очереди», как его окрестили газеты. И уж совсем невероятно, чтобы она захотела сделать это, даже если бы могла. У нее имелся шанс откровенно рассказать ему все, что знала, пока они пили чай, но она вполне сознательно не воспользовалась им, оставив Гранта в неведении. А то, о чем она умолчала, вероятно, было сущим пустяком. Возможно, она и узнала кинжал по его описанию в газетах, но это не имело никакого отношения к убийству. Стилет этот вовсе не был единственным в своем роде, подобные «игрушки» были довольно популярны. Нет, в любом случае еще одно интервью с мисс Маркейбл вряд ли принесет ему какое-то удовлетворение. Пусть себе спокойно отправляется в Соединенные Штаты.
С досадливым вздохом по поводу хранящего молчание кинжала Грант запер его в ящик стола и отправился домой. Он вышел на набережную. Ночь была безветренная, в воздухе стоял легкий морозный туман, и он решил пройтись пешком. Его всегда завораживали ночные улицы Лондона; они были прекрасны и так не похожи на забитые толпой дневные магистрали. Во второй половине дня столица дарила вам развлечения — богатые, разнообразные, увлекательные. Ночью столица дарила вам себя. Ночью вы слышали, как она дышит.
К тому времени, когда Грант свернул на свою улицу, он двигался почти автоматически и не думая ни о чем определенном. Пришел черед «зажмуриться». Однако — и в прямом и в переносном смысле — ни малейшей сонливости он не ощущал. Поэтому он моментально «открыл глаза», когда неожиданно заметил смутные очертания фигуры на противоположном углу неподалеку от фонаря. Кто это болтается по улице в такой час?
Он торопливо соображал, не стоит ли перейти на ту сторону и пройти мимо, чтобы получше присмотреться. Но менять направление было уже поздно, и он, не останавливаясь, прошел дальше. Уже подойдя к калитке своего палисадника, он обернулся. Фигура находилась на прежнем месте, почти неразличимая в тумане.
Было уже за полночь, и Грант открыл дверь своим ключом, но миссис Филд его дожидалась.
— Я подумала, вы захотите знать, что вас тут спрашивал один джентльмен. Он не стал дожидаться и ничего не просил передать.
— Давно это было?
По словам миссис Филд, более часа назад. Она не разглядела его как следует. Он не поднимался на ступеньки. Только видела, что молодой.
— И не назвал себя?
— Нет, не назвал.
— Спасибо. Ложитесь-ка спать. Если он вернется, я сам ему открою.
Она замешкалась на пороге и озабоченно сказала:
— Только, пожалуйста, будьте осмотрительны. Не очень-то мне хочется оставлять вас одного-одинешенького с неизвестным человеком. Что, если это анархист какой?
— Не тревожьтесь, миссис Филд. Никто вас не взорвет.
— Я не взрыва боюсь. Я боюсь, вдруг вы будете тут истекать кровью, а помочь будет некому. Подумайте, что со мной станется, если утром я войду и застану вас в таком виде?!
— Успокойтесь, пожалуйста! — со смехом проговорил Грант. — Ничего ужасного со мной не случится. Единственный и последний раз кровь мне пустил фриц в Контальмезоне, да и то случайно.
Миссис Филд подумала и… сдалась.
— Вы тут перекусите перед сном, — сказала она, указывая на буфетную полку. — Я купила для вас свежие помидоры и мясо с пикулями — у Томкинса оно превосходное.
Она пожелала ему спокойной ночи, вышла, но, видимо, не успела еще дойти до кухни, когда во входную дверь постучали. Он услышал, как миссис Филд пошла открывать, и в то время как Грант-детектив терялся в догадках насчет посетителя, Грант-наблюдатель решал, что на самом деле руководило миссис Филд, когда она заторопилась открывать: услужливость или любопытство. Минутой позже она отворила дверь и торжественно произнесла: «К вам джентльмен, сэр». И пред нетерпеливым взором Гранта предстал юнец лет девятнадцати — двадцати, довольно высокого роста, смуглый, широкоплечий, но тонкий в талии. Он стоял чуть приподнявшись на носках — как боксер перед схваткой.
Войдя в комнату, он заглянул за дверь и потом перевел черные сверкающие глаза на Гранта; затем сделал несколько шагов ему навстречу и замер, вертя в тонких пальцах мягкую фетровую шляпу. Он был в перчатках.
— Инспектор Грант — это вы? — спросил он.
Грант жестом пригласил позднего гостя сесть, и тот, не выпуская из рук шляпы, с грацией, абсолютно чуждой англичанину, опустился на кончик стула и заговорил:
— Сегодня я видел вас у Лорена. Я там работаю в буфетной. Чищу серебро и все такое. Мне сказали, кто вы есть, я подумал и хочу вам про все сказать.
— Разумная мысль, продолжайте, — отозвался Грант. — Вы итальянец?
— Нет, француз. Меня зовут Рауль Легар.
— Так, так. Я вас слушаю.
— Я стоял в очереди, где убили человека. У меня был выходной день. Мы с ним долго стояли рядом. Он нечаянно наступил мне на ногу, и мы потом поговорили немного о спектакле. Я стоял снаружи, а он — ближе к стенке. Потом подошел человек, потеснил меня и стал с ним разговаривать. Тому, кто подошел, что-то было нужно от этого — с кем я рядом стоял. Он оставался до самого открытия дверей. Он из-за чего-то очень сердился. Они не ссорились, нет, во всяком случае не так, как мы обычно ссоримся, но оба очень сердились. Когда случилось убийство, я убежал. Не хотел, чтобы меня таскали в полицию. Но сегодня я увидел вас в ресторане, и вы показались мне… как это будет по-английски? — не грубым. Вежливым. Вот я и решил вам про все рассказать.
— Почему же вы не явились ко мне в Скотланд-Ярд?
— Я не доверяю Сюрте. Они любят делать много шума из ничего. А в Лондоне я совсем один, без друзей.
— Когда человек подошел и оттеснил вас назад, кто оказался между вами и стенкой?
— Женщина в черном. Миссис Рэтклиф.
Пока он говорил правду.
— Можете описать того человека, который подходил и потом снова ушел?
— Он невысокий. Ниже меня. А шляпа у него была как моя — только коричневее, и пальто такое же. — Он указал на свое приталенное синее пальто. — Только тоже коричневое. Очень смуглый, без усов, и вот тут — у него все такое широкое. — И юноша провел рукой по своему правильному, как у статуи, овалу лица и подбородку.
— Смогли бы вы его узнать, если бы увидели?
— О да, конечно.
— И показать под присягой?
— Что это такое?
— Дать клятвенное заверение, что говоришь правду.
— О да.
— По поводу чего они ссорились?
— Не знаю. Я не слышал. Во-первых, я специально не прислушивался, а во-вторых, хотя и говорю по-английски, но не очень понимаю, когда говорят быстро. Кажется, человек, который подошел, хотел что-то получить от того, которого убили, а тот не соглашался это отдать.
— Как могло случиться, что никто не заметил, когда этот человек отошел от очереди?
— Потому что это произошло, как раз когда полицейский крикнул: «Подайся назад!»
Все это выглядело очень уж складно. Инспектор вынул записную книжку и карандаш, открыл чистую страницу и протянул карандаш юноше.
— Можете нарисовать, в каком порядке кто стоял в очереди? Сделайте кружочки и обозначьте их.
Молодой человек взял записную книжку в левую руку, в правую — карандаш и вполне сносно изобразил схему очереди, не подозревая, что тем самым утер нос той самой полиции, которая «столько шумит не по делу».
Грант пристально следил, как юноша с серьезным лицом прилежно водит карандашом, и лихорадочно соображал. Значит, паренек говорит правду. Он находился в очереди, пока мужчина не повалился, подался назад вместе с остальными и продолжал отходить, пока не оказался вне опасности быть схваченным полицейскими в чужой для него стране. Он действительно видел убийцу и сможет опознать его. Дело начало сдвигаться с мертвой точки.
Грант взял из рук Рауля записную книжку и, подняв глаза от схемы очереди, перехватил взгляд юноши, с тайным вожделением устремленный на буфетную полку с едой. До него дошло, что Легар, вероятно, направился к нему прямо с работы.
— Я очень вам благодарен, — произнес Грант. — Давайте-ка поужинаем, а?
Молодой человек сперва робко отнекивался, но быстро позволил себя уговорить, и вдвоем они основательно поели, отдав должное мясу с пикулями. Легар разговорился. Он рассказывал о своих родных в Дижоне, о сестре, которая выслала ему нужные документы, об отце, который не одобрял пива, потому что оно из колосков. А кто же ест колоски? Виноград — иное дело. Рассказывал о своих впечатлениях от Лондона и от англичан. Когда наконец Грант распахнул входную дверь в тихую черноту ночи, Рауль на пороге обернулся и извиняющимся тоном наивно произнес:
— Я очень сожалею, что не рассказал все раньше, но вы же понимаете, почему так получилось. Я убежал, и поэтому мне стало еще труднее решиться. И потом, я не думал, что полиция здесь такая порядочная.
Грант похлопал его по плечу на прощание, закрыл дверь и сразу пошел к телефону.
— Это инспектор Грант, — произнес он, когда в Ярде сняли трубку. — Прошу разослать во все полицейские округа следующий текст: «В связи с делом о лондонском убийстве в очереди разыскивается мужчина: левша, лет около тридцати, немного ниже среднего роста, смуглый, черноволосый, широкоскулый, без усов и бороды. Последний раз, когда его видели, был одет в приталенное пальто коричневого цвета и такого же цвета фетровую шляпу. Имеет свежий шрам на большом или указательном пальце».
После этого он отправился спать.
Глава пятая
И СНОВА ДЕННИ
Поезд отошел от Марилебонского вокзала и выкатился в яркое солнечное утро. Грант глядел в окно и чувствовал себя на подъеме, какого не испытывал с того самого дня, когда провел первую беседу с полицейскими на Гоу-стрит. Убийца перестал быть мифом. У них имелось его описание, и поимка его — теперь просто дело времени. Возможно, к вечеру уже удастся выяснить личность убитого. Грант с удовольствием вытянул ноги, наблюдая, как по ним заскользили, вздрагивая, солнечные лучи, — поезд набирал ход.
В десять утра, при ярком солнышке Англия прелестна. Даже убогие пригородные домишки утратили свой агрессивно-воинственный вид, порожденный комплексом неполноценности; они самозабвенно и кокетливо светились в солнечных лучах. Их узкие, негостеприимные двери, покрашенные яркой, дешевой краской с неуклюжим подобием колонн, уже не выглядели безобразными. Нефритовые, лиловатые, голубоватые, ониксовые, они, казалось, вели каждая в свой, отдельный, персональный рай. Прилегающие к ним садики с безвкусно подобранными выскочками-тюльпанами и сорняками выглядели не хуже висячих садов Семирамиды. Здесь и там танцевали и раздувались на ветерке веселые детские одежки, и за их пестрыми гирляндами чудились звонкие детские голоса. А еще дальше, когда остались позади последние приметы города, широко улыбались под солнцем просторы лугов — совсем как на лубочных картинках со сценами охоты. Да, в это ясное утро Англия была прекрасна, и Грант наслаждался ею. Даже ноттингемские каналы своей голубизной напоминали Венецию, а заключавшие их осклизлые стенки розовели, как знаменитая Петра.
Грант вышел с вокзала, и его сразу же оглушило звяканье и бренчанье трамваев. Если бы его спросили, с чем ассоциируется у него Мидлэнд — Средняя Англия, то он без колебаний ответил бы: с трамваями. В Лондоне трамваи выглядели чужаками, жалкими провинциалами, вынужденными вести унылое, безрадостное существование; провинциалами, которые никак не могли собрать достаточно средств, чтобы выбраться из этого чужого им города. Стоило Гранту услышать их не похожее ни на что отдаленное пение — и он сразу переносился в мертвящую, душную атмосферу маленького городка в Средней Англии, где родился. Жители Средней Англии не прячут свои трамваи в глухих улочках, а выставляют их напоказ на главных проспектах — отчасти из упрямого хвастовства, отчасти из-за ошибочного представления об их практичности и удобстве. Их длинная желтая цепочка вытянулась вдоль ноттингемского рынка, перегораживая собой широкую, вполне европейских масштабов площадь и превращая переход с тротуара к рыночным прилавкам в увлекательнейшую игру в прятки. Однако аборигенам, которых природа в полной мере наделила своим самым чудесным даром — умением приспосабливаться к обстоятельствам, эти скачки с препятствиями, казалось, даже нравились, тем более что большой опасности не представляли. Во всяком случае, пока Грант переходил улицу, жертв не было.
В филиале «Братьев Феар» Грант предъявил галстук убитого и объяснил, что хотел бы выяснить, не вспомнит ли кто, кому и когда его продали. Человек за прилавком сам не помнил, однако подозвал более молодого коллегу, который в тот момент водил белым и гибким, как гусеница, пальцем вверх и вниз по коробкам, чтобы отыскать предмет, затребованный покупателем. Что-то подсказывало Гранту, что сей юнец по вопросам, касающимся его ремесла, помнит больше, чем любой самый старый продавец фирмы. И оказался прав. Одного взгляда на галстук ему было достаточно, чтобы вспомнить, что этот галстук — или точь-в-точь такой же — он снял для джентльмена с витрины месяц назад. Господин увидел его в окне магазина и пожелал купить, потому что расцветка подходила к его костюму. Нет, ему кажется, покупатель был не из местных. Отчего? Оттого, во-первых, что он не говорил как ноттингемец, а во-вторых, был одет не так, как здесь одеваются. Мог бы он описать этого джентльмена? Он мог, и сделал это подробно и точно.
— Если хотите, я вам даже число могу назвать, — заключил этот феноменальный молодой человек. — Я запомнил из-за того, что… — И тут Грант увидел, не без удовольствия, как этот все знающий, уверенный в себе служащий вдруг весь порозовел и сразу превратился в застенчивого подростка. — Из-за одного события, которое произошло в этот день. Это было второго февраля.
Грант записал дату и спросил о впечатлении, которое у него осталось от покупателя галстука. Напоминал ли он коммивояжера, например?
Нет, на коммивояжера он был не похож. Он не говорил о бизнесе, и его нисколько не интересовали перспективы развития Ноттингема. Грант осведомился, не происходило ли в это время в городе какое-нибудь событие, которое могло бы привлечь сюда людей из других мест, на что молодой человек сказал, что да, конечно, происходил музыкальный фестиваль Мидлэнда. Даже из Лондона приезжали. Он знает, потому что сам принимал участие в этом фестивале. Он поет в хоре и всегда в курсе всех фестивалей. По виду незнакомец скорее всего был из тех, кого интересуют именно фестивали, а не бизнес. Он еще тогда сразу подумал, что, вероятно, этот господин приехал к ним на фестиваль.
Вполне возможно, так оно и было, подумал Грант. Он вспомнил тонкие, нервные руки убитого. К тому же тот был завсегдатаем Уоффингтона, который если и не из самых знаменитых, но бесспорно театр с добротным музыкальным репертуаром. Это не совпадало с версией бандитской расправы, и все-таки нельзя из-за этого отбрасывать новую информацию. Фактически версию с бандой нечем было обосновать. Рабочая гипотеза, и ничего больше. Он поблагодарил юношу и осведомился, не знает ли тот, кому в Ноттингеме может быть известно об артистах, которые приезжали на фестиваль. Молодой человек назвал ему имя Юдалла — юриста по профессии. Юдалл являлся даже не секретарем, а кем-то вроде председателя неофициального фестивального комитета; фестивали были его страстью. Он просидел на нем с утра до вечера все три дня и наверняка знал наперечет всех, кто приезжал из Лондона.
Грант записал адрес Юдалла, понимая, что наблюдательный юнец заносит в реестр своей памяти и его самого; пройдут годы, и доведись кому-нибудь обратиться к нему с просьбой описать человека, который брал у него адрес Юдалла, он сделает это самым аккуратнейшим образом. Жаль, что такой талант пропадает в магазине мужской галантереи!
— Вы ведете розыск человека, который покупал галстук? — спросил на прощание юный талант. Слову «розыск» он придал вполне определенный «полицейский» смысл.
— Не совсем. Но я хочу проследить его действия, — уклончиво ответил Грант и отправился на розыски юриста.
Унылые апартаменты фирмы «Юдалл, Листер и Юдалл» размещались возле замка, на маленькой боковой улочке, которая никогда не видела трамваев и в которой одинокие шаги прохожего будили такое громкое эхо, что невольно хотелось оглянуться.
Триста лет было этой фирме; приемная здесь была отделана дубом, что глушило самый отважный, самый малый лучик света, если тому удавалось пробиться сквозь толстое зеленоватое оконное стекло. Лучик погибал на подоконнике, как гибнет в сиянии славы на редуте после отбитой атаки последний солдат. Но господин Юдалл из фирмы «Юдалл, Листер и Юдалл» посчитал бы любую перемену здешней обстановки просто святотатством. Изменить обстановку?! Это что же — переехать в здание, напоминающее рефрижератор? Здание все в прорезях окон, так что у него практически не остается стен! Сплошные, непередаваемого безобразия стеклянные панели, соединенные пилястрами! Вот что такое современная архитектура! Но сам мистер Юдалл, словно стараясь компенсировать сумрачную заброшенность помещения, сиял и лучился и приветствовал каждого входящего с тем полным отсутствием подозрительности, которое демонстрируют либо самые близкие друзья, либо ловкие мошенники, но никогда — юристы. В юности ему, как единственному представителю Юдаллов третьего поколения, была выделена в одной из контор фирмы «Юдалл» каморка размером с платяной шкаф, и, поскольку его любовь к дубовым панелям, балкам и зеленоватым стеклам окон могла сравниться лишь с его любовью к симфониям и сонатам, он спокойно просидел там большую часть своей жизни. Теперь же он представлял всю фирму «Юдалл, Листер и Юдалл», а за тем, чтобы его шеф не совершил какой-нибудь непоправимой для фирмы глупости, следил компетентный старый клерк.
Сказать, что мистер Юдалл встретил инспектора радушно, значит, не сказать ничего. Грант даже подумал, что, может, они встречались раньше и он просто забыл об этом. На его лице Грант не заметил и следа того нетерпеливого любопытства, с которым он сталкивался постоянно, когда вслед за визитной карточкой появлялся в чьем-нибудь доме. Для него Грант был просто еще одним милейшим человеком; не успел Грант изложить своего дела, как его уже пригласили на ланч. За едой говорить гораздо приятнее, объяснил Юдалл. К тому же уже почти два часа дня, и Грант наверняка умирает с голоду. Грант не стал отказываться от столь радушного приглашения. Требуемой информации он еще не получил, и, похоже, это была единственная возможность ее добиться. Более того, полицейский никогда не упустит случая завязать новое знакомство. Девиз Скотланд-Ярда (если уж таковым обзаводиться): «Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь».
Во время ланча инспектор выяснил, что Юдалл в жизни не встречался с человеком, которого он разыскивает. Всех участников фестиваля, а также любителей подобных концертов он знал в лицо, а с некоторыми был знаком лично. Однако никто из них по описанию не был похож на убитого.
— Если вы предполагаете, что он музыкант, то надо порасспросить лионских музыкантов или тех, кто работает при киностудии. И у тех и у других в труппе много лондонцев.
Грант не стал объяснять, что заключение, будто разыскиваемый — музыкант, основано исключительно на его предполагаемом интересе к фестивалю. Куда легче и приятнее было просто слушать Юдалла. Однако во второй половине дня, после того как он распрощался со своим любезным спутником, Грант все же проверил городские оркестры, но, как и предвидел, безо всякого успеха. Потом он позвонил в Ярд, выяснить, как продвигается у Уильямса его охота за номерами купюр, и поговорил с самим Уильямсом, который только что вернулся. Купюры как раз были на проверке в банке. Пока ничего определенного, но, кажется, они вышли на след.
«Что ж, — подумал Грант, вешая трубку, — по крайней мере, одна нитка из клубка начала развертываться — медленно, но верно».
История английской банкноты — всегда самое точное, самое неопровержимое свидетельство. Если по банкнотам выяснится личность друга, то, невзирая на неудачную попытку Гранта в Ноттингеме узнать, кто же был сам убитый, имя его приятеля так или иначе позволит получить эти сведения. А от убитого до Даго — всего один шаг. И все-таки настроение у Гранта было неважное. С утра им владело отчетливое предчувствие, что до ночи какая-то неожиданная информация выведет его на верный след. Он почти с отвращением вспоминал зря потраченный день, и ни удовольствие от ланча с мистером Юдаллом, ни розовый отблеск благодушного отношения этого милого джентльмена ко всему роду людскому не принесли ему утешения. На вокзале он обнаружил, что до ближайшего поезда еще полчаса, и направил стопы в ресторан при ближайшей гостинице в смутной надежде подобрать там хоть крупицы каких-нибудь сведений. В таких местах можно услышать больше сплетен, чем где бы то ни было. С кислым видом он наблюдал за официантами. Один был высокомерен и походил на раскормленного борова, другой рассеян и напоминал борзую. Инстинкт подсказывал Гранту, что от них толку не будет. Зато принесшая ему кофе официантка — миловидная женщина средних лет — пролила чуть-чуть бальзама на его душу. Уже через несколько минут они разговорились, правда их разговор постоянно прерывался — ей приходилось отлучаться выполнять заказы, — но потом она неизменно оказывалась рядом, и они могли продолжить беседу. Грант понимал, что описание человека, вполне обычного — не слепого и не горбуна, — вряд ли что-нибудь скажет женщине, которая, возможно, каждый день обслуживает до полудюжины мужчин с такой внешностью; поэтому он решил просто ограничиться наводящими вопросами.
— Я смотрю, у вас тут сейчас тихо, — начал Грант.
Она согласилась. То затишье, то яблоку негде упасть — так уж у них повелось.
Зависит ли это от количества постояльцев?
Не всегда. Но вообще-то зависит. В гостинице — как у них: то густо, то пусто.
А бывает, когда в гостинице нет мест?
Да. Вот недавно все было забито — кооператоры съехались. Все было занято, все двести номеров. Она не помнит, чтобы когда-нибудь еще творилось такое.
— Когда это было? — спросил Грант.
— Да в начале февраля. У них съезды два раза в году.
В начале февраля? Из каких мест эти кооператоры съезжаются?
Оказалось, со всей Средней Англии.
А из Лондона?
Как правило, не из Лондона. Но, надо думать, оттуда тоже кто-нибудь приезжает.
Грант заторопился к поезду, по пути раздумывая над этой, еще одной возможностью, но не нашел ее многообещающей. Он сам не знал почему. Просто не того типа человеком казался ему покойный. Если он и был продавцом, то скорее в той сфере торговли, которая требовала от своих служащих известного шика.
Обратное путешествие совсем не напоминало утреннее, когда у него на сердце было легко и думалось хорошо и неспешно. Солнце скрылось, серый туман заволок пейзаж. В бледном вечернем свете он сразу стал казаться плоским, унылым и однообразным. Кое-где среди тополей неприветливо и тускло проблескивали полоски воды. Грант занялся газетами, а когда читать стало нечего, просто глядел, как серый, расплывчатый вечер летит мимо, и лениво думал о том, какова же все-таки была профессия у погибшего. Непрекращающийся, временами довольно громкий разговор трех других обитателей купе о каких-то формовках отвлекал его и раздражал до чрезвычайности. Он немного повеселел, только когда заметил сигнальные огни. Рубиновые и изумрудные, на фоне угасающего неба они словно висели в воздухе — каждый сам по себе. Это чудо заворожило Гранта. Казалось невероятным, что вся эта фантастика держится на невидимых, но прочных опорах и стальных перекладинах, а своим существованием обязана динамо-машине. Но он был рад, когда долгий гудок и тряска на стыках путей возвестили о конце путешествия и над ним засверкали мощные лондонские огни.
Когда он входил в Ярд, у него возникло странное ощущение, будто то, за чем он гонялся весь день, ждет его здесь. Может, все-таки утреннее предчувствие его не обмануло? Может, сейчас наконец-то в его руках окажется тот единственный, тот самый необходимый кусочек информации, благодаря которому он узнает всю историю мертвеца? Грант с трудом сдерживал нетерпение. Никогда еще лифты ему не казались такими медленными, а коридоры — такими длинными.
Но там его ничего не ждало, абсолютно ничего, кроме письменного рапорта Уильямса. Уходя пить чай, сержант на случай его возвращения оставил письменный отчет. В нем было то, что Грант уже слышал по телефону, — только в более подробном варианте.
Однако в тот самый момент, когда Грант входил в Ярд, престранная вещь приключилась… с Денни Миллером. Он сидел боком в кресле у себя в Пимлико, перекинув стройные свои ноги в роскошных туфлях через подлокотник, с сигаретой в длиннющем мундштуке, цепко зажатом в зубах. Перед ним посреди комнаты стояла его «птичка». Она была занята примеркой вечерних платьев, которые вытряхнула из отделений платяного шкафа, как горошины из стручка. Она медленно повернулась, и свет засверкал на легкой, вышитой бисером ткани платья, выгодно подчеркивавшего длинные линии ее красивого тела.
— Вот это, пожалуй, неплохо, правда? — произнесла она, ловя в зеркале взгляд Денни. Но вдруг заметила, как глаза Денни, до этого устремленные на ее спину, расширились и приняли почти безумное выражение.
— Что с тобой? — спросила она, резко обернувшись.
Но Денни явно ее не слышал, и выражение его глаз оставалось все таким же. Внезапно он выхватил изо рта мундштук, кинул в камин сигарету и вскочил со стула, торопливо шаря вокруг.
— Моя шляпа! — воскликнул он. — Где, черт возьми, моя шляпа?
— На стуле позади тебя, — изумленно отозвалась «птичка». — Какая муха тебя укусила?
Схватив шляпу, Денни выскочил из комнаты, как будто за ним гнались все фурии ада. Она слышала, как он прогрохотал по лестнице, потом хлопнула входная дверь. Она все еще стояла в полном недоумении и смотрела ему вслед, когда услышала, что он возвращается. Легко, как кошка, он взбежал по лестнице, перескакивая через три ступеньки, и через мгновение был уже в комнате.
— Дай мне быстренько двухпенсовик. У меня двухпенсовика нет.
Машинально она протянула руку к дорогой изящной сумочке — одному из его подарков — и вынула монету.
— Я и не знала, что ты настолько обнищал! — поддела его «птичка», рассчитывая таким образом вызвать его на объяснение.
— Сгинь! — отмахнулся он и снова исчез. Денни прибыл к телефонной будке несколько запыхавшийся, но безмерно довольный собой, и, не подумав опуститься до такой прозы, как телефонный справочник, затребовал, чтобы его соединили немедленно со Скотланд-Ярдом. Во время неизбежного ожидания на маленьком квадратике кабинки он отбил чечетку, выражая этим одновременно свое нетерпение и свой триумф. Наконец он услышал на другом конце провода голос Гранта.
— Послушайте, инспектор, это Миллер говорит. Я только что вспомнил, где видел того парня, о котором вы спрашивали. Дошло? Так вот, я ехал с ним в одном поезде на скачки в Лестер в конце января. Уверен ли я? Да. Так, как будто это было вчера. Мы говорили о скачках, и он, похоже, в этом хорошо разбирается. Но я его никогда там не встречал — ни до, ни после. А?.. Нет, ничего букмекерского при нем не видел… Не стоит благодарности. Я сам до смерти рад, что сумел помочь. Я же вам говорил, что меня память никогда еще не подводила!
Денни покинул будку и отправился — на сей раз уже менее поспешно — к себе, чтобы примириться с оставленной им и разобиженной «птичкой», а Грант повесил трубку и глубоко, с облегчением вздохнул. Поезд на скачки! Это уже было очень похоже на истину. Каким же дураком он был! Каким круглым дураком! Как же он до этого сам не додумался?! Не вспомнить, что если для двух третей британцев Ноттингем ассоциировался с кружевными фабриками, то по крайней мере для одной трети — со скачками! Разумеется, скачки объясняли все — манеру покойного одеваться, его поездку в Ноттингем, его склонность к музыкальной комедии и даже, возможно, его связь с бандой.
Он послал за справочником по скачкам. Да, действительно, второго февраля были бега в ноттингемском Колвик-парке. А до этого в Лестере — в конце января. Это подтверждало рассказ Денни. Это он преподнес инспектору ключик к делу.
И надо же, чтобы из всех дней недели информация попала к нему в субботу, единственный день, когда в букмекерских конторах ни одной живой души не застанешь. Про воскресенье и говорить нечего — в воскресенье их и дома не найдешь. Одна мысль просидеть целый день безвылазно дома внушала им ужас: в воскресенье они раскатывали в машинах по всей Англии вдоль и поперек, как просыпанная ртуть. Итак, банковские и букмекерские розыски придется отложить до окончания уик-энда.
Грант сообщил, где его искать, и отправился к Лорену набраться новых сил.
В понедельник предстоит куча тяжелой работы: придется обходить конторы с галстуком и револьвером — револьвером, к которому пока никто не признался. Правда, возможно, к тому времени обнаружится владелец банкнот, что избавит их от изнурительной работы методом исключения. А пока лучше пообедать пораньше и еще раз все обдумать.
Глава шестая
ДАГО
Грант занял угловой столик. Зеленый с золотом зал был заполнен лишь наполовину, и Марсель задержался возле него перекинуться словечком. У инспектора дела, конечно, идут превосходно? Еще бы, инспектор — просто гений! Восстановить внешность человека по одному лишь кинжалу! (Газеты, за исключением утренних выпусков, уже распространили описание разыскиваемого по всей стране.) Это поразительно! Поразительно! Теперь, случись, например, Марселю подать к салатам вилку для рыбы, — и месье тут же докажет, как дважды два — четыре, что у него, Марселя, мозоль на мизинце левой ноги! Грант запротестовал, что отнюдь не претендует на столь тонкие умозаключения, доступные разве что Шерлоку Холмсу.
— Объяснение подобной промашки я бы дал самое банальное, — сказал он с улыбкой. — Это означало бы, что провинившийся влюблен.
— Только не это! — рассмеялся Марсель. — Даже инспектору Гранту это доказать не удастся!
— Почему? Вы что, женоненавистник?
Нет, он, Марсель, любит женщин, но, к сведению господина инспектора, собственная супруга его вполне устраивает.
— Я тут недавно познакомился с мальчиком из вашей буфетной.
— А, это Рауль. Хороший мальчик, очень хороший. И красивый, верно ведь? Какой профиль, какие глаза! Его приглашали сниматься в кино, но Рауль, разумеется, отказался. Нет, Рауль собирается стать метрдотелем. И станет им, — он, Марсель, не сомневается.
Новый посетитель сел за столик напротив, и выражение добродушия исчезло с лица Марселя, как снежинки с мокрой мостовой. Он отошел к столику вновь прибывшего, где, сочетая вежливую почтительность с олимпийской невозмутимостью — манера, которую он усвоил со всеми, за исключением своих пяти фаворитов, — взял заказ. Грант не торопясь пообедал, потом так же без спешки выпил кофе, но, когда вышел, было еще совсем рано. Стренд сиял огнями и был многолюден: отлив припозднившихся на работе и спешивших домой совпал с приливом; наиболее резвые любители развлечений уже вышли на улицы. Это и образовало толпу, которая запрудила тротуары и выплеснулась на проезжую часть. Грант медленно двинулся по тротуару в направлении Чаринг-Кросс, то ныряя в темноту, то попадая в полосы огней витрин — то розовых, то золотистых, то ослепительно сверкающих, как бриллианты. Вот обувной магазин, потом — готовая одежда, потом ювелирный. Но тут как раз перед «щелью», уходящей вбок старой улочкой, толпа поредела и перестала казаться одним большим телом: теперь в ней можно было различить каждого по отдельности. Мужчина, шедший на несколько шагов впереди Гранта, обернулся, словно для того, чтобы посмотреть на номер подходившего автобуса. Его взгляд упал на Гранта, и в ослепительном свете одной из витрин тот заметил, что лицо мужчины исказила гримаса ужаса; не колеблясь ни секунды, не глядя ни вправо, ни влево, он ринулся через улицу прямо под колеса автобуса. Гранту пришлось ждать, пока автобус проедет, но едва он прогрохотал мимо, как Грант бросился в поток машин вслед за мужчиной. В этот безумный миг, когда он, не обращая внимания на транспорт, следил лишь за тем, как бы не упустить из виду убегавшего, у него промелькнуло в голове: «Как ужасно погибнуть под машиной на Стренде, после того как четыре года удавалось избежать немецкой пули!» Он услышал окрик у самого уха, но успел остановиться на волосок от него пронеслось такси с шофером, поносившим его на чем свет стоит; ловко уклонился от желтой гоночной машины, увидел затем у левого локтя крутящуюся черную штуку, в которой узнал переднее колесо автобуса; отпрыгнул, чуть не попал под другое такси справа, обогнул сзади автобус и успел прыгнуть на спасительный тротуар в ярде от идущей следом машины. Быстро оглянулся по сторонам. Человек шел спокойно в сторону Бедфорд-стрит: он, видимо, такой быстрой реакции от инспектора не ожидал.
«Мой ангел-хранитель наверняка заслужил свечу за то, что помог мне невредимо перебраться через улицу», — подумал Грант и зашагал нормальным шагом, стараясь держаться от преследуемого на почтительном расстоянии.
«Если он оглянется, не доходя до Бедфорд-стрит, — решил Грант, — значит, я не ошибся; значит, его испугал именно я, а не что-нибудь другое». Инспектору не было необходимости видеть лицо мужчины еще раз, чтобы подтвердить свое первое впечатление: у него высокие скулы, худощавое смуглое лицо, выдающийся вперед подбородок. И так же твердо, будто он уже видел это собственными глазами, Грант знал: у него свежий шрам на левом указательном или большом пальце.
Секундой позже человек обернулся, но не так, как это обычно делают, безотчетно поворачивая голову назад, а мгновенно, что означало: проверяет, нет ли за ним хвоста. В следующий миг он исчез за углом Бедфорд-стрит. И тут Грант рванулся вперед. Он ясно представил себе, как худой человек мчится по темной пустынной улице, где некому его задержать. Грант добежал до угла, завернул на улицу, но там никого не было. Ни один спринтер не сумел бы за это время пробежать по прямой на такой скорости; Грант, подозревая ловушку или нападение, быстро зашагал вперед по правой стороне, вглядываясь в каждый проем. Но время шло, никто не появлялся, и он начал беспокоиться. Грант чувствовал нутром, что его провели. Приостановившись, он оглянулся — как раз вовремя, чтобы увидеть, как в самом начале улицы из подъезда выскользнул человек и снова нырнул в толпу на Стренде. Секунд через тридцать Грант выскочил туда же, но человек исчез. Приходили и отходили автобусы, летели мимо такси, все магазины, были еще открыты. Словом, способов скрыться было предостаточно.
Грант выругался про себя, но тут же подумал: ладно, он ловко меня одурачил, но сейчас клянет себя еще почище, чем я, за то, что свалял дурака — показал, что узнал меня. На этом он споткнулся. Тут ему явно не повезло. Впервые Грант был доволен, что пресса, горя желанием просветить публику, дала его фотографии во всех газетах. Некоторое время он еще походил по улице, без особой надежды заглядывая по пути в магазины. Затем на всякий случай постоял в темном подъезде: что, если мужчина не убежал, а затаился где-нибудь поблизости, и теперь, думая, что путь свободен, появится снова? Единственное, чего он добился, так это того, что полисмен, уже некоторое время наблюдавший за ним с противоположной стороны улицы, подошел и осведомился, чего он, собственно, там дожидается. Грант вышел из своего убежища на свет и объяснил смутившемуся полицейскому обстоятельства дела. Сомнений у него не осталось: человек сбежал, и он решил позвонить в Ярд. Первой его мыслью было вызвать отряд полиции, но, бросив взгляд на транспортный поток, он сообразил, что при самой большой скорости к тому времени, когда машины подоспеют сюда от набережной, как бы быстро они ни ехали, преследуемый уже будет далеко отсюда — на пути к Голдерс Грин, Камберуэллу или Элстри, — и отказался от своего намерения. Это был явно не тот случай, когда следовало поднимать на ноги полицию.
После телефонного разговора он медленно двинулся к Трафальгарской площади и немного взбодрился. В течение последнего часа он был противен самому себе и ругал себя последними словами. Быть в каких-то шести шагах от этого Даго — и позволить ему ускользнуть! Теперь Гранту открылась и другая, обнадеживающая сторона происшедшего. Он дал маху, спору нет, но тем самым продвинулся дальше, гораздо дальше в своем расследовании, чем до сих пор. Теперь он точно знал, что Даго в Лондоне. Это уже был большой плюс. Потому что вплоть до сегодняшнего утра, когда газеты дали его подробное описание, ничто не мешало убийце покинуть Лондон. Если бы не эта случайная встреча, если бы этот тип не запаниковал ни с того ни с сего, то им пришлось бы просматривать рапорты из полицейских участков всей страны — не исключено, что и всей Европы, — а Грант по собственному горькому опыту знал, какие это будут рапорты. Итак, теперь известно, что этот субъект в Лондоне, и они могут сконцентрировать усилия. Он может попытаться двинуть из столицы пешком — и никак иначе: Грант уже позаботился о том, чтобы убийца не смог взять и нанять машину в одном из гаражей. Конечно, при большом желании выбраться из города можно, но на это у него теперь уйдет значительно больше времени. Вообще непонятно, отчего он не убрался из Лондона, пока его никто не разыскивал. Грант мог это объяснить только широко известным упрямым желанием лондонца любой ценой цепляться за город, который ему известен с детских лет; к тому же, насколько Грант знал даго, они, как крысы, предпочитают люки канализации открытым пространствам. Обе эти разновидности склонны в подобных обстоятельствах скорее скрываться, чем сбегать. Кроме того, разыскиваемый не мог знать наверняка, что у полиции нет описания его внешности, еще до публикации во всех газетах. Нужно быть безумным храбрецом или полным идиотом, чтобы в подобных условиях решиться пройти через билетный контроль на поезд или судно. Итак, убийца засел в городе. С этой минуты он будет находиться под постоянной угрозой нарваться на городской полицейский патруль, и шансы ускользнуть у него были совсем невелики. Более того: Грант видел его воочию — еще одно огромное преимущество. Теперь Грант его опознает всюду — даже на большом расстоянии.
Итак, Даго в Лондоне, приятель покойного, предположительно, тоже в Лондоне; внешность Даго известна, личность приятеля вскоре установят по банкнотам — все не так уж плохо. «Дела, как изволил заметить Марсель, успешно продвигаются вперед». Проходя попереулку Святого Мартина, Грант вдруг вспомнил, что сегодня в Уоффингтоне в последний раз идет «А вы и не знали?». Пожалуй, он заглянет в театр, а оттуда вернется обратно в Ярд. Голова у Гранта работала лучше всего, когда его никто не подталкивал, а тишина его служебного кабинета действовала на него именно так, словно требовала: а ну, давай скорей! Грант вообще не любил думать в местах, для этого предназначенных. Важное открытие, озарение скорее могло прийти к нему посреди улицы, в толпе народа, где блуждает Даго, а не в величественном уединении кабинета.
Спектакль уже минут двадцать как начался, когда Грант, после короткого разговора с администратором, нашел кусочек пространства — не более шести квадратных дюймов — за креслами на балконе. Отсюда, сверху, из темноты, его глазам предстало великолепное зрелище. Театр, и в обычное время не очень вместительный, был забит снизу доверху; его розоватая мгла казалась наэлектризованной, как бывает, когда каждый зритель — завзятый театрал. Сегодня, в день последнего представления, здесь не было иных: все пришли сказать последнее «прости» своему идолу. Обожание, сопереживание, сожаление, что это — в последний раз, — все чувствовалось здесь сегодня, и эта публика, захлестнутая сиюминутной непосредственной эмоцией, ничем не напоминала обычно сдержанного британского зрителя. То и дело, когда Голан отпускал одну из своих знаменитых шуток, кто-нибудь невольно выкрикивал: «Давай еще, Голли! Не сокращай, выдай все до конца!» И Голли выдавал. Прелестная Рей Маркейбл излучала обаяние, порхая по полупустой сцене с непередаваемой легкостью листка, гонимого ветром. Как обычно, когда Рей танцевала, она в своих движениях немного отставала от музыки, и это создавало впечатление, что мелодия не сопровождает танец, а рождает его. Казалось, сама музыка то поднимает, то клонит, то кружит, а потом ласково выпускает Рей из своих объятий. Снова и снова под восторженные крики зала музыка вздымала ее ввысь, смеющуюся и сверкающую, как хрустальный шарик, подпрыгивающий на струе фонтана, и опускала наземь, и Рей замирала, и наступала тишина, от которой захватывало дух; тишина, взрывавшаяся затем оглушительными овациями. Ее никак не хотели отпускать, и, когда наконец кто-то буквально силой удержал ее за кулисами, а спектакль попытались продолжать, зал выказал явное недовольство. Сегодня никто не следил за сюжетом. Да, пожалуй, и не только сегодня. Большая часть самых восторженных зрителей вообще понятия не имела, что это такое за штука, и вряд ли кто-нибудь из них вообще мог пересказать содержание спектакля. Сегодня же в особенности тратить внимание на подобную чепуху, как действие, казалось глупостью.
Зрители, правда, немного утешились, когда на сцене появился самый знаменитый в стране ансамбль девушек. Четырнадцать девиц из Уоффингтона были известны на двух континентах, и чудо синхронности движений, которое они демонстрировали, не могло не вызывать такого же чувства глубочайшего удовлетворения, никогда не переходящего в пресыщение, как смена дворцового караула.
Ни одна голова, ни один носок не высовывался из общей линии; ни один прыжок ни на дюйм не был ниже другого. К тому времени, когда последняя из четырнадцати задорно тряхнула коротенькой оранжево-черной юбочкой и исчезла в кулисах, публика успела почти позабыть о Рей. Почти, но не совсем. Рей и Голан царили сегодня в театре, это был их вечер — их и зрителя. Наступил момент, когда недовольство публики отсутствием на сцене Рей и Голана стало уже невозможно игнорировать. Возбуждение достигло той стадии, которая грозила перерасти в истерию. Грант с сочувствием заметил натянутую улыбку, которой ведущий солист встретил жидкие аплодисменты после своей чувствительной арии. Эту арию распевали сладкоголосые тенора по всей Британии, ее насвистывали все мальчишки-разносчики, ее наигрывали в приглушенном свете ресторанов все джазовые оркестры. Он явно рассчитывал, что его будут вызывать не менее трех раз. Но публика ограничилась тем, что пропела вместе с ним последний куплет. Что-то тут было не так. Они просто не замечали его. Стараясь не подать вида, он добровольно отошел в тень, уступив первое место Рей Маркейбл, и стал подыгрывать Рей — он пел с ней, танцевал с ней, с ней разыгрывал свои сценки. Грант поймал себя на мысли, является ли его почти полный провал случайностью, связанной с блеском таланта Рей, или же она устроила это намеренно, чтобы оставаться в центре внимания? У Гранта не было особых иллюзий относительно театра и профессиональной порядочности прелестных примадонн. Звезды театра легко проливали слезы и могли кинуть значительную сумму денег, растроганные историей чужого несчастья, но при столкновении с соперником по сцене их доброта увядала на глазах. У Рей Маркейбл была репутация женщины великодушной и справедливой. Но это могла быть заслуга ее агента — очень скользкого субъекта даже для людей этой скользкой профессии. Грант сам встречал беглые заметки о ней, в которых даже он не усматривал ловкого хода агента, пока его взгляд не переходил к следующей статье, обычно касающейся важной темы, привлекавшей всеобщее внимание. Рекламный агент Рей обладал редким искусством — как бы невзначай упоминать ее имя в заметках, казалось бы не имеющих к ней ни малейшего отношения.
А сам факт, что за два года в этой пьесе сменилось два ведущих солиста, в то время как остальной состав оставался прежним? Это тоже наводило на размышления. Может, ее дружелюбие, ее простота в обращении, ее, давайте скажем прямо, благородство — все это только камуфляж? Может, хрупкая, обаятельная женщина, кумир Лондона, на самом деле и тверда как сталь, и опасна как бритва?
Он вспомнил ее в гримерной за чаем: скромную, умную, рассудительную. Никакой капризности, никакой раздражительности. Очаровательная женщина, у которой в голове отнюдь не опилки. Нет, не похоже, чтобы это было сплошное притворство. В преступном мире ему попадались женщины с обманчиво беспомощной внешностью, но как бы они ни старались, никакой грим не мог скрыть их истинную сущность. В обаянии Рей Маркейбл не было ничего беспомощного или наигранного. Грант готов был поклясться, что оно было ее природным свойством. Сейчас он критически наблюдал за ней, выискивая то, что могло бы опровергнуть его мнение, — а она ему очень нравилась, — тем более что до этого он бессознательно гнал от себя подозрения. И в результате, к великому своему сожалению, постепенно пришел к выводу, что его подозрения имеют под собой реальную почву. Она действительно вполне намеренно оттесняла исполнителя главной роли на второй план. Все свидетельства тому были налицо, но Грант еще ни разу не видел, чтобы это делалось так тонко, так незаметно. Не то чтобы она пыталась каким-нибудь маневром «украсть» адресованные ему аплодисменты, начать свой номер раньше, чем они окончились, или отвлечь внимание публики на себя, — нет, такой грубой бестактности она не допускала, ни Боже мой! Это сразу стало бы заметно и потому, с ее точки зрения, было недопустимо. Ему подумалось, что она была не только слишком искусна для того, чтобы пользоваться такими приемами, но просто слишком талантлива. Ей было достаточно, не считаясь с другими актерами, дать полную волю своему блистательному «я» — и все конкуренты тут же меркли, как звезды при свете солнца. Только с Голаном ей оказалось справиться не под силу; он был таким же, если не более ярким светилом, и поэтому ей приходилось его терпеть. Что же касается исполнителя ведущей роли — симпатичного актера с привлекательной внешностью и прекрасным голосом, — она его затмила без труда. Говорили, что найти на главную роль достойного ее актера просто невозможно. Теперь Грант догадался почему. И знал, что его догадка верна.
Ему даже сделалось не по себе — так ясно он в один миг разгадал замысел Рей Маркейбл, — и это несмотря на атмосферу всеобщего обожания в зале. Лишь Грант и она — одни посреди этой опьяненной толпы остались бесстрастными, не захваченными эмоцией наблюдателями. Он следил, как Рей подманивает и обманывает этого беднягу певца, так же холодно и расчетливо, как он, Грант, водил форель на Тесте. С милой улыбкой она отобрала чужой триумф, чужой успех и приколола его к своему и без того ослепительному наряду. И никто этого не заметил. Разве только потом кто-нибудь скажет, что, мол, исполнитель главной роли был сегодня не на высоте, да это и понятно, где найдешь достойного Рей? А затем, обокрав его, она с чисто макиавеллиевским коварством вытащит его за руку, чтобы он разделил с ней овации, и каждый присутствующий будет думать: «А он-то здесь при чем?» Таким образом, его несовершенство по сравнению с ней будет подчеркнуто и не забыто. Тонко задумано! Этот спектакль в спектакле Грант наблюдал с захватывающим интересом. Он увидел теперь настоящую Рей Маркейбл, и то, что он увидел, произвело на него весьма странное впечатление.
Грант настолько увлекся, что очнулся, лишь когда опустили занавес и раздались оглушительные аплодисменты. Он продолжал стоять в своем темном углу на балконе, ощущая легкий озноб. Раз, другой и третий взвивался занавес над ярко освещенной сценой; презенты и цветы полетели за рампу из зала. Затем пошли речи. Сначала — Голан с огромной бутылкой виски в руках, изо всех сил старавшийся казаться остроумным, веселым, что ему не особенно удавалось: у него срывался и дрожал голос.
Грант догадывался, что актер, верно, вспоминал мучительные годы скитаний по грязным городишкам, бесконечные дешевые номера в дешевых гостиницах, изнуряющие два спектакля в день и вечный страх, что появится новый певец и его уже не пригласят. Да, Голану долго, слишком долго приходилось петь только для того, чтобы наскрести деньги на скудный ужин. Не удивительно, что теперешнее пиршество оказалось для него слишком сытным и лишило его дара речи. Потом говорил продюсер и затем — Рей Маркейбл.
— Дамы и господа, — раздельно произнесла она ясным, звонким голосом. — Два года назад, еще не зная меня, вы были добры ко мне. Тогда вы дали мне больше, чем я заслуживала. И сегодня вы сделали это снова. Я могу только сказать одно: спасибо вам.
«Очень мило, — думал Грант, пока овации перерастали в сплошной гул. — Совсем в духе пьесы».
Он повернулся, чтобы уйти. Он знал заранее, что последует за этим: все, вплоть до суфлера и мальчика-посыльного, будут выступать с речами. Он уже выслушал достаточно. Миновав красно-коричневый вестибюль, он вышел в ночь, чувствуя странное стеснение в груди. Не выкинь он за борт в свои тридцать пять ненужный хлам, называемый иллюзиями, вполне можно было бы подумать, что причина этому — разочарование. Ведь до сегодняшнего вечера Рей Маркейбл ему по-настоящему нравилась.
Глава седьмая
ДЕЛА ПРОДВИГАЮТСЯ
— Не по-христиански вы живете, — изрекла миссис Филд, ставя перед Грантом неизменную яичницу с беконом.
Миссис Филд долго пыталась отвадить Гранта от привычки есть на завтрак яичницу с беконом; готовила ему изысканные завтраки по рецептам, почерпнутым из газет, доставала у мистера Томкинса — под угрозой перестать пользоваться его услугами — всякие деликатесы вроде почек, но Грант не поддался ей, как и многим другим в свое время. Он по-прежнему ел на завтрак яичницу с беконом — и в субботу, и в воскресенье, и в понедельник. Сегодня было воскресенье, восемь утра, что и подвигло миссис Филд на вышеупомянутое замечание. «Не по-христиански» в ее словаре значило не отсутствие твердых принципов, а пренебрежение удобствами и покоем. То обстоятельство, что он в воскресенье уже в восемь утра сидит за завтраком, огорчало ее гораздо сильнее, чем суровая работа, которой он занимался в течение всей недели. Она не переставала сокрушаться по этому поводу.
— Прямо диву даешься, почему Его Величество не очень-то спешит награждать вас орденами. Кто еще в Лондоне должен в воскресенье завтракать в такую рань?
— В таком случае награждать нужно и их квартирных хозяек, — ответил Грант, — за то, что дают инспекторам кров и пищу.
— Спасибо, мне и без наград этой чести довольно.
— Хотел бы я вам на это сказать что-нибудь такое же приятное, но за завтраком это у меня плохо получается. В восемь утра только женщина способна быть остроумной.
— Вы и представить себе не можете, как меня уважают за то, что у меня живет инспектор из Скотланд-Ярда.
— Да неужели?
— Истинно так. Только можете не волноваться: у меня рот всегда на замке. От меня никто ничего не выведает. Многим хотелось бы знать, что думает инспектор да кто у него бывает, но я знай себе помалкиваю — пусть выпытывают да допытывают. И никаких намеков понимать не желаю.
— Это очень благородно с вашей стороны, миссис Филд. Из-за меня о вас может сложиться превратное мнение как о женщине недалекого ума.
Миссис Филд мигнула раз, мигнула другой, наконец пришла в себя и, проговорив: «В конце концов, это мой долг, пускай и не очень приятный», удалилась.
Грант уже отзавтракал и собирался уходить, когда она явилась снова и, созерцая оставшийся несъеденным тост, сокрушенно заметила:
— Вы хотя бы в середине дня поешьте поплотнее. На пустой желудок ничего путного в голову не придет.
— Зато на полный желудок никого не догонишь!
— Ну в Лондоне долго гоняться за кем-то не надо. Всегда найдется человек, который поможет изловить, кого требуется!
Направляясь к автобусной остановке, Грант улыбался про себя такому упрощенному представлению о работе уголовного отдела Ярда. Однако сдержать поток людей, которые, по их словам, видели разыскиваемого, не было никакой возможности. Добрая половина лондонцев утверждала, что видела его — по крайней мере, в спину. А количество подозрительных порезов на руках могло бы показаться невероятным любому, кто сам никогда не участвовал в розыске и поимке преступников.
Все долгое солнечное утро Грант просидел у стола, терпеливо просеивая рапорты и рассылая своих подчиненных кого куда, подобно генералу, направляющему подкрепления на поля сражений. Все сообщения из провинции он отложил в сторону — за исключением двух: они нуждались в тщательной проверке. Нельзя упускать из виду и такую возможность — как она ни мала, — что человек на Стренде — не Даго. Два сотрудника отдела были направлены для перепроверки этих двух сообщений — один в Корнуэлл, другой — в Йорк. Весь день у локтя Гранта не смолкал телефон, и весь день он приносил лишь негативную информацию. Некоторые из тех, за кем Грант приказал понаблюдать, не имели, по мнению детективов, ничего общего с подозреваемым. Но и эта ценная информация нередко стоила долгих часов утомительного бдения за занавеской кружев ноттингемского производства в одном из пригородных домов в ожидании того момента, когда «тот самый мужчина из третьего дома отсюда» пройдет мимо и его можно будет хорошенько рассмотреть. Один из подозреваемых оказался лордом, известным широкой публике как игрок в поло. Выслеживавший его детектив настиг пэра Англии в гараже, откуда тот брал машину, намереваясь устроить себе небольшую воскресную разминку — погонять миль триста-четыреста, — и, увидев, что его заметили, рассказал ему чистую правду о том, чем занимается.
— Я понял, что вы за мной следите, — сказала сиятельная особа, — но, поскольку в настоящий момент моя совесть чиста как никогда, это меня несколько удивило. За мою недолгую жизнь меня много в чем подозревали, но за убийцу не принимали ни разу. Желаю удачи.
— Благодарю вас, сэр, — и вам того же. Надеюсь, когда вы вернетесь, ваша совесть будет не менее чиста, чем сейчас.
И его светлость, которого задерживали за превышение скорости, пожалуй, больше, чем кого-либо в Англии, понимающе улыбнулась.
И все же в то воскресенье подчиненным Гранта было легче, чем ему, Гранту, который весь день не вылезал из своего кабинета, с механической четкостью управляя действиями своих детективов. После ланча заглянул Баркер, но никаких новых идей по части того, как ускорить расследование, у него не оказалось. Нельзя было оставить без внимания ни одной мелочи. Любое, пусть самое невероятное сообщение следовало проверить беспощадным методом исключения. Это было все равно как вскопать лопатой огромное поле — работа тяжкая и совсем не для праведного христианина, как выразилась бы миссис Филд. С невольной завистью Грант взглянул через окно, поверх Темзы, над которой висел легкий туман, в сторону Сэррея, освещенного сейчас заходящим солнцем. Как хорошо, наверное, сейчас в Хэмпшире! Ему представились леса Денбюри в весеннем зеленом уборе. А чуть позже, вечером, после захода солнца, настанет самое время клева на Тесте…
Домой Грант вернулся поздно, но зато проверил все сообщения. С наступлением вечера их поток стал заметно уменьшаться, а затем и вовсе иссяк. Но за ужином — поскольку для миссис Филд возвращение с работы означало немедленное кормление — он продолжал напряженно прислушиваться к телефону. Инспектор лег в постель, и ему приснилось, будто ему звонит Рей Маркейбл и говорит: «Вы никогда не отыщете его, никогда, ни за что!» Она все повторяла одну эту фразу, не обращая внимания на его просьбы о помощи, мольбы дать ему информацию, и он ждал с нетерпением, когда наконец телефонистка скажет: «Ваше время истекло». Но еще до этого телефон вдруг превратился в удочку, что его почему-то совсем не удивило, и он использовал эту удочку как кнут: он погонял четверку лошадей, которые мчали его по ноттингемской улице; в конце улицы виднелось болото, как раз перед болотом, посреди улицы стояла официантка из гостиничного ресторана. Он пытался крикнуть, потому что лошади неслись прямо на нее, и не мог. Официантка же тем временем стала разрастаться прямо у него на глазах, пока не заслонила собою всю улицу. Когда лошади готовы были налететь на нее, она вдруг выросла настолько, что нависла уже над конями, и над Грантом, и над улицей, и над всем остальным. Им овладело чувство неизбежности, которое возникает в момент катастрофы.
«Вот оно!» — подумал Грант и проснулся, ощутив удобную подушку под щекой и осознав, что он снова в том мире, где у каждого действия есть своя причина.
«А все это сырное суфле!» — подумал он, перевернулся на спину и, глядя в темный потолок, дал мыслям идти своим путем.
Почему все-таки убитый не хотел быть узнанным? Может, это получилось случайно? В конце концов, не хватало только ярлычка с именем портного; на галстуке же название фирмы было сохранено, а галстук — первое, на что должен был обратить внимание мужчина, если действительно желал оставаться неизвестным. Однако если предположить, что ярлычок с костюма оторвался случайно, то чем объяснить немногочисленность предметов в его карманах? Немного мелочи, платок, револьвер. Даже часов при нем не было. Это явно говорило о намерении покончить с собой. Может, он разорился? Он не был похож на бедняка, но это еще ничего не доказывало. Грант знавал бездомных, которых можно было принять за миллионеров, встречал и нищих, у которых были солидные банковские счета. Быть может, человек этот потерял все, что у него было, и решил, что лучше покончить счеты с жизнью, чем медленно опускаться на самое дно. Быть может, и визит в театр на последние несколько шиллингов был просто прощальным вызовом богам, которые изменили ему, предали его? И последняя ирония судьбы — удар кинжалом, всего на час-два опередивший его собственную руку с револьвером? Да, но если он разорился, почему бы не обратиться за помощью к другу — к тому самому, кто явно не испытывал недостатка в средствах? А может, он и обращался? И тот отказал? И послал потом эти двадцать пять фунтов из чувства раскаяния? Если он, Грант, примет ту версию, что наличие револьвера и отсутствие каких-либо указаний на личность говорит о намерении покончить с собой, тогда убийство можно считать результатом ссоры, — весьма вероятно, между двумя членами мафии, которая кормится на скачках. Возможно, Даго разорился с ним вместе и винил его в своем крахе. Это было наиболее логичное объяснение. Более того: оно объясняло и все прочие обстоятельства. Мужчина, интересовавшийся скачками, — вероятно, букмекер — найден мертвым. При нем — ни часов, ни денег; похоже, хотел покончить с собой. И еще: слышали, как Даго что-то от него требовал, а он не мог либо не хотел ему это «что-то» дать, и тогда Даго его заколол. Далее: друг, не пожелавший помочь убитому деньгами при жизни, — возможно, он уже вызволял его до этого случая и теперь у него иссякло терпение, — охвачен таким раскаянием, узнав о его кончине, что решает щедро, хотя и анонимно оплатить его похороны. Пока что это чистая теория. Но так все сходится. Или почти все. Правда, один уголок в головоломке, как его ни приспосабливай, все равно не укладывался на место: эта версия не объясняла, почему никто так и не востребовал тело. Если то, что произошло, — результат ссоры двух человек, то молчание его друзей уже нельзя приписать страху быть замешанным. Трудно себе представить, чтобы Даго держал в страхе всех настолько, что никто не воспользовался испытанным приемом малодушных и трусов — то есть не связался с нами посредством анонимного звонка.
Ситуация складывалась чрезвычайно любопытная, можно даже сказать, уникальная. В практике Гранта еще не было случая, чтобы они уже готовились схватить убийцу и при этом еще не знали имени жертвы.
Легкий дождик вкрадчиво пробежался по оконному стеклу. Прощай, хорошая погода, — сонно подумалось Гранту. Потом наступило черное, глухое затишье. Будто дождик как разведчик, посланный вперед перед наступлением, подкрался и осмотрел подступы. Издалека донесся глубокий вздох пробудившегося от долгого сна ветра. Затем передовые боевые отряды ливня яростно атаковали окно. Следом за ними мчался яростный ветер, с ревом заставляя их кидаться вперед. Потом в дикой этой симфонии раздались звуки знакомые и успокаивающие, как тиканье часов: кап-кап-кап, — монотонно закапало с крыши. Глаза Гранта сами собой закрылись, и не успел шквал затихнуть вдали, как он уже крепко спал.
Однако и утром — серым утром, укутанным в моросящее покрывало, — его теория казалась ему вполне прочной, при условии, если заткнуть в ней малюсенькую дырочку. Только днем, когда, идя по следам друга убитого, Грант начал беседовать с главным управляющим филиала Вестминстерского банка в районе Адельфи, он понял: его милый карточный домик разваливается у него на глазах.
Управляющий оказался спокойным седовласым господином, его блеклая кожа странным образом напоминала цветом бумажную денежную купюру. Однако манерой обращения он больше походил на средней руки врача, чем на банкира. Гранту вдруг показалось, что сухие пальцы мистера Доусона вот-вот возьмут его запястье, чтобы прощупать пульс. Однако в это утро господин Доусон предстал перед инспектором скорее в роли Меркурия или Джаггернаута, но никак не Эскулапа. Он сообщил следующее. Все пять купюр, интересовавших инспектора, были выданы на руки обычным путем третьего числа и составляли часть платежа общей суммой в двести двадцать три фунта и десять шиллингов. Деньги были сняты их клиентом, который уже три года имеет у них счет. Его имя — Альберт Соррел; он держит небольшую букмекерскую контору на Минлей-стрит. Снятая сумма представляет собою все деньги, лежавшие на этом счете; оставлен лишь один фунт — предположительно для того, чтобы счет не закрывали.
«Прекрасно! — подумал Грант. — Значит, приятель — тоже букмекер».
Знает ли мистер Доусон господина Соррела в лицо? — осведомился он. Нет, сам мистер Доусон его не помнит, но кассир наверняка знает. Позвали кассира.
— Это инспектор Грант из Скотланд-Ярда, — произнес мистер Доусон. — Он желает, чтобы ему описали, как выглядит господин Соррел. Я сказал, что вы сможете это сделать.
И кассир смог. С точностью, которая исключала всякую возможность ошибки, он описал… убитого. Когда он замолчал, Грант лихорадочно попытался объяснить себе, что это означает. Может, убитый задолжал приятелю, тот взял все его деньга, а потом, одолеваемый муками совести, с запозданием решил проявить великодушие? Может, именно таким образом все деньги оказались у приятеля? Третьего числа. То есть за десять дней до убийства.
— Соррел сам получал эти деньги?
— Нет, — сообщил кассир. Чек предъявил незнакомый ему человек. Он его тоже запомнил — очень смуглый, худой, роста чуть ниже среднего, с высокими скулами. Чуточку смахивал на иностранца.
Даго! Он самый!
Гранта охватило радостное возбуждение; у него даже слегка перехватило дух, — должно быть, именно так чувствовала себя Алиса во время своего стремительного путешествия с Красной Королевой. Дела действительно продвигались вперед — и какими темпами! Он попросил показать чек, и чек был представлен.
— Вы не думаете, что он поддельный? — спросил Грант.
Нет, подобная мысль им в голову не приходила. И подпись и сумма были проставлены почерком Соррела, чего при подделке как раз и не бывает. Предъявили остальные чеки погибшего. Сама мысль о подделке категорически отвергалась. Если это и фальшивый чек, то выполнен с необычайным искусством.
— Даже если будут представлены доказательства, что он фальшивый, — сказал мистер Доусон, — боюсь, что мы вам не поверим. Думаю, вам следует исходить из того, что чек настоящий.
И Даго получил по нему деньги. У него оказалась вся сумма, лежавшая на депозите, за исключением двадцати шиллингов. А десять дней спустя он, значит, покончил с Соррелом ударом ножа в спину. Ладно, это по крайней мере неопровержимо доказывало существование тесной связи между этими двумя людьми, что будет важно при слушании дела в суде.
— У вас есть номера остальных банкнот, выданных по чеку Соррела?
Номера были, и Грант их переписал. Затем он спросил, имеется ли у них домашний адрес Соррела. Домашнего адреса не оказалось, а его контора помещалась в номере тридцать два по Минлей-стрит, недалеко от Чаринг-Кросс-Роуд.
Направляясь по этому адресу, Грант пытался осмыслить то, что узнал. Даго получил деньги по чеку, выписанному Соррелом и им же подписанному. Версию о краже, видимо, следовало исключить, поскольку за десять дней между выплатой по чеку и своей смертью Соррел не поднял никакого шума. Следовательно, Соррел сам передал чек в руки Даго. Почему бы тогда не выписать этот чек прямо на его имя? Наверное, потому, что не в интересах Даго было, чтобы его имя появилось на чеке. Может, он «выколачивал» деньги из Соррела? Может, его требование что-то ему отдать, которое, по словам Рауля Легара, составляло лейтмотив разговора в очереди, как раз и было очередной попыткой вымогательства? Это значило бы, что Даго не был невезучим партнером разорившегося Соррела, а был непосредственной причиной его разорения. Во всяком случае передача всех денег в руки Даго объясняла и отсутствие денег у самого Соррела, и его намерение покончить с собой. И тут сразу же возникал вопрос: кто тогда послал двадцать пять фунтов? Грант отказывался верить, что человек, выманивший у Соррела деньги и потом заколовший его из-за того, что ему не дали еще, пожелал вдруг расстаться с такой крупной суммой по столь ничтожному поводу, как похороны. Значит, был кто-то третий. И этот третий знал Даго достаточно близко, если ему перепало по крайней мере двадцать пять фунтов из суммы, которую получил Даго. Более того, этот кто-то и убитый жили вместе, о чем свидетельствовали отпечатки пальцев на конверте с деньгами. Щедрость отправителя и сентиментальность самого жеста наводили на мысль о том, что это была женщина, однако эксперты-графологи высказали полную уверенность, что печатные буквы выведены рукой мужчины. Естественно, этот кто-то был и владельцем револьвера, с помощью которого Соррел решил покончить счеты с жизнью. Получался запутанный клубок, но уже хорошо, что это клубок, в котором все нити тесно переплетены, и постепенно инспектор начинает его распутывать. Еще немного, и он потянет за ту нить, которая поможет размотать его до конца. Теперь узнать бы побольше о привычках и образе жизни убитого — и Даго окажется у них в руках.
У Минлей-стрит, как и у других малых улиц, отходящих от Чаринг-Кросс-Роуд, вид отчасти таинственный, отчасти неприветливый, что делает ее довольно малолюдной. Свернувший на нее чужак чувствует себя неловко — словно он случайно забрел в чье-то частное владение или оказался в маленьком кафе под удивленными, изучающими взглядами завсегдатаев. Но Грант, хотя никогда не жил на этой Минлей-стрит, чужаком себя не ощущал. Как любой работник уголовного отдела Ярда, он досконально знал все углы и закоулки возле Чаринг-Кросс-Роуд и Лестер-Сквера. И если бы внешне респектабельные, но жуликоватые дома могли говорить, то, вероятно, Грант услышал бы от них: «Э, да ты опять здесь?» На дверях тридцать второго номера красовалась табличка с надписью: «Альберт Соррел: принимает ставки и производит расчеты по скачкам. Второй этаж». Грант вошел и поднялся по плохо освещенной лестнице с влажным запахом недавней уборки. Он оказался на широкой площадке и постучал в дверь, на которой стояло имя Соррела. Как он и ожидал, ответа не последовало. Грант толкнул дверь, но она оказалась запертой. Он уже повернулся, чтобы спуститься вниз, как вдруг различил за дверью какой-то шорох. Грант снова постучал — уже громче. В последовавшей за этим тишине до него донеслось громкое, но отдаленное громыхание транспорта, шаги пешеходов, спешивших мимо, но внутри комнаты все было тихо. Грант заглянул в замочную скважину. Ключа в ней не было, но обзор оказался невелик: он увидел только угол стола и верхнюю часть ящика для угля. Комната, куда он заглядывал, была, видимо, подсобной из тех двух, где располагалась контора Соррела. Некоторое время Грант простоял в ожидании, не двигаясь, но никакого движения в крохотной панораме, обрамленной замочной скважиной, не уловил. Он выпрямился и собрался уйти, но не успел сделать и шага, как шорох раздался снова. Прислушиваясь, Грант склонил голову набок и тут заметил, что с перил следующего этажа свешивается человеческая голова; волосы, по закону гравитации упавшие на опрокинутое вниз лицо, придавали ей чудовищный и зловещий вид.
— Вы кого-то ищете? — вежливо произнесла голова, видимо догадавшись, что ее обнаружили.
— По-моему, это и так ясно, — язвительно заметил Грант. — Я ищу владельца этого офиса.
— Да ну? — произнесла удивленно голова и исчезла. Через минуту она уже появилась в своем обычном нормальном положении, и, оказалось, что она принадлежит молодому человеку в заляпанном фартуке, какой обычно носят художники. Весь пропахший скипидаром, он спустился на площадку, пальцами в краске приглаживая свою пышную шевелюру.
— По-моему, этот тип уже довольно давно сюда не приходил, — сказал он. — Я занимаю два верхних этажа: на одном живу, на другом у меня мастерская. Я часто встречал его на лестнице и слышал этих его… не знаю, как их называют. Вам, верно, известно, он же букмекер.
— Его клиентов? — подсказал Грант.
— Ну да, клиентов. Я слышал иногда этих его клиентов. Но пожалуй, уже две недели, как я его не встречаю и никого не слышу.
— Не знаете, он бывал на круге?
— Что это?
— Я имел в виду скачки. Ездил он на бега? Об этом художник не знал.
— Слушайте, мне надо попасть в его офис. Где я могу взять ключ?
Художник полагал, что ключ должен быть у Соррела. Впрочем, контора по найму квартир находилась где-то недалеко от Бедфорд-стрит. Ни названия улицы, ни номера дома он так и не запомнил, но дорогу туда знает. Собственный ключ он давно потерял, а то можно было бы попробовать открыть дверь его ключом.
— А как же вы поступаете, когда уходите? — спросил Грант с любопытством, пересилившим желание поскорее проникнуть за запертую дверь.
— Оставляю все открытым, — ответило сие беззаботное существо. — Тот, кому удастся найти у меня что-нибудь ценное, — человек поумнее меня!
И тут за запертой дверью снова раздался шорох — не шорох даже, а какое-то едва слышное передвижение. Глаза художника полезли на лоб и скрылись за гривой волос. Он кивнул на дверь и вопрошающе взглянул на инспектора. Ни слова не говоря, Грант схватил его за руку, и они тихо спустились на один пролет.
— Послушайте, я служу в сыскном отделе, вы знаете, что это такое? — спросил Грант, поскольку после того, как художник в святой простоте своей не понял, что значит слово «круг», Грант сильно усомнился в его представлениях о прочих мирских делах.
— Знаю. Это патрульная служба, — живо откликнулся художник.
Грант решил не терять времени на объяснения и продолжал:
— Мне нужно проникнуть в эту комнату. Есть тут какой-нибудь задний двор, откуда видно ее окно?
Таковой, оказывается, существовал; художник повел его через первый этаж темным коридором в заднюю часть дома и вывел во дворик, мощенный кирпичом, который когда-то, вероятно, был частью деревенской гостиницы. У стены была маленькая пристройка, крытая свинцовым железом, а прямо над нею — окно сорреловской конторы. Верхняя часть его была чуть приоткрыта; складывалось впечатление, что в конторе кто-то есть.
— Подсадите меня, — попросил Грант и через минуту был уже на свинцовой крыше. Отталкиваясь от заляпанной краской ладони юноши, он, как бы между прочим, заметил: — Обязан вас предупредить: теперь вы соучастник преступного деяния: проникновение в чужое жилище абсолютно противозаконно.
— Это счастливейший момент в моей жизни, — отозвался художник. — Я всегда мечтал нарушить закон, да все случай не подворачивался. И я это совершаю вместе с полицейским! Такая удача мне и не снилась.
Но Грант уже не слушал. Его взгляд был прикован к закрытому окну. Он медленно выпрямился, пока его голова не оказалась на уровне подоконника, и осторожно заглянул внутрь. Ни малейшего движения. Неожиданно Грант услышал позади себя какой-то звук, резко обернулся и обнаружил, что художник стоит на крыше рядом с ним.
— У вас есть оружие? — осведомился художник. — Может, принести вам кочергу?
Грант покачал головой, резким движением поднял нижнюю половину рамы и проник в комнату. Кроме его собственного учащенного дыхания — ни звука. В тусклом свете серел толстый слой пыли, скопившейся в пустом помещении. Но дверь напротив, в следующую комнату, была приоткрыта. В три прыжка он оказался у двери и распахнул ее. В тот же миг из комнаты с громким испуганным мяуканьем выскочил огромный черный котище. Инспектор не успел опомниться, как тот, пролетев через всю комнату, выскочил в окно. За этим последовал вопль художника, потом что-то покатилось и грянулось оземь. Грант подошел к окну; снизу, со двора, до него донеслись странные, придушенные звуки. Он торопливо соскользнул с крыши и обнаружил своего сообщника сидящим на грязных кирпичах. Тот обеими руками держался за явно пострадавшую голову, страдальчески корчась от хохота. Успокоенный, Грант вернулся обратно в комнату Соррела, чтобы просмотреть ящики стола. Все они были пусты, их тщательно, методически опустошили. Вторая комната, выходившая на улицу, тоже была не жилая, а приспособлена под офис. Значит, Соррел квартировал где-то в другом месте. Грант прикрыл за собой окно и соскользнул с крыши на землю. Художник все еще сотрясался от приступов хохота, вытирая слезившиеся глаза.
— Серьезно ушиблись? — спросил Грант.
— Только ребра, — ответил, поднимаясь, его патлатый помощник. — Всего лишь растяжение продольных мышц.
— Двадцать минут потрачены впустую, но мне нужно было убедиться самому, — сказал Грант, снова следуя за ковыляющим художником темным коридором.
— Совсем не впустую. Подумайте лучше о том, как вы меня осчастливили. Знали бы вы, как я вам признателен, — отозвался лохматый. — Перед вашим приходом я был просто в отчаянии. Не могу работать по понедельникам. Их просто не должно быть, этих понедельников. Я бы вытравил их из календарей синильной кислотой. А вы сделали из моего понедельника незабываемый день. Для меня это страшно важно. Как-нибудь отвлекитесь от своих правонарушительных действий, загляните ко мне, и я вас нарисую. У вас великолепная голова.
Внезапная идея осенила Гранта.
— Скажите, а вы не могли бы набросать по памяти портрет Соррела? — спросил он.
Юноша подумал и потом ответил:
— Пожалуй, смог бы. Поднимемся на минутку ко мне.
Он привел Гранта в забитое холстами, красками, тканями и кучей каких-то других предметов помещение, которое у него называлось студией. Если бы не толстый слой пыли, могло бы показаться, что здесь минуту назад пронесся поток, потому что лишь отхлынувшая вода способна оставить вещи и предметы в столь странном соседстве и расположении на плоскости. Порывшись и пораскидав то, что лежало сверху, живописный юноша извлек откуда-то бутылочку с тушью, а после нескольких минут новых поисков — и тонкую кисточку. Он нанес несколько штрихов на чистый блокнотный лист, критически посмотрел на то, что получилось, вырвал листок и вручил его Гранту со словами:
— Не очень точно, но общее впечатление передает.
Набросок поразил Гранта своей выразительностью. Тушь еще не совсем просохла, но было ясно, что художнику удалось оживить мертвеца. Эскиз, правда, был выполнен с чуть заметным нажимом, в нем явно было что-то от карикатуры, но лицо получилось живое: ни одна фотография не способна была создать подобный эффект. Художнику даже удалось схватить выражение беспокойного ожидания, которое было, вероятно, свойственно Соррелу при жизни. Грант поблагодарил его от всей души и дал ему свою визитную карточку, заметив при этом:
— Если я вам понадоблюсь, пожалуйста, не церемоньтесь — заходите.
Он ушел, не дожидаясь, когда лохмач прочтет его имя и поймет, с кем именно его свел случай.
* * *
Рядом с Кембридж-Серкусом располагаются внушительные апартаменты агентства Лари Марри. «Хотите быть счастливыми? Делайте ставки у Лари Марри!» — гласит реклама этой самой крупной букмекерской конторы в Лондоне. Грант как раз проходил мимо по противоположной стороне, когда сам благодетель человечества Лари Марри подкатил к офису. Грант знал его довольно давно и теперь проследовал за ним в его владения. Он попросил доложить о себе, и его провели через огромные пустынные помещения, где все сверкало — полированное дерево, бронза, стенки из сплошного стекла и бесчисленные телефоны, — в святая святых этого великого человека — его кабинет, увешанный снимками призовых лошадей.
— Так, так, — произнес Марри, одаряя инспектора сияющей улыбкой. — Хотите сделать ставку в состязаниях на кубок страны? Хотелось бы надеяться, что не на Кофейное Зернышко? Сегодня половина Англии на него ставит.
Инспектор уверил его, что не собирается спускать деньги даже на такого «верняка», как Кофейное Зернышко.
— Не хотите — не надо. Однако вряд ли вы пришли затем, чтобы предупредить меня не принимать ставки крадеными деньгами.
Инспектор усмехнулся. Нет, он всего лишь зашел выяснить, не знавал ли Марри человека по имени Альберт Соррел.
Никогда не слышал о таком. Кто он?
Предположительно, букмекер, подумал Грант.
— На каком круге работал?
Это Гранту неизвестно, но контора у него на Минлей-стрит.
— Значит, скорее всего на серебряном круге. Вот что я вам скажу: на вашем месте я бы сегодня прокатился в Лингфилд, — там вы всех этих молодчиков с серебряного круга враз и ухватите — сэкономите время и силы.
Грант задумался. Действительно, это был самый разумный и самый быстрый ход, и он имел преимущество: можно было познакомиться с деловыми партнерами покойного, чего не давало одно лишь знание его домашнего адреса.
— Вот что я вам скажу, — опять заговорил Марри, видя, что Грант колеблется. — Поедем-ка мы вместе. Поезд туда вы все равно пропустили, так что на моей машине и поедем. Моя лошадка там бежит сегодня, но один я и не подумал бы ехать. Правда, тренеру обещал, но больно утро дрянное выдалось. Вы уже ели?
Инспектор сказал, что не успел, и пока Грант говорил по телефону, Марри вышел распорядиться насчет того, чтобы им упаковали корзину с едой.
Часом позже Грант и Марри устроили себе ланч на природе. На природе, где было довольно серо и сыро, но пахло чистой, свежей зеленью трав и полей. Моросящий дождь, превративший Лондон в липкий кошмар, остался позади. В широких просветах рваных, серых и влажных туч виднелось голубое небо, и к тому времени, когда они подъехали к воротам ипподрома, бледные, печальные лужицы в альпинарии уже неуверенно улыбались солнцу.
Через десять минут начинался первый заезд, и Грант, с трудом подавляя нетерпение, проследовал с Марри к белым перилам парадного кольца, за которыми безмятежно двигались по кругу лошади, принимающие участие в первом заезде. В то время как Грант-наблюдатель любовался их красотой и выездкой — он хорошо разбирался в лошадях, — взгляд Гранта-инспектора пробегал по рядам зрителей, холодно отмечая среди присутствовавших известных ему людей. Вот Молленштейн — теперь он называл себя Стоуном, — у него такой вид, будто ему принадлежит весь мир. «Интересно, что он выдумал на этот раз, чтобы надувать простаков», — подумал Грант. Вряд ли он приехал сюда в холодный мартовский день ради скачек с препятствиями. Может, здесь один из его бедолаг-клиентов? А вон Ванда Морден; она только что вернулась после своего третьего медового месяца и, видимо, для того, чтобы все знали об этом, нарядилась в клетчатое пальто. Оно так бросалось в глаза, что, куда бы Грант ни обращал взгляд, все время натыкался на пальто Ванды Морден. И лорд — игрок в поло, за которым следили, подозревая, что это Даго, — он тоже был тут. И многих, многих других — приятных и не очень — увидел здесь Грант и мысленно охарактеризовал для себя.
Как только закончился первый заезд и маленькая кучка счастливчиков обступила букмекеров, а потом снова радостно рассыпалась по трибунам, Грант приступил к работе. Он методично расспрашивал о Сорреле в течение всего второго заезда, до того момента, пока желающие делать ставки снова не стали брать в кольцо букмекеров. Но о Сорреле никто ничего не знал, и, когда перед четвертым заездом с барьерами Грант снова встретился с Марри, чья лошадь как раз должна была бежать, вид у Гранта был невеселый.
Марри принял его неудачу близко к сердцу: стоя в парадном кольце возле своей лошади, он стал давать советы, как лучше выследить Соррела, не забывая при этом подбадривать и похваливать своего жеребца.
Грант вполне искренне выразил свое восхищение этой собственностю Марри — великолепным скакуном, — но его советы слушал вполуха. «Почему никто в «серебряном круге» не знает Соррела?» — озабоченно размышлял он.
К парадному кольцу стали подходить жокеи, и толпа у перил поредела: люди спешили занять места, откуда лучше всего наблюдать забег; грумы то и дело беспокойно выглядывали из-за холок своих подопечных, боясь упустить время, когда подадут сигнал к старту.
— А вот и Лейси, — проговорил Марри и кивнул жокею, который, ступая легко, как кошка, по мокрой траве, приближался к ним.
— Знаете его?
— Нет.
— Его конек — стипл-чейз. Но иногда он участвует в скачках с препятствиями и тут тоже бесподобен.
Грант об этом знал — в Скотланд-Ярде они знали все или почти все, но до сих пор не встречался лично со знаменитым наездником. Жокей ответил на приветствие Марри легкой улыбкой, и Марри представил ему инспектора, не вдаваясь в причины его появления на скачках. Лейси зябко передернул плечами и с напускным ужасом проговорил:
— Хорошо, что сегодня не надо прыгать через водные препятствия. По сегодняшней погоде не хватало еще, чтобы тебя сбросили в воду.
— После душных комнат и теплых одежек очень даже неплохо, — шутливо заметил Марри.
— Ездили в Швейцарию? — спросил Грант, чтобы поддержать разговор. Он знал, что Швейцария — зимняя Мекка всех наездников-специалистов по стипл-чейзу.
— Швейцарию? — воскликнул Лейси с мягким ирландским выговором. — Какое там! У меня была корь. Вы только представьте — корь! Девять дней на одном молоке и месяц в постели.
Его приятное, с четкими, как на камее, чертами лицо исказила гримаса отвращения.
— К тому же от молока толстеют, — рассмеялся Марри. — Кстати, о толстых: вы никогда не встречались с человеком по фамилии Соррел?
Взгляд выцветших, но блестящих, как капельки ледяной воды, глаз жокея скользнул по инспектору и обратился к Марри. Хлыст, который до этого покачивался в его руке как маятник, вдруг замер.
— Кажется, припоминаю такого, — сказал он, помедлив. — Только он не был толстый. Вроде так звали помощника у Чарли Бадделея.
Но Марри такого помощника у Чарли Бадделея не помнил.
— Взгляните, пожалуйста, на этот портрет. Это он? — проговорил Грант и достал импрессионистический набросок лохмача.
— Надо же, как здорово! — воскликнул Лейси, с восхищением глядя на рисунок. — Точно, он и есть — помощник старины Бадделея.
— Где мне найти этого Бадделея? — спросил Грант.
— Трудноватый вопрос, — отозвался Лейси, и снова на его лице появилась та же полуулыбка. — Штука в том, что Бадделей уже два года как помер.
— Ах так? И с тех пор вы не встречали Соррела?
— Нет. Не знаю, что с ним сталось. Наверное, скрипит пером где-нибудь в конторе.
К ним подвели рысака. Лейси скинул пальто, снял галоши, аккуратно поставил их на травку, и грум подсадил его в седло.
— Алвинсона сегодня нет? — спросил он, подбирая поводья (Алвинсон был тренером лошадей Марри). — Он сказал, у вас будут указания.
— Указания обычные. Делайте что считаете нужным. Похоже, он должен победить.
— Ну и прекрасно, — спокойно откликнулся Лейси, и они проследовали к выходу на полосу — лошадь и человек: зрелище самое замечательное из тех, какие еще способен предоставить нам неласковый цивилизованный мир.
— Не унывайте, Грант, — сказал Марри, пока они направлялись к своим местам на трибуне. — Хоть Бадделей и умер, я знаю человека, который хорошо его знал. Кончится заезд, и я проведу вас к нему.
После этого Грант целиком отдался наслаждению скачками. Наблюдал, как на самом дальнем отрезке круга на фоне серого занавеса леса мелькают и струятся яркие цвета жокейских курточек, в то время как все трибуны, затаив дыхание, следили за ними; тишина стояла такая, как если бы Грант был здесь совсем один, а вокруг — только мокрые деревья и влажная трава, да серая цепочка деревьев на горизонте. Наблюдал изнурительную борьбу на последней прямой и схватку на последних финишных метрах, когда лошадь Марри пришла второй, отстав всего на голову. После того как Марри снова посмотрел на свою лошадку и поздравил Лейси с успехом, он повел Гранта к тотализаторам, где представил старикану с румяными щечками — таких обычно изображают на рождественских открытках в виде кучера, управляющего несущейся сквозь снег почтовой каретой.
— Ты вроде знал Бадделея, Такер, — обратился к нему Марри. — Не помнишь, что сталось с его помощником?
— С Соррелом? — откликнулся человек с рождественской открытки. — Он открыл свое дело. У него контора на Минлей-стрит.
— Ездит на круг?
— По-моему, нет. У него только контора. Последний раз, как я его видел, дела у него шли хорошо.
— Когда это было?
— Давно уже.
— Вы знаете его домашний адрес? — спросил Грант.
— Нет, не знаю. А кому он помешал? Он хороший парень, этот Соррел.
Последнее замечание показывало, что Такер что-то заподозрил, и Грант поспешил заверить его, что никаких претензий к Соррелу у него нет. Тогда Такер при помощи большого и указательного пальцев растянул рот и издал пронзительный свист, адресуя его ближней к кругу трибуне. Из массы обернувшихся на свист лиц он выбрал то, которое ему было нужно, и властно крикнул:
— Эй, Джо, дай-ка мне Джимми на минутку, дело есть.
И Джо тут же предъявил ему Джимми, как вынимают из кармана часы на цепочке. Джимми подошел к ним и оказался чистеньким юнцом с невинным личиком херувима, в умопомрачительного рисунка рубашке.
— Ты вроде был приятелем Соррела, так?
— Так, но я его тыщу лет не видел.
— Знаешь, где он живет?
— Ну в те времена, когда мы еще виделись, он занимал квартиру на Брайтлинг Крисчент. Это недалеко от Фулхэм-Роуд. Я у него там бывал. Номер дома уже забыл, но хозяйку звали Эверет. Он там давно живет, Берт Соррел. Он же сирота.
Грант описал Даго и осведомился, имелся ли у Соррела такой знакомый.
Нет, Джимми такого с Соррелом не встречал, но, как он уже сказал, они тыщу лет не виделись. Берт поотстал от прежних дружков, когда открыл свое дело, хотя иногда и появлялся на скачках — так, удовольствия ради, а может, и за информацией. По подсказке Джимми Грант порасспрашивал еще двоих, которые знали Соррела, но ни один из них не пролил света по части того, с кем еще водил компанию Соррел. Букмекеры — народ особый. Они были поглощены своими делами, и Грант не вызывал у них большого интереса, а едва подошло время для следующих ставок, попросту забыли о его существовании. Грант сказал Марри, что он все закончил, и Марри, чей интерес к скачкам после последнего заезда заметно поостыл, тут же засобирался обратно в город. Но когда машина медленно выкатила со стоянки, Грант обернулся и окинул маленький, оживленный ипподром, подаривший ему необходимую информацию, довольным взглядом. «Когда выдастся свободный денек, надо будет обязательно заглянуть сюда и устроить себе праздник», — подумал он.
На обратном пути Марри с воодушевлением толковал о том, что его занимало больше всего: о букмекерах и об их привычке держаться особняком.
— Они вроде шотландцев: между собой могут грызться как угодно, но, если кто-то вмешивается со стороны, они все сразу объединяются и выступают единым фронтом.
Говорил он также о лошадях и об их капризах; о тренерах и их твердых нравственных принципах; о Лейси и его находчивости. Потом все-таки спросил:
— Как продвигается дело об убийстве в очереди?
Грант ответил, что все идет хорошо. Если и дальше пойдет так же, то через денек-другой они, вероятно, произведут арест убийцы.
— Послушайте, не в связи ли с этим делом вам нужен Соррел? — спросил Марри после недолгого молчания.
Марри проявил себя человеком настолько деликатным, что Грант не стал отмалчиваться.
— Нет, — коротко сказал он. — В этой очереди убили как раз Соррела.
— Святые небеса! — воскликнул Марри. Некоторое время он ошеломленно молчал и наконец проговорил: — Жаль, очень жаль. Я не знал его лично, но, похоже, его все любили.
У Гранта создалось точно такое же впечатление. Соррел не был ни злодеем, ни проходимцем. Как никогда раньше, Гранту не терпелось поскорее встретиться с Даго.
Глава восьмая
МИССИС ЭВЕРЕТ
Брайтлинг Крисчент являла собою ряд трехэтажных домов из красного кирпича, основным украшением которых являлись все те же кружевные занавески ноттингемского производства и горшки с цветами. Каменные ступеньки были вылизаны до блеска и обезображены неуклюжим и неумеренным использованием цветной плитки. Некоторые из них пылали, будто от смущения, что так бросаются в глаза, иные, словно от навязчивого к ним внимания, кисло желтели, третьи же таращились в полном ужасе от такого надругательства. Но все без исключения будто говорили: «Nemo me impune lacessit».[534] Конечно, можно было решиться и все-таки дернуть за ярко начищенный дверной звонок — они подмигивали, словно подзывали к себе, — однако переступить порог удавалось лишь посредством гигантских скачков, избегая адских ловушек в виде выложенных плиткой ступенек.
Грант шел вдоль улицы, по которой так часто проходил Соррел, и думал, ходил ли по ней также и Даго. Миссис Эверет — костлявая, близорукая женщина лет пятидесяти — сама открыла дверь, и Грант осведомился, дома ли Соррел.
— Мистер Соррел здесь больше не живет, — сообщила она. — Неделю назад он отбыл в Америку.
Ага, значит, ей так объяснили его отсутствие.
— Кто вам сказал, что он уехал в Америку?
— Сам господин Соррел, кто же еще?
Вероятно, он придумал эту легенду, чтобы скрыть намерение покончить с собой.
— Он жил здесь один?
— А кто вы такой и зачем вам это знать? — спросила миссис Эверет, и Грант объяснил, что он офицер Уголовной полиции и хотел бы войти и поговорить с ней. Она казалась немного испуганной, но сохранила полное спокойствие и провела его в комнату на первом этаже.
— Раньше тут жил мистер Соррел, — сказала она. — Сейчас эти комнаты занимает молодая особа — учительница. Она не станет возражать, если мы тут расположимся. Надеюсь, мистер Соррел не сделал ничего плохого? Такой тихий, достойный молодой человек.
Грант успокоил ее и снова спросил, жил ли Соррел здесь один.
— Нет, не один. С ним проживал еще другой джентльмен. Но когда мистер Соррел уехал в Америку, второму джентльмену пришлось искать себе новое жилье: снимать эту квартиру одному ему стало не по карману, а молодая леди давно хотела занять эти комнаты. Очень жаль, что они оба съехали. Такие милые молодые люди и добрые друзья.
— Как звали друга мистера Соррела?
— Джеральд Ламонт. Мистер Соррел держал свою букмекерскую контору, а мистер Ламонт работал у него в офисе. Нет, не как партнер, но они были очень дружны.
— У мистера Соррела были еще друзья?
— Очень немного, — сообщила миссис Эверет. — Он всюду бывал с Джерри Ламонтом.
После напряженного раздумья она все же вспомнила еще двух человек, которые заходили к Соррелу, и даже описала их достаточно подробно, так что Грант уверился: ни один из них не имел никакого сходства с Даго.
— У вас не сохранились фотографии Соррела или его приятеля?
Кажется, они у нее где-то были, пусть инспектор подождет немного, она пойдет поищет. Грант не успел осмотреться, как она уже вернулась с двумя любительскими фотографиями размером с почтовую открытку.
— Это они снимались прошлым летом, когда отдыхали на Темзе.
Один и тот же кусочек поросшего ивой берега Темзы, и один и тот же конец ялика. На одном снимке — Соррел в мягких брюках из шерстяной фланели, с трубкой в одной руке и с подушечкой в другой. На втором — тоже молодой человек в таких же брюках: Даго. Грант сидел, долго вглядываясь в его смуглое лицо. Снимок получился на редкость хорошим. И глаза — не просто темные провалы, как на большинстве любительских фотографий, а глаза реального, живого человека. Гранту сразу вспомнился ужас, мелькнувший в них на Стренде. Даже здесь, в момент приятного отдыха на реке, глаза были настороженные. Нет, в этом лице с ярко обозначенными скулами не было дружелюбия.
— Так куда, вы сказали, переехал Ламонт? — спросил как бы между прочим Грант.
Это ей неизвестно.
Грант пытливо посмотрел на женщину: говорит ли она ему правду? Будто догадываясь о его подозрениях, она добавила, что, кажется, он снимает комнату где-то на южном берегу Темзы. Такой ответ лишь укрепил Гранта в его подозрениях. Вероятно, она знает больше, чем говорит. Кто же все-таки послал деньги на похороны Соррела? Выходило, что предполагаемый близкий друг и Даго — одно и то же лицо, но Даго, у которого оказались деньги Соррела — все его двести двадцать три фунта, — решительно не стал бы этого делать. Грант кинул взгляд на суровое лицо женщины. У такой, вполне возможно, и почерк как у мужчины. Графологи тоже ведь ошибаются. С другой стороны, человек, давший деньги на похороны, являлся и владельцем револьвера. «Не так, — поправил он сам себя. — Оружие принадлежало человеку, который отправлял деньги».
Грант осведомился, был ли у кого-нибудь из приятелей револьвер.
— Нет, — ответила миссис Эверет. Ничего подобного она у них не видела. Не такие они люди.
Ну вот: снова она подчеркивает, какие они были тихие. Что за этим скрывается — просто симпатия или неуклюжая попытка сбить его со следа? Он хотел было спросить, не левша ли Ламонт, но что-то удержало его. Если она говорит неправду, такой вопрос в отношении Ламонта моментально ее насторожит. Она сразу догадается, что именно расследует Грант. Она предупредит преступника и спугнет птичку, прежде чем они будут готовы стрелять. И потом, эта деталь в данный момент не столь важна. Человек с фотографии был тем самым, кто жил вместе с Соррелом; тем самым, кто удрал от Гранта на Стренде; тем, у кого оказались все деньги Соррела, и почти наверняка тем самым человеком из очереди. Легар сможет его опознать. Сейчас самое важное — не обнаружить перед миссис Эверет, как много уже известно.
Когда Соррел уехал в Америку?
— Его судно отплывало четырнадцатого, но он съехал тринадцатого.
— Несчастливый день! — пошутил Грант в надежде сделать разговор более доверительным.
— Все это глупые суеверия. День как день.
Между тем Грант напряженно соображал: ведь убийство произошло именно тринадцатого.
— А господин Ламонт? Он съехал вместе с ним?
Оказалось, они вышли вместе утром тринадцатого. Мистер Ламонт собирался отвезти вещи на новую квартиру и встретиться с господином Соррелом позже. А мистер Соррел должен был отправиться в Саутгэмптон ночным паромом. Она хотела проводить его, но господин Соррел этого не пожелал.
— Почему?
— Сказал, что слишком поздно, и вообще он не любит, когда его провожают.
— У него есть родные?
Нет, насколько ей известно.
— А у Ламонта?
— У него? Отец, мать и брат, но сразу после войны они эмигрировали в Новую Зеландию, и больше он их не видел.
— Сколько они прожили здесь?
— Господин Соррел восемь лет, а господин Ламонт — четыре.
— Кто жил с Соррелом в предыдущие четыре года?
Разные люди, но большую часть времени ее родной племянник, он сейчас в Ирландии. Господин Соррел всегда был дружен со всеми, кто с ним жил.
— Мистер Соррел — он любил смеяться, много шутил?
Нет, она бы этого не сказала. Господин Соррел совсем не такой. Мистер Ламонт — тот действительно любит смеяться и шутить. Господин Соррел тихий, но очень приятный джентльмен. Бывало, загрустит, так господин Ламонт старается его развеселить.
Гранту пришло на ум, какую «благодарность» обычно испытываешь к тому, кто насильно пытается снять твое мрачное настроение; тут впору бы Соррелу зарезать Даго, а не наоборот.
— Они когда-нибудь ссорились?
Насколько ей известно — никогда, а от нее это никак бы не укрылось.
— Ладно. Надеюсь, вы не имеете ничего против, если я возьму у вас дня на два эти фотографии? — спросил Грант, собравшись уходить.
— А вы мне в целости их вернете? Это все, что у меня осталось на память, а я очень была привязана к ним обоим. — Грант это обещал и бережно положил снимки себе в записную книжку, моля Провидение, чтобы на них оказались столь нужные ему отпечатки пальцев. — Они никогда не делали ничего плохого.
— Ну если так, тогда им нечего опасаться.
Он поспешил в Ярд и там в ожидании, пока обработают снимки, выслушал рапорт Уильямса: обход букмекерских контор не дал никаких результатов. Получив назад фотографии, Грант отправился к Лорену. Из-за позднего времени там было пустынно. Одинокий официант рассеянно смахивал крошки со стола, в воздухе стоял запах пряных соусов, вина и сигарет. Официант прервал свое занятие и не торопясь подошел принять заказ у Гранта с видом человека, который не ожидает от жизни ничего хорошего и, более того, испытывает некоторое меланхоличное удовлетворение от сознания своей правоты — с тем видом, с каким официанты обычно встречают любого, кто имеет глупость прийти во внеобеденное время. Узнав Гранта, он срочно попытался придать своим чертам иное, более приличествующее обстоятельствам выражение — что-то вроде: «Какая честь обслуживать столь привилегированного клиента», хотя в действительности на лице явственно читалось: «Вот влип так влип! Это же любимчик Марселя!»
Грант не преминул справиться о Марселе и узнал, что утром тот спешно отбыл во Францию. Умер его отец, и Марселю, как единственному сыну, предстояло разобраться с виноградником и солидным торговым делом, оставшимся в наследство. Отсутствие Марселя не слишком опечалило Гранта. Манеры, коими так гордился Марсель, неизменно вызывали у Гранта легкую тошноту. Он сделал заказ и попросил вызвать к нему Рауля Легара, если тот находится поблизости. Через несколько минут из-за кухонной ширмы вышел Рауль. Высокий, кажущийся особенно стройным в белом рабочем халате и шапочке, он почтительно проследовал за официантом к столику Гранта и остановился со смущенным видом, как ребенок в ожидании заслуженной награды.
— Добрый вечер, Легар, — ласково приветствовал его Грант. — Вы оказали мне большую помощь. Теперь взгляните на эти снимки, — может, вам удастся найти здесь знакомое лицо.
Он раскинул веером с дюжину фотографий и стал ждать. Юноша не спешил. Он молчал так долго, что Грант начал было опасаться, что заверения Рауля, будто он хорошо запомнил человека из очереди, были простым хвастовством. Но когда наконец тонкий палец Рауля замер на изображении Соррела и юноша произнес: «Вот это — тот самый, кто стоял в очереди со мной рядом», в его голосе не было ни малейшего колебания.
— А вот это, — продолжал Рауль, переводя палец на Ламонта, — тот самый человек, который с ним разговаривал.
— Вы готовы подтвердить это под присягой? — спросил Грант, и Легар, теперь уже усвоивший, что такое присяга, уверенно откликнулся:
— О да. В любой момент, когда потребуется.
Именно это и хотел знать Грант.
— Большое спасибо, Легар, — произнес он с чувством. — Когда вы сделаетесь метрдотелем, обещаю, что приду сам и приведу к вам в ресторан добрую половину английской знати.
Рауль широко улыбнулся.
— Может, мне так и не удастся стать метрдотелем. В кино они так много обещают платить, а сниматься — это ведь совсем нетрудно, надо только сделать такое лицо — ну, вы знаете… — Он поискал подходящее английское слово, а не найдя, постарался изобразить: неожиданно его красивое, умное лицо приняло такое безмятежно идиотское выражение, что Грант поперхнулся своей уткой с зеленым горошком. — Может, я сначала попытаю счастья там, а потом, когда возрасту, — и тут он жестом показал, что имеет в виду доходы, — то смогу купить и отель.
Грант с добродушной улыбкой смотрел, как Рауль Легар грациозной походкой направляется обратно к своим ложкам и тряпочкам для чистки серебра.
Гранту подумалось, что все в Рауле — расчетливая оценка коммерческих преимуществ своей внешности, чувство юмора, готовность идти на компромисс ради успеха — выдавало в нем истинного француза. Печально, что, скорее всего, стройность и миловидность быстро исчезнут под влиянием самодовольства и достатка. Грант от всей души надеялся, что Легару на вершине карьеры удастся сохранить хотя бы юмор. Сам же Грант после обеда вернулся в Ярд, для того чтобы получить ордер на арест Джеральда Ламонта в связи с убийством Альберта Соррела вечером тринадцатого марта возле театра Уоффингтон.
* * *
Когда в доме на Брайтлинг Крисчент за инспектором закрылась дверь, хозяйка квартиры еще долго стояла в полной неподвижности, устремив взгляд на покрытый коричневым линолеумом пол прихожей. Несколько раз она задумчиво облизнула губы. Она не выглядела обеспокоенной; однако все ее существо было сосредоточено на одном мучительном усилии: она думала. Казалось, от этого напряженного процесса все ее тело вибрирует, как динамо-машина. Она стояла без движения, словно шкаф или буфет, в полной тишине минуты две-три. Потом развернулась и направилась в бывшую комнату Соррела.
Она взбила примятые инспектором диванные подушки — сама она во время беседы предусмотрительно сидела на твердом стуле, — причем выполнила это так, как будто это было дело первостепенной важности. Потом достала из ящика буфета чистую скатерть и принялась накрывать на стол: неторопливо и деловито она ходила из комнаты в кухню и обратно, с привычной педантичностью раскладывая ножи и вилки таким образом, чтобы они лежали параллельно друг другу. Она еще не успела кончить, когда послышался звук отпираемой двери и в квартиру вошла невзрачная молодая женщина лет двадцати восьми. Уныло-серое пальтишко, унылый коричневый шарфик, безрадостно-зеленая шляпка с робким намеком на элегантность придавали ей вид человека, уже не ждущего от жизни ничего хорошего, столь характерный для людей ее неблагодарной профессии учительницы. В прихожей она сняла галоши и вошла в комнату, искусственно оживленным тоном сообщая о том, что на улице ужасно сыро. Миссис Эверет выразила свое согласие и потом сказала:
— Сегодня я приготовила холодный ужин и подумала, что вы не будете против, если я заранее накрою стол и уйду. Коли вы не станете возражать, мне хотелось бы сходить навестить одну знакомую.
Постоялица уверила, что для нее это не имеет значения. Миссис Эверет поблагодарила ее и прошла на кухню. Здесь она достала из кладовки холодный ростбиф и, нарезав толстыми кусками, сделала сандвичи. Потом, завернув в чистую бумагу, сложила их в корзинку. Туда же отправились вареная колбаса, мясные фрикадельки и плитка шоколада. Вслед за тем она развела огонь, наполнила водой чайник и поставила на край плиты с тем, чтобы он был горячий к ее возвращению, после чего проследовала к себе наверх. Там она оделась для улицы и методично подобрала под строгую шляпку жидкие пряди волос. Потом из одного ящика достала ключ и открыла им другой, откуда вынула пачку банкнот, пересчитала, после чего положила в сумочку. Затем раскрыла вышитый бювар, написала короткую записку, запечатала в конверт и положила в карман.
На ходу натягивая перчатки, миссис Эверет спустилась вниз, взяла приготовленную корзинку с едой, открыла своим ключом заднюю дверь, вышла из дома и двинулась по улице. Она шла, глядя прямо перед собой, суровая и спокойная — само воплощение добропорядочности. Так она дошла до автобусной остановки на Фулхэм-Роуд и стала ждать, не обращая особого внимания на окружающих, как всякая добропорядочная, не привыкшая к случайному общению и уважающая себя женщина. Среди других пассажиров она не выделялась абсолютно ничем, и когда вышла, никто не вспомнил бы, кто ехал с ней в одном автобусе, — разве что кондуктор, наблюдательный по роду своей профессии. Такой же незаметной она оставалась и в другом автобусе, направлявшемся в район Брикстона. Она привлекала внимание пассажиров не больше, чем воробей или фонарный столб. Сошла она недалеко от того места, где Брикстон переходит в Стритхэм Хилл, тут же затерялась в туманной вечерней мгле, и никто из пассажиров не вспомнил, что она только что была рядом, никто не догадался, какое страшное напряжение скрывалось за ее внешней невозмутимостью.
Сначала она шла по одной длинной улице, мимо зависших в тумане, словно бледные луны, уличных фонарей, потом по другой, в точности такой же: плоские, невыразительные фасады, тусклый свет, безлюдные мостовые; потом свернула на следующую, потом еще и еще… Пройдя до середины одну из таких улиц, женщина внезапно повернула назад и остановилась возле ближайшего фонаря. Мимо нее торопливо прошла какая-то девушка, видимо опаздывавшая на свидание; пробежал, позвякивая монетами в кулачке, маленький мальчик. Больше никто не показывался. Сделав вид, что при свете фонаря смотрит, сколько времени на ее часах, она двинулась в прежнем направлении. По левой стороне тянулись высокие, импозантные особняки, которые после падения социального статуса Брикстона оказались никому не нужными; они стояли облупившиеся, и разноцветные занавески на затейливых окнах свидетельствовали о том, что в них обитают временные квартиранты. В этот час дома представлялись сплошной темнеющей массой. Лишь пробивавшиеся кое-где полоски света да нечастые фонари над парадным входом указывали на то, что здесь живут люди. В один из таких домов вошла и она, неслышно прикрыв за собою двери. По запущенной, слабо освещенной лестнице она дошла до второго этажа и стала подниматься на третий, где вовсе не было света. Некоторое время она стояла, запрокинув голову и прислушиваясь. Но вокруг было тихо — лишь где-то наверху поскрипывали старые рассохшиеся балки. Тогда медленно, на ощупь она стала взбираться еще выше, ни разу не запнувшись, миновала поворот и добралась до самого верха, где и остановилась, чтобы отдышаться. С уверенностью человека, бывавшего здесь не один раз, она нащупала невидимую дверь и осторожно постучала. Ответа не последовало. Ни лучик света, ни шорох не выдавал чьего-либо присутствия за дверью. Тогда женщина постучала еще раз и, приложив губы к дверной скважине, тихонько проговорила:
— Джерри! Это я!
Почти в тот же миг от двери что-то отодвинулось, она приоткрылась: стала видна освещенная комната и на фоне темного окна, словно распятие, — очертания мужской фигуры.
— Входите, — быстро проговорил мужчина, почти втаскивая ее в комнату и запирая дверь.
Миссис Эверет поставила на стол у занавешенного окна корзинку с едой и повернулась к нему лицом.
— Вам не следовало приходить сюда! — проговорил мужчина. — Зачем вы пришли?
— Пришла, потому что письмо идет слишком долго, а мне надо было срочно вас видеть. Его опознали. Сегодня вечером из Ярда приходил человек и расспрашивал про вас обоих. Я все ему рассказала. Все-все. Не сообщила только, где вы находитесь. Даже фотографии ему отдала. Этот человек знает точно, что вы в Лондоне, и, если здесь останетесь, вас схватят. Это всего лишь вопрос времени. Вам надо уезжать.
— Зачем же вы отдали ему снимки?
— Понимаете, я прикидывала и так и эдак, пока за ними ходила, а потом поняла, что, если вернусь с пустыми руками и буду говорить, что, мол, не нашла, у меня не получится. Он бы мне не поверил. И еще: если уж они так много про вас обоих знают, то есть у них фотографии или нет — какая разница?
— Вы так считаете? — отпарировал он. — Завтра каждый полицейский будет знать меня в лицо. Одно дело — описание внешности, хотя и это, видит Бог, уже достаточно скверно, но фотография — это конец! Полный конец!
— Если останетесь в городе — точно конец. Тут вас все равно поймают рано или поздно. Вам надо уехать. Сегодня же.
— Да я бы — хоть сейчас. Но как? И куда? — с горечью воскликнул он. — Стоит мне высунуть нос на улицу и, готов поставить один к пятидесяти, что тут же окажусь в полиции, а с такой рожей, как у меня, попробуй докажи, что ты — это не ты! Последняя неделя для меня — сущий ад. Боже, какого дурака я свалял! И было бы из-за чего! Можно сказать, сам себе петлю на шею накинул!
— Что сделал, то сделал, — проговорила она ровным голосом. — Теперь уж ничего не попишешь. Теперь надо думать, как ускользнуть. Да побыстрее.
— Я это уже слышал, но куда и как?
— Вот, поешьте-ка сперва, а потом я вам все растолкую. Вы за весь день хоть что-нибудь съели?
— Да, утром я завтракал, — был ответ. Но он не проявил никакого интереса к еде и не сводил с женщины сердитых, лихорадочно блестевших глаз.
— Вам нужно вот что: уехать из мест, где все про это только и говорят, туда, где никто ничего не знает.
— Если вы имеете в виду — уехать за границу, то на это у меня никаких шансов нет. Четыре дня назад я пытался было наняться на какое-нибудь судно, так они сразу стали спрашивать, состою ли я в каком-то там профсоюзе, а после и разговаривать со мной не стали. А что до парохода через Ла-Манш, так уж проще прямо сдаться полиции.
— А я и не говорю ни про какую заграницу. И не так уж вы прославились, чтобы про вас вся страна знала. Я говорю про Шотландию. Неужели вы думаете, что в моих родных местах, там, на западном побережье, что-нибудь слышали про вас или про то, что тут в Лондоне стряслось во вторник вечером? Кроме местной газеты, они ничего не читают, а там обо всех лондонских событиях сообщается одной строчкой. Это место в тридцати шести милях от ближайшей железнодорожной станции, а полицейский живет в соседней деревне, да и та в четырех милях от нас, и потом самый большой преступник, с кем ему доводилось иметь дело, — это лососевый браконьер. Туда-то вы и отправитесь. Я уже им написала, что вы едете, потому что болели и хотите подлечиться. Вас зовут Джордж Лоу, и вы журналист. Вам надо сесть на эдинбургский поезд на станции Кингз-Кросс. Он отходит оттуда в десять пятнадцать, и вам надо на него поспеть сегодня же.
— А что если полиция перехватит меня у турникета при выходе на платформу?
— На Кингз-Кросс никакой загородки нет. Уж мне ли не знать! Тридцать лет езжу в Шотландию и обратно с этой самой станции! На перрон шотландского направления вход свободный. Если даже на платформе и будут сыщики, так поезд — в полмили длиной! Хочешь спастись — умей рисковать! Нельзя же просто сидеть и ждать, когда за вами придут. А я-то считала, что рисковая игра — это как раз то, что вам надо!
— Думаете, я боюсь, да? — проговорил мужчина. — И вправду боюсь. Боюсь до ужаса. Выйти сегодня на улицу — для меня то же, что ползти по ничейной полосе под минометным огнем фрицёв.
— Возьмите себя в руки, а не то — идите и сами сдавайтесь. Все лучше, чем не трогаться с места и ждать, когда тебя возьмут.
— Прав был Берт, когда окрестил вас леди Макбет, — вырвалось у него.
— Не надо! — резко оборвала его женщина.
— Хорошо, не буду, извините. Я немного не в себе, — сказал он и угнетенно замолчал. Потом, едва шевеля губами, прошептал: — Ладно. Давайте рискнем в последний раз.
— Осталось совсем мало времени, — заторопилась она. — Быстро соберите чемодан. Такой, чтобы нести его самому. Носильщик вам ни к чему.
Подгоняемый ею, мужчина перешел в следующую комнату, служившую ему спальней, и стал наспех кидать вещи в чемодан, между тем как миссис Эверет запихивала аккуратные пакеты со съестным в карманы его висевшего у дверей пальто.
— Что толку? — вдруг проговорил он. — Ничего из этого не получится. Как я смогу сесть на прямой поезд, следующий из Лондона, и избежать встречи с полицией и допроса?
— Никак не сможете, если будете один. Другое дело — со мной. Поглядите-ка на меня: неужели я похожа на такую, которая согласится помочь кому-то удрать от правосудия?
Несколько мгновений мужчина, стоя в дверном проеме, смотрел на нее оценивающим взглядом, и потом губы его тронула сардоническая улыбка:
— Вот уж действительно — воплощенная добропорядочность!
Он коротко и невесело рассмеялся и с этого момента уже не возражал. Через десять минут они были готовы.
— Деньги у вас есть? — спросила она.
— Есть, — отозвался он. — Целая куча. — И, опережая готовый вырваться у нее вопрос, торопливо добавил: — Нет, не те. Мои собственные.
Она перекинула через руку плед и еще одно пальто, объяснив:
— Главное чтобы никто не подумал, что вы уезжаете второпях. Все должно выглядеть так, будто вы отправляетесь в долгое путешествие и вам дела нет до того, кто и что об этом думает.
Он нес чемодан и сумку со всем необходимым для гольфа. Все должно было выглядеть по-настоящему. Это был чистый блеф, а, как известно, чем больше блефуешь, тем больше надежды, что дело выгорит. Когда они вышли из дома в туманную вечернюю мглу, она сказала:
— Дойдем до Брикстон-Хай-стрит и там сядем на автобус или поймаем такси.
Однако такси попалось им почти сразу. Оно вынырнуло из темноты прежде, чем они дошли до главной магистрали. Пока шофер укладывал их багаж, женщина сказала, куда им нужно.
— Ого! Это влетит вам в копеечку, леди! — заметил шофер.
— Да что уж там считать, — отозвалась она. — Не так уж часто приходится сыночка на каникулы отправлять!
— Ну и правильно! — добродушно пропыхтел водитель. — Шикуй, пока можешь, а потом и попоститься не грех. Это по-нашему!
Она влезла вслед за мужчиной, машина перестала тарахтеть и заскользила вперед.
— Будь я и в самом деле вашим сыном, вы вряд ли могли бы сделать для меня больше, чем делаете сейчас, — после недолгого молчания произнес он.
— И слава Господу, что ты мне не сын! — откликнулась женщина.
И снова в машине стало тихо.
— Как вас зовут? — вдруг спросила она.
— Джордж Лоу, — чуть помедлив, ответил он.
— Правильно. Только в следующий раз отвечайте без запинки. Завтра в десять утра в Уеверли пересядете на поезд, который идет дальше на север, в Инвернес. Там придется заночевать. Я тут записала, что вам делать дальше.
— Похоже, вы уверены, что на Кингз-Кросс все пройдет гладко.
— Нет, не уверена. В полиции не дураки сидят, да и этот человек из Скотланд-Ярда и вполовину не поверил тому, что я ему наговорила. Как бы там ни было, свою бумажку я вам передам, только когда поезд уже тронется.
— Жаль, у меня нет при себе револьвера.
— И очень хорошо, что нет. Хватит. Уж и без того массу глупостей наделали.
— Да я бы и не стал его применять. Просто чувствовал бы себя уверенней.
— Ради Бога, Джерри, постарайтесь вести себя разумно и не валяйте дурака, а то все испортите.
Дальше они ехали не разговаривая — прямая и напряженная, как струна, женщина и забившийся в угол, почти невидимый в темноте мужчина. Так проехали они через всю восточную часть Лондона, мимо темнеющих парков к северу от Оксфорд-стрит, по Юстон-Роуд. Левый поворот — и вот они уже у Кингз-Кросс. Решающий момент наступил.
— Рассчитайтесь за такси, а я пошла за билетом, — проговорила женщина.
Когда Ламонт расплачивался, тень от низко надвинутой шляпы целиком скрыла его лицо, поэтому таксист увидел всего лишь удаляющуюся спину пассажира. Тут же подоспел носильщик, и Ламонт совершенно невозмутимо отдал ему вещи. Теперь, когда пришло время действовать, он вдруг успокоился и перестал дергаться. Сейчас дело шло о жизни и смерти, и играть надлежало в полную силу. По одобрительному выражению на холодном лице вернувшейся от кассы женщины он понял, что она заметила происшедшую с ним перемену. Вместе они пошли вдоль поезда вслед за носильщиком, выбирая свободное угловое место у окна. Мужчина с пледом и сумкой для гольфа в сопровождении женщины, несущей еще одно пальто, — все вместе это выглядело вполне достоверно. Носильщик нырнул в очередной вагон и появился снова, говоря:
— Занял вам угловое место, сэр. Похоже, в вашем распоряжении будет вся скамейка. Сегодня народу мало.
Ламонт дал ему чаевые и осмотрелся. Место напротив было явно уже занято, хотя самого пассажира не было видно. Вместе с женщиной они, разговаривая, направились снова к выходу из вагона. Услышав за спиной чьи-то шаги, Ламонт громко спросил:
— Как ты думаешь, там у них есть где удить?
— Только в лохе, но там морская рыба, — ответила она и продолжала развивать эту тему, пока шаги не стали удаляться. Однако они не затихли вдали, а замерли где-то рядом. Осторожно повернув голову, Ламонт увидел в дверях своего купе человека, который разглядывал его багаж. И тут он вспомнил, увы, слишком поздно вспомнил: носильщик положил его чемодан так, что инициалы на нем были видны совершенно отчетливо, их мог прочитать любой — «Д. Л.», а не «Дж. Л.», как того требовало его новое имя. Он заметил, что человек собирается повернуть обратно к выходу, и торопливо шепнул:
— Говорите о чем-нибудь!
— Правда, есть еще карьер, — произнесла женщина, — где можно ловить рыбешку, которую у нас там называют «билан». Она длиной не больше трех инчей.
— Ладно, так и быть: пришлю тебе билана, — отозвался он со смехом. Женщина взглянула на него с видимым одобрением.
— Извините, сэр, ваша фамилия не Лорример? — раздался за его спиной голос.
— Нет, Лоу, — ответил Ламонт, поворачиваясь лицом к подошедшему.
— О, извините, пожалуйста. Это ваши вещи вон в том купе?
— Да, мои.
— Еще раз извините и спасибо. Я разыскиваю человека по фамилии Лорример и подумал, может, это его багаж. Холодноватая ночь для отъезжающих и провожающих.
— И не говорите! — откликнулась женщина. — Мой сын и так уже начал ворчать по поводу первого в своей жизни ночного путешествия в поезде. Ничего, пока до Эдинбурга доберется, еще наворчится вдоволь!
— Признаюсь, я и сам никогда не проводил целую ночь в поезде, — с улыбкой сказал человек. — Извините, что побеспокоил, — добавил он и двинулся дальше.
— Надо было не слушать тебя и взять еще один плед, Джордж, — сказала женщина, хотя человек уже не мог ее слышать.
— Да провались он вовсе, этот несчастный плед! — с горячностью воскликнул Ламонт, уже целиком освоившись с новой ролью. — Скорее всего, не пройдет и часа, как станет жарко, будто на сковородке!
Раздался длинный, пронзительный свисток. Захлопали закрывающиеся двери.
— Это тебе на расходы, — сказала женщина, передавая ему пакет, — а это — то, что я обещала. Тот господин остался на платформе. Все в порядке.
— Мы упустили еще одну деталь, — проговорил он, снял шляпу, наклонился и поцеловал ее в щеку.
Длинный состав начал медленно уплывать в темноту.
Глава девятая
ИНСПЕКТОР ГРАНТ ПОЛУЧАЕТ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ, ЧЕМ РАССЧИТЫВАЛ
Грант просматривал газеты со свойственной ему рассеянной задумчивостью. Парадоксально, но факт: он действительно быстро пробегал глазами текст, но пожелай вы узнать его мнение по поводу любого упомянутого в прессе случая, то тут же оказывалось, что он помнит его самые существенные детали. Он был доволен собой. В считанные часы разыскиваемый будет у них в руках. Он готов был признать: ему крупно повезло. Да если бы не везение, половина преступников так и продолжала бы гулять на свободе. Возьмем хоть грабителей: если кого из них и удавалось словить, то единственно благодаря счастливому для полиции стечению обстоятельств. Но дело об убийстве в очереди было отнюдь не шуточным. Сколько информации им пришлось просеять и обработать! И сейчас он мог чувствовать себя достаточно спокойно лишь потому, что в эту самую минуту целая армия его людей с упорством настоящих охотничьих ищеек прочесывала все южные районы Лондона. Он полностью не снял подозрений с миссис Эверет, хотя считал, что в целом она говорила правду. Человек, которому Грант поручил следить за ней, доложил, что с восьми вечера и до утра, когда он сменился с дежурства, никто не входил и не выходил из дома. К тому же она сама, без всякого принуждения с его стороны, предоставила ему фотографии и, вполне вероятно, действительно не знала точного адреса своего последнего постояльца. Грант был хорошо знаком с тем странным равнодушием к окружающим, которым Лондон заражает каждого, кто живет в нем достаточно долго. Для лондонца, обитающего в Фулхэме, город по ту сторону Темзы кажется таким же далеким и чуждым, как, скажем, Канада, и для миссис Эверет, возможно, адрес в районе Ричмонда говорил так же мало, как какой-нибудь номер 12345 по такой-то авеню где-нибудь в Онтарио, то есть, по сути дела, не говорил ничего. Этот Ламонт прожил у нее недолго, и, наверное, она еще не успела привязаться к нему так, как к тому, кого убили. Вероятно, как обычно бывает в подобных случаях, он обещал написать, хотя отнюдь не собирался этого делать, а она особенно и не беспокоилась по этому поводу. Нет, в целом миссис Эверет производила впечатление искреннего человека. Ни на револьвере, ни на конверте отпечатков ее пальцев не было. (Грант специально заметил, за какой край она держала фотографии. Когда отпечатки увеличили и проявили, они не совпали ни с одним из уже имеющихся в деле.)
Итак, в это утро Грант чувствовал себя почти счастливым. Не говоря уже о радостном предвкушении взять разыскиваемого преступника, Грант находил удовлетворение в том, что человек, нанесший другому удар в спину, будет пойман. Замысливший такое преступление не должен оставаться на свободе!
За неделю, прошедшую со дня преступления, убийство в очереди перестало быть газетной сенсацией номер один, и хотя Гранта, казалось, занимали мелкие и незначительные сообщения, вроде кражи велосипедов, он не без некоторого облегчения — правда, с изрядной долей иронии — обнаружил, что, судя по размерам заголовков и количеству текста, главными событиями в Англии на сегодняшний день считались такие, как подготовка к лодочным гонкам, судебный иск известного врача-косметолога против некоей светской леди, которой он делал «подтяжку», и отбытие Рей Маркейбл в Америку.
Когда Грант, перевернув очередную страницу иллюстрированного выпуска, наткнулся на ее фотографию, то снова почувствовал непонятное, отнюдь не свойственное офицеру полиции стеснение в груди. Сказать, что у него дрогнуло сердце? Нет, это было бы явной несправедливостью по отношению к нему. Сердца сотрудников уголовного отдела надежно застрахованы от того, чтобы учащенно биться, трепыхаться или замирать даже тогда, когда их обладатели смотрят прямо в дуло направленного на них револьвера. И все же… и все же сердце Гранта вело себя не по уставу. Вероятно, именно досада на самого себя за эту мимолетную слабость привела к тому, что, когда Грант увидел это смеющееся лицо, эту ее знаменитую ускользающую улыбку, глаза его сделались колючими и холодными. И хотя губы его тронула усмешка, на самом деле ему было совсем не до смеха.
Он пробегал глазами тексты под снимками: «Мисс Рей Маркейбл в студии», «Мисс Маркейбл в роли Додо из спектакля «А вы и не знали?»», «Мисс Маркейбл в модном магазине». Наконец, последний: «Мисс Маркейбл на вокзале Ватерлоо по пути в Саутгэмптон»,и на снимке — сама Рей: маленькая ножка уже на ступеньке спального вагона, в руках — огромная охапка цветов. А по обе стороны от нее плотным кольцом — люди; и не просто люди, а известные всем господа, перечню имен которых под снимками всегда предшествует сакраментальное: «Слева направо…» По краям на фотографии виднелось несколько высунувшихся из толпы человек из бесчисленного множества провожающих поклонников ее таланта, коим посчастливилось прорваться в передние ряды. Их лица, повернутые к камере, были не в фокусе и казались расплывчатыми и уродливыми — словно у инопланетян. В конце колонки с описанием трогательной сцены прощания шла фраза: «На «Королеве Гиневре» также отплывают в Штаты леди Фулис Робинсон, достопочтенная Маргарет Бедивер, член парламента господин Четтерс-Френк и лорд Лансинг».
Саркастическая улыбка на лице Гранта сделалась чуть шире. Лансингу, судя по всему, предстоит до конца дней своих жить, подчиняясь холодной, не знающей компромиссов воле этой женщины. Вероятно, он проживет всю жизнь и умрет, так и не подозревая об этом, что уже неплохо. Если бы не момент внутреннего озарения, то он, Грант, никогда бы и сам об этом не догадался. Случись ему где-нибудь в одном из эксклюзивных ротарианских клубов или светских салонов на Мейфеар заявить во всеуслышание, будто за обаянием и благородством Рей Маркейбл скрывается натура твердая как сталь, его либо линчуют, либо объявят ему бойкот.
Грант отбросил газету и готов был приняться за следующую, когда его посетила одна мысль: ее вызвало сообщение об отплытии «Королевы Гиневры». Он посчитал, что миссис Эверет была с ним откровенна. Тогда отчего же он не проверил до конца ее утверждение, будто Соррел собирался отплыть в Америку?
Вояж в Америку Грант расценил как уловку Соррела, как его попытку скрыть намерение покончить с собой. Поверил или не поверил в это Даго-Ламонт — неизвестно; во всяком случае он почел за лучшее никого в этом не разубеждать. Но разумно ли ему самому оставлять эту версию без доследования? Это по меньшей мере служебное упущение. Грант вызвал одного из подчиненных, попросил выяснить, какие суда отплывали из Саутгэмптона в прошлую среду, и стал ждать. Вскоре ему доложили, что в среду вышли в море: судно канадской Тихоокеанской компании «Металинер» на Монреаль и судно «Королева Аравии», обслуживающее линию Роттердам — Манхэттен, — на Нью-Йорк. Похоже, что Соррел, перед тем как сообщить об отплытии, ради правдоподобия справился о рейсах. Грант решил сам проехаться до пароходного агентства Роттердам — Манхэттен — а вдруг да и выплывет на свет божий какая-нибудь новая деталь?!
Едва после моросящего дождя он вступил под величественно-гулкие своды здания агентства, как, словно джинн из бутылки, на его пути возник паренек в униформе и осведомился, что именно его интересует. Грант ответил, что хотел бы поговорить с кем-нибудь, кто знает о пароходных рейсах до Нью-Йорка, и юный волшебник, правда без помощи магических заклинаний, а всего-навсего прибегнув к благоприобретенному жизненному опыту, привел его к клерку, который, узнав, что нужно Гранту, препроводил его к следующему чиновнику. Лишь третий оказался именно тем человеком, которому было известно о «Королеве Аравии» абсолютно все: стоимость ее обслуживания, численность ее экипажа, ее грузоподъемность, особенности ее такелажа, ее вместимость, ее расписание и ее стоянки.
— Известно ли вам, был ли такой пассажир, который забронировал билеты на этот рейс и не явился ко времени отплытия?
Да, разумеется, это ему известно. Не явились два пассажира. Один — некий мистер Соррел, а вторая — дама, миссис Джеймс Рэтклиф.
На мгновение Грант лишился дара речи. Затем спросил, когда были забронированы места. Оказалось, оба — в один и тот же день, за неделю до убийства. Миссис Рэтклиф аннулировала заказ в последнюю минуту, что же до мистера Соррела, тот так и не дал знать о себе.
Можно ли ознакомиться с расположением их кают?
— Да, конечно, — заверил его клерк и вытащил схему. — Здесь каюта мистера Соррела, а вот здесь, третья по этой же стороне, — миссис Рэтклиф.
— Билеты заказывали порознь?
Да, клерк хорошо помнит. Заказа было два. Сначала миссис Рэтклиф, а потом мистер Соррел, который выкупал билет лично. И клерк уверен, что смог бы узнать его снова.
— Вот этот? — спросил Грант, показывая ему фотографию Даго. Клерк отрицательно покачал головой.
— Нет, этого, насколько помнится, не встречал никогда.
— Может, этот? — Грант показал ему Соррела.
Клерк узнал его немедленно.
— Спрашивал ли он, кто будет располагаться в соседних каютах?
Увы, таких деталей клерк не помнил: в тот понедельник было очень много работы.
Грант поблагодарил его и снова вышел под дождь, но сейчас он этого даже не замечал. Теперь все: причины и следствия, мотивы и действия, — перестало поддаваться логическому объяснению. Все смешалось, словно в дурном сне, и противоречило здравому смыслу.
Значит, Соррел действительно собирался уехать в Америку. Он купил билет второго класса и лично выбирал каюту. Этот неопровержимый факт не укладывался в их версию. Он был как лишняя гайка, попавшая в только что отлаженный механизм. Если Соррел и вправду сидел на мели, как им представлялось, то он вряд ли стал бы покупать билет второго класса до Нью-Йорка, а в свете этого факта наличие револьвера и отсутствие каких бы то ни было вещей, по которым его можно было бы опознать, едва ли могли служить серьезным доказательством в пользу версии о самоубийстве. Скорее это подтверждало первоначальную гипотезу — о том, что он избавился от личных вещей на случай, если будет задержан. Однако, судя по всем сведениям, Соррел был вполне законопослушным гражданином. Вдобавок ко всему, на сцене вновь возникает миссис Рэтклиф — единственная среди всех находившихся поблизости от Соррела, которая после убийства выглядела потрясенной случившимся. Именно она и ее муж в течение почти всего времени стояли непосредственно за Соррелом!
А что же супруг? И перед мысленным взором Гранта предстал Джеймс Рэтклиф, один из тех, кого принято называть столпами общества. Придется тотчас же нанести ему визит, и визит без предупреждения.
Он вручил свою визитную карточку и минуты три ждал в приемной, пока мистер Рэтклиф не вышел к нему сам и радушно не пригласил его пройти в кабинет.
— Ну, инспектор? Как продвигаются ваши дела? — спросил он. — Знаете, мне кажется, ваш брат и зубные врачи — самые несчастные люди на свете. Один ваш вид уже вызывает неприятные воспоминания.
— Я не собираюсь вам докучать, — сказал Грант. — Просто был тут поблизости и решил, может, вы позволите от вас позвонить. Чтобы не идти до почты.
— О, разумеется. Валяйте, звоните. Я выйду.
— Что вы, зачем вам выходить, — откликнулся Грант. — Я не собираюсь говорить о каких-то секретах. Просто хотел узнать, не нужен ли я.
Оказалось, что не нужен. След в южной части Лондона давно перестал быть горячим или даже теплым, но его ищейки работали вовсю. Он повесил трубку с облегчением, что удивило его самого, особенно когда он припомнил, какое нетерпение испытывал еще поутру, отправляясь в агентство. Сейчас он и не хотел производить арест: ему нужно было время, чтобы все еще раз обдумать. Арестовать не того, кого нужно, — вечный кошмар, который преследует любого сотрудника Скотланд-Ярда. Грант обернулся к Рэтклифу и сообщил, что арест будет произведен с минуты на минуту. Преступника уже нашли. Рэтклиф рассыпался в комплиментах, но тут, прервав его на полуслове, Грант внезапно спросил:
— Да, между прочим, вы мне и не сказали, что ваша супруга собиралась на следующий день после убийства отплыть в Нью-Йорк.
При свете, падавшем из окна, было видно, как лицо Рэтклифа приняло растерянное и встревоженное выражение.
— Я не знал, — начал он, потом запнулся и торопливо заговорил: — Я не думал, что это имеет какое-то значение, иначе непременно бы сообщил. Она была слишком потрясена, чтобы пускаться в путь, да к тому же пришлось присутствовать на допросе свидетелей. У нее в Нью-Йорке сестра, и она собиралась к ней всего на месяц. Ведь это все равно ничего не изменило бы в ходе следствия. Я хочу сказать, если бы вы знали об ее поездке. Ведь это не имеет никакого отношения к преступлению, разве не так?
— О да, конечно, не имеет. Я узнал об этом совершенно случайно. Разумеется, это неважно. Вашей супруге уже лучше?
— Кажется, лучше. Со дня слушания дела она в отъезде. В Истбурне вместе с сестрой — той самой, которую вы видели у нас.
Озадаченный больше прежнего, Грант вернулся в Ярд. Он нажал кнопку вызова и, когда ему ответил дежурный, проговорил:
— Мне нужен кто-нибудь для специального задания. Симпсон на месте?
— Да, сэр.
— Пришлите его ко мне.
Вошел светловолосый, веснушчатый юноша среднего роста. Он был похож на терьера, которому не терпится кинуться за мячом.
— В районе Голдерс-Грин в доме пятьдесят четыре по Лемонора-Роуд проживают некие мистер и миссис Рэтклиф, — сказал, обращаясь к нему, Грант. — Мне надобно знать, какие у них отношения. Друг с другом, я имею в виду. А также все про их домашние дела. Чем больше соберете сплетен, тем лучше. О его служебных делах мне все известно, так что на это время не тратьте. Меня интересуют дела семейные. Можете использовать любые способы, кроме противозаконных. Доложите сегодня к вечеру, в любом случае — с результатом или без такового. Маллинз в Ярде?
Да, Симпсон встретил его по дороге.
— Передайте, пусть зайдет.
У Маллинза веснушки отсутствовали, и он больше всего походил на церковного служку.
— Добрый день, Маллинз. С настоящего момента и вплоть до особого распоряжения вы — уличный торговец. Вы вполне сошли бы за итальянца, но, думаю, лучше вам остаться британцем. Не так будете заметны. Я выпишу вам ордер в магазин Клитроу на Лоуденс-стрит, и там вам выдадут все, что нужно. Не продавайте больше, чем того потребуют обстоятельства. И вот еще что: сюда не возвращайтесь. Встретимся в переулке возле Клитроу. Часа вам хватит?
— Думаю, хватит, сэр. Каким я должен выглядеть — старым или молодым?
— Не имеет значения. Молодым или средних лет — как вам лучше. Седая борода — это уж, пожалуй, слишком театрально. Не перебарщивайте. Оденьтесь прилично — так, чтобы не стыдно было сесть в автобус, если понадобится.
— Слушаюсь, сэр, — ответил Маллинз с такой безмятежностью, будто ему поручили просто отослать письмо.
Час спустя Грант столкнулся с ним нос к носу в переулке возле Лоуденс-стрит и не удержался от изумленного возгласа:
— Вы чудо, Маллинз! Настоящее чудо! Не знай я этого лично, никогда бы не поверил, что вы когда-либо в жизни могли составить полицейский отчет!
Он с видимым удовольствием оглядывал стоявшего перед ним уличного торговца. И этот ссутулившийся человек — один из самых многообещающих детективов Ярда?! Невероятно! В Ярде очень редко прибегали к помощи камуфляжа, но уж когда пользовались им, то делали это в совершенстве. Маллинз обладал чрезвычайно редкой способностью — в любом образе выглядеть абсолютно естественно. Даже по потертой одежде нельзя было догадаться, что она ему не принадлежит, что часто происходит, когда человек надевает не свое, а чужое. Хоть и топорно сшитая, она сидела на нем, как будто Маллинз носил ее уже много лет.
— Желаете приобрести сувенирчик, сэр? — проговорил Маллинз-торговец, откидывая крышку глубокого плетеного лотка.
Внутри, на бязевой подкладке, были разложены дешевые поделки большей частью итальянского производства: ножи для разрезания бумаги, раскрашенные деревянные побрякушки всевозможных видов, вазочки из папье-маше, гипсовые статуэтки.
— Прекрасно! — отозвался Грант. Он достал из кармана какой-то тонкий предмет, обернутый в бумагу, и, разворачивая ее, продолжал: — Я хочу, чтобы вы отправились в дом номер девяносто восемь по улице Брайтлинг Крисчент и выяснили, видела ли когда-нибудь женщина, которая там проживает, вот эту вещь.
С этими словами он положил среди деревянных украшений и гипсовых фигурок серебряный стилет с эмалевой рукояткой.
— Само собою, он не для продажи. А за это сколько возьмешь? — внезапно спросил Грант, беря первый попавшийся предмет.
— Для такого джентльмена, как вы, — всего шиллинг и девять пенсов, — без запинки ответил Маллинз.
Когда прохожий их миновал, Грант, как ни в чем не бывало, весело продолжил свои инструкции:
— После того как разберетесь с женщиной на Брайтлинг Крисчент — да не спешите, осмотритесь там вообще хорошенько, — проследуете на Лемонора-Роуд, пятьдесят четыре, и выясните, знакома ли кому-нибудь эта вещь там. Доложите сразу как справитесь.
Когда продавец итальянских вещиц около пяти вечера позвонил у задних дверей дома пятьдесят четыре по Лемонора-Роуд, хорошенькая, но без обычной наколки горничная, отворившая дверь, воскликнула: «Господи, еще один!»
— Один чего? — спросил ее лоточник.
— Еще один продавец.
— Да? И много их тут побывало? Но такого товара, как у меня, у них точно не было. — И он раскрыл свой короб.
Девушка восхищенно ахнула и спросила:
— Дорогие небось?
— У меня все недорого. И потом, при ваших-то заработках можно себе запросто позволить что-нибудь симпатичное.
— Больно много вы знаете про мои заработки, мистер!
— По правде, ничего. Однако вывод делаю: девушка вы миленькая, семья с достатком, значит, и заработки ничего себе.
— Оно, конечно, платят неплохо, — протянула девушка, явно давая понять, что не так все хорошо, как хотелось бы.
— Может, и хозяйка желала бы взглянуть на мой товар?
— Ее нету, пока здесь я — главная хозяйка. Госпожа в Истбурне. А вы что, служили в армии?
— Воевал во время Второй мировой. Вот то была служба так служба. Остальное не в счет. Франция! Четыре года я там протрубил, мисс.
— Что ж, заходите. Попьете чайку, а я тем временем все рассмотрю как следует. Мы как раз чаевничаем.
Она провела его на кухню, прямо к столу, на котором стояли баночки с джемом, булка, масло и печенье. За столом, с огромной объемистой кружкой чая, которую он как раз подносил ко рту, сидел веснушчатый, светловолосый мужчина в синем шарфе и со значком отставного военного на лацкане пиджака. Возле него на столе лежала стопка дешевой почтовой бумаги.
— Вот еще один отставник. Торгует писчей бумагой, — сказала девушка. — Сдается мне, спроса на нее сейчас мало. Сто лет я не видала, чтобы продавали такие вот пачки.
— Как дела, приятель? — как ни в чем не бывало спросил веснушчатый, глядя в невозмутимое лицо лоточника. — Торговля идет?
— Не жалуюсь. Идет помаленьку. А ты, смотрю, тут здорово устроился.
— Мне это сейчас в самую точку. Как раз то, что надо. За весь день ни одной стопки бумаги не продал. И куда только катится наша страна? Хорошо еще, что попадаются все же добрые люди — вот как сейчас.
— Джему берите, — сказала девушка, подвигая торговцу его кружку, и тот не заставил себя долго упрашивать.
— Хорошо-то хорошо, что хозяйки дома нет, однако оно и жалко: глядишь — она бы тоже что-нибудь себе присмотрела.
— Ну уж я-то никак не жалею про то, что ее нет. Без нее — одно удовольствие. А коли дома — всякие претензии да придирки, а то и истерики, — никакой тебе жизни, сплошное мученье!
— Что, характер паршивый?
— Я-то считаю, характер, а она говорит, у нее, видите ли, нервы. Особенно после этого убийства — она стояла в той же очереди, где человека убили. Ох, что тут было-о! Потом ей еще надо были идти в суд и давать показания. Господи, знали бы вы, какую истерику она закатила по этому случаю! Можно подумать, она его сама убивала! Накануне вечером кричала, плакала и все говорила, не пережить ей этого суда. А когда бедный хозяин старался ее успокоить, так она близко его к себе не подпустила. Обзывала его как последнюю собаку. Так что, скажу я вам, только тогда я и вздохнула свободно, когда она со своей сестрой, мисс Летбридж, укатила в Истбурн.
— Да уж, коли такой нрав, то каждому отъезду только радоваться надо, — поддержал ее веснушчатый. — И часто она у вас уезжает? — поинтересовался он.
— Не так часто, как хотелось бы, скажу я вам. На другой день после убийства она должна была ехать в Йоркшир, ну а потом так сама себя растравила, что с места не могла сдвинуться. Теперь вот отправилась в Истбурн, и, по мне, чем дольше она там пробудет — тем лучше. Дайте-ка поглядеть, что у вас там, — обратилась горничная к лоточнику.
— Сами смотрите, — отозвался тот, показывая на короб. — Все, что ни выберете, — отдам задешево. Уж и не помню, когда пил такой вкусный чай, правда, Билл?
— Угу, — откликнулся его собрат, жуя огромный кусок кекса. — Таких добрых людей еще поискать!
— Да, хозяйка и вправду пожалела бы, что не видит всего этого, — проговорила девушка, завороженно глядя на яркие расписные побрякушки. — Она сама не своя до всяких интересных вещиц вроде ваших, хотя они ужас сколько пыли собирают. Она у нас — художественная натура. А это для чего? — спросила она, беря кинжал. — Людей убивать, что ли?
— Да вы что, никогда раньше таких не видели? — удивился торговец. — Это — бумагу разрезать. И деревянные такие бывают.
Девушка рассеянно потрогала острие пальцем и с непроизвольной дрожью отвращения вернула кинжал на прежнее место. В конце концов она выбрала маленькую раскрашенную вазочку — вещь абсолютно бесполезную, хотя смотреть на нее было приятно. Лоточник уступил ее за шесть пенсов, и в порыве благодарности она стала угощать их хозяйскими сигаретами. Пока они курили, горничная развлекала их разговором о том, что в данный момент занимало ее больше всего, — об убийстве.
— Вы не поверите, к нам даже сам инспектор приходил, — болтала она, — Очень симпатичный мужчина. Никогда не скажешь, что служит в полиции. Вежливый такой, обходительный — не то что патрульные бобики. Но все равно было неприятно. И знамо дело, он насторожился — ведь хозяйка слезами заливалась и ни за что не хотела с ним разговаривать. Я сама слышала, как мисс Летбридж ей сказала: «Не будь дурочкой, Мег. Единственный способ покончить со всем этим — это позволить ему увидеться с тобой и попробовать его убедить. Ты должна это сделать».
— Ну, Истбурн — приятное местечко, — заметил веснушчатый. — Там ваша хозяйка быстро найдет себе компанию и забудет про все свои невзгоды.
— Ой, да не любит она никаких компаний. Выберет себе кого-то одного и повиснет на шее, пока тот не сбежит. Потом берется за следующего. Она у нас молоденьких любит. Сама не своя до них.
Когда стало ясно, что ничего нового от девушки уже не услышишь, веснушчатый служака поднялся, похвалил чай и поблагодарил за гостеприимство.
— Не стоит благодарности, — отозвалась девушка и добавила: — Послушайтесь моего совета, оставьте вы эту продажу писчей бумаги. По нынешним временам, пустое это занятие. Слишком старомодное. Лучше наберите такой товар, как вот у него, всякие финтифлюшки, из тех, чем торгуют под Рождество.
При этих словах веснушчатый кинул иронический взгляд на покоившийся среди рождественских «финтифлюшек» кинжал.
— Тебе отсюда в какую сторону, приятель? Направо — налево? — обратился он к сотоварищу.
— Направо.
— Ну тогда пока. Я пошел. Еще раз спасибо за угощение, мисс.
Минут через пять, после того как за ним закрылась дверь, встал и лоточник.
— На вашем месте, мисс, я бы поостерегся приглашать на чай каждого встречного, — ворчливо проговорил он. — Среди нашего брата много честных парней, но и прощелыги тоже не редкость. Когда одна в доме, надо быть начеку.
— Уж не приревновали ли вы меня к этому, в веснушках? — кокетливо и отнюдь не испуганно проговорила девушка. — Зря вы так. Ведь я у него не стала покупать бумагу.
— Ладно, ладно, — пробурчал лоточник, как человек, оскорбленный в своих лучших чувствах, и, шаркая, направился к выходу.
По чистому совпадению он сел как раз в тот автобус, где на переднем месте у окна устроился веснушчатый.
— Эй, друг! — весело приветствовал он собрата по ремеслу. — Каков у тебя выдался денек?
— Поганый. Просто из рук вон плохой. А у тебя?
— Вполне сносный. Не перестаешь удивляться, — продолжал он, глядя на опустевшую остановку, от которой только что отошел их автобус, — до чего глупы эти девчонки! Ведь мы спокойно могли ее убрать и обчистить весь дом, а ей это даже в голову не пришло!
— Как раз это я и пытался ей внушить перед уходом, а она решила, будто я ее к тебе приревновал.
— Ко мне? Скорее бы я должен быть в обиде. Ведь она у меня даже бумагу не купила.
— Именно это она мне и сказала.
— Хороший у тебя товар. Босс сам выбирал?
— Сам.
— Так я и думал. Он у нас — что надо! Чего он там вынюхивает?
— Не знаю.
— Как я заметил, девчушка-то нож не признала.
— Не признала, верно, — односложно ответил торговец.
— Ну и разговорчивый ты! — разочарованно заметил тот, что в веснушках.
Пошарив по карманам, он извлек откуда-то две сигареты и предложил одну своему спутнику. Лоточник не торопясь взял ее, но, когда увидел, что она из тех хозяйских сигарет, которыми угощала их служаночка, его хмурое лицо расплылось в улыбке.
— Вот прохиндей! — воскликнул он, прикуривая.
Однако рапорты, которые Симпсон и Маллинз представили Гранту часом позже, были написаны по-деловому и содержали лишь самую необходимую информацию. Симпсон сообщил, что мистер и миссис Рэтклиф в целом ладили между собой, хотя случались и скандалы. Симпсону не удалось установить точно, что являлось причиной таких скандалов — то ли какие-то проступки мистера Рэтклифа, то ли его недовольство женой. Горничная не бывала свидетельницей начала ссор. Обычно они происходили за закрытыми дверями. Самый большой шум был после их возвращения домой в вечер убийства. С тех пор отношения между ними так и не наладились. Миссис Рэтклиф на следующий день собиралась в Йоркшир, но потом слишком расстроилась и туда не уехала. Зато сразу после дачи показаний они с сестрой отправились в Истбурн, где жили в Гранд-отеле по сию пору. Она склонна к внезапным безрассудным увлечениям и тогда становится особенно капризной.
У нее есть свои, правда небольшие, средства, так что в материальном отношении она от мужа не зависит.
Маллинз сообщал, что ему стоило немалого труда добиться того, чтобы в доме девяносто восемь миссис Эверет хотя бы отворила дверь и позволила ему показать свой товар. Она утверждала, будто ничего не желает покупать. Первое, на чем она остановила свой взгляд, был кинжал. После этого она взглянула на него с явным подозрением, велела ему уходить и захлопнула перед его носом дверь.
— Каково ваше впечатление? Она его узнала?
В этом Маллинз не был уверен, хотя ясно одно: именно вид кинжала заставил ее захлопнуть дверь. До этого момента она была склонна его впустить. Зато горничная на Лемонора-Роуд никогда прежде этого предмета не видела. Тут Маллинз не сомневался.
Грант отпустил Маллинза, запер кинжал в ящик стола и долго сидел задумавшись. Какой неудачный, нескладный вышел день! Арест не произведен, хотя, возможно, это и к лучшему; затем — поразительное открытие, что Соррел и в самом деле собирался отправиться в Америку. След банкнот общей суммой в двести двадцать три фунта — включая сюда и двадцать пять фунтов, пересланных неизвестным другом, — так и не обнаружен. Со дня убийства прошла целая неделя, а деньги были выплачены еще за десять дней до этого — и ни одной купюры, кроме тех, что уже лежали у них, больше не объявилось. Мало того, оба его агента вернулись почти с пустыми руками.
Установить какую-либо связь между миссис Рэтклиф и Соррелом не удавалось никоим образом. Грант начинал думать, что их имена в списке пассажиров, так же как и то, что они стояли в одной очереди, было чистой случайностью. Выражение растерянности на лице ее мужа, когда Грант упомянул об ее отъезде в Нью-Йорк, можно было объяснить просто тем, что он забыл сказать об этом инспектору при первом разговоре. Что до миссис Эверет, то ее внезапный отказ впустить торговца свидетельствовал скорее о ее сообразительности, чем о виновности. Маллинз сказал, что она взглянула на него с подозрением. Она не пыталась делать вид, что не заметила кинжала; с другой стороны, особого к нему интереса тоже не проявила. Она просто заподозрила неладное. Грант решил, что эта госпожа Эверет умнее, чем ему показалось вначале, но что она никак не соучастница преступления. Чету Рэтклифов временно придется оставить в покое. Они не вписывались никуда, и никаких улик против них не было. Случалось так, что по разумению полиции все как бы сходилось, но недоставало улик. Однако в данном случае не было ни того, ни другого, и, соответственно, с этой парой придется повременить. Тем временем он постарается выяснить, почему миссис Рэтклиф сказала горничной, что едет в Йоркшир, когда на самом деле собиралась за океан.
Зажужжал телефон. Грант с непонятным для себя волнением взял трубку. Звонил Уильямс.
— Мы отыскали его, сэр. Приедете или нам приступать самим?
— Это где?
Уильямс объяснил.
— Все выходы под контролем? Ничего не сорвется, если вы немного подождете?
— Нет, сэр, не беспокойтесь. Он никуда не денется.
— Тогда встретите меня на Акр-лейн, у того конца, что выходит на Брикстон-Роуд, через полчаса.
Прибыв на место, инспектор попросил рассказать обо всем поподробнее, что Уильямс и сделал, пока они шли до места. Оказывается, он обнаружил разыскиваемого через агента по найму квартир. За три дня до убийства Ламонт снял маленькую двухкомнатную квартиру в мансарде и переехал туда утром, в день убийства.
«Ну да, — подумал Грант, — это совпадает с заявлением миссис Эверет».
— На чье имя он снял квартиру?
— На свое.
— Что?! — не веря своим ушам, воскликнул Грант. — На свое собственное? — Он на минуту замолчал, испытывая какое-то смутное беспокойство, потом встряхнулся и проговорил: — Хорошо поработали, Уильямс, быстро вы его выследили. Пугливая нам попалась птичка, а?
— Что да, то да! — с чувством воскликнул Уильямс. — До сих пор не удается найти человека, который бы его видел. Пугливая, это уж точно! Мы уже пришли, сэр. Дом вон тот, четвертый от нас.
— Хорошо, — сказал Грант. — Мы с вами поднимемся вместе. На случай чего, пугач у вас при себе? Ладно, пошли.
Ключа у них не было, а звонок для третьего этажа явно не предусматривался. Им пришлось долго звонить на первый этаж, пока кто-то из недовольных жильцов все-таки их впустил. По мере того как они в полутьме взбирались по лестнице, с каждым пролетом делавшейся все грязнее, Грант стал ощущать, как к нему возвращается хорошее настроение, что бывало всегда, когда предстояло действовать. Время размышлений и проволочек подошло к концу. Сейчас он встретится с Даго лицом к лицу; с человеком, которого видел на Стренде; с человеком, который убил Соррела ударом ножа в спину. Он нетерпеливо постучал в едва различимую в полумраке дверь. Никакого результата. В комнате за дверью стояла глухая тишина. Грант постучал еще раз. Ни звука.
— Лучше откройте сами, Ламонт, — произнес он. — Здесь полиция, если не откроете, мы взломаем дверь.
Молчание.
— Вы уверены, что он тут? — спросил Грант у Уильямса.
— Вчера он точно был здесь, и с тех пор его никто не видел. Дом находится под наблюдением с трех часов дня.
— Тогда вышибаем дверь. И не забудьте податься назад, когда она будет падать.
Объединив усилия, они атаковали дверь. С протяжным стоном и треском та уступила в этой неравной схватке, и Грант, держа руку с оружием в правом кармане, шагнул в комнату. Одного взгляда вокруг ему было достаточно. Внезапно он понял, что, уже стоя на площадке, предвидел, что найдет комнату пустой.
— Птичка улетела, Уильямс. Мы его упустили.
Уильямс растерянно топтался посреди комнаты, словно ребенок, у которого отобрали лакомство. Он сделал судорожный глоток, и Гранту, несмотря на собственное разочарование, стало его жаль. По сути дела, это была не его, Уильямса, вина. Он немного переоценил свои силы, но свою работу сделал хорошо: быстро нашел преступника.
— Сами видите, сэр, он уходил в спешке, — сказал Уильямс, как будто это обстоятельство могло уменьшить разочарование и восстановить его профессиональную гордость.
Действительно, следы поспешности были очевидны: брошенная еда, выдвинутые ящики, в которых все было перевернуто вверх дном, одежда и масса личных вещей. Это выглядело не как заранее запланированный отъезд, а как бегство.
— Сейчас мы просмотрим все, что он оставил, — сказал Грант. — Прежде чем зажигать свет, я займусь отпечатками пальцев. Похоже, здесь только одна лампа.
Достав специальный порошок, он проверил обе комнаты, но в квартирке оказалось совсем мало плоских поверхностей, где остается обычно целый, хорошо узнаваемый отпечаток, а имевшиеся вещи были так заляпаны множеством рук, что заниматься ими не представлялось целесообразным. Однако два ясных отпечатка все же нашлись — высоко на дверной панели, где касались правой рукой, когда снимали с вешалки пальто. Несколько утешенный, Грант включил свет и перешел к осмотру вещей. Это занятие было прервано восклицанием находившегося в спальне Уильямса. Грант прошел туда и увидел в руках сержанта пачку банкнот.
— Нашел в глубине ящика, сэр! Вот уж действительно спешил! — с торжеством проговорил Уильямс. Находка явилась настоящим бальзамом для его израненной души. — Вот уж, наверное, сейчас кусает себе пальцы!
Грант между тем отыскал у себя в записной книжке номера купюр, которые ему сообщили в банке. Сравнив их с найденными, он убедился, что действительно это были деньги, полученные Ламонтом по чеку Соррела. И Ламонт так торопился, что забыл их захватить?! Вся сумма была здесь, кроме двадцати пяти фунтов, присланных на похороны. Это выглядело более чем странно. Отчего Даго — Грант все еще про себя называл его так, — отчего Даго в течение десяти дней еще до убийства не истратил из них ни цента? Тогда ведь он мог делать это без всякой опаски. Купюры были крупные, но это никак не могло служить объяснением. Он лично получал деньги в банке и мог попросить мелкими. Почему он их не истратил?
Больше ничего, особо заслуживающего внимания, они в квартире не нашли. Видимо, литературные вкусы у Даго были, как у всякого доброго католика, подумал Грант, рассматривая ряд книг на каминной доске: Уэллс, О. Генри, Бакен, Оуэн Уистер, Мэри Робертс Рейнхарт, томик стихотворений Сассуна, многотомное издание ежегодного справочника по скачкам, «Маленький министр» Барри. Он взял с полки одну из книг. На заглавном листе почерком, уже знакомым ему по банковскому чеку, было написано имя владельца: «Альберт Соррел». Грант просмотрел их все, одну за другой. Большая часть книг принадлежала Соррелу. Очевидно, Соррел подарил их Ламонту перед отплытием в Америку. Значит, эти двое до последней минуты оставались друзьями. Что же произошло? Может, Ламонт всегда был змеем, затаившимся в траве?
Теперь предстояло выяснить, где скрывается Ламонт. Куда он скорее всего мог направиться?
Он торопился, отчаянно торопился. Он не предполагал, что придется бежать отсюда. Это значило, что ему пришлось воспользоваться первым попавшимся шансом. Вероятность побега за границу под чужим именем, искусно изменив внешность, равнялась нулю. Наверняка этого он делать не стал. И почти наверняка не уехал из Лондона. По всей вероятности, он, как крыса, будет искать место, которое уже знает.
Грант оставил инструкции продолжать поиски, а сам вернулся в Ярд. Он попытался поставить себя на место преследуемого. Была уже глубокая ночь, и он устал до смерти, когда наконец-то ответ был найден. Ему принесли снимки отпечатков с двери, и оказалось, они принадлежат миссис Эверет! Сомнений быть не могло: большой палец с фотографии Соррела из дома на Брайтлинг Крисчент принадлежал той же руке, на которую опирались, потянувшись за чем-то в комнате Ламонта. Миссис Эверет! Святые небеса! Вот тебе и змей, затаившийся в траве! Нет, ему, Гранту, пора, видно, на пенсию. Он стал слишком доверчив. Невероятно, унизительно, но он поверил в прямоту миссис Эверет! То, что он установил за ней слежку, было простой формальностью. Ладно, хоть он и совершил оплошность, зато теперь у него есть нить к Ламонту. Грант доберется до него. Доберется через миссис Эверет. Грант не сомневался ни минуты, что именно информация миссис Эверет спровоцировала Ламонта на бегство. Вероятно, она бросилась к нему сразу после его вечернего посещения. Она вышла прежде, чем прибыл посланный им для наблюдения человек, хотя он должен был увидеть, как женщина возвращалась. Придется этим заняться. Эндрюз явно проявил небрежность. Скорее всего, она сама же и нашла для Ламонта новое убежище.
Он не верил, что женщина с подобным интеллектом сделает такую глупость, что спрячет его у себя на Брайтлинг Крисчент. Следовательно, теперь ему надлежало выяснить все о самой миссис Эверет, а также все, связанное с ее родственниками. Как к ней подобраться? С какой стороны подступиться к женщине ее темперамента, женщине добродетельной и скрытной? Она явно не принадлежала к типу сплетниц, к тому же теперь она была настороже. Попытка спровоцировать ее на то, чтобы она как-то выдала себя, оказалась ошибочной и не принесла никакого результата. Ему следовало бы сообразить, что она не из тех, кто болтает с торговцами у задних дверей. Что же тогда остается? В чьем обществе и в какой среде миссис Эверет стала бы откровенничать — если вообще она на это способна? Грант попытался представить ее в окружении разных людей, но ничего не получалось. Неожиданно он нашел, что ей подходило больше всего: церковь! На ней было написано, что она добрая прихожанка. Наверняка к ней там относятся с уважением, но без особой симпатии из-за того, что она не интересуется чужими делами. Это достоинство обычно не пользуется популярностью среди наиболее деятельной части прихожан. Поделившись с ближним лакомым кусочком в виде слуха о чьем-то банкротстве, член паствы всегда рассчитывает получить взамен такой же, не менее лакомый кусочек информации. У прихожан наверняка сложилось свое мнение о миссис Эверет, и поскольку вряд ли к ней относятся с симпатией, то тем охотнее будут судачить о ее делах.
Думая о том, кого бы подослать в церковь, которую посещает миссис Эверет, Грант наконец заснул.
Глава десятая
БРОСОК НА СЕВЕР
— Симпсон, кем вы были вчера, когда добывали сведения о Рэтклифах? — спросил Грант.
— Отставником, торгующим писчей бумагой, сэр.
— Прекрасно, можете им остаться и на сегодня. Но только держитесь с достоинством, чисто выбрейтесь, и — никаких шарфов. Чистый белый воротничок. Ищете работу. Мне нужно выведать все о миссис Эверет, проживающей в номере девяносто восемь по Брайтлинг Крисчент возле Фулхэм-Роуд. Только никаких расспросов по соседям. Ее легко спугнуть, а это нельзя допустить. Вам следует действовать осторожно. Похоже, она усердно посещает церковь. Попытайте там счастья. Это, по-моему, место самого большого скопления сплетен, за исключением клубов. Для меня важно выяснить, где живут ее родственники и близкие друзья; ее корреспонденция пусть вас не беспокоит. За этим я сам прослежу. Думаю, это мало что даст. Хорошенько запомните: миссис Эверет не вчера родилась. Если она вас разоблачит, придется вас заменять кем-то другим, и многообещающая нить расследования будет порвана. Как только что-нибудь разузнаете, дайте мне знать, только не приходите сюда, а звоните.
Вот как случилось, что мистер Келдикот, священник брайтлингского церковного прихода, вспотевшими руками толкая по газону кашляющую травокосилку и вздыхая о том, что мартовское солнце чересчур щедро проливает свои благословенные лучи, вдруг заметил, что за его подвигами со смесью зависти и сочувствия наблюдает незнакомец. Видя, что на него обратили внимание, он приложил руку к козырьку, видимо из уважения к священническому облачению, и произнес:
— Тяжелая работа для такого жаркого дня, сэр. Разрешите помочь?
Однако священник был совсем не стар, к тому же любил показать, что не гнушается простым физическим трудом, и поэтому, мужественно улыбнувшись, ответил:
— Разве похоже, друг мой, что такая работа мне не по плечу?
— Что вы, сэр. Я совсем не это хотел сказать. Просто хотелось бы заработать пару монет.
— Вот оно что! — понимающе откликнулся мистер Келдикот с искрой профессионального интереса. — Вы нуждаетесь в заработке?
— Так точно, сэр.
— Женаты?
— Нет, сэр, не женат. — Симпсону хотелось добавить: «И слава Богу», но он вовремя остановился.
— Какую работу ищете?
— Любую.
— Понятно. Но ведь чему-то вас наверняка обучили?
— Я умею тачать башмаки, сэр, — ответил Симпсон, посчитав, что в данном случае правда ему не помешает.
— Знаете, наверное, действительно будет более разумным, если вы подстрижете траву, а я займусь своими неотложными делами. Скоро час. Заходите в дом, давайте сначала вместе перекусим.
Но это как раз устраивало Симпсона меньше всего. Ему нужна была кухня, а не пасторские разглагольствования за обеденным столом. С прекрасно разыгранным смущением он покрутил ручку косилки, за которую уже с готовностью взялся, и, запинаясь, сказал:
— Если вам это без разницы, сэр, я бы лучше пожевал чего на кухне.
— Что вы, пойдемте, пойдемте, — запротестовал, умиляясь собственному великодушию, святой отец, за что Симпсон был готов его стукнуть, опасаясь, как бы драгоценная возможность услышать кухонные сплетни не уплыла от него совсем.
— Очень вас прошу, сэр! — выговорил он с таким глубоким чувством, что священник сдался.
— Ладно, будь по-вашему, — сказал он обиженно: не он ли в полной мере продемонстрировал чувство братской солидарности, равнодушие к социальным условностям и остался непонятым?! Он ушел, но вскоре вернулся и под предлогом познакомиться с Симпсоном поближе (отнюдь не в духе всеобщего равенства и братства он отнес Симпсона к категории тех, кто «знает свое место») — путался у Симпсона под ногами до самого ланча, с удовольствием болтая на интересующие его темы. О войне — он был военным капелланом в Руане; о рассаде, о лондонской копоти, об обувной коже — последняя тема должна была, как он полагал, особенно интересовать его собеседника; о трудностях привлечения молодежи в церковь. Когда он поведал Симпсону, что его последняя проповедь была посвящена тому, что Господь, мол, не одобряет азартных игр и, следовательно, человек, принимающий в этом участие, грешит против своей совести, против своего ближнего и оскорбляет Господа, то Симпсон перестал удивляться немногочисленности молодежной паствы в приходе мистера Келдикота.
— Вот вы — человек молодой, — горячился пастор. — Вы можете мне объяснить, почему молодежь не идет в церковь?
Но Симпсон, решивший во что бы то ни стало пробыть в этом доме целый день, уклонился от прямого ответа и лишь печально покачал головой, выражая суровое неодобрение подобным поведением. Угрызения совести по поводу того, что лишь на этой неделе полкроны из его жалованья он просадил на букмекеров, вместо того чтобы позволить денежкам уплыть в руки вершителей судеб страны, заставили его с завидным рвением приналечь на работу. Однако он был доволен, когда в доме прозвучал гонг и святой отец, одарив его благословением, позволил удалиться в направлении кухни. Желание, наконец, начать свою игру влекло туда Симпсона куда сильнее, чем здоровый аппетит.
У пастора, который, как выяснил Симпсон, был убежденным холостяком, было две прислуги. Одна — экономка, она же кухарка, другая — приходящая, тонкая, как жердь. Обе были несказанно рады появлению такого представительного мужчины, и за свой обеденный перерыв Симпсон набрал больше сведений о житье-бытье прислуги городских окраин, чем если бы сам прожил здесь со дня своего рождения. Однако, помимо того что миссис Эверет — вдова и задирает нос, потому что ее отец был пастором, он не узнал ничего. На вопрос, служил ли отец миссис Эверет в здешнем приходе, ему ответили, что, мол, нет, где-то на севере. Наверное, в какой-нибудь Богом забытой дыре, где и машин-то не видели сроду. По мнению кухарки, миссис Эверет посещает все церковные собрания вовсе не потому, что жить не может без церкви, а для того, чтобы все помнили: она — дочь священника. Раздумывая над этим поистине поразительным объяснением возможных мотивов человеческого поведения, Симпсон вернулся к своей работе, которая быстро приближалась к концу. Тут и нашел его пастор. Сегодня у них в церкви очередное собрание, может и Симпсон хочет к ним присоединиться? Симпсон с неподдельной благодарностью принял его приглашение. Тогда не поможет ли Симпсон перенести стулья и всякую мелочь из церкви в зал, где будет происходить собрание? Он смог бы заняться этим после дневного чая. Дамы из церковного совета уже будут на месте. Как раз этих-то дам и жаждал повстречать Симпсон, поэтому он снова заверил пастора, что выполнит его просьбу с величайшим удовольствием.
До четырех часов Симпсон стриг газон и болтал то с экономкой, то со служанкой, которая всякий раз придумывала новый предлог, чтобы переброситься словечком, при этом не очень-то заботясь, верит ли он ее выдумкам; затем они пили чай — более продуктивный с точки зрения информации, чем на Лемонора-роуд, однако и более скучный из-за отсутствия его коллеги. Только после этого Симпсон проследовал в церковь. Здание церкви он приметил заранее. Оно было из красного кирпича, настолько совершенное в своем уродстве, что исключало всякую мысль о непродуманности замысла. Желто-коричневые и ультрамариновые стекла витражей в этот сумрачный час, слава Богу, не столь резали глаз, как при дневном свете, однако ярко освещенный церковный зал выглядел и без того достаточно уродливо. По его пространству металось несколько женщин. Они суетливо бегали туда-сюда, как курицы, — шумно и без всякого толку, поскольку стоило одной из них что-то предложить, как другие тут же вносили свои изменения, после чего немедленно начиналась общая дискуссия. Эти споры длились бесконечно и способны были вывести из терпения любого нормального человека, так как сопровождались постоянными неискренними извинениями всех участниц друг перед другом. Понаблюдав за ними некоторое время от дверей, Симпсон, так же как и в случае с мистером Келдикотом и его травокосилкой, почтительно снял головной убор и сделал шаг вперед, так что его наконец заметили. На вопрос, что ему нужно, он объяснил, что егоприслал им в помощь преподобный мистер Келдикот. Немедленно он оказался в центре всеобщего благосклонного внимания. Настолько благосклонного, что неожиданно для себя Симпсон преисполнился сознанием собственной значимости — чувством, абсолютно несвойственным человеку, работающему в Скотланд-Ярде. Правда, этому чувству не суждено было укорениться: оно растворилось как дым при встрече с его коллегами и соперниками в деле сыска. Рассказывая Маллинзу с глазу на глаз о своих церковных впечатлениях, он употребил некое цветистое выражение, которое я не берусь повторить; могу лишь сказать, что благодаря ему Маллинз прекрасно представил себе, с какого типа публикой Симпсону пришлось пообщаться в тот вечер. В целом же Симпсон, по совершенно непонятной для меня причине, был чрезвычайно недоволен проведенным в церкви вечером и самим собой. Казалось бы, рыжеватые волосы и веснушки непременно делают человека жизнерадостным — против такого сочетания невозможно устоять. Может, на него угнетающе подействовала розовая с малиновым отливом окраска стен? Это могло ранить чувствительную душу, но не душу Симпсона. К тому же Симпсон без сомнения был среди них самой популярной особой мужского пола; что до нужной информации, то она просто валялась под ногами — нагнись и бери. И все же факт остается фактом: когда Симпсон исполнил свою роль и Маллинз передал, что босс очень им доволен, лицо Симпсона искривила гримаса, никак не шедшая к рыжим волосам и веснушкам, и он огрызнулся — нет, правда, по-настоящему огрызнулся, резко бросив: «Зато уж я и натерпелся!»
Собрание окончилось в приличествующее случаю время — в девять сорок пять, и Симпсон, вновь ублажив дам своей расторопностью, отправился провожать домой ту из них, которая казалась ему самой злостной сплетницей и святошей, что не помешало ей согласиться с его галантным предложением.
На следующее утро ко встрече с Грантом у Симпсона была полная информация о миссис Эверет.
Миссис Эверет была родом из Шотландии. Отсутствие у нее акцента объяснялось отчасти тем, что она прожила в Лондоне четверть века, отчасти же тем, что она родилась на западном побережье. Ее отец был пастором Малой Церкви в деревушке близ Росса; там же в настоящее время имел приход и ее брат. Девичья фамилия ее была Логан, она овдовела пятнадцать лет тому назад, детей не имела. Ее действительно не очень любили, потому что она не отличалась общительностью, но была всеми весьма уважаема.
Даже тот факт, что она сдавала комнаты двум букмекерам, не поколебало ее высокого престижа в глазах членов брайтлингсайдской конгрегации. Соррел поселился у нее сразу после демобилизации, а тогда он еще не был букмекером, и, следовательно, миссис Эверет не могли обвинить в том, что она намеренно предоставила свое жилье в распоряжение человека с порочными наклонностями. Никто из членов общины в глаза не видел обоих постояльцев. Насколько понял Грант, к ним заочно относились как к своего рода прокаженным, однако пересуды по их поводу шли бесконечно, поскольку для добродетельных нет более захватывающей темы, чем порок. Таким образом, люди, о самом существовании которых ни Соррел, ни Ламонт и понятия не имели, знали о каждом их шаге. Эти двое — как и говорила миссис Эверет, которая, судя по всему, никогда не лгала в тех случаях, когда это можно было легко проверить, — повсюду были неразлучны. Ни один не имел «постоянной подружки». Оба, по брайтлингсайдским стандартам, очень хорошо одевались, и миссис Эверет на них надышаться не могла и все для них делала… В Лондоне у миссис Эверет вроде как родни не было, но раз в год она обычно ездила в Шотландию, и, если ее постояльцы в это время оставались в городе, она договаривалась с кем-нибудь, чтобы они не терпели никаких неудобств в ее отсутствие.
Когда так много претерпевший ради правого дела Симпсон наконец закончил свой рапорт и покинул кабинет, Грант вызвал к себе всех, кто дежурил в ночь на понедельник на вокзалах Кингз-Кросс и Юстон, и затребовал описать всех более или менее подозрительных. Едва дежуривший на Кингз-Кросс стал рассказывать о молодом человеке и его матери, Грант насторожился и попросил подробнее описать мать, что и было исполнено с предельной точностью.
— Еще кого-нибудь заметили? — спросил он.
«О да, не одного и даже не двух, а гораздо больше» — был ответ. Сыщик не без горечи заметил далее, что, похоже, все скуластые, смуглые, худые мужчины родом из Шотландии, потому что поезд ими был прямо-таки битком набит.
— Почему вы решили, что это не тот, кто нам нужен?
— По его поведению, сэр. И по поведению женщины. И чемодан на полке был повернут так, что инициалы на нем были ясно видны, «Дж. Л.». Потом, у него с собой была сумка для гольфа, и держался он вполне естественно.
«Ай да миссис Эверет! Молодчина! — сказал про себя Грант. — Про сумку для гольфа, конечно, подумал не тот, кто забыл деньги в ящике комода». Грант усомнился, что чемодан с инициалами был оставлен для всеобщего обозрения специально. Вряд ли кто-нибудь стал бы без всякой на то необходимости подвергать риску все предприятие, сознательно пойдя на такой глупый блеф. Скорее всего это простая случайность.
— Куда же он направился?
— На багаже пункт назначения обозначен не был, но контролер сообщил, что билет у него до Эдинбурга.
Гранту не потребовалось много усилий, чтобы выяснить, куда именно направлялся молодой человек. Среди шотландских церковников оказалось не так уж много Логанов, и лишь один имел приход в Россшире. Изменив суровому вероисповеданию своих отцов, он служил в настоящее время пастором Свободной Униатской Церкви в Карниннише — деревушке, которая располагалась на западном побережье, там, где начинался лох.
— Я отправляюсь в Шотландию на рыбалку, — объявил Грант, входя в кабинет к Баркеру. — Денька на два-три.
— Могли бы найти и более привлекательное место, чтобы подлечить свое уязвленное самолюбие, — откликнулся Баркер, которому уже было известно о провале с арестом.
— Мог бы, зато там настоящая рыба водится. Вот мой приблизительный адрес. Думаю, в два дня уложусь.
— Кого-нибудь с собой берете?
— Нет.
— А лучше бы взять. Представьте себе на минутку, что такое сельский страж порядка.
— А что? В крайнем случае, он возьмет рыбу голыми руками. Хотя, надо надеяться, до этого не дойдет. Правда, мне может понадобиться человек, чтобы доставить эту рыбу в Лондон.
— Хорошо, я распоряжусь. Когда едете?
— Сегодня в семь тридцать вечера с Кингз-Кросс; утром около десяти буду уже в Инвернесс. Куда потом — сообщу.
— Ладно. Хорошего улова! Только сами не попадитесь на собственный крючок.
Значительное время у Гранта отняла организация поиска в городе на время его отсутствия. У него не было никаких гарантий, что человек, уехавший в Карнинниш, был именно Ламонтом. Грант сам отправлялся следом за ним лишь потому, что был единственным, кто знал Ламонта в лицо. Так что поиски в Лондоне должны продолжаться. Возможно, вся эта затея с поездкой в Карнинниш разыграна лишь для отвода глаз. Миссис Эверет нельзя было отказать в изобретательности.
Покуда он складывал снасти и искал подходящую одежду, появилась миссис Филд — с сандвичами и наставлениями. Первые он попытался отклонить под предлогом, что в поезде ему подадут вечером полный обед, а утром — прекрасный завтрак.
— Все это хорошо, — отозвалась она, — но подумайте, какая вам предстоит долгая ночь. Проснетесь среди ночи, захотите поесть — а тут и сандвичи; глядишь, так и время быстрее пройдет. Они с курицей. Бог знает, когда еще в ближайшие дни вам доведется поесть куриного мяса. Ужасно бедная страна эта Шотландия. Чем только вы там будете питаться — одному Богу известно!
Грант сказал, что в этом отношении теперь Шотландия ничем не отличается от других районов страны, только там более красиво.
— Насчет красоты не знаю, — ответила миссис Филд, решительно засовывая сандвичи в карман его сумки, — зато знаю другое: моя кузина однажды была там в услужении, поехала туда из Лондона вместе с хозяевами, — так во всей округе ни одного жилого дома, кроме как их собственного, не было; и — ни кустика, ни деревца. А местные даже представления не имеют, что такое кекс, — у них там одна булка.
— Надо же, дикость какая! — заметил Грант, любовно укладывая в чемодан свой старый твидовый костюм.
Как только состав, пыхтя, выплыл из вокзала, Грант углубился в изучение крупномасштабной карты округа, где находилось селение Карнинниш. Приятно было снова обратиться к этому занятию. При мысли, что ему придется преследовать преступника на открытых просторах вне города, он испытал знакомый азарт. Это представлялось занятием более естественным, более человечным что ли, чем охота с применением всех технических средств безликого административного механизма, бесшумно сжимавшего и разжимавшего свои стальные щупальца на берегах Темзы. Человек один на один со своим противником — это совсем иное дело. Единственный телефон и тот в центральном почтовом отделении. И никаких помощников, которых можно выслать на задержание. Тут твоя смекалка — против его, и, возможно, твое оружие — против его. Хотя Грант от всего сердца надеялся, что до этого не дойдет. Судить мертвеца? Какой от этого прок? К тому же, в любом случае в Скотланд-Ярде не одобряли применение крайних мер. Нужно действовать осторожно и не спешить. Преследуемый, вероятно, добрался до места лишь к вечеру предыдущего дня. Чем больше у него будет времени пообвыкнуть, тем менее пугливым он станет. Поначалу ему наверняка за каждым камнем будет мерещиться сыщик, но, по мере того как он будет привыкать к местности — а Грант хорошо представлял себе эти места и их полную оторванность от внешнего мира, — у него возникнет обманчивое чувство безопасности.
Грант снова обратился к карте. Деревушка Карнинниш располагалась вдоль правого берега реки Финлей, как раз у ее впадения в лох Финлей. Примерно в четырех милях южнее в материк вдавался еще один лох, и на его северном берегу было расположено еще одно селение, явно более обширное, — Гарни. Таким образом, Карнинниш находился на северной оконечности материка, а Гарни — на южной; расстояние между ними по суше было мили четыре плохой дорогой через холмы. Грант решил остановиться в Гарни — там была гостиница, по слухам даже с ванной комнатой. Под предлогом рыбной ловли оттуда он сможет незаметно вести наблюдение за Карниннишем. Грант просидел над картой до глубокой ночи, пока не изучил местность так, словно бывал там не один раз. Из печального опыта ему было хорошо известно, что можно прекрасно изучить карту, но, прибыв на место, столкнуться с самыми неприятными сюрпризами, однако его успокаивало то, что впредь он будет знать местность наверняка лучше человека, на которого охотился.
Утро одарило его ни с чем не сравнимой радостью. Он открыл глаза, через верхнюю половину окна увидел медленно проплывающие коричневатые пустоши и услышал мирное перестукивание колес поезда, все дальше проникавшего в Грампианские горы. Одеваясь, он ощущал, как его овевает освежающе-холодный, прозрачно-чистый воздух, а за завтраком наблюдал, как просторы, словно окрашенные темной охрой на фоне голубого неба и ослепительных снегов, мало-помалу сменяются сосновыми рощами; на склонах гор их темные, с равными промежутками расположенные массивы издали напоминали заплаты. Потом пошли березы — березы, которые то спускались по склонам, сопровождая бегущий ручей, то раскидывали свои воздушные, непередаваемого нежно-зеленого цвета шали, образуя небольшие рощицы с только что пробившейся у подножия деревьев травой. А дальше, когда поезд снова пошел на спуск, внезапно опять открылись поля — широкие ровные поля в долинах и маленькие, каменистые, прилепившиеся к склонам невысоких гор. Потом — озера и реки и зеленеющие просторы. Пока поезд, торжествующе сотрясаясь и гремя, поглощал последние мили до Инвернеса, Грант, стоя в коридоре, думал о том, как воспринял эти пейзажи его беглец — типичный лондонец, вероятно впервые оторванный от своих улиц, лишившийся привычной защиты и виде стен зданий и замков. Воскресные речные прогулки едва ли подготовили его к темным стремнинам, поджидавшим его здесь, на западной оконечности страны; точно так же, как и относительная пустынность сэррейских лугов и выгонов — к щемящему чувству полной изоляции, которое вызывали уходившие к горизонту пространства болот. Не раскаивается ли он в своем побеге? Интересно, что у него за характер. По словам миссис Эверет, из двоих именно он был наиболее общительным и веселым. И только-то? Что в нем было еще, кроме общительности и жизнерадостности?
Ради достижения пока ему одному известной цели он оказался способен убить человека ударом ножа в спину, однако это отнюдь не говорило о том, что он лишен чувствительности. А для чувствительного человека, человека с воображением сознание того, что в этом краю он в полном одиночестве, без чьей-либо помощи и его преследуют, может показаться страшнее одиночной камеры за семью замками. В старой доброй Англии «уйти в горы» означало скрыться от правосудия и, как говорили ирландцы, «податься в бега». Но цивилизация положила этому конец. Из тысячи преступников едва ли найдется хоть один, кто решится, спасаясь от закона, бежать в Шотландию или Уэльс. Современному беглецу требовались приличный кров и пропитание; пещеры и заброшенные шалаши давно вышли из моды. Не пообещай ему миссис Эверет надежное убежище, Ламонт ни за какие коврижки не покинул бы Лондона, — в этом Грант был уверен. Что же он испытал, когда увидел, куда его занесло?
В Инвернесе Грант покинул свое уютное купе, пересек платформу и сел в маленький местный паровичок; всю первую половину дня этот старожил вновь вез его от зеленеющих полей в бурые пустоши — те самые, что открывались его взору поутру. Дальше и дальше на запад увозил его паровичок, то и дело делая непонятные остановки возле крошечных платформ, расположенных непонятно для чего посреди огромных пустошей без малейших следов человеческого обитания. Уже во второй половине дня Грант высадился на маленькой, занесенной песком станции, и поезд проследовал дальше в самую глушь уже без него. Здесь ему объяснили, что нужно пересесть на почтовый микроавтобус. До Карнинниша оставалось еще тридцать шесть миль, и, если повезет, к восьми вечера он должен прибыть на место. Все будет зависеть от того, что им повстречается на пути. Тому всего две недели, как у Энди, шофера, встречный грузовик начисто оторвал правое переднее колесо, а левое у него в колее засело, да так, что не вытянуть.
Гранта провели через помещение кассы, и позади станции, на маленьком мощеном дворике, он узрел некое сооружение, в котором ему предстояло путешествовать следующие пять часов и которое, если повезет, должно было доставить его в Гарни. Это был самый настоящий драндулет. Сразу за сиденьем водителя располагались три скамьи, из таких, какие принято ставить в исповедальнях и тюрьмах. Их долженствующую ускорить раскаяние жесткость слабо компенсировали набитые, похоже, опилками подушки, обшитые брезентом. К своему немалому изумлению, Грант обнаружил, что кроме него еще пять человек собираются ехать этим же видом транспорта. Грант стал было расспрашивать, нельзя ли здесь нанять автомобиль, однако выражение лиц его будущих спутников убедило его не только в тщетности этого намерения, но и в том, что оно было расценено как отсутствие у него какого бы то ни было такта. Здесь не привыкли с презрением относиться к почтовому вездеходу. Для обитателей тридцатишестимильного пространства между станцией и морским побережьем автобус был самым значительным явлением в жизни. Грант смирился с неудобствами, полагая, что комизм ситуации спасет его от скуки. Покуда же веселиться ему было явно не от чего. Он взобрался на сиденье рядом с водителем и решил надеяться на лучшее. Они двинулись по узким дорогам, которые то и дело пересекались шумными, несущимися со скал потоками, и тут Грант оценил всю серьезность замечания о том, что в пути всякое может случиться. По большей части дорога была настолько узкой, что не позволила бы разъехаться благополучно даже с детской коляской.
— Как вы поступаете, если что-то движется навстречу? — спросил он водителя.
— Когда я посторонюсь, когда — встречный.
Миль через пять Грант имел возможность убедиться собственными глазами в эффективности этого неизвестного ему правила дорожного движения: они встретились нос к носу с тягачом. Он был самым малым представителем этого рода машин, но в настоящей ситуации выглядел весьма солидно. С одной стороны у них оказался высокий холм, с другой — небольшая, но глубокая каменистая расщелина. Без малейших признаков досады их водитель дал задний ход, пока не отвел свой неказистый экипаж на площадку, где был свален дорожный лом; тягач невозмутимо проследовал мимо них, и путешествие было продолжено. За все остальное время им еще встретилось всего лишь два препятствия — оба в виде автомобилей. В первом случае они разминулись, так сказать, обоюдно подобрав юбки: колесо микроавтобуса съехало в канаву, а одно колесо встречной машины въехало на заросший кустарником каменистый выступ.
Во втором случае встречный транспорт оказался «фордом»; с проворством фокстерьера он ринулся прямо в болото, обогнул микроавтобус и как ни в чем не бывало снова выскочил на дорогу позади них — при этом водители еще успели обменяться им одним понятными приветствиями. Этот головокружительный трюк не вызвал у пассажиров ни малейшего удивления, и, хотя их экипаж к этому времени был полным-полнехонек, никто и слова не проронил. Такое явно было для всех явлением обыденным.
Перегруженность микроавтобуса заставила Гранта задуматься о том, как добирается до места тот, кто в него не попадает. Видимо, эти же опасения испытывала и маленькая женщина, поджидавшая их на обочине возле своего дома. Когда машина притормозила и водитель вышел, чтобы помочь ей взобраться, она бросила взгляд на заполненные людьми скамьи и боязливо спросила:
— Господи, Энди, как ты меня поместишь?
— Помолчи, — весело откликнулся Энди. — Еще не бывало, чтобы мы кого-нибудь оставили на дороге.
Грант понял, что в этих краях слово «помолчи» отнюдь не заключает в себе того обидного оттенка, как, например, в Лондоне. Здесь оно скорее носило характер полушутливого возражения, а в некоторых случаях явно выражало восхищение с долей недоверия. В устах Энди это значило, что старушка, что называется, горячится напрасно. И разумеется, он оказался прав: место для нее сыскалось, и при этом никого особенно не потревожили, за исключением разве что кур позади скамеек, кошелку с которыми чуть наклонили набок. Но и они, судя по их громкоголосому клохтанью, оставались в полном здравии, — во всяком случае, вплоть до того момента, пока их гордый владелец, поджидавший машину у развилки уходившей в никуда дороги, не перегрузил их на свою тележку.
До Гарни оставалось еще несколько миль, когда Грант почуял запах моря: то был характерный запах водорослей, который особенно чувствуется в тех местах, где море глубоко вдается в сушу. Странно было ощущать его здесь, в столь непохожем на побережье месте. Еще невероятнее показалось, когда оно внезапно предстало перед ними в виде небольшого зеленоватого бассейна, зажатого со всех сторон горами. Лишь коричневая кайма водорослей на уходящих в глубину скалах говорила о том, что это океан, а не обычное озеро. Когда же с помпой, приличествующей самому главному событию суток, они въехали в Гарни, то в вечернем свете перед ними забелел уходящий вдаль песчаный берег, и на его серебристой глади тихо плескала сине-лиловая пенистая вода.
Вездеход сгрузил Гранта у вымощенного каменными плитами входа в гостиницу, и, несмотря на голод, он все же задержался у входа, чтобы посмотреть, как на западе за плоскими очертаниями лиловых островов угасает солнечный свет. Тишину наполняли чистые, далеко слышные вечерние звуки. В воздухе пахло торфяным дымом и морем. В деревне тут и там, яркие, как первые нарциссы, светились огоньки. Море сделалось совсем лиловым, и в сумерках казалось, что пески слегка дрожат. А он приехал сюда для того, чтобы арестовать человека, совершившего убийство в лондонской очереди!
Глава одиннадцатая
КАРНИННИШ
Из Энди Гранту удалось вытянуть немного — и не потому, что тот ничего не знал, — ведь именно он, по всей вероятности, всего два дня назад переправлял Ламонта по горной дороге; дело в том, что, по странному совпадению, желание Энди узнать побольше о самом Гранте оказалось столь же сильным, сколь желание Гранта выведать у него про Ламонта. На все наводящие вопросы Гранта он отвечал односложно и тут же задавал свои собственные. Эта игра наскучила Гранту задолго до того, как прекратил свои расспросы Энди. Что до хозяина гостиницы, с которым Грант завязал беседу во дворике после завтрака, то и эта попытка не имела успеха — на этот раз действительно потому, что тот ничего не знал. Если все интересы водителя микроавтобуса были сосредоточены на его родной деревне Карнинниш, куда он и отправился по приезде, то хозяина гостиницы интересовало исключительно то, что происходило в Гарни, поскольку от этого зависели его дела.
— Прибыли рыбку половить, сэр? — спросил хозяин.
Грант подтвердил, что очень хотел бы, если это возможно, немного порыбачить в Финлее.
— Конечно возможно. Это всего в четырех милях отсюда, там, за горой. Вам знакомы эти места?
Грант почел за лучшее ответить отрицательно.
— Так вот: там за горой, на самом берегу озера Финлей, есть маленькая деревушка, но вам будет удобнее жить здесь. У них, правда, есть своя захудалая гостиница, но грязная, тесная, да и кормят там одной бараниной.
— Баранина — это не так уж плохо, — заметил Грант.
— Это в первый день вам так покажется, ну, может, еще во второй, но к концу недели от одного только вида овцы на лугу вас уже мутить станет. Если не любите пеших прогулок, то мы можем отвозить вас туда на «форде» каждый день. Лицензией на ловлю запаслись?
— Нет, — ответил Грант. Он полагал, что за гостиницей закреплено право на рыбную ловлю для постояльцев.
— Тут вы промахнулись. Здесь собственник всех вод — хозяин поместья Карнинниш Хаус. Акционер из Глазго. Сейчас он как раз здесь. Во всяком случае, был здесь еще неделю назад. Хотя мог опять уехать.
— Что ж, если дадите «форд», я съезжу к нему прямо сейчас, — отозвался Грант. Рыбная ловля была единственным предлогом, который позволил бы ему разгуливать где вздумается, не вызывая подозрений. — Как, вы сказали, зовут хозяина поместья? — переспросил он, усаживаясь в «форд» возле косматого джинна с пылающим взором.
— Его зовут Дрисдейл. Он не очень-то щедр на разрешения, но, может, вам удастся его уговорить.
С этим довольно прохладным напутствием Грант отправился в более чем прохладную поездку по горной дороге в долину Финлей.
— Где это поместье? — спросил Грант у волосатика, которого, как выяснилось, звали Родди.
— В Карниннише, — ответил тот.
— В самой деревне? — осторожно спросил Грант: у него не было желания до времени афишировать свое появление в этих местах.
— Нет, напротив, на другом берегу.
— Значит, мы через деревню не проедем?
— Никак нет. Мост как раз перед ней, на него мы и свернем.
Они въехали на перешеек, отделяющий две деревни, и вся долина развернулась перед зачарованным взором Гранта, словно карта. Ни лугов, ни полей — никакой зелени, кроме как по берегам реки, серебряной лентой убегающей к морю сквозь редкие березовые рощицы. Это был край коричневых тонов, и в сочетании с ослепительной голубизной моря он производил какое-то неземное впечатление. «Унылая, волшебная земля», — вспомнились Гранту чьи-то строки.
Когда они неслись вниз по направлению к морю, он заметил здания двух церквей и не замедлил воспользоваться случаем:
— Для такой небольшой деревни двух церквей, пожалуй, многовато.
— Это как посмотреть! Ведь ортодоксы в Новую Церковь не пойдут, и наоборот. Вон там, — и он указал через дорогу, где у реки рядом с церквушкой без купола стоял солидный пасторский дом, полускрытый зеленью, — приход мистера Логана. А Новая Церковь — на другой стороне деревни, у самого моря.
Незаметно, стараясь не привлекать его внимания, Грант с интересом поглядел на особнячок, где нашел убежище тот, за кем он гнался.
— Красивое место, — заметил он. — Там комнаты не сдаются?
Как полагал Родди, сейчас не сдают. Летом — другое дело. Тогда на месяц сдают. Сам пастор не женат; хозяйство ведет его вдовая сестра, миссис Динмонт. Сейчас в отпуск приехала его племянница, дочка миссис Динмонт. Она работает медсестрой в Лондоне.
О возможном постояльце — ни полслова, и Грант не осмелился продолжать прямые расспросы: жители здешних мест известны своим неуемным любопытством и тотчас же почуют неладное.
— В здешней гостинице много народу? — вместо этого спросил он.
— Трое, — немедленно ответил Родди. Как лицо, непосредственно заинтересованное в процветании собственного картеля, он полностью владел информацией о конкурирующем заведении в Карниннише.
Все трое были мужчины, и Родди знал о них всю подноготную — все до мельчайших подробностей. Ни один из них не мог быть Ламонтом.
Карнинниш Хаус, расположенный напротив деревни, стоял в непосредственной близости к морю. Позади дома, дальше на север, шла проезжая дорога.
— Подождите в машине, — сказал Грант водителю и с остатком внушительности, которая у него уцелела после оригинальной манеры Родди жать на тормоза, поднялся на крыльцо.
В холле его встретил высокий худой мужчина с угрюмым лицом, одетый в прекрасный твидовый костюм. Грант решил, что это кто-нибудь из гостей. Сам того не сознавая, он почему-то представлял себе господина акционера кругленьким, розовощеким джентльменом в тесных брюках. Поэтому он был несколько обескуражен, когда высокий худощавый человек, шагнув навстречу, спросил:
— Чем могу быть полезен?
— Я хотел бы видеть мистера Дрисдейла.
— Входите, пожалуйста, — сказал незнакомец и провел его в комнату, заваленную различными рыболовными снастями.
У брокера, созданного его воображением, Грант приготовился просто-напросто выудить разрешение на рыбную ловлю, разжалобив его байкой про испорченный отпуск; однако, глядя сейчас на хозяина дома, он изменил свой план. Грант протянул ему свое служебное удостоверение и был вознагражден изумленным выражением его лица. Это значило, что его старый рыбацкий костюм выглядит вполне натурально и как камуфляж вполне пригоден.
— Так что я могу для вас сделать, инспектор?
— Я очень просил бы, чтобы вы разрешили мне немного заняться рыбной ловлей на Финлее. Ненадолго, всего дня на два. По моим предположениям, в этой местности скрывается нужный мне человек, а единственный способ ходить куда захочу, не вызывая пересудов, — рыбалка. Я рассчитывал, что гостиница в Гарни имеет собственное право на воду, однако ошибся. Я не собираюсь вылавливать вашу рыбу, но практика у меня в этом деле большая, так что можете быть спокойны: рыбу я не распугаю.
К его удивлению, хмурое лицо господина Дрисдейла осветилось улыбкой.
— Инспектор, — произнес он, — вы даже представить себе не можете, насколько необычен для этих мест случай, который привел вас сюда, и насколько уникально само ваше присутствие. Даже в памятном послевоенном сорок пятом — и то здесь никого не разыскивали, а уж с тех пор — и подавно. Преступник в Карниннише! Инспектор из Скотланд-Ярда, который его разыскивает?! Невероятно! Господи, пьянство да тунеядство — вот самые тяжкие преступления в этих краях со времен большого наводнения.
— Возможно, мой беглец как раз на это и рассчитывал, — ответил Грант. — Во всяком случае обещаю больше не беспокоить вас, если вы мне разрешите поудить.
— Разумеется, разрешу. Где пожелаете. Я сейчас как раз собираюсь прогуляться вверх по реке. Хотите, пойдемте со мной и я вам покажу самые рыбные места? Если уж вы собираетесь заняться рыбной ловлей, так почему бы и взаправду не поудить? Отправьте этого чудика обратно в Гарни, — в это самое время Родди под окном на пронзительном кельтском наречии рассказывал что-то горничной, и они, ничуть не смущаясь близостью «господ», громко хохотали, — и скажите, чтобы за вами не приезжал. К вечеру я распоряжусь, и вас отвезут обратно.
Обрадованный неожиданным проявлением великодушия со стороны этого здесь весьма непопулярного и явно скупого на милости господина к своей особе, Грант отпустил Родди; тот выслушал распоряжение Гранта почтительно — как адъютант при генерале, но, отъезжая, не преминул со смехом крикнуть что-то служанке на том же непонятном Гранту наречии. Звучало это как квохтанье перелетевшей через заборчик вспугнутой наседки. Когда гвалт затих, Дрисдейл принялся молча собирать снасть. Он не стал задавать лишних вопросов, и Грант был ему за это признателен.
Со своей стороны, чтобы прервать затянувшееся молчание, Грант стал расспрашивать Дрисдейла о реке, и вскоре они уже увлеченно беседовали, как и полагается рыболовам-любителям. Они направились по правому берегу, противоположному тому, где находились деревня и особняк пастора, и Дрисдейл указывал Гранту наиболее рыбные места, объясняя особенности каждого в отдельности. Протяженность всей этой узкой, утыканной валунами речки с буроватого цвета водой составляла не более шести миль.
Низвергаясь из горного озера, она беспорядочно сбегала вниз, образуя несколько тихих заводей, и возле Карнинниша впадала в море.
— Думаю, вы предпочитаете расположиться поближе к деревне, — заметил Дрисдейл и предложил Гранту остаться в равнинной части реки; сам же он решил податься в горы, где, вероятно, будет удить до самого вечера. Грант с благодарностью принял такой план.
— Это дом пастора? — как бы невзначай спросил Грант, когда они поравнялись с особняком напротив. — Видно, духовные лица здесь живут с удобствами.
— Что да — то да! — живо откликнулся Дрисдейл, но не стал развивать эту тему.
Грант одобрительно отозвался о размерах дома и осведомился, не сдаются ли там комнаты. Неплохо бы там расположиться. «Насколько мне известно, сейчас не сдают», — ответил Дрисдейл и повторил то, что Гранту уже довелось услышать от Родди насчет аренды в летнее время. После чего Дрисдейл с поспешностью, нередко присущей замкнутым людям, попрощался и исчез. От встречи с ним у Гранта осталось впечатление, что на этого человека, в случае нужды, он может положиться вполне. Грант решил начать удить ярдах в двухстах выше особняка и постепенно продвигаться в его направлении, наблюдая за тем, кто входит и выходит из дома. С его стороны мимо дома шла довольно широкая дорога, с противной стороны, насколько он мог судить, была лишь тропинка, по которой ходили рыбаки с мальчиками-помощниками, — так что любой, направляющийся вверх по течению, должен был использовать дорогу, которая была ему видна. Особняк был окружен каменной оградой, а сам дом развернут фасадом к шоссе. Позади ограды виднелись негустые ели, которые, однако, с успехом скрывали строение от посторонних глаз. О наличии за ними дома можно было догадаться лишь по восьми трубам да видным сквозь просветы в зелени кускам беленой стены. Позади дома ограда спускалась к самому берегу; посредине нее виднелась маленькая чугунная калитка, — как принято во всей Шотландии, используемая обитателями дома в качестве парадного входа.
С того места, где он находился, Гранту не было видно шоссе, зато обе другие дороги он видел прекрасно. Никто не мог выйти из дома незамеченным. Он мог оставаться на своем посту хоть весь день без всякой опаски. Просто идеальная ситуация. Грант забросил свистнувшую леску в искрящуюся темную реку и почувствовал, что жизнь прекрасна.
Для хорошей рыбалки солнце светило слишком ярко, и надежды что-нибудь поймать практически были равны нулю, однако под самым его носом была гораздо более крупная рыба. Пока никто не обмолвился о пребывании в доме чужого человека, но, как тогда на лестничной площадке в Брикстоне он предчувствовал, что комнаты окажутся пустыми, так и сейчас нутром чуял: этот человек здесь, в доме.
Грант начал удить около одиннадцати, и в течение часа ничье появление не нарушало утренней тишины. Из двух каминных труб особнячка в ясное небо лениво поднимался дымок; у ног его река пела свою вечную убаюкивающую песенку, и вода с завораживающей скоростью бежала перед глазами. Направо от него у далекого моста, чуть видные за уходящей вверх пустошью, стояли у самого берега беленые домики; тихие, освещенные солнцем, они напоминали павильонную декорацию для киносъемок. Потом Гранту начало казаться, будто это иллюстрация из учебника французского языка, который он учил в юности, а его самого просто поместили у реки для полноты картины. И он уже никакой не Грант — инспектор Скотланд-Ярда; вот-вот в него ткнут деревянной указкой, от которой станет щекотно, и поучительно произнесут по-французски: «А это рыболов».
Наваждение прогнал почтальон на велосипеде: он ехал со стороны деревни, тяжело нажимая на педали. Это все еще была картинка, но он, Грант, перестал быть ее частью. Теперь она выглядела скорее как игрушечный макет, а он ощущал себя неким джинном, который намеревается все это порушить. Не успел он так подумать, как калитка в ограде дома распахнулась и появилась девушка, а за ней — мужчина. Не без труда они со смехом заперли ее за собой и гуськом направились по тропинке, ведущей к мосту.
Грант в это время находился ярдах в ста от дома, выше по течению, и они его не заметили.
Мужчина был одет в шерстяные брюки, полупальто и кепку; на таком расстоянии ничто в его внешности — за исключением легкой походки и худобы — не напоминало человека, скрывавшегося от него в толпе там, на Стренде. Грант испытал легкое недоумение.
В течение своего долгого пути размышляя о беглеце, он решил, что тот будет ощущать неловкость в здешних краях. Лондонский букмекер, неожиданно для себя оказавшийся на пустынном западном побережье, не мог чувствовать себя здесь как дома. Может, это вовсе и не он? Надо надеяться, они направляются не к деревне, а к мосту, и пройдут мимо него. Иначе, вероятно, они выбрали бы шоссе.
Он весь напрягся, пока не убедился, что они действительно идут к мосту. Правда, они еще могли выбрать другой путь — прямо мимо поместья Карнинниш Хаус. Но девушка, а за нею и незнакомец свернули на тропинку вдоль реки, и он облегченно вздохнул. Они направлялись в его сторону и должны были пройти всего в нескольких ярдах за его спиной. Он сосредоточенно закинул сверкающую леску подальше: теперь оборачиваться ни в коем случае нельзя. Через минуту-другую они уже с ним поравняются. Грант с признательностью подумал о своей старенькой шляпе, которая совсем сползла ему на нос, об обвисших брюках и поношенной куртке. Ботинки тоже были вне подозрения. На сей раз в переодевании не было никакой преднамеренности — его костюм вполне соответствовал тому, чем он сейчас, собственно, и занимался. И слава Богу, что это так: наметанный взгляд мисс Динмонт — а Грант полагал, что это именно она, — сразу отметил бы любую фальшивую деталь. В его одежде ничто не выдавало горожанина и, следовательно, не должно было вызвать соответствующего замечания у девушки и, тем самым, привлечь к нему внимание ее спутника.
Внезапно сквозь говор воды до него долетели их голоса: они говорили громко, стараясь перекричать шум реки. Тон разговора был веселый и оживленный — явно очень товарищеский. Грант не обернулся, когда они проходили мимо, и потом выждал еще немного — иначе мужчина невзначай мог бы увидеть его лицо. Однако, когда они чуть-чуть отдалились, он пристально посмотрел им вслед. Ламонт? Походку почти невозможно изменить, разве что притвориться хромым. Он попытался вспомнить, как двигался Ламонт там, на Стренде.
Нет, Грант не мог определить наверняка. И тут вдруг мужчина оглянулся. Он находился слишком далеко, чтобы его можно было разглядеть, но одного движения для Гранта оказалось достаточно. Оно было настолько выразительным, что, не успев даже того осознать, Грант снова как бы перенесся на угол Бедфорд-стрит. У него не осталось сомнений: это был Ламонт. Грант готов был запеть от радости. Узнал ли его Ламонт? Навряд ли. Он обернулся по чистой случайности. Если он спросит мисс Динмонт, та скажет, что, кроме гостей мистера Дрисдейла, никому из посторонних не разрешается удить в этом месте. Это его успокоит.
Что же теперь? Явиться в пасторский дом и арестовать его сразу, как вернется? Ордер на арест у него в кармане. И тут Грант понял, что прежде хочет быть вполне уверен, убежден на все сто процентов, что именно он, Ламонт — и никто другой — убил Соррела. Пока им лишь известно, что Соррел ссорился с Ламонтом непосредственно перед смертью. Связующее звено между Ламонтом и кинжалом по-прежнему отсутствовало. Прежде чем воспользоваться правом на арест, следует убедиться, действительно ли на левой руке Ламонта имеется шрам от пореза. Если шрама нет, тогда всем его умозаключениям грош цена. Какой бы твердой ни была его уверенность в собственной правоте, доказательства, представленные на следствии, должны быть исчерпывающими, и, пока в них недостает хоть малого звена, производить арест рискованно. Надо сделать так, чтобы его пригласили к пастору. Это будет нетрудно устроить. В крайнем случае, он всегда может свалиться в реку и попроситься к ним, чтобы обогреться.
Сидя на полуразрушенном валуне, он достал сандвичи, которыми его снабдили в гостинице Гарни, и тут увидел, что парочка возвращается. Они прошагали мимо него, перешли через мост, двинулись к деревне через некоторое время уже по шоссе направились обратно к дому пастора. Наступило время ланча. Значит, по меньшей мере в течение часа они не выйдут из дома и останутся под его наблюдением.
Грант бережно заворачивал остатки еды до того времени, когда опять проголодается, и тут заметил местного полицейского: тот двигался со стороны гор на велосипеде со спущенными шинами. При виде Гранта он чуть затормозил — если уместно употребить здесь это слово при том, что он и без того двигался черепашьим шагом, — а когда Грант поднял голову, то и вовсе остановился.
— Ну как? Чего-нибудь поймали, сэр? — спросил полицейский. Лицо у него было розовое, крепкое, словно восковое, и Гранту оказалось достаточно одного взгляда, чтобы еще раз поблагодарить судьбу за знакомство с Дрисдейлом. У паренька были светло-синие глаза с пушистыми, как у куклы, темными ресницами и едва пробивающиеся черные шелковистые усики. Его полное, рыхлое тело едва ли было пригодно для того, чтобы быстро передвигаться или хорошо прятаться, и в критический момент вряд ли такой тугодум мог принести какую-нибудь пользу. Грант признался, что пока не поймал ничего, да не очень-то и надеялся, — слишком много солнца.
— Оно конечно. Только не долго оно продержится, это солнце. Тут дня не проходит, чтобы не задождило. До вечера чего-нибудь да выловите.
«Истинный горец, — подумал Грант. — Они всегда стараются сказать именно то, что человеку хотелось бы услышать».
— Я вижу, вам и самому не больно-то повезло, — произнес он вслух, кивая на пропоротые шины.
— Что да, то да. Эти дороги — чистый бич для покрышек. Хоть бы дополнительно деньги на это отпускали! Да где там! И не мне одному — другим тоже не легче. Вон, мистер Логан, — и он ткнул пальцем в сторону особнячка. — Он на днях как раз сказал — мол, пастору, как и полиции, тоже хорошо бы прибавку дать к жалованью на шины: за неделю у него сразу три покрышки полетели. Это кого хочешь, даже пастора, и того выведет из себя.
— В Карниннише много машин?
— Ну как сказать, много? У господина Дрисдейла — две — это вы, наверное, сами знаете — да вот еще у пастора Логана — и все. У другого пастора — мотоцикл.
— А если кто-то хочет нанять машину?
На такой случай в гостинице есть «форд». Они сдают его внаем, когда самим не нужно. «Форд», судя по всему, в глазах констебля машиной считаться не мог.
— А вон и мистер Логан. Видно, держит путь к Арклессу, там двойняшки родились, — проговорил полицейский, и Грант увидел на шоссе возле особняка довольно грузную фигуру человека, быстрым шагом направлявшегося вверх по реке.
— Я думал, что это шоссе идет через горы в Гарни, — заметил он.
— Точно так оно и есть. Обратно же, в том месте, как главная дорога пошла в горы, от нее отходит тропка и тянется вдоль реки, вон к тому селению, что отсюда видно. Туда он и направляется. Потому и пешком идет: их преподобие пешком ходить не любят, а тут иначе не доберешься.
Констебль стоял еще долго, преспокойно наблюдая, как Грант удит, явно довольный, что неожиданно нашел для себя развлечение в обычно безлюдном месте; Грант же размышлял, как ему поступить, если вдруг сейчас на шоссе выедет машина и поедет по направлению к нему, в Гарни. Кто даст ему гарантию, что в машине рядом с девицей не окажется и Ламонт? Отсюда ему не суметь заранее разглядеть пассажира. Надо разработать план действий, потому что времени для выбора у него уже не останется — либо нужно будет срочно звонить, либо начать преследование самому. Придется взять гостиничный «форд». Может, попросить у Дрисдейла? Но время шло, солнечный свет сделался холодным и неласковым, как бывает во второй половине дня, констебль укатил на сплющенных шинах по направлению к деревне раздобывать нашлепки для своих покрышек, про что он явно почти забыл, — а из особняка так никто и не появился. В пять Грант доел остатки сандвичей и стал думать, какие возможности у него еще остались, — возможности для появления в доме пастора. Дело шло к вечеру, и перспектива окунания в реку, хотя бы ненадолго, казалась все менее привлекательной. Его мысли были прерваны и все проблемы чудесным образом решены, когда он услышал позади себя грузные шаги и, оглянувшись, обнаружил пастора Логана.
Пастор громогласно пожелал ему доброго вечера, при этом его полное, багровое лицо с крючковатым носом озарилось благодушной улыбкой.
— Похоже, не очень-то у вас удачный денек выдался! — воскликнул он.
Грант признался, что просидел весь день, но пока ничего не поймал. Похоже, в Гарни над ним все будут потешаться.
— Так вы не в Карнинниш Хаусе остановились?
— Нет, — сказал Грант. Он живет в Гарни, но мистер Дрисдейл был настолько любезен, что разрешил ему пару деньков поудить.
— За вами пришлют машину?
Грант ответил, что, когданадоест удить, он намеревается вернуться в Гарни пешком. Тут не более четырех миль, а улов, тот, что будет, он, разумеется, передаст мистеру Дрисдейлу.
— Нудное это занятие, да и неблагодарное, особенно когда ничего не ловится, — заметил пастор. — Небось замерзли? Пойдемте-ка к нам, отогреетесь, чайку попьете. Меня зовут Логан. Чай у нас пьют между половиной шестого и шестью. Как раз и поспеем.
Грант сердечно поблагодарил его, постаравшись скрыть неприличную радость по случаю приглашения. Удача явно ему сопутствовала. Уж когда он попадет в дом, то будет знать, что делать. Он с трудом удержался, чтобы не схватить свои пожитки в охапку и не потащить Логана к его собственному дому. На самом же деле он с нарочитой медлительностью собрал вещи и неторопливо пошел рядом со священником, который теперь двигался далеко не так резво, как поутру. Они перешли мост и подошли к особнячку со стороны шоссе. Когда они с пастором уже свернули на широкую тропку, пробитую среди травы и ведущую к дверям, Грант почувствовал, как у него участился пульс, но на этот раз не посмеялся над собою по поводу испытываемого волнения. Десять дней тому назад Баркер поручил вести ему это дело. Тогда в его распоряжении были только носовой платок, револьвер и окровавленный стилет. Теперь, на другом конце страны, он должен был наконец-то встретиться лицом к лицу с человеком, за которым гнался.
Пока в холле они освобождались от верхней одежды, до Гранта доносились через дверь звяканье чашек и голоса. Затем мистер Логан переступил порог и прошел впереди него в комнату.
Глава двенадцатая
ЗАДЕРЖАНИЕ
Это была столовая. За чаем сидели трое: пожилая женщина, немного напомнившая ему миссис Эверет, молоденькая рыжеволосая девушка с бледным лицом и Даго. Грант разглядел их еще из-за спины священника, прежде чем тот отступил, пропуская его вперед, и успел вдоволь насладиться выражением лица своей жертвы, когда тот узнал Гранта. Глаза Ламонта расширились; на мгновение лицо его вспыхнуло, но тут же сделалось смертельно бледным. Грант отстраненно подумал о том, как позабавило бы столь непосредственное проявление чувств такого, как Денни Миллер, — тот бы убил человека — и при этом глазом бы не повел. Даго, судя по всему, был в этом деле новичком: убивал скорее импульсивно, чем руководствуясь холодным расчетом.
— Я привел гостя, — объявил пастор. — Это — мистер Грант. Он ловил рыбу, но без успеха, вот я и привел его, чтобы попил горячего чаю. Знакомьтесь: это миссис Динмонт, моя сестра, это моя племянница мисс Динмонт, а это — мистер Лоу, наш друг. Ну где мы вас посадим?
Гранта усадили рядом с мисс Динмонт, напротив Ламонта. Тот вежливо привстал и поклонился, когда его представляли, и пока никаких неожиданных движений не производил. Видимо, либо был парализован страхом, либо решил не устраивать сцен. Когда он садился, то Грант обратил внимание на деталь, от которой сердце его радостно забилось: чашка Ламонта стояла слева от тарелки! Он был левша!
— Хорошо, что вы меня не стали дожидаться, Агнес, — произнес пастор тоном, который свидетельствовал как раз об обратном. — Вечер такой прекрасный, что я прошелся по висячему мосту и вернулся по противоположной стороне.
— И прекрасно сделали! — заметила племянница. — Зато вы привели мистера Гранта. Теперь нас — нечетное число, и мы можем поставить вопрос на голосование. Мы тут заспорили о том, хорошо это или плохо, когда в человеке намешано много разных кровей. Я не имею в виду помесь белого и чернокожего, а только различные типы белой расы. Мама, конечно, считает, что лучше, когда в жилах течет только чистая кровь одной национальности, но это оттого, что она сама коренная шотландка и ведет свой род чуть ли не с потопа. Мы все тут — либо Логаны, либо Макленнаны, и еще не родился такой Макленнан, у которого бы не было собственной лодки. Но мой дед был из пограничного с Англией района, а дед мистера Лоу — итальянец, так что мы решительно сторонники противоположной точки зрения. Дядя Роберт, конечно, примет сторону мамы: он чистокровный шотландец и наделен в полной мере свойственной этому народу неуемной гордостью и упрямством, так что нам необходима ваша поддержка. Скажите же, что ваши предки были татарами!
Грант вполне искренне ответил, что, по его мнению, смешанная кровь гораздо предпочтительнее. К тому же в современном мире вряд ли можно говорить вообще о какой-то чистоте расы. Люди смешанной национальности обычно более многосторонне развиты, что несомненно лучше, чем иметь какую-то одну, сильно развитую национальную черту. Они более сообразительны, шире смотрят на вещи и более дружелюбны в отношениях с другими. В целом он полностью на стороне мисс Динмонт и мистера… мистера Лоу.
Разговор носил скорее шутливый характер, поэтому Гранта немало удивила горячность, проявленная при этом мистером Логаном. Оказалось, что чистота расы — его любимый конек, и он не замедлил обрушиться с критикой на народы Западной Европы, которые якобы именно из-за этого оказались на грани полного вырождения. Гранта немало позабавило, когда в процессе разговора выяснилось, что сам мистер Логан за всю свою жизнь не покидал пределов Шотландии. Презираемых им жителей Англии он встречал только тридцать лет назад, когда учился в семинарии, а иностранцев не видел вовсе. Не преуспев в попытках — при отважной поддержке мисс Динмонт — придать спору более легкий характер, Грант принял на себя роль греческого хора, в котором сольную партию исполнял мистер Логан, а сам стал думать о Ламонте.
Даго постепенно приходил в себя. Хотя взгляд у него был насторожен, он не отводил глаз в сторону и в основном, держался спокойно. Он не делал также попыток скрыть небольшой шрам на большом пальце, хотя наверняка понимал, что это, как и чашка с левой стороны, выдает его с головой. Очевидно, он примирился с тем, что проиграл. Разумеется, об этом можно будет судить наверняка, только когда настанет тот самый, неизбежный момент. Грант, во всяком случае, был доволен, что в его глазах прочел вызов. Арестовывать труса — занятие малоинтересное. Полицейский офицер предпочтет, чтобы ему дали в поддых, чем чтобы обнимали его колени. Похоже, на сей раз никто припадать к его стопам с просьбой о пощаде не собирается.
Одна вещь заставила Гранта несколько ожесточиться, а именно успех, который за три дня Ламонту удалось достичь в отношении мисс Динмонт. Даже теперь он не переставал обмениваться с нею быстрыми улыбками и постоянно ловил ее взгляд. Мисс Динмонт, правда, выглядела девицей, способной постоять за себя со всей рассудительностью и силой духа, свойственными рыжеволосым особам женского пола. Однако это никак не извиняло Ламонта в глазах инспектора. Он что же — хотел сделать из нее свою сообщницу? Преступнику в бегах, особенно непрофессионалу, как правило, не до любовных забав. Так что его поведение иначе как бессовестным и жестоким назвать было трудно. Что ж, шансов привлечь ее на свою сторону у него не будет — уж за этим Грант проследит сам!
Грант этого не допустит. Пока же он по мере сил принимал участие в разговоре и отдал должное своеобразному испытанию для желудка — жареной форели, которую в этом доме обычно подавали во время дневного чаепития. Даго тоже ел, и Грант невольно подумал, каких, вероятно, усилий воли стоит Ламонту каждый проглоченный кусок. Волновался ли он, или ему уже стало все едино? И эти его слова: «А вы, господин Грант, как полагаете?» Что за ними скрывалось — вызов, блеф или действительно желание услышать его мнение? Руки у него не дрожали — даже и та, левая, смуглая и тонкая, которой он прикончил своего лучшего друга; в разговоре он участвовал наравне с другими. Окружающие явно не замечали в нем никакой перемены по сравнению с тем, как он вел себя за ланчем. Надо отдать должное: Даго держался отлично.
Когда после чая мужчины закурили, Грант предложил сигарету мисс Динмонт. Приподняв брови, она с напускным ужасом произнесла:
— Как можно, сэр! Вы забыли, где находитесь. Это же обитель шотландского пастора! Если желаете, можно выйти посидеть на камне у реки, там я бы составила вам компанию, но только не под этой крышей!
Выражение «не под этой крышей» явно было ею взято из дядиного лексикона, однако почтенный пастор предпочел пропустить это мимо ушей.
— Я бы с превеликим удовольствием, — проговорил Грант. — Но уже довольно поздно, а мне еще добираться пешком до Гарни. Так что, пожалуй, пора в путь. Может, мистер Лоу проводит меня немного? Сейчас еще светло, и вечер отличный.
— С удовольствием провожу, — отозвался Даго и двинулся раньше него в холл. Грант наспех распрощался с хозяйкой, боясь, что Ламонт исчезнет, но он опасался напрасно: Ламонт спокойно надевал полупальто, которое было на нем утром. Тут появилась мисс Динмонт, и Грант снова испугался: а ну как она вызовется их сопровождать? Но Ламонт не обернулся на ее шаги, и это, видимо, ее обескуражило. Казалось, что могло быть естественнее для Ламонта, как предложить ей пройтись вместе? Но нет: он молчал и по-прежнему стоял к ней спиной, хотя знал, что она в холле. Это можно было расценить только однозначно: он не желал, чтобы она шла с ними. Мисс Динмонт так и не предложила составить им компанию.
Грант вздохнул с облегчением. Он всегда стремился, насколько это возможно, избегать сцен с участием рыдающих женщин. У калитки мужчины обернулись, чтобы еще раз попрощаться издали. Снова нахлобучивая свою шляпчонку, Грант заметил жест Ламонта: тот чуть приподнял козырек кепки и снова надвинул ее на лоб. Более простого и более выразительного прощального жеста Гранту никогда еще не доводилось видеть.
В молчании они миновали первый небольшой подъем и вскоре оказались у развилки: большая дорога здесь уходила в гору; другая же вела вдоль реки к скоплению домов. Отсюда их уже нельзя было увидеть из особнячка. Тут Грант остановился и, повернувшись лицом к своему спутнику, произнес:
— Думаю, вы знаете, зачем вы мне нужны, Ламонт?
— Что именно вы имеете в виду? — спокойно спросил Ламонт.
— Я инспектор Грант из Скотланд-Ярда, и у меня ордер на ваш арест в связи с убийством в ночь на тринадцатое Альберта Соррела в очереди у театра Уоффингтон. Предупреждаю: любое ваше высказывание может быть использовано на суде со стороны обвинения. Сейчас я хочу убедиться, что при вас нет оружия. Выньте, пожалуйста, руки из карманов, я вас обыщу.
— Вы ошиблись, инспектор, — последовал хладнокровный ответ. — Я согласился пойти с вами, но не сказал, до какого именно места. Здесь я с вами прощаюсь.
Он выхватил из кармана руку; Грант, ожидая выстрела, ударил его по локтю и, уже инстинктивно прижмуриваясь, увидел в его руке голубую перечницу с чайного стола. Беспомощный, полуослепленный, Грант, чихая и кашляя, услышал глухой звук быстро удаляющихся шагов; он отчаянно пытался удержать кашель, чтобы определить хотя бы направление, откуда доносились эти звуки. Однако, прежде чем он оказался в состоянии двинуться с места, прошло не менее двух минут. Ему припомнился эпизод на Стренде, и он решил на этот раз не торопиться.
Ни один человек — будь он даже такой легкий на ногу, как этот Даго, — не может бежать очень долго. Спектр физических возможностей ограничен.
К тому же, судя по избранному направлению, когда Даго выдохнется, он окажется в местности, где трудно укрыться. Вероятно, он и сам это сообразит. Поэтому, скорее всего, прибегнет к тактике, отработанной на Стренде: затаится где-нибудь на время, а потом под покровом темноты найдет более приемлемый способ передвижения.
Значит, решил Грант, владеть ситуацией будет тот, кто заберется выше и у кого будет лучший обзор.
Чуть дальше со склона сбегал маленький ручеек; пробитая им лощинка была слишком мелкой, чтобы в ней мог скрыться человек в полный рост, но если пригнуться, то с дороги его продвижение вверх по склону не будет замечено. Осторожно и, насколько это позволяли слезящиеся глаза, оглядывая местность, он перебрался в распадок и, согнувшись, стал карабкаться вверх, ежеминутно останавливаясь, чтобы проверить, не видно ли кого-нибудь, и убедиться, что сам он достаточно хорошо укрыт от постороннего взгляда. Выше лощинку окаймляли куцые березки; еще выше его путь лежал через небольшое каменистое плато с более высокими, но редкими деревцами. Прозрачная первая береза была далеко не идеальным прикрытием, однако само плато являло собой прекрасный наблюдательный пункт, так что Грант все же решился рискнуть. Едва дыша, он оторвался от песчаного ложа ручья и, прижавшись к самой земле, тонким слоем покрывавшей плато, прополз до густого верескового кустарника у подножия отвесной скалы. С этой точки перед ним как на ладони раскрывалась вся долина, лежавшая внизу; вся — за исключением куска справа: его закрывал типичный для этих мест небольшой еловый лесок. Вид этого лесочка обнадежил Гранта. Для Ламонта он мог сослужить ту же службу, что и подъезд в конце Бедфорд-стрит. Грант не сомневался, что Ламонт залег именно там, ожидая, пока инспектор не обнаружит себя. Правда, его несколько озадачивала мысль о том, какой вид транспорта может здесь заменить Ламонту автобусы и такси лондонских улиц. На что, кроме темноты, он мог надеяться? Должен же он понимать, что до ночи Грант успеет поднять тревогу! А смеркаться уже начинало. Что делать? Оставить свое убежище и действительно отправиться за подмогой? Или Ламонт именно этого от него и ждет? Может, обнаружив себя, чтобы привести людей, он как раз и сыграет на руку Ламонту? Эх, если бы знать, что у него на уме! Чем дольше Грант раздумывал, тем сильнее крепла в нем уверенность: Ламонт рассчитывает на то, что он отправится за подмогой.
Все говорило в пользу такого решения. Грант дал ему шанс сдаться тихо, без шума, но Ламонт им не воспользовался, несмотря на то что его бегство со всей очевидностью обнаруживало для окружающих его вину.
Это означало, что Ламонт наверняка уже не рассчитывает на то, что Грант склонен будет в дальнейших своих действиях проявлять деликатность по отношению к нему или кому бы то ни было и перейдет к решительным действиям для его задержания. А если так, то Гранту следует остаться на месте и продолжать наблюдение.
Долгое время он лежал неподвижно в сыром, побитом зимними ветрами вереске, глядя сквозь ветки на мирную долину. Один раз слева от него, где дорога резко спускалась с гор, послышался визг тормозов, и позднее он видел, как на мост перед деревней свернул автомобиль, черным паучком пробежал мимо Карнинниш Хауса и унесся по дороге, ведущей на север. Где-то далеко в горах проблеяла овца; высоко в небе в той стороне, где еще было солнце, прозвучала песенка жаворонка, а в долине по-прежнему ничто не двигалось, кроме реки, и над ней уже стали сгущаться медленные северные сумерки. И вдруг он уловил движение. Внизу у самой реки. Даже не движение — всего лишь отблеск воды: блеснуло и пропало. Но река тут была ни при чем; что-то там двигалось. Он ждал, затаив дыхание, от учащенного биения сердца у него гудело в ушах. Так он ждал некоторое время и потом увидел снова. На этот раз ошибки быть не могло, он видел четко: преследуемый им человек скользнул из-за огромного прибрежного валуна и скрылся под берегом. Грант продолжал терпеливо ждать. Собрался ли там спрятаться Ламонт, или куда-то направляется? При всем охватившем его беспокойстве, Грант отметил у себя то радостное возбуждение, которое неизменно возникает, когда случается исподтишка наблюдать за зверем, спокойно занимающимся своими лесными делами, — это щекочущее чувство, известное всякому, кто когда-либо занимался слежкой. Через минуту-другую едва заметное движение чуть дальше, вниз по реке, указало на то, что Ламонт не стоит на одном месте. Он куда-то направлялся. Для горожанина он выбирал укрытия просто великолепно. Ах да, война! Грант совершенно упустил из виду, что Ламонт по возрасту мог вполне служить в армии, так что наверняка знал, как находить прикрытие. Во второй раз Грант не увидел, а скорее просто угадал какое-то движение. Он, вероятно, и в самый первый раз ничего бы не заметил, будь у Ламонта хоть малейшая возможность не пересекать открытое пространство между камнем и спуском к самому берегу.
Больше никакого движения Грант заметить был не в состоянии; он припомнил, что левый берег реки на всем своем протяжении представляет прекрасные возможности для укрытия. Пожалуй, пришло время оставить место в партере и выйти на авансцену. Какой же план у Ламонта? Если он будет держаться того же направления и дальше, то через четверть часа окажется снова возле пасторского дома. Может, он намерен сыграть на нежных чувствах, которые предусмотрительно успел внушить мисс Динмонт? План неплохой. Что, если Ламонт действительно завоевал ее сердце и обратится к ней за помощью? Пасторский дом — последнее место, где его стали бы искать.
Грант мысленно выругался и начал спускаться вниз так быстро, насколько позволяла местность и стремление не выдать себя до времени. Он добрался до проезжей дороги через болото и тут на минуту остановился, раздумывая, как быть дальше. Между ним и берегом реки пролегала довольно каменистая пустошь, однако за этими камнями мог спрятаться разве что кролик. Ламонту удалось добраться до реки незамеченным только благодаря еловому леску, что был справа от Гранта. Тогда что же остается — вернуться и поднять тревогу? «Ну да, и схватить преступника, которого спрятала у себя племянница пастора!» — насмешливо подсказал ему внутренний голос. «Почему бы и нет? — раздраженно спросил себя Грант. — Если она его укрывает, пускай получит сполна, что заслужила!» «И все же пока лучше воздержаться от публичного скандала, — убеждал его тот же голос. — Сначала убедись, что он вернулся в дом, а потом пойди и арестуй его».
В этом была своя логика, и Грант, надеясь, что с того места, ниже по течению, где находился Ламонт, его не разглядеть, стремительно побежал через пустошь прямо к реке. Он решил переправиться на ту сторону. Следовать непосредственно за Ламонтом по песчаной полоске было рискованно: Ламонт мог его заметить, а Грант не хотел снова обращать его в бегство. Пусть себе он спокойненько укроется в доме, а там уже Грант сумеет взять его без помех и без лишней огласки. Переправиться бы ему каким-то образом на более высокий противоположный берег! Оттуда ему будет легче наблюдать за передвижением Ламонта; Грант даже сможет его нагнать и идти параллельно ему, без страха быть замеченным. Грант взглянул на бегущую реку. Сейчас дорога была каждая минута, и перспектива вымокнуть уже не имела значения: одно дело — хладнокровно лезть в воду согласно заранее обдуманному плану, и совсем другое — ринуться туда в разгаре погони. Грант выбрал место, где огромные камни разделили реку на три потока. Если ему удастся перепрыгнуть на один, то, оттолкнувшись от второго, он в два прыжка очутится на противоположном берегу. Только бы там нашлось, за что ухватиться! Он немного отступил и прикинул на глаз расстояние до первого камня: из двух этот был наиболее плоский, на нем можно было приземлиться. Второй, с заостренной верхушкой, предстояло взять с разбега. Призвав на помощь Господа, он прыгнул в пустоту, ощутил, как подбитые шипами ботинки заскользили по мокрому камню, восстановил равновесие, но почувствовал, как камень наклоняется под его тяжестью к темной поверхности воды, прыгнул опять, но уже в прыжке понял, что покачнувшийся валун не дал ему нужной скорости; оттолкнулся от второго камня и ощутил под руками береговую осыпь — как раз вовремя, чтобы не уйти под воду с головой: вода и так уже приходилась ему по пояс. Благодарный судьбе, он с трудом перевел дух, торопливо отжал отяжелевшие твидовые брюки — чтобы они не мешали при ходьбе, — и стал карабкаться вверх. Никогда еще пустошь не казалась ему столь предательски трудной для передвижения. Сухие пучки травы под ногами внезапно уходили в вязкую болотную жижу; хворост, как живое существо, цеплялся за намокшие твидовые штаны; сухие березовые сучки приподнимались и больно хлестали — стоило неосторожно наступить на один из них; норы и ямки среди вереска словно только и ждали, когда он оступится и упадет. «Прямо клоунада какая-то, а не преследование серьезного преступника!» с яростью думал Грант. Тяжело дыша, он добрался, наконец, до изгиба реки и распластался на земле, чтобы выяснить обстановку. Ага, вот он: ярдах в пятидесяти от дома выше по течению. Двигается медленно, с осторожностью. Гранту пришло в голову, что в то время как он, преследователь, мучается, преодолевая множество препятствий, преследуемый, можно сказать, гуляючи двигается заранее избранным путем. Ладно, недолго ему осталось так разгуливать. В тот самый миг, как этот парень пройдет через калитку, у которой было столько веселого смеха нынешним утром, он, Грант, выскочит из этого чертова вереска и рванет по дорожке вдоль реки. Револьвер и наручники при нем, и на этот раз он применит, если понадобится, и то и другое. Ламонт не вооружен, иначе не стащил бы перечницу со стола, однако он, Грант, больше не имеет права на ошибку. И не собирается он считаться с чьими-то там чувствами, в том числе и со своими. Пускай хоть все особы женского пола отсюда до самого дальнего конца Вселенной закатывают истерики — ему наплевать!
Грант все еще кипел и пыхтел от негодования, предвкушая, как он будет расправляться со своей жертвой, когда Ламонт проследовал мимо калитки.
Я всегда сожалела, что не могла видеть лицо Гранта в этот момент; не видела, как неодобрительное, осуждающее выражение лица человека, деликатностью которого так низко воспользовались, сменилось выражением величайшего изумления и разочарования. Как мальчик, у которого не получился его первый в жизни фейерверк, он отказывался верить собственным глазам. Он моргнул раз-другой, но картина оставалась прежней. Никакого оптического обмана: человек действительно прошел мимо калитки. Теперь он уже был у конца ограды и приближался к мосту. Что этот дурень задумал? Дурень? Это Грант принимал его за дурака и за него придумал прекрасный план спасения — прибегнуть к помощи мисс Динмонт и отсидеться в особняке. Но этот дурак не желает воспользоваться его планом. Вот он поравнялся с мостом. Что он намерен сделать? Какой ход задумал? Ибо то, что он действует обдуманно, было ясно по его движениям. Он шел целенаправленно, даже особо не скрываясь. Казалось, он настолько озабочен тем, что ему предстоит сделать, что мало обращает внимание на окружающее — разве что время от времени оглядывается назад. И то сказать: скрываться от людских глаз возле селения просто невозможно. Даже в это безлюдное время, когда все сидят за ужином перед тем, как час спустя выйти за порог с трубками, чтобы подымить на сон грядущий у въезда на мост, — даже и сейчас можно невзначай наткнуться на прохожего, и тогда любая его попытка спрятаться даст результат, обратный желаемому. Между тем Ламонт взобрался на насыпь перед мостом, но не стал сворачивать ни налево на мост, ни направо — к деревне. Он пересек дорогу и исчез, видимо снова спустившись к самому берегу. Что ему там понадобилось? Может, он собирается обогнуть гостиницу, что стояла возле впадения реки в лох, и попытается украсть «форд»? Хотя он должен догадаться, что Грант давно поднял тревогу. Он никогда не решится проделать путь от берега реки до гаража, после того как специально выжидал, чтобы Грант успел всех поднять на ноги. Может, направляется к побережью?
Побережье? Господи, как он раньше не додумался! Ламонт направляется к лодкам! Они наверняка лежат на пустынном берегу, и от деревни их не видно. Время прилива вот-вот должно было кончиться, и вокруг — ни души; ни взрослого, ни ребенка, никого, кто мог бы заметить его отплытие. Выругавшись про себя, Грант кубарем скатился с холма, чувствуя невольное восхищение перед изобретательностью Ламонта. Инспектор прекрасно изучил шотландский характер и посему не питал иллюзий насчет того, как часто они тут выходят в море. Случись вам остановиться в деревушке по соседству с морем — и вы немедленно убедитесь, что самая редкая еда здесь — это свежая рыба. Может пройти много дней, а то и месяцев, пока кто-нибудь не обнаружит, что, скажем, у Маккензи лодки нет на месте. Но даже и в этом случае скорее всего люди решат, что кто-то ее взял, и, дабы не растрачивать энергию понапрасну, поберегут жесткое словцо до того часа, когда лодку будут ставить обратно. «Обдумал ли все это Ламонт, пока они распивали чай, или же эта счастливая мысль осенила его позднее, во время бегства? — мелькнуло в голове Гранта, когда он выскочил на проезжую дорогу. — Если он действовал обдуманно сегодня, — продолжал размышлять Грант, устремляясь к мосту, который казался ему почему-то очень далеким, — то и убийство в очереди он наверняка спланировал заранее. Логически рассуждая, в обычной жизни человек не носит при себе постоянно кинжал, даже если его деды родом из Италии. Если так, то этот парень представляет гораздо большую угрозу для общества, чем думалось, и те два случая, когда ему изменила выдержка, не следует принимать в расчет».
Собственный план действий Грант обдумал еще до того, как начал свой беспорядочный спуск по склону холма к дороге. Когда он вместе с Дрисдейлом покидал Карнинниш Хаус, то позади дома заметил ангар для лодок, и у причала — как он уже потом догадался — стояла моторка, потому что краем глаза он видел кусочек мачты. Если его догадка верна и если Дрисдейл находится дома, то можно считать, что Ламонт у них в руках. Но сейчас все зависело от количества этих «если».
К тому времени, когда Грант добежал до моста, он окончательно выдохся. В промокшей одежде, в тяжелых сапогах с шипами ему пришлось проделать долгий путь из соседней долины в гору, а потом снова вниз. При всей натренированности стометровый спринт до калитки Карнинниш Хауса отнял у него последние силы. Теперь худшее осталось позади: лишь несколько ярдов отделяло его от порога дома, расположенного на узкой полоске земли между дорогой и морем. Вид задыхающегося, вымокшего человека сразу настроил слугу Дрисдейла на тревожный лад.
— Где хозяин? Что случилось? Он утонул? — засыпал он вопросами Гранта.
— Боже мой! Разве он не дома? У вас там моторка? Можно, я ее возьму? — произнес запыхавшийся Грант, делая неопределенный жест в сторону ангара.
Дворецкий глянул на него с подозрением. Во время утреннего визита никого из слуг Грант не видел.
— Нет, дружок, не можно, — резко ответил он. — И чем скорее ты выкинешь эту затею из головы — тем для тебя же лучше. Вот погоди, вернется мистер Дрисдейл, ты у него попляшешь, — помяни мое слово.
— Скоро он вернется? Когда?
— С минуты на минуту должен быть.
— Мне сейчас каждая минута дорога.
— Проваливай! — был ответ. — И следующий раз советую не напиваться до чертиков!
— Послушайте… — проговорил Грант, хватая его за руку. — Не валяйте дурака, я такой же трезвый, как вы. Подойдите вот сюда, откуда видно море.
Что-то в его тоне заставило дворецкого выполнить эту просьбу: хотя и с явным страхом за собственную жизнь, он вместе с этим помешанным сделал несколько шагов к берегу. Почти на середине лоха виднелась маленькая лодка; начинающийся отлив быстро уносил ее в сторону открытого моря.
— Видите? Мне нужно перехватить ту лодку, а на веслах я этого сделать не смогу.
— Это уж точно. Там течение такое сильное, как возле колеса водяной мельницы.
— Поэтому мне и нужна моторка. Кто обычно ею управляет? Сам мистер Дрисдейл?
— Нет. Когда он выходит в море, это делаю я.
— Тогда пошли. Вам придется сесть за руль. Мистер Дрисдейл меня знает. Я сегодня с его разрешения весь день здесь удил. Этот человек увел чужую лодку, а главное — он нам очень нужен и по другому делу, так что поторопитесь, пожалуйста.
— Вы берете на себя всю ответственность, сэр?
— Да, да. Будьте уверены: закон на вашей стороне, это я вам гарантирую.
— Хорошо, я только записку оставлю, — проговорил дворецкий и скрылся в доме.
Грант протянул было руку, чтобы задержать его, но не успел. Может, ему все же не поверили и тот просто удрал? Но нет: через минуту дворецкий вернулся, и они побежали к причалу, где покачивался на воде «Юный Роберт», явно названный так по имени лошади, завоевавшей первый приз на Больших скачках: на эти деньги, видимо, и была куплена моторка.
Пока слуга возился с пыхтящим мотором, из-за угла дома показался Дрисдейл с ружьем за плечами: очевидно, он возвращался со своей прогулки по горам. Грант радостно поспешил навстречу и торопливо объяснил происходящее. Без лишних слов Дрисдейл в сопровождении Гранта пошел к ангару и только тут произнес:
— Все в порядке, Пиджон. Я сам займусь этим и отправлюсь с мистером Грантом; вы же побеспокойтесь, чтобы к нашему возвращению был готов обед для двоих, нет, для троих.
С поспешностью, которую он и не пытался скрыть, Пиджон вылез на берег, оттолкнул «Юного Роберта», Дрисдейл крутанул мотор, и лодка понеслась по озеру. Пока они ложились на курс, Грант не отрывал глаз от темной точки, выделявшейся на фоне желтеющего закатного неба. Что Ламонт выкинет на этот раз? Или все-таки предпочтет сдаться без лишнего шума? Вот черная точка изменила направление. Похоже, она стала двигаться к южному берегу, и вскоре исчезла с еще освещенной западной части горизонта, затерявшись в тенях прибрежных гор.
— Вы его видите? — с тревогой спросил Грант. — Я — нет.
— Вижу. Направляется к южному берегу. Не волнуйтесь, мы там будем раньше, чем он.
Они понеслись вперед, и южный берег со сказочной быстротой неожиданно навис прямо над ними. Тут же Грант снова увидел лодку. Ламонт изо всех сил греб к берегу. Без привычки измерять расстояние на воде Гранту трудно было судить, сколько ему еще оставалось до берега и как далеко от лодки находилась их моторка, однако внезапно ослабевший стук мотора сказал ему все: Дрисдейл начал сбавлять скорость. Еще минута — и они его опередят. Между лодками оставалось всего каких-нибудь пятьдесят ярдов, когда Ламонт вдруг перестал грести. «Решил сдаться», — подумал Грант и неожиданно увидел, как находившийся в лодке человек зачем-то пригибается. «Уж не думает ли он, что мы собираемся стрелять?» — недоуменно сказал себе Грант. И тут, когда уже с выключенным мотором их лодка стала неспешно приближаться, Ламонт в одних носках и без пальто поднялся во весь рост, прыгнул на самый нос лодки, как бы собираясь нырнуть, однако, поскользнувшись на мокрых досках, полетел за борт. Послышался глухой стук: он ударился затылком о доски, и тут же ушел под воду.
К тому времени, когда моторка подошла вплотную к лодке, Грант уже успел скинуть пальто и сапоги.
— Плавать умеете? — хладнокровно спросил Дрисдейл. — Если нет, тогда подождем, пока всплывет.
— Умею. Во всяком случае, могу держаться на воде, когда знаю, что рядом лодка, — отозвался Грант. — Что ж, раз он мне нужен, так мне за ним и лезть. Он здорово стукнулся.
Грант прыгнул в воду, и через несколько секунд на поверхности показалась темная голова, после чего Грант подтянул потерявшего сознание Ламонта к борту и с помощью Дрисдейл а втащил его в лодку.
— Поймал наконец! — воскликнул он, укладывая распростертое тело на дно.
Дрисдейл прикрепил канатом пустую лодку к корме и снова завел мотор. Он с интересом наблюдал, как Грант, торопливо отжав свою мокрую одежду, внимательно осматривал пленника. Тот был в глубоком обмороке: из большого пореза на затылке сочилась кровь.
— Извиняюсь за то, что запачкал вам доски, — сказал Грант, указывая на маленькую лужицу на дне лодки.
— Ничего, отмоется, — отозвался Дрисдейл. — Это тот, за которым вы гонялись?
— Да.
— Простите за любопытство, но что он натворил? — спросил Дрисдейл, пристально разглядывая смуглое, без признаков жизни лицо.
— Убил человека.
— Вот оно что, — невозмутимо отозвался Дрисдейл с таким видом, как будто речь шла о краже овец. И, снова взглянув на лежавшего, спросил: — Он что — даго?
— Нет, коренной лондонец.
— Судя по тому, в каком он сейчас состоянии, ему, может, и не придется отбывать срок. Улизнет от вас на тот свет — и все дела.
Грант бросил на лежавшего тревожный взгляд: неужели он настолько плох? Надо надеяться, что нет!
Карнинниш Хаус уже выплывал к ним из темноты, когда Грант произнес:
— Он остановился у Логанов. Там я никак не хочу его оставлять. Лучше всего, думаю, поместить его в гостинице. Пусть правительство оплачивает все расходы, связанные с этим делом.
Однако когда они причаливали к берегу, где их уже поджидал Пиджон, Дрисдейл сказал дворецкому:
— Человек, за которым мы плавали, контужен. Какую из комнат вы приготовили для мистера Гранта?
— Ту, что рядом с вашей, сэр.
— Хорошо. Давайте-ка мы перенесем туда потерпевшего. И еще: отправьте Мастерсона в гостиницу Гарни. Пусть он предупредит там, что мистер Грант ночует у меня, и захватит необходимые ему вещи.
— Позвольте, к чему излишние заботы! — запротестовал Грант. — Этот человек заколол приятеля ударом ножа в спину!
— Я это делаю не ради него, — улыбнулся Дрисдейл. — Хотя в здешний отель я не поместил бы и своего самого злейшего врага. Однако, думаю, раз уж вы его взяли, вам не улыбается мысль потерять его теперь. Судя по вашему внешнему виду, вы немало потрудились, чтобы его поймать. А к тому времени, как там разожгут огонь в одной из заледенелых комнат, — при этом он указал в сторону гостиницы на мысе у моря, — и уложат его в постель, считайте, ваш парень уже будет все равно что мертвец. Здесь же комната приготовлена, в ней тепло и можно помыться, никуда не выходя. Проще и лучше для дела уложить его здесь. А вы, Пиджон, держите рот на замке, — обратился он к слуге, который повернулся, чтобы уйти. — Запомните: с этим джентльменом произошел несчастный случай. Мы на моторке это заметили и поспешили на выручку.
— Хорошо, сэр, будет исполнено, сэр.
Итак, Грант и Дрисдейл вдвоем перетащили бездыханное тело наверх. Там, в просторной комнате, где был уже разожжен камин, они оказали необходимую первую помощь и затем, опять-таки вместе, уложили Ламонта в постель. Тут же Дрисдейл написал короткую записку миссис Динмонт, объяснив, что с их постояльцем случилась небольшая неприятность и он останется на ночь в Карнинниш Хаусе. У него легкое сотрясение мозга — ничего опасного.
Грант только что переоделся в сухую одежду, любезно предоставленную хозяином дома, и, присев у постели, дожидался, когда его позовут к обеду, когда в дверь постучали и в комнату вошла мисс Динмонт. Она была без шляпки, держала под мышкой небольшой сверток и внешне сохраняла полнейшее спокойствие.
— Я принесла кое-что из его вещей, — произнесла она, подошла к постели и стала невозмутимо осматривать Ламонта.
Ради того, чтобы прервать молчание, Грант объяснил, что они уже послали за доктором, хотя, по его личному мнению, это всего лишь легкое сотрясение мозга. У мистера Лоу рана на затылке.
— Как это произошло? — спросила девушка.
Вопрос не застал Гранта врасплох. Он успел к нему подготовиться, пока переодевался.
Мы встретили мистера Дрисдейла, он предложил нам прокатиться по озеру. На причале господин Лоу поскользнулся и во время падения ударился затылком о доски.
Она молча кивнула. Было похоже, что она чем-то озадачена, но не решается сказать об этом вслух. Потом произнесла:
— Раз так, я собираюсь остаться и присмотреть за ним. Мы очень признательны мистеру Дрисдейлу за то, что он поместил его у себя. Знаете, сегодня утром, когда мы гуляли вдоль реки, у меня было предчувствие, что должно произойти что-то нехорошее, — продолжала она, деловито разворачивая пакет. — Я даже рада, что случилось именно это. Ведь могло быть и хуже — смерть, например. Тут уж, как говорится, ничем нельзя было бы помочь.
Последовала небольшая пауза, и, все еще продолжая раскладывать принесенные вещи, она неожиданно бросила через плечо:
— Вы тоже остаетесь здесь на ночь?
— Да, — произнес Грант.
Тут дверь распахнулась и вошел сам Дрисдейл.
— Ну как, инспектор, готовы? Вы, наверное, проголодались? Обед на столе, — проговорил он, и только тут увидел мисс Динмонт. Именно с этого момента Грант стал считать, что в лице Дрисдейла разведка потеряла ценный кадр: он и глазом не моргнул.
— А, мисс Динмонт! Волновались за своего поклонника? Не стоит беспокоиться: это всего лишь легкое сотрясение. Доктор Андерсон прибудет с минуты на минуту.
Любая другая, может, так ничего бы и не заподозрила, но с упавшим сердцем Грант отметил, что эта умница ничего не пропустила мимо ушей.
— Спасибо, что вы поместили его у себя, — сказала она, обращаясь к Дрисдейлу. — До прихода доктора тут вряд ли можно что-то еще предпринять. Но если вы не возражаете, я останусь на ночь при нем.
Потом она повернулась к Гранту и, глядя ему прямо в глаза, спросила:
— Вы инспектор чего?
— Инспектор школ, — нашелся Грант, но тут же пожалел о своем ответе.
Дрисдейл тоже понял, что уловка не сработала, но стоически поддержал Гранта.
— Он не похож на школьного инспектора, правда? Но на такую должность обычно и попадают неудачливые учителя, — произнес он. — Принести вам что-нибудь, пока еще не готов обед, мисс Динмонт?
— Нет, спасибо. Могу я вызвать горничную, если будет необходимо?
— Разумеется. А если понадобится кто-то из нас, то мы будем внизу, как раз под вами.
Дрисдейл вышел из комнаты в коридор, но в тот момент, когда Грант собирался последовать за ним, девушка вышла вместе с ним и прикрыла за собою дверь.
— Инспектор, вы что, за дурочку меня принимаете? — проговорила она. — Поймите: я работаю в лондонских больницах уже целых семь лет. Зря вы относитесь ко мне, будто я деревенская простушка. Будьте добры, объяснитесь: к чему вся эта таинственность?
Дрисдейл к тому времени уже сошел вниз, Грант остался с ней один на один и понял, что не вправе незаслуженно оскорбить ее еще одной ложью.
— Хорошо, мисс Динмонт, — решился он. — Вот вам правда. Я не хотел, чтобы вы ее знали, потому что стремился избавить вас… скажем так: избавить вас от напрасных сожалений. Но теперь уж ничего не поделаешь. Так вот: я прибыл из Лондона, чтобы арестовать вашего постояльца. Когда я пришел к вам пить чай, он уже догадался, зачем я здесь, потому что знал меня в лицо. Он дошел со мной до развилки и там сбежал. В конце концов ему удалось взять лодку и отплыть. Во время преследования он попытался нырнуть с лодки и расшиб голову.
— За что вы хотите его арестовать?
— В Лондоне он убил человека.
— Убил, — медленно проговорила она. Это слово не было произнесено вопросительным тоном, она, видимо, поняла, что, если бы убийство было непредумышленным, инспектор выразился бы иначе. — И настоящее имя у него другое?
— Да. Его зовут Ламонт, Джеральд Ламонт.
Грант ожидал обычного в таких случаях возмущенного возгласа: «Я не верю! Он на это не способен!», но его не последовало.
— Вы его арестуете по подозрению, или он действительно это сделал?
— Боюсь, что сомнений в его виновности нет, — как можно мягче ответил Грант.
— Но тетя… Тогда зачем она согласилась послать его сюда?
— Думаю, она его пожалела. Она знала его довольно долго.
— За все время, что я жила в Лондоне, я видела тетю всего один раз — мы не очень-то понравились друг другу, — но она не произвела на меня впечатления человека, склонного испытывать жалость к преступнику. Скорее я могла бы поверить, если бы она сама с ним расправилась. Так он даже и не журналист?
— Нет. Он служащий букмекерской конторы.
— Спасибо за то, что вы сказали мне, наконец, правду. Ладно, пойду подготовлю все для доктора Андерсона.
— Как?! Вы все-таки собираетесь ухаживать за ним? — невольно вырвалось у Гранта. Может, именно теперь она закричит, что не верит ни одному его слову?
— Конечно, собираюсь, — ответила эта странная девушка. — Он преступник, но у него сотрясение мозга, он использовал во зло наше гостеприимство, но тем не менее я профессиональная медицинская сестра — в данном случае существенно только это. И потом, даже будь у меня совсем другая профессия, я поступила бы точно так же. Вам, вероятно, известно, что в старые времена в горах Шотландии человеку предоставляли кров и убежище, даже если его руки были обагрены кровью брата хозяина дома. Не часто я хвастаю своими предками, но сейчас, полагаю, особый случай.
Последние слова она произнесла прерывистым голосом, то ли сдерживая смех, то ли силясь не расплакаться. Наверное; тут было и то и другое. Затем она вернулась обратно в комнату, чтобы ухаживать за человеком, который так беззастенчиво воспользовался ее добротой и ее гостеприимством.
Глава тринадцатая
ВЫЖИДАНИЕ
Грант провел беспокойную ночь, хотя, казалось, должен был спать сном праведника: он справился с задачей, ради которой прибыл сюда, и завершил срочное дело; он провел трудный день на воздухе, который одновременно и бодрил и успокаивал; ему предложили обед, о котором даже проголодавшийся гурман мог только мечтать. Море за окном — апофеоз покоя — глубоко и тихо вздыхало. Торф в камине горел бесшумно, как ни дрова, ни уголь никогда не горят. И все-таки Гранту не спалось — более того: где-то, в самом дальнем уголке его сознания, у него затаилось странное беспокойство, и, будучи человеком, склонным к самоанализу, Грант силился определить его источник, с тем чтобы, как бывало раньше, обнаружив его, сказать себе: «Вот оно — сущий пустяк!» — и успокоиться. По опыту он прекрасно знал: то, что зачастую мешало ему безмятежно предаваться сну, на поверку оказывалось действительно пустяком — как в сказке о принцессе и горошине под ее двенадцатью матрацами. Но на этот раз как ни доискивался, он так и не мог выявить причины своего беспокойства. Грант мысленно рассмотрел несколько возможных причин, но отбросил их одну за другой. Девушка? Может, ему было жалко ее за ее стойкость, ее деликатность?
Но у Гранта не было никаких оснований думать, будто она испытывает к Ламонту нечто большее, чем просто дружеские чувства. Ее явное внимание к этому человеку во время чаепития вполне могло объясниться просто тем, что, с ее точки зрения, в этих краях он был единственным интересным собеседником.
Обыкновенная усталость? Действительно, ему давно не приходилось так напрягать силы: целый день рыбалки, да вдобавок пеший бросок по пересеченной местности. Может быть, страх, что этому парню все же удастся ускользнуть от него? Но доктор Андерсон уверил Гранта, что трещины в черепе нет и пациент через день-два будет всостоянии перенести путешествие в Лондон. Что касается шансов сбежать, то теперь у Ламонта их практически не осталось. Ничто на свете, казалось, не должно было внушать ему тревогу, и тем не менее она не проходила. Ворочаясь с боку на бок, он в какой-то момент услышал, как девушка проходит по коридору, и решил узнать, требуется ли ей помощь. Он надел халат, вышел и двинулся по направлению к полоске света, шедшей из полуоткрытой двери. Девушка со свечой в руке подошла сзади.
— Он никуда не убежит, инспектор, — сказала она с явной иронией. Эта несправедливая насмешка задела его за живое.
— Я не спал, услышал ваши шаги и подумал, что могу чем-нибудь быть полезен, — ответил он с достоинством — если только можно говорить о достоинстве, когда встречаешься с незнакомой женщиной посреди ночи в неодетом виде.
— Спасибо, у меня все в порядке, — ответила она. — Ничего не нужно. Он все еще не пришел в сознание.
Она распахнула дверь и пропустила его вперед.
У постели горел ночник, остальная комната тонула в темноте и была наполнена шумом моря — тихим, но мощным звуком, столь непохожим на рев прибоя у открытого побережья. Как она и сказала, Ламонт все еще был без сознания. Грант окинул его внимательным взглядом: он выглядел лучше и дышал ровнее.
— К утру он придет в себя, — словно пытаясь обнадежить Гранта, сказала девушка.
— У меня нет слов, чтобы выразить, как я сожалею, что на вас все это свалилось, — неожиданно сказал Грант. — Что вы оказались втянуты в это дело.
— Не преувеличивайте, инспектор. Я не такая уж хрупкая и чувствительная, какой, может быть, вам кажусь. Единственное, чего бы мне хотелось — это чтобы мама и дядя ничего не узнали об этой истории. Вы сумеете так устроить?
— О да, надеюсь. Мы всегда можем сказать, что доктор Андерсон рекомендовал ему для скорейшего выздоровления южный курорт.
Ее всю передернуло, и Грант с запоздалым раскаянием подумал, что шутка получилась злая и неуместная.
— Он что же, профессиональный преступник? — внезапно спросила девушка. — То есть, кроме этого случая, есть и другие?
— Нет, — ответил Грант. — Насколько нам известно, ничего подобного.
И тут же, боясь, как бы робкие всходы чувства, растоптанные им вечером, не зазеленели снова и не принесли ей новых разочарований, торопливо добавил:
— Но он всадил человеку нож в спину.
— Человеку из очереди? — спросила она, и Грант кивнул. Еще и теперь он ожидал услышать это обычное женское «не верю», но так и не услышал. Он встретил наконец женщину, у которой здравый смысл преобладал над эмоциями.
Она знала Ламонта всего три дня: в течение всего этого времени он лгал ей ежечасно, ежеминутно, полиция разыскивала его за совершение убийства. В ее серых, ясных глазах читалось, что она не находит возможным сказать хоть что-нибудь в его защиту.
— В ванной комнате у меня на спиртовке греется чай, — произнесла она. — Хотите?
Грант согласился, и они глотали обжигающе горячую жидкость возле открытого окна, а под ними в странно затихшей, душистой ночи дышало, вздымаясь, море. Потом Грант отправился спать — опять-таки с полным убеждением, что отнюдь не эмоции мисс Динмонт явились причиной его беспокойства, но по-прежнему с ощущением смутного недовольства собой. И теперь при золотистом свете утра, составляя победную реляцию для Баркера и вдыхая аппетитный аромат жареного бекона с яичницей, удивительным образом смешанный с запахом морских водорослей, он по-прежнему не ощущал, казалось бы, вполне законной радости. Появилась мисс Динмонт. Она была в белом халате, что делало ее похожей то ли на врача, то ли на монашенку, сообщила, что ее пациент пришел в себя, и попросила Гранта не подниматься к нему до прихода доктора Андерсона: она опасалась за рецидив. Грант нашел ее довод резонным и согласился.
— Он что, только сейчас пришел в себя? — спросил затем Грант.
— Нет, — ответила девушка, — несколько часов назад. — И спокойно удалилась, оставив Гранта теряться в догадках по поводу того, какие разговоры вели сиделка и ее пациент в течение этих нескольких часов.
За завтраком к нему присоединился Дрисдейл — дружелюбный и скупой на слова, как и накануне. Он предложил Гранту посвятить этот день настоящей рыбной ловле — в отличие от предыдущего дня, когда инспектор рассеянно и бесцельно лишь мутил воду. Грант сказал, что отправится сразу же, как только узнает от доктора Андерсона о результатах осмотра больного.
— Вероятно, — добавил он, — можно будет устроить так, чтобы все полученные на мое имя телеграммы доставляли немедленно прямо мне в руки?
— О да, конечно. Пиджон обожает быть в центре событий. Сейчас он просто расцвел оттого, что всем нужен.
Доктор Андерсон — маленький человечек в потрепанном и весьма неопрятном твидовом костюме объявил, что пациент чувствует себя вполне прилично, «прилично вполне, даже память не пострадала», однако он рекомендует Гранту, которого он принял за близкого друга потерпевшего, не навещать его до вечера. Лучше всего ему денек-другой не вставать и побыть в покое. Поскольку мисс Динмонт взяла на себя заботу о нем, то опасаться нечего. Мисс Динмонт превосходно знает свое дело.
— Когда он будет в состоянии перенести дорогу? — спросил Грант. — Нам нужно поскорей вернуться на юг.
— Если вы очень торопитесь, то, возможно, послезавтра. Или, в самом крайнем случае, завтра, — добавил доктор, заметив разочарование Гранта, — но, право же, лучше выждать еще хотя бы один день.
— Куда спешить? Лишняя смола кораблику не помешает, — заметил Дрисдейл.
— Как бы тот кораблик с якоря не сорвался! — откликнулся Грант и, обернувшись к изумленному доктору, разъяснил ситуацию.
— Как вы думаете, он не сможет сбежать, если мы дадим ему еще день на поправку? — спросил он затем.
— За сегодняшний день можете не волноваться, — ответил доктор. — Сейчас он и мизинцем не способен шевельнуть. Если решится сбежать, то его придется нести на руках, а я не думаю, чтобы кто-нибудь здесь на это согласился.
После такого заключения Грант, по-прежнему ощущая беспричинное недовольство собой и не понимая его причины, составил дополнительную телеграмму на имя Баркера и в сопровождении Дрисдейла отправился удить.
Вдосталь насладившись любимым занятием, которое лишь однажды было прервано прибытием посланца Пиджона — курносого юнца с торчащими, как ручки кастрюльки, ушами — с телеграммами от Баркера, он и Дрисдейл где-то между пятью и семью вернулись домой. Ополоснувшись, Грант постучал в дверь комнаты, где лежал Ламонт.
Мисс Динмонт впустила его, и на него глянули черные глаза Ламонта.
«Слава Богу! Не сбежал!» — облегченно подумал Грант. Ламонт первым нарушил молчание.
— Ну вот вы меня и поймали, — проговорил он, чуть растягивая слова.
— Похоже на то, — согласился Грант. — Однако вы заставили меня здорово побегать.
— Да, — откликнулся Ламонт, быстро взглянув на девушку и тут же снова переведя взгляд на Гранта.
— Скажите, что заставило вас нырять? Что была у вас за идея?
— Плавать и нырять я мастер. Если бы не поскользнулся, добрался бы до скал и затаился, — один нос торчал бы из воды — до тех пор, пока вам не надоело бы ждать, а там, глядишь, и стемнело бы. Но вы победили в этой гонке. Хотя всего на голову, — закончил он, прибегнув к лексикону наездников. Похоже, он был доволен собственным остроумием.
Наступило короткое молчание.
— Думаю, инспектор, он уже в состоянии провести ночь без сиделки, — послышался размеренный, невозмутимый голос мисс Динмонт. — Во всяком случае, медицинская помощь ему не потребуется. Может, кто-нибудь в доме согласится подежурить при нем на всякий случай?
«Она намекает, что ее пациент достаточно оправился и ему нужен более солидный страж», — благодарно подумал Грант и спросил:
— Вы хотите уйти сейчас же?
— Да, как только можно будет найти мне замену, не причиняя никому лишнего беспокойства.
Грант вызвал горничную, объяснил ей, что требуется, и сказал девушке, что она может уходить, а пока возле постели останется он сам.
Мисс Динмонт стала собирать вещи, а Грант отошел к окну и стал глядеть на лох — чтобы не мешать, если бы им захотелось обменяться несколькими словами. Но за спиной у него было тихо, и, повернув голову, он увидел, что девушка явно вся поглощена упаковкой своих вещей, а мужчина смотрит на нее неподвижным взглядом, с открытым нетерпением ожидая ее ухода. Грант снова стал глядеть в окно.
— Я увижу еще вас до отъезда? — раздался голос мисс Динмонт у него за спиной. Ей никто не ответил, и Грант понял, что вопрос адресован ему.
— Надеюсь, что да. Если не встретимся здесь, вы позволите зайти к вам домой?
— Хорошо. Тогда я сейчас не прощаюсь, — с этими словами она подхватила свой сверток и вышла.
Грант взглянул на своего пленника и тотчас отвернулся. Даже в душу убийцы не годится влезать в сапогах. Когда Грант снова поглядел на Ламонта, глаза его были закрыты, а на лице застыло выражение такого беспредельного отчаяния, что Грант неожиданно почувствовал, что растроган. Значит, все же Ламонт действительно успел увлечься ею и это не был циничный расчет.
— Могу ли я что-нибудь для вас сделать, Ламонт? — спросил он.
Темные, словно невидящие глаза распахнулись н обратились в его сторону.
— Вероятно, это будет действительно чересчур — заставить вас поверить, что я никого не убивал.
— Боюсь, что да, — сухо ответил Грант.
— Но я правда не совершал этого.
— Никто и не ожидает, что вы сами в этом признаетесь.
— То же самое сказала и она.
— Кто? — удивленно спросил Грант.
— Мисс Динмонт. Когда я сказал, что этого не делал.
— Ах так? Видите ли, тут действует закон исключения. Тем более улики настолько явные, что ошибка едва ли возможна. Вплоть до вот этого, — и Грант указал на шрам у большого пальца. — Откуда он у вас?
— Порезался в то утро, когда затаскивал сундук на новой квартире в Брикстоне.
— Да будет вам, — небрежно бросил Грант. — Не станем обсуждать это сейчас, вы еще слишком слабы, чтобы можно было снимать показания. Если я сделаю это сейчас, то могут заявить протест, будто они получены, пока вы были недееспособны.
— Мои показания не изменятся, когда бы вы их ни записывали, — сказал Ламонт. — Одно плохо: мне никто не поверит. Если бы я думал, что мне поверят, не стал бы и убегать.
Грант много раз слышал такую аргументацию. К подобной увертке прибегал любой преступник, оказавшийся в безвыходной ситуации.
Когда преступник прикидывается невинной жертвой, законник тотчас же настораживается и начинает думать о возможности ошибки; однако на полицейского офицера, которому чаще приходится иметь дело с преступным элементом, такой трюк слабо действует, а вернее сказать, не действует совсем. Офицер полиции, если его можно разжалобить слезной историей, — сомнительное приобретение для службы в подразделении, основная задача которого — обуздание самого скользкого и ненадежного создания — человека с криминальными наклонностями. Поэтому Грант лишь улыбнулся и снова отошел к окну. Вода в лохе была в этот вечер гладкая как зеркало: прибрежные скалы отражались в ней до мельчайших деталей. Внизу, возле ангара, покачивался «Юный Роберт» — ни дать ни взять, рисованный кораблик, хотя никакие краски не способны передать глубокой прозрачности моря, каким оно было сейчас.
— Как вы узнали о том, куда я уехал? — прервал молчание Ламонт.
— Отпечатки, — односложно ответил Грант.
— У вас были мои отпечатки пальцев?
— Не ваши. Ваши мы снимем завтра.
— Тогда чьи же?
— Миссис Эверет.
— При чем тут миссис Эверет? — спросил Ламонт, и в первый раз в его голосе прозвучало что-то похожее на вызов.
— Думаю, об этом вам известно больше нашего. Перестаньте разговаривать. Я хочу, чтобы завтра, самое позднее послезавтра, вы были в состоянии двинуться в путь.
— Послушайте, вы не доставили неприятностей миссис Эверет, а?
— Скорее это она доставила нам неприятности, — сказал с усмешкой Грант.
— Что это значит? Ее не арестовали?
Было совершенно очевидно, что Ламонт не успокоится, пока не узнает, как они его выследили, и Гранту пришлось ему все рассказать.
— Мы нашли отпечатки пальцев миссис Эверет на вашей последней квартире, — начал он. — А поскольку до этого миссис Эверет заявила, будто ей неизвестен ваш новый адрес, то нам стало ясно, что тут без нее не обошлось. Мы выяснили, что здесь живут ее родные, потом наш агент рассказал, как вы обвели его вокруг пальца на вокзале Кингз-Кросс; он точно описал миссис Эверет, и тогда мы поняли, что идем по верному следу. В Брикстоне мы вас уже чуть не взяли.
— А миссис Эверет? У нее не будет неприятностей?
— Думаю, теперь, когда вы у нас в руках, — не будет.
— Я с самого начала свалял дурака. Не надо было мне бежать. Приди я тогда и расскажи все как есть — не пришлось бы мне проходить через все эти муки. Забавно… — произнес затем Ламонт, устремив взгляд на море за окном. — Если бы не убили Берта, то я бы никогда не увидел этих мест и… и всего остального. — Под «остальным», как понял Грант, подразумевался пасторский дом.
— Да-а, — протянул Грант и быстро спросил: — Так кто же, по-вашему, убил его?
— Не знаю. Не знаю никого, кто мог бы такое сделать с Бертом. Думаю, его убили по ошибке.
— Так просто? По рассеянности, что ли?
— Нет, просто приняли его за кого-то другого.
— А вы? Вы, левша, со шрамом на большом пальце, вы, который ссорился с Бертом непосредственно перед тем, как его убили, вы — невинная жертва?
— Понимаю. И без вас понимаю, что положение мое — хуже некуда, — произнес Ламонт, устало откидываясь на подушки.
В дверь постучали, и юнец с оттопыренными ушами возник на пороге, заявив, что его прислали сменить мистера Гранта.
— Вы мне понадобитесь минут через пять, — сказал Грант. — Позвоню — тогда придете.
Паренек, блеснув улыбкой, как чеширский Кот из «Алисы в стране чудес», растворился в темноте коридора.
Грант извлек что-то из кармана, повозился у раковины и, переходя к постели, сказал:
— Разрешите-ка пальчики. Процесс безболезненный, так что волноваться не стоит.
Он снял отпечатки пальцев с обеих рук на заранее подготовленные листы бумаги. Ламонт претерпел эту процедуру равнодушно, даже с известной долей любопытства, какое проявляет всякий, делающий что-то — пусть даже незначительное, — впервые в жизни.
Уже прижимая его пальцы к бумаге, Грант понял, что не найдет этих отпечатков в их картотеке. Они пригодятся только для сопоставления с другими, проходящими по этому же делу. Грант положил их на просушку и тут услышал вопрос Ламонта:
— Вы что же, восходящая звезда в Скотланд-Ярде?
— Пока еще нет. Не льстите себя надеждой, что имели дело со звездой.
— Нет, просто я так подумал, потому что видел в газете вашу фотографию.
— А, так вот почему вы побежали от меня прочь в прошлую субботу на Стренде!
— Неужели это было всего лишь в прошлую субботу? Лучше бы мне было тогда угодить под машину.
— А я едва этого избежал.
— Да. Я просто обалдел, когда увидел, что вы так быстро оказались на той же стороне.
— Если это может послужить вам утешением, то должен признаться, вы меня не меньше ошарашили, когда я увидел, как вы нырнули обратно на Стренд. Что вы потом сделали?
— Сел в такси. Оно как раз проезжало мимо.
— Скажите, — продолжал допытываться Грант, не в силах сдержать любопытства. — Вы уже во время чаепития задумали побег на лодке?
— Ничего я не задумывал. Мысль насчет лодки пришла мне в голову потом. Я хорошо умею грести и решил, что вы вряд ли догадаетесь. Я намеревался от вас сбежать, но никакого плана у меня не было до последней минуты, пока случайно не увидел перечницу на столе. Другого средства у меня под руками не было. Мой револьвер остался у Берта.
— Ваш револьвер? Так это ваш револьвер был в его кармане?
— Да. За ним я и приходил к нему в очередь.
Но сегодня Гранту такого рода признания были не нужны.
— Перестаньте говорить, отдыхайте! — приказал он. — Все, что вы найдете нужным сообщить, я запишу завтра. Если ночью я вам понадоблюсь, пошлите за мной мальчика.
— Ничего не нужно, спасибо. Вы и так обошлись со мной куда лучше, чем, как я предполагал, в полиции обходятся с преступниками.
Это было сказано так, что Гранту тут же вспомнился Рауль: у Ламонта был тот же тон хорошо воспитанного мальчика. Грант не удержался от улыбки; тень улыбки промелькнула и на смуглом лице Ламонта.
— Знаете, — сказал он, — за это время я много думал о Берте, и мне кажется, если его убили не по ошибке, то, вероятно, это дело рук женщины.
— Благодарю за подсказку, — холодно сказал Грант и вышел, препоручив Ламонта заботам юнца. Как ни странно, но, спускаясь вниз по лестнице, он почему-то подумал о миссис Рэтклиф.
Глаза четырнадцатая ПОКАЗАНИЯ ЛАМОНТА
Свои показания Ламонт стал давать не в Карнинниш Хаусе, а в поезде. При обсуждении этого вопроса в гостинице доктор Андерсон стал уговаривать дать его пациенту еще один день на поправку.
— Вы же не хотите, чтобы у него началось воспаление мозга? — добавил он.
Грант, которому не терпелось иметь документ, где черным по белому были бы записаны все показания, пытался убедить его, что Ламонту самому полезнее выговориться: тогда он, возможно, станет спокойнее.
— Поначалу, может, так оно и будет, — настаивал доктор, — но, прежде чем кончит говорить, он вымотается вконец, и тогда ему придется пролежать в постели еще один день. Послушайтесь моего совета: оставьте пока его в покое.
Грант уступил и, таким образом, дал своему пленнику дополнительное время отшлифовать легенду, которую, как он был уверен, тот собирается ему преподнести. «Никакая шлифовка, — удовлетворенно подумал Грант, — уже не сможет повлиять на имеющиеся улики. Они неопровержимы — факт всегда есть факт». Грант понимал, что его нетерпение вызвано лишь любопытством и опасением за исход всего дела, и решил потерпеть. Он отправился на моторке с Дрисдейлом в лох порыбачить, но фырканье мотора каждый раз напоминало ему о той добыче, которая попалась ему два дня назад. Он нанес визит пастору, но и там, сидя напротив невозмутимой миссис Динмонт и глядя на новую перечницу, думал только о Ламонте. Он отправился в церковь — отчасти для того, чтобы сделать приятное пастору Логану, но главным образом затем, чтобы не оставаться наедине с мисс Динмонт, — и выслушал проповедь, в ходе которой мистер Логан убеждал себя и прихожан, что Царю Царей фокстрот ни к чему; и потом, когда затих непередаваемо нудный хор, возносивший хвалу Господу, и господин Логан отпустил всем грехи, он думал только о том, что теперь сможет, наконец, вернуться к постели пленника. Он стал для Гранта чем-то вроде навязчивой идеи, и это злило его самого. Когда мисс Динмонт, — девушка в церковь не ходила — напомнила, чтобы утром, когда будут проезжать мимо, они не забыли остановить машину у особнячка, чтобы семейство пастора смогло попрощаться со своим гостем, Грант воспринял это как еще одну неприятную неожиданность: он надеялся, что ему не придется больше ломать комедию.
Но все оказалось значительно проще. Ламонт, как и тогда, во время чаепития, сыграл безупречно, и ни хозяину, ни хозяйке дома не пришло в голову, что с ним что-то неладно, за исключением самочувствия. Мисс Динмонт при прощании отсутствовала.
— Данди сказала, что она с вами уже простилась, — пояснила ее мать, — а повторное прощание приносит несчастье. Разве вы на самом деле несчастливый человек, мистер Лоу?
— На самом деле, — подтвердил Ламонт, обаятельно улыбнувшись. Машина тронулась, и Грант достал наручники.
— Извините, — деловито сказал он. — Это только до вокзала.
Но Ламонт не обратил на него никакого внимания. «Несчастливый человек!» — задумчиво, со странным удовольствием повторил он. На железнодорожной станции к ним присоединился сотрудник полиции в штатском, и в поезде к ним в купе никого не подсаживали.
В тот же вечер после обеда, когда тьма уже легла на горы, побледневший и, чувствовалось, совсем измученный, Ламонт объявил, что готов рассказать все, что ему известно.
— Это немного. Но я хочу, чтобы вы меня выслушали.
— Вы понимаете, что все, вами сказанное, может быть использовано на суде против вас? — напомнил Грант. — Ваш адвокат несомненно посоветовал бы вам не отвечать на вопросы. Вы тем самым играете нам на руку и ослабляете позиции защиты.
«Зачем я соблюдаю все эти ненужные формальности? — думал Грант, произнося эти слова. — Ведь я ему уже об этом говорил». Однако Ламонт стоял на своем, и констебль приготовился записывать.
— С чего начинать? — спросил Ламонт. — Это трудно: решите, откуда начать.
— Начните, скажем, с того, как вы провели тот день, когда был убит Соррел: прошлый вторник, тринадцатого числа.
— Хорошо. Утром мы упаковали вещи — Берт в ту ночь отплывал в Америку; потом я отвез свои на новую квартиру в Брикстон, а он — на вокзал Ватерлоо.
«Идиот! Про багаж я начисто забыл!» — подумал Грант.
Погоня по фальшивому следу, связанная с Рэтклифами, потом преследование Ламонта не оставили ему времени для проверки детали, которая находилась у него под носом! Хотя вряд ли это могло иметь решающее значение.
— Это заняло у нас все утро. Затем мы перекусили у «Львов» на Ковентри-стрит…
— Где сидели?
— За угловым столиком, на первом этаже.
— Хорошо, продолжайте.
— В течение всего ланча мы спорили. Дело в том, что я хотел его проводить до Саутгэмптона и пробыть до самого отплытия, а он запретил мне даже приходить на вокзал Ватерлоо. Сказал, что терпеть не может проводов — особенно отправляясь в дальнее путешествие. Помню, он сказал: «Если человек едет недалеко, то в этом нет необходимости, если далеко и надолго — тогда это уже не имеет значения. Несколько лишних минут ничего не изменят». Позднее мы пошли на дневное представление в Уоффингтон, смотреть «А вы и не знали?».
— Как? — воскликнул Грант. — Вы были на дневном спектакле?
— Да. Это было решено заранее. Берт заказал места. В партере. Это был как бы наш прощальный праздник. Во время антракта он сказал, что после окончания собирается занять очередь на галерку и на вечернее шоу. Он без конца ходил на этот спектакль — прямо помешался на нем. Мы часто бывали в театре вдвоем, но в тот раз он заявил, что после представления мы должны попрощаться. Мне показалось неуместным такое прощание, ведь мы были дружны столько лет, но он всегда был немного непредсказуем, и я не собирался настаивать: хочет прощаться так — пожалуйста. Ну вот, на выходе мы расстались, и я отправился в Брикстон распаковывать вещи. Настроение было — хуже некуда. Кроме Берта, близких друзей у меня нет, и после миссис Эверет я чувствовал себя в новом жилье очень одиноко.
— А вам не хотелось поехать вместе с Соррелом?
— Конечно, хотелось, но у меня не было денег. Одно время я даже надеялся, что он мне одолжит на дорогу. Но этого не случилось. Меня это даже немного обидело. Так или иначе, но в тот день я почувствовал, что сыт по горло. И сам Берт тоже был невесел. Он все жал и жал мне руку, и видно было, как ему тяжело прощаться. Он сунул мне сверток и взял с меня обещание, что я раскрою его через день, то есть после его отплытия. Я решил, это какой-нибудь прощальный подарок, и не придал этому особого значения. Оберточная бумага была тонкая — такой обычно пользуются в ювелирных магазинах, и я, честно говоря, подумал, что там часы. Мои всегда ходили плохо. Берт любил повторять, что если я не обзаведусь новыми часами, то могу опоздать ко Второму Пришествию. — На последней фразе Ламонт вдруг будто поперхнулся и замолк. Отвернувшись, он стал протирать оконное стекло. Потом снова заговорил: — Так вот, когда в Брикстоне я распаковывал вещи, то обнаружил, что мой револьвер пропал. Я никогда им не пользовался. Сохранил его как сувенир со времен войны. Может, вам это и неизвестно, но я прошел службу в армии. И сказать по правде, лучше сто раз перерезать проволоку и все такое, чем скрываться от преследования полиции в Лондоне. На открытых пространствах это все не так страшно, скорее напоминает игру. Но в Лондоне… В Лондоне — как в ловушке. А вам это не приходило в голову?
— Тоже приходило. Но я почему-то думал, что в городе вам лучше.
— Лучше в городе?! О Господи! — воскликнул Ламонт и замолчал, как видно заново вспоминая все пережитое.
— Итак, — напомнил Грант, — вы хватились револьвера.
— Ну да. Хотя я никогда им не пользовался, у миссис Эверет он хранился в ящике стола. Я прекрасно помнил, куда его положил, когда все укладывал в дорожный сундук. Я сразу хватился его при распаковке. Почему-то я тогда же сразу перепугался. Начал вспоминать о том, что в последнее время Берт стал особенно молчалив. Он и всегда был не очень-то разговорчив, но в последние дни — особенно. Потом я подумал, может, Берт взял револьвер, потому что отправлялся в чужую страну. Хотя, с другой стороны, мог бы и прямо попросить. Он знал, что я ему не отказал бы. Во всяком случае, я испугался, сам не знаю чего, пошел и разыскал его в этой очереди. Он стоял недалеко, где-то в первой трети, думаю, нанял мальчишку, чтобы тот занял ему очередь. Наверное, он уже заранее решил пойти на вечернее шоу. Чувствительный он был очень, мой Берт. Я спросил про револьвер, и он признался, что его взял. Тогда мне вдруг снова стало страшно. Казалось бы, чего тут пугаться — приятель взял револьвер, только и всего. Но я действительно перепугался и потребовал его назад. Он спросил почему, а я сказал: потому что он мой и самому нужен. «Низкая у тебя душонка, Джерри! Твой друг уезжает на край света, в то время как ты остаешься в тихом, мирном Лондоне, а тебе жалко такой пустячной вещи?» — сказал он. Но я продолжал настаивать, и тогда он проговорил: «Ладно, возись и ищи его в моем багаже. Вот тебе ключ от сундука и квитанция». Только тогда я удивился, с чего я взял, что револьвер у него при себе? Мне стало стыдно, что я так унизил себя в его глазах. Со мной так часто бывает: сначала сделаю, а уж потом начинаю думать; у Берта всегда было наоборот — сначала как следует обдумает и только потом выполнит все в точности, как решил заранее.
Пусть он оставит при себе ключ и квитанцию, сказал я и ушел.
В вещах Соррела квитанции не нашли.
— Вы сами видели эту квитанцию?
— Нет. Он лишь предложил отдать ее мне. На следующее утро я вышел из дома довольно поздно. Мне пришлось самому заниматься завтраком и мыть посуду, а я не привык — этим всегда занимался Берт; я никуда не спешил, потому что сидел без работы. Я надеялся ее найти с началом сезона скачек. Когда я вышел, было уже около двенадцати, и Берт все не выходил у меня из головы. Я настолько был недоволен собой, своим глупым поведением при прощании, что пошел на почту и направил Берту на «Королеву Аравии» телеграмму из двух слов: «Извини. Джерри».
— Из какого почтового отделения?
— Из того, которое на Хай-стрит в Брикстоне.
— Хорошо, продолжайте.
— Потом я купил газету, вернулся домой и тут прочитал про убийство в очереди. В сообщении не давалось подробного описания внешности убитого, лишь сообщили, что он молодой и светловолосый, и я никак не связал это с Бертом. Понимаете, я-то ведь к тому времени думал, что он уже на пароходе. Если бы сообщили, что человека застрелили, я бы, наверное, сразу перепутался. Но заколот ножом? Нет, мне и в голову не пришло, что это Берт.
Когда Ламонт дошел в своем рассказе до этого места, Грант с величайшим изумлением взглянул на него. Что если все-таки предположить, что этот человек говорит правду? Если он врет — то так убедительно и с таким хладнокровием, с каким Гранту еще не приходилось сталкиваться в течение всей его богатой на встречи с криминальными персонажами служебной карьеры. Но парень будто вовсе и не замечал, как пристально наблюдает за ним Грант. Казалось, он целиком был захвачен теми событиями, о которых рассказывал. Если он притворялся, то это было лучшее действо, при котором Гранту когда-либо доводилось присутствовать, — а в этом деле он считал себя знатоком…
— Утром в четверг, когда я стал прибираться, то наткнулся на пакет, который мне дал Берт, и развернул его. Внутри оказалась вся наличность Берта. Я чувствовал себя уничтоженным, и меня снова охватил страх. Я подумал, случись что с Бертом, я бы наверняка об этом узнал, то есть я так полагал тогда, — но все же мне было крайне неприятно. Никакой записки — только деньги. Мне вспомнились его слова, когда он передавал мне этот сверток, — что это, мол, для меня и чтобы я вскрыл его на следующий день после отплытия парохода. Я не знал, как поступить с этими деньгами, потому что по-прежнему думал, что Берт уже плывет по направлению к Нью-Йорку. Потом я вышел и купил вечерний выпуск. На этот раз сообщения об убийстве в очереди шли под крупными заголовками — уже со всеми подробностями, вплоть до описания одежды и того, что было в карманах убитого. Снимок был черно-белый, но я сразу узнал Берта. Я едва держался на ногах, но сел в автобус, решил поехать в Скотланд-Ярд и рассказать обо всем, что мне известно. Уже в автобусе я прочитал статью до конца. Там говорилось о том, что убийца был левшой, и еще о том, что ищут того, кто отошел от очереди. И тут я вспомнил, что мы разговаривали на повышенных тонах, а нас могли слышать, и о том, что у меня все деньги Берта — и никакого подтверждения, как они ко мне попали. Весь в холодном поту, я вышел из автобуса и стал думать, что делать. Чем больше я думал, тем больше крепло мое убеждение, что мне с моей историей нельзя появляться в Скотланд-Ярде. И я все время мучился: ведь Берт там лежит мертвый, а из-за меня убийца разгуливает где-то на свободе. В тот день я чуть с ума не сошел. Все думал, может, они там и без меня выйдут на след настоящего убийцы? Потом подумал: наверное, я просто ищу для себя предлог, чтобы не ходить в полицию. Все думал, думал, но так и не мог ни на что решиться.
В пятницу сообщили, что должно состояться предварительное слушание, а Берта по-прежнему никто не опознал. В какой-то момент я совсем было решился пойти в полицию — мысль о Берте придала мне смелости, но потом опять представил, насколько неправдоподобным вам покажется мой рассказ. Вместо того чтобы явиться самому, я послал деньги на похороны Берта. Мне хотелось сообщить его имя, но тогда полиция сразу вышла бы на меня, а на следующий день газеты уже опубликовали полное мое описание. Меня уже начали искать.
Но и тогда я, может, явился бы сам. Однако помимо всего прочего в газете сообщалось о шраме на большом пальце. Это меня доконало. Потому что я устроил себе этот вот шрам, — Ламонт вытянул руку, — когда вносил наверх сундук. Защемил палец, пока его опускал. Это положило конец моим колебаниям. Теперь уж точно мне никто не поверит, — решил я, подождал до вечера и отправился к миссис Эверет. Она осталась единственным моим другом; она меня хорошо знала, но даже она согласилась, что посторонний ни за что не поверит в мою историю. Она не церемонилась со мной, почти прямо назвала меня идиотом за то, что я сразу не явился в полицию. Такой уж у нее характер — она нас обоих держала в ежовых рукавицах. Берт недаром называл ее леди Макбет. Она ведь родом из Шотландии и, случись нам проявить малодушие, всегда наставляла нас на путь истинный. Она велела мне затаиться и переждать: всегда оставался шанс, что тем временем отыщут настоящего убийцу, а потом она одолжит мне деньги, чтобы я смог уехать из страны. Я вышел от нее и отправился пешком в центр. Сидеть в пустой квартире и прислушиваться к шагам на лестнице? Это казалось невыносимым. Я решил, что самое безопасное — зайти в кино, где-нибудь в районе Хеймаркета. И вдруг на Стренде я оглядываюсь и вижу позади себя вас! Остальное вам известно. Я вернулся к себе и не выходил из дома до понедельника, когда пришла миссис Эверет и сообщила, что вы были у нее. Она проводила меня на Кингз-Кросс и дала рекомендательное письмо к своим родным. Дальше вы все знаете. Пробыв день в Карниннише, я подумал, у меня еще есть шанс на спасение, но тут вы явились к чаю.
Ламонт замолчал. Грант заметил, как у него дрожат руки.
— Откуда вы знали, что сумма, которую, по вашим словам, вам дал Соррел, составляла все, что у него есть?
— Потому что она совпадала с той, что была на его счете в банке. Я сам снял для него эти деньги за неделю до его предполагаемого отплытия. На счете оставался один фунт.
— Вы всегда брали для него деньги из банка?
— Нет, почти никогда. Но на той неделе он был страшно занят — улаживал оставшиеся дела.
— Отчего он снял со счета деньги за целую неделю до отъезда? Ведь за билет он уже уплатил наличными.
— Не знаю. Может, опасался, что ему не хватит конторских денег для оплаты всех деловых расходов? Хотя тех денег хватило: он рассчитался с деловыми партнерами до последнего пенни.
— А вообще как шли дела в агентстве?
— Для зимнего периода — вполне прилично. В охотничий сезон мы мало ставок принимаем — принимали, я хотел сказать. С началом летних скачек дела у нас обычно шли хорошо.
— Но конец зимы для Соррела — мертвый сезон, не так ли?
— Так.
— И вы передали деньги Соррелу? Когда именно?
— Сразу по возвращении из банка.
— Вы сказали, что поссорились с Соррелом из-за револьвера. Можете доказать, что он — ваша собственность?
— Нет. Каким образом? Никто не знал, что он у меня есть — кроме Берта; револьвер был всегда заперт в ящике. Как был, заряженный, с того дня, когда заключили мир. Такую вещь не оставляют на виду.
— Ну и зачем, вы полагаете, он понадобился Соррелу?
— Не знаю. Ни малейшего представления не имею. Я думал про самоубийство, — может, для этого? Но у Соррела не было никаких причин кончать с собой.
— Когда в Карниннише вы предположили, что Соррела могла убить женщина, конкретно — что вы имели в виду?
— Понимаете, из мужчин я знал всех его приятелей, а из женщин — никого. Я имею в виду — никого, с кем у него были бы более чем дружеские отношения. Но мне всегда почему-то казалось, что в его жизни была женщина, — еще до того, как мы с ним познакомились. Он был очень скрытным, никогда не делился своими секретами. Если у него и была какая-то женщина, он не стал бы мне об этом рассказывать. Иногда, уже при мне, на его имя приходили письма, явно надписанные женским почерком, но Берт сам ничего не говорил, а он был не из тех, над кем можно подшучивать по этому поводу.
— Не получал ли он такого письма в последнее время, скажем в последние полтора месяца?
Немного подумав, Ламонт ответил, что да, получал.
— А что за почерк?
— Размашистый, с округленными буквами.
— Вы знакомы, разумеется, с описанием кинжала, которым закололи Соррела. Вы когда-нибудь держали в руках подобный кинжал?
— Не только не держал, но и в жизни не видел.
— Есть ли у вас какие-нибудь предположения, кто эта женщина, если таковая вообще имелась?
— Нет.
— Вы хотите сказать, что, будучи ближайшим другом Соррела, прожив с ним бок о бок четыре года, вы ничего не знаете о его прошлом?
— Знаю достаточно много, но не эту сторону его жизни. Вы не были знакомы с Бертом, иначе не стали бы задавать такого вопроса. В обыденной жизни он ничего не скрывал, но тут — иное дело.
— Почему он решил ехать в Америку?
— Не знаю. Я вам говорил, что в последнее время он казался расстроенным и сделался особенно молчалив. Болтливостью он никогда не отличался, но в последние дни… Понимаете, его состояние даже трудно определить словами. Просто у меня возникло чувство, что он несчастен.
— Он уезжал один?
— Да.
— Не с женщиной?
— Разумеется, нет, — резко ответил Ламонт, как будто его оскорбили в лучших чувствах.
— Почему вы так категоричны?
Явно растерянный, Ламонт не нашел что ответить.
Очевидно, до сих пор Ламонт не рассматривал возможности того, что друг втайне от него планировал поехать не один. Грант видел, как он обдумал про себя эту идею и отказался в нее верить.
— Не могу вам объяснить почему, — сказал он вслух, — но я уверен, что это не так. Он бы мне сказал.
— Значит, у вас нет никаких предположений, отчего убили Соррела?
— Никаких. Неужели вы думаете, что если бы знал, то не сказал?
— Думаю, сказали бы. Сама неопределенность ваших подозрений сильно ослабит сторону защиты.
Грант попросил констебля зачитать вслух показания Ламонта, и тот слабой рукой поставил на каждой странице свою подпись. Подписав последний лист, он сказал:
— Я скверно себя чувствую. Можно мне теперь лечь?
Грант дал ему снотворное, которое выпросил у доктора, и через четверть часа вконец измученный Ламонт заснул тяжелым, глубоким сном, между тем как тот, кто его поймал, остался бодрствовать, обдумывая его показания. Они представлялись исключительно правдоподобными. Все было понятно, одно вытекало из другого — придраться не к чему, — если исключить полную невероятность самого рассказа. У Ламонта всему нашлось объяснение. Время, место, мотивы действий — все складывалось в полную картину. Описание собственных чувств — в момент, когда он обнаружил пропажу револьвера, — опять-таки поражало достоверностью. Есть ли хоть малейшая вероятность, что его рассказ правдив? Вдруг это тот самый случай — один на тысячу, — где улики, подлинные каждая в отдельности, все вместе представляют собою не что иное, как цепь случайных, нелепых совпадений?! Да, но как быть с самим рассказом, невероятным в самой своей основе? Как-никак, в распоряжении Ламонта была почти целая неделя, чтобы подобрать все объяснения, расположить их в нужной последовательности, продумать до мелочей. Только круглый дурак не дал бы себе труда сочинить более или менее правдоподобную историю, когда от этого зависит его жизнь. То, что никто не мог ни подтвердить, ни опровергнуть наиболее важные ее моменты, было для него одновременно и удачей и несчастьем. Единственный способ проверить правдивость рассказа Ламонта — решил Грант — это покопаться в прошлом Соррела, а в том, что у него было прошлое, он теперь не сомневался. Если Гранту удастся обнаружить доказательства того, что Соррел действительно собирался покончить с собой, то это подтвердит показания Ламонта относительно кражи револьвера и подаренных денег. Тут Грант одернул сам себя: подтвердит показания Ламонта?! Неужели такое возможно? Если так, то вся выстроенная им схема немедленно превратится в дым и пойдет прахом; это будет означать, что Ламонт невиновен и он, Грант, арестовал не того, кого нужно. Но разве допустимы подобные совпадения: в одной и той же очереди попадаются два человека — оба левши, оба со шрамом на большом пальце и оба знакомые с убитым? Грант отказывался в это верить. Его сбила с толку не достоверность рассказа Ламонта, а искренность, с которой он свою историю излагал. Правдоподобно — вот и все!
Снова и снова он мысленно возвращался к услышанному. В пользу Ламонта — ну вот, он опять за свое! — говорило то, что отпечатки пальцев на револьвере и на письме совпадали. Если окажется, что отпечатки, посланные Грантом из Карнинниша, им идентичны, тогда и рассказ Ламонта — в этой его части — правдив. Упоминание о письмах, написанных женской рукой, можно будет проверить через миссис Эверет. Та явно верила в непричастность Ламонта и немало постаралась, чтобы и других в этом убедить, но она судит предвзято, и полагаться на ее слова опасно. Хорошо: предположим, Ламонт все выдумал. Какие же обстоятельства могли побудить его к убийству Соррела?
Может, он настолько обозлился на Соррела за то, что тот уезжает, бросая его на произвол судьбы, что решился на убийство? Невероятно. Тем более что Соррел оставил ему все свои деньги. Если деньги Соррела уже были у него в кармане, пока Соррел был жив, тогда всю сумму нашли бы при нем. Если же предположить, что Ламонт выкрал у друга в тот день чековую книжку, то тем более у него не было никаких оснований убивать Соррела и все основания — держаться как можно дальше от очереди. Чем больше Грант раздумывал, тем более невозможным ему представлялось найти вескую причину, по которой Ламонту понадобилось бы убить Соррела. Главное, что говорило в пользу Ламонта, — это выбор для расправы столь неподходящего публичного места, как очередь в театр. Хотя, возможно, убийство было непреднамеренным. Ламонт не производил впечатления человека, способного на продуманный поступок. Может, ссорились они вовсе не из-за револьвера, а по другому, более серьезному поводу? Из-за женщины, например?
Сам не зная почему, Грант вдруг снова увидел лицо молодого человека, когда мисс Динмонт вышла из комнаты, делая вид, будто Ламонта в ней не было, и услышал его голос, когда Ламонт говорил о возможном романе Соррела, — и отбросил это предположение.
А если ссора имела материальную подоплеку? Ламонт, видимо, очень болезненно переживал свою — относительную, конечно, — бедность и сам признал, что его разозлила бесчувственность друга. За этим его выражением «сыт по горло», возможно, скрывалась острая зависть, внезапно перешедшая в ненависть? Хотя, имея двести двадцать три фунта… постой-ка, он же лишь потом узнал о содержании пакета! Вероятно, эта часть истории про пакет верна, и Ламонт действительно думал, что в нем часы. В обычной жизни вряд ли случается, что друг в качестве прощального подарка дает тебе двести двадцать три фунта — при том, что это все его деньги. Хорошо: значит, такой ход событий возможен. Ламонт прощается и потом… Но тогда, по какому же поводу они ссорились? Если Ламонт пришел, чтобы убить Соррела, он не стал бы привлекать всеобщее внимание громким спором.
А Соррел? Что он собирался сделать? Если поверить Ламонту, то единственное объяснение поведению Соррела — заранее обдуманное самоубийство. Все рассуждения на эту тему снова привели Гранта к мысли, что только выяснение прошлого Соррела может либо подтвердить, либо — как это ни невероятно — исключить виновность Ламонта. Первое, чем он займется по возвращении в Лондон и что он упустил в пылу погони за Ламонтом, — это розыск багажа Соррела. Если же и это ничего не даст, нужно будет навестить миссис Эверет. И это он сделает с превеликим удовольствием.
Грант еще раз взглянул на крепко спавшего Ламонта, отдал последние инструкции стоически бодрствовавшему констеблю и заснул — озабоченный, но исполненный решимости не ставить точку в этом деле, а разобраться до конца.
Глава пятнадцатая
БРОШЬ
После горячей ванны, где, разнеженноперебирая пальцами ног, Грант силился настроить себя на веселый лад — как и подобает полицейскому офицеру, изловившему преступника, — он направился в Ярд докладывать обо всем шефу. Прием, оказанный ему сим облеченным высокой властью господином, был крайне благожелательный.
— Прекрасно сработано! — произнес Баркер. — Хорошо, что это были вы, а не я. Никогда не любил носиться по болотам. Похоже, этот вид спорта для вас — в самый раз.
Пока Баркер знакомился с документами, Грант отошел к окну. Он глядел на зеленеющий газон, на освещенную солнцем реку и думал о том, что неужто и вправду валяет дурака, вместо того чтобы радоваться удачному завершению вполне ясного дела. Ладно, дурак он или умный — время покажет, а сейчас, после разговора с шефом, он немедленно отправится на вокзал Ватерлоо и посмотрит, что там есть. Он услышал, как Баркер кинул на стол бумаги, и быстро обернулся: ему не терпелось услышать мнение Баркера по поводу показаний.
— Что вам сказать? — медленно произнес сей достойный представитель власти. — Прочитав это, горю желанием увидеть этого вашего Ламонта.
— Зачем?
— Затем, что ужасно хочется взглянуть на человека, который своей слезной историей сумел пронять инспектора Гранта. Самого непрошибаемого Гранта!
— Только и всего? — хмуро спросил Грант. — Значит, вы не верите ни одному его слову?
— Ни одному! — жизнерадостно откликнулся Баркер. — Давно не читал более немыслимой истории. Хотя, конечно, при таких неопровержимых уликах мало что можно сделать. Но он постарался на славу — в этом я готов отдать ему должное.
— Ладно. Взгляните на это дело с другой стороны и скажите: вы лично можете найти объяснение, почему Ламонт убил Соррела?
— Ай-яй-яй, Грант, как не стыдно! После стольких лет работы в Ярде вы все еще пытаетесь отыскать логику в убийстве? Определенно, вам требуется отдых, старина. Возможно, Ламонт убил Соррела, потому что его раздражало, как тот ест. И потом: не наше это дело — заниматься психологией, искать мотивы и всякое такое. Так что не ломайте себе голову. Найти неопровержимые улики, засадить в камеру — вот и вся наша забота.
Опять наступило короткое молчание. Грант сложил бумаги и уже собирался уходить, когда снова раздался голос Баркера:
— Послушайте, ну а если без шуток: вы сами-то не верите, что Ламонт убийца?
— Все говорит именно за то, что убил он. Все улики налицо, — произнес Грант. — Я сам не понимаю, что именно меня не устраивает. Но ничего не могу с собой поделать.
— Опять ваш знаменитый нюх? — проговорил Баркер в прежней, полушутливой манере. Но Грант оставался серьезен.
— Нет, — сказал он. — Просто в отличие от вас я видел его и разговаривал с ним.
— Это то, о чем я говорил вам с самого начала, — напомнил Баркер. — Ламонт испробовал на вас свою жалостную историю, и у него получилось. Выкиньте все это из головы, Грант, пока вы не добудете хоть какого-то подтверждения своим сомнениям. Нюх — дело хорошее. Не буду отрицать: вам удавалось несколько раз прийти к совершенно феноменальным выводам, но в той или иной степени вы все-таки исходили из имеющихся улик, что в данном случае категорически невозможно.
— Именно это и беспокоит меня больше всего. Что мешает мне чувствовать удовлетворение? Чем я недоволен? Что-то тут определенно не так. Но что? Разрази меня гром — я не знаю! Где-то есть пробел. Мне необходимо знать, что это за пробел — для того, чтобы либо подкрепить доказательства вины Ламонта, либо их отбросить.
— Ладно, ладно, — добродушно проворчал Баркер. — Давайте, действуйте. Вы хорошо потрудились и можете позволить себе немного подурачиться. Доказательств и так более чем достаточно. Для любого суда.
И Грант двинулся через ясный, шумливый утренний Лондон по направлению к вокзалу Ватерлоо, а облако смутного недовольства собой следовало за ним по пятам. Когда с нагретой мостовой он вступил под прохладные своды этого самого лучшего, но и самого печального из лондонских вокзалов, от одного названия которого веет холодом утрат и расставаний, на лицо его, словно сажа, легла печать уныния. Отыскав чиновника, который помог бы ему обнаружить предполагаемый багаж, Грант вместе с ним проследовал в багажное отделение, где хранились невостребованные вещи.
— Я знаю, где их искать, сэр, — с живейшим любопытством поглядывая на Гранта, сказал служащий. — Их оставили недели две назад.
С этими словами он остановился возле двух сундуков. Грант заметил, что ни на одном из них не было ярлыков компании «Роттердам — Манхэттен», которые всегда наклеивают, если владелец багажа следует за океан. Вместо них на двух прилепленных клочках бумаги рукой Соррела было проставлено: «А. Соррел». И все. С забившимся сердцем Грант открыл крышки. В первом под верхним слоем одежды лежал паспорт Соррела и билеты на пароход. Почему он оставил их здесь? Почему не держал в бумажнике? Тут же находились и ярлычки для багажа, которые выдает пассажирам вместе с билетами пароходное агентство. Возможно, по какой-то причине Соррел собирался еще раз наведаться сюда перед тем, как сесть на паром, и тогда наклеить ярлыки на багаж. И билеты здесь оставил, чтобы их не стащили ненароком в очереди.
Грант продолжал осмотр. Он не нашел никаких указаний на то, что Соррел лишь сделал вид, что уезжает. Вещи были сложены аккуратно, с явной заботой; очевидно, ими собирались пользоваться в будущем. Об этом свидетельствовал и порядок, в котором они были уложены: сначала — то, что может понадобиться сразу, остальное — ближе ко дну сундука. Было очевидно, что Соррел намеревался вскоре собственноручно распаковать их. И никаких документов. Ни писем, ни фотографий — ничего. Это было единственное, что остановило внимание Гранта; человек отправлялся на другой конец света и не захватил ничего, что могло напомнить ему о жизни на родине? Странно. И тут Грант наткнулся на снимки: они были в пакете, запихнутом между парой туфель, — тоненькая пачка фотографий. Он торопливо развязал бечевку и стал их просматривать. По крайней мере половину их составляли фотографии Джеральда Ламонта — одного или с Соррелом; остальные были армейские групповые снимки. Женщины в этой маленькой коллекции были представлены снимками миссис Эверет и нескольких девушек в военной форме; это были те же самые, что фигурировали и на групповых снимках. Грант чуть не застонал от разочарования: развязывая бечевку, он возлагал на них такие большие, хоть и весьма неопределенные надежды! Он снова завязал сверток, однако все женские фотографии положил в свой карман: групповой или не групповой снимок, но это были женщины, значит, следовало ими заняться. И это было все. Все, что дал просмотр багажа, на который он так рассчитывал. Разочарованный, раздраженный, Грант принялся укладывать вещи в прежнем порядке. Он складывал пальто, когда что-то выпало из одного кармана и покатилось по полу. Маленький синий сафьяновый футляр для ювелирных изделий. Коробочка еще катилась, когда Грант бросился на нее с быстротой, сравнимой разве что с проворством бросающегося на крысу терьера; ни одно девичье сердце не билось так учащенно, когда девушка открывает коробочку с драгоценным подарком, как сердце Гранта. Он нажал на кнопочку, и крышка отлетела. На темно-синем бархате покоилась небольшая брошь, какие женщины обычно носят на шляпках. Она была выполнена из мелких жемчужин в виде монограммы «М. Р.». Маргарет Рэтклиф. Это имя пришло ему в голову само по себе, он даже не успел об этом подумать. Некоторое время он смотрел на украшение; потом вынул его из коробочки, повертел в руках и снова положил обратно. Может, это и есть искомый ключ? Может ли статься, что эти достаточно часто встречающиеся инициалы указывали именно на ту женщину, которая настойчиво попадает в его поле зрения? Это она стояла в очереди позади Соррела во время убийства; это она забронировала каюту на то же число, на тот же корабль, что и Соррел; а теперь единственная ценная вещь среди его багажа была с заглавными буквами ее имени. Грант снова взялся за брошь. Вещица была не из тех, что продаются дюжинами. Название фирмы на футляре свидетельствовало о том, что клиентура магазина, где ее покупали, не состоит из молодых букмекеров с пустым кошельком, — солидный ювелирный магазин на Бонд-стрит, где цены вполне соответствуют репутации. Грант решил, что в любом случае его следующим шагом будет беседа с господами, представляющими фирму «Галлио и Штейн». Он запер сундуки и с фотографиями и брошью в кармане покинул Ватерлоо. Поднимаясь по ступенькам автобуса, он вспомнил замечание Ламонта о том, что деньги были завернуты в тонкую бумагу, которой обычно пользуются в ювелирных магазинах. Еще одно очко в пользу Ламонта. Но если Соррел отправлялся в вояж в сопровождении или из-за Маргарет Рэтклиф, зачем было ему отдавать Ламонту такую крупную сумму? По сведениям Симпсона, у миссис Рэтклиф были собственные средства, но ни один мужчина не станет начинать жизнь с женщиной, которая сбежала от мужа, с того, что будет жить за ее счет, — при всем сочувствии к оставшемуся без средств приятелю.
Торговая фирма господ Галлио и Штейна располагалась в маленьком, полутемном помещении на старой Бонд-стрит. Грант отыскал там единственного продавца и показал ему брошь. Продавец сразу же узнал ее. Он как раз принимал тот заказ. У них больше подобных брошей нет, эта была сделана по специальному заказу для некоего мистера Соррела, молодого человека с белокурыми волосами. Она стоила тридцать гиней, и заказ был выполнен — продавец справился по учетной книге — да, шестого, во вторник. Мистер Соррел заплатил наличными и забрал ее в тот же день. Нет, раньше продавец никогда не видел этого джентльмена; он точно описал, какая брошь ему требовалась, и заплатил не торгуясь.
Грант вышел из магазина в глубокой задумчивости, по-прежнему далекий от решения загадки. Когда человек со столь скромным достатком, как Соррел, решает купить брошь за тридцать гиней, это может означать лишь одно: он влюблен без памяти. Он не вручал подарок предмету своей страсти вплоть до самого отъезда. Надо думать, потому, что мог его отдать после отплытия. Брошь была спрятана на самом дне сундука. Друзей в Америке, насколько известно, у Соррела не было. Но на том же пароходе должна была отплыть и Маргарет Рэтклиф. Черт побери эту женщину! Всюду она возникает снова и снова! Однако, вместо того чтобы внести ясность, ее появление приводит к еще большей неразберихе. В том, что произошла какая-то неразбериха, Грант теперь был убежден более чем когда-либо.
Перед самым ланчем Грант вернулся в Скотланд-Ярд, потому что ожидал информацию с почты.
Она была у него на столе. Действительно: четырнадцатого числа (то есть в среду) в брикстонское почтовое отделение передали телеграмму, адресованную Альберту Соррелу на борт «Королевы Аравии», со следующим текстом: «Извини. Джерри». Ее, судя по всему, отправили по назначению, но в огромном потоке телеграмм, которые обычно поступают на судно после отплытия, вероятно, никто не обратил внимания на то, что ее не востребовали, и она затерялась.
— Вот оно что! — вслух произнес Грант, и Уильямс, дежуривший в этот день вместе с ним, как всегда к месту, тотчас откликнулся:
— Так точно, сэр!
Что дальше? Гранту не терпелось встретиться с миссис Рэтклиф, но неизвестно, возвратилась ли она домой. Позвонить и выяснить? Это ее насторожит: она поймет, что ею снова интересуются. Придется опять заслать Симпсона. С ней Грант повременит. Лучше навестит-ка миссис Эверет. Грант оставил Уильямсу все инструкции и после ланча двинулся в Фулхэм.
Миссис Эверет открыла ему дверь, и на лице ее он не прочел ни смущения, ни страха. Видимо, она считала свой осуждающий взгляд достаточно красноречивым, чтобы выражать свои чувства еще каким-либо способом. Какой тон с ней наиболее предпочтителен? Строго официальный? Бесполезно: это не произведет на нее впечатления, и никакой информации он не добьется. Покойный недаром окрестил ее леди Макбет.
Проявление снисходительности по поводу ее роли в побеге Ламонта тоже не даст никакого эффекта. Лесть вызовет у нее лишь презрение. Пожалуй, единственный способ чего-то от нее добиться — это сказать правду.
— Миссис Эверет, — начал он, — у нас достаточно доказательств, чтобы Джеральда Ламонта приговорили к смертной казни, но я не удовлетворен имеющимися уликами. Пока что мне не удалось уличить Ламонта во лжи, и существует, хотя, признаюсь, очень малый, шанс, что он невиновен. Ни один суд присяжных в это не поверит. Его история выглядит чрезвычайно неправдоподобной, и на суде, да еще в чужом изложении, она покажется сплошной выдумкой. Думаю, если бы у меня было больше фактов, то это поколебало бы чашу весов, — либо в одну, либо в другую сторону. Поэтому я у вас. Если он не виноват, то дополнительная информация будет способствовать его оправданию. За этой информацией я и пришел.
Она не отвечала, словно пытаясь за словесной шелухой определить, что у него на уме.
— Я сказал вам правду, — добавил Грант. — Хотите верьте, хотите — нет. Можете не сомневаться: меня привело сюда вовсе не сочувствие Ламонту. Речь идет о моей профессиональной чести. Пока остается хоть малейшее сомнение в виновности подозреваемого, я обязан заниматься этим делом.
— Что именно вас интересует? — спросила она.
Это походило если и не на полную капитуляцию, то определенно на стремление к компромиссу.
— Первое: какие письма обычно приходили на имя Соррела и откуда?
— Они приходили, но не часто. У него было мало друзей.
— Попадались ли вам среди них такие, которые были надписаны женским почерком?
— Попадались, хотя довольно редко.
— Откуда они приходили?
— Думаю, они были местные.
— Что за почерк?
— Крупный, с округлыми буквами.
— Знаете ли вы, кто эта женщина?
— Нет.
— И как давно стали приходить ему эти письма?
— Очень давно. Не помню, с каких пор.
— И за все это время вы так и не выяснили, кто их пишет?
— Нет.
— Приходила ли эта женщина к нему сюда?
— Ни разу.
— Как часто поступали письма?
— Очень редко. Раз в полтора месяца, а может и того реже.
— Ламонт утверждает, будто Соррел был скрытным человеком. Это так?
— Не то чтобы скрытным, скорее ревнивым. Я хочу сказать, ревнивым к тому, что ему было дорого. Когда ему что-то сильно нравилось, он старался хранить это при себе и никому не показывать, понимаете?
— Как влияли письма на его настроение — становился ли он веселее или, наоборот, расстраивался?
— Ничего особенного я не замечала. Он от природы был молчаливый.
— Скажите, вы раньше видели вот это? — спросил Грант, доставая и открывая бархатный футляр.
— «М. Р.», — произнесла вслух миссис Эверет — точно так же, как это прежде сделал Грант. — Нет, не видела. Какое это имеет отношение к Берти?
— Она найдена в кармане пальто в багажном сундуке Соррела.
Миссис Эверет взяла коробочку, подержала ее на огрубевшей ладони, с любопытством осмотрела и вернула Гранту.
— Можете ли вы назвать хоть какую-то причину, по которой Соррел захотел бы покончить с собой?
— Нет, не могу. Но помню, что как раз за неделю до дня его отъезда на его имя пришел небольшой пакет. Тогда он пришел домой раньше Джерри — мистера Ламонта, я хотела сказать. Пакет принесли в его отсутствие.
— Какой величины пакет? Такой, как этот футляр?
— Чуть побольше, но, может, это за счет обертки он так выглядел.
Однако продавец ювелирного магазина утверждал, что Соррел забрал заказ лично.
— Вы не помните, какой это был день недели?
— Не поручусь за точность, но, по-моему, это был четверг.
Значит, во вторник Соррел взял вещь от ювелира, а уже в четверг ему кто-то отослал ее обратно. Вывод напрашивался сам собою: женщина отказалась принять подарок.
— Каким почерком был надписан адрес?
— Он был напечатан.
— Какой вид был у Соррела, когда он вскрывал пакет?
— Меня при этом не было.
— А после?
— А после выглядел как обычно. Больше молчал. Так он и всегда был не из разговорчивых.
— Понятно. Когда Ламонт пришел к вам и рассказал обо всем?
— В субботу.
— А до этого вы догадывались, что человек из очереди — Соррел?
— Нет конечно. Подробное описание появилось в газетах только в четверг, и я, понятно, считала, что Берт в среду уже отплыл на пароходе. И потом я думала, что Джерри будет с ним до самого отплытия, и поэтому не волновалась. Только когда они уже дали описание человека, которого ищет полиция, я сопоставила оба сообщения и стала тревожиться. Но это было уже в субботу.
— Что вы тогда подумали?
— То же, что и теперь: где-то вы допустили большую ошибку.
— Сообщите мне, пожалуйста, все, что рассказал вам Ламонт. Его показания у нас уже имеются.
— Хорошо, — проговорила она после небольшого колебания. — Хуже того, что есть, все равно уже не будет.
Ее рассказ до малейших деталей совпал с показаниями, которые были записаны в поезде.
— И вы не обнаружили ничего подозрительного в этой истории?
— Услышь я ее от незнакомого человека, то вряд ли в нее поверила, — сказала она и в этот момент очень напомнила Гранту племянницу, мисс Динмонт. — Джерри — другое дело. Я его хорошо знаю.
— Соррела вы знали гораздо дольше, однако не догадывались о многих важных для него вещах.
— Так то — Берти. И тут совсем не имеет значения, сколько лет я его знала. О Джерри я знала все — включая и его любовные истории.
— Большое спасибо, что вы мне все рассказали, — проговорил Грант, вставая. — Правда, это мало чем помогает Ламонту, но, с другой стороны, и не добавляет ничего нового против него. Вам не приходило на ум, что Соррел на самом деле вовсе не собирался отправляться в Америку?
— Вы хотите сказать, он решил уехать куда-то еще?
— Нет. Я хочу сказать другое: если он действительно хотел покончить с собой, то Америка могла служить ему просто прикрытием.
— Нет. По-моему, он и вправду туда собирался.
Грант поблагодарил ее снова и направился в Ярд. Там он узнал от Симпсона, что миссис Рэтклиф с сестрой по-прежнему в Истбурне, и когда возвратятся — неизвестно.
— А мистер Рэтклиф? Он ездит к жене в Истбурн?
Оказалось — нет. Был там всего один раз, и то не ночевал.
— Вы так и не выяснили, по какому поводу они ссорились?
Оказалось, не выяснил, горничная была не в курсе. По сдержанной улыбке, которой озарилось при этом лицо Симпсона, Грант заключил, что беседа с горничной носила скорее развлекательный, чем информативный характер, и отпустил своего подчиненного с миром. Придется ему самому отправиться в Истбурн и, как бы невзначай, встретиться с миссис Рэтклиф. Однако завтра нужно присутствовать в окружном полицейском участке. Это пустая формальность, но быть там необходимо. Съездить и вернуться за один вечер, да при этом еще успеть «случайно» встретиться с миссис Рэтклиф представлялось нереальным. Какая досада, что нужно быть на разборе — тем более, что это чистая проформа, а встреча с миссис Рэтклиф, называй это как хочешь: охотой, спортом, карточной игрой, — ему была нужна позарез.
Ему не терпелось увидеть лицо миссис Рэтклиф в тот момент, когда он покажет ей брошь с монограммой!
Глава шестнадцатая
МИСС ДИНМОНТ ПРИХОДИТ НА ВЫРУЧКУ
Судебный зал округа всегда представлял собой довольно унылое место. В нем сочетались затхлая атмосфера мавзолея, искусственно бодряческий дух, присущий больницам, скудость меблировки, характерная для школьных помещений, с духотой метро и непривлекательностью залов для публичных собраний. Гранту это место было известно, и еще не бывало, чтобы он входил туда без внутреннего сопротивления — не столько из-за паутины скорби, которая, казалось, опутывала весь этот зал, сколько из-за перспективы провести в этой мерзкой обстановке все утро. Необходимость посещения именно таких мест и вынуждала Гранта иногда говорить, что у него, мол, собачья работа. Он окинул желчным взглядом ряды блюстителей порядка, по долгу службы присутствовавших на сегодняшнем действе, фигуру добродушного судьи, зевак на скамьях для публики. Грант, со свойственной ему самокритичностью, отметил свой необычно брезгливый настрой и стал доискиваться до его причины. И тут же с некоторым замешательством понял, в чем дело. Ему не хотелось давать показания! Более того, ему хотелось закричать: «Да погодите вы! Мне еще не все ясно. Дайте еще поработать!» Однако, как офицер полиции, он прекрасно понимал, что при имеющихся уликах, да еще в присутствии высоких чинов, он не может этого сделать. Ему нечем обосновать такое требование. Он взглянул через зал на адвоката, которому поручили дело Ламонта. При окончательном слушании дела в Олд Бейли Ламонту потребуется защитник более крупного калибра, чем этот, — иначе у него нет ни малейшего шанса на мягкий приговор. Но крупнокалиберные адвокаты стоят больших денег; это профессионалы, а не филантропы.
Наконец, после того как были заслушаны два дела, ввели Ламонта. Вид у него был больной, но держался он спокойно. Даже слабо улыбнулся, заметив Гранта. Его появление вызвало среди публики заметное оживление. В прессе не сообщалось, что его дело будет слушаться именно сегодня, поэтому в зале оказались лишь завсегдатаи судебных разбирательств да родственники и приятели тех, кто проходил по предыдущим делам.
Грант поискал глазами миссис Эверет, но ее не было. Похоже, единственным, так сказать, дружественным Ламонту лицом в этом зале был человек, официально представлявший его интересы. Тем не менее инспектор пристально наблюдал за реакцией каждого, кто находился среди публики. Он давно обнаружил, какую иной раз важную информацию можно извлечь, следя за выражением лиц людей, казалось бы не имеющих никакого отношения к делу. На этот раз наблюдение не дало ничего. На лицах присутствовавших не было ничего, кроме вполне объяснимого любопытства. Однако, когда он после дачи показаний возвращался к своему месту, то заметил в задних рядах новое лицо; им оказалась мисс Динмонт. Как он помнил, ее отпуск кончался лишь через неделю, и во время того злосчастного чаепития в пасторском доме она говорила, что обычно проводит его целиком с родными. «Странная девушка! — подумал он, садясь. — Не проявляет ни капли сочувствия, когда узнает, что человек совершил тяжкое преступление, и в то же время сокращает свой отпуск и едет за пятьсот миль, чтобы присутствовать на дознании». Ламонт стоял к ней спиной и вряд ли заметит ее, если, уходя, случайно не обернется. Она поймала взгляд инспектора и легонько кивнула ему. В изящной, явно сделанной на заказ маленькой темной шляпке она выглядела милой светской дамой и держала себя соответственно — со спокойным достоинством. Ее вполне можно было принять за писательницу, посетившую суд в поисках материала для очередного романа. Даже когда Ламонта выводили из суда в сопровождении охранников, ее хорошенькое личико сохранило невозмутимое выражение.
Грант подумал, что на самом деле племянница и тетка очень похожи: вероятно, поэтому они друг друга и недолюбливают. Когда она уже выходила, Грант подошел к ней, поздоровался и сказал:
— Если вы сейчас не заняты, мисс Динмонт, давайте перекусим где-нибудь вместе. Согласны?
— А я-то думала, что полицейские в течение дня питаются исключительно всухомятку. Неужели у них все же остается время на нормальную еду?
— Непременно остается. Да еще и на весьма основательную. Пойдемте со мной — сами убедитесь!
Она улыбнулась и согласилась.
Грант повел ее к Лорену, и пока они ели, мисс Динмонт вполне откровенно объяснила, почему изменила свои планы на отпуск.
— После того что случилось, я не могла больше там оставаться. И потом, мне очень было важно самой все услышать, вот я и приехала. Я еще никогда не присутствовала на судебном разбирательстве. Не могу сказать, что это впечатляющее зрелище.
— Полицейское разбирательство — это одно. Вот подождите, когда начнется судебный процесс. Это — совсем другое дело.
— Хотелось бы надеяться, что я этого никогда не увижу. Но боюсь, что придется. У вас получилось красивое дело, правда?
— Это же говорит и мой шеф.
— А вы с ним не согласны? — быстро спросила она.
— Согласен, разумеется.
Миссис Эверет он был вынужден признаться, что не удовлетворен расследованием, но не собирался оповещать об этом весь круг заинтересованных лиц, а сия независимая девица, как-никак, все-таки принадлежала к этому кругу. И тут мисс Динмонт наконец-то произнесла имя Ламонта.
— Он плохо выглядит, — задумчиво сказала она, явно имея в виду его физическое состояние. — Его будут наблюдать в тюрьме?
— Уж в этом можете не сомневаться.
— Они не станут применять к нему суровые меры? Имейте в виду: в его нынешнем состоянии ему этого не выдержать. Он либо серьезно заболеет, либо согласится со всеми обвинениями.
— Значит, вы в них не верите?
— Нет, не очень. Однако понимаю: мое неверие еще не говорит о том, что он этого не совершал. Просто хочу, чтобы его судили по справедливости.
Грант не преминул заметить, что там, в Карниннише, у нее не возникло сомнений в его виновности.
— Это правда. Но вы знаете обо всем деле гораздо больше моего. До вас я была знакома с ним всего три дня. Мне он понравился, но это еще не значит, что он не виновен. И потом, уж лучше казаться бессердечной, чем дурой.
Грант никак не отреагировал на столь неожиданное для него со стороны женщины замечание, и она повторила свой вопрос насчет сурового обращения с заключенными.
— Не беспокойтесь. У нас не Америка, — ответил Грант. — В любом случае он, как вы сами слышали, уже дал свои показания и навряд ли станет их менять.
— У него есть друзья?
— Только ваша тетушка, миссис Эверет.
— Кто будет оплачивать адвоката?
Грант объяснил, что в подобных случаях адвоката государство предоставляет бесплатно.
— Значит, адвокат будет не ахти какой. Это нечестно. Со стороны обвинения выступают знаменитости, а несчастным преступникам достаются те, кто похуже.
— Не волнуйтесь! Его будут судить со всей справедливостью. На процессах, связанных с убийством, больше всего терзают полицейских, — заметил с улыбкой Грант.
— Неужели никогда в течение всей вашей службы не бывало случая, когда полиция ошибалась?
— Бывало — и не однажды. Но это все были случаи, когда мы выходили не на того человека. Здесь это исключено.
— Понятно. Однако наверняка были и такие дела, где разрозненные, случайные улики образовывали некую, будто бы логичную цепь? И выглядели как подогнанные кусочки лоскутного одеяла?
В своих поисках истины она подобралась уже к тому месту, где, по правилам игры, говорится «жарко». Грант постарался разуверить ее, незаметно переменил тему разговора, но вскоре умолк. В голову ему пришла одна соблазнительная идея. Если он отправится в Истбурн один, то, как бы хитро ни обставлял он свою «случайную» встречу с миссис Рэтклиф, она может что-то заподозрить.
Иное дело — появись он с женщиной. Тогда само собою будет воспринято, что он просто приехал отдохнуть; он усыпит возможные подозрения на свой счет и застанет врасплох миссис Рэтклиф. А именно от внезапности зависел в данном случае весь успех эксперимента. Она не должна ни о чем догадаться заранее.
— Послушайте, — проговорил Грант. — У вас есть какие-нибудь определенные планы на вторую половину дня?
— Нет, а что?
— Вы совершили сегодня хоть один бескорыстный поступок?
— Нет. Как раз сегодня я руководствовалась исключительно эгоистическими интересами.
— Давайте это исправим. Поедемте со мной в Истбурн в качестве моей кузины и пробудьте ею до вечера. Ну как?
— Пожалуй, нет, — сказала она и, глядя ему прямо в глаза, спросила: — Что, опять выслеживаете какого-нибудь бедолагу?
— Не совсем. Хотя действительно намерен кое-что найти.
— Пожалуй, нет, — задумчиво повторила она. — Будь это простой розыгрыш — тут же согласилась бы. Но поскольку это может иметь серьезные последствия для незнакомого мне человека… Вы меня поняли?
— Послушайте, — с живостью отозвался Грант. — Я не имею права рассказывать, в чем дело, но ручаюсь, вы не пожалеете, если доверитесь мне и согласитесь поехать.
— А почему я должна верить вам на слово? — спросила девушка невинным голосом.
Инспектор почувствовал замешательство. Совсем недавно он с одобрением воспринял ее недоверие к рассказу Ламонта, но его обескуражило, когда она прибегла к той же логике в отношении его самого.
— Не знаю, — признался он. — Вероятно, полицейский способен на ложь, как и любой другой.
— И делают они это гораздо более беспардонно, чем любой другой, — сухо добавила девушка.
— Ладно. Предоставляю решать вам самой. Вы не пожалеете: могу в этом поклясться, если хотите. А что бы ни говорили про нашу бесцеремонность, к клятве полицейский относится достаточно серьезно.
Она рассмеялась и с ребяческим простодушием торжествующе воскликнула:
— Ага, наконец-то я вас достала! — Потом, немного помолчав, сказала: — Хорошо. Я поеду и с удовольствием буду играть роль вашей кузины. Мои взаправдашние родственники и вполовину не так красивы, как вы.
Явная насмешка, прозвучавшая в ее голосе, лишила Гранта удовольствия от самого комплимента.
Через зеленые луга к морю они ехали, однако, вполне мирно болтая, и Грант был застигнут врасплох, когда неожиданно за окном возникли песчаные дюны. Они занимали собою все видимое пространство и удивили его, словно неслышно вошедший в комнату человек: поднимаешь глаза — а он перед тобой! Никогда путешествие к южному побережью не пролетало для него так быстро. Кроме них, в купе никого не было, и Грант стал инструктировать мисс Динмонт.
— Значит, так. Я отдыхаю в Истбурне… Нет, так не пойдет. Мы приехали вместе на один вечер. Я заговорю с двумя женщинами, которые меня знают в связи с моей работой. Когда разговор зайдет о брошах, необходимо, чтобы вы достали из сумочки вот эту и сказали, будто только что купили ее для своей сестры. Между прочим, вас зовут Элеанор Рэймонд, а вашу сестру — Мэри. Вот и все. Просто держите брошь на виду, пока я не стану поправлять галстук. Это будет означать, что я узнал все, что хотел.
— Хорошо. Опять же между прочим, а вас как зовут?
— Аллан.
— Хорошо, Аллан. Я чуть не забыла узнать ваше имя. Занятно, если бы оказалось, что я, кузина, не знаю, как вас зовут. Странно устроен мир, правда? Посмотрите, столько людей страдают и мучаются.
— Не думайте об этом. Так недолго и с ума сойти. Лучше думайте о прекрасном пустом пляже, который скоро увидите.
— Вы бываете в Олд Вик? — спросила девушка, и, когда поезд остановился, они все еще увлеченно обсуждали непревзойденный талант мисс Бейлис.
— Пошли скорее, Элеанор, — воскликнул Грант, помогая ей сойти с подножки и таща за собой, как мальчишка, которому не терпится покопаться в песке.
Как и предвидел Грант, пляж оказался почти безлюдным, что составляет одну из самых привлекательных черт курортных мест на юге Англии до начала купального сезона. Было солнечно и очень тепло; несколько небольших компаний загорало на гальке, в аристократическом уединении, о котором и мечтать не могут те, кто приезжает сюда в разгар лета.
— Сначала пройдем по набережной, а потом — по пляжу, — сказал Грант. — В такой солнечный день обязательно их где-нибудь да встретим.
— Только бы они не оказались в дюнах, — сказала мисс Динмонт. — Ничего не имею против пеших прогулок, но дюны нам и до утра не обойти.
— Полагаю, дюны исключены. Интересующая меня дама вряд ли любит много ходить пешком.
— Кто она?
— Услышите, когда я буду вас знакомить. Предполагается, что вы никогда о ней не слышали, и будет лучше, если так оно пока и останется.
Молча они двинулись вдоль домов в сторону Холивелла. Все вокруг выглядело опрятно и чисто — порядок и чистота были одной из специфических черт этого курорта. Даже само море — и то казалось прилизанным и слегка высокомерным. А у Пляжной Макушки был такой вид, будто она нарочно устроилась в самом лучшем месте берега после славного трудового дня.
С начала их променада прошло не более десяти минут, когда Грант сказал:
— Теперь спустимся к пляжу. Почти уверен, что мы только что миновали интересующую меня пару. Вон там, на гальке.
Они сошли с тротуара и, скользя по камешкам, начали медленно двигаться в обратном направлении, к причалам. Так они приблизились к двум женщинам, расположившимся в шезлонгах лицом к морю. Одна — та, что похудее, — лежала, свернувшись калачиком, спиной к инспектору и мисс Динмонт. Она читала. Другую почти не было видно под грудой журналов, листков бумаги, шапочек от солнца и прочей дребедени, которую обычно берут на пляж светские дамы. Она ничего не делала и, по-видимому, дремала. Подойдя к ним вплотную, инспектор остановился и произнес:
— Миссис Рэтклиф? Боже, какая встреча! Так вы здесь отдыхаете? Прекрасная погода, не правда ли?
Изумленная миссис Рэтклиф машинально поздоровалась и стала представлять сестру.
Грант уверил, что он ее прекрасно помнит, и в свою очередь сказал:
— А это моя кузина, мисс…
Но высшие силы явно благоволили к нему в тот день. Прежде чем он успел произнести роковое слово, раздался мелодичный голос мисс Летбридж:
— Данди Динмонт! Господи, неужели это вы? Как поживаете, милочка моя?
— Да вы, оказывается, знакомы? — проговорил Грант, чувствуя себя как человек, который, открыв глаза, обнаружил, что еще шаг — и он бы полетел в пропасть.
— А как же! — отозвалась мисс Летбридж. — В больнице Святого Михаила мне удаляли аппендикс, и Данди Динмонт держала меня попеременно то за руку, то за голову. И делала это, надо сказать, великолепно. Мег, вот она, моя душечка! Мисс Динмонт, это — моя сестра, миссис Рэтклиф. Значит, у вас родственники среди стражей порядка? Никогда бы не подумала!
— Полагаю, вы тоже на отдыхе, инспектор? — осведомилась миссис Рэтклиф.
— Можно сказать, да. У кузины отпуск, я завершил дело, вот мы и решили денек провести на воздухе.
— Что ж, до дневного чая еще далеко, — проговорила мисс Летбридж. — Посидите с нами, поболтаем немножко. Мы с Данди сто лет не виделись.
— Представляю, как вы рады, что наконец избавились от этого дела, — изрекла миссис Рэтклиф, когда они устроились рядом. Она произнесла это таким тоном, будто для инспектора дело об убийстве было такой же докукой, как для нее самой, но Грант почел за лучшее пропустить ее замечание мимо ушей, и они заговорили о здоровье, ресторанах, гостиницах, еде, напитках и одежде — вернее сказать, о том, что нынче модно на пляже обходиться почти без оной.
— Какая красивая у вас брошь, — как бы между прочим заметила мисс Динмонт, обращаясь к приятельнице. — Сегодня у меня одни брошки в голове, потому что мы весь день только ими и занимались. Одна из наших кузин выходит замуж, и мы купили ей подарок. Знаете, как бывает: выбираешь себе новое пальто и уже, кроме пальто, ничего другого не замечаешь. Где-то у меня тут эта брошь. Сейчас покажу.
Не вставая, она протянула руку за сумочкой, порылась в ней и достала синюю бархатную коробочку.
— Ну как она вам? Нравится? — спросила мисс Динмонт, раскрывая футляр.
— Ой, прелесть какая! — воскликнула мисс Летбридж.
— «М. Р», — произнесла ее сестра после короткого молчания. — Надо же, мои инициалы! Как зовут вашу кузину?
— Мэри Рэймонд.
— Имя, как у добродетельной героини дешевого романа, — заметила мисс Летбридж. — Она у вас тоже добродетельная?
— Не сказала бы, зато жених ее страшный зануда. Так понравилась вам эта вещица?
— По-моему, просто прелестная. Разрешите взглянуть? — сказала миссис Рэтклиф. Она взяла в руки футляр, внимательно осмотрела брошь и вернула девушке.
— Прелестная! — повторила она. — И очень необычная. Можно ее купить, так сказать, в готовом виде?
Грант едва заметно покачал головой и тем самым пришел на выручку на мгновение растерявшейся мисс Динмонт.
— Нет, ее пришлось заказывать, — ответила она.
— Тогда остается только позавидовать вашей кузине. Если брошь ей не понравится, значит, у нее просто отсутствует вкус.
— Ну мы ничего не теряем, даже если и не понравится. Мэри всегда может слукавить и сказать, что брошь очаровательна. Вы, женщины, — лукавые созданья, — заметил Грант.
— Ай, как не стыдно! — воскликнула мисс Летбридж. — Бедненький! Вам просто не везло с женщинами.
— Нет, серьезно, разве я не прав? Вся ваша жизнь — сплошная цепь милых обманов; ах, вы очень сожалеете, но никак не сможете встретиться; ах, вас нет дома; ах, вы, разумеется, пошли бы, но не можете; ах, как жаль, что господин «Н» не может побыть подольше, но ничего не поделаешь… Если вы не лукавите с друзьями, то рассказываете небылицы своим горничным.
— Может, я не всегда искренна с друзьями, но рассказывать небылицы горничным?! Вот еще! — воскликнула миссис Рэтклиф.
— Ой ли? — протянул Грант, глядя на нее снизу вверх.
Наблюдай кто-нибудь в этот момент за инспектором, ему бы и в голову не пришло, что этот господин в съехавшей на глаза шляпе, удобно расположившийся на песочке, находится при исполнении прямых служебных обязанностей.
— Возьмем, к примеру, вас, — лениво продолжал Грант. — На следующий день после убийства вы собирались отплыть в Штаты, правильно?
— Правильно, — безмятежно подтвердила миссис Рэтклиф.
— Хорошо. Тогда почему вы сказали горничной, будто едете в Йоркшир?
Миссис Рэтклиф сделала резкое движение, словно собиралась встать, но потом снова откинулась на спинку шезлонга и произнесла:
— Не понимаю, о чем вы говорите. Ничего подобного насчет Йоркшира я ей не говорила. Я сказала, что еду в Нью-Йорк.
Ложь выглядела настолько естественно, что Грант поспешил продолжить атаку, добавив:
— Она, во всяком случае, утверждает, что вы упоминали Йоркшир.
— Откуда вам это известно? — как и следовало ожидать, спросила миссис Рэтклиф.
— Инспектору полиции известно обо всем на свете, — отшутился Грант.
— Вы хотите сказать, инспектор полиции способен на все, — вспылила миссис Рэтклиф. — Может, вы дошли до того, что назначали Энни свидания? Не удивлюсь, если вы подозреваете, что это я совершила убийство!
— И я не удивлюсь. Инспектора полиции всегда всех подозревают.
— Значит, я должна еще сказать спасибо, что ваши подозрения завершились на стадии ухаживания за моей горничной.
Грант поймал устремленный на него из-под узких полей шляпки взгляд мисс Динмонт. Из разговора она, разумеется, догадалась, что миссис Рэтклиф имеет какое-то отношение к убийству в очереди, и это заставило ее насторожиться.
— Да, я знаю, что не вызываю симпатии у публики, — сказал он и ободряюще ей улыбнулся, подумав при этом: «Она должна понять, если хорошенько поразмыслит, что мои расспросы сейчас направлены не против Ламонта, а скорее ему во благо». — Однако следует отдать мне должное: справедливость — мое ремесло, — сказал он вслух.
— Пойдемте выпьем чаю, — предложила мисс Летбридж. — Может, в наш отель? Или куда-нибудь в другое место? Как думаешь, Мег? Что до меня, то сандвичи с анчоусом и кексы с коринкой мне уже до смерти надоели.
Грант предложил всем отправиться в кафе, знаменитое своими пирожными, и принялся собирать раскиданные вещи миссис Рэтклиф. При этом он сделал так, что письменный бюварчик как бы от его неловкого движения выпал и раскрылся. На странице с неоконченным письмом, залитой ярким солнечным светом, перед ним возникли строчки, написанные крупным, округлым почерком — почерком миссис Рэтклиф.
— Извините! — произнес он и положил бюварчик на кипу журналов и брошюр.
С гастрономической точки зрения посещение кафе можно было счесть удачным, однако, подумал Грант, как попытка развлечь дам, это полное фиаско. Две из них явно проявляли к нему недоверие; третья же, мисс Летбридж, держалась с нарочитой веселостью, чем лишь подчеркивала овладевшее ею чувство неловкости.
Когда они распрощались и Грант со своей спутницей уже в сумерках двинулись по направлению к станции, он сказал:
— Вы держались молодцом, мисс Динмонт. Не знаю, что бы я без вас делал.
Она не ответила. Во время обратной дороги девушка была так молчалива, что Грант, и без того недовольный собой, расстроился вконец. Почему, собственно, она ему не верит? Неужели считает его коварным чудовищем, способным использовать ее в своих злодейских целях?!
«А почему ты считаешь, что тебе обязаны верить? — насмешничало его второе «я». — Ведь ты — полицейский. По сравнению с офицером Уголовной полиции сам Макиавелли покажется чистоплюем!»
Когда Грант находился в разладе с самим собой, его губы непроизвольно складывались в сардоническую улыбку. Это происходило и теперь. Он не нашел ответа ни на один из досаждавших вопросов. Он не понял, признала ли миссис Рэтклиф брошь или нет; не мог решить, действительно ли она упомянула в разговоре с горничной Нью-Йорк, а та просто перепутала, или нет. Даже то, что он увидел образец ее почерка, само по себе еще ничего не давало: такой же крупный, округлый почерк был у большинства женщин. Короткое молчание при первом взгляде на брошь могло быть объяснено просто тем, что она разбирала переплетенные буквы. И расспросы о том, кому она предназначается, могли быть вполне невинными. А могли свидетельствовать как раз об обратном. Если эта особа действительно причастна к убийству, то должна обладать незаурядным умом и вряд ли легко даст себя уличить. Один раз при первом допросе ей уже удалось одурачить его: тогда Грант не потрудился присмотреться к ней внимательно. Она с легкостью может продолжать дурачить его и теперь, — если только Грант не сумеет обнаружить какой-нибудь чертов факт, объяснить который ей окажется не под силу.
— Что вы думаете о миссис Рэтклиф? — спросил он девушку. Кроме деревенского паренька с подружкой, в их купе никого не было.
— А в чем, собственно, дело? — проговорила она. — Вы задали вопрос просто так, или это продолжение расследования?
— Послушайте, мисс Динмонт, вы на меня обиделись?
— Обиделась — не то слово. Я уже говорила, что не люблю, когда из меня делают дуру, а сейчас я чувствую себя именно так.
Горечь, прозвучавшая в ее голосе, вконец расстроила Гранта. И он, даже не стараясь этого скрыть, сказал:
— И совершенно напрасно. Вы справились с заданием как профессионал, и у вас нет никаких оснований быть недовольной собой или обиженной. Я бьюсьнад одной загадкой и никак не могу ее разрешить, поэтому мне требуется ваша помощь, — только и всего. Потому я и поинтересовался сейчас вашим впечатлением о миссис Рэтклиф. Мне нужно услышать мнение одной женщины о другой, мнение непредвзятое.
— Ну если честно, по-моему, она просто глупа.
— А вам не кажется, что это — одна видимость и что за нею скрывается глубокий ум?
— Ничего за нею не скрывается, по-моему. Думаете, она пустышка? Подождите-ка…
— Тут и ждать нечего. Вы спросили мое мнение, я вам его и высказала. Она пустышка и глупа как пробка.
— А ее сестра? — не унимался Грант, хотя этот вопрос уже не имел никакого отношения к расследованию.
— Она — совсем другое дело. У этой и ума и индивидуальности хоть отбавляй, хотя по виду не скажешь.
— Как вы думаете, может ли такая, как миссис Рэтклиф, убить человека?
— Никогда.
— Почему же?
— Кишка тонка, — образно ответствовала мисс Динмонт. — Она могла бы это сделать только в припадке ярости, но через минуту все бы уже об этом знали и помнили бы это до конца своих дней.
— Полагаете ли вы, что она способна знать об убийстве и никому не проговориться?
— Вы имеете в виду — знать, кто убил?
— Да.
Мисс Динмонт изучающе посмотрела на непроницаемое лицо инспектора; по нему медленно скользили огни очередной станции, и поезд остановился. «Эридж! Эридж!» — прокричал проводник, с грохотом соскакивая на безлюдную платформу.
— Хотелось бы мне знать, о чем вы сейчас думаете, — проговорила девушка напряженным голосом. — Желаете сделать из меня дуру второй раз за один вечер?
— Уверяю вас, мисс Динмонт, мне еще не приходилось быть свидетелем того, чтобы вы совершили хоть одну глупость, и готов побиться об заклад, мне и не придется с этим столкнуться.
— Приберегите подобную лесть для миссис Рэтклиф, но я вам отвечу. Да, я думаю, что она могла бы смолчать об убийстве, но только в том случае, если она лично была бы заинтересована в таком умолчании. Теперь все.
Грант не совсем понял значение ее последних слов: то ли она желала подчеркнуть, что больше ей нечего сказать, то ли давала понять, чтобы он прекратил свои расспросы.
Однако ее мнение дало ему достаточную пищу для размышлений, и остаток пути они провели в молчании.
— Где вы остановились? — спросил Грант, когда поезд прибыл в Лондон. — Не в больнице же?
— Нет. В своем клубе на Кавендиш-Сквер.
Несмотря на возражения, инспектор проводил ее до дверей клуба и распрощался на пороге, поскольку от ужина с ним она категорически отказалась.
— Чем вы собираетесь заполнить остаток своего отпуска? — спросил он перед уходом.
— Прежде всего навещу тетю. Я пришла к выводу, что из двух зол предпочтительнее то, с которым мы хорошо знакомы, — ответила девушка. Инспектор успел заметить, как при свете, падавшем из холла, ее зубы сверкнули в улыбке, и откланялся, уже без ощущения, что он — жертва несправедливости, — ощущения, которое не покидало его несколько часов кряду.
Глава семнадцатая
РАЗРЕШЕНИЕ ЗАГАДКИ
Грант был безутешен. В Ярде никогда еще не видели его в таком унынии. Он даже прикрикнул на верного Уильямса, и лишь неподдельная обида, отразившаяся на розовом, наивном лице последнего, заставила его на время взять себя в руки. Миссис Филд во всем винила шотландцев, их характер, их пищу, их климат и ландшафт, и после несложного подсчета сказала супругу драматическим шепотом: «Если на него так повлияли четыре дня, представляешь, что могло бы стрястись с ним за месяц?!» Миссис Филд произнесла эту знаменитую фразу после того, как Грант предъявил ей то, что уцелело от его грязного изорванного твидового костюма. Но она и перед Грантом не скрыла своих предубеждений по поводу шотландцев, на что он постарался отреагировать со всей той мягкостью, на которую еще был способен в своем нынешнем раздерганном состоянии. Среди повседневной рутины, приводя в порядок незаконченные документы, он внезапно застывал в неподвижности и задавал себе одни и те же вопросы: не упустил ли он чего-нибудь? Есть ли еще какой-то аспект дела, который нуждается в доследовании? Он сознательно пытался одернуть сам себя, пытался разделить общепринятую точку зрения, что полиция работает слишком тщательно и возможность ошибки минимальна; пытался убедить себя, что Баркер прав: у него действительно сдали нервы и он нуждается в отдыхе. Ничего не помогало. Стоило перестать убеждать себя, — и чувство, что где-то что-то упущено, возвращалось к нему немедленно. Мало этого: по мере того как один бесполезный, однообразный, утомительный день сменялся другим, чувство недовольства росло и крепло. Грант снова и снова возвращался мыслями к тому первому, такому, казалось, далекому — хотя с него прошло всего две недели — дню, когда произошло убийство. Где ошибка? Где что-то упущено из внимания? Где? Где? — Стилет. Стилет, который в качестве ключа оказался абсолютно бесполезным, — вещь без сомнения необычная, но не давшая ничего. Ни один человек не признал его своей собственностью; никому он не попадался на глаза. Вся его роль состояла в том, что он объяснял шрам на пальце — улику, вне связи с остальными совершенно бессмысленную.
Одна, другая, пятая, десятая улики, но они никак не желали складываться в единое целое, оставаясь каждая сама по себе. А между тем, без всяких к тому оснований, у Гранта крепло почти суеверное чувство, что истинным ключом ко всему является найденная в кармане пальто Соррела брошь; что она жаждет поведать свою историю, только они не в состоянии ее услышать. Брошь лежала теперь в его столе рядом со стилетом, и он постоянно ощущал ее присутствие. Когда у него выдавалась свободная минута, он доставал и ее, и стилет, брал попеременно в руки то одно, то другое и «пожирал их глазами», как рассказывали его подчиненные. Обе вещи стали для Гранта чем-то вроде фетиша. Одна — предназначенная в подарок женщине, и другая — убившая Соррела, они были как-то связаны между собою. Грант ощущал это так же явственно, как тепло солнечных лучей на своих руках. И тем не менее его собственный разум, как и доводы всех, кто его окружал, восставал против этого чувства. И правда: какое отношение к делу могла иметь эта брошь? Джеральд Ламонт убил Соррела маленьким итальянским кинжалом — в конце концов его дед был итальянцем, и, если ему не достался в наследство сам стилет, он мог вполне унаследовать склонность своих предков к этому виду оружия, которую и обнаружил в результате ссоры. По его же собственному признанию, Ламонт был в обиде на друга за то, что тот бросает его без работы и, можно сказать, без средств к существованию. У Соррела было достаточно денег, чтобы оплатить проезд Джеральда, но он их не предложил. Опять же, по его собственному признанию, Ламонт лишь спустя два дня после убийства узнал, что Соррел оставил ему деньги. При чем здесь брошь с монограммой из жемчуга? Иное дело — серебряный с эмалью стилет, — не поддающийся объяснению таинственный предмет, особа номер один среди вещественных доказательств. Он будет сфотографирован, запротоколирован, внесен в специальный каталог; о нем будет судить и рядить вся страна, и из-за маленького изъяна в его рукоятке будет повешен человек. А тем временем эта жемчужная брошь, так и не упомянутая в деле, будет тихо светиться, молчаливо, но упорно опровергая собой все их хилые умозаключения.
Это было просто невыносимо. Сам вид ее вызывал у Гранта ненависть. И тем не менее он возвращался к ней снова и снова, как отвергнутый любовник к насмешливой красавице. Он пытался прибегнуть к своему излюбленному методу — «зажмуривался»; он уходил с головой в работу или пускался в развлечения. Но стоило ему «открыть глаза» — и он снова видел перед собой все ту же брошь.
Никогда раньше с ним не случалось ничего подобного: обычно после своего «прижмуривания» он обязательно отыскивал новый ракурс в деле. Либо он заболел навязчивой идеей, решил Грант, либо подошел вплотную к решающему, жизненно важному повороту в ходе расследования. Этот поворот находился прямо у него перед глазами, но Грант его не видел.
— Хорошо, — рассуждал он, — если все же предположить, что убийство произошло не в результате ссоры, а выполнено по чьему-то заказу, то кто мог быть его исполнителем? Разумеется, ни один из тех, кто стоял рядом. Но никто из посторонних не приближался непосредственно к очереди, никто — за исключением швейцара, полисмена и Ламонта.
А может, все-таки был еще кто-нибудь, успевший уйти незамеченным? Ведь ушел же Ламонт, и Рауль Легар тоже ушел, не привлекая к себе внимания. Первому это удалось потому, что всех занимала мысль о том, как бы попасть в театр, второму — оттого, что всех захватило свершившееся убийство. Возможно ли, что был еще кто-то третий среди ушедших? Он припомнил, как безразличны к окружающему оказались все опрошенные ими свидетели. Ни один из них не был в состоянии указать с точностью, кто стоял непосредственно перед ним или за ним, — за исключением Рауля Легара, но он — иностранец, английская толпа все еще представляла для него своего рода любопытное зрелище. Для остальных это сборище было делом обычным и никакого интереса не вызывало. Как истые лондонцы, они были заняты каждый своими мыслями, — театральные завсегдатаи, и не более того. Итак, возможность, что кто-то еще исчез незамеченным, все-таки существовала. А если так, каковы шансы обнаружить его теперь, по прошествии стольких дней? Где искать след?
«А брошь? — шепнуло его второе «я». — Брошь!»
В пятницу Ламонта снова привезли в отделение полиции на Гоубридж, и его адвокат, как и предвидел Грант, заявил протест по поводу законности показаний, взятых у больного Ламонта в поезде. Грант думал, что протест будет носить чисто формальный характер, но было видно, что адвокат делает это по искреннему убеждению. Инспектору стало ясно также, что сторона обвинения намерена всерьез использовать признание Ламонта, будто бы он был зол на приятеля за решение уехать. Председательствующий судья объявил, что он не усматривает в действиях полиции ничего противозаконного. В свою очередь адвокат заявил, что физическое и моральное состояние его подзащитного не давало права полиции добиваться у него столь важных для дела показаний. Он только что перенес сильнейшее сотрясение мозга. При его самочувствии он не мог… Многословная, назойливая словесная перепалка длилась до бесконечности, между тем как два наиболее заинтересованных лица — Ламонт и Грант — с тоской ждали, когда она наконец прекратится и один сможет возвратиться обратно в камеру, а другой — к своей текущей работе и неотступным мыслям о брошке.
В переполненном на этот раз зале присутствовала и мисс Динмонт. Она смотрела на инспектора почти ласково, что немало его удивило. Казалось, встреча с тетушкой произвела на нее, как это ни неожиданно, смягчающий эффект. Вспоминая миссис Эверет, инспектор не мог найти этому разумного объяснения. Только на обратном пути к Ярду он наконец догадался: уверенность тетки в том, что Ламонт не виноват, вопреки всякой логике вселила в сердце девушки надежду. Свет этой надежды и придал ее лицу нежное, почти восторженное выражение. Грант выругался про себя: надеяться на оправдательный приговор она могла сколько угодно, но что с ней станется, когда его приговорят?!
Пропади она пропадом, эта жемчужная брошка! О чем она хочет рассказать? Кто еще мог подойти к очереди? Он порывисто вошел в кабинет в уставился в окно. Надо подавать в отставку. Не годится он для этой работы. Видит сложности там, где для других все ясно. Это ли не доказательство его непригодности?! Можно себе представить, как потешается над ним Баркер. Ну и пусть себе потешается! У Баркера воображения — как у булыжника на мостовой. Зато у него, у Гранта, его больше, чем полагается иметь для работы в полиции. Да, пора подавать в отставку. Два человека, во всяком случае, будут признательны ему за такое решение — те два, которым не терпится занять его место. А об этом деле он больше думать не собирается.
Уже придя к такому выводу, Грант все же пошел к столу, чтобы снова достать брошь, но тут вошел Баркер.
— Слышал, они там подняли шум вокруг показаний, — проговорил шеф.
— Да, так оно и было.
— Зачем только они этим занимаются?
— Не знаю. Наверное, из принципа. К тому же они, кажется, усматривают, что мы могли что-то из сказанного им неверно истолковать.
— Ладно, пускай покувыркаются, — заметил Баркер. — Им все равно от улик никуда не деться. С показаниями или без них — все равно они у нас спекутся. Все еще ломаете себе голову над этим делом?
— Нет. Уже бросил. С этих пор буду руководствоваться лишь тем, что знаю, а не тем, что кажется.
— Вот и прекрасно! Держите в узде свое воображение, Грант, и когда-нибудь вы сделаетесь великим человеком. Гениальная догадка хороша один раз в пять лет. Положите себе такой временной промежуток — и тогда эта способность принесет вам успех, — закончил Баркер, с добродушной усмешкой глядя на своего подчиненного.
— К вам дама, сэр, — объявил, появляясь в дверях, констебль.
— Кто она?
— Не пожелала себя назвать, но утверждает, что дело важное.
— Ладно. Проводите сюда.
Баркер хотел было уйти, но потом, видимо, передумал. В молчании они ожидали прихода посетительницы: Баркер — по одну сторону стола, Грант — по другую. Его рука лежала на ручке ящика, где покоилась брошь. Дверь отворилась, и констебль пропустил вперед женщину, снова, как того требовали правила, повторив: «К вам дама, сэр».
Это была толстуха из очереди.
— Добрый день, миссис… Виллис, — проговорил инспектор, с трудом припомнив ее фамилию. Последний раз он видел ее на предварительном слушании. — Чем могу быть полезен?
— Добрый день, инспектор. Я пришла, потому как дело зашло слишком уж далеко, — произнесла она с неистребимым выговором кокни. — Берта Соррела убила я и не желаю, чтоб из-за меня кто-то там страдал понапрасну.
— Вы… что? — воскликнул Грант и запнулся, остолбенело глядя на ее пухлое, блестящее лицо с глазками-бусинами, на тесное пальто из черного шелка и черную шелковую накидку, прикрывавшую голову.
Баркер поднял глаза на Гранта и, увидев, что тот в полной растерянности, — видно, бедняге и вправду надо отдохнуть, — взял ситуацию в свои руки.
— Присядьте, миссис… э… Виллис, — сказал он ласково. — Вы, наверное, слишком много думали про это убийство, — продолжал он, беря стул и заботливо усаживая женщину с таким участливым видом, словно успокаивал девицу, которую бросил любовник. — Не следует подолгу думать о таких мрачных делах, как убийство. Почему вам пришло в голову, будто это вы убили Соррела?
— Что значит — почему пришло в голову? — запальчиво воскликнула она. — Я это не придумала, я это сама сделала. И очень здорово у меня все вышло.
— Ладно, ладно, — полушутя, полусерьезно сказал Баркер. — Тогда откуда же нам знать, что это сделали именно вы?
— Как откуда? — возмутилась она. — Что вы такое несете? До сегодня не знали, так сейчас я вам это сказала, и теперь вы знаете.
— Мало ли, что вы нам сказали! А почему мы должны вам верить?
— Так вы мне не верите? — закричала женщина. — Слыхано ли, чтобы приходил человек и сам признавался в убийстве?
— И слыхано, и видано, — заверил ее Баркер.
Она изумленно замолчала; ее блестящие, невыразительные глазки перебегали с одного лица на другое. Баркер, иронически вздернув бровь, покосился на Гранта, но тот не обратил на это никакого внимания. Словно очнувшись от столбняка, он вдруг поднялся из-за стола и подошел к женщине.
— Снимите-ка на минутку перчатки, миссис Виллис, — произнес он.
— Ну вот: это уже похоже на дело, — сказала она, выполняя его просьбу. — Я знаю, что вы ищете, только он уже почти прошел.
И она вытянула вперед левую руку. Сбоку на указательном пальце огрубевшей от работы руки был зарубцевавшийся, но достаточно заметный след от рваной ранки. Грант шумно вздохнул. Подошел Баркер и тоже стал рассматривать шрам.
— Но скажите, миссис Виллис, — спросил он, — зачем вам понадобилось убивать Соррела?
— Не ваше дело. Я убила его, и этого довольно.
— Боюсь, что этого не довольно. Шрам у вас на пальце еще не доказывает, что вы причастны к смерти Соррела.
— Но говорю же вам: я его порешила. Почему вы мне не верите? Убила маленьким ножом, который привез муж из Испании.
— Вы говорите, что убили, но у нас нет доказательств, что это так на самом деле.
Женщина с презрением взглянула на обоих.
— Послушаешь вас — и не поверишь, что вы полицейские, — изрекла она. — Если б не паренек, которого вы поймали, так я бы прямо сейчас поднялась и отправилась обратно домой. Никогда еще не встречала таких тупарей-полицейских! Что вам еще надо? Я же призналась!
— Нам много еще чего надо, — вмешался Баркер. — Скажите, например, как вы могли убить Соррела, если стояли в очереди впереди него?
— А я не впереди стояла, а сразу за ним. Все время там была, пока люди не стали напирать. Вот тогда я проткнула его ножом и протиснулась вперед, чтобы он сразу не завалился.
Баркер перестал улыбаться и впервые пристально поглядел на женщину:
— Что ж такого вам сделал Соррел, что вы решили проткнуть его ножом?
— Ничего. Но его нужно было убрать, вот я его и убрала.
— Вы знали его?
— Да.
— И как долго вы его знали?
Что-то в его голосе заставило ее помедлить с ответом.
— Долго, — наконец произнесла она.
— Он чем-нибудь вас обидел?
Но ее и без того тонкие губы сомкнулись еще крепче. Баркер в некоторой растерянности поглядел на нее и, как понял Грант, решил переменить тактику.
— Что ж, очень сожалею, миссис Виллис, — сказал он, — но мы не можем принять на веру ваш рассказ. Похоже, что вы его сочинили с начала и до конца. Наверное, вы слишком переживали из-за всей этой истории. Поверьте, так часто случается — человек никак не может забыть про какое-нибудь злодеяние, и постепенно ему начинает казаться, будто он сам его совершил. Возвращайтесь-ка лучше домой и выкиньте все это из головы.
Как Баркер и рассчитывал, это заставило ее раскрыть рот. На ее красном лице появилось обеспокоенное выражение; хитрые черные глаза обратились на Гранта, и она сказала:
— Кто вы такой, я не знаю, а вот инспектор Грант — тот мне верит.
— Это мой шеф, начальник уголовного отдела Баркер, — объяснил Грант. — Вы должны рассказать ему значительно больше того, что уже сказали, если хотите, чтобы он вам поверил.
От нее не ускользнул строгий тон, которым это было произнесено, и, прежде чем она успела собраться с мыслями, Баркер повторил прежний вопрос:
— Почему вы убили Соррела? Пока вы не назовете достаточно веской причины, у нас нет оснований вам верить. Ничто не говорит о вашей причастности к убийству, кроме этого шрама. Полагаю, он и навел вас на идею выдумать всю эту историю о себе.
— При чем тут шрам? Вы что — принимаете меня за полоумную?! Ничего подобного. Я в полном уме, я рассказала про то, как это сделала. Неужели вам этого мало?
— Конечно, мало. Историю про то, как вы это сделали, вы тоже вполне могли придумать. Доказательства, понимаете? Нам нужны доказательства!
— У меня дома — ножны от кинжала! — торжествующе проговорила она. — Вот вам ваши доказательства!
— Боюсь, что и это не то, что нам нужно, — отозвался Баркер с хорошо разыгранным сожалением. — Ножны от кинжала могут найтись дома у кого угодно. Мы не можем вам верить, пока вы не скажете нам, почему именно вы пожелали убить Соррела.
— Хорошо. Я скажу, если уж вам так это надо, — произнесла она после тягостного молчания. — Я убила его, потому что он хотел застрелить мою Рози.
— Кто эта Рози?
— Моя дочка.
— Почему он хотел ее застрелить?
— Потому что она больше не желала его знать.
— Дочь живет вместе с вами?
— Нет.
— Тогда, может, вы сообщите мне ее адрес?
— Нет, не сообщу. Она уехала за границу.
— Но если она уехала за границу, каким образом Соррел мог причинить ей вред?
— Когда я убивала Соррела, она еще находилась здесь.
— В таком случае… — начал Баркер, но тут его перебил Грант.
— Миссис Виллис, — раздельно произнес он, — ваша дочь — это Рей Маркейбл?
Со стремительностью, невероятной, казалось бы, для ее грузного тела, женщина вскочила на ноги. Ее тонкие губы разжались, и она начала издавать какие-то нечленораздельные звуки.
— Сядьте, — мягко сказал Грант и помог ей снова опуститься на стул. — Успокойтесь и расскажите все с самого начала. Спешить нам некуда.
— Как вы узнали? — первым делом спросила она, приходя в себя. — Как догадались?
— Почему вы решили, что Соррел хочет причинить зло вашей дочери? — вместо ответа задал Грант следующий вопрос.
— Потому что я тут недавно встретилась с ним на улице. До этого я его тыщу лет не видала, и тут я возьми ему да и брякни про то, что Рози уезжает в Америку. А он мне: «Я тоже еду». Мне сразу стало не по себе — уж я-то знала, как он Рози надоел. А тут он еще странно эдак улыбается и говорит: «Правда, это еще точно не решено. Во всяком случае, мы либо едем вместе, либо не поедет ни она, ни я». Тогда я говорю, как это, мол, надо понимать? У Рози — контракт, она его нарушать не будет. А он: «Со мной у нее контракт гораздо раньше заключен. Вам не кажется, что она тоже не должна бы нарушать его?» «Не валяй дурака, — сказала я, — то было, когда у вас еще молоко на губах не обсохло», а он опять не по-хорошему так улыбнулся и говорит: «Нет уж: куда она — туда и я. Только вместе». И ушел.
— Когда это произошло?
— Три недели назад — в пятницу.
Значит, на следующий день после того, как Соррелу прислали на адрес миссис Эверет маленький пакет.
— Хорошо, продолжайте, — попросил он.
— Ну я пошла домой и стала думать. Я все время видела перед собой его лицо: оно было все какое-то серое, хотя он, на самом-то деле, смазливый парень. Тут-то мне и пришло на ум: уж не иначе как он хочет порешить мою Рози.
— Ваша дочь была с ним помолвлена?
— Это он так считал. На самом-то деле ничего особенного, — детская любовь — только и всего. Они с малых лет дружили. Ну а теперь-то к чему Рози идти за него?
— Дальше?
— Ну вот, я и подумала: он может с ней встретиться только в театре. Я даже из-за этого дела наведалась к Рози — вообще-то я не часто ее навещаю, — но она, вроде бы, не приняла это всерьез. Только сказала: «Оставь, Берт всегда любил играть в таинственность, и вообще я с ним больше не вижусь». У нее была пропасть всяких важных дел, и она решила, что это все пустая болтовня. Но я не могла успокоиться. В тот вечер я пошла к театру и с другой стороны улицы стала смотреть, нет ли его в очереди. Но он не пришел. На другой день — тоже подошла, когда была репетиция, и вечером — тоже, но он все не заявлялся. В понедельник вечером и во вторник днем его тоже не было. Во вторник вечером я его увидала. Он был один, и я встала в очередь позади него. И почти сразу же заметила, что у него правый карман оттопыривается; дотронулась, а там что-то твердое. Тут я догадалась, что это револьвер и что он хочет порешить мою Рози. Тогда я дождалась, пока очередь не стала напирать сзади, и проткнула его ножом. Он и не пикнул. Будто так и не успел догадаться, что с ним стряслось. Ну а потом, как я сказала, я протиснулась вперед.
— Соррел точно был один?
— Да.
— Кто стоял с ним рядом?
— Сначала молодой джентльмен, смуглый такой и очень красивый. Потом к Берту подошел какой-то мужчина, стал с ним разговаривать и отодвинул паренька назад, ко мне.
— А за вами кто стоял?
— Та пара, что давала показания на первом слушанье.
— Как это вышло, что Рози Маркхэм — ваша дочь? У вас ведь другая фамилия.
— Понимаете, муж у меня был моряк, от него у меня и этот самый кинжал, из Испании; он еще много чего мне привозил. Но когда Рози была совсем маленькая, он утонул, а его сестра была замужем за Маркхэмом. Они жили в полном достатке, своих детей у них не было, и она предложила удочерить Рози. Я согласилась. Надо отдать должное: они хорошо о ней заботились. Она стала настоящей леди, моя Рози. Годами я была на поденной работе, но, с тех пор, как у Рози завелись деньги, мне положили — как это у них называется? — ренту. Так что теперь мне этого почти хватает.
— Откуда ваша дочь знала Соррела?
— Тетка, у которой воспитывался Берт, и Маркхэмы были соседями, и Рози с Бертом вместе ходили в школу. У них была дружба. Потом, когда Берт был еще в армии, его тетка умерла.
— Но обручились-то они уже после войны?
— Да не обручались они по-настоящему. Просто встречались, и все. Рози тогда ездила по стране с группой «Зеленый козырек», и, когда была в городе или где-то рядом, они всегда видались.
— Но Соррел считал, что они обручены?
— Может быть. Еще бы! Кому не захотелось бы считать, что он обручен с моей дочкой! Больно он ей нужен, моей Рози!
— Но они ведь продолжали видеться?
— Ну да. Иногда она разрешала ему приходить к себе домой, но на людях с ним не появлялась. Да и к себе пускала не часто. Думаю, она просто не хотела резко порывать с ним, а хотела сделать это постепенно. Но правду сказать, точно я ничего не знаю, я и сама редко виделась с Рози. Правда, ничего не скажу: ко мне она всегда хорошо относилась, но я сама понимала, что ей это ни к чему. У нее там лорды и прочая знаменитая публика, а я кто такая? Простая старая тетка.
— Почему вы сразу не сообщили в полицию, что Соррел угрожает вашей дочери?
— Сначала я хотела, а потом подумала, а какие у меня доказательства? По тому, как вы сегодня меня встретили, похоже, я правильно подумала. И потом, вы бы его не вечно держали под стражей, он когда-нибудь да вышел бы и тогда все равно расправился бы с Рози. И меня могло не оказаться рядом, чтобы этому помешать. Вот я и решила покончить с этим сама, покуда могу. Нож у меня был, и я решила им воспользоваться. В прочем оружии — всяких там пистолетах — я все равно ничего не смыслю.
— Скажите, миссис Виллис, ваша дочь когда-нибудь видела этот кинжал?
— Нет.
— Вы уверены? Подумайте хорошенько.
— Да, видела. Я вам соврала. Она была уже почти взрослая, в последнем классе. Тогда они в школе ставили какую-то пьесу Шекспира, что-то такое, где нужен был кинжал. Не помню названия.
— «Макбет»? — подсказал Грант.
— Да, верно. И она играла там героиню. Она всегда была способная. Еще когда совсем малюсенькая играла фею в школьных спектаклях. Я всегда ходила на нее смотреть. Ну вот: когда они ставили этого «Макбета», я одолжила ей кинжал, который привез ее отец из Испании. Дала на счастье. После спектакля она мне его вернула. Но счастье осталось при ней. Ей всю жизнь потом везло. Только при чистом везении могло случиться, что во время гастролей ее увидел сам Ладс, рассказал о ней Беррону, и тот пригласил ее на пробу. После этой пробы она и взяла себе такое имя — Рей Маркейбл, потому что, пока она перед ним танцевала да распевала, он все время протяжно так повторял одно и то же слово: «Рее-маркейбл! Удивительно, мол!» Вот Рози и взяла себе такое имя, даром что оно совпадало и с ее собственными инициалами — Р. и М.
Наступило молчание. Баркер безмолвствовал уже довольно долго; молчал, собираясь с мыслями, и Грант. Одна лишь краснолицая толстуха, казалось, чувствовала себя вполне свободно.
— Не забудьте только одно, — снова заговорила она. — Рози должна остаться в стороне. О ней — чтоб ни словечка! Можете просто сказать, что он, мол, грозил расправиться с моей дочкой, которая сейчас в отъезде.
— Сожалею, миссис Виллис, — ответил Грант, — но на вашем месте я бы не стал на это рассчитывать. Имя мисс Маркейбл всплывет непременно.
— Ни в коем случае! — воскликнула она. — Ни за что на свете! Это все испортит! Подумайте о пересудах, о скандале! Неужели ж у вас, джентльмены, не достанет ума этого как-нибудь избежать?
— Боюсь, тут одного ума недостаточно, миссис Виллис. Мы сделали бы, кабы могли, но, если ваш рассказ правдив, это будет невозможно.
При горячности, которую она только что продемонстрировала, женщина, как ни странно, восприняла его слова довольно спокойно.
— Ладно, — сказала она. — Вряд ли это все сильно скажется на Рози. Сейчас она лучшая актерка во всей стране, она твердо стоит на ногах. Только уж повесьте меня до ее возвращения из Америки.
— Ну-ну, о повешении сейчас говорить еще несколько преждевременно, — с бледной улыбкой отозвался Баркер. — Ключ от квартиры у вас при себе?
— При мне. А что?
— Передайте его мне, пожалуйста. Я пошлю к вам человека, чтобы он удостоверился относительно ножен от кинжала. Где ему их искать? — сказал Баркер и вызвал сотрудника отдела.
— В комоде. На дне левого верхнего ящика, в коробочке из-под духов. И потрудитесь оставить все в надлежащем порядке, — ворчливо сказала она, обращаясь к вошедшему.
Когда человек вышел, Грант протянул ей ручку и пододвинул чистый лист бумаги.
— Напишите, пожалуйста, свое имя и адрес, — предложил он.
Она неловко взяла ручку и левой рукой не без усилий написала то, что он просил.
— Помните, я приходил к вам накануне первого слушания?
— Помню.
— Тогда вы пользовались правой рукой.
— Я могу одинаково хорошо действовать обеими руками. Это как-то называется, да я забыла — как. Но когда нужно делать что-нибудь очень важное, то пользуюсь левой. Рози тоже левша. И отец мой был левша.
— Почему вы раньше не пришли?
— Не думала, что вы кого-то возьмете. А потом прочитала в газете, что у вас все решено, и подумала: надо чего-то делать. Сегодня я пошла в суд посмотреть на него.
Значит, она была в зале, а Грант ее не заметил!
— Он хоть и похож на иностранца, но, сдается, не прохвост. Да и больной совсем. Ну вот, я вернулась домой, прибралась и пошла к вам.
— Понимаю, — проронил Грант и вопросительно взглянул на шефа. Баркер вызвал человека и сказал:
— Миссис Виллис пока побудет в соседней комнате, а вы составите ей компанию. — И, уже обращаясь к женщине, произнес: — Если вам что-нибудь понадобится, попросите Симпсона, он принесет.
Дверь за толстухой закрылась.
Глава восемнадцатая
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
— Никогда в жизни больше не буду подшучивать над вашим чутьем, — сказал после небольшой паузы Баркер. — Может, она ненормальная?
— Если под этим подразумевать логичность, доведенную до абсурда, — то несомненно, — отозвался Грант.
— Похоже, она вообще не испытывает никаких чувств ни по поводу Соррела, ни из-за себя самой.
— Да, действительно. Может, она и вправду не в себе.
— Как вы думаете, возможно ли, что все это окажется выдумкой? Ведь на первый взгляд, ее история еще менее правдоподобна, чем рассказ Ламонта.
— Нет, она сказала правду. Без всяких сомнений. Вам ее рассказ кажется странным лишь оттого, что вы не окунулись, как я, в это дело с головой. Теперь все события раскладываются точно: намерение Соррела покончить с собой, деньги, подаренные им Ламонту, заказ каюты на пароходе, эта брошь. Только я свалял дурака и не догадался, что инициалы могли читаться в равной степени и как «М. Р.», и как «Р. М». Но меня сбила с толку эта Рэтклиф. Хотя и это мне вряд ли помогло бы, не объявись у нас миссис Виллис собственной персоной и не признайся во всем сама. И все же мне следовало бы усмотреть связь этого дела с Рей Маркейбл. В самый первый день я отправился в театр Уоффингтон, чтобы поговорить со швейцаром; тогда я встретился с Рей Маркейбл, и она угостила меня чаем. За чаем я показал ей стилет, его описание уже было передано в газеты. Она тогда явно была поражена — настолько, что я решил про себя: наверняка она где-то его уже видела. Но она ничего не сказала, и принуждать ее было бы бесполезно, поэтому я перестал об этом думать. В течение всех этих трех недель вплоть до настоящего момента не обнаруживалось никаких следов ее причастности к этому делу. Очевидно, Соррел решил поехать в Америку, как только узнал, что она туда отправляется. Бедняга! Для всех в мире она была Рей Маркейбл — звезда первой величины; но для него она оставалась всегда Рози Маркхэм. В этом и была его трагедия, потому что она-то стала совсем иной. Она-то уже давным-давно распрощалась с той, прежней Рози Маркхэм. Думаю, возвращая брошь, которую Соррел ей подарил, она хотела дать ему понять, что между ними все кончено. Для нее эта брошь — просто безделица, пустяк. До вечера четверга, до самого того момента, когда пришла посылка, про которую рассказала миссис Эверет, Соррел действительно намеревался плыть в Америку. В посылке, очевидно, была брошь, и это решило все. Может, она даже написала, что выходит замуж за Лейсинга. Помните, он приобрел билет на тот же корабль, что и Рей? Видимо, тогда Соррел и задумывает убить и ее, и себя. Театр Уоффингтон — не самое удобное место для стрельбы из зала по сцене, но, может статься, он рассчитывал на общее возбуждение незадолго до окончания спектакля. Могу вам сказать, в этом он оказался прав: не часто видишь, как публика забивает половину оркестровой ямы, а тут было именно так. А может, он хотел выполнить свой замысел сразу после представления? Не знаю. Знаю только, что во время дневного спектакля, сидя с Ламонтом в партере, он мог сделать это достаточно просто, но не сделал. Думаю, он хотел, чтобы его друзья, по возможности, ничего не заподозрили. Видите ли, он тщательно построил свой план — таким образом, чтобы они считали, будто он благополучно отплыл в Америку. Этим и объясняется, что при нем ничего не нашли. Ни миссис Эверет, ни Ламонту не пришло бы в голову связать личность незнакомца, убившего Рей Маркейбл и покончившего с собой, с Соррелом, который, как они полагали, уже плывет в Америку. По всей вероятности, он начисто позабыл о своей встрече с миссис Виллис или же не подозревал, что она разгадала его тайные намерения. Разумеется, ей было легче догадаться — она знала о связи между ним и Рей. Но она была единственной, кто об этом знал. Рей Маркейбл никогда с ним не появлялась на публике. Соррел постарался сделать для друга все, что было в его силах, оставив ему все деньги, однако взял с того слово не открывать пакет до четверга. Как вы думаете, неужели Соррел действительно надеялся, что его друг никогда не догадается о его судьбе, или просто решил, что, когда все свершится, это уже не будет иметь для него самого ни малейшего значения?
— Кто его знает, — отозвался Баркер. — Честно говоря, подозреваю, что он тоже был не совсем нормален.
— Ничего подобного, — задумчиво возразил Грант. — Он был вполне нормальный человек. Просто, как и говорил Ламонт, это был человек, который долго и тщательно все продумывал, а потом точно приводил в исполнение. Он не принял в расчет одну миссис Виллис, но, признайтесь, от таких, как она, мало кто ожидает серьезных помех. Неплохой он был парень, этот Соррел. До самого конца безупречно играл в бравого путешественника. И вещи упаковал, при этом не допустив ни малейшего промаха, хотя Ламонт, видимо, все время находился тут же. Ни одного письма, ни единой фотографии Рей Маркейбл не оставил после себя. Видимо, избавился от всего этого, как только обдумал план действий. Только брошку забыл. Как я вам рассказывал, она выпала из кармана его пальто.
— Как вы думаете, Рей Маркейбл подозревала о его намерениях?
— Думаю, нет.
— Почему нет?
— Потому что Рей Маркейбл — одна из самых эгоцентричных персон наших дней. К тому же, если она и узнала по моему описанию стилет, у нее не было никаких оснований связать убитого с Соррелом, а следовательно, и заподозрить причастность своей матери к убийству. В Ярде личность Соррела установили только к понедельнику, а в тот день она уже плыла в Штаты. Меня бы очень удивило, если бы она даже теперь узнала о том, что убитым оказался Соррел. Думаю, наших газет она почти не читает — разве что светскую хронику. Американцев же вряд ли заинтересует какое-то убийство в очереди.
— Тогда ее ожидает весьма неприятный сюрприз, — невесело произнес Баркер.
— Несомненно, — в тон ему отозвался Грант. — Зато Ламонта ждет сюрприз приятный, и за него я рад. В этом деле я показал себя полным идиотом, но сейчас у меня наконец-то стало легко на душе; такого не было с тех самых пор, как я выловил его из озера.
— Удивительный вы человек, дружище. Имея на руках такое верное дело, как ваше, я бы, наверное, пребывал на верху блаженства, меня бы прямо распирало от гордости. Если когда-нибудь вас уволят, вы вполне можете заняться предсказанием судьбы и зарабатывать по пять монет за сеанс.
— Вот уж спасибо! Чтобы вы стали меня шантажировать? Мол, плати долю, иначе прикроем твою лавочку! Нет уж, увольте! И потом, ничего сверхъестественного тут нет. В конце концов, выходя с кем-то на контакт, ты всегда, независимо от улик, сам должен для себя решить, что это за человек. А я, хоть и не хотел в этом признаваться даже самому себе, в глубине души знал, что там, в поезде, Ламонт сказал нам истинную правду.
— Да, странное это дело, — протянул Баркер. — Пожалуй, одно из самых странных в моей практике. Дайте мне знать, когда Маллинз вернется из ее квартиры, ладно? — добавил он, соскакивая со стола, на котором было пристроился. — Если обнаружат эти самые ножны — дадим делу ход. Завтра Ламонта ведь опять должны привести в окружной суд? Тогда мы и ее туда доставим.
Он ушел, Грант остался один и машинально сделал то, что собирался сделать, когда его прервал Баркер: отпер ящик стола и извлек оттуда стилет с брошью. Как мало времени истекло между намерением и его исполнением, — но оно коренным образом все переменило! До сего момента эти предметы были для него символом собственного бессилия, загадкой, которая мучила его, доводила до полного отчаяния. Теперь Грант знал об этих двух предметах все. И это «все» оказалось так просто! Но оно сделалось простым после того, как ему рассказали. Не явись к ним миссис Виллис… Нет, Гранту не хотелось даже думать об этом. Ведь если бы, по чистой случайности, миссис Виллис, при всей безрассудности своего поступка, не оказалась совестливой, то он заглушил бы свои сомнения и повел бы себя так, как и положено заслуженному инспектору уголовного отдела, у которого имеются в руках неопровержимые улики. Слава Богу, его миновала чаша сия!
С точки зрения доказательств дело казалось безупречно ясным — ссора, использование левой руки, шрам, наконец. Они искали человека, у которого вышел конфликт с Соррелом, — такого они нашли, и у него оказался шрам на большом пальце. Разве этого недостаточно? А вышла полная путаница — сшитые вместе кусочки, как на лоскутном одеяле, про которое говорила миссис Динмонт. Убийцей оказалась женщина, одинаково владеющая и правой, и левой рукой, и шрам у нее на указательном пальце, а не на большом. Его, Гранта, спасло только одно — порядочность самой женщины.
Грант мысленно вернулся к самому началу пути; пути, который повел их в неверном направлении: выяснение личности убитого; потом Ноттингем. Продавец галстуков, мистер Юдалл, официантка в кафе — все они вспоминали лишь то, что непосредственно касалось их самих, и именно в этом свете давали свои показания. Потом — Рауль Легар, красавчик и умница, представивший точное описание Ламонта; Денни Миллер; последнее представление «А вы и не знали?»; обыск в конторе Соррела и лохматик-сосед; жокей Лейси и промозглый день в Лингфилде. Миссис Эверет. Потом — бросок на север: Карнинниш, молчун Дрисдейл и чай у пастора; мисс Динмонт: рассудительная, владеющая собой мисс Динмонт. Возникновение колебаний у него самого и усиление их после показаний Ламонта. Брошь. И вот теперь…
Они лежали перед ним на столе — две блестящие небольшие вещицы: в лучах вечернего солнца сверкал, словно понимающе подмигивая ему, стилет, а жемчужная брошь светилась застывшей улыбкой, напомнившей Гранту знаменитую улыбку Рей Маркейбл. Фирма Галлио и Штейна, в конце концов, не так уж и хорошо справилась с заказом. Даже сейчас при беглом взгляде он легко мог перепутать порядок инициалов и прочесть их как «М. Р.». И миссис Эверет, и миссис Рэтклиф разобрали их именно таким образом.
Его мысли обратились к миссис Виллис. Вполне ли она нормальна? Ему думалось, что нет, однако у медицины свои способы и свои определения подобных состояний. Трудно предугадать мнение специалистов. Правда, эта сторона дела уже его не касается. Его дело закончено. Пресса, конечно, будет бушевать, что они поспешили с арестом, но это он переживет — не привыкать. В Ярде все отнесутся к нему с пониманием, и его профессиональный статус не пострадает. И он наконец-то получит долгожданный отпуск. Поедет в Стокбридж и порыбачит всласть. Или двинуть в Карнинниш? Дрисдейл прислал ему очень теплое приглашение, а в Финлее сейчас полно лосося. Однако почему-то мысли о бурых, стремительных водах и сумрачном крае в настоящий момент не вызывали у него особого энтузиазма. Они будили воспоминания о сомнениях, печалях и тревогах. Сейчас ему хотелось совсем другого — растительного существования, беззаботности и ясного неба над головой. Лучше всего поехать в Хэмпшир. Сейчас там уже все в зелени, и если ему надоест смотреть на гладкие воды Теста, к его услугам лошади и прекрасный ипподром в Денбюри.
Вошел Маллинз, положил на стол ножны и отрапортовал:
— Нашел там, где она говорила, сэр. Вот ключ от дома.
— Спасибо, Маллинз, — сказал Грант. Он вложил в ножны стилет и поднялся, собираясь отнести к Баркеру. Решено: он едет в Хэмпшир. Но как-нибудь надо обязательно съездить и в Карнинниш…
* * *
Доктора признали миссис Виллис полностью вменяемой, слушание ее дела состоится в Олд Бейли в этом месяце. Грант убежден, что ее не приговорят к смерти, а я склонна верить в его пресловутую проницательность. По его словам, неписаные законы в этой стране не ахти как популярны, однако английский суд присяжных на поверку так же склонен к сентиментальности, как и французский. Когда они услышат ее историю в изложении одного из известнейших адвокатов наших дней, то прольют ведра слез и откажутся признать ее виновной.
— Да, — сказала я Гранту, — странное это было дело; и самое здесь странное, что в нем как бы нет виноватых.
— Вы так полагаете?! — отозвался Грант с саркастической усмешкой.
А как по-вашему?
Мисс Пим расставляет точки
I
Звонил колокол. Назойливо, требовательно, раздражающе.
Звук разносился по тихим коридорам, бесстыдно разрушая утреннюю тишину. Сквозь распахнутые, словно зевающие рты, окна, смотревшие внутрь небольшого четырехугольного двора, оглушительный трезвон выливался вбезмолвие залитого солнцем сада, где трава была еще седой от росы.
Маленькая мисс Пим зашевелилась, еще в полусне приоткрыла серый глаз и, не глядя, потянулась за часами. Часов не было. Она открыла второй глаз. Кажется, не было и ночного столика. Ну конечно, теперь она вспомнила. Вчера вечером она обнаружила, что никакого ночного столика нет. Ничего не поделаешь, часы пришлось положить под подушку. Она сунула туда руку и попыталась нащупать их. Силы небесные, ну и трезвон! Отвратительно. Часов под подушкой не было. Но они должны там быть! Мисс Пим подняла подушку и обнаружила под ней только батистовый платочек с веселым бело-голубым рисунком. Она положила подушку на место и, нагнувшись, заглянула в пространство между кроватью и стеной. Да, там лежало что-то, похожее на часы. Распластавшись на животе и опустив руку, мисс Пим с трудом дотянулась до них, захватила кончиками большого и указательного пальцев и осторожно подняла. Если она теперь их уронит, придется выбираться из постели и лезть под кровать. Со вздохом облегчения она перевернулась на спину, торжествующе держа часы перед собой.
На часах было половина шестого.
Половина шестого!
У Мисс Пим перехватило дыхание, и она в изумлении вытаращила глаза, не веря себе. Неужели и правда в каком-нибудь колледже — пусть даже физического воспитания — начинают день в полшестого! Конечно, в заведении, где не испытывают необходимости ни в ночных столиках, ни в настольных лампах, всего можно ожидать, — но в полшестого! Мисс Пим поднесла часы к своему маленькому розовому ушку. Они честно тикали. Она перевела глаза на видневшийся в окне за кроватью сад. Да, действительно, еще очень рано; весь мир выглядел так как бывает только ранним утром, — неподвижно, призрачно. Ну-ну! Вчера вечером Генриетта, стоя в дверях комнаты мисс Пим и заполняя их своей крупной величественной фигурой, сказала: «Спокойной ночи. Студентки в восторге от твоей лекции, дорогая. Увидимся утром». Но предупредить о звонке в половине шестого ей не пришло в голову.
Ладно. Это ее не касается. Когда-то и она вела жизнь по звонкам, но это было давно. Почти двадцать лет назад. Теперь в жизни мисс Пим звонок раздавался только тогда, когда она нажимала на кнопку кончиком пальца. Когда трезвон перешел сначала в жалобное дребезжанье, а затем замер, мисс Пим повернулась к стене и с удовольствием зарылась лицом в подушку. Это ее не касается. Роса на траве и все такое — это для юных; для великолепной сияющей юности, и пусть это у них будет. А у нее будет еще два часа сна.
Мисс Пим выглядела очень по-детски: круглое розовое личико, аккуратный носик-пуговка и каштановые волосы, уложенные по всей голове волнами, которые удерживались заколками-невидимками. Она очень устала: поездка в поезде, встреча с Генриеттой, лекция. Слабая сторона ее «я» подсказывала, что, по всей вероятности, она уедет сегодня же после ленча, а ее перманенту всего два месяца, и потому волосы на одну ночь можно было совершенно спокойно не закалывать зажимками. Однако отчасти назло слабой стороне своего «я», с которой она постоянно вела жестокую борьбу, отчасти желая оказать честь Генриетте, она вколола все четырнадцать зажимок и проследила за тем, чтобы они несли свою ночную службу. Вспоминая ум и энергию Генриетты (сегодня утром это помогало побороть всякие попытки потворствовать себе), мисс Пим изумлялась тому, как живо в ней желание быть достойной Генриетты. В школе она, маленький крольчонок-четвероклассница, до умопомрачения восхищалась шестиклассницей Генриеттой. Генриетта была прирожденной Старостой. Ее талант заключался в исключительной способности следить за тем, чтобы другие проявляли свои таланты. Именно поэтому, хотя некогда Генриетта и оставила школу, предпочтя готовиться к работе секретарши, теперь она была Директрисой колледжа физического воспитания — то, в чем она не смыслила абсолютно ничего. Она совершенно забыла о Люси Пим, как и Люси Пим забыла о ней, пока мисс Пим не написала Книгу.
Так, во всяком случае, сама Люси думала о своем труде. Книга с большой буквы.
Она все еще была сама несколько удивлена Книгой. Ее миссией было учить школьниц говорить по-французски. И она занималась этим четыре года, а когда умерли сначала отец, а потом мать, оставив ей двести пятьдесят фунтов в год, Люси одной рукой стерла слезы, а другой написала заявление об отставке. Директриса, с явной завистью и не проявив никакого сочувствия, не преминула заметить, что дивиденды с двухсот пятидесяти фунтов вряд ли могут обеспечить серьезный запас прочности для цивилизованного культурного существования, которого достойны такие люди, как Люси. Но Люси все же ушла и поселилась в цивилизованной культурной квартирке, расположенной достаточно далеко от Кэмден Таун, чтобы считаться находящейся близко к Риджент Парку.[535] Необходимый для существования запас прочности она добывала, давая время от времени уроки французского языка, когда надвигалась плата по счетам за газ, а свободное время проводила, читая книги по психологии.
Первую книгу по психологии Люси прочла из любопытства, ей подумалось, что это может быть интересно. Остальные она прочла, чтобы посмотреть, все ли они такие же глупые. К тому времени, как она прочла тридцать семь книг по психологии, у нее появились об этом предмете собственные мысли, отличающиеся, разумеется, от того, что было написано в тридцати семи прочитанных к этому моменту томах. Эти тридцать семь томов казались ей совершенной несуразицей и так раздражали ее, что она снова и снова садилась и исписывала целые стопки бумаги, опровергая изложенное в них. А так как в английском языке для большинства понятий, которыми оперирует психология, нет определений и изъясняться можно, только пользуясь специальным жаргоном, то все ее опровержения выглядели вполне наукообразно. Этим бы все и кончилось, если бы мисс Пим не воспользовалась оборотной стороной испорченного листка (она печатала на машинке не очень профессионально), чтобы написать следующее:
«Многоуважаемый мистер Сталлард,
Я была бы Вам очень признательна, если бы вы не включали радио после одиннадцати вечера. Оно
мне очень мешает. Искренне ваша
Люси Пим».
Мистер Сталлард, с которым она не была знакома (его имя значилось на дощечке на двери этажом ниже), явился лично в тот же вечер. В руке он держал ее письмо и показался Люси очень разгневанным, так что она несколько раз сглотнула, прежде чем смогла произнести хоть какой-нибудь членораздельный звук. Но мистер Сталлард не сердился по поводу радио. Он работал в издательстве, и его обязанностью было читать присылаемые рукописи. Его заинтересовало то, что было напечатано на обороте письма Пим.
Нынче, когда бум прошел, издатель от одного предложения напечатать книгу по психологии упал бы в обморок или позвонил бы, чтобы принесли бренди. Но в прошлом году издательский мир испытал потрясение: британская публика, устав от романов, вдруг проявила интерес к сверхсложным вопросам, как, например, расстояние от Сириуса до Земли или скрытый смысл танцев аборигенов Бечуаналенда. Издатели лезли из кожи, стараясь удовлетворить эту невиданную жажду знаний, и мисс Пим приняли с распростертыми объятиями. Иначе говоря, старший компаньон издательства пригласил ее на ленч и предложил подписать договор. Это само по себе было удачей, но Провидение позаботилось не только о том, чтобы британская публика устала от романов, но чтобы еще интеллектуалы устали от Фрейда и K°. Они жаждали чего-то Нового. И этим Новым оказалась Люси. Таким образом, однажды утром она проснулась не только знаменитостью, но и автором бестселлера. Это ее так потрясло, что она вышла из дома, выпила в кафе три чашки черного кофе и всю оставшуюся часть утра просидела в парке, глядя прямо перед собой.
Ее книга оставалась бестселлером несколько месяцев, и для мисс Пим стало привычным читать лекции по «своей» теме в научных обществах. Тут вдруг пришло письмо от Генриетты. Она напоминала Люси об их совместных школьных днях и звала погостить у нее в колледже, побеседовать со студентками. Люси успела немного устать от бесед, да и образ Генриетты с годами слегка потускнел. Она уже готова была ответить вежливым отказом, как вдруг вспомнила тот день, когда четвертый класс обнаружил, что ее, мисс Пим, полное имя — Летиция (этот позор Люси скрывала всю свою жизнь). Четвертый класс превзошел сам себя, и Люси уже раздумывала, очень ли будет переживать ее мать, если она, Люси, покончит с собой. Потом она решила, что, коли уж на то пошло, мать сама довела ее до этого, дав Люси такое претенциозное имя. Однако тут же на насмешниц набросилась Генриетта, набросилась буквально и метафорически. Ее гневные замечания немедленно повергли насмешниц ниц. Имя «Летиция» уже никогда более не произносилось, а Люси, вместо того чтобы броситься в реку, отправилась домой, где ее ждал рулет с джемом.
Сидя в своей цивилизованной культурной гостиной, Люси вновь ощутила волны горячей благодарности, которые, как когда-то, перекатывались у нее в душе. Она ответила письмом, сообщая, что будет счастлива провести с Генриеттой вечер (врожденная предусмотрительность не была полностью стерта чувством благодарности) и с удовольствием поговорит о психологии со студентками.
Удовольствие она получила большое, подумала Люси, загораживаясь простыней от яркого дневного света. Пожалуй, самая милая аудитория из всех, что она видела. Ряды прелестных головок, превративших голый лекционный зал в нечто похожее на сад. И дружные сердечные аплодисменты. После вежливых хлопков, которыми ее одаривали последние несколько недель в научных обществах, приятно было слушать, как звонко ударяются друг о друга сложенные чашечкой ладони. И вопросы, которые ей задавали девушки, были весьма умными. Хотя психология значилась одним из предметов в расписании, висевшем в преподавательской, мисс Пим почему-то не ожидала, что ее так хорошо поймут студентки, у которых, по-видимому, целые дни работали только мускулы. Конечно, вопросы задавали лишь немногие, так что оставалась вероятность, что остальные были недалекими.
Ну ладно, сегодня ночью она уже будет лежать в своей удобной кровати, и все это будет казаться сном. Генриетта уговаривала ее остаться на несколько дней, и мисс Пим уже было поддалась на ее уговоры; но ужин ее сразил. Бобы и молочный пудинг показались ей не слишком вдохновляющей едой для летнего вечера. Очень укрепляюще, очень питательно, и все такое, — она в этом не сомневалась. Но это меню вряд ли захочется повторить. Генриетта сказала, что преподаватели в колледже питаются так же, как студентки, и Люси надеялась, что сомнение, с которым она глядела на бобы, не было замечено. Люси старалась смотреть на них с веселым и довольным видом, но, может быть, ей это не удалось…
— Томми! Том-ми-и! О Томми, дорогая, проснись! Я в отчаянии!
Сон мгновенно слетел с мисс Пим. Казалось, что отчаянные вопли раздаются у нее в комнате. Потом она сообразила, что второе окно выходит во двор, двор этот маленький, и разговор между обитательницами комнат через распахнутые настежь окна — естественный способ связи. Мисс Пим полежала, стараясь успокоить колотящееся сердце, глядя поверх складок простыни на то место, где за бугорком, скрывавшим большие пальцы ее ног, виднелся в ракурсе кусок дальней стены. Однако кровать стояла в углу комнаты, окно справа находилось за изголовьем, другое, слева, выходившее во двор, — в изножье, и со своей подушки мисс Пим могла видеть в тонкой вертикальной полоске света только половину открытого окна в стене по ту сторону двора.
— Томми! Том-ми-и!
Темноволосая голова появилась в окне, которое было видно мисс Пим.
— Послушайте, кто-нибудь, — произнесла голова, — бросьте чем-нибудь в Томас, и пусть Дэйкерс прекратит кричать.
— О Грингэйдж,[536] душенька, ты просто черствое животное! У меня лопнула подвязка, и я не знаю, что мне делать. А Томми вчера взяла мою единственную булавку, чтобы открывать моллюсков-береговичков на вечеринке «Два с половиной пенса». Она просто обязательно должна отдать мне ее, прежде чем… Томми! Том-ми-и!
— Эй, заткнитесь-ка, — приглушенно произнес еще один голос, и наступила пауза. Пауза — почувствовала Люси — заполненная языком жестов.
— И что должна означать вся эта жестикуляция? — спросила темная головка.
— Замолчи, говорю. — Это отчаянным sotto voсе.[537] — Она там!
— Кто?
— Эта Пим.
— Что за чепуха, душенька, — это был снова голос Дэйкерс, высокий, звонкий, счастливый голос всеобщей любимицы, — она спит в передней — части дома, там, где и остальные сильные мира сего. А как ты думаешь, у нее может найтись лишняя булавка, если я попрошу?
— По-моему, она предпочитает молнии, — вмешался еще один голос.
— Ох, да тише вы! Говорю вам, она в комнате Бентли!
На сей раз наступило настоящее молчание. Люси увидела, как темная головка резко повернулась к ее окну.
— Откуда ты знаешь? — спросил кто-то.
— Джолли[538] сказала мне вчера вечером, когда раздавала ужин.
Мисс Джолифф — это экономка, вспомнила Люси и оценила прозвище, данное этой мрачной представительнице рода человеческого.
— И правда, Господи! — произнес с чувством голос, говоривший про молнии.
Тишину разорвал звон колокола. Такой же настойчивый, как и тот, что разбудил их. Темная головка исчезла при первых же звуках, и сквозь шум и звон можно было расслышать только голос Дэйкерс, исполненный жалобного отчаяния. Деловые заботы дня смели допущенные светские оплошности и низвели до их истинной значимости, крайне мелкой. Вал звуков поднялся навстречу звону колокола. Захлопали двери, затопали по коридору ноги, всюду раздавались громкие голоса, кто-то вспомнил, что Томас все еще спит, и после того, как брошенные из ближайших окон предметы не смогли ее разбудить, по ее запертой двери была выбита барабанная дробь. А потом послышался шум ног, бегущих по усыпанной гравием дорожке, которая пересекала поросший травой двор. И вот все больше ног бежит по гравию и все меньше по ступеням, журчание голосов нарастает, достигает кульминации и постепенно утихает. Когда шум почти замер в отдалении, по гравию протопала одинокая пара ног, а голос на бегу повторял с каждым шагом: «черт, черт, черт, черт, черт». Очевидно, Томас, которая любит поспать.
Мисс Пим всей душой посочувствовала неизвестной Томас. Кровать — это чудесное место в любое время суток, но если человек от природы такой соня, что ни дикий трезвон колокола, ни визг соучениц не производят на него никакого впечатления, значит, вставание для него — пытка. Наверное, Томас валлийка. Все Томасы валлийцы. Кельты терпеть не могут рано подыматься. Бедная Томас. Бедная, бедная Томас. Люси захотелось найти для бедной Томас такую работу, где можно было бы спать до полудня.
Волны сна накатили на мисс Пим, и она стала погружаться в них глубже и глубже. Интересно, подумала она, «отдает предпочтение молниям» — это комплимент? Наверное; вряд ли станут восхищаться приверженностью к булавкам, так что может быть…
Она заснула.
II
Два казака шести футов роста били ее кнутами за то, что она упорствовала, желая пользоваться старомодными булавками, тогда как прогресс предписывал молнии. Кровь уже текла у нее по спине, но тут она проснулась и обнаружила, что единственное, что подвергается насилию, — это ее слух. Снова гремел колокол. Люси пробормотала нечто нецивилизованное и некультурное и села. Нет, определенно, ни на минуту после ленча она не останется. В два сорок один есть поезд из Ларборо, и этим два сорок один она и уедет. Прощальные слова сказаны, долг дружбе отдан. Душа мисс Пим наполнилась радостным предвкушением бегства. На платформе она купит полуфунтовую коробку шоколада в знак избавления. Потом, в конце недели, это отразится на шкале весов в ванной комнате, но не все ли равно?
Мысль о весах напомнила мисс Пим о цивилизованной и культурной потребности принять ванну. Генриетта извинилась, что до ванных комнат преподавателей так далеко; заодно она извинилась, что помещает гостью в студенческий блок, но к фрекен Густавсен приехала из Швеции мать и заняла единственную преподавательскую комнату для гостей; она собиралась оставаться в Лейсе еще несколько недель, пока не увидит и не сможет оценить результаты работы своей дочери на ежегодных показательных выступлениях, которые состоятся в начале следующего месяца. Люси сомневалась, что при ее способности ориентироваться на местности — весьма слабой, по мнению друзей, — она сможет отыскать эту ванную комнату. А бродить, крадучись, по широким пустым коридорам, да еще нечаянно попадать (все может быть) в учебные аудитории это ужасно. И еще ужаснее блуждать в коридорах, переполненных девушками, поднявшимися на заре, и искать место, где можно осуществить свое запоздалое омовение.
Мысль Люси всегда работала именно так. Ей недостаточно было представить себе одну сторону ужасного обстоятельства, обязательно нужно было вообразить и противоположную тоже. Люси так долго сидела, обдумывая соперничающие между собой аспекты ужасных обстоятельств и наслаждаясь ничегонеделаньем, что колокол успел зазвонить еще раз, еще одна волна топочущих ног и кричащих голосов накатила — и омыла тишину утра. Люси поглядела на часы. Было половина восьмого.
Она уже решила было вести себя нецивилизованно и некультурно и — «ходить грязнулей», как называла это ее приходящая прислуга; в конце концов, что такое это погружение в воду, как не современная причуда, и если Карл Второй допускал, чтобы от него не очень хорошо пахло, то кто она такая, она, простолюдинка, чтобы скрипеть зубами оттого, что не приняла ванну? Но тут раздался стук в дверь. Спасение явилось. О, радость, о, счастье, ее дурацкому положению пришел конец.
— Войдите, — откликнулась она радостно, как Робинзон Крузо, приветствующий высаживающуюся на остров компанию. Конечно, Генриетта пришла пожелать Люси доброго утра. Как глупо было с ее стороны не подумать об этом. В душе она все еще оставалась зайчонком, который не ожидал, что Генриетта вспомнит и побеспокоится о нем. Право, ей, Люси, нужно культивировать в себе образ мышления, более подходящий знаменитости. Может быть, если она будет причесываться по-другому или повторять двадцать раз на дню по системе Куэ…
— Войдите!
Но это была не Генриетта. Это была богиня.
Богиня с золотыми волосами, в ярко-голубой льняной тунике, с синими, как море, глазами и парой дивных, достойных самой сильной зависти ног. Люси всегда обращала внимание на ноги других женщин, потому что ее собственные были для нее источником горькой досады.
— О, простите, — проговорила богиня. — Я забыла, что вы, может быть, еще не встали. Мы здесь подымаемся ужасно рано.
Люси подумала, что со стороны этого небесного создания было очень мило принять на себя вину за ее, Люси, леность.
— Прошу прощения, что помешала вам одеваться.
Взгляд синих глаз остановился на домашних туфлях без задников, которые стояли посреди комнаты, и так и замер в восхищении. Это были голубые шелковые туфельки, очень женственные, свидетельствующие об изрядной расточительности, очень воздушные. Совершенно неотразимая безделица.
— Боюсь, они выглядят глупо, — сказала Люси.
— Если бы вы только знали, мисс Пим, что это значит — увидеть предмет, который не является строго утилитарным!
А потом добавила, как будто сама попытка отстраниться от дела возвращала ее к нему:
— Моя фамилия Нэш. Я староста Старших. Я пришла сказать, что Старшие почтут за большую честь, если вы завтра придете к нам на чашку чая. По воскресеньям мы пьем чай в саду. Это привилегия Старших. Там очень приятно, особенно в летний день, и мы действительно будем очень ждать вас. — И она с искренней благожелательностью улыбнулась мисс Пим.
Люси объяснила, что завтра ее здесь не будет, что она уезжает сегодня после полудня.
— О нет! — запротестовала девушка, и неподдельное чувство, прозвучавшее в ее голосе, вызвало у Люси прилив радости. — Нет, мисс Пим, не уезжайте! Вы даже не представляете, какое вы для нас неожиданное счастье. Так редко приезжает кто-нибудь — кто-нибудь интересный. Здесь очень похоже на монастырь. Нам всем приходится так много работать, и у нас не остается времени думать о внешнем мире, и это последний семестр для нас — Старших, и все так мрачно, и все так замкнуты на самих себя: выпускные экзамены, и показательные выступления, и какие найдутся места для работы, и все такое, — мы все до смерти устали и уже не понимаем, что хорошо, а что плохо. И тут приезжаете вы — посланец внешнего мира, цивилизованное существо. — Полусмеясь, полусерьезно она прервала свой монолог. — Вы не можете нас покинуть.
— Но лектор из «внешнего мира» приезжает к вам каждую пятницу, — возразила Люси. Впервые в жизни ей довелось оказаться для кого-то неожиданным счастьем, и она решила, что не должна принимать слепо на веру это определение. Ей вовсе не нравилось, что благодарное чувство переполняло ее и грозило перелиться через край.
Мисс Нэш объяснила ясно, четко и с изрядной долей яда в голосе, что последними тремя лекторами были восьмидесятилетний старец, рассказывавший об ассирийских надписях, чех из Центральной Европы и костоправ, лечивший сколиоз.
Что такое сколиоз? — спросила Люси.
— Искривление позвоночника. И если вы думаете, что кто-то из них привнес хоть чуточку света и тепла в атмосферу колледжа, вы ошибаетесь. Считается, что лекции должны поддерживать наше общение с внешним миром, но осмелюсь быть и честной, и нескромной, — она явно наслаждалась и той, и другой ролью, — платье, которое было на вас вчера вечером, принесло нам больше пользы, чем все прослушанные лекции.
Когда ее книга только стала бестселлером, Люси истратила действительно большую сумму на это платье, и оно все еще оставалось ее любимым. Она надела его, чтобы произвести впечатление на Генриетту. Благодарное чувство готово было перелиться через край.
Однако этого оказалось недостаточно, чтобы сломить здравый смысл Люси. В ее памяти крепко засели бобы. И отсутствие лампы на ночном столике. И отсутствие звонка для вызова прислуги. И вечно призывающий к чему-то трезвон колокола. Нет, она уедет поездом два сорок один из Ларборо, даже если все студентки колледжа физического воспитания в Лейсе улягутся у нее на пути и будут громко рыдать. Люси пробормотала что-то о назначенных встречах — давая возможность сделать вывод, что ее календарь распух от записей, о том, на каких собраниях она непременно должна присутствовать, где ее ждут, — и попросила мисс Нэш пока что проводить ее в преподавательскую ванную.
— Мне бы не хотелось блуждать по коридорам, а звонка, чтобы вызвать кого-нибудь, я не нашла.
Посочувствовав Люси, лишенной необходимых услуг — «Элизе, конечно, следовало бы помнить, что в этих комнатах нет звонков, и самой прийти к вам; Элиза — это горничная, которая обслуживает преподавателей», — мисс Нэш предложила мисс Пим воспользоваться студенческими ванными комнатами — они гораздо ближе.
— Конечно, это «кубики», я хочу сказать, у них перегородки не до потолка, и пол из обыкновенного бетона, а в преподавательских — бирюзовый мозаичный, с рисунками в хорошем вкусе — дельфины, например. Но вода та же самая.
Мисс Пим с радостью согласилась воспользоваться студенческими ванными комнатами, и, пока она собирала купальные принадлежности, часть ее мозга, оставшаяся незанятой, обдумывала отсутствие у мисс Нэш приличествующего студентке почтения к преподавателям. Это что-то напомнило мисс Пим Мэри Бэрхарроу. Четвертый класс состоял из кротких созданий, восторженно трудившихся на ниве неправильных французских глаголов, но Мэри Бэрхарроу, оставаясь старательной и приветливой, обращалась с учительницей французского языка, как с равной, и это происходило потому, что отец Мэри был «почти миллионер». Мисс Пим сделала вывод, что во «внешнем мире» — странно, как быстро начинаешь применять клондайкские[539] термины к колледжу — у мисс Нэш, так явно обладавшей присущими Мэри Бэрхарроу очарованием, легкостью и чувством равенства в обращении с людьми, вероятно, тоже есть отец, подобный отцу Мэри Бэрхарроу. Люси еще предстояло узнать, что именно этот факт отмечался в первую очередь при упоминании фамилии Нэш. «Родители Памелы Нэш очень богаты. Знаете, у них есть дворецкий». Никто никогда не забывал упомянуть дворецкого. Для дочерей борющихся за существование докторов, адвокатов, бизнесменов и фермеров дворецкий был такой же экзотикой, как раб-негр.
— Разве вам не надо быть на уроке? — спросила мисс Пим, справедливо полагая, что тишина в залитых солнцем коридорах — это знак того, что девушек поглотили другие помещения. — Наверное, если вас будят в половине шестого, занятия идут и до завтрака?
— О да. Летом у нас до завтрака два урока, один активный, другой пассивный. Практика по теннису и кинезиология, или что-нибудь вроде этого.
— Что это такое — кин… как там дальше?
— Кинезиология? — Мисс Нэш задумалась на минуту над тем, как бы получше сообщить несведущему человеку новые сведения, а потом заговорила, словно цитируя воображаемую книгу: — «Я снимаю с высокой полки кувшин с ручкой; опишите работу, проделанную мышцами». — И когда мисс Пим кивнула, показав, что поняла, продолжила: — Но зимой мы встаем, как все, в половине восьмого. И в это время у нас обычно идут занятия по дополнительным предметам: здравоохранение, Красный Крест и тому подобное. Но теперь с этим покончено, и нам разрешают в эти часы готовиться к выпускным экзаменам, которые начнутся на следующей неделе. У нас очень мало времени на подготовку, так что мы этому рады.
— А разве вы не свободны после чая?
Мисс Нэш почти рассмеялась:
— Что вы! С четырех до шести вечера — клиника. Знаете, приходящие пациенты. Все что угодно, от плоскостопия до перелома бедра. А с половины седьмого до восьми — танцы. Балет, не народные. Народные у нас утром, они считаются упражнением, не искусством. А ужин кончается около полдевятого, так что к тому времени, когда мы могли бы самостоятельно заниматься, мы уже совсем сонные, и обычно это все превращается в борьбу между желанием спать и попытками одолеть собственное невежество.
Свернув в длинный коридор, ведущий к лестнице, они почти столкнулись с маленькой фигуркой, бегущей со всех ног; одной рукой она прижимала к себе череп и грудную клетку скелета, другой — таз и ноги.
— Зачем вы взяли Джорджа, Моррис? — спросила мисс Нэш, когда они поравнялись с девочкой.
— Ой, пожалуйста, не задерживайте меня, Бо,[540] - тяжело дыша, проговорила та, крепче прижимая к правому боку свою странную ношу и продолжая стремительно нестись вперед, — и, пожалуйста, забудьте, что вы меня видели. То есть что вы видели Джорджа. Я хотела проснуться пораньше и отнести его обратно в лекционный зал до первого колокола, но проспала.
— Вы всю ночь просидели с Джорджем?
— Нет, только часов до двух. Я…
— А как же со светом?
— Ну, ясно, завесила окно ковриком, — сердито ответила девочка, как человек, вынужденный объяснять очевидное.
— Славная атмосферка для июньского вечера!
— Было как в аду, — призналась Моррис. — Но это был, правда же, единственный способ вызубрить связки, так что, пожалуйста, Бо, забудьте немедленно, что вы видели меня. Я оттащу его обратно на место, прежде чем учителя спустятся к завтраку.
— Вряд ли вам это удастся. Вы обязательно на кого-нибудь наткнетесь.
— О, пожалуйста, не пугайте меня. Я и так ужасно боюсь. И потом, я не знаю, смогу ли вспомнить, как его сцепить.
Она сбежала по лестнице и исчезла.
— Ну прямо Зазеркалье, — прокомментировала мисс Пим, глядя вслед удаляющейся девочке. — Я всегда думала, что связки — это что-то, относящееся к шитью.
— Связки? Это то, чем крепятся мышцы к костям. Их гораздо легче выучить, когда перед тобой скелет, чем по книге. Поэтому-то Моррис и похитила Джорджа. — Мисс Нэш приглушенно хихикнула. — Очень изобретательно с ее стороны. Я, когда была Младшей, выкрадывала отдельные кости из ящиков в лекционном зале, но стащить Джорджа мне ни разу не пришло в голову. Знаете, над жизнью Младших висит страшная туча. Анатомия. Позднее к ней не возвращаются. Считается, что мы должны знать все о теле прежде, чем начнется практическая работа, поэтому анатомию сдают в Младшей группе, а не в Старшей, как другие предметы. Вот и ванные комнаты. Когда я была Младшей, мы все по воскресеньям прятались в высокой траве по краям крикетного поля, прижимая к себе Грея. Выносить книги из колледжа строго воспрещается, и по воскресеньям полагается вести светскую жизнь: ходить в гости, на чашку чая, в церковь или выезжать на природу. Все Младшие в летний семестр[541] по воскресеньям только и думают, как бы найти укромное местечко для себя и Грея. Это нелегкая задачка — вынести Грея из колледжа. Вы знаете Грея? Размером со старинную семейную Библию, вроде тех, что лежат на столиках в гостиных. Однажды даже прошел слух, что половина девушек в Лейсе беременны, а потом выяснилось, что такой странный силуэт у них был оттого, что под воскресными платьями они прятали Грея.
Мисс Нэш подошла к кранам, открыла их, и вода с шумом хлынула в ванну.
— Когда все в колледже моются по два-три раза в день и на это отводятся считанные минуты, краны должны работать, как Ниагара, — объяснила она, перекрикивая шум. — Боюсь, вы сильно опоздаете к завтраку. — И поскольку от этой перспективы у мисс Пим появился встревоженный и какой-то растерянный, как у маленькой девочки, вид, добавила: — Давайте, я принесу вам завтрак в комнату. Нет, это совсем не трудно, я с удовольствием это сделаю. Вы — гостья, и вам совсем не обязательно появляться к завтраку в восемь утра. Вам лучше будет поесть у себя в комнате. — Она помолчала, держа руку на ручке двери. — И, пожалуйста, передумайте и оставайтесь. Это и правда доставит нам радость. Большую, чем вы можете себе представить.
Она улыбнулась и ушла.
Люси лежала в теплой мягкой воде и с удовольствием думала о завтраке. Как приятно, что не нужно будет разговаривать, перекрикивая шум общей болтовни. Как мило со стороны этой очаровательной девушки предложить принести ей поднос с завтраком. Может, в конце концов было бы славно провести день-два среди юных…
Менее чем в полудюжине ярдов от того места, где она лежала, вновь раздался оглушительный трезвон, заставивший Люси почти вылететь из ванны. Это привело ее к окончательному решению. Люси села и намылилась. Ни минутой позже, в два сорок один из Ларборо, ни одной минутой позже.
Когда колокол — вероятно, предупреждение за пять минут до восьмичасового гонга — смолк, раздался топот ног в коридоре, две двери слева от Люси хлопнули, вода каскадом обрушилась в ванны, и высокий знакомый голос громко провозгласил:
— Ой, девочки, я жутко опаздываю к завтраку, но я пропотела насквозь. Знаю, мне бы следовало тихонько сидеть и учить состав плазмы, о котором я не знаю аб-со-лют-но ни-че-го, а экзамен по физике во вторник. Но утро было такое чудесное — ой, куда я девала мыло?
У Люси медленно отвисла челюсть, когда до нее дошло, что в коллективе, начинавшем день в половине шестого утра и заканчивавшем в восемь вечера, еще находились личности, у которых хватало жизненных сил, чтобы работать до седьмого пота тогда, когда в этом не было необходимости.
— О Донни, дорогая, я забыла мыло. Брось мне свое!
— Подожди, сначала сама намылюсь, — ответил другой голос, спокойный, резко контрастирующий с необыкновенной эмоциональностью голоса Дэйкерс.
— Ну, мой ангел, побыстрее. Я уже на этой неделе дважды опаздывала, и мисс Ходж в последний раз определенно очень странно смотрела на меня. Слушай, Донни, ты случайно не можешь взять мою пациентку с ожирением на двенадцатичасовом приеме, а?
— Нет, не могу.
— Знаешь, она на самом деле совсем не такая тяжелая, как кажется. Тебе нужно будет только…
— У меня есть собственный пациент.
— Да, но у тебя просто маленький мальчик с лодыжкой. Льюкас могла бы посмотреть его после девочки с tortis colli.[542]
— Нет.
— Я так и думала, что ты откажешься. Ох, дорогая, я просто не знаю, когда буду учить эту плазму. А что касается тканей живота, они просто приводят меня в недоумение. Я не могу поверить, что их четыре вида, ну никак. Это просто заговор. Мисс Люкс говорит: посмотрите на внутренностях, — но я и на внутренностях ничего не вижу.
— Лови мыло.
— Ой, спасибо, дорогая. Ты спасла мне жизнь. И какой приятный запах! Очень дорогой. — Намыливаясь, а потому на минуту замолчав, Дэйкерс вдруг сообразила, что соседняя справа ванна занята. — Кто тут рядом, Донни?
— Не знаю. Может быть, Гэйдж.
— Это ты, Грингэйдж?
— Нет, это мисс Пим, — ответила перепуганная Люси и понадеялась, что это прозвучало не слишком чопорно.
— Нет, правда, кто?
— Мисс Пим.
— Здорово похоже!
— Это Литтлджон, — предположил спокойный голос. — Она хорошо имитирует.
Воцарилась тишина.
Потом раздался плеск, производимый телом, резко поднявшимся из воды, шлепающий звук от мокрой ноги, решительно вставшей на край ванны, и на верху перегородки показались восемь кончиков пальцев, а над ними лицо. Это было длинное бледное лицо, как у славного пони; прямые светлые волосы в спешке были закручены в узел и сколоты шпилькой. Некрасивое, но милое лицо. И в этот суматошный момент Люси вдруг сразу поняла, как Дэйкерс удалось добраться до последнего семестра в Лейсе и ни одна из выведенных из терпения коллег не стукнула ее по голове.
На лице, торчавшем над перегородкой, сначала отразился ужас, потом его залила яркая краска. Потом лицо пропало. Из-за перегородки раздался отчаянный вопль:
— О мисс Пим! О дорогая мисс Пим! Извините меня! Я презираю себя. Мне и в голову не могло прийти, что это вы…
Люси почувствовала, что вопреки всему наслаждается собственным величием.
— Я надеюсь, вы не обиделись? Не ужасно обиделись, я хочу сказать? Мы так привыкли к виду голого тела, что… что…
Люси поняла, что девушка пытается сказать, что допущенная ею оплошность здесь представлялась не столь существенной, как в каком-нибудь другом месте, и поскольку она сама, Люси, в этот момент намыливала большой палец на ноге, то не обратила на случившееся никакого внимания. Она любезно ответила, что это целиком ее вина, что она заняла студенческую ванну, и что мисс Дэйкерс не надо из-за этого волноваться.
— Вы знаете мою фамилию?
— Да. Вы разбудили меня сегодня утром, когда взывали о булавке.
— О, катастрофа! Теперь я никогда не смогу взглянуть вам в лицо!
— Наверно, мисс Пим уедет обратно в Лондон первым поездом, — произнес голос из дальней кабинки тоном «посмотри-что-ты-наделала».
— Это О'Доннелл рядом, — объяснила Дэйкерс. — Она из Ирландии.
— Из Ольстера,[543] - хладнокровно уточнила О'Доннелл.
— Здравствуйте, мисс О'Доннелл.
— Должно быть, вам кажется, что здесь сумасшедший дом, мисс Пим. Но, пожалуйста, не судите обо всех нас по Дэйкерс. Кое-кто здесь вполне взрослый. А некоторых можно даже считать цивилизованными людьми. Когда вы придете завтра к чаю, вы увидите.
Прежде чем мисс Пим могла сказать, что она не придет к чаю, «кубики» начали заполняться тихим бормотанием гонга, быстро переросшим в глухой рокот. В его грохоте вопли Дэйкерс, похожие на визг духов, предвещающих смерть, звучали, как голос чайки во время шторма. Она так опаздывает! И она так благодарна за мыло, которое спасло ей жизнь. А где пояс от ее туники? И если дорогая мисс Пим обещает простить ее последнюю оплошность, она сможет доказать, что она разумный взрослый цивилизованный человек женского пола. И они все так ждут завтрашнего чая.
С шумом и громом студентки убежали, оставив мисс Пим наедине с умирающим эхом гонга и протестующим бульканьем воды, вытекающей из ванны.
III
В два сорок один, когда дневной скорый поезд на Лондон минута в минуту выходил из Ларборо, мисс Пим сидела под кедром на лужайке, задавая себе вопрос, не поступила ли она глупо, но не придавая этому особого значения. В залитом солнцем саду было очень приятно. Царила тишина, поскольку вторая половина дня по субботам отводилась для матчей, и колледж en masse[544] находился на крикетном поле, где шла игра с Кумбом, соперничающим с ними заведением, расположенным в другой части графства. Если у них не было ничего другого, у этих юных существ, по крайней мере, у них было разнообразие. Дистанция от тканей живота до первого места на крикетном поле огромна, но, похоже, они ее с успехом преодолевали. Придя в комнату мисс Пим после завтрака, Генриетта сказала, что если Люси останется на уик-энд, она во всяком случае получит много новых впечатлений. «Это очень славная и разнообразная компания, и работать очень интересно». И Генриетта, конечно, была права. Каждое мгновение перед Люси открывался новый аспект этой необычной жизни. Во время ленча она сидела за столом преподавателей, ела блюда, про которые совершенно невозможно было сказать, из чего они приготовлены, но которые были «сбалансированы» до чудо-диеты, и ближе знакомилась с составом преподавателей. Генриетта сидела во главе стола и в абсолютном молчании быстро поглощала пищу. А мисс Люкс оказалась разговорчивой. Угловатая, некрасивая, умная, она была преподавателем теории и, как приличествовало теоретику, высказывала не только идеи, но и мнения. Мисс Рагг, преподавательница гимнастики у Младших, рослая, здоровая, молодая, розовощекая, напротив, не имела никаких идей вообще, а высказываемые ею мнения были просто отражением мнений мадам Лефевр. Мадам Лефевр, преподавательница балета, говорила редко, но уж если говорила, то голосом, похожим на темно-коричневый бархат, и никто не прерывал ее. На другом торце стола рядом со своей матерью сидела преподавательница гимнастики у Старших, фрекен Густавсен, которая вообще не разговаривала. Люси обнаружила, что во время ленча ее глаза то и дело останавливаются на фрекен Густавсен. В ясных светлых глазах хорошенькой шведки таилась какая-то лукавая улыбка, которую Люси сочла неотразимой. Тяжелая мисс Ходж, умница мисс Люкс, туповатая мисс Рагг, элегантная мадам Лефевр — как выглядели они все в глазах высокой бледной шведки, которая сама была загадкой?
Проведя таким образом ленч, в раздумьях о шведке, мисс Пим теперь ожидала появления девушки из Южной Америки.
— Детерро не принимает участия в играх, — сказала Генриетта, — так что я пошлю ее составить тебе компанию.
Люси не нуждалась в том, чтобы ей составляли компанию, она привыкла быть в компании с самой собой, и ей это общество нравилось, но мысль о девушке из Южной Америки в английском колледже физического воспитания раздразнила ее. И когда Нэш, подбежав к Люси после ленча, сказала:
— Боюсь, вторую половину дня вам придется провести в одиночестве, если вы не любительница крикета, — другая Старшая бросила на бегу:
— Все в порядке, Бо. Нат Тарт[545] присмотрит за ней.
— Вот и прекрасно, — ответила Бо, настолько привыкшая к прозвищу, что оно утеряло свой прямой смысл и перестало казаться чем-то странным.
Люси очень хотелось увидеть Нат Тарт и, сидя в залитом солнцем саду и переваривая чудеса диеты, она раздумывала над этим именем. «Нат» могло происходить из бразильского. В современном сленге, кажется, это означало «сумасшедший» или «слабоумный». Но «Тарт»? Конечно же нет!
Одна из Младших, мимо Люси по пути к навесу, где стояли велосипеды, одарила ее сверкающей улыбкой, и Люси вспомнила, что сегодня утром они встречались в коридоре.
— Вы благополучно вернули Джорджа на место? — крикнула она вслед девочке.
— Да, спасибо, — просияла маленькая мисс Моррис, останавливая свой бег и приплясывая на одной ножке, — только, кажется, я снова попала в беду, теперь уже другого рода. Понимаете, я обнимала Джорджа за талию, ну, чтобы он перестал качаться после того, как я его повесила, и тут вошла мисс Люкс. Боюсь, мне никогда не объяснить ей, в чем дело.
— Жизнь — трудная штука, — согласилась Люси.
— Зато теперь я, кажется, действительно знаю связки, — прокричала маленькая мисс Моррис, убегая по траве дальше.
Милые дети, подумала мисс Пим. Славные, чистые, здоровые дети. Здесь и правда очень приятно. Грязное пятно на горизонте было дымом над Ларборо. И такое же пятно висит над Лондоном. Куда лучше сидеть здесь, где воздух наполнен солнцем и напоен запахом роз, и получать дружеские улыбки от милых юных созданий. Она вытянула свои пухленькие ножки, с удовольствием посмотрела на сиявшую на солнце георгианскую махину «старого дома» на другой стороне лужайки, с сожалением — на современные кирпичные пристройки-крылья, которые представляли собой его заднюю стенку в стиле «Мэри-Энн», но все же решила, что для современной моды ансамбль Лейса выглядит, пожалуй, достаточно приятно. Прекрасных пропорций аудитории в «старом доме», аккуратные чистенькие маленькие спальни в крыльях. Идеальная планировка. И уродливая махина гимнастического зала, скромно прячущаяся за всем этим. Прежде чем в понедельник она уедет, нужно посмотреть, как выполняют Старшие гимнастические упражнения. В этом для нее будет двойное удовольствие. Удовольствие наблюдать за профессионалами, которые тренировками довели свое мастерство до последней грани совершенства, и несказанное удовольствие от сознания того, что никогда, никогда, сколько бы она, мисс Пим, ни прожила, ей не надо будет снова карабкаться на шведскую стенку.
Из-за угла дома появилась фигура в ярком шелковом платье в цветах и большой шляпе с широкими полями — от солнца. Фигура была стройной, грациозной. Глядя, как она приближается, Люси поняла, что она бессознательно рисовала себе южноамериканку полной и перезрелой. Она поняла также, откуда произошла часть «Тарт», и улыбнулась. Платья, которые студентки носили вне стен колледжа, по строгим правилам Лейса не должны были быть «в цветах», и столь открытыми; и никогда, ни в коем случае их шляпы не должны были иметь такие большие поля для защиты от солнца.
— Добрый день, мисс Пим. Я — Тереза Детерро. Мне так жаль, что я неслышала вчера вашей лекции. У меня были занятия в Ларборо. — Детерро подчеркнуто грациозно, не спеша, одним плавным движением сняла шляпу и бросила ее на траву рядом с Люси. Все в ней было плавным, текучим: голос, медлительная речь, ее тело, ее движения, ее темные волосы, ее медово-коричневые глаза.
— Занятия?
— Класс танца, для продавщиц. Так серьезно; так точно; так плохо. Они подарят мне коробку шоколада на следующей неделе, потому что это будет последнее занятие в году, потому что я им нравлюсь и потому что таков обычай; и я буду чувствовать себя обманщицей. Это бесполезные усилия. Никто не сможет научить их танцевать.
— Наверно, они получают от этого удовольствие. А это принято? Я имею в виду, что студентки ведут занятия вне колледжа?
— Ну конечно, мы все это делаем. Для нас это практика. В школах, монастырях, клубах и тому подобном. Вы не любительница крикета?
Люси, поразившись столь быстрой перемене темы, объяснила, что для нее крикет возможен только в сопровождении корзинки с вишнями.
— А как случилось, что вы не играете?
— Я не играю ни в какие игры. Бегать за мячиком в высшей степени смешно. Я приехала сюда ради танцев. В этом колледже танцы поставлены очень хорошо.
Но, сказала Люси, ведь в Лондоне есть наверняка балетные школы бесконечно более высокого уровня, чем тот, который существует в колледже физического воспитания.
— О, для этого надо начинать с детства и иметь metier.[546] А я, у меня нет metier, просто я люблю танцы.
— А потом вы будете учить, когда вернетесь в — Бразилию, да?
— О нет, я выйду замуж, — ответила Детерро просто. — Я приехала в Англию, потому что у меня была несчастная любовь. Он был в-в-в-восхитительный, но совсем неподходящий. Так что я приехала в Англию, чтобы оправиться от этой истории.
— Ваша мать, очевидно, англичанка?
— Нет, моя мать француженка. Моя бабушка англичанка. Я обожаю англичан. Вот до такой степени, — она подняла изящную руку с вытянутой вперед кистью и коснулась ее ребром своего горла, — они такие романтичные, и при этом полны здравого смысла. Я поехала к бабушке и облила слезами все ее лучшие обитые шелком стулья, и все время повторяла: «Что мне делать? Что мне делать?» Это о моем возлюбленном, вы понимаете. И она сказала: «Высморкаться и уехать из страны». Тогда я заявила, что поеду в Париж и буду жить в мансарде и писать картины — глаз и раковина на блюде. Но она сказала: «Нет. Ты поедешь в Англию и немного попотеешь». Ну вот, поскольку я всегда слушаюсь бабушку и поскольку я люблю танцы и хорошо танцую, я и приехала сюда. В Лейс. Сначала они немного косо посмотрели на меня, когда я сказала, что хочу только танцевать…
Вот это и удивляло Люси. Почему этот очаровательный «орешек» нашел радушный прием в серьезном английском колледже, этой стартовой площадке для карьеры?
…но одна из студенток сломала себе что-то на тренировке — они часто что-нибудь ломают, и это неудивительно, правда? — и вот так одно место оказалось незаполненным, а это не очень хорошо. Вот они и сказали: «Ладно, пусть эта сумасшедшая из Бразилии живет в комнате Кэньон, разрешим ей посещать классы. От этого никому не будет плохо, а расчетные книги будут в порядке.
— Так что вы начали в группе Старших?
— Танцы — да. Понимаете, я уже была танцовщицей. Но я учила с Младшими анатомию. Я нахожу, что кости — это интересно. А на другие уроки я ходила, когда хотела. Я прослушала все предметы. Все, за исключением канализации. Я нахожу, что говорить о туалете неприлично.
Мисс Пим решила, что «туалет» — это гигиена.
— И вам все это нравилось?
— Это было либеральное обучение. Они очень наивны, эти английские девушки. Они — как мальчики в девять лет, — и, заметив на лице мисс Пим недоверчивую улыбку (ничего наивного не было в Бо Нэш), добавила: — Или как девочки в одиннадцать. В них есть восторженность. Вы знаете, что такое восторженность?
Мисс Пим кивнула.
— Они обмирают, если мадам Лефевр скажет им ласковое слово. Я тоже обмираю, но от удивления. Они экономят деньги, чтобы купить цветы для фрекен, а она думает только о морском офицере, оставшемся в Швеции.
— Откуда вы это знаете? — спросила, удивившись, Люси.
— Он у нее на столике. В ее комнате. Фотография, я хочу сказать. И она очень континентальная, у нее нет восторженности.
— У немцев есть, — заметила Люси. — Они этим славятся.
— Неуравновешенный народ, — объявила Детерро, отметая тевтонскую расу. — Шведы не такие.
— И все-таки я думаю, ей нравится, когда ей дарят цветы.
— Ну конечно, она не выбрасывает их в окно. Но я заметила, что ей больше нравятся те, кто ей ничего не дарит.
— О? Значит, есть такие, в ком нет восторженности?
— Ну да. Их не много. Шотландки, например. У нас их две. — Таким тоном она могла бы говорить о кроликах. — Они слишком заняты своими ссорами, чтобы испытывать еще и другие чувства.
— Ссорами? А я думала, что шотландцы всюду держатся друг друга.
Только если они не принадлежат к разным ветрам.
— Ветрам?
— Все дело в климате. У нас в Бразилии много такого. Ветер, который дует «А-а-а-ах», — она открыла свои красные губки и сделала мягкий, как бы намекающий, выдох, — создает один тип человека. А ветер, который дует «с-с-с-с-сх», — она резко и зло выдохнула сквозь сжатые зубы, — создает совсем другого человека. В Бразилии — это разная высота, в Шотландии — Западный берег и Восточный берег. Я наблюдала это во время пасхальных каникул, вот и поняла про шотландок. У Кэмпбелл ветер, который дует «а-а-а-ах», а потому она ленива, лжет и обладает очарованием, которое насквозь искусственное. У Стюарт ветер, который дует «с-с-с-сх», так что она честная, трудолюбивая и обладает устрашающей совестью.
Мисс Пим рассмеялась:
— По вашей теории, на восточном побережье Шотландии живут одни святые.
— Я так поняла, что есть еще и личная причина для ссор. Что-то о злоупотреблении гостеприимством.
— Вы хотите сказать, кто-то поехал на каникулы в гости к другой и — плохо вел себя?
Видения соблазненного любовника, украденных ложек, следов сигарет на мебели промелькнули в слишком живом воображении Люси.
— О нет. Это случилось более двухсот лет назад.[547] В глубоком снегу была устроена резня.
Детерро изо всех сил подчеркнула слово «резня».
Люси рассмеялась. Думать, что Кэмпбеллы до сих пор вынуждены жить под Гленко! Ограниченные люди, эти кельты.
Люси так долго сидела, раздумывая над образом мыслей кельтов, что Нат Тарт повернулась и посмотрела на нее:
— Вы приехали, чтобы использовать нас как образцы, мисс Пим?
Люси объяснила, что они с мисс Ходж старые друзья и что ее визит — это просто приезд в гости.
— Да и вообще, — добавила она, — сомневаюсь, что в качестве образцов с точки зрения психологии студентки колледжа физического воспитания могут быть интересны.
— Да что вы? Почему?
— О, они слишком нормальные и слишком милые. Слишком однотипны.
Легкая тень веселости мелькнула на лице Детерро — первое появившееся на нем вообще выражение. Неожиданно это укололо Люси, как будто ее тоже уличили в наивности.
— Вы не согласны?
— Я пытаюсь сообразить, кто — из Старших — нормален. Это нелегко.
— Ну что вы!
— Вы знаете, как они здесь живут. Как они работают. Трудно после нескольких лет такого обучения подойти к последнему семестру совершенно нормальной.
— Вы полагаете, что мисс Нэш ненормальна?
— О, Бо! У нее сильный характер, и потому, быть может, она меньше пострадала. Но разве можно назвать ее дружбу с Иннес совершенно нормальной? Милой — конечно, — добавила Детерро поспешно, — абсолютно безупречной. Но нормальной — нет. Этакие отношения Давида и Ионафана. Очень приятные, без сомнения, но, — Детерро поводила рукой, подбирая подходящее слово, — но они исключают очень многое. И с Апостолами то же самое, только их четверо.
— Апостолы?
— Мэттьюз, Вэймарк, Льюкас, Литтлджон. Их так прозвали в колледже из-за фамилий.[548] А теперь, поверьте, дорогая мисс Пим, они и думают вместе. У них четыре комнаты на чердаке, — она кивком указала на четыре окна под крышей одного из крыльев дома, — и если вы попросите одну из них одолжить вам булавку, она ответит: «У нас их нет».
— Ну, есть еще мисс Дэйкерс. Что, по вашему мнению, не в порядке с мисс Дэйкерс?
— Задержалась в развитии, — сухо ответила Детерро.
— Чепуха! — воскликнула Люси, решив отстаивать свою точку зрения. — Счастливое, простое, без комплексов создание, наслаждающееся самой собой и всем миром вокруг. Совершенно нормальная.
Нат Тарт неожиданно улыбнулась, и улыбка ее была открытой и искренней.
— Хорошо, мисс Пим, я отдаю вам Дэйкерс. Но я напоминаю, что это последний семестр. Так что все оказывается необыкновенно преувеличенным. Все хоть чуть-чуть, самую капельку, но сумасшедшие. Нет-нет, правда, уверяю вас. Если студентка боязлива по природе, в этом семестре она трусит в тысячу раз больше. Если она амбициозна, ее амбиции превращаются в страсть. И так далее. — Мисс Детерро приподнялась, резюмируя сказанное. — Они ведут ненормальную жизнь. Нельзя ожидать, чтобы они были нормальными.
IV
«Нельзя ожидать, чтобы они были нормальными», — повторяла про себя Люси, сидя на том же месте в воскресенье в полдень и глядя на счастливых и абсолютно нормальных девушек, группами разместившихся на траве у ее ног. Ее взгляд с удовольствием пробегал по их юным лицам. Если ни одно их них не было особо выдающимся, по крайней мере, ни на одном из них не было печати посредственности. На них не видно было никаких следов болезненности или хотя бы изнеможения, это были живые загорелые лица. Эти девушки выдержали изнурительный — что признала даже Генриетта — курс обучения, и мисс Пим думала, что строгие меры, наверно, были оправданны, если конечный результат оказался столь великолепным.
Она улыбнулась, заметив, что Апостолы, прожив долгое время вместе, стали даже чем-то похожи друг на друга, как часто бывают похожи, несмотря на разные черты лица, муж и жена. Казалось, что у Апостолов одинаковые круглые лица с одним и тем же выражением предвкушения чего-то радостного, и только потом можно было заметить различия в их чертах и цвете волос и глаз.
Мисс Пим улыбнулась про себя и тому, что Томас, которая любила поспать, действительно оказалась валлийкой, маленькой темноволосой коренной жительницей Уэльса. И тому, что в О'Доннелл, которая теперь материализовалась из голоса в ванной комнате, так же безошибочно можно было признать ирландку: длинные ресницы, бледная кожа, большие, широко расставленные серые глаза. Обе шотландки, усевшиеся друг от друга как можно дальше, но так, чтобы все-таки остаться в одной группе, имели менее ярко выраженный тип. Рыжеволосая Стюарт разрезала торт на одной из стоявших на траве тарелок. («Это от Кроуфорда, — говорила она приятным голосом с эдинбургским акцентом, — чтобы вы, бедняжки, знакомые только с Баззардом, понаслаждались для разнообразия!»). У Кэмпбелл, прислонившейся спиной к стволу кедра и откусывающей маленькие кусочки от бутерброда, были розовые щеки и каштановые волосы; в ней была какая-то неясная прелесть.
Кроме Хэсселт, девушки с плоским, спокойным, как на ранних примитивах, лицом, которая приехала из Южной Африки, все остальные в группе Старших были, как говорила королева Елизавета, «просто англичанки».
Единственным лицом, которое выделялось своей оригинальностью, а не просто миловидностью, было лицо Мэри Иннес — Ионафана Бо Нэш. Почему-то это очень понравилось мисс Пим. Она чувствовала, что Бо, как и следовало, выбрала себе в подруги девушку, обладающую и человеческими достоинствами, и красотой. Не то чтобы Мэри Иннес была необыкновенно красива. Нависающие над глазами брови придавали лицу выражение силы и постоянного раздумья, которое лишало его тонкие черты природной красоты. В отличие от оживленной, легко улыбавшейся Бо Мэри Иннес была спокойной. Мисс Пим пока еще не пришлось увидеть, как она улыбается, хотя между ними и состоялась беседа, которую со светской точки зрения можно было счесть достаточно длинной. Это произошло накануне. Проведя вечер в компании преподавателей, мисс Пим раздевалась у себя в комнате. Раздался стук в дверь, и Бо проговорила:
— Я пришла только посмотреть, не нужно ли вам чего-нибудь. И представить вам вашу соседку, Мэри Иннес. Как только потребуется, Иннес придет вам на помощь.
И Бо удалилась, пожелав «спокойной ночи» и оставив Иннес завершать интервью. Люси нашла, что Мэри привлекательна и очень умна, но что-то в ее поведении чуть-чуть смущало. Она не давала себе труда улыбаться, если ей не было весело, и, хотя настроена она была дружески и спокойно, не делала никаких усилий, чтобы развлекать гостью. В академических и литературных кружках, которые в последнее время часто посещала Люси, это осталось бы незамеченным, но в веселом, оживленном мире колледжа это выглядело почти как отпор. Почти. Конечно же, не было и намека на отпор в интересе, который проявила Иннес к ее, мисс Пим, книге — Книге — и к ней самой.
Теперь, сидя в тени кедра и глядя на Иннес, Люси думала о том, были ли у Мэри Иннес основания сомневаться в том, что жизнь — очень веселая штука. Люси давно гордилась своей способностью определять характер человека по чертам его лица и теперь готова была держать любое пари, что не ошибется. Ей, например, никогда не приходилось встречать человека, брови которого начинались бы у самой переносицы и взлетали вверх к вискам, и не обнаружить, что он отличается несговорчивым характером и склонен к интригам. А кто-то — кажется, Иан Гордон? — заметил, что в толпе, собравшейся вокруг оратора в парке, слушать его оставались люди с длинными носами, а с короткими — уходили. Поэтому теперь, глядя на низкие брови и решительно сжатые губы Мэри Иннес, Люси размышляла, не пришлось ли их хозяйке отказаться от всякого намека на улыбку, чтобы сконцентрироваться на достижении поставленной цели. Это было вообще чем-то несовременное лицо. Это было… что это было?
Иллюстрация в книге по истории? Портрет в картинной галерее? Во всяком случае, не лицо преподавательницы физкультуры в женской школе. Определенно — нет. Именно вокруг таких лиц, как у Мэри Иннес, создавалась история.
Из всех девушек, которые постоянно обращались к Люси и тут же отворачивались, продолжая болтать и подшучивать друг над другом, только две не вызывали симпатии с первого же взгляда. Первым было лицо Кэмпбелл, слишком податливое, со слишком мягким ртом, выражавшее готовность сделать все для всех. Второе принадлежало девушке по фамилии Роуз; веснушчатое, со сжатыми губами и наблюдательными глазами.
Роуз опоздала к чаепитию, и в момент ее прихода все почему-то замолчали. Люси это напомнило внезапную тишину, которая наступает среди стаи щебечущих птиц, когда над ними начинает кружить ястреб. Однако в молчании девушек не было никакой нарочитости, никакой злобы. Как будто паузой в разговоре они отметили ее прибытие, только никто из них не стал приглашать ее присоединиться к той или иной группе.
— Боюсь, я опоздала, — проговорила Роуз. И в наступившей на миг тишине Люси уловила чей-то краткий комментарий: «Зубрила!» — из чего сделала вывод, что мисс Роуз была не в состоянии оторваться от учебников. Нэш представила ее, Роуз опустилась на траву рядом с остальными, и беседа потекла дальше. Люси, всегда сочувствовавшая тому, кто оказывался лишним, поймала себя на том, что ей жаль новоприбывшую. Однако, внимательнее присмотревшись к чертам лица мисс Роуз — уроженки Севера, Люси пришла к убеждению, что тем самым тратит впустую добрые чувства. Если Кэмпбелл, розовая и хорошенькая, выглядела слишком уступчивой, чтобы казаться привлекательной, то Роуз была ее противоположностью. Только бульдозер, почувствовала мисс Пим, мог бы сдвинуть с места мисс Роуз.
— Мисс Пим, вы не попробовали моего торта, — заявила Дэйкерс, которая без всякого смущения присвоила себе право обращаться с Люси, как со старой знакомой, и теперь сидела, прислонившись спиной к ее стулу и вытянув перед собой прямые, как у куклы, ноги.
— А который ваш? — спросила Люси, рассматривая коробки с разнообразными сладостями, выделявшиеся на фоне приготовленных в колледже бутербродов и «воскресных» булочек с изюмом, как костюмы от Крида на деревенской ярмарке.
Вкладом Дэйкерс, как оказалось, был многослойный шоколадный торт с сахарной глазурью. Люси решила, что во имя дружбы (а также чуть-чуть из чревоугодия) на сей раз она забудет про свой вес.
— Вы всегда сами покупаете сласти к воскресному чаю?
— О нет, это в вашу честь.
Нэш, сидевшая по другую сторону Люси, засмеялась:
— Вы видите перед собой, мисс Пим, все скелеты из шкафов.[549] Нет ни одной студентки-физкультурницы, которая не была бы Тайным Едоком.
— За все время пребывания в колледже, дорогие мои, не было ни одной минуты, чтобы я не умирала от голода. Только стыд заставляет меня перестать есть за завтраком, а через полчаса я уже так голодна, что готова съесть коня в гимнастическом зале.
— Поэтому наше единственное преступление и состоит в… — начала Роуз, но Стюарт ткнула ее в спину так сильно, что та почти упала лицом в траву.
— Мы выложили вам под ноги свои мечты, — со смехом сказала Нэш, как бы сглаживая недоконченную фразу Роуз. — И уверяю вас, это славный толстый ковер из углеводов.
— Наш конклав собирался еще по одному очень серьезному поводу — надо ли нам одеться ради вас, — проговорила Дэйкерс, нарезая шоколадный торт и не подозревая, что опять допустила оплошность. — Но мы решили, что для вас это вряд ли имеет большое значение. — И поскольку раздался смех, поспешно добавила: — В самом лучшем смысле, я хочу сказать. Мы решили, что вы примете нас такими, какие мы есть.
На девушках была самая разнообразная одежда — в соответствии со вкусом каждой и требованием момента. Кое-кто был в шортах, кое-кто в голубой полотняной тунике для игр, а кое-кто в тонких шелковых платьях пастельных тонов, подходящих к случаю. Шелков в цветах не было. Детерро пила чай с монахинями монастыря в Ларборо.
— Кроме того, — заявила Гэйдж, похожая на голландскую куклу и оказавшаяся той темноволосой головкой, которая появилась в окне, выходившем во двор, вчера в половине шестого утра, просила бросить чем-нибудь в Томас и тем положить конец воплям Дэйкерс, — кроме того, как бы сильно мы не хотели оказать вам честь, мисс Пим, у нас на счету каждая минута; ведь выпускные экзамены ужасно близко. Даже такому моментально меняющему костюмы артисту, как П. Т. Старший, требуется целых пять минут, чтобы переодеться в воскресное парадное платье; так что принимая нас в наших лохмотьях, вы внесли вклад, — она приостановилась на минуту, подсчитывая что-то в уме, — внесли вклад в сумму знаний о человеке в количестве одного часа и двадцати минут.
— Можешь вычесть оттуда мои пять минут, дорогая, — объявила Дэйкерс, ловко подбирая языком потекшую сахарную глазурь (чтобы она не упала), — я всю вторую половину дня провела, стараясь выучить кору головного мозга, и единственный результат — твердое убеждение, что у меня лично она отсутствует.
— У тебя обязательно есть кора головного мозга, — произнесла Кэмпбелл, буквалистка-шотландка, протяжным глазговским говором, похожим на густой сироп, стекающий с ложки. Никто, однако, не обратил внимания на эту констатацию факта.
— Лично я думаю, что самое отвратительное в физиологии — это villi, — сказала О'Доннелл. — Подумайте только, что надо нарисовать сечение чего-то, что имеет в высоту одну двадцатую дюйма и состоит из семи отдельных частей!
— А вы должны так подробно знать строение человека? — спросила Люси.
— Во вторник утром должны, — ответила соня Томас. — Потом мы можем забыть это на всю жизнь.
Люси, вспомнив, что в понедельник утром она хотела пойти в гимнастический зал, поинтересовалась, прекращаются ли тренировки на ту неделю, что идут выпускные экзамены. Нет, заверили ее. Не прекращаются, потому что показ состоится через две недели. Показательные выступления по рангу занимают место сразу после выпускных экзаменов.
— Все наши родители приедут, — сказала одна из Апостолов, — и…
— Родители всех, хочет она сказать, — поправила ее второй Апостол, — и из соперничающих с нами колледжей, и все…
— Все сливки из Ларборо, — вставила третья. Похоже, когда одна из Апостолов разражалась речью, другие автоматически следовали ее примеру.
— И все «шишки» из округа, — заключила четвертая.
— Убийство, — подвела за всех итог первая.
— Мне нравится показ, — сказала Роуз. И снова ответом было странное молчание.
Не враждебное. Просто отстраняющее. Без всякого выражения все посмотрели на Роуз и отвели глаза. Никто не прокомментировал то, что она сказала. Их безразличие превращало ее как бы в человека на необитаемом острове.
— Мне кажется, это приятно — показать людям, что мы умеем делать, — добавила Роуз, как будто оправдываясь.
Они и это пропустили мимо ушей. Никогда раньше не встречалась Люси с этим английским молчанием-отрицанием в его чистом виде, во всей его жестокости. Она вся съежилась от испытываемого сочувствия к Роуз. Но Роуз была толстокожей. Она осмотрела тарелки, стоявшие перед ней, и протянула руку к ближайшей.
— А чая не осталось? — спросила она.
Нэш нагнулась к большому коричневому чайнику, а Стюарт подхватила нить разговора, там, где ее оставили Апостолы.
— Вот что действительно убийственно — так это ждать, что ты вытащишь из лотереи мест.
— Мест? — переспросила Люси. — Вы имеете в виду работу? Но почему лотерея? Вы ведь уже знаете, куда вы обращались, не так ли?
— Мало кому из нас приходится давать объявления, — пояснила Нэш, наливая очень крепкий чай. — Обычно бывает очень много запросов. Школы, где и раньше работали учительницы гимнастики, окончившие Лейс, когда у них появляется вакансия, просто пишут мисс Ходж и просят ее рекомендовать кого-нибудь. Если случается, что это очень высокий и ответственный пост, она может предложить его кому-нибудь из бывших выпускников, кто хочет сменить место. Но, как правило, вакансии заполняются оканчивающими студентками.
— И они получают очень выгодного работника, — сказала одна из Апостолов.
— Никто не работает так много, как тот, для кого это первое место.
— И за меньшие деньги, — добавила третья.
— Или с большей отдачей, — заключила четвертая.
— Так что, видите, — сказала Стюарт, — самый мучительный момент за все время обучения — когда тебя вызывают в кабинет мисс Ходж и говорят, какова будет твоя судьба.
— Или когда твой поезд отходит от вокзала Ларборо, а тебя вообще никуда не послали! — произнесла Томас, перед глазами которой явно мелькало видение, как она, оставшись без работы, вынуждена будет вернуться жить в свои родные горы.
Нэш опустилась на пятки и улыбнулась Люси:
— Все совсем не так уж мрачно. Некоторые из нас уже обеспечены местами, так что вообще выбывают из соревнования. Хэсселт, например, возвращается в Южную Африку и будет работать там. А Апостолы en masse[550] выбрали медицинскую работу.
— Мы собираемся открыть клинику в Манчестере, — объяснила первая.
— Очень сырое место. Там люди часто болеют ревматизмом.
— Там полно калек.
— И военных, — добавили остальные три автоматически.
Нэш одарила их благосклонной улыбкой.
— А я вернусь в свою старую школу тренером по спортивным играм. А Нат — а Детерро, конечно, не нужна работа. Так что не очень многим придется подыскивать места.
— А я вообще не получу диплом, если не вернусь к изучению печени, — сказала Томас, и ее карие глаза-бусинки сверкнули на солнце. — Что за способ проводить летние вечера.
Все лениво пошевелились, как бы выражая протест, и снова стали болтать. Однако напоминание о близком будущем задело всех, они начали собирать свои вещи и одна за другой медленно уходить по залитой солнцем траве, похожие на безутешных детей. И в какой-то момент Люси обнаружила, что осталась наедине с запахом роз, жужжанием насекомых и горячим мерцающим светом солнца, заливающим сад.
Около получаса сидела она, наслаждаясь этой дивной картиной, наблюдая за тем, как тень от дерева медленно сползает с ее ног. Потом вернулась из Ларборо Детерро; она медленно шла по подъездной аллее, сама воплощенная элегантность с Rue de la Paix;[551] она являла собой резкий контраст обществу кувыркающейся на траве и распивающей чай молодежи, среди которой Люси провела этот час. Детерро увидела мисс Пим и, свернув, подошла к ней.
Ну как, — спросила она, — вы провели время с пользой?
— Я не думала о пользе, — ответила Люси немного резко. — Это был один из самых счастливых дней в моей жизни.
Нат Тарт стояла, рассматривая ее.
— Мне кажется, вы очень хороший человек, — сказала она совсем не к месту и ушла не спеша по направлению к дому.
А Люси неожиданно почувствовала себя совсем девочкой, и ей совсем не понравилось это ощущение. Как смеет этот ребенок в цветастом платье заставлять ее чувствовать себя неопытной и глупой!
Она решительно встала и пошла искать Генриетту, пошла напомнить себе, что она — Люси Пим, которая написала Книгу, читала лекции в ученых обществах, что ее имя есть в «Кто есть кто» и что она признанный авторитет в том, что касается работы человеческого сознания.
V
— Что в колледже считается преступлением? — спросила мисс Пим Генриетту, когда они после ужина поднимались наверх. Остановившись на лестничной площадке у большого окна в эркере, чтобы посмотреть вниз, на маленький четырехугольник двора, они пропустили вперед остальных, направлявшихся в гостиную преподавателей.
— Пройти через гимнастический зал, чтобы срезать путь к беговой дорожке, — не раздумывая, ответила Генриетта.
— Нет, я имею в виду настоящее преступление.
Генриетта пристально посмотрела на мисс Пим.
Через минуту она сказала:
— Моя дорогая Люси, когда человек работает как каторжный, как работают эти девушки, у него нет времени придумывать преступление и нет сил осуществить его. А почему ты спрашиваешь?
— Кое-что было сказано сегодня за чаем. Об их «единственном преступлении». Что-то имеющее отношение к постоянно испытываемому голоду.
— Ах это! — Выражение лица Генриетты прояснилось. — Кража пищи. Да, время от времени мы сталкиваемся с этим. В любом обществе, вроде нашего, всегда найдется кто-нибудь, у кого недостает сил противостоять искушению.
— Ты имеешь в виду пищу из кухни?
— Нет, из комнат студенток. Такое преступление совершают Младшие и обычно все это проходит само собой. Понимаешь, это — не признак порочности. Просто слабая воля. Студентка, которой и в голову не придет взять деньги или какую-нибудь безделушку, не может устоять перед куском пирога. Особенно если это — сладкий пирог. Они расходуют так много энергии, что их тело просто кричит, прося сахару; и хотя их никто не ограничивает за столом, они всегда голодны.
— Да, они очень много работают. А скажи, пожалуйста, какая часть из принятых заканчивает курс?
— Из этого набора, — Генриетта кивком указала вниз, где группа Старших брела через двор к лужайке, — заканчивают процентов восемьдесят. Это примерно средняя цифра. Те, кто отсеиваются, отсеиваются в первом семестре, ну, может, во втором.
— Но ведь не все, правда же? В такой жизни, как эта, бывают, наверно, несчастные случаи?
— О да, несчастные случаи бывают. — Генриетта отвернулась от окна и стала дальше подниматься по лестнице.
— Эта девушка, место которой заняла Тереза Детерро, с ней произошел несчастный случай?
— Нет, — ответила Генриетта коротко, — у нее был упадок сил.
Люси, подымаясь по ступеням в кильватере за широкой спиной своей подруги, узнала этот тон. Таким тоном Генриетта-староста обычно заявляла: «И смотрите, не сметь бросать галоши посреди раздевалки». Дальнейшее обсуждение не допускалось.
Генриетте, как следовало понимать, не хотелось, чтобы о ее любимом колледже думали, как о Молохе. Колледж был широкими вратами в будущее для молодежи, заслуживающей этого; а если один или два человека видят в этих вратах скорее опасность, чем открывающуюся перспективу, — жаль, конечно, но на строителях врат это никак не отразится.
«Как в монастыре, — сказала Нэш вчера утром. — Нет времени подумать о внешнем мире». И это было правдой. Мисс Пим видела их распорядок дня. А накануне вечером, когда все шли на ужин, она видела, что обе дневные газеты лежали на студенческом столе нераскрытыми. Но ведь женский монастырь — это мирок не только узкий, но и очень спокойный. Без соперничества. Уравновешенный. А в этой сверхбеспокойной, дико напряженной жизни не было ничего от монастыря. Разве только погруженность в собственный мир, узость.
Да и был ли так уж узок этот мир, думала мисс Пим, с интересом глядя на собравшихся в гостиной. Если бы это был колледж иного типа, собрание было бы более однородным. В научном колледже оно состояло бы из ученых, в теологическом — из богословов. А в этой длинной прелестной комнате с ее красивыми «вещицами», мебелью, обитой вощеным ситцем, с ее высокими распахнутыми окнами, из которых лился вечерний воздух, наполненный запахами травы и роз, в этой комнате встретилось много миров. Мадам Лефевр, элегантно откинувшаяся на софе стиля ампир и курившая желтую сигарету в зеленом мундштуке, представляла театральный мир, мир грима, искусства и искусственности. Мисс Люкс, прямо сидевшая на жестком стуле, представляла академический мир, мир университетов, учебников и дискуссий. Юная мисс Рагг, разливавшая кофе, являла собой мир спорта, где занимаются физической работой, соревнованиями и не очень-то размышляют. А вечерняя гостья, доктор Энид Найт, одна из «приглашенных», была из медицинского мира. Иностранный мир не присутствовал: Сигрид Густавсен вместе со своей матерью, не говорившей по-английски, удалились к себе, где они могли бы поболтать по-шведски.
Все эти миры собрались, чтобы сотворить нечто цельное — Окончившую Студентку; так что курс обучения никак нельзя было назвать узким.
— Что вы думаете о наших студентках, мисс Пим, теперь, когда вы провели с ними целый день? — спросила мадам Лефевр, наводя батарею своих огромных темных глаз на Люси.
Чертовски глупый вопрос, подумала Люси; интересно, как удалось респектабельной паре добрых англичан произвести на свет создание, столь похожее на змею, как мадам Лефевр.
— Я думаю, — произнесла она вслух, радуясь, что, отвечая, может быть абсолютно честной, — любая из них может служить прекрасной рекламой для Лейса. — И она увидела, как радостно вспыхнуло лицо Генриетты. Колледж был миром Генриетты. Она жила, двигалась, дышала только делами Лейса; он заменял ей отца, мать, возлюбленного, дитя.
— Они все очень славные, — весело согласилась Дорин Рагг, которая совсем недавно еще сама была студенткой и относилась к своим ученицам по-товарищески.
— Они — загубленные души, — язвительно произнесла мисс Люкс. — Они думают, что Ботичелли — это разновидность спагетти. — Она с глубоким унынием уставилась на кофе, который налила ей мисс Рагг. — Если уж на то пошло, они не знают и что такое спагетти. Не так давно Дэйкерс поднялась посреди лекции о диетах и обвинила меня в том, что я разрушила ее иллюзии.
— Я очень удивлена, я не знала, что можно предпринять что-то, что может быть разрушительным по отношению к мисс Дэйкерс, — произнесла своим низким бархатным голосом, как обычно, замедленно мадам Лефевр.
— Какие же иллюзии вы разрушили? — поинтересовалась сидевшая у окна молодая женщина-врач.
— Я просто сообщила им, что спагетти и тому подобное делаются из мучного теста. Кажется, это пошатнуло представление Дэйкерс об Италии.
— И как же она представляла себе ее?
— Как поля колышущихся макарон, так она сказала.
Генриетта, опускавшая два куска сахара в крошечную чашечку кофе (как здорово, грустно подумала Люси, иметь фигуру, похожую на мешок муки и плевать на это!), обернулась ко всем присутствующим и проговорила:
— По крайней мере, они не совершают преступлений.
— Преступлений? — с изумлением переспросили ее.
— Мисс Пим только что интересовалась, случались ли в Лейсе преступления. Вот что значит быть психологом.
Прежде чем Люси смогла запротестовать по поводу такого истолкования ее вопроса, заданного просто из любознательности, мадам Лефевр проговорила:
— Прекрасно, давайте окажем ей любезность. Вывернем мешок с тряпками нашего позорного прошлого. Какие преступления у нас бывали?
— Фартинг оштрафовали перед Рождеством за езду на велосипеде без фонаря, — вспомнила мисс Рагг.
— Преступления, — подчеркнула мадам Лефевр. — Преступления. Не мелкие проступки.
— Если вы имеете в виду настоящие прегрешения, то у нас было это ужасное создание; она с ума сходила по мужчинам и все субботние вечера проводила, околачиваясь у ворот казармы в Ларборо.
— Да, — сказала мисс Люкс, припоминая. — А что с ней стало после того, как мы ее выгнали, кто-нибудь знает?
— Она работает служанкой в «Приюте моряков» в Плимуте, — сказала Генриетта и широко раскрыла глаза, когда все рассмеялись. — Не знаю, что в этом забавного. Единственное настоящее преступление, случившееся у нас за последние десять лет, как вы хорошо знаете, — это история с часами. И даже это, — добавила она, ревниво относясь ко всему, что касалось ее любимого заведения, — было скорее манией, а не настоящей кражей. Она брала только часы и никуда не относила их. Держала в ящике своего бюро, совершенно открыто. Там их было девять штук. Мания, конечно.
— По прецеденту, она теперь, я полагаю, работает у ювелира, — сказала мадам Лефевр.
— Не знаю, — ответила Генриетта серьезно. — Думаю, родители держат ее дома. Они достаточно состоятельные люди.
— Видите, мисс Пим, происшествия случаются в количестве ноль целых сколько-то десятых процента. — Мадам Лефевр покачала тонкой загорелой рукой. — Мы — общество без сенсаций.
— Слишком уж мы нормальны, — заявила мисс Рагг. — Время от времени маленькое пятнышко скандала не помешало бы. Приятное разнообразие после стоек на руках и упражнений на кольцах.
— Мне бы хотелось увидеть стойки на руках и упражнения на кольцах, — сказала Люси. — Можно мне завтра утром прийти посмотреть на Старших?
— Ну конечно, ей нужно посмотреть Старших, — сказала Генриетта. — Они сейчас работают над программой для показательных выступлений, так что это будет как показ для нее одной.
— Это одна из лучших групп, какие у нас только бывали, — объявила Генриетта.
— Можно мне занять гимнастический зал на первом уроке, пока во вторник Старшие сдают свой выпускной экзамен? — спросила мисс Рагг, и все стали обсуждать расписание.
Мисс Пим подошла к окну и присоединилась к доктору Найт.
— Это вы отвечаете за сечение чего-то, что называется villi? — спросила она.
— Нет-нет, физиология — рядовой предмет в программе колледжа. Кэтрин Люкс ведет его.
— А что вы читаете?
— О, на разных ступенях разное. Систему здравоохранения. Так называемые «социальные» болезни. Скорее, даже так называемые жизненные факты. Ваш предмет.
— Психологию?
— Да. Здравоохранение — это моя работа, а психология — моя специальность. Мне так понравилась ваша книга. В ней столько здравого смысла. Я восхищалась ею. Ведь так легко впасть в напыщенный тон, рассуждая об абстрактных предметах.
Люси зарделась. Никакая похвала не бывает столь приятной, как похвала коллеги.
— И еще я, конечно, медицинский консультант колледжа, — продолжала доктор Найт с улыбкой. — Синекура, несомненно. Все они отвратительно здоровые.
— Но… — начала Люси. И тут она вспомнила, как Детерро, аутсайдер, настаивала на их анормальности. Если бы она была права, то такой опытный сторонний наблюдатель, как доктор Найт, несомненно, заметила бы это.
— Конечно, несчастные случаи бывают, — сказала доктор, неправильно поняв «но» Люси. — Вся их жизнь — это длинная цепочка маленьких несчастных случаев: ушибы, растяжения, вывихнутые пальцы н тому подобное, — но что-нибудь серьезное происходит очень редко. За время моего пребывания здесь я могу назвать один-единственный пример — Бентли, девушка, в комнате которой вы живете. Она сломала ногу и вернется только к будущему семестру.
— И все же — напряженные тренировки, крайне активная жизнь — неужели девушки никогда не испытывают упадка сил от такой нагрузки?
— Да, такое бывает. Последний семестр особенно труден. Концентрация ужасов — с точки зрения студенток. Классы критики и…
— Критики?
— Да. Каждая из них должна отзаниматься в гимнастическом зале и в классе танцев в присутствии всего штата преподавателей и соучениц по группе и получить оценку того, что она показала. Оглушительный удар по нервам. Они уже позади, классы критики, но впереди выпускные экзамены и показательные выступления, и распределение мест работы, и расставанье со студенческой жизнью, и многое другое. Да, это серьезная нагрузка для них, бедняжек. Но они удивительно жизнестойки. Иначе никто не выдержал бы так долго. Давайте, я принесу вам еще кофе. Я иду наливать и себе.
Доктор Найт взяла у Люси чашку и отошла к столу, а Люси зарылась в складки портьеры и выглянула в сад. Солнце село, очертания стали расплывчатыми, в мягком дуновении, коснувшемся ее лица, чувствовался первый намек на вечернюю росу. Где-то в другой части дома (в общей студенческой комнате?) играли на рояле, и какая-то девушка пела. У нее был прелестный голос, свободно льющийся, чистый, без профессиональных трюков и модной игры четвертьтонами. Более того, песня была балладой, старомодной и сентиментальной, но абсолютно лишенной жалости к себе и позы. Искренний молодой голос и искренняя старая песня. Люси была потрясена тем, как, оказывается, давно она не слышала поющего голоса, который не исходил бы от кнопок и батарей. В Лондоне в эти минуты воздух, пропитанный выхлопными газами, сотрясался от звуков радио, а здесь, в прохладном, наполненном ароматами саду, девушка пела просто потому, что любила петь.
«Я слишком долго жила в Лондоне, — подумала Люси. — Мне необходима перемена. Быть может, найти отель на южном побережье. Или уехать за границу. Забываешь, что мир молод.
— Кто это поет? — спросила она доктора Найт, взяв у нее из рук чашку.
— Наверное, Стюарт, — ответила та, не проявив никакого интереса. — Мисс Пим, вы можете спасти мне жизнь, если захотите.
Люси сказала, что спасение докторской жизни доставит ей огромное удовольствие.
— Мне бы очень хотелось поехать на медицинскую конференцию в Лондон, — прошептала доктор заговорщическим тоном. — Она состоится в четверг, а по четвергам у меня лекция по психологии. Мисс Ходж считает, что я вечно езжу на конференции, так что мне и просить не стоит. А если бы вы прочли эту лекцию вместо меня, все было бы замечательно.
— Но я возвращаюсь в Лондон завтра после ленча.
— Нет-нет! — воскликнула доктор Найт порывисто. — Вам обязательно нужно?
— Как странно, я только что думала, как ужасно мне не хочется возвращаться.
— Вот и не уезжайте. Оставайтесь на день или два, и спасите мне жизнь. Пожалуйста, мисс Пим.
— А как отнесется Генриетта к такой замене?
— Ну, вот это уже чистое притворство. Вам должно быть стыдно. Я — не автор бестселлера, я — не знаменитость, я даже не автор последнего учебника по этому предмету…
Люси легким кивком дала понять, что признает свою вину, а ее глаза по-прежнему были устремлены в сад. Зачем ей сейчас возвращаться в Лондон? Что зовет ее туда? Ничто и никто. Впервые ее ясная, независимая, удобная, знаменитая жизнь показалась слегка унылой. Слегка узкой и нечеловечной. Как могло это случиться? Может быть, в том существовании, которым она была так довольна, ей не хватало тепла? Конечно, не контактов с людьми ей не хватало. Ее жизнь была пересыщена контактами с людьми. Но все это были какие-то однообразные контакты, так ей теперь казалось. За исключением миссис Монтгомери, ее приходящей прислуги, уроженки одного из пригородов Манчестера, тетки Селии, жившей в Уолберсвике, куда она, Люси, иногда ездила на уикэнд, и продавцов, она никогда не разговаривала ни с кем, кто бы не был связан с издательствами или с академическим миром. И хотя все леди и джентльмены из этих обоих миров были и умными, и интересными, нельзя было отрицать, что они на поверку оказывались достаточно ограниченными. Например, вы не могли говорить с одним и тем же человеком о социальной безопасности, о народных горских песнях и о том, кто выиграл заезд в три тридцать. У каждого был свой «предмет». И предметом этим, как она убедилась, похоже, чаще всего являлся вопрос о гонорарах. У самой Люси было лишь весьма смутное представление о гонорарах, особенно ее собственных, и она никогда не могла поддерживать подобные разговоры.
Кроме того, никто из них не был молод.
По крайней мере, не так молод, как эти дети здесь. Некоторые знакомые Люси были молоды по возрасту, однако вес мирских пороков и сознание собственной значимости уже согнули их спины. Очень приятно было в виде разнообразия встретить юное утро мира.
И очень приятно было нравиться.
Нечего обманывать себя и искать причину того, почему ей хотелось еще ненадолго остаться, почему она всерьез готовилась пожертвовать прелестями цивилизации, казавшимися ей столь желанными, ну просто необходимыми еще только вчера утром. Очень приятно было нравиться.
За последние несколько лет ею пренебрегали, ей завидовали, ею восхищались, ее брали на буксир и обрабатывали; однако тепло личной приязни к себе она не испытывала с той самой поры, как вскоре после ее ухода в отставку четвертый класс младшей группы попрощался с ней, подарив сделанную собственными руками перочистку и написав речь, которую произнесла Глэдис такая-то. Чтобы еще немного побыть в этой атмосфере молодости, доброго отношения, тепла, Люси готова была какое-то время смотреть сквозь пальцы на звонки, бобы и ванные комнаты.
— Найт, — позвала юная мисс Рагг, оторвавшись от беседы, в которой участвовала, — Апостолы не просили вас дать им рекомендательное письмо ккакому-нибудь врачу в Манчестере?
— Да-да, просили. Все вместе. Конечно, я согласилась, с радостью. Думаю, они добьются большого успеха.
— Сама по себе каждая из Апостолов — ничего собой не представляет, — сказала мисс Люкс, — но вместе они обладают учетверенной безжалостностью, которая совершенно необходима в Ланкашире. Это единственный случай в моей практике, когда ничто, помноженное на четыре, дает что-то около шести с половиной. Если никому не нужна «Санди Таймс», я возьму ее, почитаю перед сном.
Газета явно никому не была нужна. После ленча Люси просмотрела ее первой, а потом так и оставила лежать сложенной в гостиной, и никто, как заметила мисс Пим, никто, кроме мисс Люкс, не прикоснулся к ней.
— Старшие этого выпуска очень неплохо устроились, почти без нашей помощи, — сказала мадам Лефевр. — Нервотрепки будет меньше, чем обычно.
Эти слова прозвучали не очень сочувственно, скорее, сардонически.
— Меня все время удивляет, — произнесла мисс Ходж отнюдь не сардонически, — что студентки каждый год оказываются нарасхват. Вакансии открываются, как только есть, кому их заполнить. Почти как — как две части одного устройства. Это так удивительно и так успокаивает. По-моему, ни разу за все время моего пребывания в Лейсе у нас не было ни одного случая профессиональной непригодности. Кстати, я получила письмо из школы Кордуэйнерс, в Эдинбурге, как вы знаете. Малкастер выходит замуж, и они хотят кого-нибудь взять на ее место. Вы помните Малкастер, Мари? — И Генриетта повернулась к мадам Лефевр, которая за исключением самой мисс Ходж была самой давней обитательницей Лейса и которую, к несчастью, звали просто Мари.
— Конечно помню. Кусок теста без закваски, — ответила мадам, которая судила всех и вся по способности выполнить rond des jambes.[552]
— Славная девушка, — спокойно произнесла Генриетта. — Я думаю, Кордуэйнерс будет хорошим местом для Шины Стюарт.
Вы сказали ей об этом? — спросила мисс Рагг.
— Нет-нет. Я всегда люблю откладывать дела до утра.
— Высидеть идею, как цыплят, хотите вы сказать, — заявила мадам. — Ведь вы, наверно, узнали про Кордуэйнерс еще вчера утром, до ленча, потому что именно тогда пришла последняя почта. А мы слышим об этом только сейчас.
— Это была не очень важная новость, — пояснила, как бы оправдываясь, Генриетта, а потом добавила с почти глупой улыбкой: — Но до меня дошли слухи о настоящем лакомом кусочке, о действительно замечательном шансе для кого-то.
— Расскажите, — попросили все присутствующие. Но Генриетта сказала «нет»; официального запроса не было, и он может вовсе не прийти, так же как заявка, а пока их нет, лучше и не говорить об этом. Но при этом вид у мисс Ходж был очень довольный и загадочный.
— Ну, я иду спать, — сказала мисс Люкс, забирая «Таймс» и поворачиваясь спиной к неуклюжим попыткам Генриетты проявить скрытность. — Вы не уедете завтра до ленча, не правда ли, мисс Пим?
— Знаете, — ответила Люси, неожиданно решившись, — может быть, мне можно остаться на день или два? Ведь ты предлагала мне, правда? — напомнила она Генриетте. — Все было так мило… так интересно оказаться в совершенно ином мире… И здесь так чудесно… — О Господи, все это звучит так по-идиотски! Неужели она никогда не научится вести себя как Люси Пим — знаменитость?
Но ее бормотание потонуло в накатившей волне шумного одобрения. Люси была тронута, заметив отблеск радости даже на лице мисс Люкс.
— Оставайтесь до четверга, прочтите Старшим лекцию вместо меня по психологии, а меня отпустите на конференцию в Лондон, — подхватила доктор Найт, как будто это пришло ей в голову только что.
— О, не знаю как… — начала Люси, артистически выражая сомнение, и посмотрела на Генриетту.
— Доктор Найт всегда готова умчаться на конференцию, — сказала мисс Ходж неодобрительно, но спокойно. — Ну конечно, мы будем рады и почтем за честь, Люси, если ты согласишься прочесть студенткам еще одну лекцию.
— С удовольствием прочту. Так приятно будет почувствовать себя временным членом вашего коллектива, а не просто гостьей. С большим удовольствием прочту. — Подымаясь, она повернулась и подмигнула доктору Найт, а та сжала ее локоть в порыве благодарности. — А теперь мне, наверно, следует вернуться в студенческое крыло.
Люси пожелала всем спокойной ночи и вышла вместе с мисс Люкс. Пока они шли в другую часть дома, Люкс сбоку посматривала на мисс Пим, и, когда Люси поймала ее взгляд, ей показалось, что в этих холодных как лед серых глазах блеснул отсвет дружеского расположения.
— Вам действительно нравится эта menagerie,[553] - спросила Люкс. — Или вы просто ищете еще что-нибудь, что можно приколоть булавками к картону?
Тот же вопрос задала вчера Нат Тарт. Вы приехали собирать образцы? Хорошо, она ответит так же и посмотрит, какова будет реакция Люкс.
— О, я остаюсь, потому что мне этого хочется. Колледж физического воспитания никоим образом не место, подходящее для поиска анормальностей. — Она произнесла это как утверждение, не как вопрос, и ждала ответа.
— Почему? — спросила мисс Люкс. — Работа до седьмого пота, до состояния комы может помутить рассудок, но не может лишить эмоций.
— Правда? — удивилась Люси. — Если бы я устала как собака, у меня несомненно не осталось бы никаких других чувств, кроме желания как можно быстрее лечь спать.
— Когда идут спать смертельно усталыми — все в порядке, это нормально, приятно и безопасно. Болезнь начинается, когда человек просыпается смертельно усталым.
— Какая болезнь?
— Гипотетическая болезнь, о которой мы говорим, — спокойно ответила Люкс.
— Вы хотите сказать, что просыпаться с ощущением смертельной усталости — обычное дело для студенток?
— Я не являюсь их медицинским консультантом, так что я не могу бегать со стетоскопом и устраивать опросы, но должна сказать, что пятеро из шестерых Старших в последнем семестре устают так, что каждое утро для них — тихий кошмар. Когда человек устает до такой степени, его эмоциональное состояние перестает быть нормальным. Маленькое препятствие на пути превращается в Эверест, неосторожное замечание вызывает затаенную обиду, небольшое разочарование неожиданно оказывается поводом для самоубийства.
В голове Люси мелькнуло видение — лица, собравшиеся в саду за чаем. Загорелые, смеющиеся, счастливые лица, беззаботные и в большинстве своем принадлежащие людям, явно уверенным в себе. Где в этом сборище здоровой раскованной молодежи таился хоть малейший намек на напряженность, на дурное настроение? Нигде. Конечно, они ныли по поводу выпавшего на их долю тяжкого жребия, но это случалось редко и жалобы чаще всего бывали комичными.
Возможно, они устали; даже наверняка устали — чудо, если бы было иначе; но устали до анормальности — нет. Поверить в это Люси не могла.
— Вот моя комната, — сказала Люкс и остановилась. — У вас есть что читать? Вряд ли вы взяли с собой книгу, если собирались пробыть здесь только один день. Дать вам что-нибудь?
Она открыла дверь в опрятную комнату, служившую одновременно спальней и гостиной, единственными украшениями которой были одна гравюра, одна фотография и целый стеллаж книг. Из соседней комнаты доносилось журчание шведской речи.
— Бедная фрекен, — неожиданно сказала Люкс, заметив, что Люси прислушивается. — Она так скучает по дому. Как это, наверно, замечательно — посплетничать о своих близких на родном языке. — И увидев, что Люси смотрит на фотографию: — Моя младшая сестра.
— Очень хорошенькая, — сказала Люси и, тут же спохватившись, понадеялась в душе, что в ее голосе не прозвучало и намека на удивление.
— Да. — Люкс задергивала шторы. — Терпеть не могу мотыльков. А вы? Она родилась, когда я была уже подростком, я практически вырастила ее. Сейчас она на третьем курсе медицинского училища. — Люкс подошла и с минуту вместе с Люси смотрела на фотографию. — Так что мне вам дать почитать? Есть что угодно — от Раньона до Пруста.
Люси взяла «Молодых гостей».[554] Она читала их последний раз очень давно, но обнаружила, что улыбается только от одного вида книги. А когда подняла глаза, увидела, что и Люкс улыбается.
— Увы, одной вещи мне никогда не сделать, — с сожалением проговорила Люси.
— Какой?
— Написать книгу, которая заставит всех улыбаться.
— Не всех, — заметила Люкс, и ее улыбка стала шире. — У меня была кузина, которая бросила ее читать на середине. Когда я ее спросила — почему, она ответила: «Совершенно неправдоподобно».
Так, улыбаясь, Люси и отправилась к себе, радуясь, что завтра не надо ехать к поезду, и думая о некрасивой мисс Люкс, которая любит хорошенькую сестру и которой нравятся нелепости. Когда Люси свернула в длинный коридор крыла (длинная палочка буквы «Е»), она увидела Бо Нэш, которая стояла в его конце возле лестницы, подняв руку с колокольчиком на высоту плеча; в следующую секунду крыло наполнил дикий трезвон. Люси застыла на месте, зажав руками уши, а Бо смеялась, с удовольствием размахивая этим ужасным предметом. Она была очень хороша, когда стояла вот так, держа в руке орудие пытки.
— Разве давать звонок «по комнатам» обязанность старосты? — спросила Люси, когда Бо перестала размахивать колокольчиком.
— Нет, Старшие дежурят по неделе каждая. Просто это моя неделя. Я — внизу алфавитного списка, поэтому в каждом семестре на мою долю приходится только одна неделя. — Она посмотрела на мисс Пим и притворно-конфиденциально понизила голос. — Я делаю это с удовольствием: все считают, что это так скучно, все время смотреть на часы, а мне нравится устраивать шум.
Да, подумала Люси, отсутствие нервов и пышущее здоровьем тело; конечно, ей будет нравиться устраивать шум. А потом, почти автоматически: а что, если это не шум ей нравится, а ощущение власти в руках? Но Люси отогнала эту мысль; для Нэш все всегда было легко; всю жизнь, чтобы что-нибудь иметь, ей достаточно было только попросить или взять. Ей не требовалось особого удовольствия, вся ее жизнь была сплошным удовольствием. Ей нравился дикий шум, производимый колокольчиком, — и все.
— Между прочим, — заметила Нэш, — это не звонок «по комнатам». Это «выключить свет».
— Я не представляла себе, что так поздно. Это относится и ко мне?
— Ну конечно нет. Олимпийцы ведут себя, как им угодно.
— Даже если живешь на чужой территории?
— Вот и ваша келья, — сказала Нэш, включила свет и посторонилась, пропуская Люси в маленькую чистую комнатку, веселую, идеально чистую, сверкающую в ничем не затененном свете. После полутонов летнего вечера и изящества георгианской гостиной она выглядела как иллюстрация из какого-нибудь толстого американского каталога. — Я рада, что встретила вас, потому что мне нужно кое-что сказать вам. Не я принесу вам утром завтрак.
— О, все в порядке, — начала было Люси, — мне все равно надо будет встать…
— Я не это хотела сказать. Совсем не это. Просто юная Моррис попросила, нельзя ли ей — она еще Младшая — и…
— Похитительница Джорджа?
— Ой, я и забыла, что вы были при этом. Да, она. Кажется, она считает, что много потеряет в жизни, если не принесет вам завтрак в ваше последнее утро в Лейсе. Так что я сказала, что, если она не станет просить у вас автограф или еще как-нибудь надоедать, пусть несет. Надеюсь, вы не против? Она славный ребенок, и это в самом деле доставит ей огромное удовольствие.
Люси была согласна даже, чтобы завтрак ей принес свирепый негр-убийца, только чтобы она могла съесть свой жесткий, как кожа, тост в мире и покое; она ответила, что будет благодарна юной Моррис и что, между прочим, это утро не будет последним. Она остается и в четверг будет читать лекцию.
— Правда?! О, чудесно! Я так рада! Все будут рады. Вы нам так нужны.
— Как лекарство? — наморщила Люси нос.
— Нет, как тоник.
— Сироп какой-то, — проговорила Люси, но в душе она была довольна.
Так довольна, что, даже закалывая волосы в соответствующих местах маленькими шпильками, она не испытала обычной дикой скуки. Люси намазала лицо кремом и стала с непривычной терпимостью разглядывать его, лишенное грима, блестящее в ярком свете. Без сомнения, ее склонность к полноте предотвращала появление морщин; если ваше лицо похоже на булочку, утешает по крайней мере то, что это свежая булочка. Кроме того, ей пришло на ум, что каждому человеку дается соответствующий его сути облик. Если бы у нее был нос Гарбо, ей пришлось бы одеваться соответственно этому, а если бы у нее были скулы мисс Люкс, ей пришлось бы вести соответствующую этому жизнь. Люси никогда не могла жить соответственно чему-то. Даже Книге.
Вовремя вспомнив, что лампы у кровати нет — студентки не должны заниматься в постели, — она выключила свет, подошла к окну, раздернула занавески и выглянула во двор. Стоя у открытого настежь окна, Люси вдыхала прохладный ночной воздух, наполненный ароматами. Глубокая тишина опустилась на Лейс. Болтовня, звонки, смех, дикие возгласы, топот ног, шум воды, бешено льющейся в ванну, приезды, отъезды — все замерло в этом огромном молчащем доме, темная масса которого виднелась даже в окружающем мраке.
— Мисс Пим!
Шепот донесся из окна напротив.
Разве они видят ее? Нет, конечно нет. Просто кто-то услышал легкий шорох раздвигаемых занавесок.
— Мисс Пим, мы так рады, что вы остаетесь.
Быстро же распространяются слухи в колледже! Не прошло и пятнадцати минут, как Нэш пожелала ей доброй ночи, а новость уже достигла противоположного крыла.
Люси еще не успела ответить, как из невидимых окон, окружающих маленький четырехугольник, донесся хор шепчущих голосов. Да, мисс Пим. Мы рады. Рады, мисс Пим. Да. Да. Рады, мисс Пим.
— Спокойной ночи всем, — сказала Люси.
Спокойной ночи, ответили они. Спокойной ночи. Так рады. Спокойной ночи.
Люси сняла с руки часы, подвинула к кровати стул — единственный стул в комнате, — чтобы положить на него часы и не рыться утром под подушкой, и подумала, как странно, что только вчера утром она не могла дождаться момента, когда уедет отсюда.
И может быть, потому, что никакой уважающий себя психолог не станет иметь дело с такой вышедшей из моды вещью, как Предчувствие, даже самый маленький бесенок из мира Необъяснимого не пришел прошептать на ушко засыпающей Люси: «Уезжай отсюда прочь. Уезжай, пока можно. Уезжай. Прочь отсюда».
VI
Скрипнули по паркету стулья, студентки поднялись с колен и повернулись, ожидая, когда преподаватели выйдут из столовой после утренней молитвы. Люси, став «временным преподавателем», сочла своим долгом присутствовать на этой церемонии в восемь сорок пять, не позволив себе, как раньше, когда она не входила в штат педагогов, завтракать в постели; поэтому последние пять минут она созерцала ряды коленопреклоненных студенток, поражаясь индивидуальности их ног. Одеты в этот ранний час все были одинаково, и все головы были смиренно опущены на руки, но мисс Пим сочла, что ноги так же легко узнаваемы, как и лица. Вот они: упрямые ноги, легкомысленные ноги, аккуратные ноги, скучные ноги, неопределенные ноги — ей достаточно было увидеть поворот голени и кусочек лодыжки, чтобы сказать, чьи это — Дэйкерс, Иннес, Роуз или Бо. Элегантные ноги в конце первого ряда принадлежали Нат Тарт. Значит, монахини не возражали, чтобы их подопечная слушала англиканские молитвы? А эти, похожие на палки, — ноги Кэмпбелл, а эти…
— Аминь, — проникновенно произнесла Генриетта.
— Аминь, — отозвались студентки Лейса и поднялись с колен. Люси вышла вместе с другими преподавателями.
— Зайди и подожди немного, я только разберу утреннюю почту, — сказала Генриетта, — а потом вместе пойдем в гимнастический зал. — И направилась в свою личную гостиную, где ждала указаний маленькая кроткая секретарша, работавшая неполный день. Люси присела у окна, взяла в руки «Телеграф» и только вполуха прислушивалась к тому, о чем они говорили. Написала миссис такая-то — спрашивает о дате показа, миссис такая-то хочет знать, есть ли поблизости отель, где они с мужем могли бы остановиться, когда приедут смотреть на выступление своей дочери; счет мясника следует проверить и показать ему; лектор на последнюю пятницу приехать не сможет; трое Родителей Предполагаемых Учениц хотели бы получить проспекты.
— Кажется, все понятно, — сказала Генриетта.
— Да, — согласилась маленькая секретарша, — я сейчас всем отвечу. Было письмо из Арлингхерста. Что-то я его здесь не вижу.
— Да, — сказала Генриетта. — Мы ответим на него позже, в конце недели.
Арлингхерст, заработало сознание Люси. Арлингхерст. Ну конечно, привилегированная школа для девочек. Что-то вроде женского Итона. «Я училась в Арлингхерсте» — этим все было сказано. Люси на минуту отвлеклась от передовицы «Телеграф» и подумала, что если «лакомый кусочек», сообщение, которого ждала Генриетта, был Арлингхерстом, то это и правда могло вызвать переполох среди заинтересованных Старших. Она уже готова была спросить, не Арлингхерст ли был тем самым «лакомым кусочком», но передумала; отчасти ее остановило присутствие маленькой секретарши, но, скорее, пожалуй, выражение лица Генриетты. У Генриетты, как ни странно, был какой-то настороженный, даже немного виноватый вид. Как у человека, который к чему-то готовится.
Ну и ладно, решила Люси. Если она не хочет ни с кем делиться своей тайной, пусть. Не буду портить ей удовольствие. И они пошли вместе по коридору, тянувшемуся вдоль всего крыла, и вышли в крытый переход, который вел к гимнастическому залу. Здание гимнастического зала располагалось параллельно главному дому и его правому крылу, так что в плане вся постройка имела вид буквы «Е»; тремя горизонтальными черточками были «старый дом», правое крыло и гимнастический зал, а вертикальную линию составляли левое, соединяющее крыло и крытый переход.
Дверь в зал, к которой подходил крытый переход, была распахнута, и из зала доносился самый разнообразный шум: голоса, смех, глухой топот ног. Генриетта остановилась у открытой двери и показала Люси на запертую дверь на другом конце зала.
— Вот что является преступлением в колледже, — сказала она. — Пройти через зал к беговой дорожке, вместо того чтобы обогнуть здание по переходу. Нам пришлось запереть эту дверь. Вряд ли несколько лишних шагов имеют большое значение для студенток, но никакие уговоры и угрозы не помогали, они все равно норовили сократить путь. Вот мы и убрали соблазн.
Генриетта повернулась и по переходу направилась к другому концу здания, где над маленьким портиком находилась лестница на галерею. Поднявшись на несколько ступенек, Генриетта остановилась и показала на какое-то устройство на низких троллеях, помещавшееся в пролете лестницы.
— Вот самый знаменитый предмет в колледже, — проговорила она. — Это наш пылесос, он известен повсюду, вплоть до Новой Зеландии под названием «Нетерпящий».[555]
— А что он не терпит? — спросила Люси.
— Его раньше называли «Не терпящий пыль», а потом сократили до «Нетерпящего». Помнишь фразу, которой учат в школе: «природа не терпит пустоты»? — Генриетта еще чуть-чуть задержала взгляд на устрашающем предмете, явно любуясь им. — Нам пришлось заплатить за него огромные деньги, но он стоит того. Как бы хорошо раньше ни убирали зал, в нем все равно оставались следы пыли; студентки ногами взметали ее в воздух, и она, конечно, всасывалась в дыхательные пути; результатом бывал катар. Не поголовно, естественно, но во всякое время, летом и зимой у той или другой студентки обязательно случался приступ катара. Вот предшественница доктора Найт и предположила, что причиной тому — невидимая пыль, и она была права. Как только мы, истратив колоссальную сумму денег, приобрели «Нетерпящего», катары прекратились. И, — добавила она весело, — в конце концов это принесло экономию, поскольку теперь зал пылесосит Джидди, садовник, и нам не надо платить уборщицам.
Когда они дошли до верха лестницы, Люси перегнулась через перила и посмотрела в пролет:
— Знаешь, он мне почему-то не нравится. Мне кажется, ему дали очень правильное название. В нем есть что-то отталкивающее.
— Он невероятно мощный. И им очень легко работать. Каждое утро уборка занимает у Джидди примерно минут двадцать, и после этого остается, как он сам говорит, «одна арматура». Он очень гордится «Нетерпящим». Ухаживает за ним, как будто это живое существо. — Генриетта открыла дверь на верхней площадке лестницы, и они вошли на галерею.
Архитектура гимнастических залов исключает всякие изыски. Это чисто функциональная постройка. Как правило, это продолговатое помещение, которое освещается окнами, расположенными либо в крыше, либо высоко в стенах. Окна гимнастического зала Лейса были прорезаны там, где стены состыковываются с крышей, а это не очень красиво; однако благодаря этому прямой солнечный свет, льющийся сквозь огромные стекла, ни в какое время дня не мог попасть студенткам в глаза и стать причиной несчастного случая. Большое здание было наполнено золотым мягким сиянием летнего утра. На полу, каждая сама по себе, занимались Старшие. Они разминались, повторяли упражнения, критиковали друг друга, а в короткие минуты приступов веселья просто валяли дурака.
— Они ничего не имеют против зрителей? — спросила Люси, когда они уселись.
— Они привыкли. Редко какой день обходится без визитеров.
— А что находится под галереей? На что они все время смотрят?
— На самих себя, — ответила Генриетта коротко. — Вся стена под галереей — сплошное длинное зеркало.
Люси пришла в восхищение от того, с каким безличным интересом смотрели студентки на отражение в зеркале выполняемых ими движений. Смотреть на себя как на физическую сущность, смотреть с таким критичным беспристрастием — это здорово!
— Что меня больше всего огорчает в жизни, — говорила похожая на голландскую куклу Гэйдж, рассматривая свои вытянутые вверх руки, — так это то, что у моих рук есть изгиб в локте.
— Если бы ты прислушалась к тому, что говорил наш гость в пятницу, и приложила бы усилие воли, они бы теперь у тебя были прямыми, — заметила Стюарт, не прерывая своих акробатических упражнений.
— Может быть, вывернуть их наоборот, — поддразнила Бо Нэш, висевшая, сложившись вдвое, на шведской стенке.
Люси догадалась, что «гостем» был один из появлявшихся по пятницам лекторов, рассказывавших «об интересном», и подумала: он назвал свою лекцию «вера» или «сознание управляет материей», а говорил он о Лурде или о Куэ?
Хэсселт, южноафриканка с плоским, как на картинах примитивистов, лицом, сжимала лодыжки Иннес, стоявшей на руках.
— Опир-р-райтесь на-а-а р-р-руки, ми-и-исс Иннес, — проговорила Хэсселт, пародируя шведский акцент, — это явно была цитата из фрекен. Иннес засмеялась и упала. Глядя на них, раскрасневшихся, улыбающихся (первый раз я вижу Мэри Иннес улыбающейся), Люси подумала, насколько лица этих двух не подходят к здешней обстановке. Лицо Хэсселт гармонировало бы с синим одеянием Мадонны, и пусть бы у ее левого уха помещался малюсенький пейзаж — холмы, замок и дорога. А лицо Иннес подошло бы к портретной галерее на стене старинной лестницы — семнадцатый век, быть может? Нет, он слишком веселый, слишком легко адаптирующийся, слишком лукавый. Скорее, шестнадцатый. Отрешенность, бескомпромиссность, непрощающее лицо, исполненное чувства все-или-ничего.
В дальнем углу Роуз в одиночестве усердно растягивала подколенные связки, бесконечно гладя свои ноги ладонями сверху донизу. На самом деле у нее не было необходимости растягивать подколенные связки после стольких лет постоянных упражнений, так что, по-видимому, это была дань северному упорству. Все, что делала мисс Роуз, она выполняла аккуратнейшим образом. Жизнь — реальность, жизнь — вещь серьезная, жизнь — это длинные подколенные связки и получение хорошего места работы в недалеком будущем. Люси пожелала себе лучше относиться к мисс Роуз и оглянулась, пытаясь отыскать глазами Дэйкерс — как противоядие. Но головки с волосами, как кудель, и веселым личиком, как у пони, нигде не было видно.
Внезапно несвязный шум и болтовня смолкли.
В открытую дверь на противоположном конце зала не вошел никто, но в зале несомненно ощутилось чье-то присутствие. Люси почувствовала его сквозь пол галереи. Она вспомнила, что внизу, у подножья лестницы, там, где стоял «Нетерпящий», была дверь. Кто-то вошел через эту дверь.
Слова команды произнесены не были, но студентки, лишь секунду назад рассыпанные по залу, как бусины из разорвавшегося ожерелья, выстроились, как по волшебству, в одну шеренгу и стояли в ожидании.
Фрекен вышла из-под галереи и посмотрела на девушек.
— А-а гте-е ми-исс Дэйкерс? — спросила она тихим ледяным голосом. Но прежде, чем она это произнесла, Дэйкерс влетела в зал через открытую дверь и, увидев все, резко остановилась.
— Ох, катастрофа! — возопила она и бросилась к свободному месту в шеренге, которое кто-то заботливо оставил для нее. — Ох, простите, фрекен! Очень прошу! Просто…
— Р-р-ра-азве можно опаздывать на показе? — спросила фрекен, проявляя к данному вопросу почти исследовательский интерес.
— О нет, конечно нет, фрекен. Просто…
— Знаем, знаем. Что-то потерялось или сломалось. Е-е-если бы можно бы-ы-ыло приходить сю-ю-юда голой, ми-и-исс Дэйкерс и тогда сумела бы что-нибудь потерять или сломать. Внимание!
Шеренга подтянулась и застыла; слышно было только дыхание девушек.
— Е-е-если ми-и-исс Томас ф-ф-фтянет жи-и-вотт-т, ряд будет, мне ка-а-а-ажется, ровнее.
Томас немедленно повиновалась.
— И-и ми-исс Эпплйард показывает слишком много подборо-о-одка. — Маленькая краснощекая пухлая девушка подтянула подбородок к шее. — Так!
Все повернулись направо и цепочкой по одному зашагали по залу, ступая по твердому деревянному полу почти неслышно.
— Тише, тише! Легче, легче!
Возможно ли это?
Оказывается, возможно. Еще тише и тише ступали тренированные ноги, пока трудно стало поверить, что группа крепких молодых особ женского пола, каждая из которых весила около десяти стоунов,[556] раз за разом по кругу обходила зал.
Люси покосилась на Генриетту и тут же отвела глаза.
Странно, даже больно было видеть нежную гордость, отражавшуюся на широком бледном лице Генриетты. И Люси ненадолго забыла о студентках там, внизу, и стала думать о Генриетте. О Генриетте с ее мешкообразной фигурой и совестливой душой. Генриетте, у которой были старенькие родители и не было сестер, но которая обладала инстинктом наседки. Никто никогда не спал ночами из-за Генриетты и не расхаживал в темноте возле ее дома; и, наверно, даже не дарил ей цветы. (Интересно, вспомнила при этом Люси, где теперь Алан; весной несколько недель назад она всерьез решила было принять предложение Алана, несмотря на его Адамово яблоко. Будет очень мило, думала она тогда, испытать в виде разнообразия заботу о себе. Остановило ее осознание того, что забота должна быть обоюдной. Что ей не избежать штопки носков, например. Люси не любила ноги. Даже ноги Алана.) Генриетте явно была суждена скучная, пусть и достойная уважения, жизнь. Но получилось иначе. Если выражение ее лица в тот момент, когда она за ним не следила, могло служить критерием, Генриетта построила себе жизнь, которая была полной, богатой и дававшей удовлетворение. После встречи во время их первой доверительной беседы она сказала Люси, что десять лет назад, когда она взяла на себя руководство Лейсом, это был маленький и не очень популярный колледж и что она и Лейс расцветали вместе; теперь она фактически партнер, кроме того что директор, партнер в процветающем концерне. Но до того момента, как Люси застала ее врасплох и увидела это выражение на лице Генриетты, она не понимала, насколько работа была единственным смыслом жизни для ее старой подруги. Люси знала, что колледж был миром Генриетты. Генриетта ни о чем другом не говорила. Но погружение в работу — одно, а эмоции, отразившиеся на лице Генриетты, — другое.
Рассуждения Люси были прерваны шумом — вытаскивали снаряды. Студентки закончили изгибаться на шведских стенках, складываясь пополам, в результате чего становились похожи на фигуры на носах древних кораблей, и теперь выдвигали стойки с укосинами-бумами. Голени Люси заныли при воспоминании о боли: как часто эти твердые куски дерева стирали ее ноги до кости. Нет, и правда, одно из преимуществ среднего возраста заключается в том, что не нужно проделывать подобные трюки.
Теперь в зале стояла деревянная стойка, а две стрелы-бума были подняты на высоту вытянутых вверх рук и закреплены в гнездах. Для этого в соответствующие отверстия в стойке вставлялись железные шпильки с деревянными ручками, они и удерживали бумы. Орудие пытки было готово. Однако до натирания голеней еще не дошло. Это будет позже. Пока же имело место «перемещение». Парами, по одной с каждого конца бума, девушки двигались по нему, повиснув на руках, как обезьяны. Сначала вбок, потом назад и, наконец, вращаясь, как волчок. Они проделали все это совершенно безупречно, пока не наступила очередь Роуз вращаться. Она согнула колени, собираясь вспрыгнуть на бум, и тут же опустила руки и посмотрела на преподавательницу. На ее напрягшемся, усыпанном веснушками лице появилось выражение, похожее на панику.
— О, фрекен, кажется, я не смогу, — сказала она.
— Nonsense,[557] ми-исс Роуз, — ответила фрекен, подбадривая девушку, но не выказывая при этом удивления; это явно было повторением сцены, случавшейся и ранее. — Вы делали э-это превосходно, еще когда были Младшей, и сейчас, конечно, сделаете.
В напряженной тишине Роуз вспрыгнула на бум и начала, вращаясь, двигаться вдоль него. До половины все шло великолепно, а потом без всякой видимой причины одна рука ее скользнула мимо бума, тело качнулось в сторону, повиснув на другой руке, она попыталась выровняться, подтягиваясь на удерживающей вес руке, но ритм движения был нарушен, и она спрыгнула на пол.
— Я знала, — проговорила она. — Со мной будет, как с Кэньон, фрекен. Совсем как с Кэньон.
— Ми-исс Роуз, с вами не будет, как было с кем-то. Дело в сноровке. На какой-то момент вы потеряли сноровку, вот и все. Давайте еще раз.
Роуз опять вспрыгнула на бум, торчавший над ее головой.
— Нет! — крикнула шведка, и Роуз спустилась на пол, вопрошающе глядя на нее.
— Не говорить: о Господи, я не могу сделать э-это. Говорить: я это всегда делаю, легко делаю, и теперь тоже. Так!
Еще дважды пробовала Роуз, и оба раза неудачно.
— Оч-чень хорошо, мисс Роуз. Довольно. Сегодня вечером, когда мы кончим заниматься, половину бума поставят так, как сейчас, и у-утром вы придете и попрактикуетесь, пока сноровка не вернется.
— Бедняжка Роуз, — вздохнула Люси, когда оба бума были повернуты плоской, а не закругленной стороной кверху — для упражнений на равновесие.
— Да, очень жаль, — согласилась Генриетта. — Одна из наших самых блестящих студенток.
— Блестящих? — удивилась Люси. Она бы не отнесла это определение к Роуз.
— По крайней мере, в том, что касается физической работы. С письменными заданиями ей бывает трудно, но она все время очень много занимается и выполняет их. Примерная студентка, делает честь Лейсу. Такая жалость, что случился этот нервный срыв. Конечно, это паника. Иногда бывает. И обычно на чем-нибудь совсем простом, как ни странно.
— А что она имела в виду, говоря «как с Кэньон»? Это та девушка, место которой заняла Тереза Детерро, да?
— Да. Как приятно, что ты помнишь. Похожий случай. Кэньон вдруг решила, что не может держать равновесие. Она всегда отличалась прекрасным равновесием, и у нее не было причин терять его. Но она стала качаться из стороны в сторону, спрыгивать на пол на середине упражнения, и кончилось все тем, что она села на буме и не могла встать. Сидела и цеплялась за бум, как маленький ребенок. Сидела и плакала.
— Какое-то внутреннее торможение.
— Конечно. Она вовсе не равновесие боялась потерять. Но нам пришлось отослать ее домой. Мы надеемся, что она отдохнет, вернется и закончит курс. Она была так счастлива здесь.
Была ли? усомнилась Люси. Так счастлива, что произошел нервный срыв! Что превратило девушку, обладавшую прекрасным равновесием, в плачущее дрожащее несчастное существо, цепляющееся за бум?
Люси стала смотреть на упражнения на равновесие, ставшие для бедняжки Кэньон ее Ватерлоо, с новым интересом. Студентки, сделав сальто, по двое вспрыгивали на высокий бум, садились боком, а затем медленно вставали в полный рост на его конце. Медленно поднимается нога, играют на свету мышцы, руки выполняют соответствующие движения. Лица спокойные, сосредоточенные. Тело послушное, уверенное. Закончив упражнение, девушки опускались на пятки, спина прямая, ненапряженная — вытягивали вперед руки, охватывали бум, переворачивались в положение «сидя боком» и из него, сделав сальто вперед, спрыгивали на пол.
Никто не сбился, не сорвался. Точность была идеальной. Фрекен никому не нашла нужным сделать ни одного замечания. Когда упражнение закончилось, Люси обнаружила, что все это время не дышала. Она откинулась, расслабилась и глубоко вздохнула.
— Замечательно. В нашей школе равновесие выполняли гораздо ближе к полу, поэтому оно не производило такого волнующего впечатления.
Генриетта выглядела довольной.
— Иногда я прихожу посмотреть только равновесие, больше ничего. Многим нравятся более эффектные упражнения, прыжки и тому подобное. А я нахожу спокойное управление собственным чувством равновесия очень впечатляющим.
Прыжки, когда дело дошло до них, оказались действительно весьма эффектным зрелищем. Препятствия, по мнению Люси, были устрашающими, и она, как на непостижимое чудо, смотрела на довольные лица студенток. Им это нравилось. Нравилось бросать свое тело в пустоту, лететь по воздуху, не зная, где приземлишься, вертеться и кувыркаться. Напряжение, которое они испытывали до этого, исчезло; в каждом движении сквозила живость, что-то похожее на смех. Жизнь хороша, и это их способ выразить радость жизни. Удивляясь, наблюдала Люси за Роуз, которая споткнулась и потерпела неудачу на простом упражнении на буме, а здесь, в головокружительных прыжках, демонстрировала великолепное искусство, требующее максимум мужества, контроля над собой и «сноровки». (Генриетта была права, физическая работа Роуз была блестяща. Очевидно, она так же блестяще играла и в спортивные игры, ее чувство времени было превосходным. И все же это определение «блестящая» костью застряло в горле Люси. «Блестящая» должно было относиться к кому-то похожему скорее на Бо, прекрасному всем — телом, мыслями, духом).
— Ми-исс Дэйкерс! Убирайте левую руку с опоры. Вы не на гору взбираетесь, правда?
— Я не хотела задерживать ее так долго, фрекен. Правда, не хотела.
— Понятно. Здесь не «хотение» в-и-и-иновато. Повторите, после ми-исс Мэттьюз.
Дэйкерс повторила, и на сей раз заставила свою бунтующую руку отпустить опору в нужный момент.
— Ха! — воскликнула она, довольная собственным успехом.
— Правда, ха, — согласилась фрекен, улыбнувшись. — Координация. Координация — это все.
— Они любят фрекен, не так ли? — обратилась Люси к Генриетте, когда студентки стали убирать снаряды на место.
— Они любят всех преподавателей, — ответила Генриетта, и в ее тоне прозвучал легкий отголосок тона Генриетты-старосты. — Нецелесообразно держать учительницу, которая непопулярна, какой бы хорошей она ни была. С другой стороны, необходимо, чтобы они испытывали некоторое благоговение перед своими наставницами. — Генриетта улыбнулась своей улыбкой их-преосвященство-изволит-шутить; Генриетта не очень была щедра на шутки. — По-разному, но и фрекен, и мисс Люкс, и мадам Лефевр внушают здоровое благоговение.
— Мадам Лефевр? Если бы я была студенткой, наверно, у меня коленки подгибались бы не от благоговения, а просто от ужаса.
— О, Мари очень добра, когда узнаешь ее поближе. Но ей нравится быть одной из легенд колледжа.
Мари и «Нетерпящий», подумала Люси, — две легенды колледжа. У той и у другого есть сходные черты — они и устрашают, и пленяют.
Студентки стояли цепочкой друг за другом и глубоко дышали, поднимая и опуская руки. Заканчивались пятьдесят минут их сконцентрированности на движении, и вот теперь они стояли раскрасневшиеся, ликующие, удовлетворенные.
Генриетта поднялась, собираясь уходить, Люси последовала ее примеру и, повернувшись, увидела, что позади них на галерее сидела мать фрекен. Это была маленького роста полная женщина с пучком волос на затылке; она напомнила Люси фигурки миссис Ной, жены Ноя, какими их делают мастера, изготавливающие игрушечные Ковчеги. Люси поклонилась и улыбнулась той особо-широкой-предназначенной-для-иностранцев улыбкой, которой пользуются, чтобы навести мост над пропастью молчания; а потом, вспомнив, что эта дама не говорит по-английски, но, может быть, говорит по-немецки, попробовала сказать фразу на этом языке. Лицо пожилой женщины просияло.
— Поговорить с вами, фрейлейн, такое удовольствие, что я даже стану говорить по-немецки, — сказала она. — Моя дочь рассказала мне, что вы пользуетесь большой известностью.
Люси ответила, что ей повезло, она добилась успеха, а это, к несчастью, совсем не то, что пользоваться известностью, а потом выразила восхищение работой, которую только что видела. Генриетта, которая в школе учила не современные языки, а классические, умыла руки во время этого обмена любезностями и стала спускаться по лестнице. Люси и фру Густавсен следовали за ней. Когда они вышли на солнце, из двери на другом конце зала появились студентки; кто-то из них побежал, а кто и поплелся по крытому переходу к дому. Последней шла Роуз, и Люси имела все основания заподозрить, что это был точный расчет времени: она хотела встретиться с Генриеттой. Роуз незачем было отставать от других на ярд или два, как она это сделала; очевидно, уголком глаза она увидела приближающуюся Генриетту. Люси в подобных обстоятельствах убежала бы, но Роуз замедлила шаг. Увы, мисс Роуз нравилась ей все меньше и меньше.
Генриетта поравнялась с девушкой и остановилась поговорить с ней. Люси со своей спутницей прошли мимо них, и Люси увидела выражение веснушчатого лица, повернутого к директрисе, внимавшего ее мудрым словам, и вспомнила, что в школе они называли его «елейным». Причем в данном случае Роуз мазала елей лопатой, подумала она.
— А мне-то тоже нравились веснушки, — с сожалением проговорила Люси.
— Bitte?[558]
Но как следует обсудить эту тему на немецком было невозможно. Значение веснушек. Люси мысленным взором видела перед собой толстый том, набитый искусственно составленными словами-контаминациями и предсказаниями. Нет, чтобы объяснить это как следует, нужен французский язык. Очищенный экстракт дружелюбного цинизма. Какая-нибудь хорошенькая краткая фраза, звучащая как взрыв.
— Вы впервые в Англии? — спросила Люси. Они не стали следом за всеми входить в дом, а направились через сад к его переднему фасаду.
Да, фру Густавсен впервые в Англии, и ее больше всего удивляет, как народ, который создает такие сады, как этот, строит в них уродливые здания.
— Конечно, к вашему это не относится, — добавила она. — Этот старый дом очень милый. Он относится к хорошему периоду, да? Но то, что видишь из окна поезда или такси… после Швеции это ужасно. Пожалуйста, не подумайте, что я — как русская. Просто…
— Русская?
— Ну да, наивная, невежественная и уверенная, что в моей стране все делается лучше, чем во всем остальном мире. Просто я привыкла к современным домам, на которые приятно смотреть.
Люси предположила, что фру Густавсен так же отнеслась и к английскому кулинарному искусству.
— Нет-нет, — ответила, к ее удивлению, старушка, — это не так. Дочка объяснила мне. Здесь, в колледже, все связано с требованиями режима, — при этом Люси подумала, что слова «требования режима» были самым деликатным проявлением тактичности, — и потому нетипично. И в отелях тоже нетипично, говорит моя дочь. Она жила на каникулах в разных домах и говорит, что настоящие английские блюда изумительны. Ей не все нравилось. Не всем нравится и наша свежая селедка, в конце концов. Но кусок мяса, зажаренный в духовке, и яблочный пирог со сливками, и холодная ветчина, такая розовая и нежная, — все это восхитительно. Просто восхитительно.
Вот так Люси вдруг обнаружила, что, гуляя по саду в летний день, обсуждает приготовление селедки, обвалянной в овсяной муке и зажаренной, и пирога из овсяной муки на патоке, и девонширское блюдо из фруктов и мороженого, и тушеное мясо с овощами, и просто жареное мясо, и прочие местные яства. Люси скрыла существование пирога со свининой, потому что лично она считала его варварским блюдом.
Завернув за угол дома и направившись ко входной двери, они прошли мимо окон аудитории, где Старшие уже слушали лекцию мисс Люкс. Оконные рамы были подняты насколько можно выше, поэтому все, что происходило в помещении, было видно во всех подробностях. Проходя мимо, Люси бросила мимолетный взгляд на профили сидевших за столами студенток. Она отвела глаза, но тут же сообразила, что это совсем не те лица, которые она видела всего десять минут назад. Пораженная, она снова посмотрела на них. Возбуждение прошло, сошел румянец, забылось удовлетворение от успешной работы. Люси даже показалось, что с них на время сошла молодость. Лица казались усталыми и бездушными.
Не все конечно; Хэсселт по-прежнему сохраняла свой спокойно-благополучный вид. И лицо Бо Нэш сияло яркой красотой, которую ничто не могло разрушить. Но большинство девушек выглядели опустошенными, неописуемо утомленными. У Мэри Иннес, сидевшей у самого окна, появилась складка, идущая от крыльев носа к подбородку, складка, которой здесь нечего было делать еще по крайней мере тридцать лет.
Огорченная, чувствуя себя неловко, как человек, в разгар веселья столкнувшийся с горем, Люси отвернулась от окна, и последнее, что она заметила, было лицо мисс Роуз. Выражение на лице мисс Роуз поразило ее. Оно напомнило ей Уолберсвик.
Но почему Уолберсвик?
Настороженная веснушчатая физиономия мисс Роуз не имела ничего общего с обликом суровой гранд-дамы, какой была тетя Люси.
Конечно нет.
Тогда в чем… стоп! Не тетю она напомнила Люси, а тетину кошку.Выражение на лице у этой северянки, сидевшей в аудитории, было совершенно таким же, какое появлялось на мордочке Филадельфии, когда ей в блюдце наливали сливки вместо молока. И для определения этого выражения существовало одно-единственное слово. Самодовольство.
Люси сочла, и не без причины, что человек, который только что провалился при выполнении обыкновенного упражнения, не имеет оснований быть самодовольным. И самый последний задержавшийся в Люси остаточек жалости по отношению к мисс Роуз умер.
VII
— Мисс Пим, — произнесла Нат Тарт, внезапно появившись возле локтя Люси, — давайте убежим.
Было утро вторника, и колледж был погружен в глубокую тишину выпускных экзаменов. Люси стояла, облокотившись на калитку, которая находилась за гимнастическим залом, и смотрела на заросшее лютиками поле. Здесь кончался сад Лейса и начиналась сельская местность, настоящая сельская местность, к которой уже не могли дотянуться щупальца Ларборо, девственная и чистая. Луг по склону спускался к реке, на другом ее берегу находилась крикетная площадка, а дальше за ней расстилались пастбища, живые изгороди, деревья, желтое, белое, зеленое, дремлющее в свете утреннего солнца.
Люси с трудом оторвала взгляд от загипнотизировавшего ее сияния золотых лютиков и подумала: интересно, сколько же пестрых шелковых платьев у этой бразилианки. Сейчас на ней опять было новое, своей яркостью способное пристыдить английскую утонченность.
— А куда вы предлагаете убежать? — спросила Люси.
— Пойдемте в деревню.
— Здесь есть деревня?
— В Англии всюду найдется деревня, такая уж это страна. Эта деревня называется Бидлингтон. Вон над теми деревьями виднеется флюгер на шпиле ее церкви.
— Похоже, это далековато, — проговорила Люси, которая была неважным ходоком; ей не очень хотелось двигаться с места: давно перед ней не расстилалось поле лютиков, да еще, чтобы было время полюбоваться ими. — Большая деревня?
— О да. Там есть два паба. — Детерро сказала это, как будто определила калибр. — Кроме того, там есть все, что полагается иметь английской деревне. Там ночевала королева Елизавета и скрывался Карл Второй. В церкви есть могилы крестоносцев (среди них один — ну точная копия управляющего нашим ранчо в Бразилии) и на почте продаются открытки с видами всех коттеджей, и эта деревня упоминается в книгах, и…
— Вы хотите сказать, в путеводителях?
— Нет, нет. Понимаете, есть автор, специализирующийся на этой деревне. Я прочла одну его книгу, когда первый раз приехала в Лейс. Она называется «Дождь с неба». Сплошь про груди и кровосмешение. И там есть свои бидлингтонские мученики — шестеро мужчин, которые в прошлом веке забросали камнями полицейское управление и попали в тюрьму. Представить только, что есть страна, где помнят такое! В моей стране пользуются ножами — когда не могут достать револьверы, — и мы заваливаем покойников цветами, рыдаем изо всех сил и через неделю забываем обо всем.
— Ну и…
— Мы могли бы выпить кофе в «Чайнике».
— Немного по-ирландски, не так ли?[559]
Но это уж было слишком даже для умницы иностранки.
— Могу вас уверить, настоящий кофе. У него есть и запах, и вкус. О мисс Пим, пойдемте. Тут идти не больше пятнадцати минут, а сейчас нет еще десяти часов. И здесь нечего делать, пока нас не призовут есть бобы в час дня.
— А вы разве не сдаете экзамены? — поинтересовалась Люси, покорно проходя в калитку, которую открыла перед ней Детерро.
— Наверно, я буду сдавать анатомию. Просто, как говорят у вас, ради интереса. Я прослушала лекции, так что любопытно будет выяснить, что я запомнила. Знать анатомию имеет смысл. Конечно, это тяжкий труд, этот предмет воображение здесь не участвует, но стоит выучить.
— Конечно стоит. Не будешь чувствовать себя дурой в случае необходимости.
— Необходимости? — повторила Детерро, мозг которой не привык работать в таком направлении. — Ах да, понимаю. Но я-то имела в виду, что этот предмет никогда не устареет. Вот ваш предмет — простите, пожалуйста, мисс Пим, — постоянно стареет, верно? Слушать его чудесно, но учить — совсем глупо. Умная мысль не сегодня-завтра становится ерундой, а ключица — это ключица во все времена. Понимаете?
Люси поняла и позавидовала способности так экономно расходовать свои силы.
— Так что завтра, когда Младшие будут сдавать выпускной по анатомии, я тоже попробую. Это вызовет уважение. Бабушка это одобрит. Но сегодня они заняты решением загадок, поэтому я направляюсь в Бидлингтон с очаровательной мисс Пим, и мы будем пить кофе.
— Каких загадок?
Нат Тарт выудила из крошечного кармашка в своем платье сложенный листок бумаги, развернула его и прочла: «Если мяч находится над пограничной линией, но не коснулся земли, а игрок, стоящий на поле, бьет по мячу или ловит его и снова вводит в игру, какое решение вы примете?»
Наступило молчание, более красноречивое, чем любые слова. Детерро сложила исписанную бумажку и снова убрала ее в карман.
— Откуда у вас это, если они еще только сдают «игры»?
— Мне дала мисс Рагг. Она сказала, что это, наверно, позабавит меня. Так и есть.
Тропинка, спускаясь к реке, вилась между желтым полем и белыми изгородями. У маленького мостика они остановились посмотреть на темневшую под тенистыми ивами воду.
— Вон там, — сказала Детерро, указывая на ровную лужайку на другом берегу реки, — там площадка для игр. Зимой она утопает в грязи, и они набивают прутья на подошвы своих туфель, чтобы не скользить. — Люси подумала, что если бы Нат Тарт сказала «они носят кольца в носу, чтобы придать себе привлекательность», тон был бы таким же. — А теперь мы пойдем вдоль реки до следующего мостика и выйдем там на дорогу. Это не настоящая дорога, просто тропинка.
Она молча пошла по утопавшей в тени тропинке, похожая на яркую стрекозу, изящная и чужая. Люси удивилась, что Нат Тарт так долго может хранить молчание.
Когда они подошли к дороге, Детерро наконец заговорила:
— У вас есть с собой деньги, мисс Пим?
— Нет, — ответила Люси, останавливаясь в смущении.
— И у меня нет. Но это ничего. Мисс Невилл даст нам кофе в кредит.
— Кто это, мисс Невилл?
— Хозяйка чайной.
— Но ведь обыкновенно так не делается?
— Ну, мне можно. Я всегда забываю деньги. Мисс Невилл — прелесть. И не чувствуйте из-за этого неловкости, мисс Пим, дорогая. Ко мне в деревне хорошо относятся, вы увидите.
Деревня была именно такой, какой ее описала Детерро. И мисс Невилл тоже. И «Чайник». Это была чайная, одна из тех, что так презирают современные кафе; но эти чайные приветствует то поколение любителей чая, которое еще помнит засиженные мухами комнаты за лавкой деревенского булочника, примитивные лепешки со смородиной, похожей на запеченных насекомых, плохо вымытые чашки с трещинами и черный невкусный чай.
Здесь было все, что обычно ругают литературно образованные завсегдатаи деревенских гостиниц: фарфор с рисунком из индейских деревьев, темные дубовые столы, полотняные занавески в стиле короля Якова Первого,[560] букеты цветов в коричневых, не покрытых глазурью кувшинах и даже витрина в окне. Однако для Люси, которая еще во времена Алана научилась ценить ощущение «уюта», даваемое пыльной стариной, здесь все было полно очарования. Вкусно пахло пирогами, только что вынутыми из духовки; кроме высокого окна на улицу в комнате было еще одно окно, выходившее в сад, пестревший всевозможными цветами. Здесь царили мир, прохлада и радушие.
Мисс Невилл, полная женщина в ситцевом переднике, встретила Детерро как старую добрую знакомую и спросила, не «играет ли она в хоккей, как говорят на вашей стороне Атлантики». Нат Тарт оставила без внимания такое отождествление ее самой с глухими закоулками Бруклина.
— Это мисс Пим, она пишет книги по психологии и она наш гость в Лейсе, — вежливо представила она Люси. — Я сказала, что здесь можно выпить настоящего кофе и вообще встретить цивилизованное обхождение. У нас совсем нет денег, ни у той ни у другой, но мы очень хотим есть, а заплатим мы вам потом.
Для мисс Невилл это, похоже, было совершенно нормальное предложение, и она ушла на кухню готовить кофе, не выказав ни удивления, ни протеста. В этот ранний час посетителей не было, и Люси обошла комнату, разглядывая старые гравюры и современные вещицы. Ей понравилось, что мисс Невилл сохранила медный дверной молоток, хоть рядом с ним и лежали циновки из рафии. Потом они с Детерро сели за столик у окна, выходившего на деревенскую улицу. Раньше, чем им принесли кофе, в комнату вошла пара, муж и жена, средних лет, приехавшие в машине. Похоже, они искали именно эту чайную. Машина была такая, какой обычно пользуются провинциальные врачи — прослужившая уже два или три года и экономно расходующая бензин. Однако женщина, вышедшая из машины и, смеясь, что-то сказавшая мужу, совсем не была похожа на типичную жену врача. Седая, стройная, с длинными ногами и узкими ступнями, обутыми в хорошие туфли. Люси с удовольствием смотрела на нее. Нечасто в наши дни можно увидеть красивую фигуру; щегольство заменило стать.
— В моей стране у такой женщины был бы шофер и лакей в ливрее, — заявила Детерро, одобрительно посмотрев на женщину и подозрительно на машину.
Более того, подумала Люси, глядя на входившую, не так часто встретишь немолодых мужа и жену, которые бы так радовались обществу друг друга. У них был вид отдыхающих. Войдя, они как бы изучающе внимательно осмотрелись.
— Да, это здесь, — сказала женщина. — Вон окно в сад, о котором она рассказывала, а вот и гравюра со Старым Лондонским мостом.
Они спокойно, нисколько не стесняясь, обошли комнату, разглядывая ее обстановку, и сели за столик у противоположного окна. Люси с облегчением отметила, что мужчина был именно такого типа, какого бы она выбрала в супруги для этой женщины: немного мрачноват, быть может, больше погружен в себя, чем жена, но очень хорош. Он напоминал Люси кого-то, но она не могла вспомнить — кого; кого-то, кем она восхищалась. Напоминал своими бровями. Темными, прямыми, густыми, низко нависающими над глазами. Костюм на нем был, как заметила Люси, очень старый, хорошо отутюженный и в полном порядке, но имеющий вид много раз бывавшего в чистке, что и выдает возраст одежды. Твидовый костюм женщины тоже выглядел достаточно потертым, а чулки были заштопаны — очень аккуратно заштопаны — у щиколотки. Ее руки выдавали привычку к домашней работе, а красивые седые волосы были вымыты дома и незавиты. Что же заставляло эту женщину, которая явно вела постоянную борьбу с недостатком средств, так радоваться? Сознание того, что вот она отдыхает вместе с любимым мужем? От этого ли ее серые сияющие глаза светились почти детской радостью?
Мисс Невилл вошла в комнату с кофе и большой тарелкой нарезанного кусками пирога, пахнущего ванилью, замечательно свежего, с хрустящей корочкой по краям. Люси решила не думать о своем весе и получать удовольствие. Такое решение, увы, она принимала слишком часто.
Разливая кофе, она услышала, как мужчина говорит:
— Доброе утро. Мы приехали с самого Запада попробовать ваши жаренные на сковороде пирожки. Может быть, вы приготовите их для нас?
— Если вы заняты, то не надо, — сказала женщина, на руках которой были заметны следы домашней работы. — Мы поедим этого пирога, он пахнет так вкусно.
Нет, мисс Невилл сейчас приготовит жареные пирожки. Тесто у нее заранее не замешано, с сожалением пояснила она, поэтому пирожки не будут такими замечательными, как когда они делаются из хорошо подошедшего теста, но не так часто ей заказывают их летом.
— Да, я тоже так думаю. Но наша дочь, она учится в Лейсе, так часто рассказывала о них, и это, быть может, наш единственный шанс их попробовать.
Женщина улыбнулась, похоже, наполовину, — мысли о дочери, наполовину — собственному ребячеству.
Значит, это родители кого-то из студенток.
Интересно кого же, подумала Люси, наблюдая за ними поверх своей чашки с кофе.
Может быть, Бо. О нет, Бо из богатой семьи. Тогда кого же?
Она бы не прочь приписать их Дэйкерс, но были сомнения. Головка с волосами как кудель вряд ли могла быть унаследована от этого серьезного брюнета, да и такая спокойная умная женщина не могла родить такую невероятную сумасбродку, как Дэйкерс.
И тут Люси внезапно поняла, чьи это брови.
Мэри Иннес.
Это родители Мэри Иннес. И каким-то удивительным образом стала понятна сама Мэри Иннес. Ее серьезность; то, что кажется, будто она принадлежит к другому веку; то, что она не считает жизнь очень веселой штукой. Иметь определенные представления о том, как хотелось бы жить и не иметь достаточно денег, чтобы жить по этим стандартам, — не очень радостная комбинация для девушки, будущее которой целиком зависит от того, насколько успешно закончит она курс обучения.
В тишине, наступившей после ухода мисс Невилл, Люси услышала собственный голос:
— Простите, ваша фамилия Иннес?
Они повернулись, изумленные; потом женщина улыбнулась и проговорила:
— Да. Мы где-нибудь встречались?
— Нет, — ответила Люси, покраснев слегка, как это обычно бывало, когда из-за собственной импульсивности она оказывалась в неловком положении. — Просто я узнала брови вашего мужа.
— Мои брови?! — удивился мистер Иннес, но его жена, соображавшая быстрее, рассмеялась.
— Конечно! — воскликнула она. — Мэри! Значит, вы из Лейса? Вы знаете Мэри? Когда она произносила эти слова, ее лицо засветилось, а голос зазвенел. «Вы знаете Мэри?» Значит, она так счастлива сегодня потому, что увидит дочь?
Люси объяснила, кто она такая, и представила Детерро, которая была необыкновенно довольна, обнаружив, что эта очаровательная пара все о ней знает.
— Мы знаем о Лейсе почти все, — сказала миссис Иннес, — хотя никогда там не были.
— Никогда не были? Кстати, может быть, вы пересядете к нам, и мы вместе выпьем кофе?
— Лейс слишком далеко, мы не могли приехать и осмотреть его прежде, чем Мэри поступила в этот колледж. Поэтому мы решили подождать, пока она закончит курс, и приехать на показательные выступления.
Люси сделала вывод, что только непосильные расходы вынудили мать Мэри Иннес ждать несколько лет, иначе она бы приехала в Лейс просто посмотреть, как живет ее дочь.
— А теперь вы едете туда, конечно?
— Нет. Как ни странно, нет. Мы едем в Ларборо, мой муж — он врач — должен присутствовать там на съезде. Несомненно, мы могли бы заехать в Лейс, но сейчас неделя выпускных экзаменов, и, если родители без всякой причины неожиданно свалятся ей на голову, это только отвлечет Мэри. Трудновато, правда, проехать мимо, когда она — так близко, но мы так долго ждали, подождем еще дней десять. Вот только мы не смогли удержаться, свернули с главного Западного шоссе и заехали в Бидлингтон. Мы не думали, что встретим здесь кого-нибудь из Лейса рано утром, особенно в экзаменационную неделю, а нам очень хотелось увидеть место, о котором Мэри столько рассказывала.
— Ведь в день показательных выступлений у нас не будет времени, — добавил доктор Иннес. — Так много надо будет посмотреть. Удивительно разностороннее обучение, не правда ли?
Люси согласилась и рассказала, какими разнообразными показались ей миры, представшие перед ней в первый вечер в преподавательской гостиной.
— Вот-вот. Мы были немного удивлены, когда Мэри избрала эту специальность, — она никогда не проявляла особого интереса к спорту, я думал, что она пойдет учиться медицине, но она сказала, что хочет получить многогранную профессию, и, похоже, она нашла то, что хотела.
Люси вспомнила, какая целеустремленность виделась ей в этих прямых бровях. Она была права в своих физиономических наблюдениях. Если у Мэри Иннес есть честолюбивые замыслы, она с ними легко не расстанется. Право, брови — полезнейшая вещь. Когда психология выйдет из моды, она, Люси, напишет книгу о физиономистике. Под псевдонимом, конечно. К физиономистике не очень хорошо относятся в среде интеллигенции.
— Ваша дочь очень красива, — неожиданно сказала Детерро. Она проглотила большой кусок пирога и, почувствовав удивление четы Иннес, которые внезапно замолчали, посмотрела на них: — В Англии не принято поздравлять родителей с красотой их дочерей?
— Нет-нет, — торопливо сказала миссис Иннес, — все в порядке, просто мы никогда не считали Мэри красивой. Конечно, на нее приятно смотреть; по крайней мере, мы так думаем; но родители всегда склонны несколько преувеличивать достоинства единственной дочери. Она…
— Когда я впервые приехала в Лейс, — снова заговорила Детерро, протягивая руку еще за одним куском пирога (как только ей удается сохранять фигуру!), — шел дождь, на деревьях, как дохлые летучие мыши, висели грязные листья и падали на всех, а все носились кругом и кричали: «О, дорогая, как поживаешь? Ты хорошо провела каникулы? Дорогая, ты не поверишь, я оставила свою новую хоккейную клюшку на платформе в Крью!» И тут я увидела девушку, которая не бегала и не кричала и была похожа на портрет моей прапрапрабабушки, который висит в столовой дома внучатого племянника моей бабушки, и я сказала себе: «В конце концов, здесь не сплошное варварство. Если бы это было так, этой девушки здесь бы не было. Остаюсь». Мисс Пим, пожалуйста, можно еще кофе? Ваша дочь не только красива, она единственная красивая девушка в Лейсе.
— А как же Бо Нэш? — проявила лояльность Люси.
— В Англии на Рождество — мисс Пим, пожалуйста, чуть-чуть молока — журналы стараются быть развлекательными и печатают яркие красивые фотографии, которые можно окантовать и повесить, к примеру, над плитой на кухне, чтобы порадовать сердца кухарки и ее друзей. Эти картинки очень блестят…
— Ну, это явная клевета! — воскликнула миссис Иннес. — Бо хорошенькая, очень хорошенькая, и вы знаете это. Я забыла, — обратилась она к Люси, — что вы всех их знаете. Бо — единственная, с кем мы знакомы; она гостила у нас однажды на каникулах на Пасху; когда на Западе погода мягче, чем в остальной Англии; а Мэри один раз жила у них несколько недель летом. Мы были в восторге от Бо. — Она повернулась к мужу, ожидая его поддержки, но он, казалось, слишком погрузился в свои мысли.
Доктор Иннес встрепенулся — у него был крайне утомленный вид перегруженного работой G. Р.,[561] наконец-то присевшего отдохнуть, — и его мрачноватое лицо приняло мальчишеское, слегка зловредное выражение, сквозь которое просвечивала нежность.
— Было очень непривычно видеть, как наша всезнайка, полагающаяся только на себя, позволяет собой командовать, — проговорил он.
Миссис Иннес явно не ожидала такого высказывания, но решила извлечь из него пользу.
— Быть может, — сказала она, как будто эта мысль только что пришла ей в голову, — потому, что мы всегда относились к самостоятельности Мэри как к чему-то само собой разумеющемуся, ей было приятно дать покомандовать собой. — А затем, обращаясь к мисс Пим: — Мне кажется, они так дружны, потому что дополняют друг друга. Я рада этому, Бо нам очень нравится, и, потом, у Мэри никогда не было близкой подруги.
— Очень напряженная программа обучения, правда? — произнес доктор Иннес. — Я иногда заглядываю в тетради дочери и поражаюсь, зачем им дают все то, что даже врачи забывают, как только заканчивают медицинские школы.
— Сечение villi, — вспомнила Люси.
— Да, что-то вроде этого. Похоже, вы за четыре дня стали очень эрудированной в медицине.
Появились пирожки, и, несмотря на то что тесто «не поднялось», ради того чтобы их попробовать, стоило приехать с самого Запада. Всем было очень весело. Люси чувствовала, что комната действительно была как будто пропитана радостью, что радость окутывала все, как лившийся снаружи солнечный свет. Даже лицо доктора приобрело довольное и размягченное выражение. Что же касается миссис Иннес, Люси редко приходилось видеть, чтобы на лице женщины отражалось такое счастье — одно то, что она находится в комнате, где часто бывала ее дочь, казалось, было чем-то вроде общения с ней, а через несколько дней она увидит ее саму и они вместе порадуются ее успехам.
«Если бы я вернулась в Лондон, — подумала Люси, — мне никогда не пришлось бы пережить подобное. Что бы я сейчас делала? Одиннадцать часов. Пошла бы погулять в парк и решала бы, как избежать приглашения в качестве почетного гостя на какой-нибудь литературный обед. Вместо этого у меня есть вот что. И все это потому, что доктору Найт захотелось поехать на медицинскую конференцию. Нет, потому, что давным-давно Генриетта заступилась за меня в школе. Подумать только, все, что происходит сейчас, в это залитое солнцем английское июньское утро, началось в темной школьной раздевалке, заполненной маленькими девочками, надевающими галоши. Что же такое первопричина вообще?
— Было очень приятно, — сказала миссис Иннес, когда все опять вышли на деревенскую улицу. — И как славно, что скоро мы снова встретимся. Ведь вы будете в Лейсе в день показательных выступлений?
— Надеюсь, буду, — ответила Люси и подумала, удобно ли так долго пользоваться гостеприимством Генриетты.
— И помните, что вы обе дали честное слово и торжественно обещали никому не рассказывать о нашей сегодняшней встрече, — сказал доктор Иннес.
— Обещаем, — ответили Люси и Детерро, глядя, как их новые друзья усаживаются в машину.
— Как ты думаешь, я смогу развернуться за один раз и не задеть здание почты? — спросил доктор Иннес в раздумье.
— Мне бы ужасно не хотелось увеличивать число бидлингтонских мучеников, — проговорила его жена. — Скучное общество. С другой стороны, что за жизнь без риска?
Доктор Иннес запустил мотор и проделал рискованный маневр. Ступица его переднего колеса оставила легкую царапину на девственно-белой стене почты.
— Метка Джервиса Иннеса, — сказала миссис Иннес и помахала рукой. — До дня показательных выступлений — и молите Бога о хорошей погоде! Au revoir![562]
Посмотрев, как, становясь все меньше и меньше, удаляется по деревенской улице машина, Люси с Детерро повернули к полевой тропинке и двинулись к Лейсу.
— Какие милые люди! — проговорила Детерро. Очаровательные. Подумать только, мы бы никогда с ними не познакомились, если бы вам сегодня утром до смерти не захотелось выпить хорошего кофе.
— Скажу вам по секрету, мисс Пим, это тот тип англичан, к которому все другие нации испытывают необыкновенную зависть. Такие спокойные, такие воспитанные, так приятно на них смотреть. Ведь они бедны, вы заметили? Блузка у нее совсем выгорела. Она когда-то была голубой, я заметила, когда она нагнулась и воротник приподнялся. Несправедливо, что такие люди бедны.
— Нелегко ей было проехать мимо, не повидав дочь, когда она так близко, — задумчиво сказала Люси.
— Ах, у нее есть характер, у этой женщины. Она правильно сделала, что не поехала. Старшие на этой неделе не могут интересоваться посторонними делами. Выньте из них хоть одну-единственную частичку, и — хоп! — все рухнет. — Нат Тарт сорвала росшую на берегу у моста крупную маргаритку и фыркнула (это был первый смешок, который Люси услышала от нее): — Интересно, как мои коллеги справляются с загадками типа «одна-нога-за-линией-поля».
А Люси подумала: интересно, как ее саму опишет Мэри Иннес, когда в воскресенье будет писать родителям.
Как сказала миссис Иннес, «забавно будет вернуться домой и прочесть, что напишет о вас Мэри в воскресном письме». Это похоже на теорию относительности. Как будто вернуться в прошлый вечер.
— Странно, что Мэри Иннес напоминает вам чей-то портрет, — сказала она Детерро. — Потому, что мне тоже.
— Ах да, прабабушку моей бабушки. — Детерро бросила маргаритку в воду и смотрела, как течение уносит ее под мост и дальше, так что скоро она скрылась из виду. — Я не стала говорить этого милым Иннесам, но моя прапрапрабабушка не пользовалась особой любовью у своих современников.
— О! Может быть, она была застенчивой? То, что мы называем комплексом неполноценности?
— Мне об этом ничего не известно. Ее муж умер очень вовремя. Для женщины всегда неприятно, когда ее муж умирает очень вовремя.
— Вы хотите сказать, она его убила?! — От испуга Люси остановилась как вкопанная.
— О нет. Скандала не было, — произнесла Детерро с укоризной. — Просто ее муж умер очень вовремя. Он слишком много пил, был заядлым игроком и не очень привлекательным человеком. И была гнилая ступенька на верху лестницы. Очень высокой лестницы. И однажды он наступил на нее, когда был пьян. Вот и все.
— А она потом еще раз вышла замуж? — спросила Люси, переварив это сообщение.
— О нет. Она ни в кого не была влюблена. У нее был сын, которого надо было воспитывать, и поместья — теперь они были в безопасности, когда некому стало проигрывать их в карты. Она прекрасно управляла поместьями. От нее и моя бабушка унаследовала свой талант. До того, как приехать из Англии, чтобы выйти замуж за дедушку, бабушка никуда не выезжала из своего округа, Чарльз-стрит, Первый Западный. А через полгода она управляла поместьем. — Детерро вздохнула, выражая восхищение. — Удивительные люди, эти англичане.
VIII
Мисс Пим сидела в роли наблюдателя на письменном экзамене по патологии, чтобы дать мисс Люкс время для проверки и проставления оценок предыдущих работ. На цыпочках вошла маленькая секретарша мисс Ходж и почтительно положила перед Люси на стол пришедшую на ее имя почту. Мисс Пим, хмурясь, просматривала экзаменационные вопросы и думала, как плохо соотносятся слова типа artritis gonorrhoica или suppurative teno-synovitis с чистым воздухом летнего утра. Emphysema звучала не так ужасно; такое название садовник мог бы дать какому-нибудь цветку. Какому-нибудь сорту водосбора, например. И Kyphosis Люси могла представить себе как родственника георгина. Myelitis был бы, наверно, мелким вьющимся растением с ярко-синими цветами, которые бы имели тенденцию розоветь, если за ними плохо ухаживали. A tabes dorsalis явно был экзотичным цветком из рода тигровых лилий, дорогим и чуть-чуть неприличным.
Chorea. Sclerosis. Pes Varus.
Господи Боже, неужели эти юные девицы знают все это? Назначить лечение той или иной болезни в зависимости от того, была ли она: а) наследственной, б) вызвана травмой или в) вызвана истерией? Ну-ну. Как она могла так заблуждаться, что даже испытывала некое покровительственное чувство по отношению к этим юным созданиям? С возвышения, на котором стоял ее стол, мисс Пим с нежностью посмотрела на студенток. Все усерднейшим образом писали. Лица были сосредоточенные, но не очень встревоженные. Только Роуз казалась обеспокоенной, и Люси подумала, что ей больше идет выражение беспокойства, чем самодовольства, и от сочувствия удержалась. Дэйкерс, не отрываясь, писала, водя носом по бумаге, высунув язык; заканчивая одну строчку и начиная другую, она машинально вздыхала. Бо имела самоуверенный и независимый вид, как будто она писала приглашения; сомнения никогда не тревожили ее; ни ее нынешняя жизнь, ни будущее положение не таили в себе никакой опасности. Лицо Стюарт под ярко-рыжими волосами было бледным, но на губах играла легкая улыбка: будущее Стюарт тоже было определено. Она поедет в школу Кордуэйнерса, вернется домой, в Шотландию, и заберет с собой свои диски. В субботу Люси собиралась на вечеринку, которую устраивала у себя в комнате Стюарт. («Мы не приглашаем преподавателей на свои вечеринки, но, поскольку вы не штатный преподаватель, вас можно позвать как друга».) Четверо Апостолов, занявшие первый ряд, время от времени бросали друг на друга ободряющие взгляды; это была их будущая специальность, и мелочи, которых они не знали, можно было спокойно не упоминать. Манчестер действительно должен был получить за свои деньги нечто стоящее. Иннес, сидевшая у окна, изредка подымала голову и смотрела в сад, как бы ища поддержки; ей не требовалась помощь, это явствовало из того, как неспешно и спокойно продвигалась она в своих ответах на вопросы; она поворачивалась взглянуть в сад как бы за неким духовным утешением, словно говорила: «И ты, Красота, все еще здесь. Мир все еще существует за стенами аудитории». Иннес выглядела так, как будто колледж забрал все ее силы. Складка, идущая от носа ко рту, все еще оставалась на месте.
С аккуратно убранного стола мисс Люкс Люси взяла нож для бумаги и стала разбирать полученную почту. Три афиши. Распечатывать их, нарушая тем самым священную тишину, было необязательно. Квитанция. Годовой отчет. Большой квадратный темно-голубой конверт из очень плотной и очень дорогой бумаги, на клапане которого ярко-красными выпуклыми буквами было отпечатано: «МИЛЛИСЕНТ КРЭЙ» (действительно, инстинкт саморекламы у актрис не знает пределов); в нем наверняка содержалось пять строчек, написанных размашистым почерком, с огромными заглавными буквами, выражающих благодарность за ее, мисс Пим, вклад в Благотворительный Фонд. Оставалось только письмо миссис Монморанси. Его-то Люси и вскрыла.
«Маддам.
Я зделала как вы сказали и послала посылку Фред отнес ее на Вигмор стрит по дароге на роботу квитанцию фкладываю положила голубую и блуску и белье как вы сказали а ваша розовая ночная рубашка есчо не вернулас с прачечной так я положила бежевую надеюс ничево.
Маддам, пожалуста не думайте што я много себе пазваляю но это хорошо. Это не жизнь для женщины с книгами и без молодой компании пожалуста не думайте што я себе много пазваляю но вы самая милая леди у каторой я когда нибудь роботала Фред гаварит то же самое гаварит посмотреть вокруг не то что писать пожалуста не думайте што я много себе пазваляю.
С уважением
Ваша миссис Монморанси.
P. S. Железную счетку засунула в замшевые туфли».
В последующие пятнадцать минут Люси переживала разнообразные чувства: она была тронута отношением к ней миссис Монморанси, рассердилась на прачечную и решила, что зря платит налог на образование. Не закрытые средние школы нужны, а много начальных, где в классах учеников будет не более десяти-двенадцати в каждом, где будущие миссис Монморанси научатся Трем Р.[563] Старый МакЛин, покойный садовник у них дома, бросил школу, когда ему было двенадцать лет, но он мог написать письмо не хуже, чем ее любой университетский знакомый. А почему? Потому что он ходил в маленькую деревенскую школу, где были небольшие классы и хороший учитель. И еще, конечно, потому, что он жил в эпоху, когда Три Р значили больше, чем бесплатная раздача молока в школах. Его научили грамоте, а остальное уж зависело от него самого. Он жил на лепешках из белой муки и крепком чае и умер, до конца оставаясь крепким и бодрым, в возрасте девяноста двух лет.
От этих размышлений Люси оторвала мисс Роуз. На лице у мисс Роуз появилось новое выражение, и Люси это новое выражение совсем не понравилось. Ей приходилось видеть на лице мисс Роуз отчаяние, елейность, самодовольство, тревогу, но до сих пор у нее не было такого вида, будто она что-то скрывает.
Что она могла скрывать?
Люси с любопытством минуту-две наблюдала за девушкой.
Роуз подняла голову, поймала взгляд мисс Пим и быстро отвела глаза. Выражение «как будто она что-то скрывала» исчезло с ее лица. Его сменило выражение «деланное безразличие». Люси прекрасно знала это выражение. Недаром она была классной руководительницей четвертого класса начальной школы. Когда кто-нибудь ел запретные сласти, у него на лице обязательно появлялось такое выражение. Оно же бывало на лицах тех, кто на уроках французского делал задания по арифметике.
Оно присутствовало и на лицах тех, кто списывал на экзаменах.
Что там говорила Генриетта? «Ей трудно даются письменные задания».
Так.
Эмфизема и прочие штуки, звучащие как названия цветов, — все это было слишком трудно для мисс Роуз, вот она и решила немного помочь себе. Вопрос был в том, что это за помощь и где она? На коленях ее нет. Столы были открыты спереди, так что держать на коленях шпаргалку было опасно. И на ногтях вряд ли можно было написать многое из предмета патологии; ногти годились только для формул. Гораздо вероятнее — записки в рукаве, либо укрепленные с помощью резинки, либо просто спрятанные; но у этих девушек рукава только до локтя. Тогда что же? Где? А может быть, она просто заглянула в листки О'Доннелл, сидевшей впереди, или Томас — справа от нее?
Люси переждала пару минут, снова обратившись к своей корреспонденции. Все школьные учительницы знали эту уловку. Безразличным как будто взглядом она обвела Старших и вернулась к своим письмам. Потом подняла глаза и направила их прямо на Роуз. Голова Роуз склонилась низко над бумагой, а в ее левой руке был зажат носовой платок. Ну, даже на носовом платке невозможно написать что-нибудь полезное по предмету с таким обширным материалом, как патология, и платком трудно манипулировать; с другой стороны, носовой платок не был в Лейсе привычным предметом обихода, и наверняка сейчас никто больше не сжимал его в руке и не вытирал им время от времени нос. Люси решила, что каковы бы ни были источники информации Роуз, они находились в ее левой руке. Стол Роуз стоял в конце ряда у окна, так что слева была стена. Все, что она проделывала левой рукой, никто не мог видеть.
Ну, подумала Люси, что в таких случаях делать?
Пройти через всю комнату, попросить показать платок и обнаружить, что это квадратный кусочек материи, девять на девять дюймов, с инициалами хозяйки, аккуратно вышитыми в углу, чисто выстиранный, как это делают в хорошей прачечной?
Потребовать платок и вызвать скандал, который, как ураган, обрушится на всех Старших в момент, когда они наиболее уязвимы?
Позаботиться, чтобы у Роуз не было возможности воспользоваться своими источниками информации, и промолчать?
Последнее, очевидно, было самым разумным. Вряд ли до настоящего момента девушка успела по-серьезному воспользоваться этой помощью; по отношению к другим не будет несправедливостью сделать ей этот маленький подарок.
Люси поднялась, вышла из-за стола, направилась в другой конец комнаты и встала там, прислонившись к стене. Томас сидела справа от нее, Роуз слева. Томас на минуту перестала писать и, быстро улыбнувшись, посмотрела на Люси. Роуз не подняла головы. Люси увидела, как горячая кровь прихлынула к шее девушки и та стала пунцовой. При этом она тут же убрала носовой платок — или что там было у нее в руке? — в карман своей туники.
Ну вот, она расстроила злонамеренные махинации, но удовлетворения при этом не почувствовала никакого. Люси впервые пришло в голову, что то, что в четвертом младшем выглядело предосудительной шалостью, на выпускных экзаменах у Старших было тошнотворно отвратительно. Она была рада, что это Роуз, а не кто-нибудь другой. Люси вернулась к своему столу на возвышении; насколько она могла видеть, Роуз больше не делала попыток помочь себе. Более того, она явно испытывала затруднения. И Люси разозлилась на себя за то, что ей стало жалко Роуз. Да, жалко. Жалко. Роуз. В конце концов, девушка работала. Работала, как сумасшедшая, если все говорили правду. Она не искала легкого пути, чтобы сэкономить силы. Просто теоретические знания давались ей трудно, почти до невозможности трудно, и в отчаянии она не устояла перед искушением.
Такой взгляд на вещи немного улучшил настроение Люси, и остаток времени на посту наблюдающей она провела совершенно спокойно, размышляя о природе шпаргалок. Она еще раз просмотрела экзаменационные вопросы, поахала над огромным количеством материала, включенного в них, и подивилась, как Роуз удалось изобрести что-то полезное и одновременно невидимое. Люси очень хотелось расспросить Роуз.
Самое вероятное объяснение — были две или три темы, которых Роуз боялась, и в помощь себе она нацарапала что-то на клочке бумаги.
Иннес первая собрала исписанные листки и сколола их скрепкой. Потом она перечитала странички, время от времени делая поправки, положила стопку на стол, несколько секунд посидела, отдыхая, впитывая в себя красоту сада, потом тихо поднялась, прошла вперед и положила свою работу на стол перед мисс Пим.
— О-о-о-ой, катастрофа! — завопила Дэйкерс. — Кто-нибудь уже закончил? А у меня еще полтора вопроса впереди!
— Тсс-с, мисс Дэйкерс, — сказала Люси, как того требовал долг.
Дэйкерс одарила ее сияющей улыбкой и продолжала, не отрываясь, писать.
Стюарт и Бо сдали свои работы сразу вслед за Иннес. И вот горка листков перед мисс Пим начала быстро расти. За пять минут до конца отведенного на экзамен времени в аудитории оставались только три студентки: маленькая темноволосая Томас, которая, по-видимому, слишком много спала, чтобы быть хорошей студенткой; невозмутимая Дэйкерс, которая все еще что-то усердно писала, и раскрасневшаяся Роуз, у которой был несчастный вид барахтающегося изо всех сил человека. За две минуты до звонка оставалась одна Роуз; похоже, она была в замешательстве, в отчаянии; она в спешке листала свои странички, что-то вычеркивала, исправляла, добавляла.
Раздавшийся пронзительный трезвон положил конец ее нерешительным действиям; чему быть, того не миновать. Она поспешно собрала свои листки и отнесла их на стол Люси, хорошо зная, что звонок означает требование немедленно появиться в гимнастическом зале и что фрекен не сочтет даже такое тяжелое испытание, как письменный экзамен, достаточным оправданием опоздания. Люси ожидала, что Роуз постарается не встречаться с ней глазами или по крайней мере будет чувствовать себя не в своей тарелке. Однако Роуз удивила ее, искренне улыбнувшись и еще более искренне воскликнув:
— У-у-фф! Это было ужасно, — и, глубоко вздохнув, убежала вслед за остальными.
Люси раскрыла исчирканный текст и, посмотрев на него, испытала угрызения совести. Все-то она вообразила. Роуз вовсе не мошенничала. По крайней мере, систематически. Ее вид, будто ей есть что скрывать, мог быть результатом неуверенности, пришло на ум Люси, а может быть, в худшем случае, надежды подсмотреть что-нибудь у соседки. И краска, которая залила ее шею, могла быть вызвана сознанием того, что ее заподозрили. Люси прекрасно помнила время в школе, когда сознания, что ее невинный поступок мог быть дурно истолкован, было вполне достаточно, чтобы ее лицо запылало. Право, ей надо попросить у Роуз прощения. Она найдет способ принести свои извинения.
Люси аккуратно сложила стопку ответов, разобрав их по привычке в алфавитном порядке, пересчитала и отнесла наверх, в комнату мисс Люкс, радуясь, что не надо проверять их. В комнате никого не было; Люси положила стопку на стол и минуту постояла, размышляя, чем бы заняться в течение часа, остававшегося до ленча. Подумала было пойти в гимнастический зал, но решила, что если работа студенток еще до показательных выступлений станет для нее обыденно-привычной, то на показе ей будет не интересно. Уговорив Генриетту разрешить ей остаться до дня показа — долго уговаривать Генриетту, конечно, не пришлось — она не собиралась портить себе удовольствие, насмотревшись на все заранее. Люси пошла по лестнице вниз, задержалась у высокого окна на площадке — как замечательно умели строить в восемнадцатом веке! На современных лестничных площадках не станешь останавливаться; это просто углы-повороты, маленькие, опасные, освещаемые в лучшем случае круглыми, похожими на судовые иллюминаторы оконцами; а отсюда ей были видны вязы на поле позади двора, спускавшемся к реке. Она пойдет немного полюбуется лютиками. Когда летом выдается свободный час, не придумать лучшего занятия, чем пойти полюбоваться полем лютиков. Люси спустилась с лестницы и пошла вдоль крыла, а затем по крытому переходу к гимнастическому залу, к полям.
Когда она шла по переходу, ее взгляд наткнулся на какое-то яркое пятнышко в траве, росшей по краям дорожки. Сначала ей показалось, что это лепесток какого-то цветка, и она прошла было мимо, но тут заметила, что это предмет квадратной формы и отнюдь не лепесток. Люси вернулась обратно и подняла этот предмет — крошечную записную книжечку в потертой красной кожаной обложке. Вероятно, когда-то она была приложением к дамской сумочке, но это было очень давно, потому что и такая кожа, и такой способ ее выработки сейчас почти не встречались. Размышляя о том, какой женственной была, наверно, эта больше не существующая сумочка с ее набором принадлежностей — там, конечно, был маленький флакончик для духов, золотой карандашик и костяная табличка, чтобы записывать приглашения на танец, — Люси открыла книжку и на странице, сплошь исписанной очень мелким почерком, прочла: «Пат. анат. измен. как травм. Фибрин в синов. чл. Ткани сокращ. от фибр, сикскл. образ. на костях. Анхимоз. Лихорадка».
Смысл этой информации был для Люси непонятен, но цель абсолютно ясна. Люси полистала странички, убедилась, что все они покрыты такими же записями в сокращенном виде. Даже на страничке X, на которой обычно владелицы таких книжек записывали размер новых занавесок или интересную историю, которая сможет стать украшением речи на собрании во вторник, — даже на страничке X были загадочные заметки о лучах. Больше всего ошеломил Люси всеохватный характер записей, их преднамеренность. Это не был результат паники, охватившей человека в последнюю минуту; это была хладнокровная страховка против провала. По аккуратности и методу составления заметок было похоже, что они велись по мере изучения очередной темы. Если бы книжка была нормального размера, все это выглядело бы как конспект предмета. Но пишущий конспект никогда не выберет для этого книжку размером с почтовую марку, если можно купить книжку обычного размера всего за несколько пенсов. Для того чтобы записи можно было прочесть, требовалось делать их чертежным пером, и выбор книжки такого размера имел только одно объяснение.
Люси очень хорошо понимала, что произошло. Роуз на бегу вытащила носовой платок. Записную книжку она до этого никогда в карман не клала, мысли ее были заняты только тем, что она плохо ответила на вопросы, да еще страхом опоздать на гимнастику, так что она доставала платок, не заботясь об осторожности. И маленькая книжка упала на траву у края дорожки.
Люси обошла гимнастический зал и через калитку вышла в поле, но лютиков она не видела. Медленно шла она по полю, направляясь к спокойной прохладе под ивами, к тихой темной воде. Опершись на перила мостика, она наклонилась над рекой и, глядя на колышущиеся водоросли и всплескивающую временами рыбу, стала думать оРоуз. Фамилии на форзаце не было, следовательно, никакого способа определить хозяйку книжки тоже не было. В большинстве школ теперь учат писать и шрифтом, и скорописью, и шрифт гораздо труднее опознать. Конечно, эксперт по почеркам, без сомнения, легко определит автора, но что потом? Доказательств, что книжкой пользовались с незаконной целью, не существовало, как вообще не существовало доказательств того, что конспект составлен с дурными намерениями — хотя подозрение было очень сильное. Если она отдаст Генриетте книжку как вещь, которую кто-то потерял, а она нашла, то что произойдет? Никто не явится востребовать ее, и Генриетта окажется перед фактом, что одна из ее Старших подготовила конспект, который очень удобно спрятать в ладони на экзамене.
Если же ничего не сказать, то наказанием для Роуз послужит то, что ее в течение всей жизни будет мучить вопрос: что случилось с книжкой? Люси решила, что такое наказание вполне соответствует совершенному преступлению. Она еще раз перелистала крошечные странички рисовой бумаги, снова подивилась эдвардианской элегантности книжки и, перегнувшись через перила, бросила ее в воду.
На обратном пути домой Люси подумала, что интересно бы узнать, как сдала Роуз выпускные экзамены по другим предметам. Запомнить патологию не сложнее, чем кинезиологию или еще какой-нибудь мало вразумительный предмет, изучаемый в колледже физического воспитания. Как справлялась с ними «трудная студентка» Роуз? Была ли маленькая красная книжечка одной из пяти или шести? Стоило ли покупать чертежное перо только для одного предмета? Конечно, если хорошенько поискать, можно купить маленькую записную книжку, но не такую изящную и такую крошечную, как эта. Скорее всего, обладание этой красной малюткой натолкнуло Роуз на мысль использовать ее в качестве страховки от провала.
Люси вспомнила, что результаты предыдущих экзаменов, должно быть, вывешены на доске у студенческого входа, и, вместо того чтобы направиться к переднему фасаду дома, как она собиралась, повернула к двери, которая вела в дом со двора. На обтянутой зеленой байкой доске было приколото несколько листков с результатами Младших и три — с результатами Старших. Люси с интересом стала их читать.
ВЫПУСКНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ
ПО ФИЗИОЛОГИИ
С отличием
Мэри Иннес………93
Первая степень
Вильгельмина Хэсселт….. 87
Памела Нэш……… 86
Шина Стюарт……… 82
Полин Льюкас…….. 79
Дженет Гэйдж…….. 79
Барбара Роуз……… 77
Вторая степень
Дороти Литтлджон…… 74
Беатрис Эпплйард……. 71
Джоан Дэйкерс…….. 69
Эйлин О'Доннелл……. 68
Маргарет Кемпбелл……. 67
Рут Уэймарк……… 66
Лилиан Мэтгьюз……. 65
Остальные, получившие более низкие отметки, просто «Сдали».
Как видно, Роуз «проскреблась» в первую степень за счет двух очков.
МЕДИЦИНА
Первая степень
Полин Льюкас…….. 89
Памела Нэш……… 89
Мэри Иннес……… 89
Дороти Литтлджон…… 87
Рут Уэймарк……… 85
Вильгельмина Хэсселт….. 82
Шина Стюарт……… 80
Лилиан Мэттьюз……. 79
Барбара Роуз……… 79
Вторая степень
Дженни Бертон……..73
Дженет Гэйдж……..72
Эйлин О'Доннелл…….71
Джоан Дэйкерс……..69
Остальные — «Сдали».
И снова Роуз сумела попасть в «Первую степень».
КИНЕЗИОЛОГИЯ
С отличием
Мэри Иннес………96
Первая степень
Полин Льюкас……..89
Памела Нэш………88
Шина Стюарт………87
Вильгельмина Хэсселт…..85
Рут Уэймарк………80
Дженет Гэйдж……..79
Джоан Дэйкерс……..78
Барбара Роуз………78
Опять первая степень! Три «первых» места из трех попыток. И это девушка, которая испытывала серьезные трудности в письменных работах? Появилось очень сильное подозрение в том, что существовали и другие маленькие записные книжки.
Ну ладно. Сегодня пятница, завтра конец выпускных экзаменов, вряд ли Роуз после сегодняшнего утреннего случая воспользуется какой-нибудь помощью на завтрашнем экзамене. Маленькая книжка, приготовленная на завтра, если она существует, останется невостребованной.
Пока Люси читала списки (приятно было увидеть, что Дэйкерс, по крайней мере, по одному предмету вошла в число «первых»), появилась мисс Люкс с результатами вчерашнего экзамена.
— Благодарю, что вы принесли ответы по патологии, — сказала она, — и что посидели на экзамене. Я смогла проверить эти.
Большим пальцем она вдавила кнопку в доску и немного отошла назад взглянуть на список.
ГИГИЕНА
С отличием
Мэри Иннес………91
Первая степень
Памела Нэш………. 88
Вильгельмина Хэсселт…..87
Шина Стюарт………86
Полин Льюкас……..81
Барбара Роуз………81
— Барбара Роуз — восемьдесят один! — не успев подумать, воскликнула Люси.
— Да, удивительно, не правда ли? — отозвалась мисс Люкс спокойно. — Но она работает как негр. Она так блистает в физических упражнениях, что, наверно, ее сводит с ума мысль, что она может в чем-то оказаться последней.
— Иннес, похоже, привычно возглавляет списки.
— О, Иннес здесь только теряет время.
— Почему? Чем больше интеллекта человек вкладывает в свою специальность, тем лучше, не так ли?
— Да, но с таким интеллектом, как у Иннес, можно быть во главе списков, вызывающих гораздо больший трепет, чем эти. Она впустую тратит свой талант.
— Мне почему-то кажется, что за сегодняшний экзамен Роуз не получит восьмидесяти одного балла, — сказала Люси, когда они с мисс Люкс отошли от доски.
— Почему? Ей было трудно?
— Она еле вылезла, — ответила Люси, надеясь, что в ее голосе не слишком явно прозвучала радость. — Ну и жизнь! — добавила она, когда прозвонил колокол «за пять минут до гонга» и толпа мокрых от пота Старших вылетела из гимнастического зала, срывая с себя на бегу туники, и бросилась в ванные, чтобы успеть принять душ. — Только подумать, как не спеша мы осваивали науки. В университете, я имею в виду. Когда мы сдавали выпускной экзамен, то остаток дня был почти всегда целиком наш, чтобы можно было прийти в себя. А для этих юных созданий экзамен — часть распорядка рабочего дня.
Из ванных комнат доносились несвязные крики: «Ох, Донни, свинство, это мой душ!»; «Ну-ка, животное, слезь с моей ноги!»; «О нет, детка, это мои трусы!»; «Кинь-ка мне туфли, Грингэйдж, пол совсем мокрый»; «Нельзя ли не открывать так сильно холодную воду, ты, колода!»
— А знаете, им это нравится, — сказала Люкс. — В глубине души они любят и беготню, и тяжелую работу. Это позволяет им чувствовать свою значимость. Мало у кого из них в будущем будут основания ощутить свою значительность, так что хорошо, что они получат по крайней мере представление, что это такое.
— Вы циник, — заявила Люси.
— Нет, психолог. — Мисс Люкс на ходу кивнула в сторону, откуда доносились шум и гвалт. — Похоже на вольную борьбу, правда? Как будто все отчаянно злятся. Но это все игра. Через пять минут они будут сидеть в столовой, как порядочные дети, и все волоски будут пригнаны один к одному.
Так и было. Когда через пять минут преподаватели проследовали к своему столу, драчуньи-разбойницы из ванных чинно стояли позади своих стульев, спокойные, причесанные, погруженные целиком в мысли о еде. И правда дети. Каким бы душераздирающим ни было их горе, завтра оно будет забыто в игре. Абсурдно думать о них, как о встревоженных взрослых людях, с дрожью удерживающихся на пределе своих сил. Они непостоянны, как дети; их горести шумны, кричащи и… преходящи. Люси в течение пяти дней, с того самого часа, как Нат Тарт под кедром в прошлую субботу выказала глубокомысленную проницательность, все время искала хоть намек на какие-нибудь отклонения, на анормальность, неуправляемость, — и что? Она обнаружила один-единственный совершенно нормальный и прекрасно управляемый пример нечестного поведения, ничем не выдающийся, разве что ловкостью исполнения.
— Как славно, — проговорила Генриетта, положив себе на тарелку нечто похожее на пирог с сыром и овощами. — Я получила место в Уэльсе для маленькой мисс Томас. Возле Аберисвита. Я так рада.
— В этом Уэльсе очень усыпляющая атмосфера, — подумав, сказала мадам Лефевр, уничтожив пятью тихими словами идею Генриетты.
— Да, — произнесла мисс Люкс. — Кто там будет заставлять ее бодрствовать?
— Дело не в том, кто будет заставлять ее бодрствовать, дело прежде всего в том, кто будет ее будить, — возразила мисс Рагг, алчно поглядывая на пирог. Рагг так недалеко ушла от того времени, когда сама была студенткой, что все еще продолжала испытывать постоянный голод и не отличалась гастрономическими придирками.
— Уэльс — ее родная среда, — подавленно проговорила Генриетта, — и я не сомневаюсь, что она со всем этим справится. Во всяком случае, вне Уэльса у нее нет шансов добиться каких-нибудь серьезных успехов; валлийцы необычайно провинциальны, в буквальном смысле этого слова. Я и раньше замечала, что они тяготеют к своей родной провинции. Для них лучше всего уезжать обратно домой, если есть такая возможность. К счастью, в этом случае все очень удачно устроилось. Младшая из трех преподавательниц гимнастики. Очень подходит мисс Томас. Боюсь, она не слишком инициативна.
— Место для Томас — единственное новое предложение? — спросила Рагг, налегая на пирог.
— Нет, было еще одно, которое я хочу обсудить с вами.
Ага, подумала Люси, вот наконец и Арлингхерст.
— Аббатство Линг хочет, чтобы кто-нибудь целиком отвечал за младших детей и, кроме того, вел уроки танцев во всех классах. Танцам будет уделяться большое внимание. Я собираюсь отдать это место мисс Дэйкерс — она очень хорошо работает с маленькими детьми, — но я хотела бы знать, что думаете о ней вы, Мари; в отношении танцев.
— Она — корова, — сказала мадам.
— Но она очень хорошо занимается с малышами, — возразила Рагг.
— Тяжелая, как корова, — повторила мадам.
— Важно не то, как она сама танцует, — сказала Генриетта, — важно, сможет ли она научить других. Достаточно ли она знает предмет, — вот в чем дело.
— О, она, конечно, знает разницу между размером на три четверти и на четыре.
— Я видела, как Дэйкерс в Западном Ларборо разучивала с малышами танцы к Рождеству, — сказала Рагг. — Это было замечательно. Я должна была написать критические замечания по ее работе, но пришла в такой восторг, что вообще забыла сделать какие-нибудь пометки. Думаю, ей это прекрасно подойдет.
— Ну а вы, Мари?
— Не могу понять, чего вы волнуетесь, — проговорила мадам. — Все равно танцы в аббатстве Линг и сейчас в ужасном состоянии.
Такое «умывание рук» на манер Пилата, несмотря на его негативный оттенок, показалось всем достаточно положительным ответом. Ясно было, что Дэйкерс поедет в аббатство Линг. А поскольку аббатство было хорошим местом — если уж нужно было идти работать в школу, — Люси порадовалась за нее. Она обвела глазами столовую, откуда, перекрывая общий гул, доносился высокий голосок Дэйкерс, рассказывающей свои впечатления от экзамена по патологии:
— Дорогая, я ответила, что сустав становится резиновым, и я уверена, что это не профессиональный термин.
— Предупредить обеих, мисс Ходж? — спросила Рагг.
— Нет, сегодня, я думаю, только мисс Томас. Мисс Дэйкерс я скажу завтра. Пусть пройдет возбуждение.
Когда преподаватели встали и пошли к дверям, Рагг повернулась к студенткам, вежливо поднявшимся со своих мест и на время примолкшим, и сказала:
— Мисс Ходж ждет мисс Томас в своем кабинете после ленча.
Это была явно ритуальная фраза, потому что шум разгорелся прежде, чем преподаватели успели дойти до двери.
— Место, Томми! Поздравляю, Томми! Урра, старушка Томми! Да здравствует Уэльс! Надеюсь, что тысяча в год, Том. Ну разве это не прекрасно! Здорово, Томми!
А еще не было сказано ни слова про Арлингхерст.
IX
Впервые про Арлингхерст Люси услышала не от кого-то из преподавателей, а от самих студенток. Вторую половину субботы она провела с фрекен и ее матерью, помогая им шить шведские национальные костюмы, в которых Младшие должны были танцевать народные танцы в день показательных выступлений. Погода была прекрасная, и они отнесли целую кипу простых ярких тканей в самый дальний угол сада; здесь они могли заниматься делом и любоваться чисто английским пейзажем. Матчи по крикету и теннису в эту неделю проходили на «чужой» территории, и фигуры игроков не портили девственную зелень поля за рекой. Дамы шили, окруженные дивной красотой. Фру Густавсен, похоже, наговорила своей дочери много хорошего про Люси, потому что сдержанность фрекен как будто испарилась, и Люси с радостью обнаружила, что молодая женщина, которая всегда напоминала ей блестящий на солнце снег, оказывается, умеет тепло и с удовольствием смеяться, обладает прекрасным чувством юмора. Правда, проявленные Люси способности к шитью сильно поколебали веру в нее фру Густавсен, но англичанам следует многое прощать. Фру Густавсен вернулась к разговору о пище и долго распространялась о достоинствах блюда, называемого «фрикаделлар», кажется, разновидности фарша. Люси, у которой приготовление пищи заключалось в том, чтобы нарезать на сковородку помидоры, в последний момент добавить туда все, что подлежало приготовлению, и полить все сливками, сочла этот процесс длительным и сложным и решила, что это не для нее.
— Вы заняты сегодня вечером? — спросила фрекен. — Мы с мамой отправляемся в Ларборо в театр. Мама еще не видела ни одной английской постановки. Мы были бы очень рады, если бы вы согласились пойти с нами.
Люси объяснила, что она приглашена на вечеринку в комнате Стюарт в честь получения ею места.
— Я так поняла, что преподавателей обычно не зовут, но я не настоящий преподаватель.
Фрекен оглядела ее и сказала:
— А должны были бы им быть. Вы очень полезны для них.
Опять это медицинское высказывание. Как будто она лекарство.
— Каким образом?
— О, это слишком тонкая материя для моего английского, а уж тем более немецкого языка. Отчасти потому, что вы носите каблуки; отчасти потому, что они ничуть вас не боятся; отчасти… о, и еще тысяча «отчасти». Вы приехали удивительно вовремя, в тот самый момент, когда им необходимо развлечение — которое бы не отвлекало. О Господи, как бы я хотела лучше говорить по-английски.
— Вы хотите сказать, что я — доза щелочи для желудка с повышенной кислотностью.
Фрекен неожиданно фыркнула:
— Да, именно так. Мне очень жаль, что вы не пойдете в театр, но это знак особого расположения — быть приглашенной на студенческую вечеринку, и вам, я надеюсь, понравится. Сегодня все будут веселы, ведь экзамены позади. Вот придут они с матча — и свободны на весь уик-энд. Так что в эту субботу все будут веселиться. Сорвутся с цепи, — добавила она по-английски.
И они действительно сорвались с цепи. Фрекен и ее мать направились в обход к фасаду дома, где были их комнаты, а Люси вошла со двора и на нее со всех сторон обрушился шум. Плеск воды в ванных комнатах на обоих этажах, громкие голоса, барабанная дробь ног, бегущих по голым дубовым ступеням, крики, свист, пение. Вернулись уже обе команды — судя по атмосфере, с победой — и весь дом ходил ходуном. А кроме того, он дрожал от возбуждения, и одно слово, как лейтмотив, вплеталось во все разговоры. Арлингхерст. Арлингхерст. Когда Люси, направляясь к лестнице, проходила мимо ванных на первом этаже, она впервые услышала его.
— Ты слышала, дорогая? Арлингхерст!
— Что?
— Арлингхерст!
Кран закрыли.
— Ничего не слышно, вода хлещет. Куда, ты говоришь?
— Арлингхерст!
— Не верю.
— Да, — вмешался третий голос. — Это правда.
— Не может быть, в Арлингхерст только что окончивших не посылают.
— Нет, это действительно так. Секретарша мисс Ходж сказала Джолли по секрету, а Джолли сказала своей сестре в деревне, а та — мисс Невилл из «Чайника», а мисс Невилл рассказала Нат Тарт, когда она зашла туда выпить чаю с этим своим кузеном.
— Этот жиголо опять здесь?
— Слушай, Арлингхерст! Кто бы мог подумать! А как ты думаешь, кому его отдадут?
— Ну, это ясно.
— Конечно Иннес.
— Счастливая Иннес.
— Она заслужила это.
— Только вообрази — Арлингхерст!
И на втором этаже было то же самое: шум, плеск воды, голоса и «Арлингхерст».
— Кто тебе сказал?
— Нат Тарт.
— О Господи, она же сумасшедшая, все знают.
— Ладно, в любом случае это место для Иннес, так что меня это не касается. Я, наверно, обращусь в С.Л.Г.[564]
— Может, она и сумасшедшая, но ей не нужно место, и она ничего не поняла. Она даже не знала, что такое Арлингхерст, так что для нее это пустяк. Она спросила: «Это что, школа?»
— Школа! Ну и ну!
— Слушайте, дорогие мои, Ходж, наверно, совсем обалдела от гордости!
— Думаешь, она настолько обалдела, что угостит нас сегодня на ужин пирожными вместо этого молочного пудинга?
— А я думаю, Джолли еще вчера сделала пудинги, и они ждут нас, выстроившись в ряд.
— Что касается меня, пусть ждут. Я собираюсь в Ларборо.
— И я. Слушайте, Иннес здесь?
— Нет, она уже вымылась. Одевается.
— Знаете что, давайте все устроим вечеринку в честь Иннес, вместо того чтобы устраивать маленькие вечеринки каждая у себя. В конце концов, это…
— Да, давайте, хорошо? Не каждый же день человек получает такое место, и Иннес заслужила его, все будут рады, и…
— Да, давайте устроим это в общей комнате.
— Это же честь для всех. Награда Лейсу.
— Арлингхерст! Кто бы мог подумать?
— Арлингхерст!
Люси решила, что неосторожность маленькой тихой секретарши была, очевидно, вызвана тем, что она знала: новость вот-вот будет обнародована. Даже осторожная, скрытная Генриетта не могла дольше хранить в тайне такое известие, хотя бы по той простой причине, что Арлингхерст ждал ответа. Наверно, подумала Люси, Генриетта хотела, чтобы прошла «трудная неделя», а потом уж собиралась сделать сенсационное сообщение; Люси не могла не согласиться, что момент для сообщения был выбран очень точно.
Когда она шла по коридору к своей келье, она встретила Иннес, которая застегивала пуговицы на свежем полотняном платье.
— Ну вот, — сказала Люси, — кажется, день прошел успешно?
— Вы имеете в виду этот гвалт? — спросила Иннес. — Да, мы выиграли. Но то, что вы слышите, — это не боевой клич. Это хвалебный пеан, потому что им никогда не придется переживать такую неделю.
Люси отметила про себя, что девушка бессознательно употребила слово «им». На какой-то момент она поразилась спокойствию Иннес. А может быть, та еще не слышала о вакансии в Арлингхерсте? Но когда Иннес из полутьмы коридора ступила в пятно яркого света, лившегося из двери, открытой в комнату Дэйкерс, Люси увидела, что лицо девушки сияет. И ее собственная душа откликнулась, она порадовалась за Иннес. Значит, вот так она восприняла это — как будто перед ней раскрылись Небеса?
— Во всяком случае, вы выглядите счастливой, — сказала Люси, прибегая к плоско-банальному выражению, потому что никакими словами нельзя было описать того, что светилось в глазах Иннес.
— Как говорит О'Доннелл, сам король мне не брат, — сказала Иннес. — Ведь вы придете на вечеринку к Стюарт, правда? Это хорошо. Там и увидимся.
Люси напудрила нос и решила пойти в «старый дом» посмотреть, как реагировали на новость об Арлингхерсте преподаватели. Может быть, там и чай еще остался. Она совсем забыла про чай, и, наверно, Густавсены тоже забыли. Люси проверила бутылку шампанского, которую в ожидании вечеринки у Стюарт положила в лед, выпрошенный у мисс Джолифф, еще раз пожалела, что у виноторговца в Ларборо не оказалось года получше, но решила (весьма справедливо), что Реймс и его продукция были для студенток просто «шампанским».
Чтобы попасть в «старый дом», ей надо было снова пройти мимо спален Старших и ванных комнат на втором этаже, и Люси показалось, что гвалт достиг нового пика интенсивности, поскольку все большее число студенток узнавали новость, комментировали ее, передавали — и все это, перекрывая шум воды, хлопанье дверей и топот ног. После этого рева и возбуждения странными казались тишина, покойный мир «дома», его кремовые стены, мебель красного дерева, высокие окна и просторные комнаты. Люси пересекла широкую лестничную площадку и открыла дверь в гостиную. Здесь тоже было тихо, и Люси вошла, закрыла за собой дверь и только потом осознала истинное значение этой тишины, осознала, что тишина насыщена электричеством и что она, Люси, вошла в самый разгар скандала, разыгравшегося среди преподавателей. Более того, если судить по выражению лиц, скандала невероятно грандиозного. Спиной к камину, как бы заняв оборонительную позицию, стояла Генриетта, лицо ее покраснело, и на нем застыло упрямое выражение; остальные смотрели на директрису гневно и обвиняюще.
Люси с радостью убралась бы восвояси, но кто-то автоматически налил чашку чая и сунул ей в руки, и она не могла поставить ее и выйти. Хотя сделать это очень хотелось по многим причинам. Чай был почти черный и совсем остывший.
Никто не обратил на Люси никакого внимания. Либо они считали ее своей, либо были слишком захвачены ссорой. Их глаза отметили ее присутствие с тем же рассеянным безразличием, с каким в вагоне поезда встречают проводника, собирающего билеты: он имеет законное право войти, но участником разговора не станет.
— Это чудовищно! — говорила мадам. — Чудовищно!
Люси впервые увидела, что мадам изменила позе Рекамье и сидела, опустив свои стройные ноги на пол.
За ее спиной стояла мисс Люкс, ее бледное лицо было бледнее обычного, а на скулах горели два ярко-красных пятна. Фрекен сидела, откинувшись на спинку одного из обитых ситцем стульев, и вид у нее был высокомерный и мрачный. A Рагг, у окна, выглядела одновременно смущенно и сердито, как будто ей, лишь недавно пришедшей из мира смертных, это сражение олимпийцев казалось неприличным.
— Не вижу в этом ничего чудовищного, — сказала Генриетта, пытаясь придать своему голосу командирский оттенок, оттенок голоса бывшей старосты; но даже для уха Люси это прозвучало искусственно. Генриетта явно находилась в затруднении.
— Это более чем чудовищно, — заявила мадам, — это почти преступно.
— Мари, не глупите.
— Преступно со многих точек зрения. Вы собираетесь сбыть с рук недоброкачественный товар тому, кто рассчитывает получить самое лучшее. Тем самым вы подрываете репутацию Лейса, и потребуется лет двадцать, чтобы восстановить ее, если вообще это удастся сделать. И ради чего, спрашивается? Ради чего? Просто, чтобы удовлетворить свою прихоть.
— Не вижу, причем здесь прихоть, — сухо заметила Генриетта тоном, в котором прозвучала присущая ей величественность, подобная величественности датского дога. — Никто из присутствующих не может отрицать, что она блестящая студентка, что она очень много работала и заслужила награду. Даже все ее теоретические работы в этом семестре отличны.
— Не все, — сказала мисс Люкс, и звук ее голоса был похож на шипение воды, попавшей на раскаленную сковороду. — Работа, которую я проверяла вчера вечером, не может рассчитывать даже на вторую степень по патологии.
При этих словах Люси перестала обдумывать, что делать со своей чашкой чая, и навострила уши.
— О Господи, какая жалость, — произнесла Генриетта, несколько сбитая со своих позиций этой новостью. — Она так хорошо сдавала. Гораздо лучше, чем я смела надеяться.
— Девица — умственно отсталая, и вы знаете это, — отрезала мадам.
— Что за чепуха! Она — одна из самых блестящих студенток, которые когда-либо были в Лейсе…
— Ради Бога, Генриетта, перестаньте. Вы знаете не хуже нас всех, что они понимают под словом «блестящая».
Своими тонкими загорелыми пальцами мадам Лефевр взяла голубой листок почтовой бумаги и, держа его на расстоянии вытянутой руки (она начала «сдавать», мадам, но терпеть не могла носить очки), прочла вслух:
«Мы хотели бы знать, есть ли среди ваших оканчивающих достаточно блестящая студентка, достойная занять это место. Та, которая могла бы стать «Арлингхерст» с первых же дней, стать частью школы и ее традиций столь органично, насколько это может сделать пришелица, и в то же время укрепила бы связь с Лейсом, которая так счастливо для нас установилась». Связь с Лейсом, которая так счастливо установилась! А вы предлагаете оборвать ее, послав туда Роуз!
— Я не понимаю, почему вы так упрямо протестуете против нее. Это чистое предубеждение. Она была примерной студенткой, и до сегодняшнего дня никто не сказал о ней дурного слова. Пока я не собралась наградить ее за прилежание. И тогда вы все приходите в ярость. Я просто в недоумении. Фрекен! Вы-то уж поддержите меня? У вас никогда не было лучшей ученицы, чем мисс Роуз.
— Ми-исс Роуз очень хорошая гимнастка. Как я знаю со слов мисс Рагг, она отлично владеет и спортивными играми. Но когда она выйдет отсюда, больше не будет иметь значение, что она лучше всех делает стойку на руках или что она хо-ороший полузащитник. Значение будет иметь характер. Но нельзя быть высокого мнения о ее характере, нельзя сказать, что он превосходный.
— Фрекен! — воскликнула удивленно Генриетта. — Я думала, она вам нравится.
— Вы так думали?
Три холодных слова, произнесенные безразличным голосом, означали: мне должны нравиться все студентки; если вы знаете, кто мне нравится, а кто нет, значит, я никуда не гожусь.
— Ну вот, вы спросили Сигрид и получили ответ, — произнесла довольная мадам. — Я и сама не могла бы выразиться точнее.
— Быть может, — начала мисс Рагг, — я хочу сказать, им нужна именно гимнастка. В Арлингхерсте самостоятельные отделения: гимнастика, игры, танцы; для каждого предмета свой учитель. Так что, может быть, Роуз и не будет так уж плоха.
Интересно, подумала Люси, эта попытка компромисса вызвана тем, как выполняла Роуз роль полузащитника в команде мисс Рагг, или желанием сгладить ситуацию и хоть чуть-чуть свести края зияющей пропасти.
— Дорин, детка, — сказала мадам тем терпеливым голосом, каким разговаривают со слабоумными, — они ждут от нас не того, кто «будет не очень плох», они ждут выдающуюся личность, которая, только что выйдя из колледжа, могла бы стать одной из трех преподавательниц гимнастики в лучшей школе в Англии. Как вы думаете, похожа мисс Роуз на такого человека?
— Нет, нет, полагаю, не похожа. Должна признаться, скорее, это Иннес.
— Совершенно верно. Иннес. И выше человеческого разумения, почему мисс Ходж не видит, что это Иннес.
Мадам в упор посмотрела на Генриетту своими огромными черными глазами. Генриетта вздрогнула.
— Я же сказала! Есть вакансия в Уичерлейском ортопедическом госпитале, это идеальное место для мисс Иннес. Она великолепно выполняет медицинскую работу.
— Господи, дай мне терпения! Уичерлейский ортопедический госпиталь!
— Разве сплоченность оппозиции не убеждает вас, мисс Ходж, что вы не правы? — это проговорила мисс Люкс, язвительная даже в гневе. — Оставаться одной против всех — не очень сильная позиция.
Но вот этого не следовало говорить. Если и можно было убедить Генриетту ранее, то теперь эта стадия осталась далеко позади. Она отреагировала на логику мисс Люкс внезапным взрывом ярости.
— Мое положение как меньшинства, быть может, и не очень сильное, мисс Люкс, однако мое положение как начальницы этого колледжа неоспоримо, и то, что вы думаете и чего не думаете о принятых мною решениях, несущественно. Я, как всегда, поделилась с вами своими соображениями относительно распределения вакансий. Конечно, очень жаль, что вы не согласны со мной, но это ничего не меняет. Принимать решение должна я, и я его приняла. Вы вольны не одобрять его, но, рада заметить, не вольны противодействовать.
Дрожащей рукой Генриетта поставила свою чашку на поднос, как обычно это делала, и направилась к двери. Неуклюжая, обиженная, похожая на раненого слона, подумала Люси.
— Одну минутку, Генриетта! — воскликнула мадам, стрельнув в сторону Люси глазами, в которых зажглись недобрые огоньки. — Давайте спросим постороннего человека, опытного психолога.
— Но я не опытный психолог! — возразила бедная Люси.
— Давайте просто послушаем, что думает мисс Пим.
— Не понимаю, какое отношение имеет мисс Пим к вакансиям…
— Нет, нет, не о назначениях. Просто, что она думает об этих двух студентках. Давайте, мисс Пим. Выскажите ваше откровенное мнение. Вы провели у нас только неделю, и вас нельзя будет упрекнуть в пристрастности.
— Вы имеете в виду Роуз и Иннес? — спросила Люси, пытаясь выиграть время. Генриетта стояла, положив руку на ручку двери. — Конечно, я не знаю их досконально; но меня, без сомнения, удивляет, что мисс Ходж собирается отдать это место Роуз. Я думаю, что она вовсе… право же, я думаю, что она совершенно неподходящая кандидатура.
Генриетта, для которой эти слова были последней соломинкой, бросила на Люси взгляд, говоривший «и ты, Брут», и, нетвердо ступая, вышла из комнаты, проворчав сквозь зубы что-то вроде: «Как хорошенькая мордашка может действовать на людей». Люси отнесла это замечание на счет Иннес, не на свой.
В гостиной воцарилось молчание.
— Мне казалось, я хорошо знаю Генриетту, — произнесла наконец мадам.
— Я полагала, можно надеяться, что она будет справедлива, — горько сказала мисс Люкс.
Фрекен, не промолвив ни слова, вышла из гостиной, сохраняя по-прежнему высокомерный и хмурый вид. Все посмотрели ей вслед с мрачным одобрением; ее молчание было достаточно красноречиво.
— Какая жалость, что это случилось, когда все было так хорошо, — произнесла еще одну из своих бесполезных фраз мисс Рагг. Она напоминала человека, который бегает и предлагает жертвам землетрясения черносмородиновые таблетки. — Все были так довольны своими местами и…
— Думаете, она придет в себя, когда у нее будет время обдумать это? — спросила у мадам мисс Люкс.
— Она обдумывает это почти неделю. Вернее, она пришла к этой мысли почти неделю назад; так что к данному моменту это дело решенное, и она просто не может взглянуть на все иными глазами.
— И все же, вероятно, она не была уверена — я хочу сказать, не была уверена в нашей реакции, — иначе не держала бы это в тайне доныне. Может быть, когда она все обдумает…
— Когда она все обдумает, она вспомнит, что Кэтрин Люкс поставила под сомнение королевскую прерогативу…
— Но ведь есть еще Правление. Она же не Господь Бог. Должен же быть кто-то, к кому можно апеллировать. Нельзя допустить подобной несправедливости, потому что…
— Конечно, существует Правление. Вы встречались с ними, когда устраивались сюда на работу. И видели одну из них — она приезжает сюда к ужину по пятницам, когда бывают лекции о йоге, теософии, вуду или еще о чем-нибудь таком. Прожорливый слизень в черном шелковом платье и янтарных бусах, а мозги как у вши. Она считает Генриетту замечательной. Так же думают и остальные члены Правления. И так же, разрешите мне это сказать, думаю я. Это-то и потрясает больше всего. Как Генриетта, проницательная Генриетта, которая из плохонькой дамской школы создала этот колледж, может быть такой слепой, как могла она внезапно лишиться самого элементарного понимания, — это фантастика. Фантастика.
— Но можем же мы что-нибудь сделать…
— Моя хорошая, хоть и бестактная Кэтрин, — сказала мадам, грациозно поднимаясь с места, — все, мы можем сделать, это удалиться в свои комнаты молиться. — Она взяла шарф, в который даже в самую жаркую погоду укутывала свое худое тело, когда переходила из одного помещения в другое. — Есть еще такое небольшое утешение, как аспирин и горячая ванна. Они не тронут Всемогущего, но очень полезны для кровяного давления.
И мадам выплыла из комнаты, почти нематериальное существо, насколько им может быть живой человек.
— Если мадам никак не может повлиять на мисс Ходж, не вижу, кто бы мог это сделать, — заявила Рагг.
— Только не я, — сказала Люкс. — Я лишь напрасно разозлила ее. Но даже если бы я ничего не сказала или обладала бы чарами Клеопатры, а она прислушивалась бы к каждому моему слову, как можно уменьшить подобный ментальный астигматизм? Понимаете, она искренне верит тому, что говорит. Она — самый честный человек, каких я только встречала. Она действительно видит вещи в таком свете, она действительно видит в Роуз все, чем нужно восхищаться и что заслуживает награды, и полагает, что в нас говорит предубеждение и желание противодействовать. Как можно тут изменить что-либо? — Мисс Люкс постояла минуту, уставившись в окно, а потом взяла свою книгу и сказала:
— Мне нужно пойти переодеться, если только я найду свободную ванную.
Она ушла, и Люси осталась с мисс Рагг, которой явно тоже очень хотелось уйти, но она не знала, как бы поизящнее обставить свой уход.
— Очень неприятно, правда? — проговорила Рагг.
— Да, жаль, конечно, — согласилась Люси и подумала, насколько неадекватно это отражает ситуацию; она все еще была ошеломлена новым аспектом, в котором ей предстало все дело. Тут Люси увидела, что Рагг все еще в спортивном костюме.
— Когда вы услышали обо всем?
— Я услышала, как студентки обсуждали это внизу — я имею в виду, когда мы вернулись с матча, — и бросилась наверх, сюда, узнать, правда ли это, и попала в самый разгар. В самый разгар спора, я хочу сказать. Очень жаль, ведь все было так хорошо.
— Знаете, студентки считают само собой разумеющимся, что это место получит Иннес, — сказала Люси.
— Да. — Голос Рагг прозвучал рассудительно. — Я слышала, как они переговаривались в ванных. Все мы считали само собой разумеющимся, что это будет Иннес. У меня она не очень хороша — в играх, я хочу сказать, — но она отличный тренер. Она понимает что делает. А в других вещах она, конечно, просто блестяща. Ей, действительно, быть бы доктором или заниматься чем-то умственным. Ладно, наверно, мне надо пойти снять с себя все это. — Она помедлила минутку. — Мисс Пим, пожалуйста, не думайте, что такое у нас часто случается, хорошо? Я впервые вижу, чтобы преподаватели так взбунтовались. Как правило, мы очень дружные. Поэтому-то и жалко. Мне бы хотелось, чтобы кто-нибудь уговорил мисс Ходж изменить свою точку зрения. Но насколько я ее знаю, это никому не удастся.
X
Никому это не удастся, сказали они; а вдруг она, Люси, сделает это? Когда за Рагг закрылась дверь, Люси оказалась лицом к лицу с собственной дилеммой. У нее были причины считать, что первое впечатление мисс Люкс от реакции Генриетты было более правильным, чем второе. Ментальный астигматизм, о котором говорила мисс Люкс, не был настолько силен, чтобы исключить сомнения в собственной правоте. Люси не забыла того странного виноватого выражения на лице Генриетты, когда в прошлый понедельник ее секретарь попыталась заговорить о письме из Арлингхерста. Это было выражение «все могу». Но не «все могу» Деда Мороза. Совершенно определенно, это было что-то, чего она немного стыдилась. Она могла страдать ментальным астигматизмом настолько, чтобы считать Роуз достойной кандидатурой, но не настолько, чтобы не понимать, что Иннес первая имеет право претендовать на это место. А раз так, то обязанность Люси — довести некоторые факты до сведения Генриетты. Очень жалко, что маленькая красная книжка теперь размокает среди водорослей, превращаясь в бесформенную массу; она, Люси, проявила излишнюю импульсивность, выбросив ее, но, независимо от книжки, она должна серьезно поговорить с Генриеттой и привести неоспоримые доказательства своей правоты относительно того, что Роуз — неподходящая кандидатка для работы в Арлингхерсте.
Люси была удивлена, что предстоящий разговор с Генриеттой на эту тему вызывает у нее приступ растерянности, которому совершенно не место в душе взрослого человека; меньше всего в душе человека, который является знаменитостью, как будто она все еще школьница; однако замечание Генриетты о «хорошеньких мордашках» очень укрепило дух Люси. Генриетте не следовало делать этого замечания.
Люси встала и поставила на поднос чашку с остывшим черным чаем, с сожалением заметив, что к чаю были миндальные пирожные; десять минут назад она бы с удовольствием съела миндальное пирожное, но теперь она не могла проглотить даже эклер. Преувеличением было бы сказать, что она обнаружила, что Генриетта — колосс на глиняных ногах, поскольку она никогда не задумывалась над тем, что собой представляет Генриетта. Однако она, Люси, привыкла смотреть на Генриетту снизу вверх, как на существо высшего порядка по сравнению с ней самой, и такое отношение, выработанное еще в школе, осталось на всю жизнь. Поэтому Люси и была потрясена, обнаружив, что Генриетта способна в худшем случае на обман, а в лучшем — на betise.[565] Интересно, думала Люси, что есть такого в Роуз, что заставило пошатнуться очень крепкий здравый смысл, каким отличалась Генриетта. Это ее замечание о «хорошеньких мордашках». Невольно вырвавшееся замечание. Что было в некрасивом лице северянки, что тронуло женщину, привыкшую к тому, что ее студентки хороши собой? Не было ли в некрасивой, нелюбимой, очень много работающей честолюбивой Роуз чего-то, что напомнило Генриетте ее саму? Не увидела ли она в этом борьбу, которую некогда вела сама? И потому бессознательно, не отдавая себе отчета, как бы удочерила Роуз и боролась за нее, и наблюдала за ней. Ее огорчение по поводу относительного провала Роуз по патологии было столь сильным, что даже отвлекло ее от разыгравшейся ссоры с преподавателями.
А может быть, Роуз просто ловко использовала эффект восторженных, чтобы не сказать, обожающих взглядов, которые Люси подметила тогда утром в крытом переходе.
Нет, только не это. У Генриетты есть недостатки, но глупость не входит в их число. Более того, как и все прочие в школьном мире, она прошла долгий путь, завоевывая обожание, и искреннее, и искусственное. Интерес, который она чувствовала к Роуз, мог усилиться благодаря тому, что девушка явно проявляла стремление к «апостольскому следованию», но источник этого интереса заключался в чем-то другом. Скорее, Генриетта, некрасивая, не знавшая любви, стремящаяся к славе, смотрела на некрасивую, никем не любимую честолюбивую юную Роуз с теплотой, наполовину вызванной тем, что узнавала в ней себя.
Люси раздумывала, идти ли к Генриетте сию же минуту или же подождать, пока та остынет. Беда заключалась в том, что пока Генриетта будет остывать, одновременно будет пропадать ее, Люси, решимость говорить с ней об этом деле. Взвесив все и вспомнив свои прошлые фиаско, Люси сочла, что лучше отправиться сразу, пока ноги несут ее в нужном направлении.
Когда она постучала в дверь кабинета и немедленного ответа не последовало, на какой-то момент в Люси вспыхнула надежда, что Генриетта ушла наверх, к себе в комнату, и тем самым отсрочила на несколько часов выполнение ею, Люси, своего долга. Но нет; голос Генриетты пригласил ее войти, и она вошла, испытывая при этом ужасное чувство, как будто она преступница, и злясь на себя за то, что она такой заяц-трусишка. Краска еще не сошла с лица Генриетты, она по-прежнему выглядела оскорбленной, и, если бы это была не Генриетта, Люси сказала бы, что в глазах ее стояли слезы. Но последнее было совершенно невозможно. Казалось, она погружена в чтение каких-то лежавших на столе бумаг, но Люси почувствовала, что в момент, когда раздался стук в дверь, Генриетту занимали только ее собственные мысли.
— Генриетта, — начала Люси, — ты, наверно, сочла, что с моей стороны было самонадеянно высказывать свое мнение о мисс Роуз. — (О Господи, как напыщенно это прозвучало!)
— Это было немного неуместно, — холодно ответила Генриетта.
Ну и выражения у нее! «Неуместно!»
— Но меня же спросили, — возразила Люси. — В ином случае мне бы в голову не пришло высказываться, если бы ко мне не обратились. Дело в том, что мнение…
— Я не думаю, что нам следует обсуждать это, Люси. Это мелочь, и она не…
— Нет, это не мелочь. Поэтому я и пришла к тебе.
— Мы в нашей стране гордимся, не правда ли, тем, что каждый обладает правом иметь свое мнение и правом высказать его. Вот ты и высказала…
— Когда меня попросили.
— Когда тебя попросили. А я только сказала, что ты поступила настолько бестактно, приняв одну сторону в деле, о котором ты знаешь очень мало, если вообще что-нибудь знаешь.
— Совсем не так. Я как раз кое-что знаю. Ты думаешь, я предубеждена против мисс Роуз, потому что она не очень привлекательна…
— Не очень привлекательна в твоих глазах, — быстро поправила Генриетта.
— Скажем, не очевидно привлекательна, — проговорила Люси, от досады начиная ощущать себя увереннее. — Ты думаешь, я сужу о ней по тому, как к ней относятся другие, но это не так.
— А как еще ты можешь судить? Ты же не знаешь, как она работает.
— Я присутствовала на одном из экзаменов.
Люси с удовлетворением отметила, что при этих словах Генриетта замолчала.
Молчание продолжалось секунд пять.
— И какую черту характера студентки ты могла выявить, присутствуя на экзамене?
— Ее нечестность.
— Люси! — Однако шока в голосе не прозвучало. Прозвучало предостережение. Оно означало, если вообще что-то означало: «Знаешь что бывает за клевету?»
— Да, я сказала: ее нечестность.
— Ты пытаешься сказать, что обнаружила, как мисс Роуз пользовалась шпаргалкой во время экзамена?
— Она вела себя очень осторожно. Свои лучшие годы я не зря провела в четвертых классах, поэтому я знаю, как это обычно делается. Я в самом начале заметила, чем она занимается, и, поскольку я не хотела устраивать скандал, решила, что самое лучшее — помешать ей воспользоваться этим.
— Воспользоваться? Чем воспользоваться?
— Маленькой книжечкой.
— Ты хочешь сказать, что видела, как студентка пользовалась маленькой книжкой на экзамене, и ничего не предприняла!
— Нет, конечно нет. Я только потом узнала о книжке. А в тот момент я только видела, что она пытается что-то подсмотреть. У нее в руке был носовой платок, хотя у нее не было насморка и, кажется, не было необходимости сжимать его… и у нее на лице было это выражение, «знает кошка, чье мясо съела», которое ты знаешь не хуже меня. Под столом не было ничего,поэтому я решила, что, каков бы ни был этот предмет, она держала его в руке вместе с платком. Но поскольку у меня не было доказательств…
— А! У тебя не было доказательств.
— Да, у меня не было доказательств, и я не хотела взбудоражить весь класс, добывая их, поэтому я встала у стены, прямо за спиной Роуз, откуда легко могла проследить, чтобы она не воспользовалась помощью чего-нибудь или кого-нибудь…
— Но если ты ни о чем не спросила ее, откуда ты знаешь про книжку?
— Я нашла книжку у дорожки в гимнастический зал. Это…
— Ты хочешь сказать, книжка лежала не в ее столе? Вообще не в классе?
— Да. Если бы она лежала в ее столе, ты узнала бы об этом не позже чем через пять минут. А если бы я нашла такую книжку в классе, где проходил экзамен, я сразу же принесла бы ее тебе.
— Такую книжку? Какую?
— Маленькую записную книжку с заметками по патологии.
— С алфавитом?
— Да. А — артрит, и так далее.
— Значит, это просто книжка, где студентка делала пометки в процессе занятий?
— Не «просто».
— А почему не «просто»?
— Потому что эта штука размером с большую почтовую марку.
Люси подождала, чтобы это дошло до Генриетты.
— И какая связь между книжкой, которую ты нашла, и мисс Роуз?
— Только та, что ни у кого больше не было выражения «знает кошка, чье мясо съела»; по правде говоря, пока писал, никто больше и не волновался. Роуз к тому же последняя сдала работу.
— Какое это имеет значение?
— Если бы книжку выронили до того, как Роуз вышла из аудитории, ее бы наверняка подобрал кто-нибудь из студенток. Она была красная, как георгин, ее нельзя было не заметить у края дорожки.
— Не на дорожке!
— Нет, — ответила с неохотой Люси. — В полудюйме от нее.
— Значит, мимо нее тысячу раз могли проскочить занятые своей болтовней студентки, озабоченные тем, как бы не опоздать на следующий урок?
— Да, наверно, могли.
— А фамилия на книжке была?
— Нет.
— Не было? Никаких признаков, по которым можно бы определить, чья она?
— Ничего, кроме почерка. Но не скоропись, а шрифт.
— Понимаю. — Можно было ощутить, как подтянулась Генриетта. — Тогда принеси мне книжку, и мы предпримем необходимые шаги, чтобы найти ее владелицу.
— У меня ее нет, — сказала отчаявшаяся Люси. — Я утопила ее.
— Ты — что?
— Бросила ее в реку возле площадки для игр.
— Совершенно невероятный поступок!
Не промелькнул ли в глазах Генриетты проблеск облегчения?
— Не знаю. Я сделала это импульсивно. А что мне было делать с ней? Это конспект по патологии, выпускной по патологии уже прошел, и книжкой не воспользовались. Задуманное не удалось. Тогда зачем беспокоить тебя, отдавая книжку? Я решила, что лучшее наказание для того, кто писал, — никогда не узнать, что с ней стало. Прожить всю жизнь и так и не ответить на этот вопрос.
— «Для того, кто писал». Это очень точно определяет ситуацию, не правда ли? Нет ни малейшего основания связывать книжку с мисс Роуз.
— Я уже сказала, что если бы такое основание было, я бы принесла книжку тебе. Это только подозрение. Но подозрение очень сильное. Большая часть студенток вообще исключается.
— Почему?
— Те, кто в себе уверен, не станут терять время на то, чтобы застраховаться от провала. То есть те, кто силен в теоретической работе, — виновны быть не могут. Но ты сама говорила, что Роуз трудно давались письменные задания.
— Как и многим другим.
— Да, но есть еще одно обстоятельство. Многим, без сомнения, трудно дается теория, но как только они проскочат ее, тут же об этом забывают. А Роуз — студентка блестящая в том, что касается практики, и уязвленная гордость заставляет ее стремиться к тому же и на письменных экзаменах. Она тщеславна и очень трудолюбива. Она хочет пожинать плоды своих трудов, но очень сомневается, что ей это удастся. Отсюда и маленькая книжка.
— Моя дорогая Люси, это психологическое теоретизирование.
— Может быть. Но когда мадам обратилась ко мне в гостиной, она просила меня заняться именно психологическим теоретизированием. Ты считала, что мое мнение сложилось на голом предубеждении, а я хочу тебе объяснить, что у меня есть для этого достаточно серьезные основания. — Люси посмотрела на красное лицо Генриетты и подумала: «А что, если еще раз рискнуть ступить на минное поле, теперь, когда она доказала, что не просто из каприза нарушила границы чужого владения?» Генриетта, я говорю с тобой как с другом, я не понимаю, почему ты хочешь послать в Арлингхерст Роуз, когда у тебя есть такая подходящая кандидатура, как Иннес. — И стала ждать взрыва.
Но взрыва не последовало. Генриетта сидела, погруженная в тяжелое молчание, рисуя ручкой какие-то штрихи на тонком чистом листе промокательной бумаги; это был явный признак тревоги в ее душе, потому что ни рисование каракулей, ни пустая трата бумаги не были в обычае Генриетты.
— Не думаю, что ты много знаешь об Иннес, — проговорила она наконец спокойным дружелюбным тоном. — У нее блестящий ум и хорошенькое личико, а потому ты приписываешь ей и другие достоинства. Достоинства, которыми она, совершенно определенно, не обладает. У нее отсутствует чувство юмора, она трудно сходится с людьми — это серьезные недостатки для человека, который собирается постоянно жить в коллективе преподавателей школы. Даже ее блестящие способности представляют собой недостаток, она не терпит глупых. У нее есть тенденция — я уверена, бессознательная — смотреть сверху вниз на других людей. — (Люси вдруг вспомнила, как сегодня Иннес машинально употребила слово «они» по отношению к студенткам. Старушке Генриетте не откажешь в проницательности). — По правде сказать, сразу, как она здесь появилась, у меня создалось впечатление, что она презирает Лейс и использует его только как трамплин для достижения цели.
— Ну что ты, нет, — механически запротестовала Люси, а ее внутренний голос спрашивал ее в это время: не так ли обстоит все в действительности и не это ли озадачивало ее в Мэри Иннес. Если обучение в Лейсе и правда было для нее тайным чистилищем, пыткой, которую надо вытерпеть, способом достигнуть цели, это могло объяснять взрослую сдержанность, сосредоточенность, которая вовсе не всегда была обязательна, неспособность улыбаться.
Немного не ко времени Люси вспомнила забавный рассказ Детерро о том, как, увидев Иннес, она передумала и решила остаться в Лейсе. В тот пасмурный день Детерро обратила внимание на Иннес, потому что та была «не из Лейса», она выбрала Иннес из толпы мельтешащих перед глазами студенток как человека, принадлежащего иному, более взрослому миру.
— Однако коллеги очень любят ее, — сказала вслух Люси.
— Да, соученицы любят ее. Они находят ее отчужденность загадочной, что ли. К сожалению, дети любят ее меньше, она их пугает. Если ты заглянешь в книгу, куда преподаватели записывают критические отзывы об уроках, которые студентки дают вне колледжа, то увидишь, что при описании поведения Иннес слово «антагонистична» появляется там достаточно часто.
— Может, это ее брови, — проговорила Люси. Она увидела, что Генриетта, ничего не поняв, приняла это за легкомысленную шутку, и добавила: — А может быть, она, как и многие другие люди, вопреки своему виду, испытывает глубокие внутренние сомнения. Это обычное объяснение антагонистичного поведения.
— Объяснения психологов мне представляются несколько уклончивыми, — ответила Генриетта. — Если у человека нет природной способности привлекать к себе людей, он может, по крайней мере, сделать усилие, чтобы казаться дружелюбным. Так поступает мисс Роуз.
(«Еще бы!» — подумала Люси.)
— Это большая трагедия — отсутствие природной привлекательности; человека не только не любят его коллеги, он вынужден еще терпеть необоснованное предубеждение начальства. Мисс Роуз очень много работала, чтобы побороть свои недостатки: замедленность мышления и некрасивость. Она идет людям навстречу и делает огромные усилия, чтобы приспособиться к ним, быть им приятной. И с учениками она занимается успешно. Они любят ее, с нетерпением ждут встречи с ней; отзывы о ее уроках блестящие. А вот в личных отношениях с преподавателями ее постигла неудача. Они замечают лишь ее непривлекательность, а усилия, которые она прилагает, чтобы быть дружелюбной и приятной, только раздражают их. — Генриетта подняла глаза от бумаги, на которой чиркала пером, и заметила выражение лица Люси. — Ну да, ты думаешь, что предпочтение, которое я отдаю Роуз как кандидатке, — результат слепой пристрастности, правда? Поверь, мне не удалось бы поднять Лейс до его нынешнего уровня, если бы я не понимала кое-что в том, как работает мышление человека. Все годы Роуз очень много трудилась, добилась успеха, ее любят ученики, она достаточно умеет приспосабливаться, чтобы ее приняли ее будущие коллеги. У нее есть дружелюбие и расположенность к людям — то, чего так явно не хватает Иннес. И я не вижу причин, почему бы ей не отправиться в Арлингхерст, имея мои самые горячие рекомендации.
— Не считая того, что она — нечестный человек.
Генриетта швырнула ручку, и та со звоном упала на подставку.
— Вот пример того, с чем приходится бороться непривлекательной девушке, — сказала она, вся воплощение праведного гнева. — Ты считаешь, что кто-то из девушек пытался смошенничать на экзамене, и указываешь на Роуз. Почему? Потому что тебе не нравится ее лицо — точнее, его выражение.
Итак, все бесполезно. Люси подобрала ноги и приготовилась встать.
— И вообще, маленькую книжку, которую ты нашла, связать с какой-нибудь определенной студенткой никак нельзя. Просто ты вспомнила, что тебе не понравилось выражение лица мисс Роуз, и вот она уже преступница. Преступница (если таковая вообще существует; мне бы очень не хотелось верить, что кто-то из моих Старших способен на такой поступок), преступница, может быть, самая хорошенькая и сама невинная из класса. Тебе следовало бы лучше знать человеческую природу, как предмет психологии, и понимать это.
Не известно, что было причиной — последний выпад Генриетты или обвинение в том, что она приписывает преступление девушке только потому, что у той некрасивое лицо, — но, выходя из комнаты, Люси была крайне раздражена.
— И последнее, Генриетта, — сказала она, остановившись и взявшись за ручку двери.
— Да?
— До сих пор Роуз удавалось сдавать экзамены на первую степень.
— Да.
— Это странно, правда ведь?
— Ничего странного. Она очень много занималась.
— И все-таки странно, потому что, когда кому-то помешали воспользоваться маленькой красной книжкой, она не смогла получить даже вторую.
И Люси тихо закрыла за собой дверь.
Пусть переварит это, подумала она.
Пока она шла к своему крылу, раздражение уступило место унынию. Генриетта, как сказала Люкс, была честна, и поэтому спорить с ней было бесполезно. До какого-то предела она была проницательной и дальновидной, но дальше заболевала тем, что мисс Люкс назвала «астигматизмом». А с ментальным астигматизмом ничего поделать невозможно. Генриетта мошенничала неосознанно, а значит, ее нельзя было ни убедить, ни испугать, ни склонить к изменению курса. Люси с изрядной долей страха подумала о предстоящей вечеринке. Каково ей будет смотреть на Старших, которые только и будут говорить что об Арлингхерсте, радуясь удаче Иннес?
Каково ей будет смотреть на саму Иннес, на ее блестящие глаза? Иннес, для которой «сам король не брат»?
XI
Ужин в Лейсе считался самым официальным мероприятием в распорядке дня; Старшие к этому времени переодевались в шелковые платья для танцев, остальные тоже меняли туалеты. Но по субботам, когда многие получали «увольнительную» в Ларборо, обстановка бывала гораздо более свободной. Студентки садились, где им хотелось, и в пределах допустимого надевали на себя то, что им хотелось. А в этот вечер атмосфера была еще более неформальной, чем обычно, потому что многие отправились праздновать конец экзаменационной недели где-нибудь в другом месте, а оставшиеся собирались праздновать здесь же, после ужина. Генриетта не появилась — поднос с ужином отнесли к ней в комнату; очевидно, и мадам Лефевр решила не приходить. Фрекен с матерью уехали в театр в Ларборо, так что Люси оказалась за столом с мисс Люкс и мисс Рагг и была этому рада. По молчаливому согласию жгучего вопроса об Арлингхерсте не касались.
— Вам не кажется, — проговорила мисс Люкс, без всякого энтузиазма ковыряя вилкой некое чудо-блюдо из овощей, лежавшее на ее тарелке, — что в праздничный вечер мисс Джолифф могла бы приготовить что-нибудь более привлекательное, чем эти объедки.
— Именно потому, что это праздничный вечер, она и не стала ничего делать, — ответила мисс Рагг, с аппетитом поедая все, что стояло перед ней. — Она очень хорошо знает, что наверху припасены лакомства в количестве, способном потопить военный корабль.
— Увы, это не для нас. Надо попросить мисс Пим сунуть что-нибудь в карман для нас, когда она будет уходить.
— Я купила булочки с кремом в Ларборо, когда возвращалась с матча, — призналась Рагг. — Мы можем выпить кофе у меня в комнате и съесть их.
Мисс Люкс предпочитала сырные палочки, однако, несмотря на свою холодную язвительность, была добрым человеком, поэтому она проговорила:
— Очень мило с вашей стороны; с удовольствием.
— Я думала, что вы поедете в театр, а то бы предложила раньше.
— Старомодное занятие.
— Вы не любите театр? — спросила с удивлением Люси, для которой театр все еще сохранял долю привычного с детства очарования.
Мисс Люкс, которая вопрошающе и с явной неприязнью рассматривала кусок морковки, подняла глаза и сказала:
— Вы никогда не думали о том, как бы вы восприняли театр, если бы попали туда впервые теперь, не испытав детской привязанности к пантомиме и тому подобному? Неужели вы нашли бы, что несколько переодетых типов, принимающих картинные позы в освещенной коробке, — это занимательно? А дурацкий обычай антрактов — раньше предназначавшихся для прогулки в туалетную комнату, а теперь отданный на откуп барам, чтобы они могли извлекать прибыль? Какой еще из всевозможных видов развлечений позволит столь вольные перерывы? Разве кто-нибудь остановит посредине исполнение симфонии, чтобы слушатели могли пойти выпить?
— Но так построены пьесы, — запротестовала Люси.
— Да. Как я уже сказала — старомодное занятие.
Люси была слегка обескуражена, не потому, что это пошатнуло ее давнюю любовь к театру, а потому, что она, оказывается, ошибалась относительно мисс Люкс. Мисс Люкс казалась Люси потенциальной пылкой участницей экспериментальных спектаклей самых мрачных пьес, посвященных Причине и Следствиям.
— А я едва не пошла сегодня, — сказала Рагг, — только чтобы еще раз увидеть Эдварда Эйдриана. Я была просто без ума от него, когда была студенткой. Наверно, сейчас он немного passe.[566] Вы видели его когда-нибудь?
— На сцене — нет. А мальчиком он обычно проводил каникулы у нас. — Мисс Люкс еще раз пошевелила вилкой груду овощей на своей тарелке и решила, что там больше нет ничего достойного внимания.
— Проводил каникулы? У вас дома?
— Да, он учился в школе вместе с моим братом.
— Господи Боже! Совершенно невероятно!
— Что в этом невероятного?
— Я хочу сказать, Эдварда Эйдриана трудно представить себе обыкновенным человеком, с которым можно быть знакомым. Таким же школьником, как любой другой.
— Противный мальчишка.
— Ой, не надо!
— Отвратительный мальчишка. Вечно разглядывал себя в зеркале. И обладал замечательным талантом захватывать все лучшее из возможного. — Люкс говорила спокойно, отвлеченно, как будто ставила диагноз.
— О Кэтрин, вы расстроили меня.
— Я больше ни у кого не встречала такой способности перекладывать неприятные дела на других, как у Тедди Эйдриана.
— Но у него есть, несомненно, и другие способности, — осмелилась заметить Люси.
— Да, у него есть талант.
— Вы видитесь с ним? — спросила Рагг, все еще пораженная тем, что из первых рук получила сведения об Олимпе.
— Только случайно. Когда брат умер, мы отказались от дома, в котором жили наши родители, и семейные сборища кончились.
— И вы никогда не видели его на сцене?
— Никогда.
— И вы не поехали на автобусе за шесть пенсов в Ларборо, чтобы увидеть его сегодня.
— Не поехала. Говорю вам, театр нагоняет на меня смертельную скуку.
— Но это Шекспир.
— Хорошо, Шекспир. Я лучше посижу дома и почитаю его в обществе Дорин Рагг и ее слоек с кремом. Вы не забудете положить что-нибудь в карман для нас, когда будете уходить с праздника, а, мисс Пим? Все будет с благодарностью принято умирающим от голода пролетариатом. Макароны, плитки «Марса», апельсины-корольки, зачерствевшие сэндвичи, помятые булочки с сосисками…
— Я пущу шапку по кругу, — пообещала Люси. — Буду протягивать шапку и дрожащим голосом повторять: «Не забудьте преподавателей!»
Однако, когда она доставала бутылку шампанского из тающего в тазу льда, на душе у нее было вовсе не весело. Вечеринка, похоже, будет тяжким испытанием, но никуда не денешься. Люси завязала большой бант из ленты на горлышке бутылки, чтобы придать ей праздничный вид и убрать всякое подозрение, что она, Люси, «принесла свое спиртное». В результате бутылка стала, пожалуй, похожа на герцогиню в бумажном колпаке, но Люси решила, что ничего подобного студенткам в голову не придет. Она поколебалась, раздумывая, что надеть, выбирая между костюмом, пригодным для «приема-сидя-на-полу», и желанием оказать честь хозяйкам. Люси решила польстить им, надев «лекционное» платье и наложив особо тщательный макияж. Если Генриетта своей выходкой столько испортила, она, Люси, привнесет в эту вечеринку все что сможет.
Судя по доносящемуся отовсюду шуму, беготне туда и обратно с чайниками в руках, вечеринка у Стюарт была в этот вечер в Лейсе не единственной. В коридорах пахло кофе, и, когда двери открывались и закрывались, волны смеха и болтовни прокатывались и замирали. Даже Младшие, похоже, праздновали. Они не могли еще отмечать получение места, но могли радоваться тому, что их первые выпускные экзамены позади. Люси вспомнила, что не узнала у Нат Тарт, как та сдала выпускной экзамен по анатомии («Сегодняшняя умная мысль завтра может оказаться чепухой, а ключица всегда ключица»). Надо будет поискать фамилию Детерро, когда она будет проходить мимо студенческой доски объявлений.
Люси пришлось дважды постучать в дверь номера десять, прежде чем ее услышали; но когда раскрасневшаяся Стюарт открыла дверь и впустила Люси, на собравшихся вдруг напала внезапная застенчивость, они вскочили, замолчали и тихо стояли, как вежливые, хорошо воспитанные дети.
— Мы так рады, что вы пришли, — начала Стюарт, но тут Дэйкерс увидела бутылку, и со всякими формальностями было покончено.
— Вино! — закричала она. — Чтоб мне с места не сойти, вино! О, мисс Пим, вы душка!
— Надеюсь, я не нарушила правила, — проговорила Люси, вспоминая выражение глаз мисс Джолифф, так и оставшееся не совсем понятным, — но мне показалось, что это хороший повод выпить шампанского.
— Тройной повод, — объявила Стюарт. — Дэйкерс и Томас тоже именинницы. Лучшего повода быть не может. Как мило, что вы подумали о шампанском.
— Это кощунство — пить шампанское из стаканов для чистки зубов, — сказала Хэсселт.
— Ничего, мы выпьем его как аперитив. Как отдельное блюдо. Давайте сюда свои стаканы. Мисс Пим, кресло — для вас.
Плетеное кресло было выдвинуто, и на него положили целую кипу разноцветных подушек; если не считать жесткого стула у письменного стола, это было единственное в комнате законное место для сидения; остальные участницы празднества принесли с собой подушки, бросили их на пол и теперь расселись на них, по одиночке или кучками, как котята на кровати. Кто-то набросил желтый шелковый платок на лампочку, так что обычно резкий яркий свет смягчился, став золотистым. Бледно-голубые сумерки за распахнутым окном служили как бы задником декораций, задником, который скоро должен был потемнеть. Вечеринка была такой же, как любая студенческая вечеринка во времена, когда Люси училась в колледже, только все было красочнее, ярче. Потому ли, что цвета подушек были более веселыми? Или потому, что девушки были красивее: у них не было прямых свисающих волос, не было очков, не было студенческой бледности. Нет, конечно, дело не в этом. Люси поняла — в чем. Не было сигаретного дыма.
— О'Доннелл еще нет, — сказала Томас, забирая стаканы у гостей и ставя на покрытый белой материей стол.
— Она, наверно, помогает Роуз установить бум, — сказала одна из Апостолов.
— Вряд ли, — отозвалась другая. — Сегодня суббота.
— Даже в К. Ф. О. по воскресеньям не занимаются, — добавила третья.
— Даже Роуз, — заключила четвертая.
— Мисс Роуз все еще тренируется в движении с вращением? — спросила Люси.
— О да, — ответили ей. — Она будет продолжать до дня показа.
— Когда же она находит время?
— Утром, как только оденется. До первого урока.
— В шесть утра! — ужаснулась Люси. — Кошмар!
— Время не хуже любого другого, — возразили ей. — По крайней мере, ты еще свежая, и торопиться не надо, и весь зал — твой. А кроме того, это единственное возможное время. Бум должен быть убран до первого урока.
— Ей не обязательно тренироваться, — сказала Стюарт. — Навык вернулся. Но она безумно боится снова потерять его перед показом.
— О Господи, я могу это понять, — посочувствовала Дэйкерс. — Подумать только, какой идиоткой будешь чувствовать себя, если повиснешь на буме, как больная обезьяна, и вся элита на тебя смотрит, и фрекен просто пронзает тебя этими своими глазами. Господи, смерть покажется тут счастливым избавлением. Если Донни не на поденщине у Роуз, то где же она? Только ее не хватает.
— Бедная Дон, — вздохнула Томас, — у нее еще нет места. — Томас, получив должность младшей-из-трех в Уэльсе, чувствовала себя миллионером.
— Не беспокойся о Дон, — заметила Хэсселт, — ирландцы всегда падают на все четыре лапы.
Мисс Пим искала глазами Иннес, но не видела ее. Бо тоже не было.
Стюарт, проследив за ее взглядом, поняла заключавшийся в нем вопрос и сказала:
— Бо и Иннес просили меня сказать вам, что им очень жаль — они сегодня не будут, но они надеются, что вы будете их гостьей на другой вечеринке, еще до конца семестра.
— Бо устраивает ее в честь Иннес, — сказала Хэсселт. — Чтобы отпраздновать Арлингхерст.
— Собственно говоря, мы все устраиваем вечер в честь Иннес, — сказала первый Апостол.
— Что-то вроде общего слета, — подтвердила вторая.
— В конце концов, это честь для всего колледжа, — заметила третья.
— Ведь вы придете, мисс Пим, — заключила четвертая не вопросительным, а утвердительным тоном.
— Ничто не доставит мне большего удовольствия, — сказала Люси и добавила, радуясь возможности сойти с тонкого льда: — А что случилось с Бо и Иннес?
— Неожиданно прикатили родители Бо и увезли их в театр в Ларборо, — ответила Стюарт.
— Вот что значит иметь роллс, — сказала Томас без капли зависти в голосе. — Носись по всей Англии, как тебе заблагорассудится. Когда мои родители хотят куда-нибудь поехать, им надо запрячь старую серую кобылу, знаете, такую невысокую, коренастую, и трястись двадцать миль до ближайшего поселка.
— Они фермеры? — спросила Люси, представив себе пустую узкую дорогу в Уэльсе, протянувшуюся по безлюдью.
— Нет, мой отец священник. Но нам приходится держать лошадь, чтобы обрабатывать землю, а позволить себе и лошадь, и машину мы не можем.
— Да ладно, — заявила первый Апостол, устраиваясь поудобнее на кровати, — и вообще, кому охота теперь ходить в театр?
— Самый скучный способ провести вечер, — сказала вторая.
— Сиди, уткнувшись коленями в чью-то спину, — добавила третья.
— Не отрывая глаз от бинокля, — присовокупила четвертая.
— Почему бинокль? — спросила Люси, удивленная тем, что позиция мисс Люкс нашла поддержку среди тех, у кого пресыщенность не должна была еще разрушить жажду развлечений.
— А что без него увидишь?
— Марионеток в ящике.
— Как на пирсе в Брайтоне.
— Только на пирсе в Брайтоне можно видеть выражение лиц.
Они сами как будто сошли с пирса в Брайтоне, подумала Люси. Все по очереди. Как раздвоившиеся близнецы. Когда кто-то первым произносил какую-то фразу, остальные чувствовали, что должны подкрепить это замечание дополнительными аргументами.
— Что касается меня, я ужасно рада, что можно задрать ноги и ничего не делать для разнообразия, — заявила Хэсселт. — Я стерла ноги новыми балетными туфлями, и у меня ужасные волдыри.
— Мисс Хэсселт, — проговорила Стюарт, явно копируя кого-то. — Студентка обязана следить за своим телом, чтобы оно всегда находилось в соответствующем состоянии.
— Очень может быть, — ответила Хэсселт, — но я не собираюсь стоять целых пять миль в автобусе в субботу вечером, чтобы куда-то отправиться, меньше всего в театр.
— А потом, дорогие, это только Шекспир! — заявила Дэйкерс. — «Вот в чем вопрос!» — шутливо передразнила она, прижимая руку к груди.
— Но ведь Эдвард Эйдриан, — вступила Люси, чувствуя, что должен же кто-то защитить ее любимый театр.
— А кто этот Эдвард Эйдриан? — совершенно искренне спросила Дэйкерс.
— Это тот тип, у которого такой утомленный вид и который похож на линяющего орла, — ответила Стюарт, слишком занятая обязанностями хозяйки, чтобы заметить реакцию Люси: вот, оказывается, в каком убийственном, но весьма живописном образе представал Эдвард Эйдриан в трезвых глазах молодежи. — Нас часто водили смотреть его, когда я училась в школе в Эдинбурге.
— И вам не нравилось? — спросила Люси, вспомнив, что фамилия Стюарт входила в первую тройку в списках, вместе с Бо и Иннес, и что умственная деятельность для нее, вероятно, не является столь тяжким испытанием, как для некоторых других.
— О, это было лучше, чем сидеть в классе, — согласилась Стюарт. — Но это было ужасно — старомодно. Приятно смотреть, но скучновато. Не хватает одного стакана.
— Наверно, моего, — сказала О'Доннелл, входя в комнату и отдавая хозяйке свой стакан. — Кажется, я опоздала. Я искала туфли, которые бы налезли мне на ноги. Мисс Пим, простите меня, пожалуйста, за эти. — И она показала на домашние шлепанцы, которые были у нее на ногах. — Мои ноги отказываются мне служить.
— А вы знаете, кто такой Эдвард Эйдриан? — спросила Люси у О'Доннелл.
— Конечно знаю, — ответила та. — С тех пор как в двенадцать лет я увидела его в Белфасте, я без ума от него.
— Кажется, вы единственная здесь, кто знает его и восхищается им.
— А, язычники, — сказала О'Доннелл, бросив презрительный взгляд на собравшихся, и Люси подумалось, что у О'Доннелл подозрительно блеснули глаза, как будто она плакала. — Если бы это не был конец семестра и у меня оставались бы деньги на билет, я бы сейчас была в Ларборо и сидела у его ног.
И если бы, подумала Люси, сочувствуя девушке, твое отсутствие на вечеринке не приписали тому, что ты — единственная, у кого еще нет места. Она почувствовала симпатию к девушке, которая осушила глаза, не забыла извиниться за домашние шлепанцы и с веселым видом пришла на вечеринку, на которой ей нечего было праздновать.
— Ну, — сказала Стюарт, снимая проволоку с пробки, — теперь, когда О'Доннелл пришла, мы можем открыть бутылку.
— Господи, шампанское! — воскликнула О'Доннелл.
Вино, пенясь, полилось в толстые грубые стаканы, и все в ожидании повернулись к Люси.
— За Стюарт в Шотландии, за Томас в Уэльсе, за Дэйкерс в аббатстве Линг! — провозгласила Люси.
Все выпили.
— И за всех друзей от Кейптауна до Манчестера, — сказала Стюарт.
Выпили и за это.
— А теперь, мисс Пим, что вам положить?
И Люси спокойно и с удовольствием стала наслаждаться жизнью. Роуз не была в числе гостей, и по милости Провидения в лице богатых родителей с роллс-ройсом она, Люси, была избавлена от пытки сидеть напротив Иннес, лучившейся от счастья, для которого не было ни малейшего основания.
XII
Однако к середине дня в воскресенье радостное настроение улетучилось, и Люси очень жалела, что не сообразила раньше и не придумала какую-нибудь отговорку вроде приглашения на ленч в Ларборо, которая позволила бы ей бежать, бежать от надвигающегося взрыва. Люси терпеть не могла взрывы, как буквальные, так и метафорические; на людей, надувавших бумажные пакеты, которые потом с шумом лопались от хлопка, она смотрела со смесью отвращения и страха. А бумажный пакет, который должен был лопнуть после ленча, был особо мерзким; отголоски этого взрыва могли быть бесконечны и непредсказуемы. В глубине души у Люси теплилась надежда, что Генриетта передумает, что немое свидетельство списков с результатами экзаменов, вывешенных на доске объявлений, может оказаться более красноречивым, чем ее, Люси, жалкие слова. Но этот крошечный зародыш надежды не привносил ободрения. Люси слишком ясно понимала: даже пошатнувшаяся вера Генриетты в Роуз отнюдь не означает того, что в ней растет убежденность в достоинствах Иннес как кандидатки в Арлингхерст. Может быть, Генриетта напишет директрисе Арлингхерста, что среди оканчивающих нет студентки, достойной занять столь высокий пост, — это было самое большее, на что стоило надеяться, но это никак не спасет Иннес от горя, которое обрушится на нее. Нет, ей, Люси, решительно следует убежать из Лейса на время воскресного ленча и вернуться, когда все события уже будут позади. Ведь можно предположить, что в Ларборо живут люди, которых тебе пришла мысль посетить. Ведь помимо обитателей богатых вилл за чертой города с их гладкими, посыпанными песком дорожками и псевдороскошью, с одной стороны, и городской чернью — с другой, должен существовать слой людей таких, как она сама. Врачи, например. Она может придумать друга-врача — правда, все врачи занесены в книгу. Подумай она об этом вовремя, она могла бы пригласить себя на ленч с доктором Найт; в конце концов, Найт обязана ей кое-чем. Или она могла бы взять с собой сэндвичи, просто уйти на природу и не возвращаться, пока не придет время ложиться спать.
Вместо этого она сидела у окна в гостиной, ожидая, пока преподаватели соберутся вместе, чтобы идти в столовую; глядя на студенток, возвращающихся из церкви, Люси думала: а может, набраться храбрости и решимости, найти мисс Джолифф и все-таки попросить у нее сэндвичей. Или просто выйти из колледжа, не сказав никому ни слова, — в конце концов, никто еще не умирал с голоду в английской провинции, даже в воскресенье. Как говорила Детерро, всюду есть деревни.
Детерро первой вернулась из церкви, неторопливая в движениях, элегантная, как всегда. Люси высунулась из окна и сказала:
— Поздравляю вас с хорошим знанием ключиц.
Накануне вечером, отправляясь спать, она взглянула на доску.
— Да, я сама себе удивилась, — ответила Нат Тарт. — Бабушка будет довольна. «Первая степень» — звучит так славно, правда? Я похвасталась этим перед своим кузеном, но он сказал, что так делать неприлично. В Англии принято ждать, пока тебя спросят о твоих успехах.
— Да, — грустно сказала Люси. — И хуже всего то, что очень мало кто спрашивает. Число тех, кто ставит свечу в подсвечник и светит во всем доме, в Великобритании трагично мало.
— Не в Великобритании, — поправила Нат Тарт. — Он говорит — мой кузен, — что севернее реки Твид хвастать можно. Знаете, это река на границе Англии и Шотландии. Рик говорит, что в Данбаре вы можете хвастаться, а в Бервике — нет.
— Мне бы хотелось познакомиться с Риком, — сказала Люси.
— Кстати, он думает, что вы — чудо.
— Я?
— Я рассказывала ему о вас. Мы в антракте говорили только о вас.
— О, вы ходили в театр?
— Ходил он. А меня повели.
— Значит, вам не понравилось? — спросила Люси, аплодируя в душе молодому человеку, который заставил Нат Тарт делать что-то, чего ей делать не хотелось.
— О, это было, как говорится, «не слишком плохо». Когда есть немного высокопарности — это даже приятно — для разнообразия. А балет мог бы быть лучше. Он танцор manque,[567] этот тип.
— Эдвард Эйдриан?
— Да. — Мысли Нат Тарт, похоже, отклонились в сторону. — Англичане носят шляпы только одного фасона, — произнесла она задумчиво. — С поднятыми сзади и опущенными спереди полями.
С этими словами она направилась в обход дома, оставив Люси размышлять, относилось это неожиданное замечание ко вчерашней публике или было вызвано появлением на подъездной аллее Дэйкерс. Воскресная шляпка Дэйкерс была действительно просто улучшенной копией шляпки, которую та носила в школе, и выглядывающее из-под узеньких полей милое улыбающееся, похожее на мордочку пони, личико казалось еще более юным, чем всегда. Увидев мисс Пим, Дэйкерс широким жестом сняла шляпу и громко выразила радость, что видит Люси в добром здравии после суровых испытаний вчерашнего вечера. По ее словам, это было первое утро за всю ее, Дэйкерс, жизнь в колледже, когда она не смогла съесть пятый кусок хлеба с джемом.
— Обжорство — один из семи смертных грехов, — заметила Дэйкерс, — так что сегодня утром мне необходимо было исповедаться. Я пошла в баптистскую церковь, потому что она ближе всех.
— И вы чувствуете облегчение?
— Не знаю, чувствую ли я облегчение, теперь, когда вы спросили об этом. Все было похоже на обыкновенную беседу.
Люси поняла это так, что пристыженная душа испытывала потребность в церковном ритуале.
— Во всяком случае, дружескую.
— О, страшно дружескую! Священник начал проповедь с того, что оперся на локоть и заявил: «Ну вот, друзья мои, день сегодня прекрасный». А выходя, все пожимали друг другу руки. И у них есть очень красивые воинственные гимны, — добавила Дэйкерс, перебрав в уме достоинства баптистов. Она задумалась еще на минуту и проговорила: — По дороге в Ларборо есть еще какие-то Портсмутские братья…
— Плимутские.
— Что — плимутские?
— Плимутское братство, наверно, хотите вы сказать.
— Ну да. Я знаю, что они имеют какое-то отношение к морскому флоту. А я по склонности помпеянка. Ладно, попробую зайти к ним в будущее воскресенье. Как вы думаете, это не частное владение или что-нибудь вроде этого?
Мисс Пим так не думала, и Дэйкерс шутливо махнула шляпкой, изобразив прощальный жест, и пошла вокруг дома.
По одиночке, по двое и маленькими группками возвращались студентки в колледж после своей обязательной утренней прогулки. В зависимости от темперамента они приветствовали Люси взмахом руки, словом или просто улыбкой. Даже Роуз прокричала на ходу веселое «С добрым утром, мисс Пим!». Почти последними появились Бо и Иннес; они шли медленно, и вид у них был безмятежный и расслабленный. Остановившись под окном, они взглянули на Люси.
— Язычница! — проговорила Бо, улыбаясь.
Как жалко, что они не были вчера на вечеринке, сказали девушки, но будут другие вечера.
— Я сама устрою вечеринку, когда пройдет показ, — заявила Бо. — Вы придете, хорошо?
— С удовольствием. Как вам понравилось в театре?
— Могло быть хуже. Мы сидели рядом с Колином Бэрри.
— Кто это?
— Известный всей Англии хоккейный полузащитник.
— Наверно, это очень помогало смотреть «Отелло».
— Это помогало вытерпеть антракты, уверяю вас.
— А вам не хотелось посмотреть «Отелло»?
— Нам — нет. Нам до смерти хотелось посмотреть новый фильм с Ирмой Айрлэнд — «Пылающие барьеры». Звучит очень знойно, но в действительности это просто настоящий лесной пожар. Только мои родители считают, что праздничный вечер — это театр и коробка шоколада в антрактах. Нам не хотелось разочаровывать дорогих старичков.
— А им понравилось?
— Они были в восторге. За ужином только об этом и говорили.
— И вы осмеливаетесь называть кого-то язычником, — заметила Люси.
— Приходите сегодня пить чай со Старшими, — сказала Бо.
Люси поспешила ответить, что уже приглашена к чаю.
Бо посмотрела на ее виноватое лицо, чуть-чуть улыбнувшись, но Иннес вежливо сказала:
— Нам следовало пригласить вас раньше. Вы ведь не уедете до показа, правда?
— Не уеду, если ничего не случится.
— Тогда вы придете к чаю в следующее воскресенье?
— Благодарю вас. Если я буду здесь — с удовольствием.
— Это мне — урок хороших манер, — сказала Бо.
Они стояли на посыпанной гравием дорожке, подняв к ней лица, улыбаясь. Такими она и запомнила их навсегда. Освещенными лучами солнца, спокойными, изящными, уверенными друг в друге и в том, что мир справедлив. Никакое сомнение не омрачало их души. Они считали само собой разумеющимся, что теплый гравий у них под ногами — твердая почва, а не край пропасти, грозящей катастрофой.
Колокол «за пять минут до гонга» встряхнул их. Когда они убежали, в гостиную вошла мисс Люкс; такой мрачной Люси ее еще никогда не видела.
— Не могу понять, почему я не ушла, — проговорила она. — Если бы я вовремя сообразила, не пришлось бы участвовать в этом гнусном фарсе.
Люси ответила, что сама думала о том же.
— Полагаю, нет никаких признаков, что намерения мисс Ходж изменились?
— Насколько я знаю, нет. Боюсь, это мало вероятно.
— Как жаль, что мы все не ушли куда-нибудь. Если бы мисс Ходж пришлось назвать фамилию Роуз перед совсем пустым столом, колледж понял бы, по крайней мере, что мы не желаем участвовать в этом пародийном представлении.
— Если бы не нужно было отмечаться в табеле, что «уходишь» до одиннадцати часов, я бы удрала сейчас, но у меня не хватает мужества.
— Ладно, может, нам удастся придать лицам такое выражение, что все поймут: мы считаем, что это дело дурно пахнет.
Люси подумала: «Мисс Люкс не желает присутствовать, потому что это может быть расценено как моральная поддержка, а я просто как ребенок хочу убежать от неприятностей». Не в первый раз Люси захотелось, чтобы у нее был характер, более достойный восхищения.
Вплыла мадам Лефевр; на ней был шелковый костюм темно-шоколадного цвета, на ярком свету отсвечивающий синим металлическим блеском и делавший ее больше, чем когда-либо, похожей на экзотическую стрекозу. Отчасти в этом были виноваты, конечно, ее огромные, как фонари, глаза. Как на фотографиях насекомого, сделанных крупным планом, из каких-нибудь рассказов о природе — глаза и хрупкое коричневое тело, такое угловатое и такое изящное. Мадам, кажется, справилась с приступом нахлынувшей было ярости и вновь обрела привычный отстраненно-презрительный взгляд на род людской; теперь она смотрела на происходящее со злым, хоть и слегка развлекающим ее отвращением.
— Никогда не присутствовала на поминках, — заявила мадам. — С интересом жду сегодняшнего представления.
— Вы вампир, — сказала Люкс без всякого чувства, как будто у нее уже не было сил, чтобы реагировать. — Сделали вы хоть что-нибудь, чтобы заставить ее изменить свое решение?
— О да, я боролась с Темными Силами. Боролась изо всех сил. Старалась быть убедительной, смею сказать. С примерами и ссылками. Кто это был осужден вечно катить камень в гору? Удивительно, как эти мифологические выдумки приложимы и к сегодняшнему дню. Интересно, можно ли поставить балет «Наказание»? Чистка конюшен и тому подобное. На музыку Баха, быть может. Хотя Бах и не очень вдохновляющий композитор в смысле хореографии. И слишком многие возмутятся и проклянут того, кто на это осмелится.
— Ох, перестаньте, — проговорила Люкс. — Мы собираемся потворствовать совершению мерзости, а вы рассуждаете о хореографии.
— Моя добрая, хоть и слишком серьезная Кэтрин, вы должны научиться принимать жизнь такой, какая она есть, и сторониться того, что вы не можете изменить. Совершенно правильно советуют китайцы: если насилия не избежать, расслабьтесь и постарайтесь получить удовольствие. Мы потворствуем мерзости, как вы исключительно точно определили. Однако, как разумные люди, мы интересуемся и побочными продуктами процесса. Любопытно посмотреть, например, как отреагирует маленькая Иннес. Окажется удар смертельным, побудит ее к каким-нибудь поступкам или бросит в пучину диких мук бессмысленных действий?
— Идите к черту с вашими метафорами. Вы городите чепуху и знаете это. Нас вынуждают морально одобрить насилие над другим человеком и, насколько я знаю, ни в истории, ни в философии, ни в китайской, ни в какой-либо другой подобного примера нет.
— Насилие? — произнесла фрекен, входя в комнату в сопровождении матери. — Кого собираются насиловать?
— Иннес, — ответила Люкс сухо.
— О-о. — Искорка в глазах фрекен погасла, они опять стали холодными и бледными. — Да, — проговорила она задумчиво. — Да.
Круглое лицо фру Густавсен, похожее на лицо жены Ноя, выглядело озабоченным. Она переводила взгляд с одной преподавательницы на другую, как будто желая найти хоть какой-то проблеск надежды, хоть намек на то, что проблема может быть решена. Она подошла к окну, возле которого сидела Люси, быстро кивнула, что должно было означать короткое пожелание доброго утра, и заговорила по-немецки:
— Вы знаете, что собирается делать директриса? Моя дочь очень сердится. Очень сердится моя дочь. С самого ее детства я не видела, чтобы она так сердилась. Это очень плохо, то, что происходит? Вы тоже так думаете?
— Да, к сожалению, я тоже так думаю.
— Мисс Ходж очень хорошая женщина. Я восхищаюсь ею. Но когда хорошая женщина делает ошибку, это может оказаться гораздо хуже, чем ошибка плохой женщины. Неизмеримо хуже. Жаль.
— Очень жаль, — согласилась Люси.
Дверь открылась, и вошла Генриетта, в ее кильватере двигалась взволнованная Рагг. Генриетта казалась спокойной, разве только немного более величественной, чем обычно (или чем того требовали обстоятельства), а Рагг посылала всем умоляющие улыбки, как бы призывая: «девочки, будем держаться вместе и видеть все в розовом свете». Возникший в среде коллег крайний антагонизм пугал ее, и она бросала призывные взгляды на мадам, за которой обычно следовала по пятам. Однако мадам с широкой сардонической улыбкой смотрела только на Генриетту.
Генриетта пожелала всем доброго утра (она позавтракала в своей комнате); она рассчитала время своего появления так точно, что прежде чем она успеладоговорить приветствие, отдаленный гул гонга возвестил, что настало время действий, а не слов.
— Пожалуй, пора идти вниз, — сказала Генриетта и первой направилась к двери.
Мадам, скосив глаза в сторону Люкс, выразила этим свое восхищение столь «генеральским» поведением и последовала за Генриеттой.
— И правда, поминки, — заметила Люкс, когда они с Люси спускались по лестнице. — Напоминает Фотерингей.[568]
Разгоряченному воображению Люси показалось, что тишина, встретившая их в столовой, была лишь внешней данью скромности, что она полна ожидания; и действительно в тот день колледж был возбужден, как никогда, так что Генриетта в перерыве между мясным блюдом и пудингом послала Рагг передать Бо просьбу, чтобы студентки вели себя сдержаннее.
Ненадолго они примолкли, но скоро все забыли, и снова смех и болтовня неслись отовсюду.
— Они так возбуждены, потому что экзаменационная неделя позади, — как бы извиняя студенток, сказала Генриетта и оставила их в покое.
Это был ее единственный вклад в беседу — она никогда не разговаривала за едой, — однако Рагг регулярно с храбростью произносила маленькие банальности, обводя взглядом хмурые лица сидящих за столом — как терьер, который принес кость к ногам своего хозяина. Рагг была ни в чем не повинным инструментом казни, пассивным ножом гильотины, она осознавала свою роль и молча просила у всех прощения за это. «О, пожалуйста, ради всего святого, — казалось, говорила она, — я только младший преподаватель гимнастики в этом заведении, это не моя вина, что я обязана вечно таскаться за ней; что вы хотите от меня? Чтобы я ей сказала — пусть объявит эту проклятую новость сама?»
Люси было жаль мисс Рагг, несмотря на то что от ее банальностей она готова была закричать. Успокойтесь, хотелось ей сказать, пожалуйста, успокойтесь, в такой ситуации лучше всего помолчать.
Наконец Генриетта сложила свою салфетку, оглядела стол, дабы убедиться, что весь штат ее преподавателей кончил есть, и поднялась. Преподаватели поднялись вслед за ней, и все студентки тоже встали — с редким рвением и единодушием. Они явно ждали этого момента. Против своей воли Люси обернулась и посмотрела на девушек, на ряды открытых, полных ожидания лиц, не способных подавить улыбку; ее отнюдь не успокоило то, что у них был такой вид, как будто достаточно малейшего повода — и они разразятся приветственными криками.
Когда Генриетта повернулась и пошла к двери, а преподаватели последовали за ней, Рагг посмотрела на веселую толпу девушек и произнесла слова, которые ей было поручено произнести:
— Мисс Ходж желает видеть мисс Роуз у себя в кабинете после ленча.
XIII
Лиц Люси видеть не могла, но почувствовала, как внезапно тишина стала пустой. Пустой и мертвой. Такова разница между летней тишиной, наполненной щебетом птиц, шелестом листьев, шорохом ветра в траве, и застывшей тишиной арктической пустыни. А потом, как раз в тот момент, как преподаватели подошли к дверям, сквозь мертвую пустоту донесся первый слабый свистящий шёпот — они повторяли фамилию.
— Роуз! — говорили они. — Роуз!
И Люси, выйдя на теплый воздух, на солнце, вздрогнула. Звук их голосов напомнил ей шуршание крошечных льдинок, которые злой ветер гнал по ровному снегу. Она даже вспомнила, где она видела такие льдинки и слышала их шорох: эту Пасху она провела в Спейсайде; они опоздали на автобус в Грэнтаун, оказались далеко от дома, и им пришлось долго идти пешком под свинцовым небом и злым ветром сквозь ледяной мир. Вот и сейчас, проходя через залитый солнцем двор, Люси почувствовала себя очень далеко от дома, и небо показалось ей таким же свинцовым, как в мартовскую бурю в горах Шотландии. На какой-то момент ей захотелось быть дома, в своей маленькой гостиной с ее ничем не нарушенным мирком, которого не касаются человеческие проблемы и не задевают человеческие горести. Она подумала, не изобрести ли какой-нибудь предлог, который позволит ей уехать, после того как она получит завтрашнюю почту и появится возможность на что-нибудь сослаться. Однако она, как ребенок, хотела посмотреть в пятницу показательные выступления, и у нее появился личный интерес к тому, что поначалу являлось просто новым зрелищем. Она знала всех Старших и многих Младших, расспрашивала их о показе, делила с ними предвкушение праздника, отчасти смешанное со страхом, даже помогала шить им костюмы. Показ должен был быть вершиной, ликующей песней, точкой, к которой они шли все время обучения в колледже, и Люси не могла уехать, не увидев его, не приняв участия в нем.
Преподаватели, направлявшиеся к фасаду дома, ушли вперед, а Рагг задержалась, чтобы приколоть какое-то объявление к доске; она с откровенным облегчением вытерла пот со лба и сказала:
— Слава Богу, все. Наверно, это худшее из того, что мне приходилось делать. Как только начинала думать об этом, даже есть не могла.
Люси вспомнила, что действительно видела на тарелке мисс Рагг недоеденным большой кусок пирога.
Такова жизнь, да. Перед лицом Иннес захлопнули райские врата, а Рагг не смогла доесть пудинг!
Из столовой еще никто не вышел: аппетит у студенток был гораздо лучше, чем у преподавателей, и обычно они заканчивали есть на десять-пятнадцать минут позже, так что, когда Люси шла в свою комнату, коридоры были пусты. Она решила удрать из Лейса, пока толпа студенток не хлынула на природу. Она уйдет далеко, в зеленое, белое и желтое, что является сельской природой, она будет вдыхать май, лежать на траве, ощущать, что мир вращается вокруг своей оси, и вспоминать, что это очень большой мир, что горести колледжа очень велики и горьки, но они скоро пройдут, и что по глобальной Шкале Ценностей это все значит очень мало.
Люси сменила туфли на более подходящие для полевых тропинок, перешла в «старый дом», спустилась по лестнице и вышла в переднюю дверь, желая избежать встречи со студентками, которые вот-вот начнут просачиваться из столовой. В «старом доме» было очень тихо, из чего Люси заключила, что сегодня никто не задержался в гостиной после ленча. Она обошла дом и направилась к полям за гимнастическим залом, а в мозгу ее смутно шевелились мысли о Бидлингтоне и «Чайнике». Живая изгородь справа от нее была похожа на сплошную пену кремового цвета, а слева раскинулось золотое море лютиков. Вязы, колыхавшиеся в теплом воздухе, были прикованы якорями каждый к собственной пурпурной тени, а под ногами у Люси был узор из маргариток на низкой траве. Вокруг был очень славный мир, красивый, искренний, добрый мир, и день был совершенно неподходящим для того, чтобы — о, бедняжка Иннес! бедняжка Иннес! — опрокинуть и раздавить человека.
Люси решала проблему, перейти ли маленький мостик и повернуть вдоль реки в Бидлингтон или пойти вверх, направляясь в неизвестность, и в этот момент увидела Бо. Бо стояла на середине моста и смотрела на воду, но ее золотистые волосы и зеленое платье настолько вписывались в свет и тень под ивами, что Люси даже не заметила, что тут кто-то есть. Когда она вошла в тень и солнце перестало слепить глаза, она увидела, что Бо взглядом следит за ней, но девушка не поздоровалась. Это было так непохоже на Бо, что Люси стало страшно.
— Хэлло, — сказала она и облокотилась на деревянные перила рядом с Бо. — Правда, прекрасный день?
«Ты обязательно должна говорить, как идиотка?» — спросила она себя.
Ответа не последовало. Потом Бо произнесла:
— Вы знали об этом назначении?
— Да, — ответила Люси. — Я… я слышала, как преподаватели говорили об этом.
— Когда?
— Вчера.
— Значит, сегодня утром, когда вы разговаривали с нами, вы знали.
— Да. А что?
— Было бы лучше, если бы кто-нибудь предупредил ее.
— Кого?
— Иннес. Не очень приятно получить кулаком по зубам в присутствии всех.
Люси поняла, что Бо вне себя от гнева. До сих пор девушка всегда прекрасно владела собой, но сейчас она была так расстроена, что почти не могла говорить.
— Но как я могла предупредить? — задала Люси логичный вопрос, придя в смятение от того, что на нее хотели возложить личную ответственность за дело, в которое она не считала себя вправе вмешиваться. — Я не могла даже упомянуть об этом раньше, чем мисс Ходж объявила о своем решении. Насколько я понимаю, она могла изменить его; когда я рассталась с ней, еще оставалась вероятность, что она посмотрит на вещи с… — Люси замолчала, поняв, куда это может ее завести. Но и Бо тоже поняла. Она резко повернула голову и посмотрела на мисс Пим.
— О, вы спорили с ней. Значит, вы не одобрили ее выбор?
— Конечно нет. — Люси поглядела на рассерженное юное лицо, находившееся так близко от ее собственного, и решила быть откровенной. — Знайте, Бо, никто не одобрил. Преподаватели восприняли это так же, как вы. Мисс Ходж — мой старый друг, я обязана ей многим, я восхищаюсь ею, но что касается этого назначения — она приняла решение, не считаясь ни с кем. Услышав об этом, я пришла в отчаяние, я бы сделала что угодно, только бы отменить его, проснуться завтра утром и обнаружить, что все — дурной сон; но предупредить… — Она развела руками, выражая свою беспомощность.
Бо снова уставилась на воду.
— Такая умная женщина, как вы, должна была бы придумать что-нибудь, — пробормотала она.
Слова «умная женщина» внезапно показали, насколько Бо еще молода и как она нуждается в защите; это было очень непохоже на уверенную в себе светскую девушку Бо — искать помощи у совершенно ординарной Пим или называть ее «умной женщиной». Оказывается, Бо еще ребенок; рассерженный, задетый тем, как дурно поступили с ее подругой. В этот момент она нравилась Люси еще больше, чем всегда.
— Хоть бы намек, — продолжала бормотать Бо, обращаясь к реке, — хоть бы предположение, что кто-то еще может оказаться на беговой дорожке. Что угодно, что могло бы предупредить ее. Смягчило бы удар. Предостерегло бы, чтоб она не была так открыта атаке со всех сторон. Можно наказывать, но нельзя устраивать побоище. Вы могли бы принести маленькую жертву ради этого, разве не так?
Люси с запозданием почувствовала, что, пожалуй, могла бы, и спросила:
— Где она? Где Иннес?
— Не знаю. Она удрала из колледжа, прежде чем я успела поймать ее. Я знаю, что она побежала сюда, но куда она пошла потом — не знаю.
— Она воспримет это очень болезненно?
— А вы ждете, что она будет вести себя в этом кошмарном безобразии храбро и благородно? — зло сказала Бо, но потом спохватилась: — О, извините. Пожалуйста, простите меня. Я знаю, вы тоже огорчены. Просто я не гожусь сейчас для разговоров.
— Да, мне очень жаль, — сказала Люси. — С первого раза, как я ее увидела, я восхищалась Иннес, и я думала, что она добьется большого успеха в Арлингхерсте.
— Добилась бы, — пробормотала Бо.
— А как приняла новость мисс Роуз? Наверно, была удивлена?
— Я не стала дожидаться ее, — отрезала Бо, а потом сказала: — Я, пожалуй, пойду вверх по реке. Там есть небольшие заросли боярышника, который она очень любит; может, она там.
— Вы обеспокоены? — спросила Люси, чувствуя, что если Бо намеревается искать подругу только для собственного успокоения, то Иннес наверняка предпочла бы сейчас побыть одной.
— Не думаю, что она решит покончить с собой, если вы это имеете в виду. Но, конечно, я волнуюсь за нее. Удар вроде этого был бы болезненным для любого, особенно сейчас, в конце семестра, когда все устали. Но Иннес… Иннес всегда всему придавала очень большое значение. — Бо помолчала и снова стала смотреть на воду. — Когда мы были Младшими и мадам мучила нас своим сарказмом — мадам может быть просто ужасной, — мы выходили из класса с синяками, а у Иннес была по-настоящему содрана кожа; действительно до голого мяса. Она никогда не плакала, как другие, когда им невмоготу. Она просто… просто сгорала изнутри. Это очень плохо сгорать внутри. — Бо замолчала, очевидно решив, что и так наговорила достаточно. Она чуть было не проявила нескромность и пришла к выводу, что не следует обсуждать подругу с почти посторонним человеком, пусть даже доброжелательно настроенным. — У нее нет смазки на перьях, у Иннес, — заключила она.
Бо сошла с мостика и двинулась по тропинке под ивами. Перед тем как скрыться из виду, она остановилась и сказала:
— Если я нагрубила, пожалуйста, простите меня. Я не хотела.
Люси продолжала смотреть на гладкую тихую воду, изо всех сил желая, чтобы можно было достать маленькую красную книжку, которую она так неосмотрительно кинула в ручей два дня назад, и думая о девушке, у которой не было «утиной спинки» — не было защитного механизма против мирской непогоды. О девушке, которая не хныкала и не смеялась, которая вместо этого «сгорала изнутри». Хорошо бы Бо не нашла ее, пока не пройдет самый тяжелый момент, подумала Люси. Иннес не бросилась к Бо за сочувствием, она убежала сразу и как можно дальше от людей, и лучше оставить ее в одиночестве, которого она искала.
А Бо, во всяком случае, полезно будет узнать, что в мире существуют и препятствия, и разочарования; до сих пор жизнь была слишком ласковой к Бо. Жаль, что ей приходится учиться на примере Иннес.
Люси перешла мостик, оказалась на игровой площадке и пошла по полю, пользуясь проходами в живой изгороди там, где они попадались. Она надеялась, что не встретится с Иннес, и на всякий случай решила, если это произойдет, не смотреть в ее сторону. Но Иннес не было. Вообще никого не было. Все еще переваривали съеденный ростбиф. Люси была наедине с цветущими кустами изгороди, пастбищем и синим небом. Потом она дошла до края склона, откуда открывался вид на широкую долину; там она села на землю, прислонившись спиной к дубу; в траве жужжали насекомые, в небе проплывали большие белые облака, а тень от дерева медленно двигалась по кругу у ее ног. Способность Люси к ничегонеделанью была почти бесконечной, и это приводило в отчаяние и ее наставников, и ее друзей.
Только когда солнце коснулось верхнего края кустов изгороди, она поднялась и решила двигаться дальше. Результатом ее раздумий было одно: она поняла, что не может сегодня сидеть со всеми за ужином; она будет гулять, пока не натолкнется на какую-нибудь маленькую гостиницу, а потом в сумерках вернется в колледж, когда сигнал колокола «спать» уже разгонит всех по комнатам. Люси сделала большой полукруг по полям и примерно через полчаса увидела вдалеке шпиль, показавшийся ей знакомым; это перенесло ее мысли от поисков какой-нибудь гостиницы на вопрос, открыт ли «Чайник» по воскресеньям. А даже если закрыт, может быть, ей удастся уговорить мисс Невилл дать ей заморить червячка чем-нибудь хотя бы из консервной банки. Было уже половина восьмого, когда Люси добралась до окраин Бидлингтона. Она посмотрела на памятник мученикам — единственное уродливое сооружение в поселке, — почти ощутив общность судьбы, но увидела открытую дверь «Чайника» и успокоилась. Милая мисс Невилл. Милая, большая, ловкая, деловая, приветливая мисс Невилл.
Люси вошла в уютную комнату, уже погрузившуюся в тень от расположенных напротив домов, и обнаружила, что она почти пуста. Какая-то семья занимала стол у окна на улицу, а в дальнем углу сидела молодая пара, которой, очевидно, принадлежал дорогой coupe,[569] стоявший в конце сада. Какая умница мисс Невилл, подумала Люси. После того как схлынула июньская воскресная толпа посетителей, комната по-прежнему была идеально чистой, и в ней пахло цветами.
Оглядываясь, Люси выбирала, за какой стол сесть, как вдруг чей-то голос окликнул ее:
— Мисс Пим!
Первым побуждением Люси было удрать; у нее не было никакого настроения болтать сейчас со студентками, но тут она увидела, что это Нат Тарт. Нат Тарт представляла собой женскую половину сидящей в углу пары. Мужской половиной был, несомненно, «мой кузен», Рик, который полагал, что она, Люси, чудо, и который на языке колледжа именовался «этот жиголо».
Детерро встала, подошла к Люси поздороваться — в том, что касалось формальностей, ее манеры были очаровательны — и повела ее к своему столу.
— Как замечательно! — воскликнула она. — Мы говорили о вас, и Рик сказал, как бы ему хотелось познакомиться с вами, а вот и вы. Это чудо. Это мой кузен, Ричард Гиллеспи. Его при крещении назвали Рикардо, но он считает, что это слишком похоже на имя кинозвезды.
— Или руководителя джаза,[570] - добавил Гиллеспи, пожал Люси руку и усадил ее за стол. Его ненавязчивые манеры истого англичанина несколько нейтрализовали впечатление, которое производило его несомненное сходство с избитым образом латиноамериканского киногероя. Люси поняла, откуда произошел «жиголо»: черные гладкие волосы, очень густые, длинные ресницы, трепещущие ноздри, тоненькая полоска темных усиков — все соответствовало типажу; но, как показалось Люси, на этом сходство кончалось. Внешность он унаследовал от какого-то латиноамериканского предка, но манеры, воспитание, характер — тут он был типично английским, продуктом закрытой средней школы. Он был значительно старше Детерро — около тридцати, предположила Люси, — и казался приятным, достойным доверия человеком.
Выяснилось, что они уже сделали заказ, и Рик пошел на кухню добавить к нему еще одну порцию бидлингтонских гренок с сыром.
— Эти гренки с сыром совсем не те, которые подают в чайных в Лондоне, — пояснила Детерро. — Здесь очень вкусный соус из сыра на очень мягких тостах с маслом, и все это приправлено необычными вещами вроде мускатного ореха — думаю, это мускатный орех — или тому подобного, и у них божественный вкус.
Люси, которая сейчас была не в том состоянии, чтобы придирчиво разбираться во вкусе пищи, сказала, что это звучит изумительно.
— Значит, ваш кузен англичанин?
— Ну да. Мы не «двоюродные брат и сестра», как вы это называете, — объяснила Детерро, когда Рик вернулся. — Сестра отца моего отца была замужем за отцом его матери.
— Проще говоря, — пояснил Рик, — наши дедушка и бабушка были братом и сестрой.
— Может быть, проще, но это неточно, — заявила Детерро, вложив в свои слова все презрение, которое латиноамериканцы испытывают к безразличию англосаксов в установлении степеней родства.
— Вы живете в Ларборо? — спросила Люси Ричарда.
— Нет, я работаю в Лондоне, в нашем главном отделении. Но сейчас меня послали в Ларборо.
Взгляд Люси вопреки ее воле обратился на Детерро, изучавшую меню.
— Здесь находится одна из фирм, с которой мы связаны, и я должен поработать у них пару недель, — мягко добавил Рик и, посмотрев на Люси, улыбнулся одними глазами. — Я пришел к мисс Ходж и представил бумаги, удостоверяющие мое происхождение, мою респектабельность, мою платежеспособность, мою презентабельность, мою приверженность религии…
— О Рик, хватит, — перебила Детерро, — не моя вина, что мой отец бразилец, а мать француженка. А что такое шафрановый пончик?
— Тереза самый замечательный сотрапезник, какого только можно представить, — улыбнулся Рик. — Она ест, как изголодавшийся лев. Другие мои приятельницы, когда их приглашаешь в ресторан, весь вечер подсчитывают калории и воображают, что происходит с их талией.
— Твои приятельницы, — с легким оттенком суровости в голосе заметила его кузина, — не провели целый год в колледже физического воспитания в Лейсе, где заставляют работать до седьмого пота, а кормят овощным macedoine.[571]
Люси, вспомнив, какие горы хлеба бывали проглочены студентками за каждой едой, подумала, что это, пожалуй, преувеличение.
— Когда я вернусь в Бразилию, я буду жить как леди и есть как цивилизованный человек, тогда и придет время подумать о калориях.
Люси спросила, когда она собирается уезжать.
— Мой пароход отходит в последний день августа. Я смогу немного понаслаждаться английским летом — от последнего дня в колледже до отъезда. Мне нравится английское лето. Такое зеленое, нежное, доброе. Мне нравится в англичанах все, кроме их одежды, их зимы и их зубов. А где находится Арлингхерст?
Люси, которая забыла, как легко Детерро перепрыгивает с одной темы на другую, была слишком удивлена, услышав это название, и не сразу отреагировала. Рик ответил за нее.
— Это лучшая в Англии школа для девочек, — закончил он свой рассказ. — А что?
Это то, чем в данный момент взбудоражен весь колледж. Одна из студенток поедет туда работать прямо из Лейса. Послушать их, можно подумать, что она станет, по крайней мере, Dame.
— Мне кажется, вполне законное основание для переполоха, — заметил Рик. — Мало кто получает такое теплое местечко сразу после колледжа.
— Да? Значит, ты думаешь, это и правда честь?
— Очень большая, как мне кажется. Не правда ли, мисс Пим?
— Очень.
— Ну ладно. Я рада. Грустно думать, что она проведет целые годы в школе для девочек, но если это честь для нее, то я рада.
— Вы о ком говорите? — спросила Люси.
— Об Иннес конечно.
— Вы не были за ленчем сегодня? — удивилась Люси.
— Нет. Рик приехал на машине, и мы отправились в «Голову Сарацина» в Боминстер. А в чем дело? Какое это имеет отношение к назначению в эту школу?
— В Арлингхерст поедет не Иннес.
— Не Иннес?! Но все говорили, что она. Все так говорили.
— Да, все этого ожидали, но повернулось иначе.
— Да что вы! Кто же тогда едет?
— Роуз.
Детерро уставилась на мисс Пим:
— Нет-нет! Нет, я отказываюсь верить. Это просто невозможно.
— Увы, это правда.
— Вы хотите сказать, что… что кто-то… что они отдали предпочтение этой canaille,[572] этой espece de…[573]
— Тереза! — предостерег ее Рик, улыбаясь, так как впервые видел свою кузину такой взволнованной.
— Если бы я не была леди, я бы плюнула! — сказала она под конец ясным голосом.
Семья у окна оглянулась, удивленно и слегка испуганно. Они решили, что пора уходить и начали собирать вещи и подсчитывать деньги.
— Посмотри, что ты наделала, — сказал Рик. — Перепугала подданных.
В этот момент из кухни появились гренки; их несла мисс Невилл на блюде, которое она прижимала к своему большому животу, обтянутому ситцевым передником; тут Нат Тарт, которую появление блюда с яствами отнюдь не отвлекло от темы, вспомнила, что именно от мисс Невилл она впервые услышала новость о вакансии в Арлингхерсте, и обсуждение разгорелось с новой силой. Рик заметил, что Люси неприятен этот разговор и спас ее, заявив, что гренки стынут. Люси показалось, что ему самому гренки были безразличны, но он каким-то образом почувствовал, что она устала и что ей это дело не по вкусу. Она ощутила к молодому человеку теплое чувство и была благодарна ему почти до слез.
— В конце концов, — заметил Рик, когда Нат Тарт обратила свое внимание на еду, — я не знаком с мисс Иннес, но если она такая замечательная, как ты говоришь, она наверняка получит хорошее место, пусть не в самом Арлингхерсте.
С помощью именно этого аргумента Люси в течение всего длинного дня пыталась успокоить себя. Это звучало разумно, логично, уравновешенно, однако в качестве морального пластыря действовало не как белладонна, а только как красная фланель. Люси понимала, почему Нат Тарт отвергла этот аргумент с презрением.
— Как бы тебе понравилось, если бы тебе предпочли эту? — спросила она с полным ртом гренков. — Как бы тебе понравилось, если бы ты думал, что тебе собираются оказать честь, красиво продемонстрировать, что ты что-то значишь, а потом вдруг в — присутствии всех ты получил бы пощечину?
«Дали кулаком по зубам», назвала это Бо. Ее реакция и реакция Детерро были удивительно похожи. С той только разницей, что Детерро сочла это оскорблением, а Бо физической травмой.
— А какое чудесное утро мы провели в этой самой комнате с отцом и матерью Иннес, — продолжала Детерро, переводя свои красивые глаза на столик, за которым они тогда сидели. Люси тоже думала об этом. — Такие милые люди, Рик, мне бы хотелось, чтобы ты познакомился с ними. Мы все были очень милы; я, и мисс Пим, и pere, и mere[574] Иннес, как будто это был цивилизованный отдых и хороший кофе. Это было прелестно. А теперь…
Общими усилиями Рик и Люси отвлекли ее от этой темы, и, только когда они усаживались в машину Рика, чтобы ехать обратно в Лейс, она все вспомнила и снова начала причитать. Однако расстояние от Бидлингтона до Лейса машина преодолела так быстро, что прежде чем Детерро успела хорошенько завестись, они были уже у дверей колледжа. Люси попрощалась и собралась тактично удалиться, однако Нат Тарт последовала за ней.
— Спокойной ночи, Рик, — сказала она небрежно. — Ты приедешь в пятницу?
— Ничто не сможет остановить меня, — заверил Рик девушку. — В три часа, да?
— Нет, в половине третьего. Так написано на твоем пригласительном билете. На приглашении, которое я тебе послала. Для делового человека ты не очень точен.
— О, свои деловые бумаги я храню в папках.
— А где ты хранишь мое приглашение?
— На золотой цепочке между рубашкой и сердцем, — ответил Рик и ушел, оставшись победителем в этой пикировке.
— Ваш кузен прелесть, — сказала Люси, когда они вместе подымались по ступеням.
— Вы так думаете? Я очень рада. Я тоже так думаю. У него есть все достоинства англичанина, и все это немного приправлено чем-то совсем не английским. Я рада, что он приедет в пятницу посмотреть, как я танцую. Чему вы улыбаетесь?
Люси, которая улыбалась такому типичному для Детерро взгляду на появление ее кузена в пятницу, поспешила сменить тему.
— А разве вы должны входить не в другую дверь?
— Да, конечно, но я не думаю, что кто-нибудь будет против. Через две недели я смогу свободно подниматься по этим ступеням, если захочу — я, кстати, не захочу, — так что я могу воспользоваться ими и сейчас. Я не очень хорошо отношусь к дверям, через которые ходят торговцы.
Люси собиралась было нанести визит преподавателям, прежде чем отправиться к себе в комнату в торце крыла, но в холле было так тихо, атмосфера в доме настолько пустынна, что она раздумала и пошла по пути наименьшего сопротивления. Она увидит всех завтра утром.
Нат Тарт решила напоследок отдать дань правилам колледжа, и, поскольку тишина в коридоре явно означала, что колокол «по комнатам» уже по крайней мере несколько минут как прозвенел, они пожелали друг другу спокойной ночи, и Люси пошла к себе. Раздеваясь, она прислушивалась, не донесется ли какой-нибудь звук из соседней комнаты. Но там было абсолютно тихо; и свет оттуда не проникал, как отметила Люси, задергивая свои занавески. Неужели Иннес не вернулась?
Люси посидела немного, размышляя, не нужно ли что-нибудь предпринять. Если Иннес не вернулась, хорошо бы, конечно, успокоить Бо. А если Иннес вернулась и молчит, может быть, можно каким-либо знаком, какой-нибудь маленькой услугой выразить свое сочувствие, не вторгаясь на чужую территорию?
Люси выключила свет, раздвинула занавески и села у открытого окна, глядя на ярко освещенные квадраты по всему периметру маленького четырехугольника — здесь считалось чудачеством задергивать занавески — и наблюдая за тем, чем занимаются студентки. Одна причесывалась, другая что-то шила, третья перевязывала ногу (святая простота — прыгала на одной ноге в поисках ножниц, вместо того чтобы, как опытная массажистка, воспользоваться индивидуальным пакетом), четвертая надевала пижаму, пятая гонялась за мотыльком.
Пока Люси сидела, два окна погасли. Завтра колокол разбудит опять в полшестого, а поскольку экзамены уже сданы, нет необходимости бодрствовать над тетрадями до последней минуты.
Люси услышала шаги в коридоре и встала, решив, что идут к ней. Дверь Иннес тихо отворилась и закрылась. Свет не зажегся, но Люси услышала легкое шевеление — кто-то готовился лечь спать. Потом шлепанье тапочек в коридоре, тихий стук. Ответа не было.
— Это я, Бо, — произнес голос, и дверь комнаты Иннес открылась. Когда она снова закрылась, послышался шепот. Запах кофе и еле слышное позвякиванье посуды. Очень разумно со стороны Бо подумать о еде. С какими бы демонами ни боролась Иннес эти долгие часы — от полудня до десяти, — она сейчас наверняка эмоционально опустошена и съест все, что перед ней поставят. Шепот продолжался, пока не прозвенел сигнал «гасить свет». Тогда дверь снова открылась-закрылась, и тишина в соседней комнате влилась в общую тишину, окутавшую Лейс.
Люси упала в постель; она настолько устала, что у нее едва хватило сил натянуть на себя одеяло. Она была зла на Генриетту, жалела Иннес и в то же время немного завидовала, что у нее есть такой друг, как Бо.
Она решила было не засыпать и постараться придумать какой-нибудь способ выразить бедняжке Иннес свое сочувствие и глубокое негодование по поводу случившегося — и тут же заснула.
XIV
В понедельник последовала ответная реакция. Люси вернулась в общество, для которого тема Арлингхерста уже была исчерпана. И преподаватели, и студентки в течение целого свободного дня успели насытиться разговорами об этой сенсации, и к вечеру говорить больше было не о чем; все возможные точки зрения были уже многократно изложены, ad nauseam.[575] Так что в понедельник, когда возобновилась обычная жизнь, это событие отодвинулось на задний план. Верная мисс Моррис по-прежнему приносила Люси ее завтрак в комнату, поэтому при первом появлении Иннес на публике она не присутствовала. Люси увидела всех студенток в сборе только во время ленча, когда привычка вести себя определенным образом сгладила самые грубые шероховатости и колледж выглядел почти как обычно. У Иннес было спокойное лицо, Люси нашла, что присущая ей некоторая отрешенность сменилась выражением совершенной замкнутости; с какими бы чувствами ей ни пришлось вести борьбу, сейчас они были опущены в трюм, и люки крепко задраены. Роуз более чем когда-либо была похожа на кошку тети Селии Филадельфию, и Люси очень хотелось выставить ее на улицу, чтобы она помяукала. Кроме того, ей очень хотелось узнать, как приняла Роуз неожиданное назначение; Люси даже решилась спросить об этом мисс Люкс, когда они спускались к ленчу.
— Как выглядела Роуз, когда услышала новость?
— Как эктоплазм, — ответила мисс Люкс.
— Почему эктоплазм? — спросила удивленная Люси.
— Самое отвратительное, что я могу придумать.
Так что любопытство Люси осталось неудовлетворенным. Мадам упрекнула ее, что она вчера покинула их, но никто не стал шутить по поводу возможной причины ее бегства. Тень показательных выступлений, до которых оставалось всего четыре дня, нависла над всеми. Арлингхерст — это была вчерашняя сенсация, уже утратившая свежесть. Колледж снова принялся за работу.
Монотонное течение жизни между понедельником и пятницей было нарушено только двумя событиями.
Первым было то, что мисс Ходж предложила Иннес работу в Уичерлейском ортопедическом госпитале, а та отказалась. Тогда это место было предложено и с благодарностью принято О'Доннелл, у которой камень с души свалился. («Дорогая, как славно! — воскликнула Дэйкерс. — Теперь я могу продать тебе мой больничный халат, который мне никогда больше не понадобится».) И действительно продала, и была так счастлива, что у нее в самом конце семестра в кошельке появились деньги, что немедленно стала торговать вразнос остатками своего имущества по всему крылу, и остановилась только тогда, когда Стюарт язвительно спросила, входят ли булавки в список обмундирования.
Вторым событием был приезд Эдварда Эйдриана, актера.
Это неожиданное происшествие случилось в среду. Вторая половина дня среды была отведена для плавания, и все Младшие, и те из Старших, у кого в это время не было пациентов, плескались в бассейне. Люси, которая с помощью молитв, расчетов и дикой решимости с трудом могла переплыть бассейн, не принимала участия в этих упражнениях, несмотря на горячие призывы освежиться. В течение получаса она наблюдала всеобщее веселье, а потом пошла к дому выпить чаю. Она шла через холл к лестнице, когда одна из Апостолов — ей показалось, что это Льюк, но она все еще не очень уверенно различала их — выглянула из двери клиники и попросила:
— О, мисс Пим, пожалуйста, вы не могли бы минутку посидеть на ногах Альберта?
— Посидеть на ногах Альберта? — повторила Люси, не совсем уверенная, что правильно расслышала.
— Да, или подержать их. Но легче посидеть. Дыра в ремне растянулась, а другого, свободного, нет.
Она ввела совершенно потрясенную Люси в тишину клиники, где студентки, выглядевшие очень непривычно в белых халатах, занимались исправлением физических недостатков своих пациентов, и указала на стол, на котором лицом вниз лежал мальчик лет одиннадцати.
— Понимаете, — сказала девушка и показала Люси кожаный ремень, — эта штука вырвалась из гнезда, дырка впереди натягивает слишком туго, а сзади — слишком слабо. Может быть, вы просто придержите его ноги минутку, если не хотите посидеть на них.
Люси поспешила сказать, что она предпочитает подержать.
— Прекрасно. Это мисс Пим, Альберт. Она заменит ремень на сей раз.
— Хэлло, мисс Пим, — сказал Альберт, косясь одним глазом.
Льюк — если это была она — подхватила мальчика снизу за плечи и рывком подтянула его вперед, так что только ноги остались на столе.
— Теперь, мисс Пим, прижмите руками его лодыжки к доске и держите, — скомандовала Льюк, и Люси подчинилась, думая, как на месте будет эта юная решительность в Манчестере и как тяжел, оказывается, одиннадцатилетний мальчик, когда стараешься придавить его лодыжки к столу. Люси перевела взгляд с того, что делала Льюк, на других студенток, казавшихся такими незнакомыми и чуждыми в их новом обличье. Будет ли когда-нибудь конец числу граней этой странной жизни? Даже те, кого она, Люси, хорошо знала, например Стюарт, здесь выглядели иначе. Их движения были более размеренными, а в тоне, которым они разговаривали с пациентами, звучали звонкие ноты особой искусственной заинтересованности. Не было улыбок, не было болтовни; просто спокойствие госпиталя. «Немного вперед. Хорошо». «Сегодня это выглядит гораздо лучше, правда?» «А теперь попробуем еще раз, и на сегодня все».
Полы халата Хэсселт слегка распахнулись, Люси заметила блеск шелка и поняла, что девушка заранее переоделась для урока танцев, потому что перерыва между тем, как она кончит работу со своими пациентами, и уроком в гимнастическом зале не будет. Либо она уже пила чай, либо перехватит чашку en route.[576]
Пока Люси размышляла о странностях этой жизни — шелковые платья для танцев под больничными халатами, — под окнами проехала машина и остановилась у парадной двери. Очень элегантная и очень дорогая машина, очень длинная, очень блестящая, с шофером за рулем. Теперь так редко можно увидеть машину с шофером, если только в ней не инвалид, что Люси с интересом смотрела, кто выйдет оттуда.
Может быть, мать Бо? Это была именно такая машина, в которой ездят с дворецким.
Однако из машины вышел моложавый — Люси была видна только его спина — человек в костюме, какой можно встретить в районе между Сент-Джеймс-стрит и Дьюк-оф-Йорк-степс в период между октябрем и концом июня. Шофер, костюм — в мозгу Люси пронеслась мысль о члене королевской семьи, но она не смогла вспомнить подходящую персону; кроме того, члены королевской семьи теперь водили машины сами.
— Большое спасибо, мисс Пим. Вы нам очень-очень помогли. Скажи спасибо, Альберт.
— Спасибо, мисс Пим, — послушно повторил Альберт, а потом, поймав взгляд мисс Пим, подмигнул ей. Люси серьезно подмигнула ему в ответ.
В эту минуту, сжимая в руках банку с тальком, которую фрекен только что наполнила в задней комнате, в комнату ворвалась О'Доннелл и возбужденно, свистящим шепотом проговорила:
— Подумать только! Эдвард Эйдриан! В машине Эдвард Эйдриан!
— Ну и что? — спросила Стюарт, забирая у нее банку. — Ты что-то слишком долго ходила за тальком.
Закрыв за собой дверь клиники, Люси вышла в холл. О'Доннелл сказала правду. В холле стоял Эдвард Эйдриан. И мисс Люкс тоже сказала правду. Потому что Эдвард Эйдриан разглядывал себя в зеркале.
На лестнице ей встретилась спускавшаяся вниз мисс Люкс, а потом, повернув на второй марш, Люси увидела, как встретились эти двое.
— Хэлло, Тедди, — произнесла мисс Люкс без всякого энтузиазма.
— Кэтрин! — воскликнул Эйдриан радостно и пошел ей навстречу, как будто собираясь обнять ее. Однако ее холодно протянутая рука остановила его.
— Что вы здесь делаете? Только не говорите, что у вас появилась «племянница» в Лейсе.
— Не грубите, Кэт. Конечно же, я приехал повидать вас. Почему вы не сообщили мне, что вы тут? Почему вы не приехали на мой спектакль, мы могли бы потом поужинать вместе и поговорить о старых…
— Мисс Пим, — проплыл над лестницей спокойный ясный голос мисс Люкс, — не убегайте. Я хочу познакомить вас с моим другом.
— Но, Кэтрин, — услышала Люси, как со слабым протестом проговорил Эйдриан.
— Это знаменитая мисс Пим, — представила мисс Люкс Люси тоном, означавшим «не валяй дурака». — И ваша большая поклонница, — добавила она, чтобы окончательно лишить его возможности сопротивляться.
Интересно, подумала Люси, ожидая, пока они подымутся к ней, понимает ли он, как жестоко она поступает, или его самодовольство слишком велико, чтобы быть уязвленным ее отношением.
Когда они все вместе вошли в пустую гостиную, мисс Пим вдруг вспомнила, как Стюарт назвала его «утомленным, похожим на линяющего орла», и подумала, что это очень удачное определение. У Эйдриана были довольно красивые черты лица, но, хотя ему не могло быть многим больше сорока — может быть, сорок три или сорок четыре, — оно казалось старообразным. Без грима, без парика лицо выглядело усталым и потрепанным, а темные волосы уже начали редеть. Люси внезапно стало жаль его. У нее в памяти еще очень живо было впечатление от молодости, силы и красоты Рика, кузена Детерро, и избалованный успехом известный актер показался ей немного жалким.
Эйдриан вел себя необыкновенно любезно по отношению к Люси — он все знал о ее книге (он читал все бестселлеры), но одним глазом он все время следил за мисс Люкс, которая проверила, что осталось от чая, заглянула, есть ли заварка в маленьком чайнике, и, явно решив, что достаточно будет просто долить в него немного горячей воды, разожгла горелку под большим чайником с водой. Что-то в том, как Эйдриан постоянно ощущал присутствие Кэтрин Люкс, было загадкой для Люси. Как ей казалось, это не было игрой. Преуспевающая звезда, он мог, конечно, приехав к скромной учительнице женского колледжа, придать себе независимый вид и по актерскому обыкновению захотеть покрасоваться перед посторонним человеком. Конечно, для нее, Люси, он «играл», все его обаяние было пущено в ход, а обаяние было немалое; но все это чисто рефлекторно. По-настоящему весь его интерес был сосредоточен на холодной худой женщине, которая сочла, что для него сойдет и жидкий чай. Нечасто случалось, улыбаясь про себя подумала Люси, чтобы Эдвард Эйдриан появлялся на пороге, а его не приветствовали звуками труб; ведь почти двадцать лет, с того дня, как этот покоривший сердца Ромео вызвал слезы на глазах критиков, которых тошнило от одного упоминания имени Монтекки, приход и уход Эйдриана являлся важным событием. Он был окружен неким ореолом значимости. Люди бросались выполнять его просьбы и мечтали угодить ему. Ему делали подарки и ничего не требовали взамен; ему приносили жертвы и не ждали благодарности. Он был Эдвард Эйдриан, и этим все было сказано. Его портреты высотой в два фута красовались на афишах, он был национальным достоянием.
Однако он приехал сегодня в Лейс, чтобы повидать Кэтрин Люкс, и следил за ней глазами преданного пса. Увидеться с Кэтрин, которая сочла, что для него достаточно долить горячей воды в старую заварку. Все это было очень странно.
— Надеюсь, ваши гастроли в Ларборо проходят успешно, Тедди? — спросила Люкс, скорее, просто из вежливости.
— О да, вполне. Слишком много школьников, но приходится мириться с этим, когда играешь Шекспира.
— А вы не любите играть для молодежи? — спросила Люси, вспомнив, что молодежь, с которой она совсем недавно беседовала, не выражала особого желания идти смотреть на него.
— Ну, знаете, это не самая лучшая аудитория в мире. Взрослые предпочтительнее. И потом, для них, конечно же, снижены цены на билеты, что отнюдь не помогает делать сборы. Но мы смотрим на это как на капиталовложение, — добавил он, демонстрируя великодушную терпимость. — Это будущие зрители, и их нужно воспитывать, приучать, куда следует ходить.
Люси подумала, что, если судить по результатам, воспитание оказалось совершенно безуспешным. Молодежь шла в очередь на нечто под названием «Пылающие барьеры». Нельзя даже сказать, что они «не ходили» в театр, все было гораздо проще: они бежали оттуда.
Однако на светском чаепитии совершенно не время было открывать горькие истины. Люси спросила, приедет ли Эйдриан на показательные выступления, что, похоже, вызвало недовольство у мисс Люкс. Он никогда не слышал о показательных выступлениях и отнесся к этому с огромным жаром. Уже много лет он видит, что все вокруг делают только одно-единственное гимнастическое упражнение: засунув пальцы ног под шкаф и удерживаясь ими, сгибаются и разгибаются в поясе. Танцы? Господи, и танцы будут? Ну конечно, он приедет. Более того, после выступлений он приглашает их поехать с ним в театр, а потом они поужинают вместе.
— Я знаю, Кэтрин терпеть не может театр, но один раз она выдержит, правда, Кэтрин? В пятницу вечером идет «Ричард III», так что вам не придется терпеть меня в романтической роли. Это не лучшая пьеса, но постановка замечательная, хоть мне и не следовало бы так говорить.
— Ярлык преступника, приклеенный честному человеку, яркий пример политической пропаганды и крайне глупая пьеса, — таково было мнение Люкс.
Эйдриан улыбнулся во весь рот, как школьник.
— Согласен, только досидите до конца, и тогда увидите, как отлично можно поужинать в «Мидленде» в Ларборо, если раздразнить несчастного актера. У них даже есть йоханнисбергер.[577]
Легкий румянец разлился при этих словах на щеках Люкс.
— Видите, я помню, что вы любите. Йоханнисбергер, как вы однажды заметили, пахнет цветами, и это удалит театральную вонь из ваших ноздрей.
— Я никогда не говорила, что театр воняет. Онскрипит.
— Конечно скрипит. Последние почти две сотни лет он все время старается удержаться на ногах.
— Знаете, что он мне напоминает? Карету для коронации. Анахроничный хлам, нелепая условность, которая у нас по-прежнему в ходу, потому что мы унаследовали привязанность к ней от предков. Позолоченный реликт.
Чайник вскипел, и мисс Люкс налила кипяток в заварку.
— Предложите мисс Пим что-нибудь поесть, Тедди.
Тон совсем как у няни, подумала Люси, беря с тарелки, которую ей протянул Эйдриан, слегка обветрившийся сэндвич. Может быть, именно это и привлекало его? Может быть, это — ностальгия по миру, где его не считали никем особенным? Долго наслаждаться таким миром он бы, несомненно, не смог, но весьма вероятно, что временами он уставал от того, что его жизнь была похожа на жизнь золотой рыбки в аквариуме, и искал отдыха в компании кого-нибудь, для кого он был просто Тедди, который в школьные годы приезжал погостить на каникулах.
Люси повернулась к Эйдриану, чтобы что-то сказать, и была поражена выражением его лица, когда Кэтрин презрительно отвергла предложенную ей пищу. Улыбка, любовь, зажегшиеся в этих глазах, могли быть и братскими, но было что-то еще. Не безнадежность ли? Похоже на то. Во всяком случае что-то, не имеющее никакого отношения к братским чувствам; очень странно было видеть, что так смотрит Великая Звезда на некрасивую ироничную преподавательницу теории в Лейсе.
Люси перевела взгляд на невозмутимую Кэтрин и впервые увидела ее такой, какой ее видел Эдвард Эйдриан. Женщиной с задатками belle laide.[578] В школьном мире, в котором она жила, ее манеру «хорошо» одеваться, ее простую прическу, отсутствие макияжа воспринимали как должное, а красивую фигуру и гибкую осанку считали само собой разумеющимся. Она была просто умная некрасивая мисс Люкс. А в мире театра она выглядела бы совершенно иначе! Большой подвижный рот, высокие скулы с ямками под ними, прямой короткий нос, красивый овал лица — все это громко взывало, требуя грима. С обыденной точки зрения у мисс Люкс было лицо, от которого, по словам мальчишки-рассыльного, «часы останавливаются», однако с любой другой точки зрения это лицо могло заставить посетителей «Айрис» перестать есть, если бы во время ленча она вошла туда, соответствующим образом одетая и умело подкрашенная.
Сочетание того, что она была belle laide и знала его очень давно, могло иметь для Эйдриана весьма значительную притягательность. Весь остаток времени за чаем мысли Люси были заняты пересмотром своих прошлых представлений.
Как только позволили приличия, она удалилась, оставив их tete-a-tete,[579] чего Эйдриан так явно желал; tete-a-tete, в котором мисс Люкс всеми силами старалась отказать ему. Он еще и еще умолял их принять его приглашение на вечер пятницы. Его машина будет ждать, к шести часам показательные выступления закончатся, ужин в колледже будет лишь спадом напряжения после дня волнений, и пусть в «Ричарде III» много чепухи, но смотреть спектакль приятно, это он им обещает, и кормят в «Мидленде» действительно чудесно, с тех пор как они переманили шеф-повара от «Боно» на Дувр-стрит, и он так давно не видел Кэтрин и даже наполовину не наговорился с умницей мисс Пим, которая написала эту замечательную книгу, и кроме того, ему до смерти надоели компании актеров, которые говорят только о театре и о гольфе, и они могли бы поехать, просто чтобы доставить ему удовольствие, — и еще много всякого, и все это с обаянием опытного актера, искренне желающего, чтобы они сказали «да». В конце концов договорились, что вечером в пятницу они отправятся вместе в Ларборо, посмотрят «Ричарда III», за что будут вознаграждены хорошим ужином, а затем их отвезут на машине домой.
Однако Люси, уходя в свое крыло, пребывала в некотором унынии. Она еще раз оказалась не права — в отношении мисс Люкс. Мисс Люкс не была никому не нужной некрасивой женщиной, которая находила утешение в том, что посвятила себя красивой младшей сестре. Мисс Люкс была потенциально очень привлекательна и так мало нуждалась в утешении, что отказывалась принимать его от одного из самых преуспевающих и интересных современных мужчин.
Она очень ошибалась относительно мисс Люкс. Как психолог, Люси начала подозревать, что была очень хорошей учительницей французского языка.
XV
Единственным человеком, которого взволновало вторжение Эдварда Эйдриана в мир колледжа, была мадам Лефевр. Мадам в качестве представительницы театрального мира в колледже явно считала, что она могла бы внести большую лепту в этот визит. Она дала понять мисс Люкс, что та, во-первых, не имела права быть знакомой с Эдвардом Эйдрианом, а, во-вторых, если уж она с ним знакома, не имела права держать его для себя одной. Мадам немного утешилась, узнав, что она увидит Эйдриана лично и сможет поговорить с ним на его собственном, так сказать, языке. Он, наверно, почувствует себя совершенно растерянным, оказавшись среди «аборигенов» колледжа физического воспитания в Лейсе.
Люси, слушая эти вкрадчивые колкости во время ленча в четверг, в душе надеялась, что мадам не удастся снискать расположение Эйдриана настолько, что он пригласит ее в их компанию на ужин. Люси предвкушала удовольствие от вечера в пятницу, но, конечно, никакого удовольствия она не получит, если мадам весь вечер будет наблюдать за ней своими огромными глазами. Может быть, мисс Люкс вовремя сумеет сунуть палки в колеса. Не в обычае мисс Люкс мириться с тем, что ее не устраивает.
Продолжая думать о мадам, мисс Люкс и завтрашнем вечере, Люси рассеянно перевела взгляд на студенток и увидела лицо Иннес. Сердце ее остановилось.
Прошло, наверно, три дня с тех пор, как она мельком, на ходу встретилась с Иннес, но разве могло за три дня произойти такое с лицом молодой девушки? Люси пристально вглядывалась, пытаясь понять, в чем заключается перемена. Иннес похудела, конечно, и была очень бледна, но дело было не в этом. Дело было даже и не в тенях под глазами и ямках на висках. И даже не в выражении лица; Иннес ела, спокойно глядя в тарелку. И все же ее лицо потрясло Люси. «Интересно, — подумала она, — неужели никто больше не видит и почему никто ничего не сказал». Это было одновременно неуловимо и явно, как улыбка на лице Моны Лизы, так же не поддавалось определению и так же бросалось в глаза.
Так вот что значит «сгорать изнутри», подумала Люси. «Плохо, когда человек сгорает изнутри», как сказала Бо. Действительно плохо, если это может настолько изменить лицо. Как может лицо оставаться спокойным и при этом — выглядеть вот так? Если уж на то пошло, как можно терпеть, что орел терзает твои внутренности, и внешне оставаться спокойной?
Люси посмотрела на Бо, сидевшую во главе ближайшего стола, и поймала беспокойный взгляд, который та бросила на Иннес.
— Надеюсь, вы вручили мистеру Эйдриану пригласительный билет? — обратилась мисс Ходж к Люкс.
— Нет, — ответила Люкс, которой до смерти надоели разговоры об Эйдриане.
— И, надеюсь, вы предупредили мисс Джолифф, что за чаем будет на одного человека больше.
— Он ничего не ест за чаем, так что я не стала беспокоиться.
«Ох, — хотелось закричать Люси, — перестаньте нести мелкую чушь и посмотрите на Иннес. Что происходит с ней? Посмотрите на девушку, которая в прошлую субботу была само сияние. Посмотрите на нее. Что она напоминает вам? Когда сидит вот так, спокойная, красивая и совершенно больная внутри. Что она напоминает? Одно из тех удивительных деревьев в лесу, не так ли? Одно из тех внешне прекрасных деревьев, которые при малейшем прикосновении рассыпаются в прах, потому что они пустые внутри».
— Иннес не очень хорошо выглядит, — сдержанно-осторожно заметила Люси, когда они с Люкс шли наверх.
— Она выглядит совсем больной, — грубовато сказала Люкс. — А что в этом удивительного?
— Неужели ничего нельзя сделать? — спросила Люси.
— Можно найти для нее место, которого она заслуживает, - сухо ответила Люкс. — Но поскольку никаких мест вообще больше нет, это, скорее всего, неосуществимо.
— Вы хотите сказать, что ей надо начинать рассылать заявления?
— Да. До конца семестра осталось только две недели, и непохоже, чтобы у мисс Ходж оставались незанятые места. Большинство мест на будущий учебный год заполняются сейчас. Это ужасная насмешка судьбы, правда? То, что самая блестящая за последние годы студентка вынуждена писать заявления-от-руки-с-просьбой-о-работе-в-пяти-экземплярах-«рекомендации-не-возвращаются».
«Черт побери! — подумала Люси. — Это просто ужасно».
— Ей было предложено место, так что ответственность с мисс Ходж снимается.
— Но это место в больнице, а она не хочет заниматься медициной, — возразила Люси.
— Да, да! Не надо обращать меня в свою веру. Я и так на вашей стороне.
Люси подумала о том, как завтра приедут родители, и сияющие дочери будут показывать им Лейс, переполненные воспоминаниями о проведенных здесь годах и надеждами на успехи в будущем. С каким, должно быть, нетерпением ждала этого Иннес, ждала момента, когда увидит отца и мать, двух людей, любящих ее так сильно, сумевших, отказывая себе во всем, дать ей то образование, к которому она стремилась, — ждала, чтобы порадовать их известием об Арлингхерсте.
Оказаться выпускницей без места было достаточно скверно, но это горе можно поправить. А вот несправедливость происшедшего не поправить никогда. Несправедливость перенести тяжелее, чем любую другую беду, — таково было твердое мнение Люси. Она до сих пор помнила уязвленность, беспомощный гнев, отчаяние, которые терзали ее, когда в юности она становилась жертвой несправедливости. Хуже всего — чувство беспомощного гнева, оно сжигало, как на медленном огне. Выхода не было, потому что с этим ничего не поделать. Действительно гибельное чувство. Люси подумалось, что тогда ей, как Иннес, не хватало чувства юмора. Однако разве когда-нибудь молодые обладали способностью посмотреть со стороны на свои горести и разумно оценить их? Конечно нет. Не сорокалетние шли к себе наверх и вешались, потому что кто-то в неподходящий момент сказал неподходящее слово, а четырнадцатилетние подростки.
Люси казалось, что она понимает, какая неистовая ярость, разочарование, ненависть снедают Иннес; к ее чести, она приняла удар, сохранив внешнее достоинство. Другая на ее месте рыдала бы перед всеми без исключения и собирала бы выражения сочувствия как уличный певец собирает монеты в шляпу. Только не Иннес. Может быть, ей и не хватало чувства юмора — «жировой смазки на перьях», как назвала Бо, но муки, которые она при этом испытывала, оставались только ее делом, и она не собиралась выставлять их напоказ ни перед кем, меньше всего перед теми кого она бессознательно назвала «они».
Люси не удалось придумать какого-нибудь милого ненавязчивого способа выразить Иннес свое сочувствие; цветы, сладости и прочие обычные знаки дружеских чувств не годились, а замены им она не нашла; а теперь она ругала себя за то, что, хоть Иннес и находилась рядом с ней каждую ночь, ее горе стало отходить для Люси на задний план. Она вспоминала о нем каждый раз, когда Иннес с колоколом «по спальням» входила к себе в комнату, помнила, пока доносившейся оттуда легкий шум свидетельствовал, что хозяйка — дома. Люси думала о ней, беспокоилась, но вскоре засыпала. Однако днем, когда постоянно было полно разнообразных дел, она почти забывала об Иннес.
Роуз не проявляла намерений устроить в субботу вечеринку в честь получения места, однако никто не знал было ли это продиктовано тактом, пониманием того, как к этому относится колледж, или присущей ей экономностью. Об общей вечеринке в честь Иннес, которую так радостно планировали, не могло быть и речи, а общую вечеринку в честь Роуз явно никто не собирался устраивать.
Даже если учесть тот факт, что Люси не было в Лейсе в момент наибольшего возбуждения, когда, как легко предположить, все выговорились как могли; казалось странным, что все студентки хранили абсолютное молчание по этому поводу. Даже маленькая мисс Моррис, которая болтала не умолкая каждое утро, когда приносила поднос с завтраком, никогда не упоминала об этой истории. С позиции студенток Люси в этом деле была «преподавателем», аутсайдером, может быть, даже соучастницей. Ей это очень не нравилось.
Но что ей нравилось меньше всего и от мыслей о чем она не могла отделаться, так это неопределенность будущего Иннес. Будущего, ради которого девушка изо всех сил трудилась эти годы, будущего, которое должно было стать триумфальным. Люси безумно хотелось найти для Иннес место немедленно, сию минуту, чтобы завтра, когда усталая счастливая женщина с сияющими глазами увидит наконец свою дочь, она не обнаружила бы, что та осталась с пустыми руками.
Однако ведь не станешь обходить все колледжи физического воспитания один за другим как торговец-разносчик, не станешь предлагать девушку друзьям, как неудачно сшитое платье. Желания помочь было недостаточно. А Люси кроме желания помочь, оказывается, не располагала ничем.
Ладно, она употребит свое желание помочь и посмотрит, куда оно приведет. Когда все остальные отправились наверх, Люси последовала за мисс Ходж в ее кабинет и сказала:
— Генриетта, а мы не можем изобрести место для мисс Иннес? Недопустимо, чтобы она осталась без работы.
— Мисс Иннес долго не будет без работы. А кроме того, я не могу себе представить, чтобы воображаемое место оказалось утешением.
— Я не сказала «вообразить», я сказала «изобрести» — сотворить. Наверняка во всей стране имеется дюжина вакансий. Не могли бы мы соединить Иннес и работу, избавив ее от томительного ожидания ответов на поданные заявления. Это ожидание, Генриетта. Ты помнишь, каково это? Написанные красивым почерком объявления и рекомендации, которые не возвращают.
— Я предлагала мисс Иннес место, и она отказалась от него. Не вижу, что еще я могу сделать. У меня больше нет вакансий.
— Да, но ты могла бы связаться с каким-нибудь бюро по найму и поговорить о ней, не правда ли?
— Я? Это значило бы нарушить все правила. И это совершенно не нужно. Когда она будет писать заявление, она, естественно, сошлется на меня, и если бы я не хотела давать ей рекомендации…
— Но ты могла бы — о, ты могла бы попросить место, поскольку у тебя есть выдающаяся студентка…
— Люси, ты говоришь абсурдные вещи.
— Знаю, но мне бы хотелось, чтобы Иннес «где-то очень ждали сегодня в пять часов».
Мисс Ходж, которая не читала Киплинга — точнее, не знала о его существовании, — пристально посмотрела на Люси.
— Для женщины, написавшей такую достопримечательную книгу — профессор Биток с похвалой отозвался о ней вчера за чаем в колледже университета, — ты рассуждаешь необыкновенно импульсивно и легкомысленно.
Эта сентенция окончательно разрушила надежды Люси, которая хорошо отдавала себе отчет в собственных талантах. Почувствовав себя уязвленной, она встала и посмотрела на широкую спину Генриетты, смотревшей в окно.
— Я очень боюсь, — проговорила Генриетта, — что погода испортится. Сегодняшний утренний прогноз был отнюдь не обнадеживающим, да и чудесные летние дни держались так долго, что пора ждать перемены. Если она произойдет завтра, это будет трагедия.
«Трагедия, вот как! Господи, глупая, никому не нужная толстуха, это ты рассуждаешь легкомысленно. Может быть, у меня коэффициент интеллекта С3 и детские порывы, но я умею распознать трагедию, когда вижу ее, и она не имеет ничего общего с тем, когда толпа людей убегает, спасая от дождя свои нарядные туалеты или сэндвичи с огурцами. Честное слово, это — не трагедия».
— Да, не хотелось бы этого, Генриетта, — медленно проговорила Люси, вышла и отправилась наверх.
Она немного постояла у окна на лестничной площадке, глядя на плотные черные тучи, собирающиеся на горизонте, и злорадно желая, чтобы завтра они, как Ниагара, обрушились на Лейс и затопили его, так, чтобы над всем колледжем, как в прачечной, подымался пар от сохнущей одежды. Однако Люси почти сразу осознала, сколь ужасны подобные мысли, и поспешно изменила свое пожелание. Завтра — великий день; Господи, благослови их; день, ради которого они трудились до седьмого пота, зарабатывали шрамы, терпели саркастические замечания, ради которого их били, ломали, вытягивали; день, которого они с надеждой ждали, проливая слезы, ради которого жили. Будет только справедливо, если завтра ради них будет светить солнце.
А кроме того, наверняка у мисс Иннес есть только одна пара нарядных туфель.
XVI
За время своего пребывания в Лейсе Люси каждый следующий день все легче просыпалась по утрам. Когда дикий звон колокола в пять тридцать впервые взорвался и разбудил ее, она, как только он стих, повернулась на другой бок и снова заснула. Однако постепенно привычка начала вырабатываться. Теперь она не только не засыпала после ранней побудки, но в последние день-два в каких-то еще дремлющих глубинах души появилось ощущение момента, когда этот звонок должен прозвенеть. А утро показательных выступлений вообще можно назвать историческим, потому что она проснулась до reveille.[580]
Ее разбудил легкий холодок под ложечкой, чувство, которого она не испытывала с самого детства. Оно было связано с днями, когда в школе выдавали награды. Люси всегда получала какую-нибудь награду. Никогда ничего выдающегося, увы — вторая по французскому, третья по рисованию, третья по пению, однако ее обязательно как-то отмечали. Иногда ей приходилось и выступать — сыграть, например, прелюд Рахманинова. Не тот, который «да, да, да а да-де-де-де»; для «де-де-де» требовалась необыкновенная сосредоточенность — и новое платье. Отсюда и холодок внутри. И вдруг сегодня, столько лет спустя, она снова испытала это ощущение. Долгие годы любая дрожь в этой области тела появлялась только как результат несварения желудка, если к несварению можно отнести слово «только». Теперь же, поскольку она разделяла эмоции, испытываемые окружавшей ее молодежью, она разделяла с ними и волнения, и ожидания.
Люси села в постели и посмотрела в окно. Погода была пасмурной, серой, лежал холодный туман, но позже он поднимется, и день может оказаться великолепным. Стояла абсолютная тишина. Все застыло в предрассветном сумраке, только школьная кошка осторожно переступала по мокрым от росы камням, тряся попеременно лапками, как бы протестуя. Трава отяжелела от росы, и Люси, которая почему-то любила мокрую траву, посмотрела на нее с удовольствием.
Тишину разорвал звон колокола. Кошка, как будто внезапно вспомнив о безотлагательном деле, подпрыгнула и умчалась прочь. Гравий проскрипел под ногами Джидди, направлявшегося в гимнастический зал, и вот уже послышался жалобный вой пылесоса, как будто где-то вдали завыла сирена. Стоны, зевки и вопросы о погоде понеслись из окон всех келий, окружавших двор, но никто не выглянул: встать было так кошмарно трудно, что этот момент оттягивали до последнего.
Люси решила одеться и выйти, окунуться в серое росистое утро, прохладное, сырое, целительное. Она пойдет посмотрит, как выглядят лютики без солнца. Люси кое-как умылась, надела на себя все теплое, что у нее было, накинула на плечи плащ, вышла в пустынный коридор и спустилась по безлюдной лестнице. У двери во двор она остановилась почитать объявления на студенческой доске; среди них были и таинственные, и загадочные, и понятные. «Студенткам напоминают, что родителей и посетителей можно проводить в спальное крыло и клинику, но нельзя в фасадную часть дома». «Младшим напоминают, что в их обязанность входит обслуживать гостей во время чая и помогать прислуге». И совершенно отдельно, заглавными буквами:
«ДИПЛОМЫ БУДУТ ВЫДАВАТЬСЯ ВО ВТОРНИК УТРОМ В 9 ЧАСОВ».
Направляясь к крытому переходу, Люси представляла себе дипломы в виде пергаментных свитков, перевязанных лентами, но потом вспомнила, что и в этом колледж не подчинялся никаким законам. Диплом Лейса представлял собой значок, прикреплявшийся к платью; серебряный кружок с эмалью, приколотый с левой стороны груди, расскажет всем, где провела его обладательница свои студенческие годы и как закончила.
Люси вступила в крытый переход и пошла к гимнастическому залу. Джидди давно закончил уборку — перед тем как выйти, Люси видела из окна своей комнаты, как он возится с розами в дальнем конце лужайки, — и Роуз, наверно, завершила уже свои утренние занятия (легкие влажные следы ее кроссовок виднелись на бетонной дорожке), так что зал, по-видимому, был пуст. Люси остановилась у поворота и вошла в открытую дверь. Как ипподром выглядит более драматично до того, как толпа заполнит его, или стадион до того, как машины исчертят его следами своих шин, так и большой зал, замерший в ожидании, зачаровал мисс Пим. Пустота, тишина, зеленоватое, как под водой, освещение придавали ему достоинство и таинственность, которых у него не было в течение рабочего дня. Бум, на котором занималась Роуз, оставался в тени, а в зеркалах под галереей дрожали, многократно повторяясь, отражения проникающего сверху света.
Люси захотелось крикнуть, чтобы услышать собственный голос в этом пустом пространстве, или влезть на шведскую стенку — проверить, сможет ли она совершить это, не ощутив сердцебиения. Однако она довольствовалась тем, что стояла и смотрела. Для ее возраста этого достаточно, и это-то она умела.
Что-то сверкнуло на полу на полпути от Люси к буму; что-то очень маленькое и блестящее. Шляпка гвоздя или что-нибудь вроде этого, подумала Люси; но тут же спохватилась, что в полу гимнастического зала гвоздей быть не может. Ей стало любопытно, что бы это могло быть, и она подошла и подняла блестящий предмет. Это была маленькая филигранная розетка, плоская, из серебристого металла. Люси опустила ее в карман своего жакета и, улыбнувшись, повернулась, чтобы продолжить свой путь. Если холодок внутри сегодня утром напомнил ей о школьных днях, то этот маленький металлический кружок еще яснее говорил о праздниках ее детства. Раньше даже, чем она поняла, что это такое, ее подсознание перенесло ее в атмосферу печенья, желе и белых шелковых платьиц, а на ногах — пара лакированных туфелек с резинкой крест-накрест вокруг лодыжки и крошечной серебряной розеткой у выреза. Спускаясь по дорожке к калитке, Люси вынула ее из кармана и снова улыбнулась, вспоминая. Она совсем забыла эти бронзового цвета лакированные туфельки; они могли быть и черными, но все франтихи носили бронзовые. Интересно, подумала Люси, у кого в колледже сохранилась такая пара. На уроках танцев студентки носили балетные туфли с укрепленным носком или без него, а гимнастические туфли были кожаными, с рантом и полоской резины на подъеме. Люси никогда ни на ком в колледже не видела лакированных туфелек с маленьким украшением у выреза.
Может быть, Роуз надела их утром, чтобы добежать до гимнастического зала. Украшение, несомненно, было потеряно сегодня, потому что пылесос в руках Джидди убрал бы из зала все, что не прибито.
Люси постояла немного у калитки, но озябла и испытала разочарование: деревьев в тумане не было видно, лютики выглядели на сером лугу просто как ржавые пятна, а живые изгороди были похожи на грязный снег. Ей не хотелось возвращаться в дом до завтрака, поэтому она пошла к теннисным кортам, где Младшие чинили сетки — они сказали, что сегодня все делают всё, единственный день в году, когда энергия всего колледжа собирается воедино, — и Люси осталась с ними поболтать; она немного помогла им, а потом они вместе пошли в дом завтракать. Все девочки удивлялись тому, как рано она встала, и маленькая мисс Моррис высказала предположение, что Люси надоело есть холодные тосты у себя в комнате; однако, когда она призналась, что не могла спать от возбуждения, они были довольны, что не только их переполняют эмоции, подобные эмоции, и обещали, что действительность превзойдет все ожидания. Ведь, наверно, мисс Пим еще ничего не видела.
Люси сменила промокшие туфли на сухие, вытерпела дружеские насмешки преподавателей по поводу неожиданного приступа активности и спустилась вместе с ними к завтраку.
Повернувшись посмотреть, как выглядит сегодня Иннес, она увидела брешь в рядах студенток. Люси не настолько знала размещение девушек, чтобы понять, кого нет, однако за одним из столов, несомненно, было свободное место. Интересно, подумала Люси, видит ли Генриетта. Усевшись за стол, Генриетта привычно обвела взглядом комнату, но, поскольку все в этот момент усаживались, рисунок был смазан и обнаружить брешь сразу было невозможно.
Поспешно, на случай, если Генриетта не заметила этого, Люси отвела глаза и не стала заниматься дальнейшим разглядыванием. Ей ни в коем случае не хотелось навлекать кару на кого-то из студенток, как бы та ни провинилась.
Мисс Ходж, быстро проглотив свой пирог с рыбой, положила вилку и подняла на студенток свои маленькие слоновьи глазки.
— Мисс Рагг, — произнесла она, — попросите мисс Нэш подойти ко мне.
Нэш поднялась со своего места во главе ближайшего стола и подошла.
— Это мисс Роуз не хватает за столом мисс Стюарт?
— Да, мисс Ходж.
— Почему она не пришла к завтраку?
— Не знаю, мисс Ходж.
— Пошлите кого-нибудь из Младших к ней в комнату спросить, почему ее нет здесь.
— Хорошо, мисс Ходж.
Туповатая услужливая студентка из Младших по фамилии Татл, которая обычно всегда убирала посуду, была отправлена с этой миссией и, вернувшись, доложила, что Роуз в комнате нет; это известие Бо передала главному столу.
— Где вы видели мисс Роуз последний раз?
— Не могу вспомнить, видела ли я ее сегодня вообще, мисс Ходж. Мы все были дома и занимались самыми разными делами. Это не то что сидеть в классе или находиться в зале.
— Кто-нибудь знает, где мисс Роуз? — обратилась Генриетта к студенткам.
Похоже, никто не знал.
— Кто-нибудь видел ее сегодня утром?
Оказывается, никто не видел.
Генриетта, которая успела проглотить два тоста, пока Татл ходила наверх, проговорила:
— Достаточно, мисс Нэш.
Бо вернулась на свое место. Генриетта сложила салфетку и взглянула на фрекен, но фрекен уже поднималась из-за стола с обеспокоенным выражением на лице.
— Мы с вами пойдем в гимнастический зал, фрекен, — сказала Генриетта, и они обе вышли; остальные последовали за ними, но в зал не пошли. Люси отправилась к себе наверх, чтобы убрать постель, и только по пути сообразила: «Мне бы следовало сказать, что ее не было в зале. Как глупо, что я не подумала об этом раньше». Она привела в порядок комнату — студенткам полагалось выполнять эту обязанность, и она считала справедливым, если и она будет делать это сама, — все время раздумывая, куда могла исчезнуть Роуз. И почему. Вдруг опять сегодня утром она не могла выполнить это простое упражнение на буме, вдруг опять crise de nerfs?[581] Это было единственное объяснение тому странному факту, что кто-то из студенток колледжа не пришел на завтрак.
Люси прошла в «старый дом», спустилась по парадной лестнице и вышла в сад. Из кабинета доносился голос Генриетты — она с кем-то взволнованно говорила по телефону, и Люси решила не мешать ей. До молитвы оставалось еще больше получаса, и это время она проведет в саду, разбирая свою почту; туман быстро поднимался, и в воздухе, который до того оставался мертвенно-серым, появились мерцающие проблески. Люси направилась к своей любимой скамейке в дальнем конце сада, откуда был виден окружающий пейзаж, и в дом вернулась только в девять часов. Теперь можно было не сомневаться в погоде: день будет прекрасным. «Трагедии», которой опасалась Генриетта, не случится.
Когда Люси огибала угол дома, от парадного входа отъехала машина «скорой помощи» и двинулась по подъездной аллее. Люси с удивлением посмотрела ей вслед, однако сочла, что здесь карета «скорой помощи» не должна наводить страх, как это бывает в обычной жизни. Быть может, что-то, связанное с клиникой.
Время — без двух минут девять — требовало присутствия в гостиной преподавателей в полном составе, однако там находилась только мисс Люкс.
— Роуз нашлась? — спросила Люси.
— Да.
— Где?
— В гимнастическом зале, с переломом основания черепа.
Даже в момент шока, который она испытала, Люси заметила, как типична для Люкс эта сжатая фраза.
— Как? Что случилось?
— Штырь, который удерживал бум, был плохо вставлен. Когда она вспрыгивала на бум, он упал ей на голову.
— Господи Боже! — Люси будто почувствовала, как тупое бревно обрушивается на ее собственную голову; она всегда ненавидела бумы.
— Фрекен уехала с ней в машине «скорой помощи» в Западное Ларборо.
— Хорошо, что так быстро.
Да. Западное Ларборо недалеко, утром, к счастью, «скорая помощь» была еще на месте, и когда она ехала сюда, на дороге не было движения, которое бы ее задержало.
— Какое несчастье! В день показательных выступлений!
— Да. Мы попытались скрыть это от студенток, но безнадежно конечно. Так что мы можем только свести к минимуму шок.
— Как вы думаете, насколько это серьезно?
— Никто не знает. Мисс Ходж телеграфировала ее родным.
— Они не приедут к показу?
— Похоже, не собирались. Родителей у нее нет, только тетка и дядя, которые ее вырастили. Как подумаешь, — добавила мисс Люкс, минутку помолчав, — она и была похожа на бездомную. — Она даже не заметила, что употребила прошедшее время.
— Это получилось по вине самой Роуз, полагаю? — спросила Люси.
— Или студентки, помогавшей ей установить эту штуку вчера вечером.
— А кто это был?
— Кажется, О'Доннелл. Мисс Ходж послала за ней, хочет расспросить.
В этот момент вошла сама Генриетта, и смутная досада, которую в последние дни испытывала Люси по отношению к своей подруге, испарилась без следа: она увидела лицо Генриетты. Генриетта, казалось, постарела лет на десять и даже похудела, по меньшей мере, на целый стоун.
— Телефон у них как будто есть, — проговорила она, продолжая единственную тему, которая занимала ее мысли. — Так что я смогу поговорить с ними раньше, чем они получат телеграмму. Я заказала междугородный разговор. Наверно, к вечеру они приедут сюда. Я не могу отойти от телефона, так что проведите, пожалуйста, молитву, мисс Люкс. Фрекен не успеет вернуться. — Фрекен, как старшая преподавательница гимнастики, была второй по рангу после мисс Ходж. — Мисс Рагг, наверно, не будет на молитве; она приводит в порядок гимнастический зал. Мадам будет, и Люси окажет вам поддержку.
— Конечно, конечно, — подтвердила Люси. — Может, я могу еще что-нибудь сделать?
В дверь постучали, и вошла О'Доннелл.
— Мисс Ходж, вы хотели меня видеть?
— О, у меня в кабинете, мисс О'Доннелл.
— Вас там не было, вот я и…
— Это не имеет значения, раз уж вы здесь. Скажите, когда вчера вечером вы устанавливали бум с мисс Роуз… ведь вы помогали ей?
— Да, мисс Ходж.
— Когда вы с ней устанавливали бум, какой его конец вы крепили?
На мгновение воцарилось напряженное молчание. О'Доннелл, совершенно очевидно, не знала, какой конец сорвался, и не знала, будет ли то, что она сейчас скажет, для нее проклятием или спасением. Однако, когда она заговорила, в голосе ее прозвучала отчаянная решимость, свидетельствовавшая, что все, что она скажет, будет правдой.
— Тот, что у стены, мисс Ходж.
— Вы вставляли штырь в стойку, которая прикреплена к стене?
— Да.
— А мисс Роуз занималась стойкой посредине?
— Да, мисс Ходж.
— У вас нет сомнений в том, какой конец вы крепили?
— Никаких.
— Почему вы так уверены?
— Потому что я всегда крепила тот конец, что у стены.
— А почему так?
— Роуз выше ростом, чем я, и могла поднимать бум на большую высоту. Поэтому я всегда бралась за тот конец, что у стены, чтобы можно было встать на перекладину шведской стенки, когда вставляла штырь.
— Понимаю. Очень хорошо. Спасибо, мисс О'Доннелл, за вашу прямоту.
О'Доннелл повернулась, чтобы идти, но потом снова обернулась:
— А какая стойка сорвалась, мисс Ходж?
— Та, что посредине, — ответила мисс Ходж, глядя на девушку почти с любовью, хотя всего минуту назад готова была отпустить ее, оставив в неизвестности, снято ли с нее подозрение.
Краска прихлынула к обычно бледному лицу О'Доннелл.
— О, спасибо! — прошептала она и вышла, почти выбежала, из комнаты.
— Бедняжка, — посочувствовала Люкс, — это были для нее ужасные минуты.
— Небрежность в обращении со снарядами так непохожа на мисс Роуз, — задумчиво произнесла Генриетта.
— Вы же не думаете, что О'Доннелл сказала неправду?
— Нет, нет. Она сказала, несомненно, правду. Совершенно естественно, что она крепила конец у стены, где ей могла помочь шведская стенка. Но я все никак не могу себе представить, как это случилось. Помимо того что мисс Роуз обычно всегда очень внимательна, штырь должен был быть плохо вставлен, чтобы он вылетел и бум мог опуститься. И трос должен был быть слишком слабо натянут, чтобы бум упал почти на три фута!
— А Джидди не мог что-нибудь случайно повредить?
— Не знаю. Чтобы изменить положение вставленного штыря на такой высоте, нужно специально дотянуться до него. Джидди не мог задеть его своим пылесосом. Да и как бы он ни гордился его мощностью, ее недостаточно, чтобы вытащить штырь из стойки.
— Да. — Люкс немного подумала. — Расшатать штырь могла бы только вибрация. Какое-нибудь колебание. Но ничего такого не было.
— Конечно, ничего такого в гимнастическом зале не было. Мисс Роуз заперла его, как обычно, вчера вечером и отдала ключ Джидди, а он открыл зал сегодня утром после первого звонка.
— Значит, остается только предположить, что мисс Роуз на сей раз была слишком беспечна. Она ушла из зала последней и вернулась первой — так рано туда никого не загонишь, если в том нет жестокой необходимости, так что винить следует Роуз. И скажем спасибо за это. Все и так достаточно плохо, но было бы много хуже, если бы оказалось, что небрежность проявила другая, и теперь ее будет угнетать мысль, что она виновата в…
Прозвонил колокол на молитву, и одновременно истерически, как обычно, внизу затрещал телефон.
— Фрекен не вернулась? — спросила появившаяся в дверях мадам. — Ну ладно, пойдемте. Жизнь должна продолжаться — вот сентенция, подходящая к данному моменту. И будем надеяться, что утренняя порция духовной пищи не окажется уж слишком подходящей к случаю. Священное Писание имеет ужасное обыкновение быть подходящим к случаю.
Люси в очередной раз пожелала мадам Лефевр оказаться на необитаемом острове где-нибудь в районе Австралии.
Собравшиеся в ожидании преподавателей студентки подавленно молчали, и молитва прошла в атмосфере уныния — случай непривычный и беспримерный. Только к моменту, когда запели гимн, все немного пришли в себя. Гимн был на слова Блейка,[582] имел возвышенно-воинственный дух, и они пропели его с чувством. Люси тоже.
— «Мой дух в борьбе несокрушим, незримый меч всегда со мной», — пела она, вкладывая в слова всю душу. И вдруг замолчала, потому что у нее перехватило дыхание.
Перехватило дыхание от мысли, которая заставила ее онеметь.
Она вспомнила. Вспомнила, почему была уверена, что Роуз не найдут в гимнастическом зале. Она видела влажные следы Роуз на бетонной дорожке и потому сочла, что Роуз уже ушла. Но Роуз туда еще не приходила. Роуз пришла позже, вспрыгнула на плохо закрепленный бум и лежала там, пока ее не стали искать после завтрака.
Тогда — чьи это были следы?
XVII
— Студентки, — обратилась к девушкам мисс Ходж, подымаясь со своего места после ленча и показывая жестом остальным преподавателям, чтобы они оставались сидеть, — вы все знаете о несчастном случае, который произошел сегодня утром — полностью из-за небрежности самой пострадавшей. Первое, чему учат гимнастку, — внимательно осмотреть снаряд перед тем, как пользоваться им. То, что такая ответственная и вообще прекрасная студентка, как мисс Роуз, пренебрегла этой простой, самой основной обязанностью, — предостережение всем вам. Это первое. Второе. Сегодня мы принимаем гостей. То, что случилось утром, — не секрет, мы не могли бы скрыть это, даже если бы захотели, — но я прошу вас не говорить на эту тему. Наши гости приедут, чтобы хорошо провести время; известие, что сегодня утром имел место достаточно серьезный несчастный случай, в результате которого одна из наших студенток попала в больницу, несомненно, испортит им удовольствие; возможно, наблюдая гимнастические упражнения, они будут испытывать совершенно ненужный страх. Так что, если у кого-нибудь из вас есть желание драматизировать сегодняшнее происшествие, пожалуйста, обуздайте его. Ваше дело — позаботиться, чтобы гости уехали довольные, не беспокоясь и не сожалея ни о чем. Я надеюсь на ваш здравый смысл.
Это утро прошло под знаком приспосабливания — физического, умственного, духовного. Фрекен вернулась из госпиталя в Западном Ларборо и стала работать со Старшими, переделывая их выступление так, чтобы не было заметно, что их стало на одну меньше. Невозмутимое спокойствие фрекен помогло девушкам воспринять изменения и саму необходимость в них достаточно хладнокровно, хотя фрекен и говорила, что по крайней мере одна из трех шарахалась в сторону как пугливый жеребенок, когда ей нужно было работать на переднем конце бума или проходить то место, где он упал. Будет чудом, сказала фрекен, покоряясь судьбе, если на сегодняшнем показе та или другая не наделают ошибок. Как только фрекен отпустила девушек, наступила очередь мадам Лефевр. Благодаря своим физическим способностям Роуз участвовала почти в каждом номере балетной программы, а это означало, что каждый номер должен был подвергнуться либо залатыванию дыр, либо переделке. Это неблагодарное и трудное занятие продолжалось до самого ленча, и отголоски его были слышны и позже. Большая часть разговоров за ленчем, похоже, состояла из замечаний типа: «Это ты протягиваешь мне правую руку, когда Стюарт проходит впереди меня?» — а Дэйкерс легче было нарушать общее молчание, результат охватившего всех волнения, обычного в таких случаях, объявляя громким голосом, что «последний час доказал, дорогие, что один человек может находиться одновременно в двух местах».
Однако главное событие произошло, когда фрекен и мадам закончили ревизию каждая своей программы. Тогда-то мисс Ходж послала за Иннес и предложила ей место Роуз в Арлингхерсте. В госпитале подтвердили диагноз фрекен о переломе, было ясно, что Роуз много месяцев не сможет работать. Как восприняла это Иннес, никто не знал; знали только, что она согласилась. Это назначение было как бы спадом напряжения, оно оказалось в тени настоящей сенсации и было воспринято как нечто само собой разумеющееся; насколько могла заметить Люси, ни студентки, ни преподаватели не думали о нем. Единственным комментарием была сардоническая реплика мадам: «Господь располагает».
Однако Люси не ощущала радости по этому поводу. Неясное беспокойство, шевелившееся в ней, досаждало крайне. Ее беспокоило «попадание в точку» во времени. Несчастный случай произошел не только в удобный, но и в самый последний момент. Завтра Роуз уже не нужно было идти в гимнастический зал заниматься, не нужно было бы устанавливать бум и не было бы плохо вставленного штыря. И потом, эти влажные следы ранним утром. Если это не были следы самой Роуз, то чьи тогда? Как совершенно справедливо заметила Люкс, в такой ранний час никого иначе как дикими лошадьми нельзя было близко подтащить к гимнастическому залу.
Может быть, это были отпечатки ног Роуз, но она еще куда-то ходила прежде, чем отправилась в зал позаниматься несколько минут на буме. Люси не могла поклясться, что следы вели в дом, она не помнила, были ли следы на ступеньках. Просто она увидела влажные следы в крытом переходе и решила, не задерживаясь на этой мысли, что Роуз ее опередила. Может быть, следы огибали здание, Люси не знала. Они вообще могли не иметь ничего общего с гимнастическим залом. И со студентками тоже. Быть может, эти отпечатки туфель без каблуков, такие неясные, смазанные, были оставлены утренними тапочками одной из служанок.
Все это было возможно. Но к следам, которые, скорее всего, не были следами Роуз, примешивалась находка маленького металлического украшения на полу, который за двадцать минут до этого был вычищен мощным пылесосом. Украшения, лежавшего как раз посредине между входной дверью и ожидавшим Роуз бумом. И при всем прочем одно было ясно: украшение потеряно не Роуз. Она не только почти наверняка не заходила в зал утром, до того как туда вошла Люси, у нее просто не было лакированных туфель. Люси знала это точно, потому что сегодня ей пришлось взять на себя упаковку вещей Роуз. Мисс Джолифф, в чью обязанность это входило, была загружена приготовлениями к приему гостей и переложила это дело на Рагг. Та не нашла, кому из студенток это поручить, потому что все были заняты на уроке у мадам, а доверить эту обязанность Младшим было невозможно. Поэтому Люси добровольно вызвалась проделать эту работу, радуясь, что может быть хоть в чем-то полезной. Первое, что она сделала в номере четырнадцатом, — вынула из шкафа туфли Роуз и осмотрела их.
Отсутствовала только пара гимнастических туфель, которые, очевидно, Роуз надела сегодня утром. Но чтобы быть абсолютно уверенной, Люси, услышав, что Старшие вернулись из гимнастического зала, позвала О'Доннелл и спросила:
— Вы ведь хорошо знаете мисс Роуз? Посмотрите, пожалуйста, на туфли и скажите, вся ли здесь обувь, что у нее была; а потом я начну укладывать их.
О'Доннелл посмотрела и сказала: да, вся. «Кроме гимнастических туфель, — добавила она. — Они были на ней».
Похоже, все было именно так.
— Она ничего не отдавала чистить?
— Нет, всю обувь мы чистим сами, кроме хоккейных ботинок зимой.
Значит, так. На Роуз этим утром были обычные туфли для гимнастики. Маленькая филигранная розетка оторвалась не от туфли Роуз.
«Тогда от чьей? — спрашивала себя Люси, упаковывая вещи Роуз с такой аккуратностью, с какой никогда не обращалась со своими собственными. — От чьей?»
Переодеваясь, она продолжала задавать себе этот вопрос. Розетку она убрала в один из ящичков стола, служившего одновременно письменным и туалетным, и безрадостно разглядывала свой скудный гардероб, выбирая что-нибудь подходящее для праздника на открытомвоздухе. Из окна, выходящего в сад, ей было видно, как Младшие устанавливали там столики, плетеные стулья и зонтики, под которыми будут пить чай. Девочки сновали туда-сюда, как муравьи, создавая веселый разноцветный узор по краям лужайки. Солнечные лучи освещали их, и вся картина с ее четкими многочисленными деталями напоминала внезапно повеселевшее полотно Брейгеля.
Однако, когда Люси глядела вниз на эту картину и вспоминала, с каким нетерпением она ждала этого праздника, у нее было тоскливо на душе, и она не могла понять, откуда эта тоска. Ей было ясно только одно. Сегодня вечером она должна пойти к Генриетте и отдать маленькую розетку. Когда общее возбуждение уляжется и у Генриетты будет время успокоиться и подумать, тогда эту проблему — если таковая вообще существовала — можно будет поставить перед ней. Прошлый раз она, Люси, поступила неправильно, когда, пытаясь избавить Генриетту от неприятностей, бросила в воду маленькую красную книжку; на этот раз она исполнит свой долг. Розетка — это не ее дело.
Да. Это не ее дело. Конечно не ее.
Люси решила, что голубое полотняное платье с узким красным пояском достаточно ясно свидетельствует о своем происхождении с Ганновер-сквер и удовлетворит самых критически настроенных родителей, приехавших из провинции; она почистила замшевые туфли щеткой, которую вложила в них заботливая миссис Монморанси, и спустилась в сад предложить свою помощь там, где она могла понадобиться.
В два часа начали приезжать первые гости; они заходили поздороваться в кабинет к мисс Ходж, а затем переходили в руки своих возбужденных отпрысков. Отцы с недоверием трогали странные приспособления в клинике, матери ощупывали кровати в спальном крыле, а опытные в садоводстве дядюшки осматривали в саду розы Джидди. Люси попыталась отвлечься, стараясь «связать» попадавшихся ей родителей с той или иной студенткой. Она заметила, что бессознательно ищет мистера и миссис Иннес и почти со страхом ждет встречи с ними. «Почему со страхом? — спрашивала она себя. — Страшиться нечего, ведь так? Конечно нечего. Все замечательно. Иннес в конце концов получила Арлингхерст; этот день в конце концов стал для нее днем триумфа».
Люси столкнулась с ними неожиданно, огибая на ходу изгородь из душистого горошка. Иннес шла между отцом и матерью, держа их под руки, и лицо ее светилось. Это не было то сияние, которое сверкало в ее глазах неделю назад, но все же это был достаточно хороший заменитель. У девушки был изможденный вид, но она казалась спокойной, как будто, каков бы ни был результат, внутренняя борьба закончилась.
— Вы познакомились с ними и ничего мне не сказали, — обратилась она к мисс Пим, указывая на родителей.
Как будто встретились старые друзья, подумала Люси. Трудно поверить, что она видела этих людей только один раз в течение часа, летним утром, за кофе. Казалось, что она знает их всю жизнь. И они со своей стороны, верила Люси, испытывают такое же чувство. Они действительно были рады снова увидеться с ней, что-то вспоминали, о чем-то спрашивали, ссылались на ее высказывания и вообще вели себя так, будто она не только играла важную роль в их жизни, но просто была частью этой жизни. И Люси, привыкшая к равнодушию, царившему на литературных вечеринках, почувствовала, что благодаря им у нее на сердце снова потеплело.
Иннес оставила их беседовать и ушла готовиться к выступлению гимнасток, которым должна была открыться праздничная программа, а Люси вместе с родителями девушки направилась к гимнастическому залу.
— Мэри выглядит совсем больной, — сказала ее мать. — Что-нибудь неладно?
Люси колебалась с ответом, не зная, что сказала им дочь.
Она рассказала нам о несчастном случае и о том, как ей «по наследству» достался Арлингхерст. Наверно, ей не очень приятно, что ее удача — результат несчастья другой студентки, но тут примешалось еще что-то.
— Все считали само собой разумеющимся, что в первую очередь это место должна получить она. Думаю, для нее было ударом, когда этого не произошло.
— Понимаю. Да, — медленно проговорила миссис Иннес, и Люси почувствовала, что дальнейших объяснений не требуется; вся история мучений и мужества Иннес стала ясна ее матери в одно мгновение.
— Боюсь, ей может не понравиться, что я вам рассказала, так что…
— Нет-нет, мы ничего не скажем, — заверила мать Иннес. — Как мило выглядит сад. Джарвис и я из сил выбиваемся на нашем клочке земли, но только его уголки чуть-чуть похожи на картинки из книг, а мои всегда напоминают что-то другое. Только посмотрите на эти мелкие желтые розы!
Так они дошли до двери в гимнастический зал, и Люси проводила их наверх, показав им «Нетерпящего» — ее уколола мысль о маленькой металлической розетке, — помогла найти их места на галерее, и праздник начался.
Место Люси было в конце первого ряда, и оттуда она с любовью смотрела вниз на сосредоточенные юные лица, с такой напряженной решимостью ожидающие команды фрекен. Люси слышала, как одна из Старших говорила: «Не беспокойся, фрекен нас вытянет». И по глазам девушек было видно, что они верят в это. Им предстояло серьезное испытание, они испытали глубокое потрясение, но фрекен их вытянет.
Люси осознала теперь ту любовь, которая светилась в глазах Генриетты, когда они в первый раз вместе смотрели репетицию показа. Это было меньше двух недель назад. Теперь вот и у нее, Люси, появилось по отношению к ним собственническое чувство и гордость за них. Когда придет осень, даже карта Англии будет выглядеть для нее по-другому после этих двух недель в Лейсе. Манчестер — будет городом, где работают Апостолы, Аберисвит — местом, где пытается бодрствовать Томас, в Линге — Дэйкерс нянчится с детьми, и так далее. Если она, Люси, испытывает к ним такие чувства после нескольких дней жизни здесь, не удивительно, что Генриетта, которая видела, как они неумелыми новичками начинали свою жизнь в колледже, как они росли, совершенствовались, боролись, терпели неудачи, добивались успехов, — смотрела на них, как на своих дочерей. Удачливых дочерей.
Девушки закончили первый номер, и напряжение немного сошло с их лиц, они начали успокаиваться. Аплодисменты, которыми наградили их после вольных упражнений, разорвали тишину, согрели атмосферу и сделали все более человечным.
— Какие прелестные девушки, — сказала сидевшая рядом с Люси дама с лорнетом, похожая на вдовствующую герцогиню (кто теперь пользуется такой штукой? вряд ли это чья-то мать), и, повернувшись, спросила конфиденциальным тоном:
— Скажите, ведь их отбирали?
— Не понимаю, — пробормотала Люси.
— Я хочу сказать, здесь все-все Старшие?
— Вы думаете, это только лучшие? О нет, здесь вся группа.
— Правда? Совершенно замечательно. И такие хорошенькие. Просто удивительно хорошенькие.
«Она что, думала, что всем, у кого веснушки, дали по полкроны, чтобы они убрались на время отсюда?» — изумилась Люси.
Но вдовствующая особа говорила правду. Исключая лошадей-двухлеток на тренировке, Люси не могла придумать ничего, радующего душу и глаз более, чем эти загорелые ловкие юные создания, которые сейчас внизу были заняты тем, что устанавливали бумы. Кольца из-под крыши опустились, веревочные трапы натянулись, и на всех трех видах снарядов непринужденно, с мастерством замелькали тела Старших. Аплодисменты, которыми их наградили, когда они убрали кольца и трапеции и развернули бумы для упражнений на равновесие, были искренними и громкими. Зрелище публике нравилось.
Когда Люси была здесь сегодня рано утром, под таинственным сводом, образованным зеленоватыми тенями, зал выглядел совершенно иначе. Сейчас он был реальным, живым; солнечный свет, проходивший сквозь стеклянную крышу, золотым дождем изливался на светлое дерево и оно сверкало. Снова увидев своим мысленным взором пустое пространство с единственным установленным в ожидании Роуз бумом, Люси повернулась посмотреть, кому выпадет жребий выполнять упражнение на равновесие на том месте, где нашли Роуз. Кому достанется передний конец того бума?
Иннес.
— Пошли! — скомандовала фрекен, и восемь юных тел, сделав сальто, взлетели на высокие бумы. Секунду они посидели там, потом в унисон поднялись и встали во весь рост на противоположных концах бума, одна нога перед другой, лицом друг к другу.
Люси отчаянно надеялась, что Иннес не потеряет сознание. Девушка была не просто бледна, она была зеленой. Ее напарница, Стюарт, попыталась начать, но, увидев, что Иннес не готова, остановилась подождать ее. Но Иннес стояла как вкопанная, не в состоянии пошевелить ни одним мускулом. Стюарт послала ей отчаянно-призывный взгляд, однако Иннес продолжала стоять будто парализованная. Они поняли друг друга без слов, и Стюарт стала выполнять упражнение, выполнять превосходно, что в данных обстоятельствах заслуживало особой похвалы. Все силы Иннес были сконцентрированы на том, чтобы удержаться на буме, спуститься на пол вместе со всеми и не погубить все упражнение, свалившись или спрыгнув раньше времени. Мертвая тишина и всеобщий интерес, к несчастью, сделали неудачу Иннес слишком очевидной и вызвали к ней, стоявшей без движения, сочувствие, смешанное с удивлением. Бедняжка, думали зрители, она заболела. Несомненно, это следствие перевозбуждения. Бедняжка, бедняжка.
Стюарт закончила упражнение и вопросительно посмотрела на Иннес. Они стали одновременно медленно опускаться и сели на бум; вместе повернулись лицом к публике и, сделав сальто, спрыгнули на пол.
Взрыв аплодисментов приветствовал их. Как и всегда, англичан растрогало мужественное поведение при неудаче, а давшийся легко успех вызвал бы лишь вежливое одобрение. Присутствующие выражали одновременно и свое сочувствие, и свое восхищение. Они поняли, как велико было чувство долга, удержавшее на буме Иннес, которую как будто внезапно поразил паралич.
Однако сочувствие не дошло до Иннес. Люси сомневалась, слышала ли она вообще аплодисменты. Она жила в своем мире, который был сплошной пыткой, жила, недосягаемая для утешения. Люси не могла смотреть на нее.
Шквал следующих номеров перекрыл неудачу и положил конец драме. Иннес заняла свое место рядом с другими и выполняла все с мастерством автомата.
А финальное сальто она сделала так, что Люси показалось, что она хочет при всех сломать себе шею. Та же мысль, если судить по выражению лица, пришла в голову фрекен, но поскольку все движения Иннес были уверенными и очень красивыми, та не могла ее остановить. А от того, что делала Иннес, захватывало дух, и при этом все было замечательно красиво и точно. Она совсем не волновалась, и ей удавались самые отчаянные курбеты. И когда студентки закончили свой последний номер — вольные упражнения — и запыхавшиеся, сияющие, выстроились, как в начале, в одну шеренгу на полу, гости поднялись и приветствовали девушек одобрительными возгласами.
Люси, сидевшая в конце ряда у самой двери, вышла из зала первой и успела увидеть, как Иннес приносила фрекен извинения.
Фрекен остановилась, а потом двинулась дальше, как будто ей это было совсем не интересно или как будто она не хотела слушать.
Однако на ходу она как бы случайно подняла руку и дружеским жестом слегка похлопала Иннес по плечу.
XVIII
Когда гости направились в сад к стоявшим вокруг лужайки плетеным стульям, Люси пошла вместе со всеми. Прежде чем сесть самой, она стояла и смотрела, достаточно ли стульев для всех, и тут ее поймала Бо, которая воскликнула:
— Мисс Пим! Вот вы где! А я гоняюсь за вами. Я хочу познакомить вас с моими родителями. — Она повернулась к паре, которая уже уселась, и сказала: — Смотрите, я наконец нашла мисс Пим.
Мать Бо была очень красива, над ее красотой потрудились лучшие косметические салоны и самые дорогие парикмахеры, но у них была прекрасная почва для работы, потому что, когда миссис Нэш было двадцать лет, она, очевидно, была очень похожа на Бо. Даже сейчас, при ярком солнечном свете, она выглядела не больше чем на тридцать пять лет. Кроме того, у нее был хороший портной, и вела она себя спокойно и дружески доверчиво, как женщина, за всю жизнь привыкшая к тому, что она красавица. Она так хорошо знала, какое впечатление она производит на людей, что вовсе не думала об этом и могла обратить свое внимание на того, с кем она разговаривала.
Мистер Нэш был, совершенно очевидно, тем, кого называют «руководитель». Гладкая чистая кожа, отлично сшитый костюм, вид очень обеспеченного человека и общая аура мебели красного дерева и рядов чистых блокнотов на столах.
— Мне нужно переодеваться. Я улетаю, — проговорила Бо и исчезла.
Люси усадили, и миссис Нэш посмотрела на нее улыбаясь и сказала:
— Ну вот, теперь, когда я вижу вас, мисс Пим, мы можем спросить вас кое о чем, что нам до смерти хочется узнать. Скажите, пожалуйста, как вам это удалось!
— Что — удалось?
— Произвести впечатление на Памелу.
— Да, — подтвердил мистер Нэш, — именно это нам бы очень хотелось узнать. Всю жизнь мы пытались произвести хоть какое-нибудь впечатление на Памелу, но в ее глазах мы по-прежнему пара милых людей, которые по воле случая виновны в ее появлении на свет и над которыми время от времени нужно подшучивать.
— А вы, оказывается, тот человек, о котором в самом деле стоит писать домой, — проговорила миссис Нэш, подняла бровь и рассмеялась.
— Если это послужит вам утешением, — ответила Люси, — на меня ваша дочь тоже произвела сильное впечатление.
— Пэм прелесть, — сказала ее мать. — Мы очень любим ее, но мне бы хотелось, чтобы она больше считалась с нашим мнением. Пока не появились вы, мисс Пим, Пэм не считалась ни с кем, за исключением няни, которая была у нас, когда Пэм было четыре года.
— И заставила считаться с собой физическим воздействием.
— Да, это был единственный раз, когда Пэм нашлепали.
— И что было потом?
— Нам пришлось расстаться с няней!
— Вы не одобряете, когда шлепают?
— О, мы-то были рады, но Памела не одобрила.
— Пэм устроила первую в истории сидячую забастовку, — сказал мистер Нэш.
— И сидела семь дней, — добавила миссис Нэш. — Если мы не хотели одевать ее и кормить силком всю оставшуюся жизнь, нам ничего другого не оставалось, как расстаться с няней. Это была превосходная женщина. Очень жаль было терять ее.
Раздались звуки музыки, и перед высокой стеной рододендронов появились Младшие в пестрых шведских национальных костюмах. Начались народные танцы. Люси, откинувшись на спинку стула, погрузилась в раздумье, но не о детских выходках Бо, а об Иннес и о том, что черная туча сомнений и предчувствий пытается затмить яркий свет солнца, как будто насмехаясь над ним.
Люси была так занята мыслями об Иннес, что, услышав голос миссис Нэш: «Мэри, дорогая, вот и ты. Очень рада видеть тебя», вздрогнула, обернулась и посмотрела на стоявшую за ними Иннес. На ней был мужской костюм по моде пятнадцатого века, камзол, штаны и капюшон, под который были убраны волосы и который, плотно прилегая к лицу, подчеркивал особенности его черт. Теперь, когда глаза девушки, и всегда глубоко спрятанные в глазницах, запали еще больше и под ними легли темные тени, ее лицо приобрело грозное выражение. Это было — как это говорится? — «роковое» лицо. Люси вспомнилось ее первое впечатление, что именно вокруг таких лиц создается история.
— Ты переутомилась, Мэри, — сказала миссис Нэш, глядя на девушку.
— Они все переутомились, — проговорила Люси, желая отвлечь внимание от Иннес.
— Только не Памела, — возразила ее мать. — Пэм никогда в жизни много не работала.
Да. Бо все подавалось на тарелочке. Чудо, что она выросла такой очаровательной.
— Вы видели, как я провалила упражнение на буме? — спросила Иннес светским тоном. Это удивило Люси, она думала, что девушка постарается избежать этой темы.
— О, дорогая, мы так волновались за тебя, что покрылись испариной, — сказала миссис Нэш. — Что случилось? У тебя закружилась голова?
— Нет, — заявила Бо, подходя к ним сзади и беря Иннес под руку, — просто это ее способ привлекать внимание. Эта девушка отличается не слабыми физическими возможностями, а великолепными мозгами. Никто из нас не догадался придумать подобный трюк. — И как бы в знак одобрения она пожала локоть Иннес.
Бо тоже была одета в мужской костюм и, казалось, испускала сияние; даже то, что золотые волосы девушки были спрятаны, не уменьшало блеск и живость ее красоты.
— Это последний номер Младших — правда, они славно выглядят на фоне этой зелени? — а теперь Иннес, я и вся наша группа будем развлекать вас сценами из английской истории, а потом вы получите чай, чтобы подкрепиться перед настоящими танцами.
И они обе ушли.
— Вот так, — произнесла миссис Нэш, глядя на удаляющуюся дочь., - Наверно, это лучше, чем если бы ее охватило желание учить аборигенов в черной Африке или что-нибудь в таком духе. Но мне бы хотелось, чтобы она осталась дома и была нашей дочкой.
Люси подумала, что это делает честь миссис Нэш, если она, будучи такой моложавой, хочет, чтобы ее дочь жила дома.
— Пэм всегда сходила с ума по гимнастике и играм, — сказал мистер Нэш. — Ее не удержать было. Впрочем, если уж на то пошло, ее никогда ни в чем было не удержать.
— Мисс Пим, — раздался голос Нат Тарт, появившейся у локтя Люси, — вы не возражаете, если Рик посидит с вами, пока я буду изображать со Старшими эти истории? — И она показала на стоявшего за ее спиной со стулом в руках Гиллеспи, на лице которого была его обычная широкая улыбка.
Плоская шляпа с большими полями и завязанной под подбородком вуалью — мода, называвшаяся «Женщина из Бата», — была приколота на макушке Нат Тарт и придавала ей невинно-удивленный вид, совершенно восхитительный. Люси и Рик обменялись взглядами, выражавшими обоюдное одобрение, и он, улыбаясь, уселся рядом с ней.
— Ну не прелесть ли она в этом костюме, — произнес Рик, глядя, как Детерро скрывается за зарослями рододендронов.
— Я полагаю, «история» не может считаться танцами.
— Она хорошо танцует?
— Не знаю. Я никогда не видела, но думаю — хорошо.
— Я даже ни разу не танцевал с ней на балу, как это ни странно. Я вообще не знал о ее существовании, до прошлой Пасхи. Можно сойти с ума от мысли, что она уже целый год в Англии, а я не знал. Три месяца встреч от случая к случаю — слишком короткий срок, чтобы произвести впечатление на такого человека, как Тереза.
— А вы хотите произвести впечатление?
— Да.
Односложный ответ был вполне красноречив.
Одетые в средневековые английские костюмы Старшие выбежали на лужайку, и разговоры стихли. Люси попыталась отвлечься, определяя кому какие ноги принадлежат и восхищаясь энергией, с которой эти ноги двигались после целого часа труднейших упражнений. Она говорила себе: «Да, ты должна сегодня вечером отнести маленькую розетку Генриетте. Хорошо. Это ясно. От тебя ничего не зависит, ни сам факт, что тебе надо пойти, ни результат, к которому это может привести. Поэтому выбрось все из головы. Ты так ждала этого дня. День чудесный, солнечный, все рады тебе, и тебе должно быть очень хорошо. Успокойся. Даже если… если розетка будет причиной чего-то ужасного, тебя это не касается. Две недели назад ты не знала никого из этих людей и, уехав, никогда никого из них больше не увидишь. Тебе должно быть безразлично все, что случится или не случится с ними».
Но эти рассуждения, как бы правильны они ни были, не помогали. Увидев, что мисс Джолифф с помощницами стала накрывать к чаю установленные поодаль столы, Люси поднялась, обрадовавшись, что есть куда приложить свои руки и чем занять голову.
Рик неожиданно пошел вместе с ней.
— Я как будто рожден передавать тарелки. Наверно, во мне сидит жиголо.
Люси заметила, что ему следовало бы посмотреть «Истории влюбленных», которые изображала его возлюбленная.
— Ее номер последний. И если я хоть немного знаю мою Терезу, удовлетворить ее аппетит гораздо труднее, чем ее тщеславие, как бы велико оно ни было.
«Похоже, он хорошо знает свою Терезу», — подумала Люси.
— Вы обеспокоены чем-то, мисс Пим?
Вопрос застал ее врасплох.
— Почему вы так решили?
— Не знаю. Просто мне показалось. Может быть, я могу чем-нибудь помочь?
Люси вспомнила, как в воскресенье вечером, когда она почти расплакалась над бидлингтонскими гренками с сыром, он сразу понял, что она устала, и помог ей. Если бы, когда ей было двадцать, ей встретился кто-нибудь такой же понимающий и такой же молодой и красивый, как поклонник Нат Тарт, а не Алан с его адамовым яблоком и дырявыми носками!
— Я должна сделать кое-что, что сделать необходимо, — медленно проговорила Люси, — но я боюсь последствий.
— Последствий для вас?
— Нет. Для других.
— Не думайте; делайте.
Мисс Пим поставила тарелки с кексами на поднос.
— Видите ли, то, что необходимо, не всегда правильно. А может, я хотела сказать наоборот?
— Я не уверен, что понял, что вы вообще хотели сказать.
— Ну, тут появляется ужасная дилемма — кого вы спасаете. Вы понимаете? Если вы знаете, что, спасая человека с верха снежной лавины, вы вызовете ее срыв, в результате которого будет разрушена деревня, что вы будете делать? Такого рода вопрос.
— Конечно, я спасу его.
— Да?
— Лавина может накрыть деревню так, что ни одна кошка не погибнет, — положить на этот поднос немного сэндвичей? — так что будет спасена по крайней мере одна жизнь.
— Вы считаете, что всегда нужно делать то, что правильно, и пусть последствия заботятся сами о себе?
— Примерно так.
— Несомненно, это проще всего. По правде говоря, я думаю слишком просто.
— Если вы не собираетесь играть роль Господа Бога, нужно выбирать простой путь.
— Играть роль Господа Бога? Вы знаете, что положили сюда вдвое больше сэндвичей с языком?
— Если вы не можете, как Господь Бог, предвидеть все «до» и «после», лучше всего придерживаться правил. Полный успех! Музыка кончилась, и вон моя юная дама движется сюда, как леопард на охоте. — Рик с улыбкой в глазах смотрел на приближающуюся Детерро. — Не правда ли, эта шляпа сногсшибательна! — Он на секунду задержал взгляд на Люси: — Делайте то, что правильно, мисс Пим, и пусть Господь Бог решает.
— Ты не смотрел, Рик? — услышала Люси вопрос Детерро, но тут и она сама, и Детерро, и Рик были захлестнуты налетевшей волной Младших, примчавшихся выполнять свои обязанности — угощать чаем. Люси выбралась из звяканья белых чашек и мелькания пестрых шведских костюмов и оказалась лицом к лицу с Эдвардом Эйдрианом. Тот был один и выглядел совсем потерянным.
— Мисс Пим! Вас-то я и хотел увидеть. Вы слышали, что…
Одна из Младших сунула ему в руки чашку с чаем, и он одарил ее своей самой лучшей улыбкой, но ей было некогда, и она ее не увидела. В тот же момент к Люси с чаем и подносом с кексами подошла маленькая мисс Моррис, сохранившая верность даже в суматохе показа.
— Давайте присядем, хорошо? — сказала Люси.
— Вы слышали об этом ужасном случае?
— Да. Думаю, что серьезные несчастные случаи бывают не так уж часто. Просто очень неудачно, что это произошло как раз в день показательных выступлений.
— О, несчастный случай, да. А вы знаете, что Кэтрин говорит, что не может поехать сегодня вечером в Ларборо? Что все подавлены и она должна оставаться здесь. Вы слышали когда-нибудь что-нибудь более абсурдное? Если здесь царит угнетенное настроение, тем больше причин для того, чтобы вытащить ее и заставить немного забыться? Я все приготовил. Даже купил специально цветы для нашего столика на сегодняшний вечер. И именинный пирог. В следующую среду день ее рождения.
Интересно, подумала Люси, знает ли кто-нибудь в Лейсе, когда у Кэтрин Люкс день рождения.
Как могла, Люси выразила сочувствие Эйдриану, при этом мягко сказав, что понимает точку зрения мисс Люкс. Ведь девушка серьезно ранена, все очень обеспокоены, и, без сомнения, будет несколько бездушно с ее стороны, если она поедет веселиться в Ларборо.
— Но это не веселье! Это просто тихий ужин со старым другом. Я действительно не понимаю, почему, если со студенткой произошел несчастный случай, Кэтрин должна бросать старого друга. Поговорите с ней, мисс Пим. Вы можете убедить ее.
Люси сказала, что сделает все что сможет, но на успех не надеется, потому что, пожалуй, разделяет точку зрения мисс Люкс по этому поводу.
— И вы! О Господи!
— Я знаю, что это неразумно. Даже абсурдно. Но никто из нас не сможет быть веселым, и вечер будет сплошным разочарованием, а ведь вы этого не хотите? А нельзя ли перенести все на завтра?
— Нет, сразу, как только кончится вечерний спектакль, я должен буду торопиться на поезд. И потом, это суббота, и у меня будет matinee.[583] А вечером я играю «Ромео», это совсем не понравится Кэтрин. Она и в «Ричарде III» с трудом меня выдержит. О Боже, какой все это абсурд.
— Успокойтесь, — сказала Люси. — Все не так трагично. Вы еще приедете в Ларборо, теперь, когда вы знаете, что она здесь, сможете видеться с ней, когда только захотите.
— Я никогда больше не застану Кэтрин в таком благодушном настроении. Никогда. Знаете, отчасти это благодаря вам. Она не хочет представать перед вами в виде Горгоны. Она даже согласилась поехать посмотреть мою игру. Никогда раньше она не соглашалась. Я никогда не смогу снова уговорить ее, если она не поедет сегодня. Убедите ее, мисс Пим.
Люси обещала попробовать.
— А если отвлечься от нарушенного обещания, как вам понравилось сегодня?
Мистер Эйдриан, по его словам, получил большое удовольствие. Он не знал, что привело его в больший восторг — красота студенток или их ловкость и умение.
— Кроме того, у них чудесные манеры. У меня ни разу не попросили автографа, за весь день.
Люси посмотрела на него, думая, что он иронизирует. Но нет, все было «впрямую». Он действительно не мог представить себе другой причины отсутствия охотников за автографами, как хорошие манеры. «Бедный, глупый ребенок, — подумала Люси, — постоянно живет в мире, о котором ничего не знает. Интересно, все ли актеры такие. Блуждающие воздушные шары, а в центре каждого упакованный в него маленький актер. Как, наверно, это славно, жить обложенным подушками, надежно оберегающими от жестокой реальности. Они вообще даже не родились; они все еще плавают в некоей пренатальной жидкости».
— А кто эта девушка, которая напутала в упражнении на равновесие?
Неужели ей не дадут отвлечься от Иннес хоть на две минуты!
— Ее зовут Мэри Иннес. А что?
— Какое удивительное лицо. Чистый Борджиа.[584]
— Не надо! — резко сказала Люси.
— Я весь день не мог понять, кого она мне напоминает. Наверно, портрет молодого человека кисти Джорджоне, но который из них — не знаю. Надо бы просмотреть их заново. Во всяком случае, это удивительное лицо, такое тонкое и такое сильное, такое доброе и такое злое. Совершенно фантастически красивое. Не представляю себе, что может делать такая драматичная личность в женском колледже физического воспитания в двадцатом веке?
Ладно, ей, Люси, во всяком случае оставалось утешение, что еще кто-то видел Иннес так же, как видела ее она: необычной, красивой особой красотой, не соответствующей веку, в котором она живет, потенциально трагической фигурой. Люси вспомнила, что Генриетта считала Иннес просто скучной девушкой, которая сверху вниз смотрит на людей, менее одаренных, чем она сама.
«Что бы такое предложить Эдварду Эйдриану для того, чтобы отвлечься?» — подумала Люси. Она увидела, как по дорожке движется хлопающий на ветру шелковый галстук-бабочка и ослепительно белый воротник, и узнала мистера Робба, обучавшего ораторскому искусству; он был единственным преподавателем со стороны, если не считать доктора Найт. Сорок лет тому назад мистер Робб был подающим надежды молодым актером — самым блестящим Ланселотом Гоббо своего поколения, — и Люси почувствовала, что поразить мистера Эйдриана его же собственным оружием будет, пожалуй, неплохо. Но поскольку она оставалась все той же Люси, ее сердце смягчилось при мысли о том, как он понапрасну готовился — цветы, пирог, планы показаться в выгодном свете, — и она решила быть милосердной. Она заметила О'Доннелл, издали разглядывавшую того, кто некогда был ее героем, и поманила девушку. Пусть Эдвард Эйдриан получит реальную подлинную стойкую поклонницу, которая будет восхищаться им, и пусть он никогда не узнает, что она — его единственная поклонница в колледже.
— Мистер Эйдриан, — сказала Люси, — это Эйлин О'Доннелл, одна из ваших самых восторженных почитательниц.
— О, мистер Эйдриан, — начала О'Доннелл.
На этом Люси оставила их.
XIX
Когда чаепитие закончилось (Люси была представлена не менее чем двадцати парам родителей), публика двинулась к выходу из сада, и мисс Пим перехватила мисс Люкс по дороге в дом.
— Боюсь, я не смогу сегодня поехать, — сказала Люси. — Я чувствую, начинается мигрень.
— Жаль, — равнодушно ответила Люкс. — Я тоже отказалась.
— О, почему?
— Я очень устала, расстроена из-за Роуз, и мне не хочется отправляться гулять в город.
— Вы меня удивляете.
— Удивляю вас? Чем же?
— Никогда не думала, что доживу до того момента, что увижу, как Кэтрин Люкс обманывает сама себя.
— О-о. И в чем же я лгу себе?
— Если вы заглянете в свою душу, то обнаружите, что вовсе не поэтому остаетесь дома.
— Да? А почему же?
— Потому что вам доставляет огромное удовольствие сказать Эдварду Эйдриану, куда ему убираться.
— Отвратительное выражение.
— Зато образное. Вы просто ухватились за возможность проявить свою власть над ним, разве не так?
— Признаюсь, мне было нетрудно нарушить обещание.
— И вы испытали легкое злорадство?
— Я являла собой отвратительный пример самовлюбленной мегеры. Вы это хотите сказать, да?
— Он так мечтает о встрече с вами. Не могу понять почему.
— Благодарю. Могу сказать почему. Чтобы он мог расплакаться и рассказать, как он ненавидит театр — то, что для него является смыслом жизни.
— Даже если вам с ним скучно…
— Если! Боже мой!
— …вы можете потерпеть час-другой и не вытаскивать случай с Роуз как козырь, спрятанный в рукаве.
— Вы что, пытаетесь сделать из меня честную женщину, Люси Пим?
— Очень бы хотелось. Мне так жаль его, брошенного…
— Добрая — моя — женщина, — произнесла Люкс, при каждом слове тыча в Люси указательным пальцем, — никогда не жалейте Эдварда Эйдриана. Женщины тратили лучшие годы своей жизни на то, что жалели его, а кончалось тем, что жалели их самих. Изо всех самовлюбленных, самообманывающихся…
— Но он заказал йоханнисбергер.
Люкс остановилась и улыбнулась Люси.
— Пожалуй, я бы выпила с удовольствием, — сказала она задумчиво. Потом сделала еще несколько шагов.
— Вы и правда оставили Тедди на мели?
— Да.
— Ладно. Ваша взяла. Я просто была скотиной. Поеду. И всякий раз, как он заведет: «О, Кэтрин, как я устал от этой искусственной жизни», я буду злобно думать: это Пим ввергла меня в подобную историю.
— Выдержу, — заверила Люси. — Кто-нибудь слышал, как дела у Роуз?
— Мисс Ходж только что говорила по телефону. Она все еще без сознания.
Люси, увидев голову Генриетты в окне кабинета — комната называлась кабинетом, но в действительности была маленькой гостиной слева от парадной входной двери, — пошла поздравить подругу с тем, как успешно прошел праздник, и тем отвлечь ее хоть на одну-две минуты от давящих мыслей, а мисс Люкс ушла. Генриетта, похоже, обрадовалась приходу Люси и даже с удовольствием повторила ей все банальности, которые выслушивала целый день; Люси какое-то время поговорила с Генриеттой, так что когда она направилась к своему месту в зале, чтобы смотреть танцы, галерея была уже почти полна.
Увидев Эдварда Эйдриана на одном из стульев, стоявших в проходе, Люси остановилась и сказала:
— Кэтрин поедет.
— А вы? — спросил он, глядя на нее снизу.
— Увы, нет. У меня ровно в шесть тридцать начнется мигрень.
На что он ответил:
— Мисс Пим, я вас обожаю, — и поцеловал ей руку.
Его сосед удивленно посмотрел, сзади кто-то хмыкнул, но Люси нравилось, когда ей целовали руки. А то какой смысл натирать их каждый вечер розовой водой и глицерином, если время от времени ничего не получать взамен.
Люси вернулась на свое место в конце первого ряда и обнаружила, что вдова с лорнетом не дождалась танцев; место было свободно. Но как раз перед тем, как погас свет — занавеси на окнах были задернуты и в зале горели лампы, — сзади появился Рик и спросил:
— Если вы не держите это место для кого-нибудь, можно я сяду?
И как только он уселся, появились танцовщицы.
После четвертого или пятого номера Люси почувствовала некоторое разочарование. Привыкшая к уровню международного балета, она не допускала мысли, что в таком месте, как Лейс, неизбежно любительство. Все гимнастические упражнения, которые она видела, студентки выполняли на самом высоком уровне, профессионально. Однако, отдавая другим занятиям почти все время и силы, как они это делали, они не могли достичь высокого мастерства еще и в танцах. Танцы требовали полной отдачи.
Они все делали хорошо, но не вдохновенно. На лучшем любительском уровне, или чуть-чуть выше. Программа состояла из народных и исторических танцев, так любимых всеми преподавательницами, и исполнялись эти танцы с превосходной точностью, добросовестной, не скучноватой. Быть может, то, что им приходилось все время помнить об изменениях в рисунке танца, лишало их исполнение непринужденности. Но в общем, решила Люси, им не хватало и выучки, и темперамента. Реакции зрителей тоже недоставало непосредственности; рвение, с которым они принимали гимнастические упражнения, пропало. Может быть, они выпили слишком много чая, а может, даже те, кто жил в далекой глуши, через кино познакомились с неким стандартом данного вида искусства, что и явилось причиной их критического отношения. Как бы то ни было, их аплодисменты были скорее вежливыми, чем бурными.
Бравурная русская пляска подняла настроение зрителей на какой-то момент, и они с надеждой ждали следующего номера. Занавес раздвинулся, и взглядам явилась Детерро. Она стояла одна, подняв руки над головой и повернув одно бедро к зрителям. На ней было платье, какие носят в ее родном полушарии, и в луче «прожектора» сверкали пестрые цвета и блестящие украшения, так что девушка казалась яркой птицей из бразильских лесов. Маленькие ножки в туфлях на высоких каблуках нетерпеливо притоптывали под широкой юбкой. Она начала танцевать; медленно, почти отрешенно, как будто отбивала такт. Потом стало ясно, что она ждет возлюбленного и что он опаздывает. Как она относилась к этому опозданию, тоже вскоре стало очевидно. К этому моменту все сидели вытянувшись. Из пустоты Детерро, как фокусник, достала возлюбленного. Почти что можно было видеть виноватое выражение его смуглого лица. Как верная невеста, она стала выговаривать ему. К этому времени зрители сидели уже на кончиках стульев. Потом, поругав его, она начала демонстрировать ему себя; он не понимает, как ему повезло, что у него такая девушка, как она, девушка, у которой такие талия, бедра, глаза, рот, лодыжки, такая грация, как у нее? Он что, совсем деревенщина, ничего не видит? Вот она и показывает ему: каждое движение было остроумно и вызывало улыбку на лицах у публики. Люси повернулась и посмотрела на окружающих: еще минута — и они заворкуют. Это было чудо. К тому времени, как танцовщица смягчилась и позволила своему возлюбленному вставить слово, они были ее рабами. А когда она ушла со своим невидимым, но, несомненно, укрощенным молодым человеком, они кричали, как дети на утреннем сеансе фильма о Диком Западе.
Глядя, как Нат Тарт раскланивается, Люси вспомнила, что она выбрала Лейс, потому что для настоящих балетных школ «это должно быть metier».
— Она слишком скромно оценила свои способности, — произнесла вслух Люси. — Она могла бы быть профессиональной балериной.
— Я рад, что она не стала ею, — отозвался Рик. — Здесь она научилась любить английскую деревню. А если бы она училась в городе, она встретилась бы только с международной дрянью, которая вертится около балета.
Люси подумала, что, наверно, он прав.
Когда после этого стали появляться другие студентки со своими номерами, накал страстей в зале явно упал. В танце Стюарт кельтский подъем несколько оживил всех, у Иннес — грациозность и в какие-то моменты зажигательность, но когда среди них появилась Детерро, даже Люси забыла Иннес и всех остальных. Детерро была восхитительна.
В конце ей устроили овацию.
И мисс Пим, увидев выражение лица Рика, почувствовала легкий укол тоски.
Когда тебе целуют руку — этого еще мало.
— Мне никто не говорил, что Детерро так танцует, — сказала Люси мисс Рагг, когда они вместе отправлялись ужинать. Гости наконец уехали, с криками «до свидания» под шум заводимых моторов.
— О, она любимица мадам, — ответила Рагг несколько недовольным тоном, как может говорить поклонница мадам о создании, которое настолько погрязло в грехе, что не играет в спортивные игры. — Сама-то я думаю, что она очень сценична. И здесь вообще не на месте. Мне и правда кажется, что тот первый танец был очень мил. А вам?
— Мне кажется, он был восхитителен.
— О да, — покорно проговорила Рагг и добавила: — Наверно, она способная, иначе мадам не была бы так привязана к ней.
Ужин прошел тихо. Крайняя усталость, упадок сил, мысли об утреннем несчастном случае — все это приглушило воодушевление студенток и они говорили мало. Преподаватели тоже очень утомились — шок, напряжение, светские обязанности, волнение. Люси почувствовала, что бокал хорошего вина был бы очень к месту, и с мимолетным сожалением подумала о йоханнесбергере, который в эти минуты пила Люкс. А когда она вспомнила, что через несколько минут нужно будет отнести маленькую розетку в кабинет Генриетты и рассказать, где она нашла ее, сердце Люси ужасно заколотилось.
Розетка все еще лежала в ящике стола, и после ужина Люси отправилась за ней, но по пути ее перехватила Бо, взяла под руку и сказала:
— Мисс Пим, мы варим какао в общей комнате, все вместе. Пожалуйста, пойдемте, приободрите нас. Вы же не собираетесь сидеть в этом морге наверху, — под «моргом», очевидно, понималась гостиная, — ведь так? Пожалуйста, пойдемте, приободрите нас.
— Я и сама не очень бодро себя чувствую, — ответила Люси, с отвращением думая о какао, — но если вы примиритесь с моим унылым настроением, я примирюсь с вашим.
Они повернули по направлению к общей комнате, и в этот момент в распахнутые окна неожиданно ворвался сильный порыв ветра, пронесся по коридору, раскачав в саду ветви деревьев и вздыбив листья, так что стала видна их обратная сторона.
— Конец хорошей погоде, — сказала Люси, останавливаясь и прислушиваясь. Она всегда терпеть не могла беспокойный губительный ветер, который налетал как расплата за золотые дни.
— Да, и холодно стало, — отозвалась Бо. — Мы разожгли огонь.
Общая комната находилась в «старом доме», и в ней был древний кирпичный камин, и, конечно, когда в нем горело только что разожженное пламя, раздавалось позвякивание посуды и потрескивали дрова, а вокруг группками расположились усталые студентки в ярких платьях и еще более ярких домашних шлепанцах, все выглядело повеселее. Сегодня вечером не только на О'Доннелл не было парадной обуви; практически все надели домашние шлепанцы различных видов. Дэйкерс лежала на кушетке, ее босые ноги с забинтованными пальцами были задраны выше головы. Она весело помахала рукой мисс Пим и показала на свои пальцы.
— Haemosfosis! — объявила она. — Я испачкала кровью свои лучшие балетные туфли. Наверно, никто не захочет купить пару слегка испачканных балетных туфель? Боюсь, никто.
— У камина есть кресло, мисс Пим, — сказала Бо и пошла разливать какао. Иннес, которая сидела, поджав ноги, на ковре и наблюдала, как Младшие борются с мехами, раздувая огонь, похлопала рукой по креслу и приветствовала Люси в своей обычной серьезной неулыбчивой манере.
— Я выпросила у мисс Джолифф то, что осталось от чая, — объявила Хэсселт, входя в комнату с большим блюдом разнообразных остатков.
— Как тебе удалось? — закричали девушки. — Мисс Джолифф никогда ничего не отдает, даже запаха.
— Я пообещала ей прислать персикового джема, когда вернусь в Южную Африку. Здесь не так уж много, хоть и кажется, что полное блюдо. Большую часть после чая съела прислуга. Хэлло, мисс Пим. Что вы о нас скажете?
— Скажу, что вы все были великолепны, — заявила Люси.
— Совсем как лондонские полицейские, — сказала Бо. — Ну, ты сама напросилась, Хэсселт.
Люси извинилась за банальное клише и попыталась более подробно изложить свое мнение, убедить их, что она в восторге от того, что они делали.
— Разве Детерро не была лучше всех, а? — спросил кто-то, и все с дружеской завистью посмотрели на фигурку в ярком одеянии, спокойно прислонившуюся спиной к уголку камина.
— Я делаю только что-то одно. Это легко — делать хорошо только что-то одно.
И Люси, как и все остальные, не могла определить, было ли это коротенькое замечание выражением скромности или упреком. Она все же решила, что скромности.
— Хватит, Марч, горит прекрасно, — сказала Иннес одной из Младших и пошевелилась, желая забрать у нее меха. При этом ноги высунулись у нее из-под юбки, и Люси увидела, что на ней надеты черные лакированные туфельки.
На левой отсутствовало маленькое металлическое украшение.
О нет, отдалось в мозгу Люси. Нет. Нет. Нет.
— Вот ваша чашка, мисс Пим, а вот твоя, Иннес. Съешьте миндального бисквита, мисс Пим; правда, он уже немного зачерствел.
— Нет, у меня для мисс Пим есть шоколадное печенье.
— Нет, она получит айрширские хлебцы, из банки, но свежие. Это не ваша засохшая провизия.
Вокруг нее продолжали болтать. Она что-то взяла с блюда. Она отвечала, когда к ней обращались. Она даже отхлебнула глоток из чашки.
О нет. Нет.
Теперь, когда это случилось — случилось то, чего она боялась так сильно, что даже в мыслях не могла допустить, — теперь, когда это случилось, стало конкретным и явным, она испугалась. Сразу все превратилось в привидевшийся во сне кошмар: ярко освещенная шумная комната, чернеющее небо за окном, надвигающаяся гроза, отсутствующее украшение. Один из тех кошмаров, гдене относящаяся к делу мелочь приобретала ужасное значение. Где что-то нужно было делать, немедленно и непременно, но не придумать было — как и для чего.
Теперь ей надо встать и, вежливо откланявшись, пойти к Генриетте, рассказать все и закончить так: «Я знаю, с чьей это туфли. Мэри Иннес».
Иннес сидела у ее ног, ничего не ела, только с жадностью пила какао. Она снова подобрала под себя ноги, но Люси уже все видела. Даже самую слабую надежду, что у кого-то еще окажется пара лакированных туфелек, пришлось выбросить за борт. Обувь была самая разнообразная и разноцветная, но лакированных туфель не было.
И вообще ни у кого больше не было причины приходить сегодня в гимнастический зал в шесть часов утра.
— Выпейте еще какао, — сказала Иннес, поворачиваясь к Люси. Но мисс Пим еле пригубила и первую чашку.
— А я выпью еще, — сказала Иннес и стала подыматься.
Очень высокая худая девочка из Младших, фамилия которой была Фартинг, но которую все, даже преподаватели, звали Полупенни (Грошик), вошла в комнату.
— Опоздала, Полупенни, — сказал кто-то. — Заходи, съешь булочку.
Но Фартинг как-то неуверенно продолжала стоять в дверях.
— В чем дело, Полупенни? — заговорили девушки, удивленные выражением ее лица (как будто она испытала шок).
— Я хотела поставить цветы в комнату фрекен, — медленно начала она.
— Только не говори, что там уже были цветы, — заявил кто-то, и все дружно рассмеялись.
— Я слышала, как преподаватели говорили о Роуз.
— Ну и как она? Ей лучше?
— Она умерла.
Чашка, которую держала Иннес, упала в камин. Бо пересекла комнату и стала собирать осколки.
— О, не может быть, — раздались голоса. — Ты не ошиблась, маленькая?
— Нет, не ошиблась. Они говорили на лестничной площадке. Она умерла полчаса назад.
Наступило гнетущее молчание.
— Я закрепила конец у стены, — громко сказала О'Доннелл в полной тишине.
— Конечно же закрепила, Дон, — успокоила ее Стюарт, подходя к ней. — Мы все знаем это.
Люси поставила чашку и подумала, что ей лучше подняться наверх. Ее отпустили, бормоча сожаления. Вокруг были рассыпаны осколки веселой вечеринки.
Придя в гостиную, Люси узнала, что мисс Ходж уехала в больницу встретить родственников Роуз, когда те приедут, и что звонила и сообщила новость она сама. Родные Роуз приехали и, кажется, приняли удар равнодушно.
— Я никогда не любила ее, да простит мне Бог, — проговорила мадам, вытягиваясь во весь рост на жесткой софе; мольба о прощении, обращенная ко Всевышнему, прозвучала искренне.
— О, она была молодец, — сказала Рагг, — очень милая, когда узнаешь получше. И великолепный полузащитник. Это ужасно! Теперь будет расследование, приедет полиция, дознание, все станет известно и все такое.
Да, полиция и все такое.
Сегодня вечером Люси ничего не могла предпринять в отношении маленькой розетки. И вообще, ей хотелось обдумать это дело.
Ей хотелось уйти к себе и подумать над этим.
XX
Бонг! Бонг! Часы на далекой колокольне пробили еще раз.
Два часа ночи.
Люси лежала, уставившись в темноту, холодный дождь барабанил по земле, время от времени налетали дикие порывы ветра и, бесчинствуя, забрасывали занавески в комнату, хлопая ими, как парусами, и все вокруг было лишь неизвестность и смятение.
Дождь лил с упорным постоянством, и вместе с ним лило слезы сердце Люси. А в душе ее царило смятение сильнее, чем в природе.
«Делайте то, что правильно, и пусть решает Бог», — сказал Рик. Казалось, это разумное правило.
Но тогда шла речь о гипотетическом деле — «нанесении тяжелых телесных увечий» (ведь это так называется?), а теперь речь идет не о гипотезе и не об увечьях. Это было — то самое.
Не Бог будет решать это дело, несмотря на все успокоительные слова. Это сделает Закон. То, что написано чернилами в книге установлений. Даже вмешательство самого Господа Бога не сможет спасти пару десятков безвинных людей, которых раздавит на своем пути колесница Джаггернаута.
Око за око, зуб за зуб, говорит древний Моисеев закон. И это звучало просто. Это звучало справедливо. Это происходило на пустынном фоне, как если бы замешаны были только два человека. Выраженное современными словами, это звучит совершенно иначе и называется «повешением за горло, пока не наступит смерть».
Если она пойдет к Генриетте…
Если?
О, ладно, конечно она пойдет.
Когда она утром пойдет к Генриетте, она приведет в действие силу, которой ни она, ни кто другой управлять не может; силу, которая, будучи выпущена на свободу, вырвет одного, другого, третьего из надежной безопасности их мирной жизни и ввергнет в хаос.
Люси думала о миссис Иннес, спокойно спавшей где-то в Ларборо и собиравшейся завтра домой ждать возвращения дочери, которая была для нее светом жизни. Однако ее дочь домой не вернется — никогда.
Роуз тоже не вернется, произнес внутренний голос.
Да, конечно, и Иннес должна как-то заплатить за это. Нельзя допустить, чтобы она смогла воспользоваться плодами своего преступления. Однако все же, все же должен существовать какой-то другой способ расплаты, при котором невиновные не будут расплачиваться еще горше.
В чем заключалась справедливость?
Разбить сердце матери; погубить, опозорить Генриетту, разрушить все, что она создала; навсегда стереть радость с лица Бо, Бо, которая не была рождена для горестей. Что значит жизнь за жизнь? Здесь было три — нет, четыре жизни за одну.
Одну, но стоящую…
Нет, нет. Не ей судить. Для этого необходимо знать «все «до» и «после»», как сказал Рик. У этого Рика замечательно трезвый ум для человека с лицом плейбоя и шармом латиноамериканского любовника.
В соседней комнате слышались шаги Иннес. Насколько могла судить Люси, она тоже не спала. Там было тихо, только время от времени раздавались шаги или открывался кран над раковиной. Нужна ли ей вода для того, чтобы утолить жажду или чтобы охладить виски, в которых пульсирует кровь, подумала Люси. Если она, Люси, лежала без сна, а мысли кружились и кружились в ее мозгу, как крыса в клетке, то что должна ощущать Иннес? Она могла быть безнравственна, ей могли быть безразличны люди, но бесчувственной она ни в коем случае не была. Уязвленное ли честолюбие или просто гнев и ненависть привели ее в гимнастический зал этим туманным утром, она не была тем человеком, который мог сделать то, что сделала она, не причинив страшного вреда самому себе. Учитывая ее характер, можно сказать, что она погубила себя, когда коснулась этого бума. В судебных отчетах попадались рассказы о женщинах, столь бессердечных, что буквально распускались, как свежий цветок, лишь только препятствия к осуществлению их желаний оказывались устранены. Но они были скроены не так, как Мэри Иннес. Иннес принадлежала к другому, более редко встречающемуся классу людей, которые слишком поздно обнаруживали, что не могут больше выносить сами себя. Цена, которую они заплатили, оказывалась слишком высокой.
Быть может, Иннес сама себя покарает.
Когда эта мысль пришла ей в голову, Люси вспомнила свое первое впечатление от Иннес в то воскресенье, когда они сидели под кедром. Все или ничего. Самоуничтожение. То, что она погубила жизнь человека, вставшего на ее пути, было, скорее, случайностью.
Она ни в коем случае не хотела смерти Роуз, — в этом Люси была совершенно уверена. И именно поэтому запустить всю эту машину представлялось ей делом отвратительным, немыслимым. Все, чего она намеревалась достигнуть, расшатав этот штырь, — временная неработоспособность. Уверенность в том, что Роуз не поедет в Арлингхерст в сентябре — поедет она, Иннес.
Интересно, подумала Люси, рассчитывала ли она на это, когда отказалась от места в Уичерлейском ортопедическом госпитале? Нет, конечно нет. Она была не из тех, кто хладнокровно планирует свои действия. Все было сделано в самый последний момент, от отчаяния.
По крайней мере, выполнено все было в самый последний момент.
Возможно, потому, что раньше не представился случай.
Быть может, путь к гимнастическому залу раньше не был свободен, или Роуз оказывалась там первой.
«Лицо Борджиа», — сказал в восхищении Эдвард Эйдриан.
Вот прапрапрабабушка Терезы, на которую она похожа, — та действовала по плану. И прожила вдовой долгую, спокойную, счастливую жизнь, управляя поместьями и воспитывая сына, — и никаких признаков духовного самоубийства.
В комнаты ворвался ветер, и окно Иннес начало хлопать. Люси услышала шаги, Иннес прошла к окну, и все затихло.
Как хотелось Люси пойти в соседнюю комнату, сейчас, сию минуту, и все выложить. Показать Иннес козыри, которыми она не собиралась играть. Может быть, вместе они бы что-нибудь придумали.
Вместе? Вместе с девушкой, которая вытащила штырь из-под бума?
Нет. С девушкой, с которой она в прошлую субботу разговаривала в коридоре, такой сияющей, такой разумной, полной такого достоинства. С девушкой, которая в эту ночь не могла спать. С дочерью ее матери.
Что бы она ни совершила, даже если она заранее все обдумала, результат оказался иным. Она не могла предвидеть его. Результат оказался катастрофой для нее.
А кто был первопричиной этой катастрофы?
Генриетта. Упрямая, как мул, Генриетта, отдавшая предпочтение своей любимице.
Интересно, бодрствует ли Генриетта? Генриетта, вернувшаяся из Ларборо такой постаревшей, такой странно похудевшей. Как будто сломался каркас внутри куклы и набивка осела. Как у плохо набитой игрушки, которой целый месяц играли дети. Так выглядела Генриетта.
Люси было искренне жаль подругу, лишившуюся человека, которого она… любила? Да, наверно, любила. Только любовь могла ослепить ее настолько, что она не видела недостатков Роуз. Лишившуюся любимицы; испугавшуюся за свой драгоценный Лейс. Люси была искренне тронута бедами, выпавшими на долю Генриетты. Но она не могла отделаться от мысли, что если бы не ее, Генриетты, собственные поступки, ничего бы подобного не произошло.
Побудительной причиной была уязвимость Иннес. Однако кнопку, которая привела в действие всю трагедию, нажала Генриетта.
А теперь она, Люси, собиралась нажать другую кнопку, которая приведет в движение еще более чудовищную машину. Машину, которая охватит своими клешнями, искалечит и убьет всех, невиновных вместе с виновными. Генриетта, быть может, и заслужила наказание, но что сделали Иннесы, чтобы на них обрушился этот ужас? Ужас, которому нет названия.
Или они тоже внесли свою лепту? Насколько воспитание Иннес виновато в отсутствии у нее гибкости? Даже если она родилась «без смазки на перьях», пытались ли родители подготовить ее к будущей жизни? Кто может сказать, в чем заключается первопричина?
В конце концов, быть может, это Всевышний решил воспользоваться посредством Закона. Христианин, естественно, должен принять все как данность. Обычно считается аксиомой, что все случившееся имеет свои причины. Что всякий, кто будет испытывать муки во время суда над Иннес по обвинению в убийстве, так или иначе заслужил свое наказание. Это была очень удобная, успокоительная теория, и Люси хотелось бы принять ее. Однако, оказывается, ей трудно согласиться с тем, что следствием какого-то упущения со стороны таких ответственных и таких любящих родителей, как Иннесы, окажется страшная трагедия, которая обрушится на их голову.
Или, быть может…
Люси села в постели, обдумывая новую мысль.
Если все решает Бог — а в конце концов, несомненно, так оно и есть, — тогда, быть может, его решение уже действует. Начало действовать, когда не кто-то другой, а именно она, Люси, нашла маленькую розетку. Ее нашла не энергичная женщина, которая отправилась бы к Генриетте сразу же, как только заподозрила недоброе, и привела бы в движение машину законов, созданных человеком. Нет. Ее нашла колеблющаяся душа, которая любой вопрос рассматривает по крайней мере с трех сторон. Может быть, в этом и заключается смысл.
Но как бы ей хотелось, чтобы Всевышний избрал себе другое орудие. Она всегда старалась не брать на себя никакой ответственности, а уж такая… С ней вообще не справиться. Как бы ей хотелось выбросить эту маленькую розетку — кинуть сейчас в окно и сделать вид, что никогда ее не видела. Но, конечно, она не может так поступить. Как бы труслива и нерешительна по природе она ни была, всегда оставалась другая половина ее «я» — та половина, которую звали «Летиция» и которая наблюдала за всеми действиями Люси критическим оком. Ей никогда не удавалось уйти от этого своего второго «я». Оно посылало ее в бой, когда у нее дрожали колени, оно заставляло ее говорить, когда ей хотелось попридержать язык, оно не позволяло ей лечь, когда она бывала так утомлена, что не могла стоять. Оно удержит ее сейчас от того, чтобы умыть руки.
Люси встала и, наклонившись над подоконником, выглянула в ночь, где хлестал дождь. На полу под окном натекла лужа. Она ступила в нее, и резкий холод, ударивший по ее босым ногам, был даже приятен. Физический дискомфорт — это было, по крайней мере, что-то вполне понятное. Хорошо хоть, что не надо вытирать лужу или беспокоиться о ковре. Стихиям позволялось проникать в дом, когда им это было угодно, и все принимали это как должное. Одно из редких замечаний Иннес: «Как славно проснуться утром и обнаружить, что на подушке лежит снег». Так было только один раз, сказала девушка, но всегда можно определить время года по тому, что находишь утром у себя на подушке: осенью — паутину, а в июне — семена сикоморы.
Люси так долго стояла у окна, давая остыть своей пылающей голове, что у нее замерзли ноги, и, когда она забралась обратно в постель, ей пришлось закутать их шерстяным шарфом, чтобы они согрелись. Вот чем все кончилось — замерзшими ногами; ей было холодно морально и физически. Бедная ты, бедная, Люси Пим.
Около трех часов утра она стала засыпать, как вдруг вздрогнула, и сон опять слетел с нее: она осознала, что она хотела сделать. Она совершенно серьезно собиралась скрыть вещественное доказательство преступления. Стать соучастницей преступления. Преступницей.
Она, респектабельная, законопослушная Люси Пим.
Как дошла она до этого? О чем думала?
Ну конечно, выбора у нее не было. Кто решает или не решает — не ее дело. Это дело официального расследования, а она должна выполнить свой долг. Долг перед цивилизацией, перед государством, перед самой собой. Ее личные чувства не имеют к этому никакого отношения. Ее взгляд на справедливость не имеет к этому никакого отношения. Как бы плох ни был Закон, как бы он ни заблуждался, она не может скрыть вещественное доказательство.
Как могла она обезуметь до такой степени, чтобы даже помыслить о подобном поступке?
Рик был прав: она сделает то, что правильно, и пусть решает Господь Бог.
Около половины пятого она наконец заснула.
XXI
Утро было туманным и сырым, и Люси посмотрела в окно с отвращением. Колокол прозвонил, как обычно, в половине шестого, хотя в день после показательных выступлений до завтрака уроков не было. Колледж мог пойти на уступки, однако правил своих не менял. Люси попробовала снова уснуть, но со светом дня к ней вернулось ощущение действительности, и то, что в темные часы ночи было лишь лихорадочным теоретизированием, теперь предстало как холодная реальность. Через час или два она должна будет нажать эту кнопку и непредсказуемо изменить жизни людей, о существовании которых она даже не знает. Сердце Люси снова начало отчаянно биться.
О Господи, зачем только она вообще приехала сюда!
Когда она уже была одета и втыкала в соответствующие места своей прически «заколки-невидимки», она поняла, что не может пойти к Генриетте рассказать про розетку прежде, чем не поговорит с Иннес. Люси не могла бы сказать, было ли это отголоском детского представления о том, что такое «честная игра», или просто попыткой найти способ решения проблемы, при котором с нее снялась бы хоть малая толика ответственности.
Подойдя к двери в комнату Иннес, Люси быстро, чтобы не испарилась решимость, постучала. До этого она слышала, как Иннес вернулась из ванной, и считала, что та, наверно, уже успела одеться.
Открывшая дверь Иннес выглядела усталой, глаза были опухшими, но девушка казалась спокойной. Теперь, когда она очутилась с ней лицом к лицу, Люси трудно было отождествить ее с Иннес из ее тревожных ночных раздумий.
— Вы не зайдете на минуту ко мне в комнату? — спросила Люси. Иннес секунду поколебалась, в ней мелькнула некоторая неуверенность, но она тут же взяла себя в руки.
— Да, конечно, — ответила она и пошла за Люси. — Ну и дождь был ночью, — добавила она веселым тоном.
Делать замечания о погоде было так непохоже на Иннес. И абсолютно непохоже — быть веселой.
Люси вынула из ящика маленькую серебристую розетку и на ладони протянула ее Иннес:
— Вы знаете, что это такое?
В ту же секунду веселость исчезла с лица Иннес, и оно стало жестким и настороженным.
— Откуда она у вас? — почти грубо спросила она.
Только в тот момент Люси осознала, что в глубине души, в самой глубокой ее части, она рассчитывала, что реакция Иннес будет другой. Не отдавая себе отчета, она ждала, что Иннес скажет: «Это похоже на бляшку с лакированных туфель для танцев, такие у многих из нас есть». Сердце Люси перестало биться и опустилось.
— Я нашла ее на полу в гимнастическом зале вчера рано утром, — проговорила она.
Жесткая настороженность медленно уступила место отчаянию.
— А почему вы показываете ее мне? — глухо спросила Иннес.
— Потому что, как я поняла, в колледже есть только одна пара этих старомодных лакированных туфель.
Наступило молчание. Люси положила вещицу на стол и ждала.
— Я ошибаюсь? — спросила она наконец.
— Нет.
Снова молчание.
— Вы не понимаете, мисс Пим, — внезапно сказала Иннес, — это не было рассчитано на… Я знаю, вы подумаете, что я пытаюсь оправдать этот поступок, но никто не хотел, чтобы все произошло именно так. Это потому, что я просто заболела, не получив Арлингхерст, — я просто на какое-то время потеряла разум от этого — я вела себя как ненормальная. Я просто не могла думать ни о чем другом, кроме Арлингхерста. А это был способ… попытаться снова дать мне шанс. Только это ни в коем случае не больше. Вы должны поверить мне. Вы должны!
— Конечно, я вам верю. Если бы не верила, я бы, наверно, не поделилась с вами тем, что знаю. — И она указала на розетку.
Через минуту Иннес спросила:
— Что вы будете делать?
— О Господи, не знаю, — беспомощно вздохнула бедная Люси, оказавшись лицом к лицу с действительностью. Она знала о преступлениях из детективных романов, где героиня, даже если на нее сначала падало подозрение, обязательно оказывалась невиновной; либо ее сведения были почерпнуты из полицейских отчетов, где говорилось о преступлениях уже раскрытых, наказанных и остававшихся только предметом изучения. У всех замешанных в преступлениях людей, о которых сообщалось в отчетах, были друзья и родные, ошеломленные происшедшим, отказывавшиеся верить; их чувства, наверно, были очень похожи на ее, Люси, собственные ощущения, но это не успокаивало и не могло указать правильный путь. Это было то, что случалось с другими людьми, случалось ежедневно, если верить прессе, но не могло произойти с ней самой.
Как можно поверить, что кто-то, с кем ты смеялся и разговаривал, кого любил и кем восхищался, с кем жил общей жизнью, повинен в смерти другого человека?
Люси вдруг обнаружила, что рассказывает Иннес о своей бессонной ночи, о своих теориях относительно «решает Бог», о своем нежелании разрушить жизнь полудюжины людей из-за преступления, совершенного одним человеком. Она была слишком погружена в собственные проблемы, чтобы заметить, как начала загораться надежда в глазах Иннес. Только когда она услышала свои слова: «Конечно, нельзя позволить, чтобы вы извлекли пользу из смерти Роуз», она поняла, как далеко зашла по дороге, по которой вовсе не собиралась идти.
Однако Иннес ухватилась за это.
— О, я и не думала, мисс Пим. И это не зависит от того, что вы нашли это украшеньице. Вчера вечером, услышав, что она умерла, я поняла, что не могу поехать в Арлингхерст. Я собиралась сегодня утром пойти к мисс Ходж и сказать ей об этом. Я тоже не спала всю ночь. Думала о многом. Не только о моей вине в смерти Роуз, о моей неспособности переносить неудачи и тому подобное. Еще и… о, об очень многом, что вам будет неинтересно. — Она помолчала минуту, глядя на Люси. — Мисс Пим, послушайте, если я пообещаю всю свою жизнь посвятить искуплению того, что случилось вчера утром, может быть, вы… — Она не могла облечь свое бесстыдное предложение в слова, даже после рассуждений Люси о справедливости.
— И стану соучастницей происшедшего?
Холодная официальность фразы обескуражила Иннес.
— Нет. Это слишком, я ни от кого не могу ожидать подобного. Но я искуплю, понимаете. Это не будет что-то половинчатое. Это будет моя жизнь — за ее. Я с радостью сделаю это.
— Конечно, я верю вам. А как вы собираетесь искупать?
— Я думала об этом прошлой ночью. Начала с колонии прокаженных и тому подобных вещей, но это, пожалуй, нереально и не имеет особого смысла после обучения в Лейсе. Я придумала нечто лучшее. Я решила, что буду работать рядом с отцом. Я не собиралась заниматься медициной, но у меня это хорошо получается, а в моем родном городке нет ортопедической клиники.
— Звучит прекрасно, — сказала Люси, — но в чем наказание?
— Моим единственным стремлением с самого раннего детства было уехать, бежать из маленького провинциального городишки; поступление в Лейс было моим пропуском на свободу.
— Понимаю.
— Поверьте, мисс Пим, это будет сильным наказанием. Но оно не будет бесплодным. Это не будет просто самобичевание. Я буду жить, принося пользу, и это будет… будет хорошей платой.
— Да, понимаю.
Снова наступило долгое молчание. Прозвонил колокол, но впервые с тех пор, как она приехала в Лейс, Люси не обратила на него внимания.
— Конечно, я могу только дать вам слово…
— Я принимаю ваше слово.
— Благодарю вас.
Не слишком ли легкий выход, подумала Люси. Если Иннес должна быть наказана, то скучная, хоть и полезная для других жизнь не является достаточной карой. Конечно, она отказалась от Арлингхерста, и это стоило ей немало. Но достаточно ли этого как платы за смерть?
А чем вообще можно заплатить за смерть? Если не смертью?
Иннес же предлагала то, что, по ее понятиям, было прижизненной смертью. Может быть, это не такая уж малая плата.
Люси оказалась сейчас перед фактом, что все ее размышления, разговоры с самой собой, сопоставление доводов в данный момент сплавились в единственный простой вопрос: может ли она осудить на смерть девушку, которая стоит перед ней?
В конце концов все обстояло просто. Если она отнесет сейчас эту розетку Генриетте, Иннес умрет раньше, чем первые студентки осенью вернутся в Лейс. Если она не умрет, у нее впереди будут двадцать лет прижизненной смерти, которые действительно будут «бесплодными».
Пусть же она проведет эти годы в тюрьме, которую сама выбрала, где она сможет быть полезной другим.
Да, она, Люси Пим, действительно совершенно не годилась для вынесения Иннес обвинительного приговора.
Вот так.
— Я полностью в ваших руках, — медленно проговорила Люси, обращаясь к Иннес, — потому что я не способна послать человека на виселицу. Я знаю, в чем мой долг, и я не могу выполнить его. — «Как странно, — подумала она, — что я оказываюсь в ее власти, а не она в моей».
Иннес недоверчиво посмотрела на нее.
— Значит, — она облизала пересохшие губы, — значит, вы не скажете про розетку?
— Нет. Я никогда никому не скажу.
Внезапно Иннес побелела.
Побелела так, что Люси поняла: это именно то, о чем она читала, но чего никогда не видела. «Стала белой как полотно», говорят в таких случаях. Ну, быть может, как небеленое полотно, но это, несомненно, означало «побелеть».
Девушка схватилась рукой за стул, стоявший у туалетного столика, и резким движением опустилась на него. Увидев обеспокоенное выражение на лице Люси, она сказала:
— Все в порядке. Я не упаду в обморок. Я ни разу в жизни не падала в обморок. Через минуту я буду в порядке.
Люси, которая испытывала неприятное чувство к Иннес из-за ее самообладания, ее готовности к заключению сделки — ей казалось, что Иннес слишком прямо говорит обо всем, — была охвачена чем-то вроде угрызений совести. Налицо была старая история о загнанных в глубину чувствах, которые, найдя выход, мстили за себя.
— Хотите воды? — спросила Люси, направляясь к раковине.
— Нет, спасибо, со мной все в порядке. Это просто из-за того, что последние двадцать четыре часа я была так испугана, а потом увидела эту серебряную вещицу у вас на ладони — и это было последней соломинкой, а тут вдруг все кончилось, вы разрешаете мне купить отмену приговора, и… и…
Спазмы подступили у нее к горлу и прервали ее речь. Сильные, раздирающие все тело всхлипы без единой слезы. Она прижала руки ко рту, чтобы остановить спазмы, но они прорвались — и она закрыла руками лицо, пытаясь справиться с приступом. Бесполезно. Она уронила на стол вытянутые руки, между ними — голову — и разрыдалась.
А Люси, глядя на нее, подумала: другая бы девушка начала с этого. Использовала бы слезы как оружие, как способ пробудить во мне сочувствие. Но не Иннес. Иннес пришла, вся самообладание и отрешенность, и предложила себя в заложники. То, что она сейчас сорвалась, показывает только, какие мучения она испытывала все это время.
В медленном крещендо начали нарастать первые тихие раскаты гонга.
Иннес услышала его и поднялась.
— Пожалуйста, извините меня, — сказала она. — Я, пожалуй, пойду и плесну на себя холодной воды. Это должно помочь.
А Люси подумала, как характерно: девушка, которую сотрясали такие рыдания, которая не могла говорить, совершенно бесстрастно прописывает себе лекарство, как будто она была другой человек, а не та истеричка, что внезапно взяла в ней верх и устроила этот спектакль.
— Да, пойдите, — проговорила Люси.
Взявшись за ручку двери, Иннес остановилась.
— Когда-нибудь я смогу поблагодарить вас по-настоящему, — сказала она и убежала.
Люси опустила маленькую серебристую розетку в карман и пошла вниз завтракать.
XXII
Это был ужасный уик-энд.
Дождь лил не переставая. Генриетта ходила с видом, как будто она перенесла серьезную операцию, которая окончилась неудачно. Мадам находилась в отвратительном настроении, и от нее не было никакой пользы, ни в действиях, ни в словах. Фрекен была в ярости, что такое случилось в «ее» гимнастическом зале. Рагг выступала в роли Кассандры, изрекающей унылые банальности. Люкс выглядела спокойной и утомленной.
Люкс вернулась из Ларборо, принеся с собой маленькую розовую свечку, завернутую в тонкую бледно-зеленую бумагу.
— Тедди сказал, чтобы я отдала это вам, — проговорила она. — Почему — не знаю.
— О? С пирога?
— Да. Скоро мой день рождения.
— Как мило, что он помнит.
— О, у него есть книжка, где записаны дни рождения. Это входит в рекламу. Его секретарь обязан посылать телеграммы всем, кому следует, тогда, когда следует.
— Вы не верите ничему, что он делает? — спросила Люси.
— Тедди? В его настоящие чувства — не верю. Не забывайте, что я знаю его с тех пор, как ему было десять лет. Ему не обмануть меня дольше, чем на пять секунд.
— Мой парикмахер, — сказала Люси, — который, причесывая, поучает меня, говорит, что нужно прощать другому человеку три недостатка. Если это делать, все остальное оказывается на удивление милым, так он говорит.
— Если простить Тедди три недостатка, больше ничего, увы, не останется.
— Почему?
— Потому что три его недостатка — это тщеславие, эгоизм и жалость к себе. И любой из них абсолютно непереносим.
— Уф! — воскликнула Люси. — Сдаюсь.
Однако она поставила простенькую маленькую свечку себе на туалетный столик и с удовольствием подумала об Эдварде Эйдриане.
Как бы ей хотелось так же думать о своей любимой Бо, которая все безумно усложняла, придя в неописуемую ярость от того, что Иннес отказалась от Арлингхерста. Как поняла Люси, дело почти дошло до ссоры, насколько это было возможно между двумя девушками, так привязанными друг к другу.
— Говорит, что не сможет чувствовать себя счастливой в одежде мертвеца, — пожаловалась Бо, сдаваясь, но по-прежнему кипя возмущением. — Можете вы вообразить что-нибудь более смешное? Отвергнуть Арлингхерст, как будто это чашка чая. После того как, казалось, она вот-вот умрет от горя, потому что ей его не отдали первой. Ради Бога, мисс Пим, поговорите с ней, заставьте ее одуматься, пока не поздно. Это не просто Арлингхерст, это все ее будущее. Начинать с Арлингхерста — значит начинать с самой вершины. Уговорите ее, хорошо? Уговорите отказаться от этой нелепой идеи!
Люси стало казаться, что ее все время умоляют «поговорить» с кем-нибудь. То ей следовало быть порцией успокоительного лекарства, то послужить уколом адреналина, а если не то и не другое, то просто прописанной всем ложкой соды.
В тех случаях, когда она не была deus ex machina,[585] дурным толкователем справедливости. Но Люси старалась не думать об этом.
Конечно, ей нечего было сказать Иннес. Зато сказали другие. Мисс Ходж воевала с ней долго и честно, обескураженная отказом девушки, которой она не хотела первой отдать это место. Теперь ей некого было послать в Арлингхерст; ей придется написать, чтобы они искали кандидатку в другом месте. Весьма вероятно, что, когда известие о несчастном случае просочится в академические круги, в Арлингхерсте решат не обращаться в Лейс в следующий раз, когда им потребуется гимнастка. Несчастные случаи не должны происходить в управляемых должным образом гимнастических залах, тем более случаи со смертельным исходом.
Такова была и точка зрения полиции. Они были очень милы, очень вежливы, очень тактичны. С пониманием отнеслись к тому, какой вред нанесет заведению нежелательная огласка. Однако дознание, конечно, должно состояться. А дознания, увы, связаны с прессой и открывают возможность неверного истолкования. Поверенный Генриетты побывал в редакции местной газеты, и ему обещали не раздувать это дело, но кто знает, а вдруг заметка попадется на глаза помощнику редактора в тот момент, когда будет не хватать сенсаций? Что тогда?
Люси хотела уехать до следствия, уехать от постоянных напоминаний о ее вине перед Законом, но Генриетта просила ее остаться. Люси никогда не могла отказать Генриетте, тем более такой страшно постаревшей Генриетте. Люси осталась. Она выполняла небольшие разного рода поручения Генриетты, в основном чтобы дать той возможность разобраться с кучей непривычных дел, свалившихся на нее.
Но на дознание она, Люси, не пойдет.
Она не сможет сидеть там, зная то, что она знает, и не почувствовать в какой-то момент желание встать, рассказать правду и снять ответственность со своей души.
Кто знает, что могла заподозрить полиция? Они пришли, осмотрели зал, что-то замерили, рассчитали вес бума, расспросили всех и каждого, консультировались по этому поводу у разных специалистов, все выслушивали и ничего не говорили. Они забрали с собой штырь, который был виноват во всем, — может, потому, что таков заведенный порядок, но кто знает? Кто знает, какие подозрения могли зародиться в широкой груди полицейского инспектора или прятаться за вежливой невозмутимостью его лица?
Однако случилось так, что на дознании объявился совершенно неожиданный спаситель. Спаситель в лице Артура Миддлхэма, импортера чая, с Вест Ларборо-роуд, пятьдесят девять. Иначе говоря, проживающий в одной из вилл, расположенных вдоль шоссе, соединяющего Вест Ларборо с въездом в Лейс. Мистер Миддлхэм ничего не знал о колледже, за исключением самого факта его существования и того, что в нем жили молодые женщины, которые, весьма скупо одетые, гоняли на велосипедах по всей округе. Однако мистер Миддлхэм слышал о несчастном случае. И ему показалось крайне странным, что штырь в гимнастическом зале вышел из гнезда в то же самое утро и, весьма возможно, в то же самое время, когда створка одного из окон в его гостиной вывалилась от сотрясения, произведенного колонной танков, возвращавшейся с учений в Южном Ларборо. Его теория фактически повторяла теорию мисс Люкс: вибрация. Только теория мисс Люкс была случайным выстрелом в темноту и потому на нее не обратили внимания, а теория мистера Миддлхэма была обоснована и подкреплена вещественным доказательством — разбитой створкой окна.
И, как всегда, когда кто-то первым проложил путь, нашлись добровольные последователи. (Если бы кто-нибудь придумал историю о том, как он накануне вечером, в пять тридцать, увидел на небе зеленого льва, и написал об этом в газету, по меньшей мере шесть человек заявили бы, что видели то же самое раньше.) Одна взволнованная женщина, услыхав заявление мистера Миддлхэма, поднялась со своего места в зале и сказала, что кувшин для пива, который служил ей многие годы, ни с того ни с сего в то же самое время упал с маленького столика, стоявшего у окна.
— Где вы живете, мадам? — спросил следователь, вытащив ее из толпы и записав как свидетеля.
Она живет в коттедже между Лейсом и Бидлингтоном. На шоссе? О да, у самого шоссе; летом от пыли можно задохнуться, и машин много, ну а танки… Нет, у нее нет кота. Нет, в комнате никого не было. Она вошла туда после завтрака и нашла кувшин на полу. Такого раньше никогда не случалось.
Бедная О'Доннелл очень нервничала, но показания дала ясно и решительно: она крепила конец у стены, а Роуз устанавливала подпорку посредине. «Устанавливать» означало поднять бум с помощью троса на блоке и вставить штырь под бум, тем самым закрепив его. Таким образом, бум поддерживался и тросом, свисающий конец которого заворачивался вокруг клина на стойке. Нет, они не проверили снаряд перед тем, как уйти.
Фрекен на вопрос о тросе, который не смог заменить вышедший из строя штырь, ответила, что он был недостаточно туго закручен, чтобы, когда штырь вылетел, предотвратить провисание. Завернуть трос вокруг клина — студентки проделывали это автоматически, и ни одна из них не думала о тросе как о мере безопасности. Хотя в действительности это было именно так. Штырь мог сломаться из-за какого-нибудь дефекта в металле, и в этом случае трос принимал всю тяжесть на себя. Да, может быть, что трос, на который обычно падал только вес бума, вытянулся под внезапной дополнительной нагрузкой в десять стоунов, но она, фрекен, так не думает. Тросы в гимнастическом зале проходили очень основательную проверку и имели гарантию. Более вероятно, что мисс Роуз плохо закрутила трос.
И, похоже, все. Это был несчастный случай. Штырем, который забрала полиция, пользовались практически все в день показательных выступлений, и абсолютно ничего не произошло.
Это была очевидная смерть от несчастного случая.
«Ну вот и конец», — подумала Люси, услышав новости. Она ждала, сидя в гостиной, глядя на сад под дождем, не в состоянии поверить, что все пройдет хорошо. Ни одно преступление не совершается без того, чтобы не допустить где-то промах; Люси читала достаточно криминальных историй, чтобы знать это.
Один промах уже был допущен, когда маленькое украшение оторвалось от туфли. Кто знает, что еще могла откопать полиция? Но вот все кончилось, Иннес в безопасности. Теперь Люси поняла, что она поставила себя под удар Закона ради Иннес. Она думала, что ради матери Иннес, ради Генриетты, ради абсолютной справедливости. Но в конце концов поступила она так потому, что, что бы ни сделала Иннес, она не заслужила того, что Закон сделает с ней. Иннес прошла через жесточайшие испытания, и предел ее сил оказался значительно ниже нормального. Ей не хватило какой-то легирующей добавки, какого-то хорошего твердого укрепляющего вещества, которое помогло бы ей выдержать напряжение, не сломавшись. Однако Иннес как человек была слишком высокой пробы, чтобы отказываться от нее.
Люси с интересом следила за тем, как звучали приветствия, которыми наградили Иннес, когда в среду утром она вышла получать диплом. Крики, которыми встречали девушек, различались не только громкостью, но и оттенками. Например, в тех, которыми приветствовали Дэйкерс, звучали и смех, и теплота. Бо отдали дань как Главе Старших, это были поздравления нижестоящих Старосте, пользующейся очень большой популярностью. Но в том, как приветствовали Иннес, можно было услышать, и это было весьма примечательно, что-то еще: горячее восхищение, сочувствие, добрые пожелания; никого другого такими приветствиями не удостоили. Интересно, подумала Люси, было ли это вызвано тем, что ее отказ принять назначение в Арлингхерст растрогал их. Тогда, в разговоре с Роуз и ее поведении на экзамене, Генриетта сказала, что Иннес не пользуется популярностью. В криках девушек было нечто большее, чем дань обычной популярности. Студентки восхищались Иннес. Это была дань ее высоким качествам.
Выдача дипломов, которая из-за дознания была перенесена со вторника на среду, была последним событием, на котором Люси присутствовала в Лейсе. Двенадцатичасовым поездом она уезжала в Лондон. В последние несколько дней ее засыпали бесконечными маленькими подарками, которые оставляли у нее в комнате с приложенными к ним записками. Люси была очень тронута этими знаками внимания. Почти каждый раз, когда она заходила к себе, она находила что-нибудь еще. Мало кто делал ей подарки с тех пор, как она стала взрослой, и она сохранила детское ощущение радости, когда ей что-то дарили, любую мелочь. А эти подарки были выражением такой непосредственности, что у нее теплело на душе; это не была складчина, не было мероприятие типа «шапка по кругу»; каждая девушка дарила ей то, что сама придумала. Подношение Апостолов представляло собой большой кусок белого картона, на котором было написано:
«УДОСТОВЕРЯЕТСЯ ПРАВО
мисс Люси Пим
ПРИХОДИТЬ В КЛИНИКУ
ЧЕТЫРЕХ АПОСТОЛОВ
В МАНЧЕСТЕРЕ
и получать КУРС ЛЕЧЕНИЯ
любого вида в любое время».
Дэйкерс принесла ей небольшой неаккуратно завязанный пакет, надпись на котором гласила: «Вспоминайте каждое утро о нашей первой встрече». Открыв пакет, Люси нашла в нем плоскую губку-люфу, чтобы тереть спину. Действительно, как будто это было в другой жизни, когда над перегородкой в ванной комнате появилось это забавное, похожее на мордочку пони лицо и уставилось на нее, Люси. И в ванне тогда сидела совсем другая Люси Пим.
Верная мисс Моррис соорудила для нее маленькую фетровую сумочку — один Господь Бог знает, как этот ребенок нашел время сшить ее, — а на другой чаше весов земного великолепия был саквояж из свиной кожи с ее, Люси, инициалами — подарок Бо. К нему была приложена записка: «У вас будет так много прощальных подарков, что потребуется тара, куда сложить их». Даже Джидди, с которым Люси провела как-то полчаса в беседе о ревматизме и о крысах, прислал ей горшок с каким-то растением. Люси понятия не имела, что это за растение — оно было мясистое и выглядело немного неприлично, — однако утешилась тем, что оно было маленькое. Путешествие с растением в горшке вовсе не было пределом ее мечтаний.
Между завтраком и выдачей дипломов пришла Бо помочь ей упаковать вещи, однако самое основное Люси уже упаковала сама. Другой вопрос, закроются ли чемоданы, когда в них будет уложено все.
— Я еще вернусь перед утренней клиникой и посижу на них, — заявила Бо. — До этого часа мы свободны. Кроме клиники, нам ничего больше не нужно делать до самой пятницы, когда мы поедем домой.
— Вам жаль расставаться с Лейсом?
— Ужасно. Мне здесь было замечательно. Утешает только то, что впереди летние каникулы.
— Иннес не так давно говорила мне, что вы собираетесь вместе в Норвегию.
— Да, собирались, — сказала Бо, — но не поедем.
— О!
— У Иннес другие планы.
Было ясно, что взаимоотношения этой пары нарушились.
— Я, пожалуй, пойду посмотрю, чтобы Младшие не захватили все лучшие места на выдаче дипломов, — произнесла Бо и ушла.
Однако существовала другая пара, взаимоотношения которой развивались прекрасно.
Нат Тарт постучала в дверь Люси и сказала, что пришла подарить дорогой мисс Пим талисман, приносящий счастье. Она вошла в комнату, посмотрела на чемоданы, из которых высовывались вещи, и произнесла со своей обычной прямотой:
— Вы не очень хорошо умеете укладываться, да? Я тоже. Это талант пешеходов.
Люси, которая за последние дни получила массу разного рода талисманов, от обезьяны на палке от Вулворта до южноафриканской монеты в полпенни, с некоторым любопытством ожидала, что придумала Нат Тарт.
Это оказалась синяя бусина.
— Ее нашли при раскопках в Центральной Америке сто лет назад, она почти такая же древняя, как сам мир. Она действительно приносит счастье.
— Но я не могу взять ее у вас, — запротестовала Люси.
— О, у меня небольшой браслет из таких бусин. В раскопках нашли браслет. А я вынула оттуда одну бусину для вас. Осталось пять, этого вполне достаточно. А еще я хочу сообщить вам новость. Я не вернусь в Бразилию.
— Правда?
— Я остаюсь в Англии и выхожу замуж за Рика.
Люси сказала, что очень рада слышать это.
— Мы собираемся пожениться в Лондоне в октябре, вы будете там и придете на свадьбу, хорошо?
Да, Люси с удовольствием придет на свадьбу.
— Я так рада за вас, — сказала она. После событий последних дней ей просто необходимо было прикоснуться к счастью.
— Да, все очень удачно. Мы кузены, но не очень близкие, и разумно сделать так, чтобы все осталось в семье. Я всегда хотела выйти замуж за англичанина, и Рик, безусловно, parti.[586] Он старший партнер в фирме, хотя он еще так молод. Мои родители очень довольны. И бабушка, конечно, тоже.
— Наверно, вы сами тоже довольны? — произнесла Люси, слегка обескураженная таким прозаическим перечнем.
— О да. Рик — единственный человек в мире, который может заставить меня делать то, чего я не хочу. Это будет очень полезно для меня.
Нат Тарт заметила, что на лице Люси отразилось некоторое сомнение, и ее огромные глаза блеснули.
— И, конечно, он мне очень нравится, — сказала она.
После раздачи дипломов Люси выпила кофе с преподавателями и попрощалась с ними. Поскольку она уезжала в первойполовине дня, все были заняты и никто не мог поехать на станцию проводить ее. Генриетта поблагодарила ее за помощь, которую она оказала, и на этот раз у нее в глазах явно стояли слезы. (Однако даже самое необузданное воображение не могло подсказать Генриетте, как велика была эта помощь.) Люси должна считать Лейс своим домом, приезжать и жить здесь в любое время, как только ей захочется, или, может быть, ей захочется поработать лектором, или… или…
И Люси пришлось промолчать и скрыть ото всех, что Лейс, где она была так счастлива, был единственным местом на земле, куда она никогда не вернется. Местом, которое она хотела бы, если ей позволят собственная совесть и тень Роуз, вычеркнуть из памяти.
Преподаватели отправились выполнять свои разнообразные обязанности, а Люси вернулась к себе в комнату, чтобы закончить укладывать вещи. После того ужасного разговора утром в субботу она ни словом не перемолвилась с Иннес, практически не видела ее, за исключением тех минут, когда Иннес получала диплом из рук мисс Ходж.
Неужели перед ее отъездом Иннес не скажет ей ничего?
Однако, вернувшись к себе, Люси нашла на столе письмо. Она вскрыла конверт и прочла:
«Дорогая мисс Пим,
я повторяю все в письменном виде. Всю жизнь я буду искупать то, чего не могу изменить. Я расплачиваюсь охотно. Моя жизнь за ее.
Мне очень жаль, что это испортило Вам пребывание в Лейсе, и я надеюсь, что Вы не будете сожалеть о том, что сделали для меня. Обещаю доказать, что сделали это не напрасно. Быть может, лет через десять вы приедете на Запад и посмотрите, что у меня получилось. Я буду очень ждать этого дня. Это будет ориентир в мире без ориентиров.
А пока, и навечно, примите мою благодарность — благодарность, которую не выразить словами.
Мэри Иннес».
— На который час вы заказали такси? — спросила Бо и вошла, предварительно постучавшись в комнату.
— На половину двенадцатого.
— Вот-вот придет. Вы сложили все, что должны взять? Термос? У вас его нет. Зонтик внизу? Нет зонтика. А как вы обходитесь? Ждете в парадной, пока пройдет дождь, или тащите тот, что поближе? У меня была тетя, которая всегда покупала самые дешевые зонты, какие только могла найти, а когда дождь кончался, совала их в ближайший мусорный ящик. Больше денег, чем ума, как говорила моя няня. Ну ладно. Все сложили? Хорошенько подумайте, потому что если мы закроем эти чемоданы, открыть их снова мы уже не сможем. В ящиках ничего не осталось? Люди часто забывают вещи в глубине ящиков. — Она выдвинула маленькие ящики стола и засунула в них руки. — Половина разводов в Западном полушарии происходит из-за того, что там находят.
Бо вытащила правую руку, и Люси увидела, что она держит на ладони маленькую серебристую розетку, которая оставалась в глубине ящика, потому что Люси не могла решить, что с ней делать.
Бо повертела ее в руках.
— Это похоже на пуговку с моей туфли, — проговорила она.
— С вашей туфли?
— Ну да. Черные лакированные туфли, которые носят на уроках балета. Я люблю их, потому что в них очень удобно, когда ноги устали. Как в перчатках. Мне до сих пор годятся те, что я носила, когда мне было четырнадцать. У меня были огромные ноги для моих лет, и, поверьте, слабым утешением было постоянно слышать, что я вырасту высокой. — Внимание Бо снова обратилось на розетку, которую она держала в руках. — Значит, вот где я ее потеряла, — проговорила она. — А я-то раздумывала, где бы это могло быть. — Бо опустила ее в карман. — Боюсь, вам придется сесть на этот чемодан. Вы сядьте, а я повоюю с замками.
Люси села, послушно как автомат.
«Как это никогда раньше я не замечала, какие у нее холодные голубые глаза. Блестящие, холодные, пустые».
Золотистые волосы упали на колени Люси, пока Бо боролась с замками. Замки, конечно, ей подчинятся. Все и вся, всегда, с самого дня ее рождения, ей подчинялось. Если же нет, она принимала меры, чтобы подчинилось. В четыре года, вспомнила Люси, она нанесла поражение миру взрослых, потому что ее желание, чтобы все было, как она хочет, оказалось сильнее желаний всех других, вместе взятых. Она никогда не знала крушений надежд.
Она не могла себе представить, что надежды могут рухнуть.
Если ее подруга имела несомненное право на Арлингхерст, значит, она отправится в Арлингхерст.
— Вот! Порядок. Помогите, пожалуйста, посидите и на другом, если я не справлюсь с ним сама. Вижу, Джидди подарил вам одно из своих противных растеньиц. Вот тоска. Может, вы когда-нибудь сможете поменять его на вазу для заднего крыльца.
«Интересно, — думала Люси, — когда у Иннес появились подозрения? Почти сразу? Наверняка в первой половине дня, раньше, чем она оказалась на месте, где случилось несчастье, и позеленела».
Бедная Иннес. Бедная Иннес, которой предстоит расплачиваться за это.
— Так-си! — прокричал голос в коридоре.
— Вот и ваш кэб. Я отнесу вещи. Нет-нет, они совсем легкие; не забывайте, какой курс тренировки я прошла. Мне не хочется, чтобы вы уезжали, мисс Пим. Нам будет очень не хватать вас.
Люси услышала собственный голос, говоривший полагающиеся слова. Она даже услышала, что обещает Бо приехать, быть может, к ним на Рождество, когда у Бо будут ее первые «рабочие» каникулы и она будет дома.
Бо посадила Люси в машину, ласково попрощалась с ней, сказала шоферу: «На станцию»; такси тронулось, улыбающееся лицо Бо мелькнуло за окном и исчезло из вида.
Шофер отодвинул стеклянную перегородку и спросил:
— На лондонский поезд, леди?
— Да, — ответила Люси, — на лондонский.
Она останется в Лондоне. В Лондоне ее собственная жизнь, надежная, приятная, спокойная, и в будущем она будет довольствоваться ею. Она даже перестанет читать лекции по психологии.
И вообще, что она знает о психологии?
Как психолог, она первоклассная учительница французского языка.
Она могла бы написать книгу о несоответствии характера и черт лица человека. В этом, по крайней мере, она оказалась права. В большинстве случаев.
Брови, по вине которых люди шли на плаху.
Да, она напишет книгу о физиогномике.
Под псевдонимом конечно. Физиогномика не очень-то высоко котируется среди интеллигенции.
Джозефина Тэй
Шиллинг на свечи. Исчезновение
ШИЛЛИНГ НА СВЕЧИ
1
Ранним летним утром Вильям Поттикери шел своим привычным маршрутом по травянистой дорожке, которая вилась по скалам вдоль морского берега. Было немногим более семи. Далеко внизу, как молочно-белый опал, светилась водная гладь Ла-Манша. Пронизанный солнцем воздух был легок и чист — даже жаворонков еще не было видно, только откуда-то с пляжа доносились крики чаек. За исключением прямой, маленькой, одинокой фигуры самого Поттикери, ландшафт был пустынен. Человека с воображением миллионы сверкающих, чистых капелек росы на зеленой траве навели бы на мысль, что мир Божий переживает свой первый миг творения. Однако Вильяму Поттикери воображение было чуждо. Роса для него означала только, что ночью был туман и солнце еще не успело высушить оставшуюся влагу. Он отметил этот факт совершенно бессознательно, занятый мыслями о том, следует ли ему, поскольку он уже нагулял себе аппетит, повернуть у Расщелины назад, к береговой станции спасательной службы, или же, используя хорошую погоду, дойти до Вестовера. Там он мог бы купить газету и ознакомиться с сообщением о каком-нибудь сенсационном убийстве на два часа раньше других. Правда, с появлением приемников чтение газет, можно сказать, утратило прежнюю остроту. Но все же в такой прогулке виделась хоть какая-то цель. Пускай сейчас мир, а не война — все равно у человека должна быть определенная цель, если уж он куда-то пошел. Нельзя же просто прийти в город, поглазеть на стены домов. Другое дело — вернуться к завтраку с газетой под мышкой. Да, пожалуй, он все-таки дойдет до города. Он невольно ускорил шаг. Черные тупоносые ботинки сверкали на солнце. Ботинки были на редкость прочные и служили ему верой и правдой с давних пор. Казалось, отдав свои лучшие годы армейской службе, где волей-неволей приходилось начищать сапога до зеркального блеска, Поттикери мог бы теперь отряхнуть прах бессмысленной дисциплины и выразить себя как лицо гражданское хотя бы тем, чтобы позволить пылиться своим башмакам. Но бедняга продолжал их начищать, потому что ему нравилось это делать. Может, у него был рабский менталитет. Однако поскольку он представления не имел, что это такое, то и не печалился по этому поводу. А что до самовыражения, то, опиши вы ему, что это такое, он бы, разумеется, понял, о чем идет речь, но в армии для этого существовало другое слово — строптивость.
Внезапно с утеса сорвалась чайка и ринулась вниз к галдящим товаркам. Ох уж эти чайки, до чего шумные птицы! Поттикери подошел к краю скалистого обрыва взглянуть, из-за чего они ссорятся, — наверное, отступающий прилив притащил им какую-нибудь соблазнительную добычу.
В беловатой полосе пены мелькнуло что-то зеленое. Наверное, тряпка. Какая яркая, совсем не потемнела от воды… Внезапно глаза Поттикери округлились и все его тело странно напряглось. В следующий момент черные башмаки ринулись вперед. «Тук-тук-тук» — глухо, как удары сердца, отстукивали они по плотно утоптанной тропинке. Расщелина, где располагался пляж, находилась еще метрах в двухстах, но Поттикери мчался со скоростью, не посрамившей бы и профессионального бегуна. Он загрохотал по грубым вытесанным каменным ступеням, пыхтя от волнения и негодования. Вот что выходит, когда лезут купаться в холодную воду до завтрака. Сущее безумие! Не только себе вредят — еще и другим завтрак портят. Для восстановления дыхания лучше всего метод Шеффера, если только ребра не сломаны. Навряд ли они поломаны. Скорее просто обморок. Первое — внятно и спокойно объяснить потерпевшему, что с ним все в полном порядке.
Ее руки и ноги были загорелые — под цвет песка. Поэтому ему и показалось сперва, что это просто зеленая тряпка. «Одной лезть в ледяную воду, да еще на рассвете! Чистое безумие, иначе не назовешь! Другое дело — если нет иного выхода. Со мной однажды такое приключилось. В Красном море возле порта. Пришлось высаживаться на берег, чтобы оказать помощь арабам. Хотя зачем кому-то понадобилось помогать этим прохвостам — непонятно. Вот тогда пришлось добираться вплавь, что поделать. Ох уж эти мне молодые особы! Апельсиновый сок у них на завтрак да тоненькие тосты — с этого разве силы будут?! Идиотство, да и только!»
По пляжу бежать было трудно. Крупная белая, обкатанная водой галька предательски скользила; где не было камней, там ноги увязали в мокром после прилива песке. Наконец он оказался в самой гуще стаи чаек, оглушивших его неистовыми жалобными криками и хлопаньем крыльев.
Ни в методе Шеффера, ни в каком-либо другом способе уже не было никакой надобности. Он понял это с первого взгляда. Женщине уже ничто не могло помочь. Поттикери, которому не раз доводилось спокойно подбирать тела утонувших в прибрежной полосе Красного моря, испытал несвойственное ему горестное чувство. Такой несправедливой, такой непоправимо жестокой казалась смерть совсем молодого существа, когда весь мир встречал новый, сверкающий летний день. Ведь перед ней была еще целая жизнь. И какая хорошенькая! Волосы, правда, кажется, крашеные, но остальное все при ней.
Набежавшая волна прикрыла ей ноги и равнодушно отхлынула вновь, обнажив ногти с красным педикюром. Несмотря на то что отлив уже начался и через минуту-другую вода и так отступила бы далеко, Поттикери оттащил безжизненное тело повыше, подальше от дерзких волн.
Потом он сообразил, что надо позвонить. Поттикери стал озираться вокруг в надежде обнаружить место, где она разделась, прежде чем войти в воду, но ничего не увидел. Может, она оставила одежду слишком близко к воде и ее унесло приливом, а может, заходила в воду совсем не здесь. Во всяком случае прикрыть ее было нечем, и Поттикери поспешил назад, к сторожевой вышке, где был телефон.
— Тело на берегу, — бросил он через плечо Биллу Гантеру, снимая трубку, и назвал номер телефона полиции.
Билл Гантер прищелкнул языком и тряхнул головой, вложив в этот выразительный и предельно лаконичный жест всю гамму чувств: и досаду по поводу случившегося, и неодобрение по поводу глупых людей, которые лезут в воду, а потом тонут, и удовлетворение, что его пессимистический взгляд на жизнь снова подтверждается.
— Если уж им так приспичило кончать жизнь самоубийством, — меланхолично проговорил он с мягким выговором, — почему обязательно делать это у нас? Все побережье к их услугам.
— Это не самоубийство, — отрывисто сказал Поттикери, ожидая, пока его соединят.
— А все потому, что до южного побережья дорога дороже! — продолжал Билл, будто не слыша. — Казалось бы, коль человеку жить надоело, так мог бы не мелочиться напоследок и укокошить себя с размахом. Так нет же! Покупают самый дешевый билет и хлоп — к нам на порог!
— На «Пляжной Макушке» их тоже хватает, — ради справедливости заметил Поттикери. — И это не самоубийство.
— Да ну, конечно, оно самое и есть. Для чего еще у нас скалы? Для защиты Англии от вражеских набегов, что ли? Ясное дело, нет. Исключительно для удобства самоубийц. Это уже четвертое за год. И помяните мое слово, вот повысят налоги на доходы — и их станет еще больше…
Билл замолчал, прислушиваясь к тому, что говорил в трубку Поттикери:
— Женщина. Да, молодая. В ярко-зеленом купальном костюме. (Поттикери принадлежал еще к тому поколению, которое не употребляло слово «купальник».) Чуть южнее Расщелины. Метрах в ста. Нет, там никто не остался. Я должен был добраться до телефона. Сейчас же туда вернусь. Там буду вас ждать. Хэлло, это вы, сержант? Конечно, не лучшее начало дня, но мы уж понемногу тут к этому привыкаем… Нет, нет, на сей раз просто несчастный случай на воде. Машина «скорой помощи»? Да, она сможет подойти прямо к Расщелине. Да-да, свернете с дороги на Вестовер после третьего межевого камня и доедете до самой Расщелины. Ладно, пока.
— Откуда вы взяли, что это просто несчастный случай? — не хотел сдаваться Билл.
— Ты что, не слышал? Я же сказал: на ней был купальный костюм.
— А почему она не могла надеть купальный костюм перед тем, как сигануть в воду? Чтобы сделать вид, будто это несчастный случай.
— В эту пору и с этого места нельзя броситься в воду — приземлишься на песчаный пляж. И когда человек кончает с собой, то чего уж тут притворяться.
— Она могла идти и идти, пока ее водой не покрыло, — сказал Билл, цепляясь за свою теорию до последнего.
— С таким же успехом она могла умереть, объевшись бычьих глаз, — саркастически заметил Поттикери.
Он готов был биться до последнего, когда был в Аравии, но в своей гражданской жизни бессмысленного упорства не одобрял.
2
Кучка мужчин с серьезными лицами собралась вокруг трупа: Поттикери, Билл, сержант, констебль и двое медиков. Один из медиков, тот, что помоложе, думал только о том, как бы не опозориться перед остальными: его тошнило. Другие были целиком поглощены тем, что им предстояло выполнить.
— Знаете ее? — спросил сержант.
— Нет, — отозвался Поттикери, — никогда не видел.
Оказалось, никто из присутствующих опознать ее не может.
— Наверняка не из Вестовера. Зачем оттуда ехать к нам, когда у них собственный пляж под боком. Откуда-нибудь издалека.
— Может, зашла в воду у Вестовера, а сюда ее прибило? — предположил констебль.
— По времени не получается. Тело пробыло в воде совсем недолго, — возразил Поттикери, — где-нибудь тут рядом утонула.
— Тогда как она здесь очутилась? — спросил сержант.
— На машине могла приехать, — высказал предположение Билл.
— Тогда где машина?
— Там, где всегда их оставляют, — под деревьями, где кончается дорога.
— Ты так думаешь? Но там никакой машины нет, — отозвался сержант.
Это подтвердили и санитары. Они вместе с полицией ехали как раз оттуда и там оставили свою машину: никакой другой рядом не было.
— Чудно, — заметил Поттикери. — Поблизости нет ни одного дома, откуда сюда можно было бы прийти пешком, да еще в такую рань.
— Не думаю, что она была из тех, кто ходит пешком, — отозвался сержант и, встретившись с вопросительными взглядами, добавил: — Она не из простых.
Стоявшие еще раз взглянули на распростертое у их ног тело: да, при жизни она явно следила за собой.
— Тогда где же ее одежда? — озадаченно спросил сержант.
Поттикери поделился с ним предположением, что одежду могло смыть приливом.
— Вполне возможно, — сказал сержант. — Хотя все равно непонятно, как она сюда добралась.
— Странно вообще, что она отправилась купаться одна, — подал голос младший из медиков, кое-как справившись с тошнотой.
— В наше время все возможно, — проворчал Билл. — Это еще что! Хорошо еще, что она не стала съезжать со скалы на водных лыжах. А так, пойти плавать одной на пустой желудок — это у них теперь запросто. Глаза бы мои не смотрели на этих молодых идиотов.
— Что это у ней на щиколотке? Никак браслет? — изумился констебль.
Это был действительно браслет. Браслет из платиновых звеньев необычной формы — в виде латинской буквы «s».
— Что ж, — распрямляясь, заключил сержант, — тут, пожалуй, нам делать больше нечего. Осталось отвезти тело в морг и выяснить, кто она есть. Судя по всему, это большого труда не составит. Определения вроде «убежала», «заблудилась» или «похищена» к ней явно отношения не имеют. Не тот случай.
— Да, — согласился медик, — скорее всего уже сейчас ее дворецкий вовсю названивает в полицию.
— Пожалуй что так, — задумчиво произнес сержант. — И все же непонятно, как она здесь очутилась и что именно… — Он взглянул вверх и внезапно сказал: — Ого, да мы тут не одни.
Обернувшись в направлении его взгляда, все заметили одинокую фигуру на вершине утеса возле Расщелины. Человек напряженно наблюдал за каждым их жестом. Увидев, что его заметили, он быстро повернулся и исчез.
— Для одиноких прогулок вроде рановато, — проговорил сержант. — И потом, почему он убегает? Надо бы с ним побеседовать.
Однако они с констеблем не успели пройти и нескольких шагов, как убедились, что человек не только не убежал, но, напротив, торопливо спускается им навстречу. Худая, темная фигура показалась из распадка, где шли ступени. Мужчина бежал неуклюже, скользя и спотыкаясь, и вид у него был как у помешанного. Когда он приблизился, они услышали, как он судорожно ловит ртом воздух, хотя бежать было совсем недалеко и человек явно был молод.
Он с разбегу врезался в их плотную маленькую группу, оттолкнув обоих полицейских, которые инстинктивно пытались загородить от него тело.
— О Господи! Это она, она, она! — воскликнул он и неожиданно для всех разразился громкими рыданиями. Несколько мгновений шестеро мужчин растерянно молчали. Потом сержант стал ласково похлопывать его по спине, отчего-то бессмысленно повторяя: «Ничего, ничего, сынок, все в порядке».
Но юноша продолжал горестно раскачиваться и рыдать.
— Ну полно, полно, будет вам, — успокаивал его констебль. (Господи, ничего себе утречко выдалось!) — Слезами горю не поможешь. Возьмите себя в руки… — И, заметив дорогой носовой платок, который молодой человек извлек из кармана, торопливо добавил: — Сэр.
— Ваша родственница? — спросил он затем соответствующим печальному событию сочувственным тоном.
Молодой человек отрицательно качнул головой.
— Значит, просто приятельница?
— Она была так добра ко мне, так добра!
— Во всяком случае, тут вы сможете нам помочь. А то мы уже начали беспокоиться. Хоть скажете нам, кто она такая.
— Она… Она меня приютила.
— Хорошо, так как ее полное имя?
— Не знаю.
— То есть как это «не знаете»? Послушайте, сэр, соберитесь-ка с мыслями. Вы единственный, кто может нам помочь. Вы должны знать имя женщины, у которой жили.
— Да нет же, не знаю я.
— Но вы же ее как-то называли? Как?
— Крис.
— Крис, а дальше?
— Просто Крис.
— А она как вас звала?
— Робин.
— Это действительно ваше имя?
— Ну да, Роберт Станвей. То есть нет, теперь Тисдейл. Это раньше я был Станвей, — торопливо добавил он, встретив недоуменный взгляд сержанта.
«Пошли мне терпение, Господи!» — подумалось тому, но вслух он лишь сказал: — Звучит это довольно странно, мистер, э…
— Тисдейл.
— Мистер Тисдейл. Можете вы мне объяснить, как она здесь очутилась, да еще так рано?
— Могу, конечно. Она приехала на машине.
— Ах так, на машине. И куда делась эта машина?
— Я ее угнал.
— Что-что?
— Я ее украл. Вот только что вернулся на ней обратно. Конечно, это был свинский поступок. Я чувствовал себя подонком, потому и вернулся. Когда я не нашел ее у дороги, то решил, что она тут, внизу. Потом я увидел, что вы тут столпились и… о Господи, Господи Боже мой! — И он снова принялся горестно раскачиваться.
— В каком месте вы с этой женщиной жили? — нетерпеливо спросил сержант, переходя на сухой, деловой тон. — В Вестовере?
— Нет. У нее есть… Боже мой, я хотел сказать, у нее был небольшой домик — «Бриары» называется. Возле Милдея.
— Мили полторы от побережья, — пояснил Поттикери, поймав недоуменный взгляд полицейского. Тот был явно не из местных.
— Вы жили вдвоем или там еще есть прислуга?
— Только миссис Питтс. Она живет в деревне и приходит стряпать.
— Понятно.
Последовало неловкое молчание, которое прервал сержант.
— Ладно, ребята, приступайте, — сказал он и кивнул санитарам. Те склонились к носилкам. Юноша судорожно вздохнул и закрыл лицо руками.
— В морг, сержант?
— О нет, не надо! У нее же есть дом. Тела умерших ведь полагается привозить домой, разве не так?
— Мы не можем повезти тело неизвестной женщины в бунгало, где никто не живет.
— Это не бунгало, это нормальный дом, — автоматически поправил юноша. — Я понимаю, вы, наверное, правы. Но морг — это так ужасно! Господь Всевышний, как ты мог допустить такое?!
— Дэвис, — сержант обратился к констеблю, — возвращайтесь в участок вместе со всеми и доложите там. Я с мистером Тисдейлом отправлюсь в — как вы сказали называется этот коттедж? — в «Бриары».
Галька заскрипела под ногами санитаров с их тяжелой ношей. За носилками двинулись Поттикери и Билл.
Когда их шаги стали затихать, сержант заговорил снова:
— Вам не пришло в голову выкупаться вместе?
Что-то похожее на смущение промелькнуло на лице Тисдейла. Он явно находился в замешательстве. Потом отрывисто проговорил:
— Нет, не пришло. Я… я не очень-то люблю плавать на голодный желудок. Я… я вообще не ахти какой спортсмен.
Сержант понимающе кивнул:
— В котором часу она выехала из дома?
— Не знаю. Вчера перед сном она говорила, что если рано проснется, то отправится купаться. Я сам проснулся рано, но она уже уехала.
— Ясно. Если вы уже оправились, мистер Тисдейл, то давайте-ка трогаться в путь.
— Да-да, разумеется, я готов.
Он встал, и вместе они в полном молчании пересекли пляж, поднялись по ступеням в Расщелине и вышли к машине, которая стояла в конце дороги в тени деревьев, как Тисдейл им и сказал. Машина была красивая, хотя, пожалуй, уж слишком роскошно отделанная: двухместная малолитражка цвета слоновой кости, со специальным отделением для пакетов и свертков. Сиденья были расположены на значительном расстоянии одно от другого, так что при желании туда мог бы втиснуться и третий пассажир. Из этого свободного пространства сержант извлек женское пальто и меховые сапожки, которые этой зимой было модно надевать, отправляясь на скачки.
— Это пальто она всегда носила, когда шла плавать: надевала прямо на купальник. А вот и полотенце.
Действительно, теперь сержант вынул и полотенце, яркое, оранжевое с зеленым.
— Странно, почему она не взяла его с собой на пляж.
— Она любила обсушиваться прямо на солнце.
— Похоже, вы хорошо изучили привычки особы, полного имени которой даже не знаете. — Сержант протиснулся на одно из сидений. — И давно вы с ней жили?
— Жил не с ней, а у нее, — поправил его Тисдейл, и первый раз за все время в его голосе послышалось еле сдерживаемое раздражение. — Поймите меня правильно, сержант, и давайте покончим с этим раз и навсегда. Это избавит вас от лишней мороки: Крис меня приютила, я у нее жил, и на этом поставим точку. Вам ясно? Я просто жил в ее доме, и ничего больше между нами не было. Мы жили одни, но отношения наши не могли быть более невинными, даже если бы за нами следил целый штат прислуги. Это вам кажется странным?
— Очень, — откровенно признался сержант. — А это тут зачем? — спросил он, разглядывая пакетик с парой черствых, неаппетитного вида булочек.
— Это я прихватил по дороге. Другого ничего не нашел. Когда я был маленьким, то после купания нам всегда давали булочки. Я подумал, может, ей тоже захочется поесть.
Машина неслась по крутому спуску, приближаясь к шоссе, соединявшему Вестовер и Стонгейт. Они пересекли его и поехали по длинной аллее. Указатель гласил:
«Мидлей: 1 км; Лиддлстоун: 3 км».
— Значит, когда вы отправились за ней на пляж, то еще не намеревались угонять ее машину?
— Разумеется нет! — негодующе воскликнул Тисдейл с таким видом, будто это что-то меняло в самом факте кражи. — Мне это и в голову не приходило, пока я не увидел машину на дороге. Мне сейчас даже трудно представить, как я мог это сделать. Идиотизм полный, я до этого никогда машин не угонял.
— Женщина была еще в воде?
— Не знаю. Я не стал смотреть. Если бы я увидел ее хоть издали, то ни за что бы на такое не решился. Я просто кинул в машину пакет с булочками и умчался. Опомнился уже где-то на полдороге в Кентербери, тут же развернулся и приехал прямо сюда.
Сержант немного помолчал, потом спросил:
— Вы так и не сказали, долго ли прожили в коттедже.
— С полуночи субботы.
Был вторник.
— И вы по-прежнему хотите меня уверить, что и в самом деле не знали ее полного имени?
— Не знал. Немножко странно, я понимаю. Я и сам воспитывался в традиционном духе. Но с ней это казалось вполне естественным. С первого же дня у меня возникло такое чувство, будто я знал ее всю жизнь.
Поскольку сержант молчал, все своим видом выражая сомнение, столь же явно, как горячий радиатор излучает тепло, то Тисдейл запальчиво воскликнул:
— С чего бы я стал скрывать ее полное имя, если бы оно мне было известно?!
— Откуда мне знать? — мрачно отозвался сержант.
Краем глаза он продолжал наблюдать за Тисдейлом. Лицо юноши было бледно, но довольно спокойно. Похоже, он довольно быстро оправился после недавнего приступа отчаяния. Легкомысленная пошла нынче молодежь. Ничто их по-настоящему не волнует. Истерики — это всегда пожалуйста! Забавы на сеновале у них называются любовью. Все остальное считается ненужными сантиментами. Никакой дисциплины. Никакой выдержки. Попадут в трудную ситуацию — и давай бог ноги. Мало их пороли в детстве. Вот к чему приводят эти новые методы воспитания, когда ребенку позволяется делать все, что ему вздумается. И вот вам живой пример: только что рыдал там, на пляже, а сейчас — спокоен и холоден, как огурец!
Тут взгляд сержанта упал на изысканно-тонкие пальцы Тисдейла, лежавшие на руле, — они заметно дрожали. Ну нет, каким бы этот Тисдейл ни оказался, спокойным и холодным его не назовешь.
— Тот самый дом? — спросил полицейский, когда они затормозили у живой изгороди.
— Тот самый.
Бревенчатый на каменном фундаменте коттедж был небольшой, — вероятно, там было не более пяти комнат. Со всех сторон его окружала изгородь из жимолости. В саду было полно роз. Идеальное место для американских туристов, любителей уик-эндов и фотографов. В тихой дреме смотрели на мир небольшие окна; ярко-синяя дверь была гостеприимно распахнута, и проникавший внутрь солнечный лучик высвечивал медную сковороду на стене кухни. Игрушечный коттедж был явно отыскан и приобретен совсем недавно.
Пока они шли по мощенной кирпичом дорожке, на пороге появилась худенькая женщина небольшого роста, в белоснежном переднике. Ее жиденькие волосы были собраны в пучок на затылке, а на самой макушке еле держалось некое сооружение из черного шелка, напоминавшее птичье гнездо. При виде ее Тисдейл замедлил шаги, видимо желая, чтобы само появление официального лица подготовило женщину к недобрым вестям. Но миссис Питтс была вдовой полицейского: ее маленькое суровое лицо осталось невозмутимым. Полицейский мундир в дверях дома значил для нее прежде всего необходимость подать еду на стол, и первые ее слова соответственно были:
— Я испекла к завтраку печенье с кунжутом. Скоро станет жарко, так что лучше плиту протопить пораньше. Пожалуйста, передайте это мисс Робинсон, когда она вернется, ладно, сэр?
Тут она заметила, что это не просто полицейский, а сержант, и с беспокойством спросила Тисдейла:
— Неужто вы вели машину без водительских прав, сэр?
— Вы сказали «мисс Робинсон»? — вмешался сержант. — С мисс Робинсон произошел несчастный случай.
— Господи! Эти машины! Она всегда так неосторожно ездит! Она очень пострадала?
— Это не в машине. Несчастный случай произошел в воде.
— Ах вот оно что, — проговорила она тихо.
— Что значит ваше «вот оно что»?
— Несчастный случай на воде может означать только одно. Ну и дела, — печально проговорила она и вдруг изменившимся голосом резко спросила Тисдейла: — А где же вы были в это время?
Она обратила на понуро стоявшего Тисдейла взгляд, каким, наверное, смотрела на несвежую рыбу на базаре в Вестовере. Перед лицом несчастья ее суеверное почтение к «господам» как ветром сдуло. Тисдейл оказался таким, каким она окрестила его про себя с первого дня знакомства, — никчемным парнем.
Сержант не показал своей заинтересованности в ее реакции, однако со скрытой насмешкой произнес:
— Джентльмен при сем не присутствовал.
— Как так? Он ведь отправился следом за ней.
— Откуда вам это известно?
— Я его видела. Мой дом возле самой дороги.
— Вы не знаете ее постоянного адреса? Как я понимаю, здесь она жила временно.
— Конечно временно. Она сняла коттедж на месяц. Он принадлежит Оуэну Хьюджеду.
Она замолкла на мгновение, чтобы до сержанта дошло значение этого имени, и потом продолжала:
— Он сейчас в Голливуде. Играет испанского гранда — он мне сам рассказывал. Он говорил, что уже играл итальянских князей и французских принцев и теперь решил, что ему будет интересно сыграть испанского гранда. Вы не поверите: однажды какая-то девчонка предложила мне пять фунтов, если я ей отдам простыни, на которых он спит. Не простыни я ей дала, а отповедь хорошую. А ей — хоть бы что! После этого она еще стала у меня его наволочку клянчить за двадцать пять шиллингов. И куда только мир катится! До чего мы дожили…
— Так какой постоянный адрес у мисс Робинсон?
— Никакого другого, кроме этого адреса, я не знаю.
— Разве она не писала вам перед приездом?
— Писала?! Она только телеграммы слала. Наверное, писать она умеет, но ни разу ничего не писала, пока здесь жила, в этом я вам поклясться готова! Иной раз по шесть штук телеграмм на день шли от нее из Лиддлстоуна. Мой Альфред обычно относил их туда на почту. В перерывах между уроками. Некоторые из них были такие длинные, что одного бланка не хватало — требовалось два, а то и три сразу.
— К ней кто-нибудь сюда приезжал? Может быть, ночевал?
— Никто у нее тут не останавливался. Само собой кроме мистера Станвея.
— Никто никогда?
— Ни одной души. Как-то раз, когда я ей показывала, как у нас в туалете воду спускать — тут есть такая хитрость: надо сначала сильно дернуть, а потом полегоньку отпускать, — так вот тогда она мне вдруг говорит: «Миссис Питтс, с вами так не случается, что вам тошно видеть людей?» Я ответила: «Точно, на кое-кого и глаза бы мои не глядели». А она: «Не на кое-кого, а на всех вообще. Когда вообще ни на кого смотреть не хочется». Я сказала, что, когда такое со мной бывает, я принимаю касторку. Она засмеялась и заметила, что это и впрямь неплохая идея. Надо, чтобы все принимали касторку, и тогда мир за какие-нибудь пару дней полностью преобразится. И еще добавила: «Жаль, что Муссолини до этого не додумался!»
— Откуда она приехала? Из Лондона?
— Да. За три недели, что мисс Робинсон здесь прожила, она раз-другой туда ездила. Последний раз это было в конце этой недели, когда она привезла с собой мистера Станвея.
Ее взгляд снова с пренебрежением скользнул по Тисдейлу, как будто он был вещью.
— А он что, тоже не знает ее адреса? — спросила миссис Питтс.
— Никто не знает. Пройду посмотрю ее бумаги, может, в них что-нибудь обнаружится.
Миссис Питтс провела его в гостиную — прохладную комнату с низким брусчатым потолком, где стоял сладкий запах душистого горошка.
— Куда вы ее дели? Тело, я имею в виду.
— Оно в морге.
Казалось, только теперь до миссис Питтс дошла непоправимость случившегося.
— Господи Боже! — медленно проговорила она, машинальным движением водя кончиком передника по полированной поверхности стола. — Подумать только, а я еще колечки испекла.
В этих словах звучало не столько сожаление о ненужном теперь печенье, сколько смирение перед превратностями жизни.
— Надо вам все же позавтракать, — ворчливо обратилась она к Тисдейлу. Смутное осознание того факта, что все, даже самые благополучные люди в этом мире, лишь игрушки в руках судьбы, сделало ее снисходительнее.
Тисдейл от завтрака отказался. Он смотрел в окно, повернувшись спиной к сержанту, который разбирал бумаги, лежавшие на письменном столе.
— Против печенья я бы не возражал, — заметил он между делом.
— Поверьте моему слову, вкуснее моего во всем Кенте не сыщешь. Может, заодно и мистер Станвей выпьет хоть глоток чаю, — заключила она и отправилась в кухню.
— Так вы не знали, что ее фамилия Робинсон? — спросил сержант, поднимая глаза на Тисдейла.
— Миссис Питтс всегда обращалась к ней просто «мисс». И потом, неужели вы верите, что у такой женщины, как она, может быть эта вульгарная фамилия?!
Действительно, сержант и сам ни минуты не сомневался, что это не так.
— Я выйду в сад, если я вам сейчас не нужен. Не возражаете? Здесь… здесь мне душно, — сказал Тисдейл.
— Ладно. Только не забудьте — машина мне понадобится, чтобы доехать обратно в Вестовер.
— Я вам уже говорил. Я поддался минутному порыву. В любом случае теперь я уже не могу надеяться, что мне удастся украсть ее.
«Не такой уж он дурак, как кажется. Да еще с гонором. Нет, уж что-что, а он не простачок», — подумал про себя сержант. Письменный стол был завален журналами, газетами, начатыми пачками сигарет, рассыпанными фишками кроссворда; там же лежали пилка для ногтей, образцы шелковых тканей и еще множество мелочей — словом, тут было все, кроме одного — писчей бумаги. Единственными официальными документами были многочисленные счета из местных лавок, в большинстве случаев уже оплаченные. Если покойная и была неаккуратной и рассеянной, то, видимо, отнюдь не там, где дело касалось финансов. Расписки, хоть и скомканные и распиханные по разным ящикам, явно не выбрасывались, а сохранялись.
Умиротворенный тишиной раннего утра, веселым позвякиванием посуды, доносившимся из кухни, и в предвкушении знаменитых песочных колечек, сержант, возясь с бумагами, целиком предался своему излюбленному пороку: он стал насвистывать. Его свист был тих и музыкален, тем не менее это был свист. Он насвистывал последний шлягер «Спой мне еще раз», насвистывал выразительно, со всеми нюансами, сам наслаждаясь своим искусством. Правда, жена показала ему однажды в разделе читательских писем заметку, где говорилось, что привычка свистеть свидетельствует о праздном уме. Но это его не излечило.
Его безмятежное настроение было нарушено самым неожиданным образом. Без всякого предупреждения кто-то постучал в полуоткрытую дверь игривой дробью «там-та-та-там-там-та!», и мужской голос произнес:
— Так вот где ты прячешься!?
Дверь с шумом распахнулась, и на пороге появился маленький смуглый человек.
— Та-а-к, — произнес он врастяжку. Несколько мгновений он стоял в дверях и, широко улыбаясь, разглядывал сержанта. — А я-то думал, это Крис свистит! Могу я узнать, что здесь делает наша доблестная полиция? Неужели кража со взломом?
— Нет, не кража, — осторожно ответил сержант, пытаясь собраться с мыслями.
— Только не уверяйте меня, что Крис устроила здесь оргию! Она покончила с этим сто лет назад. Это наносит ущерб ее благородному имиджу.
— Дело в том, что…
— Где она сама, черт возьми?
Он задрал голову и крикнул:
— Эй-хо! Крис! Спускайся, злодейка! Нечего от меня прятаться! — и, обращаясь к сержанту, добавил: — Улизнула от нас на целых три недели. Наверное, ей осточертели съемки. Это с ними со всеми случается рано или поздно. С другой стороны, последний фильм имел такой кассовый успех, что не мудрено, если они спешат скорее запустить следующий.
С напускным пафосом он промурлыкал музыкальную фразу из шлягера «Спой мне еще раз» и добавил:
— Потому я и принял вас за Крис: вы насвистывали ее песенку. И очень мелодично, надо вам отдать должное.
— Как вы сказали? Ее песню? — с надеждой, что наконец хоть что-то начнет проясняться, переспросил сержант.
— Ее. Чью же еще? Не думаете же вы, приятель, что она моя? Ни боже мой! Я написал музыку, верно, но это не в счет. Это ее песня. Хотя она этого никогда не подчеркивала. Шикарно она сыграла, просто потрясающе, правда?
— Честно говоря, мне трудно судить. (Помолчал бы он чуток, тогда я бы разобрался, что к чему!)
— Вы, часом, не пропустили «Стальные тиски»?
— Пропустил.
— Вот что значит это чертово радио и пластинки. Они портят весь эффект от фильмов. К тому времени, когда вы услышите, как Крис исполняет ее в картине, мелодия уже успевает вам надоесть до тошноты. Это несправедливо по отношению к кинопродукции. Для поэтов-песенников и прочей мелкой шатии-братии это безразлично, но для фильма скверно, очень скверно. Надо бы разработать специальное соглашение на этот счет. Эй, Крис! Неужели ее нет в доме? И это после всех моих усилий застать ее врасплох!
Его лицо вытянулось, как у обиженного ребенка.
— Если она войдет и застанет меня здесь, это будет совсем не тот эффект, как если бы я сам неожиданно заявился перед ней! Как вы думаете…
— Минуточку, мистер… Простите, не знаю вашего имени.
— Джей Хармер меня зовут. По свидетельству о рождении — Джасон. Я автор песни «Если это невозможно в июне». Вы, наверное, знаете ее и тоже насвистываете, но…
— Мистер Хармер, если я правильно понял, особа, которая здесь живет, вернее, жила, киноактриса?
— Киноактриса ли она?! — от изумления Хармер почти лишился дара речи. И тут впервые с момента своего появления он вдруг усомнился, туда ли попал. — Послушайте, ведь Крис живет здесь, я не ошибся?
— Молодую особу действительно звали Крис. Думаю, вы сможете нам помочь разобраться. Видите ли, произошло несчастье, большое несчастье. Но эта женщина говорила, что ее фамилия Робинсон.
— Робинсон! — Человек рассмеялся, будто услышал удачную шутку. — Великолепно! Я всегда говорил, что она начисто лишена воображения. Глупейшего розыгрыша придумать и то не могла. И вы поверили, что ее фамилия Робинсон?
— Да, это казалось маловероятным.
— Что я вам говорил! Теперь я отомщу ей за то, что она обращает на меня внимания не больше, чем на кусочки пленки под ногами в съемочном павильоне, — всем расскажу про выдуманную фамилию! Она за это, конечно, может запихнуть меня в холодильник на сутки, но шутка того стоит! В любом случае джентльменом меня никто не считает, так что большого убытка моей репутации это не нанесет. Эту особу, сержант, на самом деле зовут Кристина Клей.
— Кристина Клей! — повторил сержант. У него отвисла челюсть от удивления.
— Кристина Клей! — выдохнула миссис Питтс, стоя на пороге. Она совершенно забыла про поднос с песочными колечками, который держала в руках.
3
«Кристина Клей»! — вопили объявления на театральных тумбах.
«Кристина Клей»! — кричали газетные заголовки.
«Кристина Клей»! — неслось из приемников.
«Кристина Клей»! — сосед сообщал соседу.
Это имя было у всех на устах в самых разных концах земного шара. Еще бы! Утонула знаменитая Кристина Клей. Во всем цивилизованном мире нашелся лишь один шустрый юнец, который, услышав о ее смерти в веселой компании в Блумсбери, спросил, кто это такая, — и то лишь потому, что ему захотелось показаться оригинальным. В разных концах света произошло сразу несколько событий исключительно оттого, что ушла из жизни эта женщина. Из Калифорнии позвонили в обитель актеров и музыкантов Гринвич-Виллидж и попросили некую девушку немедленно приехать; в Техасе пилоту пришлось совершить дополнительный ночной рейс, чтобы перебросить кассеты с фильмами Кристины Клей для срочного показа. Нью-йоркская фирма расторгла контракт; итальянский граф стал банкротом: он надеялся поправить свои дела, продав ей яхту; в Филадельфии один человек впервые за много месяцев досыта поел: он запродал газетчикам историю о том, что когда-то знал ее. Некая женщина из труппы Ле Туке запела от радости: настал ее звездный час, теперь она наконец-то получит «ту самую» роль. А в Англии, в одном из соборов, человек, преклонив колена, благодарил Господа за ее смерть.
Пресса, притихшая было в мертвый сезон, оживилась, почувствовав в своих парусах нежданный ветер сенсации. Местная газета «Кларион» отозвала своего ведущего корреспондента Барта Бартоломео из Брайтона с конкурса красоты (за что он был весьма им признателен: он вернулся оттуда, громко возмущаясь тем, как мясники могут есть мясо животных, которых убивают) и Джемми Хопкинса, специалиста по «кровавым драмам на почве ревности», который был в Брэдфорде, собирая материал о скучном и неэстетичном убийстве, совершенном с помощью кочерги (что лишний раз свидетельствовало о том, как низко пала «Кларион»). Газетные фотографы покинули гоночные трассы, забыли про интервью со знаменитостями, про светские бракосочетания и крикет, про человека, который собирался лететь к Марсу на воздушном шаре, и как пчелы облепили коттедж в Кенте, квартиру на Саут-стрит и меблированный особняк в Хэмпшире. Тообстоятельство, что перед смертью Кристина Клей сбежала ото всех и укрылась в никому не ведомом и безо всяких удобств коттедже, добавляло пикантной остроты сенсационному известию о ее кончине. Фотография особняка (со стороны сада, так как спереди его скрывали липы) была снабжена надписью: «Дом, которым владела Кристина Клей» (то, что она сняла этот особняк всего на сезон, никого не смущало: это было неважно, главное — создать нужную атмосферу вокруг ее имени); рядом с этим импозантным снимком поместили фотографии скромного, утопающего в розах коттеджа. Под ним стояло: «Дом, который она предпочитала». Ее пресс-агент при виде этих снимков смахнул непрошеную слезу: «Надо же! Такая сенсация всегда приходит слишком поздно, теперь ей, бедной, уже все равно».
От человека, хоть сколько-нибудь разбирающегося в психологии и наблюдающего со стороны, наверняка не укрылось бы некое странное обстоятельство: смерть Кристины Клей вызвала много разных эмоций — жалость и растерянность, ужас и сожаление и еще множество других. Не вызвала она лишь одного: горя. Единственным всплеском подлинного искреннего чувства можно было считать разве что истерические рыдания над ее телом Роберта Тисдейла. И то неизвестно еще, чего было больше в этих слезах: жалости к Кристине или к самому себе. Кристина принадлежала всем: она не могла принадлежать немногочисленному кругу лиц. Впрочем, среди окружавших Кристину и знавших ее людей эта ужасная смерть вызвала шок и растерянность. Но не только среди них. Койен (подлинное имя — Кохан), который должен был стать продюсером ее третьей и последней в Англии картины, был на грани отчаяния; с другой стороны, Лежен (он же Томпкинс), который должен был быть ее партнером, вздохнул с облегчением: фильм с участием Клей, конечно, принес бы ему славу, однако львиная доля кассового сбора досталась бы, разумеется, ей, а не ему. Герцогиня Трентская, которая собиралась устроить ленч в честь Клей, чтобы тем самым восстановить утерянный престиж щедрой покровительницы искусств и гостеприимной хозяйки, вероятно, скрипела зубами от ярости. Лидия Китс не скрывала своего торжества. Она предсказала ей скорую смерть, и то, что ее предсказание так быстро исполнилось, повергло в изумление даже видавших виды знаменитостей.
— Милочка, это просто поразительно! — щебетали наперебой ее друзья и подруги. Их восхищение совсем вскружило Лидии голову: она стала являться на все приемы подряд только для того, чтобы услышать снова и снова, как они восторженно восклицают: «Милочка, ты просто гений!» Нет, насколько можно было судить, смерть Кристины Клей не разбила ни одного сердца. Друзья и знакомые вытащили на свет Божий траурные костюмы и платья и стали с надеждой ожидать приглашений на церемонию похорон.
4
Однако вначале состоялось предварительное слушание по факту смерти. И именно во время этого слушания проявились первые признаки того, что самая большая сенсация еще впереди. Первым уловил легкую рябь на гладкой поверхности судебного заседания Джемми Хопкинс. Недаром свое прозвище «Джемми» он заработал потому, что, почуяв интересный материал, всегда прибегал в редакцию с криком: «Джем! Сладенькое!» Это он, когда дела газеты шли плохо и тираж начинал падать, обычно с философским видом говаривал: «Прокати через печатный станок любую чушь и получишь джем». У него было особое чутье на такого рода «сладенькие» или «жареные» факты. Именно поэтому он внезапно умолк в самый разгар своего поучительного комментария, адресованного Бартоломео, по поводу известных личностей, охочих до сенсаций, собравшихся в зале. Умолк и устремил куда-то пристальный взгляд: меж двух экстравагантных шляпок заядлых любительниц скандалов он углядел спокойное лицо человека, само присутствие которого здесь уже можно было считать достаточно сенсационным.
— Что-то углядел? — спросил Бартоломео.
— Знал бы ты, что именно! — воскликнул Хопкинс. Он соскользнул со скамьи как раз в тот момент, когда председательствующий занял свое место и призвал всех к молчанию, чтобы объявить о начале заседания.
— Держи для меня место, — шепнул Хопкинс и вышел из зала. Он вернулся туда снова через служебный вход, ловко работая локтями, добрался до нужного места и сел. Человек обернулся и с откровенной неприязнью взглянул на Хопкинса, вторгшегося туда, куда вход для публики был закрыт.
— Привет, инспектор. Я бы так не поступил, да деньги очень нужны, — в качестве оправдания зашептал Хопкинс.
Председательствующий снова постучал молоточком, требуя тишины. Лицо инспектора вновь приняло прежнее, непроницаемо-холодное выражение.
Под шум и шепот, сопровождавшие появление Поттикери для дачи свидетельских показаний, Хопкинс спросил:
— Что поделывает здесь Скотланд-Ярд, а, инспектор?
— Просто наблюдает.
— Понятно, изучаете порядок судопроизводства. Что, Скотланд-Ярду нынче нечем заниматься? У преступного мира тоже мертвый сезон? — И, видя, что инспектор не собирается отвечать, взмолился: — Да ну же, имейте хоть каплю сочувствия. Чем тут пахнет? Что-нибудь неладно с установлением причины смерти? Появились подозрения, а? Если вы не хотите, чтобы это просочилось в печать, я буду молчать как убитый.
— Не убитый вы, а настоящий живой слепень.
— Поглядите, как я ободрал бока, пробираясь к вам.
Это вызвало у инспектора лишь насмешливую улыбку.
— Послушайте, инспектор, скажите мне хотя бы одну вещь: вердикт о причине смерти не будет вынесен сегодня?
— Меня бы очень удивило, если бы его вынесли.
— Весьма признателен. Я узнал все, что хотел, — полусерьезно-полунасмешливо проговорил Хопкинс и снова покинул зал. Он отодрал сынишку миссис Питтс от окна, на котором тот угнездился, убедил его, что два шиллинга несравненно соблазнительнее, чем нудное наблюдение сквозь окно, и отослал в Лиддлстоун с телеграммой в «Кларион», после чего вся редакция загудела, как растревоженный улей, и только после этого присоединился к Барту.
— Что-то нечисто, — произнес он, едва разжимая губы, в ответ на немой вопрос приятеля. — Здесь человек из Ярда. Его зовут Грант — вон он там, за красной шляпой. Слушание дела собираются отложить. Ищи убийцу!
— Тут его наверняка нет, — ответил Барт, обводя взглядом собравшихся.
— Твоя правда. А кто этот пижон во фланелях?
— Ее дружок.
— А я думал, ее дружок Джей Хармер.
— Был. Этот самый последний.
— Убийство в любовном гнездышке?
— Готов биться об заклад, что да.
— Считалось ведь, что она не особенно любвеобильна.
— Считалось. Похоже, она их всех водила за нос. Повод для убийства вполне подходящий.
Свидетельские показания носили чисто формальный характер: обнаружение трупа и детали его идентификации. Едва с этим было покончено, следователь закрыл заседание без упоминания о том, когда слушание будет продолжено. Хопкинс пришел к заключению, что смерть Клей не явилась результатом несчастного случая, и поскольку Скотланд-Ярд, как видно, не собирался пока никого арестовывать, то единственным, кого надо было срочно разговорить, был юнец во фланелевом костюме. Он выяснил, что юнца зовут Тисдейл. Барт сообщил, что накануне газетчики чуть не всей Англии уже пытались взять у него интервью (Джемми тогда еще находился в пути), но парень оказался на редкость неподатлив. Обзывал их всех жуликами, любителями падали, крысами, прочими неприятными словами менее определенного свойства и, похоже, совсем не принимал во внимание влияние прессы. В наши дни никто не может себе позволить грубить прессе, — во всяком случае, без опасений серьезно пострадать от нее. Но Хопкинс верил, что способен обвести вокруг пальца кого угодно.
— Простите, вас, случайно, не Тисдейл зовут? — невинно спросил он, как бы невзначай оказавшись рядом с юношей, когда все стали выходить из зала.
Лицо незнакомца потемнело.
— Тисдейл. Ну и что из этого? — бросил он с вызовом.
— Неужели племянник старины Тома?
— Да. А вы были знакомы с дядей Томом? — оживился Тисдейл.
— Немного, — осторожно ответил Хопкинс, немало встревоженный тем, что Том Тисдейл и вправду существовал.
— Так вам известно и о том, что я отказался от Станвея?
— Да, мне кто-то об этом сказал, — проговорил Хопкинс, теряясь в догадках по поводу того, что такое Станвей: название поместья, что ль?
— Чем вы сейчас занимаетесь? — спросил он. К тому времени, когда они добрались до выхода, Хопкинс уже болтал с Тисдейлом, словно тот был его закадычным другом.
— Подвезти вас? Давайте перекусим где-нибудь вместе, — предложил он.
Просто, как кофе!
Чепуховая задачка! Через полчаса материал для первой полосы будет у него в руках. Ай да Джеймс Брук Хопкинс — величайший газетчик всех времен и народов!
— Извините, мистер Хопкинс, — раздался у него за спиной вежливо-ироничный голос Гранта. — Мне жаль разбивать вашу компанию, но у мистера Тисдейла сейчас назначена встреча со мной. — И, заметив изумление Тисдейла и догадку, мелькнувшую в глазах Хопкинса, поспешил добавить, по-прежнему обращаясь к журналисту: — Мы надеемся на его помощь.
— Позвольте, я не понимаю… — начал было Тисдейл, но Хопкинс, сообразивший, что Тисдейл не подозревает, кто такой Грант, не скрывая своего злорадства, торжествующе провозгласил:
— Это из Скотланд-Ярда. Инспектор Грант. У него не бывает нераскрытых преступлений.
— От всей души надеюсь, что именно вам поручат писать мой некролог.
— О, и я тоже! — с жаром отозвался Хопкинс. Тут они оба обратили внимание на лицо Тисдейла.
Оно стало похоже на сухой, старый, серый пергамент и утратило всякое выражение. Только жилка, судорожно бившаяся на виске, свидетельствовала о том, что Тисдейл еще жив. Оба — и журналист и детектив — с одинаковым изумлением наблюдали за неожиданным эффектом, который произвело на Тисдейла заявление Хопкинса. Заметив, что у Тисдейла внезапно подломились колени, Грант поспешно взял его под руку:
— Пойдемте, сядете в мою машину: она у самого входа.
Он повел словно внезапно ослепшего Тисдейла сквозь шумливую толпу, вывел на улицу и усадил в машину на заднее сиденье.
— В Вестовер, — сказал он шоферу и сел рядом.
Пока они на черепашьей скорости выезжали на шоссе, Грант обернулся и увидел, что Хопкинс стоит не двигаясь на том же месте. Когда Джемми замирал на одном месте более чем на три минуты, это означало, что его мозг бешено работает. Инспектор тяжко вздохнул: он знал, что с этого момента Джемми-слепень превратился в Джемми-ищейку.
Инспектору и самому было над чем поразмыслить. Прошлым вечером ему позвонили из Кентского отделения полиции. Местное начальство было обеспокоено не на шутку. Они, естественно, не желали оказаться в глупом положении, делая из мухи слона, однако никак не могли обойти одно совсем крошечное, но абсолютно неподдающееся объяснению препятствие на пути расследования. Все они, — от старшего констебля до сержанта, который распоряжался на пляже — имели возможность его видеть собственными глазами; все судили-рядили по его поводу, выдвигая свои теории и азартно критикуя мнение оппонентов, и в конце концов сошлись лишь в одном: пусть ответственность за это дело возьмет на свои плечи какая-нибудь другая инстанция. Конечно, очень соблазнительно провести расследование своими силами, чтобы все лавры достались именно местной полиции, но это хорошо, когда есть полная уверенность, что злой умысел действительно имел место. Совсем иное дело — заявить во всеуслышание, что совершено преступление, на основании одного маленького предмета, лежавшего перед ними на столе. Допустить ошибку здесь значило не только признать свою полную некомпетентность, хуже того — вызвать всеобщее возмущение, а на это идти никто не хотел. Поэтому Грант сдал свой абонемент на ложу в Критерион-театре и приехал в Вестовер. Он тоже в свою очередь осмотрел смутившее всех вещественное доказательство, терпеливо выслушал все их соображения по этому поводу, внимательно ознакомился с заключением медицинского эксперта и заснул лишь под утро с твердым намерением подробно допросить Роберта Тисдейла. Ну вот, теперь Тисдейл молча сидел рядом с ним, все еще в полуобморочном состоянии, которое было связано с внезапным интересом к его особе со стороны Скотланд-Ярда.
Преступление налицо. Тут нет никаких сомнений. Однако допрашивать Тисдейла сейчас, в присутствии шофера, не стоило, а до Вестовера парень, быть может, немного очухается. Грант достал фляжку и протянул ее Тисдейлу. Тот взял ее дрожащими руками, отхлебнул солидную порцию виски и оправдывающимся тоном проговорил:
— Не понимаю, что на меня нашло. Все это страшно на меня подействовало. Всю ночь не сомкнул глаз. Все время думал о том, что произошло. Не то чтобы мне хотелось об этом думать — просто никак не мог забыться, и мысли невольно крутились вокруг этого. А тут еще во время слушания дела мне вдруг показалось… А может, не показалось? Может, действительно что-то нечисто. Может, и не сама она утонула, а? Почему они отложили разбирательство?
— Есть кое-какие обстоятельства, которые требуют дополнительных разъяснений.
— Что, например?
— Давайте отложим этот разговор до Вестовера.
— Все, что я скажу, может быть представлено на суде стороной обвинения? — спросил Тисдейл, стараясь казаться равнодушным.
— Точно. Как раз это я и собирался вам сказать, — небрежным тоном проговорил Грант.
Остаток пути они проехали молча.
К тому моменту, когда они вошли в кабинет старшего констебля местного отделения полиции, вид у Тисдейла был хоть и утомленный, но в общем-то вполне нормальный. Настолько нормальный, что когда Грант, обращаясь к старшему констеблю, сказал: «Это мистер Тисдейл», тот — добродушнейший человек во всем, кроме одалживания у него денег — уже готов был пожать юноше руку и опомнился в последнюю минуту.
— Добрый день, — сказал он и шумно откашлялся, чтобы скрыть минутное замешательство. Он чуть было не сделал грубейшей ошибки. Этого только не хватало: пожать руку субъекту, находящемуся здесь по подозрению в убийстве. Правда, честно говоря, на преступника он совсем не походил. Вовсе нет. Хотя в наши дни по внешности судить трудно. Самые симпатичные люди вдруг оказывались с такими пороками, о которых он до недавнего времени и представления не имел. Прискорбно все это, очень прискорбно. Да, но здороваться за руку с подозреваемым?! Нет, определенно не стоит. «Гм… Кхе-кхе. Прекрасное утро! Правда, для скачек плохо. Тяжко при такой-то жаре. Зато хорошо для отпускников. Нельзя думать только о собственных удовольствиях. Вы любите скачки? Наверное, ездите в Гудвуд. Ну ладно. Пожалуй, наш друг предпочтет побеседовать с вами без помех».
Было как-то неудобно подчеркивать официальный статус Гранта. Приятный человек, этот Грант. Сразу видно, хорошо воспитан и вообще…
— Так я пошел перекусить. В «Корабль». — Это к сведению Гранта, в случае надобности. — Кормят там средне, но в остальном — вполне приличное заведение, и обслуживают хорошо. Не то что в новомодных ресторанах на воде. Ради бифштекса с картошкой в «Корабле» не нужно идти через всю палубу, где загорают голышом.
Старший констебль наконец отбыл.
— Такой персонаж только Фредди Ллойду бы сыграть! — с иронией заметил Тисдейл.
— Вы что же, театральный завсегдатай?
— Был, и не только театральным, я был завсегдатаем всех развлекательных мест.
Слух Гранта сразу уловил некую примечательную особенность в построении фразы.
— Почему «был»? — спросил он.
— Потому что теперь я разорился. Развлечения требуют денег.
— Вы, надеюсь, еще не забыли известную формулу, о которой сами недавно упомянули: «Все, что вы скажете, может быть использовано в суде…» и так далее?
— Нет, но все равно спасибо, что напомнили. Хотя это ничего не меняет. Я вам говорю то, что есть на самом деле. Если вы сделаете из сказанного мною неправильные выводы, это ваша вина, а не моя.
— Ага, выходит, вы меня проверяете, а не я вас. Ловко это у вас получилось. Отдаю вам должное. Ладно, давайте испытывайте меня. Поглядим, что у нас с вами выйдет. Я хочу знать, как могло получиться, что вы жили под одной крышей с женщиной и даже не знали ее полного имени. Вы ведь так сказали сержанту, верно?
— Да. Знаю, это выглядит неправдоподобно. К тому же довольно глупо. На самом деле все очень просто. Понимаете, однажды вечером я стоял на тротуаре возле кинотеатра Гейсти; было уже очень поздно, и я раздумывал, как мне быть дальше. В кармане у меня оказался один пятипенсовик, но это было ровно на пять пенсов больше, чем нужно. Потому что я твердо решил остаться совсем без гроша. Так вот я и размышлял, то ли мне срочно истратить пять пенсов, хотя непонятно, на что я мог их истратить, то ли сжульничать и притвориться, что у меня их как бы и нет. И вот…
— Минуточку. Может, я слишком непонятлив, но объясните, пожалуйста, почему эти пять пенсов имели для вас такое значение?
— Потому что это было все, что осталось от моего состояния, вот почему. Тридцать тысяч. Они мне достались от дяди, маминого брата. Моя фамилия Станвей, но дядя Том поставил условие: я получу наследство, если возьму его фамилию. Я ничего не имел против. Тем более что Тисдейлы гораздо лучше Станвеев: все они люди положительные и умеренные. Будь я настоящим Тисдейлом, то наверняка не стал бы банкротом, но я почти целиком Станвей. Я повел себя как круглый идиот, я просто живая иллюстрация к назидательному рассказу о транжире и шалопае. До того как мне досталось наследство, я работал в конструкторском бюро, жил в меблированных комнатах и еле сводил концы с концами. Сумма показалась мне грандиозной, я решил, что мне не истратить ее за всю жизнь. Я бросил работу и отправился путешествовать по местам, о которых всегда мечтал и которые никогда не надеялся увидеть: в Нью-Йорк и Голливуд, Будапешт, Рим, на Капри и еще бог знает куда. Когда я вернулся в Лондон, у меня оставалось еще около двух тысяч; я намеревался положить их в банк и устроиться на работу. Два года назад мне это было бы нетрудно сделать, я имею в виду — отложить деньги. Тогда у меня не было знакомых, которые помогали бы мне их тратить. Но за два года я обзавелся кучей приятелей во всех концах света: в одном только Лондоне к моему возвращению их объявилось не менее дюжины. Потому и вышло так, что однажды утром я проснулся и обнаружил, что у меня осталась последняя сотня. Это меня несколько отрезвило — как ушат холодной воды. Впервые за два года я сел и задумался. У меня было две возможности. Первая — стать губкой; если ты опытная губка, то по полгода можно жить за счет друзей в шикарных отелях столиц всего мира. Мне ли этого не знать — сколько таких губок я сам питал в течение двух лет! Вторая возможность — покинуть высший свет, исчезнуть. Второй вариант показался мне менее хлопотным. Я мог просто исчезнуть. Люди бы это приняли как само собой разумеющееся: раз меня нет в Лондоне, значит, я где-нибудь на другом конце света — в одном из тех злачных мест, куда обычно ездят богатые бездельники вроде них. Понимаете, ведь все считали меня сказочно богатым, и исчезнуть, чтобы оставить их в этом приятном заблуждении, казалось значительно проще, чем остаться и сделаться предметом их насмешек, когда откроется правда.
Я расплатился по счетам, и у меня осталось пятьдесят семь фунтов. Тогда я решил поставить на последнюю карту — и, если повезет, начать новую жизнь. Само по себе это было мудрое решение, вполне достойное Тисдейлов. Ну я и поставил на Краснопегого на скачках, а он взял да и пришел пятым. На двадцать с небольшим фунтов в кармане никакого дела не начнешь, кроме одного — стать разъезжим продавцом с собственной тележкой. Пришлось бы, конечно, вести кочевую жизнь. Это меня не особенно пугало — как-никак, перемена обстановки. Но оказалось, что с двадцатью семью фунтами нечего было думать даже об этом, поэтому я решил устроить себе последний шикарный вечер и продуть все до последнего пенса. Я решил, что потом заложу свой вечерний костюм и с этими деньгами пущусь в дорогу — куда глаза глядят. Я не рассчитал только одного — в полночь на Вест-Энде никто у тебя в залог ничего не возьмет, а показаться на дороге во фраке и вечерних лакированных туфлях будет, мягко говоря, странновато.
Ну вот, как я уже сказал, я стоял там в досаде на завалявшийся пятипенсовик и раздумывал, что мне предпринять по поводу подходящей одежды и ночлега. Я находился как раз под светофором возле «Олдвика», знаете, как раз перед поворотом к Ланкастеру. В это время загорелся красный свет, и рядом со мной притормозила машина. В ней сидела Крис. Она была одна.
— Крис?
— Разумеется, тогда я еще не знал, что ее так зовут. Она мельком взглянула на меня. Улица была абсолютно пустынной. Только я и она — больше никого. Я оказался совсем рядом с дверцей машины и ничуть не удивился, как будто это было вполне естественно, когда она улыбнулась и спросила: «Вас куда-нибудь подвезти, мистер?» И я ответил: «Да, на край света», а она ответила: «Это мне не совсем по дороге. Чэттэм, Февершам, Кентербери и куда-нибудь к восточному побережью вас устроит?» Что ж, это тоже был выход: не мог же я стоять там всю ночь, а выдумать сколько-нибудь правдоподобную историю, чтобы напроситься на ночлег к одному из приятелей, я был не в состоянии. К тому же весь тот мир мне уже стал казаться чуждым. Она была очень приветлива со мной. Я не рассказал ей всего, что сказал сейчас вам, но вскоре она поняла, что я остался без гроша. Я пустился было в объяснения, но она сказала: «Хватит, я ничего не хочу знать. Давайте примем друг друга такими, как есть. Вы — Робин, я — Крис, и все». До этого я представился, как Роберт Станвей, она, сама о том не подозревая, вдруг назвала меня так, как меня все звали в детстве, — Робин. Мои приятели звали меня Бобби. Мне было ужасно приятно, что кто-то снова назвал меня Робином.
— Почему же вы назвались Станвеем?
— Сам не знаю. Вероятно, хотелось отмежеваться от фамилии, с которой было связано мое злосчастное наследство. В любом случае этой фамилии я славы не прибавил. И в душе я всегда оставался Станвеем.
— Продолжайте.
— Продолжать-то больше почти нечего. Она предложила пожить у нее. Сказала, что живет одна, но… но что я буду гостем, не более того. Я спросил, не боится ли она рисковать, приглашая в дом человека с улицы, а она ответила: «Я всю жизнь только и делала, что рисковала, и мне всегда везло».
Я не очень-то верил, что мы уживемся, но все обернулось прекрасно. Она оказалась права. Принять друг друга такими, как есть, — это ее решение сделало нашу жизнь и легкой и приятной. Я понимаю, это странно звучит, но у меня было такое чувство, что мы знакомы сто лет. Если бы мы стали знакомиться по всем правилам, то нам, наверное, потребовались бы недели, а может, и месяцы для того, чтобы так легко и свободно общаться. Нам было хорошо вместе. Я не имею в виду ничего интимного, хотя она была чудо как хороша. Просто я считал ее молодчиной, она была сама доброта. У меня с собой не было и пары белья. Весь следующий день я провел в купальном костюме и чьем-то халате, которые случайно оказались в коттедже. В понедельник миссис Питтс входит ко мне в комнату и говорит: «Вам чемодан, сэр!» — и бухает на пол чемодан, который я видел впервые в жизни. В нем оказалось абсолютно все: твидовый пиджак, брюки из шерстяной фланели, носки, рубашки — в общем, все, что требуется. Чемодан не новый, но на нем был ярлычок с моей фамилией. Она даже запомнила мою фамилию! Не могу передать вам, что я при этом почувствовал. Понимаете, впервые за многие годы мне кто-то что-то давал, а не брал. Последнее время меня окружали люди, которые только требовали: «Дай, дай, дай», «Бобби заплатит», «Бобби одолжит свою машину». Мной как человеком никто из них никогда и не интересовался. Они, по-моему, даже хорошенько не знали меня в лицо. Этот чемодан с одеждой меня окончательно доканал. Я был готов умереть ради нее, если бы это понадобилось. Она рассмеялась, когда увидела меня в новом облачении, — вещи, конечно, были не такие дорогие, как те, к которым я привык за последнее время, но как раз на меня и сидели хорошо… Так вот, она рассмеялась и говорит: «Это, конечно, не с Бартон-стрит, но выглядит неплохо. И ты не можешь упрекнуть меня, что я не разбираюсь в размерах!»
И мы стали проводить все время вместе — загорали, бездельничали, читали, болтали, ходили купаться, даже готовили еду в отсутствие миссис Питтс. Я перестал думать о будущем. Она предупредила, что дней через десять ей нужно будет отсюда уезжать. Из деликатности я в первый же день хотел уйти совсем, но она не позволила. А потом я больше и не пытался. Так и вышло, что я жил у нее, не зная ее полного имени.
Он с облегчением вздохнул и откинулся на стуле.
— Теперь я понимаю, что психоаналитики не зря зарабатывают большие деньги. Уже давно я не испытывал такого удовольствия, как сейчас, когда наконец рассказал вам все.
Грант невольно улыбнулся: юноша так располагал к себе своей детской наивностью! Но тут же инспектор стряхнул с себя это чувство, как вылезший из воды пес. Обаяние. Самое опасное оружие из всего арсенала человеческих средств защиты. Его действие продемонстрировали сейчас у Гранта перед самым носом. Теперь Грант уже вполне бесстрастно и пристально вглядывался в добродушное, слабовольное лицо сидевшего перед ним молодого человека. Он знавал по меньшей мере одного убийцу с точно таким же типом красоты: голубоглазый, приветливый, безобидный на вид, он бросил расчлененный труп своей возлюбленной в яму с известью. Глаза Тисдейла были особого, бледно-голубого цвета, который, по наблюдениям Гранта, присущ мужчинам, не мыслящим себя вне женского общества. Такие глаза бывают у маменькиных сынков и иногда у заядлых сердцеедов.
Ладно, историю Тисдейла он проверит потом. А пока…
— И вы думаете, я поверю, что за все четыре дня, проведенные с мисс Клей, вы так и не догадались, кто она такая? — спросил он, стараясь незаметно подвести Тисдейла к самому важному для него вопросу.
— Я подозревал, что она актриса. Отчасти по тому, — о чем она говорила, но главным образом по количеству киножурналов в доме. Однажды я спросил ее об этом, но она сказала: «Никаких имен и никаких допросов, Робин. Так будет лучше. Не забудь, о чем мы договаривались».
— Понятно. Среди одежды, которую купила для вас мисс Клей, был плащ?
— Нет. Только дождевая накидка. Пальто у меня свое.
— Значит, поверх вечернего костюма на вас было пальто?
— Да. Когда мы отправились обедать, моросил дождь. Мы — я имею в виду всю компанию.
— Оно и сейчас у вас?
— Нет. Его украли из машины, когда мы ездили осматривать Димчарч. — В глазах Тисдейла вдруг появилось беспокойство. — А что? Какое отношение имеет ко всему этому пальто?
— Вы заявили о краже?
— Нет. Ни она, ни я не хотели привлекать к себе лишнего внимания. Но что…
— Расскажите мне, пожалуйста, поподробнее про утро четверга.
Лицо человека, сидевшего напротив Гранта, стало меняться на глазах: из беззаботного оно снова сделалось напряженным, даже враждебным.
— Как я понял, вы не отправились купаться вместе с мисс Клей, так?
— Так. Но я проснулся сразу же после того, как она уехала…
— Откуда вы знали, когда именно она уехала, если спали?
— Потому что было только шесть утра. Она не могла уехать намного раньше, и миссис Питтс потом подтвердила, что я вышел из дому буквально за ней следом.
— Так. И, грубо говоря, за те полтора часа, что прошли между тем, как вы встали с постели, и тем, когда увидели тело мисс Клей на берегу, вы успели дойти до Расщелины, украсть ее машину, доехать почти до Кентербери, раскаявшись в содеянном, вернуться назад и обнаружить, что она утонула. Я ничего не упустил?
— Пожалуй, ничего.
— Если вы действительно испытывали к мисс Клей, по вашим же словам, огромную благодарность, как вы объясните кражу ее машины? Это, по-моему, чудовищно.
— Не то слово! Я и теперь не могу поверить, что я действительно это сделал.
— Вы уверены, что не входили утром в воду?
— Конечно уверен, а в чем дело?
— Когда вы последний раз купались? Я имею в виду до утра четверга?
— Во вторник днем.
— Ваш купальный костюм в четверг был абсолютно мокрым.
— Откуда вы это знаете? Ну да, он был мокрый. Но не от соленой воды. Я разложил его просушить у себя под окном, а когда стал в четверг одеваться, то заметил, что птицы, которые сидели высоко на яблоне, вон той, ветви закрывают фонарь, — так вот, птицы обошлись с моим купальником довольно нагло. Поэтому я простирал его снова в той воде, в которой только что помылся.
— Вы не вывесили его сушиться опять?
— Опять туда же?! После того, что эти птицы учудили? Нет, я повесил его на сушилку для полотенец. Бога ради, инспектор, объясните же наконец, какое отношение все это имеет к смерти Крис? Неужели вы не видите, что вопросы, смысл которых мне непонятен, пытка для меня? Все это выше моих сил. Утреннее слушание было последней каплей. Один за другим они снова и снова описывали, как обнаружили тело. Тело! Какое тело, когда это Крис, Крис! А теперь вы со своими вопросами и недоверием к каждому моему слову. Даже если не все ясно с обстоятельствами ее смерти, какое отношение к этому имеет мое пальто?
— А такое, что в ее волосах запуталось вот это.
Грант открыл картонный коробок, лежавший перед ним на столе, и извлек оттуда пуговицу от мужского пальто. Она была вырвана с мясом, оборванные нитки болтались вокруг ее ушка, и в них запуталась тонкая прядка золотистых волос. Тисдейл вскочил со своего места и, опершись о стол, склонился над предметом:
— Так вы считаете, что кто-то утопил ее? Взял и просто утопил?! Но пуговица не моя. Таких пуговиц сотни и тысячи. Почему вы решили, что она моя?
— Я еще ничего не решил, мистер Тисдейл. Я просто рассматриваю разные варианты, чтобы свести их количество до минимума. От вас я хотел бы одного: чтобы вы вспомнили, на каких предметах вашей одежды могли быть такие же пуговицы. Вы сказали, что у вас было пальто, но его похитили.
Тисдейл, не мигая, уставился на инспектора, то беспомощно открывая, то вновь закрывая рот. В дверь небрежно постучали, она тут же распахнулась настежь, и посреди комнаты оказалась худенькая девочка-подросток лет шестнадцати, в потертом твидовом пиджаке, с непокрытой головой и спутанными волосами.
— Ой, извините, — проговорила сия молодая особа. — Я думала, отец у себя. Еще раз простите.
В этот момент Тисдейл без чувств грохнулся ничком об пол. Грант, сидевший по другую сторону стола, вскочил, но худенькая девчушка, без видимой спешки, оказалась возле Тисдейла раньше.
— Ай-ай-ай! — проговорила она и, обхватив безжизненное тело за плечи, ловко перевернула Тисдейла на спину. Грант взял с дивана подушку, чтобы подложить ему под голову.
— А вот этого не надо, — сказала она. — Голова в таких случаях должна лежать ровно, если только это не апоплексический удар, а апоплексии у таких молодых не бывает.
Произнося это, она расстегивала ему воротничок и развязывала галстук с проворством стряпухи, обравнивающей сладкий пирог. Грант заметил, что ее загорелые худенькие запястья покрыты царапинами разной стадии заживления и что рукава ее ковбойки для нее слишком коротки.
— Кажется, бренди вон в том шкафу. Отцу пить нельзя, но он все равно не слушается.
Грант действительно обнаружил бренди в указанном месте, а когда вернулся к Тисдейлу, то увидел, что она легонько, но настойчиво похлопывает еще не пришедшего в сознание юношу по щекам.
— Вы, я смотрю, прекрасно знаете, что надо делать в таких случаях.
— Еще бы, я руковожу школьным кружком гидов-инструкторов.
Манера общения у нее была лаконичная, но вполне дружелюбная.
— Оч-чень глупая организация, но по крайней мере вносит в жизнь хоть какое-то разнообразие. А разнообразие — это самое главное в жизни.
— Так всему этому вас научили в кружке гидов?
— Да нет, что вы. Там они в таких случаях дают понюхать горелую бумагу или ароматические соли. А этому я выучилась в раздевалке.
— Где?!
— В раздевалке, в клубе спортивной борьбы. Я всегда болела за Пете, но в последнее время у него пропала быстрота, реакция стала замедленной. Во всяком случае, надеюсь, что с ним ничего плохого не приключилось, только это. Сейчас очнется. — Последнее ее замечание относилось к Тисдейлу. — Теперь, пожалуй, ему можно дать бренди.
Пока Грант вливал алкоголь в горло Тисдейла, она спросила:
— Вы что же, допрашивали его с применением силы? Вы полицейский, да?
— Послушайте, милая барышня, простите, не знаю вашего имени…
— Эрика. Эрика Баргойн.
— Так вот, дорогая мисс Баргойн, как дочери старшего констебля, вам должно быть известно лучше других, что от применения силы в нашей стране больше всего страдает в первую очередь сама полиция.
— Тогда отчего он потерял сознание? Он что, преступник?
— Я не знаю, — вырвалось у Гранта.
— Едва ли, — сказала она, окидывая закашлявшегося Тисдейла задумчивым взглядом. — Навряд ли он годится на что-нибудь путное.
Она произнесла это все тем же тоном стороннего наблюдателя, видавшего и не такое.
— Не поддавайтесь внешнему впечатлению, оно бывает обманчиво, мисс Баргойн.
— А я и не поддаюсь. То есть не в том смысле, о чем вы подумали. Он не в моем вкусе. По внешнему виду тоже можно многое сказать, надо только разбираться, что к чему. Вы же не станете, например, покупать хорошенького жеребца, если у него глаза близко посажены?
Грант вынужден был признаться себе, что это самая удивительная беседа из всех, которые ему когда-либо приходилось вести. Девушка стояла перед ним засунув руки в карманы пиджака, которые от долгого употребления совсем отвисли. Рукава были обтрепаны, а из самого пиджака в местах, где его зацепили шипы ежевики, торчали нитки. Из юбки она давно выросла, и один чулок на тонкой, как спичка, ноге был весь перекручен. Лишь по ее ботинкам, расцарапанным, как и руки, но прочным, на толстой подошве и явно дорогим, можно было догадаться, что она не из сиротского приюта. Но затем Грант перевел взгляд на ее лицо. Оно явно свидетельствовало о том же. Спокойная независимость бледненького треугольного личика не могла явиться следствием воспитания на деньги добровольных пожертвователей.
— Так-то лучше! — ободряюще сказала она, обращаясь к Тисдейлу, пока Грант помогал ему подняться и подводил к стулу.
— Сейчас вам станет совсем хорошо. Хлебните-ка еще немного бренди. Лучше выпейте его вы, чем отец, он все равно изведет все виски как бы на растирания. Я пошла. Вы не знаете, где отец? — обратилась она к Гранту.
— Пошел перекусить в «Корабль».
— Спасибо, — и, обращаясь к еще не вполне очнувшемуся Тисдейлу, добавила: — У вас воротник слишком тесный.
Когда Грант уже собирался распахнуть перед нею дверь, она проговорила:
— Кстати, вы так и не сказали, как вас зовут.
— Грант. Всегда к вашим услугам. — И он отвесил ей легкий поклон.
— Пока я в них не нуждаюсь, но, может, когда и воспользуюсь.
Она задержала на Гранте внимательный взгляд. Грант поймал себя на мысли, что ему ужасно не хочется, чтобы она и его причислила к категории «хорошеньких жеребчиков».
— Вот вы в моем вкусе, — услышал он. — Мне нравится, когда у мужчин широкие скулы. До свидания, мистер Грант.
— Кто это? — спросил Тисдейл слабым, безучастным голосом.
— Дочка полковника Баргойна.
— Она права насчет моего воротничка.
— Это что, один из подаренных?
— Да. Вы меня арестуете?
— Нет, с чего вы взяли?
— Это было бы не так уж и плохо.
— Да ну? Отчего же?
— Сам собою решился бы вопрос, куда мне деваться. Из коттеджа я утром ушел. И теперь без крыши над головой.
— Вы серьезно решили начать бродячую жизнь?
— Конечно. Вот только обзаведусь подходящей экипировкой.
— Мне бы хотелось, чтобы вы задержались на какое-то время. Вдруг мне понадобится от вас дополнительная информация.
— Понимаю. Но куда мне деться?
— А что если вам вернуться опять в конструкторское бюро? Почему не попытаться найти работу?
— Никогда больше туда не вернусь. Только не в бюро. Меня туда сунули потому, что я умею чертить.
— Следует ли понимать вас так, что вы считаете себя неспособным заработать на кусок хлеба?
— А вы язва! Нет, от работы я не отказываюсь. Вопрос только в том, на что я гожусь.
— За те два года, пока вы болтались в высшем свете, должны же вы были ну чему-то научиться, ну машину водить, что ли.
В это время почтительно постучали и в дверь просунулась голова сержанта.
— Извиняюсь, что потревожил вас, сэр, но мне нужно кое-что проверить по картотеке шефа. Срочно.
Получив разрешение, он вошел в кабинет.
— В этот сезон у нас на побережье весело. Прямо как на континенте, — заметил он, просматривая картотеку. — Ага, вот он, шеф-повар в «Моряке». Это за городом, значит, в нашем округе. Так вот, шеф-повар в «Моряке» пырнул ножом официанта за то, что у него перхоть. У официанта то есть. Теперь шеф-повар на пути к тюрьме, а официант — к больнице. У него, кажется, задето легкое. Ну ладно, спасибо, сэр. Еще раз извините за беспокойство.
Грант посмотрел на Тисдейла. Тот с меланхолично-рассеянным видом поправлял узел галстука. Поймав взгляд Гранта, Тисдейл вначале выразил полное недоумение, но затем догадался и с живостью спросил:
— Послушайте, сержант, вы не знаете, они нашли замену официанту?
— Точно знаю, что не нашли. Менеджер, мистер Тозелли, волосы на себе рвет.
— У вас ко мне больше нет вопросов? — спросил юноша Гранта.
— На сегодня все. Желаю удачи, — отозвался Грант.
5
— Нет, еще никого не арестовали, — сообщил Грант по телефону начальнику криминального отдела Скотланд-Ярда, Баркеру. Разговор происходил ранним вечером. — Однако в том, что это убийство, у меня никаких сомнений нет. Медицинский эксперт тоже в этом убежден. Пуговица в волосах, конечно, могла оказаться случайностью, хотя если бы вы сами ее видели, то тоже пришли бы к заключению, что это не случайность; но, помимо этого, у нее все ногти обломаны, будто она за что-то цеплялась. Все, что удалось обнаружить под ногтями, сейчас на анализе, но там задержалось не много — после целого часа в морской воде, сами понимаете.
Что?.. Видите ли, все сходится на одном человеке, но странным образом одни улики исключают другие. Думаю, разобраться будет сложно. Я оставляю здесь пока Вильямса, для того чтобы он занялся выяснением и уточнением обычных деталей, а сам хочу сегодня вечером вернуться в город. Надо увидеться с Эрскином, ее поверенным. Он приехал к самому началу слушания, а я потом провозился с Тисдейлом и упустил его. Будьте добры, узнайте, когда он сегодня попозднее сможет уделить мне время. Похороны состоятся в понедельник на кладбище Голдерс-Грин… Да, будут кремировать. Пожалуй, я тоже туда заеду. Хочу взглянуть на ее друзей-приятелей… Да, может, пойду пропустить стаканчик, но это будет зависеть от того, когда я освобожусь… Спасибо.
Грант повесил трубку и присоединился к Вильямсу. Тот решил попить чайку: для обеда было еще слишком рано, а Вильямс обожал яйца с беконом и большим количеством жареного хлеба.
— Сегодня воскресенье, так что наши расследования насчет пуговицы могут несколько притормозиться, — заметил Грант, устраиваясь рядом. — Ну а что говорит миссис Питтс?
— Говорит, что не знает, было на нем пальто или нет. Она только видела его макушку поверх живой изгороди, когда он проходил мимо ее дома. Правда, было на нем пальто надето в то утро или нет, в сущности, не важно, потому что, по словам миссис Питтс, оно, как и пальто мисс Клей, обычно лежало за сиденьем в машине. Миссис Питтс не помнит, когда она видела это пальто в последний раз. Он часто его надевал — и по утрам, и по вечерам. Она говорит, что он вообще был «зяблик». Считала, это оттого, что он долго прожил в теплых краях. Вообще, она о нем невысокого мнения.
— Считает его негодяем?
— Да нет. Просто никчемным парнем. Сдается мне, сэр, что совершил это дело очень умный человек.
— Почему вы так решили?
— Не объявись эта пуговица, никто ничего и не заподозрил бы. Сочли бы, что она утонула. Было известно, что она каждое утро ходит купаться, так что ничего необычного в ее смерти не было бы. Ни следов чужих на берегу, ни оружия, никаких внешних признаков насильственной смерти. Все очень аккуратно исполнено.
— Да, действительно, аккуратно.
— Не слышу в вашем голосе особого восторга, сэр.
— Меня смущает это чертово пальто. Если бы вы собирались утопить женщину в море, неужели вы бы надели плащ или пальто?
— Не знаю. В зависимости от того, какой способ я захотел бы избрать.
— Ну и какой же способ вы бы предпочли?
— Поплыл бы вместе с ней, а потом пригнул бы ей голову и подержал под водой.
— Тогда наверняка у вас все руки окажутся расцарапанными. Уже улика.
— У меня бы никаких царапин не нашли. Я бы схватил ее за щиколотки, пока мелко, а потом, где поглубже, просто перевернул бы ее вверх тормашками и держал так, пока не утонет.
— Ну и Вильямс! Ну и злодей!
— А как бы вы это сделали, сэр?
— Идея с водной акробатикой меня не прельщает. А вдруг я вообще не умею плавать или боюсь холодной воды? Или, предположим, мне надо как можно быстрее исчезнуть, а тут пока еще выберешься из воды, пока оденешься… Нет, я бы взобрался на скалу где-нибудь на глубоком месте, окликнул бы ее, а когда она подплыла, схватил бы за голову и держал под водой. Таким образом, она бы могла мне только руки расцарапать, но, чтобы избежать этого, я бы надел кожаные перчатки. Через несколько секунд она бы потеряла сознание — и все было бы кончено.
— Великолепно, сэр, только такой метод на мили от Гейна нигде нельзя применить.
— Почему это?
— Утесов нет.
— Ага, правильно. Молодец. Но можно найти им замену: каменные гряды, которые уходят далеко в море.
— Точно! Вы думаете, так оно все и случилось, сэр?
— Как знать? Пока это всего лишь теория. Но пальто все-таки меня сбивает с толку.
— Не вижу на это причины, сэр. Утро было туманное, и в шесть утра еще довольно прохладно. Любой мог быть в пальто.
— Возмо-о-жно, — протянул Грант и решил пока больше не думать про пальто. (Это был один из тех случаев, когда маленькая деталь не укладывалась в привычное логическое построение: частенько именно внимание к таким алогичным деталям обеспечивало Гранту успех в решении сложного дела.)
Грант стал давать Вильямсу указания по поводу того, чемему заниматься, пока он сам будет в городе. Под конец он сказал:
— Я только что снова виделся с Тисдейлом. Он получил место официанта в «Моряке». Не думаю, что он пустится в бега, но для верности приставьте к нему человека. Полагаю, Сангер с этим справится. Вот предполагаемый маршрут, по которому проехал Тисдейл, когда угнал машину. — С этими словами он передал Вильямсу лист бумаги и добавил: — Перепроверьте его. Может быть, несмотря на ранний час, кто-нибудь запомнил его или машину. Главное, узнайте: был ли он в пальто. Мое мнение таково, что он действительно угонял машину. Но не по тем причинам, которые назвал.
— Когда я прочел его показания, то решил, что он дал очень неправдоподобное объяснение. Неужели ничего лучше не смог выдумать? Как вы считаете, сэр, почему он это сделал?
— Когда он ее утопил, то, вероятно, первой его мыслью было поскорее убраться отсюда подальше. С машиной он смог бы очутиться на другом конце Англии или даже за границей прежде, чем был бы обнаружен труп. Но потом что-то его остановило: он понял, что делает великую глупость. Может спохватился, что на обшлаге не хватает пуговицы. Во всяком случае, до него дошло, что самое безопасное для него — оставаться на месте и делать невинный вид. Он избавился каким-то манером от обличающего его пальто — даже если он и не заметил отсутствия пуговицы, рукава пальто должны были быть по локоть мокрые, — повернул назад, поставил на место машину, обнаружил, что благодаря приливу тело уже нашли, и прекрасно разыграл на пляже сцену шока. Ему даже не очень-то пришлось и притворяться: одной мысли о том, что он чуть не свалял дурака, наверное, оказалось вполне достаточно, чтобы впасть в истерику.
— Так вы считаете, это все-таки он?
— Не знаю. Мне кажется, у него не было мотива. Он остался без гроша, а она была женщиной щедрой. У него были все основания желать ей долгой жизни. Он, конечно, был ею увлечен. Он утверждает, что не был в нее влюблен, но на его слова мы полагаться не можем. Хотя думаю, он не соврал, когда сказал, что между ними ничего не было. Он мог быть на нее зол за это, но мне кажется, он скорее всего просто накинулся бы на нее с кулаками. А убийство, и это самое отвратительное, Вильямс, совершено с холодным расчетом.
— Вы совершенно правы, сэр. У меня прямо все внутри переворачивается, — сказал Вильямс, любовно подцепляя вилкой кусок отменного вилтширского сыра и отправляя его в рот.
Глядя на него, Грант невольно улыбнулся. Ради этой улыбки его подчиненные готовы были за него в огонь и в воду. Он и Вильямс, часто работали в паре, и всегда к обоюдному удовольствию и в полном согласии. Главным образом, вероятно, оттого, что Вильямс, дай ему Бог здоровья, никогда не помышлял о карьере. В глубине души он был в гораздо большей степени добрым супругом своей хорошенькой преданной женушки, чем честолюбивым сержантом криминальной полиции.
— Жаль, что я не успел перехватить ее поверенного после слушания. Мне многое надо у него выяснить, а теперь одному Богу известно, где он будет проводить уик-энд. Я запросил в Ярде досье на нее, но поверенный наверняка сможет мне рассказать гораздо больше. Надо выяснить, кому она завещала деньги. Для Тисдейла ее смерть — катастрофа, но, возможно, для многих — это подарок судьбы. Поскольку она американка, то, вероятнее всего, ее завещание где-нибудь в Штатах. К моему приезду в Ярде уже будут все нужные сведения.
— Кристина Клей никакая не американка, сэр! — воскликнул Вильямс таким тоном, будто его безмерно удивила неосведомленность Гранта.
— Да? А откуда она?
— Уроженка Ноттингема.
— Но все говорят о ней как об американке.
— Факт есть факт. Родилась в Ноттингеме и школу там окончила. Говорят, потом работала на кружевной фабрике, хотя тут за правду не поручусь.
— Я и забыл, что вы киношный фан. Давайте выкладывайте, что вам еще о ней известно.
— Как вам сказать, я знаю только то, что вычитал в таких журналах, как «Мир кино», «Фото» и прочих. Они, конечно, печатают массу всякой чепухи; с другой стороны, часто публикуют самые интимные факты — только чтобы привлечь читателей. Она не любила давать интервью. Каждый раз излагала события своей жизни по-новому. А когда ей на это указывали, говорила: «Ну, прошлый рассказ у меня вышел очень скучный! Я придумала поинтереснее». Каждый раз не знали, чего от нее ждать. Все объясняли ее темпераментом.
— А вы бы это иначе объяснили? — живо спросил Грант, чей слух всегда чутко схватывал любую еле заметную интонацию.
— Пожалуй, да, иначе. Мне всегда представлялось, что это ее средство самозащиты. Понимаете, люди ведь только в том случае могут причинить вам боль, если они хорошо знают ваши слабые места. А коли они не знают, кто вы есть на самом деле, то вы сами можете ими вертеть как вздумается, а не они вами.
— Бывшая работница кружевной фабрики, которая сумела пробиться в кинозвезды, вряд ли могла остаться легкоранимой.
— Как раз потому она и была такой, как там вы ее сейчас назвали, что вышла из работниц. Ее карьера была головокружительной: каждые полгода она оказывалась уже в ином, новом для нее мире. А это требует железной выдержки. Это все равно как ныряльщик, когда он стремительно поднимается из глубины на поверхность: приходится все время приспосабливаться к меняющемуся давлению. Нет, я думаю, ей необходима была раковина, куда она могла спрятаться, — и пусть все теряются в догадках, где она на самом деле.
— Оказывается, вы были ее фаном, Вильямс?
— Точно, был, — коротко ответил Вильямс, и его розовые щеки еще чуть-чуть порозовели. Он в сердцах шлепнул джем на огромный кусок хлеба. — И я не успокоюсь, пока не защелкну браслетки на руках парня, который это сделал.
— У вас есть соображения, кто это мог быть?
— Вы, конечно, можете на меня обижаться, сэр, но, по-моему, вы упускаете из виду человека, у которого явно был мотив.
— Кого это?
— Джасона Хармера. Чего он тут вынюхивал с утра пораньше?
— Приехал из Сэндвича. Там ночевал на постоялом дворе.
— Это он так говорит. Местная полиция это проверяла?
Грант сверился со своими записями:
— Вроде бы нет. Он давал показания до того, как нашли пуговицу, тогда еще никто ни о чем не подозревал. А потом все сосредоточились на Тисдейле.
— Мотив у Хармера достаточно серьезный. Клей его бросает, и он застает ее в коттедже с мужчиной.
— Да, ничего не скажешь, весьма правдоподобно. Тогда добавьте к своему, списку дел еще и перепроверку Хармера. Узнайте, что у него с собой из одежды.
СОС по поводу брошенного пальто уже разослан. Надеюсь, он даст какие-то результаты. Пальто — это все-таки более солидная улика, чем пуговица. Кстати, Тисдейл утверждает, что весь гардероб, кроме вечернего костюма, продал старьевщику с подходящей фамилией Тогер — в тогу облаченный, но он не знает, где его основная база. Это не тот ли, что располагался на Кровен-роуд?
— Тот самый.
— А где он теперь?
— В Вестбурн-Гроув, на самой окраине.
— Спасибо. Не сомневаюсь, что Тисдейл тут не соврал. Но есть вероятность, что такого же типа пуговицы и на другом его пальто. Это может тоже нам что-нибудь прояснить. Ну ладно, принимайтесь за работу, — заключил Грант, решительно вставая. — Хотя работа пока что идет вхолостую — как на кирпичном заводе: печь для обжига есть, а глины на кирпичи нет.
Он вынул из кармана «Страж» — так назывался дневной выпуск «Кларион» — и положил его рядом с тарелкой Вильямса. Набранный крупными буквами на первой странице заголовок гласил:
«Была ли смерть Кристины Клей несчастным случаем?»
— Опять этот Джемми Хопкинс! — с отвращением воскликнул Вильямс и досадливо бросил в крепкий чай кусок сахара.
6
Марта Халлард, как и полагалось ведущей актрисе, известной почти столь же широко, как собор Святого Джеймса или Хаймаркет, занимала апартаменты в доме, где лестницы были устланы ковровыми дорожками и в коридорах царила торжественная тишина. Устало поднимаясь по лестнице, Грант по достоинству оценил мягкий ковер под ногами, мельком подумав о том, каких трудов стоит пылесосить его каждый день. Он еще только входил с улицы через вертящуюся дверь, когда бледно-розовый лифт бесшумно заскользил вверх, поэтому, не дожидаясь его возвращения, Грант стал подниматься на второй этаж пешком. Консьержка сказала, что Марта у себя, около одиннадцати она приехала из театра и с нею еще несколько человек. Грант пожалел, что она не одна, но был полон решимости до исхода дня все-таки составить хоть какое-то представление о Кристине Клей и о тех, кто ее окружал. Баркеру не удалось назначить для него встречу с адвокатом. Его слуга сказал, что хозяин, в шоке от происшедшего, удалился в деревню, не оставив адреса, и не вернется раньше понедельника. (Вам попадался хоть когда-нибудь адвокат, подверженный шокам? — заметил по этому поводу Баркер.) Так что с содержанием завещания, которое больше всего интересовало Гранта, придется ждать до понедельника. В Скотланд-Ярде он прочел ее досье — пока что неполное, а только то, что им удалось собрать за последние двенадцать часов, — всего пять страниц, и в нем только два обстоятельства привлекли внимание Гранта. Ее настоящее имя было Кристина Готобед. И у нее не было любовников. Во всяком случае официально. Даже в те решающие годы, когда незаметный бродвейский цветочек вдруг пышно расцвел и превратился в эстрадную певицу — звезду первой величины, у нее не было покровителя. Не было и позже, когда от музыкальных комедий она перешла к драме. Казалось, она взлетела к звездам только за счет собственных талантов. Это могло означать одно из двух: либо она до своего замужества в двадцать шесть лет оставалась девицей (что Грант, знакомый с жизнью не по учебникам психологии, считал вполне вероятным), либо она дарила свои ласки, лишь подчиняясь велению сердца (или капризу — все зависит от того, кто это говорит, романтик или циник). Четыре года назад лорд Эдуард Чампни (известный публике как Чинс), пятый сын старого Бада, встретился с ней в Голливуде, а через месяц они поженились. В то время шли съемки ее первого серьезного фильма, и, по общему мнению, «замужество пошло на пользу ее карьере». Два года спустя лорда Эдуарда знали уже только как «мужа Кристины Клей». Говорили, что он воспринял это совершенно спокойно. И брак оказался прочным. Судя по всему, они относились друг к другу дружески и со взаимным уважением. Вероятно, этому способствовала профессия Кристины, требовавшая от нее немало времени и сил; с другой стороны, основной интерес в жизни сэра Эдуарда (помимо Кристины) составляло посещение далеких стран, населенных дикими племенами, и их последующее описание. Пока он готовил очередную книгу, они с Кристиной жили более или менее под одной крышей и явно были довольны обществом друг друга.
То обстоятельство, что сэр Эдуард хоть и был пятым сыном, тем не менее обладал огромным состоянием, доставшимся ему от брата его матери («кожаного короля» Бремера), видимо, спасало брак от наиболее обычных в таких случаях опасностей. Гармонию довершало искреннее восхищение сэра Эдуарда своей талантливой женой.
Каким образом можно было согласовать все эти сведения из досье с убийством? — снова и снова спрашивал себя Грант, поднимаясь по ступеням. Хармер? Да, он был с ней рядом все три месяца, пока она снималась в Англии. Да, у них были общие интересы (продюсеры по-прежнему стремились, чтобы по сценарию Кристина пела: публика считала себя обманутой, если Кристина в фильме не пела), и мир праздных господ не сомневался в их интимных отношениях, что бы там ни утверждали их товарищи по ремеслу. Может, Тисдейл? Истеричный юнец, которого она подобрала, поддавшись порыву великодушия или минутной прихоти в момент, когда у нее было бесшабашное настроение и она сама не знала, чего хочет? Ладно, с Тисдейлом он как-нибудь разберется сам. Тем временем надо выяснить, какую роль в ее жизни играл Хармер.
Он поднялся до площадки второго этажа, когда услышал, как негромко щелкнула дверь лифта, и, повернув за угол, столкнулся нос к носу с Джемми Хопкинсом, как раз отнимавшим руку от кнопки звонка.
— Так, так! — заметил Джемми. — Да тут, оказывается, собирается теплая компания!
— Надеюсь, у вас есть приглашение?
— А я надеюсь, у вас есть ордер на обыск? В наши дни, завидев полицейского на пороге, люди тут же вызывают адвоката. Послушайте, инспектор, — торопливо добавил он уже совсем другим тоном, — давайте не будем мешать друг другу. Нам обоим пришла в голову одна и та же идея — поговорить с Мартой. Соединим усилия и сравним результаты. Не обязательно толкаться локтями.
Из чего Грант заключил, что Джемми далеко не уверен в радушном приеме. Он прошел вслед за Грантом в небольшой холл молча, не называя своего имени, и Грант, хоть и восхитился изворотливостью Джемми, решил не брать под свою защиту обнахалившуюся прессу.
— Этот джентльмен, насколько я знаю, из «Кларион», — сказал он горничной, уже повернувшейся, чтобы доложить об их приходе.
— Вот оно что! — воскликнула та, поглядывая на Хопкинса без большого энтузиазма. — Мисс Халлард всегда к вечеру чувствует себя очень утомленной, и, потом, сейчас она занята, у нее друзья.
Но Хопкинсу на этот раз сопутствовала удача, и его все-таки не изгнали. Двойные двери, ведущие во внутренние комнаты, распахнулись, и оттуда донесся громкий, возбужденный голос:
— Мистер Хопкинс! Как мило! Наконец-то вы нам сами расскажете, о чем там трезвонят сегодняшние дневные выпуски! Я и не подозревала, что ты знакома с мистером Хопкинсом, дорогая Марта!
— Кто бы мог подумать, что придет такой час, когда я буду рад услышать этот голос, — пробормотал Хопкинс, делая шаг навстречу говорившей, в то время как Грант повернулся к входящей в комнату хозяйке. Она приветствовала его улыбкой:
— Алан Грант! Деловой визит или просто решили навестить меня?
— И то и другое. Окажите мне услугу: не объявляйте этим людям, кто я на самом деле. Ведите себя так, словно меня нет. Если сможете, избавьтесь от них поскорее. Я хотел бы поговорить с вами один на один.
— Для вас я готова сделать что угодно. Я вспоминаю о вас всякий раз, как надеваю свой жемчуг.
Грант, разумеется, не дарил ей жемчужного колье, он просто сумел отыскать его, когда оно было украдено.
— Входите же, я вас представлю остальным. Это ваш приятель? Кто он?
— Он не мой приятель. Это Хопкинс из «Кларион».
— А, тогда понимаю, отчего Лидия так горячо его приветствовала. А еще говорят, что актеры гоняются за прессой!
Она повела Гранта в гостиную, по пути представляя ему своих гостей. Первым был Клемент Клементс, фотограф светской хроники. Он весь блестел и переливался: под ярко-красным фраком на нем была желтая, как масло, рубашка из мягкой ткани. Он никогда в жизни не слышал об Алане Гранте, что дал понять весьма недвусмысленно. Вторым оказался некий военный в чине капитана — явно один из многочисленных поклонников Марты. Он цепко держался за свой бокал виски с содовой, как за единственный знакомый объект на совершенно чуждой ему территории, третьей была Джуди Селлерс — светловолосая девица с угрюмым лицом; из года в год она снималась в одном и том же амплуа «туповатых блондинок», и вся ее жизнь была сплошной борьбой между аппетитом и страхом располнеть. Четвертой оказалась «та самая наперсница звезд», мисс Лидия Китс, которая из кожи вон лезла, чтобы заинтересовать своей особой Хопкинса, и была в полном восторге от его общества.
— Просто мистер Грант? — ядовито переспросил Хопкинс, услышав, как Марта представляет Гранта.
— А что, разве не так? — насторожилась Лидия. Ее глаза загорелись любопытством.
— Не так, не так! — пропел Хопкинс, но, встретив взгляд Гранта, не решился продолжать. Наживать себе врага в лице инспектора криминальной службы было более чем глупо. — Он обладатель громкого греческого титула, но стесняется об этом упоминать. Свой титул он получил за то, что выловил в одной прачечной рубашку особы королевской крови.
— Не обращайте на него внимания, мистер Грант. Он обожает слушать самого себя. Он часто брал у меня интервью, но так меня ни разу и не выслушал. Это не его вина. Едва он в первый раз переступил мой порог, как я поняла, что он родился под созвездием Рыб. А вот вы, мистер Грант, конечно, Лев. Правильно? Нет, можете мне не говорить, я и так знаю. Даже если бы я не чувствовала это здесь… — она постучала кулачком по плоской груди, — то все равно не ошиблась бы: все признаки Льва у вас налицо.
— Надеюсь, они не очень пугающие? — спросил Грант, думая только о том, как бы поскорее вырваться из когтей этой гарпии.
— Пугающие? Что вы, мистер Грант! Сразу видно, что вы ничего не понимаете в астрологии. Рожденный под знаком Льва — это король. Такие люди — баловни звезд. Им обеспечены успех и слава. Они — владыки мира.
— Когда же надо родиться, чтобы находиться под покровительством Льва?
— Между серединой июля и серединой августа. Думаю, вы родились в начале августа.
Грант полагал, что ничем не выдал своего удивления. Он действительно родился четвертого августа.
— С Лидией просто страшно иметь дело, — вмешалась Марта, передавая Гранту бокал. — Год назад она составила гороскоп для бедной Кристины Клей и предсказала ей смерть.
— И наконец-то попала в точку! — заметила девица Джуди, поглощая сэндвич за сэндвичем.
Лицо Лидии исказилось от ярости, и Марта поспешила утихомирить готовую вспыхнуть ссору.
— Это нечестно с твоей стороны, Джуди. Предсказания Лидии и до этого часто сбывались. Помнишь, она ведь предупредила Тони Пикина, что может произойти, еще до того, как он попал в автокатастрофу. Если бы он прислушался к ее словам и стал осторожнее, то не лишился бы обеих ног. И мне она сказала, чтобы я не принимала приглашения Клайнса и…
— Марта, дорогая, я не нуждаюсь в твоей защите. Тут дело не во мне. Я только читаю судьбу по звездам. А они не лгут. Чего другого и ждать от рожденной в созвездии Овна. Они обычно ни во что не верят и не способны увидеть то, что у них под самым носом.
— Приготовиться: ринг! — прошептал Джемми и щелкнул по дужке очков: «Начали!»
Но матч не состоялся: их отвлек Клементс.
— Мне хочется знать не про то, что Лидии открыли звезды, а про то, что полиция открыла в Вестовере, — проговорил он манерно.
— А я хотела бы узнать, кто ее кокнул, — подала голос Джуди, откусывая большой кусок очередного сэндвича.
— Джуди! — укоризненно воскликнула Марта.
— Да бросьте вы! Признайтесь, все мы думаем об одном и том же: перебираем возможные варианты. Лично я ставлю на Джасона. Кто принимает ставку на Джасона?
— Почему именно Джасон? — спросил Клементс.
— Потому что он один из этих пламенных иудеев, в которых бурлят страсти, и они обожают горячие ванны.
— Джасон бурлит? — запротестовала Марта. — Он поет, как веселый чайник.
Грант украдкой взглянул на нее. Значит, она готова защищать Джасона. Интересно, насколько сильно она к нему привязана.
— Джасон слишком быстро выдыхается, где уж ему бурлить.
— И в любом случае, — вставил Клементс, — те, кто предпочитает горячие ванны, не совершают убийств. Иное дело — приверженцы холодных обливаний: эти приходят в ярость по малейшему поводу. Они одержимы стремлением поскорее ощутить горячий ток крови после перенесенной мучительной процедуры.
— А я считал, что мазохисты редко бывают одновременно и садистами, — заметил Грант.
— Так или иначе, но Джасона из кандидатов в убийцы надо вычеркнуть: он мухи не обидит.
— Как бы не так! — многозначительно заметила Джуди, и все выжидающе поглядели на нее.
— Что ты хочешь этим сказать? — спросил Клементс.
— Неважно. Я за то, что это Джасон.
— Какой у него мог быть мотив?
— Полагаю, она собиралась его бросить.
— Глупости, и ты сама это знаешь, — резко сказала Марта. — Тебе прекрасно известно, что между ними ничего не было.
— Ничего такого мне не известно. Она все время держала его при себе.
— Сучка на сучку всегда лает, — проговорил Хопкинс в ухо Гранту.
— Я подозреваю, — вмешалась в разгорающийся спор Лидия, — что мистер Хопкинс осведомлен об этом деле лучше всех нас. Он был сегодня в Вестовере по заданию своей газеты.
Джемми немедленно оказался в центре внимания. Что он думает? Какими сведениями располагает полиция? Кого они подозревают? Насколько верны намеки в газетах, что она жила там не одна?
Джемми расцвел. Он долго распространялся о психологии убийц, щегольнул эрудицией по поводу преступности вообще, показал себя знатоком в области психологии; он позволил себе весьма нелестно отозваться о полиции, при этом со злорадной ухмылкой поглядывая на вынужденного молчать Гранта.
— Они арестуют парня, с которым она жила. Можете в этом не сомневаться. Тисдейл его зовут. Смазливый парнишка. В тюрьме он будет пользоваться успехом, помяните мое слово.
— Тисдейл?! — раздались возгласы. — Никогда не слышали!
Такова была реакция всех, за исключением Джуди. Ее рот слегка приоткрылся от горестного изумления, но она быстро овладела собой и плотно сомкнула губы. Лицо ее приняло опустошенное выражение. Грант с интересом и удивлением следил за этой игрой чувств.
— Я лично считаю все эти домыслы отвратительными, — с презрением произнесла Марта. — Представить, что Кристина тайно встречалась с кем-то! Это не ее стиль. Скорее… скорее я готова предположить, что убийство совершил Эдуард.
Кто-то рассмеялся.
— А почему бы и нет? — отозвалась Джуди. — Представьте, он возвращается в Англию, узнает, что жена ему неверна, и теряет от ревности голову.
— Ну да! Представьте себе Эдуарда в шесть утра на холодном пляже.
— Чампни вернулся в Англию только в среду, так что придется его исключить.
— Более бессмысленной и жестокой болтовни трудно себе представить, — сказала Марта. — Давайте поговорим о чем-нибудь другом.
— Давайте, — согласилась Джуди. — Все это абсолютно беспочвенные рассуждения. Тем более что скорее всего ты сама, Марта, ее и убила.
— Я?! — воскликнула Марта. Наступило неловкое молчание. Потом все заговорили сразу, перебивая друг друга.
— Ну конечно! — произнес Клемент. — Ты же претендовала на роль в новом фильме, которую предложили ей! Как же мы об этом забыли!
— Ну уж коли мы заговорили о мотивах, милый Клемент, то ты сам был вне себя от злости, когда она отказалась, чтобы ты ее сфотографировал. Если мне не изменяет память, Кристина сказала, что твои работы напоминают ей кашу-размазню.
— Клемент не стал бы ее топить, — подала голос Джуди. — Он бы ее отравил, как Борджиа. Нет, скорее всего это дело рук Лежена. Он боялся сниматься с ней в одном фильме. Тем более что его отец был мясником, и очень может быть, что сын унаследовал папину кровожадность. А может, это Койен? Сколько раз он готов был убить ее, пока на него никто не смотрел, во время съемок «Железной хватки»!
Про Джасона она явно забыла.
— Может, все-таки прекратите этот глупый треп? — сердито сказала Марта. — Понимаю, это шок, и дня через три вы придете в себя. Но Кристина была нашим другом; отвратительно устраивать игру из смерти человека, которого мы все любили!
— Ax-ax! — с издевкой воскликнула Джуди. Она только что осушила пятый бокал. — Плевать мы на нее хотели. И почти все рады, что она убралась с дороги.
7
Ясным прохладным утром в понедельник Грант вел машину по Вигмор-стрит. В этот ранний час улица была пустынна. Завсегдатаи Вигмор-стрит не имели привычки оставаться в городе на уик-энд. В цветочных магазинах субботние розы связывались в тугие викторианские бутоньерки, где не были заметны увядшие лепестки; в антикварных лавках сомнительного качества коврики убирались в дальний уголок — подальше от разоблачающих пронзительных лучей утреннего солнца; в крошечных кафе официанты жевали с утренним кофе вчерашние булочки и с оскорбленным достоинством обиженно взирали на тех посетителей, которые с утра требовали свежих. В магазинах готового платья продавцы торопливо пришпиливали к нераскупленному за субботу, по сниженным ценам, товару обычные ценники.
Грант направлялся к портному Тисдейла и был крайне раздосадован еще одним непредвиденным осложнением: если бы Тисдейл заказывал себе пальто у лондонского портного, то не было бы ничего проще, чем идентифицировать пуговицы, пришитые, в частности, именно к пальто Тисдейла. Это, разумеется, еще ничего не решило бы, однако значительно сузило бы круг поисков. Но пальто Тисдейла было заказано не где-нибудь, а в Лос-Анджелесе.
— То, которое у меня было до этого, оказалось слишком теплым для тамошнего климата, — объяснил Тисдейл, — поэтому я заказал новое.
Резонно, но очень хлопотно теперь для Гранта. Если бы пальто было заказано в одной из лондонских солидных фирм, можно было бы спокойно получить информацию о всех видах пуговиц, которые шли на пальто на протяжении последних пятидесяти лет, и все это без лишнего шума и услужливо — при условии, если они знали, кто ты такой. Но надеяться на то, что в Лос-Анджелесе вспомнят, какие пуговицы они пришили на такое-то пальто полгода назад?! И потом, сама пуговица нужна была здесь. Ее нельзя было послать в Лос-Анджелес. Самое большее, что можно сделать, — это запросить образцы всех пуговиц, какие у них там имеются, но и на это трудно рассчитывать.
Грант надеялся главным образом на то, что наконец объявится само пальто. Если бы это произошло и на нем действительно недоставало бы одной пуговицы, дело можно было считать раскрытым. Когда Тисдейл вел машину, он был в пальто. К чести Вильямса, тому удалось-таки это выяснить. Во вторник, вскоре после шести, машину Тисдейла видел фермер. Он сказал, что заметил машину у перекрестка на Ведмарш где-то в шесть двадцать, хотя часов у него нет. Они ему не нужны. Он и так может определить любое время в течение дня, есть солнце или нет — не важно. Он выгонял овец, и из-за них водителю пришлось сбавить газ. Он точно запомнил — водитель был молодой, в темном пальто. Опознать его он не берется, тем более под присягой, но машину опознал. Она была единственной за целое утро.
Другая находка Вильямса была скорее негативного свойства. Вильямс доложил, что Джасон Хармер не ночевал в Сэндвиче в гостинице, которую он им назвал. Более того, в Сэндвиче он вообще не появлялся.
Грант оставил нетронутым жареный бекон и почки и, не откладывая дела в долгий ящик, отправился допрашивать мистера Хармера. Грант явился к нему на квартиру, отделанную в розовых тонах, и застал его облаченным в малиновый шелковый халат, заросшего щетиной и в разгаре творческого процесса.
— Я редко встаю так рано, — заметил он, освобождая для Гранта кресло, заваленное листами нотной бумаги. — Но эта история с Крис выбила меня из колеи. Мы были добрыми друзьями, инспектор. Другим было сложно с ней, а мне — нисколько. И почему? Хотите, я вам скажу почему? Потому, что она и я чувствовали себя в этой среде неуверенно и все время опасались, как бы это кто-нибудь не заметил. Люди ведь ужасно бессердечны. Если ты выглядишь и держишь себя так, будто у тебя миллион в кармане, они будут лизать твои башмаки. Но стоит им догадаться, что ты не очень-то уверен в себе, как они накидываются на тебя, как муравьи на дохлого жука.
Я разгадал Кристину с первой встречи: я понял, что она блефует. А уж мне ли не знать, что такое блеф! В Штаты я пробился, потому что блефовал; первую свою песню я пробил тоже благодаря блефу. Издатели догадались об этом уже после того, как моя песня стала шлягером, и посчитали за лучшее не поминать про то, как я их надул.
Выпьете?.. Да, пожалуй, еще рановато. Сам я не пью обычно до ленча, но когда не спал… Мне еще две песни надо написать, срок договора на исходе. Песни для… — его голос вдруг замер, — для нового фильма Койена, — торопливо закончил он. — Знаете, каково это — сочинять песню, когда у тебя в голове ни одной идеи?
Нет, конечно. Это чистое мучение. И кто их будет исполнять, я вас спрашиваю? Эта дамочка Халлард петь не умеет. Вы когда-нибудь слышали в исполнении Крис «Спой мне еще раз»?
Грант слышал.
— Вот это было то, что я называю презентацией песни! Да, я писал и более удачные вещи. Но она сделала ее лучшей из всего, что когда-либо было написано мной. И какой мне смысл теперь мучиться над очередной песней, если эта выскочка Халлард все равно ее испортит?
Он кружил по комнате, перекладывая с места на место кучи нотных листов. Так вот он, «веселый чайник» Марты и «кипящий страстью иудей» Джуди! По мнению Гранта, он был ни то ни другое. Обыкновенный американский еврей родом из Богом забытого нищего местечка в центре Европы; малообразован, несдержан и неразборчив в средствах, как многие из его соплеменников; не очень хорош собою, но, без сомнения, пользуется благосклонностью женщин. Грант вспомнил, что и Марта Халлард и Джуди Селлерс, несмотря на полную противоположность характеров, обе находили его привлекательным, но каждая рисовала его по-своему. Он явно в полной мере обладал способностью, столь характерной для представителей его расы, быть приятным для всех сразу. Что он находился в приятельских отношениях с Мартой, которую недолюбливал, было очевидно. Марта была не из тех, кто кинется защищать человека, не поклоняющегося ее таланту. Иными словами, он всю жизнь играл некие роли. Он только что сам это признал. Интересно, какую роль он играл сейчас.
— Извините, что я обеспокоил вас в столь раннее время, но этого требует дело. Вы, конечно, знаете, что мы расследуем обстоятельства смерти Кристины Клей. По ходу расследования нам необходимо установить точно, где находились люди, знавшие ее близко. Мы устанавливаем местопребывание всех и каждого — независимо от личности, мотивов, возможностей и прочего. В четверг, когда вы беседовали с сержантом местной полиции, то сказали, что провели ночь в гостинице в Сэндвиче. Теперь обнаруживается, что вы там не ночевали.
Хармер, не поднимая глаз, продолжал перебирать ноты.
— Где вы провели ночь на самом деле, мистер Хармер?
Хармер наконец поднял голову и с усмешкой проговорил:
— Вы не находите это забавным: милый человек навещает вас рано поутру, извиняется за беспокойство, выражает надежду, что не помешал; однако, находясь при исполнении обязанностей инспектора по уголовным делам, он вежливо требует от вас дать ему кое-какую информацию, да еще при этом упоминает, что в предыдущий раз ваша информация не соответствовала действительности. Просто прелестно! И вы добиваетесь результатов, я уверен. Может, люди даже сами признаются и рыдают у вас на плече — так их трогает ваше дружелюбие. Любимый мотив в мелодраме: злодей попадает под гостеприимный кров, видит на столе пирог и, рыдая, раскалывается, говоря: «Такой же пирог пекла моя мамаша!» Меня только интересует: вы этот метод применяете исключительно на господах с Парк-Лейн или на бандитах и нищих из района Пимлико тоже?
— А меня интересует, где вы провели ночь со среды на четверг, мистер Хармер.
— «Мистер» — это тоже, наверное, исключительно для господ с Парк-Лейн. Представляю: если бы вы изловили меня, Джасона, лет десять тому назад, то отвезли бы в участок и вытрясли бы из меня всю душу — как делает полиция во всем мире. Они везде одинаковы: любят тесто из людей делать.
— Должен признаться, мистер Хармер, что у меня нет вашего обширного опыта по части общения с полицией разных стран.
— Ага! Я таки вас достал! Полицейский делается таким оскорбительно-вежливым, только когда очень зол! Однако не поймите меня превратно, инспектор: у полиции на меня ничего нет. Что же до ночи со среды на четверг, то я провел ее в машине.
— Вы хотите сказать, что вовсе не ложились в постель?
— Именно это я и хочу сказать.
— И где же находилась все это время ваша машина?
— В аллее, где живая изгородь была высотой с дом, на обочине. На этих обочинах в Англии столько травы пропадает даром! В той аллее она росла по обеим сторонам — больше трех метров шириной.
— Так вы говорите, что спали в машине? Кто-нибудь может это подтвердить?
— Нет, никто. Такое уж это было место. У меня слипались глаза, я сбился с дороги и просто заснул.
— Сбились с дороги?! Это в восточной-то части графства Кент!
— Да хоть в восточной, хоть в западной — какая разница? Вы когда-нибудь пробовали отыскать нужную вам деревушку в Англии ночью? Нет? По сравнению с этим ночь в пустыне — просто игрушки. Вы едете, видите наконец нужное вам название и рядом расстояние: две с половиной мили. «Слава тебе Господи! — говорите вы мысленно. — Вот она, миленькая! Почти приехал. Слава английским дорожным указателям!»
Вы катите дальше и через полмили оказываетесь у развилки трех дорог. И тут же, на травке, аккуратненький такой указатель, и над каждой его стрелкой, указывающей на три разные стороны, по крайней мере три названия; может, вы думаете, что среди них есть то, которое вам нужно? Ничего подобного! Это было бы уж слишком примитивно! Вы несколько раз кряду прочитываете все названия и ждете, чтобы кто-нибудь появился и подсказал вам нужное направление, но будете ждать напрасно. Последний раз кто-то проезжал тут в прошлый вторник. Вокруг ни одного строения. Одни поля да объявление о цирковом представлении, которое прошло в этих местах в апреле прошлого года.
Так, вы наобум выбираете одну из трех дорог и после того, как проезжаете два дорожных указателя, которые нужную вам деревеньку не берут в расчет, наконец натыкаетесь на тот, где она есть, и дальше надпись: «Шесть и три четверти мили». Оказавшись на четыре мили дальше, чем прежде, вы все начинаете сначала, и все повторяется снова. И снова! После того как пункт назначения ускользает от вас в шестой раз, вам уже все равно: только бы съехать с дороги и где-нибудь прикорнуть. Так случилось и со мной, я решил поспать. В любом случае было неудобно заявляться к Крис так поздно.
— Но не слишком поздно для того, чтобы заночевать в гостинице.
— Конечно, если только вы знаете, где она. К тому же, судя по тем гостиницам, которые я видел по дороге, лучше уж заночевать в машине, чем там.
— Я смотрю, вы совсем обросли, — заметил Грант, кивая на небритый подбородок Хармера.
— Да. Иногда приходится бриться даже дважды в день. Особенно если вечером куда-нибудь иду. А что?
— Вы приехали в дом мисс Клей уже выбритым. Каким образом?
— Всегда вожу бритву с собой. Иначе мне нельзя, вы же видите.
— В то утро вы не завтракали?
— Нет, я намеревался позавтракать у Крис. Да я и не привык плотно завтракать. Только кофе и апельсиновый сок. Господи, ваш апельсиновый сок — гадость сплошная. А кофе… Что они с ним делают? Хозяйки, я имею в виду. Он…
— Может, оставим в покое кофе и перейдем к делу? Почему вы сказали сержанту, что ночевали в Сэндвиче?
Выражение лица Хармера неуловимо изменилось. До сих пор он отвечал не задумываясь, почти автоматически. Его широкое, в общем-то добродушное лицо было не напряжено и довольно дружелюбно. Сейчас оно стало настороженным, оно сделалось… да, пожалуй, враждебным.
— Потому что нутром почувствовал — случилось нечто неприятное, и не желал оказаться в чем-то замешанным.
— Вам самому не кажется это довольно-таки странным? Вы почувствовали наличие злого умысла, когда еще никто ни о чем и не подозревал?
— Не нахожу в этом ничего необычного. Мне сказали, что Крис утонула, но я-то знаю, что она плавает как рыба. Той ночью я не ночевал дома — был в дороге, как известно, а сержант и без того глядел на меня так, будто собирался тут же допрашивать, кто я такой и зачем явился.
— Но сержант тогда еще полагал, что ее смерть просто несчастный случай. У него и повода не было вас допрашивать.
— А ему и не нужны были никакие поводы. Я еврей — этого достаточно.
— Бросьте, мистер Хармер! Неужели вы хотите, чтобы я поверил…
— Да, да, только, пожалуйста, не надо мне читать лекцию на эту тему! — прервал его Хармер. — Я все знаю наизусть: Англия — страна полнейшей веротерпимости. Здесь не делают различия между людьми разных национальностей; англичанам абсолютно все равно, какую веру кто исповедует, и никого не волнует цвет вашей кожи! Да известно ли вам, дорогой инспектор, что Англия — единственная страна, где нас не принимают за своих? — выдохнул он сквозь стиснутые зубы. — Мы должны знать свое место. Это же ваше излюбленное выражение: «Знай свое место!» — и тут лучше не скажешь! Никаких тесных контактов! Никаких смешанных браков. Выйти замуж за еврея, если у него меньше ста тысяч в год, — Боже упаси! И даже в этом случае никто не плачет от умиления. Вы — единственная страна, где еврей навсегда остается евреем. Немецкий еврей — немец, российский еврей ведет себя как русский. Эти страны их вбирают, воспринимают как своих. Но английский еврей так и остается евреем. И вы еще называете это терпимостью!
Грант не только выглядел удивленным — он на самом деле был изумлен. Кто бы мог подумать, что у этого самодовольного песенника (если угодно, у этого стяжателя, охотника до женщин, сплетника и завсегдатая лучших ресторанов) нашлось столько горечи? Хармер уже до этого упомянул о своем комплексе неполноценности, но Грант не принял его слова всерьез. И сейчас Грант невольно подумал о том, что, наверное, именно этот комплекс неполноценности и порождал людей, претендовавших на роль Мессии за долгие века существования человеческого рода. Возможно, главное, что движет такими людьми, — это и есть гипертрофированное чувство собственной неполноценности. До сих пор ему казалось, что у мессий и пророков просто слишком много пробивной энергии. Он решил несколько изменить направление разговора.
— Между прочим, откуда вы знали, где искать мисс Клей? Насколько я знаю, она держала свое убежище в секрете.
— Да, она сбежала. Всех провела, и меня в том числе. Она устала и была не очень довольна тем, как встретили ее последний фильм. На просмотре, я имею в виду. Он еще не выпущен. Койен не нашел с ней общего языка. С одной стороны, он ее чуточку побаивался, с другой — не хотел давать ей полной свободы. Назови он ее «деткой» и «шоколадкой», как, бывало, называл ее старина Мейер в Штатах, она бы на него работала как негр и была бы весела, словно птичка. Но Койен — он будто индюк надутый: ну как же! Продюсер, его реноме! И они не ладили. Ну вот, ей все надоело, она устала, каждый хотел, чтобы она поехала в перерыве между съемками именно с ним, а она не могла ни на что решиться. В одно прекрасное утро мы проснулись, а ее и след простыл. Бандл — ее экономка — сказала, что не знает, где она: адреса она не оставила, обещала через месяц объявиться и просила никого не беспокоиться. Целых две недели о ней ничего не было слышно, но в прошлый вторник я встречаю Марту на шерри-вечере у Либби Саймона — она собирается играть в его новой пьесе, — и Марта мне говорит, что в субботу наткнулась на Крис на Бэйкер-стрит, та покупала шоколад — Крис между съемками никогда не отказывала себе в шоколаде, — и что она попыталась выведать у Крис, где та скрывается. Но Крис ей ничего не открыла. Во всяком случае, Марте так показалось. Крис, правда, сказала: «Может, я вообще не вернусь в кино. Ты слышала про знаменитого римлянина, который занялся выращиванием овощей и был так восхищен плодами своего труда, что больше не пожелал возвращаться в сенат? Вчера, когда я помогала собирать ранние вишни для Ковент-Гарденского рынка, то испытала такое счастье, по сравнению с которым все премии Академии театрального искусства — ничто». Я прямо слышу ее голос! — с грустным смешком произнес Хармер. — Я тут же от Саймона отправился на Ковент-Гарден и там выяснил, откуда к ним поступили вишни, — из вишневого сада в местечке с названием «Птичий рай». К трем часам я уже знал, где это место. Я туда поехал, нашел людей, которые работали в пятницу. Я думал, сразу же найду Крис, но выяснилось, что там ее не знают. Рассказали, что в пятницу, когда они работали, мимо ехала машина. Она остановилась, и сидевшая за рулем леди спросила, не разрешат ли и ей помочь. Старик, хозяин сада, сказал, что он не нуждается ни в чьей помощи, но дамочка видно умела настоять на своем. Хозяин сам потом ее хвалил и добавил, что не прочь и в следующий раз ее нанять. Потом хозяйский внук сказал, что вроде бы встречал эту леди милях в шести от них, на почте в Лиддлстоуне; я отправился в Лиддлстоун, но там был перерыв. Когда они вернулись, приемщица сказала, что леди, которая посылает телеграммы — они за всю свою жизнь не приняли столько телеграмм, сколько послала одна Крис, — живет возле Милдея, и закончил я этот день заночевав в машине. Согласитесь, инспектор, независимо от того, где я провел ночь, за день я проделал больше детективной работы, чем вы к сегодняшнему утру.
— Вы так считаете? — добродушно усмехнувшись, заметил Грант. — С вами на сегодня я почти закончил. Да, кстати, у вас было с собой в машине пальто? — спросил он, поднимаясь.
— Было.
— Какое?
— Твидовое, коричневое. А что?
— Оно сейчас с доме?
— А как же.
Хармер подошел к гардеробу, встроенному в стену коридора между гостиной и спальней, и раскрыл дверцу.
— Вот, можете полюбоваться. Если вам посчастливится обнаружить пуговицу, то, значит, вы умнее, чем я думал.
— Какую пуговицу? — быстро переспросил Грант, забыв об осторожности.
— Ну что же еще могут искать? Всегда ищут пуговицу, — безмятежно отозвался Хармер. Его карие глаза с насмешкой глядели на Гранта из-под тяжелых век.
Грант не нашел в шкафу ничего заслуживающего внимания и ушел, так и не решив, насколько можно верить тому, что рассказал Хармер, но прекрасно сознавая, что «у полиции на него ничего нет». Так что все их надежды, так сказать, теперь были связаны с одним Тисдейлом.
В это прохладное ясное утро, припарковав машину, Грант вспомнил гардероб Джасона и про себя улыбнулся. Ясно, что свою одежду Джасон покупал не в модном магазине Стэси и Бреккера. Мысленно он представил себе внутренность этого убогого, тесного шкафа, и ему показалось, что он снова слышит насмешливый и презрительный голос Джасона: «Тоже мне, эти англичане! Сто пятьдесят лет занимаются мануфактурным делом, и это все, чего они достигли?!» Вероятнее всего, одежда куплена в провинции, — во всяком случае, расцветка костюмов явно местная. На сердце у Гранта потеплело: да, это была его Англия — страна, которую он знал и любил. Может меняться мода; могут гибнуть целые династии, и цоканье копыт на тихих улицах может смениться на вопли тысяч таксомоторов, но фирма Стэси и Бреккера, как и прежде, с неторопливойделовитостью будет шить одежду для неторопливых и деловитых английских джентльменов.
Грант был принят не Стэси и даже не Бреккером, но мистером Тримли, точнее сказать, мистером Стефеном Тримли (потому что существовали еще мистер Роберт и мистер Томас), который объявил, что весь к услугам господина инспектора. О да, они шили одежду для мистера Роберта Тисдейла. Да, и пальто тоже — к вечернему костюму. Нет, эти пуговицы решительно не от сшитого ими пальто. Они не того класса. Если мистеру Тримли (мистеру Стефену Тримли) будет позволено заметить, данная пуговица очень низкого качества и ни один уважающий себя портной ее использовать не станет. И его, мистера Стефена, ничуть не удивит, если пуговица окажется иностранного происхождения.
— Может, американская? — предположил инспектор.
Очень может статься. Хотя, на искушенный взгляд мистера Тримли, скорее из Европы. Нет, ничем доказать свой вывод он не может. Просто инстинкт ему это подсказывает. Возможно, он ошибается. Пусть инспектор не слишком полагается на его мнение. Он также надеется от всей души, что с мистером Тисдейлом не случилось ничего скверного. Обаятельный молодой человек, мистер Тисдейл. Из частных школ, особенно из частных школ старого образца, выходят прекрасные молодые люди. Гораздо лучше, — вы согласитесь со мной, инспектор? — чем из второсортных муниципальных школ. В тех школах было нечто от прежней надежности молодого сословия: в семье поколение за поколением все посещали одну и ту же приходскую школу — разве их сравнишь с современными, где никогда не знаешь, у кого какие родители? Грант был глубоко убежден, что в Тисдейле нет ни грамма надежности, присущей молодым людям прежних времен, но он не стал вступать в спор и лишь заверил господина Тримли, что, насколько ему известно, с мистером Тисдейлом пока ничего плохого не случилось.
Господин Тримли был рад это слышать. К старости его вера в подрастающее поколение сильно поколебалась, и это было огорчительно. Конечно, старики всегда склонны считать, будто молодежь стала не та, однако эта… Да, от старости никуда не денешься; возможно, поэтому его больше, чем когда-либо раньше, стала тревожить судьба молодого поколения. Возьмите сегодняшний понедельник, для него день был испорчен, испорчен окончательно и бесповоротно: ведь именно сегодня, совсем скоро, вся прелесть, все обаяние Кристины Клей будет обращено в пепел. Пройдет много лет, может даже поколений (мистер Тримли предпочитал оперировать поколениями, — вероятно, это результат того, что их фирма существовала уже полтора века), прежде чем снова явится такая, как она… Она обладала настоящим талантом, — инспектор, надеюсь, согласен? Поразительным талантом. Говорят, она была весьма скромного происхождения, но в ней чувствовалась порода. Такие, как Кристина Клей, не просто так рождаются. Матушка-природа долго должна трудиться, чтобы создать нечто подобное. Сам он не был, как теперь принято говорить, кинофаном, но не пропустил ни одной картины с Кристиной Клей с тех самых пор, как племянница повела его на первый серьезный драматический фильм с ее участием. В тот раз он забыл, что находится в кино: он просто онемел от восторга. Если кино может давать впечатления такие же глубокие и сильные, как, бывало, театр, тогда можно перестать вздыхать по поводу того, что уже нет ни Сары Бернар, ни Элеоноры Дузе.
Грант вышел на улицу. Он не переставал удивляться огромной популярности Кристины Клей.
В зал крематория Голдерс-Грин, похоже, съехалась элита со всего света. Странный конец для маленькой работницы с кружевной фабрики из Ноттингема. Странный конец и для той, которая была идолом толпы… «И они сунули это в печь, будто…» Господи, надо перестать думать об этом. Слишком отвратительно. А почему, собственно, отвратительно? Он не знал. Потом подумал: наверное, оттого, что это так по-мещански — практично да и не так хлопотно, как настоящие похороны. Но такая, как Клей, пламя таланта которой светило всем людям, наверное, в этом случае была достойна чего-то более грандиозного, огромного костра что ли. Тризны, как во времена викингов, а не печи в провинциальном крематории. Господи, он впадает в крайности, он становится чуть ли не сентиментальным! Грант переключил скорость и присоединился к потоку машин.
Вчера он переменил свое намерение присутствовать на церемонии похорон Клей. Расследование, связанное с Тисдейлом, шло своим нормальным путем, и он посчитал, что незачем подвергать себя такому испытанию, если можно этого избежать. Но только сегодня он осознал, как рад, что действительно не поехал, хотя он не был бы самим собой, если бы тут же не стал сомневаться в разумности своего решения и в том, не сыграло ли тут решающую роль его подсознательное нежелание избежать отрицательных эмоций. Он решил, что едва ли. Пока он не видел никакой нужды в изучении характеров неизвестных ему друзей Кристины. Он достаточно насмотрелся на некоторых из них у Марты, и это не дало ему почти ничего. Тогда люди не желали расходиться. Джемми снова пустился в рассуждения в надежде, что все станут плясать под его дудку и он выудит из них что-нибудь «сладенькое». Но Марта запретила говорить о Кристине, и, хотя ее имя упоминалось еще несколько раз в течение вечера, даже Джемми, несмотря на все свое искусство, не удалось заставить их вернуться к этой теме. Лидия, которая редко говорила о чем-нибудь, кроме себя самой, стала читать по ладоням, поскольку, как оказалось, когда она не могла читать по звездам, то занималась и хиромантией (она довольно точно определила характер Гранта по линиям его руки и предостерегла от принятия в ближайшем будущем ошибочного решения; «от этого можно предостерегать любого — и не ошибешься», — подумалось ему); только после часа ночи хозяйке удалось наконец избавиться от последнего гостя. Грант задержался — как это ни странно, не столько оттого, что у него были к ней вопросы (на все свои вопросы он в течение вечера сумел найти ответы), но потому, что у нее были вопросы к нему: «Собирается ли Скотланд-Ярд принимать участие в расследовании смерти Кристины? Что вызывает подозрения? Что ими обнаружено? Кого они подозревают?» Грант отвечал, что да, они будут участвовать в расследовании (это теперь уже и без того было известно всем), но пока у них есть только неясные подозрения относительно личности убийцы. Она немного всплакнула, но так, чтобы это не повредило ее внешности и не потекла тушь, и произнесла несколько приличествующих случаю фраз, тепло отозвавшись о Кристине как об актрисе и человеке: «Она была, безусловно, талантливой. Должно быть, требуется огромная сила воли, чтобы справиться со сложностями, которые стояли перед ней в начале карьеры». Она даже взяла на себя труд их перечислить. Грант вышел от нее в теплую ночь, грустно вздохнул по поводу человеческой природы и пожал плечами по поводу собственных, так и не изжитых иллюзий на этот счет.
Но в человеческой природе встречаются и приятные исключения. Сейчас он притормозил у тротуара, и его смуглое лицо просияло дружелюбной улыбкой.
— С добрым утром! — воскликнул он, обращаясь к маленькой фигурке в сером пиджаке.
— О, это вы, мистер Грант! Доброе утро! — отозвалась Эрика, пересекая мостовую. Она сдержанно улыбнулась ему, но было видно, что и она рада этой встрече; это было еще более заметно благодаря ее школьной манере всегда казаться невозмутимой при любых обстоятельствах. На этот раз она была одета «по-городскому». Правда, нельзя сказать, чтобы этот ее наряд в выгодную сторону отличался от обычного. Одежда была чистой, но ее явно надевали крайне редко. Серый костюм, который был на ней, выглядел дорогим, но старомодным. То же самое относилось и к ее шляпке.
— Я и не знал, что вы иногда останавливаетесь в городе.
— А я и не останавливаюсь. Я приехала, чтобы купить мост.
— Что? Мост?!
— Оказалось, что его нельзя купить просто так. Надо снять мерку. Так что мне придется наведаться сюда еще раз. Сегодня они просто набивали мне рот глиной.
— А, так вы были у зубного врача? Понятно. Я думал, что мосты носят только старушки.
— Штука, которую он мне поставил в прошлый раз, не хочет держаться на месте. Мне все время приходится ее подбирать и засовывать обратно. Этой зимой, когда Флайт свалился вместе со мной во время скачек через препятствия, я потеряла почти все задние зубы. Так что ничего не поделаешь: врач сказал, что без моста не обойтись.
— Негодник он, это ваш Флайт.
— Это как посмотреть, с одной стороны — да, а с другой… У него прекрасная скорость: он промахал весь Кент, пока его удалось поймать после падения.
— Куда вы сейчас? Может, я вас подвезу?
— Вы вряд ли захотите провести меня по Скотланд-Ярду?
— Хотел бы. И даже очень. Но через двадцать минут у меня встреча с адвокатом во Дворце правосудия, в Тампле.
— В таком случае подбросьте меня на Кокспар-стрит. Мне надо выполнить поручение няни.
«Конечно, — подумал он, пока она усаживалась рядом, — конечно, у нее няня, а не мама. Ни одна мать не одела бы так своего ребенка».
Одежда была явно заказана заочно, как заказывают школьную форму: «один костюм из серой шерстяной фланели и одну шляпку к нему». Несмотря на всю самоуверенность и независимость, которые она с готовностью демонстрировала, было в ней что-то заброшенное.
— Они очень миленькие, — сказала она. — И не очень высокие, хотя все равно я терпеть не могу в них ходить.
— Про что это вы?
— Про свои туфли.
Она задрала ногу и показала ему скромный венский каблучок.
— Няня считает, что в городе надо надевать их. Хотя мне ужасно в них неудобно. Неустойчиво как-то.
— Полагаю, со временем к этому можно привыкнуть. Надо подчиняться общим законам племени.
— А зачем?
— Затем, что неприятности, связанные с неподчинением, обходятся человеку гораздо дороже, чем следование общим правилам, хотя это и надоедает.
— Да ладно. Не так уж часто я езжу в город. У вас, наверное, нет времени на мороженое?
— Боюсь, что да. Давайте отложим это до моего возвращения в Вестовер, хорошо?
— Ну да, я совсем забыла, вы же обязательно вернетесь. — И добавила, как бы между прочим: — Вчера я видела вашу жертву.
— Какую жертву?
— Ну, человека, который упал в обморок.
— Видели его? Где?
— Отец взял меня к «Моряку».
— Я думал, ваш отец терпеть не может этот ресторан.
— Так оно и есть. Он сказал, что в жизни не видел столько противных пузанов в одном месте сразу. «Пузаны», пожалуй, довольно сильно сказано, не так уж они и противны. И потом, дыня там была даже очень вкусная.
— Это отец вам сказал, что Тисдейл там устроился официантом?
— Нет, сержант. Он не очень-то профессионально обслуживает клиентов. Не сержант, а мистер Тисдейл, я хочу сказать. Слишком развязно себя держит и к разговорам прислушивается. Ни один профессиональный официант себе такого не позволит, правда? И потом он забыл принести ложки для мороженого. И неудивительно, после того как вы его трясли накануне.
— Это я его тряс?
Грант набрал побольше воздуха в легкие и сказал: он надеется от всей души, что смазливый молодой человек не смутил ее сердечный покой.
— Нет, конечно. Ничего подобного. У него слишком длинный нос. И, кроме того, я влюблена в Тогаре.
— Кто такой Тогаре?
— О Господи. Он — укротитель тигров! Вы что, Тогаре не знаете? — произнесла она, словно не веря своим ушам.
Грант признался, что действительно никогда о таком не слышал.
— Вы что же, на Рождество не бываете в Олимпии на цирковом представлении? Обязательно сходите! Я попрошу мистера Миллса, чтобы он послал вам билеты.
— Спасибо. И как долго вы в него влюблены?
— Уже четыре года. Я очень привязчивая.
Грант согласился: четыре года — срок немалый.
— Высадите меня у туристической конторы «Ориент», ладно? — сказала она тем же деловым тоном, которым говорила о своей верности Тогаре. Грант послушно остановил машину у ярко-желтого лайнера.
— Собираетесь в путешествие?
— Нет, я собираю по туристским агентствам буклеты для няни. Она их обожает. Сама никогда не выезжала за пределы Англии, потому что ужасно боится воды, но очень любит, сидя в безопасности, представлять, будто она путешествует. Весной я ей добыла в австрийском бюро на Риджент-стрит потрясающие виды гор. Все немецкие курорты она знает как свои пять пальцев. До свидания. Спасибо, что подбросили. А как я узнаю, когда вы вернетесь в Вестовер? Я насчет мороженого.
— Я сообщу через вашего отца. Это годится?
— Да. Пока. — И она исчезла в конторе.
Что касается Гранта, то он уже в более веселом расположении духа отправился на встречу с адвокатом Кристины Клей и мужем Кристины Клей.
8
С первого взгляда на Эдуарда Чампни было очевидно, почему его называли именно Эдуард, а не Эдди. Он был очень высокий, очень представительный, очень красивый и очень несовременный, с серьезной, хотя и благожелательной манерой держаться и нечастой, но обаятельной улыбкой. Рядом с суетливым мистером Эрскином он выглядел как корабль, неохотно следующий за буксиром.
Грант до этого с ним встретиться не успел. Эдуард Чампни прибыл в Лондон в четверг пополудни после почти трехмесячного отсутствия и только тут узнал о смерти жены. Он немедленно отправился в Вестовер, где опознал тело, в пятницу имел беседу с весьма встревоженным начальством в местной полиции, где все продолжали ломать голову над пуговицей, и утвердил их в решении передать дело в Скотланд-Ярд. Его долгое отсутствие и множество разных дел, возникших в связи со смертью жены, заставили его выехать обратно в Лондон именно тогда, когда Грант отбыл оттуда в Вестовер.
Сэр Эдуард выглядел очень утомленным, в остальном же никаких эмоций не проявлял.
«Интересно, — подумал Грант, — может ли вообще что-нибудь вывести из равновесия этого ортодокса, за спиной которого — пятисотлетняя традиция верности долгу и сознания собственной исключительности?»
Но пока Грант пододвигал стул и садился, он вдруг понял, что к сэру Эдуарду слово «ортодокс» совсем не подходит. Последуй сэр Эдуард неписаным законам своего клана, то, как можно было бы предполагать, судя по его наружности, он благополучно женился бы на троюродной сестре, поступил на службу в армию, управлял бы поместьем и читал на досуге «Морнинг пост». Однако он ничего такого не сделал. Он женился на актрисе, которую подцепил на другом конце света, он путешествовал, он писал книги. В данном случае внешность была настолько обманчива, что это даже пугало.
— Лорд Эдуард, разумеется, уже видел завещание, — говорил между тем Эрскин. — С его основными пунктами он был знаком и раньше. Леди Эдуард поставила его в известность о своих намерениях. Тут, правда, есть и некая неожиданность. Но, вероятно, вы сами захотите взглянуть на документ.
Через стол он подвинул к Гранту лист плотной гербовой бумаги.
— Ранее, еще в Штатах, леди Эдуард уже дважды составляла завещания, но, согласно ее указаниям, они были аннулированы поверенными там же, в Америке. Она желала, чтобы ее состояние осталось в Англии, стране, традиции которой ее всегда восхищали.
Мужу Кристина не завещала ничего:
«Я не оставляю деньги своему супругу Эдуарду Чампни, поскольку у него всегда их было и будет больше, чем он в состоянии потратить, а также поскольку он никогда не придавал им большого значения».
Она оставляла за ним право взять себе из ее личных вещей все, что он захочет, кроме предметов, специально оговоренных и предназначенных кому-либо в дар. В завещании были указаны различные суммы — в виде наличных денег или пожизненной ренты — друзьям и слугам: Бандл, ее камеристке, а впоследствии экономке, негру-шоферу, Джо Мейеру, продюсеру ее наиболее удачных фильмов, юноше-носильщику из Чикаго — «чтобы купил себе бензозаправочную станцию». В общей сложности трем десяткам людей во всех уголках земного шара и занимающим самое разное положение в обществе. Джасон Хармер упомянут не был вообще. Грант взглянул на дату: восемнадцать месяцев тому назад. Тогда она, вероятно, еще не была с ним знакома.
Завещанные суммы, хотя и значительные, оставляли нетронутым ее основной капитал. И весь капитал, как ни удивительно, она завещала не определенному лицу, а «для сохранения красот Англии». Предполагалось учредить особый фонд, из средств которого можно было бы выкупить любое место или здание, оказавшееся в бедственном положении, либо оплатить расходы по его поддержанию.
Для Гранта это была уже третья неожиданность, связанная с завещанием. Четвертая ожидала Гранта в самом конце дарственного списка. Он завершался фразой:
«Моему брату Герберту — шиллинг на свечи».
— Брату? — переспросил Грант.
— До вскрытия завещания лорд Эдуард не знал, что у его супруги есть брат. Родители леди Эдуард давно уже умерли, и она никогда не упоминала, что у нее остался еще кто-либо из родственников.
• Шиллинг на свечи. Это говорит вам о чем-нибудь? — обратился Грант к Чампни, но тот покачал головой:
— Не знаю. Скорее всего какая-нибудь детская обида. Детские обиды помнятся всю жизнь, — и, взглянув на Эрскина, сэр Эдуард добавил: — Когда бы я ни встретился со своей сестрой Алисией, я всегда вспоминаю, как она в детстве разбила мою коллекцию птичьих яиц.
— Это не обязательно должно быть связано с детством. Что-то могло случиться и позже.
— Лучше спросите Бандл. Она была камеристкой жены все ее первые годы в Нью-Йорке. Так уж ли это важно? В конце концов, этому господину завещан всего шиллинг.
— Важно, потому что пока это единственный признак неприязненного отношения мисс Клей к одному из близко знавших ее людей. Заранее никогда не знаешь, какая нить окажется самой важной.
— Думаю, инспектор, это не покажется вам таким уж важным, после того как вы ознакомитесь с вот этим. Это и есть сюрприз, о котором я говорил в самом начале.
Ага, значит, было что-то еще и помимо завещания!
Грант взял листок из худощавых, чуть подрагивавших пальцев господина Эрскина. Этот листок плотной, кремового цвета бумаги, которая продается в любой сельской лавочке, являл собою письмо от Кристины Клей ее адвокату. На обратном адресе стояло: Бриары, Мелдей, Кент. Письмо содержало дополнение к завещанию. Свое ранчо в Калифорнии и пять тысяч фунтов она завещала не кому иному, как Роберту Станвею (последний адрес: Ийомен-Роу, Лондон).
— Это письмо, — проговорил поверенный, — было написано в среду утром, а в четверг… — Он выразительно замолк.
— Оно имеет законную силу? — спросил Грант.
— Опротестовать это будет трудно. Написано ее рукой, подпись засвидетельствована мисс Маргарет Питтс. Все четко и просто; человек находился в здравом уме — это ясно.
— Может, подделка?
— Ни в коем случае. Я прекрасно знаю почерк леди Эдуард; вы сами видите: он весьма характерный и подделать его было бы трудно. К тому же я знаком с ее стилем, а его, смею вас уверить, фальсифицировать еще труднее.
— Что ж, — произнес Грант и еще раз пробежал текст, словно не веря собственным глазам. — Это решительно меняет дело. Я возвращаюсь в Скотланд-Ярд. Это письмо означает, что к вечеру мы уже произведем арест.
Он встал.
— Я с вами.
— Прекрасно, сэр, — машинально отозвался Грант. — С вашего разрешения, я сейчас позвоню, чтобы начальник отдела был на месте.
Когда он уже взялся за трубку, его внутренний голос шепнул: «Да, Хармер прав. Мы не умеем не делать различий между людьми. Окажись супруг убитой страховым агентом из глухого района Брикстон, вряд ли мы допустили бы его на свое совещание в Скотланд-Ярде!»
— Вы не знаете, господин Баркер у себя? — говорил он между тем. — А… в половине? Значит, через пятнадцать минут. Передайте ему, пожалуйста, что у инспектора Гранта есть важная информация и он просит немедленно провести совещание. Да, и комиссару, пожалуйста, если он там.
Грант повесил трубку и сказал, обращаясь к Эрскину:
— Спасибо, вы нам очень помогли. Да, если раскопаете этого брата, дайте нам знать, пожалуйста.
Он попрощался, и вместе с Чампни они спустились по темной узкой лестнице и снова оказались на солнцепеке.
— Как вы считаете, — спросил Чампни, задержав руку на дверце машины, — у нас не будет времени, чтобы выпить где-нибудь? Мне необходимо подбодрить себя. Утро у меня выдалось… довольно тяжелое.
— Да, конечно. Тут, прямо по набережной, не более десяти минут. А вы куда бы хотели заехать?
— Мой клуб в районе Карлтона, но мне бы не хотелось сейчас видеть никого из знакомых. Ресторан «Савой» ничем не лучше… — Он замолчал в нерешительности.
— Тут рядом есть удобная пивная, — предложил Грант, заезжая в переулок. — В это время дня там тихо.
Они проехали мимо газетного стенда. Сразу бросались в глаза крупно набранные заголовки: «Похороны Клей. Беспрецедентный ажиотаж! Десять женщин потеряли сознание!», «Лондон прощается с Клей». И в «Страже»: «Последняя премьера Кристины Клей».
Грант прибавил скорость.
— Это было непередаваемо гадко, — тихо произнес человек рядом с ним.
— Да. Я представляю.
— Все эти женщины. Мне кажется, от нашего величия как нации почти ничего не осталось. Мы достойно пережили войну. Но наверное, она исчерпала наши последние ресурсы. Мы все стали… как эпилептики. Иногда сильный шок вызывает именно такое состояние. — Он на некоторое время замолчал, словно заново переживая церемонию похорон. — Я видел, как из пулеметов расстреливали безоружные колонны солдат в Китае, тогда я не смолчал — я выразил свое возмущение. Но если сегодня утром можно было бы пулеметами сбить животную истерию толпы, то я бы испытал только удовольствие. И не потому, что это связано… связано с Крис, а потому что они меня заставили испытать стыд — стыд за то, что я — один из них, что принадлежу к человеческому роду.
— Я надеялся, что удастся избежать стечения народа в такое раннее время. Я знаю, что и в полиции на это рассчитывали.
— Мы тоже. Потому и выбрали столь ранний час. Но теперь, когда я увидел все это собственными глазами, то понял, что это невозможно было предотвратить ничем. Люди просто сошли с ума. — Он чуть помолчал, потом проговорил, невесело усмехнувшись:
— Знаете, она не очень-то любила людей. Они ее часто разочаровывали. Поэтому она и распорядилась так своим состоянием. Что ж, ее фаны еще раз подтвердили сегодня, насколько она была права.
Пивной бар оказался именно таким, как его охарактеризовал Грант: прохладным, тихим и без больших претензий. На Чампни никто не обратил внимания. Из шестерых посетителей трое кивнули Гранту, а трое других явно всполошились. Наблюдательный, несмотря на горе, Чампни спросил:
— А куда ходите вы, если хотите остаться неузнанным?
— Еще не нашел такого места, — с улыбкой отозвался Грант. — Однажды я путешествовал с другом на его яхте, и когда мы высадились на Лабрадоре, мужчина в сельской лавке сказал: «Теперь вы носите более короткие усы, сержант». С тех пор я больше не надеюсь найти такое место.
Они немного поговорили о Лабрадоре, потом о Галарии, где Чампни только что провел несколько месяцев.
— Раньше я полагал, что самые примитивные племена живут в Азии или в Южной Америке, но Восточная Европа даст им всем сто очков вперед. В Галарии, за исключением больших городов, до сих пор нигде нет электрического света.
— Кажется, они предали самого известного из своих патриотов?
— Римника-то? Да. Но он снова появится на политической арене, когда его партия соберется с силами.
— Сколько же там партий?
— Около десяти, не считая группировок. В этом кипящем котле живут люди чуть ли не двадцати национальностей, при этом каждая требует полного самоуправления, и все они еще мыслят как в средние века. Место удивительное. Обязательно как-нибудь там побывайте. Их столица — просто витрина, где все как во всех прочих столицах земного шара: там есть трамваи, электричество, внушительное здание железнодорожного вокзала, кинотеатры. Но стоит отъехать от нее миль на двадцать — и вы можете наткнуться на куплю-продажу невест. Девушки сидят рядом, положив перед собой узелки с приданым, и ждут, кто даст больше. Я видел однажды, как одну обезумевшую старушку выводили из здания городского типа: она решила, что стала жертвой колдовства. Ее пришлось запереть в сумасшедший дом. Вот так: в городе — современные кинокартины, а в деревне — колдовство. Но в целом это страна с большим будущим.
Грант не прерывал его, довольный уже тем, что хоть на несколько минут Чампни забыл о пережитом. Что до него, то мысленно он был не в Галарии, а в Вестовере. Так, значит, все-таки он совершил это черное дело, он, этот смазливый, чувствительный юнец! Выпросил у приютившей его женщины пять тысяч и ранчо, а потом позаботился о том, чтобы ему не пришлось ждать завещанного слишком долго! Возникшая было у Гранта симпатия к нему скоропостижно скончалась. С этого момента Роберт Тисдейл стал для него значить не более чем пустая молочная бутылка, оставленная на подоконнике, — ненужная вещь, мусор, от которого надо избавиться как можно быстрее и без лишних хлопот. В глубине души он чувствовал легкое сожаление, что Тисдейл, каким он себе его представлял, в действительности не существует; однако сейчас он испытывал лишь облегчение оттого, что дело будет вскоре завершено. В том, какое решение будет принято на совещании, он почти не сомневался. Улик у них было достаточно. И к тому времени, когда дело будет слушаться в суде, они соберут еще.
Его непосредственный начальник — Баркер, так же как и комиссар, с ним согласился полностью. Случай был достаточно ясный. Человек разорен, остался без угла и не знает, как жить дальше. В этот момент его подбирает на дороге богатая женщина. Четыре дня спустя она составляет документ, по которому завещает ему деньги. На следующее утро, едва рассвело, женщина идет купаться. Он следует за ней через несколько минут. Он отсутствует, когда находят ее тело. Вскоре появляется и плетет небылицы о том, что похитил машину, а потом раскаялся и вернулся. В волосах утонувшей находят черную пуговицу, а у мужчины отсутствует пальто. По его словам, пальто было украдено за два дня до этого. Однако есть свидетель, который утверждает, что видел на мужчине пальто утром того же дня. Да, дело вполне ясное. Все налицо: возможность, мотив и ключевая улика.
Единственным, кто возражал против немедленного ареста, как это ни странно, оказался Эдуард Чампни.
— Вам не кажется, что все здесь как-то слишком уж гладко складывается? — усомнился он. — Я хочу сказать, неужели, будучи в здравом рассудке, кто-то станет убивать своего благодетеля на следующее утро после составления завещания?
— Вы забываете, лорд Эдуард, что, если бы не простая случайность, никто бы не сомневался в том, что это несчастный случай. К тому же ему была дорога каждая минута, — прибавил Грант. — У него оставалось всего несколько дней. Коттедж был снят только до конца месяца. Он об этом знал. Потом, она ведь могла и не пойти больше купаться. Погода испортилась бы, или ей бы захотелось куда-нибудь съездить, или, что самое главное, она пошла бы купаться, но среди дня. А так все складывалось как нельзя лучше: пляж пустынный, утро раннее и туман еще не совсем рассеялся. Он не хотел упускать такой шанс. Да, дело абсолютно ясное.
Лорд Чампни отправился в особняк на Риджент-парк, который вместе с состоянием унаследовал от Бремфа и который в периоды между скитаниями по дальним странам служил ему домом. А Грант, с ордером на арест в кармане, направился в Вестовер.
9
Больше всего на свете Тозелли ненавидел полицию. За всю свою жизнь он многое что ненавидел: когда был официантом, ненавидел метрдотеля; став метрдотелем, ненавидел управляющего рестораном; сделавшись управляющим, возненавидел сразу многое и многих: шеф-повара, сырую погоду, свою жену, усы старшего портье, клиентов, которые желали видеть его во время завтрака, — всего и не перечислишь. Но более всего он ненавидел полицейских. Они мешали бизнесу, и они мешали пищеварению. Стоило ему увидеть сквозь застекленные двери, как кто-то из них входит в зал, как у него сразу переставал вырабатываться желудочный сок. Достаточно скверно было уже одно воспоминание о размерах счета на ежегодный новогодний «презент» местной полиции: тридцать бутылок шотландского виски, тридцать бутылок джина, две дюжины шампанского, еще шесть бутылок ликера; но подвергнуться вдобавок к этому еще и вторжению полицейских, так сказать не учтенных и не задобренных, и таким образом поставить под угрозу хрупкую репутацию отеля — это было слишком, свыше того, что способен выдержать мистер Тозелли с его раскормленными телесами и высоким давлением.
Именно потому он и встретил Гранта сладчайшей улыбкой: Тозелли шел с этой натянутой над негодованием, как канат над пропастью, улыбкой всю жизнь. Он даже угостил Гранта второсортной сигарой. Ах, инспектор Грант желает побеседовать с новым официантом? Пожалуйста! Ну конечно! Сделайте одолжение! Сейчас у официантов как раз перерыв — между ленчем и файф-о-клоком, но он пошлет за ним немедленно.
— Стоп! — прервал его Грант. — Вы сказали, у него перерыв? Вы знаете, где он сейчас?
— Скорее всего в своей комнате. Официанты в этот промежуток обычно дают отдых ногам, знаете ли. Разумеется, пожалуйста. Тони! — окликнул Тозелли мальчика, проходившего мимо дверей офиса. — Проводите этого джентльмена в комнату нового официанта!
— Спасибо. Вы еще будете здесь, когда я спущусь? Мне нужно с вами поговорить.
— Я буду на месте, — отозвался Тозелли трагическим тоном, выражая полную покорность судьбе. Его улыбка стала еще шире, и он взмахнул руками. — На прошлой неделе поножовщина в кухне, на этой неделе — снова… Что же на этот раз? Кража? Незаконное сожительство?
— Я потом вам все объясню, мистер Тозелли.
— Я еще буду. — Его улыбка превратилась в гримасу. — Но только недолго! Недолго, да! Я собираюсь покупать такую штуку: бросаешь в щелку шестипенсовик и получаешь еду, да, вот так. И полное, ну полное удовольствие для всех.
— Не забудьте, что и шестипенсовики бывают фальшивые, — заметил Грант, направляясь за Тони к лифту. — Сангер, вы подниметесь со мной, — сказал Грант, когда они проходили сквозь шумный холл. — Вы, Вильямс, ждите нас здесь. Мы его проведем тут. Меньше шума, чем через служебный выход. Никто ничего не заметит. Машина наготове?
— Да, сэр.
Грант и Сангер вошли в лифт. В эти несколько минут полной, внезапной тишины и вынужденного бездействия Грант успел с недоумением подумать о том, почему он не показал ордер на арест и не объявил Тозелли, в чем дело. Обычно он так и поступал. Почему им вдруг овладело такое нетерпение во что бы то ни стало поскорее словить эту птицу? Может, в нем вдруг проснулась кровожадность его шотландских предков? Или у него вдруг возникло предчувствие, что… Что? Он не знал. Он знал лишь одно, что не хочет медлить ни минуты. Время для объяснений еще будет. Сейчас он хотел только одного: чтобы этот человек оказался у него в руках.
Тихий шум лифта был как шелест поднимающегося занавеса.
Помещения для официантов, не имевших собственного жилья, располагались на самом верхнем этаже огромного здания, которое занимал вестоверскии отель «Моряк». Это был ряд каморок под самой крышей. Мальчик-провожатый уже протянул костлявый кулачок, чтобы постучать в дверь, когда Грант остановил его.
— Спасибо. Можете идти, — сказал он. Тони и лифтер тут же исчезли в глубинах отеля, а двое полицейских остались одни в устланном циновкой коридоре.
Грант постучал. Вялый голос Тисдейла произнес: «Войдите!»
Комната была невероятно тесной; Гранту невольно подумалось, что ожидающая Тисдейла тюремная камера покажется ему просторной. Кровать у одной стены, в другой — окно, и у дальней стены дверцы двух стенных шкафов. Тисдейл лежал на постели, спустив ноги на пол. Рядом, на покрывале, — книга вверх обложкой.
Тисдейл ожидал увидеть одного из официантов. Это было очевидно. При виде Гранта его глаза расширились, а когда он перевел взгляд на Сангера, стоявшего за спиной Гранта, то сразу догадался о цели их прихода.
— Не может быть, чтобы вы решились на это! — воскликнул он прежде, чем Грант открыл рот.
— Решились, решились, — отозвался Грант и произнес полагающиеся в случае ареста слова. Но Тисдейл как будто не слышал его.
Когда Грант замолчал, он медленно проговорил:
— Вероятно, так чувствуешь себя, когда наступает смерть: это кажется дико, но неизбежно.
— Почему вы были так уверены в причине нашего появления?
— Не пришли же вы вдвоем, чтобы справиться о моем здоровье? — сказал он чуть громче обычного. — Мне все-таки хотелось бы знать — почему? Какие у вас против меня улики? У вас не может быть доказательств, что пуговица моя, потому что она не моя. Почему вы не скажете, что именно вы обнаружили, чтобы я мог объясниться? Если у вас появилась новая улика, то почему вы не даете мне шанс оправдать себя? В любом случае имею я право знать, в чем дело?
— Вы ничего уже не сможете объяснить, Тисдейл. Лучше давайте-ка собирайтесь.
Тисдейл поднялся, все еще не веря в случившееся.
— Я не могу идти во всем этом, — проговорил он, глядя на свою униформу. — Можно переодеться?
— Можно, и возьмите с собой самое необходимое.
Опытным жестом Грант ощупал его карманы, но ничего там не обнаружил.
— Переодеваться придется в нашем присутствии. И извольте поторопиться, — сухо сказал он и прикрыл дверь, оставив Сангера снаружи. Сам же встал у окна и облокотился на подоконник: это был самый верхний этаж, а Тисдейл мог решиться на самоубийство. Такие, как он, не в силах представить себя в тюрьме. Не хватает даже тщеславия, чтобы испытать удовольствие от сомнительной популярности после газетных публикаций. Скорее он из таких, кто говорит себе: «Когда я умру, они пожалеют о том, что сделали».
Грант незаметно следил за каждым движением Тисдейла. Постороннему наблюдателю показалось бы, что Грант просто навестил приятеля и лениво болтает с ним. На самом деле он был весь в напряжении, готовый к действию в любую минуту.
Однако все выглядело совершенно спокойно. Тисдейл выдвинул из-под шкафа чемодан и начал машинально переодеваться в свой твидовый пиджак и фланелевые брюки. Грант подумал, что будь у него при себе яд, он наверняка прятал бы его в повседневной одежде, поэтому позволил себе немного расслабиться, лишь когда Тисдейл отложил униформу в сторону. Он, видимо, оставил всякую мысль о каком бы то ни было сопротивлении закону. И слава Богу.
— Ну вот, мне снова не придется тревожиться о крыше над головой и о куске хлеба, — говорил он. — Даже в том чудовищно аморальном, что сейчас совершается, все же есть какая-то своя правда. Кстати, как насчет адвоката? Ведь ни денег, ни друзей у меня нет.
— Адвоката вам дадут.
— Понимаю. Как салфетку.
Он открыл дверцу того шкафа, который был ближе к Гранту, и принялся снимать с вешалок одежду и складывать в чемодан.
— Скажите же, по крайней мере, что у меня мог быть за мотив? — спросил он, словно эта мысль только что пришла ему в голову. — Можно спутать пуговицы, можно, в конце концов, внушить себе, что эта пуговица от того пальто, на котором ее никогда не было, но нельзя же изобрести мотив, когда такового нет?!
— Так у вас не было мотива?
— Разумеется, не было. Напротив — случившееся в четверг было самым сильным потрясением, которое я когда-либо испытал. Мне казалось, это должно быть ясно любому.
— Конечно, вы и понятия не имели о том, что мисс Клей включила вас в завещание и оставила вам ранчо и кругленькую сумму.
Тисдейл в этом время укладывал рубашку. При последних словах Гранта он вдруг выпрямился с рубашкой в руках и остановившимися глазами воззрился на Гранта.
— Крис это сделала? — воскликнул он. — Нет. Нет, разумеется, я не знал. Как благородно с ее стороны!
На мгновение Грант заколебался. Это было выполнено безупречно: интонация, движение, пауза — профессиональный актер не сделал бы лучше. Его сомнения длились лишь минуту. Стряхнув с себя наваждение, он чуть переменил позу, припомнил всех преступников с ангельским видом, которых ему доводилось встречать (Эндрю Хейли, который специализировался на том, что женился, а потом топил своих избранниц одну за другой и при этом выглядел как солист церковного хора, и других, обладавших еще большим обаянием и умом), и успокоил себя, как всякий истинный детектив, мыслью о том, что преступник у него в руках.
— Действительно, вы выкопали просто идеальный мотив. Бедная Крис, она-то думала, что осчастливила меня! Но у меня есть шансы на защиту?
— Об этом не мне судить.
— Я испытываю к вам большое уважение, инспектор. Вероятно, мне придется расстаться с жизнью, так и не доказав, что я не виноват.
Тисдейл захлопнул первый шкаф и открыл следующий. Дверца его распахивалась внутрь, и Грант не видел, что там находится.
— В одном только вы меня разочаровали. Я считал вас хорошим психологом. В субботу утром, когда я рассказывал вам о своей жизни, мне показалось, вы достаточно разбираетесь в человеческой природе, для того чтобы понять — я не способен на преступление. Теперь я вижу, что вы всего лишь обычный полицейский.
Держась за ручку двери, Тисдейл наклонился к полу, будто собираясь достать обувь.
Послышался звук ключа, выдернутого из замочной скважины, дверь захлопнулась, и прежде, чем Грант успел добежать до шкафа, ключ повернули с противоположной стороны.
— Тисдейл! — крикнул он. — Не глупите! Слышите?
Мысленно он уже перебирал все средства против ядов, какие знал. Господи, какой же он дурак!
— Сангер! Помогите выломать дверь! Он заперся!
Двое мужчин пытались совместными усилиями вышибить дверь, но безуспешно.
— Послушайте меня, Тисдейл, — проговорил Грант, тяжело дыша. — Только дураки глотают яд. Мы вас сейчас оттуда вытащим, дадим противоядие, и дело кончится тем, что вы будете в скверном состоянии и все равно ничего не добьетесь! Подумайте об этом!
Дверь по-прежнему не открывалась.
— Пожарный топорик! — бросил Грант. — Я видел его, когда поднимался! На стене, в конце коридора!
Всего несколько секунд Сангеру потребовалось, чтобы сбегать за топором. При первом же ударе из соседней комнаты высунулся полуодетый и сонный сотоварищ Тисдейла по профессии:
— Вы так шумите, можно подумать, что полиция сюда нагрянула! — и, увидев в руках Сангера топор, оторопело спросил: — Чего это вы задумали, мистер?
— Отойдите, дуралей этакий! Там в шкафу человек, и он собирается совершить самоубийство!
— Самоубийство? Шкаф?! — Официант взъерошил волосы, как не вполне проснувшийся ребенок. — Это никакой не шкаф.
— Не шкаф?!
— Да нет. Это… забыл, как называется… такая узенькая лестница.
— Господи Боже! — вырвалось у Гранта, и он кинулся к двери. — Куда выходит лестница? — крикнул он на бегу.
— В коридор главного холла.
— Восемь этажей, — кинул Грант. — Пожалуй, лифтом быстрее. — Он нажал кнопку. — Вильямс задержит его, если он попытается выйти на улицу, — ради собственного утешения заметил он.
— Вильямс не знает его в лицо, сэр.
У Гранта вырвалось ругательство, которое он не произносил со времен войны.
— А дежурный у служебного выхода его знает?
— Да, сэр. Он там для того и поставлен, чтобы задержать Тисдейла в случае чего. А сержант Вильямс просто ждет нас с вами.
Грант потерял дар речи. Показался лифт. Через тридцать секунд они были в холле. Выражение безмятежного спокойствия на физиономии Вильямса подтвердило их худшие опасения. Вильямс явно никого не задержал.
Люди входили и выходили: одни шли в ресторан пить чай, другие — на площадку под тентом за мороженым, третьи спешили в бар. Четвертые ждали знакомых, чтобы вместе посидеть в «Лионе» — ресторанном зале, где собирались в основном католики. Чтобы как-то выделиться в этой толпе, пришлось бы по меньшей мере начать ходить на руках. Вильямс сообщил, что минут пять назад молодой человек, с каштановыми волосами, без шляпы, в твидовом пиджаке и модных фланелевых брюках, проследовал через холл. На улицу. «И даже не один, а двое», — добавил он.
— Как двое? Они что, вышли вместе?
Нет, Вильямс имел в виду, что два разных молодых человека, отвечающих приметам, вышли на улицу за последние пять минут. А вот, кстати, и третий такой же. Действительно, они увидели того, кого имел в виду Вильямс. При виде его отчаяние, как волна, ударила Гранта и окатила его с ног до головы. В самом деле, таких, как Тисдейл, много. В одном лишь Кенте в этот момент найдутся десятки тысяч молодых людей, по внешним приметам ничем не отличающихся от Тисдейла.
Грант с трудом взял себя в руки и занялся неблагодарным делом — организацией полицейской облавы.
Это была самая крупная ставка, которую удалось сорвать Джемми Хопкинсу за всю жизнь. Вечерние выпуски всех остальных газет в тот день вышли со страшными снимками молодежной банды, объявившейся в Голден-Грин: снятые крупным планом, орущие прямо в камеру, жуткие головы, как у Медузы Горгоны; растерзанные фурии с взлохмаченными волосами, вцепившиеся друг в друга, — в редакциях посчитали, что для одного дня материала вполне достаточно. Все равно главным событием дня безусловно стали похороны Кристины Клей. Фотографии этого события получились на славу. Они могли считать, что им есть чем гордиться.
Но не напрасно Хопкинс неотступно следовал за Грантом с Вигмор-стрит до туристической конторы «Ориент», оттуда — ко Дворцу правосудия и потом снова до Скотланд-Ярда; не напрасно он томился потом за углом, пока нанятый им помощник стоял на часах возле входа и дал знать, когда Грант снова вышел оттуда. Не напрасно он потащился за Грантом в Вестовер. И «Страж» вышел с сенсационными заголовками: «Клей убита. Арест». Люди толпились возле продавцов выпуска. Другие корреспонденты рвали на себе волосы, а главные редакторы стали грозить увольнением. Они не желали слушать робких оправданий, что, мол, Скотланд-Ярд обещал дать информацию, как только сам будет ею располагать. «За что им деньги платят? — вопрошало разгневанное начальство. — Чтобы штаны просиживать и дожидаться, когда их позовут в Скотланд-Ярд и кинут крохи с барского стола? За кого они, собственно, себя принимают — за владельцев тотализаторов?»
Зато Джемми сегодня был у начальства в фаворе и получил отличный гонорар. Он снял себе номер в «Морском отеле», устроилсятам по-царски (не то что Грант, у которого там тоже был номер, но которому все ближайшие дни и ночи предстояло провести в полицейском участке) и возблагодарил звезды за то, что они уготовили Кристине Клей такую эффектную кончину.
Что касается Гранта, то, как он заранее и предполагал, он был завален сугробами информации. К полудню вторника Тисдейла видели уже почти во всех концах Англии и Уэльса, а к пяти часам дня — и в Шотландии. Видели, как он выходил из кино в Аберистве. Видели, как он удил с моста в Йоркшире и подозрительно надвинул на лоб шапку, когда к нему подошли. Он снял номер в гостинице «Линкольн» и исчез, не заплатив (Грант предполагал, что Тисдейл и в самом деле часто исчезал, не заплатив). Он попросился на пароход в Ловэтофте. (И еще в полудюжине мест. Количество молодых людей, уклонившихся от уплаты квартирным хозяйкам и желавших покинуть родные места, оказалось просто угнетающе велико.) Его нашли мертвым в болоте возле Пенрита (перепроверка этого сообщения заняла у Гранта больше половины дня). Его обнаружили мертвецки пьяным в одном из лондонских переулков. Он покупал шляпу в Хите, в Грэнтаме, Ливсе, Торн-бридже, Дорчестере, Эшторде, Лутоне, Эйлсбери, Лейчестере, Ист-Гринстеде и в четырех магазинах Лондона. Он также купил пачку булавок в универсальном магазине «Сван и Эдгар». Он съел сэндвич с крабами в забегаловке на Аргил-стрит, две булочки с кофе — в кондитерской у Гастингса и бутерброд с сыром в гостинице «Приют путника». Он также был замечен в краже всевозможных вещей во всевозможных местах, в том числе хрустального графина для вина со склада посудного магазина в Кройдоне. Когда сообщившего спросили, зачем, по его мнению, Тисдейлу мог понадобиться графин, тот ответил, что он может служить прекрасным оружием.
Три телефона, как безумные, трезвонили не переставая, почта, телеграф, радиопередатчик и просто люди все продолжали приносить новую информацию. Девять десятых ее были явно бесполезны, однако всю ее надо было принять; часть сведений, перед тем как признать их бесполезность, требовалось проверить.
Грант кинул взгляд на растущую перед ним на столе кипу рапортов, и самообладание покинуло его.
— За малую промашку — и такая цена! — выдохнул он.
— Не горюйте, сэр! — отозвался Вильямс. — Могло быть и хуже.
— Куда уж хуже! Что же, по-вашему, должно произойти, чтобы стало еще хуже?
— Мог бы явиться чокнутый, признаться в убийстве, и мы потратили бы на него целый день.
Чокнутый заявился на следующее же утро.
Грант поднял глаза от мокрого от росы пальто, которое ему только что принесли, и увидел, что Вильямс с таинственным видом, прикрыв за собой дверь, таинственно к нему приближается.
— Что еще там, Вильямс? — резко спросил он, предчувствуя недоброе.
— Чокнутый.
— Что?!
— Особа, желающая сделать признание, — проговорил Вильямс виноватым голосом, будто считал, что именно его вчерашние слова навлекли на них эту беду.
Грант застонал.
— Очень необычная особа, сэр. Весьма любопытная. Можно даже сказать, интересная.
— Снаружи или внутри?
— Я имел в виду, как она одета.
— Она? Так это женщина?
— Да. Леди, сэр.
— Пусть войдет.
У него даже в ушах закололо от ярости: как посмела какая-то падкая до сенсаций дамочка посягать на его время ради утоления своих нездоровых аппетитов?!
Вильямс распахнул двери и впустил ярко и модно одетую женщину.
Это была Джуди Селлерс.
Не говоря ни слова, она вошла с мрачным и решительным видом. Несмотря на удивление, вызванное ее приходом, Грант невольно подумал о том, насколько она заурядна, несмотря на свою экстравагантную внешность. Недовольство всем на свете вообще и своей судьбой в частности — этот тип был ему слишком хорошо знаком.
Молча он пододвинул ей стул. Грант, когда хотел, умел держаться очень высокомерно.
— Спасибо, сержант. Вы мне больше не понадобитесь, — произнес он и, когда Вильямс вышел, обратился к Джуди Селлерс: — Не считаете ли вы, что это непорядочно?
— Непорядочно?
— Я работаю по двадцать три часа в сутки, чтобы разобраться в очень важном деле, а вы считаете для себя возможным разыгрывать передо мной комедию с признанием в убийстве.
— Никакой комедии я не разыгрываю.
— Это уже настолько смешно, что у меня есть желание освободиться от вашего присутствия немедленно.
Он хотел было выйти, но Джуди остановила его словами:
— Если вы так поступите, я пойду в другой полицейский участок, сделаю признание им, а они все равно пошлют меня к вам. Я действительно ее убила!
— Ничего подобного вы не делали.
— Это почему же?
— Хотя бы потому, что вас здесь не было.
— Откуда вы знаете, где я была?
— Вы, кажется, забыли: из субботнего разговора мне известно, что вы были в Челси на квартире мисс Китс.
— Я туда зашла только на коктейль. И ушла рано: мисс Китс собиралась с компанией куда-то вверх по Темзе.
— Даже если это и так, все равно невероятно, чтобы вы объявились на следующий день на рассвете на пляже возле Вестовера, вскоре после восхода солнца.
— Ничего удивительного нет в том, что утром я была уже на севере Англии. Если хотите знать, я подъехала на мотоцикле. Можете справиться у меня дома. Девушка, вместе с которой мы снимаем квартиру, скажет вам, что я вернулась домой только в четверг около двух.
— Одно это вряд ли может служить доказательством ваших преступных намерений.
— Но так оно и было. Я подъехала к Расщелине, спряталась в зарослях и подождала, пока она придет.
— Разумеется, на вас было мужское пальто.
— Да, хотя я не понимаю, как вы догадались. В машине было холодно, и я надела пальто брата, которое лежало там.
— Так вы вышли на пляж в пальто?
— Я же сказала, было промозгло. И я не люблю залезать в воду по утрам.
— А вы еще и в воду залезли?
— Ну конечно. Не могла же я ее утопить с берега.
— И оставили пальто на берегу?
— Нет, — саркастически отозвалась она. — Я пошла плавать в пальто.
Грант облегченно вздохнул: он уже начал бояться, что она говорит правду.
— Итак, вы переоделись в купальный костюм, вышли на пляж в накинутом на плечи пальто, и дальше? Что было дальше?
— Она отплыла уже довольно далеко от берега. Я вошла в воду, подплыла к ней и утопила.
— Каким образом?
Она сказала: «Привет, Джуди». Я ей ответила и легонько стукнула по подбородку — брат показал мне, куда надо бить, чтобы вывести человека из строя. Потом я поднырнула, взяла ее за пятки и потащила за собой, пока она не утонула.
— Складно у вас получается. И долго вы это обдумывали? А мотив вы тоже себе придумали?
— Просто я ее терпеть не могла. Ненавидела ее, если хотите знать. За ее успех, внешность, за ее самонадеянность. Она встала мне поперек горла, как кость: я не могла ее больше выносить.
— Понятно. А теперь объясните пожалуйста, почему, практически идеально совершив убийство, вы теперь спокойно приходите ко мне, чтобы самой сунуть голову в петлю?
— Потому что вы подозреваете другого человека.
— Скажите уж прямо — потому, что мы подозреваем Роберта Тисдейла. Он и есть истинная причина. А теперь, может — в качестве компенсации за потраченное на вас мое драгоценное время и в виде оправдания, — вы расскажете мне все, что вам известно о Тисдейле?
— Ничего мне о нем не известно. Кроме одного — на убийство он не способен. При любых обстоятельствах.
— Выходит, вы его хорошо знаете?
— Нет. Едва знакома.
— И вы не были, так сказать, друзьями?
— Нет, ни друзьями, ни любовниками, если вы это имели в виду. Бобби Тисдейл представления не имеет, что я существую на свете, он только однажды передал мне коктейль.
— И тем не менее вы поставили на карту свою жизнь, чтобы его вызволить? — спросил Грант более мягко.
Она предпочла не заметить этого и угрюмо ответила:
— Если я убила, почему за меня должен пострадать невинный?
— Я думаю, это зависит от того, насколько искушена в таких делах полиция. Мне кажется, вы нас явно недооцениваете, мисс Селлерс.
— Мне кажется, вы полные идиоты. Вы собираетесь арестовать невиновного. Гоняетесь за ним, как собаки. И не желаете верить, когда вам признаются в убийстве.
— Понимаете, мисс Селлерс, в деле всегда бывают некие детали, которые известны лишь полиции и не попадают в газеты. Вы же сочинили свою историю на газетной информации. Об одной такой детали вы просто не знали. О другой забыли.
— О чем это я забыла?
— О местопребывании Кристины Клей не было известно никому.
— А убийце?
— Конечно. В этом-то все и дело. А теперь извините, я очень занят.
— Вы не поверили ни одному моему слову.
— Неправда. Поверил, и даже не одному: ночь на вторник вы провели вне дома, вы, вероятно, в тот день действительно купались, а в среду, к середине дня, вы вернулись домой. Но все это еще не преступление.
Она неохотно встала и небрежным жестом вынула из сумочки помаду.
— Что ж, — подкрашивая губы, сказала она хорошо поставленным, «сценическим» голосом. — Моя попытка хоть немного прославиться провалилась, и мне не остается ничего другого, как до конца дней своих играть безмозглых блондиночек. Хорошо, что я купила обратный билет.
— Меня вам не одурачить, — сказал на прощание Грант, несколько повеселев, и распахнул перед ней двери.
— Тут вы, может, и правы, черт вас подери. Но насчет него вы глубоко ошибаетесь. Настолько глубоко, что, помяните мое слово, еще покроете себя позором до завершения этого дела. — С этими словами она с независимым видом проследовала мимо изумленного Вильямса и двух клерков и исчезла.
— Ну вот, — заметил Вильямс, — начало положено. Прямо какой-то ненормальный народ пошел, правда, сэр? Если бы мы обнародовали факт, что ищем пальто с оторванной пуговицей, то наверняка нашлись бы такие, кто сам оторвал бы пуговицу и притащил нам свое пальто. Просто так, развлечения ради. Словно нам и без того делать нечего. А дамочка не похожа на чокнутую, ведь так?
— Не похожа. Что вы о ней думаете, Вильямс?
— Из актрисуль, что играют в мюзиклах. Хочет получить паблисити ради карьеры. Молоток, а не дамочка.
— Вот и неверно. Играет в театре. Ненавидит свою профессию. Мягкосердечна до того, что готова жертвовать собой ради ближнего.
Вильямс был явно обескуражен.
— Правда, я с ней почти не разговаривал, — заметил он, словно оправдываясь.
— Конечно. Если судить по внешности, то ваше заключение абсолютно точно. Хотелось бы мне также уверенно делать свои заключения в нашем с вами деле. — Он сел и задумчиво провел руками по волосам. — Что бы вы предприняли, выбравшись из «Моряка»?
Вильямс понял: Гранту хочется, чтобы он поставил себя на место Тисдейла.
— Я бы сел в переполненный автобус. Первый попавшийся. Сошел бы вместе с остальными и двинулся так, будто знаю, куда и зачем иду. И постарался бы держаться с таким видом все время, пока я на людях.
— А потом?
— Потом, вероятнее всего, снова сел в автобус, чтобы выбраться за город.
— Вы хотите сказать, что покинули бы город?
— Ну да, конечно! — удивился Вильямс.
— В сельской местности городской человек всегда больше бросается в глаза.
— А на что лес? В этой части столько лесов, что в них человек может скрываться сколько захочет. А если он доберется до лесного массива возле Эшдауна, то и сотня полицейских не прочешет тот лес полностью.
Грант отрицательно покачал головой:
— Но надо же чем-то питаться. И где-то спать.
— Спать можно и в лесу. Погода стоит теплая.
— Прошло уже двое суток. Если он вне города, то должен бы выглядеть изможденным и грязным. Но так ли это на самом деле? Вы заметили, никто не сообщил нам, чтобы он где-нибудь покупал бритву. Все-таки есть шанс, что он укрылся у кого-нибудь из приятелей. Интересно… — Его взгляд остановился на стуле, который только что занимала Джули Селлерс. — Нет, вряд ли она решила уж так блефовать. Будь он у нее, она бы к нам не явилась.
Вильямс подумал о том, что хорошо бы Гранту пойти в отель и хоть немного отоспаться. Он слишком близко принимает к сердцу свой промах при аресте Тисдейла. Никто не застрахован от ошибок, Грант — знаток своего дела, и это известно всем. Его репутация в Ярде достаточно прочна. И чего он себя так казнит за то, что могло случиться с каждым? Конечно, и в Ярде есть охотники занять его место, но к ним всерьез никто не относится. Все знают, чего они добиваются. Грант — профессионал, с ним все в порядке. Глупо, что он сокрушается из-за такой ерунды.
Если бы можно было предположить, что у полисмена болит за кого-то сердце, то уж точно — большое сердце Вильямса болело за начальника.
— Уберите этот отвратительный предмет, — говорил между тем Грант, показывая на пальто. — Ему по меньшей мере двадцать лет, и лет десять как на нем нет ни одной пуговицы. Одно меня озадачивает, Вильямс: на пляже пальто было на Тисдейле, а вернулся он без него. Значит, он должен был избавиться от пальто где-то по дороге. Далеко отклоняться в сторону у него просто не хватило бы времени. Он спешил вернуться, чтобы загладить свою ошибку с паническим бегством. И, несмотря на все усилия, мы так и не обнаружили это пальто. В этом районе два пруда, оба мелкие, и оба мы обшарили. Три ручейка, в которых монеты не спрячешь, даже бумажного кораблика не пустишь. Канавы все облазили, садовые ограды осмотрели, две рощи тоже прочесали. Ничего! Что он с ним сделал? Что бы вы с ним сделали, а, Вильямс?
— Сжег.
— Времени не хватит. И потом, оно сырое, скорее даже не сырое, а мокрое.
— Скатал бы и сунул куда-нибудь на дерево. Обычно все ищут на земле.
Вильямс! Вы прирожденный преступник! Изложите Сангеру свою идею, и пусть он сегодня же проверит ее на практике. Мне это пальто нужнее сейчас, чем сам Тисдейл. Просто позарез необходимо!
— Кстати, о бритвах, сэр. Может быть, он успел взять свою?
— Я об этом не подумал. Я не думал, что у него хватит духу на это. Правда, я вообще не предполагал, что у него хватит духу на то, чтобы дать тягу. Я думал только о попытке самоубийства. Где его вещи?
— Сангер доставил их сюда вместе с чемоданом. Здесь все, что у него было с собой.
— Посмотрите прямо сейчас, там ли бритва. Чтобы знать хотя бы, выбрит он или нет.
Бритвы в чемодане не оказалось!
«Я обманулся в вас, инспектор», — произносит он, а тем временем спокойно кладет в карман бритву и готовится удрать под самым носом у великого детектива. Я абсолютно заблуждался по поводу этого парня, Вильямс. Абсолютно. Поначалу, когда вез его на разбирательство, я решил, что он один из импульсивных истериков. Потом, когда узнал про завещание, изменил свое мнение. Хотя по-прежнему считал его слабаком. А теперь… теперь оказывается, он планировал побег у меня под носом — и осуществил это! Это не Тисдейл слабак, а я!
— Да не убивайтесь вы так, сэр! В настоящий момент у нас полоса невезения. Но вы и я — только вы и я вдвоем, клянусь вам — добудем этого стервеца и отправим его туда, где ему и место! — горячо проговорил Вильямс. Произнося эту прочувствованную речь, Вильямс и не подозревал о том, что особой, которая действительно сыграет центральную роль в передаче преступника в руки правосудия, окажется глупенькая дамочка из Канзас-Сити, которая и знать не знала об их существовании.
10
Эрика тормознула и остановила свою непрезентабельную крошечную машину. Потом она дала задний ход и остановилась снова. Она с интересом поглядела на носок мужской туфли, выглядывавшей из зарослей травы и папоротника, потом перевела взгляд на пустынный ландшафт и на белеющую, прямую как стрела, дорогу, по сторонам которой посверкивали на солнце ограничители скорости.
— Можете вылезать, — сказала она, — на целые мили вокруг нет ни одной живой души.
Носок туфли исчез, и из-за кустов появилась удивленная мужская физиономия.
— Уф! Теперь я могу вздохнуть с облегчением. А то я уж думала, что вы мертвый.
— Откуда вы узнали, что это я? Вы же знали, что это я?
— Конечно знала. У вас на подошве одной туфли такая смешная загогулина — в том месте, где был ценник приклеен. Я заметила ее еще тогда, когда вы лежали на полу у отца в кабинете.
— Ах вот вы кто. Вы прекрасный детектив.
— А вы никуда не годный беглец. Вашу ногу просто нельзя не заметить.
— Вы появились так неожиданно. Я не слышал вашей машины и опомнился, когда она на меня уже чуть не наехала.
— Вы что, глухой? Бедная Тинни — над ней все графство потешается. В наших местах она такая же достопримечательность, как шляпка леди Миддлвей или коллекция раковин старого мистера Дина.
— А почему Тинни?
— Она когда-то была Кристиной, ну а потом… потом одряхлела и стала Тинни. Вы просто не могли ее не слышать.
— Наверное, я на какое-то время задремал. Я… я немножко недосыпаю.
— Еще бы. Есть хотите?
— Это чисто теоретический вопрос или у вас есть что-нибудь съестное?
Эрика засунула руку в машину и извлекла полдюжины булочек, баночку с консервированным языком, граммов двести масла и шесть помидоров.
— Консервный нож я забыла. Стукните по крышке чем-нибудь острым, и она проткнется.
Она деловито разрезала булочку перочинным ножиком и стала ее намазывать маслом.
— Вы что, постоянно носите с собой еду? — спросил он подозрительно.
— Ага. Я всегда есть хочу. И потом, иногда прихожу домой только к вечеру. Держите нож, отрезайте консервы и кладите на булку. Потом нож дадите мне, я вторую булочку разрежу.
Он послушно сделал, как она велела, и Эрика стала разрезать еще одну булочку, из деликатности стараясь не смотреть в его сторону, чтобы ему не приходилось сдерживать голод.
Наконец он заговорил:
— Вы, конечно, понимаете, что поступаете нехорошо.
— Почему это?
— Нехорошо, потому что помогаете сбежавшему преступнику; вдвойне нехорошо, потому что ваш отец констебль. К тому же — и это еще серьезнее, — если я тот, за кого они меня принимают, в эту минуту вы подвергаете себя страшной опасности. Нельзя такие вещи делать.
— Если бы вы были убийцей, то какой смысл вам еще и меня убивать? Чтобы я не донесла на вас, что ли?
— По-моему, если человек убил однажды, так ему ничего не стоит сделать это опять. Больше одного раза все равно не повесят. Значит, вы не считаете, что я убил?
— Уверена, что нет.
— Откуда такая уверенность?
— Вы на это не способны.
— Спасибо! — сказал он с чувством.
— Я не в том смысле.
— А! Понял! — Он слабо улыбнулся: — Не очень лестно, но обнадеживает. Скажите, у вас в роду, случайно, не было святого Георгия?
— Георгия? Нет, не было. Да вы не бойтесь, ради правого дела я вру без запинки.
— Да, сегодня вам этого не избежать. Если вы только и вправду не собираетесь меня выдать.
— Не думаю, что меня кто-то будет допрашивать, — сказала она, не потрудившись даже отреагировать на его последнюю реплику. — Кстати, должна сказать, борода вам не идет.
— Она и мне не нравится. Я захватил с собой бритву, но без мыла и воды у меня ничего не получается. У вас, случайно, нет с собой в машине еще и кусочка мыла?
— Нет. Я не мою руки перед едой. Зато у меня есть такая мыльная жидкость, «Снежинка» называется. Я ею пользуюсь для рук, когда приходится менять колесо. — Она достала бутылку из кармана в машине. — А вы, похоже, гораздо умнее, чем мне казалось.
— Да? Из чего вы сделали такой вывод?
— Из того, что вы удрали от инспектора Гранта. Отец говорит, что он знаток своего дела.
— Я тоже так думаю. Да я бы ни за что не решился на побег, если бы так не боялся, что меня посадят. Вообще-то, те полчаса были самыми захватывающими за всю мою жизнь. Теперь я знаю, что значит жить на полную катушку. Раньше я думал, что это — когда у тебя есть куча денег и ты можешь делать все, что пожелаешь, по двадцать разных развлечений в сутки. Оказывается, это совсем другое.
— Она действительно была такая хорошая — Кристина Клей?
— С вами не соскучишься — перескакиваете с одной темы на другую, — проговорил раздраженно Тисдейл, сразу перестав улыбаться. — Да, она была прекрасным и очень великодушным человеком. — Он даже забыл про еду. — Знаете, что она сделала? Она подарила мне ранчо в Калифорнии, потому что знала, как я ненавижу сидение в конторе.
— Знаю.
— Да?
— Я слышала, как отец и другие это обсуждали.
— А! И вы все-таки верите, что я не убивал ее? Да, похоже, вы действительно считаете меня ни на что не годным.
— Красивая она была?
— А вы ее никогда не видели? На экране, я имею в виду?
— Кажется, нет.
— И я тоже. Забавно, да? Когда переезжаешь с места на место, то часто пропускаешь самые известные фильмы.
— А я вообще редко бываю в кино. До хорошего кинотеатра от нас далеко. Съешьте еще языка.
— Крис думала, что спасла меня от бедности. Какая злая ирония: ее подарок обернулся для меня смертным приговором.
— Вы не догадываетесь, кто бы мог это сделать?
— Нет. Я же не знаю никого из ее друзей. Она просто подобрала меня на улице как-то ночью. Наверное, вам представляется это диким?
— Совсем нет. Если вы понравились друг другу. Я очень большое значение придаю внешности.
— Не могу до сих пор отделаться от ощущения, что полиция ошибается. Что это все-таки не убийство, а несчастный случай. Вы бы видели пляж в то утро. Абсолютно пустынный. Кругом ни души. Еще все спали. Почти невероятно, чтобы в этот час и в это место кто-то явился специально, с целью совершить убийство. Ведь мог же и на самом деле произойти несчастный случай.
— Если бы ваше пальто нашлось и на нем все пуговицы оказались целы, это сняло бы с вас подозрение?
— Думаю, да. По-моему, это единственная улика, которая есть у полиции против меня. Но вы-то больше моего знаете, что у них есть, — сказал он с мимолетной улыбкой.
— Где вы были, когда его потеряли — это ваше пальто?
— Как-то мы поехали в Димчарч. Помнится, это было во вторник. Мы вылезли из машины и пошли прогуляться вдоль мола. Наши пальто остались на заднем сиденье. Они всегда у нас там лежали. Я не хватился своего, пока мы не остановились дозаправиться на обратном пути. Я повернулся, чтобы взять сумочку, которую Крис туда кинула, когда мы садились.
Он вдруг запнулся и страшно покраснел. Эрика взглянула на него с недоумением и потом тоже смутилась. Она не сразу сообразила: признание, как само собой разумеющееся, того факта, что женщина за него платила, для Тисдейла было более унизительным, чем само обвинение в убийстве.
— И пальто на месте не оказалось, — поспешно проговорил он. — Оно могло исчезнуть, только пока мы прогуливались.
— Может, цыгане?
— Вряд ли. Я их не встречал. Скорее всего случайный прохожий.
— На пальто есть какая-нибудь особая примета? Ну по которой можно доказать, что оно ваше?
— Мое имя есть на ярлычке.
— Если его украли, то первое, что вор сделает, это сдерет ярлычок.
— Да-да, конечно. Погодите, я вспомнил еще кое-что: маленькая дырочка ниже кармана — кто-то сигаретой случайно прожег.
— Вот это уже лучше. Тут уже сомнений не будет.
— Если его найдут!
— Не думаете же вы, что вор сам принесет его, узнав, что оно нужно полиции? И потом, полиция не смотрит на те пальто, которые на ком-то надеты. Они ищут брошенное. Собственно, ваше-то пальто никто и не ищет. Ради того, чтобы доказать, что то, с оторванной пуговицей, — не ваше.
— Что же мне делать?
— Сдаться.
— Что?!
— Сдаться властям. Вам дадут адвоката и все такое прочее. Тогда уже он займется поисками вашего пальто.
— Не могу я этого сделать. Просто не могу, и все тут. Между прочим, как вас зовут?
— Эрика.
— Так вот, Эрика, при одной мысли, что меня запрут, мне делается плохо.
— Клаустрофобия, что ли?
— Ну да. Когда я знаю, что могу в любой момент выйти из какого-то закрытого помещения, ну пещеры предположим, это еще ничего. Но оказаться запертым на ключ, когда не останется ничего другого, как сидеть и думать, думать о… Нет, ни за что.
— Раз так, тут уж ничего не поделаешь. Но это был бы самый разумный путь. Что же вы собираетесь делать?
— Опять заночую здесь. Вроде дождя не предвидится.
— Может, вам обратиться к кому-нибудь из друзей?
— Когда на мне висит убийство? Ну нет! Вы переоцениваете прочность человеческой дружбы. — Он немного помолчал и потом, сам пораженный этой мыслью, добавил: — Нет, пожалуй, тут я не прав. Просто мне, видимо, до этого не встречались настоящие друзья.
— Давайте тогда решим, куда мне завтра принести вам еду. Хотите, сюда же?
— Нет.
— Тогда куда?
— Я другое имел в виду. Я хотел сказать, вы не должны больше со мной видеться.
— Почему это?
— Потому что вы нарушаете закон, укрываете преступника. Я точно не знаю, как это у них называется, но это уголовно наказуемо. Нельзя этого делать.
— А кто мне может помешать выронить еду из машины? Нет такого закона, который это запрещает. Просто сыр, ломоть хлеба и шоколад случайно вывалятся у меня из машины. А теперь мне пора. Вокруг вроде бы никого, но, если надолго остановить машину, обязательно непонятно откуда кто-нибудь появится и станет задавать вопросы.
Она собрала остатки пищи, бросила в машину и села за руль. Непроизвольно он сделал движение, чтобы встать.
— Не валяйте дурака. Не надо вам высовываться.
Стоя на коленях, он обернулся:
— Хорошо. Эта поза вас устраивает? Во всяком случае, она лучше всего выражает мои чувства.
Она захлопнула дверцу и, перегнувшись через борт, спросила:
— Чистый или с орехами?
— Что?
— Шоколад.
— А! Если можно, с изюмом. Когда-нибудь, Эрика Баргойн, я осыплю вас бриллиантами и вы будете ходить по коврам, мягким, как…
Но последние слова потонули в реве Тинни, рванувшей с места в карьер.
11
— Добрячок, — обратилась Эрика к старшему конюшему отца, — у тебя что-нибудь отложено на черный день?
Добрячок оторвался от счетов на зерно, над которыми потел, его старческие выцветшие глаза скользнули по лицу Эрики, и он снова ушел в свои подсчеты.
— Два пенса! — наконец выплюнул он.
Это относилось к счетам, и Эрика терпеливо ждала, когда он закончит. Добрячок ненавидел цифры.
— На приличные похороны хватит, — наконец ответил он, дойдя до конца колонки.
— Ты же не завтра собрался помереть. Не одолжишь мне десять фунтов?
Старик перестал слюнить огрызок карандаша, от которого у него на кончике высунутого языка осталось лиловое пятно.
— Вот оно что! — произнес он. — Чего это ты затеяла?
— Пока ничего. Но кое-что на уме есть. А бензин нынче дорогой.
Упоминать про бензин было ошибкой.
— Так это опять для машины! — ревниво заметил Добрячок. Тинни он терпеть не мог. — Если тебе это нужно для машины, спроси у Харта.
— Что ты, у него я не могу, — ответила возмущенно Эрика. — Он же у нас совсем недавно.
Харт был шофером и считался новеньким: он проработал у них всего одиннадцать лет.
Добрячок пристыжено смолк.
— Ничего плохого я не задумала, — заверила его Эрика. — Я взяла бы у отца, но он сегодня ночует у дяди Вильямса. А женщины всегда любопытничают.
Поскольку в данном случае упоминание о женщинах могло относиться только к няне, то тут она выиграла очко, которое потеряла, сказав про бензин: Добрячок няню, как и Тинни, тоже терпеть не мог.
— Десять фунтов — большой кусок от моего гроба, — заметил он, дернув головой.
— Так это ж только до субботы. До субботы тебе гроб не понадобится. У меня есть восемь фунтов в банке, но я не хочу тратить завтрашнее утро на поездку в Вестовер. Мне сейчас время дорого. Если со мной что случится, эти восемь фунтов твои. А еще два отец отдаст.
— А почему пришла именно к Добрячку? — спросил он, не сдаваясь.
Говорил он невозмутимым тоном, и любой на месте Эрики, наверное, пытаясь разжалобить его, сказал бы: «Потому, что ты самый старый мой друг, потому, что с трехлетнего возраста ты всегда выручал меня из всяких передряг и посадил меня впервые на лошадь, потому, что ты умеешь молчать, потому, что, несмотря на всю свою ворчливость, ты действительно Добрячок».
Но вместо этого Эрика сказала:
— Я просто подумала, насколько удобнее, когда деньги хранятся в чайных коробках, а не в государственных банках.
— Что-что?!
— Может, мне и не надо было этого говорить. Твоя жена мне однажды об этом рассказала, когда я пила у нее чай. Бумажки высовывались из коробки с чаем. Я подумала: что-то чересчур крупное там для чая. А вообще-то, идея очень хорошая. — И так как Добрячок хранил ошеломленное молчание, добавила в качестве объяснения: — Ведь кипящая вода все микробы убивает. И потом, — закончила она, приберегая к концу последний, самый-самый сильный довод, — к кому мне было еще обращаться, как не к тебе?
Она взяла огрызок карандаша и на обратной стороне счета местного спортзала крупным ученическим почерком вывела:
«Я, Эрика Баргойн, должна Бартоломею Добрячку десять фунтов».
— Ну вот, до субботы сойдет и это. Все равно у меня чековая книжка кончилась.
— Мне не нравится, что ты разбрасываешь мои медные уздечки по всему Кенту, — проворчал Добрячок.
— А мне кажется, медные очень показушные, — отозвалась Эрика. — Лучше, если бы они у тебя были обыкновенные — из кованого железа.
Пока они шли через сад и лужайку к его коттеджу и чайной жестянке, где хранились деньги, Эрика спросила:
— Как ты думаешь, сколько закладных лавок в Кенте?
— Тыщи две, наверное.
— О Господи! Ошалеть можно! — вырвалось у нее.
Разумеется, Добрячок мог преувеличить. Откуда ему знать — ведь он в жизни ничего не закладывал. Хотя, наверное, их и вправду уйма. Даже в таком, в общем-то, благополучном крае, как Кент. Она сама никогда ни одной не видела. Но наверное, их и не замечаешь, пока не начнешь искать. Как грибы.
В половине седьмого, безветренным и уже душным утром, она вывела Тинни из гаража; все еще спали, и белый в утреннем свете дом сонно улыбался ей пустыми, еще притворенными окнами. Тинни в любое время суток производила ужасный шум, но сейчас, на рассвете, ее рев казался просто непристойным. Впервые Эрика почувствовала, что готова изменить своей Тинни. Частенько Тинни выводила ее из себя; Эрика на нее злилась, она ее проклинала, но она сердилась на нее так, как сердятся на близкое тебе существо. Никогда раньше — ни наедине с собой, ни тогда, когда ее Тинни подвергалась насмешкам друзей — не возникало у нее желания расстаться с Тинни или бросить ее. И лишь сейчас она вдруг совершенно хладнокровно сказала себе: «Придется купить новую машину».
Эрика становилась взрослой.
Тинни прокладывала себе дорогу по тихим, сияющим аллеям, фыркая, пыхтя и содрогаясь, и Эрика, выпрямившись на старомодном сиденье, уже перестала о ней думать. Рядом лежала коробка с половинкой цыпленка, булкой, маслом, помидорами, тостами и бутылкой молока. Весь этот «ленч для мисс Эрики» был данью ни о чем не подозревавшей экономки нарушению закона. Кроме этого в бумажном пакете было еще съестное, может не столь изысканное, но более основательное. По собственной инициативе Эрика прикупила кое-что в деревенской лавке мистера Дидса. («Торговец продовольственными товарами. Только самое лучшее!») Мистер Дидс продал Эрике несколько аппетитных розовых кусочков телятины («вам действительно именно такие толстые куски, мисс Эрика?»), однако даже у него не оказалось требуемого шоколада с изюмом: на этот товар особого спроса не было.
Эрике ни разу не пришла в голову мысль, что она устала, что до закрытия магазинов остается совсем немного времени и что голодному человеку не до того, чтобы разбираться, какой шоколад — с изюмом или без. Она могла бы купить какой был. Но не купила. Эрика, хотя она ни за что не стала бы себе в этом признаваться, прекрасно знала на своем опыте, как важны маленькие знаки внимания. Особенно когда человеку плохо и он один. В течение всего душного, пыльного вечера она упрямо объезжала все деревенские лавки одну за другой, и ее упорство лишь возрастало с каждой неудачной попыткой. Зато теперь в отвисшем и рваном кармане у Тинни лежали четыре двухсотграммовые плитки шоколада с изюмом — все, что нашлось у миссис Хиггинс в Лейтэме, которую в четверть восьмого Эрика упросила оторваться от вечернего чая («только ради вас, мисс Баргойн, больше ни для кого не стала бы») и отпереть огромным ключом облезлую дверь своей лавочки.
Время близилось к восьми, когда Эрика миновала сонный Маллингфорд и покатила по раскаленной солнцем открытой местности. Когда она свернула на прямой отрезок меловой дороги, ведущей к тому месту, где ее натренированный глаз вчера заметил торчавший носок туфли, то подумала о том, что папоротник далеко не лучшее укрытие для Тисдейла. Не столько в смысле укрытия от людей, сколько от солнца. Завтрашний день обещает быть еще более жарким, Тисдейлу пригодятся и молоко и помидоры, чтобы справиться с жаждой. У нее мелькнула мысль, что, может быть, стоит переправить беглеца в другое место. Например, ближе к Чарингу. Там такие леса, что целую армию людей можно укрыть от закона и от солнца. Но Эрика никогда особенно не любила лес и сама не чувствовала там себя в безопасности. Лучше уж печься в папоротнике, откуда видно далеко вокруг, чем наткнуться на незнакомца в лесной чаще. К тому же Тисдейл может и отказаться.
Сомнений по поводу того, как на ее предложение отреагировал бы Тисдейл, не было никаких, однако обсудить это с ним возможности не представилось. Или он спал как убитый, и даже рычание Тинни не смогло пробудить его, или он покинул это место. Эрика доехала до конца дороги на полном газу, причем Тинни производила такой шум, будто шел экспресс. Потом она выключила мотор, и наступила оглушающая тишина. Даже жаворонки не пели, даже тени не шелохнулись.
Она спокойно ждала, не глядя по сторонам, положив руки на руль в позе человека, раздумывающего, что ему предпринять дальше. Было важно, чтобы у случайного прохожего не возникло подозрение, будто она кого-то ждет. Так она просидела минут двадцать — не озираясь и не нервничая. Потом потянулась и, убедившись за это время, что дорога по-прежнему безлюдна, вышла из машины. Если бы Тисдейл хотел заговорить с ней, то давно бы это сделал. Она достала два пакета и шоколад и положила на том самом месте, где Тисдейл вчера лежал. К этому она добавила пачку сигарет, которую извлекла из собственного отвисшего кармана. Сама Эрика не курила, она, конечно, пробовала, но никакого удовольствия не испытала и не стала себя пересиливать; она не знала, курит ли Тисдейл: сигареты и спички захватила просто на всякий случай. Эрика если уж за что бралась, то выполняла все точно, до мелочей.
Больше не оглядываясь по сторонам, она залезла в машину, растормошила Тинни и покатила по дороге в сторону расположенного далеко по побережью Димчарча, направив туда и все свои помыслы.
Эрика очень разумно рассудила, что пальто украдено не местным жителем. Она выросла в сельской местности и прекрасно знала, что пальто, будь оно надето на самом незаметном человеке, не может сразу же не вызвать к себе повышенный интерес у окружающих. Знала она и другое: сельский житель не склонен закладывать вещи и вид пальто, оставленного в машине, вряд ли вызовет у него мысль о возможной денежной выручке — в отличие от обычного бродяги. Если бы он и решился его присвоить, то для того, чтобы носить самому. Неприятности же, связанные с необходимостью объяснять всем и каждому происхождение обновки, наверняка привели бы его к мысли о том, что лучше уж не связываться и оставить пальто на месте. Следовательно, по разумению Эрики, пальто взял чужак.
Это обстоятельство, с одной стороны, вроде бы упрощало дело, но с другой — делало поиски еще более трудными. Чужак, конечно, заметнее, и его легче опознать. Опять же, поскольку он может свободно перемещаться, выследить его труднее, чем местного. Сейчас пальто может быть уже далеко-далеко…
Голод придал крылья воображению Эрики. К тому времени, когда вдали показался Димчарч, она, приняв в расчет современный способ передвижения автостопом и старую как мир привычку воров сбывать краденое подальше, уже представила себе искомое пальто надетым на чиновника мэрии где-нибудь в городе Бордо: он щупленький и бледный, у него больная жена и грудной младенец; у Эрики прямо сердце защемило при мысли о том, что придется отбирать у него пальто — пускай даже ради Тисдейла.
Нарисовав себе эту картину, Эрика решила, что ей нужно срочно поесть. Голод подстегивает воображение, но притупляет разум. Она решительно нажала на тормоза, увидев «Восходящее солнце». «Мировая заправка для водителей. Открыто круглые сутки» — гласила вывеска. Это была закусочная под жестяной крышей, на скорую руку устроенная возле самой дороги. Окрашенная ядовито-зеленой и лиловой краской, она напоминала большой спичечный коробок, кинутый на обочину. Дверь была гостеприимно распахнута, и теплый ветерок доносил чьи-то голоса.
В крошечном помещении находилось два очень толстых человека. Один из них — хозяин — резал толстыми ломтями свежий хлеб, другой — такой же великан — шумно прихлебывал горячую жидкость из огромной кружки. При виде Эрики оба застыли в полной неподвижности.
— С добрым утром, — произнесла Эрика.
— Утро доброе, мисс, — отозвался хозяин. — Хотите чашечку чая?
— Можно. — Эрика посмотрела по сторонам и спросила: — А жареный бекон у вас есть?
— Есть, и прекрасный, — живо отозвался великан. — Прямо тает во рту.
— Мне порцию побольше, пожалуйста, — просияв, сказала Эрика.
— И яйцо?
— Три.
Хозяин высунул голову наружу и убедился, что она действительно одна.
— Вот это дело, это по-нашему! Теперь так редко встретишь девушку, которая понимает толк в еде. Присаживайтесь, мисс. — Он обмахнул металлический стул краем передника.
— Минуты не пройдет, и бекон будет готов. Как резать — потолще? Потоньше?
— Потолще, пожалуйста. С добрым утром, — вежливо обратилась она ко второму великану, всем своим видом показывая, что готова составить им компанию и принять участие в разговоре, еде и питье.
— Это ваш грузовик там стоит? Мне всегда хотелось поездить на таком.
— Да ну?! А мне всегда хотелось стать канатоходцем.
— У вас телосложение не то, — невозмутимо отозвалась Эрика, — так что лучше вам грузовик водить.
Хозяин, нарезавший в этот момент бекон, громко расхохотался. Шофер увидел, что его сарказм не достиг цели — девушка уж больно серьезная попалась, — и, сменив вызывающий тон на вполне дружелюбный, сказал:
— Что ж, для разнообразия очень даже приятно позавтракать в женской компании, правда, Билл?
— А я думала, от женщин у вас отбоя нет. Ведь на грузовике каждый прокатиться рад.
Не успел изумленный верзила сообразить, то ли эта худенькая девчонка издевается над ним, то ли набивается в подружки, то ли действительно так считает, как она спросила:
— Вы, наверное, частенько подвозите бродяг?
— Никогда! — быстро ответил водитель, успокоившись, что разговор перешел на нормальные рельсы.
— Жалко. У меня интерес к бродягам.
— По какой линии интерес? По религиозной, что ли? — поинтересовался Билл.
— Нет. По литературной.
— Да ну? Вы что же, книжку пишете?
— Не совсем. Собираю материал для одного человека. Наверняка вы встречаете много бродяг, даже если их не подсаживаете, — настаивала она.
— Некогда смотреть по сторонам, когда ведешь машину.
— Расскажи ей про Геррогейта Гарри, — вставил Билл, разбивая яйца. — Я видел его у тебя в кабине на прошлой неделе.
— Не мог ты никого видеть в моей кабине.
— Да перестань скрытничать. Не видишь, что ли, это настоящая маленькая леди. Не будет она языком трепать, что ты кого-то там подвозил.
— Геррогейт не бродяга вовсе.
— А кто же он? — спросила Эрика.
— Он фарфором торгует. Разъезжает по деревням и продает.
— А, понимаю! Белые с голубым вазочки в обмен на кроличьи шкурки.
— Ничего похожего. Он отбитые ручки чайников приделывает и все прочее чинит-клеит.
— Да? И хорошо зарабатывает? — спросила она, просто чтобы поддержать разговор.
— На жизнь хватает. Ну еще перепродает иногда то старое пальто, то пару ботинок.
Эрика на какое-то время замолчала. Она опасалась, что находившиеся рядом с ней услышат, как громко заколотилось ее сердце, потому что ей самой его стук казался просто оглушительным. Старое пальто. Что ей теперь сказать? Не может же она просто спросить: «А было у него пальто последний раз, когда вы его видели?» Так она себя выдаст с головой.
— Любопытный тип, — сказала она наконец. И, обращаясь к Биллу: — Принесите, пожалуйста, горчицу. Хорошо бы мне с ним встретиться. Правда, он, наверное, сейчас уже на другом конце графства. В какой день вы его видели?
— Дайте-ка вспомнить. Я подобрал его возле Димчарча и высадил у Тонбриджа. Это было на той неделе, в понедельник.
Значит, это все-таки не Геррогейт. Вот жалость! Так все хорошо на нем сходилось: и то, что он интересовался пальто и ботинками, и то, что он был бродячим торговцем, и то, что он приятельствовал с водителями грузовиков, которые могут быстро переправить его из нежелательного места в другое, более отдаленное… Что ж, зря было и надеяться, что все может оказаться так легко.
Билл поставил горчицу возле ее тарелки.
— Только не в понедельник, — произнес он. — Правда, какая разница. Ты проезжал мимо, как раз когда Джемми разгружал товар. Вторник это был.
Какая разница!! Эрика набила полный рот яйцами с беконом, чтобы хоть немного приглушить радостное возбуждение.
Какое-то время в «Восходящем солнце» царило молчание. Отчасти потому, что Эрике была присуща чисто мужская черта — есть молча, отчасти потому, что она не могла решить, как бы ей с наибольшим успехом и с наименьшим риском быть разоблаченной повести разговор дальше. Вдруг она с беспокойством увидела, что водитель отставил кружку и решительно поднялся.
— Вы же мне еще не рассказали про Геррогейта… как его там дальше?
— А что рассказывать-то?
— Ну как же, странствующий реставратор фарфора — это же так интересно! Мне бы очень хотелось с ним побеседовать.
— Да он не больно разговорчивый.
— Я уж постараюсь, чтобы он не остался в накладе.
— За пять монет Геррогейт будет болтать, что твоя сорока. А за десять он тебе расскажет, как открывал Южный полюс, — рассмеялся Билл.
Эрика обратила все свое внимание на более дружелюбно настроенного Билла.
— Так вы его знаете? У него есть постоянное место, где он живет?
— Зимой он никуда не ездит, дома сидит, а летом живет в палатке.
— Вдвоем с Квини Вебстер где-то возле Пембери, — вмешался шофер, которому не понравилось, что инициатива в разговоре перешла к Биллу. Он положил на чисто выскобленный стол мелочь и двинулся к выходу. — И если уж вы готовы его отблагодарить, то на вашем месте я сперва подольстился бы к Квини Вебстер.
— Спасибо. Я запомню ваш совет. Еще раз спасибо за помощь.
Неподдельная благодарность, прозвучавшая в голосе Эрики, заставила его задержаться на пороге и сказать:
— Для девушки с таким завидным аппетитом у вас чудной вкус: подумать только — бродяги ее интересуют! — С этими словами он направился к своему грузовику.
12
Завидный аппетит позволил Эрике съесть хлеб с джемом и выпить несколько чашек чая, но информационный голод ей утолить так и не удалось. Билл был готов поделиться с ней всем, что знал, но о Геррогейте Гарри он не знал почти ничего. Ей предстояло принять решение: то ли разыскивать неизвестного и ускользающего Гарри по горячим следам возле Димчарча, то ли пуститься по его остывшим следам в район Торнбриджа.
— Как вы считаете, бродяги — честные люди? — спросила она, расплачиваясь.
— Как сказать, — раздумчиво изрек Билл, — честные-то они честные, пока удобный случай не подвернулся. Понимаете, что я хочу сказать?
Эрика поняла. Вряд ли из полусотни бродяг найдется хоть один, который не соблазнится оставленным без присмотра пальто. А Геррогейт Гарри к тому же определенно питал пристрастие к пальто и ботинкам. И Гарри был в Димчарче в прошлый вторник. Ее задача, выходит, состояла в том, чтобы следовать за склеивателем фарфора через прогретые солнцем просторы, пока она его не догонит. Если ночь застанет ее в пути, то придется придумать что-нибудь убедительное, прежде чем звонить отцу домой в Стейнс. Необходимость прибегнуть ко лжи вызвала у нее укол совести — первый с начала ее добровольного подвига. До сих пор ей не приходилось скрывать от отца свои затеи. Но за последние несколько часов это уже был второй случай, когда ей приходилось изменять своим правилам: предательства по отношению к Тинни она не заметила, но сейчас она предавала отца, и это было очень больно.
Ладно, день еще только начинается, а летние дни долгие. Тинни хоть и старушка, но вполне здорова и обычно не жалуется. Если повезет, как везло до сих пор, то, может, она благополучно доберется к ночи до своей постели в Стейнсе. Домой — и с пальто! У нее даже дыхание перехватило от одной этой мысли.
Она распрощалась с очарованным ею Биллом, пообещав рекомендовать его завтраки всем своим друзьям и знакомым, направила Тинни носом на северо-запад и покатила по горячим от солнца цветущим просторам.
Слепящий солнечный свет заливал дорогу, и горизонт был подернут жаркой дымкой. Тинни мужественно плыла сквозь зеленое марево, и вскоре в машине стало так же уютно, как на раскаленной сковороде. Несмотря на горячее желание двигаться как можно быстрее, Эрике пришлось несколько раз останавливаться и открывать обе дверцы, чтобы Тинни немного остыла. Да, нужно покупать новую машину. Возле Киппингса она попыталась применить тактику, которая уже сослужила ей хорошую службу: остановилась на ленч в придорожной закусочной. Но на этот раз выбор ее оказался не столь удачным. Закусочную содержала веселая словоохотливая женщина, она готова была болтать часами, но бродяги ее абсолютно не интересовали. Как все нормальные женщины, она терпеть не могла бездельников и «не приваживала бродяг». Эрика поковыряла вилкой в еде, выпила кофе, захваченный из дома. Хорошо было бы посидеть в тени и подольше, но она встала и поехала дальше, надеясь отыскать «более подходящее» место. Подходящее не в смысле еды, а в смысле добычи информации. С редким самообладанием она отводила взгляд от бесконечных «чайных садиков», в прохладной зеленой тени которых мелькали, как камешки в воде, яркие скатерти на столиках. Сегодня эта роскошь была не для нее. «Чайные садики» не имели ничего общего с бродягами.
Она свернула на дорогу в Гулдхарст и там обнаружила гостиницу. В гостиницах всегда полно посуды, которая требует починки, и поскольку это была уже, так сказать, «родная территория» Геррогейта, то там должен был найтись кто-нибудь, знавший его или о нем.
Она ела остывший непрожаренный бифштекс с зеленым салатом в комнате, почти такой же красивой, как у них в Стейнсе, и молила Господа о том, чтобы хотя бы одна из тарелок на ее столе оказалась треснутой. Когда ей подали фрукты на склеенном блюде с розами, она чуть не зарыдала в голос.
— Да, — согласилась официантка, — очень миленькое блюдо. — Она понятия не имеет, насколько оно ценное, она здесь только на один летний сезон (из чего надо было понять, что предположительные цены гостиничной посуды не могут представлять интереса для особы, обычно проводящей свое время в иных, более интересных местах). Да, наверное, ее чинил кто-нибудь из местных, но лично она не знает, кто именно. Ну конечно, она может узнать.
Когда спросили хозяина, кто так чудесно починил эту вещь, он пояснил, что блюдо попало к ним уже в таком виде вместе с другими предметами из гостиницы, что за Мэтфилд-Грин. И в любом случае склеивали так давно, что человек, это сделавший, наверное, уже умер. Но если Эрике нужно что-то склеить, то да, есть тут один умелец, он ходит из дома в дом, иногда и сюда заглядывает. Палмер по фамилии. Когда трезвый, он хоть пятьдесят кусочков тебе склеит, и будет незаметно. Но только когда трезвый.
Эрика выслушала до конца все о недостатках и достоинствах Палмера и осведомилась, нет ли еще кого другого в этих местах. Нет, хозяин знал только одного. Но лучше Гарри все равно не найти.
— Гарри?
— Ну да, Гарри. Все его зовут Геррогейт Гарри.
Нет, хозяин не знает, как его найти. Живет в палатке где-то в сторону Бренчли. Но лучше девушке одной к нему не ездить. Не такое это место. Да и Гарри надежным не назовешь.
Эрика покинула гостиницу, окрыленная заверениями хозяина, что Гарри не меняет своего временного места обитания иногда по неделям. Как только хоть немного заработает, сидит там, пока все не пропьет.
Ладно, но если ты хочешь говорить с починщиком фарфора, то надо, как минимум, иметь какой-нибудь разбитый фарфоровый предмет. Эрика въехала в Торнбридж с надеждой, что двоюродная сестра ее отца, которая одиноко жила здесь у парка Калведери, сладко спит после того, как наелась запрещенных врачами булочек, а не прогуливается под сенью дерев. В маленькой антикварной лавке на гробовые деньги Добрячка она приобрела фарфоровую статуэтку танцовщицы. Она доехала до Пембери и там, в полуденной тиши тенистой аллеи, с силой ударила статуэтку о металл машины. Но танцовщица оказалась стойкой. Даже после того как Эрика стукнула ее об ручку, она по-прежнему оставалась целой. В конце концов, опасаясь, что дальнейшее применение грубой силы приведет к тому, что она разлетится вдребезги, Эрика отломила ей руку. Теперь доступ к Геррогейту Гарри был для нее открыт.
Нельзя было прямо расспрашивать о неизвестном бродяге, который, возможно, украл пальто. Другое дело — искать починщика фарфора: тут все было законно и не могло вызвать лишних подозрений и удивления. Потому ей понадобилось всего лишь полтора часа, чтобы очутиться лицом к лицу с Геррогейтом. Это заняло бы у нее еще меньше времени, но палатка оказалась далеко от проезжих дорог. Сначала по колее, пробитой через лес, — колее, непреодолимой даже для видавшей виды Тинни, — потом через пустошь, заросшую папоротником, откуда открывался вид на долину Мидвей, потом снова через лес к вырубке, где ручей впадал в темный, стоячий пруд. Эрика предпочла бы, чтобы палатка была не в лесу. С раннего детства она ничего не боялась (она была из тех детей, о которых взрослые обычно говорят, что они бесчувственные), но леса не любила. Она предпочитала открытые пространства, где далеко видно вокруг. И хотя прозрачный ручей весело сверкал на солнце, пруд в тени был глубокий, таинственный и казался зловещим. Это была чаша темной воды, на которую неожиданно можешь наткнуться скорее где-нибудь в Суррее, а не в Кенте.
Когда она вступила на вырубку с маленькой танцовщицей в руке, навстречу ей выскочил пес, оглашая тишину истерическим протестующим лаем. На шум из палатки вышла женщина и, стоя у входа, стала смотреть на приближающуюся Эрику. Она была высокая, широкоплечая, держалась очень прямо, и у Эрики возникла абсурдная мысль, что от нее ждут не иначе как реверанса.
— Добрый день! — весело крикнула она сквозь собачий лай. Но женщина стояла молча. — У меня тут одна фарфоровая вещица… Послушайте, вы не можете как-нибудь успокоить собаку?
Она подошла совсем близко, и лишь собачий лай отделял их теперь друг от друга.
Женщина пнула собаку в бок, раздался визг, и наступило молчание. Снова стало слышно, как журчит ручей.
Эрика протянула статуэтку.
— Гарри! — крикнула женщина, не сводя черных глаз с Эрики.
Гарри показался на пороге — маленький, верткий мужчина, с налитыми кровью глазами, явно не в духе.
— Работа для тебя.
— Я не работаю, — отозвался Гарри и сплюнул.
— Извините. Мне сказали, что вы чините такие вещи.
Женщина взяла из рук Эрики разбитую статуэтку и произнесла:
— Не слушайте его, работает он как надо.
Гарри снова сплюнул и взял вещицу.
— А деньги у вас есть, чтобы заплатить? — спросил он с раздражением.
— Сколько за это?
— Два шиллинга.
— Два с половиной, — сказала женщина.
— Столько у меня есть.
Он ушел в палатку, но женщина по-прежнему стояла загораживая собой вход, так что Эрика не могла увидеть, что там внутри, и войти тоже не могла. Мысленно она заранее представляла, как войдет в палатку и увидит в углу сложенное пальто. Но не тут-то было.
— Он быстро починит. Не успеете свистульку себе срезать, как будет готова ваша вещь.
Маленькое серьезное личико Эрики вдруг осветила озорная улыбка.
— Думаете, я не умею свистульки делать? — воскликнула она. Замечание женщины прозвучало насмешкой над ней как городской жительницей.
Перочинным ножиком она срезала прут, заточила, проткнула, окунула в ручей и продула, надеясь, что этим сможет обезоружить Квини и ее приятеля. Она даже подумала, что, может быть, мирно завершит свое изделие, сидя рядом с Гарри. Но в этот момент, когда она было двинулась к палатке, Квини бросила лениво собирать хворост и заняла свое место на часах у входа. Кончилось тем, что Эрика, с готовым свистком и починенной статуэткой в руках, была столь же далека от желаемой цели, как в тот момент, когда оставила машину на асфальте дороги. Она готова была расплакаться. Она вынула маленький кошелек (Эрика ненавидела сумки), заплатила свои полкроны, и вид банкнотов в заднем отделении, которые только ждали того, чтобы их потратили на спасительное дело, привел ее в такое отчаяние, что неожиданно для себя самой она вдруг спросила мужчину:
— Что вы сделали с пальто, которое взяли в Димчарче? — и в наступившем молчании, торопливо продолжала: — Я не собираюсь ничего предпринимать по этому поводу. Привлекать к ответственности и все такое. Только мне ужасно нужно это пальто. Я готова выкупить его, если оно все еще у вас. Если вы его заложили…
— Нет, вы посмотрите на эту куколку! — взорвался мужчина. — Заявляется сюда, просит выполнить работу — и тут же обвиняет тебя чуть не в убийстве! Убирайся отсюда, пока я не вышел из себя окончательно и не треснул тебе по челюсти разок-другой! Дерзкая маленькая тварь! Ишь язык распустила! Вырвать бы его тебе не мешало, и я тебе сейчас…
Женщина оттолкнула его в сторону и угрожающе придвинулась к Эрике:
— Почему вы решили, что мой дружок взял пальто?
— Это пальто видел Джейк, водитель грузовика, который подвозил его во вторник, и взято оно из машины в Димчарче. Мы это знаем точно.
Эрика надеялась, что «мы» произведет на них должное впечатление. И еще она надеялась, что они не заметят ее собственной неуверенности. Вид у обоих был негодующий, как у людей ни в чем не замешанных.
— Никакого дела на вас мы заводить не собираемся. Нам бы только само пальто получить обратно. Я готова дать за него целый фунт, — добавила она поспешно, видя, что они снова собираются на нее напуститься.
Она заметила, что выражение их лиц изменилось. И, несмотря на нависшую угрозу расправы, она испытала невыразимое облегчение. Мужчина был Тот-Самый. Они знали, о каком пальто идет речь.
— А если вы отдали его в заклад, то я дам десять шиллингов, только скажите куда.
— А вам что за выгода? Зачем вам мужское пальто?
— Я не говорила, что оно мужское, — тут же отозвалась она, и чувство торжества пронзило ее, как электрический ток.
— Да ладно! — нетерпеливо отмахнулась женщина, откинув всякое притворство. — Зачем оно вам?
Эрика понимала: стоит ей проговориться про убийство, и они начнут запираться до последнего издыхания и утверждать, что в глаза не видели этого пальто.
Из бесконечных высказываний отца она, слава Богу, твердо усвоила, что вора больше всего страшит обвинение в серьезном преступлении. Он готов пойти на что угодно, лишь бы не оказаться замешанным в «мокром деле».
— Оно мне нужно, чтобы вызволить Харта, — нашлась она. — Он должен был проследить, чтобы пальто не оставалось без присмотра в машине. Завтра возвращается его владелец, и, если к тому времени пальто не будет на месте, Харт потеряет работу.
— Кто такой Харт? Брат, что ли, ваш?
— Нет, наш шофер!
— Шофер! — Гарри разразился визгливым, издевательским смехом. — Вишь что придумала! Шофер у нее! Еще скажи, что у тебя два «роллс-ройса» и пять «бентли» в гараже!
Его маленькие глазки оглядели ее фигурку в потрепанной одежде, из которой она давно выросла.
— Нет. Только «ланчестер» и мой старенький «моррис». — И, чтобы окончательно их убедить, добавила: — Меня зовут Эрика Баргойн. Мой отец — старший констебль округа.
— Да ну! А меня зовут Джон Рокфеллер, и мой отец — герцог Веллингтонский!
Одним движением руки Эрика задрала свою коротенькую твидовую юбчонку, вывернула обратной стороной резиновый пояс школьных гимнастических штанишек, которые носила зимой и летом, и показала приклеенный ярлычок:
— Читать умеете?
— «Эрика Баргойн», — с изумлением прочел вслух мужчина.
— Недоверчивость — большой недостаток, — наставительно произнесла Эрика.
— Значит, ты занимаешься этим ради шофера? — осклабился мужчина. — И с чего вдруг такая забота?
— Я в него по уши влюблена, — проговорила Эрика тоном, каким требуют у продавца коробку спичек. На школьных спектаклях Эрике поручался всегда только занавес.
Но они поверили. Их слишком занимали мысли о деньгах, для того чтобы обращать внимание на интонацию.
— Сколько? — спросила женщина.
— За пальто?
— Нет. За то, чтобы узнать, где оно.
— Я же сказала. Десять шиллингов.
— Мало.
— А почем я знаю, что вы мне правду скажете?
— А я почем знаю, что вы меня не обманете?
— Ладно. Даю фунт. Мне же еще придется его выкупать из заклада.
— Оно не в закладе. Я его продал каменотесу, — неожиданно сказал Гарри.
— Что-о? — жалобно воскликнула Эрика. — И мне придется снова за кем-то гоняться?
— Не надо ни за кем гоняться. Давай сюда деньги, и я тебе скажу, где его найти.
Эрика достала фунтовую бумажку и показала ему:
— Ну?
— Он работает у перекрестка Файв-Вентс. Это в сторону Паддокского леса. Если его там не найдешь, то он живет в Кейнеле. Рядом с церковью.
Эрика протянула деньги. Но женщина, которая успела рассмотреть содержимое кошелька, сказала:
— Погоди, Гарри. Она даст больше.
— Ни пенни больше! — с возмущением отрезала Эрика. Негодование заставило ее забыть и про черный пруд, и про безлюдье вокруг, и про страх перед лесом. — Так нечестно!
Женщина попыталась выдернуть у нее кошелек. Но Эрика недаром участвовала прошлой зимой в школьных соревнованиях в лапту. Жадная ладонь Квини наткнулась не на кошелек, а на локоть Эрики и, отлетев от него, залепила здоровую оплеуху самой Квини. А Эрика тем временем уже скользнула за ее широкой спиной и понеслась зигзагами через вырубку, точно так как она бегала — иногда с радостью, но чаще со скукой — на школьной спортивной площадке много раз в течение зимы. Она слышала их за собой и мельком подумала, что они с ней сделают, если поймают. Женщины она не опасалась, но мужчина был проворный, легкий на ногу и, несмотря на то, что много пил, мог оказаться неплохим бегуном. И он знал дорогу. Под сенью деревьев после яркого солнечного света она еле различала тропинку. Надо было им сказать, что ее ждут в машине. Это было бы кстати… Тут ее нога зацепилась за корень — и она покатилась по земле.
Она услышала его приближающиеся шаги и, привстав, успела разглядеть над собой, поверх кустарника, его расплывающееся лицо. Она падала неуклюже, потому что обе руки у нее были заняты: в одной — фарфоровая фигурка, в другой — кошелек и свистулька.
Свистулька! Она поднесла ее ко рту и издала прерывистый свист — короткий и долгий, как в передатчике. Как условный сигнал.
Человек застыл в нерешительности, всего в двух шагах от нее.
— Харт! — крикнула она в полную силу своих здоровых легких. — Харт! — И снова засвистела.
— Ладно, — сказал Гарри. — Ладно. Оставайся со своим, так его и перетак, Хартом. Как-нибудь я расскажу твоему папаше, что творится у него за спиной. Тогда, милочка моя, ты мне еще не столько заплатишь!
— До встречи! — откликнулась Эрика. — И передайте от меня своей жене спасибо за свистульку.
13
— Вы нуждаетесь в отдыхе, инспектор, вот что я вам скажу. Чуть-чуть расслабиться вам надо. — Старший констебль натянул на себя плащ. — Стыдно так себя изнурять. Никогда это не приводило ни к чему. Кроме смерти, конечно. Сегодня у нас пятница, и готов поклясться, вы за неделю ни разу не выспались и не поели по-человечески. Позор, да и только! Не принимайте вы это так близко к сердцу. Преступники как сбегали, так и будут сбегать.
— Только не от меня.
— Значит, вы переутомились, вот все, что я могу сказать. Очень переутомились. Ошибаться может каждый. И вообще, кто мог предвидеть, что дверь в спальне окажется дверью на пожарную лестницу?
— Я должен был осмотреть шкафы.
— Ну знаете, дорогой мой…
— Первый я видел, он открывался наружу. К тому времени как он открыл второй, он меня заговорил так, что…
— Я уже сказал: вы утратили чувство реальности. Если хоть ненадолго не отвлечетесь, вам повсюду начнут мерещиться шкафы. И вы будете, как выражается ваш сержант Вильямс, «терять свою квалификацию». Сейчас поедем ко мне домой обедать. И никаких «но»! Это всего двадцать миль отсюда.
— Но за это время что-нибудь может…
— Телефон у меня есть. Эрика велела вас привезти. Наказала специально для вас купить мороженое. Оказывается, вы любите мороженое? Она собирается вам что-то показать.
— Щенков? — с улыбкой спросил Грант.
— Возможно. Мне кажется, они у нас не переводятся круглый год. А вот вам и прекрасный заместитель. Добрый вечер, сержант.
— Добрый вечер, сэр, — ответил Вильямс, весь розовый от только что выпитого чая.
— Я увожу инспектора к себе обедать.
— Очень этому рад, сэр. Инспектору будет полезно хоть разок поесть по-настоящему.
— Вот мой телефон, если понадобится.
Грант не мог не улыбнуться: такому напору позавидовал бы любой полководец. Он и вправду предельно устал. Неделя была сплошной цепью неудач. Сидеть в ресторане отеля рядом с туристами и отдыхающими — сейчас для него было все равно что оказаться вдруг в иной, беззаботной жизни, когда-то знакомой и ему, но теперь полузабытой. Он машинально стал приводить в порядок стол, перефразируя одно из изречений сержанта Вильямса: «Как детектив, я прекрасный труженик».
— Спасибо. С удовольствием пообедаю у вас. Мило, что мисс Эрика вспомнила обо мне. — Он потянулся за шляпой.
— Она о вас очень высокого мнения, моя Эрика. Как правило, ее трудно чем-нибудь поразить. Но вы для нее — человек очень значительный.
— Боюсь, у меня довольно сильный соперник.
— Ах да. Скачки, разумеется. Я мало что понимаю в воспитании, Грант, — продолжал Баргойн, пока они направлялись к машине. — Эрика у меня единственная. Ее мать умерла при родах, и я растил ее скорее как своего товарища, чем как девочку. Мы с ее старой нянькой всегда спорили на этот счет. Няня наша — сторонница старого воспитания, со всеми его «что принято» и что «не принято». Потом Эрика пошла в школу. Образование только и нужно для того, чтобы человек научился ладить с людьми. Найти свою нишу в обществе. Ей очень там не нравилось, но она все стерпела. Молодец она у меня!
— Она прелестный ребенок, — вполне искренне сказал Грант, откликаясь на оправдывающийся тон полковника и его озабоченный вид.
— В том то и дело, Грант, в том-то все и дело! Она уже не ребенок. Она должна бы начать бывать в обществе, ходить на танцы. Пожить у теток в городе, общаться с молодыми людьми. Но она не хочет. Живет дома и носится повсюду одна. Не интересуется ни тряпками, ни прочими вещами, как полагалось бы в ее годы. Ей ведь уже семнадцать. Меня это очень беспокоит. Катает повсюду на своем драндулете. Я почти никогда не знаю, где она. Не то что не говорит, если спрошу. Она очень правдивая девочка. Но меня все это тревожит.
— Не думаю, что вам стоит за нее тревожиться, сэр. Она найдет свою дорогу, вот увидите. Редко встретишь девушку ее возраста, более уверенную в том, что ей надо, чем она.
— Гм! Да уж своего она всегда добивается. Сегодня с нами обедает Джордж. Джордж Меир. Двоюродный брат покойной жены, может, вы знаете его? Психиатр. Его имя широко известно, но я никогда с ним не встречался. Это все Эрика. Она возобновила с ним родственную связь. Он милый человек, хотя немного зануда. Я и половины не понимаю из того, о чем он толкует. Нервные реакции и все прочее. Но Эрика вроде бы во всем этом соображает. Вообще-то он симпатичный — Джордж! Приятный человек!
Сэр Джордж действительно оказался приятным человеком. Гранту он сразу понравился. Заметив его довольно близко посаженные глаза и длинное лицо, он решил, что, вероятно, у сэра Джорджа должно быть много душевных положительных качеств, для того чтобы Эрика могла забыть о своих предубеждениях по поводу нежелательных особенностей его внешности. Он оказался хорошим собеседником — без излишней наигранности и подчеркнутой сосредоточенности на своей профессии, столь свойственной медицинским светилам с Уимпол-стрит. Достаточно сказать, что он сумел повести разговор о неудаче Гранта таким образом, что у того не возникло желания его стукнуть. Более того, Грант почувствовал, что разговор с ним приносит ему облегчение: Джордж был способен его понять. Перед ним был человек, для которого нервные срывы — явление повседневное.
Полковник Баргойн запретил упоминать о деле Клей во время обеда, но с таким же успехом он мог наложить запрет на приливы. Не успели унести рыбу, как все за столом, включая и самого полковника, заговорили о Тисдейле. Все, кроме Эрики. Она сидела на самом конце стола, в скромном школьном выходном платьице, и молча слушала. Она напудрила нос, но от этого ничуть не стала выглядеть более взрослой, чем в дневное время.
— Мы так и не напали на его след, — сказал Грант, отвечая на вопрос Меира. — После того как он покинул отель, он просто исчез. Конечно, нам описывали его бесчисленное количество раз. Но все сведения оказались ложными. Мы и теперь знаем не больше того, что знали в прошлый понедельник. Первые три ночи он еще мог провести где-нибудь под открытым небом. Но вы же видели, что творилось прошлой ночью. Проливные дожди. Звери и те попрятались. Он должен был найти какое-то пристанище, если еще жив. И это не местного значения шквал. Везде все залило — отсюда до самого Тайна. Но вот еще целый день миновал, и по-прежнему никаких следов.
— Может, он уехал морским путем?
— Едва ли. Как ни странно, вряд ли один из тысячи преступников спасается таким образом.
— Вот вам и нация мореходов! — рассмеялся Меир. — Море — последнее, что нам приходит в голову. Не знаю, отдаете ли вы себе отчет в этом, инспектор, но за те полчаса, что мы с вами беседуем, вы мне очень живо нарисовали портрет этого человека. И еще одно мне стало ясно из вашего рассказа — то, что вы, может быть, и сами не осознали до конца.
— Что именно?
— В глубине души вы поражены тем, что это сделал именно он. Может быть, даже жалеете его. Вы не верили, что он на это способен.
— Пожалуй, правильно. Вы бы и сами его пожалели, сэр Джордж, — улыбнулся Грант. — Он очень располагает к себе. И он придерживался правды до тех пор, пока это его устраивало. Как я уже сказал, мы проверили все его показания, с начала до конца, насколько можно было проверить. И все совпало. Но история с угоном машины не выдерживает никакой критики. А с кражей пальто?! Самая важная улика в деле!
— Как ни странно это вам может показаться, не думаю, что эпизод с кражей пальто так уж неправдоподобен. Последние недели его занимала только одна мысль: как спастись. Спастись от позорного банкротства, скрыться от приятелей (которым он, судя по всему, успел узнать истинную цену); избежать необходимости снова зарабатывать себе на жизнь (идея бродяжничества для молодого человека с его связями и привычками была такой же дикой, как идея с угоном машины: опять тот же мотив бегства) и, наконец, выпутаться из двусмысленной ситуации, в которой он очутился, живя в коттедже. Знаете, вероятно, он бессознательно страшился того, что с ним будет, когда через несколько дней ему придется оставить коттедж. Из-за постоянных терзаний и отвращения к самому себе он последнее время находился в сильном эмоциональном напряжении (на самом-то деле ему хотелось убежать от себя самого). В момент депрессии (это обычно бывает около шести утра) у него появляется шанс на физическое бегство: пустынная дорога и оставленный автомобиль. На какой-то момент мысль о бегстве захватывает его целиком, вытесняя все остальные. Когда он приходит в себя, то страшно пугается, — именно так, как он вам и рассказывал. Он разворачивает машину и, не раздумывая, мчится назад. И до своего смертного часа так и не сможет объяснить, что же все-таки заставило его украсть машину.
— Вас, специалистов, послушать — так кража машины скоро вообще перестанет считаться преступлением, — скептически заметил полковник.
— Неплохая теория, сэр, — сказал Грант. — Может, и хлипкой истории с пальто вам тоже удастся придать большую прочность?
— А вам не кажется, что правда частенько выглядит довольно хило?
— Так вы склонны думать, что этот человек невиновен?
— Представьте, да.
— Почему?
— Я очень высоко ценю ваше собственное суждение.
— Мое суждение?!
— Да. Вас поразило, что этот человек мог убить. А это значит, что первое ваше впечатление было просто затемнено случайно совпавшими уликами.
— Кроме воображения, я достаточно логичен. И слава Богу — при моей профессии полицейского. Улики-то, может, и случайно совпавшие, но вполне весомые и сомнению не подлежащие.
— А вы не считаете, что уж слишком все гладко сходится?
— Лорд Эдуард сказал то же самое.
— Бедняга Чампни! — сказал полковник. — Для него это ужасно. Говорят, они были очень привязаны друг к другу. Он приятный человек. Его я не знал лично, но в молодые годы был близко знаком с этой семьей. Они все исключительные люди. Ужасно, ужасно!
— Я путешествовал с ним вместе из Дувра в среду, — проговорил Меир. — Я ехал из Кале — был на конференции в Вене. А он вошел на паром — с обычной своей величавостью — в Дувре. Очень радовался возвращению. Показывал мне топазы, которые приобрел в Галарии для жены. Они ежедневно обменивались телеграммами. Честно говоря, это впечатлило меня гораздо больше, чем топазы. Особенно если вспомнить, сколько стоят телеграммы из Европы.
— Минуточку, сэр Джордж. Вы хотите сказать, что Чампни садился на пароход в Кале?
— Ну да. Он прибыл на яхте «Петронелл». Она принадлежит его старшему брату, но тот одолжил яхту Чампни для обратного путешествия из Галарии. Красивое маленькое судно. Сейчас на якоре в порту.
— А когда лорд Эдуард прибыл в Дувр?
— Насколько я понимаю, накануне поздно вечером. В город он уже не успел в тот день. — Меир замолчал и вопросительно взглянул на Гранта: — Никакая сила логики и никакая игра воображения не поможет сделать из сэра Эдуарда подозреваемого.
— Я это понимаю, — спокойно отозвался Грант, вынимая из персика косточку — занятие, которое он прервал, когда Меир заговорил о путешествии из Дувра с Чампни. — Это не имеет значения. Такая уж полицейская привычка — все проверять и фиксировать.
Внутренне, однако, Грант был далеко не спокоен: он пребывал в недоумении и терялся в догадках. Из беседы с Чампни Грант понял, что тот прибыл в Кале в среду утром. Чампни не сказал это прямо, но из его слов вывод можно было сделать именно такой. Грант сделал какое-то пустяковое замечание насчет неудобств на паромах нового типа, и Чампни своим ответом дал понять, что сошел с борта только утром. Почему? Эдуард Чампни, оказывается, в ночь со вторника на среду был уже в Дувре, но отчего-то не захотел, чтобы этот факт был известен. Во имя чего? Какой логикой можно это объяснить? Зачем? В разговоре возникла неловкая пауза, и, чтобы разрядить ее, Грант сказал:
— Мисс Эрика еще не показала мне щенят, или вы хотели показать что-нибудь другое?
Ко всеобщему удивлению, Эрика вдруг зарумянилась.
— Это не щенки, — сказала она. — Это то, что вам ужасно нужно. Но боюсь, что не обрадую вас.
— Звучит заманчиво, — отозвался Грант, не в силах представить, что это может быть за предмет, ужасно нужный ему по мнению девчушки. Он надеялся, что она не вздумала делать ему подарки. В этом возрасте поклонение кумиру — дело обычное, но неловко принимать что-нибудь на глазах у всех.
— Где это? — спросил он.
— Пакет в моей комнате. Я решила подождать, пока вы выпьете свой портвейн.
— Это можно принести в столовую? — спросил отец.
— Конечно.
— Тогда попросим Берта принести.
— Не надо! — воскликнула Эрика, останавливая его руку, уже протянутую к звонку. — Я сама принесу. Я мигом.
Она вернулась с обернутым коричневой бумагой пакетом, который, как заметил ее отец, походил на дар Армии спасения. Она развернула его и вынула мужское серовато-черное пальто.
— Вот пальто, которое вы искали. Но у него все пуговицы на месте.
Машинально Грант взял пальто и стал его осматривать.
— Где, во имя всего святого, ты его взяла, Эрика? — воскликнул изумленно отец.
— Выкупила за десять шиллингов у каменотеса возле Паддокского леса. Он отдал за него бродяге пять, считал, что совершил выгодную сделку, и никак не желал с ним расставаться. Мне пришлось пить с ним остывший чай, выслушать, что пограничный батальон совершил первого июля, осмотреть шрам у него на щиколотке, и только после этого он отдал пальто. Я боялась уйти и оставить пальто у него — он мог его продать кому-нибудь другому или вообще уехать.
— Почему вы думаете, что это пальто Тисдейла? — спросил Грант.
— Вот. — Она показала дырочку, прожженную сигаретой. — Он сказал, чтобы я искала по этой дырочке.
— Кто сказал?
— Мистер Тисдейл.
— Кто?! — воскликнули все трое одновременно.
— Я случайно встретила его во вторник. И с тех пор все искала это пальто. Но мне крупно повезло.
— Вы его видели? Где?
— На дороге, у Маллингфорда.
— И вы никому не сообщили? — сурово спросил Грант.
— Нет, — сказала она чуть дрогнувшим голосом, но потом как ни в чем не бывало продолжала: — Понимаете, я с самого начала не верила, что это он. И потом, вы мне очень нравитесь. И я подумала, что для вас же будет лучше знать о его невиновности до ареста. Вам не придется его снова выпускать. Газеты бы вас заклевали.
Какое-то время никто не мог выговорить ни слова. Потом Грант сказал:
— Значит, Тисдейл сказал вам про это во вторник. — И он показал на прожженную дырочку. Все столпились вокруг него, чтобы увидеть ее собственными глазами.
— Никакого следа, что пуговицу заменяли, — заметил Меир.
— Вы думаете, это то самое пальто?
— Весьма возможно. Мы не можем примерить его на Тисдейла, но думаю, миссис Питтс будет в состоянии его опознать.
— Но… но если это то самое пальто, — с заминкой проговорил полковник, — вы понимаете, что это значит?
— Конечно понимаю. Это значит, надо начинать все заново. — Его усталый взгляд, полный разочарования, встретился со светившимися сочувствием карими глазами Эрики, но он не откликнулся на ее сердечный порыв. Пока еще рано было говорить о том, что Эрика спасла его репутацию. Сейчас она просто была для него особой, которая остановила запущенную на полную мощность машину расследования.
— Мне надо вернуться в участок, — произнес он. — Можно воспользоваться вашим телефоном?
Миссис Питтс опознала пальто. Однажды ей пришлось сушить его на кухне, когда на него пролилась вода из бутылки. Тогда она заметила метку от сигареты.
Сержант Вильямс, допрашивавший того фермера, который видел машину Тисдейла, обнаружил, что тот не различает цвета.
Истина стала очевидна, хотя и неутешительна: Тисдейл действительно потерял пальто во вторник. Он действительно увел машину с пляжа. И не он убил Кристину Клей.
14
К одиннадцати часам пятницы Грант вынужден был признать, что они не сдвинулись с той точки, с которой начали неделю назад, когда он отказался от билетов в театр и приехал в Вестовер. Хуже того, они охотились за невиновным, вынудили его бежать и прятаться и потратили семь дней на дутое расследование, в то время как настоящий преступник скрылся.
Голова у Гранта гудела от предположений и догадок.
Хаммер. Теперь придется заняться им вплотную. Они проверили его показания, насколько это оказалось возможным. Он действительно расспрашивал владельцев вишневого сада и наводил справки на Лиддлстоунской почте именно в те часы, которые указал. Но что потом? Потом о его действиях не было известно ничего — до той самой минуты, в восемь утра следующего дня, когда он объявился в коттедже.
Дальше, как это ни невероятно, шел Эдуард Чампни, который привез для жены топазы, но который, по непонятной причине, не хотел, чтобы проверяли, как он провел вечер вторника. Иначе зачем ему было создавать у Гранта впечатление, будто он прибыл в Англию только в среду утром? Он прибыл открыто. Если вы заинтересованы, чтобы о вашем приезде никто не узнал, прибытие на яхте в один из самых известных портов Англии далеко не самый лучший вариант. Портовики и таможенники по натуре и роду занятий — народ любознательный. Это значило, что он хотел скрыть не сам факт своего приезда, но свои действия после прибытия. Чем больше Грант раздумывал, тем более странным ему это казалось. Во вторник вечером Чампни был в Дувре. В шесть утра в среду его горячо любимую жену находят мертвой. И Чампни не желает, чтобы полиция знала, как он провел ночь на среду. Очень странно!
Потом был еще «шиллинг на свечи». Эта странная фраза, сразу остановившая на себе его внимание и забытая в ходе дальнейшего — казавшегося более плодотворным — расследования, требовала дополнительного анализа.
В субботу утренние газеты, которым уже порядком надоело сообщать четыре дня подряд о безрезультатных поисках сбежавшего, вышли с радостным сообщением, что тот, за кем так упорно охотились, согласно новой информации, полученной полицией, невиновен. Никто не сомневался, что Тисдейл объявится до наступления вечера, и в надежде на это фотографы и репортеры весь день толпились возле окружного отделения полиции — в чем было больше оптимизма, чем логики, поскольку Тисдейл с таким же успехом мог объявиться в любом другом полицейском участке за мили отсюда.
Но Тисдейл не объявился нигде.
Это вызвало у Гранта легкое удивление, однако в этот момент его ум был занят другими, более неотложными вещами. И все же время от времени он с недоумением думал о том, отчего у Тисдейла не хватает здравого смысла перестать мокнуть под дождем, который лил всю ночь с пятницы на субботу и продолжал лить весь день, да к тому же задул резкий северо-западный ветер.
Логично было предположить, что Тисдейл захочет как можно скорее заявиться в полицию, под крышу. О том, что он не скрывается у кого-то из друзей, они знали точно: все четыре дня, что Тисдейл считался в розыске, за каждым из них следили. Грант решил, что Тисдейл еще не видел газет, и перестал о нем думать.
Он запустил бюрократическую машину на полную мощность, чтобы выяснить местопребывание брата Кристины; он поручил тщательно проверить, нет ли в гардеробе Джасона Хармера пальто с оторванной пуговицей. Сам же решил заняться исключительно лордом Эдуардом Чампни. Со всегдашней самокритичностью он признался себе, что ему не хочется допрашивать самого лорда о его действиях во вторник вечером. Во-первых, получится ужасно неловко, если выяснится, что Чампни мирно проспал эту ночь у себя в каюте. Или в отеле. Или у него другое неопровержимое алиби. Во-вторых… во-вторых — никуда от этого не денешься, — приходится признаться самому себе: особу королевской крови не будешь допрашивать как простого смертного. Мир устроен несправедливо, но приходится считаться с его законами.
Грант выяснил, что «Петронелл» ушла в Кауз, где ее владелец, Жиль Чампни, будет жить в течение недели во время фольклорного фестиваля. Поэтому в воскресенье Грант вылетел в Госпорт, откуда на пароходе теперь переправлялся через сверкающий пролив на остров Кауз. Вчерашние вздыбленные, с пенными гребешками воды светились теплой голубизной. Английское лето снова было на должной высоте.
Грант небрежно бросил воскресные газеты на свободное место рядом с собой и приготовился наслаждаться переправой. Вдруг его взгляд упал на заголовок в «Воскресных новостях»: «Правда о раннем периоде жизни Кристины Клей». Моментально забыв обо всем, он переключился на «дело». В предыдущую субботу «Воскресный телеграф» опубликовала на первой полосе вышибающую слезу статью Джемми Хопкинса, этого «короля газетчиков», как его теперь именовали. Статья представляла собой интервью с ноттингемской работницей кружевной фабрики, некоей мисс Элен Козенс, которая, как оказалось, работала на фабрике в одно время с Кристиной Клей. В ней трогательно описывалась любовь Кристины к родителям, говорилось о том, какой у нее был чудесный характер, как она прекрасно работала, перечислялись случаи, когда мисс Элен Козенс помогала ей, как могла. Статья кончалась в чисто Хопкинсовой манере — призывом ко всеобщей любви и братству.
«Так уж сложилось, — писал он, — что одной из подруг было суждено взлететь к звездам, чтобы дарить радость миллионам и делать мир светлее. Но есть и другие судьбы, не менее замечательные, хотя и не такие яркие, и жизнь Элен Козенс, в маленьком двухкомнатном домике ухаживающей за больной старушкой матерью, по-своему не менее замечательна, не менее достойна похвалы».
Это была хорошая статья: Джемми остался ею доволен.
Теперь «Воскресные новости» опубликовали свое собственное интервью. И оно заставило Гранта улыбнуться — впервые за всю неделю. На сей раз это была беседа с Мег Хиндлер, когда-то работницей той же фабрики, а теперь матерью восьмерых детей. И она желала знать, какого черта эта старая дева Нелл Козенс наплела всю эту чепуху, и она надеялась от всего сердца, что Господь покарает Нелл за ее подлую ложь, и что если мать Нелл пьет, это нисколько не удивительно, если жить с такой кислой занудой, как ее худющая и вечно ноющая дочь; и что всем известно — когда эта крючконосая Нелл Козенс сунулась на фабрику, Кристина Готобед уже давно там не работала, ее и след простыл.
Разумеется, язык статьи выглядел несколько приличнее, но смысл был именно таков.
Сама Мег действительно хорошо знала Кристину. По ее словам, она была замкнутой девушкой, старалась все время сама себя образовать. Среди сверстников особой популярностью не пользовалась. Отец у нее давно умер, и она жила в трехкомнатной квартире вместе с матерью и братом. Брат был старше ее и мамин любимчик. Мать умерла, когда Крис исполнилось семнадцать, и они с братом исчезли из Ноттингема. Они не были коренными ноттингемцами, у них не осталось там родни, и никто особенно не вспоминал о них после отъезда. Что уж говорить про тех, которые поселились там потом!
Грант живо представил себе, как бесится сейчас Хопкинс, которого так ловко провела эта сочинительница Нелл. Интересно, интересно. Так, значит, старший брат был мамочкиным любимчиком! Шиллинг на свечи. Какой семейный скандал мог так глубоко задеть Кристину, что она сохранила о нем память на всю жизнь и обессмертила своим завещанием? Ладно, ладно, газетчики считают себя умнее всех, но у Ярда есть свои методы и пути, неизвестные прессе и не менее действенные. Сегодня же вечером, к его возвращению, на его столе будет лежать вся предыдущая жизнь Кристины Клей, во всех деталях. Он отложил «Телеграф» и взялся за другие газеты. «Сандей телеграф» опубликовала целую сводку — вполне достойный и удобный своей дешевизной способ заполнения газетного листажа. В сводке сообщались мнения всех, начиная с архиепископа Кентерберийского и кончая Джасоном Хармером, о Кристине Клей и ее влиянии на искусство кино. («Сандей телеграф» обожала слова «влияние» и «искусство». На ее страницах даже боксеры рассказывали не про матчи, а про свое искусство.) Все высказывания, уложенные в маленькие параграфы, были банальны как обычно, кроме слов Джасона Хармера: за гладкими фразами угадывалось подлинное чувство. Марта Халлард была великодушна, упомянув о таланте Кристины, и на этот раз удержалась от того, чтобы упомянуть о ее более чем скромном происхождении. Один из претендентов на престол превозносил ее красоту. Ас высшего пилотажа — ее мужество. Посол — ее ум. Было видно, что «Сандей телеграф» на этот раз не поскупилась на телефонные звонки.
Грант взялся за «Курьер» и там, где-то в середине газеты, обнаружил подробные объяснения мисс Лидии Китс по поводу знаков Зодиака. За последнюю неделю акции Лидии среди ее самых верных поклонников несколько упали. По их мнению, если уж она настолько очевидно видела смерть Клей, то должна бы заметить и такуюмалую деталь, как и то, что ее утопят. Но в глазах широкой публики ее известность расцвела пышным цветом. Лидия не обманывала. Много месяцев назад она объявила во всеуслышание, что звезды пророчат Кристине Клей, и звезды сказали правду. А публика обожает, когда пророчества сбываются. Замирая от ужаса, люди вжимаются спинами в мягкие диванные подушки и требуют еще и еще. И Лидия обещала им это «еще»: в конце статьи мелким шрифтом давалась информация, что благодаря щедрости «Курьера» его читатели могут заказать гороскопы у мисс Китс всего за один шиллинг — купоны на последней странице.
Грант сунул под мышку иллюстрированные журналы и приготовился сойти на берег. Он наблюдал, как ловко моряк накидывает трос на тумбу, и думал о том, как было бы хорошо, выбери он профессию, связанную не с людьми, а с предметами или машинами.
«Петронелл» стояла на якоре далеко от берега. Грант нанял лодку, которая доставила его к яхте. Пожилой помощник, стоявший на палубе, сунул трубку в карман и приготовился помочь ему подняться. Грант спросил, на борту ли лорд Жиль, прекрасно зная, что тот в Бекингемшире. Получив ответ, что лорда не будет целую неделю, Грант сделал вид, будто очень разочарован, и попросил разрешения все же подняться на борт: он-де надеялся, что его светлость сам покажет ему судно. Помощник обрадовался и сделался сразу очень общителен. Он остался на судне один и успел заскучать. Показать яхту симпатичному приятелю лорда Жиля обещало внести приятное разнообразие в монотонный день и наверняка некоторое вознаграждение за труды. Он выполнил свою почетную задачу на совесть, чем немало раздосадовал Гранта, но оказался очень словоохотлив. На одобрительное замечание Гранта по поводу удобных спальных кают, помощник заявил, что лорд Жиль всегда предпочитает ночевку на яхте ночлегу на берегу. Он бывает по-настоящему счастлив, только когда под ними соленое море, лорд Жиль.
— Не то что лорд Эдуард, — заметил Грант.
— Да уж, что правда, то правда. Съехал на берег, едва лодку подали к борту.
— Он, вероятно, заночевал у Бричеров в тот день, когда вы вошли в Дувр?
Этого помощник не знал. Ему только известно, что на яхте он на ночь не оставался. Они вообще его больше тут не видели. Его ручной багаж переслали на паром, а остальное отправили вслед за ним в город. Все оттого, что с его суженой приключилось такое несчастье. Актриса она была. Очень известная киноактриса. Правда ужасно, когда такие вещи случаются с людьми из лучших семей? Надо же, убийство! Да, времена меняются к худшему.
— Ну не скажите, — не удержался Грант. — Если верить учебникам истории, то в прежние времена убийства для сильных мира сего были любимым развлечением.
Помощник был так доволен полученным за труды вознаграждением, что даже предложил приготовить для гостя какао, но Гранту не терпелось добраться до берега и позвонить в Ярд. На обратном пути он снова принялся размышлять, как Чампни провел ночь. Самым простым было объяснение, что он остановился у друзей. Но если так, откуда такое упорное желание избежать расспросов? Чем больше Грант думал об этом, тем более несовместимым с характером этого человека казалось ему стремление Чампни к скрытности. Эдуард Чампни всегда привык поступать, согласно своим намерениям, открыто, не считаясь с мнением окружающих и последствиями. Гранту трудно было вообразить, что он вообще способен действовать тайно. Только дело чрезвычайной важности могло заставить его изменить своим правилам. Гранту, таким образом, приходилось исключить в данном случае возможность легкого любовного приключения. К тому же за Чампни утвердилась репутация почти аскета. Но если исключить любовное приключение, что еще остается? Какой поступок человек типа и статуса Чампни пожелал бы скрыть, кроме убийства?
Убийство? В общем-то, допустить можно. Если чувство спокойной уверенности однажды разбито, то еще неизвестно, какое пламя может вырваться наружу. Вероятно, он верный муж и ожидает того же от жены. Такие не прощают измены. Допустим… допустим, появился Хармер. Друзья Кристины отрицали, что она и Хармер были любовниками, но бомонд, не знающий, что такое приятельские отношения на работе, сомнений по этому поводу не испытывал ни малейших. Может быть, и Чампни поверил этому? Их привязанность друг к другу была спокойной, но его гордость… Гордость — вещь хрупкая и легко воспламеняющаяся. Может быть, он… Это, пожалуй, идея! Может быть, он подъехал к коттеджу той ночью? Он, в конце концов, был единственным, кто знал, где ее искать: почти все телеграммы оттуда она посылала именно ему. Он был в Дувре, а она — всего в двух часах оттуда. Что могло быть естественнее, чем приехать поздно ночью и сделать ей сюрприз? А если так…
И Гранту представилась картина: коттедж в темноте летней ночи; освещенные окна открыты, так что снаружи слышно каждое произнесенное слово. В саду, среди роз, стоит человек, прислушивающийся к голосам. Он стоит не шевелясь и наблюдает. Наконец в доме гасят свет. И через некоторое время человек уходит. Куда? Бродить всю ночь по дюнам? Чтобы увидеть ее неожиданно одну на пляже? И…
Грант встряхнулся и взялся за телефон.
— Эдуард Чампни во вторник не ночевал на борту, — произнес он в трубку. — Я хочу знать, где он был. И не забывайте, ради Бога, что надо соблюсти величайшую деликатность. Может оказаться, он провел ночь у лорда-хранителя печати или еще в таком же не вызывающем подозрений месте, но вряд ли. Хорошо бы завести дружбу с его лакеем и проверить гардероб лорда на предмет темного пальто. Наша самая сильная карта — то, что никто, кроме полиции, не знает про пуговицу. То, что мы дали в розыск брошенное пальто, ни о чем не говорит. Десять к одному, что пальто еще у владельца. Проще держать пальто, пусть даже без пуговицы, при себе, чем избавляться от него. И СОС по поводу пальто был разослан только для служебного пользования — широкой публике он не известен. Так что постарайтесь осмотреть гардероб Чампни… Нет, у меня на него нет никаких улик. Только действуйте осторожно, очень прошу. Я и так уже себя достаточно опозорил. Какие новости? Тисдейл объявился? Нет? Ладно, до вечера наверняка объявится. Он по крайней мере отвлечет от нас прессу. Они ждут его не дождутся. Как там досье на Клей? Ага. Вайн не вернулся после беседы с камеристкой, как ее, — Бандл? Нет еще? Хорошо, еду прямо в город.
Вешая трубку, Грант намеренно отогнал от себя смутно зарождавшуюся тревогу. Разумеется, с Тисдейлом все в порядке. И вообще, что может случиться со взрослым мужчиной летом за городом, в Англии? Конечно, с ним все в порядке.
15
Досье Клей пополнялось довольно успешно. Ее отец, Генри Готобед, был плотником в поместье возле Лонг-Итона и женился на гладильщице из господского дома. Он погиб во время несчастного случая на лесопильном заводе, и отчасти потому, что его отец и дед работали в этом поместье, отчасти оттого, что вдова была слабого здоровья и не в состоянии была выполнять тяжелую работу, хозяева дали ей небольшую пенсию. Коттедж в Лонг-Итоне надо было освободить, и она с двумя детьми переехала в Ноттингем, где было больше возможностей найти подходящую работу. Девочке тогда было двенадцать, мальчику — четырнадцать. Странно, но собрать информацию об их дальнейшей жизни оказалось значительно сложнее. Информацию, кроме голых фактов так сказать. В сельской местности перемены происходят медленно, интересы у людей ограниченные, а память долгая. Но в постоянно меняющемся людском потоке города, где семьи зачастую не живут в одном районе более полугода, память о прежних жильцах обычно недолговечна.
Единственной, кто действительно им помог, была протеже «Новостей» Мег Хиндлер. Она оказалась огромной, добродушной женщиной с громким голосом, которая раздавала оплеухи своим многочисленным отпрыскам одной рукой и ласкала другой. Она еще не избавилась от синдрома по отношению к Нелл Козенс, но в те короткие минуты, когда ее удавалось отвлечь от этой темы, успевала сообщить много интересного. Мег запомнила семью Готобед не потому, что она была чем-то примечательна, а потому, что жила с ними на одной лестничной площадке и работала на той же фабрике, что и Крис. Часто они возвращались домой вместе. Она хорошо ладила с Крис Готобед, хотя и не одобряла ее за то, что та задирала нос. Если ты должен зарабатывать себе на хлеб, работая на фабрике, так и работай без фокусов. Не то чтобы Крис фокусничала, нет, но она так брезгливо отряхивалась и чистилась, когда заканчивала работу, будто занималась чем-то позорным. И всегда носила шляпку, что уж совсем ни к чему на фабрике. Она обожала мать, но та признавала только своего ненаглядного Герберта. Этот Герберт был паршивец, другого слова не подберешь! Скользкий, лживый, подлый, самовлюбленный тип, каких мало. Но миссис Готобед души в нем не чаяла и считала красавчиком. И он всегда притеснял Крис. Как-то Крис упросила мать разрешить ей брать уроки танцев, хотя к чему ей эти уроки, Мег ума приложить не могла: смотри, как другие скачут, глядишь, и сама научишься, а дальше — дело практики. Так вот, Герберт, как только прослышал, сразу положил этому конец. Им это не по карману, сказал он, — им все было не по карману, кроме того, чего хотелось самому Герберту, — и, кроме того, танцы — вещь легкомысленная и не может быть угодна Господу. Герберт всегда точно знал, что Господу угодно, а что нет. Он не только положил конец ее занятиям танцами, он еще умудрился выудить у Крис деньги, которые она откладывала, чтобы добавить к той сумме, что выделит мать. Он стал говорить, как эгоистично со стороны Крис копить на себя деньги, когда у матери такое слабое здоровье. И он так упорно твердил про ее слабое здоровье, что матери и вправду стало хуже и она слегла. А Герберт при этом съедал все лучшее, что Крис для нее покупала. А потом Герберт поехал с матерью на отдых в Скечнесс, потому что Крис не могла бросить работу, а это был как раз один из многочисленных периодов, когда Герберт потерял место.
Да, Мег им помогала. Конечно, она не знала, что сталось с этой семьей потом. Крис уехала из Ноттингема на следующий же день после похорон матери, но поскольку квартира была оплачена на неделю вперед, то Герберт еще несколько дней жил один. Мег запомнила это, потому что он как раз устроил у себя одно из «собраний» — он обожал устраивать такие собрания, любил сам себя слушать — и соседи пожаловались на шум: слишком громко они там распевали. Будто и без этого у них в доме мало было шума, а тут еще эти собрания! Какие собрания? Помнится, начал он с политики, но потом быстро перекинулся на религию, потому что на религиозных сборищах, как бы вы публике ни досаждали, в вас ничем кидаться не станут. Что до нее, то ей сдается, ему только дай поговорить, а про что — не важно. Лично она не припомнит человека, который так много о себе воображал бы, и при этом без всяких оснований.
Нет, она не знает, куда уехала Крис и было ли ее местопребывание известно Герберту. Зная Герберта, она думала, что скорее всего Крис уехала с ним не попрощавшись. Она и вообще никому не сказала «до свидания». Крис очень нравилась Сиднею, младшему брату Мег, он сейчас в Австралии, но Крис его никак не поощряла. Нет, у нее не было жениха, у Крис. Мег столько раз видела на экране Кристину Клей и не догадалась, что она и есть Кристина Готобед. Чудно, да? Она очень изменилась, это уж точно. Мег слышала, что там, в Голливуде, они это ловко делают. Наверное, потому и не узнала. Ну и потом, от семнадцати до тридцати — время немалое. Посмотрите, во что она сама превратилась всего за несколько лет!
И Мег с громким смехом развернулась, чтобы детектив смог обозреть ее пышные формы. Потом она угостила его крепким, только что заваренным чаем со сладким печеньем.
Детектив — это был тот самый Сангер, который участвовал в несостоявшемся аресте Тисдейла и тоже был горячим поклонником Клей, — припомнил, что даже в городе есть группы людей, чьи интересы так же специфичны и память такая же долгая, как у деревенских жителей, и в конце концов отыскал маленький домик в пригороде за рекой, где обитала с карликовым терьером и приемником миссис Станмерс. И терьера и приемник она получила при выходе на пенсию. Сама она после тридцати лет преподавания в начальной школе на Бизли-роуд не могла бы себе позволить даже одну из этих дорогих игрушек. Школа составляла всю ее жизнь, памятью о школе она жила до сих пор. Кристину Готобед она помнила прекрасно. Что мистер Сангер хочет узнать о ней? Ах, не просто мистер, а детектив? Она надеется, что ничего плохого не произошло. Все это было так давно, и потом она не поддерживала никаких связей с Кристиной. Немыслимо поддерживать связи с учениками, когда их у тебя по шестьдесят в одном только классе. Но девочка была многообещающая, очень многообещающая.
Сангер спросил, известно ли ей о том, что ее многообещающая девочка стала Кристиной Клей.
— Кристина Клей! Вы имеете в виду кинозвезду? Боже мой! Боже мой!
Сангер подумал было, что ее эмоции явно наигранны, но потом заметил, что маленькие старческие глаза полны слез. Она сняла пенсне и вытерла его аккуратно сложенным носовым платочком.
— Такая знаменитость! Бедное дитя, бедное, бедное дитя!
Сангер напомнил ей, с чем в данном случае связан всеобщий интерес к Кристине. Но мисс Станмерс, казалось, не столько волновала страшная смерть взрослой Кристины, сколько ее способности, когда она была еще подростком.
— Она, знаете ли, была очень честолюбива. Потому я ее так хорошо и запомнила. Не как остальные: тем только бы поскорее распрощаться со школой и начать самим зарабатывать деньги. Единственное, что интересует детей из бедных кварталов, — это иметь наконец собственные карманные деньги и поскорее покинуть свои перенаселенные квартиры. А Кристине хотелось продолжить образование. Она даже добилась стипендии и получила право бесплатно учиться дальше. Но семья не могла ей этого позволить. Помню, она тогда пришла ко мне в слезах. Это был единственный раз, когда я видела ее плачущей. Обычно она была очень сдержанной девочкой. Я вызвала ее мать. Довольно приятная женщина, но абсолютно бесхарактерная. Я не смогла ее убедить. Слабохарактерные люди умеют быть очень упрямыми. А я не могла забыть о своей неудаче долгие годы. Я очень сочувствовала ее честолюбивым стремлениям. У меня самой они были когда-то, но я… я была вынуждена о них забыть. Я понимала, как ей тяжело. Она окончила школу, и я потеряла ее из виду. Помню, она пошла работать на фабрику. Семья нуждалась. Там был еще безработный брат. Весьма неприятный юноша, я слышала. И материнская пенсия — совсем ничтожная. Значит, она все-таки сделала карьеру! Бедное дитя!
Перед уходом Сангер спросил ее, неужели она не читала статьи о детстве Кристины в воскресных выпусках. Воскресных газет она не получает, ответила мисс Станмерс, а ежедневные к ней обычно попадают с двух-трехдневным опозданием: ее соседи Томпкинсы — очень милые люди — отдают ей свои, но сейчас они уехали на море, и она не видит газет, кроме тех, что на уличных стендах. Но она не особенно ощущает их отсутствие. Это ведь дело привычки, не так ли, мистер Сангер? Стоит их не читать дня три, как потом и не ощущаешь в этом необходимости. Да и как-то без них спокойнее. В наши дни только настроение портят. У себя в тихом, скромном убежище ей даже трудно поверить, что в мире столько зла и насилия.
Сангер попытался собрать сведения об этом несимпатичном типе, Герберте Готобеде. Но его никто как следует не помнил. Он не оставался на одной работе более пяти месяцев (этот рекорд он установил, работая у кузнеца), и никто не горевал, когда он исчез. Никто не знал, что с ним сталось после.
Более свежие сведения о нем привез с Саут-стрит Вайн, расспрашивавший прежнюю камеристку Кристины, Бандл. Она о брате знала. Ее острые карие глаза на морщинистом лице засверкали яростью при одном упоминании о нем. Она видела его только раз и надеялась, что не увидит больше никогда. Однажды в Нью-Йорке он прислал записку в гримерную. Это была первая собственная гримерная Кристины и самая первая комедия с ее участием в главной роли. Она называлась «Поехали». И это был успех! Бандл одевала Крис, как и девять других девушек, когда она была еще статисткой, но потом госпожа пробилась на самый верх и взяла ее с собой. Такая уж она была: никогда не бросала друзей. До того как принесли записку, ее госпожа болтала и смеялась. Но когда мисс Кристина ее прочла, у нее стал такой вид, будто она таракана в мороженом увидела. Когда он вошел, она только сказала: «Объявился все-таки!» Он стал говорить, что пришел ее предостеречь о Божием наказании, а она ему отвечает: «Ты пришел, чтобы посмотреть, чем можно поживиться, вот и все». Она только что сняла дневной грим, чтобы наложить новый перед выходом на сцену, так что у нее ни кровинки в лице не было, пока она с ним говорила. Потом она выслала ее, Бандл, из комнаты, но там, внутри, был целый скандал. Бандл стояла за дверью, охраняя свою госпожу от посетителей — уже тогда находилось много таких, которые желали завести знакомство с ее госпожой, — и поэтому невольно слышала, что происходило за дверью. Потом ей пришлось их прервать, потому что мисс Кристине пора было выходить на сцену. Этот тип накинулся на Бандл за то, что она посмела войти, но госпожа сказала, что, если он тотчас же не уйдет, она вызовет полицию. Тогда он ушел и, насколько Бандл знает, больше не появлялся. Но он писал. Время от времени от него приходили письма — Бандл научилась узнавать их по почерку, — и он всегда каким-то образом знал, где находится сестра, потому что адрес на конверте всегда был указан точно. Ее госпожа после получения очередного письма всегда становилась очень грустной. В одну из таких минут она как-то сказала: «Ненависть ведь такое низменное чувство, правда, Бандл?» Бандл в жизни не испытывала ненависти ни к кому, кроме постового полицейского, который ей постоянно грубил, но согласилась, что ненависть очень портит жизнь: она жжет тебя изнутри, пока не сожжет дотла.
К рассказу Бандл добавился еще и рапорт американской полиции. Герберт Готобед приехал в Штаты лет на пять позже сестры. Короткое время он пребывал в услужении у одного известного бостонского проповедника, который был покорен (или обманут?) его хорошими манерами и набожностью. Причина его ухода была покрыта мраком неизвестности; какого именно рода она была — выяснить не удалось, поскольку святой человек то ли из милосердия, а скорее всего из нежелания афишировать, что обманулся в своем выборе, предпочел ничего не сообщать в полицию. Предполагалось, однако, что впоследствии Герберт под именем Брата Господня колесил по стране, и не без успеха — и с точки зрения популярности, и в отношении заработков. Когда полиция дала ему понять, что родственные связи с Господом не помешают им выслать его из страны, он мигом понял намек и исчез. Последнее, что о нем слышали, — он будто бы основал миссию где-то на островах, кажется на Фиджи, после чего — с фондами миссии в кармане — удрал в Австралию.
— Обаятельная личность, ничего не скажешь, — заметил Грант, поднимая глаза от досье.
— Точно, это он, — сказал Вильямс, — не сомневаюсь, он-то нам и нужен.
— Да, все признаки у него налицо, — задумчиво отозвался Грант. — Жадность, тщеславие, полное отсутствие совести. Мне бы тоже очень хотелось, чтобы это был он. Мы бы оказали обществу большую услугу, если бы раздавили эту гадину. Но зачем ему было это делать?
— Может, давняя обида? — предположил Вильямс.
— Настолько глубокая, что через столько лет спровоцировала его на убийство? Пожалуй, ты тут перехватил. И потом, ему это невыгодно: из нее живой можно было выкачивать деньги, а так… А если все же надеялся на завещание? Это, пожалуй, мысль!
16
Грант решил снова встретиться с поверенным Кристины, однако для исполнения своего замысла ему нужна была поддержка и одобрение лорда Чампни. Созвонившись с его светлостью, Грант сел в машину и по пустынным в этот час улицам поехал ко Дворцу правосудия.
Очутившись в залитом зеленоватым светом и оттого сильно напоминавшем аквариум кабинете мистера Эрскина, где его уже ожидал лорд Чампни, Грант немедленно приступил к делу.
— Как вы посмотрите, если мы от вашего имени дадим коротенькое объявление в газете? — обратился он к ним обоим и изложил свой план.
Мистер Эрскин осторожно, словно боясь потревожить рыб, соединил кончики пальцев, нерешительно покачал головой и сказал, что опасается, как бы столь неожиданный шаг не привел к лишним осложнениям. Но лорд Эдуард неожиданно поддержал Гранта.
Несколько успокоенный, Грант вернулся к себе и тотчас отдал соответствующее распоряжение Вильямсу. Оставшись наедине с собой, он снова впал в сомнение: действительно, стоило ли создавать искусственные неприятности, когда и естественных на свете больше чем достаточно. Во всяком случае, в настоящий момент у бедного Гранта их хватало. «Вокруг вас одни неприятности» — как говорят обычно гадалки, раскладывая карты. Это как раз про него. Понедельник подходил к концу, а Тисдейл по-прежнему не подавал никаких признаков жизни. Первый, пока еще негромкий вой издала «Кларион», и завтра к утру на него накинется вся волчья стая. Где Роберт Тисдейл? Что предпринимает полиция, чтобы его отыскать? К чести Гранта, испытываемая им тревога была связана с беспокойством за самого Тисдейла, а не за себя, на которого неминуемо обрушится вся пресса. В последние два дня он действительно был уверен, что Тисдейл не появляется просто потому, что не видит газет. Не так-то просто раздобыть газету, когда ты в бегах. Но сейчас сомнение то и дело обдавало его легким холодком. Что-то тут было не так. Каждый газетный стенд в каждой деревушке пестрел крупными заголовками: «Тисдейл не виновен», «Разыскиваемый полицией человек не виновен». Как он мог их не заметить? В любой пивной, в любом вагоне поезда, в автобусах и домах — по всей стране эта новость была главной темой разговоров. И тем не менее Тисдейл хранил молчание. Никто не видел его с тех самых пор, как Эрика уехала от него в прошлый вторник. В ночь на среду над всей Англией разбушевался такой шквальный ветер, какого не знали здесь много лет, и в течение двух дней дуло и лило со страшной силой. Тисдейл забрал еду, которую Эрика оставила ему в среду, но потом ничего не трогал. То, что она положила в пятницу, все еще лежало на том же месте, превратившись к субботе в мокрое месиво.
Грант знал, что всю субботу Эрика обшаривала округу. Она обследовала местность с упорством и настырностью терьера: ни один сарай, ни одно мало-мальски заметное укрытие не были ею пропущены. Она вполне справедливо думала, что ночь на субботу он во что бы то ни стало должен был провести под крышей — ни одно человеческое существо не смогло бы продержаться той ночью под открытым небом, — и поскольку в среду он еще был у меловой дороги, то вряд ли ушел далеко.
Однако все ее усилия ни к чему не привели. Сегодня организованные поиски начала вести группа добровольцев — у полиции не хватало людей, — но пока никаких известий не поступало. Гранта начал охватывать настоящий страх, который он безуспешно пытался подавить. Но страх был как торфяной пожар: только затопчешь в одном месте, как он тут же снова возникает уже где-то впереди.
Новости из Дувра тоже были неутешительными. Тамошнее расследование двигалось нестерпимо (для любого не обладавшего терпеливостью полиции) медленно, во-первых, из-за страха оскорбить высокую особу и, во-вторых, из-за боязни, как бы не спугнуть птичку. Первое — в случае полной невиновности Чампни, второе — в случае если он все же причастен к преступлению. Все это было очень сложно. Наблюдая за спокойным лицом Чампни (у него были правильные, изогнутые брови, усиливавшие впечатление полной безмятежности), пока они обсуждали ловушку для Герберта, Грант несколько раз вынужден был одергивать себя, чтобы не спросить впрямую: «Где вы были в ночь на среду?» Как бы себя повел Чампни? Скорее всего несколько минут недоуменно молчал, потом немного подумал и сказал: «После того как я прибыл в Дувр? Провел вечер с тем-то и с тем-то, в таком-то месте». Потом до него дошло бы, что значит этот вопрос, он изумленно взглянул бы на Гранта, и Грант почувствовал бы себя полным идиотом. Более того, в присутствии Эдуарда Чампни он понимал, насколько оскорбительно даже само подозрение, будто Чампни может иметь какое-нибудь отношение к убийству своей жены. Когда его не было рядом, Грант, однако — чаще, чем ему хотелось самому, — мысленно возвращался к той картине, которая предстала перед ним однажды: человек, стоящий в темном саду под освещенными окнами. Но когда Чампни находился рядом, эта мысль казалась фантастической. Пока людям Гранта удастся — или не удастся — выяснить, что делал Чампни в ту ночь, всякие прямые расспросы придется отложить.
Пока что было ясно лишь одно: Чампни не останавливался ни в одном из обычных мест. Опросы в отелях и в домах знакомых дали негативный результат. Сфера поисков была предельно расширена. В любую минуту могли поступить сведения о том, что лорд Чампни провел ночь на царственной постели с простынями тончайшего полотна, и Грант вынужден будет признать, что ошибался в своем предположении, будто лорд Эдуард намеренно ввел его в заблуждение.
17
Во вторник утром поступили новости от Коллинза — детектива, который занимался гардеробом Чампни. Его лакей Брайвуд оказался «очень трудным»: он не пил, он не курил, и Коллинзу долгое время никак не удавалось найти с ним никаких общих точек соприкосновения. Но каждый человек имеет свою цену. Оказалось, что Брайвуд обожает нюхать табак. Он держал свое пристрастие в глубокой тайне, опасаясь, что лорд Эдуард, если узнает, рассчитает его на месте. (На самом деле лорд Эдуард, вероятно, был бы чрезвычайно рад, что у его лакея такая старомодная привычка, в духе восемнадцатого столетия.) Коллинз достал Брайвуду очень редкий сорт нюхательного табака и наконец-то получил возможность ознакомиться с гардеробом Чампни. Оказалось, что по возвращении — вернее, когда он уже прибыл в Лондон — его светлость изволили «почистить» свой гардероб. Он отдал Брайвуду два пальто — одно темное, другое светлое, верблюжьей шерсти. Последнее Брайвуд подарил своему племяннику — хористу. Первое продал старьевщику в Лондоне. У Коллинза были фамилия и адрес старьевщика.
Грант срочно послал по этому адресу человека. Когда детектив стал перебирать его товар, старьевщик сказал: «Вот пальто лорда Эдуарда Чампни, сына герцога Бада. Прекрасная вещь». Это была действительно прекрасная вещь, и все пуговицы у нее были на своих местах. Без признаков недавней замены.
Грант вздохнул, услышав эту весть, — сам не зная, от радости или огорчения. Но он по-прежнему хотел знать, где Чампни провел ту ночь.
А пресса хотела знать, где Тисдейл. Все до единой газеты Британии желали это знать. Ярд давно уже не попадал в столь затруднительное положение. «Кларион» в открытую называла их убийцами, а Грант, пытаясь хоть как-то разобраться в осложнившемся деле, совсем измучился от злобствования коллег, от утешений друзей, от вида обеспокоенного начальства и от собственной возрастающей тревоги. В середине дня Джемми Хопкинс позвонил в Ярд, чтобы оправдаться по поводу своей статьи в «Кларион», говоря, что «дело есть дело» и он надеется, что добрые друзья-полицейские поймут его правильно. Гранта не было, и к телефону подошел Вильямс. У него не было настроения обмениваться любезностями. Он с наслаждением излил свою отягченную заботами душу и оставил Хопкинса в тревоге, что он, пожалуй, малость переборщил и непоправимо испортил отношения с Ярдом.
— А что до преследования невинных людей, — заключил Вильямс свою отповедь, — то вам ли не знать, что пресса за один день преследует столько народа, сколько Ярду не довелось со дня основания. И все ваши жертвы — люди невинные!
— Имейте же сердце, сержант! Вы же знаете, мы обязаны поставлять материал. Если он будет бледный и неинтересный, то можно лишиться работы. И очутиться на паперти или на набережной. Вы человеку вздохнуть не даете. Нам нужно на что-то жить, как и вам, и…
Звук повешенной Вильямсом трубки был достаточно красноречив. В одном этом звуке соединилось все: и слово, и дело. Джемми чувствовал себя незаслуженно оскорбленным. Он писал статью с вдохновением. Он настолько упивался своими обличительными фразами, что начинал пылать искренним негодованием. Когда он писал, то его язык покидал свое обычное место за щекой, высовывался наружу, и Джемми захлестывали эмоции. Когда он кончал писать, язык занимал прежнее положение и все эмоции исчезали бесследно, но это уже не имело существенного значения: статья была готова, в ней был «жар души», и его жалованье подскакивало вверх. Ему только было немножко жаль, что его газетные недруги не ведали, как протекает его творческий процесс. Раздосадованным жестом он сдвинул шляпу на правый глаз и пошел перекусить.
А менее чем в пяти минутах ходьбы от него Грант сидел в темном углу с огромной кружкой черного кофе и, подперев голову руками, «проговаривал» обстоятельства дела короткими, рублеными фразами.
Местопребывания Кристины Клей никто не знал. Но знал убийца.
Это исключало массу народа.
Знал Чампни.
Знал Джасон Хармер.
Знал почти наверняка Герберт Готобед.
На убийце было пальто — темное или черное, потому что пуговица и нитка были черными.
Такое пальто было у Чампни, но со всеми пуговицами.
У Джасона Хармера черного пальто не было, и в таком его никто не видел.
Что носит Герберт Готобед, не известно никому.
У убийцы мотив должен был быть достаточно весомый и не мимолетный, для того чтобы поджидать свою жертву в шесть часов утра на пляже и потом утопить.
У Чампни такой мотив был.
У Джасона Хармера — возможно, если они были любовниками, но доказательств этому нет.
У Герберта Готобеда, насколько известно, мотива для убийства не было, но он почти наверняка ее ненавидел.
По количеству очков первым шел Готобед: он знал, где находится его сестра, за ним шла дурная слава человека, способного на все, даже на убийство, и он был в плохих отношениях с покойной.
Ладно! Может быть, Готобед объявится завтра. Пока же Грант будет стараться глушить себя черным кофе и отгонять мысли о прессе. Он уже поднес чашку к губам, когда его взгляд упал на человека в противоположном углу. Чашка мужчины была наполовину пуста, и он с дружелюбным любопытством наблюдал за Грантом. Грант улыбнулся и нанес удар первым:
— Прячете свой классический профиль от публики? Почему бы вам не доставить бесплатного удовольствия своим поклонникам?
— Бесплатных удовольствий у них сколько угодно. Им все сходит с рук. Вам достается с этим делом. Что они, право, ожидают? Что вы ясновидящий?
Грант неторопливо положил в рот мед.
— Джемми Хопкинс когда-нибудь дождется, что ему открутят голову за его штучки. Я бы и сам не прочь, но мое лицо застраховано на кошмарную сумму. Он однажды нашел, что я — «мечта каждой девушки», — сказал Оуэн Хьюджед.
— А разве это не так?
— Вы не видели, что сталось с моим коттеджем?
— Нет. Только газетные фотографии.
— Должен признаться, я просто заплакал, когда вылез из машины и увидел его. Пусть бы эти фотографии размножили и разослали по всему свету, чтобы люди увидели своими глазами, к чему приводит паблисити. Лет пятьдесят назад люди могли приехать посмотреть и спокойно уехать, довольные. А теперь! В «Бриары» приезжали целыми отрядами. Мой поверенный попытался приостановить эти «экскурсии», но ничего не добился. Местная полиция поставила там пост только на первые несколько дней. За эти две недели там побывало тысяч десять, и каждый старался заглянуть в окна, топтал цветы и брал сувенир на память. От ограды ничего не осталось, а она была больше трех метров высотой и вся в розах, а сад — просто голое, истоптанное месиво. Я очень любил свой сад. Не то чтобы я ворковал над каждым цветочком; но мне нравится сажать растения, которые мне дарят, и наблюдать, как они вырастают. Ничего не осталось.
— Да, действительно вам не позавидуешь. И не с кого взыскивать убытки. Представляю, как вам досадно. Ну, будем надеяться, что к следующему сезону у вас там снова все зазеленеет.
— Я продаю дом. Теперь он все равно что дом с привидением. Вы никогда не встречались с Клей? Она была великолепна. Такие редко появляются на свет.
— Вы, случайно, не знаете, кто бы мог желать ее смерти?
Хьюджед улыбнулся той знаменитой улыбкой, которая заставляла его поклонников самозабвенно вцепляться в ручки кресел в кинозалах.
— Я знаю многих, которые с превеликим удовольствием укокошили бы ее сразу на месте. Но только сразу. Как только человек поостывал, он был готов умереть за нее. Для Крис это немыслимая смерть — я имею в виду то, как именно это произошло. Вы слышали, что Лидия Китс предсказала ей скорую кончину? Лидия просто чудо. Правда, таких надо топить в младенческом возрасте, но все-таки она — чудо. Я послал ей дату рождения Мари Дакр — все сведения вплоть до часов и минут. Мари до этого заставила меня дать страшную клятву, что я никому не проболтаюсь про год ее рождения. Лидия понятия не имела, чей гороскоп она составляет, но он вышел абсолютно точный. Лидия произвела бы сенсацию в Голливуде.
— Похоже, она туда и метит, — сухо отозвался Грант. — А вам там нравится?
— Да, там очень спокойно дышится. — И, видя, что Грант недоверчиво поднял брови, добавил: — Там мы все как галька на морском берегу — почти неразличимы, и никто за нами не гоняется.
— Я всегда считал, что туда организуют специальные экскурсии со всего Среднего Запада, чтобы люди могли фотографироваться в обнимку с актерами.
— Ну да, устраивают даже автомобильные экскурсии по улицам, где живут знаменитости, но никто не топчет цветы у вас в саду.
— Если вас убьют, то могут и потоптать.
— Там поклонники никого не убивают. Убийству в Штатах цена — копейка. Это не сенсация. Ну, мне надо двигаться. Удачи вам. И пусть Господь вам поможет. Вы сами мне очень помогли, да еще как!
— Я?
— Вы показали мне, что есть профессия еще хуже моей. — Он положил деньги на край стола и взялся за шляпу. — Надо же! На воскресной службе принято молиться за судей, но никто никогда не молится за полицейских!
Он приладил шляпу под тем углом, который после проб был признан фотографами самым удачным, и пошел к выходу, оставив Гранта в чуть более спокойном расположении духа.
18
Кто не мог похвастаться спокойным расположением духа, так это Джемми. Игривый, шумный, видавший виды, но никогда не унывавший Джемми. Он поел в своей любимой закусочной (на черном кофе пусть сидят озабоченные полицейские и актеры, вынужденные следить за фигурой; Джемми имел дело лишь с заботами других, а про фигуру вспоминал, только когда очередной раз бывал у портного), и в этот день все у него шло наперекосяк. Мясо казалось пережаренным, пиво — тепловатым, официант икал, картофель был водянистый, пуддинг отдавал содой, а в баре кончились его любимые сигареты. Поэтому чувство, что его обидели и неправильно поняли (вместо того чтобы расслабиться после еды и питья), усилилось и превратилось в обиду на весь Божий свет. Он мрачно взирал поверх кружки на своих собратьев по перу и сверстников, которые беззаботно перебрасывались шутками за столиками с крахмальными скатертями, а они, заметив его непривычно мрачный вид, поддразнивали его, проходя мимо.
— Что случилось, Джемми? Понос?
— Нет! Он тренируется на диктатора. Тут главное — выражение лица.
— Главное не в этом, — подхватывал другой, — главное — в стрижке.
— И надо следить за руками. Возьми Наполеона. Так и остался бы капралом на всю жизнь, не выдумай он этого трюка с руками, сложенными на груди. Знаешь, как беременный.
— Если у Джемми беременность, пускай бы лучше рожал в офисе, а не здесь. Боюсь, младенец получится довольно страшненький.
Джемми послал их всех подальше и пошел искать свои любимые сигареты. И чего это Ярд так на него ополчился? Все знают, что в газетах одна вода, если не моча. Стоит перестать преувеличивать и делать драму из любой чепухи, люди начнут думать, что с ними никто не считается, и перестанут покупать газеты. И что тогда станется со всеми газетными воротилами, с самим Джемми и с ни в чем не повинными держателями акций? Хочешь не хочешь, а надо волновать чувства всех этих несчастных трудяг, которые слишком утомлены или слишком тупы для того, чтобы чувствовать самим. Если уж нет такого события, которое заставило бы кровь застыть в жилах, то надо жать на слезу. Рассказ о ранних годах Клей был как раз то, что надо, — настоящий джем, хотя эта дамочка с лошадиным лицом, гром ее разрази, действительно провела его за нос насчет того, что дружила с Крис. Но не всегда же тебе попадаются ужасы или жалобные истории, а английская публика если и обожает что-то еще, так это справедливое негодование. Ну Джемми им и дал эту возможность. В Ярде же прекрасно знают: завтра все эти люди и не вспомнят о том, что прочли сегодня, — так какого черта! Из-за чего было злиться? Взять хотя бы эту фразу: «Преследуют невинных людей». Просто клише. Стоит ли из-за этого злиться? Просто в Ярде чувствуют, что сами оплошали. Они знают, что до этого нельзя было доводить человека. Он, конечно, не собирается влезать в чужую работу, но если разобраться, то не так уж он и не прав в своей статье. Может, чересчур сильно выразился. Но остальное, кроме этой фразы, — правда. Это сильно смахивает на провал. Ну, провал — тоже, может, слишком громко сказано, но все же весьма огорчительно, что такое возможно в системе, которая считает себя на высоте. Когда у них дела идут успешно, то они на тебя смотрят сверху вниз и всем своим видом показывают, что ты им мешаешь. Так что нечего им ожидать снисхождения, когда промазали. Вот если бы прессу открыто допускали к расследованию, как это принято в Штатах, такое просто не могло бы произойти. Он, Джемми Хопкинс, всего лишь репортер уголовной хроники, но он знаком с методами расследования преступлений не хуже любого полицейского. Если бы «старик» дал ему отпуск, а полиция разрешила пользоваться их материалами, то он, Джемми, в течение недели засадил бы убийцу Клей за решетку и поместил бы на первую полосу газеты. Воображения — вот чего не хватает полиции. А у него воображения хоть отбавляй. Только бы ему дали шанс.
Он купил сигареты, переложил их в золотой портсигар — прощальный подарок бывших коллег из провинции перед его отъездом в Лондон (шептались, будто такая щедрость объяснялась не столько привязанностью, сколько радостью по случаю его отбытия) — и направился обратно в редакцию. У входа в это святая святых, где квартировала «Кларион», он столкнулся с одним из младших коллег, юным Маскером, который куда-то спешил. Джемми коротко кивнул и на ходу спросил:
— Ты куда?
— На лекцию о звездах, — отозвался Маскер без особого энтузиазма.
— Астрономия — очень интересная наука, — наставительным тоном заметил Джемми.
— Это не астрономия. Астрология. — Юноша уже вышел на солнечную улицу. — Какая-то женщина читает. По фамилии Поуп, дальше не помню.
— Поуп? — Джемми замер на полдороге к лифту. — Случайно, не Китс Поуп?
— Китс, вы говорите? — Маскер взглянул на пригласительный билет, — Да, точно, Китс. Я еще подумал, у нее фамилия как у известного поэта. Эй, в чем дело? — изумился он, потому что Джемми, схватил его за руку и втащил обратно в холл.
— Дело в том, что ты ни на какую лекцию не идешь, — ответил Джемми, заталкивая его в лифт.
— Спасибо, конечно, что вы меня освобождаете, но почему? У вас что, астрологическое хобби?
Джемми втащил Маскера за собой в офис и обратился с жаркой речью к безмятежному розовому человечку за письменным столом.
— Но послушай, Джемми, — отозвался безмятежный господин, когда сумел вставить слово. — Это тема Блейка. Ему и надо было идти на лекцию. Разве это не он у нас каждую неделю вещает всем на шестой странице, что их ждет в ближайшие семь дней? Единственное, чего он не сумел предвидеть, — это то, что его жена родит на этой неделе, а не на следующей. Поэтому я его отпустил и направил Маскера.
— Маскера! Вы что, не знаете, что эта та самая женщина, которая предсказала смерть Клей? Та самая, которую рекламирует «Курьер», взимая шиллинг за каждый заказанный гороскоп?
— Ну и что?
— Как «ну и что»? Она же «горячие новости»!
— Она новости для «Курьера». И то уже вчерашние. Вчера я снял статью о ней с полосы.
— Ладно, пусть она — вчерашняя новость. Но масса «интересного» народа ею сейчас наверняка интересуется. И один из них, самый заинтересованный вероятно, тот, который осуществил ее пророчество! Может, именно она и подала ему эту идею. Она и ее предсказание. Китс сама по себе, может быть, и вчерашняя новость, но все, кто ее окружает, — вполне сегодняшняя.
Джемми потянулся и взял пригласительный билет из рук юного Маскера:
— Найдите этому милому молодому человеку другое дело на сегодня. Тем более он не любит астрологию. Пока.
— А что же будет со статьей о…
— Будет вам эта статья. И еще одна в придачу.
Спускаясь в лифте, Джемми щелкнул по пригласительной карточке:
— Элвз-холл — ничего себе! Лидия явно начинает пользоваться успехом!
— Знаешь, какое самое верное средство успеха, Пете? — игриво спросил он лифтера.
— Ну?
— Выбери себе правильный способ облапошивать людей.
— Кому это и знать, как не вам! — откликнулся Пете.
Джемми сделал вид, что хочет его прибить. Пете знал его еще в те дни… ну не совсем в те дни, когда он бегал в коротких штанишках, но, пожалуй, еще тогда, когда он носил не те воротнички, которые принято.
Элвз-холл был расположен на Вигмор-стрит, что само по себе уже немало способствовало его популярности. Камерная музыка казалась куда привлекательнее, если можно было совместить ее с посещением своего клуба и выпить там чашку чая или с визитом в магазин Дебенгама и выбрать себе новое платье. А тучные сопрано, польщенные тишиной, которая царила во время исполнения ими ведущих партий, и не подозревали, что их слушателей в этот момент больше всего занимали мысли о том, что лучше — крепдешин или креп-сатин. Проходя к своему месту, Джемми обратил внимание на то, что зал заполняла самая блестящая публика, которую ему доводилось видеть со времени знаменитого бракосочетания Бьюшира и Керзон. Здесь присутствовал не только бомонд, но и особы голубой крови — те, которых Джемми называл «герцогинями до кончиков ногтей», —длинноносые, в узких длинных туфлях, с длинной родословной; те, что жили за счет своих замков, а не за счет своих собственных талантов. И конечно, все это сборище было щедро сдобрено психами.
Психи шли сюда не в поисках острых ощущений и не потому, что мать Лидии была третьей дочерью обедневшего маркиза, а потому, что Лев, Телец, Рак и другие были их домашними любимцами, а дома Зодиака — их духовным прибежищем. Их нельзя было спутать ни с кем: их пустые глаза не мигая смотрели в одну точку, их одежда выглядела как на вторые сутки сидячей забастовки где-нибудь в подвале и, казалось, у всех у них на тощих шеях болтались дешевые керамические бусы.
Джемми пренебрег местом, оставленным для представителя «Кларион», и пожелал устроиться под пальмами в переднем ряду, у самой сцены, в чем ему с разной степенью возмущения препятствовали как те, которые пришли посмотреть на Лидию, так и те, которые пришли, чтобы посмотрели на них самих. Джемми не относил себя ни к тем, ни к другим. Он явился наблюдать за публикой. Место, которое он нашел себе наконец среди цветочных горшков, поставленных знаменитой фирмой декораторов Виллоуби, предоставляло ему наилучшую возможность для наблюдений.
Рядом с ним оказался бедно одетый, невзрачный господин лет тридцати двух. Как только Джемми занял свое место, он наклонился, приблизил свой рот с заячьей губой к самому уху Джемми и выдохнул:
— Удивительная женщина!
Джемми догадался, что это относится к Лидии.
— Удивительная, — согласился он. — Вы с ней знакомы?
Невзрачный господин («псих», — подумал Джемми) поколебался и сказал:
— Нет. Но я был знаком с Кристиной Клей.
Разговор прервался с появлением на сцене Лидии и ведущего этот вечер. Лидия всегда была плохим оратором. У нее был резкий, визгливый голос, и, когда она бывала возбуждена или взволнована, он звучал как на заезженной патефонной пластинке. Джемми вскоре перестал ее слушать. В прошлом ему доводилось слышать все это уже много раз. Его глаза заскользили по маленькому переполненному залу. Если бы он кокнул Клей и благодаря нерасторопности полиции находился бы на свободе и вне подозрений, пришел бы он сюда послушать женщину, предсказавшую ей смерть, или нет?
Джемми решил, что, пожалуй, пришел бы. Убийца был умен. Это признавали все. И сейчас он, должно быть, упивается тем, как умно все проделал. Считает небось себя выше всех простых смертных, живущих в пределах закона. Такое состояние ума характерно для каждого, кто замышляет убийство. Они задумывают то, что никому не дозволено, и у них получается! Это ударяет им в голову, как вино. И они ищут, что бы еще такое выкинуть, — как дети, на спор перебегающие дорогу перед мчащейся машиной. Сборище самых видных людей в одном из наиболее престижных мест Лондона должно было показаться ему именно «этаким рискованным шагом». Каждый в этом зале сейчас вспоминал о Кристине. Со сцены, разумеется, ее имя не произносилось — это звучало бы неприлично. Лекция была посвящена астрологии — истории ее возникновения, значениям звезд. Но все эти люди — или почти все — пришли сюда только потому, что почти год назад Лидии в счастливый момент открылось, что Кристина Клей будет убита. Кристина Клей ощущалась здесь почти с такой же материальной достоверностью, как присутствие самой Лидии: зал был полон ею. Да, будь он, Джемми, на месте убийцы, пребывание в зале доставило бы ему ни с чем не сравнимое удовольствие.
Он смотрел сейчас в зал, хваля себя за свое воображение, которое его привело сюда. Воображение, которого так не хватало несчастному идиоту Гранту. Зря он не догадался захватить с собою Бартоломео. Барт гораздо лучше его знал все про высший свет. Барт всегда выезжал на описаниях, и, что бы он ни описывал — свадьбы, автогонки, круизы на яхтах, — в его статьях мелькали обычно одни и те же имена. Барт мог бы оказаться ему полезен. Но Джемми тоже кое-что о них знал.
— С другой стороны, — продолжала между тем Лидия, — Козероги часто бывают меланхоличны, сомневаются в себе или не совсем нормальны. На более низшем уровне это люди мрачные, скупые и склонные к обману.
Но Джемми не слушал. Он в любом случае не знал, какая планета имела честь сопутствовать его появлению на свет, да это его нисколько и не занимало. Лидия много раз говорила, что он типичный, ну типичнейший Близнец, но он об этом не помнил. Все это чушь собачья и надувательство. Вон, в третьем ряду, герцогиня Трентская. У этой глупой гусыни полное алиби: ведь она собиралась устроить ленч в честь Кристины, ленч, после которого ей стал бы завидовать весь Лондон; она теперь, бедняжка, так и останется докучливым, но необходимым дополнением на приемах в домах других.
Взгляд Джемми пробежал по четвертому ряду и задержался на красивом, смуглом лице мужчины. Очень знакомое лицо. Чеканный профиль, как на монетах. Откуда оно ему знакомо? Он не знал этого человека. В жизни никогда не встречался с ним.
И тут его осенило: это Жан Лежен — актер, который должен был сниматься с Клей в ее третьей и последней в Англии картине. Картине, в которой она так и не снялась. Ходили слухи, будто Лежен рад, что съемок с ней не будет. Клей обычно затмевала всех своих партнеров. Хотя вряд ли это могло послужить поводом для того, чтобы на заре держать ее голову под водой, пока она не перестала бы дышать. Джемми остался равнодушен к Лежену. Рядом с ним — обложка с модного журнала в черном и белом. Марта Халлард. Ну да, ведь Марта получила роль Клей. Марта не была актрисой столь высокого уровня, как Клей, но простои на съемках стоили дорого, а Марта умела держаться, была достаточно опытна, владела сценическим искусством и была, как выражался продюсер Койен, «классная актриса». Теперь она станет партнершей Лежена. Или он — ее. Тут трудно было решить, кто из них будет ведущим. Оба они — среднего уровня. Если говорить о партнерстве, то эта пара может оказаться более удачной, чем Клей и Лежен. Шаг наверх, огромный шаг, — для Марты, и больше возможностей проявить себя в полном блеске для Лежена. Да, смерть Кристины принесла неожиданную удачу им обоим.
У него в ушах вдруг прозвучали слова, произнесенные чьим-то женским голосом: «Ты сама ее и убила». Кто это говорил? А, Джуди Селлерс, на ролях глуповатых блондинок. Она сказала это о Марте. В тот субботний вечер, когда они с Грантом встретились у входа в квартиру Марты. Джуди произнесла эти слова вызывающим тоном, который был ей свойствен, о каких бы простых вещах ни заходила речь. Все восприняли их как шутку. Кто-то рассмеялся и добавил, подхватив: «Ну ясно, ты же сама хотела получить эту роль!» И болтовня перешла на другие темы.
Вообще-то, зависть и амбиции всегда служили самыми распространенными мотивами для убийства. По списку они стоят, пожалуй, сразу после ревности и страсти к деньгам. Но Марта Халлард есть Марта Халлард. Убийство и это хрупкое, лицемерное, высокомерное создание были вещи несовместные. Он припомнил, что даже на сцене ей никогда не удавались роли убийц. У нее всегда был такой вид, будто ей безумно скучно. Если убийство и не казалось ей скучным, то наверняка она находила это плебейским. Нет, он допускал, что Марта может быть убийственно зла, но в роли убийцы ее не представлял.
Он заметил, что Марта тоже не слушает Лидию. Все ее внимание — внимание напряженное — было сосредоточено на ком-то, кто сидел от нее впереди справа. Джемми проследил за направлением ее взгляда и, к своему удивлению, наткнулся на ничем не примечательного коротышку явно еврейского происхождения. Не веря своим глазам, он проверил свои выкладки. И снова увидел то же сонное круглое лицо.
Чем мог заинтересовать Марту этот человек с ничем не примечательной внешностью коммивояжера? И тут Джемми наконец вспомнил, кто этот коротышка: еврей Джасон Хармер, сочинитель песенок. Один из ближайших друзей Кристины. «Веселый чайник», как назвала его Марта. И если доверять мнению женщин, даже очень примечательный. Ведь его называли любовником Кристины Клей, Джемми даже присвистнул про себя. Так вот он какой, этот Джей Хармер! До сих пор он знал его только по фотографиям. Странные бывают вкусы у женщин, ничего не скажешь.
Хармер слушал Лидию с ребяческим восторгом. Джемми подивился, как Хармер может не замечать, что Марта сверлит его взглядом. Получается, это полная чушь, когда говорят, будто люди оборачиваются, если на них пристально смотрят. В любом случае непонятно, с чем связан скрытый интерес к нему Марты. Что она делала это тайком, было очевидно. Поля шляпы скрывали ее глаза от соседа, и она справедливо считала, что всем остальным не до нее. Не подозревая, что за ней наблюдают, она не отводила от Хармера взгляда. Почему?
Может, это «сердечный интерес»? Тогда насколько серьезный? А может, несмотря на то что Марта так горячо защищала его в тот вечер, она заподозрила в нем убийцу Клей?
Джемми наблюдал за ними обоими минут пятнадцать, не зная, что и думать. Снова и снова его взгляд, пробегая по залу, возвращался к этой паре. За многими было бы любопытно понаблюдать здесь, но главное — эти двое.
Он припомнил резкую реакцию Марты на чье-то предположение, что Хармера и Кристину связывает нечто большее, чем дружба. Что это могло означать? Что она сама увлечена им? И способна ли она серьезно увлечься? Настолько, чтобы избавиться от соперницы?
Он уже начал размышлять, хорошо ли Марта плавает, но тут спохватился. Всего пятнадцать минут назад мысль о том, что у Марты хватит темперамента на убийство, вызывала у него улыбку. Само предположение показалось ему неприемлемым.
Но то было до того, как он открыл для себя ее интерес — всепоглощающий интерес — к особе Джасона. Допустим, просто ради того чтобы убить время, пока эта Лидия нудит про планеты; или допустить, что Марта и вправду влюблена в Джасона? Получается, что Кристина ей соперница вдвойне? Кристина достигла положения, ради которого Марта, несмотря на свое внешнее безразличие, с радостью дала бы отсечь себе правую руку. Кристина достигла самой вершины профессионального древа. Часто Марта видела эту вершину совсем рядом, но каждый раз ветка, на которую она опиралась, вдруг подламывалась, и она падала вниз.
Вне всякого сомнения, Марта жаждала настоящего, большого успеха. И без сомнения — какие бы красивые слова она ни произносила, — горько завидовала стремительному и, как ей казалось, слишком легкому взлету маленькой фабричной работницы из глухой провинции. Пять лет назад Марта была почти там же, где и сейчас, — известная, пользующаяся успехом, материально обеспеченная; и перед ней уже маячила вершина — эта головокружительная, вечно ускользающая от нее вершина древа. Пять лет, и вдруг никому не известная статисточка с Бродвея со своими песенками, своей игрой и танцами оказалась на заветной вершине славы.
Не удивительно, что хвалебные слова Марты о Кристине были всего лишь пустыми словами. А если предположить, что Кристина похитила не только положение, к которому она шла столько лет, но и мужчину, которого она желала? Что тогда? Достаточно ли этого, чтобы она возненавидела Кристину настолько, чтобы захотеть ее убить?
Где была Марта в тот день, когда Кристину утопили? Вероятнее всего, на Гроссвенор-сквер. Она как раз занята в новой пьесе, что сейчас идет. Нет, постойте! В тот субботний вечер что-то говорилось о том, будто она уезжала. Что? Что именно? Она что-то сказала по поводу тяжкого труда актрис, а Клемент Клементс поддразнил ее: «Ничего себе, тяжкий труд! Ты только что взяла себе целую неделю и каталась по всей Европе». А она ответила: «И вовсе не неделю. Всего четыре дня, Клемент. Можно играть хоть со сломанным позвоночником, но с фурункулом — никогда».
Клемент сказал, что фурункул не помешал ей весело провести время в Дювиле, а она поправила его: не в Дювиле, а в Ле-Торке.
Вот где она было — в Ле-Торке! И вернулась к субботней репетиции. Еще потом говорили про прием, который ей устроили, про размеры сцены и про ярость ее дублерши. Она вернулась в субботу из Ле-Торке. Она была в Ле-Торке, на противоположном берегу Ла-Манша, когда погибла Кристина.
— Если бы родители изучали гороскопы своих детей так же тщательно, как они подбирают для них диету, — между тем чирикала, как воробей, Лидия, — то наша земля стала бы более счастливым местом.
«Ле-Торке, Ле-Торке!» Джемми готов был громко запеть. Похоже, он наконец-то наткнулся на действительно важную информацию. В то роковое утро Марта Халлард, оказывается, не только находилась поблизости от Кристины, но и располагала средствами быстро до нее добраться. Упоминание о Ле-Торке словно распахнуло двери его памяти. Ему вспомнилось, как Марта, Клементс и он, Джемми, стояли возле бара с коктейлями. Отвечая на расспросы Клементса, она сказала, что летала в Ле-Торке на частном самолете и на нем же возвращалась. И это был самолет, способный садиться на воду!
Значит, в то туманное утро самолет мог, никем, кроме одинокого пловца, не замеченный, спокойно опуститься либо на дюны, либо на воду и потом так же незаметно улететь. Джемми ясно представил себе, как гидроплан, будто огромная птица, выныривает из тумана и садится на воду.
Кто вел самолет? Не Хармер. Хармер все это время находился в Англии. Именно потому полиция и проявляла к нему усиленный интерес. Хармер находился где-то недалеко от коттеджа. Правда, у него было какое-то алиби, хотя Джемми не знал, насколько прочное. Чертова полиция все держала в глубокой тайне. Зато он теперь знал то, о чем полиции, при всей ее пресловутой осведомленности, известно не было. Марта была хорошей знакомой Гранта, — естественно, он упустил ее из виду. И Грант не усек, как и Джемми, что она не сводила глаз с Хармера. Но он не знает про самолет — Джемми был готов в этом поклясться. А в самолете-то все и дело. Но если это так, значит, тут замешаны двое. Пилот, пусть даже и не помогавший Марте, все равно соучастник преступления.
Тут Джемми мысленно остановился в своих рассуждениях и перевел дух. Его удивленный взгляд снова скользнул по молчаливым рядам прекрасно одетых слушателей и остановился на изящной женщине в черно-белом.
Какое отношение могла иметь эта достаточно хорошо известная ему особа к той, которую нарисовало ему воображение? Вот она перед ним, настоящая Марта Халлард, — холодная, утонченная, изнеженная Марта. Как мог он вообразить, что такая способна на отчаянный поступок, что ей знакомы муки страсти?
Она все еще нет-нет да и смотрела в сторону Джасона, смотрела чаще, чем на Лидию. И точно, было в выражении ее лица что-то от той Марты, которую он только что себе представил. Какой бы она ни казалась, сильные чувства явно не были ей чужды. Мысли Джемми прервал легкий шелест, напоминавший шум дождя: то были хлопки обтянутых перчатками рук. Лидия, судя по всему, завершила свое выступление. Джемми с облегчением вздохнул и потянулся за шляпой. Ему хотелось поскорее выбраться на свежий воздух и хорошенько подумать о том, что предпринять дальше. Он не ощущал подобного подъема, пожалуй, с тех самых пор, как старик Виллингдон дал ему эксклюзивное интервью о том, как и почему он забил до смерти свою жену.
Однако было похоже, что еще предстояли вопросы. Мисс Китс, осеняя всех благожелательной улыбкой, маленькими глотками пила воду и ждала, пока публика соберется с мыслями. Наконец кто-то самый храбрый задал первый вопрос, и вскоре они посыпались дождем. Некоторые из них оказались довольно забавными, и публика, утомленная духотой, монотонным голосом Лидии и скучноватой лекцией, весело смеялась. Мало-помалу вопросы стали приобретать все более личный характер, пока наконец не настала очередь одного, неизбежность которого понимала добрая половина аудитории:
— Правда ли, что мисс Китс точно предсказала, как умрет Кристина Клей?
В ожидании ответа люди затаили дыхание. Лидия ответила просто, даже с какой-то несвойственной ей искренностью, что да, правда: она часто верно предсказывает будущее по гороскопу. И привела несколько примеров.
Кто-то из присутствующих, ободренный непринужденностью обстановки, спросил, пользуется ли она при прочтении гороскопа даром ясновидения. Она не отвечала так долго, что в зале снова наступила тишина: руки и головы перестали двигаться; глаза всех выжидающе обратились к Лидии.
— Да, — вымолвила она наконец. — Да, конечно. Мне не хотелось бы касаться этого предмета, но бывают случаи, когда я, непонятно откуда, точно знаю, что будет именно так.
Она как бы в нерешительности умолкла, потом вдруг сделала три легких шага вперед к краю сцены с таким видом, будто собирается пойти по воздуху, и властно произнесла:
— С той минуты, как я ступила на сцену, я знала точно: убийца Кристины Клей сейчас находится в этом зале.
Говорят, что девяносто девять человек из ста, получив телеграмму с текстом: «Все открылось. Беги», хватают зубную щетку и несутся к гаражу. Слова Лидии были настолько неожиданны, а их смысл настолько страшен, что на какой-то момент в зале наступила полная тишина. Потом раздался шум, подобный тому, который возникает в пальмовой роще при первом порыве ураганного ветра. Сквозь поднявшийся гул слышался визг отбрасываемых второпях стульев, что только усугубило охватившую зал панику и стремление людей как можно скорее выбраться из помещения. Они не отдавали себе отчета, что побудило их к бегству. Для большинства толчком послужило нежелание присутствовать при рискованной ситуации: они принадлежали к той части общества, которая больше всего на свете страшится того, что называется «неловким положением». Однако же трудность пробиться к выходу через опрокинутые стулья при переполненном зале привела к тому, что возникла настоящая паника.
Ведущий что-то говорил, пытаясь успокоить толпу, но его не было слышно. Кто-то подошел к Лидии, и до Джемми донеслись ее слова: «Что меня заставило это сказать? Боже, почему я это сказала?» Он пробился вперед, горя репортерским азартом, и уже ухватился за край сцены, чтобы вспрыгнуть на нее, но остановился: в человеке, стоявшем рядом с Лидией, он узнал своего собрата по перу из «Курьера». Он вовремя вспомнил, что Лидия теперь, так сказать, целиком принадлежала им. Миллион против одного, что ему не удастся перемолвиться с нею словом, так что не стоило и стараться. К тому же у него было чем себя занять. Едва оправившись от неожиданности после заявления Лидии, он немедленно обернулся, чтобы посмотреть, как восприняли ее слова те двое.
Марта побелела как мел. Потом нечто похожее на ярость исказило ее лицо. Одной из первых она поднялась и направилась к выходу так стремительно, что Лежен едва успел спасти от ее каблуков свою упавшую с колен шляпу. Не обращая внимания на Лидию, она стала пробираться к дверям, но поскольку сидела в одном из передних рядов, то прочно застряла на полдороге: там с кем-то случилась истерика.
Джасон Хармер, напротив, остался абсолютно невозмутим. Он продолжал, как и прежде, с видом довольного ожидания смотреть на Лидию. Он не делал попыток встать, пока на него не стали напирать со всех сторон. Тогда он неторопливо поднялся, помог женщине перебраться через опрокинутый стул, похлопал себя по карманам, видимо проверяя наличие перчаток, и только после этого направился к выходу.
Джемми понадобилось немало искусства, чтобы, работая локтями, пробиться к Марте, зажатой у сцены, меж двух радиаторов.
— Безмозглые идиоты! — запальчиво воскликнула она, когда Джемми поздоровался, и с отнюдь не халлардовской невозмутимостью окинула негодующим взглядом толпу.
— Гораздо приятнее, когда вас и их разделяет оркестровая яма, не правда ли?
Марта опомнилась — ведь это действительно были ее потенциальные зрители — и тут же привычно взяла под контроль свои эмоции. Однако она все еще была, как определил для себя Джемми, «на взводе».
— Поразительно! — сказал он, стараясь воспользоваться ее состоянием. — Я имею в виду мисс Китс.
— По-моему, отвратительное зрелище! — откликнулась Марта.
— Почему отвратительное? — с недоумением спросил Джемми.
— Пусть бы лучше пророчествовала на улицах.
— Думаете, это рекламный трюк?
— А как это еще назвать? Откровением свыше?
— Но вы же сами, мисс Халлард, сказали, что она не шарлатанка. Помните, в тот вечер, когда я был у вас дома?
— Конечно не шарлатанка! Она составила несколько удивительно точных гороскопов. Но одно дело — составлять гороскопы, а другое — это дешевое шоу с отыскиванием убийц. Если она не остановится, — заключила Марта после небольшой паузы, — то может кончить, как Эми Макферсон!
Последнюю фразу она произнесла с неприкрытой злобой. Джемми не ожидал от нее такой реакции. Он не мог сказать, чего он, собственно, ждал, но только не этих слов. Пока он молчал, пытаясь собраться с мыслями, Марта уже другим, сухим тоном деловито спросила:
— Надеюсь, это не интервью, мистер Хопкинс? В случае если это все-таки интервью, не вздумайте меня цитировать — я ничего вам не говорила.
— Да будет так, мисс Халлард: вы ничего мне не говорили, — отозвался Джемми. — Если только меня не станут спрашивать в полиции, — добавил он с улыбкой.
— Не думаю, что сейчас они склонны спрашивать вас о чем-либо, — отпарировала Марта. — А теперь подвиньтесь чуть-чуть влево, и тогда я сумею, пожалуй, протиснуться ближе к выходу.
Она улыбнулась, кивнула ему на прощание и, обдав запахом дорогих духов, исчезла в толпе.
«Все такая же! Ничто ее не изменит!» — с досадой подумал Джемми и, энергично работая локтями, стал пробиваться обратно, к месту, где он в последний раз видел Джасона Хармера. Пожилые особы осыпали его бранью, молодые награждали негодующими взглядами, но на Джемми это не действовало: всю жизнь он только и делал, что проталкивался и протискивался сквозь толпы, и теперь выполнял это без особых усилий.
— А что обо всем этом думаете вы, мистер Хармер?
Джасон без видимого раздражения сначала молча окинул его взглядом и потом спросил:
— Сколько?
— Сколько за что?
— Сколько за мои бесценные слова? Вам, должно быть, известно, что мы ничего не делаем даром.
— Осторожный человек может сказать многое и не выдать ничего.
Джасон расхохотался:
— Тебе самое место в Штатах, парень. — Потом совсем другим, уже серьезным тоном произнес: — Что ж, я бы сказал, лекция была очень интересной с познавательной точки зрения. Вы-то сами верите в звезды?
— Нет.
— А я, пожалуй, верю. Во всяком случае, прав тот, кто говорил: есть многое на свете, что нам неведомо. Я повидал чудные вещи в деревне, где родился. Такие, которые никаким разумным объяснениям не поддаются.
— Где это?
Впервые за все время, что Джемми наблюдал за ним, Джасон вдруг показался ему настороженным, даже испуганным.
— В Восточной Европе, — отрывисто проговорил он и продолжал: — Мисс Китс просто чудо. Правда, такую лучше держать на расстоянии. Ведь она способна разом отбить у человека охоту жениться — ей стоит только рассказать, что его ждет. Не говоря уже о том, что она может открыть, что происходит за твоей спиной! Это значит лишить человека возможности иметь алиби! Нет, так не пойдет!
Господи, подумал Джемми, неужели за весь день так и не удастся заставить хотя бы одного из них говорить про то, что интересует его, Джемми? Может, ему все-таки стоит пробиться к Лидии? Может, разговор с ней удастся направить в нужное ему русло?
— Вы считаете, что мисс Китс действительно почувствовала присутствие темных сил в зале в тот момент, когда произнесла эту странную фразу?
— Ну конечно! — сказал Джасон, словно не понимая, почему кто-то может сомневаться. — Неужели вы думаете, что такой человек, как мисс Китс — если бы она действительно не вошла в транс, — стал бы выставлять себя на посмешище?
— Я заметил, вас не удивило ее заявление.
— Я провел пятнадцать лет в Штатах. Меня теперь ничем не удивишь. Видели когда-нибудь Кони-Айленд? А бродягу, который продает золотые копи? А святых на роликах? Нет? Поезжайте на Запад, молодой человек, отправляйтесь на Запад!
— Я отправляюсь в постель, — проворчал Джемми и снова стал пробиваться к выходу. Выбравшись в вестибюль, он несколько приободрился. Поправив воротничок и галстук, он стал следить за текущей мимо людской массой. Выйдя из помещения и вдохнув полной грудью безмятежный воздух Вигмор-стрит, почти все быстро оправились от страха и принялись оживленно обсуждать случившееся.
Но их болтовня не дала Джемми ничего нового. И тут поверх чужих голов он разглядел лицо, которое заставило его снова приостановиться, — лицо блондина, с белесыми ресницами и взглядом безобидного терьера. Он знал этого человека. Его звали Сангер. И последний раз Джемми видел его в Скотланд-Ярде.
Значит, воображение все-таки было не совсем чуждо и Гранту!
Джемми досадливым жестом сдвинул шляпу на один глаз и отправился дальше в глубокой задумчивости.
19
Действительно, воображение было не чуждо Гранту. Однако оно было совсем иного рода, чем у Джемми. Ему и в голову не пришло послать такого опытного детектива, как Сангер, лишь для наблюдения в течение двух часов кряду за публикой. Сангер попал в Элвз-холл потому, что ему было поручено следить за Джасоном Хармером.
Возвратившись, он подробно рассказал о драматическом развитии событий и доложил, что, насколько он мог судить, Джасона они нисколько не взволновали. Потом, правда, его атаковал Хопкинс из «Кларион», но, похоже, ничего особенного из Джасона ему вытянуть не удалось.
— Да ну? — отозвался Грант, вскинув бровь. — Если он устоял перед Хопкинсом, стоит им заняться серьезно. Значит, он умнее, чем я предполагал.
Сангер позволил себе улыбнуться.
Во вторник во второй половине дня позвонил господин Эрскин, сообщил, что рыбка клюнула. Подлинные его слова были, конечно, другими. «Линия поведения, избранная мистером Грантом, — сказал он, — против ожидания принесла успех», но понять их можно было однозначно: рыбка клюнула, сможет ли мистер Грант подойти, чтобы ознакомиться с бумагой, которая находится у мистера Эрскина? Сможет ли Грант?! Через двенадцать минут он уже входил в залитый зеленоватым светом кабинет. Дрожащей чуть больше обычного рукою мистер Эрскин передал ему письмо следующего содержания:
Сэр,
по прочтении Вашего объявления, в котором сообщается, что если Герберт Готобед обратится к Вам в контору, то ему сообщат нечто представляющее для него интерес, желаю заявить, что лично не могу прибыть к Вам и потому прошу сообщить все письменно по адресу: Кентербери, Тридл-стрит, 5. Письмо мне передадут.
С уважением Герберт Готобед.
— Кентербери! — воскликнул Грант. Глаза его заблестели. Он бережно стал осматривать драгоценный документ. Бумага была дешевая, чернила — жидкие. Слог и почерк оставляли желать лучшего. Гранту вспомнился легкий, самобытный и элегантный стиль писем Кристины, и он, наверное, в тысячный раз изумился про себя таинственным капризам природы, столь по-разному одаряющей людей одной крови.
— Кентербери! Звучит просто неправдоподобно! Такая удача! А адрес свой не дал. Интересно почему? Может, наш Герберт числится в розыске? В Ярде на него ничего нет. Может, его разыскивают под другим именем? Жаль, у нас нет его фотографии.
— Что будем делать дальше, инспектор?
— Напишите, если он не явится лично, то у вас не будет уверенности в том, что он и есть Герберт Готобед. Попросите приехать.
— Да, да, разумеется. Юридически это будет вполне правильно.
«Можно подумать, что кому-то есть дело до того, насколько это юридически правильно! — ругнулся про себя Грант. — Интересно, как эти крючкотворы представляют себе поимку преступников? Где уж тут соблюдать юридический протокол!»
— Если вы отправите письмо прямо сейчас, то сегодня к вечеру оно уже будет в Кентербери. Я выеду туда завтра пораньше и буду поджидать эту птицу. Можно воспользоваться вашим телефоном?
Он позвонил в Ярд и спросил, не проходит ли по розыску кто-нибудь с особой страстью к проповедям или к еще какой-либо деятельности с примесью театральности. Там ответили, что нет, никто, кроме Святого Майка, но он им известен давным-давно. И вообще, он сейчас в Плимуте.
— Там ему самое место! — воскликнул Грант и заметил, обращаясь к Эрскину: — Странно! Если он не в розыске, то почему скрывается? Если у него совесть чиста… хотя о чем я? Какая у него может быть совесть? Но в то же время у нас на него ничего нет, и можно было ожидать, что парень появится у вас в кабинете, как только увидит объявление. Ведь ясно как день, что за деньги такой, как он, готов на что угодно. Клей знала, чем пронять его, когда завещала ему этот шиллинг.
— Леди Эдуард была хорошим психологом. Я знаю, у нее было трудное детство, и это, вероятно, научило ее разбираться в людях.
Грант спросил, близко ли он знал Кристину.
— К сожалению, нет. Она была обаятельной женщиной. Правда, немного нетерпеливой в том, что касалось обычных юридических процедур, но в остальном…
Да, Грант ясно представил себе, как Кристина говорит: «А теперь скажите мне простыми словами, что это означает?» Должно быть, ее тоже немало раздражал мистер Эрскин.
Грант распрощался, предупредил Вильямса, чтобы тот приготовился сопровождать его утром в Кентербери, договорился, кто останется на службе вместо них, отправился домой и проспал десять часов. На рассвете они покинули Лондон, который еще спал, и прибыли в Кентербери, который уже завтракал.
Как и ожидал Грант, указанный в письме адрес привел их на одну из маленьких улочек, к агенту по продаже газет. Поглядев на вывеску, Грант сказал:
— Не думаю, что наш друг появится здесь сегодня, но как знать… Зайдите в пивную напротив, снимите нам комнату с окнами на эту сторону и закажите завтрак в номер. Не отходите от окна и следите за всеми, кто входит в дом. Я буду внутри. Когда нужно, подам вам знак в окно.
— Вы не собираетесь сначала позавтракать, сэр?
— Я уже завтракал. А ленч закажите на час дня, для двоих, заранее. Не похоже, чтобы у них здесь была своя кухня.
Грант подождал до тех пор, пока не увидел Вильямса напротив в окне второго этажа, и только после этого вошел в магазин. Кругленький лысый господин с густыми черными усами перекладывал сигареты из упаковки под стекло.
— Здравствуйте. Вы мистер Рикет?
— Да, это я, — последовал осторожный ответ.
— Насколько мне известно, вы иногда позволяете использовать свой адрес тем, кто не желает получать корреспонденцию на дом?
Мистер Рикет окинул его внимательным взглядом. Долгий опыт верно подсказал ему, что это не клиент, а полицейский.
— Ну и что из этого? Что тут противозаконного?
— Ничего! — с готовностью подтвердил Грант. — Мне всего лишь нужно знать, известен ли вам человек по имени Герберт Готобед.
— Шутить изволите?
— Не имею ни малейшего желания. Он указал в письме ваш адрес, и я подумал, вы должны его знать.
— Меня не интересуют лица, которые получают здесь письма. Они оплачивают услуги, забирают свои письма, и больше я знать ничего не знаю.
— Хорошо. Сейчас мне нужна ваша помощь. Я хочу побыть в вашем магазине, пока мистер Готобед не придет за письмом. У вас ведь лежит для него письмо?
— Да, лежит. Пришло вчера вечером. Но… вы из полиции?
— Скотланд-Ярд, — отрекомендовался Грант и показал удостоверение.
— Ладно, только никаких арестов в магазине. У меня вполне респектабельное дело, хоть я и прирабатываю кое-чем на стороне. Дурная слава мне ни к чему.
Грант заверил его, что ни о каком аресте речь не идет, ему просто нужно встретиться с мистером Готобедом на предмет получения от него информации.
Наконец согласие было достигнуто.
Грант расположился в дальнем конце прилавка, за кипой дешевых изданий, и обнаружил, что ожидание оказалось не столь мучительным, как он того опасался. Даже после долгих лет службы в полиции Гранту удалось сохранить живой интерес к людям и к тому, что происходит вокруг, а дешевые издания оказались в этом смысле превосходным материалом. Тяжелее пришлось Вильямсу, вынужденному неотрывно смотреть на тихую, ничем не примечательную улочку. Он с радостью сменил Гранта на полчаса в магазине, пока тот перекусывал, и потом с явной неохотой снова занял прежний пост у окна в промозглой комнате над пивной. Теплый пасмурный день сменился туманными сумерками. Стало довольно быстро темнеть, и вскоре зажглись бледные в еще не угасшем дневном свете фонари.
— Когда вы закрываетесь? — с беспокойством спросил Грант.
— Около десяти.
Значит, оставалась еще пропасть времени.
Было около половины десятого, когда Грант ощутил чье-то присутствие. Ощущение возникло неожиданно — ни звука шагов, ни голоса он не услышал, только шелест портьеры у входных дверей. Грант выглянул и увидел человека в монашеском платье.
Визгливый голос нетерпеливо произнес: «У вас должно быть письмо на имя мистер Герберта…»
Легкое, непроизвольное движение выдало присутствие Гранта. И тут же, не докончив фразы, человек повернулся и исчез. Само появление было настолько неожиданным, а бегство столь внезапным, что простому смертному понадобилось время, дабы осмыслить ситуацию. Всего лишь секунды. Незнакомец был в нескольких метрах от него, когда Грант выскочил на улицу. Он увидел, как незнакомец свернул за угол, и бегом бросился за ним. Это был переулок, куда выходили торцы двухэтажных домов. От него отходили в противоположные стороны две улицы. Добежав до этого места, Грант понял, что беглеца потерял. Он обернулся назад и нашел запыхавшегося Вильямса.
— Молодчина! — бросил Грант. — Хотя теперь мы вряд ли его найдем. Идите по этой улице, а я по той. Ничего себе, монах!
— Я его приметил! — торжествующе проговорил Вильямс.
Поиски результатов не дали. Через несколько минут они снова встретились возле магазина.
— Кто это был? — сурово спросил Грант Рикета.
— Понятия не имею. В жизни не встречал.
— Есть здесь монастырь?
— В Кентербери? Нет.
— А где-нибудь поблизости?
— Тоже вроде нет.
Сзади подошла женщина и, кладя деньги на прилавок, попросила корнфлекс.
— Вы ищете монастырь? — вмешалась она. — Тут на Бли-Виннел есть одно Братство. Они похожи на монахов. Перепоясаны веревками и с голыми головами.
— Где эта Бли-Виннел? Далеко отсюда?
— Рядом. Через две улицы. Как говорится, корова долетит. Только здесь, в Кентербери, вам все равно одним это место не сыскать. Надо идти переулками. Это за таверной «Петух и Фазан». Я бы и сама вас проводила, да Джим ждет меня с сигаретами. Маленькую пачку, пожалуйста, мистер Рикет.
— После семи не продаю, — мрачно отозвался Рикет, избегая взгляда инспектора. Уверенность, с которой обратилась к нему покупательница, сама по себе была достаточно явным свидетельством нарушения им закона.
Женщина была явно удивлена, но прежде, чем она успела открыть рот и произнести слова, за которые неминуемо должна была бы понести ответственность, Грант достал портсигар и обратился к ней:
— Мадам, говорят, каждая нация имеет те законы, которых заслуживает. Не в моих силах заставить господина Рикета продать вам сигареты, однако позвольте отплатить за вашу любезную помощь и предложить курево для Джима.
Несмотря на ее протесты, он высыпал свои сигареты ей прямо в руки и выпроводил из магазина.
— Ну а теперь, — сказал Грант, поворачиваясь к Рикету, — поговорим об этом Братстве, или как там его. Вам оно известно?
— Нет. Теперь я, правда, вспомнил, что такое есть. Но где они располагаются — понятия не имею. Вы же слышали, она сказала, что позади «Петуха и Фазана». Вообще-то, добрая половина этих свихнутых со всего света обретаются тут и имеют свои отделения. Я закрываюсь.
— Давно пора. А то люди почему-то ищут у вас сигареты — это полное безобразие.
Рикет что-то проворчал в ответ.
— Пойдем, Вильямс. А вы, Рикет, запомните: никому ни слова. Завтра мы вас, возможно, еще навестим.
Продавец буркнул себе под нос, мол, глаза бы его их не видели.
— Подозрительное место, сэр, — заметил Вильямс, когда они вышли на улицу. — Что будем делать дальше?
— Нанесу-ка я визит Братству. Пожалуй, вам лучше со мной не ходить. Ваша цветущая внешность вряд ли заставит кого-нибудь поверить, что вы жаждете предаться монашескому воздержанию.
— Вы хотите сказать, на мне написано, что я полицейский? Я знаю, сэр. Это часто мне мешает. Плохо для дела. Вы не представляете, как я вам завидую. Вас всегда принимают за бывшего офицера. А это большой плюс в нашей работе, когда вас считают военным.
— И это меня немало удивляет — ведь чеки чаще всего подделывают бывшие военные. Нет, Вильямс, ваша внешность не играет тут никакой роли. Я просто упомянул ее ради красного словца. А если серьезно, то этот визит лучше наносить одному. А вы возвращайтесь-ка в гостиничный уют, садитесь под комнатной пальмочкой и ждите меня. Не забудьте поесть.
После сравнительно недолгих поисков они нашли то, что искали. Ряд окон первого этажа выходил на узкую улицу, но единственная массивная, кованая дверь была заперта. Фасадом здание было обращено либо во внутренний двор, либо в сад. Ни на двери, ни возле нее не было надписи или таблички, которая могла бы удовлетворить любопытство постороннего, но имелся звонок.
Грант им воспользовался, и через довольно продолжительное время до него сквозь тяжелую дверь донесся слабый звук шагов по каменным плитам. Маленькое зарешеченное окошечко открылось, и у Гранта осведомились, что ему нужно.
Грант сказал, что желает видеть главу общины.
— Кого именно вы хотите видеть?
— Главу общины, — твердо проговорил Грант. Он не знал, как его здесь называют: Номер Один, Аббат или Прелат, поэтому решил, что лучше просто сказать, что ему нужен глава общины — принципал.
— Досточтимый отче в это время не принимает, — был ответ.
— Вручите досточтимому отцу мою визитную карточку, — сказал Грант, просовывая ее сквозь решетку, — и передайте на словах, что я буду весьма признателен, если он примет меня по делу чрезвычайной важности.
— Мирские дела не имеют к нам отношения.
— У досточтимого отца, возможно, будет иное мнение, когда он узнает, кто я.
Окошечко захлопнулось так резко, что, будь это не святой приют, можно было бы счесть это грубостью, и Грант остался на темнеющей улице один. Он увидел, как Вильямс издали отдал честь и скрылся. С соседней улицы доносились голоса играющих ребятишек, но вокруг было тихо — транспорт здесь не ходил. Шаги Вильямса затихли задолго до того, как Грант снова услышал слабые звуки из-за двери. Потом раздался скрип отодвигаемых болтов и скрежет ключа. (От чего они запираются? — успел подумать Грант. От жизни? Или решеткам надлежит удерживать ослабших духом в этих стенах?) Наконец дверь отворилась ровно настолько, чтобы пропустить одного человека, и Гранта пригласили войти.
— Мир да пребудет в тебе и во всех христианских душах, и да будет с тобою благословение Господа отныне и во веки веков, — скороговоркой пробормотал человек, запирая за ним двери. Грант подумал, что с таким же успехом человек мог бы ему промурлыкать начало шлягера «Спой мне еще раз».
— Досточтимый отче в великой милости своей изъявил согласие принять вас, — говорил монах, ведя Гранта по коридору. Его сандалии глухо хлопали по каменным плитам. Он привел Гранта в чисто выбеленную комнату, где не было ничего, кроме стола, стульев и распятия на стене, и удалился, оставив его одного. В комнате стоял пронзительный холод, и Грант надеялся, что досточтимый отче не будет испытывать его таким образом слишком долго. И правда, не прошло и пяти минут, как привратник появился, склонился в торжественном поклоне перед своим отцом, снова пробормотал ту же формулу напутствия и удалился, оставив их наедине. Грант ожидал увидеть фанатика или шарлатана. Однако перед ним стоял почтенный проповедник — вежливый, уверенный в себе человек, судя по всему образованный.
— Чем я могу помочь вам, сын мой?
— В вашем Братстве есть человек, которого зовут Герберт Готобед, — начал Грант.
— Здесь нет никого с таким именем.
— Я и не думал, что у вас он сохранил это имя, но вам, вероятно, известны подлинные имена членов вашего ордена.
— Мирское имя перестает существовать с того момента, как человек переступает наш порог и становится одним из нас.
— Вы же сами спросили, чем можете мне помочь.
— Я этого не отрицаю.
— Мне нужно повидать Герберта Готобеда. У меня для него есть новость.
— Мне не известен человек, носящий это имя. И для вступившего в Братство Древа Ливанского уже не существует «новостей».
— Пусть так. Вы можете и не знать, что его зовут Готобед. Но человек, с которым мне надо поговорить, — член вашего ордена. Я вынужден просить вас помочь мне его найти.
— Вы что же, предлагаете, чтобы я выстроил перед вами всех членов общины?
— Нет. Но вероятно, у вас есть моления, на которые собираются все?
— Конечно.
— Тогда позвольте мне присутствовать там.
— Это весьма необычная просьба.
— Когда у вас ближайшая служба?
— Всенощная начнется через полчаса.
— Вы согласны предоставить мне место, с которого я мог бы видеть лица всех братьев?
Досточтимый отец отнесся к его просьбе с явной неохотой, но как бы невзначай брошенное Грантом замечание по поводу абсурдности кое-где имеющего силу средневекового Права Убежища возымело свое действие, и отче вынужден был согласиться.
— Да, между прочим, скажите мне, пожалуйста — боюсь, я очень несведущ во всем, что касается ваших порядков и правил, — у членов вашего Братства бывают какие-то дела в городе?
— Нет. Разве что если кому-то требуется помочь.
— Значит, братья совсем не выходят в город? (Если это так, у Герберта Готобеда будет несокрушимое алиби!)
— В течение двадцати четырех часов каждый из них в день полнолуния пребывает в миру. Это сделано для того, чтобы во время пребывания здесь, где отсутствуют грех и соблазн, у человека не возникло бы ощущения, что он непогрешим, что он выше греха и соблазнов. За это время двенадцать часов он должен посвятить помощи людям в той форме, которая доступна ему; другие двенадцать — ночное время — он должен посвятить медитации: летом — где-нибудь под открытым небом, в полном одиночестве, зимой — в церкви.
— Понятно. А с какого времени исчисляются эти двадцать четыре часа?
— С полуночи до полуночи.
20
Служба проходила в часовне, тоже выбеленной и освещаемой свечами. Она отличалась полным отсутствиемпышного убранства — за исключением алтаря в восточном приделе. Своим великолепием он поразил Гранта. Братья-то, может, и были бедны, но, видимо, сама организация обладала обширными фондами. Глядя на чаши для Святых Даров, на белый бархат пелен и на распятие, можно было подумать, что это часть сокровищ, добытых пиратами после ограбления испанских костелов в Америке. Поначалу Гранту казалось сложным совместить Герберта Готобеда, каким Грант его представлял, с уединенным, нищенским образом жизни, который предписывался членам этого Братства. Быть самому себе и исполнителем, и единственным зрителем должно было быстро наскучить такому, как он. Однако вид алтаря заставил его призадуматься. Не исключено, что Герберт Готобед не промахнулся и тут и остался верен себе.
Грант не слышал ни слова из того, что произносилось во время службы. Со своего места в полутемной амбразуре окна он прекрасно видел лица всех присутствовавших. Они были очень разные; Грант смотрел на них и нашел это зрелище захватывающе интересным. Среди них были явно свихнувшиеся (он часто видел такие лица на различных митингах протеста и на фестивалях, посвященных возрождению традиций национального танца); были фанатики (мазохисты — из тех, что носят на головах повязки и платки); были простаки, были запутавшиеся, потерявшие веру в себя и надеющиеся обрести душевный покой; были те, которые потеряли веру в людей и жаждали одиночества. Пристально вглядываясь в каждого из них, Грант вдруг остановился на одном. Интересно, что могло заставить человека с таким лицом избрать для себя эту замкнутую, аскетическую жизнь? Круглое блеклое лицо, круглая невыразительная голова, глаза маленькие, нос мясистый, толстая нижняя губа отвисла, так что, когда он повторял слова молитвы, видны были нижние зубы. За каждым, кроме него, в этой небольшой часовне легко угадывалась та определенная социальная ниша, в которой он существовал в мирской жизни: досточтимого отца можно было без труда представить в приемной архиепископа; вон того — у психиатра, а того — в бюро для безработных. Но где можно представить этого, последнего? Ответ мог быть только один — в каталажке.
«Значит, это и есть Герберт Готобед», — сказал себе Грант. Он не был еще уверен полностью — для этого он должен был посмотреть, как тот ходит. Это единственное, что Грант успел заметить тогда, на улице. Но он был готов биться об заклад, что не ошибается. Логика иногда и подводит — Готобедом вполне мог оказаться вон тот безобидный худой субъект в переднем ряду. И все-таки скорее всего человек с елейным видом и отвисшей губой и есть Готобед.
Когда далеко за полночь все разошлись, у Гранта уже не оставалось никаких сомнений. Походка у Готобеда была очень своеобразная — он двигался разболтанно, покачивая плечами. Грант вышел вслед за остальными, отыскал принципала и осведомился, как зовут того, кто выходил последним. Оказалось, брат Алоиз.
После недолгого препирательства с отцом настоятелем за братом Алоизом послали. В ожидании его прихода Грант стал расспрашивать о правилах жизни Братства и выяснил, что ни один из его членов не имеет права иметь какую-либо собственность и поддерживать связи в миру. О такой суетной вещи, как газеты, здесь и мысли не допускали. Грант узнал и о том, что примерно через месяц глава Братства собирался отбыть на новое место назначения — в Мексику, где на собственные средства они открывают миссию, и что святому отцу предоставлено полное право самому выбрать себе преемника.
У Гранта сразу же возникло предположение, которое он тут же решил проверить.
— Я не хотел бы показаться чересчур наглым, но поверьте, мной движет отнюдь не праздное любопытство: скажите, пожалуйста, вы уже решили для себя, кто это будет?
— Практически — да.
— Могу я узнать, кто именно?
— Право не знаю, почему я должен сообщать неизвестному человеку то, что еще не открыл братьям; с другой стороны, не вижу причин это скрывать, если вы поручитесь, что сохраните тайну.
Грант заверил, что никому не проговорится.
— Скорее всего моим преемником станет тот, с кем вы пожелали увидеться.
— Но он же здесь совсем недавно! — не удержался Грант.
— Не знаю, как вам стало это известно, — резко проговорил святой отец. — Брат Алоиз действительно с нами всего несколько месяцев, однако качества, необходимые для прелата (так, значит, у них это прелат!), никак не зависят от длительности пребывания в ордене.
Грант пробормотал извинения и осведомился, кому именно из братьев сегодня предстояло отправиться в город.
— Никому, — без колебаний ответил святой отец, и тут их беседа была прервана приходом человека, которого пожелал видеть Грант.
Он стоял не проявляя никакого волнения, со спрятанными в широкие рукава темно-коричневой рясы руками. Грант заметил, что на ногах его не было сандалий — он был босой, — и припомнил, как не услышал шагов, когда он появился в магазине. Как всегда отстраненно, Грант подумал о том, было ли это стремление ходить босым продиктовано желанием подчеркнуть свое смирение или же тем, что позволяло ему двигаться бесшумно.
— Это брат Алоиз, — произнес прелат и оставил их одних, осенив благословением. Его жест, надо отдать должное, был гораздо более прочувствованным, чем у привратника.
— Я представляю адвокатскую контору Эрскина и Смита. А вы, полагаю, Герберт Готобед.
— Я брат Алоиз.
— Но вы были Гербертом Готобедом.
— Никогда не слышал о таком.
Грант молча оглядел его и потом сказал:
— Тогда извините. Мы разыскиваем Герберта Готобеда в связи с оставленным ему наследством по завещанию.
— Ах так? Если он брат нашего ордена, ваше известие для него не имеет значения.
— Но если наследство значительное, то он, возможно, поймет, что сможет сделать гораздо больше добрых дел, находясь вне этих стен.
— Мы даем пожизненный обет. Ничто вне этих стен нас более не интересует.
— Значит, отрицаете, что вы — Герберт Готобед?
Грант машинально продолжал разговор. Его мысли были заняты другим: в маленьких белесых глазках этого человека он прочел ненависть. Такую ненависть, с какой ему редко доводилось встречаться. Откуда эта ненависть? Отчего? Там должен быть страх!
Грант чувствовал, что этот субъект увидел в нем не преследователя, а ненавистную помеху. Это ощущение не покидало его и тогда, когда он, попрощавшись, вернулся в номер напротив магазина.
Вильямс уныло сидел над остывшим ужином, заказанным для Гранта.
— Какие новости?
— Никаких, сэр.
— И ничего от Тисдейла? Вы звонили?
— Да, двадцать минут назад. Ничего.
Грант положил ветчину между двумя ломтями булки.
— Жаль, — произнес он. — Мне работалось бы гораздо лучше, если бы можно было выбросить его из головы. Пошли. Сегодня ночью нам спать не придется.
— Что произошло, сэр? Вы его обнаружили?
— Да. Тут сомнений быть не может — это он. Отрицает, что он — Готобед. У них там запрещено интересоваться мирскими делами. Поэтому он и оказался таким пугливым в магазине. Даже не удосужился полюбопытствовать, кто кроме продавца там был, — сбежал, как только заметил, что Рикет не один. Вот это больше всего меня и озадачивает, Вильямс. Кажется, его больше волнует, чтобы его не изгнали из Братства, чем то, что его могут схватить за убийство.
— Но его бегство могло просто означать, что он надеялся скрыться. Монастырь — лучшее что ни на есть убежище.
— Так-то оно так. Но он не выглядит испуганным. Он зол. Мы портим ему какую-то игру.
Они тихонько спускались вниз по лестнице. Грант жевал импровизированный сэндвич. Но когда они почти достигли первого этажа, дорогу им преградила особа женского пола и могучего телосложения. Кочерги у нее в руках не было, но вид был и без того достаточно воинственный.
— Ах вот вы, оказывается, кто! — произнесла она грозно. — Парочка прощелыг, что смываются не заплатив! Заявляются сюда, как большие господа, заставляют нас с бедным мужем покупать им самую дорогую еду: тут тебе и отбивные по десять пенсов за штуку, и языки по двадцать восемь за фунт, не говоря уже о помидорах, — все в угоду своим изысканным вкусам, видите ли! А нам что за все наши заботы и траты? Пустые комнаты поутру, так что ли? Вот позвоню сейчас в полицию, пусть они вас там потрясут!
— Да замолчите вы, ради Бога! — сердито начал было Грант и вдруг стал смеяться. Он висел на перилах и хохотал до слез, пока Вильямс объяснялся с разъяренной хозяйкой.
— Отчего было сразу не сказать, что вы — легавые? — проворчала хозяйка.
— Мы не легавые! — тут же вспыхнул Вильямс, и Грант снова разразился безудержным смехом, после чего повлек Вильямса к выходу.
— Господи, сцена, достойная Рабле, ей-богу! Но мне она принесла огромную пользу, — проговорил он, вытирая слезы. — Теперь послушайте: эти монахи, или как они там себя называют, удаляются в свои кельи в полночь и до шести утра не выходят. Но наш Герберт выходит оттуда когда вздумается. Не знаю, как он это делает: из окон первого этажа выпрыгнуть легко, но взобраться обратно трудновато, а он не похож на спортсмена. И все-таки он выходит. Никто в монастыре, во всяком случае из старших по рангу, не знает, что сегодня вечером он выходил в город. У меня есть подозрение, что ночью он опять постарается выбраться, и я хочу знать, куда он направится.
— Почему вы так думаете, сэр?
— Ну, если хотите, предчувствие. На месте Герберта я бы обязательно обзавелся какой-нибудь базой, откуда мог бы осуществлять свои операции. Есть только две точки, где монастырь выходит к улицам: там, где дверь, и там, где кончается садовая стена, кстати очень высокая. В стене есть маленькая калитка. Она из железа и очень солидная. Это далеко от жилых помещений, и больше надежд я возлагаю на ту сторону, где дверь. Но я хочу, чтобы вы за садовой калиткой тоже вели наблюдение. Сам я буду на той стороне, где дверь. Если до шести ничего не произойдет, можете брести домой и ложиться спать.
21
Гранту казалось, что он ждет уже целую вечность. Ночь была мягкая, влажный теплый воздух приносил запах трав и цветов: где-то поблизости, видимо, цвело лимонное дерево. Неба не было — один только густой, туманный мрак над головой. Время от времени откуда-то долетал нежный, бесстрастный звон колоколов. Мир и покой ночи постепенно овладевали его существом. Ему приходилось делать над собой усилие: мысли начали путаться, внимание рассеивалось.
Едва пробило половину третьего, как вдруг что-то заставило его насторожиться. Он ничего не услышал, но на улице, перед монастырем, уловил какое-то движение. Очертаний фигуры различить было невозможно, просто возникло ощущение, что темнота пришла в движение, будто занавесь от потока воздуха. На улице кто-то появился.
Грант ждал. Движение стало более замедленным, менее явным и вскоре прекратилось. Человек, кто бы он ни был, удалялся от него. Грант снял туфли и перекинул их за шнурки через плечо: каждый шаг в обуви в такую тихую ночь стал бы моментально слышен. Крадучись, он двинулся по улице вдоль монастырской стены. Из тени видимость была чуть лучше: он снова различил движение впереди себя. Все в нем было напряжено до предела; в темноте трудно было не только рассчитать расстояние от объекта — почти невозможно было определить, движется он или остановился. На следующей улице он почувствовал себя более уверенно: движущийся сгусток темноты обрел форму. И эта форма легко и беззвучно ускользала во мрак ночи. Грант вошел в ритм преследования. Вдоль узких улочек с двухэтажными домами, вдоль маленьких домиков с садами, мимо редких лужаек.
Внезапно Грант почувствовал под носками гальку и мысленно выругался: человек направлялся за город или, во всяком случае, в район пригорода.
В течение двадцати минут следовал Грант за почти неразличимой фигурой в темном и молчаливом мире. Он не представлял, где находится, и должен был двигаться вслепую: он не знал, где его ждут ступени, где спуск, где препятствие. Стоило оступиться — и весь ночной труд пошел бы насмарку. Но тот, за кем он шел, двигался уверенно. Это не было бегством — человек точно знал, куда направляется. Вскоре Грант понял, что они выбрались за город. Дома — если они здесь и были — находились в стороне от дороги, за оградами бывших пастбищ, — скорее всего это был район новой застройки. Живые изгороди затруднили преследование. Тени, отбрасываемые кустарником, делали фигуру впереди почти неразличимой. И вдруг Грант потерял ее. Всякое движение перед ним прекратилось. Он замер на месте. Может, человек затаился и поджидает его? Или исчез за одной из оград? Несколько раз, когда гравий шуршал у него под ногами, он опасался, не обнаружил ли себя. Правда, насколько он мог видеть, человек ни разу не остановился, чтобы прислушаться. Но теперь ничто впереди не шевелилось. Шаг за шагом, Грант осторожно начал продвигаться вперед, пока не очутился у просвета в изгороди. Калитка. Сейчас он больше всего сожалел, что не может воспользоваться фонариком. Продвижение вслепую начинало действовать ему на нервы. Он решил рискнуть, предположив, что преследуемый человек прошел именно этим путем и открыл калитку. И сразу же почувствовал мелкий песок под ногами. Грант в нерешительности остановился. Может, это песчаный карьер? Что задумал тот, за кем он шел? Может, нападение? Тут он вспомнил, что дорожки к вновь строящимся виллам теперь принято декорировать красным песком, и вздохнул свободнее. Уже более уверенно он снова двинулся вперед, держась края дорожки, где начинался дерн, и надеясь, что она приведет его к строению. Оно возникло перед ним из темноты совершенно неожиданно. Белый, вероятно восьмикомнатный, дом. Благодаря белой краске казалось, что он светится в темноте. На фоне этого призрачного свечения он вдруг снова увидел фигуру человека. Он стоял неподвижно, Гранту померещилось, что его взгляд устремлен прямо на него. Грант слишком поздно сообразил, что за его спиной тоже находится крыло дома. Он быстро опустился на колени. Человек немного постоял и скрылся за углом. Держась как можно ближе к стене, Грант подобрался к углу дома. Ни звука, ни вздоха, никакого движения он не уловил. Человек ушел. Он только зря терял время. Грант сделал шаг, чтобы обогнуть дом, — и тут же его голова оказалась под мягкой шерстяной тканью, туго перехваченной у горла. В те доли секунды, пока узел не затянулся, Грант успел просунуть пальцы между шеей и тканью. Сжав зубы, он изо всех сил вцепился в материю, сделал резкий наклон вперед и тут же почувствовал, как чье-то тело перевалилось через него и человек, падая, ударился головой о землю. Сила толчка сбила Гранта с ног, вонючая тряпка все еще душила его, но руки у него оказались свободными. Он рванулся к своему противнику, с острой радостью ощутив, что узел больше не стягивает ему горла. Он по-прежнему был лишен возможности видеть и задыхался, но по крайней мере его не душили. Напротив, теперь уже он старался нащупать горло соперника. Но человек извивался как угорь и безжалостно бил коленями. Приемы уличной драки явно были хорошо знакомы Герберту Готобеду. Грант наносил удары вслепую, часто промахиваясь и ощущая под руками лишь траву. Боже, ему бы хоть на полминутки получить возможность видеть! Он разжал свою руку, сомкнувшуюся то ли на ноге, то ли на руке противника, и попробовал откатиться в сторону. Его попытка не удалась, так как человек в свою очередь крепко держал его. Однако он успел сунуть руку в задний карман и нащупать фонарик. Грант не смог вытащить его, потому что оказался прижатым к земле, но, собрав оставшиеся силы, нанес удар свободной рукой — туда, откуда шло прерывистое дыхание нападавшего. Его кулак ударился о кость, и он услышал, как щелкнули зубы. В следующий момент всей своей тяжестью человек упал на него. Он выбрался из-под тела, выхватил из кармана фонарик, но прежде, чем успел опомниться, человек уже двигался на него снова: Грант только оглушил его. Грант включил фонарик, но свет еще не достиг лица человека, как тот прыгнул. Грант сделал шаг в сторону и взмахнул фонариком, намереваясь нанести удар. Он промахнулся на какие-то миллиметры, и оба покатились по земле. Грант упустил из виду превосходство противника в весе: он думал только о том, как посильнее ударить. Под тяжестью соперника при падении он больно ударился о землю и, уже теряя сознание и тщетно пытаясь сопротивляться, успел подумать о том, каким способом Готобед собирается расправиться с ним.
Однако, к своему изумлению, он вдруг перестал ощущать на себе тяжесть чужого тела, почувствовал скользящий удар по голове и, несмотря на звон в ушах, понял, что рядом с ним больше никого нет.
Он с трудом сел — вероятно, на тот самый камень, которым его ударили (по форме было похоже, что его взяли из поребрика, окаймлявшего дорожку) — и уже стал нашаривать фонарь, чтобы продолжить преследование, когда из темноты послышался женский шепот:
— Это ты, Берт? Что-нибудь случилось?
Рука Гранта нащупала фонарик, и, включив его, он вскочил на ноги. Свет выхватил из темноты большие глаза, карие и нежные, как у лани. Но остальное в этом лице свидетельствовало о характере, далеком от какой бы то ни было нежности. Женщина ахнула и сделала движение, собираясь скрыться в темноте.
— Стоять! — произнес Грант тоном, исключавшим всякое неповиновение, и она послушно замерла на месте.
— Говорите тише, — торопливо сказала она. — И вообще, кто вы такой? Я думала, это мой… друг.
— Я инспектор сыскной службы — из полиции.
Грант знал, что эти слова вызывали обычно на лицах одно из двух выражений — либо страх, либо настороженность. Первое чаще обнаруживали люди, ни в чем не замешанные; второе означало признание вины. Оно и появилось сейчас на лице женщины. Грант осветил фонариком дом — низкое одноэтажное строение с мансардами наверху.
— Перестаньте! — свистящим шепотом произнесла она. — Вы ее разбудите!
— Кого это «ее»?
— Старуху. Мою хозяйку.
— Вы горничная?
— Экономка.
— В доме только она и вы?
— Да.
Грант указал на распахнутое у нее за спиной окно:
— Это ваша комната?
— Да.
— Пройдемте туда и побеседуем.
— Вы не имеете права входить в дом. И не смейте мне угрожать. Я ничего плохого не сделала.
— Вы позволите пройти? — проговорил Грант с неприкрытой иронией.
— Вы не можете входить в дом без ордера на обыск! Я это знаю!
Теперь она стояла прижавшись к подоконнику, не позволяя ему двинуться дальше.
— Я не нуждаюсь в ордере, когда дело идет об убийстве.
— Убийстве? — Она удивленно взглянула на него. — А я-то тут при чем?
— Поднимайтесь в комнату и включите свет.
На этот раз она подчинилась и вскарабкалась на подоконник с проворством, говорившем о частой практике. Щелкнул выключатель, Грант последовал за ней и задернул за собой шторы.
Он очутился в уютной спальне, с покрывалом на постели и приглушенным светом настольной лампы.
— Кто ваша хозяйка?
Она назвала имя и прибавила, что служит здесь всего несколько месяцев.
— Откуда была ваша последняя рекомендация?
— Из поместья в Австралии.
— Герберт Готобед с вами в родстве?
— Это кто такой?
— Послушайте, вы лишь зря тратите время, мисс… Кстати, какое имя вы сейчас носите?
— Свое собственное, — ответила она сердито. — Роза Фрисон.
Грант передвинул лампу так, чтобы лучше разглядеть женщину. Он никогда раньше ее не видел.
— Герберт Готобед шел сегодня к вам, и вы его ожидали. Сейчас вы мне все о нем расскажете и тем избавите себя от серьезных неприятностей.
— Если хотите знать, я ждала Берта. Он молоко развозит. И не вижу ничего плохого в том, что я его ждала. За это не наказывают. Девушка тоже имеет право поразвлечься в таком глухом углу, как этот.
— Только и всего? — проговорил Грант, подходя ко встроенному шкафу. — Оставайтесь на месте, — добавил он.
В шкафу висела только женская одежда. Пожалуй, чересчур дорогая для экономки, однако не новая. Грант попросил ее выдвинуть ящики, и она с неохотой подчинилась. Там не было ничего необычного. Грант осведомился, где ее коробки с остальными вещами.
— Наверху, на чердаке.
— А что это за чемоданы под кроватью?
Она готова была наброситься на него с кулаками.
— Дайте-ка мне посмотреть их содержимое.
— Не имеете права! Предъявите ордер! Ничего не буду открывать!
— Зачем так протестовать, если у вас совесть чиста?
— Я потеряла ключи.
— А вот это уже подозрительно.
Она сняла ключ с цепочки, висевшей на шее, и выдвинула первый чемодан. Пока Грант наблюдал за ней, ему вдруг пришло в голову, что, пожалуй, в ней есть примесь южной крови. В движениях, волнистых волосах было что-то… Негритянское? Индейское? Тут он вспомнил о миссии на островах южного моря, которую возглавлял Герберт.
— Вы давно уехали с Островов? — как бы между прочим спросил он.
— Около… — начала она, но, спохватившись, быстро поправилась. — Не знаю, о чем вы.
Первый чемодан оказался пустым. Второй был набит доверху мужской одеждой.
— Любите переодеваться в мужское платье? — спросил Грант; его настроение, несмотря на распухшие ноги и гудящую голову, заметно улучшилось. — Или приторговываете старьем?
— Это вещи моего погибшего жениха. И попрошу вас воздержаться от неуместных шуток.
— У вашего возлюбленного было пальто?
— Да, но оно было все разорвано — оно было на нем, когда он погиб.
— Да? А как это случилось? — дружелюбно спросил Грант, перебирая одежду.
— Автокатастрофа.
— Вы меня разочаровали.
— Что?!
— Я думал, у вас больше воображения. Как его звали?
— Джон Старборд.
— Старборд значит «бортовой огонь»? Ну, такое имя исключает дорожное происшествие.
— Может, вы и знаете, про что говорите. Я ума не приложу.
— Не пальто ли вашего жениха хранилось в том чемодане, который теперь пуст?
— Нет, не оно.
Рука Гранта вдруг замерла, наткнувшись на что-то твердое. Он вытащил пачку паспортов. Их было четыре: один, английский, на имя Герберта Готобеда, другой, американский, на имя Александра Байрона Блэка, третий, выданный глухонемому испанскому гражданину Хосе Фернандесу, и четвертый — на гражданина Соединенных Штатов Вильяма Кейрнса Блэка с супругой. Но с фотографий всех четырех паспортов на него глядело одно и то же лицо — лицо Герберта Готобеда; как жена на снимках фигурировала Роза Фрисон.
— А ваш возлюбленный, видно, был коллекционер. Я всегда думал, что это очень дорогостоящее хобби. — Грант положил паспорта в карман.
— Вы не имеете права. Я закричу на весь дом. Скажу, что вы пытались меня изнасиловать. Смотрите!
Она распахнула халатик и стала рвать на себе ночную рубашку.
— Валяйте, кричите сколько вздумается. Вашей хозяйке наверняка будет любопытно взглянуть на эти паспорта. Между прочим, если у вас были какие-то идеи насчет этой престарелой дамы, советую вам их пересмотреть. А теперь пойду подберу свои туфли. Они остались где-то в саду. Хотя одному Богу известно, как я смогу в них снова влезть. И мой вам совет, миссис Кейрнс Блэк: не предпринимайте решительно ничего, пока я не дам о себе знать. Пока против вас у нас ничего нет, так что ведите себя таким образом, чтобы нам не пришлось заняться всерьез именно вами.
22
Грант умудрился влезть в башмаки (воспользовавшись приемом, к которому прибегал еще в детстве: когда больно — думай о чем-то другом), но, сделав несколько шагов, поспешно снял их снова и заковылял в сторону таверны так же, как и пришел, — в носках. Найти обратный путь в темноте было нелегко, но у Гранта была блестящая способность ориентироваться (в Ярде ходили слухи, что даже если ему завязать глаза и заставить несколько раз повернуться, он после этого все равно безошибочно определяет, где север), и общее направление он себе представлял. Он постоял немного возле дома на противоположной стороне улицы, выжидая, пока патрульный полисмен пройдет мимо. Это было лучше, чем спрашивать дорогу и давать пространные объяснения. И потом, какой уважающий себя офицер криминальной полиции пожелает объявиться перед уличными полицейскими с башмаками, болтающимися на шнурках вокруг шеи?
Добравшись до гостиничного номера, он оставил Вильямсу на столе записку с просьбой, когда он вернется, сразу после шести позвонить в Ярд и запросить, что у них есть по секте или ордену, именующему себя Древом Ливанским, и разбудить его, когда они перезвонят. Потом он рухнул в постель и проспал без сновидений, с паспортами под подушкой, пока Вильямс не разбудил его в десять.
— Что о Тисдейле? — спросил он, едва открыв глаза.
О Тисдейле ничего не было слышно по-прежнему.
По поводу Древа Ливанского из Ярда сообщили, что орден был основан в 1862 году богатым холостяком ради блага тех, кто стремится избежать мирских соблазнов, поскольку сам он, как тогда было принято выражаться, был отвергнут и обманулся в предмете своей любви. От сам стал первым прелатом ордена и оставил на его нужды все свое немалое состояние. Правила общины предписывали строжайшее воздержание для всех ее членов, и считалось, что к настоящему времени орден накопил огромные средства. Прелат назначался своим предшественником, но в любой момент мог быть переизбран тайным голосованием братьев. Глотая жуткий гостиничный кофе, Грант обдумывал эту информацию и потом сказал вслух:
— Так вот на что метит наш Герберт — на прелатство. Нынешний прелат ему в рот смотрит. Невероятно, что такого человека, как он, смогли настолько одурачить. Хотя о чем я говорю! Припомните-ка, Вильямс, сколько таких идиотов мы с вами встречали!
— Припоминаю, сэр, — весьма красноречиво отозвался Вильямс.
— Сколько одних только воротил старой закалки, которые заработали состояние своим горбом, а покупались на сладкие речи какого-нибудь проходимца в гостиничном холле! И потом, у Герберта, наверное, недюжинные способности к языкам. Возможно, свою деятельность в Америке он организовывал с дальним прицелом на прелатство. Во всяком случае, в настоящий момент он у прелата — единственный достойный кандидат на этот пост. И с перспективой — если будет вести себя по-умному — через несколько недель стать распорядителем огромнейших денежных фондов. Не удивительно, что он так осторожничает. Он хотел бы выяснить, сколько оставила ему сестра, но так, чтобы не скомпрометировать себя в глазах паствы. Если бы она завещала ему кругленькую сумму, думаю, он хоть завтра был бы готов распрощаться с монашеской жизнью. Полагаю, она его не слишком-то манит. Даже при регулярных визитах на виллу.
— Как вы думаете, он там еще долго пробудет?
— Пока не перекачает достаточно денег из казны Братства в свой карман. В любом случае вот за это милое занятие, — и Грант указал на паспорта, — мы сможем притянуть его когда захотим. Он от нас никуда не денется. Но вот что, Вильямс, меня серьезно обескураживает — при чем здесь убийство? Я не говорю, что он этого не мог сделать. Наоборот, уверен, что в день убийства он как раз и находился в той самой суточной отлучке. Но зачем ему было убивать? Он вернулся в Англию, когда узнал о ее приезде сюда. Судя по вещам его подружки, к этому времени он сидел на мели. Поэтому и вступил в Древо Ливанское. Однако, вероятно, он очень скоро осознал блестящие перспективы, которые перед ним открывались в ордене. Зачем было убивать сестру?
— Заявился к ней, и они поскандалили. Кстати, в этом случае и ранний час, над чем мы так долго ломали голову, объясним: это время для него нормальное. Шесть утра для него — как для простого смертного время ленча.
— Тут вы правы. Попробую выяснить у досточтимого отца, отлучался ли брат Алоиз из монастыря две недели назад. Вчера отче, может, и имел основания сохранять неприступный вид, но, думаю, он станет более разговорчивым, когда увидит фотографии своего избранника на всех этих паспортах.
Но оказалось, что досточтимый отче посетителей не принимает. В маленьком окошечке показалось кислое лицо привратника, который стойко повторял одну эту фразу, ничуть не заботясь о том, насколько она согласовывалась с тем, о чем спрашивал его Грант. Велеречивый Готобед, видно, потрудился на славу и обработал прелата. Окошечко захлопнулось, и Грант оказался в одиночестве. Ему не оставалось ничего другого, как вернуться, предварительно запасшись ордером на арест. Он медленно побрел прочь. Ноги у него все еще ныли. Мысленно поздравив Готобеда с тем, как тщательно тот смазал дверные петли подвала, выходящего на тротуар, Грант забрался в машину. Да, придется ехать за ордером.
Он вернулся в гостиницу за пижамой, зубной щеткой и бритвой (у него не было ни малейшего желания оставаться там еще на одну ночь) и писал записку еще спящему Вильямсу, когда его позвали к телефону. Звонили из Ярда. Сказали, что его человек ждет его в Дувре. Там, кажется, открылись новые факты.
Грант заново составил записку, кинул вещи в машину и, недоумевая по поводу того, зачем оставил этой фурии хозяйке за отвратительное обслуживание, невкусную пищу и неумение готовить такие большие чаевые, поехал в сторону Дувра.
Открылись новые факты. Это могло быть связано с Чампни. Что-то чрезвычайное. Если они просто выяснили, где Чампни провел ночь, то доложили бы об этом обычным путем, то есть по телефону. Значит, открылось что-то новое.
Детектив Римелл, меланхоличного вида молодой человек, основное преимущество которого состояло в том, что по внешности в нем никто не заподозрил бы сыщика, поджидал его в местном полицейском управлении, и Грант увел его к себе в машину. Римелл сообщил, что после бесконечных расспросов ему удалось раскопать некоего старикашку по фамилии Сирл, бывшего матроса, который в среду или, вернее, уже в четверг, в половине первого ночи, возвращался домой с вечеринки по случаю обручения внучки.
Он шел один, потому что нынче у порта почти никто не живет. Все хотят жить как господа и норовят поселиться в одном из тех игрушечных домиков на холме, где и чихнуть-то боишься: а ну как дом развалится? Он ненадолго задержался, когда спустился с холма к морю, чтобы поглядеть на порт. Все же и теперь ему бывает приятно взглянуть на судовые огни в ночи. Начинал наплывать туман, но видимость еще была неплохая. Он знал, что «Петронелл» прибыла — видел ее в бинокль, когда шел к внучке, поэтому снова отыскал ее: она стояла не у причала, а бросила якорь у входа в порт. Пока он наблюдал, от ее борта отошел небольшой моторный катер и направился к берегу. Мотор был приглушен, как будто люди, находившиеся на катере, не хотели привлекать к себе внимание. Когда подошли к причалу, из тени показалась фигура человека. Другой, высокий, в котором Сирл легко признал лорда Чампни (он видел его, когда служил на старой яхте, принадлежавшей лорду Чампни), сойдя на берег, спросил: «Это вы, Хармер?» — тот, что пониже, ответил: «Да, я». И потом шепотом осведомился, все ли в порядке с таможней. «Никаких осложнений», — отозвался Чампни. Затем они оба сели на катер и отчалили. Туман тем временем совсем закрыл порт. Минут через пятнадцать Сирл направился к дому. Однако когда он уже шел по улице, то слышал, как катер отошел от борта «Петронелл». Ушел ли он в море или вернулся к берегу, Сирл не знал. В то время он не придал этому никакого значения.
— Святые Небеса! — воскликнул Грант. — Просто отказываюсь поверить! У этих двоих нет и не может быть ничего общего! (Прежде, чем он закончил фразу, ему подумалось: за исключением одного — женщины.) У них нет общих дел. И тем не менее они что-то замышляют вместе, Грант помолчал и затем сказал: — Ладно, Римелл. Хорошо поработали. Сейчас перекушу и соберусь с мыслями.
— Спасибо, сэр. Можно мне дать вам дружеский совет?
— Давайте, если уж так необходимо. Хотя подчиненным это не рекомендуется делать.
— Не пейте больше крепкий кофе. Вы уже выпили за завтраком целых четыре чашки и ничего не поели.
Грант рассмеялся:
— А вам-то что за печаль? Чем больше среди нашего брата сердечных приступов, тем больше у вас надежд на повышение.
Он завел машину.
— Я не люблю давать деньги на венки, сэр.
Но улыбка сбежала с лица Гранта задолго до ленча. У мужа Кристины Клей и у человека, которого молва записала ей в любовники, объявилось ночью какое-то общее дело. Уже одно это было достаточно странно. Но то, что пятый сын седьмого герцога Бада и уважаемый, хотя и непредсказуемый представитель своего клана Эдуард Чампни тайно виделся с коротышкой иудеем из никому не известного захолустья, выглядело уж и вовсе непонятно. Что их связывало? Только не убийство. Грант не допускал мысли о возможности столь одиозного случая, как одно убийство на двоих. Каждый в отдельности мог иметь намерение убить ее, но никак нельзя было представить, чтобы они ради этого объединили свои усилия. Сирл утверждал, что катер снова отчаливал от «Петронелл». Предположим, там находился лишь один из двоих. Вдоль берега расстояние до Расщелины возле Вестовера было невелико. И Хармер объявился в коттедже всего через два часа после убийства. С моторки утопить Клей ничего не стоило. Еще лучше, чем идея с молом: быстрее и проще скрыться. Чем дольше он думал про катер, тем больше он склонялся к этой версии. Они тогда проверили все лодки в округе, но радиус движения катера гораздо шире. Но… черт побери это «но»! Сама версия выглядела дикой. Разве можно было себе представить, как Джасон говорит: «Одолжите мне катер, а я утоплю вашу жену» — или как Чампни сам предлагает Джасону катер, чтобы тот выполнил черную работу?! Нет, причиной их встречи явилось что-то иное. Если в результате ее и произошло убийство, то скорее всего он было случайным, не преднамеренным.
Так ради чего они встречались? Хармер упомянул таможню. Это были его первые слова. Может, Хармер был злостным наркоманом?
Против этого говорили два обстоятельства: во-первых, Хармер никак не походил на наркомана и, во-вторых, Чампни никогда в жизни не согласился бы провозить наркотики. Он мог любить риск, однако риск такого рода был для него определенно неприемлем.
Тогда что же они собирались скрыть от таможни? Табак? Драгоценные камни? Чампни утром показывал Джорджу Меиру топазы, которые привез для Кристины. И опять не сходилось: Чампни мог участвовать в контрабандных делах ради любви к приключениям, однако Грант не мог представить себе, чтобы он стал этим заниматься ради Джасона Хармера. Об этот факт, как о глухую стену, разбивались все построения Гранта. Что могло из сблизить? А это произошло — сомнений не было. Так что же? Они были едва знакомы. А может, и вовсе не были. Чампни почти наверняка покинул Англию еще до приезда сюда Хармера, а Кристина познакомилась с ним только здесь, во время съемок.
Во время этого ленча пищеварительные соки у Гранта вообще отказывались циркулировать, зато голова работала на полную мощность. Сладкие хлебцы и зеленый горошек с таким же успехом можно было сразу выкинуть в мусорный бак. Подали кофе, а он был все так же далек от решения, как и в начале трапезы. Как ему хотелось оказаться одним из блестящих детективов со страниц приключенческих романов, знаменитых безошибочным чутьем и искусством принимать единственно верное решение. Но он был всего лишь обычный трудяга — инспектор уголовного отдела, честно исполняющий свой служебный долг, с обычными умственными способностями. Пока ему представлялся только единственно возможный путь — серьезный разговор с одним из двоих. Предпочтительно — с Хармером. Почему именно с ним? Ну хотя бы потому, что его легче разговорить. Ладно, надо прямо признать: потому, что это не грозит крупными неприятностями. Господи, как скверно, когда твое второе «я» все время следит за всем, что ты делаешь и почему!
Он отказался от второй чашки кофе, с улыбкой вспомнив Риммела. Хороший парнишка. Со временем из него выйдет прекрасный детектив.
Он позвонил в студию и осведомился, сможет ли мистер Хармер уделить время Алану Гранту где-то между пятью и восьмью вечера.
Ему ответили, что мистера Хармера в Лондоне нет. Он отправился к Лени Примхофер, кинозвезде из Европы, которая сейчас в Уайтклифе. Он пишет для нее песню. Нет, сегодня он не вернется. Адрес? Пожалуйста: Толл-Нэтч, Уайтклиф, номер телефона 3025.
Грант дозвонился по указанному номеру, где ему сказали, что мистер Хармер с фрейлейн Примхофер отправился на машине за город и не вернется раньше восьми.
Уайтклиф — это, собственно, продолжение Вестовера, скопление роскошных вилл, выстроенных на утесе, вдали от шумных туристов и замусоренных пляжей. За Грантом все еще сохранялся номер в «Моряке», туда он и отправился, и там к нему присоединился Вильямс. Оставалось лишь ждать ордера на арест из Ярда и визита Хармера.
Хармер явился как раз в часы коктейля — перед обедом.
— Собирались пригласить меня отобедать, инспектор? — начал он. — Если не собирались, скажите все же «да», не портите вечер, а я заплачу. Еще один час с этой женщиной — и я свихнусь. Волчица. Дура каких мало. Повидал я звезд на своем веку, но эта — вне всякой конкуренции. Сплошная трескотня вперемешку с немецким гарниром из французских словечек для красоты. Официант! Что будете пить, инспектор? Не будете? Да бросьте, выпейте! Нет? Ну, ничего не поделаешь. Один коктейль с джином, официант. С вашей-то талией можно позволить себе пить, инспектор. Только не пытайтесь меня убедить, что вы искренний сторонник сухого закона!
Грант заверил, что ничего не имеет против выпивки.
— Ну, какие новости? У вас ведь есть новости, не так ли? — посерьезнев, спросил Хармер и пристально посмотрел на Гранта. — Что-нибудь действительно важное?
— Я просто хотел бы уточнить, что вы делали в Дувре в ночь на четверг.
— В Дувре?
— Да, больше двух недель назад.
— Кто вам наболтал эту чепуху?
— Послушайте, мистер Хармер, ваша неискренность все усложняет. Она мешает нам найти убийцу Кристины Клей. Ваш рассказ о том, чем вы занимались в ту ночь, поможет отбросить весь не относящийся к делу мусор, который затрудняет наше продвижение вперед. Мы не в состоянии четко представить себе картину преступления из-за массы всякого хлама, который на нее налип. Вы же хотите, чтобы мы нашли убийцу? Так помогите нам!
— Вы мне нравитесь, инспектор. Я никогда не думал, что полицейский может мне так понравиться, как вы. Но я вам уже сказал: в поисках коттеджа Крис я заблудился и провел ночь в машине.
— А что, если я представлю свидетелей, которые подтвердят, что видели вас в Дувре?
— Я и тогда буду утверждать, что спал в машине.
Грант разочарованно замолчал. Теперь ему таки придется объясняться с Чампни.
В маленьких глазках Хармера мелькнуло что-то близкое к сочувствию.
— Видно, вы совсем не высыпаетесь, инспектор. Как бы вам не свалиться. Перемените-ка свое решение, выпейте. Стаканчик-другой делает чудеса: все сразу встает на свои места.
— Если бы вы не настаивали на том, что спали в машине, то и у меня появился бы шанс отоспаться наконец в собственной постели! — раздраженно проговорил Грант, распрощался менее вежливо, чем делал это обычно, и поднялся к себе в номер.
Гранту хотелось увидеться с Чампни до того, как Джасон Хармер может предупредить его о том, что инспектор стал наводить справки. Лучше всего было бы позвонить и попросить Чампни приехать в Вестовер. Послать за ним машину, если понадобится. А тем временем продолжать расспрашивать Хармера, пока Чампни не выедет из Лондона. Но оказалось, что Чампни уже оттуда выехал. В Эдинбург, где выступал на семинаре по теме «Будущее Галарии».
Опять ничего не получалось. Джасон наверняка успеет связаться с Чампни по телефону или послать телеграмму задолго до того, как Грант попадет в Эдинбург. Грант распорядился, чтобы оба вида связи находились под наблюдением, и снова спустился вниз, где Джасон все еще сидел с бокалом в руках.
— Знаю, вы мне не симпатизируете, инспектор, но, как перед Господом Богом, вы мне нравитесь, и, как перед Господом Богом, эта дама Лени внушает мне чистый ужас. Может, хоть на время забудем о том, что вы — детектив, а я червяк-подозреваемый, и все-таки пообедаем вместе, а?
Грант не мог удержаться от улыбки — и не стал отказываться. Джасон тоже понимающе улыбнулся:
— Только не воображайте, будто к концу нашего с вами обеда вы сумеете добиться от меня признания, что я не проспал в машине всю ночь.
Вопреки ожиданиям, Грант получил истинное удовольствие от их совместной трапезы. Это была интересная партия — каким-то образом поймать Джасона на лжи. Еда была великолепна, а Джасон — остроумен.
Поступило еще одно сообщение: лорд Эдуард выезжает обратно первым утренним поездом и часам к пяти прибудет в Лондон. Грант с первой утренней почтой получит из Ярда ордер на арест Герберта Готобеда.
Итак, Грант отошел ко сну в «Морском отеле» по-прежнему недоумевающий, но не отчаявшийся: по крайней мере на завтра программа действий была для него ясна. Заночевал в «Морском отеле» и Джасон, решив, что на этот день с него одной встречи с Лени более чем достаточно.
23
Кухня в «Морском отеле» находилась под самой крышей: согласно последним изысканиям строителей, при таком расположении все запахи должны были уходить наверх, в воздух. Предполагалось, — опять-таки по новейшим правилам, — что она будет целиком работать на электричестве. Но у великого магистра поварского искусства Генри были свои правила. Он был родом из Прованса, и готовить на электричестве — мой Бог, да это ужас, просто ужас! Если бы Господь хотел, чтобы готовили на электричестве, он бы не создал огонь. Генри получил и плиты и жаровни. И теперь, в три часа ночи, огромное белое помещение освещалось теплыми отблесками разожженных печей. В них весело сверкала медь, серебро, эмалированная посуда (алюминиевой посуды здесь не было: Генри становилось дурно при одном упоминании об алюминии). Дверь кухни была чуть приоткрыта, огонь в печах легонько потрескивал.
Вдруг дверь стала открываться. Сначала немного, потом еще и еще. На пороге, явно прислушиваясь, возник человек. Потом он, как тень, проскользнул в кухню и крадучись направился к столу с посудой. В полумраке блеснул нож, который он достал из ящика совершенно бесшумно. От стола он направился к стене, где была доска с ключами — каждый с бирочкой на своем гвоздике, — и уверенно снял тот, который ему был нужен. Он уже собирался покинуть помещение, но вдруг остановился будто завороженный. В свете пламени его глаза лихорадочно блестели, но лицо оставалось в тени.
Возле топки лежали щепочки, заготовленные на утро. Для лучшей просушки они былиразложены на газете. Человек заметил листок. Он отодвинул щепки в сторону и стал читать, приблизив квадратик газеты к огню. Он читал, и в кухне стояла полнейшая тишина, будто тут никого не было. И вдруг, как по волшебству, все переменилось. Человек вскочил на ноги. Побежал и включил свет. Бросился обратно к плите и снова схватил газету. Разложив на столе, он трясущимися руками стал распрямлять и разглаживать ее так, будто это было живое существо. Потом он стал смеяться. Сначала тихо, колотя руками по чисто выскобленному столу, но потом его смех стал истерично громким: он не мог остановиться. Он снова подбежал к выключателю и стал зажигать все лампы подряд — одну, вторую, третью, четвертую, пятую, шестую, седьмую, восьмую. Потом, видно, новая мысль пришла ему в голову. Он выскочил из кухни и понесся по полированным пустым коридорам. Он скользил вниз этаж за этажом, бесшумный, как летучая мышь. Потом из груди его снова вырвался рыдающий смех. Оказавшись в погруженном во мрак вестибюле, он кинулся к конторке портье, где горел зеленый свет ночника. За ней никого не оказалось. Ночной портье совершал обход. Человек открыл регистрационную книгу и дрожащими руками стал водить по колонкам фамилий. Затем он снова полетел вверх по лестнице, и только прерывистое дыхание выдавало его присутствие. В дежурной комнате второго этажа он снял с доски ключ и побежал к номеру семьдесят три. Дверь открылась, он включил свет и кинулся на человека, лежавшего в постели.
Грант с трудом очнулся от сна с участием контрабандистов и стал отбиваться от маньяка, который, опустившись на колени, тряс его и все твердил сквозь рыдания:
— Значит, вы были не правы! Значит, все в порядке!
— Тисдейл! — воскликнул Грант. — Боже мой, как я рад вас видеть живым и невредимым! Где вы были?
— Между цистернами с водой. Они иногда напоминают монахинь, правда? Обязательно напишу об этом книгу. Назову ее «Мои дни в обществе цистерн» или «Как я скрывался на крыше».
— Прямо здесь, в отеле? Все время здесь?
— С ночи четверга. А сколько времени прошло? Я просто вошел ночью через служебный вход. Дождь хлестал вовсю. В такую ночь можно голышом пройти через весь город и никто тебя не заметит. Я знал про этот маленький закуток, потому что как-то видел там рабочих. Кроме них, туда никто не забирается. Выходил по ночам и таскал еду из холодильника. Наверное, у кого-то по этому поводу неприятности. А может, они и не заметили, как вы думаете?
Он с беспокойством глядел на Гранта неестественно блестящими глазами. Его начала бить дрожь. Было очевидно, что у него высокая температура.
Грант ласково усадил его на постель и достал из ящика пижаму.
— Наденьте это и быстро в постель. Наверное, вы вымокли до нитки в ту ночь, когда пришли сюда?
— Да. Одежда так отяжелела от воды, что я еле передвигался. Но на крыше сухо. И тепло. Днем даже слишком тепло. Вы пп-онимаете тт-олк в пп-ижамах…
Он стал дрожать так, что у него зуб на зуб не попадал. Реакция после пережитого начинала сказываться. Грант помог ему переодеться и укрыл потеплее. Потом позвонил портье и попросил принести горячего супа и вызвать врача. Потом связался по телефону с Ярдом и сообщил добрую весть, в то время как Тисдейл следил за ним лихорадочными глазами. Покончив с телефонными переговорами, Грант подошел к постели и сказал:
— Словами не передать, как я перед вами виноват. Чего бы я не отдал за то, чтобы этого не произошло!
— Одеяла! Простыни, подушки и наволочки! Покрывало! — лепетал Тисдейл. — Боже, какое блаженство! Прочтите за меня вечернюю молитву! — И с этими словами он внезапно уснул.
24
Утром, поскольку, по словам доктора, «у пациента наблюдается определенный застой в легких, который в любую минуту может перейти в пневмонию», Грант вызвал к Тисдейлу его тетушку Мьюриэл. Тетушку пришлось разыскивать через Скотланд-Ярд, так как Тисдейл упрямо отрицал наличие каких бы то ни было родственников. Вильямса отправили в Кентербери арестовывать брата Алоиза, а Грант планировал после ленча поехать в Лондон и встретиться с Чампни. Он позвонил полковнику Баргойну, чтобы сообщить радостную весть о появлении Тисдейла, и к телефону подошла Эрика.
— Ой, как я за вас рада! — воскликнула она.
— За меня?!
— Конечно. Представляю, как вы переживали все это время.
Лишь тут Грант осознал, насколько это действительно его угнетало: ведь ему постоянно приходилось подавлять страх, что с Тисдейлом случилось что-то непоправимое. Какая она милая, эта малышка.
Эта милая малышка утром отправила пациенту дюжину яиц прямо из-под стейновских куриц.
— Как это похоже на нее, — сказал Грант Тисдейлу, — послала не цветы, как это делают обычно, а свежие яйца.
— Надеюсь, ей тогда не очень досталось за то, что она приносила мне пищу? — обеспокоенно спросил тот. Он говорил о событиях недельной давности так, будто они произошли много лет назад. Дни, проведенные в закутке между цистернами, показались ему вечностью.
— Как раз наоборот. Она спасла вашу голову и мою репутацию. Это ведь она нашла пальто. Вам запрещено разговаривать.
Но ему пришлось все-таки рассказать все с начала до конца. Грант ушел, а Тисдейл все повторял в полном изумлении: «Ну и ну!».
Между тем предстоящий разговор с Чампни вызывал у Гранта нешуточное беспокойство. Предположим, он прямо скажет: «Послушайте, вы и Джасон Хармер солгали мне по поводу ваших действий в такую-то ночь. Чем вы занимались тогда?» Что он услышит в ответ? «Дорогой мой, я отказываюсь отвечать за то, что говорил вам Хармер, но он был моим гостем на „Петронелл“, а ночью мы отправились на катере ловить рыбу». И у обоих окажется великолепное алиби. Гранта по-прежнему занимала мысль о возможности контрабанды. Но что за товар мог одновременно представлять интерес и для Хармера, и для Чампни? И потом, для того, чтобы переправить контрабанду с корабля на берег, целая ночь ни к чему. А оба они отсутствовали всю ночь. Что отняло у них столько времени — с полуночи до утра?
Все время после доклада Риммела Грант безуспешно пытался вспомнить, о чем именно говорил Чампни непосредственно перед тем, как неточно упомянул о дате своего возвращения. Ему почему-то казалось, что вспомни он об этом — и для него все сразу прояснилось бы.
Он решил спуститься вниз и постричься перед отъездом в Лондон. Эту стрижку ему было суждено запомнить надолго. Он уже протянул руку, чтобы толкнуть дверь в парикмахерскую, как вдруг ему ясно вспомнился ленивый голос Чампни, произносящий всего одну фразу. Так вот о чем он тогда говорил! Перед мысленным взором Гранта замелькали отдельные эпизоды — теперь они выстраивались в стройной последовательности и давали ясную картину. Он развернулся, пошел к телефону и попросил связать его со спецслужбой. Задав несколько вопросов, он, широко улыбаясь, направился в салон парикмахерской. Теперь он знал, о чем будет вести разговор с Эдуардом Чампни.
Все мастера, как это обычно бывает по утрам, оказались заняты.
— Одну минуточку, сэр, — торопливо сказал распорядитель. — Вам придется чуть-чуть подождать.
Грант опустился на один из стульев у стены, потянулся к кипе журналов на полке, и пачка развалилась. Журналы были потрепанные и в большинстве своем старые. Он взял один из них — американский «Серебряный экран» — только из-за того, что на обложке была фотография Кристины Клей, и рассеянно стал листать страницы. Букет был обычный. О ком-то в пятидесятый раз сообщали «подлинную правду», причем она разительно отличалась от всех предыдущих сорока девяти «подлинных правд». Какая-то блондинка с куриными мозгами писала о том, как она по-новому прочла для себя Шекспира. Другая рассказывала, как ей удается сохранить фигуру. Актрисочку, которая понятия не имела, где у сковородки ручка, сфотографировали дома на кухне, за выпечкой пирожных; кинозвезда мужеского пола превозносил своих собратьев по ремеслу. Грант небрежно перелистывал оставшиеся страницы. Он уже собирался положить этот номер и взяться за другой, как вдруг его внимание привлекла одна заметка. Грант стал ее читать с возрастающим интересом. Дочитав до конца, он поднялся на ноги с журналом в руках.
— Ваша очередь, сэр, — сказал парикмахер. — Сюда, пожалуйста.
Но Грант будто не слышал.
— Сейчас мы вас обслужим, сэр. Извините, что заставили ждать.
Грант обвел салон невидящим взглядом.
— Можно я захвачу это с собой? Журнал все равно старый. Благодарю вас заранее, — проговорил он и почти бегом покинул салон.
Они поглядели ему вслед и принялись весело шутить по поводу того, что он такое интересное вычитал.
— Нашел родственную душу, — сказал один.
— По-моему, родственные души в наши дни все повывелись, — откликнулся другой.
— Обнаружил средство от мозолей!
— Нет, решил посоветоваться с другом.
Вскоре о нем забыли.
Грант стоял в телефонной кабинке, и нетерпеливый господин в туфлях из дорогой кожи, ждущий своей очереди, уже начинал подумывать, что он вообще решил оттуда не выходить. Грант же разговаривал с кинознаменитостью Оуэном Хьюджедом. Только поэтому господин в модных ботинках и не шел к другой кабинке: он надеялся услышать что-нибудь из их разговора. Как он понял, речь шла о том, упомянул ли кто-то в своем письме о чем-то.
— Ах, так упомянули? Спасибо. Это все, что я хотел узнать. Только, пожалуйста, никому ни слова про то, о чем я вас спрашивал.
Вслед за этим Грант попросил соединить себя с речной полицией и плотнее прикрыл дверь, чем привел ожидающего господина в полное отчаяние.
— Скажите, у того, кто живет по Ривер-Вок, двести семьдесят шесть, имеется моторная лодка?
На другом конце навели справки и сообщили:
— Да, имеется. Скоростная.
— Для морского плавания пригодна?
— Да, при необходимости. Кажется, ею пользуются для охоты на водоплавающую дичь.
— Используют ли ее для плавания вниз по Темзе?
— Да, используют.
Грант осведомился, смогут ли они в виде большого одолжения предоставить ему свою моторную лодку часа через полтора, и, получив согласие, позвонил Баркеру. (К этому времени господин в модных ботинках оставил всякую надежду что-нибудь услышать и удалился.) Он попросил передать Вильямсу, если тот появится до его приезда, чтобы тот ждал его у вестминстерского причала. Если не будет Вильямса, то пусть пошлют Сангера.
Грант воспользовался тем, что в период ленча движение на улицах сравнительно небольшое, и на тех участках дороги, где не было ограничителей скорости, превзошел сам себя в искусстве деликатного вождения машины и добрался без происшествий. Он нашел Вильямса в условленном месте — правда, несколько запыхавшегося, поскольку он только что прибыл из Ярда — и отправил назад разочарованного Сангера. Вильямс был полон решимости по мере возможности до конца участвовать в событиях и не желал никому уступать этой чести, тем более что Баркер предупредил его — должно произойти нечто чрезвычайно важное.
— Ну, вероятно, достопочтенный отче был поражен?
— Не столько он, сколько сам брат Алоиз. Ему и в голову не приходило, что мы его можем зацепить. По тому как он себя повел во время ареста, думаю, не только наша полиция им интересуется.
— Нисколько не удивлюсь, если так и окажется.
— Куда мы направляемся, сэр?
— В район Челси-Рич. Излюбленное место художников и исполнителей народных танцев.
Вильямс заботливо оглядел своего шефа и с удовлетворением отметил, что после возвращения юного Тисдейла вид у Гранта стал значительно лучше.
Полицейский катер подошел к берегу возле Ривер-Вок, двести семьдесят шесть, у того места, где стояла большая, окрашенная в стальной цвет моторная лодка. Он осторожно стал приближаться к ней, пока два судна почти не соприкоснулись бортами. Грант шагнул в лодку.
— Пошли со мной, Вильямс, — приказал он. — Мне нужен свидетель.
Кабина оказалась запертой. Грант бросил взгляд на дом напротив и покачал головой:
— Придется рискнуть. Я уверен, что на этот раз не ошибаюсь.
В присутствии речной полиции он сломал замок и вошел в кабину. Там было так, как и должно быть в кабине морского судна: все было на своих местах и блестело, как новое. Грант начал методически проверять ящики. В одном из них, носовом, нашел то, что искал. Непромокаемое пальто. Черное. Купленное в Канне. С оторванной пуговицей на правом обшлаге.
— Заберите, Вильямс, и пройдемте со мной в дом.
Горничная сказала, что мисс Китс дома, и вышла, оставив их внизу в столовой. Комнату отличало отсутствие каких бы то ни было украшений, все здесь выглядело холодным и строгим, но вполне современным.
— Больше походит на клинику, где удаляют аппендицит, чем на место, где едят бифштексы, — заметил Вильямс.
Грант не ответил.
Лидия вошла с улыбкой. Браслеты ее звенели, бусы клацали.
— Извините, что не приглашаю вас наверх, но мои клиенты могут неверно истолковать ваш дружеский визит, мой дорогой Лев.
— Значит, там, у Марты, вам было известно, кто я?
— Разумеется. Вы недооцениваете мой дар ясновидения, милый мистер Грант. Почему бы вам не представить вашего приятеля?
— Это сержант Вильямс.
Грант заметил легкое замешательство, тем не менее, здороваясь с Вильямсом, она сохранила спокойствие. Но тут она увидела, что он держит под мышкой.
— Зачем вам мое пальто? — спросила она резко.
— Так это ваше пальто? То, что было в одном из ящиков в кабине моторки?
— Конечно мое! Как вы посмели проникнуть на лодку?! Кабина всегда на замке!
— Замок будет починен, мисс Китс. А пока должен, к великому сожалению, объявить, что арестую вас за убийство мисс Кристины Клей, совершенное вами в среду утром в Расщелине возле Вестовера, и предупредить, что все, вами сказанное, может быть использовано стороной обвинения.
Ее лицо мгновенно изменилось: обычное выражение самодовольства сменилось гримасой слепой ярости, которую Грант заметил в тот раз, когда Джуди Селлерс с насмешкой отозвалась о ее даре.
— Вы не можете меня арестовать, — заявила она. — Звезды этого не говорят. Мне ли не знать? От меня у звезд нет секретов. Они мне предрекают славу. Это вы — тот несчастный глупец, кому суждено всю жизнь спотыкаться и делать ошибки. А меня ждет только успех. Я могу делать все, что пожелаю. Так возвестили небеса, и так будет. Это судьба. «Есть люди, которые рождены для величия» — вот единственная истина, все другое — ложь. Если человек не рожден великим, он никогда им не станет. Я была рождена для славы. Для того, чтобы стать лидером. Чтобы все человечество чтило меня…
— Мисс Китс, вам придется сейчас же отправиться вместе с нами. Всю одежду, которая вам может понадобиться, отправят потом.
— Какую одежду?
— Которую вам предстоит носить в тюрьме.
— Не понимаю. Вы не смеете запирать меня в тюрьму. В моем гороскопе этого нет. Звезды говорят, я могу сделать все, что захочу.
— Каждый может сделать все, что захочет, было бы желание. Но каждый обязан и отвечать за свои поступки. Позовите, пожалуйста, горничную и предупредите ее, что вас долго не будет. И пусть принесет вашу шляпку, если она вам нужна.
— Она мне не нужна. И никуда я с вами не поеду. Я поеду в гости к Марте. Вы, наверное, знаете — она получила роль Кристины. В новом фильме. Это моих рук дело. Все, что мы делаем, предначертано заранее. Это так просто: наше действие попадает в заранее намеченную цель, как удар молоточка по клавише в музыкальной шкатулке. Вы, конечно, знаете, как она работает? Может, и не знаете. Вы ведь не любитель музыки? От Марты я отправлюсь на прием к Оуэну Хьюджеду. Ну а потом видно будет. Приходите вечером, и мы все обсудим. Вы знакомы с Оуэном? Очаровательный человек. Его роль тоже была обозначена заранее. Если бы не он, такая мысль никогда бы не пришла мне в голову. Нет, я не то хотела сказать. Великие свершения достойны только великих людей. Они осуществляются в любом случае. Но для этого требуется малюсенький импульс. Как для электрического тока — нажатие кнопки или выключателя. Я использовала это остроумное сравнение на прошлой неделе во время лекции в Шотландии. Она очень успешно прошла. Точное сравнение, правда? Может, хотите шерри? Я что-то очень рассеянна сегодня. Это потому, что я все время думаю о тех, кто ждет там, наверху, чтобы я им рассказала.
— О чем рассказали?
— О себе. Нет, не о себе — о них самих. Они для этого и собрались. Я что-то сбиваюсь. Они хотят знать, что их ждет. И лишь одна я могу им это сказать. Только я, Лидия Китс…
— Можно мне воспользоваться вашим телефоном, мисс Китс?
— Конечно. Он в холле, в шкафчике. Цветной. Телефон, не шкафчик, разумеется. О чем это я говорила?
— Попросите срочно прислать сюда Рейнолдса, — обратился Грант к Вильямсу.
— А, это тот художник? Рада буду познакомиться с ним. Он тоже был рожден для славы. Понимаете, ведь дело совсем не в том, как ты накладываешь или смешиваешь краски. А в том, что у вас внутри. И это все зависит от звезд. Вы должны заказать мне гороскоп. Вы ведь Лев. Львы — очень привлекательные люди. Они рождены для власти. Временами я очень жалела, что не родилась в августе. Но Овны — тоже прирожденные лидеры. Что-то я много болтаю. — Она хихикнула. — Все мне говорят, чтобы я поменьше болтала. Так меня и называли в детстве — «трещотка»…
25
Полчаса спустя полицейский врач Рейнолдс сделал укол морфия визжащему и мечущемуся существу, которое звалось Лидией Китс; только после этого ее смогли более или менее спокойно препроводить в полицейский участок.
Грант и Вильямс, стоя в дверях, молча наблюдали за отъезжающей машиной «скорой помощи». Наконец Грант очнулся и произнес:
— Что ж, надо двигаться. Пора поговорить с Чампни.
— Людей, пишущих законы для этой страны, нужно стрелять! — воскликнул Вильямс с неожиданной злостью.
— Вы имеете в виду высшую меру? — ошеломленно спросил Грант.
— Ну хотя бы изолировать от общества.
— А, понимаю. У меня там в машине фляжка. Хлебните-ка немного.
— Спасибо, сэр. Да не убивайтесь вы так, мисс, — обратился Вильямс к горничной, которая заливалась слезами. — Подобные вещи случаются, ничего не попишешь.
— Она была очень добрая хозяйка. Ужасно видеть ее такой.
— Берегите это пальто, Вильямс, — сказал Грант, пока они шли к машине, которая ждала их у ограды. Он был счастлив, что может наконец оставить этот дом.
— Скажите, сэр, как вы догадались, что это именно она?
Грант достал вырванные странички:
— Это из журнала, который мне попался в парикмахерском салоне. Прочтите сами.
Это была небольшая заметка, принадлежащая автору дешевых, сентиментальных романов откуда-то со Среднего Запада, которая побывала в Нью-Йорке. Город в ту пору был наводнен кинозвездами: они задерживались там либо после очередных съемок, либо перед новой картиной. Там находилась и мисс Лидия Китс. На скромную писательницу самое сильное впечатление произвело не то, что ей пожала руку знаменитая Грэйс Марвел, а точность прорицаний мисс Китс. Она предсказала, что в ближайшие три месяца с Лином Дрейком произойдет несчастный случай, и верно: всем известно, что Дрейк до сих пор прикован к постели; она предсказала, что Миллард Робинсон потеряет огромные деньги из-за пожара, и точно: не прошло и месяца, как единственная копия пленки его нового фильма обратилась в пепел. Ее третье пророчество касалось звезды первой величины, чье имя писательнице было открыто, но которое она считала неэтичным разглашать. Кинозвезду ждала смерть на воде. «Если это третье предсказание, никак не связанное с обстоятельствами жизни кинозвезды и столь определенно указывающее на вид смерти, сбудется, то слава мисс Китс как особы, обладающей самым непостижимым даром — даром пророчества, будет вне всяких сомнений. Каждый из живущих будет добиваться встречи с ней». Заметка кончалась фразой: «Но не ходите с ней купаться, милая златовласая звездочка! Как бы искушение не оказалось для мисс Китс слишком сильным!»
— Разрази меня гром! — только и произнес Вильямс и молчал всю дорогу до Ярда.
— Передайте начальнику отдела, что я вернусь сразу же после встречи с Чампни, — сказал Грант и поехал дальше, на Риджент-Парк.
Гранту пришлось полчаса пробыть в обществе мраморных каминов и звериных шкур, прежде чем Чампни появился.
— Как поживаете, инспектор? Биннс сказал, что вы уже здесь. Извините, что оставил вас наедине с мебелью дольше, чем хотелось бы. Как насчет чая? Если не хотите чая, могу предложить то, что мой дядя называл «подкрепляющим». Правда, звучит гораздо приятнее, чем просто «выпивка». Есть новости?
— Да, сэр. Простите, что ворвался к вам сразу после вашего возвращения из поездки.
— Это не столь ужасно, как вчерашнее собрание в гостиной моей двоюродной бабушки. Я поехал, только чтобы сделать приятное этой старой даме, а оказалось, она надеялась, что я догадаюсь отменить эту лекцию. Тогда было бы более «пристойно», как она выразилась. Ну, выкладывайте ваши черные новости.
Грант сообщил ему о случившемся, и он выслушал все серьезно, без обычных легкомысленных замечаний, к которым столь часто прибегал в качестве защиты от неделикатности посторонних.
— Она сумасшедшая?
— По мнению Рейнолдса — да. Может, это просто истерия, но Рейнолдс считает, что это сумасшествие.
— Несчастная. Но как она узнала, где жила моя жена?
— Ей написал Оуэн Хьюджед. Он совсем забыл, что это секрет. Он даже упомянул в письме про ее любовь к ранним купаниям.
— Как все просто… Значит, она умела хорошо водить моторную лодку?
— Она практически выросла на реке. Курсировала по Темзе постоянно. Никому и в голову не приходило интересоваться, куда и зачем она направляется. Вероятно, пока не подвернулся благоприятный случай, она уже плавала туда не раз. Как это ни странно, мы никогда не думали о Темзе как о возможном пути следования. Естественно, мы обсуждали вероятность использования моторной лодки, но не со стороны Лондона. Хотя не думаю, что это нам бы сильно помогло. И мужское пальто, которое было на ней, сбило нас с толку. Многие женщины во время прогулок на яхте носят теперь мужские пальто, но мне это почему-то не пришло в голову.
Наступило короткое молчание. Каждый из них в эти минуты представил себе, как в тумане лодка выскользнула из освещенной бухты и заскользила вдоль берега, где мелькали огни. Маленькие, ярко светящиеся городки; случайная лодочная станция с ярким прожектором; мигающие огоньки редких вилл на прибрежных скалах сопровождали ее в пути. Затем, видимо, наступила полная темнота. Темнота и летний ночной туман, спустившийся к самой воде. О чем она думала в последние минуты ожидания? В полном одиночестве, располагающем к раздумью? Или уже тогда безумие овладело ею настолько, что у нее не возникло сомнений?
И потом… Они представили себе это «потом»: удивление, радостное «здравствуй», зеленая шапочка Крис, выскакивающая у серого борта, — купальная шапочка, которую так и не нашли; женщина из лодки, наклоняющаяся над Крис. Затем…
Гранту вспомнились обломанные ногти Кристины. Да, видно, все оказалось не так легко, как представляла Лидия.
— Таким образом, следствие по этому делу можно считать законченным, однако к вам меня сейчас привело другое дело. Совсем особое.
— Да? А вот и чай. Можете идти, Биннс. Вам с сахаром?
— Мне бы хотелось узнать, куда вы дели Римника.
Рука Чампни, державшая ложку, от неожиданности застыла в воздухе. Он насмешливо и даже с примесью восхищения взглянул на Гранта:
— Он у знакомых коротышки Хармера возле Тоджнбриских Колодцев.
— Могу я узнать точный адрес?
Чампни назвал адрес и передал Гранту чай.
— Зачем вам нужен Римник?
— Потому что благодаря вам он находится на территории Англии и у него нет паспорта.
— Не было, — поправил его Чампни. — Сегодня утром иностранное ведомство дало ему разрешение на пребывание в Англии. Для этого потребовалось море красноречия: пришлось напомнить, что Британия — оплот справедливости, защитница угнетенных, прибежище несправедливо обиженных и преследуемых за убеждения и прочее, и прочее. Главное, я добился желаемого эффекта. Представляете, там в Уайтхолле они до сих пор раздуваются от гордости за отчизну. Когда я закончил, они расхорохорились, как воркующие голуби. — Он заметил неодобрительный взгляд Гранта и добавил: — Я не знал, что такое пустячное дело может вас волновать.
— Волновать, вы сказали? — не выдержал Грант. — Вы чуть все не погубили! И вы и Хармер солгали мне о событиях той ночи…
Он замолчал, спохватившись, что повел себя недостаточно деликатно. Но Чампни понял его состояние.
— Я действительно весьма сожалею, что так вышло, инспектор. Вы собираетесь меня арестовать? Можно ли арестовать человека, так сказать, ретроспективно?
— Вряд ли. Надо выяснить. Я бы сделал это с большим удовольствием, — отозвался Грант. К нему вернулся юмор. — Мне ни за что не удалось бы вас поймать на этом деле, если бы не мой молодой коллега, Риммел. Он прекрасно поработал.
— Надо будет с ним познакомиться.
— Он узнал, что вы и Хармер встречались в ту ночь и были озабочены таможенным досмотром.
— Да-да, Римник просидел в шкафу у меня в кабине. Это были довольно тревожные полчаса. Однако таможенники и портовики тоже люди.
Из его слов можно было сделать вывод, что они постучали вешалками, но не осмелились проверить закрытые шкафы в кабине лорда.
— Я знал, что если сумею припомнить, о чем вы говорили перед тем, как… создали у меня ложное впечатление о дне прибытия в Дувр, то найду ключ к вашему секрету. И я вспомнил. Вы тогда сказали: «Единственная надежда Галарии — Римник. Правда, не уверен, хватит ли у него самоотверженности. Он еврей. А они редко обладают этим столь необходимым для спасателей отечества качеством. Однако за ним есть два других преимущества: страсть к театральным эффектам и безусловная поддержка единоверцев». Едва я вспомнил эту фразу, как тут же понял, что вас связывает с Хармером. Остальное просто. В отделе безопасности знали об исчезновении Римника из страны и о том, что в британском паспорте, как и в разрешении на въезд, ему было отказано. Им даже было известно, что, по всей вероятности, его переправили в Англию, не было лишь доказательств. Значит, моторка подходила к берегу вторично?
— В ту ночь? Да. Хармер отвез нас к своему другу. Хармер хоть и коротышка, но в решительности ему не откажешь. Он был перепуган до смерти, но держался молодцом до самого конца. Он горячо любит свой народ. По виду никогда не подумаешь. И потом, он сам выходец из тех мест. Как я понял, Тисдейл наконец-то объявился. Представляю, какое это для вас облегчение. Он что, болен?
— Нет. У него была простуда и, конечно, нервное истощение. Но думаю, с ним все будет в порядке.
— В Йорке я купил дневной выпуск, и там дается душераздирающее описание пережитых им страданий. Я тогда же подумал, что вряд ли в этой заметке есть хоть одно слово правды.
— Вы правы. Ни единого. Это все воображение Джемми Хопкинса.
— Кто такой Джемми Хопкинс?
— Кто такой Джемми Хопкинс?! — Грант с изумлением поглядел на Чампни и с завистью сказал: — Теперь я понимаю, зачем некоторые предпочитают родной Англии отдаленные уголки планеты.
26
Месяцем позже Герберт Готобед покинул родину, чтобы удовлетворить любопытство полиции Нэшвилла, штат Теннесси, по поводу того, что он сделал с двумя миллионами, которые ему дала старая миссис Кинслей на постройку церкви. А как раз в день его отплытия — хотя ни одна из заинтересованных сторон об этом и не подозревала — Эрика давала обед в Стейнсе, с тем чтобы, как она прямо выразилась, убрать неприятный привкус от предыдущего обеда. Единственным дополнением к предыдущему составу участников был Робин Тисдейл. Что касается Гранта, то он — как это ни глупо — вздохнул с облегчением, когда увидел, что ее маленький носик, как и раньше, напудрен небрежно и платьице все то же — школьное. Втайне он опасался, что контакт с красивым, да еще и безвинно пострадавшим Робином мог поселить в сердце Эрики некие романтические мечты и положить конец ее детской непосредственности. Однако было похоже, что Эрику ничто не способно заставить измениться. Она обращалась с Тисдейлом все так же по-товарищески просто, как и тогда, когда сказала, что он носит слишком тесные воротнички. Грант заметил, что Джордж тоже исподтишка посматривает то на Тисдейла, то на Эрику и довольно посмеивается. Их взгляды встретились, и, не сговариваясь, они подняли свои бокалы в молчаливом приветствии.
— За что вы пьете? — спросила Эрика. — У меня есть тост — за успехи Робина в Калифорнии.
Все с готовностью за это выпили.
— Если вам на ранчо не понравится, подождите, пока мне исполнится двадцать один, и я его у вас куплю.
— Думаете, вам придется по душе такая жизнь? — с живостью откликнулся Тисдейл.
— Ну конечно, — ответила она и обернулась к Гранту, собираясь что-то сказать.
— Не дожидайтесь двадцати одного года и приезжайте посмотреть раньше, — не отставал Тисдейл.
— Это было бы очень интересно, — рассеянно ответила Эрика и спросила: — Мистер Грант (почему-то она никогда не называла его инспектором), если я возьму билеты у мистера Миллса и завезу вам их, вы пойдете со мной в цирк на Рождество?
Она слегка порозовела, как будто просила о чем-то слишком рискованном. На Эрику, которая всегда говорила что думала, это было не похоже.
— Конечно пойду! — воскликнул Грант. — И с превеликим удовольствием!
— Значит, договорились. — Она подняла свой бокал и торжественно произнесла:
— За цирк в «Олимпии» на Рождество!
— За цирк на Рождество! — повторил вслед за ней Грант.
ИСЧЕЗНОВЕНИЕ
Глава 1
Поставив ногу на первую ступеньку лестницы, Грант остановился и прислушался к крикам, доносившимся с верхнего этажа. Крики сопровождались непрерывным глухим гулом, похожим на тот, что издает разбушевавшаяся стихия, например лесной пожар или вышедшая из берегов река. Ноги Гранта отказывались нести его наверх, и он сделал из этого неизбежный вывод: вечеринка удалась.
Он пришел сюда не ради вечеринки. Литературные сборища, даже самые солидные, с хересом, были не во вкусе Гранта. Он пришел сюда забрать Марту Халлард, чтобы повести ее обедать. Обычно, правда, полицейские не водят обедать ведущих актрис, выступающих в Хаймаркете и «Олдвике», даже если этот полицейский — инспектор уголовного розыска из Скотланд-Ярда. Столь привилегированное положение Гранта объяснялось тремя причинами, и он знал их — все три. Во-первых, он был весьма видным мужчиной, во-вторых, мог себе позволить обед у Лорана, и, в-третьих, Марте Халлард было не так-то легко заполучить кавалера. Она занимала заметное место в театральной среде, была необыкновенно элегантна, но мужчины боялись ее. Поэтому, когда Грант, тогда еще сержант уголовного розыска, в связи с делом об украденных драгоценностях появился в жизни Марты, она проследила, чтобы потом он уже не исчезал. И Грант с радостью остался. Если он был полезен Марте в качестве кавалера, когда ей требовался таковой, она была еще более полезна ему в качестве окна в мир. Чем больше окон в мир имеет полицейский, тем, естественно, лучше он может выполнять свою работу, и Марта как бы служила прорезью для глаз в капюшоне прокаженного, через которую Грант мог заглянуть в театральный мир.
Шум успешно протекавшей вечеринки выплескивался через открытые двери на лестничную площадку. Грант остановился и окинул взглядом орущих людей, плотно, как сельдь в банке, набившихся в длинную, убранную в георгианском стиле комнату. Как бы ему выудить оттуда Марту?
Сразу за дверьми, явно ошарашенный тем, что перед ним оказалась сплошная стена говорящих и пьющих представителей человечества, стоял молодой человек. Вид у него был совершенно потерянный. Шляпу свою он все еще держал в руках, значит, только что пришел.
— Затруднения? — спросил Грант, поймав его взгляд.
— Я забыл свой мегафон, — ответил молодой человек.
Он произнес это слегка растягивая слова и не утруждая себя попыткой перекричать общий шум. Однако благодаря высокому тембру голос молодого человека оказалось легче расслышать, чем если бы он орал. Грант, уже с одобрением, снова взглянул на него.
«Очень красивый молодой человек, — присмотревшись, отметил Грант. — Слишком светловолос для настоящего англичанина. Может быть, норвежец?»
Или американец. Что-то заокеанское было в том, как он произнес «забыл».
За окном уже начал синеть ранний весенний вечер и зажглись фонари. Сквозь туман сигаретного дыма в дальнем конце комнаты Грант смог разглядеть Марту, слушавшую Таллиса, драматурга. Он рассказывал ей о своих персонажах так, словно это были члены королевской семьи. Гранту не нужно было слышать Таллиса, он и так знал, что тот говорит о своих персонажах. Таллис всегда говорил только об этом. Таллис мог, не задумываясь, сказать, что сотворил второй состав труппы с его «Ужином для троих» в первый день Пасхи в Блэкпуле в 1938 году. Марта перестала даже делать вид, будто слушает. Уголки ее рта были опущены. Грант подумал, что она безусловно заслужила орден D.B.E.[587] Однако, если это не произойдет в самое ближайшее время, Марте, увы, придется, делать пластическую операцию. Он решил оставаться там, где стоял, пока не удастся поймать ее взгляд. Они оба были высокого роста и могли переглядываться поверх голов остальной толпы.
По укоренившейся профессиональной привычке полицейского Грант обежал глазами разделявших их людей, но ничего интересного не обнаружил. Обычное сборище. Весьма процветающая издательская фирма «Росс и Кромарти» отмечала выход в свет двадцать первой книги Лавинии Фитч, а поскольку фирма процветала в большой степени благодаря Лавинии, то и напитков было много, и гости были солидные. Солидные — в смысле хорошо одетые и с громкими именами, так сказать. Публику, которая завоевала положение в обществе лишь недавно, не приглашали отмечать рождение «Любовника Морин» и пить шерри господ Росса и Кромарти. Даже Марта, несомненно кавалер ордена Британской империи в ближайшем будущем, была здесь только потому, что в деревне жила по соседству с Лавинией. А Марта, благослови Господь ее черно-белую элегантность и недовольный вид, скорее, чем кто-либо другой в этой комнате, могла претендовать на принадежность к высшему классу. Так что, вероятно, этот незнакомый ему молодой человек помимо своей миловидности обладал еще чем-то. Интересно, как он зарабатывает себе на жизнь? Актер? Но актер не будет в полном недоумении стоять с краю. И что-то просквозило в его замечании о мегафоне и в отстраненности, с которой он наблюдал происходящее и которая как бы отделяла его от толпившихся вокруг людей. Возможно ли, подумал Грант, чтобы такие скулы пропадали в брокерской конторе? Или это мягкий свет дорогих ламп господ Росса и Кромарти очертил так красиво прямой нос и прямые светлые волосы, а при дневном свете молодой человек выглядел бы менее привлекательным?
— Вы мне не скажете, — вдруг обратился он к Гранту, по-прежнему не повышая голоса, — кто здесь мисс Лавиния Фитч?
Лавиния, маленькая женщина с желтоватой кожей, стояла у среднего окна. Она купила себе для этого случая модную шляпку, но ничего не сделала, чтобы приспособить ее к своей голове, и шляпка торчала на ее взлохмаченных рыжих волосах, похожих на воронье гнездо. Казалось, будто шляпка упала на них откуда-то сверху, из окна, когда хозяйка шла по улице. На лице у Лавинии Фитч было обычное выражение радостного изумления — и никакой косметики.
Грант показал на нее молодому человеку.
— Вы впервые в Лондоне? — спросил он, заимствуя фразу из добропорядочных вестернов. Вежливая форма «мисс Лавиния Фитч» могла родиться только в США.
— Вообще-то, я ищу племянника мисс Фитч. Я смотрел в телефонном справочнике, но там его нет, вот я и надеялся, что увижу его здесь. Вы случайно не знакомы с ним, мистер…?
— Грант.
— Мистер Грант?
— Я знаю его в лицо. Здесь его нет. Вы ведь имеете в виду Уолтера Уитмора?
— Да. Уитмор. Я его совсем не знаю, но мне очень хотелось бы увидеться с ним, потому что у нас есть — я хочу сказать, был — общий друг. Мне казалось, он придет сюда. Вы совершенно уверены, что его здесь нет? Народу-то тут много.
— В этой комнате его нет. Уверен, потому что Уитмор такого же высокого роста, как я. Но он может быть где-нибудь поблизости. Послушайте, вам стоит подойти к мисс Фитч. Мы, наверное, сможем пробиться сквозь баррикады, если проявим решимость.
— Тогда тараньте, а я постараюсь проскользнуть, — заявил молодой человек, имея в виду разницу их весовых категорий. — Это очень мило с вашей стороны, мистер Грант, — добавил он, когда они вынырнули где-то на полпути — вдохнуть воздуха и оказались притиснуты друг к другу живой изгородью из чужих локтей и плеч. Потом он рассмеялся, увидев беспомощность Гранта. А Грант неожиданно смутился. Так смутился, что тут же повернулся и стал проталкиваться сквозь человеческие джунгли к просвету у среднего окна, где стояла Лавиния Фитч.
— Мисс Фитч, — произнес Грант, — здесь молодой человек очень хочет поговорить с вами. Он пытается найти вашего племянника.
— Уолтера? — спросила Лавиния, и ее заостренное личико потеряло туманное выражение безотносительного благорасположения ко всем вообще и приобрело реальную заинтересованность.
— Меня зовут Сирл, мисс Фитч. Я приехал из Штатов в отпуск, и мне хотелось повидать Уолтера, потому что Куни Уиггин был и моим другом тоже.
— Куни! Вы друг Куни? О дорогой, Уолтер будет в восторге, просто в восторге. О, какой приятный сюрприз посреди всего этого… Я хочу сказать, все так неожиданно. Уолтер обрадуется. Вы говорите — Сирл?
— Да. Лесли Сирл. Я не нашел Уолтера в справочнике.
— Да, в городе у него только pied-a-terre.[588] Он живет в Сэлкотт-Сент-Мэри, как и все мы. Знаете, там у него ферма. Ферма, о которой он делает радиопередачи. Вообще-то, это моя ферма, но он занимается ею и рассказывает о ней по радио, и… У него сегодня передача во второй половине дня, поэтому он и не пришел на вечеринку. Вы должны приехать к нам и погостить. Приезжайте на этот уик-энд. Поедемте сегодня вечером вместе с нами!
— Но вы же не знаете, а вдруг Уолтер…
— Вы ведь не приглашены куда-нибудь на этот уик-энд?
— Нет, нет. Но…
— Вот и хорошо. Уолтер будет возвращаться из студии, а вы можете поехать с Лиз и со мной в нашей машине. Вот Уолтер удивится! Лиз! Лиз, дорогая моя, где ты? Где вы остановились, мистер Сирл?
— В «Уэстморленде».
— Что может быть удобнее! Лиз! Где же Лиз?
— Я здесь, тетя Лавиния.
— Лиз, дорогая, это Лесли Сирл. Он едет к нам на уик-энд. Ему хочется встретиться с Уолтером, потому что оба они были друзьями Куни. А сегодня пятница, и мы все едем в Сэлкотт-Сент-Мэри, чтобы прийти в себя от… чтобы пожить славно, спокойно, мирно, так что ничего не может быть удобнее. Поэтому, Лиз, дорогая, отвези его в «Уэстморленд», помоги ему уложить вещи, и возвращайтесь за мной, ладно? К тому времени эта… вечеринка наверняка закончится, вы сможете забрать меня, и мы поедем вместе в Сэлкотт. То-то удивится Уолтер!
Грант заметил, что молодой человек с интересом взглянул на Лиз Гарроуби, и слегка призадумался. Лиз была простенькой девушкой небольшого роста, со смугловатым лицом. Правда, у нее были замечательные глаза, ярко-голубые, цвета вероники, совершенно удивительные, и такое лицо, что всякому мужчине захотелось бы пройти по жизни с женщиной, у которой такое лицо. Она была славной девушкой, Лиз. Но не той особой, на которую молодые люди немедленно обращают внимание. Может быть, до Сирла просто дошли слухи о ее помолвке, и он смотрел на нее, потому что это невеста Уолтера Уитмора. Грант потерял интерес к семейству Фитч, как только заметил, что Марта увидела его. Он показал глазами, что встретит ее у дверей, и снова нырнул в удушливые волны человеческого моря. Марта, из них двоих обладавшая более безжалостным характером, преодолела дистанцию до двери вдвое быстрее и ждала Гранта у входа.
— Кто этот красивый молодой человек? — спросила она, оглянувшись, когда они продвигались к лестнице.
— Он ищет Уолтера Уитмора. Говорит, что он друг Куни Уиггина.
— «Говорит»? — повторила Марта с оттенком язвительности, направленной не на молодого человека, а на Гранта.
— Осторожность полицейского, — сказал Грант извиняющимся тоном.
— А кто такой Куни Уиггин?
— Куни был одним из известнейших фоторепортеров в Штатах. Его убили, когда он снимал очередную драку на Балканах год или два назад.
— Все-то вы знаете.
У Гранта на кончике языка вертелось: «Это знают все, кроме актрис», но ему нравилась Марта. Вместо этого он сказал:
— Я понял так, что он отправляется в Сэлкотт на уик-энд.
— Красивый молодой человек? Ну-ну. Надеюсь, Лавиния понимает, что делает.
— А что плохого в том, что он там будет?
— Не знаю, но мне кажется, они рискуют собственной удачей.
— Удачей?
— Все получилось так, как им хотелось, не правда ли? Уолтер спасся от Маргерит Мэрриам и собирается осесть, женившись на Лиз. Вся семья вместе в старой усадьбе — сплошная идиллия, не передать словами. Не время приводить в дом бесподобно красивых молодых людей, сдается мне.
— Потрясающих, — пробормотал Грант, еще раз задумавшись над тем, что так смутило его в облике Сирла. Вряд ли просто красивое лицо. Смазливой внешностью полицейского не удивить.
— Держу пари, Эмма только взглянет на него — и выставит из дома в понедельник утром, сразу после завтрака, — заявила Марта. — Ее любимица Лиз выходит замуж за Уолтера, и Эмма сделает все, чтобы этому ничто не помешало.
— Лиз Гарроуби не произвела на меня особого впечатления. Не понимаю, чего миссис Гарроуби беспокоиться.
— И не поймете. Этот юноша произвел впечатление на меня за какие-то тридцать секунд на расстоянии в двадцать ярдов, а меня считают практически непробиваемой. Кроме того, я никогда не поверю, что Лиз и правда влюбилась в это бревно. Просто она хотела подлечить его разбитое сердце.
— А оно было здорово разбито?
— Встряска была изрядная, должна сказать. Как и следовало ожидать.
— Вы когда-нибудь играли на сцене с Маргерит Мэрриам?
— О да, много раз. Мы вместе довольно долго играли в «Прогулке в темноте». Вон идет такси.
— Такси! Как вы относились к ней?
— К Маргерит? Она, без сомнения, была сумасшедшая.
— Как — «сумасшедшая»?
— На все сто.
— В каком смысле?
— Вы имеете в виду, как это проявлялось? О, полное безразличие ко всему, кроме того, чего ей хотелось в данный момент.
— Это не сумасшествие. Это просто криминальный способ мышления в своем самом чистом проявлении.
— Ну, вам виднее, дорогой. Может быть, она была преступницей manque.[589] Но что несомненно, так это то, что она была сумасшедшей, как старатель-одиночка. Даже Уолтеру Уитмору я не пожелала бы страшной судьбы оказаться ее мужем.
— За что вы терпеть не можете любимца британской публики?
— Дорогой, я не переношу, как он тоскует. Это было достаточно скверно, когда он тосковал среди чабреца на склонах Эгейских холмов, а пули свистели у него над ухом. Я всегда подозревала, что он делал это щелкая бичом…
— Марта, вы потрясаете меня.
— Нисколько, дорогой, нисколько. Вы знаете это не хуже меня. Когда в нас — во всех! — стреляли, Уолтер позаботился о том, чтобы иметь возможность спрятаться в славной комнатке в пятидесяти футах под землей. А каждый раз, чуть только опасность миновала, Уолтер вылезал из своего маленького убежища и усаживался на поросший чабрецом склон холма — с микрофоном и бичом, с помощью которого он изображал, как свистят пули.
— Боюсь, вскоре мне придется взять вас на поруки.
— За убийство?
— Нет, за клевету.
— И за это надо брать на поруки? Я думала, что это совершенно джентльменский поступок, за который в худшем случае могут лишь вызвать в суд.
Грант подумал о том, как все же неподражаемо невежество Марты.
— Хотя это могло быть и убийство, — произнесла Марта тем воркующе-задумчивым голосом, который принес ей сценическую известность. — Пожалуй, я бы могла вынести чабрец и пули, но теперь, когда он взялся девяносто девять лет рассуждать о весенних всходах, дятлах и всем таком прочем, он вырастает до размеров общественной угрозы.
— Зачем вы его слушаете?
— Ну, в этом есть что-то отвратительно-притягательное. Человек думает: ладно, это уже предел безобразия, хуже не может быть ничего. А на следующей неделе слушает и видит, что может быть хуже. Так что на следующей неделе уже слушаешь, может ли быть еще хуже. Это ловушка. Настолько мерзко, что невозможно выключить. С нетерпением ждешь очередной порции безобразия, и еще следующей. И когда он объявляет о конце передачи, все еще слушаешь.
— Марта, а это не может быть просто профессиональной ревностью?
— Вы считаете, что этот тип — профессионал? — переспросила Марта, понизив тон на квинту, так что ее голос затрепетал и в нем отразились и накопленный за долгие годы репертуар, и зубрежка местных говоров, и воскресные поезда, и отчаянно скучная аудитория в холодных, темных театральных залах.
— Нет, я считаю, что он просто актер. Актер природный, бессознательный, который превратил себя в притчу во языцех, не прикладывая к этому особых усилий. Я могу понять, что вам это не нравится. А что восхищало в нем Маргерит?
— Это я вам объясню. Его преданность. Маргерит нравилось обрывать крылышки у мух. Уолтер позволял рвать себя на части, уходил, но потом снова возвращался, чтобы повторить все сначала.
— Но как-то раз не вернулся.
— Да.
— Из-за чего произошла последняя ссора, вы не знаете?
— Не думаю, чтобы такая ссора была. Скорее он просто сказал ей, что с него хватит. По крайней мере, так он объяснил на следствии. Кстати, вы читали некрологи?
— Наверное, в свое время читал. Сейчас не помню.
— Проживи Маргерит еще десять лет, она удостоилась бы только нескольких маленьких заметок на последних страницах. А так ей расточали комплименты, большие, чем Дузе: «Пламя гения угасло, и мир стал беднее», «У нее была легкость сорвавшегося листка и грациозность ивы, качающейся на ветру». Такие вот перлы. Удивлялись, что в газетах не было черных рамок. Скорбь практически приняла национальные масштабы.
— Грандиозная разница между всем этим и Лиз Гарроуби.
— Милая, славная Лиз. Если Маргерит Мэрриам была слишком плоха даже для Уолтера Уитмора, Лиз слишком хороша для него. Уж слишком хороша. Я была бы счастлива, если бы этот красивый молодой человек увел ее у него из-под носа.
— Почему-то я не могу представить себе вашего «красивого молодого человека» в роли супруга, а вот Уолтер будет прекрасным мужем.
— Дорогой мой, Уолтер будет делать об этом передачи. Об их детях, о полках, которые он приладил в буфетной, и как развиваются выпуклости маленькой женщины, и какие узоры мороз нарисовал на окнах детской. Ей было бы гораздо безопаснее с… как вы сказали, его зовут?
— Сирл. Лесли Сирл. — Грант рассеянно следил за тем, как приближается бледно-желтая неоновая вывеска Лорана. — Мне почему-то не кажется, что безопасность — это определение, приложимое к Сирлу, — протянул он задумчиво. И с этой минуты забыл думать о Лесли Сирле и не вспоминал о нем, пока в один прекрасный день не получил приказа отправиться в Сэлкотт-Сент-Мэри искать его тело.
Глава 2
— Дневной свет! — воскликнула Лиз, выходя из подъезда. — Добрый чистый дневной свет! — Она с удовольствием втянула носом вечерний воздух. — Машина на площади за углом. Вы хорошо знаете Лондон, мистер… мистер Сирл?
— Я бывал в Англии частенько, во время отпусков. Но в такое раннее время года — не приходилось. Вы вообще не видели Англии, если не видели ее весной.
— Так говорят.
— Вы летели через Ла-Манш? Самолетом?
— Прямо из Парижа — как истый американец. Париж весной тоже великолепен.
— Так говорят. — Лиз повторила и его фразу, и его тон. А потом, будто испугавшись взгляда, который он бросил на нее, добавила: — Вы журналист? Поэтому вы и были знакомы с Куни Уиггином?
— Нет. Я занимаюсь тем же, что делал Куни.
— Фотографии для газет?
— Не для газет. Просто фотография. Большую часть зимы я провожу на Побережье, снимая разных людей.
— На Побережье?
— В Калифорнии. Это помогает поддерживать добрые отношения с управляющим моим банком. А вторую половину года я путешествую и фотографирую то, что мне хочется фотографировать.
— Звучит соблазнительно, — проговорила Лиз, открывая машину и забираясь в нее.
— Весьма неплохая жизнь.
Машина была двухместным «роллс-ройсом», маленьким старомодным «роллсом», каким и полагается быть этим никогда не меняющимся машинам. Что и попыталась объяснить Лиз, когда они выехали с площади и влились в вечерний поток машин.
— Первое, что сделала тетя Лавиния, когда заработала деньги, — купила себе соболий палантин. Она всегда считала, что соболий палантин — обязательный предмет в гардеробе. А второе, чего ей захотелось, — это «роллс». Она купила его, когда вышла следующая книга. Палантин она ни разу не надела, потому что, как она говорит, это сплошное мучение, когда что-то все время болтается у тебя на шее, но «роллс» оказался очень удачной покупкой, и мы до сих пор им пользуемся.
— А что случилось с собольим палантином?
— Тетя обменяла его на пару стульев эпохи королевы Анны и газонокосилку.
Когда они остановилась перед отелем, Лиз сказала:
— Здесь не разрешается стоять. Я отъеду на стоянку и подожду вас там.
— А разве вы не будете укладывать мои вещи?
— «Укладывать ваши вещи»? Конечно нет.
— А ваша тетя сказала, что будете.
— Это просто фигуральное выражение.
— А я воспринял все буквально. Ну хотя бы поднимемся, посмотрите, как я буду укладываться. Одарите меня своими советами и поддержкой. Это было бы очень мило с вашей стороны.
В результате Лиз действительно упаковывала в два больших чемодана одежду молодого человека, а он вытаскивал ее из ящиков и кидал ей. Все вещи были очень дорогие, заметила она, сшитые на заказ и из лучших тканей.
— Вы очень богаты или просто экстравагантны? — спросила Лиз.
— Привередлив, скажем так.
К тому моменту как они вышли из отеля, на улицах зажглись первые фонари.
— Мне кажется, — заметила Лиз, — в такое время, когда еще не погас дневной свет, фонари выглядят красивее всего. Они желтые, как нарциссы, и таинственные. А как только совсем стемнеет, они станут белыми и обыкновенными.
Они вернулись в Блумсбери, но обнаружили, что мисс Фитч уехала. Партнер фирмы, представлявший ту часть, что выступала под именем Росс, в полном изнеможении развалился в кресле и вдумчиво поглощал то, что осталось от шерри. При виде их он встрепенулся и даже смог вернуть себе некое подобие профессиональной bonhomie.[590] Он сообщил им: мисс Фитч сочла, что в машине мистера Уитмора будет свободнее, и отправилась забрать его со студии после окончания получасовой передачи. А мисс Гарроуби и мистеру Сирлу велела ехать вслед за ними в Сэлкотт-Сент-Мэри.
Пока они выбирались из Лондона, Сирл молчал — не желая мешать ей как водителю, предположила Лиз и была ему благодарна за это. Лишь когда по обеим сторонам дороги появились зеленеющие поля, он заговорил об Уолтере. Похоже, Куни был высокого мнения об Уолтере.
— Так вы не были на Балканах с Куни Уиггином?
— Нет. Я познакомился с Куни, когда он вернулся в Штаты. Но в письмах он много рассказывал о вашем кузене.
— Очень мило с его стороны. Только, понимаете, Уолтер мне не кузен.
— Правда? Но ведь мисс Фитч ваша тетя?
— Нет. Я не их родственница. Сестра Лавинии — Эмма — вышла замуж за моего отца, когда я была ребенком. И все. Мама — то есть Эмма — просто взяла папу осадой, если уж говорить правду. У него не оставалось выхода. Понимаете, Эмма вырастила Лавинию, и для нее было страшным ударом, когда Винни повзрослела и начала поступать по-своему. Особенно когда она допустила такое outre,[591] как стать автором бестселлера. Эмма начала оглядываться в поисках, к чему бы еще приложить руки и свои склонности наседки, и тут подвернулся мой отец, оставшийся без копейки, с маленькой дочкой на руках, и просто словно взывавший, чтобы его взяли под опеку. Так она стала Эммой Гарроуби и моей матерью. Я никогда не думала о ней как о мачехе, потому что никакой другой матери я не помню. Когда отец умер, Эмма переехала жить в Триммингс к тете Лавинии, а я, когда окончила школу, стала работать секретарем у тети. Отсюда и фраза о том, чтобы уложить ваши вещи.
— А Уолтер? Откуда он взялся?
— Он сын старшей сестры. Его родители умерли в Индии, и с тех пор тетя Лавиния воспитывала его. То есть с его пятнадцати лет или около того.
Сирл какое-то время молчал, явно пытаясь разобраться в услышанном.
Интересно, думала Лиз, почему она рассказала ему все это? Зачем объяснила, что у ее матери властная натура, хотя и дала понять, что властная в самом добром смысле слова. Неужели она, Лиз, нервничает? Она, которая никогда не нервничает и которую так трудно поразить. Из-за чего нервничать-то? Право же, нечего смущаться от присутствия красивого молодого человека. И в качестве просто Лиз Гарроуби, и в качестве секретаря мисс Фитч ей время от времени приходилось встречаться со многими красивыми молодыми людьми, но, насколько она помнит, это не производило на нее особого впечатления.
Лиз свернула с темной блестящей ленты шоссе на боковую дорогу. Свежий шрам последних местных достижений цивилизации остался позади, и они оказались в настоящем деревенском мире. Узенькие дорожки, безымянные и не связанные между собой, то и дело выбегали у них из-под колес, но Лиз без колебаний выбирала ту, которая была ей нужна.
— Как вы находите дорогу? — спросил Сирл. — Все эти мелкие проселки кажутся мне совершенно одинаковыми.
— Мне тоже. Но я проделываю этот путь так часто, что сейчас за мой мозг работают мои руки — так же, как мои пальцы знают клавиатуру пишущей машинки. Мысленно я не помню, как расположены клавиши, а пальцы знают, где какая находится. Вы бывали в этой местности?
— Нет, для меня здесь все внове.
— По-моему, скучная местность. Тусклая, серая. Уолтер говорит, что она представляет собой бесконечную перестановку одних и тех же семи предметов реквизита: шести деревьев и стога сена. Он говорит, что в официальных кругах графства действительно бытует фраза, гласящая: «Шесть деревьев и стог сена». — Лиз пропела эту фразу для своего пассажира. — А вот там, где на дороге виднеется горб, начинается Орфордшир. Он гораздо симпатичнее.
Орфордшир и правда оказался славным клочком земли. В сгущающихся сумерках его холмистые очертания все время менялись, сливались, расходились, и их комбинации были так красивы, что казались пригрезившимися во сне. Вскоре машина остановилась у конца вытянувшейся длинным языком плоской долины, и внизу они увидели разбросанные по ней огоньки и темные мазки деревенских крыш.
— Сэлкотт-Сент-Мэри, — как бы представляя, объявила Лиз. — Некогда красивая английская деревня, а теперь оккупированная территория.
— Оккупированная — кем?
— Теми, кого уцелевшие аборигены зовут «эти артисты». Для местных жителей, бедняг, это очень грустно. Тетю Лавинию они приняли, потому что она владелица «большого дома» и вовсе не является частью их реальной жизни. Кроме того, она живет тут так давно, что почти стала своей. Впрочем, «большой дом» никогда не считался частью деревни, так что не имеет значения, кто живет в нем. Беда началась, когда опустела мельница и какая-то фирма вознамерилась купить ее и превратить в фабрику. Марта Халлард услышала про это, купила мельницу, перехватив ее у всяких разных законников, и стала жить там. Все деревенские были в восторге и сочли, что они спасены. Им, конечно, не очень хотелось, чтобы какая-то актриса жила на мельнице, но иметь фабрику в своей милой деревушке им хотелось еще меньше. Бедняжки, если бы они могли предвидеть, что за этим последует.
Лиз тронула машину с места, и они поехали потихоньку вдоль склона, параллельно деревне.
— А потом за последние полгода из Лондона сюда все валом повалили, как бараны, — заметил Сирл.
— Откуда вы знаете?
— Я наблюдал такое на Побережье. Кто-то находит хорошее тихое местечко, и прежде, чем он успеет поставить уборную, его уже приглашают выбирать мэра.
— Угу. В каждом третьем доме этого поселка живет пришлый человек. Все степени благосостояния: от Тоби Таллиса — знаете, драматурга, у него красивый дом в стиле короля Якова[592] — до Сержа Ратова, танцора, который живет в перестроенной конюшне. Все варианты жизни во грехе, от Дини Паддингтон, к которой на уик-энд никогда дважды не приезжают одни и те же гости, до бедных старых Атланты Хоуп и Барта Хобарта, которые, благослови их Господь, живут во грехе вот уже, наверное, тридцать лет. Все степени таланта — от Сайласа Уикли, того, что пишет эти мрачные романы про деревенскую жизнь, от которых несет навозом и нескончаемым дождем, до мисс Юстон-Диксон, один раз в году печатающей книгу сказок для рождественской торговли.
— Звучит очень мило, — проговорил Сирл.
— Это непристойно, — возразила Лиз гораздо горячее, чем собиралась, и снова подумала: интересно, почему она так раздражена сегодня вечером? — Но если говорить о непристойности, — продолжала она, беря себя в руки, — боюсь, сейчас слишком темно и вы не сможете как следует рассмотреть Триммингс и оценить его по достоинству. Придется подождать до утра. Сейчас вы увидите только его силуэт на фоне неба.
Лиз подождала, пока молодой человек разглядывал вырисовывавшуюся на фоне вечернего неба полосу маленьких башенок и зубцов.
Особо прелестна оранжерея в готическом стиле, но при этом освещении ее не видно.
— Почему мисс Фитч выбрала этот дом? — спросил изумленный Сирл.
— Потому что она решила, что он прекрасен, — ответила Лиз, и в ее голосе прозвучала теплота. — Тетя Лавиния выросла в доме священника, понимаете, доме, построенном около тысяча восемьсот пятидесятого года. Так что ее глаза привыкли к викторианской готике. Знаете, если по-честному, она даже теперь не понимает, что в этом плохого. Она знает, что люди смеются над ее домом, но относится к их смеху совершенно философски — она действительно не понимает, почему они смеются. Когда тетя первый раз привела сюда Кормака Росса, своего издателя, он поздравил ее с тем, насколько дому подходит его название,[593] а она и понятия не имела, о чем он говорит.
— Ну, я вовсе не настроен наводить критику, пусть и на викторианскую готику, — сказал молодой человек. — Со стороны мисс Фитч было необыкновенно мило пригласить меня сюда, даже не заглянув в справочник. Почему-то в Штатах мы считаем англичан более осторожными.
— Дело не в осторожности англичан, дело в домашних расчетах. Тетя Лавиния пригласила вас под влиянием минуты, зная, что ей для этого не нужны никакие хозяйственные приготовления. Она уверена, что в доме есть достаточный запас простынь, чтобы застелить кровать для гостя, и достаточно еды, чтобы накормить его, и достаточно «рабочих рук», чтобы обеспечить ему комфорт, вот она и не колебалась. Вы не против, если мы обойдем гараж и занесем ваши вещи через боковой вход? От комнат прислуги до парадной двери ужасно далеко, суточный переход, да еще, увы, баронский холл посредине.
— А кто все это построил и почему? — поинтересовался Сирл, глядя вверх на возвышавшуюся над ними махину дома, пока они огибали его.
— Насколько я знаю, человек из Бредфорда. На этом месте стоял очень приятный раннегеоргианский дом — гравюра, на которой он изображен, висит в охотничьем кабинете, — но новый хозяин посчитал, что это строение имеет жалкий вид, и снес его.
Сирлу пришлось пронести свой багаж по уродливым коридорам, еле-еле освещенным. Коридорам, которые, как заявила Лиз, всегда напоминают ей дортуары школы.
— Поставьте чемоданы тут, — сказала она, показывая на черную лестницу, — кто-нибудь отнесет их. А теперь пойдемте в относительную цивилизацию, согреемся, выпьем и поищем Уолтера.
Она толкнула обитую зеленым сукном дверь и ввела гостя в переднюю часть дома.
— Вы тут на роликах катаетесь? — спросил он, когда они пересекали бессмысленно громадный холл.
Лиз ответила, что до этого она не додумалась, но что помещение очень удобно для танцев.
— Местные охотники устраивают тут свой ежегодный бал, — пояснила она. — Вам, возможно, все равно, но здесь меньше сквозняков, чем в зале Хлебной биржи в Уикхеме.
Лиз открыла дверь, и после серых пейзажей Орфордшира и мрачных темных коридоров они попали наконец в тепло и уют освещенной пылающим камином гостиной, уставленной старинной мебелью и пахнущей горящими дровами и нарциссами. Лавиния сидела в глубоком кресле, поставив свои маленькие ножки на край чугунной решетки. Растрепавшаяся копна ее волос, с выбившимися из-под шпилек прядями, разметалась по подголовнику. Напротив нее в своей любимой позе — локоть на каминной полке, нога на решетке — стоял Уолтер Уитмор. Увидев Уолтера, Лиз почувствовала прилив любви к нему и облегчение.
«Облегчение — почему?» — спросила она себя, слушая, как здороваются мужчины. Она же знала, что Уолтер будет дома. Отчего же облегчение?
Потому ли, что теперь она может переложить бремя светских забот на плечи Уолтера?
Однако светские обязанности были ее повседневной работой, и она легко справлялась с ней. Да и назвать Сирла «тяжким бременем» нельзя. Лиз редко приходилось встречать столь милого в обращении, столь нетребовательного человека. Откуда же эта радость, что она видит Уолтера, это абсурдное ощущение, что теперь наконец все будет хорошо? Как у ребенка, вернувшегося из чужого дома в привычную обстановку.
Лиз заметила радость, мелькнувшую на лице Уолтера, когда он приветствовал Сирла, и снова почувствовала прилив любви к жениху. Ничто человеческое не было ему чуждо, у него были недостатки, на его лице уже начали появляться морщины, а волосы стали отступать с висков, но это был живой Уолтер, реальный, а не символ внечеловеческой красоты, который явился сегодня утром из космоса.
Лиз с удовольствием отметила, что рядом с высоким Уолтером гость выглядит почти коротышкой. И туфли его, хоть они и были такими дорогими, увы, слишком бросались в глаза.
«Ну в конце концов, он же просто фотограф», — подумала Лиз и поймала себя на нелепом снобизме.
Неужели Лесли Сирл произвел на нее такое впечатление, что ей нужно защищаться от него? Конечно же нет.
Ничего необычного не было в том, что среди северян вдруг появилась красота утренней зари мира, и нечего удивляться, что эта красота заставляла вспоминать сказки о людях-тюленях и об их таинственных странностях. Молодой человек был просто красивым американцем скандинавского происхождения, проявлявшим недостаточный вкус в отношении своей обуви и большой талант в применении линз нужного типа. У нее, Лиз, не было ни малейшей необходимости осенять себя крестом или как-то иначе защищаться от его чар. Однако, несмотря на все это, когда ее мать за обедом спросила Сирла, есть ли у него родственники в Англии, Лиз почувствовала, что ее удивила сама мысль, что у него может быть что-то столь земное, как родственники.
Сирл ответил, что у него есть кузина. Больше никого.
— Мы не любим друг друга. Она художница.
— А что, разве живопись — это non sequitur?[594] — спросил Уолтер.
— О, мне даже нравится, как она пишет, — то, что я видел. Просто мы раздражаем друг друга, вот и не надоедаем один другому.
Лавиния спросила, что пишет кузина — портреты?
Пока они так разговаривали, Лиз подумала: интересно, написала ли когда-нибудь художница портрет своего кузена? Наверное, это очень приятно — иметь возможность взять кисть, коробку с красками и запечатлеть для собственного удовольствия красоту, которая иначе никогда не будет тебе принадлежать. Хранить ее, любоваться ею, когда захочется, — и так до самой смерти.
«Элизабет Гарроуби! — призвала она себя к порядку. — Еще чуть-чуть, и ты станешь вешать на стенку фотографии актеров!»
Но нет, здесь было что-то совершенно иное. Что-то более достойное порицания, чем любить… чем восхищаться творениями Праксителя. Если бы Пракситель когда-нибудь решил обессмертить бегуна с барьерами, этот атлет был бы как две капли воды похож на Лесли Сирла. Надо спросить как-нибудь Сирла, в какой школе он учился и не участвовал ли в беге с барьерами.
Лиз было немного обидно, что ее матери не понравился Сирл. Конечно, этого никто никогда не заподозрил бы, но Лиз слишком хорошо знала свою мать и могла с точностью микрометра определить ее тайную реакцию на любую ситуацию. Сейчас она не сомневалась, что под внешней вежливостью кипело и бурлило недоверие, как бурлит и клокочет лава под ласковыми склонами Везувия.
И Лиз была совершенно права. Когда Уолтер повел гостя показать ему его комнату, а Лиз пошла к себе, миссис Гарроуби принялась засыпать сестру вопросами об этом странном госте, которого та им навязала, о никому не известном человеке, за счет которого увеличилось число обитателей Триммингса.
— Откуда ты знаешь, что он действительно был знаком с Куни Уиггином? — приставала Эмма.
— Если нет, Уолтер очень скоро это обнаружит, — отвечала Лавиния рассудительно. — Не надоедай мне, Эм. Я устала. Это была ужасная вечеринка. Все орали, не умолкая.
— Если в его планы входит ограбление Триммингса, то завтра утром будет поздно обнаружить, что он вообще не был знаком с Куни. Кто угодно может сказать, что был знаком с Куни. Если уж на то пошло, все могут так сказать, а потом удрать с добычей. В жизни Куни Уиггина не было практически ни одного кусочка, который не являлся бы общественным достоянием.
— Не могу понять, почему ты так подозрительна по отношению к этому человеку. У нас тут часто бывали люди, о которых мы ничего не знали…
— Да, бывали, — мрачно подтвердила Эмма.
— И до сих пор все оказывались теми, за кого себя выдавали. Почему ты так выборочно подозрительна к мистеру Сирлу?
— Он слишком привлекателен, чтобы не быть опасным.
Это было типично для Эммы — избегать слова «красивый», заменить его притворно-компромиссным «привлекательный».
Лавиния заметила, что поскольку мистер Сирл будет гостить у них только до понедельника, масштабы опасности, которую он собой представляет, очень невелики.
— И если, как ты думаешь, это воровство, его ждет большое разочарование, когда он пройдется по Триммингсу. Вот так, экспромтом, я не могу назвать ничего, что стоило бы утащить, а потом волочь в Уикхем.
— Есть серебро.
— Знаешь, трудно поверить, что кто-то станет хлопотать, чтобы попасть на вечеринку к Кормаку, делать вид, что знаком с Куни, искать Уолтера — и все это для того, чтобы завладеть парой дюжин вилок, несколькими ложками и подносом. Почему просто темной ночью не взломать замок?
Убедить миссис Гарроуби, казалось, было невозможно.
— Наверное, очень удобно воспользоваться именем человека, который уже умер, если хочешь, чтобы тебя представили приличной семье.
— О, Эм! — проговорила Лавиния, громко рассмеявшись как над изреченной сентенцией, так и над чувствами, которые эту сентенцию вызвали.
Так что миссис Гарроуби оставалось, скрываясь за внешней любезностью, предаваться мрачным размышлениям. Конечно же, она боялась не за серебро Триммингса. Она опасалась того, что назвала «привлекательностью» молодого человека. Она не доверяла этой «привлекательности», как таковой, и испытывала ненависть к ней как к потенциальной угрозе ее дому.
Глава 3
Однако утром в понедельник Эмма вовсе не стала выгонять молодого человека из дома, как это предсказывала Марта Халлард. Утром в понедельник всем в Триммингсе — всем, кроме Эммы — казалось невероятным, что до прошлой пятницы они ничего не слышали о Лесли Сирле. В Триммингсе еще никогда не бывало гостя, который бы так слился с жизнью его домочадцев, как Сирл. И никогда не бывало человека, который сделал бы жизнь каждого из них столь до предела насыщенной.
Сирл обошел ферму с Уолтером, восхищаясь новыми, выложенными кирпичом дорожками, новым свинарником, новым сепаратором. В школьные годы Сирл проводил каникулы на ферме, поэтому он разбирался в хозяйстве. С другой стороны, молодой человек был очень покладист. Он терпеливо стоял на луговых тропинках, пока Уолтер делал заметки в своей записной книжке: как растет живая изгородь или как поют птицы — то, что в следующую пятницу он использует в своей радиопередаче. С одинаковым энтузиазмом Сирл фотографировал и подлинный сельский домик семнадцатого века, и сюрреалистические нагромождения Триммингса, придумывая, как передать основные достоинства и того, и другого. А сам Триммингс он комментировал столь остроумно, что Уолтер, сначала невольно расхохотавшись, вдруг на какой-то момент почувствовал неловкость. Этот милый молодой человек обладал, оказывается, гораздо более разносторонними познаниями, чем могло показаться при обсуждении сельскохозяйственных тем. Уолтер счел само собой разумеющимся то, что юноша ведет себя как послушный ученик, поэтому, глядя на его фотографии, он испытал смущение, словно с ним заговорила его собственная тень. Однако Уолтер тут же забыл об этом. Интровертом он не был.
Для склонной к самокопанию Лиз жизнь, напротив, превратилась внезапно в набор аттракционов, в калейдоскоп, где ни одна плоскость не оставалась вертикальной или горизонтальной дольше нескольких секунд, в место, где человек мгновенно погружался в вымышленную опасность или начинал вертеться в вихре разноцветных огней. Лиз с семи лет более или менее регулярно влюблялась, но замуж всегда хотела выйти только за Уолтера, причем ее герой одновременно был и Уолтером, и кем-то другим, сильно отличавшимся от него. Однако никогда раньше не ощущала она присутствия какого-либо персонажа из этого длинного ряда влюбленностей — от разносчика булок до Уолтера — так, как ощущала присутствие Лесли Сирла. Даже с Тино Треска, обладателем тоскующих глаз и тенора, превращавшего человеческое сердце в растаявший лед, даже с Треска, самой безумной из всех ее любовей, можно было на несколько минут забыть, что находишься в той же комнате, что и он. (Конечно, когда речь шла об Уолтере, в этом не было ничего удивительного: просто он находился рядом, они дышали одним воздухом, и это было приятно.) Но забыть, что Сирл находится тут же, было невозможно.
«Почему?» — спрашивала себя Лиз. Почему она не может этого забыть?
Это отнюдь не было влюбленностью — ее интерес, ее возбуждение. Если бы вечером в воскресенье, после проведенных вместе двух дней, он повернулся бы к ней и сказал: «Давай убежим, Лиз», она громко рассмеялась бы такому нелепому предложению. У нее не было никакого желания убегать с ним.
Но свет тускнел, когда он выходил из комнаты, и вновь разгорался, когда он возвращался. Лиз чувствовала каждое его движение — от того, как легким нажимом указательного пальца он включал радио, до того, как, подняв ногу, он подталкивал полено в камин.
Почему?
Она гуляла с ним по лесу, она показала ему деревню, и никогда это чувство не исчезало. Оно присутствовало в его мягкой, протяжной, вежливой речи, в этих серых смущающих глазах, которые, казалось, знали о ней слишком много. Для Лиз все мужчины-американцы делились на два класса: тех, кто обращался с вами, будто вы хрупкая старая леди, и тех, кто обращался с вами, будто вы просто хрупкое создание. Сирл принадлежал к первому классу. Он помогал Лиз перебираться через изгородь у перелазов и защищал от многочисленных опасностей, подстерегавших ее на деревенской улице. Он прислушивался к ее мнению, чем льстил ее самолюбию; подобное отношение в корне отличалось от поведения Уолтера, и Лиз это было приятно. Уолтер считал, что она достаточно взрослая, чтобы позаботиться о себе, но недостаточно взрослая, чтобы ей не давал советы Уолтер Уитмор, признанный оракул на Британских островах и Большей Части Заморских Земель. Сирл же, наоборот, был очень мило предупредителен.
Глядя, как он медленно ходит по церкви, осматривая ее, Лиз подумала, каким прекрасным товарищем он мог бы быть, если бы не это покалывающее волнение, это странное ощущение обманчивости.
Даже маловпечатлительная Лавиния, всегда наполовину живущая жизнью своей очередной героини, поддалась, как заметила Лиз, действию этой удивительной притягательной силы. Вечером в субботу, после обеда, Сирл сидел с Лавинией на террасе, Уолтер и Лиз гуляли по саду, а Эмма занималась хозяйственными делами. Каждый раз, когда они проходили под террасой, Лиз слышала тоненький, как у ребенка, голос своей тетки, радостно, как ручеек, журчащий в сумеречном свете восходящей луны. А утром в воскресенье Лавиния созналась Лиз, что никто никогда не внушал ей такого чувства отверженности, как мистер Сирл.
— Уверена, что в Древней Греции он был каким-то очень дурным человеком, — заключила Лавиния. И добавила, хихикнув: — Только не говори своей матери, что я так сказала!
Прочно окопавшаяся оппозиция в лице сестры, племянника и дочери сильно затрудняла для миссис Гарроуби дело освобождения Триммингса от присутствия этого молодого человека. Однако окончательно это дело было погублено рукой мисс Юстон-Диксон.
Мисс Юстон-Диксон жила в прилепившемся к склону позади деревенской улицы крошечном домике. У него было три окошка, асимметричные и каждое само по себе, и относительно друг друга, соломенная крыша, только одна труба. Все выглядело так, будто один хороший чих обрушит строеньице на головы его обитателей. Однако стремление домика рассыпаться уравновешивалось тем, что все в нем блестело. Оштукатуренные кремовые стены, светло-зеленые двери и окна, ослепительные, хрустящие муслиновые занавески, тщательно выметенная дорожка, выложенная красным кирпичом, вместе с добросовестной искривленностью всего, что в нормальным условиях должно было быть прямым, — все это создавало картину, которая по праву могла служить иллюстрацией к одной из книжек рождественских сказок самой мисс Юстон-Диксон.
В промежутке между сочинением своих ежегодных сказок мисс Юстон-Диксон баловалась самыми разными видами рукоделия. В школе она терзала дерево раскаленной иглой. Когда в моду вошло рисование пером, она с прилежанием стала заниматься этим, а потом перешла к лепке. Наступил период воска, за ним — плетения из соломки и, наконец, период ручного ткачества. Мисс Юстон-Диксон и сейчас иногда ткала, однако в действительности она была от природы обуреваема стремлением не творить, а переделывать. Любой голой поверхности грозила опасность со стороны мисс Юстон-Диксон. Она охотно брала обычный сливочник и низводила его функциональную простоту до кошмарной насмешки над Мейсеном. Во времена, когда разбирали, ликвидируя, чуланы и чердаки, она была истинным наказанием для своих друзей, которые, несмотря ни на что, очень ее любили.
Помимо того что она была опорой Женского Сельского института, неиссякаемым поставщиком вещей для благотворительных базаров, преданной полировщицей церковных плит, мисс Юстон-Диксон была непререкаемым авторитетом в том, что касалось Голливуда и всего с ним связанного. Каждый четверг в час дня она садилась в автобус, отправлявшийся в Уикхем, и проводила там вторую половину дня, истратив шиллинг и девять пенсов в Холле Обращенных Приверженцев Моисея, который служил кинотеатром. Если же еженедельный фильм обещал быть таким, какие она не любила — про укулеле, например, или про испытания и беды некоей служанки безупречного поведения, — мисс Юстон-Диксон опускала шиллинг и девять пенсов вместе с восьмью пенни — платой за автобус — в фарфоровую свинью-копилку, стоявшую на каминной полке. Эти сбережения помогали мисс Юстон-Диксон добираться до Кроума, когда в этой «столице» показывали какой-нибудь фильм, который ей особенно хотелось посмотреть.
Каждую пятницу она забирала в деревне свой «Бюллетень экрана» у продавца газет, прочитывала сообщения о фильмах на будущую неделю, отмечала те, которые намеревалась посмотреть, и прятала газету, чтобы потом, если понадобится, можно было навести любую справку. Не было ни одного самого маленького актера в обоих полушариях, о ком мисс Юстон-Диксон не могла быть дать сведения с точной ссылкой на источник. Она могла объяснить, почему эксперт по гриму из «Гранд Континентал» перешел к «Вильгельму» и, не менее точно, как был изменен левый профиль Мадлен Райс.
Вот так и случилось, что бедняжка Эмма, свернув по пути на вечернюю службу в церковь на чистую-пречистую, выложенную кирпичом дорожку, чтобы занести мисс Юстон-Диксон корзинку яиц, двигалась навстречу своему Ватерлоо.
Мисс Юстон спросила про вечеринку, на которой отмечали рождение «Любовника Морин» и литературное совершеннолетие Лавинии Фитч. Удачно ли прошла вечеринка?
Эмма полагала, что да. Вечеринки Росса и Кромарти всегда удаются. Достаточное количество напитков — вот все, что требуется, чтобы вечеринка удалась.
— Я слышала, у вас в этот уик-энд очень красивый гость, — проговорила мисс Юстон-Диксон не потому, что была любопытной, а скорее чтобы не допустить паузы в беседе. Это противоречило ее представлению о хороших манерах.
— Да. Лавиния подобрала его на вечеринке. Некто по имени Сирл.
— О-о, — протянула мисс Юстон-Диксон рассеянно-ободряюще, перекладывая яйца из корзинки в десятицентовую белую миску, которую она разрисовала цветами мака и колосьями.
— Американец. Говорит, что занимается фотографией. Любой, кто снимает, может заявить, что он — фотограф, и никто не сможет этого опровергнуть. Очень удобная профессия. Почти такая же удобная, как профессия «сиделки», до того как их стали регистрировать и вносить в справочники.
— Сирл? — повторила мисс Юстон-Диксон, и ее рука, державшая яйцо, застыла в воздухе. — Случайно, не Лесли Сирл?
— Именно, — ответила пораженная Эмма. — Его зовут Лесли. По крайней мере так он говорит. А что?
— Вы хотите сказать, что Лесли Сирл здесь? В Сэлкотт-Сент-Мэри? Но это просто невероятно!
— А что тут невероятного? — возразила Эмма, переходя к обороне.
— Но он же знаменитость!
— Половина жителей Сэлкотт-Сент-Мэри тоже знаменитости, — едко напомнила мисс Юстон-Диксон Эмма.
— Да, но они не фотографируют самых известных людей в мире! Знаете ли вы, что звезды Голливуда становятся на колени, упрашивая Лесли Сирла снять их? Есть кое-что, чего они не могут купить. Почет. Оказанную честь.
— Ну, мне думается, это реклама, — заявила Эмма. — Как вы полагаете, мы говорим об одном и том же Лесли Сирле?
— Ну конечно! Вряд ли существуют два Лесли Сирла, оба американцы и оба фотографы.
— Не вижу в том ничего невозможного, — фыркнула Эмма, умевшая стоять насмерть.
— Да нет, конечно же, это тот самый Лесли Сирл. Если вы не торопитесь на службу в церковь, мы можем прояснить все сомнения.
— Каким образом?
— У меня где-то есть его фотография.
— Лесли Сирла!
— Ну да. В «Бюллетене экрана». Я сейчас посмотрю, это займет не больше минуты. Звучит действительно захватывающе. Не могу припомнить более экзотической фигуры — и вдруг не где-нибудь, а в Сэлкотте!
Мисс Юстон-Диксон открыла дверцу выкрашенного желтой краской шкафа (украшенного изображениями цветов в баварском стиле) и вытащила оттуда аккуратные пачки сложенных «Бюллетеней».
— Ну-ка посмотрим. Она была напечатана года полтора назад, а может, и два.
Опытным движением она стала пропускать края страниц между большим и остальными пальцами, так что на мгновение оказывалась видна дата в углу каждого выпуска, и вытащила из пачки два или три номера.
— В конце каждого выпуска есть список, вроде оглавления, — пояснила она, бросив газеты на стол, — так что за минуту можешь найти все, что нужно. Так удобно! — Затем, когда требуемый выпуск сразу не обнаружился, добавила: — Но если вы из-за этого опоздаете к службе, оставьте все и заходите на обратном пути. Пока вы будете в церкви, я все просмотрю.
Но теперь ничто не могло заставить Эмму уйти отсюда раньше, чем она увидит эту фотографию.
— А, вот она! — воскликнула наконец мисс Юстон-Диксон. — Заметка называется «Красотки и оптика». Я понимаю, трудно требовать и информацию, и стиль за три пенса в неделю. Однако, если я правильно запомнила, статья была гораздо приличнее, чем заголовок. Вот. Тут несколько его работ, — не правда ли, снимок Лотты Марлоу очень удачный? — а тут, в верху страницы, видите, его автопортрет. Это ваш гость?
Снимок был сделан в странном ракурсе, с большим количеством странных теней. Скорее композиция, чем «портрет» в старом смысле слова. Но это несомненно был Лесли Сирл. Тот самый Лесли Сирл, который сейчас жил в «башенной» спальне в Триммингсе. Если, конечно, у него не было двойника, тоже Лесли, тоже Сирла, и они оба не были американцами и фотографами. Но на это даже Эмма не надеялась.
Она бегло просмотрела статью, которая, как справедливо заметила мисс Юстон-Диксон, была откровенным панегириком молодому человеку и его работам и вполне могла быть напечатана в «Тиэтр артс мантли».[595] В статье приветствовали его возвращение на Побережье, где он, как и всегда, собирался пробыть некоторое время, завидовали его полной свободе в остальное время года и описывали новые сделанные им портреты звезд, особенно портрет Дэнни Мински в роли Гамлета. «Слезы смеха, которые исторгнул у нас из глаз Дэнни, ослепили нас, и мы не разглядели этот профиль Форбса-Робертсона. Явился Сирл и показал нам его», — говорилось в статье.
— Да, — подтвердила Эмма, — это… — Она чуть была не сказала «тот тип», но вовремя спохватилась: — Это тот самый человек.
Нет, предусмотрительно заявила она, она не знает, сколько он пробудет, он гость Лавинии, — но мисс Юстон-Диксон безусловно увидится с ним до его отъезда, если это будет в человеческих возможностях.
— Если же нет, — решительно сказала мисс Юстон-Диксон, — передайте ему, пожалуйста, что я восхищаюсь его работой.
А вот этого-то Эмма вовсе и не собиралась делать. Она вообще не хотела говорить дома о том, что увидела. Эмма отправилась на службу и сидела в церкви на скамье, постоянном месте обитателей Триммингса; вид у Эммы был безмятежный и благожелательный, но чувствовала она себя совершенно несчастной. Этот тип был не только «привлекателен», он был личностью, и от этого еще более опасен.
У него была всемирная слава, которая, насколько понимала Эмма, могла соперничать со славой Уолтера. Несомненно, водились у него и деньги. Плохо было, когда приходилось бояться только его «привлекательности». Теперь выяснялось, что он — завидный жених. На его стороне оказывалось все.
Если бы можно было призвать все силы тьмы на голову Сирла, Эмма сделала бы это. Но она находилась в церкви, и приходилось пользоваться средствами, которые были под рукой. Поэтому она воззвала к Богу и его ангелам, прося уберечь Лиз от зла, оказавшегося у нее на пути. Это означало — от возможности того, что, когда придет время, Лиз не унаследует состояние Лавинии.
«Сохрани ее верной Уолтеру, — молилась Эмма. — И я… — Она попробовала придумать какой-нибудь выкуп, но в тот момент ничего в голову не пришло, и она только повторяла: — Сохрани ее верной Уолтеру», не добавляя к этой фразе никакого обещания и уповая на бескорыстную доброту Господа.
Вид дочери и Сирла, стоявших опершись на маленькую боковую калитку в саду Триммингса и хохотавших, как дети, отнюдь не успокоил Эмму и не укрепил ее веру в Господа. Возвращаясь из церкви домой, она по луговой тропинке подошла к ним сзади и была встревожена какой-то особой теплотой и юностью, которыми веяло от их веселости. То, что явно отсутствовало, когда Лиз и Уолтер бывали вместе.
— Что мне нравится больше всего — так это один-два ярда Ренессанса перед кусочком карниза Бордера, — говорила Лиз. Они явно играли в свою любимую игру — забавлялись по поводу безумств бредфордского магната.
— Как это он забыл про ров, а? — спрашивал Сирл.
— Наверное, он начинал жизнь копая канавы и не хотел, чтобы что-нибудь напоминало ему об этом.
— А я думаю, он не захотел тратить деньги, чтобы выкопать яму, а потом заполнить ее водой. Ведь он янки, правда?
Лиз «допускала», что в крови северных народов и жителей Новой Англии есть много общего. Тут Сирл увидел Эмму, поздоровался с ней, и они все вместе пошли к дому, не переставая играть в свою игру, нисколько не смущаясь присутствием Эммы и даже втягивая ее в свою забаву и призываяразделить удовольствие.
Эмма смотрела на смугловатое личико Лиз и пыталась вспомнить, когда она видела дочь такой оживленной, настолько переполненной радостью жизни. Чуть позже она вспомнила. Это было на Рождество, давным-давно. Тогда Лиз за один короткий час впервые увидела и снег, и свою первую рождественскую елку.
До сих пор Эмма ненавидела только красоту Сирла. Теперь она стала ненавидеть Лесли Сирла самого.
Глава 4
Эмма надеялась, что Сирл спокойно уедет раньше, чем откроются еще какие-нибудь его достоинства, но ее ждало разочарование. Сирл не скрывал, что приехал в Англию отдохнуть. У него не было ни родственников, ни близких друзей, которых он должен был бы посетить, у него был фотоаппарат, он намеревался вовсю использовать его, и, похоже, не было причин, почему бы ему не пожить в Триммингсе и не поснимать. Увидев почти нетронутую прелесть Орфордшира, Сирл объявил, что намерен найти хороший отель в Кроуме и сделать его базой своих вылазок. Но Лавиния немедленно заявила, что это нелепо. Он может жить в Триммингсе и совершать набеги так же далеко и с теми же результатами, что и из Кроума. Зачем ему каждый вечер возвращаться в отель и сидеть в компании случайных знакомых в гостиной отеля, когда он может возвращаться к ним, в уютную комнату в башне Триммингса?
Сирл, без сомнения, и так принял бы приглашение, но окончательным аргументом послужило предложение вместе с Уолтером сделать книгу. Потом они никак не могли вспомнить, кто первый высказал эту мысль — им мог оказаться и тот, и другой. Уолтер, расставшись с журналистикой, стал выдающимся радиокомментатором, и как результат союза одной из самых известных в Британии личностей и одного из лучших американских фотографов наверняка появится книга, которая, даст Бог, вызовет равный интерес и в Уэстон-сьюпер-Мер, и в Линчберге, штат Виргиния. Подобное партнерство должно обеспечить книге успех.
Так что вопрос об отъезде Сирла не возник ни утром в понедельник, ни во вторник, ни в один из дней в обозримом будущем. Похоже, он собирался жить в Триммингсе. И никто, кроме Эммы, не находил в этом ничего дурного. Лавиния предложила Сирлу пользоваться ее двухместным «роллсом» — он все равно простаивает в гараже, когда она работает, заявила она, — но Сирл предпочел взять напрокат маленькую дешевую машину у Билла Мэддокса, который держал гараж у въезда в деревню.
— Если я собираюсь таскаться по дорожкам, которые мало чем отличаются от русла ручья, мне нужна машина, над которой я не стану дрожать, — сказал Сирл. Лиз поняла, что это лишь способ вежливо отклонить предложение Лавинии, и этим молодой человек понравился ей еще больше.
Билл Мэддокс отозвался в деревне о Сирле хорошо: «Нос не задирает, но его не надуешь: поднял капот и все осмотрел, как будто всю жизнь продавал машины». Так что, когда вечером Сирл с Уолтером появился в «Лебеде», Сэлкотт-Сент-Мэри знала о нем все и готова была принять его, несмотря на его достойную порицания красоту. У новых жителей Сэлкотта, конечно же, не было предубеждения против красоты, и они без всяких колебаний приветствовали Сирла. Тоби Таллис только взглянул на него и тут же забыл про свою «королевскую семью», про комедию, которую только что закончил, про ту, что только что начал, про неверность Кристофера Хэртона (как он, Тоби, мог так ополоуметь, что поверил типу, тщеславие которого было столь патологическим, что он взял себе подобное имя!) и направился к скамье, на которой уселся Сирл, пока Уолтер пошел за пивом.
— Кажется, я видел вас в городе на вечеринке у Лавинии, — проговорил Тоби в своей лучшей манере, как бы прощупывая почву. — Моя фамилия Таллис, я пишу пьесы.
Скромность этой фразы всегда приводила самого Тоби в восхищение. Как если бы владелец трансконтинентальной железной дороги сказал: «Я вожу поезда».
— Здравствуйте, мистер Таллис, — ответил Лесли Сирл. — Какие пьесы вы пишете?
На какую-то минуту воцарилась тишина, потом Тоби вновь обрел дыхание, но, пока он искал слова, подошел Уолтер с пивом.
— Ну, — проговорил он, — я вижу, вы познакомились.
— Уолтер, — произнес Таллис, решивший держаться своей линии. Он наклонился к Уолтеру и многозначительно закончил: — Я встретил его!
— Встретил кого? — спросил Уолтер, который всегда помнил про винительный падеж.
— Человека, который никогда не слышал обо мне. Я наконец-то встретил его!
— И каковы ощущения? — спросил Уолтер, взглянув на Сирла и еще раз подумав, что в нем кроется что-то неуловимое для глаз.
— Восхитительно, мой мальчик, восхитительно. Совершенно неповторимое чувство.
— Если желаете знать, его зовут Сирл. Лесли Сирл. Друг Куни Уиггина.
Уолтер увидел, как тень сомнения набежала на серые рыбьи глаза Тоби Таллиса, и ясно смог проследить ход его мыслей. Если этот красивый молодой человек был другом Куни, имевшего международную известность, могло ли случиться, что он никогда не слышал о Тоби Таллисе, имевшем еще более международную известность? Уж не смеется ли он над Тоби?
Уолтер поставил кружки с пивом на стол, сел рядом с Сирлом и приготовился хорошо развлечься.
Он видел, как с другого конца комнаты Серж Ратов уставился на эту новообразовавшуюся группу. Ратов некогда был raison d'etre[596] и будущей звездой находившейся в зачаточном состоянии пьесы Тоби Таллиса, которая называлась «Послеполудень» и героем которой был фавн. Увы, в процессе рождения пьеса претерпела значительные изменения и превратилась в нечто, называвшееся «Сумерки». Там говорилось о маленьком официанте из Буа-де-Булонь (Булонского леса), и героя играл новоприбывший актер с австрийской фамилией и греческим темпераментом. Ратов так никогда и не пришел в себя от этой «измены». Сначала он пил до галлюцинаций от жалости к себе. Потом он пил, чтобы избавиться от боли, вызванной жалостью к себе в те часы, когда он бывал трезв. Потом его выгнали, потому что он стал невыносим и на репетициях, и на спектаклях. Потом он достиг последней стадии падения для балетного танцовщика — перестал упражняться. Так что теперь было отчетливо видно, как жировая ткань начала перекрывать его худобу и подтянутость. Только бешеные глаза Сержа жили прежней жизнью и горели огнем. В них, как встарь, светились решимость и воля.
Когда Тоби перестал приглашать его в свой дом в Сэлкотте, Ратов купил старую конюшню рядом с деревенской лавочкой, простую пристройку к торцу, и превратил ее в свое жилище. Совершенно неожиданно это оказалось для него спасением, потому что выгодная позиция рядом с единственной лавочкой в поселке сделала Сержа из человека, отвергнутого Тоби, в главного поставщика сплетен, — следовательно, в человека в своем праве. Жители деревни, растроганные его ребяческим поведением, обращались с ним без той сдержанности, которую они демонстрировали по отношению к другим пришельцам, и проявляли к Сержу ту же терпимость, что и к своим собственным «юродивым». Таким образом, Серж оказался единственным человеком в деревне, чувствовавшим себя одинаково свободно в обеих общинах. Никто не знал, на что он живет, ест ли он вообще или только пьет. Почти в любое время Ратова можно было найти облокотившимся на стойку почты, задрапированным в широкий балахон, глубокие складки которого падали с неизменным изяществом, а по вечерам он пил в «Лебеде», как и остальные обитатели деревни.
В последние несколько месяцев имело место некоторое сближение между Ратовым и Тоби, и ходили слухи, что Серж даже начал снова заниматься. А сейчас он уставился на прибывшего в Сэлкотт незнакомца, который привлек к себе внимание Тоби. Несмотря на «измену» и последующее падение, Тоби все еще оставался для Сержа его собственностью и его богом. Уолтер подумал, слегка забавляясь, как шокирован был бы бедный Серж, услышь он, как обращаются с его обожаемым Тоби. А Тоби к этому времени обнаружил, что Лесли Сирл — тот самый парень, который фотографировал мировых заменитостей, а потому утвердился в своих подозрениях, что Сирл достаточно хорошо знает, кто такой он, Тоби. Он был поражен, чтобы не сказать — уязвлен. Никто уже лет десять по крайней мере так грубо не обращался с Тоби. Однако чисто актерская потребность нравиться оказалась сильнее чувства обиды, и он пустил в ход все свои чары, пытаясь одержать победу над этим столь неожиданно объявившимся противником.
Наблюдая за действиями Тоби, старающегося очаровать Сирла, Уолтер думал, насколько неискоренимо прилипчив эпитет bounder[597] для определения личности человека. Когда он, Уолтер, был мальчиком, его школьные друзья употребляли это слово для обозначения человека, который носил воротнички «не того» фасона. Но конечно же, дело было совсем не в этом.
Человека делает способ мышления. Невежество. Толстокожесть. Это нечто не поддающееся исцелению, духовный астигматизм. И Тоби Таллис, после всех этих лет, увы, оставался bounder. Очень странная штука. При этом все двери мира, может быть за исключением Сент-Джеймсского дворца, распахивались перед Тоби Таллисом. Во время его поездок с ним обращались как с членом королевской фамилии, и он пользовался почти дипломатической неприкосновенностью. Он одевался у лучших портных и у великих мира сего приобрел сноровку вести себя в обществе. Во всем, кроме своей сути, он был прекрасно воспитанным, светским человеком. А по сути оставался bounder. Марта Халлард однажды сказала: «Все, что делает Тоби, всегда немного чересчур», и это прекрасно описывало суть проблемы.
Покосившись посмотреть, как воспринимает Сирл странное бормотание Тоби, Уолтер с радостью увидел, что тот с достаточно рассеянным выражением лица пьет свое пиво. Степень рассеянности, заметил Уолтер, была точно выверена. Чуть больше — и Сирла можно было бы обвинить в невоспитанности, чуть меньше — оказалось бы недостаточно, чтобы уязвить Таллиса. А так Тоби пришлось перестараться и тем самым поставить себя в дурацкое положение. Он лез из кожи вон, только что не жонглировал тарелками. Чтобы кто-то не реагировал на Тоби Таллиса — такое невозможно было перенести. Тоби вспотел. И Уолтер улыбался, уткнувшись в свою кружку, а Лесли Сирл был мил и вежлив и немного рассеян.
Между тем Серж Ратов продолжал глядеть на них с другого конца зала. Уолтер подсчитал, что Сержу не хватает еще двух порций, чтобы устроить скандал, и подумал: может быть, стоит допить свое пиво и уйти, прежде чем Серж подойдет и обрушит на их головы немыслимые обвинения на нечленораздельном английском языке. Однако человеком, подсевшим к ним, оказался не Серж, а Сайлас Уикли.
Уикли некоторое время наблюдал за ними, сидя у стойки бара, а теперь взял свою кружку, подошел к столу и поздоровался. Уолтер понимал, что для этого были две причины: во-первых, Сайлас был любопытен, как женщина, и во-вторых, все красивое притягивало его, вызывая при этом неодолимое отвращение. Уикли отрицал красоту, и его трудно было обвинить, потому что на этом отрицании он заработал целое состояние. Отрицание было искренним. Мир, который одобрял Уикли, — это, как говорила Лиз, мир «дымящегося навоза и нескончаемо хлещущих дождей». Но даже самые удачные пародии на стиль Уикли не могли повредить его популярности. Его турне с лекциями по Америке имело бешеный успех не столько потому, что серьезные читатели в Пеории и Падуке любили дымящийся навоз, сколько потому, что Сайлас Уикли прекрасно соответствовал своей роли. Он был худой как скелет, смуглый, высокий, говорил медленно, свистящим голосом, в котором звучала безнадежность, и все добрые дамы Пеории и Падуки мечтали забрать его к себе, откормить и привить более светлый взгляд на жизнь. Они были гораздо великодушнее, чем британские коллеги Уикли, которые считали его немыслимо скучным и чуть-чуть дураком. Лавиния, говоря о нем, всегда называла его «этот утомительный человек, который вечно рассказывает вам, что он учился в начальной школе-интернате» и полагала немного сумасшедшим. (Он, со своей стороны, называл ее «эта Фитч», как если бы говорил о преступнице.)
Уикли подошел к ним, потому что не мог находиться в стороне от ненавистной красоты Лесли Сирла, и Уолтер поймал себя на мысли: интересно, понимает ли это Сирл? Потому что Сирл, который с Тоби был само бесстрастное безразличие, теперь, похоже, был занят тем, что набрасывал лассо на враждебно настроенного Сайласа. Уолтер, наблюдая за почти женской сноровкой Сирла, готов был поспорить на что угодно, что через пятнадцать минут Сайлас будет заарканен и связан. Уолтер даже посмотрел на большие старые часы, которые висели на стене за стойкой, и решил засечь время.
Сирл проделал все на пять минут быстрее. Через десять минут он держал обиженного и упирающегося Уикли пойманным в петлю. А недоумение, отражавшееся в глубоко посаженных глазах Уикли, было даже более сильным, чем в рыбьих глазах Тоби. Уолтер почти расхохотался вслух.
А потом Сирл нанес последний комический штрих на всю сцену. В ту минуту, как оба — и Сайлас, и Тоби — изо всех сил старались привлечь к себе внимание Сирла, тот произнес своим тихим протяжным говорком: «Извините меня, пожалуйста, но я увидел друга», неторопливо поднялся и пошел к другу, который стоял у стойки. Другом оказался Билл Мэддокс, хозяин гаража.
Уолтер уткнулся в кружку с пивом, наслаждаясь выражением лиц своих приятелей.
Лишь потом, перебирая в уме происшедшее, он ощутил некоторый дискомфорт. Насмешка была очень мягкой, и к тому же разыграна очень легко, так что сущность ее оставалась завуалированной, но она была безжалостной.
А в тот момент Уолтер просто развлекался, глядя, как типично — каждый для себя — отреагировали обе жертвы на поведение Сирла. Сайлас Уикли проглотил остаток своего пива, оттолкнул от себя кружку жестом, исполненным самоотвращения, и, не сказав ни слова, вышел из паба. Он был похож на человека, который бежит от воспоминаний о том, как в какой-то затхлой комнате тайно обнимался с несчастной неряхой, на человека, которому тошно от собственной уступчивости. А что, вдруг подумал Уолтер, может быть, Лавиния права и Уикли в самом деле немного сумасшедший?
Тоби Таллис, напротив, никогда не знал, что такое отвращение к самому себе, и потому не отступал. Тоби просто собирал силы для последующей кампании.
— Он немного дикий, ваш юный друг, — заметил Тоби, глядя на Сирла, беседующего у стойки с Биллом Мэддоксом.
«Дикий» было определением, которое Уолтер употребил бы в отношении Лесли Сирла в последнюю очередь, но он понял, что Тоби нужно оправдать свое временное поражение.
— Вы должны привести его посмотреть Ху-Хаус.
Ху-Хаус был красивым каменным зданием, которое выглядело очень неожиданно в ряду розовых, кремовых и желтых фасадов Сэлкотта. Когда-то здесь был постоялый двор, а еще раньше, как поговаривали, из его камней было сложено аббатство, находившееся ниже по реке. Теперь Ху-Хаус представлял собой столь редкий экспонат, что Тоби, который обычно менял свое место жительства (домом это вряд ли можно было назвать) каждый год, вот уже несколько лет оставался ему верен.
— Он долго пробудет у вас?
Уолтер сказал, что они с Сирлом собираются вместе сделать книгу. Но еще не решили, в какой форме.
— «Кочуя по Орфордширу»?
— Что-то вроде этого. Текст мой, а иллюстрации — Сирла. Мы еще не придумали, что будет центральной темой.
— Рановато, не самое удобное время года, чтобы кочевать.
— Зато хорошо фотографировать. Пока все не потонуло в зелени.
— Может быть, ваш юный друг захочет сфотографировать Ху-Хаус, — произнес Тоби, взяв две кружки и с великолепной небрежностью направляясь к стойке.
Уолтер остался сидеть на месте и думал: интересно, сколько выпил Серж Ратов за то время, что он за ним наблюдает? Вначале ему не хватало двух порций, чтобы устроить скандал, — так решил Уолтер. Теперь, должно быть, он достиг критической точки.
Тоби поставил кружки на стойку, вступил в разговор сначала с хозяином, потом с Биллом Мэддоксом — и так, совершенно естественно, перешел к Сирлу. Это было проделано очень ловко.
— Вам нужно прийти посмотреть Ху-Хаус, — услышал Уолтер слова Тоби. — Он очень красив. Может быть, вы даже захотите сфотографировать его.
— Разве его не фотографировали? — спросил Сирл удивленно. Это было совершенно невинное удивление, недоумение, что такой красивый объект остался незапечатленным. Но для слушателей это означало: «Возможно ли, чтобы какая-то грань жизни Тоби Таллиса не была разрекламирована?»
Вопрос Сирла послужил искрой, воспламенившей Сержа.
— Да! — рявкнул он и вылетел из своего угла, как петарда. Подлетел к Сирлу, так что его искаженное яростью личико оказалось на расстоянии не больше дюйма от лица Сирла. — Его фотографировали! Его фотографировали десять тысяч раз самые великие фотографы в мире, и нечего позволять унижать его какому-то глупому любителю из страны, украденной у индейцев, даже если у него имеется красивый профиль и крашеные волосы и нет моральных устоев и…
— Серж! — прикрикнул Тоби. — Замолчи!
Однако Серж с искаженным лицом продолжал без перерыва извергать дикие вопли.
— Серж! Слышишь! Прекрати! — потребовал Тоби и слегка толкнул Ратова в плечо, как бы желая отодвинуть его от Сирла.
Это было последней каплей. Тонкий голос Сержа поднялся до визга, и полился нескончаемый поток брани, большая часть которой, к счастью, была произнесена на неразборчивом английском; однако она была пересыпана фразами на французском и испанском и сплошь усеяна эпитетами и описаниями удивительной свежести. «Ты, Люцифер со Среднего Запада!» было одним из лучших.
Когда Тоби взял его за шиворот, чтобы силком оттащить от Сирла, рука Сержа невольно отлетела в сторону, где на стойке ждала заново наполненная кружка Тоби. Еще бы доля секунды, и Рив, хозяин, успел бы ее спасти. Но Серж коснулся кружки, схватил ее и выплеснул содержимое в лицо Сирлу. Голова Сирла инстинктивно дернулась в сторону, пиво потекло у него по шее и плечу. Заорав от бессильной ярости, Серж поднял тяжелую кружку над головой, собираясь запустить ею в Сирла, но мощная кисть Рива сомкнулась у него на запястье. Кружка выпала из конвульсивно сжатой руки, а Рив позвал:
— Артур!
В «Лебеде» не было вышибалы, поскольку в этом никогда не возникало нужды. Но если необходимо было кого-нибудь урезонить, это делал Артур Теб. Артур работал скотником на ферме Сильверлейсов и был крупным, медлительным, добрым человеком, который сойдет с тропинки, только чтобы не наступить на червя.
— Пойдемте, мистер Ратов, — проговорил Артур, обнимая всем своим мощным, унаследованным от предков-саксов корпусом маленького упирающегося космополита. — Не стоит волноваться по мелочам. Это все джин, мистер Ратов. Я предупреждал вас. Не питье это для мужчины, мистер Ратов. А теперь пойдемте со мной и посмотрим, не будет ли вам лучше от глотка свежего воздуха. Думаю, будет.
Серж не собирался ни с кем и никуда идти. Он хотел остаться здесь и убить этого пришельца. Однако спорить с методами Артура еще не удавалось никому. Артур просто обнимал человека дружеской рукой и вел. Рука была как ствол березы, ее нажим — как напор оползня. Серж под этим нажимом пошел к двери, и они с Артуром вышли. Ни на мгновение не прекратил Серж извергать поток обвинений и оскорблений, и ни разу, насколько могли разобрать присутствующие, он не повторился.
Когда тонкий, визжащий голос замер за дверьми, все с облегчением зашевелились и снова обрели дар речи.
— Джентльмены, — произнес Тоби Таллис, — я приношу извинения от имени Театра.
Но это было сказано недостаточно непринужденно. Вместо того чтобы по-актерски легко замять неприятный инцидент, Тоби Таллис напомнил, что он говорит от имени Английского театра. Как сказала Марта, все, что делал Тоби, было немного чересчур. Прошелестел веселый шепоток, все улыбнулись, но слова Тоби только усилили смущение жителей деревни.
Хозяин промакнул плечо Сирла полотенцем, которым он вытирал стаканы, и предложил пройти в жилое помещение за баром, где можно промыть чистой водой пиджак Сирла, чтобы убрать запах пива, пока он не впитался. Но Сирл отказался. Он вел себя очень мило, но, похоже, ему хотелось уйти. Уолтер подумал, что у него немного больной вид.
Они пожелали доброго вечера Тоби, который все еще объяснял темперамент Сержа с точки зрения Театра, и вышли. Вечер был теплый.
— Часто он так шумит? — спросил Сирл.
— Ратов? Да он и раньше устраивал сцены, но такой — нет. До этого я никогда не видел, чтобы он применял физические меры воздействия.
Они встретили Артура, возвращавшегося к прерванному занятию, и Уолтер спросил, что стало с нарушителем спокойствия.
— Убежал домой, — ответил Артур, широко улыбаясь. — Полетел как стрела, выпущенная из лука. Мог бы зайца убить. — И пошел к своему пиву.
— Для обеда еще рановато, — сказал Уолтер. — Давайте вдоль реки и потом по луговой дорожке — домой. Простите за скандал, но, наверное, вы в своей работе привыкли к разным темпераментам.
— Ну, меня, конечно, обзывали по-всякому, но до сих пор никто ничем в меня не бросал.
— Могу поклясться, что и «Люцифером со Среднего Запада» до этого никто не догадался вас назвать. — Уолтер остановился, облокотился на перила моста под Милл-Хаус и стал смотреть на отражение вечерней зари в водах Рашмер. — Быть может, старинная поговорка права и невозможно любить, не теряя головы. Когда испытываешь к кому-нибудь такую привязанность, как Серж к Тоби Таллису, наверное, перестаешь здраво судить о предмете.
— «Здраво»? — едко заметил Сирл.
— Да, все теряет свои истинные пропорции. Что, как мне кажется, является утратой здравомыслия.
Сирл долго молчал, уставившись на гладкие воды реки, которая медленно текла в сторону моста, а потом ударялась о него и начинала неожиданно истерично бурлить под ним, как всякая вода, наткнувшаяся на препятствие на своем пути.
— Здраво, — повторил Сирл, глядя на то место, где река теряла свободу и засасывалась в дренажную трубу.
— Я не говорю, что этот парень сумасшедший, — продолжал Уолтер. — Просто он утерял здравый смысл.
— А здравый смысл — такое уж необходимое качество?
— Изумительное качество.
— Ничего великого не родилось из здравого смысла, — заметил Сирл.
— Напротив. Отсутствие здравого смысла виновато практически во всяком зле в жизни человека — во всем, начиная с войн и кончая нежеланием ездить в автобусах. Я вижу свет в Милл-Хаус. Должно быть, Марта вернулась.
Они посмотрели вверх на нависшую над ними светлую массу дома, блестевшую в начинающихся сумерках, как блестит бледный цветок. Ту сторону дома, которая смотрела на реку, заливал свет из окна. В еще не совсем погасшем свете дня он казался ярко-желтым.
— Именно такой свет любит Лиз, — произнес Сирл.
— Лиз?
— Она любит, когда при дневном свете освещение кажется золотым. До того как темнота превратит его в белое.
Уолтеру впервые пришлось подумать о Сирле в связи с Лиз. До сих пор ему и в голову не приходило думать о них вместе, потому что он ни в коей мере не испытывал собственнических чувств по отношению к Лиз. Такое отсутствие собственничества можно было бы счесть добродетелью, не проистекай оно из того факта, что Уолтер воспринимал Лиз как нечто само собой разумеющееся. Если бы каким-либо гипнотическим способом можно было вытащить наружу глубинное подсознание Уолтера, обнаружилось бы, что он считает, будто Лиз прекрасно может позаботиться о себе. Конечно, сознательное мышление Уолтера шокировала бы даже тень такого соображения, но поскольку он совершенно не был склонен к самоанализу и почти не знал, что такое застенчивость (черта, позволявшая ему работать на радио, — то, что так восстанавливало против него Марту и одновременно делало его любимцем британской публики), самое большее, до чего простиралось его сознательное мышление, — это неколебимая уверенность, что Лиз его любит.
Уолтер знал Лиз так давно, что она уже ничем не могла его удивить. Естественно, он считал, что ему все известно о Лиз. Однако он не знал такой простой мелочи — что ей нравится искусственное освещение днем.
А пришелец Сирл узнал об этом.
Более того, запомнил.
Легкая рябь прошла по гладким водам чувств самодовольного Уолтера.
— Вы знакомы с Мартой Халлард? — спросил он.
— Нет.
— Это надлежит исправить.
— Я, конечно, видел ее на сцене.
— О, в чем?
— В пьесе, которая называлась «Прогулка в темноте».
— А, да. Марта была хороша в ней. Мне думается, это одна из ее лучших ролей, — произнес Уолтер и не стал развивать эту тему. Ему не хотелось говорить о «Прогулке в темноте». «Прогулка в темноте» пробуждала воспоминание о Марте Халлард, но к нему примешивалось воспоминание о Маргерит Мэрриам.
— Наверное, сейчас зайти неудобно? — спросил Сирл, глядя вверх на лившийся из окна свет.
— Слишком близко время обеда. Марта не тот человек, к которому легко просто так зайти. Подозреваю, что именно поэтому она и выбрала уединенный Милл-Хаус.
— Может быть, завтра Лиз отведет меня и представит.
Уолтер почти сказал: «Почему Лиз?» — но вспомнил, что завтра пятница и он весь день будет в городе. Пятница была днем его радиопередачи. Сирл помнил, что завтра Уолтера здесь не будет, а он сам забыл. Еще раз прошла легкая рябь.
— Угу. Или мы можем пригласить ее на обед. Она любит хорошую еду. Ладно, наверное, нам пора идти.
Но Сирл не двигался с места. Он смотрел на ряд ив, росших по краю гладкой поверхности темной, со свинцовым отблеском воды.
— Нашел! — сказал он.
— Что — «нашел»?
— Тему. Связующее звено. Мотив.
— Для книги, вы имеете в виду?
— Да. Река. Рашмер. Как мы раньше не подумали об этом?!
— Река! Превосходно! Как же это мы?! Наверное, потому, что она не целиком орфордширская река. Но конечно же, это прекрасное решение. Такое много раз делалось для Темзы, и для Северна. Не вижу, почему бы такому подходу не сработать и для небольшой Рашмер.
— Она даст разнообразие, необходимое для книги?
— Несомненно, — ответил Уолтер. — Лучше и быть не может. Она начинается в холмистой местности, сплошные овцы, и каменные стенки, и острые очертания. Потом немного пасторали: фермы с красивыми домиками, большие сараи, и английские деревья в лучшем виде, и деревенские церкви, похожие на соборы. Потом Уикхем, квинтэссенция английских торговых городков. Виллан, который когда-то шел из такого города в Лондон, чтобы поговорить с королем Ричардом, — тот же самый человек, который сегодня гонит овец к поезду, чтобы отправить в Аргентину. — Рука Уолтера потянулась к нагрудному карману, где лежала его записная книжка, но тут же опустилась. — Потом болота. Знаете, косяки гусей на вечернем небе. Огромные кучевые облака и волнующаяся трава. Потом порт — Мер-Харбор. Почти Голландия. Полный контраст тому, что осталось позади. Город с симпатичными оригинальными постройками и гавань с рыбачьими лодками и каботажными судами. Чайки, и отражения, и фасады. Сирл, это замечательно!
— Когда начнем?
— Ну, для начала — как мы будем двигаться?
— А лодку она вынесет?
— Только плоскодонку. Или скиф, там, где она расширяется под мостами.
— Плоскодонка, — с сомнением произнес Сирл. — Это с которой стреляют гусей?
— Приблизительно.
— Звучит не очень многообещающе. Лучше бы каноэ.
— Каноэ! Байдарка!
— А вы справитесь с ней?
— Я греб на ней однажды в детстве на декоративном пруду. И все.
— Ладно, по крайней мере главное вы, надеюсь, схватили. Потом быстро вспомните это упражнение. А как далеко отсюда мы можем начать — на каноэ? Слушайте, это замечательная идея! Она даст нам даже название: «На каноэ по Рашмер». Заглавие, в котором слышится легкое покачивание. Вроде «Барабанов могавков» или «Лампового масла в Китае».
— Первый отрезок пути нам придется пройти пешком. Там, где овцы. Дойти до Отли, а от Отли, думаю, речка возьмет каноэ. Хотя, видит Бог, я не уверен, что буду чувствовать себя в каноэ как дома. Небольшой груз мы можем перенести на плечах от истока реки — это, как мне говорили, родник где-то посреди поля — до Отли или Кейпла, а оттуда до моря пойдем на веслах. Завтра в городе я зайду в Кормаку Россу и расскажу ему про эту идею. Посмотрим, что он сможет предложить. Если ему наш план не понравится, у меня есть полдюжины других, которые ухватятся за него. Но Росс целиком в руках у Лавинии, так что мы сможем прекрасно его использовать, если он согласится участвовать в игре.
— Конечно согласится, — проговорил Сирл. — Вы же здесь в графстве — как персона королевских кровей, не так ли?
Если в шутке и скрывалось какое-то недоброе чувство, это было незаметно.
— Я бы предложил эту идею Дебхему, — сказал Уолтер. — Они делали мою книгу о жизни на фермах. Но я поссорился с ними из-за иллюстраций. Они были отвратительны, и книга плохо продавалась.
— Наверное, это было до того, как вы ушли на радио?
— О да. — Уолтер оттолкнулся от перил моста и пошел в сторону луговой тропинки и обеда. — Они отказались печатать мои стихи после книги о фермах, так что теперь я могу этим воспользоваться.
— Вы и стихи пишете?
— А кто не пишет?
— Я, например.
— Ну и балда! — добродушно бросил Уолтер.
И они пошли домой, обсуждая, как и какими путями они станут спускаться по Рашмер.
Глава 5
— Поедемте в город, зайдем вместе к Россу, — предложил на следующее утро за завтраком Уолтер.
Но Сирл захотел остаться в деревне. Это было бы кощунством, заявил он, провести хоть один день в Лондоне, когда в английской природе лопаются почки и все начинает зеленеть. Кроме того, он не знаком с Россом. Будет лучше, если Уолтер сам расскажет издателю об их предложении, а уж потом и он вступит в дело.
И Уолтер, хотя и был разочарован, не стал задерживаться на анализе истинной причины этого разочарования.
Однако, когда он в машине ехал в город, его мысли значительно меньше, чем обычно, были заняты радиопередачей и чаще, чем обычно, возвращались в Триммингс.
Он зашел к Россу и изложил ему план «На каноэ по Рашмер». Росс изобразил восторг и позволил выторговать у себя дополнительно два с половиной процента по предварительному соглашению. Но конечно, ничего нельзя считать решенным, подчеркнул Росс, пока он не посоветуется с Кромарти.
Все вокруг полагали, что Росс взял Кромарти в партнеры ради забавы, ради благозвучия. Он прекрасно справлялся с делами сам, и с первого взгляда казалось, что у него нет причин связывать себя с партнером, тем более с таким бесцветным партнером, как Кромарти. Но в Кормаке текло многовато западношотландской крови — он с трудом говорил «нет». Он любил нравиться. И он использовал Кромарти как дымовую завесу. Когда автора можно было принять с распростертыми объятиями, это были объятия Кормака Росса. Когда же автора, увы, отклоняли, это делалось вследствие непримиримости Кромарти. Кромарти однажды заявил Россу в припадке гнева: «Вы могли бы, по крайней мере, показывать мне книги, которые я отклоняю!» Но это был исключительный случай. Как правило, те книги, которые ему надлежало отклонить, Кромарти читал.
Теперь, выслушав предложение напечатать книгу нынешнего любимца британской публики, Росс произнес фразу о необходимости проконсультироваться со своим партнером чисто автоматически. При этом, однако, его круглое лицо сияло от удовольствия, и он повел Уолтера на ленч и угостил его бутылкой «Романе-Конти», что было напрасной тратой денег, так как Уолтер любил пиво.
Переполненный добрым бургундским и надеждой на чеки в перспективе, Уолтер отправился на радио, но его мозг опять стал выкидывать трюки и возвращаться мыслями в Сэлкотт, вместо того чтобы, как обычно, наслаждаться пребыванием в студии.
На половину своего времени в эфире Уолтер всегда приглашал гостя. Кого-нибудь, так или иначе связанного со Свежим Воздухом. Этого товара у Уолтера имелся такой запас, что можно было объявлять монополию Уитмора. Уолтер представлял Свежий Воздух в лице браконьера, овцевода из дальних районов Австралии, знатока птиц, смотрителя Сатерленда, серьезной дамы, которая путешествовала, помещая желуди в банки, попадавшиеся ей по пути, молодой дилетантки, охотившейся с соколами, и любого другого, кто оказывался под рукой и хотел выступить. Вторую половину своего эфирного времени Уолтер говорил сам.
Сегодня его гостем был ребенок, у которого была ручная лиса, и Уолтер испугался, обнаружив, что мальчишка ему не нравится. Уолтер любил своих гостей. Он как бы пригревал их, защищал их, испытывая по отношению к ним чувство «все-мы-братья». Он никогда не любил человечество так всеохватно и глубоко, как во время Получаса, когда он беседовал со своими гостями. И теперь, ощутив свое отстраненно-критическое отношение к Гарольду Диббсу и его глупой лисе, Уолтер расстроился. Уолтер заметил, что у Гарольда недоразвит подбородок и, увы, он сам похож на лисицу. Может быть, лиса потому и жила у него, что чувствовала их родство. Уолтер устыдился этой мысли и попытался в виде компенсации придать своему голосу больше теплоты, чем следовало, так что его интерес к гостю выглядел несколько натянуто. Гарольд Диббс и его лиса были первой неудачей Уолтера.
И его собственная беседа тоже прошла недостаточно успешно, чтобы стереть воспоминание о Гарольде. Беседа была на тему «Что сделали земляные черви для Англии». «Для Англии» было типично уитморовским штрихом. Другие могли рассказывать о Месте Земляных Червей в Природе, и всем было наплевать и на земляных червей, и на природу. А Уолтер насадил своего червя на шекспировский крючок и так мягко водил удочкой, что слушатели буквально видели кишащие легионы слепых созданий, превративших серую скалу в Западном море в Зеленый Рай, именуемый Англией. Завтра утром, конечно, с первой же почтой с территории, что лежит севернее границы между Шотландией и Англией, придет пятьдесят семь писем, в которых будет указываться, что в Шотландии тоже есть земляные черви. Но это будет просто еще одним доказательством способности Уолтера творчески подойти к теме.
Уолтер имел обыкновение, ведя передачу, втайне обращаться к какому-нибудь определенному человеку — трюк, помогавший ему добиваться непосредственного, дружеского тона, который и был фирменным знаком Уолтера. Это не был реально существующий человек, и Уолтер никогда не представлял себе детально своего воображаемого слушателя. Просто он решал, что сегодня будет говорить «для старой дамы из Лидса», или «для маленькой девочки, лежащей в больнице в Бриджуотере», или «для смотрителя маяка в Шотландии». Сегодня он впервые подумал, что будет говорить для Лиз. Лиз всегда слушала его передачи — само собой разумеется, будет слушать и эту, — но воображаемый слушатель Уолтера настолько был частью представления, которое он давал, что ему раньше и в голову не приходило использовать Лиз как человека, к которому он обращался. Однако сегодня, сейчас, какая-то таинственная потребность ощутить свою связь с Лиз, увериться, что она рядом, заставила Уолтера отказаться от придуманного слушателя, и он обращался к Лиз.
Однако передача оказалась не столь удачной, как хотелось бы. Сама мысль о Лиз отвлекала внимание Уолтера от текста. Он вспоминал вчерашний вечер на реке, темнеющие ивы и единственную золотую звездочку на стене Милл-Хаус. Свет, бледно-желтый, как нарцисс, — «такой, какой любит Лиз». Внимание Уолтера уходило в сторону от земляных червей и от Англии, он говорил с запинками, так что иллюзия спонтанности оказалась утерянной.
Удивленный и слегка раздосадованный, но все еще не слишком встревожившийся, он расписался в книге автографов, которую прислали на студию, разобрался, что делать: а) с приглашением присутствовать на крестинах, б) с просьбой прислать один из его галстуков, в) с девятнадцатью предложениями появиться в его программе «Свежий Воздух» и г) с семью просьбами дать взаймы денег, — и направил свои стопы домой. Потом ему в голову пришла одна мысль, он остановил машину, зашел и купил коробку шоколадных драже для Лиз. Когда он совал коробку в отделение для перчаток, то подумал, что, пожалуй, давно ничего Лиз не привозил. А ведь приятно — делать подарки. Надо практиковать это почаще.
Только когда город с его большим движением на улицах остался позади и впереди простерлась римская прямизна магистрального шоссе, на котором сейчас было мало машин, мысли Уолтера переключились на того, кто прятался за образом Лиз: на Сирла. Сирл, «Люцифер со Среднего Запада», по выражению бедного Сержа. Интересно, почему Люцифер? Люцифер, князь тьмы. В воображении Уолтера Люцифер всегда представал в образе великолепной, сверкающей фигуры шести с половиной футов ростом. Совсем не похоже на Сирла. Почему Сирл вызвал образ Люцифера в горячечном мозгу Сержа Ратова?
Люцифер. Падший ангел. Красота, обернувшаяся злом.
Перед мысленным взором Уолтера стоял Сирл, который вместе с ним обходил ферму: светлая голова без шляпы, волосы развеваются на ветру, руки засунуты глубоко в карманы чисто английских спортивных брюк. Люцифер. Уолтер почти рассмеялся вслух.
Однако некоторая странность присутствовала, конечно, в красоте Сирла. Какая-то, как бы это сказать, неуместная черточка. Что-то не относящееся к миру мужчин.
Может быть, это и подсказало образ падшего ангела воспаленному мозгу Сержа?
Как бы то ни было, Сирл, похоже, славный парень, и они вместе будут делать книгу. И Сирл знает, что Уолтер обручен с Лиз, так что он не…
Уолтер не довел мысль до конца, даже наедине с самим собой. И ему не пришло в голову подумать над тем, как красота, напоминающая о падших ангелах, может воздействовать на молодую женщину, которая собирается выйти замуж за комментатора Би-би-си.
Уолтер ехал домой на большей скорости, чем всегда. Он поставил машину в гараж, достал из отделения для перчаток любимые сласти Лиз и пошел вручить их ей и получить взамен поцелуй за проявленное внимание. У него были, кроме того, и другие хорошие новости: Кормаку Россу понравилась идея книги и он готов был хорошо заплатить за нее. Уолтер едва мог дождаться момента, когда войдет в гостиную.
Когда он проходил через баронский холл, там было тихо и холодно. Несмотря на анахронизм — обитые сукном двери, — пахло брюссельской капустой и тушеным ревенем. В гостиной, теплой и веселой, как всегда, находилась только Лавиния. Она сидела поставив ноги на каминную решетку и разложив на коленях свежий выпуск претендующего на интеллектуальность еженедельника.
— Странное дело, — произнесла Лавиния, поднимая глаза от «Уотчмена». — Зарабатывать деньги писательством — это что, аморально?
— Хэлло, тетя Вин. А где остальные.
— Этот листок благоговел перед Сайласом Уикли, пока тот не составил себе состояние. Эм наверху, полагаю. А остальные еще не вернулись.
— Не вернулись? Откуда?
— Не знаю. Они уехали после ленча в этой ужасной маленькой машине Билла Мэддокса.
— После ленча…
— «Ловкое повторение приема, которому столь же не хватает утонченности, как рекламе». Ну до чего тошнотворно! Да, мне сегодня во второй половине дня не нужна была Лиз, и они уехали. День был прекрасный, не правда ли?
— Но до обеда остается всего десять минут!
— Угу. Похоже, они опоздают, — произнесла Лавиния, пробегая глазами избиение Сайласа Уикли.
Значит, Лиз не слышала радиопередачи! Он обращался к ней, а она даже не слушала. Уолтер был ошеломлен. Тот факт, что старая леди в Лидсе, ребенок в Бриджуотерской больнице, смотритель маяка в Шотландии тоже не слушали, не имел значения. Лиз всегда слушала. Это был ее долг — слушать. Он — Уолтер, ее жених, и, если он обращается ко всему миру, ей полагалось бы слушать. А она уехала с Лесли Сирлом, и, выходит, он говорил в пустоту. Она отправилась гулять, не подумав, что это пятница, день его радиопередачи, уехала Бог знает куда, с Сирлом, парнем, которого знает всего неделю, и они застряли где-то. Ее здесь нет, она даже не может получить шоколад, привезенный ей в подарок. А он специально заезжал, чтобы купить его. Ужасно.
Потом приехал викарий. Все забыли, что он приглашен к обеду. Уж такой это был человек. И Уолтер провел еще пятнадцать минут с земляными червями, хотя был уже сыт ими по горло. Викарий слышал передачу и пришел от нее в восторг. Ни о чем другом говорить он не мог.
Вошла миссис Гарроуби, с достойным похвалы присутствием духа поздоровалась с викарием и ушла разогреть фасоль из банки, добавочное блюдо между рыбой и жарким, и приготовить печенье к тушеному ревеню.
Отсутствующая пара опаздывала на двадцать минут, и миссис Гарроуби решила не ждать их. К этому моменту мысли Уолтера приняли другое направление: он решил, что Лиз погибла. Она никогда не опаздывала к обеду. Она лежит где-нибудь в канаве. Может быть, машина на ней. Сирл — американец, а хорошо известно, что все американцы — отчаянные лихачи и не могут спокойно ездить по английским дорогам. Возможно, на повороте они врезались во что-нибудь.
Уолтер болтал ложкой в супе, сердце его сжималось от ужаса, но приходилось слушать, как викарий говорит о демонологии. Уолтер уже не раз слышал все, что викарий мог сказать по поводу демонологии, но это хоть позволяло уйти от обсуждения червей. Все-таки облегчение.
Когда сердце Уолтера совсем сжалось и стало похоже на сморщенный, почерневший гриб, в холле послышались веселые голоса Сирла и Лиз. Они влетели, запыхавшиеся, сияющие, несколько развязно выпалили извинения за свое опоздание и похвалили семейство за то, что их не стали ждать с обедом. Лиз представила Сирла викарию, но не подумала даже сказать хоть одно слово Уолтеру, прежде чем, как умирающий от голода беженец, наброситься на суп. Они рассказали, что объездили все графство. Сначала они осмотрели аббатство Твеллс и прилегающие деревни, потом они встретили Питера Мэсси и пошли взглянуть на его лошадей. Затем подбросили его в Кроум. Потом они пили чай в Кроуме, в «Звезде и Подвязке», и уже были на пути домой, когда наткнулись на кинотеатр, в котором показывали «Великое ограбление поезда». Конечно, они были не в силах упустить случай и не посмотреть «Великое ограбление». Им пришлось просидеть несколько коротких документальных лент до того, как началось «Великое ограбление поезда», потому-то они и опоздали, — но подождать стоило.
Рассказ о «Великом ограблении поезда» занял большую часть рыбной перемены.
— Как прошла передача, Уолтер? — спросил Лиз, протягивая руку за хлебом.
Плохо было уже то, что Лиз несказала: «Я в отчаянии, оттого что пропустила твою передачу, Уолтер», но то, что она уделила передаче лишь малую толику своих мыслей — ту, что не была занята наполнением тарелочки для хлеба, — оказалось последней соломинкой.
— Викарий расскажет, — ответил Уолтер. — Он слушал.
Викарий рассказал con amore.[598] Но ни Лиз, ни Лесли Сирл, как заметил Уолтер, не слушали его как следует. Один раз во время повествования, передавая что-то Сирлу, Лиз встретилась с ним взглядом и быстро, дружески улыбнулась ему. Они были очень довольны собой, друг другом и тем, как провели день.
— Что сказал Росс про книгу? — спросил Сирл, когда викарий наконец замолчал.
— Он пришел в восторг от этой идеи, — ответил Уолтер, страстно жалея, что затеял совместную работу с Сирлом.
— Вы слышали, что они задумали, викарий? — спросила миссис Гарроуби. — Они собираются сделать книгу о Рашмер. От истоков до моря. Уолтер напишет текст, а мистер Сирл его проиллюстрирует.
Викарий одобрил идею и отметил классичность ее формы. Как они собираются путешествовать — на своих двоих или на осле? — спросил он.
— Пешком примерно до Отли, — ответил Уолтер, — а оттуда по воде.
— По воде? Но в Рашмер, особенно в ее верхнем течении, полно коряг, — удивился викарий.
Ему сообщили, что они пойдут на каноэ. Викарий счел каноэ подходящим судном для такой реки, как Рашмер, но поинтересовался, где они возьмут его.
— Я сегодня говорил об этом с Кормаком Россом, — сказал Уолтер, — и он обещал узнать: может быть, у Килнера, на маленькой верфи в Мер-Харбор, оно найдется. Они строят все на свете. Джо Килнер был конструктором этой складной штуки — плота с палаткой, — на которой Мэнселл прошел по Ориноко во время своего последнего путешествия. Джо потом говорил, что если бы вовремя подумать — он сделал бы плот глиссирующим. Сирл, я хотел предложить, чтобы мы с вами завтра поехали в Мер-Харбор и повидались с Килнером, — у вас нет других планов?
— Отлично, — отозвался Сирл. — Отлично.
Потом викарий спросил Сирла, любит ли тот рыбачить. Сирл не любил, но викарий любил. Вторым после демонологии коньком викария была ловля на искусственную мушку. Поэтому все остальное время обеда они слушали рассуждения викария о мушках с отдельным указанием того, как их можно использовать при смешивании цемента, изготовлении жевательной резинки и штопке носков — вопросы, имеющие чисто теоретический интерес. При этом незанятая часть мыслей всех присутствующих работала каждая в своем направлении.
Уолтер решил, что маленький белый пакетик с шоколадом будет лежать на столе в холле, где он его оставил, идя обедать, пока Лиз не спросит, откуда это. Тогда он небрежно ответит, что это такое, и ее станут мучить угрызения совести: он думал о ней, а она забыла о нем совершенно.
Когда они вышли из столовой, Уолтер бросил взгляд в ту сторону, дабы убедиться, что пакетик на месте. Да, он был там. Однако Лиз, когда шла обедать, похоже, тоже положила на стол кое-что. Большую плоскую коробку конфет из самой дорогой кондитерской в Кроуме. Весом не меньше четырех фунтов. «Конфекты» — гласила размашистая надпись крупными дурацкими золотыми буквами через всю кремовую поверхность крышки. Коробка была перевязана широкой лентой с очень пышным бантом. Уолтер счел «Конфекты» кощунством, а ленту немыслимо показной. Как это похоже на американца — купить что-то большое и кричащее. Уолтера почти затошнило при виде этой коробки.
Тошнило его, конечно, не от коробки конфет.
Его тошнило от чувства, которое было древним уже тогда, когда конфеты еще не были изобретены.
Когда Уолтер наливал бренди Сирлу, викарию и себе, чтобы выпить перед кофе, он мысленно поискал утешения и нашел его.
Сирл мог дарить Лиз сколько угодно коробок дорогих сластей, но он, Уолтер, знал, какие были ее любимыми.
А может, Сирл знал и это? Может, в кондитерской в Кроуме не оказалось драже?
Уолтер снова наклонил бутылку с бренди. Сегодня вечером ему необходим был дополнительный глоток.
Глава 6
Если можно сказать, что Эмму Гарроуби радовало хоть что-то, связывавшее Сирла и Триммингс, то это была идея книги. Книга обещала увести Сирла от домочадцев Триммингса на все оставшееся время его пребывания в Орфордшире, а когда путешествие по Рашмер закончится, он уедет, и они никогда больше не увидят его. Пока что, насколько Эмма могла судить, ничего плохого не случилось. Лиз, конечно, нравилось общество этого типа, потому что оба они были молоды и, похоже, получали удовольствие от одних и тех же вещей и потому, естественно, что на него приятно смотреть. Однако не было никаких признаков, что Лиз серьезно увлечена. Она смотрела на Сирла, только когда обращалась к нему, никогда не следила за ним глазами, как это делают влюбленные девушки, в комнате никогда не садилась рядом с ним.
Несмотря на свои страхи, Эмма Гарроуби оказалась очень непонятливой.
Как ни странно, заметила неладное и обеспокоилась державшаяся особняком Лавиния. Беспокойство всколыхнулось и примерно через неделю вылилось в словах. Лавиния, как обычно, диктовала Лиз, но все время запиналась. Это случалось так редко, что Лиз удивилась. Лавиния писала свои книги с необычайной легкостью, при этом бывала искренне заинтересована судьбой своей очередной героини. Потом она не могла вспомнить, кто из них — Дафна или Валери, — собирая на заре фиалки на Капри, встретила своего возлюбленного, однако, пока происходил процесс сбора цветов или встреча, Лавиния Фитч относилась к Дафне (или Валери) как крестная мать. А тут, в отличие от всех предыдущих случаев, она была рассеянна и испытывала большие затруднения. Она даже не могла запомнить, как выглядит Сильвия.
— На чем я остановилась, Лиз, на чем это я остановилась? — говорила Лавиния, шагая взад и вперед по комнате. Один карандаш торчал в ее рыжих взлохмаченных волосах, похожих на воронье гнездо, другой, вконец изжеванный, был зажат в маленьких острых зубках.
— Сильвия выходит из сада. Через застекленную дверь балкона.
— А, да. «Сильвия остановилась в дверях, ее стройный силуэт вырисовывался на фоне света, ее большие голубые глаза были полны настороженности и сомнений…»
— Карие, — сказала Лиз.
— Что?
— Глаза. — Лиз перелистала назад несколько страниц рукописи. — Страница пятьдесят девять: «Ее карие глаза, прозрачные, как капли дождя на осенних листьях…»
— Хорошо, хорошо. «Ее большие карие глаза были полны настороженности и сомнений. Решительным, но грациозным движением она ступила в комнату, каблучки ее крошечных туфелек простучали по паркету…»
— Никаких каблуков.
— Что ты говоришь?
— Никаких каблуков.
— Почему?
— Она только что играла в теннис.
— Она могла переодеться, не так ли? — произнесла Лавиния с холодком в голосе, что было ей так несвойственно.
— Не думаю, — терпеливо возразила Лиз. — У нее все еще ракетка в руках. «Она прошла по террасе, слегка помахивая ракеткой».
— О, ну и пусть! — взорвалась Лавиния. — Спорю, она даже играть в теннис не умеет! На чем я остановилась? «Она вошла в комнату… она вошла в комнату, ее белая юбка развевалась» — нет, нет, подожди — «она вошла в комнату»… О, к черту Сильвию! — крикнула Лавиния, швыряя на стол свой изжеванный карандаш. — Какое кому дело, что делает эта идиотка! Пусть остается стоять в дверях и умрет от голода!
— В чем дело, тетя Вин?
— Не могу сосредоточиться.
— Вы чем-то обеспокоены?
— Нет. Да. Нет. Да, по крайней мере думаю, что близка к этому.
— Не могу ли я помочь?
Лавиния запустила пальцы в воронье гнездо, выудила оттуда карандаш и удовлетворенно посмотрела на него:
— Смотри-ка, вот где мой желтый карандаш. — Она сунула его обратно в прическу. — Лиз, дорогая, не подумай, пожалуйста, что я вмешиваюсь или что-нибудь такое, но ты случайно немного не… не испытываешь чего-то к Лесли Сирлу? А?
Лиз подумала, как это похоже на ее тетку — употребить такой старомодный эдвардианизм, как «испытывать что-то». Ей всегда приходилось осовременивать язык Лавинии.
— Если под «испытывать что-то» вы имеете в виду «влюблена», успокойтесь, я не влюблена.
— Не знаю, то ли это, что я имею в виду. Если уж на то пошло, магнит любить не станешь.
— Что?! О чем вы говорите?
— Не полюбить, нет, не настолько. Плениться. Он восхищает тебя, ведь правда? — Она произнесла это не вопросительно, а утвердительно.
Лиз подняла голову, посмотрела в обеспокоенные детские глаза и, уклоняясь от ответа, спросила:
— Почему вы так думаете?
— Наверное, потому, что и я чувствую то же самое, — ответила Лавиния. Это было так неожиданно, что Лиз потеряла дар речи.
— Я очень жалею, что пригласила его в Триммингс, — продолжала Лавиния с несчастным видом. — Но не будешь же ты отрицать, что этот человек выводит всех из душевного равновесия? Я уж не говорю о Серже и Тоби Таллисе…
— Это что-то новенькое!
— Они снова стали было друзьями, и Серж вел себя хорошо и работал, а теперь…
— Но Лесли Сирл в этом не виноват. Это было неизбежно. Вы же понимаете, что это так.
— И Марта как-то странно забрала его к себе после обеда у нас и долго не отпускала. Я хочу сказать, каким образом она присвоила его в качестве эскорта, не ожидая, что будут делать остальные.
— Но викарий должен был проводить домой мисс Юстон-Диксон. Марта знала это. Совершенно естественно, что викарий должен был пойти с мисс Диксон, им по пути.
— Дело не в том, что сделала Марта, дело в том — как. Она захватила его.
— О, это просто барственная манера Марты.
— Чепуха. Она тоже это почувствовала. За… зачарованность.
— Конечно, он необыкновенно привлекателен, — проговорила Лиз и подумала, что это клише абсолютно не отражает характера Лесли Сирла.
— Он — он сверхъестественный, — с несчастным видом произнесла Лавиния. — Другого слова нет. Смотришь и ждешь, что он теперь станет делать, словно это будет знак, или знамение, или откровение, или еще что-нибудь. — Она употребила глагол в безличной форме, однако поймала взгляд Лиз и добавила с вызовом: — Ведь так, правда?
— Да, — согласилась Лиз. — Наверное, что-то вроде этого. Как будто… как будто все, что он делает, любая мелочь приобретает значение.
Лавиния взяла со стола изжеванный карандаш и начала что-то машинально черкать на промокашке. Лиз заметила, что тетка рисует восьмерки. Должно быть, Лавиния действительно была взволнована: когда она бывала в хорошем настроении, она рисовала елочки.
— Понимаешь, очень странно, — проговорила Лавиния в раздумье. — Я чувствую такое же желание смыться из комнаты, в которой он находится, как если бы там находился известный преступник. Только он, конечно, гораздо более славный. Но то же ощущение чего-то дурного. — Она яростно начертила несколько восьмерок. — Если бы он исчез сегодня вечером и кто-нибудь сказал, что это был просто красивый демон, а вовсе не человеческое существо, я бы поверила. Помоги мне Бог, поверила бы.
Тут она опять швырнула карандаш на стол и произнесла с легким смешком:
— И тем не менее все это совершенная нелепица. Смотришь на него, пытаешься найти, что в нем такого необыкновенного, — и что? Ничего. Светло-золотые волосы, кожа, как у младенца. У того норвежского корреспондента «Кларион», которого Уолтер приводил к нам домой, было все то же самое. Сирл необыкновенно изящен для мужчины, но и Серж Ратов изящен. У Сирла приятный мягкий голос и такая милая медлительная манера речи, но половина жителей Техаса и большая часть населения Ирландии говорит так же. Перечисли все его привлекательные черты — и что получишь в итоге? Могу сказать, чего не получишь. Не получишь Лесли Сирла.
— Да, — задумчиво произнесла Лиз. — Да. Не получишь.
— Самое главное, самое притягательное ускользает. Что делает его столь отличным от других? Знаешь, даже Эмма это чувствует.
— Мама?
— Только это оказывает на нее обратное действие. Она не выносит его. Она достаточно часто не одобряет тех, кого я приглашаю в дом, иногда испытывает неприязнь к ним, но Лесли Сирла она ненавидит.
— Она говорила вам?
— Нет. Это и так видно. Слов не требуется.
Да, подумала Лиз. Не требуется. Лавиния Фитч, милая, добрая, рассеянная Лавиния, изготовительница романов для вечных подростков, обладала, оказывается, интуицией писателя.
— Какое-то время я даже думала, не потому ли это, что он немного сумасшедший, — сказала Лавиния.
— Сумасшедший?!
— Только чуть-чуть, конечно. Есть какая-то дьявольская притягательность в людях, которые безумны в каком-нибудь одном отношении и при этом совершенно здоровы во всех остальных.
— Лишь в том случае, если вы знаете об их безумии, — заметила Лиз. — Вам должны быть известны их умственные заскоки, только тогда вы ощутите их «дьявольскую притягательность».
Лавиния подумала.
— Да, наверное, ты права. Но это не важно, потому что я для себя решила, что теория «сумасшествия» не проходит. Я никогда не встречала в этом доме никого столь здравомыслящего, как Лесли Сирл. А ты?
Лиз не встречала.
— А тебе не кажется, — проговорила Лавиния, снова принимаясь что-то машинально рисовать и избегая глаз племянницы, — что Уолтер тоже начинает обижаться на Лесли Сирла?
— Уолтер?! — воскликнула удивленно Лиз. — Ну конечно нет. Они лучшие друзья.
Лавиния, семью точными взмахами карандаша построившая дом, пририсовала ему дверь.
— Почему вы сказали так про Уолтера? — спросила Лиз, как бы бросая вызов.
Лавиния прибавила четыре окна и трубу и разглядывала полученный результат.
— Потому что он так внимателен к нему.
— Внимателен! Но Уолтер всегда…
— Когда Уолтер кого-то любит, он принимает этого человека как нечто само собой разумеющееся, — объяснила Лавиния, пририсовывая дым. — Чем больше он его любит, тем меньше обращает на него внимания. Он даже тебя считает чем-то безусловно данным — как ты, несомненно, заметила еще раньше. До последнего времени он и Лесли Сирла принимал как нечто само собой разумеющееся. А сейчас нет.
Лиз молча обдумывала сказанное.
— Если бы Уолтер не любил его, — наконец произнесла она, — он бы не согласился отправиться с ним по Рашмер и не стал бы делать книгу. Разве не так? — добавила она, потому что Лавиния, казалось, полностью погрузилась в точное изображение дверной ручки-шарика.
— Книга обещает быть очень доходной, — проронила Лавиния чуть-чуть суховато.
— Уолтер никогда не стал бы сотрудничать с человеком, который ему не нравится, — решительно заявила Лиз.
— Уолтеру, наверное, трудно было бы объяснить, почему он после всего отказывается писать книгу, — докончила свою мысль Лавиния, как будто не слыша того, что сказала Лиз.
— Почему вы мне это говорите? — полусердито спросила Лиз.
Лавиния перестала черкать и произнесла обезоруживающим тоном:
— Лиз, дорогая, я и правда не знаю. Наверное, я надеялась, что ты найдешь какой-нибудь способ успокоить Уолтера. Как ты, умница, умеешь это делать. То есть не ставя точки над i. — Она поймала взгляд Лиз и добавила: — О да, ты умница. Уолтеру до тебя далеко. Он не очень умен, бедный Уолтер. Лучшее, что с ним случилось, — это то, что ты полюбила его. — Лавиния оттолкнула от себя исчерканную промокашку и неожиданно улыбнулась. — Знаешь, я думаю, это совсем не так плохо, что у него появился соперник, с которым он должен бороться. Если, конечно, это все несерьезно.
— Конечно, это все несерьезно, — заверила ее Лиз.
— Тогда выведем, пожалуй, эту идиотку из дверей и до ленча закончим главу, — решила Лавиния и, взяв карандаш, снова принялась жевать его.
Однако все время, пока Лиз писала о действиях «идиотки Сильвии» (ради пользы библиотек, выдающих книги на дом, и внутреннего департамента государственных налогов), шок, который она испытала, не проходил. Ей раньше и в голову не приходило, что ее отношение к Сирлу может интересовать еще кого-то, помимо нее самой. Теперь оказалось, что Лавиния осведомлена о ее чувствах. Тетка даже намекала, что Уолтер тоже знает. Но это невероятно! Как он узнал? Лавиния все поняла, потому что, как она честно призналась, сама стала жертвой чар Сирла. Но с Уолтером этого случиться не могло!
И все же Лавиния совершенно права. Первоначальное восприятие Уолтером Сирла как данности сменилось отношением хозяина к гостю. Все изменилось незаметно, причем моментально, накануне вечером. Что могло это вызвать? Несчастное совпадение с двумя коробками конфет, такими разными? Но неужели взрослый человек стал бы терзаться из-за этого? Купить девушке конфеты — это у американцев просто рефлекс, такой же безусловный, как пропустить ее вперед в дверях. Вряд ли Уолтер мог обидеться на это. Как же тогда Уолтер догадался о тайне, которая объединяла с ней, Лиз, ее товарища по несчастью — Лавинию?
Лиз продолжала перебирать в мыслях слова Лавинии и собственные ощущения. Она вспомнила, что один пункт Лавиния в своих обвинениях упустила — пренебрежение Тоби Таллисом. Интересно, подумала Лиз, тетка не упомянула об этом по неведению или просто потому, что ей не было дела до страданий Тоби? А Тоби, как было известно всей деревне, испытывал утонченные танталовы муки. С безразличием, которое даже трудно вообразить, Сирл отказался прийти посмотреть Ху-Хаус или принять участие в каком-нибудь другом мероприятии, которое Тоби с радостью готов был организовать для него. Он даже не проявил никакого интереса, когда Тоби предложил отвести его в Стенуорт и представить хозяевам. Такого с Тоби не случалось никогда. Право свободно бывать в герцогском великолепии Стенуорта всегда было его козырной картой. До сих пор он никогда не разыгрывал ее впустую. С американцами этот трюк удавался особо успешно. Но не с этим. Сирл не хотел ничего принимать от Тоби Таллиса и дал это понять самым очаровательно-вежливым образом. Он устроил изящную обструкцию, за которой, несмотря на ее едкость, забавно было наблюдать. Интеллектуальный Сэлкотт следил за ней с откровенным восхищением.
Это-то и сдирало кожу с Тоби.
То, что Лесли Сирл пренебрегал им, было достаточно плохо само по себе, но сознавать, что об этом знает вся деревня, — это была пытка.
Честно говоря, приезд Лесли Сирла не был таким уж радостным событием для Сэлкотт-Сент-Мэри, подумала Лиз. Из всех людей, с которыми он соприкоснулся, вероятно, только мисс Юстон-Диксон была искренне рада его появлению. Сирл был очень мил с мисс Диксон, добродушно и терпеливо отвечал на ее бесконечные вопросы, как будто сам был женщиной и ему была интересна болтовня о мире кино. Он выложил ей весь свой небольшой запас сплетен о делах Голливуда и обменивался с ней мнениями о фильмах хороших и фильмах плохих до тех пор, пока Лавиния не сказала, что они похожи на парочку домохозяек, обменивающихся рецептами.
В тот вечер, когда у них обедала Марта, в какой-то момент Лиз, наблюдавшую за Сирлом и мисс Диксон, охватил ужасный страх, что она может влюбиться в Лесли Сирла. Лиз до сих пор благодарна Марте, что та помогла ей успокоиться. Потому что потом, когда Марта реквизировала Сирла и увела его за собой в темноту, а Лиз не почувствовала при этом ни малейшей дрожи, тогда она поняла, что как бы велика ни была привлекательность Сирла, она не пала ее жертвой.
Теперь же, записывая действия «идиотки Сильвии», Лиз решила, что последует совету Лавинии и найдет способ успокоить Уолтера. Пусть он отправится в путешествие с радостью в сердце и не держит зла на Сирла. Когда они вернутся из Мер-Харбора — а они уже стали обладателями двух каноэ и организовали их доставку в Отли, где лодки будут их дожидаться, — Лиз придумает что-нибудь специально для Уолтера, какой-нибудь особенный tete-a-tete.[599] A то последнее время слишком часто образовывался треугольник.
А может быть, слишком часто tete-a-tete оказывался неудачным?
Глава 7
Уолтер приветствовал идею плавания на каноэ не потому, что предвкушал удовольствие от того, что придется скрючиться в маленькой неудобной лодке, а потому, что это даст ему «сюжет». Чтобы книга имела успех, в ней должны быть «приключения», а необычный способ передвижения — самый легкий путь обеспечить их. Трудно ожидать оригинального происшествия, если едешь в комфортабельной машине. А ходьба пешком утеряла свой престиж, превратившись во всеобщее увлечение. Теперь это называлось «совершать экскурсии». Уолтер, который прошел пешком изрядную часть Европы с зубной щеткой и запасной рубашкой в кармане плаща, был бы рад прогуляться по долине Рашмер, но понимал, что таким образом он не может надеяться удовлетворить ожидания современных приверженцев подобных прогулок. Способ «зубная щетка плюс рубашка» только вызовет недоумение у энтузиастов-мазохистов, которые бредут нагруженные, обутые в тяжелые, иногда даже подкованные сапоги, уставившись остекленелым взглядом на горизонт, похожие больше на Атласов, чем на Одиссеев. А проехать по долине в качестве случайного попутчика кукольного театра Панча и Джуди — это могло бы весьма плодотворно сказаться на книге, но несколько унизило бы собственное достоинство человека, сделавшего сферу «Свежий Воздух» почти своей монополией.
Поэтому Уолтер приветствовал идею каноэ. А за последнюю неделю он стал приветствовать эту идею и по совершенно другой причине.
В машине или пешком, ему пришлось бы день за днем находиться бок о бок с Лесли Сирлом, а в каноэ он практически будет избавлен от него. Уолтер достиг той стадии, когда сам звук спокойной тягучей речи Сирла раздражал его настолько, что приходилось постоянно следить за собой. Даже смутно понимая, что смешон, он не мог подавить это чувство раздражения. Последней соломинкой было то, что Лиз стала добра по отношению к нему, Уолтеру. Он никогда не анализировал отношение Лиз к себе, оно всегда представлялось ему безупречным. Иначе говоря, Лиз проявляла спокойную, нетребовательную преданность, а после восьми месяцев отношений с Маргерит Мэрриам Уолтер считал это идеалом поведения женщины. И вот Лиз стала выказывать доброту. Сам с собой Уолтер называл это «снизошла». Если бы не его новое видение Лиз, он мог бы и не заметить перемены. Но Лиз теперь вышла в мыслях Уолтера на передний план, и он анализировал малейшее ее слово, каждое мимолетное выражение ее лица. И поймал ее на том, что она старается быть доброй с ним. Доброй! С ним. С Уолтером Уитмором.
Это переворачивало все имеющиеся представления, это было неприлично, и ничего этого не произошло бы, если бы не присутствие Лесли Сирла. Когда он думал о Лесли Сирле, Уолтеру постоянно приходилось держать себя в руках.
Они собирались каждую ночь разбивать лагерь, если позволит погода. И этому Уолтер тоже был рад. Не только потому, что таким образом он получал возможность смотреть на Большую Медведицу сквозь густеющие кроны дубов или описывать ночную жизнь полей и реки. Это позволяло ему избегнуть совместного пребывания с Сирлом в тесной компании какой-нибудь крошечной деревенской гостиницы. С бивака можно уйти побродить одному, ничего не сказав, а с постоялого двора не уйдешь.
Каноэ окрестили «Пип» и «Эмма»: Рашмер, считал Сирл, — место, где время застыло на послеполудне;[600] и миссис Гарроуби была очень недовольна, обнаружив, что «Эмма» досталась Сирлу. Но гораздо сильнее ее приводил в уныние еще один факт: она внезапно поняла, что избавиться от Сирла не удастся и после окончания путешествия. Похоже, ради книги придется прибегнуть к маленькому жульничеству. Дело в том, что для фотографирования больших панорамных пейзажей требовалось аппаратуры больше, чем можно было погрузить на каноэ, где уже лежали спальный мешок и палатка. Поэтому решили, что позже Сирл вернется и сфотографирует необходимые для панорам куски.
Однако, какие бы подземные толчки ни сотрясали Триммингс — дурные предчувствия Лавинии, обиды Уолтера, ощущение вины у Лиз, ненависть к Сирлу у Эммы, — на поверхности жизнь текла гладко. Солнце сияло с невероятной силой, что так характерно для Англии ранней весной — до того, как деревья оденутся листвой. Вечера были безветренными и теплыми, как летом. И Сирл, стоя однажды вечером, после обеда, на каменной террасе, сказал, что Эта Англия вполне стоит Той Франции.
— Напоминает летний вечер в Вильфранше, — пояснил он. — До сих пор это был мой критерий волшебства. Блики на воде и последняя лодка, где-то между часом и двумя ночи торопящаяся к кораблю.
— К какому кораблю? — спросил кто-то.
— Все равно к какому, — лениво отозвался Сирл. — Я не знал, что вероломный Альбион может быть таким волшебным.
— Волшебство! — воскликнула Лавиния. — Ну, тут мы фирма, держащая пальму первенства с доисторических времен.
Они немного посмеялись и почувствовали, что они снова друзья. И ничто не нарушало этого чувства до самого момента, когда Уолтер и Сирл в пятницу отправились путешествовать по Англии. Уолтер, как обычно, провел передачу, вернулся домой к обеду (который в «радиодень» всегда откладывался часа на полтора), и они все выпили за успех «На каноэ по Рашмер».
Был теплый весенний вечер, и Лиз отвезла путешественников миль на двадцать вверх по течению Рашмер к месту их старта. Они собирались провести ночь в Грим-Хаус — пещере в холмах над выгоном, где начиналась река Рашмер. Уолтер заявил, что очень удачно, если они начнут свой рассказ с места, связанного с доисторическими временами, но Сирлу глубокая древность именно этого места казалась сомнительной. Вряд ли, заявил он, большая часть Англии призошла от Грима, кем бы он ни был.
Лиз довезла их до места, где проселок кончался, и вместе с ними прошла около сотни ярдов по заросшей травой тропинке, желая посмотреть их убежище на эту ночь. Все трое были очень веселы, тем более после хорошего обеда, и немного пьяны от волшебства ночи. Мужчины сбросили сумки с едой и спальные мешки и пошли проводить Лиз обратно к машине. Когда все на какое-то мгновение замолчали, их поразила тишина вокруг. Они остановились и прислушались, стараясь уловить хоть какой-то звук.
— Как мне не хочется возвращаться домой, под крышу, — нарушила молчание Лиз. — Эта ночь — из доисторических времен.
Однако она уехала по проселку с выбитой в траве колеей, отбрасывая фарами зеленоватые, казавшиеся металлическими пятна света на темную траву, оставив мужчин тишине и древней истории.
После этого путешественники стали голосами в телефоне.
Каждый вечер они звонили в Триммингс из какого-нибудь паба или из телефона-автомата и докладывали о своем продвижении. Они благополучно добрались до Отли, нашли там ожидавшие их каноэ, спустили свои суда на воду и пришли от них в восторг.
Первая записная книжка Уолтера была уже заполнена, а Сирл был очень лирично настроен. Красота Англии, еще только чуть-чуть припудренная начинающимся цветением, покорила его. Из Кейпла он специально позвонил Лавинии, чтобы сказать, что она права: у Англии действительно право первенства на все, что касается волшебства.
— Похоже, они очень довольны, — произнесла Лавиния с полусомнением-полуоблегчением в голосе, повесив трубку. Ей очень хотелось поехать повидать путешественников, но уговор был таков: якобы они иностранцы и спускаются в чужой стране по реке мимо Сэлкотт-Сент-Мэри, как будто никогда тут не бывали.
— Вы все мне испортите, если привнесете в нашу затею Триммингс, — заявил Уолтер. — Мне необходимо увидеть все так, будто я раньше ничего этого не видел. Пейзаж, я имею в виду. Увидеть свежим глазом и словно в первый раз.
Так что в Триммингсе каждый вечер ждали их телефонного отчета, слегка улыбаясь этому воображаемому водовороту новых впечатлений.
А потом в среду вечером, через пять дней после старта, Уолтер с Сирлом вошли в «Лебедь». Все присутствующие без исключения приветствовали их как рашмерских Стэнли и стали угощать выпивкой. Они объяснили, что причалили у Пэтт-Хатч и не смогли устоять перед соблазном пройти полями в Сэлкотт. По воде от Пэтт-Хатч до Сэлкотта две мили вниз по реке, но Рашмер здесь делает петлю, и полем от одного места до другого — всего миля. В Пэтт-Хатч нет постоялого двора, поэтому они луговой тропинкой пришли в Сэлкотт, в привычную гавань «Лебедя».
Сначала разговор был общим: каждый вошедший расспрашивал их о путешествии. Потом Уолтер взял свое пиво и отнес его к любимому столику в углу, а немного погодя и Сирл последовал за ним. Несколько раз после этого то один, то другой посетитель, стоявший у стойки, делал одно-два движения в их сторону, как бы желая снова вовлечь их в беседу, однако, раздумав, останавливался: кое-что в поведении этой пары казалось странным. Они не ссорились, просто что-то очень личное и важное, сквозившее в их отношении друг к другу, не позволяло другим присоединиться к ним.
А потом, совершенно неожиданно, Уолтер ушел.
Он вышел тихо, не пожелав никому спокойной ночи. Только звук захлопнувшейся двери привлек общее внимание к его уходу. Это было весьма красноречивое хлопанье, яростное и как бы ставящее окончательную точку. Очень многозначительный уход.
Присутствующие перевели взгляд с двери на недопитое пиво возле опустевшего места Уолтера и решили, что, несмотря на сердитое хлопанье дверью, Уолтер вернется. Сирл сидел спокойно, расслабившись; он откинулся к стенке и слегка улыбался. Билл Мэддокс, вдохновленный тем, что разрядилось какое-то непонятное напряжение, нависшее как туча в углу небосклона, подсел к Сирлу. Они поговорили о подвесных моторах, обсудили достоинства клинкерного кирпича по сравнению с гладким. Тем временем их кружки опустели. Когда Мэддокс встал, чтобы пойти наполнить их, его взгляд упал на кружку Уолтера: поверхность жидкости в ней стала совсем гладкой. Мэддокс сказал:
— Пожалуй, я принесу другую для мистер Уитмора. Это пиво уже выдохлось.
— О, Уолтер отправился спать, — остановил его Сирл.
— Но еще только… — начал было Мэддокс и понял, что был близок к тому, чтобы сказать бестактность.
— Да, верно, но он решил, что так будет лучше.
— У него что-нибудь болит?
— Нет, но, останься он здесь подольше, он, пожалуй, задушил бы меня, — улыбаясь, проговорил Сирл. — А в школе, где учился Уолтер, плохо относились к удушению. Он убежал от соблазна. Буквально.
— Вы действуете на нервы бедному мистеру Уитмору? — спросил Билл, чувствуя, что понимает этого молодого американца гораздо лучше, чем Уолтера Уитмора.
— Ужасно, — произнес Сирл, отвечая улыбкой на улыбку Билла Мэддокса.
Мэддокс прищелкнул языком и пошел за пивом.
Вскоре разговор стал общим. Сирл оставался до самого закрытия, пожелал спокойной ночи Риву, хозяину паба, когда тот запирал за ними двери, и вместе со всеми пошел по деревенской улице. Потом, сопровождаемый насмешливыми выражениями сочувствия по поводу отсутствия у него уютной постели и в свою очередь обвиняя остальных в приверженности к спертому воздуху и в том, что кровь у них в сосудах стала медленно течь, он свернул в узкий проулок между домами, который вел к полям.
— Доброй ночи! — крикнул Сирл, уходя по проулку.
Больше в Сэлкотт-Сент-Мэри никто никогда не видел Лесли Сирла.
Сорок восемь часов спустя Алан Грант приступил к расследованию.
Глава 8
Грант только что вернулся из Хэмпшира. Случай, которым он занимался, закончился самоубийством, и он все еще мысленно возвращался к нему и раздумывал, можно ли было, действуя по-другому, привести дело к иному исходу. Поэтому он лишь вполуха слушал то, что говорил его начальник. Вдруг знакомое название привлекло внимание Гранта.
— Сэлкотт-Сент-Мэри? — переспросил Грант.
— А что? — ответил вопросом на вопрос Брюс, прерывая свой рассказ. — Вы знаете это место?
— Я никогда там не был, но слышал о нем, конечно.
— Почему «конечно»?
— Это что-то вроде богемного притона. В это место произошла миграция интеллигенции. Сайлас Уикли живет там, и Марта Халлард, и Лавиния Фитч. У Тоби Таллиса тоже есть там дом. Кстати, это не Тоби Таллис пропал? — спросил Грант с надеждой в голосе.
— Увы, нет. Это парень по имени Сирл. Лесли Сирл. Молодой американец, кажется.
На мгновение Грант снова оказался в дверях набитой людьми комнаты Кормака Росса и услышал голос, говоривший: «Я забыл свой мегафон». Значит, этот красивый юноша исчез.
— Орфордшир говорит, что они хотели бы передать это дело в наши руки не потому, что считают загадку неразрешимой, а потому, что дело это крайне деликатное. Они думают, что нам легче провести расследование среди местных шишек, и если надо будет кого-то арестовать, они предпочтут, чтобы это сделали мы.
— Арестовать? Они что, подозревают убийство?
— Они сильно склоняются к этой версии, так я понял. Однако, как сказал мне местный инспектор, когда произносишь все вслух, это звучит так абсурдно, что у них не хватает духу даже выговорить имя.
— Чье имя?
— Уолтера Уитмора.
— Уолтер Уитмор! — Грант беззвучно присвистнул. — Не удивительно, что они не хотят произнести это имя вслух. И что, как они предполагают, он сделал с Сирлом?
— Они не знают. Все, что у них есть, это намек на ссору перед исчезновением. Кажется, Уолтер Уитмор и Сирл спускались по Рашмер на каноэ и…
— На каноэ…
— Да, такой вот номер. Уолтер Уитмор должен был описать это, а этот парень Сирл — сделать иллюстрации.
— Значит, он художник?
— Нет. Фотограф. Они каждый вечер разбивали лагерь и в ночь со вторника на среду собирались ночевать на берегу реки примерно в миле от Сэлкотта. В тот вечер они оба пришли в паб в Сэлкотте выпить пива. Уитмор ушел рано — вроде бы в дурном настроении, как утверждают. Сирл оставался до самого закрытия, и все видели, как он пошел по дорожке, ведущей к реке. После этого его никто больше не видел.
— Кто заявил об ичезновении?
— Уитмор — на следующее утро. Когда он проснулся и обнаружил, что Сирла нет в его спальном мешке.
— Он вообще не видел Сирла вечером во вторник, после того как ушел из паба?
— Не видел. Он говорит, что сразу заснул, и хотя просыпался ночью, считал, что Сирл вернулся и спит. Только когда рассвело, он понял, что Сирла нет.
— Я полагаю, версия такова, что Сирл упал в реку.
— Да. Люди из Уикхема взялись и протралили ее в поисках тела. Но между Кейплом и Сэлкотг-Сент-Мэри дно очень вязкое, так что они ничуть не удивились, не найдя ничего.
— Понятно, почему они не хотят связываться с этим делом, — произнес Грант сухо.
— Да. Оно слишком деликатное. Никаких намеков, только происшествие. И — большой вопросительный знак.
— Но… но… Уолтер Уитмор! — воскликнул Грант. — Знаете, в этом с самого начала есть что-то абсурдное. Что общего у этого любителя крольчат с убийством?
— Вы достаточно давно в полиции, чтобы знать, что именно такие любители крольчат и совершают убийства, — огрызнулся шеф. — Во всяком случае, это ваше дело — просеять этот ваш богемный притон сквозь самое мелкое сито и посмотреть, что останется. Вам лучше взять машину. Уикхем говорит, что оттуда до станции четыре мили и, кроме того, в Кроуме пересадка.
— Очень хорошо. Вы не против, если я возьму с собой сержанта Вильямса?
— В качестве шофера или как?
— Нет, — добродушно ответил Грант. — Просто, чтобы он знал план действий. Тогда, если вы отзовете меня оттуда для чего-нибудь более важного — а вы можете сделать это в любой момент, — Вильямс продолжит дело.
— Вы выдумываете самые убедительные оправдания, чтобы вздремнуть в машине.
Грант совершенно справедливо счел это капитуляцией и пошел искать Вильямса. Он любил Вильямса и любил работать с ним. Вильямс был и противоположностью Гранта, и его дополнением. Он был большой, румяный, двигался медленно и редко читал что-нибудь, кроме вечерней газеты, но у него были качества терьера, незаменимые на охоте. Никакой терьер у крысиной норы не проявлял больше терпения и упорства, чем Вильямс, когда он собирал факты. «Не хотел бы я иметь вас у себя на хвосте», — много раз говорил ему Грант за годы их совместной работы.
Для Вильямса же Грант был олицетворением всего блестящего и импульсивного. Он страстно восхищался Грантом и по-доброму завидовал ему. У Вильямса не было амбиций, и он не домогался чужого места. «Вы не знаете, какой вы счастливчик, сэр, что не похожи на полицейского, — говорил Вильямс. — Я… я войду в паб, они только взглянут на меня и сразу думают: коп! А с вами — они взглянут на вас и делают вывод: военный в штатском платье. И ничего другого про вас не думают. Это большое преимущество в такой работе, как наша, сэр».
— Но у вас есть преимущества, которых нет у меня, — заметил однажды Грант.
— Какие, например? — недоверчиво спросил Вильямс.
— Вам стоит только сказать: «Разбегайсь!» — и люди как будто растворяются в воздухе. А когда я говорю где-нибудь: «Разбегайсь!» — все только что не отвечают: «К кому, как вы полагаете, вы обращаетесь?»
— Храни вас Бог, сэр, — произнес Вильямс. — Вам даже не нужно говорить «Разбегайсь!». Вы просто посмотрите на них, и они тут же вспоминают, что у них назначено свидание.
Грант рассмеялся:
— Надо будет как-нибудь попробовать!
Но ему нравилось вежливое преклонение Вильямса, а еще больше нравились надежность и упорство своего верного подчиненного.
— Вы слушаете Уолтера Уитмора, Вильямс? — спросил Грант, когда Вильямс уже вел машину по прямой как стрела дороге, проложенной легионами еще две тысячи лет назад.
— Не могу этого сказать, сэр. Я не очень-то люблю деревню. Родиться и вырасти в деревне — это помеха.
— Помеха?
— Да. Знаешь, как она действительно выглядит в будни.
— Больше Сайлас Уикли, чем Уолтер Уитмор?
— Я не знаю про этого малого, Сайласа, но деревня абсолютно не похожа на то, как ее изображает Уолтер Уитмор. — Вильямс немного подумал. — Он как аристократ-костюмер. Посмотрите на это путешествие по Рашмер.
— Смотрю.
— Я хочу сказать: что мешало ему жить дома у тетки и проехать по долине реки, как доброму христианину, на машине? Рашмер не такая уж длинная. Так нет, ему потребовались эти ужимки с каноэ и всем прочим.
Упоминание тетки Уитмора подсказало Гранту следующий вопрос:
— Полагаю, вы не читаете романы Лавинии Фитч?
— Я — нет, но Нора читает.
Нора — это миссис Вильямс, мать Анджелы и Леонарда.
— Ей нравится?
— Она их обожает. Говорит, что только три вещи позволяют ей почувствовать себя уютно: бутылка с горячей водой, четверть фунта шоколада и новый роман Лавинии Фитч.
— Если бы мисс Фитч не существовало, ее следовало бы выдумать, — проговорил Грант.
— Наверное, сколотила целое состояние, — отозвался Вильямс. — Уитмор — ее наследник?
— Во всяком случае предполагаемый наследник. Но исчезла-то не Лавиния.
— Угу. А что мог Уолтер иметь против этого парня — Сирла?
— Может быть, он в принципе не переносит фавнов.
— Кого, сэр?
— Я один раз видел Сирла.
— Да ну!
— Я говорил с ним на ходу — на вечеринке с месяц назад.
— Как он выглядит, сэр?
— Очень красивый молодой человек.
— О-о! — глубокомысленно протянул Вильямс.
— Нет, — сказал Грант.
— Нет?
— Американец, — добавил Грант не к месту. А потом, вспомнив вечеринку, добавил: — Кажется, его интересовала Лиз Гарроуби, как я теперь припоминаю.
— Кто это — Лиз Гарроуби?
— Невеста Уолтера Уитмора.
— И он? Ну-ну!
— Не спешите с выводами, пока мы не собрали каких-нибудь фактов. Не могу поверить, что в Уолтере Уитморе течет достаточно красная кровь, чтобы стукнуть человека по голове и спихнуть в реку.
— Да, — согласился Вильямс, подумав. — Пожалуй, он мямля.
Это замечание привело Гранта в хорошее настроение, которое сохранялось весь остаток пути.
В Уикхеме их встретил местный инспектор Роджерс, худой озабоченный человек, по виду которого можно было предположить, будто он плохо спал. Однако он был наблюдателен, охотно делился информацией и проявил изрядную предусмотрительность: заказал две комнаты в «Лебеде» в Сэлкотте и две в «Белом Олене» в Уикхеме, так что Гранту предоставлялось право сделать выбор. Роджерс повел их на ленч в «Белый Олень», где Грант сказал, что жить они будут здесь, в Уикхеме, и попросил отменить заказ в Сэлкотте. Пока не нужно, чтобы заподозрили, что Скотланд-Ярд заинтересовался исчезновением Лесли Сирла. А вести расследование, живя в «Лебеде», означало вызвать сенсацию в Сэлкотте.
— Но мне бы хотелось встретиться с Уитмором, — сказал Грант. — Я полагаю, он вернулся в — как вы его назвали? — в дом мисс Фитч?
— Триммингс. Только сегодня он в городе, ведет свою радиопередачу.
— В Лондоне? — немного удивился Грант.
— Так было условлено еще до того, как они отправились в путь. Контракт мистера Уитмора кончается в августе, когда на радио спад. Поэтому и не стали отказываться от передачи на этой неделе потому лишь, что он идет на каноэ по Рашмер. Они рассчитали так, чтобы прибыть сегодня в Уикхем и заночевать здесь. Заказали две комнаты в «Ангеле». Это старинный дом, достопримечательность Уикхема. Очень фотогеничный. А потом это случилось. Но поскольку мистеру Уитмору делать здесь нечего, он поехал провести свою получасовую передачу, как сделал бы, если бы они благополучно добрались до Уикхема.
— Понимаю. И вечером он возвратится?
— Если тоже не исчезнет.
— По поводу этого исчезновения: Уитмор подтверждает, что между ними были разногласия…
— Я не спрашивал его. Для этого… — Инспектор замолчал.
— Для этого здесь я, — закончил Грант фразу за него.
— Примерно так, сэр.
— Откуда пошли эти разговоры о «разногласиях»?
— Из «Лебедя». У всех, кто там был в среду вечером, сложилось впечатление, что между ними ощущалась какая-то натянутость.
— Открытой ссоры не было?
— Нет, ничего похожего. Случись подобное, мне легче было бы прицепиться. А так — просто мистер Уитмор ушел рано, не попрощавшись, а Сирл сказал, что он на что-то рассердился.
— Сирл сказал! Кому?
— Хозяину местного гаража. Его зовут Билл Мэддокс.
— Вы говорили с Мэддоксом?
— Я говорил с ними со всеми. Я был в «Лебеде» вчера вечером. Мы целый день шарили по реке на случай, если Сирл упал в нее, и расспрашивали всех в ближайшей округе на случай, если он потерял память и просто где-то бродит. Мы не нашли тела, и никто не видел человека, хоть чем-то похожего на Сирла.Вот я и закончил день в «Лебеде» и встретился почти со всеми, кто был там вечером в среду. Это единственный паб в деревне, и у них очень славный маленький отель. Его хозяин — Джэй, бывший сержант флота. Там встречаются все в деревне. Никому не хотелось впутывать мистера Уитмора…
— Он пользуется популярностью?
— Пожалуй, достаточной. Наверное, он выигрывает в сравнении со странной командой, которая там поселилась. Не знаю, в курсе ли вы дела.
— Да, я слышал.
— Они не хотели причинять мистеру Уитмору неприятности, но им пришлось объяснить, почему оба друга не пошли обратно в лагерь вместе. А уж когда все разговорились, то единодушно признали, что между мистером Уитмором и Сирлом что-то произошло.
— Мэддокс сам обо всем рассказал?
— Нет, местный мясник. Мэддокс рассказал остальным, когда они шли домой. После того как распрощались с Сирлом и посмотрели, как он один пошел по дорожке к реке. Но Мэддокс все подтвердил.
— Ладно, поеду повидаю Уитмора, когда он вечером вернется, послушаю, что он скажет. А пока пойдем осмотрим место, где они в среду вечером разбили лагерь.
Глава 9
— Мне бы не хотелось появляться сейчас в Сэлкотте, — сказал Грант, когда они выехали из Уикхема. — Нет ли какой-нибудь дороги к реке?
— К реке, строго говоря, вообще нет дороги. От Сэлкотта до места, где они остановились, ведет луговая тропинка длиной примерно в милю. Но мы легко можем добраться туда, свернув с главного шоссе Уикхем — Кроум и пройдя по полям. Или по проселку, который ведет к Пэтт-Хатч, а оттуда спустимся к реке. Они причалили к берегу примерно в четверти мили ниже Пэтт-Хатч.
— Я бы, пожалуй, предпочел пройти через поля от главного шоссе. Интересно проверить, далеко ли это, если идти пешком. А что за деревня Пэтт-Хатч?
— Это вообще не деревня. Просто разрушенная мельница и несколько домов, где раньше жили те, кто работал на ней. Поэтому-то Уитмор и Сирл и отправились в Сэлкотт, когда вечером им захотелось выпить.
— Понимаю.
Роджерс, всегда во всеоружии, достал из кармана чехла машины однодюймовую карту и стал изучать ее. Для глаз горожанина Гранта поле, у которого они остановились, выглядело совершенно так же, как другие поля, мимо которых они проезжали, выбравшись из Уикхема, но инспектор произнес:
— Должно быть, мы против их лагеря, я полагаю. Да, вот тут были они, а здесь — мы.
Он показал план местности Гранту. К северу и югу шло шоссе Уикхем — Кроум. Западнее, направляясь на северо-восток, текла Рашмер, возле Уикхема подходя вплотную к шоссе. Примерно там, где они сейчас стояли, река поворачивала назад, делая большую петлю в плоском ложе долины. В начале петли Уитмор и Сирл и устроили лагерь. На дальнем конце петли, где река возвращалась к своему первоначальному направлению, стояла Сэлкотт-Сент-Мэри. И лагерь путешественников, и деревня Сэлкотт располагались на правом берегу реки, так что между ними была всего миля поймы.
Когда трое мужчин добрались до третьего, считая от дороги, поля, их глазам открылся весь ландшафт целиком — долина Рашмер лежала перед ними, как на карте Роджерса: плоское зеленое поле, на которое наброшен более темный шарф — Рашмер. На дальнем конце груда крыш и садов — там в деревьях пряталась Сэлкотт-Сент-Мэри. А на юге, если смотреть по реке, — несколько кустиков — Пэтт-Хатч.
— А где проходит железная дорога? — спросил Грант.
— Здесь нет железной дороги ближе чем в Уикхеме. То есть нет станций. Сама дорога проходит с другой стороны шоссе Уикхем — Кроум, совсем не по долине реки.
— А по шоссе Уикхем — Кроум ходит много автобусов?
— О да. Но не думаете же вы, что парень просто смылся, а?
— Я предусматриваю и такую возможность. В конце концов, мы ничего о нем не знаем. Могло произойти всякое, я бы так сказал.
По длинному склону Роджерс провел их вниз, к берегу реки. Там, где она поворачивала на юго-запад, над росшим у воды кустарником возвышались два дерева — большая ива и ясень. Под ясенем на земле лежали два каноэ. Трава все еще выглядела примятой.
— Вот это место, — сказал Роджерс. — Мистер Уитмор расстелил свой спальный мешок под большой ивой, а Сирл положил свой с другой стороны ясеня, там, где между корнями есть впадина, — получается как бы естественное ложе. Поэтому совершенно естественно, что мистер Уитмор не знал, что его там нет.
Грант подошел к месту, где должна была находиться постель Сирла, и посмотрел на воду.
— Какое здесь течение? Если он споткнулся об эти корни в темноте и полетел головой в реку, мог он утонуть?
— Ужасная река Рашмер, должен сказать. Сплошные ямы и водовороты. И дно, которое главный констебль называет «незапамятной грязью». Но Сирл плавать умел. По крайней мере так говорит Уолтер Уитмор.
— Он был трезв?
— Абсолютно. Как стеклышко.
— А если он, упав в воду, потерял сознание, где вы рассчитывали найти его тело?
— Между этим местом и Сэлкоттом. В зависимости от того, сколько прошло дождей. У нас последнее время их было так мало, что уровень реки страшно понизился, но в Танстолле во вторник прошел ливень, по старой доброй английской манере — с чистого неба, и Рашмер забурлила, как на мельнице.
— Понимаю. А что стало с их лагерным имуществом?
— Уолтер Уитмор отвез его в Триммингс.
— Значит, вещи Сирла все еще в Триммингсе.
— Думаю, да.
— Вероятно, мне стоит взглянуть на них сегодня вечером. Если среди них было что-нибудь для нас интересное, оно, конечно, уже пропало, но, возможно, они натолкнут на какую-нибудь мысль. А вы не знаете — с другими жителями Сэлкотта Сирл был в хороших отношениях?
— Ну, я слышал, примерно неделю назад там произошла какая-то сцена. Этот парень, танцор, плеснул в Сирла пивом.
— Почему? — спросил Грант, без труда идентифицируя «этого парня, танцора». Марта была честным летописцем истории Сэлкотта.
— Говорят, будто ему не понравилось, что Тоби Таллис уделяет много внимания Сирлу.
— А Сирл?
— Если отчеты сообщают правду, никак не реагирует, — ответил Роджерс, и улыбка на момент осветила его озабоченное лицо.
— Значит, усилия Таллиса напрасны?
— Похоже.
У вас, наверное, не было времени собрать алиби.
— Не было. Мы только к вечеру обнаружили, что это может оказаться худшим, чем простое исчезновение. До этого мы просто шарили в реке и расспрашивали жителей. А когда поняли, какое заворачивается дело, решили, что нужна помощь извне, и послали за вами.
— Я рад, что вы так быстро послали. Всегда легче, если ты на месте с самого начала раскручивания ленты. Ладно, кажется, нам тут больше делать нечего. Давайте вернемся в Уикхем, и я приму дела.
Роджерс высадил Гранта и Вильямса у «Белого Оленя» и уехал с уверениями в готовности сделать все, что будет в его силах.
— Хороший парень этот инспектор, — проговорил Грант, пока они поднимались по лестнице, собираясь посмотреть отведенные им комнаты под крышей, комнаты с вышитыми шерстью изречениями и обоями в цветочек, — ему бы работать в Ярде.
— Странная ситуация, правда? — отозвался Вильямс, разглядывая убогое убранство комнат. — Фокус с веревкой на английской лужайке. Как вы полагаете, сэр, что с ним случилось?
— Я ничего не знаю про фокус с веревкой, но здесь сильно пахнет ловкостью рук. Вот оно есть, а вот его нет. Старый трюк фокусника — отвлечь внимание. Вы видели когда-нибудь, Вильямс, как женщину распиливают пополам?
— Много раз.
— Все это сильно попахивает распиленной женщиной. Вам не кажется?
— У меня нет вашего нюха, сэр. Все, что я вижу, — очень подозрительная ситуация. Весенний вечер в Англии и молодой американец, потерявшийся на дороге длиной в милю между деревней и рекой. Вы и правда думаете, сэр, что он мог смыться?
— Не могу придумать подходящую причину, зачем бы ему это делать, но вдруг Уитмор сможет.
— Наверное, он очень постарается, — заметил Вильямс сухо.
Однако, как ни странно, Уолтер Уитмор отнюдь не старался поддержать такую версию. Наоборот, он презрительно отверг ее. Это абсурд, заявил он, совершеннейший абсурд — предположить, что Сирл исчез по собственной воле. Не говоря о том, что он был очень доволен путешествием, перед ним маячило выгодное дело. Он с огромным энтузиазмом отнесся к идее вместе сделать книгу, и было бы чистой фантазией думать, что он так просто бросит ее.
Грант приехал в Триммингс после обеда, тактично учтя тот факт, что обед в Триммингсе в день радиопередачи должен быть очень поздним. Послав спросить, примет ли мистер Уитмор Алана Гранта, он не упомянул, по какому делу приехал, пока не очутился лицом к лицу с Уолтером.
Первой мыслью Гранта, когда он увидел Уолтера Уитмора во плоти, было: насколько старше, чем Грант ожидал, тот выглядит. Потом он подумал: интересно, выглядит ли Уолтер старше, чем выглядел в среду? Уолтер показался Гранту каким-то потерянным, словно отдавшимся на волю волн. С ним случилось нечто, чему не было места в мире, который Уолтер знал и одобрял.
Однако он спокойно воспринял сообщение Гранта, кто он такой.
— Я почти ждал вас, — проговорил Уолтер, протягивая Гранту сигареты. — Не вас лично, конечно. Просто представителя того, что называют Высшим Эшелоном.
Грант спросил об их путешествии по Рашмер, просто чтобы начать беседу. Если человека разговорить, он теряет стремление защищаться. Уитмор слишком сильно затягивался сигаретой, но рассказывал совершенно спокойно. Прежде чем он дошел до их визита в «Лебедь» в среду вечером, Грант отвлек его. Слишком рано было расспрашивать о том вечере.
— В действительности вы ведь не многое знаете о Сирле, не так ли? А вообще, вы слышали о нем до того, как он появился на той вечеринке у Росса?
— Нет, не слышал. Но это понятно. Фотографов — как собак нерезаных. Почти столько же, сколько журналистов. Я и не мог ничего слышать о нем.
— У вас нет причин думать, что он не тот, за кого себя выдает?
— Нет, нет, конечно нет. Я никогда не слышал о нем, но мисс Юстон-Диксон слышала.
— Мисс Юстон-Диксон?
— Одна из наших местных писательниц. Она пишет сказки и очень увлекается кино. Она не только слышала о Сирле, у нее есть его фотография.
— Фотография? — воскликнул Грант, приятно удивленный.
— В одном из этих журналов о кино. Я сам не видел. Она рассказала об этом как-то вечером, когда обедала у нас.
— А она встретилась с Сирлом, когда обедала у вас? И узнала его?
— Да, узнала. Они прекрасно поболтали. Сирл снимал некоторых из ее любимых актеров. У нее есть и эти фотографии тоже.
— Так что вы не сомневаетесь, что Сирл тот, за кого себя выдает?
— Я замечаю, что вы употребляете настоящее время, инспектор. Это меня радует. — В голосе Уолтера Уитмора звучала скорее ирония, чем радость.
— У вас самого есть какое-нибудь объяснение того, что случилось, мистер Уитмор?
— Если не считать огненных колесниц и ведьминой метлы — нет. Совершенно неразрешимая загадка.
Грант поймал себя на мысли, что Уолтер Уитмор, похоже, близок к тому, чтобы подумать о ловкости рук.
— Мне кажется, самое разумное объяснение, — продолжал Уолтер, — что он заблудился в темноте и упал в реку в таком месте, где никто не услышал.
— Но вы не согласны с этим? — спросил Грант, отвечая на тон, которым говорил Уолтер.
— Ну, во-первых, у Сирла глаза как у кошки. Я провел с ним четыре ночи подряд, и я знаю. Во-вторых, он великолепно ориентируется на местности. В-третьих, он был трезв как стеклышко, когда уходил из «Лебедя». В-четвертых, от Сэлкотта до берега реки, где был наш лагерь, идешь по прямой, ориентируясь все время по холмам. Отклониться в сторону невозможно, потому что, отойдя от холмов, попадешь на пашню, или в посевы, или еще куда-нибудь. И последнее. Молва говорит, что Сирл отлично умел плавать.
— Ходят слухи, мистер Уитмор, что вы с Сирлом в среду вечером поссорились. В этом есть хоть доля правды?
— Я так и думал, что рано или поздно мы к этому придем, — проговорил Уолтер. Он раздавил в пепельнице наполовину недокуренную сигарету так, что от нее осталась только труха.
— Ну и? — подтолкнул его Грант, потому что, казалось, продолжать тот не собирается.
— Между нами произошла, я бы сказал, размолвка. Я… я был раздражен. Но не более.
— Он раздражал вас так сильно, что вы оставили его в пабе, а сами ушли?
— Я люблю быть один.
— И вы отправились спать, не дожидаясь возвращения Сирла.
— Да. Мне не хотелось больше разговаривать в тот вечер. Говорю вам, он раздражал меня. Я подумал, может быть, утром мое настроение улучшится, а он не будет так провоцирующе дерзить.
— А он дерзил?
— Да, думаю, это точное слово.
— По поводу чего?
— Я не обязан говорить вам этого.
— Вы не обязаны ничего говорить мне, мистер Уитмор.
— Да, знаю, что не обязан. Но я хотел помочь, чем могу. Видит Бог, как бы я хотел, чтобы это дело прояснилось как можно скорее. Просто мы… мы разошлись во мнении по весьма личному и не относящемуся к делу вопросу. Это не имело никакого отношения к тому, что случилось с Сирлом вечером в среду. Конечно же, я не поджидал его, спрятавшись, когда он шел в лагерь, и не спихивал в воду — и вообще не трогал его.
— Вы не знаете никого, кому бы пришло в голову учинить над ним насилие?
Прежде чем ответить, Уитмор поколебался. Он подумал о Серже Ратове.
— Во всяком случае, не такого типа насилие, — произнес он наконец.
— «Не такого типа»?
— Не типа «дожидаться-в-темноте».
— Понимаю. Обычная пощечина проще? Я слышал, Серж Ратов устроил сцену.
— Всякого, кто живет в непосредственной близости от Сержа Ратова и кому тот не устроил сцену, можно считать ненормальным, — заявил Уолтер.
— Вы не знаете никого, кто мог бы иметь зуб на Сирла?
— В Сэлкотте — никого. А в других местах я не знаю ни его друзей, ни его врагов.
— Вы разрешите мне взглянуть на вещи Сирла?
— Я не против, но Сирл, возможно, был бы против. Что вы надеетесь найти, инспектор?
— Ничего особенного. Вещи человека могут быть очень красноречивы. Просто я ищу какое-нибудь объяснение, которое помогло бы понять эту загадочную ситуацию.
— Тогда я провожу вас наверх, если вы больше ни о чем не хотите спросить меня.
— Спасибо, нет. Вы мне очень помогли. Мне бы хотелось, чтобы вы отнеслись ко мне с большим доверием и рассказали, из-за чего произошла ссора…
— Ссоры не было! — решительно воскликнул Уолтер.
— Простите, пожалуйста. Я имел в виду — почему вы рассердились на Сирла? Это сказало бы мне больше о Сирле, чем о вас. Но, вероятно, с моей стороны опрометчиво надеяться на вашу откровенность.
Уитмор остановился в дверях, обдумывая слова Гранта.
— Нет, — медленно проговорил он. — Я понимаю, что вы имеете в виду. Но сказать вам — означало бы впутать… Нет, пожалуй, я не могу.
— Понимаю. Пойдемте наверх.
Когда из библиотеки, где происходила их беседа, они выходили в баронский холл, в дверях гостиной появилась Лиз и направилась через холл к лестнице. Заметив Гранта, она остановилась; лицо ее вспыхнуло от радости.
— О! — воскликнула она. — У вас есть о нем новости!
Услышав ответ Гранта, что новостей нет, она, казалось, была озадачена.
— Но ведь именно вы представили его тетушке, — попыталась настаивать Лиз. — На той вечеринке.
Это было новостью для Уолтера: Грант заметил, что тот удивился. Он почувствовал также, что Уолтеру неприятна вспышка нескрываемой радости на лице Лиз.
— Лиз, дорогая, — проговорил Уолтер холодным, чуть-чуть злым тоном, — это инспектор уголовного розыска Грант из Скотланд-Ярда.
— Из Ярда! Но… ведь вы же были на той вечеринке!
— Полисмену не возбраняется интересоваться искусством, — сказал Грант, улыбнувшись. — Только…
— О, простите! Я не это имела в виду.
— Я лишь заглянул туда, чтобы забрать одного из своих друзей. Сирл стоял у дверей, и у него был совершенно потерянный вид, потому что он не знал мисс Фитч в лицо. Вот я и отвел его и представил. И все.
— А теперь вы приехали сюда — расследовать…
— Расследовать, куда он исчез. У вас есть какие-нибудь соображения, мисс Гарроуби?
— У меня? Нет. Абсолютно никаких. Я просто не вижу смысла в его исчезновении. Это фантастическая бессмыслица.
— Если еще не слишком поздно, мог бы я поговорить с вами после того, как посмотрю вещи Сирла?
— Что вы, конечно, совсем не поздно. Еще нет десяти часов. — Голос Лиз звучал утомленно. — С тех пор как это произошло, время все тянется и тянется. Как будто накурилась… гашиша, да? А вы ищете что-то определенное, инспектор?
— Да, — ответил Грант. — Ищу подсказку. Но очень сомневаюсь, что найду ее.
— Я буду ждать вас в библиотеке. Надеюсь, вы найдете что-нибудь, что поможет вам. Это ужасно — словно висишь на паутинке.
Осматривая вещи Сирла, Грант думал о Лиз Гарроуби — «милой, дорогой Лиз», как называла ее Марта — и о том, насколько она подходит «мямле», по выражению Вильямса. Всегда трудно сказать, что нашла женщина в мужчине, а Уитмор был, конечно, знаменитостью и завидной партией. Все это Грант говорил Марте в тот день, когда они ушли с вечеринки. Но насколько права была Марта относительно способности Сирла расстраивать планы? Насколько Лиз Гарроуби подпала под обаяние Сирла? Было ли внимание, которое она проявила в холле по отношению к Гранту, вызвано радостью, что он принес хорошие известия и с Сирлом ничего плохого не случилось, или просто облегчением оттого, что спал тяжкий груз подозрений и уныния?
Руки Гранта привычными движениями машинально перебирали вещи Сирла, а мысли инспектора были заняты другим. Какие вопросы задать Лиз Гарроуби, когда он спустится к ней?
Сирл занимал комнату на втором этаже в увенчанной зубцами башне, возвышавшейся слева от парадного входа, выполненного в стиле Тюдоров. Окна комнаты выходили на три стороны, и сама комната была большой, с высоким потолком. Обставлена она была типичнейшей мебелью с Тоттенхэм-Корт-роуд, немного слишком веселенькой и простенькой для викторианского размаха помещения. Комната выглядела совершенно безликой, и Сирл явно ничего не сделал, чтобы наложить на нее отпечаток собственной личности. Странно, подумал Грант. Ему редко доводилось видеть комнату, в которой бы жили достаточно долго и при этом она осталась бы начисто лишенной какой-либо личностной ауры. На туалетном столике лежали щетки, на тумбочке у кровати — книги, но никаких следов самого обитателя комнаты. Так могла бы выглядеть комната в витрине.
Конечно, комнату подмели и убрали после того, как жилец вышел из нее шесть дней назад. И все же. Все же.
Ощущение странности было столь сильным, что Грант прекратил работу, остановился и огляделся, размышляя. Он думал обо всех комнатах, которые ему приходилось осматривать в свое время. Все они — даже комнаты в отелях — сохраняли аромат присутствия последнего жильца. А здесь — только пустота. Сирл никак не хотел проявлять свою индивидуальность.
Грант отметил, как отметила и Лиз в самый первый день, что одежда и прочие личные вещи Сирла очень дорогие. Перебирая в ящике его носовые платки, Грант заметил, что на них нет метки прачечной, и слегка удивился. Вероятно, стираются дома. На рубашках и белье метки были, но старые. Очевидно, американские.
Кроме двух кожаных чемоданов здесь находился жестяной, покрытый черным лаком ящик вроде очень большой коробки для красок. На его крышке была надпись белыми буквами: «Л. Сирл». У ящика имелся замок, но он не был заперт, и Грант с любопытством поднял крышку. Увы, он обнаружил, что в ящике лежат фотографические материалы Сирла. Ящик был сделан по типу коробки для красок, со вставленным внутрь лотком, который можно было вынимать. Грант подцепил лоток указательными пальцами, поднял и заглянул в нижнее отделение. Оно было заполнено, пустым оставалось только одно место, откуда был вынут какой-то предмет продолговатой формы. Грант поставил лоток на место и стал разворачивать тюк с лагерными принадлежностями, принесенный с берега реки. Ему хотелось найти то, что лежало на ныне пустом месте в ящике.
Но ничего подходящего он не нашел.
В тюке он обнаружил две маленькие фотокамеры и несколько катушек пленки. Но ни по отдельности, ни вместе они не годились, чтобы заполнить пустое пространство. Ничто другое из тюка тоже не годилось.
Грант вернулся к ящику и какое-то время постоял, гадая, что могли оттуда извлечь. Это был какой-то предмет размерами десять на три с половиной на четыре дюйма. После того как он был вынут, ящик не трогали, иначе остальные предметы сдвинулись бы с места и заполнили пустоту.
Нужно будет спросить Лиз, когда он сойдет вниз.
Войдя в комнату, Грант окинул ее беглым взглядом, теперь он начал рассматривать ее подробно. Но даже при этом он едва не упустил очень существенную вещь. Он перебирал ворох носовых платков и галстуков в ящике шкафа и уже собрался было закрыть его, как вдруг его внимание привлекла одна вещица, лежавшая среди галстуков, и Грант выудил ее.
Это была женская перчатка. Женская перчатка с очень маленькой руки.
Примерно такого размера, как у Лиз Гарроуби.
Грант поискал перчатке пару, но ее не было. Обычный трофей влюбленного.
Значит, красивый молодой человек сильно увлекся, если стащил перчатку предмета своей любви. Грант счел, что это необыкновенно мило. Нынче поклонение фетишам принимает гораздо более мрачные формы.
Ладно, что бы ни означала эта перчатка, она, без сомнения, свидетельствовала, что Сирл намеревался вернуться. Никто не станет оставлять любовный сувенир в ящике с галстуками, чтобы он попался на глаза кому-нибудь постороннему.
Следовало решить вопрос, чья это перчатка и что она означает.
Грант сунул перчатку в карман и пошел вниз. Лиз, как обещала, ждала его в библиотеке, но Грант отметил, что она отнюдь не все время просидела там одна. Не может один человек выкурить столько сигарет, сколько окурков лежало в пепельнице. Грант сделал вывод, что Уолтер Уитмор обсуждал с Лиз последнюю новость — полицейское расследование.
Лиз не забыла, однако, что в Триммингсе она — секретарь и официальный представитель, и позаботилась, чтобы принесли напитки. Грант пить отказался — он на службе, — но внимание к себе оценил.
— Наверное, это только начало, — проговорила Лиз, указывая на лежавшую на столе развернутую «Уикхем таймс» (выходит раз в неделю, по пятницам). На малопримечательном месте виднелся заголовок: «Пропал молодой человек». Уолтер упоминался как «мистер Уолтер Уитмор, Триммингс, Сэлкотт-Сент-Мэри, известный радиокомментатор».
— Да, — отозвался Грант. — Завтра это появится в утренних газетах.
«Спутник Уитмора утонул» — вот что будет стоять завтра на первой полосе. «Тайна Уитмора», «Исчезает друг Уитмора».
— Очень скверно для Уолтера.
— Да. Пресса больна чем-то вроде инфляции. Ее власть выходит далеко за рамки ее действительного значения.
— А как вы думаете, инспектор, что с ним случилось? С Лесли?
— Ну, одно время мне казалось, что он, вероятно, исчез добровольно.
— Добровольно! Но почему?
— На это я ответить не могу, пока не узнаю побольше о Лесли Сирле. Вы не думаете, например, что он мог просто устроить розыгрыш?
— О нет. Совершенно определенно — не мог. Он совсем не такого типа человек. Он очень спокойный, и у него прекрасный вкус. Он не увидел бы ничего забавного в подобном розыгрыше. Кроме того, куда он мог исчезнуть, бросив здесь все свои вещи? Ведь у него не осталось ничего, кроме того, что на нем.
— Кстати, о его вещах. Вы никогда не заглядывали внутрь его лакированного жестяного ящика?
— Это фотокоробка. Кажется, один раз заглядывала. Помню, подумала: как аккуратно все уложено.
— Что-то вынуто из нижнего отделения, и я не нашел ничего, что могло бы заполнить пустоту. Как вы думаете, вы не смогли бы определить, чего там не хватает?
— Уверена, что не смогу. Я ничего подробно не помню. Только аккуратность. Там были химикалии, слайды и все такое.
— Он держал ящик запертым?
— Он запирал его, это я знаю. Ведь среди реактивов есть и ядовитые. Но не думаю, чтобы ящик был заперт всегда. А теперь он заперт?
— Нет. А иначе как бы я узнал, что там есть пустое место?
— Я думала, полисмены могут открыть все, что угодно.
— Могут, но не имеют права.
Лиз слегка улыбнулась и проговорила:
— Ох, у меня с этими глаголами[601] всегда была беда в школе.
— Между прочим, — сказал Грант, — вы узнаете эту перчатку? — И вытащил перчатку из кармана.
— Да, — ответила Лиз, слегка заинтересовавшись. — Похоже, это моя. Где вы ее нашли?
— В ящике с носовыми платками Сирла.
Как будто потревожил змею, подумал Грант. Мгновенно сжалась и ускользнула. Только что Лиз отвечала прямо и искренне. В следующее мгновение она напряглась и приготовилась защищаться.
— Как странно, — произнесла она сдавленным голосом. — Должно быть, он подобрал ее и хотел вернуть мне. Я вожу с собой в отделении для перчаток запасную пару, поприличнее, а машину веду в старых. Может, одна из парадной пары как-нибудь вывалилась.
— Понимаю.
— Эта перчатка, несомненно, из тех, что я держу в машине. Вполне годится для визитов или похода в магазины, при этом не слишком шикарная, можно носить каждый день.
— Вы не против, если я возьму ее ненадолго с собой?
— Нет, конечно, не против. Это вещественное доказательство? — попыталась она вежливо поиронизировать.
— Не совсем. Но все, что находилось в комнате Сирла, может в один прекрасный момент стать важным.
— Думаю, эта перчатка скорее собьет вас с пути, чем поможет, инспектор. Но в любом случае — берите ее.
Гранту понравилась решительная нотка, прозвучавшая в голосе Лиз. Он был рад, что она быстро вновь обрела присутствие духа. Гранту никогда не доставляло удовольствия дразнить змей.
— Не сможет мистер Уитмор сказать, что вынуто из ящика?
— Сомневаюсь, но попробуем. — Лиз направилась к двери, чтобы позвать Уолтера.
— А кто-нибудь из домочадцев?
— Ну, тетя Лавиния не сможет. Она никогда не знает, что творится в ее собственном шкафу. И мама не сможет, потому что она никогда и близко не подходит к комнате в башне, разве только сунет голову в дверь посмотреть, убрана ли постель и вытерта ли пыль. Но можно спросить слуг.
Вместе со всеми Грант снова поднялся в спальню в башне и показал, о каком пустом месте в фотоящике идет речь. Что за продолговатый предмет мог лежать здесь?
— Пакет с какими-нибудь химикалиями, которые он уже использовал, — высказал предположение Уолтер.
— Я думал об этом, но все необходимые фотографу реактивы на месте и, похоже, вообще не тронуты. Вы не припоминаете ничего, что видели у него и что могло бы заполнить эту пустоту?
Вспомнить они не могли. И Элис, горничная, тоже не могла.
Кроме нее, никто не убирал комнату мистера Сирла, сказала она. Миссис Кламп каждый день приходит из деревни помогать, но она не убирает спальни. Только лестницы, коридоры, кабинеты — и все.
Грант смотрел на присутствующих и размышлял. Лицо Уитмора было бесстрастным, как у игрока в покер. Лиз, казалось, заинтересовала эта загадка, но при этом она выглядела обеспокоенной. Элис, — пожалуй, испуганной: как бы ее не сочли виновной в том, что из ящика что-то пропало.
Ничего Грант не добился.
Уитмор проводил его до входных дверей и, выглянув в темноту, спросил:
— Где ваша машина?
— Я оставил ее у подъездной аллеи, — объяснил Грант. — Спокойной ночи и спасибо вам за готовность помочь.
Он вышел в темноту, подождал, пока Уолтер закроет дверь, а потом обогнул дом и подошел к гаражу. Ворота его были еще открыты. Внутри стояли три машины. Грант проверил отделения для перчаток во всех трех, но ни в одном не нашел непарной перчатки. Ни в одном не было вообще никаких перчаток.
Глава 10
Вильямс сидел в уголке кафе в «Белом Олене», поглощая поздний ужин. Хозяин заведения приветствовал Гранта и пошел принести ужин и ему. Вильямс с помощью местной полиции всю вторую половину дня занимался долгими, утомительными и безрезультатными розысками, а вечером проверял теорию Гранта о том, что Сирл, быть может, сбежал по лишь ему одному известным причинам. В десять часов вечера, побеседовав с двадцать третьим шофером автобуса, расспросив последнего из имевшихся в наличии носильщиков на железнодорожной станции и пробормотав: «Ну и денек», Вильямс отдыхал за кружкой пива и тарелкой сосисок с картофельным пюре.
— Ничего, — проговорил он, отвечая на вопрос Гранта. — Никого хоть сколько-нибудь похожего на него. А как ваши успехи, сэр?
— Ничего, что хоть как-то прояснило бы положение.
— Писем среди его вещей не нашли?
— Ни одного. Вероятно, они у него в бумажнике, если вообще есть. Ничего, кроме пакета фотографий.
— Фотографии? — Вильямс навострил уши.
— Все сделаны здесь, после его приезда.
— О-о! Наверное, есть и снимки девушки Уолтера Уитмора?
— Да, и к тому же много.
— Правда? Она специально позировала?
— Нет, Вильямс, нет. Ее голова на фоне залитого солнцем неба, с веткой цветущего миндаля наискосок снимка, — такого типа.
— Она фотогенична, как вы считаете? Блондинка?
— Нет, она маленькое, темноволосое, скромное создание с милым личиком.
— О! Чего ради он тогда фотографировал ее? Наверное, влюбился.
— Не знаю, — проговорил Грант и, пока перед ним ставили на стол еду, не произнес ни слова.
— Право же, вы должны хотя бы раз попробовать эти пикули, сэр, — проговорил Вильямс. — Они замечательные.
— В пятьсот седьмой раз — я не ем пикулей. У меня свой вкус, Вильямс. Драгоценное качество. И я совсем не собираюсь отказываться от него ради пикулей. Среди вещей Сирла обнаружилось кое-что более наводящее на размышления, чем фотографии.
— Что, сэр?
— Одна из перчаток девицы, — ответил Грант и рассказал, где он ее нашел.
— Так, так, — отозвался Вильямс, после чего некоторое время молча переваривал полученную информацию. — Не похоже, чтобы он далеко продвинулся.
— Что?
— Роман. Если он все еще на стадии, когда воруют перчатки. Честно говоря, сэр, в наши дни, в наш век — я не представлял себе, что кто-то может дойти до того, чтобы охотиться за перчаткой.
Грант расхохотался.
— Я же говорил вам, она милая девушка. Скажите, Вильямс, какой предмет может заполнить пространство десять на три с половиной на четыре дюйма?
— Пакет с мылом, — не колеблясь ответил Вильямс.
— Не похоже. А что еще?
— Блок сигарет?
— Нет. Он не курит.
— Какая-нибудь еда? Плавленый сыр имеет такую форму.
— Нет.
— Револьвер? Револьвер в кобуре, я имею в виду.
— Не думаю. Зачем ему револьвер?
— А какое пространство вы стараетесь заполнить, сэр? — спросил Вильямс, и Грант описал фотографический ящик и пустое место среди аккуратно уложенных вещей.
— Что бы это ни было, это твердый предмет четких, определенных очертаний. Ни одна из вещей Сирла, из тех, что в комнате, не подходит, чтобы заполнить это пространство. Так что либо он вынул этот предмет и выбросил его, либо по какой-то причине его убрали, когда Сирл исчез.
— Это означало бы, что в Триммингсе скрывают улики! Вы по-прежнему считаете, сэр, что Уитмор не того типа?
— Какого типа?
— Который может стукнуть по голове.
— Думаю, Уитмор скорее способен обидеться, чем разъяриться.
— Ну, чтобы утопить Сирла, ему не обязательно было яриться. Столкнул его, обидевшись, в воду, а в темноте не смог спасти. Потом от страха потерял голову и стал утверждать, что ничего об этом не знает. Видит Бог, такое случается часто.
— Вы думаете, это сделал Уитмор, но это наполовину несчастный случай?
— Не знаю, кто это сделал. Однако я твердо убежден, сэр, что Сирл в реке.
— Но инспектор Роджерс утверждает, что протралил ее очень тщательно.
— Дежурный сержант в полицейском участке Уикхема говорит, что ил со дна Рашмер доходит почти до Австралии.
— Да. Знаю. Старший констебль, как я понимаю, выразил такое же мнение, но менее красочно.
— В конце концов, — продолжал Вильямс, как бы не слыша, — что могло с ним приключиться, если он не утонул? Если верить тем, с кем я беседовал, он не тот тип, на которого взглянешь — и тут же забудешь.
Да. Это правда. Грант вспомнил юношу, стоявшего в дверях Кормака Росса, и подумал, как мало соответствовало бы официальное описание исчезнувшего человека тому индивидууму, которого они ищут.
Мужчина чуть старше двадцати лет, рост пять футов восемь с половиной дюймов, стройный, светлый блондин, глаза серые, нос прямой, скулы несколько выступающие, рот широкий. Ходит без шляпы. Одет в макинтош с поясом, под ним — серая твидовая куртка, серый пуловер, голубая спортивная рубашка, серые фланелевые брюки, коричневые американские туфли с пряжкой на подъеме вместо шнурков. Тихий голос, говорит с американским акцентом.
Ни один человек, прочитав такое описание, не сможет представить себе, каков в действительности Лесли Сирл. С другой стороны, никто, как заметил Вильямс, не мог, увидев однажды живого Сирла, удержаться, чтобы не обернуться, не посмотреть на него вторично. Не было человека, который бы встретил его и не запомнил.
— Кроме того, зачем ему исчезать? — настаивал Вильямс.
— Этого я сказать не могу, не узнав побольше о его прошлом. Завтра утром я прежде всего попрошу Ярд заняться этим. Где-то в Англии у Сирла есть кузина, но я бы хотел разузнать о его американском прошлом. Меня преследует мысль, что способ устраивать дела, стукнув по голове, более привычен в Калифорнии, чем на Би-би-си.
— Никому в Калифорнии никакой пользы от исчезновения Сирла нет, — заметил Вильямс.
— Верно, — согласился Грант, подумав, и стал перебирать в уме обитателей Триммингса. Завтра надо будет начинать сбор алиби. Вильямс, конечно, прав. Совершенно невероятно, просто на грани фантастики, что Сирл исчез по собственной воле. В разговоре с Лиз Гарроуби Грант предположил, что Сирл задумал розыгрыш, чтобы досадить Уолтеру Уитмору, но Лиз отвергла подобное предположение. Однако, даже если Лиз ошиблась в оценке Сирла, как удалось ему осуществить свой замысел?
— А еще имеется проезжавшая случайно машина.
— Что-что, сэр?
— Мы расспрашивали людей на рейсовом транспорте, но добраться до тех, кто случайно проезжал по шоссе и мог подобрать Сирла, нам не удастся.
Вильямс, размякший от пива и сосисок, благодушно улыбнулся:
— Вы делаете пятьдесят седьмую попытку, сэр, как в школе для девочек.
— Пятьдесят седьмую?
— Вы сдаетесь с ужасной неохотой. Все еще влюблены в версию о том, что он скрылся добровольно?
— Все еще думаю, что от берега реки он мог пройти через поля и выйти на шоссе Уикхем — Кроум, а там сесть к кому-нибудь в машину. Я спрошу Брюса утром, нельзя ли объявить об исчезновении Сирла по радио, дать SOS, так сказать.
— А после того, как он сел в машину, что, сэр? Что дальше? Все его вещи в Триммингсе.
— Мы этого не знаем. Мы ничего не знаем о том, что он делал до того, как появился на вечеринке у Росса. Он фотограф — вот все, что нам известно. Он говорит, что у него в Англии есть только одна кузина, но у него может быть полдюжины домов и дюжина жен.
— Возможно, но почему не уйти обычным путем, после того как путешествие закончится? В конце концов, он наверняка хотел заработать на этой книге, которую они собирались выпускать, ведь так? Зачем весь этот переполох?
— Чтобы досадить Уолтеру.
— Ну да? Вы так думаете? А почему?
— Вероятно, потому, что я сам был бы не прочь досадить Уолтеру, — ответил Грант, криво улыбнувшись. — Наверное, это просто невысказанное желание с моей стороны.
— Для Уитмора все это, конечно, очень плохо, — согласился Вильямс, но в голосе его не слышалось никакого сочувствия.
— Очень. Не удивлюсь, если это приведет к гражданской войне.
— Войне?
— Верные уитмориты против скептиков.
— Он принял это близко к сердцу?
— Думаю, он еще не понимает, что на него обрушилось. И не поймет, пока завтра не увидит утренние газеты.
— Репортеры уже атаковали его?
— Еще не успели. Парень из «Кларион» появился у него на пороге сегодня в пять часов вечера, так я понял, но в Триммингс его не пустили, и он отправился в «Лебедь» собирать информацию.
— Полагаю, «Кларион» только первая ласточка. Лучше бы Уитмор поговорил с газетчиком, кто бы это ни был. Почему он этого не сделал?
— Ждет своего адвоката, который должен приехать из города, — так он сказал.
— А кто это был, вы знаете? Из «Кларион»?
— Джемми Хопкинс.
— Джемми? Я бы предпочел иметь у себя на хвосте огнедышащего дракона, чем Джемми Хопкинса. У него вообще нет совести. Если он не получит интервью, то просто выдумает историю. Знаете, мне становится жалко Уолтера Уитмора. Наверное, он не подумал о Джемми, иначе он не решился бы спихивать Сирла в реку.
— Ну и кто теперь в роли упрямца? — проговорил Грант.
Глава 11
Утром Грант позвонил по телефону своему шефу, но не успел и рта раскрыть, как Брюс перебил его:
— Это вы, Грант? Отошлите-ка скорее этого вашего Пятницу обратно. Прошлой ночью Бенни Сколл очистил сейф в спальне Поппи Пламтр.
— Я полагал, что все драгоценности Поппи — у Дяди.
— Это не так с тех пор, как она завела нового папочку.
— Вы уверены, что это Бенни?
— Совершенно уверен. Все приметы — его. Телефонный звонок, чтобы убрать дежурного лифтера из холла, отсутствие отпечатков пальцев, еда — молоко и хлеб с джемом, ушел через служебный вход. Только расписавшись в книге для посетителей, он мог высказаться яснее.
— Так. Когда преступники научатся менять почерк, нам придется бросать работу.
— Мне нужен Вильямс, чтобы брать Бенни. Вильямс знает Бенни как свои пять пальцев. Так что пришлите его обратно. Как ваши дела?
— Не слишком хорошо.
— Да? А что?
— Трупа нет. Есть два варианта: Сирл умер в результате несчастного случая или по злому умыслу либо исчез, преследуя собственные цели.
— Какие цели?
— Возможно, это розыгрыш.
— Лучше бы ему не проделывать такие штуки с нами.
— Конечно, не исключается и полная амнезия.
— Хорошо бы так.
— Мне нужны две вещи, сэр. Объявление по радио, SOS, это одно. А другое — кое-какая информация из полиции Сан-Франциско о Сирле. Мы работаем в темноте, ничего не зная о нем. В Англии у него есть единственная родственница — художница, с которой он не общался. Или говорит, что не общался. Может, когда она увидит сегодняшние утренние газеты, она свяжется с нами. Однако скорее всего она мало что о нем знает.
— И вы думаете, что полиция Сан-Франциско знает больше?
— Как я понял, когда он проводил зимние месяцы на Побережье, в Сан-Франциско была его штаб-квартира. Несомненно, они могут раскопать там что-нибудь про Сирла. Давайте выясним, не попадал ли он в какие-нибудь передряги и нет ли там человека, который по какой-либо причине хотел бы его убить.
— Мне кажется, масса народа готова убить фотографа. Ладно, мы запросим Сан-Франциско.
— Благодарю вас, сэр. А как насчет SOS?
— Би-би-си не очень-то любит, когда их дорогую маленькую станцию используют для полицейских объявлений. Что вы хотели бы заявить?
— Я хотел бы попросить того, кто в среду вечером посадил в машину молодого человека на шоссе Уикхем — Кроум, связаться с нами.
— Ладно, я позабочусь об этом. Полагаю, весь рейсовый транспорт вы проверили?
— Абсолютно весь, сэр. Ни малейшего следа, нигде. При том, что незаметным Сирла никак не назовешь. Если только его не ждал на лугу самолет — что, насколько мне известно, случается лишь в книжках для мальчишек, единственный способ, каким он мог убраться из этой округи, — это пройти полями к шоссе и сесть в проходившую мимо машину.
— Никаких подозрений, что это убийство?
— Пока нет. Но утром я посмотрю, есть ли алиби у местных жителей.
— Отошлите-ка Вильямса, прежде чем приметесь за что-нибудь другое. Когда придет сообщение из Сан-Франциско, я отправлю его в участок Уикхема.
— Очень хорошо, сэр. Благодарю вас.
Грант повесил трубку и пошел сообщить Вильямсу о полученном приказании.
— Чертов Бенни, — заворчал Вильямс. — Как раз, когда мне начал нравиться этот деревенский уголок. Уж очень не время сейчас воевать с Бенни.
— Он крепкий орешек?
— Бенни? Нет! Он ужасен. Он будет орать без конца, утверждая, что мы травим его, и что не успел он «завязать» и стать паинькой, как мы налетаем на него, хватаем и начинаем допрашивать, и что у него нет никаких шансов и так далее. Меня тошнит от него. Если Бенни увидит, что к нему приближается честная работа, хоть на один-единственный денек, он убежит, да так, словно смерть гонится за ним по пятам. Но орать он горазд. Однажды он даже спровоцировал запрос в парламенте. Вы не поверите, но у некоторых М. П.[602] хватило ума потребовать, чтобы им оплачивали железнодорожный проезд до родного города. А мне что, надо возвращаться в Лондон поездом?
— Надеюсь, Роджерс даст вам машину до Кроума, а там вы можете сесть на скорый, — ответил Грант, улыбнувшись при виде ужаса, отразившегося на лице его коллеги при одной мысли о поездке на поезде. Сам он вернулся к телефону и позвонил Марте Халлард в Милл-Хаус в Сэлкотт-Сент-Мэри.
— Алан! — воскликнула Марта. — Как мило! Где вы?
— В «Белом Олене», в Уикхеме.
— Бедняжка!
— О, здесь не так уж плохо.
— Не разыгрывайте благородство. Вы же знаете, что это примитив, граничащий с тюрьмой. Кстати, вы слыхали о нашей последней сенсации?
— Слыхал. Поэтому-то я и в Уикхеме.
Последовало долгое молчание.
Потом Марта проговорила:
— Вы хотите сказать, что Ярд заинтересовался тем, что утонул Лесли Сирл?
— Скажем, что он исчез.
— Вы хотите сказать, есть какая-то доля правды в этих слухах об их ссоре с Уолтером?
— Боюсь, я не могу обсуждать это по телефону. Хотел спросить вас, будете ли вы дома сегодня вечером. Я бы зашел.
— Ну конечно, приходите и оставайтесь. Не можете же вы жить в том ужасном отеле. Я скажу миссис…
— Благодарю вас от всего сердца, но остаться у вас я не могу. Я должен быть здесь, в Уикхеме, в центре событий. Но если вы согласны накормить меня обедом…
— Конечно, я накормлю вас. Вы получите вкусный обед, дорогой. Мой омлет, и цыпленка миссис Трапп, и бутылку хорошего старого вина, которое отобьет у вас вкус пива из«Белого Оленя».
Слегка воодушевленный перспективой в конце дня насладиться благами цивилизации, Грант отправился выполнять намеченную на сегодня программу и начал с Триммингса. Раз уж надо проверять алиби, начинать следовало, естественно, с Триммингса: его обитатели должны первыми дать отчет о своих действиях.
Утро было ясное, голубое. После ночных весенних заморозков быстро теплело. Действительно, как заметил Вильямс, жалко было терять такой денек на, всяких там Бенни, но вид Триммингса, беззастенчиво красовавшегося в ярком свете солнца, вернул Гранту поколебленное было хорошее настроение. Накануне вечером, в темноте, он мог разглядеть только освещенный парадный вход. Сегодня весь дом был на виду, чудовищно претенциозный, со всеми его подчеркнутыми украшениями, и Грант был так потрясен, что его нога сама нажала на тормоз. Он остановил машину на повороте подъездной аллеи и какое-то время сидел, глядя на Триммингс.
— Я хорошо понимаю, что вы чувствуете, — произнес голос у самого его локтя. Это была Лиз. Грант заметил, что у нее слегка припухли глаза, но в остальном она выглядела спокойной и, похоже, была настроена дружелюбно.
— Доброе утро, — поздоровался Грант. — Сегодня утром я немного расстроился, что нельзя все бросить и отправиться ловить рыбу. Но сейчас мне уже лучше.
— Да, дом очень интересный, — согласилась Лиз. — Даже не верится, что он настоящий. Кажется, что спроектировать его не мог никто: он просто сам появился.
Ее мысли отвлеклись от дома, она как бы осознала присутствие Гранта. Он увидел, что вопрос дрожит у нее на губах.
— Простите, что досаждаю вам, но сегодня утром мне бы хотелось отсечь подлесок в этом деле.
— «Подлесок»?
— Я хочу отсечь людей, которые никак не могут иметь к нему отношение.
— Понимаю. Вы собираете алиби.
— Да. — Грант открыл дверцу машины, приглашая Лиз проехать небольшое расстояние до дома.
— Ну, я надеюсь, у всех наших хорошее алиби. К сожалению, должна сказать, что у меня такового нет вообще. Это первое, о чем я подумала, когда узнала, кто вы. Очень странно, каким преступником чувствует себя ни в чем не повинный человек, когда не может дать отчет о своих поступках за каждую из тысячи минут. Вам нужны алиби всех? И тети Лавинии, и мамы, и остальных?
— И слуг тоже. Всех, кто так или иначе общался с Лесли Сирлом.
— Тогда лучше начать с тети Вин. До того, как она примется за свои утренние труды. Она каждое утро в течение двух часов диктует и любит начинать пунктуально.
— А где были вы, мисс Гарроуби? — спросил Грант, когда они подъехали ко входу.
— В имеющее значение время?
Он подумал, что в устах Лиз это прозвучало подчеркнуто холодно. «Имеющее значение» — это время, когда Лесли Сирл, возможно, расстался с жизнью, и Грант подозревал, что Лиз не забывала об этом.
— Да. Вечером в среду.
— Как пишут в детективных романах, я «удалилась в свою комнату». И не говорите, что было еще рано для того, чтобы «удалиться». Знаю. Я люблю уйти к себе пораньше. Люблю остаться одна в конце дня.
— Читаете?
— Не удивляйтесь, инспектор, но я пишу.
— И вы тоже?
— Я разочаровала вас?
— Вы заинтересовали меня. А что вы пишете — или нельзя спрашивать?
— Я пишу о безобидных героинях, которых создаю по своей собственной системе. Вот и все.
— Тильда, помощница кухарки, с заячьей губой и склонностью к убийству, как противоядие Морин?
Лиз посмотрела на Гранта долгим взглядом, а потом проговорила:
— Вы очень странный тип полисмена.
— Боюсь, у вас просто странное представление о полисменах, — возразил Грант живо. — Будьте добры, скажите вашей тете, что я здесь.
Но оказалось, что оповещать о приходе инспектора нет необходимости. Когда Лиз, взбежав по ступеням, вошла в двери, мисс Фитч была в холле. Увидев племянницу, она заявила тоном скорее удивленным, чем недовольным:
— Лиз, ты опоздала на пять минут! — Тут она заметила Гранта и добавила: — Так-так, верно. Мне говорили, что никто не примет вас за полицейского. Мне очень хотелось встретиться с вами. Официально, так сказать. Наше последнее свидание трудно назвать встречей, не правда ли? Проходите в утреннюю комнату. То есть в ту, где я работаю.
Грант извинился, что отрывает ее от диктовки, но мисс Фитч объявила, что очень рада отложить хотя бы на десять минут свои дела «с этой утомительной девицей». Грант счел, что «утомительная девица» — очередная героиня.
Мисс Фитч, как выяснилось, в среду вечером тоже рано ушла к себе. Точнее, в половине десятого.
— Когда все в семье целый день толкутся друг у друга на глазах, как мы, — сказала мисс Фитч, — вечером они стараются пораньше уйти к себе. — Она послушала радио, а потом полежала немного. Она не спала и слышала, как вернулась домой ее сестра, но в конце концов заснула довольно рано.
— Вернулась домой? — переспросил Грант. — Значит, миссис Гарроуби выходила?
— Да. Она была на собрании М.О.П.В.[603]
Потом Грант спросил ее о Сирле: что она думает о нем, что, по ее мнению, он способен сделать, а что нет. Гранту показалось, что она была на удивление осторожна в оценке Сирла, словно все время выбирала, куда ступить. Интересно почему, подумал он. Когда он спросил: «Скажите, пожалуйста, как вы считаете, Сирл был влюблен в вашу племянницу?» — мисс Фитч, казалось, была поражена и ответила: «Нет, конечно же нет!» — слишком поспешно и слишком убежденно.
— Он не оказывал ей знаков внимания?
— Дорогой мой, — проговорила мисс Фитч, — все американцы оказывают внимание девушкам. Это условный рефлекс. Они делают это так же автоматически, как дышат.
— Вы полагаете, он не был серьезно заинтересован ею?
— Уверена, что нет.
— Ваш племянник вчера вечером сказал мне, что они с Сирлом, спускаясь по реке, каждый вече звонили вам по телефону.
— Да.
— Знал ли кто-нибудь из домочадцев, что они сообщили вам в среду вечером? Я имею в виду — где разбили лагерь?
— Думаю, да. Семья, несомненно, знала. Да и слуги все время очень волновались, как проходит путешествие, так что, я полагаю, знали все.
— Большое спасибо, мисс Фитч. Вы были очень любезны.
Мисс Фитч позвала Лиз, и та проводила Гранта к своей матери, а потом вернулась в утреннюю комнату записывать, что делала очередная Морин.
Миссис Гарроуби оказалась вторым человеком, у которого не было алиби. Она присутствовала на собрании М.О.П.В. в деревенском холле, ушла оттуда, когда собрание закончилось, — в половине десятого, часть дороги домой прошла вместе с мисс Юстон-Диксон и рассталась со своей попутчицей у развилки. В Триммингс она пришла около десяти или, может, чуть позже: она шла не торопясь, так как вечер был очень хорош. Она заперла парадную дверь. Заднюю всегда запирала миссис Бретт, кухарка и экономка.
Эмме Гарроуби не удалось обмануть Гранта. Он слишком часто встречал точно таких, как она, женщин, которые за безмятежным внешним спокойствием скрывали безжалостный материнский инстинкт. Перебежал ли Сирл дорогу планам, которые Эмма строила в отношении своей дочери?
Грант спросил миссис Гарроуби о Сирле, и, отвечая, она вовсе не осторожничала, не выбирала, куда ступить. Это был очаровательный молодой человек, сказала она. Совершенно необыкновенно очаровательный. Он им всем ужасно нравился, и они все потрясены случившейся трагедией.
Грант поймал себя на том, что в ответ на эту сентенцию мысленно выразительно хрюкнул.
Его стало слегка подташнивать от присутствия миссис Гарроуби, и он был рад, когда она ушла, пообещав ему прислать Элис. Элис вечер в среду провела вне дома: ее пригласил помощник садовника, и вернулась она в четверть одиннадцатого. После чего миссис Бретт заперла за ней дверь, и они обе, выпив по чашке какао, поднялись к себе в комнаты, расположенные в заднем крыле. Элис действительно была потрясена судьбой, так неожиданно постигшей Лесли Сирла. Никогда, объявила она, ей не приходилось прислуживать такому милому молодому человеку. Она встречала дюжины молодых людей, джентльменов и прочих, но все они думали о лодыжках девушек, а мистер Сирл — единственный, кого она видела, думал об их ногах.
— Ногах?
Элис говорила об этом и миссис Бретт, и Эдит, горничной, прислуживающей за столом. Мистер Сирл мог сказать: «Вы можете сделать то-то и так-то, и тогда вам не придется снова подниматься сюда, не так ли?» Из этого Элис могла сделать только один вывод: такое поведение характерно для американцев, потому что всем англичанам, с которыми ей когда-либо приходилось сталкиваться, было абсолютно наплевать, нужно вам будет опять подниматься наверх или нет.
Эдит, похоже, тоже горевала о Лесли Сирле. Не потому, что он заботился о ее ногах, а потому, что он был такой красивый. Эдит была о себе очень высокого мнения. Она считала себя девушкой утонченной, слишком утонченной, чтобы проводить вечера с помощником садовника. Эдит ушла к себе в комнату и слушала ту же передачу по радио, что и ее хозяйка. Эдит слышала, как поднимались миссис Бретт и Элис, однако комнаты, расположенные в заднем крыле, находятся так далеко, что не слышно, когда входят в парадную дверь, поэтому она не знает, когда пришла миссис Гарроуби.
И миссис Бретт не знала. После обеда, объяснила миссис Бретт, хозяева обычно больше не беспокоят слуг. Эдит ставила на стол питье на ночь, а потом, как правило, обитую сукном дверь из кухни в холл не открывали до следующего утра. Миссис Бретт служила у мисс Фитч уже девять лет, и мисс Фитч доверяла ей следить за домом и командовать слугами.
Когда Грант, выйдя, направлялся к своей машине, он увидел Уолтера Уитмора. Тот стоял прислонившись к стене террасы. Уолтер пожелал Гранту доброго утра и выразил надежду, что алиби удовлетворили инспектора.
Гранту показалось, что настроение у Уолтера Уитмора явно ухудшилось. Разница была заметна даже по сравнению с тем, каким оно было всего несколько часов назад, вчера поздним вечером. Интересно, подумал Грант, не результат ли это чтения утренних газет — то, что лицо Уолтера так вытянулось.
— Пресса уже набросилась на вас? — спросил Грант.
— Они были здесь сразу после завтрака.
— Вы поговорили с ними?
— Я видел их, если вы это имеете в виду. А сказать мне им нечего. Они гораздо больше услышат в «Лебеде».
— Ваш адвокат приехал?
— Да. Он спит.
— Спит?!
— Он выехал из Лондона в половине шестого и присутствовал при интервью. А накануне ему пришлось спешно заканчивать дела, и лег он только в два часа ночи. Вы понимаете, что я хочу сказать.
Грант распрощался с Уолтером, испытывая непонятное, нелогичное чувство облегчения, и поехал в «Лебедь». Он завел машину в вымощенный кирпичом задний двор, вышел из нее и постучал в боковую дверь.
С шумом была поднята щеколда, и в щель просунулась физиономия Рива.
— Без толку стучать, — проговорил он. — Придется подождать, время открытия еще не наступило.
— Как полисмен я оценил по достоинству и приветствую учиненный мне выговор, — отозвался Грант. — Но хотел бы войти и минутку поговорить с вами.
— Вы больше похожи на военного, чем на полицейского, — произнес, улыбаясь, бывший матрос, ведя Гранта в зал. — Ну прямо точная копия майора, который как-то был с нами по другую сторону Пролива.[604] Вандалер была его фамилия. Никогда не встречались?
Грант не встречал майора Вандалера.
— Ладно, чем я могу быть вам полезен, сэр? Вы по поводу этого дела с Сирлом, я так понимаю.
— Вы можете сделать для меня две вещи. Я хотел бы, чтобы вы подумали — я подчеркиваю — подумали и высказали свое мнение о том, что произошло между Уитмором и Сирлом в среду вечером. И мне нужно бы иметь список тех, кто был тогда в среду в баре, и знать, когда они покинули его.
Рассказ Рива отражал объективную позицию военного человека. Он не собирался приукрашивать случившееся, и его отчет не носил отпечатка личного отношения, как это зачастую бывает у людей искусства. Грант почувствовал облегчение. Было похоже на то, как если бы он слушал доклад одного из своих людей. Явной неприязни между мужчинами не было, сказал Рив. Он вообще бы их не заметил, если бы не тот факт, что они оказались как бы в изоляции — никто не отошел от стойки и не подсел к ним. Обычно один-другой посетитель подходит к столику, чтобы продолжить беседу, начатую у стойки. Однако в среду эти двое словно не замечали никого вокруг, и народ предпочел не вмешиваться в их разговор.
— Они были как два пса, которые ходят кругами один около другого, — пояснил Рив. — Ссоры не было, но очень напряженная атмосфера. Взрыв мог произойти в любую минуту, если вы понимаете, что я хочу сказать.
— Вы видели, как ушел Уитмор?
— Никто не видел. Ребята спорили, кто в каком году играл в крикет за Австралию. Они замолчали, когда хлопнула дверь, вот и все. Потом Билл Мэддокс, увидев, что Сирл остался один, подошел и поговорил с ним. Мэддокс держит гараж на краю деревни.
— Благодарю. А теперь еще назовите, кто был в баре.
Грант составил список: фамилии окрестных жителей, в большинстве своем неизменные с библейских времен. Выходя из паба и направляясь к машине, Грант спросил:
— У вас остановился кто-нибудь из газетчиков?
— Трое, — ответил Рив. — Из «Кларион», «Морнинг ньюс» и «Пост». Они все шныряют по деревне, выуживают новости.
— Добавьте еще: Скотланд-Ярд, — кривовато усмехнулся Грант и уехал искать Билла Мэддокса.
На краю деревни стояло высокое бревенчатое строение, на котором красовалась полуоблезшая вывеска: «УИЛЬЯМ МЭДДОКС И СЫН, ПЛОТНИКИ И СТРОИТЕЛИ ЛОДОК». На одном углу здания ярко-желтой и черной красками была нарисована стрела, указывавшая вбок, во двор. Надпись на стреле гласила: «ГАРАЖ».
— Как это вы ухитряетесь управляться и с тем, и с другим? — проговорил Грант, представившись Биллу Мэддоксу и кивком указывая на стрелу.
— О, «Мэддокс и сын» — это отец, не я.
— А я думал, сын — это, вероятно, вы.
Билл улыбнулся:
— О нет. Мой дед был «сын». Это дело основал мой прадед. И до сих пор они — лучшие плотники, хоть это и я говорю. Вам нужна информация, инспектор?
Выслушав все, что мог сообщить ему Мэддокс, Грант уже собрался уходить, как Мэддокс вдруг спросил:
— Вы случайно не знаете газетчика по фамилии Хопкинс?
— Хопкинс из «Кларион»? Встречал.
— Он тут отирался несколько часов сегодня утром, и знаете, что этот тип думает? Он считает, что вся эта история просто рекламный трюк, чтобы лучше распродать книгу, которую они собирались написать.
Сочетание такой типично хопкинсовской реакции и недоумевающего выражения на лице Билла оказалось слишком большим испытанием для Гранта: он прислонился к машине и расхохотался.
— Профессия журналиста очень портит человека, — еле выговорил он. — А Джемми Хопкинс и родился «с порчинкой», как сказал бы один мой друг.
— О-о, — протянул Билл, все еще не переставая удивляться. — А я бы сказал — он глупый. Просто глупый.
— Кстати, вы не знаете, где я мог бы найти Сержа Ратова?
— Боюсь, он еще в постели, но если встал, то вы найдете его облокотившимся на прилавок почты. Почта находится в лавке. На этой же улице, на полпути к центру. Серж живет в пристройке рядом с лавкой.
Но Серж еще не успел занять свою обычную позицию у почтового прилавка. После беседы с репортером он шел по улице зажав под мышкой газету. Грант никогда до этого не видел Сержа Ратова, но был достаточно хорошо знаком с отличительными чертами человека его профессии, чтобы в деревенском прохожем распознать балетного танцовщика. Одежда, болтающаяся на тощем теле, общее впечатление недокормленности, вид совершенно расслабленный, как будто ощущаешь, что мышцы вялы, как растянувшаяся резинка. Грант никогда не переставал поражаться тому, как блестящие кавалеры, без всякого усилия, лишь слегка сжав зубы, вскидывающие на руках балерин, выйдя из театра, становятся похожими на жалких мальчишек-разносчиков, с трудом толкающих свои тележки.
Поравнявшись с Сержем, Грант остановил машину и обратился к танцовщику:
— Мистер Ратов?
— Это я.
— Я инспектор уголовного розыска Грант. Могу я поговорить с вами?
— Все говорят со мной, — ответил Серж благодушно. — Почему бы и вам этого не сделать?
— О Лесли Сирле.
— Ах да. Он утонул. Восхитительно.
Грант пробормотал пару каких-то фраз о добродетели благоразумия.
— Ах, благоразумие! — растянул Серж это слово на шесть длинных слогов. — Буржуазная черта.
— Я понял так, что между вами и Сирлом произошла ссора.
— Ничего подобного.
— Но…
— Я выплеснул кружку пива ему в физиономию — вот и все.
— И вы не считаете это ссорой?
— Конечно нет. Ссориться — значит находиться на одном уровне, на равных, как вы говорите — в одном и том же ранге. С canaille[605] не ссорятся. Мой дедушка в России приказал бы отстегать его кнутом. Но здесь Англия и декаданс, поэтому я плеснул в него пивом. По крайней мере это жест.
Когда Грант потом пересказывал этот разговор Марте, она заметила:
— Не знаю, что бы делал Серж без этого дедушки в России. Отец Сержа уехал из России, когды сыну было три года, Серж ни слова не знает по-русски, и, вообще, он наполовину неаполитанец. Но все его фантазии строятся на этом дедушке в России.
— Вы, надеюсь, понимаете, — начал Грант терпеливо, — что полиция должна опросить всех, кто знал Сирла, и получить отчет в том, что они делали поздним вечером в среду.
— Правда? Как утомительно для вас. Очень она унылая — жизнь полисмена. Действие. Так ограниченно, так рудиментарно. — Серж изобразил семафор и, размахивая руками, как марионетка, стал имитировать его сигналы. — Утомительно. Очень утомительно. Понятно, конечно, но без всякой утонченности.
— Где вы были в среду начиная с девяти часов вечера и до ночи? — задал прямой вопрос Грант, решив, что все иное в этом случае — лишь пустая трата времени.
— Я танцевал, — ответил Серж.
— О! В деревенском танцзале?
У Сержа был такой вид, словно он вот-вот упадет в обморок.
— Вы полагаете, что я, я, Серж Ратов, принимал участие в этих «гоп-гоп»?
— Тогда где же вы танцевали?
— У реки.
— Что?!
— Я работаю над хореографией для нового балета. Там, на берегу реки, в весеннюю ночь меня осеняют идеи. Они растут во мне, фонтанируют. Там такая атмосфера, что я пьянею. Я могу сделать все, что угодно, мне пришла в голову прелестная мысль использовать речную музыку Машако. Она начинается с…
— В каком месте у реки?
— Что?
— В каком месте?
— Откуда мне знать? Там повсюду эта атмосфера.
— Ну, вы шли вверх по реке от Сэлкотта или вниз?
— О, конечно же вверх.
— Почему «конечно же»?
— Мне нужна большая площадка, чтобы танцевать. А такие площадки есть только выше Сэлкотта. Вниз от деревни сплошь крутые берега и утомительные переплетения корней. Корни. Грубая, непристойная штука. Они…
— Вы можете найти место, где вы танцевали в среду вечером?
— Найти?
— Показать мне.
— Каким образом? Я никогда не помню, где я был.
— Припомните, пожалуйста, вы кого-нибудь видели, пока были у реки?
— Никого, кто был бы достоин запоминания.
— «Достоин запоминания»?
— Время от времени я натыкался на любовников в траве, но они, как вы говорите, сдаются вместе с домом. Они — часть… часть декорации. Незапоминающаяся.
— Тогда, быть может, вы помните, когда вы ушли от реки в среду вечером?
— О да, прекрасно помню.
— И когда же?
— Когда полетела падающая звезда.
— В котором часу это было?
— Откуда мне знать? Терпеть не могу падающих звезд. От них у меня сводит живот. Хотя я подумал, что это был бы неплохой финал для моего балета — падающая звезда. Понимаете, как будто оттолкнулся от «Видения Розы». Это заставит город говорить, покажет всем, что я еще могу…
— Мистер Ратов, как вам кажется, каким образом Лесли Сирл мог оказаться в реке?
— Оказаться? Упал, наверное. Такая жалость. Загрязнение. Река так красива, ее следовало бы поберечь для чего-либо прекрасного. Офелия. Шалотт. Как вы думаете, из Шалотт можно сделать балет? Все, что она видит в зеркале. Это идея, не правда ли?
Грант сдался.
Он вышел из машины и пошел по улице туда, где плоский каменный фасад Ху-Хаус нарушал череду розовых, желтых и просто беленых фронтонов деревенских домов с остроконечными крышами. Ху-Хаус стоял на панели, как и другие дома, но к его входной двери вели три ступени, так что первый этаж был приподнят над уровнем улицы. Это придавало дому чувство собственного достоинства, некую отстраненность от будничных дел. Дергая ручку викторианского колокольчика, торчавшую из начищенного до блеска медного круга, Грант мысленно благословил того человека, который взял на себя труд восстановить это здание, — кем бы этот человек ни был. Он сохранил дом, не пытаясь исказить его первоначальный вид, сделав из него, таким образом, музейный экспонат. Дыхание веков исходило от стертых ступеней, от медного колокольчика. Очевидно, масса денег была потрачена, чтобы привести дом в нынешнее состояние, подобающее такому строению, и Грант подумал, что одно спасение Ху-Хаус уже оправдывает существование Тоби Таллиса.
Дверь открыл слуга, словно вышедший из какой-нибудь пьесы Тоби. Вежливый, но с непроницаемым видом. Как монолит, он загораживал собой вход.
— Мистер Таллис никогда не принимает до ленча, — произнес слуга в ответ на вопрос Гранта. — По утрам он работает. Встречи с прессой — в два часа дня. — Он потянулся рукой к двери.
— Разве я похож на репортера? — резко проговорил Грант.
— Ну нет, этого я сказать не могу, сэр.
— Нет ли у вас маленького подноса? — спросил Грант неожиданно вкрадчивым голосом.
Слуга покорно повернулся и со стоящего в холле столика в стиле Якова I взял серебряный подносик для визитных карточек.
Грант положил кусочек картона на поднос и сказал:
— Передайте мой привет мистеру Таллису и скажите, что я буду ему благодарен, если он уделит мне три минуты.
— Конечно, сэр, — поклонился слуга, боясь даже взглянуть на карточку Гранта. — Не будете ли вы так любезны войти и подождать?
Он исчез в задней части дома и закрыл за собой дверь комнаты, за которой слышалась болтовня, отнюдь не свидетельствовавшая о том, что хозяин работает. Через мгновение слуга вернулся. Не согласится ли инспектор Грант пройти? Сюда, пожалуйста. Мистер Таллис будет рад встретиться с ним.
Комната в задней части дома, как обнаружил Грант, выходила в большой сад, спускавшийся к берегу реки. Здесь был иной мир, совершенно не похожий на мир деревенской улицы, откуда Грант только что пришел. Комната была гостиной, обставленной самыми лучшими «экспонатами», которые Гранту приходилось видеть вне музеев. Тоби, в необыкновенном халате, сидел перед серебряным кофейным прибором. За спиной Тоби порхал неоперившийся юнец в еще более экстравагантном костюме, державший в руках блокнот и олицетворявший пылкое рвение. Судя по девственной чистоте листов блокнота, он являл собой скорее эмблему занятости, чем профессиональное орудие труда.
— Вы скромны, инспектор, — заявил Тоби, здороваясь с Грантом.
— Скромен?
— Три минуты! Даже газетчики обычно просят десять.
Это должно было прозвучать как комплимент Гранту, но в действительности вылилось в намек на то, что Тоби — наиболее часто интервьюируемая личность в англоязычном мире и что его время бесценно. Как всегда, все, что делал Тоби, было немного «чересчур».
Тоби представил молодого человека как Джайлса Вердена, своего секретаря, и предложил Гранту кофе. Грант сказал, что для него в такой час кофе — либо слишком поздно, либо слишком рано, но пусть мистер Таллис продолжает завтракать. И Тоби продолжал.
— Я расследую исчезновение Лесли Сирла, — проговорил Грант. — И боюсь, это вынуждает меня беспокоить людей, которые лишь отдаленно были связаны с Сирлом. Мы обязаны опросить всех, кто был знаком с Сирлом, что они делали вечером в среду.
— Инспектор, вы дарите мне блаженство, которое я уже потерял надежду обрести. Мне всегда безумно хотелось, чтобы когда-нибудь меня допросили, что я делал в девять тридцать вечера в пятницу тринадцатого числа, но я, право, не мог рассчитывать, что это со мной случится.
— Теперь, когда это случилось, надеюсь, у вас есть основательное алиби на тот вечер.
— У моего алиби есть по крайней мере одно достоинство — простота. Джайлс и я провели эти дивные полночные часы, обсуждая акт второй, сцену первую. Прозаично, инспектор, но необходимо. Я — деловой человек.
Грант перевел взгляд с делового человека на Джайлса и пришел к выводу, что молодой человек находится на той стадии ученичества, когда он сознается даже в убийстве, если это доставит удовольствие Тоби. А такая мелочь, как подтверждение алиби, — плевое дело.
— И мистер Верлен подтверждает это, конечно, — сказал Грант.
— Да, о да, конечно. Конечно, подтверждаю, — затараторил Джайлс, сыпля утвердительными восклицаниями в пользу своего патрона.
— Это действительно трагедия — то, что он утонул, — заметил Тоби, прихлебывая кофе. — Общая сумма красоты мира не так велика, чтобы позволить попусту расточать ее. Шеллиевский конец, конечно, и очень подходит к данному субъекту. Вы знаете мемориал Шелли в Оксфорде, инспектор?
Грант знал мемориал. Тот напоминал ему переваренного цыпленка, однако он не стал говорить этого. А Тоби и не ждал никакого ответа.
— Славная штука. Утонуть — это, несомненно, лучший способ уйти из жизни.
— После тесного соприкосновения со многими трупами, вытащенными из воды, не могу согласиться с вами.
Тоби вылупил на Гранта глаза:
— Не разрушайте мои иллюзии, инспектор. Вы хуже, чем Сайлас Уикли. Сайлас всегда подчеркивает мерзость жизни. А кстати, у Сайласа есть алиби?
— Я его еще не спрашивал. Насколько я понял, он почти не был знаком с мистером Сирлом.
— Это не остановит Сайласа. Я не удивлюсь, если он это сделал в угоду, так сказать, местному колориту.
— Местному колориту?
— Да. По мнению Сайласа, деревенская жизнь — это нескончаемая череда изнасилований, убийств, инцестов, абортов и самоубийств. Так что, быть может, Сайлас думает, что пришло время Сэлкотт-Сент-Мэри стать подтверждением этой его теории. Вы читали Сайласа, инспектор?
— Боюсь, что нет.
— Не извиняйтесь. Это мало кому по вкусу. Даже его жена не испытывает склонности читать его опусы, если верить разговорам. Хотя бедняжка так занята тем, что выкармливает и рожает детей, что вряд ли у нее есть время для размышлений на абстрактные темы. Похоже, никто никогда не говорил ей о возможностях контрацепции. Конечно, Сайлас — тронутый насчет плодовитости. Он считает, что высшая функция женщины — производство потомства. Так бессердечно — вы не чувствуете? — по отношению к женщине: сравнивать ее с крольчихой и знать, что она неизбежно проиграет. Жизнь — через Плодовитость и Уродство. Так видит ее Сайлас. Он ненавидит красоту. Красота — это преступление. Ему необходимо растоптать ее и превратить в плодовитость. Мульчировать ее. Конечно, он немного сумасшедший, бедняжка, но это выгодный вид сумасшествия, так что оплакивать его не надо. Один из секретов успеха в жизни — знать, как выгодно воспользоваться легким сумасшествием.
Интересно, это всего лишь образец обычной манеры Тоби разговаривать или эта болтовня рассчитана на то, чтобы настроить его, Гранта, против Сайласа Уикли? Там, где личность человека проявляется в постоянном создании видимости, как в случае Тоби Таллиса, трудно решить, какая часть этой видимости — воздвигаемая преграда, а какая — щит для расклейки рекламы.
— Вы вообще не видели Сирла в среду вечером? — спросил Грант.
Нет, Тоби не видел его. Тоби бывает в пабе до обеда, а не после.
— Мне бы не хотелось вмешиваться, инспектор, но мне кажется, не стоит раздувать такой пожар из-за того, что кто-то просто утонул.
— А почему «утонул»?
— А почему нет?
— У нас вообще нет доказательств того, что Сирл утонул, зато есть чисто теоретические соображения, что этого не произошло.
— Что он не утонул? Какие у вас есть доказательства для этого?
— По дну реки прошлись драгой, искали тело.
— А, это!
— Мистер Таллис, мы расследуем исчезновение человека в Сэлкотт-Сент-Мэри вечером в среду.
— Вам обязательно нужно повидать викария, инспектор. У него готово для вас прекрасное решение задачи.
— И в чем оно заключается?
— Дорогой викарий считает, что Сирла здесь вообще не было. Он утверждает, что Сирл просто демон, который ненадолго принял облик человека, а потом исчез, когда шутка поднадоела ему — или из нее вышел сок, так сказать.
— Очень интересно.
— Вы, я полагаю, никогда не видели Сирла, инспектор?
— Да нет, я встречался с ним.
Это так удивило Тоби, что Грант даже улыбнулся.
— Демон пришел на вечеринку в Блумсбери как раз перед тем, как появиться в Сэлкотте, — пояснил он.
— Дорогой инспектор, вы непременно должны повидаться с викарием. Такой неоценимый вклад в теорию о демонах достоин исследования.
— Почему вы спросили меня, видел ли я Сирла?
— Потому что его внешность была столь совершенной, что могла принадлежать только материализовавшемуся демону.
— Вы хотите сказать — у него красивое лицо?
— Разве дело только в лице? — возразил Тоби, наполовину со смехом, наполовину с вызовом.
— Не только, — согласился Грант, — не только.
— Вы думаете, с Сирлом что-то нечисто? — спросил Тоби, на какое-то мгновение выйдя из образа и опускаясь до употребления вульгаризма.
— Для такого предположения нет оснований.
— Ах, Боже, — с притворным вздохом воскликнул Тоби, возвращаясь в свой образ. — Глухая стена бюрократической осторожности. У меня осталось мало честолюбивых устремлений в жизни, инспектор, но одно из них — страстное желание понять, что двигало Лесли Сирлом.
— Если я когда-нибудь это узнаю, бюрократическая осторожность даст трещину и я сообщу вам, — пообещал Грант и поднялся, собираясь уходить.
Минуту он постоял, глядя на ярко освещенный солнцем сад, на сверкающую реку в его дальнем конце.
— Как будто на мили вокруг ничего нет, — проговорил Грант.
Тоби сказал, что этот вид едва ли не главная прелесть Ху-Хаус, но что, конечно же, у большинства домов на приречной стороне улицы есть сады, спускающиеся к реке. Только почти все они разбиты на мелкие квадратики и огородные грядки. Сад Ху-Хаус кажется столь обширным, потому что в нем только лужайки и деревья.
— А река как бы обрамляет картину, не нарушая общего вида. Впрочем, река — это весьма неоднозначное благо.
— Комары?
— Нет. Время от времени река проявляет желание ворваться в дом. Примерно каждую шестую зиму ей это удается. Прошлой зимой мой сторож проснулся как-то утром и обнаружил, что в окно его спальни тычется лодка.
— Вы держите лодку?
— Маленькая, несерьезная посудина. Плоскодонка, в которой приятно полежать летним днем.
Грант поблагодарил Тоби за готовность помочь, еще раз извинился, что помешал ему завтракать, и удалился. Тоби проявил было признаки желания показать Гранту дом, но тот уклонился — по трем причинам: у него впереди было много работы, он уже видел большое количество снимков дома в иллюстрированных изданиях, ему претило, чтобы один из шедевров старой английской архитектуры ему показывал напыщенный фат вроде Тоби Таллиса.
Глава 12
Сайлас Уикли жил в небольшом доме, стоявшем в проулке, который вел к дальней излучине реки. Точнее, проулок начинался у реки, поднимался к полям, там поворачивал под прямым углом, тянулся вдоль края деревни, а потом еще раз поворачивал вверх и доходил до улицы. Типично местная топография. В последнем домике, у самых полей, и жил Сайлас Уикли. Грант, отправившийся туда продолжать свою работу, был удивлен убогостью этого жилища. Дело было не только в том, что Уикли, автор бестселлеров, мог себе позволить приобрести более привлекательный дом, — здесь не замечалось никакой попытки хозяина приукрасить свое обиталище. Ни щедрости ярких красок, ни даже простой побелки — ничего, чем отличались другие дома в деревне и от чего улица в Сент-Мэри так радовала глаз. Никаких цветов на окнах, никаких веселеньких занавесок. По сравнению со своим окружением дом Уикли выглядел трущобой.
Дверь домика была открыта, и изнутри его, нарушая покой солнечного утра, неслись детские вопли, плач грудного младенца и крики ребенка постарше. На крыльце стоял эмалированный таз с грязной водой, в которой медленно всплывали и лопались мыльные пузыри. Тут же валялась какая-то меховая игрушка, столь истертая и грязная, что невозможно было определить, какого зверя она когда-то изображала. В комнате никого не было, и пораженный Грант какое-то время постоял в дверях, оглядываясь. Обставлена комната была крайне скудно, повсюду сверх всякой меры, сверх всякого воображения царили беспорядок и грязь.
Откуда-то из задней части дома продолжал раздаваться плач, поэтому Грант громко постучал по входной двери. На повторный стук отозвался женский голос: «Просто оставьте его там, благодарю вас». На третий стук Гранта из темного нутра дома вышла женщина и направилась к нему спросить, что ему надо.
— Миссис Уикли? — проговорил Грант с сомнением.
— Да, я миссис Уикли.
Когда-то она, должно быть, была хорошенькой. Хорошенькой и смышленой. И независимой. Грант вспомнил, как ему рассказывали, что Уикли женился на учительнице начальной школы. Теперь на ней — хозяйке дома — был драный передник поверх цветастого капота, на ногах — старые, разношенные туфли, к которым так быстро привыкают женщины, считая, что для домашней работы они вполне сойдут. Миссис Уикли не потрудилась надеть чулки, и ее ноги были перепачканы — на подъеме виднелись грязные пятна. Ее незавитые волосы были стянуты сзади в отчаянно тугой узел, но передние пряди, слишком короткие, вылезли из него и висели по обе стороны лица. Лицо было, пожалуй, вытянутым и очень утомленным.
Грант объяснил, что хотел бы повидать ее мужа.
— О-о, — медленно протянула она, словно мысли ее все еще были заняты плачущими детьми. — Извините, здесь такой беспорядок, — рассеянно добавила миссис Уикли. — Моя девушка из деревни сегодня не пришла. Она часто не приходит. Все зависит от того, как она себя чувствует. А с детьми трудно… Не думаю, что могу побеспокоить мужа в такое время. — Интересно, подумал Грант, она что, считает, что крики детей его не беспокоят? — Понимаете, по утрам он пишет.
— Понимаю. Но если вы передадите ему мою карточку, думаю, он меня примет.
— Вы от издателей?
— Нет, я…
— Потому что я думаю, лучше подождать и не прерывать его работу. Он может встретиться с вами в «Лебеде», не правда ли? Может быть, перед ленчем.
— Нет, боюсь, я должен повидать его сейчас. Понимаете, дело касается…
— Его нельзя беспокоить. Прерывается ход мыслей, и потом ему трудно… вернуться. Он пишет очень медленно… я хочу сказать — старательно, иногда всего по абзацу в день, так что понимаете…
— Миссис Уикли, — резко прервал ее Грант, — пожалуйста, отдайте эту карточку вашему мужу и скажите, что мне необходимо поговорить с ним, как бы он ни был занят.
Она стояла держа в пальцах карточку, но даже не взглянув на нее. Мозг ее явно лихорадочно работал, отыскивая довод, который бы смог убедить Гранта. И он внезапно понял, что она просто боится отнести карточку мужу. Боится «помешать» ему.
Чтобы помочь ей, Грант сказал, что вряд ли он сильно помешает, ведь дети все равно громко кричат. Трудно сосредоточиться в таком шуме.
— О, он не здесь работает, — проговорила миссис Уикли. — Я имею в виду — не в доме. У него есть свой домик в конце сада.
Грант забрал у нее из рук свою карточку и непреклонно заявил:
— Вы мне покажете дорогу, миссис Уикли.
Она молча провела его через темную кухню, где на полу сидел только начинающий ходить младенец с вывернутыми внутрь ступнями, который самозабвенно упивался собственным ревом. Ребенок в коляске яростно всхлипывал. Снаружи, в залитом светом саду, мальчик примерно лет трех бросал в деревянную дверь дома камешки, которые он выковыривал из вымощенной ими дорожки — занятие непродуктивное, но достаточно шумное.
— Перестань, Фредди, — автоматически проговорила мать, но Фредди так же автоматически продолжал бросать камешки в дверь.
Сад за домом представлял собой длинную узкую полоску земли, тянувшуюся вдоль проулка. На самом ее конце, в большом отдалении от дома, стояло деревянное строение. Миссис Угасли указала на него и проговорила:
— Может быть, вы пойдете и сами представитесь? А? Дети вот-вот придут из школы на полдник, а еда еще не готова.
— Дети? — переспросил Грант.
— Ну да, трое старших. Так что если вы не против…
— Нет, нет, конечно, я не против, — поспешил согласиться Грант. Ему и правда этим утром мало что могло доставить большее удовольствие, чем возможность потревожить великого Сайласа Уикли. Однако говорить об этом жене Сайласа Уикли он не стал.
Он дважды постучал в дверь деревянной хижины — очень аккуратной хижины — и, не получив ответа, открыл дверь.
Сайлас Уикли, который сидел за столом и писал, резко обернулся и зарычал:
— Как ты посмела войти ко мне в… — но тут же замолчал, увидев Гранта. Он явно был уверен, что незваный гость — его жена.
— Кто вы такой? — грубо крикнул Сайлас. — Если вы журналист, то знайте, что наглость не окупается. Здесь частное владение, и вы нарушили его границы.
— Я — инспектор уголовного розыска Скотланд-Ярда Грант, — произнес Грант, наблюдая, как будет воспринято это известие.
Через минуту-две нижняя челюсть Сайласа вернулась на свое место, и ему удалось выговорить:
— А что вам надо, осмелюсь спросить?
Это была неубедительная попытка проявить свирепость, и она не удалась.
Грант произнес свою дежурную фразу о расследовании исчезновения Лесли Сирла и об опросе всех, кто был знаком с ним. При этом той долей своего мозга, которая не была занята произнесением этой формулы, Грант отметил, что чернила на рукописи, над которой трудился Уикли, не только высохли, но и потемнели. Вчерашние чернила. Сегодня утром Уикли не написал ни строчки, хотя время уже перевалило за полдень.
При упоминании Лесли Сирла Уикли разразился филиппикой против богатеньких дилетантов, которую Грант, зная о доходах Уикли и видя, сколь велики результаты его работы сегодня утром, счел неуместной. Он прервал Сайласа вопросом, что тот делал вечером в среду.
— А если я не захочу вам отвечать?
— Я сделаю отметку о вашем отказе и уйду.
Уикли это не понравилось, и он пробормотал что-то насчет того, что полиция изводит его.
— Я только прошу вашего содействия как гражданина, и все, — заметил Грант. — Я уже сказал, ваше право — отказаться содействовать.
Сайлас, сердито надувшись, заявил, что в среду вечером после ужина он писал, и писал всю ночь.
— Свидетели этому есть? — спросил Грант, не деликатничая с Сайласом.
— Конечно. Моя жена.
— Она находилась здесь, с вами?
— Нет, конечно нет. Она находилась в доме.
— Значит, вы были здесь один?
— Да.
— Благодарю вас и до свидания, — проговорил Грант и вышел из хижины, захлопнув за собой дверь.
Воздух снаружи был освежающе сладким. Однако даже кислый запах молока, которое срыгнул младенец, и сохнущих нестираных пеленок, висевший в доме, был ничто, по мнению Гранта, по сравнению с духом прокисшей человеческой натуры, наполнявшим рабочую комнату Сайласа Уикли. Идя обратно к дому, Грант пытался твердить себе, что этим безнадежно извращенным мозгом созданы «шедевры» современной английской литературы. Но эта мысль не утешала. Грант не стал заходить в дом, в котором не находилось места радости и откуда доносилось торопливое звяканье кастрюль (подходящий аккомпанемент, — не удержался от сарказма Грант), сообщавшее о том, что хозяйка дома занята. Обойдя дом сбоку, Грант направился к калитке. Тут к нему приблизился Фредди.
— Хэлло, Фредди, — проговорил Грант, жалея скучающего малыша.
— Хэлло, — без всякого энтузиазма отозвался Фредди.
— Что, более увлекательной игры, чем бросать камешки в дверь, не нашел?
— Нет, — ответил Фредди.
— А может, найдется, если поглядеть вокруг?
— Нет, — холодно повторил Фредди, словно объявляя окончательное решение.
Грант постоял минутку, разглядывая ребенка.
— Никто никогда не усомнится в том, кто твой отец, Фредерик, — сказал Грант и пошел вверх по проулку, туда, где он оставил машину.
Именно по этому проулку пошел в среду вечером Лесли Сирл, распрощавшись с компанией на деревенской улице. Он прошел мимо дома Уикли, направляясь туда, где в стенке был перелаз, который вел в первое поле, лежащее между деревней и излучиной реки.
По крайней мере, считалось, что он пошел туда.
Он мог пройти по проулку позади деревни и снова выйти на улицу. Но это было маловероятно. В деревне Сирла больше не видели. Он ушел в темноту проулка и исчез.
«Немного сумасшедший», — сказал Таллис о Сайласе Уикли. Однако Сайлас Уикли не показался Гранту сумасшедшим. Садист — возможно. Почти наверняка одержим манией величия. Человек, больной извращенным тщеславием. Но по-настоящему сумасшедший — нет.
А может, психиатр решил бы иначе?
Один из самых известных в стране психиатров однажды сказал Гранту, что написать книгу — значит выдать себя. (Кто-то еще сказал то же самое более остроумно и сжато, но сейчас Грант не мог припомнить, кто именно.) Каждая строчка разоблачает автора, заявил психиатр. Интересно, подумал Грант, что бы он сказал, прочитав какое-нибудь из злобных излияний Сайласа Уикли? Что это выплескивается наружу мелочность ума или что это просто брожение тщеславия? Или что это признание в безумии?
Грант подумал было вернуться в «Лебедь» и позвонить оттуда в полицейский участок Уикхема, но «Лебедь», сейчас, вероятно, уже открылся, так что телефонный разговор не будет конфиденциальным. Грант решил поехать поесть в Уикхем. Там он сможет не спеша поговорить с инспектором Роджерсом и узнать, нет ли новостей из Центра.
В Уикхеме Грант обнаружил, что высшие чины полицейского участка готовятся удалиться, чтобы в покое провести уик-энд, а чины более низких рангов — готовятся к еженедельным субботним развлечениям. Роджерс мало чтосказал — он вообще был неразговорчив, да и сообщить ему было нечего. По Уикхему ходят слухи об исчезновении Сирла, особенно теперь, когда газеты сделали из этого сенсацию. Но никто не пришел и не заявил, что видел его.
— Даже никакой псих не пришел признаваться в убийстве, — бесстрастно заявил Роджерс.
— Ну, это уже приятно, — отозвался Грант.
— Придет, придет, — утешил его Роджерс и пригласил Гранта к себе домой на ленч.
Однако Грант предпочел поесть в отеле.
Он сидел в столовой «Белого Оленя» и ел простой, но обильный ленч, который поставили перед ним, когда доносившаяся из кухни по радио музыка прервалась и раздался голос диктора, сопровождаемый стуком кастаньет и звучавший оттого странно урбанистически.
— Перед новостями послушайте обращение полиции. Того, кто в среду вечером посадил к себе в машину молодого человека на шоссе между Уикхемом и Кроумом, в Орфордшире, или где-нибудь поблизости от этого места, просят связаться со Скотланд-Ярдом. Телефон: Уайтхолл, «один два один два», — пропел веселый голос.
Затем последовал стремительный поток дикторских голосов — радио передавало последние известия.
Грант без всякого удовольствия доел очень вкусный пудинг с вареньем и опять вышел на солнечный свет. Когда он заходил в «Белый Олень» на ленч, улицы кишели толпами субботних покупателей, теперь они были пусты, а лавки закрыты. Грант выехал из городка и еще раз пожалел, что не может отправиться на рыбалку. Как это он выбрал профессию, при которой нельзя рассчитывать на свободный вечер в субботу? Полмира сейчас спокойно сидит и наслаждается ранним солнечным вечером, а он должен провести его занимаясь ерундой, задавая вопросы, которые ни к чему не приведут.
Грант ехал обратно в Сэлкотт в очень дурном расположении духа. Только Дора Сиггинс слегка развеселила его. Он подобрал Дору сразу за городом на длинном скучном огороженном участке, где шоссе милю или чуть больше шло параллельно реке.
Издали Грант принял фигурку, что брела по дороге, за мальчишку, который тащит мешок с инструментами, но, подъехав ближе и притормозив в ответ на поднятый большой палец, обнаружил, что это девушка в рабочих брюках, с большой хозяйственной сумкой в руках. Девушка несколько развязно ухмыльнулась и проговорила:
— Вы спасли мне жизнь, право слово! Я опоздала на автобус, потому что покупала обувку для сегодняшней танцульки.
— О! — произнес Грант, глядя на пакет, не поместившийся в битком набитой сумке. — Хрустальные?
— Не для меня, — сказала девушка, захлопывая дверь и удобно устраиваясь на сиденье. — Всякое там «домой-к-полуночи» — не для меня. И потом, знаете, башмачок был вовсе не хрустальный. Он был меховой. Французский или что-то вроде. Мы учили про это в школе.
Интересно, подумал Грант, остались ли у современной молодежи хоть какие-нибудь иллюзии? На что будет похож мир без сказки? Или для современного ребенка прелестная иллюзия того, что он сам — фигура первостепенного значения, вытеснила прежние, более абстрактные фантазии? От этой мысли настроение Гранта значительно улучшилось.
По крайней мере соображают они быстро, современные дети. Наверное, благодаря кино. Они, завсегдатаи кинотеатров, покупающие билеты за один-два пенса, всегда успевают целиком уловить смысл происходящего, пока передние ряды только нащупывают его. Его, Гранта, пассажирка подхватила замечание о хрустальной туфельке без секундного размышления.
Она оказалась веселой девчонкой. Несмотря на то что проработала всю неделю, а потом опоздала на автобус, да еще в субботу, когда полдня свободны, она не унывала и выложила все о себе без всяких вопросов со стороны Гранта. Ее зовут Дора Сиггинс, и она работает в прачечной. У нее есть приятель, он работает в гараже в Сэлкотте, и они собираются пожениться, как только приятель получит повышение, что должно произойти к Рождеству, если все будет так, как они рассчитывают.
Когда спустя изрядное время Грант послал Доре Сиггинс коробку шоколада как анонимный знак благодарности за помощь, которую она ему оказала, он от всей души надеялся, что это не приведет к недоразумению и ссоре с приятелем, который надеялся на повышение к Рождеству.
— Вы коммерсант? — спросила девушка, исчерпав факты собственной биографии.
— Нет, — ответил Грант. — Я полицейский.
— Ну да! — не поверила она, но потом, пораженная мыслью, а вдруг он говорит правду, стала внимательно оглядывать внутренность машины.
— Ффу-у! — произнесла она наконец. — Пусть меня повесят, если это не так!
— А что вас убедило? — с любопытством спросил Грант.
— Все вылизано, — ответила девушка. — Только у пожарных и у полиции есть свободное время, чтобы так надраивать машину. А я думала, полиции запрещается подсаживать.
— Вы, наверное, имеете в виду почтовые машины. Вот и Сэлкотт на горизонте. Где вы живете?
— Дом с дикой вишней. Господи Боже, и сказать не могу, как я рада, что не пришлось топать эти четыре мили. А вы гонитесь за шпионом?
— Нет, — улыбнулся Грант и поинтересовался, почему она так решила.
— О, вы в обычном костюме и все такое. Подумала, может, вы на денек отправились по своим делишкам. Вам бы надо обзавестись одной штукой, как у американской полиции.
— Какой? — спросил Грант, останавливаясь против дома с дикой вишней.
— Сиреной, чтоб орала, когда вы едете.
— Упаси Боже, — ужаснулся Грант.
— А мне всегда хотелось промчаться по улицам с сиреной и посмотреть, как все будут бросаться врассыпную.
— Не забудьте свои туфли, — напомнил Грант, указывая на пакет, лежащий на сиденье.
— Ой, что вы, нет! Спасибо! Тысячу спасибо за все! Никогда в жизни не скажу дурного слова о полиции!
Она побежала по дорожке к дому, остановилась, помахала Гранту рукой и исчезла.
А он пошел в деревню продолжать собирать алиби.
Глава 13
Когда без четверти семь Грант входил в Милл-Хаус, у него было ощущение, будто он просеял Сэлкотт сквозь мелкое сито, но в сите ничего не осталось. Он получил точный срез жизни в Англии, и это сильно обогатило его представление о людях. Однако в направлении решения задачи, порученной ему, он не продвинулся ни на шаг.
Марта приветствовала Гранта своим воркующим глубоким контральто, и он сразу окунулся в атмосферу мира и покоя. Гостиная Милл-Хаус нависала над рекой, и днем казалось, что обстановка комнаты плывет в колеблющемся зеленоватом свете, словно находится под водой. Однако сегодня вечером Марта задернула занавески, чтобы в комнату не проникали ни последние лучи закатного солнца, ни отблеск реки. Марта приготовила убежище, дышащее теплом и покоем, и усталый и сбитый с толку Грант был ей благодарен за это.
— Я так рада, что исчез не Уолтер, — проговорила Марта, взмахом руки — своим излюбленным жестом — указывая Гранту на кресло и принимаясь разливать шерри.
— Рады? — с недоумением повторил Грант, помнивший, каково было мнение Марты об Уолтере.
— Если бы исчез Уолтер, меня бы заподозрили в том, что я его убила, а так все будут думать, что я его номинальный компаньон.
Грант подумал, что заподозрить Марту в том, что она чей-то номинальный компаньон, все равно что будить спящую собаку.[606]
— Теперь я могу со стороны наблюдать, как вертятся колеса судьбы. Вы блестяще исполнили свою роль, дорогой?
— Я провалился, — ответил Грант сердито, но Марта не обратила на его дерзость никакого внимания.
— У вас такое чувство только потому, что вы устали и голодны. А может, еще и страдаете расстройством желудка после того, как два дня питались в «Белом Олене». Сейчас я оставлю вас наедине с графином шерри и спущусь за вином. Холодное мозельское из подвала. Кухня — под этой комнатой, а подвал под кухней, так что вино там такое же холодное, как вода в реке. О Господи, ведь я же дала себе слово, что сегодня не буду больше думать о воде в реке. Я задернула занавески, чтобы не пускать сюда реку. Я уже не так безумно привязана к реке, как раньше. Быть может, мы оба почувствуем себя лучше после мозельского. А после того как я принесу вино из подвала, я приготовлю вам омлет, какой только я умею готовить, и мы устроимся поудобнее. Так что отдыхайте и постарайтесь, чтобы к вам вернулся аппетит. Если шерри покажется вам недостаточно сухим, там в буфете есть «Тис Пепе». Но мне кажется, его хвалят незаслуженно.
Марта ушла, и Грант в душе поблагодарил ее за то, что она не стала мучить его вопросами, которые наверняка тучей роились у нее в голове. Марта — женщина, которая не только знает толк в хорошей пище и хорошем вине, но еще и обладает природным здравым смыслом, а это уже полпути к тому, чтобы быть доброй. Грант никогда так ясно не видел достоинств Марты, как оказавшись в этом ее несколько необычном загородном доме.
Он откинулся в кресле под лампой, вытянул ноги к камину с уложенными в нем поленьями, и напряжение стало отступать. Было тепло и очень тихо. Шум реки не доносился в комнату — Рашмер текла неслышно. Раздавалось только потрескивание огня. На кушетке напротив Гранта лежала газета, а за его спиной стоял книжный шкаф. Однако Грант слишком устал, чтобы потянуться за газетой или достать книгу. Рядом с креслом висела полка с различными справочниками. Грант лениво прочел их названия и наткнулся на лондонский телефонный справочник. Вид этих знакомых томов направил ход его мыслей в новое русло. Когда он сегодня вечером говорил с Ярдом, ему сказали, что кузина Сирла пока еще не побеспокоилась связаться с ними. Этому, конечно, никто не удивился. Новости были опубликованы лишь сегодня утром, а кузина-художница могла пребывать где угодно — от острова Сицилия до фермы в Камберленде. Она вообще могла не читать газет. И если уж на то пошло, ей могло быть совершенно безразлично, какая судьба постигла ее кузена. В конце концов, ведь Сирл откровенно сказал, что они не испытывают привязанности друг к другу.
Однако Гранту очень хотелось поговорить с кем-нибудь, кто знал прошлое Сирла или по крайней мере хоть что-то из этого прошлого.
Поэтому теперь, когда он сбросил напряжение и впервые за два дня мог никуда не спешить, Грант протянул руку за томом на букву «С» на тот случай, если кузина живет в Лондоне и они с Сирлом — дети родных братьев. Полистав справочник, Грант нашел фамилию Сирл. В книге значилась некая мисс Сирл, которая жила на Холли-Пэйвмент.[607] Холли-Пэйвмент находилась в Хэмпстеде — известной колонии художников. Движимый внезапным импульсом, Грант снял трубку и попросил разговор с Лондоном.
— Через час. Вам позвонят, — сообщил торжествующий голос на другом конце провода.
— Срочно, — сказал Грант и назвал номер своего удостоверения.
— О! — произнес голос разочарованно, но задорно. — О! Хорошо, я посмотрю, что смогу сделать.
— Наоборот, — сказал Грант, — это я посмотрю, что вы можете сделать. — И повесил трубку.
Он поставил телефонный справочник на место и вытащил «Кто есть кто в театре», собираясь развлечься в ожидании Марты. Кое-что в этой книге заставило Гранта почувствовать себя очень старым. Актеры и актрисы, о которых он никогда не слышал, имели уже длинный список успешно сыгранных ролей и хорошую репутацию. Перечисление достижений тех, кто был ему знаком, занимало по нескольку страниц на каждого и уже уходило в призрачное прошлое. Грант начал выискивать знакомые имена, как это делают по индексам — приложениям к биографиям. Тоби Таллис, сын Сиднея Таллиса и его жены Мэри (Спик). Удивительно, что такое общенациональное достояние, как Тоби Таллис, был некогда зачат и пришел в этот мир обычным способом. Грант заметил, что ранний этап карьеры Тоби был скромно обозначен: «Одно время работал актером». Прежние коллеги Тоби — Грант знал об этом — горячо отрицали его даже самую приблизительную принадлежность к актерской профессии. С другой стороны, подумал Грант, вспомнив сегодняшнее утро, вся жизнь Тоби была «действом». Он создал для себя роль и с тех пор играл ее.
Грант удивился также, обнаружив, что Маргерит Мэрриам — дочь Джеффри Мэрриама и его жены Бренды (Маттсон) — оказалась значительно старше, чем можно было предположить, судя по ее хрупкой внешности. Может быть, поживи она подольше, этот облик мальчишки-подростка перешел бы в обычную худобу, а ее власть над сердцами публики пошла бы на убыль. Несомненно, именно это имела в виду Марта, когда сказала, что если бы Маргерит прожила еще десять лет, ее некролог был бы таким же пустым, как левая сторона книжного форзаца.
Марта — дочь Джервиза Уин-Стратта, члена палаты лордов, состоявшего на государственной службе, и его жены Энн (Халлард) — была, конечно, истинной аристократкой. Она воспитывалась в лучших школах и прокралась на подмостки через заднюю дверь, воспользовавшись уроками ораторского искусства, как и многие ее предшественницы. Грант мысленно выразил надежду, что в следующем издании — или через одно — за именем Марты будут стоять буквы D. В. Е. и это послужит утешением Джервизу Уин-Стратту и его жене Энн за то, что четверть века назад дочь обманула их ожидания.
Грант не успел еще снять сливки с придуманного им развлечения, предоставляемого этим прелестным томом, как зазвонил телефон.
— Лондон на проводе. Говорите, пожалуйста, — услышал он голос телефонистки.
— Хэлло, — сказал Грант. — Могу я поговорить с мисс Сирл?
— Мисс Сирл слушает, — произнес приятный, хорошо поставленный голос.
— Мисс Сирл, извините, пожалуйста, что беспокою вас, но нет ли у вас кузена, которого зовут Лесли Сирл?
— Есть, но если он занял у вас деньги, вы, напрасно тратите время, надеясь, что я верну вам их.
— О нет, ничего похожего. Ваш кузен исчез, когда гостил у друзей в деревне, и мы подумали, вдруг вы поможете найти его. Моя фамилия Грант. Я инспектор уголовного розыска Скотланд-Ярда.
— О! — протянул голос задумчиво, но отнюдь не обескураженно. — Право, не знаю, чем я могу вам помочь. Лесли и я никогда не были особенно близки. Он всегда был мне не по вкусу, а я — ему.
— Мне бы хотелось прийти и поговорить с вами о нем. Быть может, вы будете дома завтра во второй половине дня? Я бы приехал.
— Ну, завтра во второй половине дня я собиралась на концерт в «Альберт-холл».
— О, тогда я мог бы зайти перед самым ленчем, если это вас устроит.
— Вы очень сговорчивы для полисмена, — заметила кузина Сирла.
— Преступники считают иначе, — ответил Грант.
— Я полагала, проявлять сговорчивость по отношению к преступникам — альфа и омега тактики Скотланд-Ярда. Ладно, инспектор. Я не пойду на концерт. Он и правда не очень интересный.
— Вы будете дома, если я приду?
— Да, буду.
— Это очень любезно с вашей стороны.
— Этот хваленый фотограф не прихватил с собой фамильные драгоценности, уходя?
— Нет, о нет. Он просто исчез.
Она слегка фыркнула. Очевидно, что бы ни рассказала мисс Сирл Гранту о своем кузене, она не станет скрывать факты и лгать ради благопристойности.
Как только Грант повесил трубку, вернулась Марта. Впереди нее шел маленький мальчик и нес дрова. Он аккуратно уложил поленья в камин и уставился на Гранта.
— Томми хотел бы кое о чем попросить вас, — проговорила Марта. — Он знает, что вы — сыщик.
— О чем, Томми?
— Вы не покажете мне свой револьвер, сэр?
— Показал бы, будь он у меня с собой. Но, к сожалению, он в ящике в Скотланд-Ярде.
Томми, казалось, был поражен в самое сердце.
— Я думал, он у вас всегда при себе. У фараонов в Америке — всегда. А вы умеете стрелять, сэр?
— Умею, — улыбнулся Грант, снимая этим ужасные подозрения, которые начали зарождаться в голове ребенка. — Я вот что предлагаю: когда ты следующий раз будешь в Лондоне, приходи в Скотланд-Ярд, и я покажу тебе револьвер.
— Я могу прийти в Ярд! О, спасибо! Большое спасибо, сэр! Это будет просто классно!
Томми ушел, вежливо пожелав доброй ночи, окутанный радостной аурой в фут толщиной.
— А родители думают, что они могут излечить мальчишек от любви к огнестрельному оружию, если не станут дарить им игрушечных солдатиков, — вздохнула Марта, ставя омлет на стол. — Садитесь есть.
— Я должен вам за разговор с Лондоном.
— А я-то думала — вы будете отдыхать.
— Я и отдыхал, но мне в голову пришла одна мысль, и это, пожалуй, первый шаг, который может привести к решению задачки, с тех пор как я занялся ею.
— Ладно! — проговорила Марта. — Так что теперь радуйтесь, и пусть ваши пищеварительные соки делают свою работу.
Маленький круглый стол придвинули к очагу, для украшения трапезы и создания настроения на него поставили свечи, и в спокойной дружеской обстановке они стали ужинать. Вошла миссис Трапп с цыпленком, была представлена Гранту и многословно поблагодарила его за приглашение Томми. Больше их никто не беспокоил. За кофе разговор коснулся Сайласа Уикли и странного образа жизни в доме в проулке.
— Сайлас гордится, что живет жизнью «рабочего класса», хотя никто не понимает, что это значит. Ни один из его детей, он считает, не должен начинать в лучших условиях, чем были у него самого. Он ужасно скучен, когда толкует о том, что вышел из начальной школы. Можно подумать, что он — первый со дня основания университета, кто поступил в Оксфорд, окончив начальную школу. Он — классический случай перевернутого снобизма.
— А что он делает с деньгами, которые зарабатывает?
— Бог знает. Возможно, закапывает их под полом хижины, в которой работает. Никому никогда не разрешается переступать порог этой хижины.
— Я беседовал с ним в этой хижине сегодня утром.
— Алан! Вы умница! И что там внутри?
— Один известный писатель и очень мало результатов его работы.
— Я думаю, он исходит кровавым потом, когда пишет. Понимаете, у него совершенно нет воображения. Я хочу сказать, он не может представить себе, как работает мозг другого человека. Поэтому все его ситуации и реакция его персонажей на ситуации — сплошные клише. Он продается благодаря своей «близости к земле», своей «стихийной силе». Господи, спаси нас всех! Давайте отодвинем стол и сядем поближе к огню.
Марта открыла буфет и, превосходно имитируя мальчишку-разносчика, продающего всякую всячину с лотка на железнодорожной платформе, произнесла:
— «Драмбуи», бенедиктин, стрега, «Гранд Марнье», «Боло», шартрез, сливовица, арманьяк, коньяк, ракия, кюммель, разнообразные французские сиропы невыразимой сладости и сердечное средство миссис Трапп — имбирная настойка.
— Вы намереваетесь проникнуть в тайны Департамента уголовного розыска?
— Нет, дорогой, я предлагаю отдать должное вашему вкусу. Вы один из немногих знакомых мне мужчин, кто обладает этой штукой.
Она поставила на поднос шартрез и ликерные рюмки и удобно устроилась на кушетке, вытянув свои длинные ноги.
— Теперь рассказывайте.
— Но мне нечего рассказывать, — запротестовал Грант.
— Я не это имела в виду. Я хотела сказать — поговорите со мной. Представьте, что я ваша жена, — упаси Боже! — а я просто буду вас слушать. Например, вы же не думаете всерьез, что у несчастного тупицы Уолтера Уитмора хватило пороха стукнуть этого мальчика Сирла по голове, не так ли?
— Нет, этого я не думаю. Сержант Вильямс называет Уолтера «мямлей», и, похоже, я согласен с ним.
— Как называет?
Грант объяснил, и Марта заявила:
— Ваш сержант Вильямс абсолютно прав! Да и передачи Уолтера пахнут нафталином.
— Он может скоро и сам устареть, если это дело не прояснится.
— Думаю, ему сейчас приходится туго, глупому бедняжке. Сплетни в маленькой деревне — это убийственно. Кстати, ответил ли кто-нибудь на обращение полиции по радио? Я слышала его в час дня.
— Нет. Во всяком случае до шести сорока пяти, когда я последний раз говорил с Ярдом. Я дал им ваш номер на ближайшие два часа. Надеюсь, вы не против.
— Почему вы думаете, что его могла подвезти какая-нибудь машина?
— Потому что если его нет в реке, он, должно быть, ушел в противоположную сторону от нее.
— По собственной воле? Но это очень странный поступок.
— А может, он страдает потерей памяти. И вообще, есть пять возможных вариантов.
— Пять!
— В среду поздно вечером Сирл пошел вниз по проулку, здоровый и трезвый. После этого его никто не видел. Существуют следующие варианты. Первый: он случайно упал в воду и утонул. Второй: его убили и бросили в реку. Третий: он ушел отсюда, руководствуясь собственными соображениями. Четвертый: он бродит где-то, потому что забыл, кто он и куда идет. И пятый: его похитили.
— Похитили?!
— Мы ничего не знаем о его жизни в Америке, мы должны учитывать это. Быть может, он приехал в Англию, чтобы на время убраться из Штатов. Я ничего не узнаю о нем, пока мы не получим отчет с Западного Побережья — если получим! Скажите, пожалуйста, а что вы думаете о Сирле?
— В каком плане?
— Как вы считаете, он способен на розыгрыш?
— Ни в коем случае.
— Лиз Гарроуби тоже высказалась против. Она заявила, что розыгрыш не показался бы Сирлу забавным. А как вы думаете, его сильно увлекла Лиз Гарроуби? Вы же были у них на обеде.
— Достаточно, чтобы Уолтер заболел от ревности.
— Правда?
— Они очень мило выглядели рядом — Лесли и Лиз. Знаете, как прирожденная пара. То, чем Уолтер и Лиз никогда не будут. Не думаю, чтобы Уолтер хоть что-нибудь понимал в Лиз. И мне показалось, что Лесли Сирл понимал очень многое.
— Когда вы познакомились с ним, он вам понравился? В тот вечер вы после обеда забрали его с собой.
— Отвечаю — да. Он мне понравился — с оговорками.
— Какими оговорками?
— Трудно передать словами. Я не могла отвести от него глаз, но он казался мне совершенно нереальным. Звучит странно, правда?
— Вы хотите сказать, что ощущали в нем что-то поддельное?
— Не в общепринятом смысле. Он явно был тем, за кого себя выдавал. Во всяком случае, у нашей мисс Юстон-Диксон есть тому доказательство, как вы, очевидно, знаете.
— Да. Сегодня во второй половине дня я беседовал с мисс Юстон-Диксон о Сирле. Его фотография, которая есть у мисс Диксон, очень серьезное доказательство. А о чем вы говорили с Сирлом в тот вечер, когда привели его к себе?
— О, короли и капуста.[608] Люди, которых он фотографировал. Люди, с которыми мы оба знакомы. Люди, с которыми он хотел бы познакомиться. Мы долго сообща восхищались Дэнни Мински и так же долго ужасно спорили по поводу Маргерит Мэрриам. Как и вы, Лесли считал Маргерит мировым гением и не желал слышать о ней ни одного дурного слова. Он так надоел мне, что я рассказала ему кое-какую горькую правду. Потом мне было стыдно. Подло ломать детские игрушки.
— Надеюсь, это принесло ему пользу. Он достаточно взрослый, чтобы не скрывать от него жизненные факты.
— Я слышала, вы сегодня собирали алиби.
— Откуда вы знаете?
— Из моего всегдашнего источника. От миссис Трапп. А кто те несчастные, у кого алиби нет?
— Практически вся деревня, в том числе и мисс Юстон-Диксон.
— Наша Дикси исключается. Кто еще?
— Мисс Лавиния Фитч.
— Дорогая Лавиния! — рассмеялась Марта при мысли, что у мисс Фитч обнаружена склонность к убийству.
— Лиз Гарроуби.
— Худое сейчас время для бедняжки Лиз. Кажется, она была почти влюблена в этого мальчика.
— Миссис Гарроуби?
Марта помолчала, задумавшись.
— Знаете, я бы не поручилась за эту женщину. Она могла бы совершить убийство, не дрогнув, если бы убедила себя, что так надо. Она бы даже пошла в церковь и испросила у Бога благословения своему поступку.
— Тоби Таллис?
— Н-нет, не думаю. Тоби нашел бы какой-нибудь другой способ свести счеты. Что-нибудь гораздо менее рискованное и столь же действенное. Тоби замечательно умеет изобретать массу способов мелочной мести. Не думаю, чтобы ему потребовалось убивать кого-нибудь.
— Сайлас Уикли?
— Интересно… интересно. Да, мне кажется, Сайлас может совершить убийство. Особенно если книга, которую он в тот момент пишет, продвигается не очень хорошо. Видите ли, книги для Сайласа — способ дать выход своей ненависти. А если ей поставить запруду — он может убить кого-нибудь. Кого-нибудь, кто покажется ему богатым, красивым и пользующимся незаслуженным успехом.
— Вы считаете Уикли сумасшедшим?
— О да. Возможно, с медицинской точки зрения это не доказать, но он определенно неуравновешенный. Между прочим, а есть какая-нибудь доля правды в слухах о ссоре между Уолтером и этим мальчиком, Сирлом?
— Уитмор отрицает, что это была ссора. Он говорит, что была просто «легкая размолвка».
— Значит, неприязнь между ними все-таки существовала?
— Доказательств этому нет. Минутное раздражение совсем не то, что неприязнь. Мужчины могут серьезно поспорить вечером в пабе, не ощущая никакой неприязни друг к другу.
— О, вы сводите меня с ума. Конечно же, неприязнь существовала. Из-за Лиз.
— Не будучи связан с четвертым измерением, утверждать не берусь, — поддразнил Грант Марту, забавляясь ее неожиданным умозаключением. — Уитмор заявил, что Сирл вел себя «вызывающе». В чем, с вашей точки зрения как военачальника, могло выразиться это «вызывающе»?
— Вероятно, он сказал Уолтеру, что тот не ценит Лиз и что, если Уолтер не изменит своего поведения, он, Сирл, уведет у него Лиз. И если Уолтер думает, что это не удастся, то он заблуждается. Он, Сирл, уговорит Лиз собрать вещи и удрать с ним во вторник на следующей неделе и готов поспорить на пять фунтов, что так и будет. А Уолтер ответил, очень обиженно и строго, что в этой стране мы не заключаем пари, где ставка — благосклонность женщины, во всяком случае джентльмены не заключают, и поставить пять фунтов на Лиз — это оскорбление. Понимаете, у Уолтера абсолютно отсутствует чувство юмора, именно так он и творит свои радиопередачи, внушая любовь к себе старым дамам, которые сторонятся жизни в деревне, как чумы, и, увидев воробья, не узнают его. А Лесли, очевидно, сказал, что, если Уолтер считает, что пятерка — это слишком мало, он готов поставить десять: ведь если Лиз помолвлена с таким тупицей и педантом, как Уолтер, в течение почти двенадцати месяцев, значит, она вполне созрела для перемены, и десятка будет как найденные деньги… И тогда Уолтер поднялся и вышел, сильно хлопнув дверью.
— Откуда вы знаете, что он хлопнул дверью?
— Душенька мой, сейчас уже все в Орфордшире знают, что он хлопнул дверью. Поэтому-то Уолтер — Подозреваемый Номер Один. Ваш список не имеющих алиби исчерпан?
— Нет, есть еще Серж Ратов.
— О, а что делал Серж Ратов?
— Он в темноте танцевал на травке у реки.
— Звучит очень похоже на правду.
— Да? Вы видели его?
— Нет. Но это вполне в духе Сержа. Понимаете, он все еще одержим идеей возвращения. До сцены с Лесли Сирлом Серж планировал возвращение как способ доставить удовольствие Тоби, а теперь он планирует его как способ «показать» Тоби.
— Откуда у вас такое понимание внутренних побуждений у людей?
— Я двадцать пять лет играла в театре, а не только по указке режиссера.
Грант посмотрел на Марту, освещенную пламенем, элегантную, красивую, и подумал обо всех ролях, в которых он видел ее: куртизанки, злые фурии, карьеристки и домашние хозяйки-«тряпки». Актеры и правда обладают проницательностью, пониманием мотивов, движущих человеком, которое отсутствует у обычных людей. Это не имеет ничего общего с умом и очень мало — с образованностью. В общем смысле ум Марты был так же неразвит, как ум не очень способного одиннадцатилетнего ребенка. Ее внимание автоматически соскальзывало со всего, что было чуждо ее сиюминутным интересам, и результатом являлась ее инфантильная невежественность. То же самое Грант наблюдал у больничных сестер и переработавшихся G.P..[609] Однако дай ей в руки текст пьесы, и она из каких-то тайных, природных закромов вытащит все необходимое, чтобы выстроить собственную характеристику персонажа.
— Предположим, это действительно убийство, — проговорил Грант. — Если судить чисто внешне, по, так сказать, весовой категории имеющихся в данный момент подозреваемых, на кого бы вы поставили?
Марта немного подумала. В руках она вертела рюмку, и отблески огня играли на ее гранях.
— Эмма Гарроуби, наверное, — произнесла она наконец. — А могла Эмма совершить это? Физически, я хочу сказать.
— Могла. Поздно вечером в среду она простилась с мисс Юстон-Диксон у развилки тропинок. Никто не знает, когда она вернулась в Триммингс. Остальные к тому времени уже отправились спать, точнее, разошлись по своим комнатам. Во всяком случае, парадную дверь запирала миссис Гарроуби.
— Так. Времени вполне достаточно. От Триммингса до этой излучины совсем недалеко. Интересно, как выглядели туфли Эммы в четверг утром. Или она сама чистит их?
— Наверное, если на туфлях была какая-нибудь предательская грязь, она вычистила их сама. Миссис Гарроуби показалась мне очень методичным человеком. А почему вы выбрали Эмму Гарроуби?
— Ну, мне представляется, что совершить убийство можно, только если ты — человек, одержимый одной-единственной идеей. Пока у человека есть разнообразные интересы, вряд ли какая-то одна мысль поглотит его настолько, что он совершит убийство. А когда у вас все яйца лежат в одной корзинке или там осталось всего одно яйцо, тогда вы теряете представление о том, что можно, а чего нельзя. Я ясно выражаюсь, инспектор?
— Абсолютно.
— Прекрасно. Налейте себе еще шартреза. Так вот, Эмма кажется мне человеком, способным сосредоточить свои мысли на одном предмете, — больше, чем кто-либо другой из всех подозреваемых. Никто не назовет Сержа человеком, способным сосредоточиться, разве только на том, что происходит в данный момент. Серж в течение всей жизни постоянно ссорится с людьми, но он никогда не проявлял склонности к убийству. Самое большее, на что он способен, — швырнуть в них тем, что попадется под руку.
— При отсутствии кнута, — усмехнулся Грант и рассказал Марте о своем разговоре с Сержем. — А Уикли?
— По своей весовой категории, если воспользоваться вашей метафорой, Сайлас только на один-два фунта отстает от Эммы, но отстает безусловно. У Сайласа есть успех, семья, книги, которые он собирается написать в будущем (пусть даже они будут повторением старых, только другими словами). Интересы Сайласа не так замкнуты в одном русле, как интересы Эммы. Если исключить вспышку какой-то беспричинной ненависти, Сайласу незачем избавляться от Лесли. И Тоби тоже. Жизнь Тоби просто блещет разнообразием. И, как я сказала, у него есть масса других способов свести счеты. Но Эмма… У Эммы нет ничего, кроме Лиз.
Марта задумалась. Грант тоже молчал.
— Вы бы видели Эмму, когда Уолтер и Лиз объявили о своей помолвке, — проговорила Марта наконец. — Она… она просто сияла. Как ходячая рождественская елка. Она всегда об этом молчала, и вот вопреки всему ее желание сбылось. Уолтер, который был знаком со всеми умными и красивыми женщинами своего поколения, влюбился в Лиз, и они собираются пожениться. Уолтер когда-нибудь получит Триммингс и состояние Лавинии, и, даже когда мода на самого Уолтера пройдет, у них будет столько мирских благ, сколько можно пожелать. Это было как сбывшаяся сказка. Эмма просто плыла на дюйм или два над землей. И тут появляется Лесли Сирл.
Марта, актриса, снова замолчала. И, как истая актриса, держала паузу.
Поленья рассыпались и вспыхнули, выбросив язычки пламени. Грант тихо лежал в кресле и думал об Эмме Гарроуби.
И о двух вещах, не известных Марте.
Как странно, что человек, выбранный Мартой в качестве подозреваемого, жил на той же территории, откуда происходили две неразрешимые загадки в этой истории: перчатка в ящике Сирла и пустое место в фотоящике.
Эмма. Эмма Гарроуби. Женщина, которая воспитала младшую сестру, а потом, когда сестра упорхнула из-под ее крыла, вышла замуж за вдовца с маленьким ребенком. Эмма столь же естественно ограничила свои интересы одним руслом, как Тоби разнообразил свои, не так ли? Она сияла — «ходячая рождественская елка», — узнав о помолвке. А за период, прошедший после помолвки (как было известно Гранту — пять месяцев, не двенадцать), восторг лишь усилился и превратился в нечто еще более замечательное — в уверенность, в чувство удовлетворения, безопасности. За эти пять месяцев помолвка выдержала ряд мелких обрушившихся на нее ударов, и Эмма, должно быть, привыкла считать ее нерушимым, надежным делом.
И тут, как сказала Марта, появляется Лесли Сирл. Сирл с его шармом и жизнью перелетной птицы. Сирл с его видом «не от мира сего». Никто не мог бы наблюдать этот золотой дождь[610] с более сильным, немедленно возникшим недоверием, чем Эмма Гарроуби.
— Что может заполнить пространство десять на три с половиной на четыре дюйма? — спросил Грант.
— Щетка для волос, — ответила Марта.
Грант вспомнил, что есть такая игра, в которую предлагают поиграть психологи. Услышав определенное слово, испытуемый в ответ произносит первое, что ему приходит в голову. Судя по всему, это срабатывает точно. Грант предложил этот вопрос Биллу Мэддоксу, и Мэддокс, не колеблясь, как и Марта, сказавшая: «Щетка для волос», произнес: «Гаечный ключ». А Вильямс, вспомнил Грант, предложил пакет мыла.
— Что еще?
— Набор домино. Коробка конвертов? Нет, слишком мала. Колода карт? Таким количеством карт можно завалить необитаемый остров. Набор столовых ножей. Фамильные ложки. А что, кто-то прячет фамильное серебро?
— Нет. Просто мне интересно, что бы это могло быть.
— Если это серебро Триммингса, Бог с ним, дорогой. На аукционе за него не дали бы и тридцати шиллингов — за все. — Взгляд Марты с бессознательным удовольствием скользнул по простым георгианским приборам на ее собственном, стоявшем за спиной столе. — Скажите, Алан, если это не будет раскрытием профессиональной тайны, а кого вы видите в этой роли?
— Какой роли?
— Убийцы.
— Это было бы непрофессионально. Но думаю, что не раскрою никакой тайны, если скажу вам, что мне кажется — такового нет.
— Что? Вы действительно думаете, что Лесли Сирл жив? Почему?
И в самом деле — почему, спросил себя Грант. Что было такого во всем этом деле, что создавало впечатление, словно он на спектакле? Словно он сидит в кресле в партере и между ним и реальностью — оркестровая яма. Некогда помощник комиссара в минуту редкой откровенности сказал Гранту, что у него есть самое бесценное качество для их работы: чутье. «Но не позволяйте ему управлять собой, Грант, — сказал он. — Придерживайтесь доказательств». Вероятность того, что Сирл упал в реку, была девяносто девять против одного. Все факты указывали на это. Если бы не ссора с Уолтером, которая усложнила ситуацию, ему, Гранту, вообще не пришлось бы разбирать это дело. Его бы признали обычным случаем: «Исчез, считается утонувшим».
И все же. Все же. Вот оно есть, а вот его нет. Присказка старого фокусника. Она преследовала Гранта.
Почти не сознавая этого, он произнес ее вслух.
Марта внимательно посмотрела на него и спросила:
— Фокус? Чей? И для чего?
— Не знаю. Только я не могу избавиться от ощущения, что меня разыгрывают!
— Вы считаете, что Лесли просто каким-то образом ушел?
— Или кто-то хочет, чтобы все выглядело именно так. Или еще что-нибудь. Мне кажется, что я в цирке и смотрю, как человека распиливают пополам.
— Вы перетрудились, — заявила Марта. — Куда же, как вы полагаете, мог исчезнуть Лесли? Если только он не вернулся в деревню и не залег где-то, притаившись.
Грант очнулся и с восхищением посмотрел на Марту.
— Как странно, — произнес он, улыбнувшись. — Я не подумал об этом. Вы думаете, Тоби прячет его, чтобы досадить Уолтеру?
— Нет. Я уверена, это бессмысленно. Но ваша теория о том, что он ушел, тоже бессмысленна. Куда он пойдет посреди ночи, когда на нем только спортивный костюм и плащ?
— Может быть, я узнаю что-нибудь после того, как завтра повидаюсь с его ку…
— У него есть кузен? Удивительно! Все равно как обнаружить у Меркурия родственника по жене. Кто он?
— Не кузен, а кузина. Насколько я понял, художница. Ради меня она пожертвовала воскресным дневным концертом в «Альберт-холле». Я воспользовался вашим телефоном и договорился с ней.
— И вы полагаете, она знает, почему Лесли ушел посреди ночи в одном костюме и плаще?
— Вдруг она знает, куда Лесли мог направиться.
— Цитируя мальчика, вызывающего актеров на сцену: надеюсь, все пройдет отлично, — сказала Марта.
Глава 14
Поздним вечером Грант ехал обратно в Уикхем, отдохнув телом и душой. И всю дорогу Эмма Гарроуби не отпускала его. Чутье могло нашептывать Гранту разные соблазнительные штучки, но Эмма находилась в центре картины, там, куда поместила ее Марта, и сидела там слишком основательно, чтобы с помощью фокуса ее можно было стереть. Эмма — это имело смысл. Эмма была примером и прецедентом. Классические образцы безжалостности — эти домашние хозяйки. Всякие Лиззи Борден. Эмма, если уж на то пошло, была первобытным человеком. Самка, защищающая своего детеныша. Чтобы найти причину, по которой исчез Лесли Сирл, требовалась колоссальная интуиция. Не требовалось никакой интуиции, чтобы предположить, почему Эмма Гарроуби могла убить его.
Это и правда было своего рода упрямством — все время возвращаться к мысли, что Сирл просто смылся. Грант как будто слышал, что ответил бы ему помощник комиссара, если бы он выложил тому подобную версию: «Доказательства, Грант, неопровержимые доказательства. Здравый смысл, Грант, здравый смысл. Не позволяйте своему чутью управлять вами, не позволяйте». Исчезнуть по собственной воле? Этот молодой счастливчик, который мог оплачивать счета в «Уэстморленде», мог покупать и носить дорогую одежду, мог дарить дорогие конфеты, мог путешествовать по миру, заработав деньги на портретах других людей? Юноша с таким красивым лицом, что все оборачивались ему вслед, буквально и иносказательно? Обаятельный молодой человек, которому так понравилась скромная Лиз, что он хранил ее перчатку? Молодой человек, которому сопутствовал профессиональный успех и который затеял дело, обещавшее принести и деньги, и славу?
Здравый смысл, Грант. Доказательства, Грант. Не позволяйте своему чутью управлять вами.
Подумайте об Эмме Гарроуби, Грант. У нее была возможность. У нее был мотив. И вероятно, было желание. Она знала, где в тот вечер находился лагерь.
Однако она не знала, что они пошли в Сэлкотт выпить пива. Но Сирл утонул не в Сэлкотте.
Она не могла знать, что застанет его одного. Это было чистой случайностью, что в тот вечер они с Уолтером разлучились.
Кто-то застал его, когда он был один. Почему бы не Эмма?
Как могло это произойти?
Может быть, она все подстроила?
Эмма! Но как?
Разве тебя поразило, что Сирл спровоцировал уход Уолтера?
Нет. А что?
Сирл вел себя вызывающе. Он дразнил Уолтера, дразнил, пока тот не мог больше ни минуты терпеть этого и должен был уйти, иначе разразился бы скандал. Сирл в тот вечер явно стремился избавиться от Уолтера.
Зачем ему это понадобилось?
Потому что у него была назначена встреча.
Встреча? С кем?
С Лиз Гарроуби.
Абсурд. Никаких доказательств, что девица Гарроуби всерьез заинтересовалась…
О, записку с предложением встретиться послала не Лиз.
Да? А кто?
Эмма.
Ты хочешь сказать, что Сирл шел на свидание, думая, что там будет Лиз?
Да. Если вдуматься, он вел себя как влюбленный.
То есть?
Помнишь, как он прощался с компанией, когда они вышли из паба в тот вечер? Подтрунивал над всеми, что в такую прекрасную весеннюю ночь они отправляются спать? Веселый, словно пребывал на седьмом небе.
Он выпил всего пару кружек пива.
И его попутчики тоже. Впрочем, некоторые гораздо больше, чем пару. Однако они не пели хвалебных гимнов весенней ночи и кратчайшим путем отправились спать, даже самые молодые из них.
Ладно, это все теория.
Нет, это больше. Это теория, согласованная с доказательствами.
Доказательства, Грант, доказательства.
Не позволяйте своему чутью управлять вами, Грант.
Весь путь по темным проселкам между Сэлкотт-Сент-Мэри и Уикхемом Эмма Гарроуби не отпускала его. И когда он пошел спать, она отправилась вслед за ним.
Грант устал, хорошо пообедал, перед ним замаячил наконец хоть какой-то просвет, так что спал он крепко. А когда, проснувшись, открыл глаза и увидел перед собой вышитое крестиком красной шерстью висевшее на стене изречение «День грядет», он воспринял его скорее как обещание, чем как предостережение. Он предвкушал поездку в Лондон как некую очистительную ванну для психики после погружения в жизнь Сэлкотт-Сент-Мэри. Потом он вернется и увидит все по-новому, соразмерно фактам.
Невозможно как следует почувствовать букет вина, если время от времени не очищать свое обоняние. Грант часто удивлялся, как женатые мужчины умудряются сочетать семейную жизнь с работой в полиции, требующей полной отдачи. Теперь впервые ему открылось, что семейная жизнь может служить превосходным очистителем вкуса. Ничто так магически не позволит по-новому взглянуть на расследуемое в данный момент преступление, как если поможешь маленькому Бобби сделать задание по алгебре.
По крайней мере можно будет взять чистые рубашки, подумал Грант. Он сунул вещи в сумку и собрался было спуститься вниз позавтракать. Было еще раннее утро, воскресенье, но, наверное, что-нибудь для него найдется. Открывая дверь своей комнаты, он услышал, что зазвонил телефон.
Единственной данью прогрессу в «Белом Олене» были установленные в каждом номере телефоны у кровати. Грант пересек комнату и снял трубку.
— Инспектор Грант? — услышал он голос хозяина гостиницы. — Подождите минутку, пожалуйста. Вас вызывают. — Последовало недолгое молчание, а потом снова: — Говорите, пожалуйста, вас соединили.
— Хэлло.
— Алан? — услышал он голос Марты. — Это вы, Алан?
— Да, это я. Что-то вы рано проснулись, а?
— Послушайте, Алан. Случилось кое-что. Вы должны приехать.
— Приехать? Вы имеете в виду — в Сэлкотт?
— В Милл-Хаус. Кое-что произошло. Это очень важно, иначе я бы не стала звонить в такую рань.
— Но что случилось? Не можете ли вы…
— Вы ведь у гостиничного телефона, правда?
— Да.
— Я не могу вам сейчас объяснить. Кое-что обнаружено. Кое-что меняющее абсолютно все. Точнее, все, что вы… что вы предполагали, так сказать.
— Да. Хорошо.Я сейчас приеду.
— Вы завтракали?
— Нет еще.
— Я приготовлю вам завтрак.
Что за женщина, восхитился Грант, кладя трубку на рычаг. Он всегда считал, что первое необходимое качество для жены — это ум. Он и сейчас был в этом уверен. В его жизни не было места для Марты, как и в ее — для него, и все же жаль, что это так. Женщина, которая могла сообщить о каком-то удивительном факте в деле об убийстве, не наболтав по телефону лишнего, сама по себе была подарком, но женщина, которая могла, не переводя дыхания, спросить, завтракал ли он, и, услышав отрицательный ответ, позаботиться о том, чтобы сделать ему поесть, была просто неоценима.
Грант пошел за машиной, теряясь в догадках. Что могла раскопать Марта? Что-нибудь оставленное Сирлом, когда он был у нее в тот вечер? Или это какой-нибудь слух, который принесла молочница?
Одно было несомненно: трупа не нашли. Если бы обнаружили труп, Марта, будучи Мартой, дала бы ему понять, дабы он мог привезти с собой всякие принадлежности и людей, умеющих обращаться с подобной находкой.
Дул сильный ветер, и в небе висела радуга. Кончилась спокойная, безветренная, солнечная погода, каждый год знаменующая приход английской весны, когда на дороги ложится первая пыль. Весна неожиданно стала необузданной и шумной. На землю то и дело обрушивались потоки сверкающего ливня. Огромные тучи скапливались на горизонте и неслись по небу, гонимые порывами дикого ветра. Деревья съеживались, встряхивались и снова съеживались.
Пейзаж был пустынным. Не из-за погоды, а потому что было воскресенье. У некоторых домов, заметил Грант, были еще закрыты ставни. Люди всю неделю вставали с рассветом, и те, у кого не было скота, требующего ухода и по воскресеньям, должно быть, рады были поспать подольше. Грант часто ворчал, когда его обязанности полицейского врывались в его частную жизнь (ворчание доставляло ему удовольствие: ведь он мог уйти в отставку еще несколько лет назад, когда умершая тетка оставила ему наследство), но проводить жизнь став рабом потребностей скота — унылая трата времени для свободного человека.
Когда Грант подъехал к Милл-Хаус со стороны дома, противоположной реке, где находилась входная дверь, Марта вышла ему навстречу. В деревне Марта никогда не «играла роль», как это делали многие ее коллеги. Наоборот, она смотрела на деревню так же, как и сами деревенские жители, то есть как на место, в котором просто живешь. Не как на повод одеться особенно пестро или небрежно. Если у Марты мерзли руки, она надевала перчатки. Она не считала, что должна выглядеть как цыганка только потому, что живет в Милл-Хаус в Сэлкотт-Сент-Мэри. Вот и в это утро она была одета так же элегантно и изысканно, как если бы встречала Гранта на ступенях Стенуорта. Однако Грант подумал, что она выглядит очень встревоженной. Действительно, казалось, будто она только что перенесла тяжелую болезнь.
— Алан! Вы представить себе не можете, как я обрадовалась, услышав ваш голос по телефону. Я боялась, вдруг вы уже уехали в город, хоть еще и очень рано.
— Что же столь неожиданное случилось? — спросил Грант, направляясь к двери. Однако Марта повела его вокруг дома — к боковой двери вниз, в кухню.
— Это ваш адепт, Томми Трапп, нашел его. Томми безумно любит рыбачить. И очень часто уходит на реку до завтрака, потому что это, кажется, хорошее время. — «Кажется» — в этом вся Марта, подумал Грант. Марта годы прожила у реки и все еще должна прислушиваться к чужому мнению там, где дело касалось времени, подходящего для рыбалки. — По воскресеньям Томми обычно сует что-нибудь в карман — что-нибудь поесть, я имею в виду — и не возвращается к завтраку. Однако сегодня утром не прошло и часа, как он вернулся, потому что… потому что он поймал нечто ужасное.
Марта открыла выкрашенную светло-зеленой краской дверь и провела Гранта в кухню. В кухне находились Томми Трапп и его мать. Миссис Трапп прижалась к плите, как будто чувствовала себя не очень хорошо, но Томми, шагнувший им навстречу, был в прекрасной форме. Ничего болезненного в Томми не замечалось. Томми преобразился. Томми вознесся на небо. Томми стал шести футов ростом, и на голове у него сверкала корона из молний.
— Смотрите, сэр! Смотрите, сэр, что я выудил! — крикнул он, не дав Марте раскрыть рот, и потащил Гранта к кухонному столу. На деревянном столе, аккуратно помещенный на несколько слоев газет, чтобы хоть как-то предохранить чисто выскобленную поверхность, стоял мужской ботинок.
— Я никогда теперь не смогу раскатывать тесто на этом столе, — простонала миссис Трапп, не решаясь поднять глаза.
Грант взглянул на ботинок и вспомнил полицейское описание одежды исчезнувшего Сирла.
— Я так понимаю, это его, — проговорил он.
— Да, — подтвердила Марта.
Это был коричневый ботинок, и вместо шнурков у него на подъеме были ремешок и пряжка. Ботинок был насквозь мокрый и очень грязный.
— Где ты выудил его, Томми?
— Около ста ярдов ниже большой излучины.
— Ты, наверное, не догадался отметить место?
— Как же, конечно отметил.
— Молодец! Потом покажешь его мне. А пока подожди здесь, ладно? Не выходи отсюда и не болтай о своей находке.
— Хорошо, сэр. Никто и знать не будет, только я и полиция.
Слегка улыбнувшись такой формулировке, Грант пошел наверх, в гостиную, и позвонил инспектору Роджерсу. Немного подождав, так как участок должен был соединить его с домом Роджерса, Грант услышал голос Роджерса, выложил ему новость — реку придется протралить заново — и объяснил почему.
— О Боже! — охнул Роджерс. — А мальчишка Траппов сказал, где он его выудил?
— Примерно в ста ярдах вниз от большой излучины, если это вам о чем-нибудь говорит.
— Говорит. Это около двухсот ярдов ниже того места, где был их бивак. Мы скребли дно гребнем с короткими зубцами. Вы не думаете, что, может быть… А похоже, что ботинок был в воде с вечера в среду?
— Очень похоже.
— Ну ладно. Я договорюсь. И надо же, чтобы это случилось в воскресенье!
— Сделайте все как можно тише, хорошо? Нам не нужны зрители, если этого можно избежать.
Когда Грант вешал трубку, в комнату вошла Марта с подносом и начала ставить на стол тарелки.
— Миссис Трапп все еще в том состоянии, когда «подкатывает». Поэтому я решила, что лучше уж я приготовлю вам завтрак сама. Вы какую любите яичницу? Глазунью?
— Если вы в самом деле хотите знать, я люблю, чтобы яйца наполовину зажарились, а потом бы их проткнули вилкой.
— Panache![611] — воскликнула Марта в восторге. — Такого я еще не встречала. Мы становимся интимными друзьями, не правда ли? Наверное, я единственная женщина, не считая вашей экономки, которая знает, что на завтрак вы любите двухслойную яичницу. Или я ошибаюсь?
— Ну, в деревне вблизи Амьена живет женщина, которой я однажды признался. Только, боюсь, она давно забыла об этом.
— Вероятно, она сделала на этой идее состояние. Теперь во Франции, наверное, название яичницы а l'Anglaise[612] получило совершенно новый смысл. Черный хлеб или белый?
— Черный, пожалуйста. Я буду должен вам еще за один междугородный разговор. — Грант снова снял трубку и назвал номер домашнего телефона Вильямса в Лондоне. Ожидая соединения, он позвонил в Триммингс и попросил позвать к телефону экономку. Когда в трубке послышался голос слегка запыхавшейся миссис Бретт, Грант спросил, кто в Триммингсе обычно чистит обувь, и услышал в ответ, что это делает девушка-судомойка Полли.
— Не можете ли вы узнать у Полли, имел ли мистер Сирл обыкновение снимать свои коричневые ботинки не расстегивая пряжку или сначала расстегивал ее?
Хорошо, миссис Бретт сделает это, но, может быть, инспектор хотел бы сам поговорить с Полли?
— Нет, благодарю вас. Потом, конечно, я попрошу ее подтвердить все, что она скажет. Однако мне кажется, она будет меньше волноваться, если этот вопрос ей зададите вы, чем если ее будет по телефону расспрашивать посторонний. Я не хочу, чтобы она колебалась, раздумывала. Мне нужна ее первая, естественная, реакция на вопрос. Бывали ли расстегнуты пряжки на ботинках, когда она их чистила, или нет?
Миссис Бретт поняла и… будет ли инспектор ждать у телефона?
— Нет. Я жду важного звонка. Через несколько минут я снова позвоню вам.
Потом на проводе оказался Лондон и послышался не очень довольный голос Вильямса, говоривший телефонистке: «Хорошо, хорошо, я вот уже пять минут как здесь».
— Это вы, Вильямс? Говорит Грант. Слушайте. Я собирался сегодня приехать в город, чтобы встретиться с кузиной Лесли Сирла. Да, я выяснил, где она живет: Холли-Пэйвмент, девять, в Хэмпстеде. Там что-то вроде колонии художников. Я беседовал с ней вчера вечером по телефону и договорился, что приду сегодня во второй половине дня, часа в три. Но я не смогу поехать. Мальчик только что выудил из реки ботинок Лесли Сирла. Да, проворонили. Придется все начинать сначала, и я должен быть здесь. Может быть, если вы свободны, вы пойдете к мисс Сирл вместо меня или послать кого-нибудь другого из Ярда?
— Не надо, я пойду. О чем вы хотите, чтобы я спросил ее?
— Выясните все, что она знает о Сирле. Когда она видела его последний раз. Кто его друзья в Англии. Все, что она сможет рассказать о нем.
— Очень хорошо. А в котором часу мне позвонить вам?
— Ну, пусть вы будете там без четверти три, даю вам час на все, — может быть, в четыре?
— В участок Уикхема?
— Нет, нет, пожалуй нет. Учитывая, что траление — процесс медленный, лучше позвоните мне в Милл-Хаус в Сэлкотте. Сэлкотт, пять.
Только повесив трубку, Грант сообразил, что не спросил Вильямса, как прошла его миссия по поимке Бенни Сколла.
Вошла Марта с завтраком. Пока она наливала ему кофе, Грант снова позвонил в Триммингс.
Миссис Бретт повогорила с Полли, и у Полли не было никаких сомнений на этот счет. Ремешки на коричневых ботинках мистера Сирла были всегда расстегнуты, когда он выставлял их для чистки. Полли была уверена в этом, так как обычно застегивала пряжку, чтобы ремешок не болтался, пока она чистит ботинок. Закончив, она снова расстегивала ее.
Вот так-то.
Грант принялся за еду. Марта налила себе чашку кофе и теперь пила его маленькими глотками, словно замерзла. Грант не удержался и спросил:
— Вы не заметили ничего странного в этом ботинке?
— Заметила. Он застегнут.
Изумительная женщина. Должно быть, предположил Грант, у нее есть недостатки, которые уравновешивают ее многочисленные достоинства, но вообразить, что представляют собой эти недостатки, он не мог.
Глава 15
На реке было очень холодно. Ивы трепетали, вода отливала свинцовым блеском, ее поверхность то морщилась от ветра, то вскипала под налетающими порывами дождя. Время тянулось медленно, и обычно озабоченное лицо Роджерса становилось все более успокоенно-меланхоличным, а кончик носа, торчавший из поднятого воротника его непромокаемого плаща, — все более красным и грустным. Пока что никто непрошеный не явился разделить их вынужденное бдение. В Милл-Хаус они заставили всех поклясться не разглашать тайну, и это было вовсе не трудно. Миссис Трапп отправилась в постель, потому что у нее все еще «подкатывало», а Томми, верный сподвижник полиции, стал членом экспедиции по тралению реки. Ее широкая дуга, лежавшая в пойменной долине, находилась далеко и от шоссе, и от пешеходной тропинки, никакого жилья вблизи, так что не было и зевак, которые бы остановились, постояли молча, а потом пошли бы дальше, разнося новости по всей округе.
Они были одни в мире, предоставленные сами себе, — они и река. Мир, в котором не нашлось места двум вещам — комфорту и времени.
Грант и Роджерс давно исчерпали занимавшую обоих профессиональную тему разговора, но ни к чему не пришли. Теперь они сидели рядом на стволе поваленной ивы — просто двое продрогших мужчин на лугу в холодный весенний день. Грант наблюдал за тем, как медленно ползет драга, а Роджерс смотрел вдаль — на широкую пойму реки.
— Зимой здесь все залито, — проговорил он. — Выглядит это красиво, если забыть о причиненных убытках.
— Нежная трава,
Что шелестела, шевелясь едва,
Уж не обрадуется ветру никогда, —
произнес Грант.
— Что-что?
— Так написал о половодье один мой друг в армии.
Нахлынула стремительно вода.
Луг утонул в ней. Нежная трава,
Что шелестела, шевелясь едва,
Уж не обрадуется ветру никогда.
— Славно, — одобрил Роджерс.
— Ужасно старомодно, — отозвался Грант. — Звучит совсем как поэзия. Роковой недостаток, насколько я понимаю.
— Длинные стихи?
— Только две строфы и мораль.
— А как звучит мораль?
— О, красота стихий, нам лик твой мил,
Хоть он порою и бывает страшен
И хоть мы искренне любили наши
Былинки хрупкие, которые поток сгубил.
Роджерс задумался.
— Здорово, правда-правда, — проговорил он. — Ваш друг в армии знал, о чем говорил. Я никогда не увлекался чтением стихов в книгах — я хочу сказать, в отдельных томах. Но журналы иногда печатают стихи, чтобы заполнить место, когда рассказ кончается выше нижнего края страницы. Понимаете?
— Понимаю.
— Я прочитал кучу таких стихов, и вдруг одно запало мне в душу. Я помню его по сей день. Собственно говоря, это не поэзия. Я хочу сказать, там нет рифмы, но оно вернуло меня туда, где я жил раньше.
Мне выпал жребий жить внутри страны
Вдали от шумного прибоя
И от кричащих чаек.
И я,
Который с младенчества внимал голосу моря,
Должен слушать журчание реки
В зеленых полях
И голоса птичек, сплетничающих
В ветвях деревьев.
Понимаете, я вырос возле Мер-Харбор, у моря, и никак не привыкну жить вдали от него. Чувствуешь себя запертым со всех сторон, задыхаешься. Только я никогда не мог найти слова, чтобы выразить это, пока не прочел те стихи. Я отлично понимаю, что чувствовал этот парень. «Сплетничающие птички!»
Презрительная насмешка и раздражение в голосе Роджерса позабавили Гранта, но потом одна мысль позабавила его еще больше, и он расхохотался.
— Что смешного? — спросил Роджерс, как бы становясь в позу обороняющегося.
— Просто я подумал, как потрясены были бы авторы детективных романов при виде двух инспекторов полиции, сидящих на стволе ивы и читающих друг другу стихи.
— А, эти! — произнес Роджерс тоном, за которых в простонародных кругах обычно следует плевок. — А вы читаете когда-нибудь такие вещи?
— Да. Время от времени.
— У моего сержанта это хобби. Коллекционирует завывания. Его рекорд — девяносто два в одной книге. Она называется «Боги приходят на помощь». Написала ее какая-то женщина. — Роджерс замолчал, внимательно уставился вдаль и добавил: — Вон там идет женщина. Ведет велосипед.
Грант поднял глаза и произнес:
— Это не женщина. Это богиня, спешащая на помощь.
То была неукротимая Марта, с термосом кофе и сэндвичами на всех.
— Не могла придумать другого способа отвезти все, только велосипед, — объяснила она, — но это трудно, потому что большинство ворот не открывается.
— И как же вы прошли?
— Я разгружала велосипед, перекидывала его через ограду и на другой стороне снова нагружала.
— Дух, который создал Империю.
— Может, и так, но на обратном пути пусть Томми пойдет со мной и поможет.
— Конечно, пойду, мисс Халлард, — сказал Томми с набитым сэндвичем ртом.
С реки пришли рабочие и были представлены Марте. Гранту забавно было видеть camaraderie[613] со стороны тех, кто никогда не слышал о Марте, и почтительное обращение тех, кто слышал.
— Кажется, новость просочилась, — объявила Марта. — Мне позвонил Тоби и спросил, правда ли, что реку снова тралят.
— Вы не сказали ему — почему?
— Нет, не сказала, — ответила она, и ее лицо слегка побледнело при воспоминании о ботинке.
К двум часам вокруг них собралось уже много зрителей, к трем берег стал похож на ярмарку, а местный констебль делал доблестные попытки сохранять хоть какой-то порядок.
К половине четвертого реку протралили почти до самого Сэлкотта, но так ничего и не нашли. Грант отправился обратно в Милл-Хаус и обнаружил там Уолтера Уитмора.
— Очень любезно с вашей стороны, что вы сообщили нам, инспектор, — сказал Уолтер. — Мне бы следовало пойти на реку, но я никак не мог.
— В этом не было ни малейшей необходимости.
— Марта объяснила, что к вечернему чаю вы придете сюда, вот я и решил подождать. Есть… результаты?
— Пока нет.
— Почему вы спрашивали о ботинках сегодня утром?
— Потому что тот, что найден, застегнут. Мне хотелось знать, снимал ли обычно Сирл ботинки, не расстегивая. Похоже, он всегда расстегивал пряжку.
— Тогда почему… как мог ботинок оказаться застегнутым?
— Либо пряжку присосало течением, либо он сбросил ботинок, чтобы легче было плыть.
— Понимаю, — мрачно протянул Уолтер.
Он отказался от чая и ушел. При этом вид у него был более растерянный, чем когда-либо.
— Мне бы так хотелось посочувствовать ему, но не могу, — проговорила Марта. — Китайский или индийский?
Грант выпил три большие чашки обжигающе горячего чая («страшно вредно для вашего желудка!» — заметила Марта) и начал снова ощущать себя человеком, когда позвонил Вильямс.
Докладывать, несмотря на приложенные Вильямсом старания, было почти не о чем. Мисс Сирл не любила своего кузена и не стеснялась в этом признаться. Она тоже была американкой, но они родились в разных концах Соединенных Штатов и познакомились только взрослыми. Похоже, они тут же поссорились. Когда Сирл приезжал в Англию, он иногда звонил ей, но в этот раз не звонил. Она и не знала, что он в Англии.
Вильямс спросил, не уезжала ли она из дома и не думает ли она, что Сирл, может быть, приходил или звонил, но не заставал ее. Она сказала, что ездила в горы, в Шотландию, рисовать и что Сирл, возможно, приходил несколько раз, а она об этом не знала. Когда ее нет, студия пуста, и никто не подходит к телефону.
— А картины вы видели? — спросил Грант.
— О да. Там все увешано ими.
— Какие они?
— Очень похоже на Шотландию.
— Традиционные?
— Не знаю. Главным образом западный Сатерленд и Скай.
— А что о его друзьях в Англии?
— Она удивилась, услышав, что у него вообще где-то есть друзья.
— Она не высказала предположения, что он «темная личность»?
— Нет, сэр. Ничего похожего.
— И она не может придумать причину, почему бы он мог неожиданно исчезнуть и куда?
— Нет, не может. Родных у него нет, это она мне сказала. Родители, очевидно, умерли, а он был единственным ребенком. О его друзьях она, похоже, ничего не знает. Во всяком случае, то, что он говорил, будто у него в Англии есть только кузина, — правда.
— Ладно, большое спасибо, Вильямс. Я совсем забыл спросить вас сегодня утром — вы нашли Бенни?
— Бенни? О да. С легкостью.
— И он орал?
Грант услышал, как Вильямс рассмеялся.
— Нет. На этот раз он придумал кое-что другое. Он притворился, будто упал в обморок.
— А что это ему дало?
— Это дало ему три бренди и завоевало симпатии большинства присутствующих. Наверное, не нужно говорить, что мы были в пабе. После второго бренди он начал приходить в себя и так стонать, что его преследуют, — что ему дали третью рюмку. Я был очень непопулярен.
Грант счел последнюю фразу прекрасным примером преуменьшения.
— К счастью, это был вест-эндский паб, — сказал Вильямс. В переводе это должно было означать, что не было серьезных попыток помешать ему выполнить свои обязанности.
— Он согласился поехать с вами на допрос?
— Он заявил, что поедет, если я сначала разрешу ему позвонить по телефону. Я сказал, он знает, что свободен звонить кому угодно в любое время дня и ночи — это обеспечивает почтовое министерство, — но раз это невинный звонок, то надеюсь, он не станет возражать, если я буду изображать муху на стенке телефонной будки.
— И он согласился?
Он практически затащил меня в будку. И кому, вы думаете, звонил этот маленький ублюдок?
— Своему члену парламента?
— Нет. Наверное, теперь ни один член парламента не захочет иметь с ним дело. Нет, он звонил какому-то типу, своему знакомому, который пишет для «Уотчмена», и рассказал ему сказку: не успел он, Бенни, «завязать», как то один, то другой полисмен оказываются у него на хвосте и требуют, чтобы он ехал в Скотланд-Ярд на допрос. И как же человеку исправиться, если когда он невинно выпивает с друзьями, которым о нем ничего не известно, является переодетый в штатское шпик и желает говорить с ним и так далее, и так далее.
— Была от него какая-нибудь польза Ярду?
— Нет, а от его девушки была. Она проболталась?
— Нет, на ней были сережки Поппи. Поппи Пламтр.
— Не может быть!
— Если бы не мы изъяли на время Бенни из обращения, думаю, это сделала бы его девица так или иначе. Она просто обалдела. Он у нее очень давно не появлялся, и, похоже, она подумывала бросить его, — так вот, Бенни «купил» ей пару бриллиантовых сережек. Не станет Бенни тратить свой ум на всяких птичек.
— А остальное имущество Поппи вы нашли?
— Нашли. Бенни раскололся. У него не было времени смыться со всем барахлом за границу.
— Хорошая работа. А что с «Уотчменом»?
— Ну, мне хотелось, чтобы этот дурачок из «Уотчмена» поварился в собственном соку, но шеф не разрешил. Сказал, что не дело наживать неприятности, когда их можно избежать, даже если мы будем иметь удовольствие наблюдать, как «Уотчмен» сядет в лужу. Так что мне пришлось позвонить ему и рассказать все.
— По крайней мере вы хоть развлеклись.
Ну конечно, конечно. Не буду отрицать, я получил удовольствие. Я сказал: «Мистер Риттер, говорит сержант уголовной полиции Вильямс. Я присутствовал при том, как Бенни Сколл звонил вам пару часов назад». — «Присутствовали? — завопил он. — Но он же подал жалобу на вас!» — «О да, — ответил я. — У нас свободная страна, понимаете ли». — «Не нахожу, что она свободная кое для кого, — заявил он. — Вы поволокли его на допрос в Скотланд-Ярд!» — «Я пригласил его составить мне компанию, он мог не соглашаться, если бы не хотел». Тут он выдал старую песню, что мы травим преступников, что Бенни Сколл заплатил уже свой долг обществу и что мы не имеем права травить его теперь, когда он снова стал свободным человеком и так далее. «Вы опозорили его перед друзьями! — кричал мистер Риттер. — И толкнули назад, в безнадежность. Что выиграл Скотланд-Ярд, заклеймив сегодня днем несчастного маленького Бенни Сколла?» — «Две тысячи фунтов», — ответил я. «Что? — завизжал он. — О чем вы говорите?» — «Столько стоят драгоценности, которые он украл из квартиры Поппи Пламтр вечером в пятницу». — «Откуда вы знаете, что это был Бенни»? — вопросил он.
Я сказал, что Бенни лично вручил нам все, за исключением сережек с одним большим бриллиантом в каждой, которые украшали уши его теперешней подружки. Потом я проговорил: «Спокойной ночи» — таким же сладким и тихим голосом, каким говорят по радио в «Детском часе», и повесил трубку. Знаете, я думаю, у него уже была написана статья про бедного невинного Бенни. Он был в ужасном горе. Писатели, должно быть, чувствуют себя очень подавленно, если то, что они написали, не может быть напечатано.
— Подождите, пока ограбят квартиру мистера Риттера, — сказал Грант. — Он прибежит к нам и будет требовать крови преступника.
— Да, сэр. Забавно, не правда ли? Такие вот всегда самые кровожадные, когда дело коснется их самих. Есть что-нибудь из Сан-Франциско?
— Еще нет, но может прийти с минуты на минуту. Хотя теперь, похоже, это не так уж важно.
— Угу. Как подумаю, что заполнил целый блокнот, беседуя с кондукторами автобусов в Уикхеме! Годится только для мусорной корзинки.
— Никогда не выбрасывайте свои записи, Вильямс.
— Хранить их несколько лет, на всякий случай?
— Храните их для автобиографии, если хотите, только храните. Мне бы хотелось, чтобы вы вернулись сюда, но в данный момент по работе этого не требуется. Просто торчим тут на холоде.
— Ну, надеюсь, к закату что-нибудь найдется.
— И я надеюсь. Буквально!
Грант повесил трубку и пошел обратно на берег реки. Толпа немного рассосалась. Люди стали расходиться по домам к воскресному вечернему чаю, однако основное ядро тех, кто с радостью умрет от голода, только бы увидеть, как из реки достают труп, было еще здесь. Грант посмотрел на их посиневшие дурацкие физиономии и в тысячный раз с тех пор, как стал полицейским, подивился: что движет ими? Одно несомненно: если завтра возобновятся публичные казни, народу соберется не меньше, чем при игре на кубок.
Роджерс уехал к себе в Уикхем, зато появились представители прессы. И местный репортер, и корреспондент лондонской утренней газеты — оба хотели знать, почему реку снова тралят. Присутствовал и Самый Старый Житель. Его нос и подбородок сходились так близко, что Грант удивлялся, как тому удается бриться. Это был глупый, самодовольный старик, но при подобном сборище он представлял собой нечто весьма значительное — он представлял собой Память Поколений и в этом качестве требовал уважения.
— Тралить дальше, до деревни, — впустую, — заявил он Гранту с таким видом, будто отдавал распоряжения помощнику садовника.
— Правда?
— Угу. Впустую. Она там все засасывает. На дно, в ил.
«Она» явно означало реку.
— Почему?
— Она там течет медленно. Словно устала. Все опускает на дно. Потом, после излучины, на полпути к Уикхему она опять срывается с места, легко и весело. Ага. Такой уж у нее нрав. Тащит все на дно, в ил, потом чуть-чуть успокаивается, оглядывается — заметили ли люди, что она сделала, потом — оп! — и она уже в Уикхеме. — Старик подмигнул Гранту ясным голубым глазом. — Хитрюга, — провозгласил он. — Вот она кто. Хитрюга!
Когда Грант впервые говорил с Роджерсом, тот тоже сказал, что тралить ниже Сэлкотт-Сент-Мэри бесполезно, и Грант понял это как вердикт местного жителя, не требуя объяснений. Теперь Память Поколений все ему объяснил.
— И вообще нечего тралить, — добавил Память Поколений, вытирая повисшую на носу каплю несколько высокомерным жестом.
— Почему? Вы думаете, трупа там нет?
— Угу! Ага! Труп-то там есть. Но эта грязь, этот ил — он не отдаст его, разве только в свое время.
— А когда это может случиться, не скажете?
— Ох! В любое время, — может, через тыщу лет, может, завтра. Очень хваткий этот ил. Как зыбучие пески. Когда мой прадед был мальчишкой, у него с берега в воду скатилось полено. Там было совсем мелко. Он видел полено, но боялся, понимаете, ступить в реку и достать его. Он побежал к дому. Всего несколько ярдов. И привел отца, чтобы тот достал ему полено. Но ил проглотил его. Ага. Сожрал, не успел он отвернуться. Не осталось от полена ни следа. Понимаете, ил заглотнул его. Кровожадный ил, вот что он такое, говорю вам, кровожадный ил.
— Но вы же говорите, что он иногда отдает свои жертвы.
— Угу. Ага. Бывает.
— Когда? В половодье?
— Не-е! В половодье она просто разливается. Молчаливо разливается и собирает еще больше ила. Не-е. Но иногда она начинает течь вспять. Тогда от удивления она и отдает.
— Вспять?
— Ну да. Вот как неделю назад. Тучи набежали и собрались в горах выше Отли, а ливень разразился здесь, и вода вылилась в реку, как будто из ванны после купания. У нее не было времени распределить ее тихо, как полагается. Вода в русле неслась, словно ее гнали щеткой, и вся переболталась. Вот так иногда и случается, что она что-то из ила отдает.
Печальная перспектива, подумал Грант, ждать следующего наплыва туч, чтобы взбаламученная река вынесла наверх тело Сирла. День становился все более серым и угнетающим. Через пару часов придется бросать поиски. Более того, к этому времени они дойдут до Сэлкотта, и если так ничего и не найдут — что тогда? Гранта весь день не отпускало ужасное чувство, что они лишь по поверхности скребут этот «вечный ил». Если и вторичное траление окажется бесполезным — что тогда? Ни следствия, ни дела — ничего вообще.
К тому времени как водянистый закат залил всю сцену бледным светом, они были уже в семидесяти ярдах от конца своего маршрута. В этот момент опять появился Роджерс и вытащил из кармана плаща конверт:
— Это вам. Пришло, когда я был в участке. Отчет из Штатов.
Необходимость в этом отчете уже отпала, однако Грант вскрыл конверт и прочел письмо.
У полиции Сан-Франциско не было никаких претензий к Лесли Сирлу, и им не было известно, чтобы у кого-нибудь имелись таковые. Сирл обычно проводил на Побережье зимние месяцы, а остальное время года путешествовал и фотографировал. Он был богат, но жил тихо, не было никаких сведений о расточительных вечеринках или ином экстравагантном поведении. Сирл жил один, без жены, и ни о каких историях, связанных с женщинами, известно не было. В полиции Сан-Франциско отсутствовали данные о происхождении Сирла, но они обратились в отдел рекламы «Гранд Континентал» — студии, для которой Сирл фотографировал Лотту Марлоу и Дэнни Мински, звезд, в тот момент царивших в мире кино. По имеющимся в «Гранд Континентал» сведениям, Сирл родился в Джоблинге, штат Коннектикут. Единственный ребенок Дэрфи Сирла и Кристины Маттсон. Полиция Джоблинга, Коннектикут, когда ее запросили о Сирлах, ответила, что те уехали из города более двадцати лет назад и отправились куда-то на юг. Сирл-отец был по профессии химиком и страстным фотолюбителем, но больше о нем никто ничего не помнил.
Так что это был довольно скучный отчет. Невдохновляющее собрание бесполезных фактов. Никакого ключа к тому, о чем больше всего хотел узнать Грант: о близких друзьях Сирла в Штатах. Ничего, что просветило бы его в отношении Сирла. Однако что-то в отчете заставило Гранта насторожиться, как будто у него в мозгу звякнул колокольчик.
Он перечел отчет еще раз, ожидая предупреждающего «щелчка», похожего на тот звук, который издают часы перед тем, как начать бить. Однако на сей раз — никакой реакции.
Удивляясь сам себе, Грант снова прочитал отчет, медленно и не торопясь. Что заставило его насторожиться? Он ничего не мог отыскать. Все еще в недоумении, Грант сложил письмо и сунул его в карман.
— Заканчиваем, наверное, а? — проговорил Роджерс. — Теперь мы уже ничего не найдем. Река у Сэлкотта еще никогда ничего не отдавала. Здесь в округе существует поговорка. Когда хотят сказать: «Оставь это» или «Выбрось из головы», говорят: «Швырни с моста у Сэлкотта».
— Почему бы жителям не пройтись по руслу реки землечерпалкой, вместо того чтобы еще больше засорять его, — проворчал Грант, разозлившись. — Тогда и река раз в два года не заливала бы дома зимой.
Длинное лицо Роджерса расплылось в доброй улыбке.
— Если бы вы когда-нибудь вдохнули запах рашмерского ила, вы бы много раз подумали, прежде чем добровольно начать выгребать его, грузить в кузова машин и везти по улицам. Сказать, чтобы закруглялись?
— Нет, — ответил Грант упрямо. — Пусть тралят, пока светло. Кто знает, может, мы войдем в историю как первые люди, которым река у Сэлкотта что-то отдала. И вообще, я не склонен верить местным предрассудкам.
Глава 16
— Подвезти вас в Уикхем? — спросил Роджерс Гранта, но Грант сказал: «Нет», объяснив, что у Милл-Хаус стоит его собственная машина и что он пойдет туда за ней.
Марта вышла навстречу Гранту в ветреные сумерки и взяла его под руку.
— Ничего? — спросила она.
— Ничего.
— Пойдемте, согреетесь.
Молча, идя рядом, они вошли в дом, и Марта налила Гранту очень большую порцию виски. Толстые стены не впускали внутрь шум ветра, и в комнате было тихо и тепло, так же как вчера вечером. Легкий запах кэрри просачивался из кухни.
— Чувствуете, что я готовлю для вас?
— Кэрри. Но не можете же вы кормить Отдел уголовного розыска!
— Кэрри — это то, что вам необходимо после того, как вы целый день наслаждались нашей английской весной. Конечно, вы можете вернуться в «Белый Олень» и получить обычный воскресный ужин: холодное мясо из консервной банки, два ломтика томатов, три кубика свеклы и увядший лист салата.
Гранта от отвращения передернуло. Мысль о «Белом Олене» была подобна смерти.
— Кроме того, завтра меня здесь не будет и я не смогу накормить вас обедом. Я возвращаюсь в город — в данный момент я больше не могу выносить Милл-Хаус. Я останусь в городе, пока будут идти репетиции «Слабого сердца».
— То, что вы были здесь, спасло мне жизнь, — сказал Грант. Он вытащил из кармана американский отчет и добавил: — Прочтите это, пожалуйста, и скажите, не звякнет ли у вас в голове какой-нибудь колокольчик.
— Нет, — покачала головой Марта. — Ничего. А должно бы?
— Не знаю. Мне показалось, когда я читал его первый раз, будто у меня в мозгу что-то предупреждающе зазвенело. — Он снова какое-то время озадаченно смотрел на письмо, потом убрал его.
— Когда мы оба вернемся в город, я хочу, чтобы вы представили меня вашему сержанту Вильямсу, — заявила Марта. — Может быть, вы придете вместе с ним как-нибудь вечером на обед?
— Конечно придем, — с довольной улыбкой согласился Грант. — А что за неожиданная страсть к незнакомому Вильямсу?
— Ну, у меня есть для этого две причины, причем совершенно несхожие. Первая — то, что с человеком, у которого хватило природной смекалки понять, что Уолтер Уитмор — мямля, стоит познакомиться. А вторая — то, что сегодня я видела вас веселым один-единственный раз — после разговора по телефону с сержантом Вильямсом.
— А, это! — отозвался Грант и рассказал Марте про Бенни Сколла, про «Уотчмен» и про то, как добродетельный Вильямс отделал их репортера. И они развеселились, и смеялись все время, пока ужинали, и Марта рассказывала забавные истории о театральных критических статьях, печатавшихся в «Уотчмене». Только когда Грант собрался уходить, она спросила, что он намерен предпринять теперь, когда поиски Сирла оказались тщетными.
— Завтра утром я закончу кое-какие дела в Сэлкотте и вернусь в Лондон доложить обо всем своему шефу, — сказал Грант.
— А потом?
— Состоится совещание, на котором будет принято решение, что следует делать, если вообще следует делать что-либо.
— Понимаю. Ладно, когда вы с этим покончите, позвоните мне, пожалуйста. Тогда мы и соберемся как-нибудь вечером, когда сержант Вильямс будет свободен.
Как замечательно, думал Грант, ведя машину в Уикхем, воистину замечательно. Ни вопросов, ни намеков, ни мелких женских уловок. В том, как она приняла ситуацию, Марта повела себя удивительно по-мужски. Возможно, именно такая независимость и пугала мужчин.
Грант вернулся в «Белый Олень», позвонил в полицейский участок узнать, не было ли еще писем, взял с буфета в столовой меню, чтобы проверить правильность прогноза Марты по поводу ужина (надо будет сказать ей, что она забыла тушеный ревень и горчицу), и последний раз отправился спать в маленькую комнату под крышей. Сегодня вечером вышитое изречение на стене обещанием не звучало. Воистину «День грядет». Сколько свободного времени, похоже, было у женщин когда-то. Теперь у них есть все продукты в консервированном виде, а свободного времени нет вовсе.
Но нет, дело не в этом. Дело в том, что женщины больше не проводят свое свободное время вышивая изречения цветной шерстью. За шиллинг и два пенса они идут смотреть Дэнни Мински и хохочут до упаду, и, если хотите знать, он, Грант, считает, что этот способ отдохнуть после дневных трудов лучше, чем вышивать красным крестиком бессмысленные узоры. Грант посмотрел на изречение, наклонил лампу так, чтобы оно скрылось в тени, и взял с собой в постель свой блокнот.
Утром он заплатил по счету, делая вид, что не замечает удивления хозяина. Все знали, что траление реки оказалось безуспешным, и все знали, что причиной повторного траления был обнаруженный предмет одежды (существовали различные версии — какой именно предмет), так что хозяин вряд ли мог ожидать, что Скотланд-Ярд в такой момент покинет поле боя. А может, нашли улику, о которой никому не было известно?
— Уезжаете, сэр?
— Не сию минуту, — ответил Грант, читая мысли хозяина, как открытую книгу, и отнюдь не испытывая радости оттого, что в этот самый момент к его имени пришлепнули печать неудачника.
Он отправился в Триммингс.
В утреннем воздухе как бы витало успокаивающее раскаяние — за вчерашнее. Природа ласково улыбалась, ветер стих. Листья блестели, от дороги подымался пар. «Просто я забавлялась, дорогие», — казалось, говорила английская весна промокшим, дрожащим смертным, поверившим ей.
Машина, рыча, поднималась по склону в сторону Триммингса. Грант посмотрел вниз, на лежащий в долине Сэлкотт-Сент-Мэри, и подумал: как странно, что всего три дня назад это было просто название, которое время от времени упоминала в разговоре Марта. Сейчас Сэлкотт занимал основную часть мыслей Гранта.
И еще слава Богу, что ему не надо тут оставаться на веки вечные!
В Триммингсе Гранту открыла дверь утонченная Эдит, которая была так потрясена всем случившимся, что почти совсем по-человечески испугалась, увидев инспектора. Грант попросил позвать Уолтера, и Эдит провела его в библиотеку, где было очень холодно — огонь еще не развели. Спас Гранта Уолтер.
— Пойдемте в гостиную, — предложил он. — Мы пользуемся ею как общей комнатой, и там зажжен камин.
Грант поймал себя на том, что вместо благодарности он размышляет: о собственных удобствах или об удобствах гостя заботился Уолтер? Но ничего не поделаешь, так уж Уолтер действовал на людей.
— Сегодня утром я возвращаюсь в город, — сказал Грант, — и, прежде чем я представлю отчет своему начальству, мне хотелось бы уточнить один-два пункта.
— Да? — Уолтер нервничал и выглядел так, будто он не спал всю ночь.
— Когда я спрашивал вас о путешествии по Рашмер, вы сказали, что получали почту в определенных почтовых отделениях.
— Да.
— В понедельник там, наверное, еще ничего не было, но во вторник и в среду вы, очевидно, забрали все, что пришло. Не можете ли вы вспомнить, получил ли Сирл какие-нибудь письма в один из этих дней?
— Вспомнить нетрудно, инспектор. Сирл никогда не получал никакой корреспонденции.
— Никогда? Вы хотите сказать, что он вообще не получил ни одного письма, пока жил в Триммингсе?
— Насколько мне известно, ни одного. Однако лучше спросите Лиз. Она разбирает почту, когда та приходит.
Удивительно, как это он упустил такой мелкий факт из виду.
— И его отель или банк ничего не пересылали ему?
— Насколько я могу судить, ничего. Может, он предпочитал, чтобы письма скапливались. Некоторые люди по своей природе безразличны к письмам. Совершенная правда. Грант оставил эту тему.
— А теперь о ежедневных телефонных звонках, — проговорил он. — Вечером в воскресенье вы звонили из Танстелла, в понедельник — из Кейпла, во вторник — из Фрайди-Стрит, а в среду откуда?
— В Пэтт-Хатч есть телефонная будка. Мы собирались разбить лагерь в самом Пэтт-Хатч, но эта разрушенная мельница выглядела слишком уж мрачно, и я вспомнил, что чуть ниже по реке есть хорошее место для бивака — там, где река поворачивает на юг. Так что мы туда и отправились.
— И сообщили в Триммингс о предполагаемом месте для лагеря.
— Да, я уже говорил вам, что так мы и сделали.
— Знаю. Я не собирался подлавливать вас. Просто я хотел бы знать, кто с кем беседовал во время этого разговора из Пэтт-Хатч.
Уолтер минуту подумал.
— Ну, сначала я говорил с мисс Фитч, потому что она всегда ждала звонка, потом Сирл говорил с ней. Потом подошла тетя Эм — миссис Гарроуби — и немного поговорила с Сирлом, а напоследок я сам поговорил с миссис Гарроуби. У Лиз были дела в деревне, она еще не вернулась, так что ни один из нас не говорил с ней в среду.
— Понимаю. Благодарю вас. — Грант подождал немного, а потом сказал: — Наверное, вы не настроены рассказать мне, что было причиной вашей… ваших разногласий вечером в среду? — И поскольку Уолтер медлил с ответом, добавил: — Вы не хотите это обсуждать, так как предметом раздора была мисс Гарроуби?
— Мне бы не хотелось впутывать ее во все это, — произнес Уолтер, и Грант не мог побороть в себе чувство, что это клише выражало не ощущения Уолтера, а убеждение, что именно так должен вести себя англичанин в подобных обстоятельствах.
— Как я уже говорил, я спрашиваю больше для того, чтобы прояснить личность Лесли Сирла, чем для того, чтобы уличить вас в чем-то. Говорили ли вы о чем-нибудь, исключая того, что касалось мисс Гарроуби, о чем бы вы не хотели, чтобы я узнал?
— Нет, конечно же нет. Просто это касалось Лиз — мисс Гарроуби. Это был чрезвычайно глупый разговор.
Грант безжалостно улыбнулся:
— Мистер Уитмор, к концу третьего года службы полисмен на опыте познает, что такое абсолютная глупость. Если вы просто боитесь, что некоторая, с вашей точки зрения, нелепица будет зафиксирована — смелее вперед. Возможно, для меня это прозвучит подобием чего-то разумного.
— Ничего разумного в этом не было. Сирл находился в тот вечер в очень странном настроении.
— Странном? Подавленном? — Не хватало только, подумал Грант, на такой поздней стадии начать обсуждать версию самоубийства.
— Нет. На него, казалось, нахлынуло неуместное легкомыслие. А по дороге от реки он начал дразнить меня — ну, дескать, я недостаточно хорош для Лиз. Для моей невесты. Я попытался переменить тему, но он не поддавался. Пока я не разозлился. Он начал перечислять черточки в характере Лиз, известные ему и неизвестные мне. Он вытаскивал что-нибудь и заявлял: «Спорю, что этого вы о ней не знаете».
— Славные черточки?
— О да, — не задумываясь, ответил Уолтер. — Да, конечно. Очаровательные. Но это выглядело все так ненужно и вызывающе.
— Он говорил, что, будь он на вашем месте, он ценил бы ее больше?
— Более того. Он откровенно сказал, что если бы захотел, он оттеснил бы меня. Оттеснил бы меня за две недели, утверждал он.
— Он не предложил вам пари, надеюсь? — не удержался от вопроса Грант.
— Нет, — ответил Уолтер и посмотрел на него с удивлением.
Грант подумал, что надо будет сказать Марте, что тут она ошиблась.
— Когда Сирл заявил, что способен оттеснить меня, — проговорил Уолтер, — япочувствовал, что больше не могу выносить его. Надеюсь, вы понимаете, инспектор, что меня обидело не то, что он считал меня хуже себя, меня обидел его намек на отношение ко мне Лиз. Мисс Гарроуби. Намек, что она уступит любому, кто испытает на ней действие своих чар.
— Понимаю, — серьезно произнес Грант. — Спасибо, что вы рассказали мне все это. А вам не кажется, что Сирл сознательно провоцировал ссору?
— Мне это не пришло в голову. Я просто подумал, что у него такое настроение — вызывающе провокационное. Что он немного не в себе.
— Понимаю. Благодарю вас. Мог бы я поговорить минутку с мисс Фитч? Я не задержу ее.
Уолтер провел Гранта в «утреннюю» комнату, по которой, как разыгравшийся котенок, бегала мисс Фитч, а в ее рыжие, всклокоченные как воронье гнездо, волосы были засунуты два карандаша, желтый и красный. Третий торчал у нее изо рта. Увидев Гранта, она с облегчением вздохнула. Вид у нее был усталый и грустный.
— У вас есть новости, инспектор? — спросила мисс Фитч. Из-за ее спины выглядывала Лиз, и Грант заметил в ее глазах страх.
— Нет, я пришел задать вам один вопрос, мисс Фитч, и больше тревожить вас я не стану. Прошу извинения за беспокойство. Вечером в среду вы ждали звонка вашего племянника с отчетом о том, как проходит путешествие.
— Да.
— Так что вы говорили с ним первая. Я имею в виду — первая из обитателей Триммингса. А потом?
— Рассказать вам, о чем мы говорили?
— Нет. Кто с кем говорил.
— О! Ну, они звонили из Пэтт-Хатч — вы, очевидно, знаете, — и я поговорила с Уолтером, а потом с Лесли. Они оба были очень веселы. — Ее голос дрогнул. — Потом я позвала Эмму — мою сестру, и она поговорила с ними обоими.
— Вы были при том, как она говорила с ними?
— Нет, я поднялась к себе в комнату послушать по радио, как имитирует Сьюзи Скландерс. Она выступает по средам в течение десяти минут один раз в месяц, и делает это замечательно, а послушать ее как следует, когда тут же говорит Эмма, мне бы, конечно, не удалось.
— Понимаю. А мисс Гарроуби?
— Лиз вернулась из деревни слишком поздно и поговорить с ними не успела.
В котором часу это было, вы не помните?
— Точно не помню, но, должно быть, что-то примерно минут за двадцать до обеда. В тот день мы обедали рано, потому что моей сестре нужно было идти на собрание М.О.П.В. Обед в Триммингсе всегда то начинается раньше, то отодвигается, потому что кому-то куда-то нужно идти или кто-то должен откуда-то прийти.
— Благодарю вас, мисс Фитч. А теперь, если вы разрешите мне еще раз взглянуть на комнату Сирла, больше я вас беспокоить не стану.
— Да, конечно.
— Я отведу инспектора наверх, — вмешалась Лиз, игнорируя тот факт, что было бы естественнее, если бы Гранта проводил Уолтер, который все время толокся где-то поблизости.
Прежде чем мисс Фитч успела запротестовать, Лиз поднялась из-за пишущей машинки и вместе с инспектором вышла из комнаты.
— Вы уезжаете, инспектор, потому что пришли к какому-то выводу, или потому, что не смогли этого сделать? Впрочем, наверное, я не должна задавать такие вопросы, — проговорила Лиз, поднимаясь по лестнице.
— Мой отъезд — рутинная процедура. Я должен выполнить то, что обязан сделать каждый офицер полиции — представить отчет начальству, и пусть оно решает, что означают обнаруженные мною факты.
— Но сначала, без сомнения, вы суммируете их сами.
— И многие вычитаю, — суховато произнес Грант.
Сухость его тона не ускользнула от Лиз.
— В этом деле трудно усмотреть здравый смысл, — сказала она. — Уолтер говорит, что Лесли не мог случайно упасть в реку. И все же он упал. Как-то упал.
Лиз остановилась на площадке перед комнатой в башне. Свет, падавший сквозь окно в крыше, высвечивал каждую черточку ее лица. Повернувшись к Гранту, она проговорила:
— Единственно, что не вызывает сомнений во всей это неразберихе, — это то, что Уолтер не имеет никакого отношения к смерти Лесли Сирла. Пожалуйста, верьте этому, инспектор. Я защищаю Уолтера не потому, что он — это он и я собираюсь за него замуж. Я знаю его всю жизнь и знаю, на что он способен, а на что — нет. Он не способен учинить физическое насилие над кем-либо. Пожалуйста, поверьте мне. У него… у него просто не хватит на это характера.
Даже будущая жена считает его рохлей, заметил Грант.
— И не обманывайтесь насчет этой перчатки, инспектор. Поверьте, право, самое вероятное объяснение то, что Лесли подобрал ее и сунул в карман, собираясь потом отдать мне. Я искала вторую из пары в отделении для перчаток, но ее там нет. Так что скорее всего они вывалились из машины, Лесли нашел одну и подобрал.
— А почему он не положил ее обратно в машину?
— Не знаю. Почему человек делает то, а не другое? Сунуть что-нибудь в карман — это почти рефлекс. Главное — он не стал бы хранить ее как сувенир. Лесли вовсе не испытывал ко мне подобного чувства.
Главное, подумал Грант, не то, был ли Лесли влюблен в Лиз, а то — считал ли Уолтер, что Лиз влюблена в Лесли.
Гранту очень хотелось спросить Лиз, что происходит с девушкой, если она помолвлена с «мямлей» и вдруг приходит падший ангел, беглец из Атлантиды, переодетый демон. Однако вопрос, который, казалось, был очень к месту, остался не заданным. Вместо этого Грант спросил Лиз, получал ли когда-нибудь Сирл письма, пока жил в Триммингсе, и она ответила, что, насколько ей известно, не получал ни одного. Потом она ушла вниз, а Грант вошел в комнату в башне. Аккуратно прибранную комнату, где Сирл оставил все, кроме примет своей личности.
Грант еще не видел эту комнату при дневном свете и несколько минут постоял у трех огромных окон, глядя на сад и на долину реки. Есть некоторое преимущество в безразличном отношении к внешнему виду вашего дома: можно прорезать окна там, где, как кажется хозяину, они нужнее всего. Полюбовавшись видом из башни, Грант вернулся к тому, за чем пришел сюда, — просмотрел еще раз вещи Сирла. Терпеливо, предмет за предметом, перебирал он одежду и другие вещи, тщетно пытаясь найти хоть какое-то указание, наткнуться хоть на какую-нибудь подсказку. Он сидел на низенькой скамеечке, коробка с фотопринадлежностями стояла перед ним на полу. В ней было все, что могло понадобиться фотографу. Гранту не приходило на ум ничего: ни реактива, ни какой-нибудь технической новинки, которых могло бы недоставать в коробке. Ее не трогали с места с тех пор, как Грант последний раз видел ее, и пустое пространство все еще хранило очертания вынутого предмета.
Это было пространство, лишенное каких-либо особых примет. Каждый день вещи вынимают из ящиков, и пустые места хранят их очертания, следы их былого присутствия. Нет никаких оснований предполагать, что вынутый предмет имел особое значение. Однако почему, Господи, почему никто не может догадаться, что там лежало?
Грант еще раз попытался положить туда маленькую камеру, зная заранее, что она туда не войдет. Он даже сложил домашние туфли Сирла — одну к другой — и попробовал засунуть из боком в пустое пространство. Тапки оказались на дюйм длиннее, чем нужно, их подошвы торчали, так что лоток не вставал на место и мешал закрыть крышку. И вообще, зачем класть обувь в фотоящик, если есть место в чемодане. Эту вещь положили в фотокоробку не случайно и не в спешке. Все было аккуратно, методично упаковано.
Это могло означать только одно: вещь была положена туда потому, что только сам Сирл рассчитывал вынуть ее из ящика. Отсюда, фигурально выражаясь, и следует плясать.
Грант аккуратно вернул все вещи на их места, еще раз бросил взгляд на долину Рашмер, решил, что сыт этим по горло, и закрыл за собой дверь комнаты, в которой Лесли Сирл оставил все свое имущество и не оставил ничего, что говорило бы о его индивидуальности.
Глава 17
В городе стояла пасмурная погода, но после ливней в долине Рашмер она казалась приятной и успокаивающей. А молодая зелень на деревьях Вестминстера выглядела яркой, пылающей на темном фоне. Как славно снова позволить своим мыслям, так сказать, переодеться в домашнее платье, что обычно бывает при общении с коллегами, принять участие в не требующем разъяснений иносказательном — одними намеками — трепе, который и составлял обсуждение профессиональных дел в Главном управлении.
Однако думать о предстоящем разговоре с Брюсом было вовсе не приятно. Хороший ли день сегодня у Брюса или один из тех, когда ему лучше не попадаться на глаза? В среднем у начальника отдела приходилось три «хороших» дня на один «плохой», так что счет был три к одному в пользу Гранта. С другой стороны, погода была сырой, а в такое время у Брюса всегда разыгрывался ревматизм.
Брюс курил трубку. Значит, день был «хороший». (В другие дни он зажигал сигареты одну за другой и давил их в пепельнице через пять секунд после того, как гасил спичку.)
«С чего бы начать?» — размышлял Грант. Не мог же он просто сказать: «Четыре дня назад вы поручили мне расследование, и сейчас положение в основном остается таким же, как было четыре дня назад». А ведь, грубо говоря, именно так и обстояло дело.
Спас Гранта Брюс. Какое-то время он пристально разглядывал инспектора своими маленькими хитрыми глазками, а потом произнес:
— Если я когда-нибудь видел написанное на лице у человека выражение: «Простите, сэр, поверьте, это не я», то сейчас читаю его на вашем.
И Грант расхохотался:
— Да, сэр, сплошная путаница… — Он выложил свои блокноты на стол и сел по другую его сторону на стул, известный в их конторе как «кресло подозреваемого».
— Ну думаете же вы, что Братец Кролик сделал это, а?
— Нет, сэр. Исключается, это абсурд.
— Несчастный случай?
— Братец Кролик так не считает, сэр, — ответил Грант, ухмыльнувшись.
— Угу, ясно. У него что, не хватило ума даже попытаться выйти сухим из воды?
— В каком-то смысле он простодушный парень, сэр. Он не верит, что произошел несчастный случай, и так и говорит. Тот факт, что доказанный несчастный случал свидетельствовал бы в его пользу, с его точки зрения, к делу вовсе не относится. Он в полном недоумении и очень обеспокоен исчезновением попутчика. Я совершенно уверен — он тут ни при чем.
— Есть какая-нибудь другая версия?
— Ну есть кое-кто, у кого были и возможность, и мотив, и удобный случай.
— Так чего же мы ждем? — весело воскликнул Брюс.
— Четвертая составляющая отсутствует.
— Доказательств нет?
— Ни малейших.
— А кто это?
— Мать невесты Уолтера Уитмора. Точнее — мачеха. Она растила Лиз Гарроуби с младенчества и питает к ней фанатичные материнские чувства. Я не хочу сказать — собственнические, но…
— Тем лучше для нашей Лиз.
— Она была необыкновенно счастлива, когда ее падчерица и ее племянник решили пожениться, потому что тогда все осталось бы в семье. Мне думается, Сирл в ее глазах был мальчишкой, опрокинувшим тележку с яблоками. Это возможный мотив. У нее нет алиби на тот вечер, и она легко могла добраться до места, где они разбили лагерь. Она знала, где это, так как парни ежевечерне звонили по телефону в Триммингс, в имение Фитч, докладывая о своем продвижении за день, а в среду они объяснили, где собираются устроить бивак.
— Но она не могла знать, что они поссорятся и будут возвращаться к реке порознь. Как с этим?
— По поводу этой ссоры — есть одна странность. Сирл, судя по всем отзывам, был очень уравновешенным человеком, но ссору спровоцировал именно он. Во всяком случае так утверждает Уолтер, и у меня нет оснований сомневаться в его словах. Сирл приставал к Уолтеру с разговорами о том, что тот недостаточно хорош для Лиз Гарроуби, и хвастал, что за неделю уведет ее от него. Сирл был совершенно трезв, так что подобное поведение, совершенно для него нехарактерное, вероятно, было вызвано тайной причиной.
— Вы полагаете, он подстроил уход Уитмора в тот вечер? Зачем?
— Быть может, он надеялся встретиться где-нибудь с Лиз Гарроуби. В тот день, когда парни звонили, девицы не было дома, и миссис Гарроуби говорила с ними вместо нее. Предполагаю, она могла заменить падчерицу и в другом, более важном случае.
— Лиз говорит: «Ждите меня у третьего дуба за старой мельницей».
— Что-то вроде этого.
— А потом разъяренная мать ждет его с тупым орудием в руке и спихивает тело в воду. Господи, как бы мне хотелось, чтобы вы отыскали тело.
— Не больше, чем мне, сэр. Пока нет трупа — где мы находимся?
— Даже при наличии трупа вы не сможете возбудить дело.
— Не смогу. Но — не говоря о том, что все прояснилось бы — было бы интересно знать, в каком состоянии кости черепа.
— Есть доказательства, что Сирл испытывал интерес к этой девице?
— Он хранил ее перчатку в ящике с воротничками.
Брюс хмыкнул.
— Я думал, такие штучки вышли из моды вместе с «валентинками», — проговорил он, перефразируя, сам того не зная, сержанта Вильямса.
— Я показал ей перчатку, и она отнеслась к этому спокойно. Сказала, что Сирл, вероятно, подобрал ее где-то и собирался вернуть.
— Быстро сообразила, — прокомментировал начальник отдела.
— Она славная девушка, — возразил Грант кротко.
— Мадлен Смит тоже была славной девушкой. А кто второй фаворит в скачке подозреваемых?
— Никого. Все одинаковы. Люди, у которых не было причин любить Сирла, была возможность и нет алиби.
— Много их? — спросил Брюс, удивленный множественным числом слова «люди».
— Тоби Таллис, который до сих пор не забыл проявленного Сирлом к нему пренебрежения. Таллис живет на берегу реки, и у него есть лодка. Его алиби основывается на слове страстно влюбленного поклонника. Серж Ратов, танцовщик, который ненавидел Сирла за внимание, которым Тоби того удостаивал. Серж, как он сам говорит, танцевал на лужайке у самого берега поздно вечером в среду. Сайлас Уикли, известный английский романист. Он живет в проулке, по которому в среду вечером прошел Сирл, прежде чем исчезнуть с глаз людских. Уикли работал в хижине в конце сада в тот вечер — так он говорит.
— И поставить не на кого?
— Думаю, нет. Может быть, самую малость — на Уикли. Он — того типа, что способен в любой день преступить предел, а потом провести остаток жизни спокойно печатая на машинке в Бродмуре. А Таллис не станет рисковать всем, чего он добился, ради глупого убийства — вроде этого. Он слишком хитер. Что же касается Ратова, я могу представить, что он задумает убийство, но задолго до того, как он пройдет полпути в этом направлении, его осенит другая идея, и он забудет, куда собирался.
— Что, в этой деревне живут одни слабоумные?
— К несчастью, эту деревню «открыли». Аборигены вполне здоровы.
— Ладно. Мы ведь ничего не можем предпринять, пока не обнаружится труп.
— Если он обнаружится.
— Обычно со временем они всплывают.
— По словам местных полицейских, за последние сорок лет в Рашмер утонули пять человек. Это если не принимать в расчет Мер-Харбор — судоходную часть реки. Двое утонули выше Сэлкотта, трое — ниже. Троих, которых утонули ниже, нашли через день или два. Тех двоих, что утонули выше деревни, вообще никогда не нашли.
— Хорошенькая перспектива для Уолтера Уитмора, — заметил Брюс.
— Да, — согласился Грант и призадумался. — Они не были слишком добры к нему сегодня утром.
— Газеты? Да уж. Очень благовоспитанны и объективны, но это не было приятным чтением для Братца Кролика. Дурацкое положение. Никаких обвинений, значит, и защищаться невозможно. Впрочем, ему и нечем защищаться, — добавил Брюс.
Он помолчал немного, постукивая трубкой о зубы, как делал всегда, когда что-нибудь обдумывал.
— Ладно, полагаю, в данный момент мы ничего предпринять не можем. Напишите аккуратненький отчет, и посмотрим, что скажет комиссар. Я не вижу, что еще мы могли бы сделать. Умер, утонув, и никаких доказательств, несчастный ли это случай или что-нибудь другое. Таков ваш вывод, не правда ли?
Поскольку Грант не отвечал, Брюс посмотрел на него и резко повторил:
— Не правда ли?
То ты видишь это, то нет.
Что-то не укладывающееся в общую картину.
Не позволяйте вашему чутью управлять вами, Грант.
Что-то фальшивое.
То ты видишь это, то нет.
Присказка фокусника.
Трюк с отвлечением внимания.
Можно выполнить что угодно, если отвлечь внимание.
Где-то что-то фальшивое.
— Грант!
Вопрос, прозвучавший в тоне начальника отдела, заставил Гранта очнуться. Что он должен ответить? Молча согласиться и пусть все идет как идет? Цепляться за факты, доказательства и оставаться на безопасной позиции?
С удивлением, словно это был кто-то другой, Грант услышал собственный голос:
— Вы когда-нибудь видели, сэр, как женщину распиливают пополам?
— Видел, — ответил Брюс и неодобрительно-осторожно посмотрел на Гранта.
— Мне чудится в этом деле сильный привкус фокуса распиливания женщины, — произнес Грант и вспомнил, что ту же метафору он употребил в разговоре с сержантом Вильямсом.
Однако Брюс реагировал не так, как Вильямс.
— О Господи! — проскрипел он. — Надеюсь, вы не собираетесь разыгрывать перед нами Ламонта, а, Грант?
Несколько лет назад Гранта послали в самую глубь Горной Шотландии ловить одного парня, и он привез его. Привез человека, которому «шили» не вызывавшее никаких сомнений участие в преступлении. Оставалось только вынести приговор. Передавая парня в руки работников Ярда, Грант сказал, что, вообще-то, сам он считает — они ошиблись и схватили не того, кого надо бы. Так оно и оказалось. В Ярде никогда не забывали этого случая и всякое высказанное наугад мнение, противоречащее фактам, стали называть «разыгрывать Ламонта».
Неожиданное упоминание Джерри Ламонта подбодрило Гранта. Почувствовать, что Джерри Ламонт невиновен, имея перед собой неопровержимые улики, представлялось даже большим абсурдом, чем учуять «распиливаемую женщину» в том, что человек утонул.
— Грант!
— Во всем деле есть что-то очень странное, — проговорил Грант упрямо.
— Что странное?
— Если бы знал, я бы написал об этом в отчете. Это не какой-то один факт. Это вся картина. Атмосфера. Привкус. Привкус какой-то лжи.
— Вы не могли бы объяснить обыкновенному полицейскому-трудяге, что там отдает ложью?
Не обращая внимания на ядовитый тон начальника, Грант произнес:
— Все ложно с самого начала. Разве вы не видите? То, что Сирл пришел на вечеринку — пришел ниоткуда. Да, я знаю, что он тот, за кого себя выдает, и все прочее. Мы даже знаем, что он попал в Англию именно так, как говорит. Через Париж. Ему был забронирован билет конторой «Америкэн Экспресс» на площади Мадлен. Но это ничего не меняет. Весь эпизод выглядит как-то подозрительно. Неужели он предпринял столько усилий, чтобы познакомиться с Уолтером Уитмором, только потому, что оба они были дружны с Куни Уиггином?
— Не спрашивайте меня! Ну и что?
— Откуда такая потребность познакомиться с Уолтером?
— Быть может, он слышал его радиопередачи и не мог дождаться встречи.
— И ему никто не писал.
— Кому?
— Сирлу. За все время, что он жил в Сэлкотте, он не получил ни одного письма.
— Может, у него аллергия на клей на конвертах. А еще я слышал, что люди оставляют свои письма лежать в банке, а потом забирают все вместе.
— Это совсем другое. Ни один из американских банков или агентств никогда не слышал о Сирле. И еще одна мелочь кажется мне странной, хоть ее истинное значение ничтожно. У Сирла был жестяной ящик, очень похожий на коробку для красок. Он держал в нем свои фотопринадлежности. Что-то вынуто из ящика. Предмет размером десять на три с половиной на четыре дюйма, уложенный в нижнее отделение, — в ящике есть вынимающийся лоток, как в коробке с красками, и под ним еще одно отделение. Ни одна из вещей Сирла, которые сейчас находятся в его комнате, не подходит, и никто не может догадаться, что за предмет там лежал.
— И что странного? Существует более сотни предметов, которые можно уложить на это место.
— Например, сэр?
— Ну… ну, с ходу я не придумаю, но их дюжины.
— В его чемоданы можно упаковать что угодно. Эту вещь он хранил в жестяном ящике скорее всего только потому, что никто, кроме него, не мог вынуть ее оттуда.
Похоже, это соображение заставило Брюса отнестись внимательнее к рассказу Гранта.
— Теперь эта вещь исчезла. Нет оснований думать, что она может иметь большое значение для дела. Вероятно, вообще никакого. Просто все это странно, и это засело у меня в мозгу.
— А зачем, как вы думаете, он приехал в Триммингс? Шантаж? — В голосе Брюса прозвучал наконец интерес.
— Не знаю. О шантаже я не думал.
— Не могло ли лежать в ящике то, что легко было обратить в деньги? Не письма. Размеры не те. Документы? Свернутые в трубочку документы?
— Не знаю. Возможно, и так. Против версии шантажа говорит то, что у Сирла было достаточно денег.
— У шантажистов они, как правило, всегда есть.
— Верно. Но у Сирла была профессия, которая его очень хорошо обеспечивала. Только нахал желал бы большего. А он почему-то не кажется мне нахалом.
— Будьте же взрослым, Грант. Посидите минуточку спокойно и подумайте о шантажистах, которых вы знали.
Брюс подождал, пока его выстрел достигнет цели, а потом сухо произнес:
— Вот так. — И добавил: — Кого, вы думаете, он мог шантажировать в Триммингсе? У миссис Гарроуби было что-то в прошлом?
— Возможно, — проговорил Грант, рассматривая Эмму Гарроуби в совершенно новом свете. — Да, думаю, вполне возможно.
— Хорошо. Выбор у нас не слишком широк. Не думаю, чтобы Лавиния Фитч когда-нибудь вела разгульную жизнь.
Грант вспомнил милую беспокойную маленькую мисс Фитч с карандашами, торчащими из взлохмаченных волос, и улыбнулся.
— Как видите, выбирать почти не из кого. Полагаю, если вообще речь шла о шантаже, это могла быть только миссис Гарроуби. Значит, ваша теория такова: Сирла убили по причине, которая не имеет никакого отношения к Лиз Гарроуби. — И поскольку Грант молчал, Брюс добавил: — Вы ведь считаете, что это убийство, не так ли?
— Нет.
— Нет?!
— Я не верю, что он мертв.
Ненадолго наступила тишина. Потом Брюс наклонился над столом и проговорил, изо всех сил стараясь сдерживаться:
— Послушайте, Грант. Чутье есть чутье. Всем известно, что вы этим сильны. Но когда вы начинаете им разбрасываться, причем швыряете огромные куски, это уже слишком. Умерьте прыть, ради Бога! Вы вчера целый день тралили реку, пытаясь найти утопленника, а сегодня у вас хватает духу сидеть тут и втолковывать мне, что вы не верите, будто он вообще утонул. А что, по-вашему, он сделал? Ушел босиком? Или, изменив внешность, уковылял, как одноногий, на костылях, которые вырезал в свободную минуту из дубовых ветвей? Куда, вы полагаете, он делся? На что он теперь будет жить? Честно, Грант, я считаю, вам необходим отпуск. Как, скажите, как такая мысль проникла в вашу голову? Каким образом в мозгу опытного криминалиста произошел скачок от ясного вывода: «Исчез, считается утонувшим» — до дикой, фантастической истории, которая вообще не стыкуется с самим делом?
Грант молчал.
— Ладно, Грант. Я не разыгрываю вас. Я действительно хочу знать. Как вы пришли к выводу, что человек не утонул, после того как его ботинок нашли в реке? Как он туда попал?
— Если бы я это знал, сэр, дело было бы решено.
— Может, у Сирла была с собой запасная пара ботинок?
— Нет. Только те, что на нем.
— Один из которых найден в реке.
— Да, сэр.
— И вы по-прежнему считаете, что он не утонул?
— Да.
Молчание.
— Я не знаю, что меня больше восхищает, Грант, — ваша выдержка или ваше воображение.
Грант ничего не ответил. Говорить, похоже, было нечего. Он, к несчастью, сознавал, что и так сказал слишком много.
— Вы можете придумать хоть какую-нибудь версию, пусть самую дикую, объясняющую вашу теорию о том, что он жив?
— Одну могу. Его похитили, а ботинок кинули в реку как свидетельство того, что он утонул.
Брюс посмотрел на Гранта преувеличенно почтительно.
— Вы ошиблись в призвании, Грант. Вы очень хороший сыщик, но как автор детективных романов вы сколотили бы состояние.
— Я только ответил на ваш вопрос и предложил версию, которая соответствовала бы фактам, сэр, — проговорил Грант мягко. — Я не сказал, что верю в нее.
Это немного утихомирило Брюса.
— Вынимаете их из шляпы, как кроликов, а? Версии любого размера, которые будут соответствовать любой картине! Покупайте смело! Заходите! Заходите!
Брюс замолчал, долго вглядывался в непроницаемое лицо своего подчиненного, потом медленно откинулся в кресле, вздохнул и улыбнулся.
— Вы, чертово каменное лицо! — проговорил он и стал рыться в карманах в поисках спичек. — Знаете, чему я завидую, Грант? Вашему умению владеть собой. Я вечно вспыхиваю то по одному, то по другому поводу, и это ни мне, ни кому-нибудь другому не приносит пользы. Моя жена говорит, это следствие неуверенности в себе и боязни, что мне не удастся поступить по-своему. Она прослушала курс из шести лекций по психологии в колледже Морли и теперь считает, что нет такой черточки в природе человека, которую она бы не понимала. Я могу лишь сделать вывод, что вы, должно быть, чертовски самоуверенны, хоть и скрываете это за вашим внешне спокойным, милым нравом.
— Не знаю, сэр, — улыбнулся Грант. — Я отнюдь не чувствовал себя спокойно, когда шел сюда отчитываться, а мне нечего было сказать вам. Положение дел остается таким же, как четыре дня назад, когда вы поручили мне расследование.
— Значит, вы говорили себе: «Как поживает сегодня ревматизм старика? Можно войти или нужно ползти на четвереньках?» — Маленькие слоновьи глазки Брюса на секунду сверкнули. — Ладно, так: одарим комиссара вашим аккуратным отчетом с изложением имеющихся фактов и оставим его в неведении по поводу изящных полетов вашей фантазии.
— Да, конечно, сэр. Я не смогу как следует объяснить комиссару, что у меня какое-то странное ощущение в животе.
— Не надо. И если вы последуете моему совету, то перестанете обращать столь серьезное внимание на бурчание в вашем животе и прислушаетесь к тому, что происходит в вашей голове. Полицейские в работе обычно употребляют одну коротенькую фразу, которая гласит: «В соответствии с доказательствами». Повторяйте ее шесть раз в день, как молитву, перед едой и после еды, и, может быть, она удержит ваши ноги на земле и помешает вам воображать, что вы — Фридрих Великий, или еж, или еще что-нибудь.
Глава 18
В школьные годы Грант усвоил, что когда сталкиваешься с трудной проблемой, имеет смысл отложить ее на время. Задача, которая вчера вечером казалась неразрешимой, в утреннем свете может стать простой и совершенно ясной. Этот урок Грант никогда не забывал и пользовался им и в личной жизни, и в работе. Зайдя в тупик, он переключал свое внимание на что-нибудь другое. Так и теперь. Хоть он и не последовал совету Брюса относительно ежедневного повторения молитвы, он учел слова начальника «не думать о бурчании в животе». В деле Сирла он зашел в тупик. Поэтому он бросил о нем думать и обратил свои помыслы на Тома Большой Палец. Тот, кто сегодня называл себя Томом Большой Палец, судя по всему, был «Арабом», который прожил две недели в отеле на Стренде и исчез, наплевав на такую формальность, как оплата счета.
Рутина будней, в которых работы было всегда больше, чем людей, способных выполнить ее, засосала Гранта, и Сэлкотт-Сент-Мэри стерся с экрана его сознания.
Шесть дней спустя мысли Гранта неожиданно вернулись к этой теме.
Он шел по южному тротуару Стренда, направляясь к Мэйден-Лейн. Довольный отчетом, который он написал и по возвращении после ленча в Ярд собирался вручить Брюсу, Грант лениво поглядывал на выставленную в витрине большую коллекцию дамских туфель — и это на такой непопулярной среди женщин улице, как Стренд. Вид дамской обуви напомнил Гранту Дору Сиггинс и туфли, которые она купила для танцев. Начав переходить улицу, Грант улыбнулся, вспомнив живость девушки, ее болтовню и дружеские колкости. В результате она чуть не забыла свои туфли, хотя на автобус опоздала потому, что покупала их. Они лежали рядом с ней на сиденье, так как не поместились в ее набитую хозяйственную сумку, и Гранту пришлось протянуть их Доре. Не очень аккуратный пакет в дешевой коричневой бумаге, каблуки…
Грант остановился как вкопанный.
Шофер проезжавшего мимо такси с перекошенным от гнева и испуга лицом проорал что-то ему в ухо. Заскрежетали тормоза — это грузовик остановился у самого его локтя. Полисмен, услышав скрип тормозов и негодующие крики, неторопливо, но целеустремленно двинулся к ним. Грант не стал ждать. Он кинулся к первому приближающемуся такси, распахнул дверь, вскочил и бросил шоферу: «Скотланд-Ярд, и побыстрее!»
— Эксгибиционист! — проворчал шофер и помчался по набережной.
Но Грант не слышал его. Его мозг работал. Давно досуха высосанная проблема неожиданно приобрела новизну и увлекательность — теперь, когда она снова всплыла на поверхность. В Ярде Грант бросился искать Вильямса, а найдя, спросил:
— Вильямс, помните, вы сказали мне по телефону, что все ваши уикхемские заметки годятся только для мусорной корзины? А я ответил — никогда не выбрасывайте свои записи.
— Помню, — отозвался Вильямс. — Я тогда был в городе и охотился за Бенни Сколлом, а вы в Сэлкотте тралили реку.
— Вы случайно не последовали моему совету, а?
— Конечно же последовал, сэр. Я всегда следую вашим советам.
— И ваши записи целы?
— Они здесь, у меня в отеле.
— Можно мне взглянуть на них?
— Конечно, сэр. Хотя не уверен, сумеете ли вы прочесть их.
Это действительно оказалось нелегко. Отчеты, подаваемые Вильямсом, бывали написаны безукоризненным школьническим почерком, но, когда он делал заметки для себя, он позволял себе беглую скоропись.
В поисках желаемого Грант листал страницы блокнота.
— Девять тридцать Уикхем — Кроум, — бормотал он. — Десять пятнадцать Кроум — Уикхем. Десять пятнадцать Уикхем — Кроум. М. М. проселок к ферме: старый — что старый? — с ребенком.
— Старый рабочий с ребенком. Я не писал подробно, кто сидел в автобусах, когда они отходили от конечного пункта. Только кого подбирали по дороге.
— Да, да, знаю. Понятно. «Перекресток Длинная Канава». Где это?
— Это зеленая площадка, что-то вроде общественной лужайки, на окраине Уикхема. Там всякие ярмарочные штучки — карусели и прочее.
— Помню. «Двое мужчин с каруселей. Известны». Что это — «известны»?
— Лично знакомы кондуктору автобуса по другим поездкам.
— «Женщина, в Уоррен-Фарм. Известна». А что там после?
Вильямс перевел Гранту то, что было «после».
«Интересно, что бы сказал Вильямс, если бы я обнял его и расцеловал на манер того, как это делают в Ассоциации футбора в ответ на удачный гол?»
— Можно, я на время возьму их с собой? — спросил Грант.
Он может держать заметки сколько угодно, заверил Вильямс. Вряд ли от них теперь будет польза. Если… если, конечно…
Грант увидел, как в глазах Вильямса забрезжило понимание того, что интерес Гранта к его заметкам проистекает не только из академической любознательности. Но Грант не стал дожидаться вопросов. Он пошел к Брюсу.
— Я убежден, — проговорил Брюс, уставившись на Гранта, — что сотрудники низших рангов этого учреждения затягивают дела в отелях, чтобы можно было сидеть там с хозяином в задней комнате и пить за счет заведения.
Грант пропустил мимо ушей эту клеветническую шутку.
— Вы принесли обычный отчет, а потом собираетесь спокойно отправиться на ленч, или у вас есть что рассказать мне?
— Думаю, я набрел кое на что, и это доставит вам удовольствие, сэр.
— Это должно быть нечто необыкновенное, чтобы доставить мне удовольствие сегодня, как, возможно, вы уже заметили.
— Я обнаружил, что у него пристрастие к шерри-бренди.
— Очень интересно, должен признаться. Восхитительно интересно! И что хорошего, думаете вы… — Внезапно от осенившей его догадки блеклые маленькие глазки Брюса засияли. Он посмотрел на Гранта как коллега на коллегу. — Не может быть! — воскликнул он. — Гамбург Вилли!
— Похоже на то, сэр. Все тавро его, и из него мог получиться превосходный «Араб», с его-то профилем.
— Гамбург! Так, так! А что он получил, ради чего стоило так рисковать?
— Тихую жизнь в течение двух недель и кое-какое удовольствие.
— Дорого обернется ему это удовольствие. Полагаю, у вас нет никаких идей в отношении того, куда он мог смыться?
— Ну, я вспомнил, что он жил с Мэбс Ханки, а Мэбс этой весной собиралась в «Акацию» в Ницце. Так что я провел большую часть утра на телефоне и обнаружил, что наш Вилли, или тот, кого мы принимаем за Вилли, живет там же под именем мсье Гужона. О чем я пришел попросить, сэр… может быть, теперь, когда выдача его и все прочее — чистая рутина, кто-нибудь другой займется этим, а меня бы освободили на день или два для кое-чего другого.
— Чем вы собираетесь заниматься?
— У меня появилась новая идея по поводу дела Сирла.
— Но-но, Грант! — предостерегающе проговорил Брюс.
— Идея слишком незрелая, — «и глупая», добавил он про себя, — чтобы обсуждать ее, но мне очень бы хотелось потратить немного времени и посмотреть, что это даст.
— Полагаю, после шерри-бренди вы уверены, что я не могу отказать вам.
— Благодарю вас, сэр.
— Но если идея не будет укладываться в рамки, надеюсь, вы бросите ее. У нас тут полно работы, так что нечего гоняться за радугой и золотыми горшками.
Грант вышел из кабинета начальника и отправился в погоню за своим золотым горшком. Первое, что он сделал, — пошел в свой кабинет и достал отчет о Сирле, который прислали ему из полиции Сан-Франциско. Грант долго изучал его, потом отправил вежливый запрос в полицию Джоблинга, Коннектикут.
Потом Грант вспомнил, что еще не ел. Ему хотелось тишины, чтобы спокойно подумать, так что он сунул драгоценный листок в бумажник и отправился в свой любимый паб. Наплыв посетителей уже наверняка схлынул, но хозяева наскребут что-нибудь ему поесть. Грант все еще не понимал, что именно, когда он впервые читал отчет о жизни Сирла в Америке, заставило звякнуть колокольчик в его мозгу. Но он начал догадываться, что это могло быть.
Когда Грант после ленча выходил из паба, он был в этом уже почти уверен.
Он вернулся в Ярд и заглянул в справочник «Кто есть кто».
Да, все верно.
Грант вытащил отчет из Сан-Франциско и сравнил его с началом статьи в «Кто есть кто».
Он ликовал.
В руках у него было все необходимое для построения версии. Теперь он понял связь между Сирлом и Уолтером Уитмором.
Грант позвонил Марте Халлард, но ему сказали, что она репетирует «Слабое сердце». Всю вторую половину дня она будет в «Критерионе».
Ощущая себя легким, как воздушный шарик («ей-богу, смешно, меня можно подбросить, и я полечу», — думал Грант), он доплыл до Пикадилли-Серкус. «Наверное, я выгляжу так, как выглядел Томми Трапп в прошлое воскресенье, — будто стал вдвое выше ростом и из головы у меня торчат молнии, как длинные вилки для поджаривания тостов».
Однако корчившийся в репетиционных муках «Критериев» быстро вернул Гранта на землю.
Он прошел через фойе, переступил через символический барьер — натянутый шнур — и по ступенькам спустился вниз, в зал. Никто не остановил его.
«Быть может, им кажется, что я похож на автора, — подумал Грант. — Интересно, а кто написал „Слабое сердце“? Никто никогда не знает, кто автор пьесы. У драматургов, должно быть, ужасная жизнь. По статистике только одна из пятидесяти пьес способна продержаться больше трех недель. При этом никто никогда не замечает имени автора на афише.
И только примерно одна из тысячи пьес вообще доходит до стадии репетиций. Хотел бы я знать, сознает ли автор „Слабого сердца“, что он один из тысячи, или он заранее был уверен в успехе?»
Где-то в глубине зала Грант наткнулся на маленькую ложу, где сидели люди. В холодном свете ложа выглядела призрачно, но таинственно и изысканно. В креслах партера кое-где лежали смутно видневшиеся фигуры, но никто не пошевелился узнать, что нужно пришельцу.
На сцене находились Марта, набитая конским волосом софа и молодой человек, имевший крайне испуганный вид. Марта говорила:
— Но я должна лежать на софе, Бобби, душенька. Иначе мои ноги пропадут втуне. Это расточительство, если я просто буду сидеть. От колен вниз все выглядят одинаково.
— Да, Марта, вы, конечно, правы, — повторял Бобби, неясная фигура, бегавшая взад-вперед вдоль оркестровой ямы.
— Я ни в коем случае не хочу изменять вашу концепцию, Бобби, но мне кажется…
— Да, Марта, дорогая, вы правы, вы, конечно, совершенно правы. Нет, конечно, никакой разницы не будет. Нет, нет, уверяю вас. Все на самом деле в полном порядке. Это будет выглядеть грандиозно.
— Возможно конечно, Найджелу будет трудно…
— Нет, Найджел может обойти вас сзади, прежде чем произнесет свою реплику. Попробуйте, пожалуйста, Найджел.
Марта картинно улеглась на софе, а испуганно выглядевший юноша ушел и снова вошел. Он входил девять раз.
— Ладно, пойдет, — произнес Бобби, удовлетворившись на девятый раз.
Кто-то в партере вышел и вернулся, неся поднос с чашками чая.
Найджел произнес свою реплику над софой, потом — обращаясь к ее правому углу, потом к левому, потом вообще безотносительно к софе.
Кто-то прошел в партер и собрал пустые чашки.
Грант приблизился к одиноко стоявшему, ничем не занятому типу и спросил:
— Как вы думаете, когда я мог бы поговорить с мисс Халлард?
— Никто не сможет поговорить с ней, если она еще какое-то время пробудет в обществе Найджела.
— У меня к ней очень важное дело.
— Вы костюмер?
Грант объяснил, что он личный друг мисс Халлард и ему необходимо повидать ее. Он задержит ее не дольше чем на пару минут.
— О! — Смутная фигура уползла и стала советоваться с другой такой же. Это было похоже на какой-то окутанный тайной ритуал.
Тот, с кем консультировались, отделился от группы теней, среди которых стоял, и подошел к Гранту. Он представился как режиссер и спросил, что именно нужно Гранту. Тот попросил, чтобы кто-нибудь при первой возможности передал мисс Халлард, что Алан Грант здесь и хотел бы поговорить с ней.
Это подействовало. Во время следующей паузы режиссер взобрался на сцену и, нагнувшись над Мартой, извинился и что-то тихо, как лесной голубь, проворковал.
Марта поднялась с софы и подошла к краю сцены. Прикрыв рукой глаза от света софитов, она вгляделась в темноту зала.
— Вы здесь, Алан? — крикнула она. — Пожалуйста, подойдите к двери на сцену. Кто-нибудь, покажите ему, где она.
Марта встретила Гранта у двери, ведущей из зала на сцену. Она явно ему обрадовалась.
— Пойдемте за кулисы, выпьете со мной чашку чая, пока там разбираются с юными влюбленными. Слава Богу, мне уже никогда не придется играть юную возлюбленную! Самое скучное амплуа. Вы ведь никогда раньше не приходили на репетицию, Алан? Что вас заставило?
— Хотелось бы сказать, что интеллектуальная любознательность, но, боюсь, лишь деловые соображения. Кажется, вы можете помочь мне.
И она помогла ему, чрезвычайно. И ни разу не спросила, почему он задает такие вопросы.
— Мы так еще и не организовали обед с вашим сержантом Вильямсом, — вспомнила Марта, прежде чем снова подняться на сцену, где в ее присутствии юные влюбленные становились похожими на жалких любителей, так что появлялась мысль, что лучше бы им работать на ферме.
— Если вы подождете с недельку, мы с сержантом Вильямсом, наверное, сможем вам кое-что рассказать.
— Великолепно. По-моему, я это заслужила. Я была такой хорошей, такой благоразумной.
— Вы были изумительны, — заключил Грант и через служебный вход вышел в переулок, ощущая легкий рецидив того же ликования, с которым он вплывал по ступенькам в театр.
Вооруженный сведениями, полученными от Марты, Грант отправился на Кэдоган-гарденс и там в одном доме побеседовал с хозяйкой меблированных комнат.
— О да, помню, — ответила она на вопрос инспектора. — Они много времени проводили вместе. Нет, нет, она здесь не жила. Здесь холостяцкие квартиры — я хочу сказать, на одного. Но она бывала тут очень часто.
К этому времени магазины в Лондоне начали закрываться, и Грант больше ничего не мог предпринять, пока полиция Джоблинга, штат Коннектикут, не снабдит его дополнительной информацией. Поэтому он вернулся домой непривычно рано, легко поужинал и отправился спать. Долго лежал он без сна, а мозг его продолжал работать. Обдумывать подробности. Разбирать причины и следствия.
Тоби Таллису хотелось знать, что двигало Сирлом. И Грант, уставившись в потолок, лежал в кровати целый час без движения, тоже пытаясь понять, какие побудительные причины управляли сознанием Лесли Сирла.
Глава 19
Ответ из Джоблинга, Коннектикут, пришел только через двое суток. За эти сорок восемь часов Грант не менее полудюжины раз готов был вот-вот отправиться к этой женщине в Хэмпстед и просто силой вытрясти из нее правду. Однако ему удавалось взять себя в руки. Когда придет время, он разберется с ней. Он выложит всю ее ложь на блюдо и преподнесет ей. Он дождется ответа на посланный запрос.
И когда ответ пришел, стало понятно, что ждать стоило.
Грант с быстротой молнии пробежал письмо глазами, откинулся на стуле и расхохотался.
— Если кто-нибудь сегодня будет меня спрашивать, — сказал он сержанту Вильямсу, — я в Сомерсет-Хаус.
— Да, сэр, — смиренно отозвался Вильямс.
Грант взглянул на излишне спокойное лицо Вильямса — того слегка задело, что Грант не посвятил его в свои планы, играл в одиночку — и кое-что вспомнил.
— Кстати, Вильямс, мисс Халлард жаждет познакомиться с вами. Она просила меня привести вас как-нибудь вечером к ней на обед.
— Меня? — Вильямс покраснел. — А почему?
— Она пала жертвой вашего всем известного обаяния. Она просила меня договориться с вами на один из ваших свободных вечеров. Сегодня утром я проникся твердой уверенностью, что к субботе у нас с вами будет что отпраздновать. И думаю, будет очень уместно отпраздновать это вместе с Мартой. Суббота вас устраивает?
— Ну, обычно мы с Норой по субботам ходим в кино, но, если я на дежурстве, она идет с Джейн. Это ее сестра. Так что я не вижу причины, почему бы Норе не пойти с Джейн и на этой неделе.
— Когда Нора услышит, что вы приглашены к Марте Халлард, она, вероятно, начнетбракоразводный процесс.
— Только не Нора. Она будет ждать меня, чтобы расспросить, как была одета Марта Халлард, — ответил Вильямс-Бенедикт.[614]
Грант позвонил Марте спросить, можно ли привести к ней сержанта Вильямса в субботу вечером, а потом ушел и укрылся в Сомерсет-Хаус.
В эту ночь Грант не лежал без сна. Он, как ребенок, пошел спать, желая, чтобы скорее наступило «завтра». Завтра маленький кусочек мозаики ляжет на место, и картина окажется законченной. Если же этот кусочек не подойдет, вся картина, конечно, рухнет. Но Грант был абсолютно уверен, что он подойдет.
За короткий промежуток времени между тем, когда он выключил лампу и когда заснул, Грант сонно прошелся по «полю боя». Если завтра этот маленький кусочек ляжет на место, жизнь многих людей станет гораздо счастливее. Прежде всего Уолтера. С Уолтера снимутся подозрения. Эммы Гарроуби — потому что будущее ее Лиз будет в безопасности. Лиз? Лиз ощутит невыразимое облегчение. Это будет облегчением и для мисс Фитч, которая, как подозревал Грант, тоже была опечалена этим случаем. Однако она всегда могла использовать его, поместив в книгу. Книга — вот где место этому происшествию.
У Тоби будут особые причины поздравить себя, подумал Грант. И рассмеялся. А Серж Ратов утешится.
Сайласу Уикли будет наплевать.
Грант вспомнил замечание Марты, что Лесли и Лиз очень «мило» выглядели рядом. («Какая естественная пара», — сказала она, даже не представляя себе, насколько естественная!) Не почувствует ли Лиз обиды, если завтра маленький кусочек ляжет на место? Грант надеялся, что нет. Ему нравилась Лиз Гарроуби. Ему хотелось бы думать, что Сирл ничего не значил для нее. Что она только обрадуется и почувствует облегчение оттого, что ее Уолтер реабилитирован. Как сказала Марта? «Мне кажется, Уолтер ничего не понимает в Лиз, а Лесли Сирл понимает достаточно много». Поразительно, что Марта заметила это, не имея никакого ключа к природе сирловского «понимания». Но пожалуй, подумал Грант, это неважно, что Уолтер не очень много понимает в Лиз. Лиз, он уверен, понимала все, что необходимо понимать про Уолтера. И это создавало крепкую основу счастливой супружеской жизни.
Грант заснул, размышляя о том, может ли женитьба на такой милой, умной и привлекательной девушке, как Лиз Гарроуби, компенсировать мужчине потерю свободы.
Где-то в глубине сознания погружавшегося в сон Гранта продефилировала процессия его любовей. Большая часть их — чисто романтические привязанности.
Однако утром он думал только об одной женщине. Об этой женщине в Хэмпстеде.
Никогда, даже будучи еще неоперившимся юнцом, не шел Грант на свидание с женщиной, горя таким нетерпением, как то, что влекло его в то утро на Холли-Пэйвмент. Он даже был слегка шокирован, когда, сойдя с автобуса и направляясь к повороту на Холли-Пэйвмент, обнаружил, что у него колотится сердце. Очень давно сердце Гранта не колотилось, разве только по чисто физическим причинам.
Черт бы побрал эту женщину, подумал Грант, черт бы ее побрал.
Холли-Пэйвмент был тупичок, залитый солнечным светом. Такое тихое место, что надменно вышагивающие голуби казались почти буйными нарушителями спокойствия. Номер девять представлял собой двухэтажный дом, верхний этаж которого был превращен в студию. На пластинке для звонка сияли одна под другой две кнопки и рядом с ними были укреплены деревянные таблички. Верхняя гласила: «Мисс Ли Сирл». Нижняя: «Нэт Ганзэйдж. Вспомогательные принадлежности».
Интересно, что это такое — «вспомогательные принадлежности»? — думал Грант, нажимая верхнюю кнопку. Он тут же услышал, как хозяйка квартиры спускается к двери по деревянной лестнице. Дверь открылась, и вот она стоит перед ним.
— Мисс Сирл? — услышал Грант собственный голос.
— Да, — ответила она и продолжала стоять, освещенная солнцем, невозмутимая, но удивленная.
— Я — инспектор уголовного розыска Грант. — При этих словах, заметил он, ее удивление возросло. — Мой коллега сержант Вильямс приходил к вам вместо меня неделю назад, так как я был занят другими делами. Но мне бы очень хотелось поговорить с вами самому, если это удобно.
— Да, конечно, — произнесла она спокойно. — Проходите, пожалуйста. Я живу на втором этаже.
Она закрыла за Грантом дверь и повела его по деревянной лестнице наверх, в свою студию. Крепкий запах кофе, хорошего кофе, разносился по дому. Войдя в студию, она проговорила:
— Я как раз завтракаю. Договорилась с мальчишкой-газетчиком, и он каждое утро оставляет мне вместе с газетами булочку — это мой завтрак. Но кофе много. Хотите чашку, инспектор?
В Ярде говорили, что у Гранта две слабости: кофе и кофе. И запах был изумительный. Но он не собирался ничего пить у Ли Сирл.
— Благодарю вас, но я уже пил кофе.
Она налила себе еще чашку, и Грант заметил, что рука у нее вовсе не дрожит. Черт бы побрал эту женщину, он начал даже восхищаться ею. Она была бы прекрасным коллегой.
Ли Сирл была высокого роста и худощавой. Очень красивой и еще очень молодой. Волосы ее были заплетены в косу и уложены короной на голове. На ней было длинное домашнее платье глухого зеленого цвета, похожее на то, что было у Марты. И ноги у нее были такие же длинные, как у Марты, и так же придавали ей элегантность.
— Вы очень похожи с Лесли Сирлом, — произнес Грант.
— Нам говорили об этом, — коротко отозвалась она.
Грант обошел комнату, разглядывая все еще выставленные на обозрение шотландские этюды. Это были банальные изображения банальных мест, но они были написаны с какой-то дикой самоуверенностью, яростью — так, что холсты почти кричали. Они не просто представали перед глазами зрителя, они набрасывались на него. «Смотрите, я Салливен!» — кричала гора Салливен, казавшаяся более непривычной и неповторимой, чем когда-либо. Кулин, серо-голубая неприступная крепость на фоне бледного утреннего неба, являла собой пик высокомерия. Даже тихие воды Кишорна выглядели надменно.
— Вам понравилось там? — спросил Грант, а потом, чувствуя, что это прозвучало слишком дерзко, добавил: — В Западной Шотландии очень сыро.
— В это время года не очень. Это лучший сезон.
— Как вам показались отели — удобные? Я слышал, все они ужасно примитивны.
— А я не беспокоилась об отелях. Я жила в машине.
Ловко, подумал Грант. Очень ловко.
— О чем вы хотели говорить со мной?
Но он не торопился. Она причинила ему много неприятностей, эта женщина. Теперь регламент устанавливает он.
От этюдов на стенах Грант перешел к книгам на полках и стал читать заглавия.
— Я вижу, вам нравятся странности.
— Странности?
— Полтергейст. Рыбные дожди. Стигматы. Такого рода вещи.
— Мне кажется, художников всегда привлекало все необычное, чем бы оно ни было, не правда ли?
— Похоже, у вас ничего нет о трансвестизме.
— А что заставило вас подумать об этом?
— Значит, вам знаком этот термин?
— Конечно.
— Вас это не интересует?
— Мне кажется, литература на эту тему очень ограничена. Либо ученые статьи, либо — «Ньюс оф уорлд», а посредине — ничего.
— Вам следовало бы написать трактат на эту тему.
— Мне?
— Вам же нравятся всякие странности, — спокойно проговорил Грант.
— Я художница, инспектор, а не писательница. Кроме того, сейчас никого не интересуют женщины-пираты.
— Пираты?
— Ведь правда же, все они были пиратами, солдатами или матросами?
— Вы полагаете, мода кончилась на Феб Хессель? О, ни в коем случае. Эта штука все время всплывает. На днях в Глостершире умерла женщина, которая более двадцати лет трелевала лес и грузила уголь, и даже врач, который ходил к ней во время ее последней болезни, не знал, что она не мужчина. И мне известно еще об одном случае, происшедшем совсем недавно. В пригороде Лондона молодого человека обвинили в воровстве. Совершенно обычный молодой человек. Хорошо играл в бильярд, был членом мужского клуба, ухаживал за одной из местных красавиц. А когда он прошел медицинское освидетельствование, оказалось, что это нормальная молодая женщина. Раз в год или два это обязательно случается. Глазго. Чикаго. Данди. В Данди молодая женщина жила в ночлежке в одной комнате с десятью мужчинами, и ее ни в чем не заподозрили. Я вам не наскучил?
— Вовсе нет. Я только удивляюсь, почему вы считаете это странностью в таком же смысле, как стигматы или полтергейст.
— Отнюдь не считаю. Некоторые искренне чувствуют себя счастливее в мужской одежде. Однако большинство занимается этим из страсти к приключениям, а некоторые — и по экономической необходимости. Впрочем, есть и такие, для кого это единственный способ осуществить задуманное.
Она маленькими глотками пила кофе, сохраняя на лице выражение вежливого интереса, как человек, вынужденный терпеть и ждать, когда непрошеный гость скажет наконец, зачем пожаловал.
Да, подумал Грант, она была бы замечательным союзником.
Сердце его понемногу стало биться в нормальном ритме. Все это были ходы в игре, которую он вел уже давно, — в игре интеллекта против интеллекта. И теперь Гранту было интересно, как она реагирует на его ходы. Перед тайным подкопом она устояла. Посмотрим, как она выдержит прямую атаку. Он отошел от полок с книгами и проговорил:
— Вы были очень привязаны к родному вам человеку, мисс Сирл.
— К Лесли? Но я уже…
— Нет. К Маргерит Мэрриам.
— Map… Я не понимаю, о чем вы говорите.
Это было ошибкой. Задумайся она хоть на секунду, она бы сообразила, что не было никакой причины отрицать свою связь с Маргерит. Однако то, как неожиданно Грант произнес это имя, напугало ее, и она бросилась головой в омут.
— Так привязаны, что не могли объективно оценивать ее.
— Говорю вам…
— Не надо ничего говорить мне. Я сам кое-что вам расскажу. То, что поможет нам проникнуться доверием друг к другу, мисс Сирл. Я столкнулся с Лесли Сирлом на вечеринке в Блумсбери. На одном из литературных сборищ. Он хотел познакомиться с Лавинией Фитч, и я вызвался представить его. Когда мы пробирались сквозь толпу, нас притиснули друг к другу так тесно, что мы едва могли дышать. Полисмену свойственна наблюдательность, но, думаю, независимо от этого в подобных условиях я все равно заметил бы кое-какие детали. У него были очень красивые серые глаза, у Лесли Сирла, и на радужной оболочке левого я заметил маленькое коричневое пятнышко. Позже я довольно много времени провел в размышлениях и затратил много трудов, пытаясь объяснить исчезновение Лесли Сирла. Благодаря природной сообразительности и в значительной мере удаче я сложил картину, для которой не хватало лишь одной мелкой детали. Маленького коричневого пятнышка. Я его увидел здесь, на пороге вашего дома.
Молчание. Она сидела держа чашку с кофе на коленях и уставившись на нее.
Медленное тиканье стенных часов в тишине казалось громким и тяжелым.
— Странная вещь — пол, — произнес Грант. — Когда вы смеялись вместе со мной, будучи прижаты ко мне толпой в тот день, я вдруг на какой-то момент почувствовал странное смущение. Замешательство. Так иногда выглядит собака, над которой смеются. Я знаю, что ваш смех был вызван совсем другим, и не понимаю, почему я тогда смутился. Примерно в двенадцать сорок пять в прошлый понедельник я начал понимать почему и в результате чуть не попал под машину.
При этих словах она подняла глаза и проговорила, как-то отрешенно-заинтересованно:
— Вы — гвоздь программы в Скотланд-Ярде?
— О нет, — заверил ее Грант. — Я выхожу в массовке.
— Вы говорите не так, как те, что участвуют в массовке. Во всяком случае, я не встречала таких в массовках. И никто из массовки не смог бы… не смог бы догадаться, что случилось с Лесли Сирлом.
— О, это не моя заслуга.
— Правда? А чья же?
— Доры Сиггинс.
— Доры?.. Кто это?
— Она оставила свои туфли на сиденье в моей машине. Такой аккуратный пакет. Тогда это были просто хорошо упакованные туфли Доры Сиггинс. Но в двенадцать сорок пять в прошлый понедельник, как раз перед носом проходящего мимо такси, они стали пакетом подходящего размера.
— Какого размера?
— Подходящего к пустому месту в вашем фотоящике. Я пытался засунуть туда пару туфель Лесли Сирла — вы должны извинить меня за вольность, — но, согласитесь, трудно прошедшему суровую школу, уработавшемуся сыщику додуматься до вещи столь outre, как пакет с парой дамских туфель и цветным шелковым головным платком. Кстати, в отчете моего сержанта я нашел описание женщины, севшей в автобус на том перекрестке, где ярмарка. Там говорится: «свободный габардиновый плащ».
— Да. Мой burberry[615] двусторонний.
— Он тоже был заранее заготовлен?
— Нет. Я купила его несколько лет назад. Он легок и очень удобен в путешествиях. Я могу укрыться им ночью в лагере, а вывернув наизнанку, пойти в нем к вечернему чаю.
— Немножко досадно сознавать, что дорожку этому вашему розыгрышу вымостил я своим стремлением оказать услугу иностранцу, топтавшемуся у дверей. Теперь уж я вмешиваться не стану — пусть стоят.
— Вы так это рассматриваете? — медленно проговорила она. — Розыгрыш?
— Давайте не будем играть словами. Я не знаю, как вы сами это называете. В действительности же это розыгрыш, причем достаточно жестокий. Очевидно, ваш план заключался в том, чтобы выставить Уолтера Уитмора дураком или поставить его в очень трудное, пиковое положение.
— О нет, — возразила она. — Я собиралась убить его.
— Убить? — воскликнул Грант. Всю его болтливость как рукой сняло.
— Мне казалось, он не имеет права оставаться в живых. — Она попыталась поднять с колен чашку, но ее рука дрожала так, что она не могла этого сделать, не расплескав кофе.
Грант подошел, мягко забрал у нее чашку и поставил на стол.
— Вы ненавидели его за то горе, которое, как вы воображали, он причинил Маргерит Мэрриам, — сказал он, и она кивнула. Руки ее лежали на коленях, она крепко сжимала их, стараясь унять дрожь.
Грант минуту-другую помолчал. Он пытался привыкнуть к мысли, что проявленная ею изобретательность при исчезновении, как он полагал, с маскарада на самом деле должна была послужить цели убийства.
— А что заставило вас передумать?
— Ну… Странно, конечно, но впервые я заколебалась после одного незначительного замечания Уолтера. Это было в тот вечер, когда Серж Ратов устроил сцену в пабе.
— Да?
— Уолтер сказал, что человек, который испытывает такую привязанность к другому, как Серж к Тоби, перестает здраво оценивать его. Это заставило меня задуматься. — Она помолчала. — А потом… мне понравилась Лиз. Она оказалась вовсе не такой, как я себе представляла. Понимаете, в моем воображении рисовалась девушка, укравшая Уолтера у Маргерит. А реальная Лиз совсем иная. Это слегка озадачило меня. Однако, что по-настоящему остановило меня, — это то… это…
— Вы обнаружили, что человек, которого вы любили, никогда не существовал? — тихо проговорил Грант.
— Да. Да. Я обнаружила… Понимаете, люди не знали, что я была связана с ней, и говорили открыто. Особенно Марта. Марта Халлард. Однажды вечером после обеда я пошла проводить ее. Она рассказала мне вещи, которые… потрясли меня. Я всегда знала, что она была необузданной и упрямой — я имею в виду Маргерит, — но от гениального человека этого обычно ждут, и она казалась такой… такой ранимой, что можно было простить…
— Да, понимаю.
— Однако Маргерит, которую знала Марта и все другие люди, я совсем не знала. Такого человека я бы даже невзлюбила, если бы… Помню, когда я сказала, что она по крайней мере полноценно жила, Марта возразила: «Беда в том, что она не давала жить другим. Она всасывала в себя весь воздух, и все, кто был рядом, оказывались в вакууме. Они либо погибали от удушья, либо вылетали наружу и разбивались, ударившись о ближайший крупный предмет». Понимаете, после этого мне расхотелось убивать Уолтера. Но я все равно ненавидела его за то, что он бросил Маргерит. Этого я не могла забыть. Что он оставил ее, а она из-за этого убила себя. О, знаю, знаю! — добавила она, видя, что Грант собирается перебить ее. — Это не потому, что она так уж сильно любила его. Теперь я понимаю. Но останься он с ней, она сегодня была бы жива — жива ее одаренность, красота, ее обаяние. Он мог бы подождать…
— Пока ей наскучит? — подсказал Грант суше, чем намеревался. Она вздрогнула.
— Ему не пришлось бы долго ждать, — проговорила она печально, но честно.
— Можно, я передумаю и выпью кофе? — спросил Грант.
Она посмотрела на свои руки, которые не подчинялись ей, и сказала:
— Налейте, пожалуйста, сами.
Она смотрела, как он наливает кофе, а потом произнесла:
— Вы очень странный полисмен.
— Как я уже однажды сказал Лиз Гарроуби в ответ на такое же замечание: просто у вас, очевидно, странное представление о полисменах.
— Если бы я имела такую сестру, как Лиз, моя жизнь была бы совсем другой. У меня не было никого, кроме Маргерит. И когда мне сообщили, что она убила себя, я на какое-то время немного помешалась. А как вы узнали про Маргерит и меня?
— Полиция Сан-Франциско прислала нам отчет о вас. Там была указана девичья фамилия вашей матери — Маттсон. И только много позже я вспомнил, что в «Кто есть кто в театре», который я читал как-то вечером, пока ждал телефонного звонка, фамилия матери Маргерит Мэрриам тоже указывалась как Маттсон. А поскольку я искал какую-нибудь связь между вами и Уолтером, мне показалось, что я нашел ее, если вы и Маргерит были кузинами.
— Да. Мы были больше чем кузины. Мы обе — единственные дети. Наши матери — норвежки, но, выйдя замуж, одна поселилась в Великобритании, а другая — в Америке. Когда мне было пятнадцать, мама привезла меня в Англию, и я впервые встретилась с Маргерит. Уже тогда она была звездочкой. Все, что она делала, она делала блестяще. С тех пор мы писали друг другу каждую неделю. И каждый год, пока мои родители были живы, мы приезжали в Англию летом, и я виделась с ней.
— Сколько вам было лет, когда умерли ваши родители?
— Они умерли во время эпидемии инфлуэнцы, когда мне было семнадцать. Я продала аптеку, но все, что касалось фотографии, оставила. Мне нравилось это дело, и я была достаточно искусным фотографом. Но мне хотелось путешествовать. Поэтому я села в машину и поехала на Запад. В те дни я носила брюки, просто потому, что так удобнее и дешевле. Да и когда ваш рост пять футов десять дюймов[616] вы не очень-то хорошо выглядите в девичьих платьях. Я не собиралась использовать брюки как… как камуфляж, пока однажды на дороге, когда я стояла нагнувшись над мотором, какой-то мужчина не затормозил и не спросил: «Спички есть, приятель?» Я дала ему огонька, он посмотрел на меня, кивнул, сказал: «Спасибо, малыш» — и уехал, не оглянувшись. Это заставило меня задуматься. Одинокой девушке всегда трудно — по крайней мере, в Штатах, — даже девушке ростом пять футов десять дюймов. И девушке гораздо сложнее получить приглашение на какую-то вечеринку. Так что я начала понемногу пробовать. И все сходило. Это было как в сказке. На Побережье я начала зарабатывать деньги. Сначала фотографировала людей, которые хотели стать киноактерами, потом самих киноактеров. Но каждый год я ненадолго приезжала в Англию. Как настоящая я. Мое имя по-настоящему — Лесли, но большинство зовет меня Ли. Она всегда звала меня Ли.
— Значит, по паспорту вы женщина.
— Конечно. Это только в Штатах я Лесли Сирл. И то не все время.
— А перед тем как прибыть в «Уэстморленд», вы пролетели через Париж, оставив там след Лесли Сирла, на случай если кто-то станет любопытничать?
— Да. До этого я пожила какое-то время в Англии. Но вообще-то я не думала, что этот «след» мне понадобится. Я собиралась покончить с Лесли Сирлом. Только сперва найти какую-нибудь ниточку, которая связала бы его с Уолтером. Чтобы не было очевидно, что это убийство.
— Убийство или то, что получилось, но вы поставили Уолтера в крайне затруднительное положение. И все это было весьма дорогим развлечением, не так ли?
— Дорогим?
— Набор всего необходимого для фотографа стоит недешево, плюс полная экипировка джентльмена, да еще тщательно подобранные вещи из лучших магазинов. Кстати, я вспомнил: вы украли перчатку у Лиз Гарроуби?
— Я украла пару. Из отделения для перчаток в машине. Я не подумала о перчатках, но потом вдруг поняла, как убедительно выглядят дамские перчатки. Я хочу сказать — если появляется сомнение, к какому полу вы принадлежите. Перчатки — такое же отличное доказательство, как губная помада. Да, вы забыли о моей губной помаде — она тоже была в том пакете. Вот я и взяла перчатки Лиз. Они мне, конечно, не годились, но я собиралась просто держать их в руке. А потом я второпях выхватила их из ящика, где лежали мои воротнички, потому что Уолтер уже шел по коридору и звал меня, спрашивая, готова ли я. Позже я обнаружила, что у меня только одна перчатка. А другая осталась в ящике?
— Да. Что привело к совершенно ошибочным выводам.
— О! — воскликнула она, впервые улыбнулась, сразу став мягче и человечнее. Подумав немного, она произнесла: — Теперь Уолтер уже не будет считать, что любовь Лиз — нечто само собой разумеющееся. По крайней мере одно доброе дело я сделала. Есть какая-то романтическая справедливость в том, что это сделала женщина. Очень умно с вашей стороны — догадаться, что я женщина, всего лишь по форме пакета.
— Вы оказываете мне слишком большую честь. Мне ни разу в голову не пришло, что вы женщина. Я считал, что Лесли Сирл просто уехал, переодевшись женщиной. Я думал, возможно, это ваше платье и, возможно, он отправился к вам. Но то, что Сирл бросил все свои вещи, очень удивляло меня. Он бы так не поступил, не будь у него возможности принять облик другого человека. Только тогда я заподозрил маскарад. Заподозрил, что Сирл вовсе не мужчина. Эта мысль отнюдь не показалась мне дикой, так как я только что присутствовал при аресте за кражу, который потом обернулся весьма неожиданным образом. Я увидел, как легко это можно проделать. А потом увидел вас. Лицом к лицу, так сказать. Очень удобно. Вы писали этюды в Шотландии, пока Сирл водил за нос интеллигенцию в Орфордшире. — Взгляд Гранта скользнул по висящим на стене картинам. — Вы их взяли напрокат специально для этого случая или сами написали?
— О, сама написала. Летние месяцы я обычно проводила и Европе и рисовала.
— А в Шотландии бывали когда-нибудь?
— Нет.
— Вам нужно как-нибудь поехать туда и посмотреть. Там великолепно. А откуда же вы знаете, что у горы Салливен такой вид — «Смотри, вот она я!»?
— Так она выглядит на открытке. А вы шотландец? Грант — это шотландская фамилия, правда ведь?
— Выходец из Шотландии. Мой дед родом из Стратспея. — Он опять взглянул на этюды и улыбнулся: — Такого утонченного и убедительного алиби я еще не встречал.
— Не знаю, — неуверенно произнесла она, глядя на свои картины. — Думаю, другой художник написал бы их гораздо проникновеннее. А эти такие вызывающе надменные. Разве не так? Теперь я написала бы их совершенно иначе — после того, как познакомилась с Лиз и… повзрослела, а Маргерит умерла и в моем сердце тоже, не только физически. Очень помогает повзрослению, когда понимаешь, что человек, которого ты любил всю свою жизнь, никогда не существовал. Вы женаты, инспектор?
— Нет. А что?
— Не знаю, — с отсутствующим видом проговорила она. — Просто мне хотелось бы понять, как вы сумели так быстро догадаться, что мое отношение к Маргерит изменилось. От женатых людей обычно ожидают большего понимания всего, что связано с эмоциями. Что совершенно неверно: как правило, они слишком заняты собственными эмоциональными проблемами, чтобы испытывать сочувствие к кому-нибудь еще. Помогает… помогают именно неженатые люди. Хотите еще кофе?
— Вы варите кофе даже лучше, чем пишете картины.
— Вы ведь не пришли арестовать меня, иначе вы бы не стали пить у меня кофе.
— Совершенно верно. Не стал бы. Как не стал бы пить кофе у того, кто способен на грубый розыгрыш.
— Но вы не отказываетесь пить кофе у женщины, которая давно задумала тщательно разработанное убийство?
— И передумала. На свете есть небольшая группка людей, которых я в свое время тоже хотел убить. Право же, учитывая, что тюрьма не большее наказание, чем начальная школа, а смертный приговор у нас практически отменен, думаю, я составил бы маленький список, а la Жильбер. Потом, когда постарею, я произведу общую чистку, оставлю одного из десяти или около того, мирно уйду в отставку и в течение всей оставшейся жизни буду наслаждаться покоем.
— Вы очень добрый, — заметила она не к месту. А потом добавила: — В действительности я ведь не совершила никакого преступления, так что меня не будут преследовать по закону, не так ли?
— Дорогая мисс Сирл, практически вы совершили все преступления, перечисленные в кодексе. Самое главное и непростительное — вы заставили перегруженную работой полицию округа впустую тратить время.
— Но это же не преступление, верно? Для этого полиция и существует. Я имею в виду — не впустую тратить время, а следить, чтобы не случилось ничего предосудительного. Ведь правда же, нет закона, по которому можно наказывать человека за что, что вы назвали «розыгрышем»?
— Всегда можно приписать ему «нарушение спокойствия». Просто удивительно, сколько самых разнообразных вещей можно подвести под рубрику «нарушение спокойствия».
— А что бывает, если нарушаешь спокойствие?
— Вам читают наставление и взимают штраф.
— Штраф!
— Чаще всего довольно изрядную сумму.
— Значит, меня не посадят в тюрьму?
— Не посадят, если вы не совершили еще чего-нибудь, о чем я не знаю. А я — я не поручился бы за вас, как говорят в Стратспее.
— О нет, — сказала она. — Нет, нет, вы и правда знаете обо мне все. Если уж на то пошло, не понимаю, как вам это удалось.
— У нас замечательные полисмены. Разве вы об этом не слышали?
— Должно быть, бы были совершенно уверены, что знаете обо мне все, еще до того, как пришли посмотреть, есть ли у меня коричневое пятно в глазу.
— Да. Ваши американские полицейские тоже замечательные. Они по моей просьбе заглянули в книгу актов рождения в Джоблинге, Коннектикут. Ребенок, который уехал вместе с мистером и миссис Сирл, когда те отправились на Юг, был, как сообщила полиция, женского пола. После этого я бы несказанно удивился, если бы не увидел коричневого пятнышка.
— Значит, вы напустили на меня целую свору…
Грант заметил, что руки ее перестали дрожать.
Он был рад, что она опять может легкомысленно болтать.
— Вы пришли забрать меня с собой?
— Напротив, попрощаться с вами.
— Попрощаться? Вы не могли прийти прощаться с человеком, с которым вы не знакомы.
— В том, что касается нашего с вами знакомства, у меня, как говорится, есть преимущество перед вами. Возможно, я для вас совсем новый человек — или практически новый, но вы не выходили у меня из головы последние две недели, и я буду очень рад избавиться от вас.
— Значит, вы не поведете меня в полицейский участок или куда-нибудь вроде этого?
— Не поведу. Если только вы не проявите признаков желания удрать из Англии. В этом случае рядом с вами, несомненно, появится офицер, который схватит вас за локоть и настоятельно предложит остаться.
— О, я не собираюсь удирать. Мне действительно стыдно, что я натворила все это. Я имею в виду беспокойство и, наверное, горе, которое я причинила.
— Да. Мне кажется, горе — очень подходящее слово.
— Больше всего мне жаль, что пришлось страдать Лиз.
— С вашей стороны было очень дурно затеять эту ссору в «Лебеде».
— Да. Да, это было непростительно. Но он меня просто взбесил. Он был такой самодовольный. Такой бессознательно самодовольный. Все всегда давалось ему легко. — По лицу Гранта она поняла, что он готов возразить, и запротестовала: — Да, да, даже смерть Маргерит! Он просто сразу бросился в объятия Лиз. Он никогда не знал, что такое одиночество. Или страх. Или отчаяние. Или любое чувство, которое тебя по-настоящему грызет. Он был совершенно уверен, что ничего непоправимого с ним никогда не случится. Я хотела заставить его страдать. Чтобы он попался в сеть, из которой будет нелегко выпутаться. Чтобы он столкнулся с неприятностями и на сей раз его бы проняло. И вы не можете сказать, что я была не права! Он никогда больше не будет таким самодовольным! Или будет, а?
— Нет, думаю, не будет. Право же, уверен, что не будет.
— Мне жаль, что пришлось причинить боль Лиз. Я бы охотно отправилась в тюрьму, если бы могла вернуть все обратно. Но я дала ей лучшего Уолтера, чем тот, за которого она собиралась замуж. Понимаете, она действительно влюблена в этого жалкого несчастного эгоиста. Ну так вот, я его переделала. Ручаюсь, сейчас это совсем другой человек.
— Если бы мне не надо было уходить, вы убедили бы меня, что вы — благодетель общества, а не нарушитель спокойствия и порядка.
— А что со мной будет теперь? Я должна просто сидеть и ждать?
— Обязательно придет констебль и торжественно вручит вам повестку в суд. Кстати, у вас есть поверенный?
— Да, есть один старик в забавной маленькой конторе, где хранятся пришедшие на мое имя письма, пока я не заберу их. Она называется «Бинг, Пэрри, Пэрри и Бинг», только, мне кажется, в действительности он ни тот, ни другой, ни третий и ни четвертый.
— Тогда вам лучше сходить к нему и рассказать обо всем.
— Обо всем?
— Обо всем, что относится к делу. Вероятно, вы можете опустить ссору в «Лебеде» и еще кое-что, чего особенно стыдитесь. — Грант заметил, что она покраснела. — Только не скрывайте слишком много. Юристы предпочитают знать все, а шокировать их почти так же трудно, как полицию.
— Я шокировала вас, инспектор?
— Не сильно. Вы были приятной переменой после вооруженных ограблений, шантажа и мошенничества.
— Вы придете, когда меня будут судить?
— Нет. Вероятно, придет сержант, который даст показания.
Он взял шляпу и собрался уходить, но перед этим еще раз взглянул на пейзажи Горной Шотландии — выставку работ одного художника.
— Мне бы следовало попросить у вас один на память.
— Можете взять любой, какой хотите. Их все равно придется уничтожить. Какой вам нравится? — Совершенно очевидно, она не знала, говорит Грант серьезно или шутит.
— Не знаю. Мне нравится Кишорн, но я не могу припомнить, чтобы он когда-нибудь имел такой агрессивный вид, как здесь. А если бы я взял Кулин, для меня самого в комнате не осталось бы места.
— Но он всего тридцать дюймов на… — начала она, но потом поняла. — О, ясно. Да, он бесцеремонно назойлив.
— Увы, у меня нет времени посмотреть внимательно и выбрать. Боюсь, я вынужден отказаться. Но все разно спасибо за предложение.
— Возвращайтесь как-нибудь, когда у вас будет больше времени, и выберете спокойно, — проговорила она.
— Благодарю вас. Возможно, я так и сделаю.
— Когда суд сделает из меня честную женщину. — Она проводила Гранта до лестницы. — Какой спад, не правда ли? Задумать убийство, а кончить нарушением спокойствия.
Беспристрастная отрешенность ее слов привлекла внимание Гранта, и он какое-то время постоял молча, глядя на нее. Потом произнес, словно вынося приговор:
— Вы исцелились.
— Да, исцелилась, — грустно согласилась она. — Я уже никогда не буду зеленым юнцом. А это было очень славно.
— Повзрослеть тоже хорошо, — успокаивающе проговорил Грант и стал спускаться по лестнице. Отворив дверь, он оглянулся и увидел, что она все еще смотрит ему вслед.
— Кстати, — сказал он, — что такое «принадлежности»?
— Что? О! — рассмеялась она тихонько. — Пояса, лифчики, банты, маленькие пучки щетины, которые женщины подкладывают в прическу.
— До свидания, — попрощался Грант.
— До свидания, инспектор уголовного розыска Грант. Я вам очень благодарна.
Он вышел на свет солнца, чувствуя в душе примирение со всем миром.
Пока он направлялся к автобусной остановке, ему пришла в голову безумная, но забавная мысль. Он позвонит Марте и спросит, не хочет ли она пригласить на вечер в субботу еще одну женщину. Марта скажет: «Приводите кого хотите», и он приведет с собой Ли Сирл.
Но конечно же, он этого не сделает. Так не подобает поступать офицеру департамента уголовного розыска. Это свидетельствовало бы о легкомыслии, фривольности, что при данных обстоятельствах могло быть расценено как прискорбный факт. Это годилось для всех Ли Сирл в мире, которые еще не повзрослели, — потворствовать своим капризам, однако взрослые, трезво рассуждающие люди должны соблюдать приличия.
И конечно, Гранта ждало еще одно вознаграждение. Вся жизнь состояла из разного рода вознаграждений.
Фантастика — это для подростков. Для взрослых — взрослые радости.
Никогда, даже в его «зеленые» годы, грудь Гранта не распирало от большей радости, чем та, которую доставляла мысль, какое лицо будет у Брюса, когда он принесет ему отчет о том, что произошло сегодня утром.
Это была блестящая и очень вдохновляющая перспектива.
Он едва мог дождаться, когда это произойдет.
Дэвид Л. Уилсон
«Нечестивый Грааль»
Посвящается Микки, моей музе
Огромное спасибо замечательным людям, благодаря которым эта книга стала реальностью. Мэтту Биалеру из Sanford J. Greenburger Associates, экстраординарному литагенту, который разглядел искру потенциала в изначальном варианте рукописи этой книги и который руководил мной, что в итоге помогло напечатать книгу. Саманте Мэндор, старшему редактору The Berkley Publishing Group, которая поверила в меня и контролировала все стадии издательского процесса.
Спасибо моим друзьям и жене, которые перечитали бессчетное количество вариантов рукописи. Особенно Биллу и Гло Деламар, Дугу и Люсии Девилле и Молли Кохран за строгий редакторский контроль.
Всем профессорам, теологам и другим специалистам, чьими знаниями и мнением я смог воспользоваться. Я очень надеюсь, что их мудрые советы позволили мне вплести в нить сюжета достоверные факты и реалии.
И конечно же, огромное спасибо моей жене Мики, чьи по мощь и поддержка, увлеченность и толковые советы помог ли мне преодолеть все «ухабы» и терзания во время написания моей первой книги.
Наша жизнь не состоит только из черного или белого, правды или лжи, правильного или неверного. Многое из того, что мы воспринимаем для себя как непреложный факт, основывается на теориях, утверждениях, вере и уровне знаний на данный момент. Любое неправильное прочтение, цитирование или интерпретирование данных искажает факты и реальность. То, что мы сегодня считаем непреложным фактом, не выдерживает проверки временем.
«Нечестивый Грааль» — художественное произведение. Сюжет строился на всеми признанных фактах, легендах, мифах и теориях заговоров. Многие концепции основываются на обширных исследованиях, интервью священнослужителей, теологов и профессоров, а также на креативных домыслах автора.
ПРОЛОГ
— Каюсь, святой отец, грешен…
Приглушенный голос доносился до священника из темного угла исповедальни собора Святого Патрика. Эдвард Бирн отвел край обшлага и взглянул на часы. Время исповеди истекало: оставалось не более двух минут.
— В прошлый раз я приходил к вам неделю назад. — Человек прокашлялся, помолчал, а потом громким шепотом признался: — Я готовлюсь совершить смертный грех.
Бирн застыл на месте. Он уже примерно знал, что последует дальше: разочарованная душа, замыслившая самоубийство, надеется получить на исповеди проблеск надежды. Во рту у священника пересохло.
— Смертные грехи отнимают у души… право на милость Божью, — надтреснутым голосом произнес Бирн, с усилием подбирая нужные слова. Он закрыл глаза, пытаясь сосредоточиться. — Ничем… ничем в земной обители Господа нельзя оправдать желание лишить себя жизни. Понимаю, вы сейчас в совершенном отчаянии…
— Святой отец, послушайте, вы не так поняли. Я не себя хочу лишить жизни. Я вынужден пойти на убийство, чтобы сохранить истинную святость нашей церкви.
Бирн склонился ближе к ширме исповедальни. Он изо всех сил всматривался в темный силуэт, смутно различимый в полумраке кабинки, но вместо лица видел лишь светлое пятно, выделяющееся на фоне черного воротника незнакомца.
Часть первая
ВСТРЕЧА
1
Отец Джозеф Романо подошел к алюминиевому пюпитру и через увеличительное стекло стал рассматривать репродукцию картины Пуссена «Les Bergers d'Arcadie».[617] На полотне семнадцатого века были изображены три пастуха и пастушка. Все четверо с изумлением разглядывали надгробную надпись, высеченную на могильном камне, приютившемся на краю каменистой равнины.
Профессор Фордхэмского университета вгляделся в латинские буквы: «ЕТ IN ARCADIA EGO» — «Я в Аркадии» — и усмехнулся, вспомнив о многочисленных падких до сенсаций теоретиках, исследователях и дешифровщиках. Все они потратили бессчетное количество часов на анализ этой фразы в поисках таинственного откровения — указания местонахождения Святого Грааля. Для него же смысл надписи был абсолютно ясен, она отражала раннее представление новых времен об Аркадии как об утраченном мире идиллического блаженства. Само же надгробие являлось не более чем обнадеживающим напоминанием о том, что лежащий в этой могиле неизвестный пребывает ныне в стране Утопии.
Романо отложил лупу и порылся в груде папок, наваленных на столе рядом с пюпитром. Наконец он отыскал конверт, на котором значилось: «Арк, Франция». Перебрав его содержимое, священник укрепил сбоку от литографии пару фотоснимков и, снова вооружившись увеличительным стеклом, начал рассматривать запечатленную на них перспективу. Ну конечно! На полотне, несомненно, изображено надгробие из Арка.
Романо побарабанил костяшками пальцев по висящей на стене таблице, вверху которой размашисто и небрежно было выведено: «ET IN ARCA DEI AGO», а затем обернулся к двум аспирантам, пристроившимся за одним компьютерным экраном. Второй письменный стол был явно лишним в этом и без того тесном кабинете.
— Ну что, мои юные гении, вы куда-нибудь продвинулись?
Молодой человек оторвал взгляд от монитора и, потянув за козырек фирменной университетской кепки «Фордхэмские Овны», откликнулся:
— Извините, отец, но в латыни больше нет подходящих анаграмм. Может быть, вы разрешите нам поэкспериментировать с удалением букв?
— Нет уж, Чарли, — покачал головой Романо, — идея не плохая, но так можно зайти куда угодно. Не забывайте, что вы занимаетесь научным исследованием.
— Это вовсе не мешает еретикам искажать правду и высказывать совершенно нелепые предположения, — вмешалась напарница Чарли.
Ее темные, коротко остриженные волосы и кожа оттенка светлый махагон составляли контраст миллиону веснушек Чарли и его русой челке, выбивающейся из-под кепки.
— Карлота, запомните: социальные исследователи, прежде чем опровергать те или иные исторические данные, должны всегда учитывать возможность ошибки. — Романо подчеркнул на таблице фразу «ET ARCA DEI AGO» — «И я действую от имени ковчега Господня». — Если это единственная осмысленная анаграмма из всех возможных, то нам приходится признать пользу сомнения… по крайней мере, на данный момент.
Зазвонил телефон, и Карлота потянулась за трубкой, а Чарли снова уставился в экран. Романо принялся разбирать груды записок, наваленных вокруг кипы журнальных статей. Это были материалы, вышедшие во Франции за последние три месяца. Они вслед за многочисленными прежними публикациями пытались доказать наличие у Иисуса Христа родословной. Ряд их даже прослеживал его генеалогию до наших дней, цитируя при этом достаточно известные имена. Однако более всего церковь озаботило упоминание о некоем тайном манускрипте, который, по утверждению автора статьи, был написан рукой самого Иакова, брата Христа, в первые дни после казни.
— Отец, спрашивают вас. — Карлота закрыла ладонью микрофон трубки и прошептала: — Этот человек не представился. Сказал только, что звонит по поводу каких-то первоисточников. Он требует именно вас.
Священник взял трубку:
— Отец Джозеф Романо слушает.
— Завтра в полдевятого утра приходите на вокзал Гранд-Централ, — донесся до него низкий сипловатый голос.
— А кто говорит?
— Стойте внутри у выхода на Сорок вторую улицу и Парк-авеню. Не забудьте надеть воротничок.
— Я священник-иезуит и занимаюсь серьезными изысканиями, а не ищу сенсаций, как некоторые журналисты.
— Я и собираюсь предоставить вам материал для серьезных изысканий — футляр с подлинной рукописью, выполненной рукой Иакова, брата Иисуса. Там описаны истинные подробности распятия.
Соединение прервалось.
— О чем речь? — поинтересовалась Карлота.
— Этот некто утверждает, что имеет в своем распоряжении фрагмент манускрипта Иакова.
Чарли оторвался от компьютера и потряс головой:
— Неужели нашлись чудаки, которые размножили этот нелепый псевдодокумент?
— Нет-нет, здесь речь не об очередной переводной подделке. — Романо повесил трубку. — Этот некто утверждает, что у него именно подлинник.
Чарли положил руки на затылок, откинулся на спинку стула и приподнял брови.
— Ух ты! — воскликнула Карлота. — Если таковой действительно существует, то в вашей книге может наметиться неожиданный поворот.
Чарли прищурился:
— Если обнаружится реальное доказательство наличия у Христа родственников, что тогда будет со всей церковью?
Романо с улыбкой поглядел на выпускников-ассистентов, поглаживая ухоженную бородку-эспаньолку. Он предпочитал избегать дискуссий на тему «неоспоримой истины», поэтому и сейчас решил не брать проблему приступом, а обойти ее сбоку.
— У вас обоих блестящие способности. В жизни вам не раз придется сталкиваться с суровыми испытаниями веры. Христианство существует уже почти два тысячелетия, и до сих пор ничто не могло поколебать его основ. Я пишу свою книгу, поскольку считаю, что всем нам необходимо посмотреть на распятие Христа и Его последующее воскресение с точки зрения современной науки и новых технологий. Как ученый и священник, я значительную часть жизни посвятил исследованию всех углов и закоулков христианского канонического Писания. И я не обнаружил в нем ни одного существенного недостатка, которыйпошатнул бы мою веру. — Романо улыбнулся и воздел указательный палец. — Давайте не будем спешить с выводами из-за какого-то анонимного звонка.
Потом он взглянул на часы и добавил:
— Вам лучше поспешить на занятие, иначе монсеньор Лохнер нам всем задаст.
Чарли и Карлота схватили учебники и оставили Романо одного, прежде чем он сообразил, что забыл их предупредить насчет завтрашнего дня. Когда они придут сюда утром, то не найдут его в кабинете: в это время он будет высматривать неизвестного в толпе прибывающих на Гранд-Централ пассажиров в надежде, что тот передаст ему футляр, содержимое которого может вызвать настоящую бурю во всей церковной организации.
Отец Романо взглянул в окно, из которого открывался вид на 62-ю улицу, Дамрош-парк и еще дальше — на здание Метрополитен-опера. Бесподобная перспектива, одно из преимуществ работы в Фордхэме. Он вспомнил о Марте. Она по-настоящему восхищалась оперой. Восемнадцатилетним юношей он тайком провел ее в семейную ложу, пока мать устраивала дома очередной благотворительный прием. Марта с благоговейным трепетом взирала на окружающее великолепие: стеклянные арочные своды, необъятные стенные росписи Шагала, брызжущие цветом. Она не выпускала его руку в течение всей оперы и ни разу не шелохнулась. После спектакля Марта непременно захотела посидеть на краю фонтана во внутреннем дворе. Она полоскала пальцы в прохладной воде, брызгала ею в Романо и вдруг подарила ему свою особенную невинную улыбку… это было словно в прошлой жизни. С тех пор вся его жизнь, весь духовный капитал были посвящены церкви и связанным с нею исследованиям. Романо вышел из кабинета и направился к станции Метро-Норт, чтобы ехать в Бронкс, в Спеллман-холл, в свою холостяцкую комнатку.
2
С Норт-Черч-роуд Гавриил свернул в высокие решетчатые стальные ворота, обозначающие вход в Иезуитский центр духовного развития. Он окинул взглядом кованые личины, взирающие на него с высоты ажурных створок, и подумал: смех, да и только. Это же запечатленные греческие боги; они сошли бы и за слегка искаженные версии языческого идола плодородия — Бафомета. Понятно, что для большинства этот рогатый божок не что иное, как воплощение дьявола. Лишь немногие посвященные знают, что Бафомет — лишь иное наименование Софии, высшей истины.
Трехполосная подъездная аллея пестрела тенью от предзакатного солнца, пробивающегося сквозь густую листву. На исходе дня на ней не было машин, и вокруг он не заметил садовых рабочих. Подруливая к величественному строению, некогда служившему приютом иезуитским священникам и братии, Гавриил почувствовал, как нарастает внутри нервозность от ожидания. Наконец он затормозил у массивного кирпичного строения, венчающего один из холмов в округе живописного пенсильванского городка под названием Вернерсвиль.
Своей формой здание напоминало раннюю версию печати Общества Иисусова. Восточный и западный четырехэтажные флигели соединялись посередине длинным переходом, что придавало всему сооружению вид огромной буквы «Н» — средней в аббревиатуре IHS, по инициалам греческого имени Христа. В центре этой гигантской литеры находилась пристройка в форме креста — главный вход в здание.
Гавриил вырулил на нижнюю парковочную стоянку, откуда прекрасно были видны и окрестности здания, и просторная каменная галерея. Развалясь на сиденье, он достал бинокль и навел его на двухъярусный лестничный пролет, ведущий к парадным дверям иезуитского центра. С 1971 года эта организация занималась трактовкой и толкованием духовного учения святого Игнатия Лойолы, основателя ордена. Сегодня у них день посещения для всех желающих. Гавриил сможет затесаться в ряды посетителей, и никто не станет ему задавать назойливых вопросов. Он успеет войти, выйти и уехать прежде, чем кто-либо догадается о вторжении.
Гавриил принялся терпеливо ждать, как вдруг его внимание привлек автомобиль с нью-йоркскими номерами, движущийся по нижней подъездной аллее. Он немедленно навел на машину бинокль и, пока она выворачивала к главному входу, разглядел за рулем знакомую блондинку. Так и есть — те самые темные брови и большие, оливкового цвета глаза. Красивая, такие не забываются. С одной стороны, нехорошо столь откровенно ее использовать, зато уловка удалась как нельзя лучше. Она поможет ему выиграть время. Главное — соблюсти сроки, а в религиозном поиске о святотатстве не может быть и речи. Как бы там ни было, его избрал сам Господь… А значит, и ее тоже.
Гавриил, наблюдая, как автомобиль по окружной аллее добрался до главного входа и там припарковался, помолился о наставлении. Блондинка уже поднялась до второго пролета, когда двери центра распахнулись и навстречу ей вышел священник. Он приветственно улыбался и делал гостье приглашающие жесты. Они обменялись рукопожатием, о чем-то недолго посовещались, а затем вернулись к ее машине.
Те двое уже удалялись по подъездной аллее, как вдруг Гавриил приметил еще одну машину с нью-йоркскими номерами. Она разминулась с первой, развернулась на ближайшей парковке и направилась следом, прочь от центра. Он попытался в бинокль разглядеть водителя, но угасающее дневное освещение позволило различить только одно: за рулем темноволосый мужчина. Неужели Интерпол и ФБР успели постараться? Отправили за ней слежку? Даже если так, именно она, а не он — их первейшая забота, и это дает ему решающее преимущество. Вполне возможно, что она успела попасть в поле зрения Совета. Он улыбнулся. Какая разница? Он их всех опередит. Он не в своей власти.
Гавриил вынул из нагрудного кармана черный кожаный портсигар, открыл и заново проверил содержимое всех трубчатых отделений. Все было на месте и в полной готовности. Он неспешно пересек лужайку, открыл двери центра и оказался внутри. В холле царила неестественная тишина. Он вдохнул глубже и ощутил вековой запах, словно воздух здесь утратил все живые вибрации. В темных коридорах, кое-где освещенных лампами на пристенных столиках, он не заметил ни души. Гавриил взглянул на часы: проповедники и посетители сейчас, вероятно, ужинают. Он направился в покои священника, недавно уехавшего с блондинкой.
Через несколько минут Гавриил вернулся на второй этаж. В одной из уединенных приемных с мягкими стульями он занял место поближе к дверям. На столике с краю стоял изящный фарфоровый светильник, рядом лежала коробочка с салфетками и потрепанная Библия. Здесь Гавриила посетило то же ощущение, что и в Испании. Сильно жгло в самой глубине груди, жар растекся по рукам, взобрался вверх, язычками пламени облизывая лицо и шею, пока не прожег мозг. Капли пота проступили над верхней губой, обильно увлажнили лоб, как бывает во время сильной лихорадки.
Гавриил подсел к столу и взял Библию. Открыв «Послание к Ефесянам», он полистал страницы, пока не нашел главу 4, стих 23 — «И обновиться духом ума вашего», — и стал читать и перечитывать эти строки. Именно обновление, перерождение посетило его во время молитвенного транса. Он понял, что избран, что он один способен искоренить зло, он единственный, кто сможет восстановить христианство в его первозданной чистоте.
Жар отступил так же внезапно, как и прихлынул. Гавриил откинулся на стуле и погрузился в терпеливое ожидание того единственного человека, который по возвращении узнал бы его. В этот момент священник, вероятно, сидел где-нибудь в ресторане в компании блондинки и наслаждался последним в своей жизни ужином.
3
Поезд с отцом Романо прибыл на станцию Гранд-Централ в самый разгар утреннего часа пик. На встречу со звонившим священник, как тот и просил, надел воротничок — знак принадлежности к сану. Остальная его одежда была вполне обычной: брюки защитного цвета, свободного покроя спортивное полупальто и кроссовки «Найк». В иезуитском ордене, и в университетском преподавании в частности, его привлекала именно возможность не носить религиозное облачение. Когда же приходилось появляться на людях в воротничке, отец Романо всегда испытывал смущение.
Из поездов пригородных линий выливались потоки пассажиров и тут же растворялись в лабиринте подземных туннелей. Романо с трудом протиснулся к ближайшему лестничному пролету и вошел в здание вокзала. Перед ним раскинулось пространство размером с футбольное поле. Впечатлял сводчатый потолок с огромными фигурами зодиакальных знаков.
Сквозь толпы прибывающих Романо стал пробираться к пандусу выхода на 42-ю улицу. Оказавшись снаружи, он немного прогулялся по Парк-авеню, затем вернулся и прошагал квартал туда и обратно по 42-й: вдруг встречающий подумает, что священник прибудет со стороны своей резиденции в кампусе Линкольн-центра. Однако никто не оглядывал пристально прохожих, кроме нищего с жестянкой из-под кофе. Он встал под виадуком через Парк-авеню и бросил взгляд на ту сторону улицы, на центральное кафе Першинг-сквера. Поблизости никого не было видно, никто не высматривал нужного человека в утренней людской сутолоке.
Отец Романо решил вернуться в вокзал: незнакомец ведь предупредил, что будет ждать внутри, у выхода на 42-ю улицу и Парк-авеню. Лавируя среди приезжающих, священник наконец выбрал подходящее место, чтобы неубывающий поток спешащих на работу людей тек мимо, не задевая его. Минутная стрелка на огромном циферблате, подвешенном между двух исполинских колонн, еле-еле двигалась. Романо то и дело бросал на нее беспокойные взгляды и ощущал себя до крайности нелепо. Какой-то псих сбил его с толку… или это просто шутка. Может, где-то тут прячутся его студенты, наблюдают за ним и хихикают? Разве можно поручиться, что Чарли не выкинет что-нибудь этакое…
Звук выстрела был столь оглушительным, что перекрыл шум переполненного вокзала. Эхо отдалось под арочными сводами — казалось, что палят со всех сторон одновременно. Люди кинулись к выходам, тесня и пихая отца Романо. Кто-то на бегу сунул ему что-то в руки, едва не сбив с ног. Священник с трудом устоял на ногах, выпрямился и обнаружил, что крепко сжимает ящичек с манускриптом. Он тут же обернулся, высматривая незнакомца, но тот уже смешался с охваченной ужасом толпой.
Романо насилу пробрался к кучке зевак, плотным кольцом обступивших лежащую на полу молодую женщину. Констебль, что-то прокричав в рацию, опустился на колени возле жертвы. Из раны в ее правом плече сочилась кровь. Женщина мотала головой из стороны в сторону, разевая рот, словно собиралась закричать, но не издавала при этом ни звука. Романо вытащил из кармана носовой платок и протянул его полицейскому. Тот прижал его к ране на плече женщины, поднял глаза на священника и кивнул ему:
— Спасибо, святой отец.
Романо тоже присел рядом с жертвой, поставил ящичек на пол и взял женщину за руку. Она глядела на него с немой мольбой. Священник сбросил куртку, свернул ее и подложил ей под голову — женщина вздрогнула, но головой мотать перестала. Констебль продолжал зажимать рану; платок уже обильно пропитался кровью, так что полицейский перемазал себе все руки. Романо принялся молиться про себя.
— Не волнуйтесь, мисс, — успокаивал жертву констебль, — врача уже вызвали.
Меж тем двое военных в камуфляже и несколько полицейских МТА[618] пробирались к ним сквозь толпу. Романо услышал приближающуюся сирену «скорой». Вскоре прибыла бригада ЕМТ[619] и взяла инициативу в свои руки. Священник еще не успел прийти в себя, а врачи уже ввели пострадавшей анти-шок и уложили ее на каталку. Один из них ободряюще хлопнул Романо по плечу:
— Она будет жить, святой отец.
Двое констеблей принялись расчищать коридор в толпе зевак; женщину увезли. Тем временем полиция транспортного управления оцепила место происшествия. Офицер, представившийся лейтенантом Гарретом, стал допрашивать Романо как свидетеля. Один из носильщиков тронул священника за плечо, указал на кровавое пятно на его рукаве и подал полотенце. Пот катился с Романо градом, и, пока он стирал кровь с одежды, руки у него дрожали. Он сообщил лейтенанту, что услышал выстрел, когда стоял у выхода из вокзала, но самого стрелявшего не видел, потом кинулся к жертве, чтобы помочь или помолиться — смотря по обстоятельствам. Задав еще пару вопросов, лейтенант Гаррет поблагодарил Романо, вручил ему свою визитку и попросил звонить в участок, если тот вспомнит какие-либо подробности.
Уже направляясь к пандусу выхода из вокзала, Романо заметил, что к его нагрудному карману пристали светлые волоски. Ах да, это ее… Бедная женщина… Он помолился, чтоб пострадавшая выжила, и почистил борт пальто.
— Святой отец, это ваше?
Романо обернулся — полицейский МТА протягивал ему ящик с манускриптом.
— Да-да, я совсем забыл за всей этой суматохой.
Прежде чем выйти на улицу, священник отступил в пристенную нишу и приподнял крышку. В ноздри ему ударил резкий пороховой запах. Внутри, в пенопластовом гнезде, лежал револьвер.
Отец Романо, не веря собственным глазам, уставился на оружие. Затем он машинально захлопнул крышку и судорожно прижал ящик к груди. Сзади замелькали яркие вспышки — от неожиданности он резко обернулся, чуть не выронив ношу. Всю стену занимало гигантское изображение манекенщицы, вышагивающей по подиуму. Романо с облегчением перевел дух: это была всего лишь реклама показа мод. Мысли у него путались. Зачем кому-то навлекать на него подозрения? Он снова вспомнил раненую женщину. Она показалась ему смутно знакомой, словно Романо уже виделся с ней раньше, но забыл, где именно.
Священник отошел в сторону, подальше от слепящего света проектора с мелькающими слайдами. Он собрался уйти, но, снова взглянув на ящичек, счел, что это будет не совсем правильно. В конце концов, может оказаться, что у него в руках недавнее орудие преступления. Еще раз все взвесив, отец Романо пришел к выводу, что в данной ситуации возможен только один разумный выход. Он вынул из кармана визитку лейтенанта Гаррета и вернулся обратно в главный зал.
Место, где недавно лежала женщина, было огорожено кордонной лентой. Романо обратился к офицеру в форме МТА:
— Простите, мне необходимо переговорить с лейтенантом Гарретом.
— О происшествии? — покосился на него полицейский.
— Да, я… я хотел бы дополнить свои показания.
Тот внимательнее всмотрелся в Романо:
— Вы священник, который помогал Харви? Вы что-нибудь вспомнили?
— Я тут кое-что обнаружил… — Романо кивнул на коробку. — Это может послужить важной уликой.
Полицейский хотел забрать у него ящик, но Романо воспротивился:
— Прошу прощения. Я предпочел бы объясняться с самим лейтенантом.
— Святой отец, если эта улика касается выстрела, вы должны немедленно передать ее мне.
Видя, что священник не собирается расставаться с футляром, офицер поколебался, но достал рацию и начал с кем-то совещаться, не сводя глаз с Романо. Наконец он кивнул:
— Пройдемте со мной в нижний зал, святой отец. — Он указал на лестничный сход. — Лейтенант Гаррет примет вас в привокзальном отделении.
Спустившись в буфетный зал, они направились к полицейскому электромобилю с включенными мигалками. Констебль указал Романо на место рядом с водителем. Священник устроился на сиденье и поставил ящичек себе на колени, крепко обхватив его руками. Они миновали не один железнодорожный туннель, пока Романо не разглядел впереди, на перекладине под коридорным сводом, табличку: «Полиция. Бюро забытых вещей». Здесь электромобиль замедлил ход, свернул в узкий отсек и остановился перед стеклянными дверьми дежурной части. По обеим створкам протянулась огромная, из растянутых вертикально букв надпись «Полиция» в сопровождении яркой желто-синей эмблемы МТА.
Офицер провел Романо в пустующую дежурную часть. Навесной стеклянный шкафчик, заполненный форменными нашивками, и немногочисленные плакаты слегка оживляли голые стены. В углу на подставке был укреплён американский флаг. Оперативник за перегородкой отвлекся от монитора и махнул в сторону одной из дверей:
— Лейтенант Гаррет вас ждет. Он сейчас в конференц-зале со следователем.
Констебль распахнул перед священником дверь и проводил его по короткому коридорчику в залитое светом помещение строгого вида. За круглым столом для совещаний, тускло отсвечивающим стальным блеском, расположились лейтенант Гаррет и человек в мятом синем костюме. У детектива была густая темная шевелюра, волнистые седеющие локоны он заправлял за уши.
При входе в конференц-зал Романо забеспокоился. Он представил, как должны они будут воспринять его заявление о том, что ящик с оружием ему кто-то сунул во время неразберихи, последовавшей за выстрелом. Меж тем следователь захлопнул лежащую перед ним коричневую папку и взглянул на священника поверх очков для чтения в черной оправе с узкими линзами. Его лицо было изборождено глубокими морщинами. Шрамик над правым глазом навел Романо на мысль, что перед ним скорее уличный хват, чем конторская крыса. Такой нигде не растеряется.
Лейтенант Гаррет приподнялся и представил своего коллегу:
— Отец Романо, это лейтенант Ренцетти из NYPD.[620] Их отдел будет принимать участие в расследовании.
Ренцетти утвердительно кивнул, продолжая изучать священника поверх очков. Гаррет жестом предложил Романо один из стульев, приставленных к столу:
— Садитесь, пожалуйста. Нам доложили, что у вас есть какая-то улика недавнего происшествия.
Романо сел и поставил футляр с «манускриптом» на сере дину стола. Сначала он рассказал полицейским о странном телефонном звонке, а затем обо всем, что случилось с ним после прибытия на вокзал Гранд-Централ. Гаррет спросил, запомнил ли он наружность того человека. Священник закрыл глаза и увидел разноликую толпу, несущуюся прямо на него.
Возможно, он ошибается, но, кажется, тот мужчина был одет в темный пиджак. Романо сильнее зажмурился: может, не в пиджак, а в ветровку? Или в спортивную куртку? Нет, точнее не вспомнить. Он снова и снова пытался восстановить в памяти тот момент, но все произошло слишком быстро. В людской сутолоке он мог вычленить только один момент — пятно, которое могло оказаться, например, шрамом.
Романо открыл глаза и начал: «Мне кажется, у него…», но осекся на полуслове, поймав себя на том, что в упор рассматривает рубец, раскроивший правую бровь Ренцетти. Тогда он покачал головой:
— Помню только, что у него были темные волосы и темный верх. Простите, точнее сказать не могу.
Ренцетти скептически взглянул на Гаррета, а потом указал на футляр:
— А теперь, святой отец, объясните ради бога, какое отношение этот ящик с неизвестным манускриптом имеет к сегодняшнему происшествию.
Романо вздохнул, долго смотрел полицейскому в глаза и наконец произнес:
— По-моему, здесь орудие преступления.
Гаррет с Ренцетти переглянулись и уставились на священника. Ренцетти карандашом подтянул ящичек к себе, подцепил кончиком крышку, и все увидели револьвер, вставленный в пенопластовое гнездо. Детектив пригнулся, понюхал пистолет и покачал головой, потом достал мобильник и позвонил начальнику следственной группы, находящемуся на месте преступления.
Затем оба полицейских начали допрашивать Романо с удвоенной дотошностью. Тон задавал Ренцетти. Лейтенанту NYPD явно казалась подозрительной история о таинственном незнакомце, заманившем священника на Гранд-Централ, а потом всучившем ему злополучный ящик. Он велел Гаррету привести офицера, прибывшего первым на место происшествия, и другого — передавшего коробку святому отцу. Ренцетти отдельно допросил их в соседнем кабинете, а когда вернулся, недоверчивость его отчасти рассеялась.
Наконец появились члены следственной группы. Ренцетти попросил руководителя протестировать Романо на остаточный порох. Проба оказалась отрицательной. У священника уточнили мельчайшие подробности его утра и сообщили, что свяжутся с ним, если потребуются какие-либо дополнительные сведения, а потом отпустили.
Он не стал заставлять себя долго упрашивать и поспешил покинуть здание вокзала. Резкий манхэттенский воздух Восточного Мидтауна немного освежил Романо. Направляясь к себе в офис, он попытался представить, какими последствиями будут чреваты события последнего часа. Это ему не удалось, и священник утешил себя тем, что хуже все равно некуда.
4
В палату, где лежала Бриттани Хэймар, вошел высокий худощавый врач. На ходу он внимательно изучал содержание папки. Руки у него были жилистые, а волосы — эффектно тронутые сединой. Словно они присыпаны пеплом из камина, подумалось ей. Наконец доктор поднял глаза на пациентку и улыбнулся.
— Вы везучая, мисс Хэймар. Пару бы дюймов ниже — и мы бы общались с вами в травматологическом отделении. А может, и вовсе бы не общались.
Бритт разглядела на его белом халате вышитое красным имя «Д-р Генри Фолкнер».
— Наверное, не столь везучая, доктор Фолкнер. Все же в меня стреляли.
Врач перестал улыбаться и ответил более сухим тоном:
— Простите, мисс Хэймар, я не хотел вас задеть. Я всего лишь имел в виду, что ваше огнестрельное ранение в плечо не затронуло ни костей, ни внутренних органов, ни важных кровеносных сосудов.
— И что?
— А то, что ранение поверхностное. — Доктор Фолкнер в задумчивости прижал указательный палец к губам. — Странно, однако. Стреляли с близкого расстояния. Кость пуля не задела. По идее, рана должна быть сквозной. Вы, наверное, очень толстокожая. — Он ухмыльнулся, но, заметив, что Бритт не разделяет его веселья, вновь посерьезнел. — Я вынул пулю и наложил швы. Если не считать небольшого шрама, вы легко отделались.
— Когда меня выпишут?
— Я собираюсь подержать вас здесь до завтра и еще понаблюдать. Надо убедиться, что нет инфекции, — мы потому и сделали вам внутривенную инъекцию. Выписать вас можем не раньше завтрашнего утра.
Бритт не успела ничего ответить, как в дверь громко постучали, и в палату вошел мужчина в темно-синем костюме. Вид у него был суровый и чрезвычайно деловитый. Человек сразу направился к доктору Фолкнеру и раскрыл удостоверение с бляхой.
— Лейтенант Ренцетти, NYPD. Мне необходимо расспросить мисс Хэймар о происшествии.
Врач взглянул на Бритт, потом заметил детективу:
— Она пережила нервное потрясение, но на ваши вопросы ответить, думаю, сможет. — Затем доктор Фолкнер с улыбкой обратился к Бритт: — Мисс Хэймар, оставляю вас с лейтенантом. Если что-нибудь понадобится, жмите на кнопку вызова.
Доктор вышел. Лейтенант Ренцетти раскрыл блокнот и сделал в нем какую-то пометку, затем остановил на Бритт проницательный взгляд.
— Мисс Хэймар, у вас есть предположения, кто мог в вас стрелять?
Из-за грубоватого тона казалось, что лейтенант не спрашивает, а приказывает отвечать. Бритт его резкость покоробила, но, чтобы выяснить, кто покушался на нее и зачем, может быть, как раз и нужен такой человек? Ей вовсе не хотелось давать стрелявшему злоумышленнику еще один шанс.
— Лейтенант, я бы с радостью поделилась своими предположениями, но у меня их нет. Честно говоря, я даже не могу описать преступника. Все произошло как во сне. Что-то ужасно загрохотало, и меня будто бы толкнули в плечо. А очнулась я уже на полу. Вот примерно и все.
Ренцетти постукивал концом ручки по блокноту — Бритт не могла определить, что это — нервный тик или раздражение. В раздумье он опустил голову, а потом взглянул на женщину и едва заметно улыбнулся.
— Может быть, вы заметили, пока были на станции, что кто-нибудь вас разглядывает? Пристально смотрит? Неприятно косится?..
Бритт попыталась все представить в красках, но воспоминания будто заволокло туманом. Наконец она покачала головой:
— Если честно, я мало что помню из сегодняшнего утра и вряд ли смогу описать хоть кого-нибудь из людей на вокзале.
— Мог кто-нибудь намеренно хотеть вам навредить?
— Нет, что-то не припомню. Зато могу сказать, что оказалась на Гранд-Централ вовсе не случайно.
Ренцетти прищурил глаза:
— Так-так?
— Вчера мне позвонили и попросили подойти утром к справочному окошку на вокзале Гранд-Централ ровно в полдевятого. Один человек собирался передать мне старинную рукопись.
Ренцетти что-то записал в блокнот и выжидательно посмотрел на нее:
— Кто же?
— Звонивший не представился. Это был мужчина с низким голосом.
— Вы предполагаете, кто бы это мог быть?
Бритт помолчала. Она подумала о Вестнике, но это был точно не он. Помнится, у него тембр помягче, а обращение повежливее. И поспокойнее. А тот субъект разговаривал без обиняков, приказным тоном.
— Нет, никого с таким голосом я не знаю, — наконец призналась она.
— О какой рукописи идет речь?
— Это я как раз могу объяснить. Я преподаю религиоведение, а сейчас нахожусь в творческом отпуске — пишу книгу на тему христианства. Она касается некоторых общепринятых постулатов о Христе. Не сомневаюсь, что кое-кому из римской католической верхушки и многим фанатикам от веры мои изыскания не совсем по нутру.
Ренцетти перестал писать и изумленно уставился на нее:
— Вы намекаете на то, что церкви выгодна ваша гибель?
— Я понятия не имею, кому выгодна моя гибель, — пожала плечами Бритт, — но времена теперь такие, что можно ожидать чего угодно.
Ренцетти покивал:
— Верно, я в своем деле всякого навидался. Так что это за рукопись?
— Звонивший уверял, что это неизвестный манускрипт, написанный Иаковом, братом Иисуса Христа.
— Вы хотите сказать, что у Христа был брат? — опешив, спросил Ренцетти.
— Лейтенант, вы ведь католик?
— Да. Даже ходил в католическую школу.
— Наличие у Христа братьев и сестер — предмет спора среди теологов. Римская католическая церковь упорно защищает постулат о ненарушимом девстве Богородицы. — Хэймар помолчала. — Церковники всячески умаляют исторические и религиозные свидетельства о единоутробных братьях Иисуса. Для них важнее, чтобы Мария оставалась девой.
Ренцетти скептически посмотрел на собеседницу:
— Вы не шутите? На дворе двадцать первый век, а мы до сих пор не знаем наверняка, были ли у Христа родные братья и сестры?
— Вам не обязательно верить мне, — возразила Бритт. — Возьмите Евангелие от Марка и почитайте шестую главу, стих третий. Там рассказывается, как Иисус проповедовал в субботу в синагоге Назарета. Паства, слушавшая его, в изумлении вопрошала: «Не плотник ли Он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами Его сестры?»
— Так написано в Библии?
— Даже в версиях, утвержденных Римской католической церковью.
Ренцетти не успел ничего возразить, как она поспешно добавила:
— Но на самом деле все не так просто.
Лейтенант с сомнением качал головой:
— Мы в приходской школе никогда не обсуждали этот отрывок. Однако сын, брат, сестра… По-моему, яснее ясного.
— Слова «брат» и «сестра», пусть и переведенные с греческого, могут легко ввести в заблуждение, учитывая их семитское значение во времена Христа. В ту эпоху эти понятия применялись не только к детям от одних родителей, но и к племянникам или племянницам, а также к двоюродным или сводным братьям и сестрам. Впрочем, рукопись Иакова ценна не этим. Был ли он братом Иисуса, или просто апостолом, или же главой Иерусалимской церкви — в любом случае он, вероятно, не понаслышке знал о жизни и смерти Христа.
— И у кого мог оказаться подобный манускрипт? — спросил Ренцетти, делая пометки у себя в блокноте.
— У кого угодно — у антиквара, ученого или археолога… Или это какой-нибудь сумасшедший. Я теряюсь в догадках. Но с большой долей вероятности можно предположить, что стрелявший или не согласен с концепцией моей будущей книги, или он не хотел, чтобы рукопись попала ко мне в руки.
5
Завтрак в Иезуитском центре духовного развития близился к концу. Отец Уильям Шелдон обвел взглядом священников, расположившихся особняком в глубине обширной трапезной. Их столики были отделены съемными перегородками от остальной залы, где размещались многочисленные посетители. В общем молчании было лишь слышно, как стучат о фарфоровую посуду приборы и скребут о дно нержавеющих самогреющихся сковородок раздаточные лопатки.
Духовник поднялся из-за стола, подошел к одному из священников и шепотом спросил:
— Томас, ты видел Тэда Метьюса сегодня утром?
Тот сначала возвел глаза к потолку, а затем покачал головой:
— Удивительное дело, не видел. Обычно я не раз встречаю Тэда перед завтраком.
— А он был утром в своей комнате? Ты слышал оттуда какие-нибудь звуки? — не отступал Шелдон.
— Вообще-то не слышал ровно ничего. К тому же он сосед не шумный. — Томас кивком головы указал на сидящего рядом священника: — Вот Джек у себя все время колобродит. Впрочем, я обычно слышу, если Тэд у себя: звукоизоляция у нас не идеальная.
— Пойду посмотрю, у себя ли он.
Шелдон направился к выходу из трапезной, а отец Джек Гэннон придвинулся со стулом поближе к Томасу и наклонился к его уху:
— Надеюсь, Тэд не сбежал с той блондинкой.
— С какой блондинкой? — не понял тот.
— С которой он ужинал в таверне «Стауч». Я видел, как он встречал ее у парадного входа. Очень даже интересная женщина.
И Гэннон многозначительно приподнял брови.
— Джек, что за вздорные мысли! Тэд говорил мне, что собирается увидеться с преподавательницей религиоведения, которая пишет книгу и хочет побеседовать с ним кое о чем — сугубо на профессиональные темы.
— Вот видишь, Томас: умная, да еще и красивая. Опасное сочетание для одинокого пожилого священника.
Томас раздумчиво покачал головой:
— За тебя-то я бы, конечно, не поручился. Но Тэд не нам всем чета. Воистину, он следует стопами самого Иисуса.
* * *
Отец Шелдон ступал по тускло освещенному коридору в крыле, отведенном для проживающих при центре священников. Проходя мимо комнат, некогда занятых его близкими друзьями, он испытал тягостное чувство. Все они скончались: кто-то тихо отошел в мир иной во сне, кто-то страдал перед кончиной от мучительной болезни. Центр являлся не только местом паломничества, не только разрабатывал программы духовного развития и организовывал семинары — он также служил пристанищем престарелым проповедникам. Здесь находили приют священнослужители, которым возраст не оставил ни физических, ни моральных сил, чтобы либо преподавать, либо вести миссионерскую работу, либо наставлять посетителей центра. Их последним служением становилась молитва за церковь и мир. Иезуиты не выходят на пенсию.
Шелдон старался отогнать от себя мысли, не случилось ли с Тэдом Метьюсом что-нибудь неладное. Конечно, Тэд уже в годах, но еще крепок здоровьем и остается самым активным участником духовных инициатив центра. Подойдя к двери его комнаты, Шелдон прислушался: может быть, Тэд уже давно встал? Сначала ему подумалось, что его друг, возможно, реагирует на погоду, отчего и решил утром поспать подольше. Однако, взглянув на часы, священник вспомнил, что через десять минут у Тэда в холле для посещений назначена встреча с одним из постоянных гостей, а Тэд никогда и никуда не опаздывал. Тогда Шелдон три раза стукнул в дверь.
— Тэд, Тэд, ты у себя? Это я, Билл.
Никакого ответа. Он постучался снова:
— Тэд, это Билл. Ты здоров?
Тишина. Духовник нерешительно взялся за прохладную латунь круглой дверной ручки и медленно повернул ее. Дверь приотворилась.
— Тэд, Тэд… — негромко позвал Шелдон.
Он просунул голову внутрь, затем пошире распахнул дверь и оглядел комнату. На дубовом покорябанном столе вспыхнул огонек светлячка; насекомое на миг подняло крылышки, потерлось лапками об их хитиновые края — и снова угасло. Оловянная фигурка Христа застыла в страдальческой позе на распятии красного дерева — подарок, преподнесенный Тэду много лет назад, во время миссионерского служения в Центральной Америке.
Скрипя половицами при каждом шаге, Шелдон направился к приоткрытой двери спальни. У него отлегло от сердца, когда он увидел, что Тэд в одних белых трусах лежит на аккуратно заправленной постели. Веки у него были сомкнуты, а руки сложены в молитве. Тэд славился своим невероятным сосредоточением во время молитвенных бдений, когда он созерцал величие Господа во славе. Многие из его собратьев поговаривали, что самопогружение Метьюса в такие моменты граничит с мистикой. Но для Тэда выход за пределы сознания был единственно приемлемым: он должен был полностью отключить свои органы чувств, чтобы достигнуть наивысшей точки религиозно-медитативного транса.
Шелдон всмотрелся в лицо молящегося и похолодел: кожа у Тэда была синюшного оттенка. Духовник взглянул на благочестиво сложенные ладони лежащего. До этого Шелдону приходилось повидать немало покойников, но к подобному зрелищу он оказался совсем не готовым.
6
Подходя к зданию Фордхэмского университета, отец Романо уже успел выровнять дыхание: от вокзала Гранд-Централ до кампуса Линкольн-центра он пробежался трусцой, чтобы немного развеяться и появиться в офисе до того, как Чарли и Карлота отчаются его дождаться. У разносчика хот-догов он купил три бутылки газировки, затем вынул удостоверение и поспешил к главному входу. Миновав охрану, священник устремился к лифту, готовому отправиться на второй уровень, и успел просунуть руку меж закрывающихся створок. Дверцы снова разошлись, и Романо в который раз пообещал себе избавиться от этой глупой привычки, пока механизм не вышел строя и не проучил его. Священник вошел в лифт и прислонился к стенке кабинки. Его ассистенты ни за что не поверят в то, что ему недавно пришлось пережить. Впрочем, на их месте он бы тоже не поверил.
Лифт дернулся и пополз на десятый этаж, а Романо тем временем пытался найти связь между пресловутым тайным манускриптом, раненой незнакомкой и священником-иезуитом — преподавателем теологии и экспертом по старинным рукописям. Интересно, кто она, эта женщина? Романо не давало покоя ощущение, что она ему смутно знакома — по крайней мере, он ее точно где-то видел. Наверное, стоило предупредить об этом полицию, но он вовремя сообразил, что его догадки не имеют под собой никакого основания. К тому же лейтенант Ренцетти и так его подозревает. А шрам? Ему ведь показалось, что у того субъекта на лице был шрам, но потом он заметил рубец у Ренцетти и решил, что воображение сыграло с ним злую шутку. Все происшествие теперь напоминало Романо странное размытое пятно. Да, свидетель из него никудышный…
Лифт резко остановился. Романо вошел в офис и первым делом увидел Чарли, ссутулившегося над небольшим круглым столом, который заменял ассистентам рабочий стол. Юноша не отрывал глаз от монитора. Он быстро побарабанил по клавиатуре, с силой нажал на «Ввод» — и только тогда рас прямился и взглянул на Романо.
— Вы опоздали на электричку, отец?
— Лучше бы я опоздал, Чарли.
— А почему вы в воротничке? У вас сегодня важное совещание?
Чарли повернулся вместе со стулом, сдвинул кепку козырьком назад, так что эмблема «Овнов» уехала на затылок, и скорчил недоуменную гримасу.
— Вообще-то я сегодня собирался прийти как обычно, в тенниске. Что со мной приключилось — ты не поверишь!
Романо посвятил Чарли во все подробности утренней драмы, не упустив ни оглушительного выстрела, ни коробки с манускриптом, ни револьвера — вплоть до допроса в полиции. На протяжении всего повествования Чарли неизменно восклицал: «Вот это да!» Закончив рассказывать, Романо протянул ассистенту две бутылки с газировкой.
— Тебе и Карлоте, — пояснил он, отвинчивая крышечку с третьей.
Немного утолив жажду, священник поинтересовался:
— Кстати, куда подевалась Карлота? Она всегда приходит первая, пока ты плетешься нога за ногу.
— Вы знаете, удивительно, но ей действительно везет. Поэтому у нее всегда фора в очереди на компьютер.
— Ерунда, — возразила запыхавшаяся Карлота, вбегая в офис. — Ты и на занятия всегда опаздываешь. Это как раз в твоем стиле.
Чарли приподнял брови:
— Но ведь я все успеваю, правда, святой отец?
— Вы оба молодчины, — улыбнулся Романо. — Лучших выпускников мне и желать не приходится.
— Расскажите ей о выстреле.
— Дело в том, что сегодня Чарли и меня опередил, — начал священник. — Ты не представляешь, что со мной было. Я…
— О выстреле? — перебила Карлота. — Я потому и опоздала. Вы о преподавательнице из Хантер-колледжа?
— Что? Ну-ка, ну-ка! — оживился Романо.
— Во всех новостях говорят, — сообщила девушка. — Бриттани Хэймар, преподает в Хантер-колледже, пишет «Подложного Иисуса». В нее стреляли на станции Гранд-Централ.
Романо почувствовал прилив адреналина. Сегодня он уже ощущал нечто подобное: сначала когда услышал гром выстрела, а потом — когда открыл футляр с манускриптом.
— Это из-за рукописи! — вскричал Чарли. — Когда у нее брали интервью по поводу новой книги, Хэймар сама призналась, что склонна доверять всем этим статьям во французских журналах!
— Верно, — подтвердила Карлота. — И еще она отдельно упоминала некий неизвестный манускрипт, из-за которого и разгорелся весь этот сыр-бор о христовой родне.
— Насколько я помню, она не привела ни одного доказательства, что подобный документ вообще существует, — возразил Романо, — или что она лично его видела.
Карлота лишь пожала плечами:
— Но она все-таки утверждала, что у нее есть зримое свидетельство, якобы имеющее отношение к пресловутой родословной Иисуса.
— Здесь следует сделать упор на слова «якобы» и «пресловутой», — веско заметил Романо. — Я уже предостерегал вас от преждевременных выводов.
— А вам самим как кажется, отец? — спросил Чарли. — Такая рукопись в принципе возможна?
— Вы оба, вероятно, и так представляете, какова моя точка зрения по этому вопросу. Мы с вами не раз обсуждали мое отношение даже к каноническим Евангелиям. Изначально имена Матфея, Марка, Луки и Иоанна не соотносились с конкретными составителями Писаний. Их Евангелия являлись анонимными произведениями; каждое было провозвестником одной из существовавших тогда христианских сект, его «благой вестью». Присвоение Евангелиям предполагаемого «авторства» произошло в гораздо более поздние времена. Все они были записаны маюскулом,[621] без всяких заголовков, без деления на главы или отдельные стихи. В них практически отсутствовала пунктуация, а также пробелы между словами. Пропись в них была даже не арамейская или еврейская, современная той эпохе, а греческая. Так или иначе, после более чем двух тысячелетий тщательного их изучения пока не нашлось человека, который привел бы очевидные доказательства их несостоятельности. Эти Евангелия были и остаются официальным документом всех христианских религий.
Романо прервался и внимательно поглядел на Чарли и Карлоту, словно желая удостовериться, что они следят за ходом его рассуждений, и поинтересовался:
— Неужели вы и теперь сомневаетесь насчет моего мнения о рукописи, которая ни разу не подвергалась ни одному гласному исследованию или толкованию, которая даже не заверена ни одним из экспертов? Так возможна она или нет?
Чарли пожал плечами:
— Интересно все же, что думает по этому вопросу профессор Хэймар.
— Вот здесь, Чарли, я с тобой соглашусь. — Романо указал на пюпитр с репродукцией Пуссена: — Почему бы вам вдвоем пока не заняться сбором дополнительных сведений об этой надписи? А я пойду навещу профессора Хэймар и спрошу ее мнение.
7
Высокие обветрившиеся кирпичные башни величественно обступили палисадник у входа в лечебницу Бэльвю. Шагая по тенистой аллее и примечая рядом то фонарный столб «под старину», то бетонную цветочную чашу или многоярусный фонтан, Романо не мог не дивиться напыщенности антуража. В Бэльвю он шел впервые в жизни и до сих пор сомневался, правильно ли поступает. Тем не менее у него оказалось столько общего с Бриттани Хэймар, учитывая недавние события, что о простом совпадении даже речи быть не могло. Романо уже виделся с ней на двух-трех научных конференциях. В общих комиссиях им участвовать не довелось и даже беседовать, кажется, ни разу не приходилось, но ее лицо было знакомо священнику, и при встрече он должен был бы узнать эту женщину. Его сбил с толку цвет ее волос: он запомнил профессора Хэймар темной шатенкой, а пострадавшая, под голову которой он подсовывал куртку, была яркой блондинкой.
Длинная галерея, ведущая ко входу в лечебницу, была заполнена посетителями и медицинским персоналом. Романо терпеливо отстоял очередь в регистратуру, рассматривая красочные вымпелы, свисающие с потолка и придающие вестибюлю почти праздничный вид. Во всем остальном это была обычная больница, и легкий запах антисептика лишь подчеркивал царящую в ней унылую атмосферу. Все это нагоняло на священника нервную дрожь: в подобных заведениях ему всегда становилось немного не по себе — с тех пор, как его раз будил среди ночи звук сирены.
Тогда ему было двенадцать. Мать потащила его прямо в пижаме в ближайшую больницу. В приемном покое они сидели, прижавшись друг к другу, а врачи-реаниматологи в это время боролись за жизнь его отца. Ничего не помогло: тот скоропостижно умер от обширного инфаркта — как раз тогда, когда больше всего был нужен Джозефу. Пока готовились к похоронам, ближайший друг отца, священник-иезуит Тэд Метьюс стал для подростка и добрым приятелем, и наставником. В период возмужания юноши он всегда помогал Джозефу и, если надо, подставлял плечо — особенно в тех случаях, когда сын не находил понимания у матери. Когда случилось второе в жизни молодого человека весьма болезненное событие, именно Тэд подвиг его уйти в священнослужители. В тот период Джозеф просто ненавидел — даже презирал — собственную мать за то, что она совершила немыслимый, по его мнению, поступок: она отняла у него Марту.
— Святой отец! Вы что-то хотели?
Романо сообразил, что подошла его очередь, а он невидяще смотрит перед собой, и заморгал от неожиданности. Бойкая пожилая регистраторша за конторкой справочного бюро понимающе улыбнулась и тут же нашла Бриттани Хэймар в списках поступивших, а потом указала святому отцу нужный лифт.
Романо не сразу отыскал палату, которая оказалась в конце длинного, с бежевыми стенами коридора. Дверь в нее была приоткрыта. Он вошел — и сразу увидел ту женщину. Голова ее покоилась на высоко взбитойподушке, глаза были закрыты, левая рука лежала поверх одеяла, а на предплечье была закреплена трубочка, ведущая к штативу капельницы. Учитывая, что ее ранили всего несколько часов назад, выглядела Бриттани Хэймар совсем неплохо. Священник только теперь вспомнил о том, что профессор очень даже миловидна; пока она оставалась жертвой покушения, он не обращал внимания на ее внешнюю привлекательность. Женщина мирно спала, и он успел отметить и горделивый профиль, и чувственный изгиб рта, и сбившийся на лоб волнистый пепельный локон. Романо уже хотел уйти, но тут спящая открыла глаза и уставилась на него. Затем она помотала головой, словно прогоняя наваждение. На ее лице появилась тень испуга.
— Что вам здесь нужно? Я не звала ни священника, ни исповедника, — заявила она резким, совсем не дружелюбным тоном.
— Я пришел не исповедовать, — поспешно ответил Романо.
— Так я вам и поверила, — с отвращением произнесла Хэймар. — У меня нет никакого желания разговаривать со священниками.
— Простите, профессор Хэймар. Я был на станции, когда в вас стреляли. Я еще помогал констеблю, когда вас ранили, помните? Я пришел справиться о вашем состоянии.
Озлобление на лице женщины сменилось смущением:
— Да-да, теперь я вспомнила вас. Вы держали меня за руку, пока не приехала «скорая». Но я вас видела и раньше — без воротничка. — Она еще шире распахнула глаза: — Вы преподаватель из Фордхэма! Профессор Романо. Я читала ваши труды.
— Каюсь по обоим пунктам. Пожалуйста, зовите меня Джозеф.
— Тогда и вы меня — Бритт.
— Хорошо, пусть будет Бритт. Надеюсь, моя писанина не показалась вам слишком нескладной?
— Вовсе нет. Напротив, я считаю, что «Бог Нового Завета» и оригинален, и познавателен. Вы предлагаете множество различных толкований. — Профессор, вероятно, хотела улыбнуться, но отвела взгляд, и на ее лице появился оттенок сомнения. — Вы даже подняли вопрос о роли Павла в судьбе зарождающегося христианства, но в результате так и не смог ли расстаться с официозной линией церкви.
— Чего же вы требуете от пожилого священника?
— Но мне казалось, что вы, иезуиты, — все либералы и наносите свой узор на патину времени…
— Все это мы можем с вами обсудить в более академической обстановке, когда вы выздоровеете. — Романо вежливо улыбнулся и снова посерьезнел: — Я пришел с вами поговорить о более важном деле. — Он взглянул ей прямо в глаза: — Не расскажете ли вы мне, что привело вас на станцию Гранд-Централ сегодня утром?
Бритт даже приподнялась на постели:
— А почему вы спрашиваете?
— Потому что вчера мне позвонил неизвестный и велел прийти туда, чтобы получить от него манускрипт, написанный Иаковом. Подлинник.
Профессора Хэймар это известие явно поразило, но она быстро справилась с замешательством.
— И что, вы получили этот манускрипт? — спросила она.
— После выстрела все кинулись к выходу. Кто-то в толпе сунул футляр с рукописью прямо мне в руки, и…
— Где же она? — перебила Бритт.
— Не было никакой рукописи.
— Что же было в футляре?
— Сейчас этим занимается полиция. После того как вас увезли на «скорой», я открыл ящичек. И нашел там пистолет.
Женщина в изумлении приоткрыла рот:
— И вы знаете, кто звонил? Раньше вам поступали подобные предложения?
— К сожалению, не знаю. И не поступали. Я мало чем помог следствию. Вот почему и пришел к вам — я хотел узнать, есть ли у нас что-либо общее, помимо профессии.
Хэймар хотела что-то сказать, но вдруг потупилась и пальцем стала приглаживать липкую ленту, которой была прикреплена трубка капельницы. Когда она вновь поглядела на Романо, выражение лица у нее был напряженное.
— Одно я знаю точно, — сухо произнесла она. — Я пишу книгу, которая может не оставить камня на камне от всей церковной организации, а вы — священник со связями в Ватикане.
— Разве вам не интересно, кто в вас стрелял?
— Очень интересно, но я считаю неразумным обсуждать этот вопрос ни с кем, кроме полиции. — Хэймар дотянулась до кнопки вызова и надавила ее: — Я неважно себя чувствую. Простите, пожалуйста, но мне нужно увидеться с доктором. — Она болезненно улыбнулась и стала прощаться: — Спасибо, что навестили, Джозеф. Мы еще вернемся к нашему спору. Я непременно зайду к вам в Фордхэм.
Романо стало ясно, что его выставляют за дверь.
— Желаю вам скорейшего выздоровления и буду рад видеть вас в университете. Приходите, когда сочтете возможным.
Он поднял руку на прощание, повернулся и вышел. Шагая по больничному коридору к лифту, Романо думал о том, что встреча с профессором Хэймар запутала его еще больше.
8
Бритт Хэймар закрыла глаза и зримо представила себе металлический крест на груди у Романо. Странно, что именно этот крест вызвал у нее ощущение дежавю. Может быть, сказываются последствия шока от выстрела… В голове мельтешили обрывки мыслей. Откуда взялся этот Романо? О манускрипте он знает. Может, он и есть Вестник — тот, кто прислал ей фрагмент рукописи? Или наоборот, он и заманил ее на Гранд-Централ? Во всем этом предстояло разобраться. Сейчас глупая ошибка может стоить ей жизни.
А она-то уже готова была довериться Джозефу Романо… Его репутация эксперта по распознаванию и оценке старинных рукописей слыла безупречной. Бритт неоднократно подумывала о том, чтобы связаться с ним и попросить подтвердить подлинность манускрипта, где содержалось упоминание о детях Иисуса и Марии Магдалины, но ее всякий раз останавливало соображение, что он все-таки священник.
Затем она получила результаты радиоуглеродного анализа, подтверждавшие, что фрагмент рукописи действительно относится ко временам распятия Христа. Значит, это почти наверняка подлинник. Бесспорно, сотрудничество с Романо было бы идеальным вариантом, но когда он спросил, что привело ее на Гранд-Централ, внутри словно бы сработал предупредительный сигнал. А что, если тут не обошлось без вмешательства церкви? И самого Романо…
Все началось с серии статей во французской прессе, содержавших упоминание о Le Serpent Rouge — родословной Иисуса Христа, пережившей века, проползшей сквозь историю подобно «красной змее». Многие положения в тех статьях совпадали с результатами исследований Бритт и ее выводами о возможности существования такой родословной. К сожалению, французские журналы не могли предоставить ни одного вразумительного доказательства своих заявлений, кроме туманного упоминания о некоем неизвестном Евангелии. Большинство этих изданий являлись местными версиями «Стар» или «Нэшнл инквайер»; их предназначением было перемалывать бытующие слухи и придавать им удобоваримую форму для обсуждения за чашечкой кофе или за ужином. Ученые забавлялись, читая эти опусы, но не придавали им особого значения.
Так продолжалось до ее интервью. Репортера интересовало мнение профессора об этих статьях, и она обмолвилась, что они вполне заслуживают внимания. Затем от нее последовало заявление, произведшее эффект разорвавшейся бомбы, — Хэймар сообщила, что у нее имеется зримое свидетельство существования родословной, которое она представит в своей готовящейся к публикации книге «Подложный Иисус». И это признание, и само название книги вызвали к ней немалый интерес средств массовой информации, а также настоятельное требование издателя, чтобы Бритт как можно скорее заканчивала свой труд.
С того дня она спешно добавляла последние штрихи к почти готовому варианту рукописи. Отрывок из пресловутого Евангелия от Иакова, запертый в ее домашнем сейфе, должен был послужить подтверждением некоторых ее выводов, но для того, чтобы убедить подавляющее большинство теологов, требовались более весомые доводы. Ей хотелось любой ценой увидеть манускрипт целиком или хотя бы его фрагменты, уцелевшие за два тысячелетия. Стоя на вокзале Гранд-Централ, она уже думала, что через несколько минут решающее доказательство будет у нее в руках…
И нарвалась на пулю!
9
Уже в четвертый раз за последние десять минут Филип Арман проходил мимо массивных дорических колонн, украшающих церковный фасад. Большое старинное строение, воткнутое посреди Манхэттена, выглядело нелепо по соседству с многоэтажными зданиями, торговыми фирмами и ресторанами.
Оставалось только гадать, имеют ли церковники отношение к нанявшей его законспирированной организации. Многие из порученных Филипу дел имели религиозную подоплеку, и он часто спрашивал себя, кто же в действительности стоит за теми эксцентричными заказами, для выполнения которых приходится мотаться по всему свету. В одном сомнений не оставалось: за этим стоят большие деньги. Ему, как прежде его отцу, платили за готовность 24/7.[622] И платили немало.
Филип снова вернулся к кирпичной многоэтажке в центре квартала. Ее он наметил еще накануне. Вдоль фасада тянулась низкая железная ограда, за которой росли кусты. Миновав в очередной раз нишу входа, он не заметил в вестибюле ни души. Филип огляделся: улица была пуста, не считая женщины с коляской в полуквартале от него. Теперь пора.
Он обогнул здание сбоку и направился к лесенке, ведущей в подвал. Ее ограждал металлический поручень, покрытый облупившейся белой краской, а к нему цепочкой был пристегнут детский велосипед. Филип спустился по бетонным ступенькам и приложил ухо к стальной двери, разрисованной граффити. Из подвальной прачечной не доносилось ни звука. Этот ход Арман выбрал намеренно, рассудив, что никто не примется за стирку в столь ранний час. Открыть незатейливый замок было секундным делом. Он прошел через тускло освещенный подвал. Внутренняя дверь выводила в узкий центральный дворик, который со всех сторон обступали высокие, потемневшие от времени флигели. По боковым стенам до верхних этажей здания паутиной вились пожарные лестницы.
Филип оглядел окна, выходящие во двор, и с облегчением убедился, что большинство из них еще завешены шторами, а оттуда, где жильцы уже проснулись, никто на него не глазел. Впрочем, его синяя ветровка, защитные штаны и черный чемоданчик при случае убедят любопытных, что он пришел для плановой проверки здания. Наметив нужное окно на пятом этаже, Филип быстро перевернул мусорный бак, встал на него, вытянул на себя пожарную лестницу и полез вверх.
На месте он достал из кармана куртки беспроводную дрель «Дремель», пробурил спиральные ходы вокруг каждого из шурупов внутреннего оконного шпингалета, и они выпали сами собой. Тогда Филип поднял раму и пробрался внутрь. Наткнуться на кого-нибудь в квартире он не опасался: ее обитательница жила одна и в данный момент находилась в больнице скорой помощи, где оправлялась от огнестрельного ранения в плечо. Арман закрыл окно, обильно выдавил на шурупы гель «суперклей» и вставил их обратно в отверстия щеколды на оконной раме. Когда дело будет сделано, он уйдет через входную дверь и захлопнет ее за собой. Таким образом, следов взлома нигде не останется.
Филип включил фонарик «мини-маглайт» и стал шарить точечным лучом по коридору. На свету блеснула красочная литография. Ею оказалась странноватая, немного примитивная роспись по олову, изображающая, как ему вначале показалось, участницу карнавального шествия в «жирный вторник». Арман поискал лучом на картине подпись автора и заметил название, поясняющее, что перед ним — «Дева из Гваделупы». Бегло осмотрев квартиру, он обнаружил немало скульптур, живописных полотен и сувениров в рамках. Было очевидно, что их привезли из Мексики, из Центральной и Южной Америки. Вероятно, белокурая красотка, профессор теологии, не раз наведывалась в края по ту сторону южной американской границы.
Филип проверил ящики и шкафы в каждой комнате. В квартире царил безупречный порядок: все было разложено по местам с почти маниакальной аккуратностью. Конечную цель своего посещения он обнаружил в рабочем кабинете, где находились два стеллажа, компьютер и письменный стол, ящики которого были забиты четко надписанными папками с результатами исследований. Филип не сомневался, что в черном корпусе «Делла» находится главный объект поисков — файлы будущей книги «Подложный Иисус».
Ожидая, пока компьютер загрузится, Филип просмотрел папки в столе и сфотографировал на цифровик некоторые страницы, а также заметки с названиями и адресами. Затем он проверил жесткий диск и вздохнул с облегчением, убедившись, что все его содержимое поместится на одну из припасенных им флэшек. Не медля, он подключил ее к USB-порту и скопировал себе все, что хранилось на винчестере.
Выключив компьютер, Филип убрал все приспособления обратно в чемоданчик. Он дважды проверил, не забыл ли чего-нибудь и все ли осталось на своих местах, и только после этого выбрался из здания. Оттуда он сразу поехал в аэропорт, уже предвкушая полет в Монте-Карло и вознаграждение в двести тысяч долларов наличными. Неплохая зарплата за три дня работы. Странно, но заказчики пожелали, чтобы Хэймар отделалась ранением. Если бы они потребовали убрать ее, это было бы куда проще исполнить: всего-навсего прицелиться точно в сердце.
10
Отец Романо вошел в свой кабинет — и на него немедленно уставились две пары любопытных глаз. Он подошел к столу и тяжело опустился в кресло.
— Ну что? — хором спросили ассистенты.
— Кажется, переговоры сорвались в самом зачатке.
— Вам что, вообще не удалось с ней увидеться? — удивился Чарли.
— Ну почему же, удалось…
Романо некоторое время рассматривал крышку своего письменного стола, медленно покачивая головой. Наконец он поглядел на своих помощников и невесело усмехнулся.
— Оказывается, она даже читала мои труды. Похоже, отзывы вроде «познавательно» и «не смогли расстаться с официозной линией церкви» можно считать окончательным вердиктом.
— Для человека столь независимых убеждений это почти комплимент, — пожала плечами Карлота.
— Увы, дальше все пошло еще хуже. Как только я спросил, что ей было нужно на Гранд-Централ и видит ли она между нами иную связь, кроме преподавания на теологических факультетах, она фактически указала мне на дверь. Сказала при этом, что пишет книгу, от которой церкви едва ли поздоровится, а я, видите ли, священник со связями в Ватикане.
Ассистенты не успели ничего возразить, потому что в этот момент зазвонил телефон. Трубку схватил Чарли:
— Офис профессора Романо. — Он озабоченно покосился на Романо и пробормотал: — Минуточку, святой отец, — затем зажал микрофон ладонью и сообщил: — Это отец Шелдон из Пенсильванского иезуитского центра. Говорит, что срочно.
Романо взял у него трубку:
— Билл, чем обязан?
— Джозеф, ты можешь прямо сейчас приехать в Вернерсвиль?
— Господи, неужели что-то с Тэдом?
— Мне очень жаль, Джозеф. Тэд скончался. Мы только что обнаружили.
Романо почувствовал подступающую дурноту. Сквозь ком в горле он произнес:
— Буду у вас через несколько часов. Сердечный приступ? Я говорил с ним на прошлой неделе — он был совершенно здоров.
На том конце провода помолчали.
— Да, чувствовал он себя нормально… Мы пока… мы еще не знаем причины его смерти. Вызвали коронера.
— Я немедленно выезжаю.
— Это еще не все, Джозеф… — Отец Шелдон снова помол чал. — Мы вызвали и полицию. Ты приедешь и сам все увидишь. Я даже не знаю, как тебе объяснить… Нам кажется, что он умер не совсем естественной смертью.
11
Бритт казалось, что едва ей удалось привести свою жизнь в относительный порядок, как все опять начало разваливаться на глазах. Она никак не могла поверить, что кто-то пытался ее убить. Единственным приемлемым объяснением, придающим толику смысла происшедшему, могла служить ее новая книга. Все началось в тот день, когда в одном из интервью она призналась, что рассматривает в очередном исследовании возможность наличия у Христа родословной. Сам этот факт таил угрозу лишь для одной общественной прослойки — христианских конфессий, и в особенности для всемогущей Римской католической церкви. И все же немыслимо, чтобы Ватикан мог прибегнуть к убийству. Оставались, правда, бесчисленные религиозные фанатики, воображающие, что они исполняют волю Господню.
За время сбора материала для книги на долю Бритт уже выпала чертова уйма всякой путаницы. Она обнаружила невероятное количество непонятных группировок, увлекающихся сомнительными теориями о генеалогии, культах, конспиративных обществах и древних тайнах. Но стоило ей заняться поисками приемлемых доказательств для поддержания или, наоборот, развенчания разнообразных домыслов, как одна за другой посыпались неудачи. Конечно, Интернет значительно расширил ее исследовательские возможности, но — увы! — легкий доступ к нужной информации с избытком перекрывался валом бесполезных сведений.
Беседа с двумя иезуитами окончательно запутала ее. Вестник утверждал, что эти люди располагают прямыми сведениями о Le Serpent Rouge, но предупредил, что священники делятся ими без большой охоты. Чтобы доказать состоятельность своих предположений, ей предстояло самой по крохам вытянуть из них необходимую информацию. Вестник дал Бритт пароли для обоих священников — имена архангелов. Первый был Уриил, что обозначает «огнь Господень», страж над миром и нижними приделами Ада. Второй звался Рафаилом — Господним целителем, или помощником. Вестник уверял, что с помощью этих имен Бритт добьется нужных ответов, но прибегнуть к ним она может лишь в крайнем случае. Отец Хуан Маттео оказался не в меру уклончивым. Испанский проповедник говорил низким, монотонным голосом, останавливаясь на каждом слове. А глаза! Невозможно забыть его глаза: их радужка была столь темной, что сливалась со зрачками. Из глазниц на нее взирали две большие черные сферы.
Бритт спросила священника, как, по его мнению, идея о родословной Христа отразится на всей церкви. Он ответил, что рассуждать об этом не имеет смысла, потому что у Христа нет родословной. Она упомянула об известных ей многочисленных исторических свидетельствах, но отец Маттео уличил ее в ереси. Только тогда Бритт решилась поинтересоваться, как на этот вопрос ответил бы Уриил. В его глазах промелькнул то ли страх, то ли гнев. Священник вперил в нее столь пронзительный взгляд, что она даже содрогнулась, и смотрел так, казалось, целую вечность, поглаживая крест, висящий на груди. Вот-вот, крест… она увидела его как сейчас. Точно такой же был и у Романо. Меж тем всем известно, что иезуиты не носят ни специального облачения, ни крестов особой формы. Бритт потерла ладонью лоб и прикрыла глаза, припоминая события прошлого вечера. Священник, с которым она ужинала, не имел при себе креста — разве что под рубашкой. Он совершенно не походил на отца Маттео — наоборот, был чрезвычайно любезен и отвечал на ее вопросы с обстоятельностью ментора. Когда она затронула тему родословной, он добродушно улыбнулся и веско заметил ей, что человек от природы наделен богатым воображением. Оборотная сторона — дурная сторона — его творческих способностей состоит в неистощимом продуцировании самых разнообразных теорий. Отец Тэд Метьюс не преминул напомнить Бритт, что вера и является теми узами, которые скрепляют собой весь христианский мир. Но, услышав имя Рафаил, и он не смог скрыть своего замешательства.
12
Мчась по 78-й магистрали, ведущей в Пенсильванию, отец Романо все еще не мог оправиться от потрясения. Тэд, всегда столь жизнерадостный… Такие и болеть-то не умеют. Он, правда, страдал высоким давлением, но принимал лекарства… Романо не мог поверить, что Тэда больше нет. И еще вдобавок огорошили тем, что приедет полиция: дескать, умер Тэд не совсем естественной смертью. По телефону Билл на объяснения поскупился.
Деревья проносились мимо. Романо взглянул на спидометр — девяносто. Он немного сбавил газ. Хотелось бы доехать как можно быстрее, но все равно ведь он уже опоздал… Тэд умер.
Священник свернул с магистрали у развилки на Гамбург и выехал на 61-ю автостраду. По этому маршруту он мог вести машину с закрытыми глазами. По ней он ездил к Тэду столько раз, что сбился со счета. Иезуитский центр служил ему местом для раздумий и сосредоточения, для приведения мыслей в порядок. Величественное здание бывшего приюта для послушников на лесистом гребне горы высоко возносилось над округой с разбегающимися чередой круглыми холмами и сочными лугами. Воздух здесь был чистый, свежий, бодрящий. С раннего утра и до закатного часа солнечные лучи пробивались сквозь листву могучих старых дубов, сосен и кленов, отчего на стены центра и на лужайки ложилась золотая узорчатая тень.
Мудрые речи Тэда и безмятежная атмосфера, царящая в центре, помогли Романо преодолеть несколько тяжелых депрессивных периодов. Причиной депрессии было чувство вины: Романо винил себя в том, что злился на собственную мать. На него как на духовное лицо была возложена священная обязанность отпускать чужие прегрешения, но сам он в глубине души не находил места для прощения. Иногда его мучили сомнения в правомерности носить сан. Романо подозревал, что стал священнослужителем скорее назло матери, нежели из искреннего стремления следовать высшему призванию.
Отец Тэд умел найти верные слова, чтобы утишить его беспокойство и страхи. «Твои сомнения естественны. Ты винишь себя за свои чувства, и это говорит о том, что тебе не все равно. Нельзя изменить случившееся, и нельзя заставить себя чувствовать иначе. Тебе нанесли душевную рану, но раны со временем залечиваются. Ты сейчас на пути к исцелению, то есть к прощению». Романо всегда находил в его рассуждениях верную мысль, иногда самую простую, но именно она служила ему первой ступенькой, помогающей выбраться из депрессии. Теперь некому будет подбадривать его в тяжелые времена. Лучший советчик во всех его изысканиях, плечо, на которое можно опереться в грядущих испытаниях вроде сегодняшнего выстрела на вокзале, — все это ушло безвозвратно. Теперь он остался совсем один.
У здания центра на изгибе подъездной аллеи Романо заметил две полицейские машины. Он припарковался прямо за ними и взбежал по лестнице, перескакивая через ступеньки. Толкнув массивную входную створку, Романо поспешил на этаж, где находилась комната Тэда. В коридоре напротив двери его наставника стоял полицейский в окружении группы священников. От них отделился Билл Шелдон, протягивая Романо руку.
— Джозеф, мне искренне жаль.
Романо схватил его за руку, притянул духовника к себе и обнял:
— Я торопился, как мог. Боже праведный, что случилось?
Они постояли обнявшись, потом Шелдон слегка отстранился и вздохнул.
— Посмотри лучше сам.
Он взял Романо за плечо и повел к двери. Священники расступились, бормоча соболезнования. Шелдон открыл дверь. В комнате Тэда был еще один полицейский, который разговаривал по сотовому.
— Минутку, — прервался он и предостерегающе поднял палец. — Я вас попрошу, святой отец, к телу не прикасаться и ничего в спальне не трогать. У меня сейчас ФБР на проводе. Скоро сюда прибудут агенты из Нью-Йорка.
— ФБР? Я не совсем понимаю… — начал Шелдон, но офицер едва взглянул на него:
— Они приедут и все вам разъяснят.
Романо вошел в распахнутую дверь спальни. Тэд в одних трусах лежал на кровати. На первый взгляд выглядел он вполне безмятежно: устроился точно посередине постели, молитвенно сложив на груди руки. Курчавая седоватая поросль на его груди была того же оттенка, что и остриженные ежиком волосы и пышная эспаньолка. Однако полнокровный румянец на лице сменился неестественной, смертельной бледностью.
Романо задержал взгляд на руках Тэда и почувствовал внутри неимоверную боль, отдавшуюся во всем теле. В запястьях Тэда краснели темные отверстия. И в его ступнях. В боку зиял глубокий разрез. Меж тем на светло-зеленое одеяло не пролилось ни капли крови. Романо ошарашенно разглядывал тело своего наставника. Впечатление было точь-в-точь как в кино, когда пропадает звук, а на экране застывает один и тот же кадр.
Кто-то неожиданно взял его за плечо:
— Джозеф, Джозеф, извини…
Это был Шелдон. К ним подошел полисмен:
— К сожалению, святые отцы, я вынужден просить вас покинуть комнату, пока эксперты из ФБР не осмотрели место происшествия.
Романо закрыл глаза и про себя коротко помолился за Тэда, а затем обернулся к Шелдону:
— Что произошло? Ты уже знаешь?
Тот вывел его обратно в коридор.
— Пойдем ко мне в кабинет. Что еще я могу тебе сказать? Ты видел то же, что и мы все.
Они устроились в офисе Шелдона. Духовник только пожимал плечами и качал головой.
— Ума не приложу, — признался он Романо. — Вчера вечером Тэд ездил куда-то ужинать. Когда вернулся, сразу ушел к себе — это многие видели. Ночью у него все было тихо. Сегодня утром он не спустился к завтраку, и я пошел спросить почему. Ты сам видел, что я обнаружил. Местная полиция и коронер не нашли видимых причин смерти. Коронер считает, что раны были нанесены уже после остановки сердца. Но, по его словам, на одеяле все равно должны были остаться следы крови. Они сами в полном замешательстве. А я не знаю, что и думать.
* * *
В дверь два раза постучали, она приотворилась, и в щель просунулась женская голова:
— Здесь два агента из ФБР спрашивают вас, отец.
Шелдон отодвинул стул и поднялся:
— Пожалуйста, пригласите их.
Женщина толкнула дверь и посторонилась, пропуская в кабинет двух мужчин в серых костюмах. Старший из них был сухопарый; на крупном носу слегка выделялась горбинка — возможно, результат ошибочной тактики в драке. Его темные густые волосы немного вились, а широкие кустистые брови прореживала седина. Кожа на лице от возраста казалась выдубленной.
— Я — агент Том Катлер, — представился он и указал на своего более молодого напарника: — А это агент Брайан Донахью.
Тот кивнул. Он был повыше ростом; его лощеность вполне уживалась с проницательным и дружелюбным взглядом синих глаз. Хорошо подогнанный костюм только усиливал эффект от долгих упражнений в тренажерном зале. Весь его облик говорил о том, что профессиональный отпечаток пока не лег на агента Донахью в той же мере, что на его старшего товарища.
— Меня зовут отец Уильям Шелдон, я руковожу нашим Иезуитским центром духовного развития. А это отец Романо, он из ваших краев. Отец Романо преподает в Фордхэме, он близко знал покойного.
Романо тоже поднялся и поздоровался с агентами за руку.
— Вам известно, отчего умер отец Метьюс?
Агент Катлер покачал головой:
— Видимые физические повреждения, которые могли бы вызвать смерть, отсутствуют. Рана на боку поверхностная и, вероятнее всего, посмертная.
— Пожалуйста, присаживайтесь.
Шелдон указал на два стула, придвинутые к письменному столу. Агенты и вслед за ними Романо воспользовались его приглашением.
— Похоже, придется подождать результатов вскрытия. Тогда и поговорим о причине смерти более конкретно, — продолжил Катлер.
— Но я не понимаю, почему именно ФБР… — вмешался Романо.
— Два дня назад в испанском Бильбао было найдено тело священника, скончавшегося при схожих обстоятельствах, — пояснил Катлер. — Местная полиция установила, что в день смерти он виделся с каким-то человеком из Нью-Йорка. После той встречи он сделал несколько заметок, упомянув об отце Тэде Метьюсе. В ходе расследования мы позвонили в ваш центр и узнали о его кончине. Может ли кто-нибудь из вас подтвердить, что он и отец Хуан Маттео были знакомы?
Шелдон ненадолго задумался, но потом покачал головой.
— Я слышал об отце Маттео, — отозвался Романо. — Когда-то давно они вроде бы вместе учились в Инсбруке.
— Отец Тэд сам родом из Швейцарии, — пояснил Шелдон. — А в Штаты он приехал примерно в пятидесятых.
Агент Донахью оторвался от записи протокола и спросил:
— Он был американским гражданином?
— Да, с начала шестидесятых, — кивнул Шелдон.
Донахью что-то пометил у себя в блокноте и взглянул на священников:
— У вас есть какие-нибудь предположения, что случилось с отцом Метьюсом?
Романо с Шелдоном переглянулись — вид у обоих был удрученный. Духовник центра высказался первым:
— Даже не представляю, что бы это могло быть. Никто здесь ничего подобного не видел и не слышал.
— И ни у кого не было причин его убивать, — добавил Романо.
Катлер откашлялся:
— А что вы оба думаете о стигматах?
В кабинете воцарилось неловкое молчание. Шелдон с Романо нерешительно переглянулись, потом духовник, двинув бровью, произнес:
— Пусть лучше ответит отец Романо. Он у нас человек ученый.
Романо тоже прокашлялся и заметил:
— Нас, иезуитов, никогда не наделяли полноправной привилегией выступать от имени Римской католической церкви. Нас скорее почитают фомами неверующими, едва речь заходит о наиболее эзотерических моментах в церковной догматике или о чудесах как таковых.
— То есть вы хотите сказать, что в стигматы не верите? — уточнил Донахью.
— Я этого не утверждаю, — не согласился Романо. — Просто хочу отметить, что сам я никогда со стигматами не сталкивался и не знаю ни одного человека, который бы их видел. Однако это не означает, что их вовсе не бывает. Святой Франциск Ассизский — первый пример чудесного обретения стигм. В тысяча двести двадцать четвертом году, когда святой Франциск постился на протяжении сорока дней в горной пустыни, он узрел человека в образе серафима — шестикрылого ангела, спустившегося к нему с небес. Руки у видения были раскинуты, ноги соединены, а сам он был пригвожден к кресту. Одна пара крыльев серафима была воздета над головой, другая расправлена для полета, а третья прикрывала тело. Вскоре явление исчезло, а у святого Франциска остались точно такие же стигматы — пять ран Христа: на руках, ступнях и на боку.
Катлер обменялся с Донахью скептическим взглядом и поинтересовался:
— Есть ли какие-нибудь научные объяснения этим отметинам?
— Начиная с четырнадцатого и вплоть до двадцатого века более чем у трехсот людей появлялись подобные стигмы. Многие заявляли, что у них время от времени проступает кровавый пот. Ряд ученых настаивает, что этот феномен вызван секрецией некоторых желез. По их словам, сочащаяся из тела красноватая жидкость не имеет с кровью ничего общего. Гиперактивное воображение, самовнушение — существует много разных теорий. Тем не менее до сих пор нет ни одного научно обоснованного заключения, подтверждающего или опровергающего это явление. Необходимо отметить также, что церковь ни разу не признала подлинность чьих-либо стигматов при жизни человека.
Донахью снова оторвался от блокнота.
— У отца Метьюса проколоты запястья. На всех картинах и скульптурах, которые я видел, Христос пригвожден к кресту за ладони. Можем ли мы предположить… — Он быстро переглянулся с Катлером: — То есть, если обнаружится, что отец Метьюс умер насильственной смертью, значит ли это, что его убийца не очень разбирался в истории христианства?
— Напротив, — возразил Романо. — Художники в старину слишком буквально истолковывали сведения о том, что острия пробождали кисти и ступни Иисуса. Под кистями они подразумевали именно ладони, тогда как на современном языке термин кисти включал в себя также и запястья. Если бы гвозди вбивали в ладони, то тело казненного своим весом разорвало бы их плоть и упало с креста. Однако зубцы пронзали как раз запястья, где проходит срединный нерв. Гвоздь раздроблял это крупнейшее в руке нервное окончание, начинающееся от кисти, причиняя человеку невыносимую боль. Она была столь мучительной, что в буквальном смысле не поддавалась описанию. Появившееся впоследствии выражение «крестные муки» как нельзя лучше отражает ее исключительность.
Агентов, видимо, очень впечатлили пояснения священника.
— Значит, напрашивается вывод, что, если раны нанес некий злоумышленник, он был весьма сведущ в вопросах религии? — подытожил Катлер.
— Да, это вполне логичное предположение, — кивнул Романо.
— Мог ли кто-нибудь здесь нарочно нанести метки на тело отца Метьюса? — Катлер посмотрел на священников. — Так сказать, символически или чтобы подчеркнуть его особую значимость для церкви?
— Ни то ни другое не годится, — отверг его предположение Шелдон. — Наши священники все здравомыслящие, уравновешенные и глубоко верующие люди, а совершить подобное мог только человек с серьезными отклонениями. Уверяю вас, в нашем центре не найдется ни одного, кто был бы способен на это.
— Отец Романо, может быть, вы знаете каких-нибудь недоброжелателей отца Метьюса?
Тот покачал головой:
— Священники в этом центре большую часть своей жизни посвятили служению Богу и церкви. Сомневаюсь, чтобы кто-нибудь из них отважился на такое. Отец Метьюс пользовался непререкаемым авторитетом, его все уважали, обращались за советом…
— А светский персонал? Посетители центра? — настаивал Катлер.
— Все здесь его просто обожали, — вмешался Шелдон. — Такой человек, как отец Метьюс, у любого вызывает невольное почтение. Что касается посетителей, то практически все они люди очень религиозные, ищущие здесь наставничества и обогащения своей духовной жизни.
— Вы хорошо знакомы с нынешними гостями?
— Кое-кто из них бывал у нас и раньше, а кто-то приехал впервые.
— Можете ли вы предоставить нам список посетителей центра за последние два дня?
Шелдон поднялся:
— Пройдемте в канцелярию. Там вы получите данные о постоянных посетителях и список персонала.
— Если у вас больше нет ко мне вопросов, я должен сделать несколько звонков. — Романо подал агенту Донахью свою визитку. — Меня можно найти в университете. А сейчас мне необходимо уведомить знакомых о кончине отца Метьюса.
Катлер тоже вынул из кармана карточку и протянул ее Романо:
— Спасибо вам, святой отец. Если понадобится, мы вам позвоним. Вы же, если вдруг что-то вспомните, пусть даже сущий пустяк, непременно сообщите.
Агенты вслед за Шелдоном вышли из кабинета, предоставив Романо в одиночестве созерцать за окном солнечные лучи, пронзающие кроны деревьев, и предаваться самым сумбурным мыслям — о смерти, убийстве, стигматах…
13
Один гудок, второй… После третьего Романо хотел повесить трубку, но в ней вдруг откликнулись:
— Добрый день, квартира Регины Романо.
С ним говорила Виктория, прислуга матери, жившая у нее уже десять лет.
— Виктория, это Джозеф. Мать может подойти?
— Отец Романо, рада вас слышать. Минуточку, я схожу узнать.
Раздался щелчок, за ним — тишина. Мать, возможно, стояла тут же, рядом с Викторией. Она требовала от прислуги класть трубку на держатель и докладывать ей, кто звонит, чтобы решить, удостоить ли его разговором.
— Джозеф, вот так сюрприз! Сегодня у меня даже не день рождения. Чем обязана такому вниманию?
Романо вздохнул, пытаясь утихомирить стучащий в висках пульс. Все-таки было бы лучше дождаться возвращения на Манхэттен и лично сообщить ей печальную новость. Она может не справиться с эмоциями, ведь Тэд был для нее все равно что брат. К тому же после инцидента с семьей Марты старик оставался единственным прочным связующим звеном между сыном и матерью.
— Джозеф, ты почему звонишь? Что-то случилось, да?
— У меня дурные новости. Тэд скончался. Я сейчас в…
— О боже!.. Боже… Я же разговаривала с ним на прошлой неделе! Но как? Почему? Нет! Нет, нет и нет!
Романо слышал, как она задыхается. Ничего, Виктория сумеет ее успокоить.
— Я сейчас у них в центре. Мы пока не знаем, отчего он умер. Будет вскрытие.
— Вскрытие? — взвизгнула мать. — Боже, пощади моего сына!
— Мама, успокойтесь. Я понимаю, как вы огорчены.
— Нет, ты не понимаешь. И не можешь понять. Не можешь!
Ее тон из истеричного неожиданно превратился едва ли не в гневный.
— Что все это значит?
— Джозеф… Джозеф, пообещай мне!
Новый бурный всплеск эмоций — Регина опять впала в истерику.
— Обещай! Молись, помолись Господу! Проси защиты. Боже, не забирай у меня сына!
— Мама, придите же в себя! Мне ничто не угрожает — это Тэд умер. Я сокрушаюсь ничуть не меньше вас. Ему было бы больше по душе, если бы мы добром вспомнили о нем, а не убивались по поводу его кончины.
Романо услышал, как мать медленно перевела дух и замолчала. Он ждал, что она скажет дальше. Он уже давно установил себе черту в их отношениях и теперь чувствовал, что едва не переступил границу. После долгого молчания в трубке раз дался ее глухой стон:
— Когда похороны?
— Не беспокойтесь, я приглашу вас на панихиду. Возможно, приготовления займут не меньше недели. Сначала вскрытие, и, потом, ведь многим священникам придется ехать издалека. Я извещу вас, когда все утрясется. Снова молчание. Вдруг Регина сказала:
— Как только узнаешь, отчего он умер, сразу же сообщи мне.
— Успокойтесь, он не мучился. Вид у него такой, будто он мирно скончался во время молитвы.
У Романо не было желания рассказывать ни про стигматы, ни про ФБР.
— Это утешает. Буду ждать твоего звонка. И все-таки — будь осторожен.
В трубке щелкнуло: мать, как всегда, оставила последнее слово за собой.
14
Отец Романо накинул ремень безопасности и в задумчивости его защелкнул. Ему совсем не хотелось ехать обратно в Нью-Йорк: смерть Тэда сильно потрясла его. Следственная группа уже забрала тело для вскрытия. Романо вместе с Шелдоном известили отца-ректора и отдали необходимые распоряжения по поводу заупокойной мессы и похорон. Все безоговорочно решили, что молебен надо отслужить в иезуитском центре, где Тэд провел последние двадцать лет своей жизни.
Романо не успел включить зажигание, как услышал, что его окликают по имени. Он оглянулся и увидел, что отец Шелдон спешит к машине по травянистому валу, размахивая конвертом. Дородность духовника превращала его трусцу в мелкое ковыляние. За время наставничества в Вернерсвиле он слишком пристрастился к сытной голландско-пенсильванской стряпне, зато напрочь отвык от подвального здания центра, где располагался небольшой спортивный зал.
Романо опустил стекло:
— Не торопись, Билл! Что за спешка?
Шелдон, пыхтя, приблизился и некоторое время стоял, опершись о крышу машины и борясь с одышкой, потом протянул Романо конверт.
— Я боялся, что ты уже уехал. Прости, Джозеф, я совсем позабыл за суматохой. Вскоре после твоего вступления в сан Тэд вручил мне это послание и наказал после его смерти передать письмо тебе. Мне кажется, оно касается твоей семьи, но сам он не стал уточнять, а я не спрашивал.
На конверте четким размашистым почерком было надписано: «Джозефу Романо, S.J.[623] Лично в руки». На оборотной стороне письмо было скреплено ярко-красной печатью с оттиском некоего символа, напоминающего железный крест, который отец Метьюс подарил своему подопечному, когда тот принял священный обет. Романо внимательно рассмотрел печать; за все годы, что он общался с Тэдом, тот никогда не пользовался ею и даже не упоминал, что она у него есть. Что и говорить, на вид письмо было донельзя представительным. Романо хотел сразу же вскрыть конверт, но заколебался: может быть, Тэд хотел сохранить его содержимое в тайне? Он сунул письмо в карман пиджака.
— Спасибо, Билл. Я душеприказчик Тэда; скорее всего, там адреса его дальних родственников в Европе, чтобы их уведомить. — Он завел машину, высунулся из окна и попрощался с Шелдоном за руку: — Билл, благодарю тебя за все. Пожалуйста, как только узнаешь, отчего он умер, немедленно сообщи мне. Я пока буду держать связь с ФБР и, если что-нибудь прояснится, сразу тебе позвоню.
Шелдон осклабился, отчего его лицо и шея превратились в колышущуюся массу. В его глазах отразилось раздумье.
— Джозеф, я понимаю твой скептицизм, когда речь заходит о такого рода вещах, но… — Шелдон смолк, и на его губах появилась нерешительная ухмылка. — Тэд был истинным воплощением священничества — и нашего ордена. Его способность к молитвенному сосредоточению была поистине уникальной. Как ты считаешь? Может, есть надежда, что эти знаки вызваны каким-нибудь духовным или ментальным феноменом?
Романо покачал головой:
— Насчет моего скептицизма ты верно подметил, будь то чудеса или просто необъяснимые явления. Если говорить о Тэде, по моему мнению, здесь возможно всякое, но стигматы я все же без колебаний отнес бы к области невероятного. — Он ободряюще улыбнулся Шелдону и добавил: — Сойдемся на том, что нам будет куда проще полемизировать на эту тему, когда появятся результаты вскрытия.
Романо переключил передачу и медленно тронулся, махая Шелдону на прощание. Сделав круг по подъездной аллее, он проследил, чтобы главное здание центра окончательно скрылось из виду, у железной решетки ворот свернул в сторону и только тогда бережно вскрыл конверт.
Внутри оказалось послание на двух страничках, написанное от руки. Начиналось оно трогательной благодарностью за то, что Романо впустил Тэда в свою жизнь. Около половины страницы ушло на убеждения как можно скорее помириться с матерью — если этого еще не произошло. Тэд пытался убедить Джозефа, что мать блюдет только его интересы, и намекал на некие обстоятельства, над которыми она не властна, но которые — придет день — его воспитанник сможет осмыслить.
Затем Тэд неожиданно переключился на его отца. В письме он признавался, что они были более чем друзьями — их отношения простирались гораздо дальше. Отец Джозефа был человеком, которого двенадцатилетний подросток еще не мог оценить по достоинству. «Я молю о дне, когда ты удостоишься благословения узнать о достойных деяниях твоего родителя. Пути Господни неисповедимы, но промысел Его чудесен».
Заканчивалось послание настоятельной просьбой найти в Шотландии отца Натана Синклера, S.H., — хорошего товарища его отца и самого Тэда. Отец Метьюс настаивал, чтобы Джозеф впредь обращался к Синклеру за наставничеством и советами точно так же, как ранее к нему самому. «Не стесняйся делиться всем с отцом Синклером. Все это время я сообщал ему о твоих достижениях и выдающихся качествах как священника, ученого и педагога. Уведомь его о моей смерти без промедления. Когда он приедет отдать дань моей памяти, тогда и начнутся ваши общие предприятия, поскольку наши с тобой теперь закончились. Да благословит и сохранит тебя Господь! Да склонится к тебе сияющий лик Божий и осенит тебя своейблагодатью! Да поселит Господь в твоей душе мир и будет тебе всегда в помощь! Молюсь за тебя во имя Отца, Сына и Святого Духа».
Далее следовали размашистые завитки подписи Тэда, на которых расплылось темное пятно, словно чем-то капнули на бумагу. В смятении Романо понял, что это вполне могла быть кровь.
15
Закончив вводить в ноутбук сведения, касающиеся смерти отца Тэда Метьюса, агент ФБР Том Катлер проверил почту. Взгляд Брайана Донахью был прикован к шоссе, их служебный автомобиль несся в сторону Нью-Йорка с большим превышением скорости. Наконец Катлер захлопнул крышку компьютера и с любопытством взглянул на напарника:
— Брайан, ты ведь добрый католик?
Тот дернул головой:
— Э-э… А что такое? Вас мертвые священники напугали?
— Еще чего… Видали мы мертвяков и почище этого. Но меня интересует чисто религиозный аспект. Над этим случаем уж голову поломать придется, — завздыхал Катлер. — Если к нему причастна церковь, то мы точно останемся не у дел.
— Почему же?
Катлер запустил пятерню в волосы. Он уже не помнил, когда подцепил такую привычку, но убеждал себя, что это, наверное, полезно для мозговой деятельности. По крайней мере, его жест отвлекал собеседника и давал возможность перед ответом поразмыслить. Своего нынешнего напарника он изучил достаточно, чтобы откровенно делиться с ним личными соображениями относительно церкви.
— Если только обнаружится, что этот случай задевает кого-то из духовенства, они тут же сомкнут ряды. Перечитай-ка протокол допроса.
— Кажется, понимаю.
— Брайан, я знаю, что ты католик. Я просто хотел спросить, есть ли у тебя приятели среди священников.
Тот ухмыльнулся:
— Да какой я добрый католик? Я так себе католик. Хожу в церковь по большим праздникам, но вообще-то субботними вечерами я гуляю где-нибудь допоздна и к утренней мессе мне обычно не проснуться. Думаю, священник даже не знает меня по имени. Для таких прихожан, как я, довольно кивка или рукопожатия.
— Ну да, чего еще и ожидать от вас, молодежи… Мы с Мэгги — лютеране, но ничуть не лучше тебя. Будь у нас дети, мы бы, может, больше заботились… — Катлер раскрыл сотовый телефон: — Позвоню-ка я в офис. В Бюро наверняка есть человек, разбирающийся в церковной политике.
— А в чем загвоздка-то?
— В сведениях, которые я только что получил из Интерпола по делу испанского священника. Следы преступления в точности совпадают с вернерсвильскими. Священника нашли в своей спальне, лежащим на кровати в нижнем белье и со стигматами. Все сходится, вплоть до проколотых запястий.
— Тогда у нас, пожалуй, один убийца. Или, по крайней мере, тут какой-то подозрительный сговор.
— Результаты вскрытия обещают предоставить уже сегодня или в крайнем случае завтра.
— Тогда и настанет момент истины, — заметил Донахью.
Катлер принялся обеими руками ерошить волосы и в конце концов озадаченно поглядел на напарника:
— И что мы будем делать, если окажется, что оба священника умерли своей смертью?
16
Гавриил откинулся в плюшевом кресле набравшего высоту реактивного самолета, взявшего курс на Нью-Орлеан. Место в салоне первого класса он заслужил по праву: кто, если не он, доведет до конца духовный поиск, призванный сберечь святость церкви для высшей ступени развития христианства — Второго Пришествия? Как могут эти глупцы всерьез полагать, что управляют своей судьбой? Только Господь определяет — когда, где и как. В Евангелиях ведь ясно сказано, что Сын Человеческий сойдет с облаков небесных с великою силой и славой. И никакими мирскими ухищрениями здесь, на земле, этого не добиться.
Не в пример Папе Клименту Пятому, Гавриил не растерялся бы в ту пятницу, 13 октября 1307 года, когда стражники французского короля Филиппа Красивого вскрыли опечатанные архивы и арестовали множество рыцарей-храмовников по всей Европе. Увы, Папе не удалось присвоить оберегаемую тамплиерами тайну. Большую часть их предали казни, орден был распущен, но сама тайна уцелела.
Табличка «Пристегните ремни» погасла. Гавриил отщелкнул замок, откинул кресло, и его глаза закрылись сами собой. Он ничуть не сомневался в успехе всего предприятия. В конце концов, он и сам — один из ключевых моментов тайны, ставящей под сомнение святость церкви. Теперь дело только за временем, и отсчет уже начался.
Он задумался об иронии ситуации: ради спасения христианства приходилось использовать именно Бритт. Он почти сочувствовал этой женщине из-за всего, что ей привилось пережить. Впрочем, все равно — это никак не оправдывает ее реакцию. Она утеряла веру, отвернулась от религии и начала писать еретический опус «Подложный Иисус». Если бы только Бритт знала, как близко она подобралась к истине — и в фигуральном, и в буквальном смысле слова.
17
Не доехав до 6-й авеню, отец Романо свернул с 56-й улицы и затормозил у ворот неподалеку от Америка-хаус. Огромная вывеска не оставляла места для сомнений: «Частное владение. Не парковаться. Въезд круглосуточный». Он отпер ворота, поставил принадлежащий ордену черный «шевроле» на стоянку и начал выгружать из него коробки и чемоданы.
Из Вернерсвиля он направился прямо в Бронкс, в Роуз-хилл-кампус, чтобы забрать первую партию вещей. Тэд словно нарочно подгадал свою кончину под тот день, когда Романо забронировал машину для переезда в резиденцию иезуитов на 56-й улице. Он содрогнулся при этой мысли. Неужели Тэд и вправду ответствен за свою смерть? Нет, быть того не может — с его-то жизнелюбием! А священник в Испании? Да еще стигматы?.. Круговерть событий, вместившихся в один день, оставляла в голове только вопросы — и никаких ответов.
Америка-хаус находился всего в нескольких кварталах от офиса священника. Два месяца назад Романо принял заведование кафедрой на факультете религиоведения в недавно открывшемся Линкольн-центре Фордхэма и все это время ездил сюда из Бронкса. Перспектива переезда его не очень пугала, как не тревожила и необходимость отныне перекраивать свои привычки под суетливый, шумный мир Манхэттена. Обычно после дневного лихорадочного ритма он с удовольствием возвращался в тишину и безмятежность главного корпуса Роуз-хилл-кампуса; теперь за расслаблением придется прибегать к коллекции CD-дисков с современной музыкой и композициями «Нью-эйдж». Романо надеялся, что успокаивающие фортепианные мелодии Давида Бенуа и Джима Брикмана вкупе с наушниками «Боуз» смогут одолеть манхэттенский уличный грохот.
Романо втащил сумки и коробки в новую квартиру, подключил ноутбук к сети и проверил почту. В ней оказалось видеосообщение из Рима от отца Данте Кристофоро, помощника отца-магистра. Щелкнув по письму мышкой, он вызвал полноэкранное изображение отца Кристофоро — в своем непременном черном облачении тот восседал у себя за рабочим столом в Ватикане.
В иезуитской среде то и дело возникали шутливые толки, что если Кристофоро все же удастся занять должность отца-магистра, куда тот явно метил, то он, пожалуй, возродит само понятие Черного Папы. Два столетия спустя после того, как святой Игнатий Лойола учредил Общество Иисуса, римские простолюдины стали величать магистра ордена иезуитов не иначе как Черным Папой, намекая тем самым на его исключительную власть. Называли его так, впрочем, не только за могущество, сравнимое с полномочиями самого Папы, но и за облюбованный иезуитами для своих сутан черный цвет — словно в пику белоснежной рясе главы Римской церкви. В 1773 году Папа Климент Четырнадцатый упразднил Общество Иисуса, распустив двадцать три тысячи его членов, а отца-магистра и его советников упрятал в церковные темницы. Только в 1814-м Папа Пий Седьмой позволил ордену возродиться, и иезуитам не надо было больше скрывать свое опальное облачение, хотя с тех пор они явно избегали вступать в открытое противоборство с папским престолом.
Теперь Кристофоро угрюмо взирал на Романо с экрана монитора, а его руки покоились сложенными на массивном письменном столе.
«Отец Романо, я с большим прискорбием узнал о кончине отца Метьюса. Я наслышан, что он был вам близким и добрым другом. Как вам, возможно, уже известно, еще один наш священник, отец Хуан Маттео, скончался при подобных обстоятельствах в Испании, в Бильбао, не далее как несколько дней тому назад. Спешу вас заверить, что Ватикан предпримет все, что только в его силах, чтобы выяснить причину этих смертей. Я прошу вас присылать мне по электронной почте любую информацию, которая поможет нам установить подоплеку происшедших трагических событий. К вам я направляю все мои помыслы и молитвы».
После этих слов экран погас. Просьба Кристофоро не на шутку озадачила священника. На какую информацию с его стороны рассчитывает Ватикан? Тем не менее Романо немедленно отправил Кристофоро ответ, заверив, что он готов предоставить канцелярии отца-магистра любые полезные для следствия сведения. В сообщении он указал имена и контактные телефоны обоих нью-йоркских агентов ФБР, побывавших на месте происшествия в Вернерсвиле.
Затем Романо принялся искать по «гуглю» данные о Бриттани Хэймар. Подтвердилось, что она профессор Хантер-колледжа, преподающая современные направления в теологии, религии и атеизме. Среди ссылок он обнаружил упоминания о двух ее книгах, посвященных происхождению христианства, и цитаты из ее многочисленных статей, комментирующих Новый Завет. Самые свежие публикации в Интернете были связаны с откликами Хэймар на репортаж, посвященный готовящейся выйти в свет книге «Подложный Иисус». В ней профессор выступала сторонницей существования у Христа родословной. Романо озадачился вопросом, что именно могло увлечь преподавательницу в столь сомнительном направлении. Сам он за годы исследований не обнаружил не то что веских доводов — даже самых что ни на есть шатких оснований для данной теории. Зато всевозможные домыслы цвели пышным цветом.
Романо силился постичь, что могло послужить связующим звеном между ним и ею. Кто-то ведь непонятным образом свел их воедино! Но зачем? Пока напрашивался всего один общий знаменатель — их теологические изыскания и публикации на тему Нового Завета. Если так, то книга, над которой в данный момент работал Романо, могла в чем-то опровергнуть новый труд Хэймар. Однако его замысел находился в самом зачатке, и завершение ожидалось не ранее чем через год-два, тогда как ее опус, если верить слухам, практически готов. Концы с концами не сходились.
Итак, основным незыблемым фактором оставался анонимный звонок по поводу Евангелия от Иакова. Очевидно, что звонил стрелявший преступник. В силах ли полиция отследить расположение телефона? В этом Романо усомнился: кто бы ни задумал расправиться с Бритт, он, бесспорно, распланировал все вплоть до секунд и ни за что не позвонил бы с легко вычисляемого номера. Вновь и вновь священник возвращался к одному и тому же: зачем кому-то было убивать ее, а его подставлять под подозрение? Наконец он решил, что ответ так или иначе кроется в ее книге. Следовательно, предстояло побольше разузнать и о Бриттани Хэймар, и о «Подложном Иисусе».
18
— Брайан, ты не поверишь! — крикнул Том Катлер своему напарнику.
Он и сам с трудом мог принять за правду результаты компьютерного поиска. Катлер отправил их на принтер, чтобы получить бумажную копию.
— Что вы нашли? — на бегу спросил Донахью, влетая в его кабинет.
— Очень хорошо, что мы не перестаем запрашивать новые сведения из Интерпола. — Катлер вынул из принтера два листа и протянул их Донахью. — Женщина, встречавшаяся с испанским священником вечером накануне его смерти, оказалась очень деятельной дамой. И это еще не все! Донахью быстро пробежал глазами сводку:
— Она отсюда, с Манхэттена. Интересно знать, где она обреталась вчера вечером.
Катлер подал ему еще одну копию:
— Зато мы уверены на все сто, куда ее занесло сегодня утром.
Донахью взглянул на распечатку, потом на Катлера:
— Но это же полицейский рапорт о происшествии в метро.
— Да ты взгляни на имя пострадавшей!
Донахью, округлив глаза, взглядывал то на одну, то на другую сводку.
— Что за чертовщина! Женщина, которая ездила к испанскому священнику, сегодня утром была ранена на Гранд-Централ?
— Вот именно. — У Катлера был наготове очередной листок: — А теперь держи список свидетелей происшествия.
Донахью просмотрел и его и, не говоря ни слова, поднял на напарника изумленный взгляд.
— То-то и оно, — ухмыльнулся Катлер. — Отец Джозеф Романо. Священник, которого мы сегодня повстречали в Пенсильвании. А теперь попробуй докажи, что это совпадение.
19
Бриттани Хэймар переступила больничный порог и вдохнула полной грудью. На верхние этажи зданий уже легли первые солнечные блики. Она не хотела задерживаться в Бэльвю ни минуты: больницы Бритт недолюбливала — тем более в качестве пациентки. Поправив повязку, она подвигала рукой — боль вполне терпимая. Доктор сказал, что можно уже сейчас вернуться к привычной деятельности, но следует избегать чрезмерных нагрузок на раненое плечо. Он порекомендовал на несколько недель воздержаться от силовых упражнений на тренажере, а повязку можно будет снять уже вечером.
Бритт отправилась на Первую авеню, чтобы поймать такси, но потом все же решила прогуляться до дома пешком. Немного размяться не помешает — ей почти сутки пришлось лежать без движения. Не спеша шагая по улице, она вбирала в себя звуки утреннего города: урчание моторов, визг тормозов, автомобильные гудки, перекличку орущих в мобильники людей. На Манхэттене не бывает скучно. Шум помог Бритт на время избавиться от мыслей, раздиравших ее мозг, пока она была прикована к больничной койке. Более всего ее изводил страх, что неизвестный злоумышленник захочет довершить начатое.
Однако, добравшись до Шестой авеню, Бритт почувствовала, что обрела свое прежнее состояние. Быстро миновав последний перед ее зданием квартал, она с радостью убедилась, что лифт стоит на первом этаже, и, войдя в квартиру, первым делом запустила компьютер. Пока он загружался, Бритт сбросила туфли, сняла одежду, в которой была в момент ранения, и трикотажный топик, купленный в лечебнице взамен продырявленной выстрелом блузки, натянув вместо них серые брюки-слаксы и светло-голубую хлопковую рубашку.
Усевшись за компьютер, Бритт вытащила полочку с клавиатурой и потянулась за мышкой. Пошарив по столу, она убедилась, что ее нет на привычном месте, справа на коврике. Взглянула — мышь лежала прямо перед мониторной подставкой. Схватив ее, Бритт открыла папку под названием «Подложный Иисус» и просмотрела в ней файл с записями о сообщении загадочного анонима. Вот, нужные места даже выделены. Человек, предлагавший ей встретиться на вокзале Гранд-Централ, по голосу отличался от Вестника, отправившего ей фрагмент рукописи. Тогда же она записала, что он никак не упомянул их прежнее общение по телефону, был очень краток и отключился, даже не дождавшись ее ответа.
Просматривая один файл за другим, Бритт не могла отделаться от мысли, что мышь почему-то переместилась с коврика. Что, если кто-то залезал в ее компьютер, пока она была в лечебнице? Бритт вспомнила, что проверила почту перед тем, как отправиться на Гранд-Централ. Как и все правши, она оставляла мышку справа — и всегда на коврике. Ее охватила тревога. Бритт проверила замки и окна, но не обнаружила никаких следов взлома. Даже десятидолларовая купюра осталась на прежнем месте — в декоративном кубке на журнальном столике у входной двери. Украшения, хранившиеся в двух шкатулках на комоде, тоже никто не тронул. Она просмотрела документы в письменном столе, затем вытянула из-под стола коробку с папками — к ним как будто никто не прикасался. Возможно, это начинающаяся паранойя, но у нее нет привычки оставлять мышку где попало! Если выстрел связан с ее книгой, кто-нибудь мог попытаться уничтожить готовый вариант. Однако все файлы на месте. Может быть, кому-то стало интересно, к чему она пришла в ходе исследований? Но и тут любопытных ждала неудача: вещественное доказательство Бритт хранила в своем сейфе. В любом случае предстояло выяснить, забирался ли кто-то в компьютер в ее отсутствие. Бритт сразу вспомнила о Брюсе Леонарде из Хантер-колледжа. Он настоящий дока по компьютерной части и готов просиживать на работе с раннего утра до позднего вечера.
Она набрала прямой номер Брюса в колледже. Как и положено, он взял трубку после второго гудка:
— Брюс Леонард, компьютерный центр.
— Брюс, это Бритт Хэймар.
— Бритт! А я думал, ты в творческом отпуске, пишешь что-то сногсшибательное.
— Пишу, пишу. Поэтому, собственно, и звоню. Мне нужен умный совет, гуру ты наш компьютерный.
— Не говори только, что ты забыла сохраниться и запорола винчестер.
— Боже, нет! Сохраняться я выучилась давным-давно. Может, и глупо, но мою мышку стронули с места, пока меня не было дома. И теперь я опасаюсь, что кто-то залезал ко мне в компьютер. Понимаю, что так рассуждают только параноики.
— В общем-то, легко проверить. Компьютер у тебя включен?
— Да.
— Скажи, какая у тебя версия оперативки, и дважды проверь дату и время, чтобы сличить их правильность.
Бритт все сделала, как просил Брюс, и подождала, пока он выведет сведения себе на экран.
— Ну просто сказка, — наконец откликнулся Брюс. — Твоя версия Windows регистрирует каждую загрузку системы. Правой кнопкой вызови «Мой компьютер», потом нажми на «Свойства». Появится окно «Устройства».
— Получилось.
— Оттуда выйди на «Контроллер операций», и увидишь опции: «Доступ», «Защита» и «Система». Из «Доступа» попадешь на «Тип», «Дату» и «Время», когда осуществлялся доступ. Проверь файлы запуска и сразу поймешь, когда их загружали.
Бритт просмотрела названные файлы и убедилась, что компьютер включали, пока она была в лечебнице.
— Ну что, нашла? — поинтересовался Брюс.
— Брюс, ты гений, как и следовало ожидать. Вижу теперь, что не такая уж у меня сильная паранойя. Кто-то сюда лазил.
— Да, плохо дело. Надеюсь, ничего важного там не поудаляли?
— Нет, я все уже проверила. Зато, наверное, скопировали себе чего хотели.
— К несчастью, так оно и есть. Не очень-то приятно сообщать дурные вести, но, если только кто-то добрался до твоих персональных сведений, ты рискуешь лишиться идентификационных данных.
— Так и извлекают выгоду из чужой лени, — откликнулась Бритт. — Я все еще веду свои финансовые дела по старинке — обычной почтой.
Брюс насмешливо фыркнул:
— Когда у тебя закончится отпуск — виноват, творческий отпуск, — мы обсудим все эти вопросы за обедом. А ты пока подумай, не поставить ли тебе пароль на загрузку системы — по крайней мере, пока не обнаружишь, кто забирался в компьютер.
— Брюс, ты, как всегда, зришь в корень. Обедом угощаю я. А теперь пора заняться моим взломщиком. Еще раз спасибо.
Повесив трубку, Бритт достала из сумочки ежедневник и отыскала номер лейтенанта Ренцетти, собираясь с ним не медленно созвониться, но вдруг ее взгляд нечаянно упал на пометку об Ordo Templis Orientalis. Из-за выстрела у нее пропал целый день, но церемонию пропускать не хотелось: возможно, там она получит новые сведения, которые пригодятся ей для встречи с Феликсом в Вене. Бритт взглянула на часы в нижнем углу монитора — всего 8.32. Чтобы добраться до Грамерси-парка, времени более чем достаточно. Она снова положила трубку на базу. Сейчас явно неподходящий момент пускать полицию к себе в квартиру: в ближайшие два дня дел будет невпроворот. Бритт выключила компьютер, вернулась в спальню и снова переоделась — на этот раз во все черное.
20
Чарли и Карлота одновременно протиснулись в дверной проем кабинета, явившись на полчаса раньше времени. Романо усмехнулся:
— Вы теперь режиссируете ваши вторжения?
Карлота, кивнув, многозначительно поглядела на Чарли, и тот продемонстрировал свой мобильник:
— Я решил, что пора начать бороться с опозданиями. Теперь Карлота будет моим пунктуалометром. Она звонит мне, когда выходит из дома, и я тогда рву когти, чтобы встретиться с ней в вестибюле. И еще мы собираемся установить очередность, кому первому садиться за компьютер.
— Дело ясное, вы оба — детища цифровой эпохи. Вы, на верное, заметили, что у меня нет сотового. Несколько лет назад я купил себе мобильник, но вскоре понял, что попадаю в зависимость от него. Я носил его даже на пробежку и на совещания. В конце концов я решил, что мое время — только мое, и избавился от телефона.
В глазах Чарли появилась озорная искорка:
— Вы знаете, в мобильниках ведь можно отключать звук.
Романо лишь покачал головой и улыбнулся:
— Вам пора уже уяснить, что в этом смысле я неисправим. Видели ли вы хоть раз, чтобы я включал автоответчик, если сам нахожусь в офисе?
— Как же, знаем, — тоже улыбнулся Чарли.
— Мы соболезнуем в связи с кончиной отца Метьюса, — потупилась Карлота. — Как вы съездили?
— Неважно, — покачал головой Романо. — Тэд ведь был мне вместо отца.
Оба аспиранта смотрели на него с несчастным видом, а он раздумывал, во что их следует посвящать, а во что — нет. Все же они почти выпускники, лучшие на курсе, практически его коллеги. У Чарли уникальное сочетание интеллекта и обостренной интуиции, что позволяет ему выходить далеко за пределы обычных исследовательских притязаний. Карлота чрезвычайно умна, очень собранна, для Чарли она — уравновешивающий фактор. Оба составляют идеальную команду. Романо не сегодня пришел к выводу, что они смогут существенно помочь ему в разработке плана действий относительно Бритт Хэймар — особенно теперь, когда он не может даже предположить, куда заведут его обстоятельства смерти Тэда. Рассудив таким образом, он все изложил им в деталях, так что студентам, расположившимся за компьютерным столом, оставалось только таращить глаза, то и дело перебивая его расспросами.
— И полиция не пришла ни к какому заключению? — поинтересовался Чарли.
— Теперь все будет зависеть от результатов вскрытия, — ответил Романо.
Чарли ссутулился на компьютерном стуле и начал медленно поворачиваться туда-сюда.
— Вчерашние события — будто готовая серия для «Сумеречной зоны». Как вы думаете, отец, куда это приведет?
— Перспективы широкие. Но я предпочитаю воздерживаться от гипотез, пока нет более или менее проверенных данных. — Романо пальцем пригладил взъерошенные усы. — В связи с этим одно могу утверждать с уверенностью: такой поворот дела мне совсем не нравится. — Он поглядел на них обоих и попросил: — А теперь почему бы вам не рассказать, что вы накопали вчера в мое отсутствие? Кстати, у меня для вас приготовлен сюрприз.
Карлота придвинула свой стул к монитору, схватила мышку и стала прокручивать текст на экране.
— Мы отыскали невероятное количество ссылок по поводу возможностей для Христа выжить после распятия. Вот самые интересные. — Она подсветила на экране один из абзацев: — Теория замещения. Вместо Иисуса распяли кого-то другого. Упоминание об этом мы нашли в одном из текстов Наг-Хаммади. Это коптский трактат, так называемый «Второй трактат Великого Сифа». Там идет речь о подмене одной из трех жертв распятия, в связи с чем цитируют имя некоего Сирена. В трактате говорится, что Иисус вовсе не умер на кресте, поскольку существует его высказывание, якобы относящееся ко времени после казни: «Что до моей смерти — для них вполне зримой, — она явилась им зримой ввиду их непонимания и слепоты».
— Молодцы, постарались, — кивнул Романо. — Гностические евангелия, найденные в тысяча девятьсот сорок пятом году в районе Наг-Хаммади, представили нам широкий спектр христианских групп, о которых мы раньше даже не подозревали. Я непременно использую цитаты из этих сочинений в своей книге. Единственная трудность здесь — наше незнание того, какие истинные сведения о событиях времен Христа отражены авторами в обнаруженных текстах. Тогда все основывалось на устной традиции, что приводило к многочисленным погрешностям в пересказе. Существовало множество толкований относительно разоблачения тайн и секретов, о которых следовало уметь читать в рукописях между строк. В собрании манускриптов наберется немало высказываний, порицающих распространившиеся христианские верования за недалекость и ошибочность. Эти труды могли составить и скептики, желающие очернить молодую христианскую церковь. Так или иначе, в середине второго века нашей эры ортодоксальное духовенство объявило Наг-Хаммади и подобные им сочинения ересью. — Романо предостерегающе поднял палец: — Не поймите меня превратно: я не призываю вас оставить эти тексты без внимания. Я предлагаю лишь подкрепить их сопутствующими материалами.
Карлота просмотрела следующую страницу.
— Нашли мы и другие ссылки. — Она указала на отрывок на экране: — В мусульманском Коране в суре четвертой, названной «Женщины», говорится: «Итак, они не убили его и не распяли, поскольку его заменил другой, схожий с ним… В действительности его самого не убили».
— Эта цитата вполне годится, чтобы занести ее в нашу базу данных, — одобрил Романо. — Но не стоит забывать, что ислам зародился в седьмом веке, и эта новая религия была призвана одолеть уже существующие. Коран явился Мухаммеду в виде череды откровений, пока пророк уединялся в пещере. Мы сможем должным образом оценить эту информацию, когда сведем воедино все наши наработки.
Романо заметил скептический взгляд Карлоты, обращенный к Чарли, и добавил:
— Говоря начистоту, я отбираю для своей книги материал, руководствуясь тем же принципом, что и в суде. Принимается во внимание абсолютно все, но преимущество отдается очевидным фактам или тем, что не подлежат никакому сомнению — вот на это вам и следует сделать упор. Мне необходимо соразмерное количество неопровержимых доказательств, и тут я полностью полагаюсь на вас.
Карлота вывела на экран очередную цитату и обрадованно заявила:
— А еще мы нашли высказывания, относящиеся ко второму веку и принадлежащие историку Василиду Александрийскому и Мани, духовному наставнику гностиков. Оба утверждали, что казнь на кресте была нарочно подстроена, чтобы распять вместо Христа другого человека.
— Гляжу, вы подступили к делу с разных сторон — продолжайте в том же духе. Нам не помешает иметь полный диапазон сведений, на которых можно строить дальнейшие умозаключения. — Романо похлопал каждого из своих помощников по плечу. — Только не забывайте, что эти отзывы давали люди, намного пережившие и распятие, и воскресение Христа. Вообразите собственную реакцию на известие, что в наше время кто-то на днях вроде бы воскрес после недавней казни и разгуливает по Манхэттену как ни в чем не бывало.
— А ведь верно, отец! — взмахнул руками Чарли. — Думаю, сказали бы, что это просто «утка»!
— Вот тут Чарли, пожалуй, прав, — подтвердила Карлота.
— Именно поэтому перед тем, как примкнуть к той или иной клике, нам следует поискать полновесные доказательства. — Романо вернулся к своему столу. — Припоминаю, что мне где-то уже попадались ссылки на то, будто бы вышеозначенный Симон Сиренский заменил Симона Зилота, а не Христа. Займитесь этой гипотезой. Не сомневаюсь, что информации по теории замещения найдется предостаточно. Наша задача — отсеять заведомо невозможные варианты, а возможные проанализировать с точки зрения их правдоподобия.
— Да, отец, задачка не из легких, — с сомнением покачал головой Чарли. — За время работы мы столкнулись с некоторыми неувязками в Новом Завете. В главе восемнадцатой, стихе тридцать первом от Иоанна Пилат обращается к синедриону: «Возьмите Его вы и по закону вашему судите Его», на что иудеи ему отвечают: «Нам не позволено предавать смерти никого». Тем не менее я находил сведения, что евреи могли собственноручно приводить приговор в исполнение. Например, закидывание камнями до смерти было рядовым явлением.
— В Евангелиях хватает неоднозначных фактов, — согласился Романо. — Большинство из них проистекает из разницы в переводе. Я уже не раз упоминал, что тексты Евангелий тоже изначально передавались из уст в уста. Многие христиане искренне верят, что эти труды собственноручно написаны Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном, хотя над каждым из Евангелий Нового Завета четко обозначено: от Матфея, от Марка, от Луки или от Иоанна.
— Сознаюсь честно, я совершенно не обращала на это внимания, пока не прослушала спецкурс по Новому Завету, — сконфуженно призналась Карлота.
— Аналогично, — сказал Чарли. Романо взял со стола Библию.
— То, что мы привыкли здесь читать, дошло до нас через арамейский, греческий и иврит, пока не было переведено на английский. «Синедрион» — древнееврейское переложение греческого слова, обозначающего «совет». Оно подразумевает старейшин, первосвященников и книжников, которые собирались под началом верховного жреца, чтобы решать правовые и религиозные вопросы, не входящие в компетенцию Рима.
— Разве они не могли приговорить Иисуса к смертной казни? — поинтересовался Чарли.
— Не обязательно, — присев на стул, возразил священник. — Теперь-то вы понимаете, что проверка исторических сведений — это вам не фунт изюму? Возможно, вы оба потому и выбрали для себя эту область — где еще встретишь столько головоломок! — Романо по примеру Чарли откинулся на спинку стула, заложив руки за голову: — Еврейские источники не могут полностью прояснить вопрос, правомочен ли был синедрион в тогдашнем Иерусалиме приговаривать и казнить людей за политические преступления. Я уверен, что власть в Иудее осознавала последствия казни Иисуса. Вы знаете, что музыку заказывал Рим. В общем, есть над чем поразмыслить. На этот счет попробуйте поштудировать историю Иудеи.
В дверь постучали, и человек из службы персонала вкатил в кабинет тележку с «макинтошем» — таким же, как у Карлоты.
— А вот вам и сюрприз, — просиял Романо. — Теперь вам не придется бежать наперегонки — кто первым успеет к компьютеру. Но… — погрозил он пальцем, — зато теперь, надеюсь, вы снабдите меня двойной порцией сведений. Можете начать с выяснения подробностей о профессоре Хэймар и о «Подложном Иисусе».
21
Агент ФБР Том Катлер повесил телефонную трубку и уста вился в монитор, на мигающий курсор. «Ну, давай же, черт тебя возьми!» Рапорт понемногу загружался. Тем временем в кабинет ворвался агент Донахью с кипой досье, и Катлер задумчиво на него поглядел.
— Ну, что сообщили из МТА? — спросил Донахью.
— Тебе казалось, что все эти стигматы чересчур подозрительны. Посмотрим, что ты скажешь, когда взглянешь на подробный отчет по делу о ранении Хэймар.
Донахью свалил папки на угол стола.
— Неужели у нее тоже нашли стигматы?
— Нет, но ты почти угадал. Я только что разговаривал по телефону с лейтенантом Ренцетти из NYPD, который ведет дело совместно с МТА. Ты даже не можешь представить, насколько наш святой отец к нему причастен.
Донахью плюхнулся на один из черных замшевых стульев с хромированными ножками рядом с письменным столом коллеги.
— Постараюсь.
— Ренцетти допрашивал отца Романо в полицейском участке на Гранд-Централ. Святой отец помогал одному из констеблей дежурить рядом с раненой, пока не прибыла бригада ЕМТ. Во время допроса Романо передал лейтенанту коробку с некой рукописью и сказал, что неизвестный сунул ему ее на бегу сразу после выстрела. А там оказался этот чертов пистолет.
Донахью такое известие явно ошеломило:
— Так это он в нее стрелял? А как же он тогда попал в Вернерсвиль?
— Ренцетти утверждает, что стрелял не он. Версия самого Романо кажется им убедительной. Священник уверяет, что ему позвонили накануне и пригласили прийти на станцию, чтобы там передать ему древний манускрипт. Двое очевидцев вспомнили, что на вокзале перед самым выстрелом действительно слонялся какой-то субъект с коробкой в руках, но его описание совершенно не соответствует внешности отца Романо. Неизвестный не имел ни бороды, ни усов, к тому же на нем была одежда другого цвета. А Романо в то утро надел воротничок священника и массивный железный крест — они сразу бросаются в глаза.
— А мог Романо, например, стрелять в одной одежде, потом отбежать, скинуть ее и вернуться на место происшествия?
— Его проверили на остаточный порох и тальк со стерильных перчаток. Результат в обоих тестах отрицательный. Полиция обыскала все близлежащие мусорницы на предмет обнаружения там одежды, перчаток или маски — все по нулям.
— А сама Хэймар видела преступника? — спросил Донахью.
— Ренцетти допрашивал ее в лечебнице. Она уверяет, что понятия не имеет, кто мог в нее стрелять. И вообще, она все помнит очень смутно.
— Если только она действительно имеет отношение к смерти тех священников, у отца Романо, пожалуй, есть мотив.
Катлер покачал головой:
— Один из полицейских МТА утверждает, что увидел святого отца уже через десять или двадцать секунд после выстрела — тот бежал к пострадавшей, тогда как все остальные кинулись врассыпную.
— А если у Романо был соучастник?
О соучастнике Катлер как-то не подумал. Он схватился за свой бордовый с пестринами галстук, дернул его, потом просунул палец за воротничок, чтобы расслабить узел. Дело принимало каверзный оборот.
— Придется хорошенько понаблюдать за ними обоими — и за отцом Романо, и за Бриттани Хэймар. Ты займешься женщиной — может, она до сих пор в лечебнице, а я посмотрю, что там с Романо.
22
Красное кирпичное здание, которое разыскивал агент Донахью, оказалось в середине квартала. Фасад дома был разграфлен белыми рамами, из большинства окон высовывались вентиляционные агрегаты. Среди белых колонн выделялся над входом темно-синий портик. На бетонных ступеньках крыльца сидели два парня в джинсах и футболках и потягивали что-то из кружек, украшенных оранжевым солнцем на нежно-зеленом фоне.
Сегодня чуть свет Бриттани Хэймар выписалась из Бэльвю. Донахью надеялся, что после этого она сразу пошла домой и пока что у себя. Он вошел в вестибюль. Квартирные звонки располагались по левой стене. Пока он просматривал колонки с именами, дверь внутреннего коридора приоткрылась и по черно-белому мраморному полу мимо него проскользнула очень интересная блондинка, вся в черном. Агента обдало шлейфом густого пленительного аромата. Он заметил, что левую руку женщина прижимает к животу.
Донахью тоже двинулся к выходу и проследил, как блондинка свернула на 13-ю улицу и направилась к Шестой авеню. Один из типов на крыльце присвистнул:
— Это препод с пятого этажа. Она что, в готику ударилась?
Другой, провожая ее взглядом, едва не свернул себе шею:
— Вряд ли, но я бы у такой поучился.
— Вы о профессоре Хэймар? — поинтересовался Донахью.
— Ну, — обронил парень. — А ты кто — приятель ей?
— Знакомый по колледжу, — небрежно дернул плечом агент, затем повернулся и беспечной походкой отправился вслед за Бритт.
Первоначальным намерением Донахью было нагнать профессора Хэймар и порасспросить ее, но потом он все же ре шил посмотреть, куда направляется женщина, принарядившись так, словно ее ждет костюмированный бал. Волосы она собрала на затылке в аккуратный французский жгут и скрепила прическу большой черной заколкой. В вестибюле он успел рассмотреть и лицо профессорши: ее глаза были под ведены черным, губы накрашены темно-красной помадой и оттенены по контуру очень темным карандашом. На ней было короткое черное вечернее платье с пояском, черные чулки, черные ботиночки, и дополняла ансамбль черная сумка из той же ткани, что и платье.
Донахью опасался, что ближе к Шестой авеню Хэймар поймает такси, и вздохнул с облегчением, когда она не обратила никакого внимания на два притормозивших нарочно для нее автомобиля. Женщина свернула на 14-ю улицу, дошла до площади Ирвинга и оттуда направилась к Грамерси-парку. Остановившись у особняка, выходящего фасадом на парк, профессор Хэймар огляделась по сторонам — Донахью не понял, поджидала ли она кого-нибудь или заподозрила слежку. Все это время он держался сзади на приличном расстоянии, шагая по другой стороне улицы, и теперь прошел мимо, не останавливаясь. Добравшись до ближайшего перекрестка и будто намереваясь перейти через дорогу, агент обернулся и приметил небольшую группу людей, также одетых в черное. Они стягивались к особняку и по ступенькам поднимались ко входу. Хэймар последовала за ними.
За время, пока Донахью возвращался к особняку, там уже собралось немало народу. Большинство прибывших были одеты в темные тона, символизировавшие, вероятно, либо некий преступный заговор, либо поминки. Впрочем, на траур это было мало похоже. В своем темно-сером костюме и бордовом репсовом галстуке Донахью не слишком выделялся среди пришедших, поэтому застегнул пиджак и тоже проследовал внутрь.
В холле каждый посетитель задерживался, чтобы начертать в воздухе правой рукой неведомый символ, а затем проходил дальше, в просторную залу, слабо освещенную настенными канделябрами и дюжиной свечей, горящих у подножия алтаря. Все окна были наглухо завешены плотными портьерами, а стены расписаны под мрамор смутно-сероватого оттенка.
Донахью внимательнее пригляделся к алтарю на другом конце залы — им служила каменная плита, воздвигнутая на пьедестал в центре трехступенчатого помоста. На полпути к алтарю по обеим сторонам залы располагались возвышения более скромного размера, на каждом из которых агент заметил кадильницу, книги и каменную ступку с пестиком. Дальний правый угол за алтарем был задрапирован складками полупрозрачной занавеси, под которыми угадывался какой-то темный предмет прямоугольной формы. Донахью не мог толком разобрать, стол это или гроб на подставке, но понадеялся, что все же не гроб.
Центральный проход разделял ряды стульев с откидными сиденьями, их спинки были обтянуты черными атласными чехлами. Донахью выбрал место у прохода в самой глубине залы, оглядел собравшихся и нашел профессора Хэймар — она сидела впереди через несколько рядов от него. Примерный подсчет подсказал ему, что в помещении собралось более пятидесяти человек, но тишина стояла, словно в склепе. Никто не разговаривал — казалось, каждый сосредоточил все свое внимание на алтаре. Донахью потихоньку достал из кармана мобильник и переключил его на виброрежим: не хватало еще, чтобы в таком месте заиграла тема Джеймса Бонда!
Где-то ударили в колокол, и все головы разом повернулись к двери. По проходу шагал высокий человек христообразного вида, с длинными темными волосами и короткой бородкой. Он был облачен в белую атласную рясу свободного покроя, опоясанную красным кушаком. Приблизившись к алтарю, человек перекрестился, касаясь поочередно лба, груди и плеч, а затем что-то произнес на языке, который Донахью определил для себя как иврит, и двумя сложенными пальцами правой руки начертил в воздухе пентаграмму. Агент ФБР мог поручиться, что этот субъект не похож на священника ни одной из известных ему конфессий.
Подойдя к алтарю, жрец патетически воздел руки, затем широко развел их и нараспев назвал имена — Гавриил, Михаил, Рафаил и Уриил. Затем он начал декламировать стихи, показавшиеся агенту видоизмененным никейским символом веры. Донахью заметил, как Хэймар замерла, услышав: «Верую в Змия и Льва, Таинство Таинств, именем Его, Бафомета», и вздрогнула при упоминании последнего.
Служитель повернулся лицом к собравшимся, и тут раздался второй удар колокола. Все заоборачивались — по проходу друг за другом шли женщина в развевающейся белой накидке и юноша в красной мантии. Получив от священника своеобразное благословение, они разделились, обошли алтарь с разных сторон и направились к занавешенному углу залы. Юноша в красном отвел драпировку, и оба углубились в темноту.
Все собрание встало и затянуло какие-то песнопения. Донахью ничего не мог разобрать, кроме назойливо повторяющихся однообразных звуков. Вибрирующие голоса сливались в крещендо, производя на агента гипнотический эффект. Он изо всех сил вглядывался в полумрак дальнего угла, но видел только смутные силуэты, двигающиеся в такт пению. Вот они вроде бы взобрались на темное возвышение…
Донахью охватило жутковатое ощущение: те двое или занимались сексом, или весьма активно его имитировали. Так или иначе, их тела слитно колебались в эротическом экстазе, а голоса поющих звучали все громче и громче. Донахью не мог оторвать глаз от теней за прозрачной занавесью и неожиданно поймал себя на том, что тихо подпевает общему хору. Кульминация наступила, когда оба силуэта внезапно обмякли, образовав бесформенную груду, и тут же наступила полная тишина.
После этого большинство присутствующих принялись обниматься друг с другом, а некоторые потянулись к дверям. Донахью, затесавшись среди прочих, вышел из залы одним из первых. Со стола в холле он утянул брошюрку и, перейдя улицу, поспешил в парк, откуда можно было бы пронаблюдать, когда появится Хэймар. Агент наскоро просмотрел книжицу: оказывается, он только что присутствовал на ритуальной церемонии в храме Ordo Templis Orientalis. Он не мог вспомнить, что это — чудная религия или какой-то культ.
Наконец на крыльце особняка показалась Хэймар. Женщина явно спешила, поскольку сразу направилась к Парк-авеню. Донахью двинулся вслед за ней и увидел, что там она поймала такси. Успев записать номер, агент тоже проголосовал, но догонять профессора было уже поздно. Тогда он позвонил Катлеру, а водителя такси попросил отвезти его к зданию Федеральной службы, где находился их офис. Пора было как следует проверить анкету Бриттани Хэймар и найти какую-либо информацию об Ordo Templis Orientalis.
23
Пока такси, подпрыгивая, лавировало в городском предобеденном потоке машин, Бритт Хэймар тщательно протерла оба века влажной салфеткой, второпях вытянула из сумочки еще одну и счистила с губ помаду. Ей хотелось поскорее добраться до дому, чтобы сбросить с себя этот наряд. Бритт казалось, что к ней прилипла нечистота омерзительной ритуальной церемонии.
Между этой тайной общиной и орденом рыцарей-храмовников прослеживалась явная связь, ведь тамплиеров тоже обвиняли в поклонении идолу Бафомету. К тому же там упомянули архангелов. Вестник называл ей кодовые имена тех двух священников — Уриил и Рафаил. Об архангелах она слышала и от Феликса, хотя он непояснил ей, какое отношение они имеют к Le Serpent Rouge. Впрочем, теперь у нее набралось достаточно информации, чтобы затребовать у него некоторые подробности. Все начало складываться в единое целое, подобно частям хитроумной головоломки.
Бритт решила, что терять ей нечего. Ее объяло зыбкое спокойствие, и умирать стало совсем не страшно. Ужас, терзавший ее после выстрела, утих, сменившись воспоминаниями о Тайлере и Алене. Их образы память хранила где-то между нежностью и самым отвратительным кошмаром.
Снаружи кто-то резко посигналил, и картины в воображении Бритт вдруг уступили место массивному кресту, виденному у отца Романо, а прежде — у Хуана Маттео. Ей недоставало аргументов для завершения книги — кусочков, из которых можно составить весь паззл. Бритт решила переодеться и сразу же ехать в Фордхэм. В офисе у Романо ей ни что не угрожает, даже если он сам причастен к покушению. Может быть, хоть он прольет свет на все эти иезуитские загадки…
Такси, завизжав тормозами, остановилось перед входом в ее здание. Два молодых человека по-прежнему сидели на ступеньках, попивая кофе из кружек, взятых из кафешки «Кози» на углу. Войдя в вестибюль, Бритт вытянула из французского жгута заколку и распустила волосы. Сегодня вечером она уедет из страны. Тому, кто стрелял, придется изрядно попотеть, если он задался целью выследить ее.
24
— Простите за опоздание. — Агент Донахью ворвался в конференц-зал МТА при станции Гранд-Централ. — Добывал сведения о Бриттани Хэймар.
Катлер указал ему на стул рядом с собой и представил напарника лейтенанту Нику Ренцетти из NYPD и Фрэнку Гаррету из Нью-Йоркского транспортного управления.
— Ты как раз вовремя, — сказал Катлер. — Я только что сообщил лейтенантам подробности о смерти Метьюса. Результаты вскрытия получим сегодня чуть позже. А сейчас мы собирались перейти к рапорту о покушении на Хэймар.
Ренцетти пододвинул Донахью папку:
— Вот копия окончательного заключения — врач в Бэльвю передал уточненные данные. Пуля застряла в плече. Док тут пишет, что ни одна из костей не задета и глубина раны всего четыре с половиной сантиметра. Ствол девять миллиметров, стреляли в упор — что-то верится с трудом.
— Низкоскоростной патрон, либо парень сам его смастерил, — предложил Гаррет. — Ну, заказной убийца… Зарядил послабее, чтобы попутно не задеть еще кого-нибудь.
Катлер поглядел на Донахью — тот красноречиво возвел глаза к потолку — и покачал головой:
— Если он настоящий киллер, черта с два он бы промазал. Не попасть в сердце почти в упор — всего-то на шесть дюймов разминулся!
— А если это инсценировка? — предположил Донахью. — Чтобы отвести от нее подозрение в смерти священников?
— Не исключено, — согласился Ренцетти. — И насчет этого Романо мне тоже пока не все ясно. В МТА уверяют, что стрелять он никак не мог, но это не значит, что он не причастен. Если коллеги из Бюро допускают, что Хэймар имеет отношение к смерти священников, то у Романо есть веский мотив к убийству.
— За Хэймар наблюдаю я, — вмешался Донахью. — Уж и задала она мне работку!
Он изложил подробности посещения церемонии в Ordo Templis Orientalis, а затем вынул из портфеля текстовую распечатку.
— Нашим Бюро по моему запросу найдена информация, что эта эксцентричная по своему духу организация проводит некие сомнительные ритуалы, хотя до сих пор считалась вполне безвредной.
— Нельзя забывать и про книгу, — добавил Ренцетти. — Хэймар убеждена, что единственная причина охоты за ней — ее книга о Христе. Она уверяет, что тут не обошлось без вмешательства церкви.
— Джентльмены, — выпрямился на стуле Катлер. — На данный момент мы не располагаем никакими конкретными уликами, указывающими на человека, убившего священников или стрелявшего в Хэймар. Цель нашей сегодняшней встречи — удостовериться, что все мы сейчас находимся на одной отправной точке, и выработать принципы дальнейшего продвижения.
Его коллеги согласно кивнули — только Ренцетти, достав из кармана очки для чтения, пристально изучал принесенную распечатку. Затем он сдвинул очки на кончик носа и посмотрел на Донахью поверх линз:
— Сегодня утром я нашел о Хэймар новые сведения, которые здесь отсутствуют, но которые надо бы иметь в виду.
— Что за сведения? — поинтересовался Катлер.
— Она пережила очень тяжелый год. Такой, что впору каждому слететь с катушек. У нее умер сынишка, ему не исполнилось и года.
— А я и не знал, что у нее есть муж, — заметил на это Донахью.
— Теперь уже нет, — ответил Ренцетти. — Я и сам случайно наткнулся — прочитал о нем полицейский рапорт.
Все выжидательно посмотрели на лейтенанта.
— Оказалось, что ее ребенок умер от какой-то ужасной наследственной болезни. Когда ее муж узнал, что именно он — носитель дефективного гена, то не смог это пережить. И застрелился.
Катлер толкнул оцепеневшего Донахью в бок:
— Брайан, сними копии с этих полицейских донесений. Пора нам с тобой хорошенько взяться за Бриттани Хэймар.
25
Выйдя из такси, Бритт Хэймар подняла с сиденья небольшую дорожную сумку и попробовала накинуть лямку на левое плечо, но острый приступ боли тут же убедил ее, что до полного выздоровления еще далеко. Сквозь листву деревьев, высаженных вдоль 60-й и Коламбус-авеню, просматривалась бетонная громада здания, вознесшаяся к самому небу и занимающая большую часть квартала. Темные тени древесных стволов рассекали солнечную поверхность на исполинские домино, подсвеченные бессчетными окнами.
Бритт направилась ко входу во флигель Фордхэмского Линкольн-центра. Одноэтажное строение цвета парижской лазури навевало ассоциации со стилем ар-деко. Широкая винтовая лестница огибала кирпичную башню с шахматным орнаментом; от нее тянулась крытая галерея, по которой можно было попасть на плоскую крышу флигеля.
Собираясь на ночной рейс, Бритт все еще сомневалась, стоит ли ей видеться с отцом Романо. Как он оказался на Гранд-Централ во время покушения? Действительно ли ему тоже звонили насчет рукописи? И этот его крест… Можно ли по нему проследить связь между отцами Романо и Маттео? Она вдруг со смятением осознала, что за последние три дня встретилась подряд с тремя иезуитами. Что же, налицо иезуитские происки? Бритт оставалось только гадать, кто такой этот Романо — угроза для нее или ключ к тайнам, пока не проясненным в ее исследованиях о родословной. В конце концов она рассудила, что ничего не потеряет от встречи со священником.
Войдя во флигель, Бритт оказалась перед оборудованным постом охраны. Женщина в офицерской форме набрала номер Романо, назвала фамилию Хэймар и тут же кивнула Бритт, указав ей лифт, на котором можно было подняться на десятый этаж, к офису священника.
Романо встретил ее в холле, откуда тянулись по коридору в обе стороны многочисленные двери.
— Что ж, профессор Хэймар, вы на удивление быстро встали на ноги. — Романо жестом пригласил ее в ближайший кабинет. — Я не ожидал, что вы так скоро придете обсуждать либеральные взгляды иезуитов.
— Мне сказали, что я везучая. Пуля не нанесла большого вреда — плечо, правда, еще какое-то время поболит. Спасибо за ваш импровизированный визит. — Она улыбнулась. — И мне казалось, мы договорились насчет Бритт и Джозефа.
— Простите за церемонии, Бритт. — Романо проследовал за ней в кабинет. — И за беспорядок.
Кроме письменного стола самого Романо в кабинете умещался круглый стол, вероятно тоже рабочий, с двумя «макинтошами» и большими жидкокристаллическими мониторами, а рядом с ним — два вращающихся сиденья. По стенам расположились: книжный шкаф, две длинные навесные полки и пара добавочных, сильно потрепанных стульев. Тут же приткнулся пюпитр. Везде были навалены книги, папки, а две раскладные таблицы на стене были сплошь исписаны пометками, сделанными жирным черным маркером. Да, в этом кабинете явно кипела работа.
Бритт протиснулась ко второму, суррогатному столу. Романо отодвинул один из стульев, освобождая ей место, и, когда она села, взял у нее сумку и положил рядом, на соседнее сиденье. Бритт очень впечатлило подобное обхождение.
— Я пришла к вам, Джозеф, вовсе не для того, чтобы обсуждать ваши религиозные убеждения, — сказала она.
— Что же вы хотели со мной обсудить?
— На самом деле меня интересуют причины, которые привели нас обоих на Гранд-Централ.
Бритт заметила, что Романо, пробираясь к своему столу, не сводит с нее глаз. Она запомнила эти глаза еще тогда, когда лежала на полу в метро — теплые, цвета капуччино; в их проницательном и понимающем взгляде неуловимо сквозило сострадание. Он сел за стол, улыбнулся ей, и Бритт заметила, что его лоб пересекают две едва заметные морщинки, а в углах глаз наметились «гусиные лапки». Пожалуй, Романо еще не исполнилось сорока, но эти черточки придавали ему вид книжного червя.
— Со мной-то все ясно, — ответил Романо. — Я уже говорил вам в лечебнице, что накануне мне позвонил неизвестный, утверждавший, что у него есть письменный памятник руки Иакова. Он назначил мне встречу на восемь тридцать утра в здании станции, у выхода на Сорок вторую и Парк-авеню.
— Мне звонили по тому же поводу, — сказала Бритт. — Единственно, что меня тот человек попросил подойти к круглой справочной будке в главном переходе. Сказал, что найдет меня. И нашел, как видите.
— Вы кого-нибудь подозреваете? — спросил Романо.
— Нет. А вы? — Бритт в упор смотрела на Романо, ожидая ответа, но тот только покачал головой:
— Даже не представляю.
— Вы сейчас занимаетесь исследованиями родословной Христа? — поинтересовалась Хэймар.
— Не совсем. Я недавно начал работу над книгой, где собираюсь коснуться рождения, распятия и воскрешения Иисуса. По сути, в ней я развиваю тему, начатую в моей предыдущей монографии «Бог Нового Завета», написанной несколько лет назад. Теперь я попытаюсь взглянуть на историю Христа с высоты нового тысячелетия, с использованием самых современных технологий.
— В таком случае вы вынуждены будете коснуться теории о его родословной.
— Вовсе нет, — нахмурился Романо. — Мои ассистенты-выпускники увлекаются последними публикациями в прессе, поэтому я демонстрирую им свой либерализм и не запрещаю знакомиться со всякого рода домыслами. Тем самым я тешу их фантазию.
Бритт поджала губы.
— Я вовсе не умаляю значение ваших исследований, — поспешно подхватил Романо, — и не спорю с очевидными их результатами. Но сам я не нашел никаких веских доказательств существования этой родословной. Думаю, тайну подобного масштаба сохранить сложно, и за два тысячелетия ее бы уже растрепали по всему свету.
В его тоне Бритт не уловила ни малейшего самолюбования или натянутости. Он не мигая смотрел на нее — вроде бы все по-честному. Она попыталась сдержать улыбку, но по выражению его лица поняла, что ей это не удалось.
— Полагаю, нелишним будет прислать вам готовую рукопись моей книги, — предложила она.
— С удовольствием с ней ознакомлюсь.
Романо ни на минуту не отступил от серьезного делового тона, и глаза его оставались все такими же бесстрастными.
— Могу я надеяться на пару-тройку искренних замечаний со стороны уважаемого знатока? — спросила Бритт.
— Сколько угодно.
— Но только как эксперта. Не отравляйте их вашим поповским мнением.
— Теперь видно, сколь плохо вы меня знаете. — Романо соединил кончики пальцев. — Что касается исследовательской работы, я преследую одну цель — истину. Независимо от того, какую форму она примет. — Он принялся поглаживать эспаньолку. — Бывает, что для толкования смысла требуются интуиция и изобретательность. К сожалению, церковь не может одобрить такой подход: ни интуиции, ни изобретательности нет места там, где значение имеют только факты, встречающиеся в каноническом Писании. И я принимаю во внимание любые факты, каковы бы ни были их источник и результат.
— А вы даже более либеральный иезуит, чем можно было предположить.
— Не поймите меня превратно. Я не стану оспаривать мнение церкви без веских оснований. То же самое я говорю и своим ассистентам: не спешите создать прецедент — заручитесь сначала фактическим преимуществом. Кажется, они уже научились моему главному принципу: «Ни тени сомнения». — Он вскинул брови: — Особенно если кто-то хочет оспорить каноническое Писание. Все-таки две тысячи лет христианство худо-бедно простояло на своих ногах.
— Вспоминается изречение Джорджа Айлза о том, что «сомнение есть начало, а не конец мудрости».
— Верно подмечено, — ответил священник.
Бритт увидела в его глазах мимолетный блеск, и профессор Джозеф Романо вновь поднялся в ее мнении на должную высоту. Возможно, теперь наступал подходящий момент, чтобы спросить его о двух иезуитах. Она сочла, что крест будет для этого удачным предлогом.
— Простите за отход от темы, — обратилась она к Романо, — но меня чрезвычайно заинтересовал крест, который был на вас в лечебнице. В нем скрыт какой-то особый смысл?
Казалось, подобный вопрос застал священника врасплох. Он озадаченно посмотрел на Бритт и, поколебавшись, ответил:
— Это подарок. От одного священника на принятие мной обета. — В его взгляде мелькнуло подозрение: — Почему вы интересуетесь?
— Несколько дней тому назад я видела точно такой же у священника-иезуита в Испании. Я ездила к нему на встречу. Отец Хуан Маттео — может, слышали?
По лицу Романо пробежала странная тень — смесь удивления и недоверия.
— Отец Хуан Маттео умер.
Хэймар разинула рот и в изумлении уставилась на собеседника.
— И мой друг — тот, что подарил мне крест, — тоже скончался, — продолжил Романо. — Я об отце Тэде Метьюсе.
Бритт ощутила, как по всему ее телу словно пробежал электрический разряд, а потом наступило общее онемение. Она пыталась заговорить, но не могла выдавить ни слова. Романо, заметив ее состояние, всполошился:
— Что с вами?
— Я беседовала и с отцом Метьюсом… Всего пару дней назад. Что же с ними случилось? Отчего они умерли?
— Отца Метьюса нашли мертвым вчера утром. А зачем вы с ними встречались?
— Мне их порекомендовали. Это для моей книги.
— Господи, и ФБР уже в курсе, — вырвалось у Романо. — В Бюро считают, что эти случаи как-то связаны. Но почему именно они? И кто их вам рекомендовал?
Бритт опустила голову и сжала виски. Ей стало дурно.
— Вы не дадите мне воды? Пожалуйста…
— В коридоре есть сифон. Я быстро.
Пока Романо ходил за водой, Бритт, чтобы поскорее прийти в себя, выпрямилась и сделала несколько глубоких вдохов. Следовало вести себя осторожнее — и поскорее собраться с мыслями. Развязка близка, как никогда: всего через три дня она получит последнее доказательство — узнает правду о Святом Граале. Но смерть священников и покушение на нее выходили далеко за рамки прежних договоренностей. А где-то за всем этим маячила фигура Вестника.
* * *
Набирая воду в стакан, Романо не переставал удивляться, почему известие о смерти Тэда и Маттео так ошеломило Бритт. Для чего она с ними встречалась? Он поспешил со стаканом обратно в кабинет. Его гостья выпила воду в один присест, запрокинула голову и перевела дыхание. Он дождался, пока она немного овладеет собой, и потом нетерпеливо спросил:
— Для чего вы виделись с отцом Маттео и с отцом Метьюсом?
— Я хотела проверить полученные мной сведения, что оба эти человека как-то связаны с Le Serpent Rouge.
— И как они связаны? — заинтересовался Романо.
— Они якобы что-то знали о родословной и могли предоставить мне ценную информацию.
— Ничего подобного, — возразил Романо. — Отец Метьюс был моим наставником и близким другом, почти отцом. О родословной Христа он ничего не знал и даже задумываться бы не стал над этой темой. Он был очень предан церкви — да что там говорить! — придерживался общепринятых взглядов на религию. То есть — очень консервативных.
— Имел ли он доступ к тайным архивам Ватикана, к конфиденциальным научным исследованиям внутри церкви?
Романо не улавливал, к чему она клонит, но решил удовлетворить ее любопытство. Возможно, наводящие вопросы Бритт натолкнут его на искомый ответ, позволят понять, почему тело Тэда Метьюса сейчас кромсают в морге.
— В молодости, уже приняв сан, отец Метьюс некоторое время провел в Ватикане, — пояснил Романо. — С тех пор прошло более тридцати лет. Вполне возможно, что он посещал и архивы — не могу ручаться наверняка. Но поверьте, он не располагал никакими тайными сведениями о родословной Иисуса.
— Вы не можете этого утверждать, — не согласилась Бритт. — Вы сами сказали, что отец Метьюс был очень набожным человеком. Если бы он узнал нечто такое, что повредило бы церкви, он оградил бы от этого остальных верующих.
— Послушайте, сама идея такой родословной просто смешна! Вы как уважающий себя ученый не можете придавать этому вздору никакого значения.
— Мое предположение опирается на очевидный факт, а вовсе не на вздор. — Бритт указала на репродукцию Пуссена: — А это как назвать? Вы тоже исследуете всякие вздорные догадки об этой картине? Ищете Святой Грааль?
— Я взял этот случай как пример, — парировал Романо, — чтобы показать студентам, как из обрывков и кусков информации можно слепить нелепый домысел, который потом разрастется в совершенно абсурдную гипотезу. Для меня тут загадок нет: надпись на камне «Et in Arcadia ego» может значить только одно: «Я в Аркадии», то есть в мире идиллического блаженства.
— Где же тогда место для интуиции и изобретательности? — осведомилась Бритт.
— Это вотчина моих ассистентов. Пусть делают свои умозаключения, опираясь на интуицию и изобретательность. Однако их выводы тоже должны опираться на факты, и только на факты. А что можете предоставить вы, чтобы доказать состоятельность своих взглядов на родословную?
Бритт потупилась, тяжело вздохнула и словно бы погрузилась в себя. Наконец она потерла лоб и в упор взглянула на Романо:
— У меня есть фрагмент манускрипта.
— Подлинник Иакова?
— Углеродный анализ подтвердил подлинность. — Она глядела священнику прямо в глаза: — Это папирус времен Христа. В рукописи говорится о двух близнецах, родившихся у Марии Магдалины. О мальчике и девочке.
Пораженный Романо не мог вымолвить ни слова. До сих пор он был непогрешимо уверен, что все басни о манускрипте Иакова — чистой воды вымысел, сплетня, растиражированная таблоидами.
— Как он к вам попал? — Он наконец оправился от замешательства.
— Так же, как вы сами надеялись его получить, — ответила Бритт. — От анонима.
— Возможно, этот самый человек и стрелял в вас. И он же мог убить отца Тэда.
— Не думаю, — покачала головой Бритт. — Человек, приславший манускрипт, звонил мне и раньше. Я хорошо запомнила его голос — такой сдержанный, любезный. Это он посоветовал мне встретиться с отцом Маттео и с отцом Метьюсом. А тот, кто приглашал меня на Гранд-Централ… голос у него был совсем другой. Хриплый. Резкий.
Романо принялся вспоминать, как с ним разговаривал неизвестный.
— Вы знаете, мой аноним по описанию совпадает с вашим. — Он попытался восстановить в памяти всю беседу. — И вот еще что… Он сказал: «Приходите на вокзал Гранд-Централ». Вас тоже пригласили именно на вокзал?
Бритт прикрыла глаза:
— Кажется, да, на вокзал.
И она снова поглядела на священника.
— У нас в Нью-Йорке все говорят «станция Гранд-Централ» или просто «Гранд-Централ». — Романо с сомнением покачал головой: — Возможно, он…
— Здесь наверняка не обошлось без вмешательства церкви, — перебила Бритт. — Подумайте сами: священник из Испании, священник из Пенсильвании, и мы оба — исследователи жизни Христа. Все указывает именно на церковную организацию.
— Вряд ли, — усомнился Романо. — Вы каким-либо образом посвящали церковь в ваши изыскания? Знакомили с ними кого-нибудь из служителей?
— Напрямую — нет. Все подробности моей работы известны только издательству.
— В таком случае я считаю ваш намек необоснованным. После вашего интервью многие посторонние люди помимо церкви узнали из прессы, что вы проводите в жизнь экстремистскую теорию о какой-то родословной. Уверяю вас, большинство фундаменталистов не погладило бы вас по головке за то, что вы отзываетесь об Иисусе как о некоем подлоге.
— Это вы так считаете! — огрызнулась Бритт и откинулась на спинку стула, сверля Романо гневным взглядом: — Не судите о моем труде огульно, ведь вы его еще не читали. В книге есть и другие теории относительно Христа. Там представлен очень широкий спектр религиозных воззрений.
— А мне кажется, что само ее название — «Подложный Иисус» — уже создает некий перекос, — возразил Романо.
— Верно, если буквально толковать слово «подложный». — По ее тону Романо понял, что задел профессора Хэймар за живое. — То есть жульнический, преследующий цель сохранить несправедливо присвоенное. Я вовсе не утверждаю, что сам Христос — подложный. Я рассматриваю то, как относилась к нему церковь в начале своего становления. Вот тогда, по моему мнению, и произошел настоящий подлог. Церковники пренебрегли многими из высказываний Иисуса и сосредоточили внимание лишь на тех из них, которые могли послу жить их собственной выгоде.
— Ранняя церковь проявляла чрезвычайную осмотрительность в установлении канонов, — заметил Романо. — Тройное условие — папские полномочия, соответствие принципу веры, преемственность и применимость ко всей церкви в целом — послужило для этого прекрасным критерием.
— Согласна, для церкви в целом — да. Но вы сами разве никогда не задумывались о мотивах, которыми руководствовались первые духовные наставники ортодоксальной церкви? Им нужны были четкие и твердые критерии, чтобы очертить границы дозволенного, и как можно быстрее. Только так они могли получить и власть, и надзор за верующими. Мне кажется, что Иисус хотел совсем иного.
— Чего же хотел Иисус? — поинтересовался Романо.
— Мне думается, Иисус пришел на землю, чтобы нести людям слово Божье, научить их, как обрести Господа умом и сердцем. — Бритт отвела со лба мешавшую ей прядь. — Знаю, вы будете возражать, но для меня яснее ясного, что Христос призывает нас к поиску, а не навязывает свод верований, которые мы вправе принять или отвергнуть.
— Вы, наверное, начитались гностических сочинений, — сказал Романо.
Он заметил, что Хэймар едва сдерживает раздражение, но она лишь покачала головой:
— Джозеф, я пришла к вам, чтобы выяснить, есть ли связь между вашим появлением на Гранд-Централ и моим ранением. А теперь мы оба, как мне кажется, вдобавок озабочены тем, почему два священника-иезуита, с которыми я недавно встречалась, умерли. Давайте же обсудим мои религиозные убеждения в другой раз.
— Меня интересует то же самое, — согласился Романо. — Но мне кажется, вы напрасно так ополчились на церковь. Если действительно существуют некие таинственные потомки Христа, которые по неведомым причинам держались в тени два тысячелетия подряд, то у них есть веские причины помешать вам их разоблачить.
Глаза у Бритт вдруг потемнели, погрустнели, и она стала что-то разглядывать в окне за плечом Романо.
— Мне даже в голову такое не приходило… Наверное, я и вправду многое упустила в погоне за церковными разоблачениями.
— Вот для этого я, когда пишу книгу, стараюсь обеспечить себе «голос из зала». В данный момент я запасся двумя гениальными ассистентами, которые не боятся нарушить субординацию и немедленно сообщают мне, если те или иные мои выкладки их не устраивают.
Романо опять ощутил, как внутри у него все сжимается, а в глазах начинает пощипывать: он словно наяву увидел Тэда лежащим на кровати, с молитвенно сложенными руками — и с отметинами.
— Отец Тэд был моим лучшим редактором. Теперь его нет, и я хочу знать почему. Что вы почерпнули из беседы с ним?
Бритт вздохнула, будто в знак сочувствия:
— Не так уж и много. Но он вполне подпал под ваше описание. Когда я спросила его о родословной, он назвал саму эту идею нежелательным побочным продуктом человеческой изобретательности.
Напряжение Романо внезапно спало. Да, это похоже на Тэда: он всегда умел найти нужные слова.
— Я же вам говорил, — произнес он. — Но ведь существует некая причина, по которой вас к нему послали. Что вам говорил тот первый, кто звонил раньше?
— Он порекомендовал мне двух священников и объяснил, как с ними связаться. Уверял, что эти люди могут предоставить мне добавочные сведения о Le Serpent Rouge, но предупредил, что информацией они делятся крайне неохотно. Мне предстояло самой их разговорить. Аноним подсказал мне пароли для обоих священников, чтобы они поняли, насколько я уже в курсе дела. Отец Маттео звался Уриил, а отец Метьюс — Рафаил, но и тот и другой категорически отрицали свою осведомленность о родословной. Тем не менее они оба впали в ступор, когда услышали эти тайные прозвища.
Имена архангелов ничего не объяснили отцу Романо — он не мог припомнить, чтобы когда-нибудь разговаривал с Тэдом на эту тему. Ничто в его наставнике не указывало на его причастность к некоему тайному сообществу. Вся эта история выглядела полнейшей нелепицей, Романо не видел в ней ни крупицы смысла. Но тогда почему Тэд оказался жертвой? Какая связь между ним и покушением на Бритт Хэймар? Может быть, крест подскажет отгадку?
Отец Романо надевал крест только по особым случаям и хранил его у себя в кабинете. Он выдвинул ящик стола и вынул распятие из бархатного мешочка, заметив, что Бритт при этом странно напряглась.
— Мы, возможно, забыли о самом существенном. — Романо положил крест перед собой. — Давайте поразмыслим как следует. Это единственное звено, которое связывает нас троих воедино. — Он принялся задумчиво обводить пальцем контуры массивного железного распятия. — Отец Тэд говорил, что это реликвия, что ему ее подарили в Швейцарии, в день принятия обета. Правда, подробностей он никогда не рассказывал — вскользь упоминал только, что крест издавна передается из поколения в поколение среди священников, а его происхождение давно забылось.
— А мы могли бы его как-нибудь установить? — заинтересовалась Бритт. — У церкви ведь имеются описи официально известных реликвий?
— Об этом я и сам уже думал, — ответил Романо. — Пробовал установить, но ничего не добился. Вряд ли это распятие носил какой-нибудь святой — тем более что вы видели точно такое же у отца Маттео.
Бритт склонилась ближе к кресту и стала внимательно его рассматривать.
— Поразительно. Ручаюсь чем угодно, но у отца Маттео был точь-в-точь такой же.
Романо мельком взглянул на угол стола и увидел конверт — письмо Тэда. Может быть, отец Натан Синклер что-то прояснит насчет креста? В дверь два раза энергично стукнули, и в кабинет просунулись две любопытные рожицы.
— Простите, отец, мы не знали, что вы не один.
— Входите, входите, — пригласил Романо. — Пара свежих голов будет нам очень кстати, чтобы во всем разобраться.
Он представил профессора Хэймар Карлоте и Чарли — те неловко поздоровались и остались мяться у дверей, переглядываясь. Когда Романо сообщил ассистентам, что Бритт совсем недавно встречалась и с отцом Маттео, и с отцом Метьюсом, те разинули рты от изумления.
— Вы подоспели как раз вовремя, — добавил священник. — Профессор Хэймар, если вы не торопитесь, Чарли и Карлота проводят вас вниз, и вы возьмете что-нибудь к ленчу — я угощаю. Покупайте и возвращайтесь сюда — тогда мы все вместе постараемся подвести общий знаменатель под эти печальные события.
— Мне такая идея нравится, — кивнула Бритт.
Она встала и выжидательно посмотрела на Карлоту и Чарли. Романо вынул из кармана несколько банкнот и протянул их ассистентке, после чего все ушли, оставив священника наедине с самим собой. Он снова поглядел на конверт, а за тем потянулся к телефонной трубке. Подскажет ли Натан Синклер, где искать концы? Тэд… родословная… архангелы… стигматы…
26
Отец Натан Синклер запихнул в черную дорожную сумку еще кое-какие пожитки, положил на подушку деревянное распятие и застелил постель темно-синим простым покрывалом. Он окинул взглядом комнату — все ли взято? — а затем набросал короткую записку, объясняющую, что у него в последний момент изменились планы и ему нужно срочно вы летать. Закончил послание отец Синклер выражением благодарности Нью-Орлеанскому иезуитскому центру за их всегдашнее гостеприимство и, оставив листок на столе, вышел из комнаты.
Недавний звонок совершенно выбил его из колеи. Отец Метьюс и отец Маттео скончались. Вероятно, он следующий. Совет принимает меры, чтобы оградить его и оставшуюся братию, но время говорит не в их пользу. Спор между жизнью и смертью теперь решают минуты.
Синклер устремился по улице, не обращая внимания на призывную жестикуляцию таксиста на углу. Позади остался магазинчик, предлагающий эротические пирожные, шоколадные конфетки и игрушки для взрослых. Следом за ним промелькнул тату-салон, ярко подсвеченный красным неоном. Вывеска уверяла, что сам Красный Крест гарантирует полную стерильность обслуживания. Витрины ресторанов расхваливали на все лады настоящую каджунскую и креольскую кухню. Вот оно — истинное сердце Нью-Орлеана!
Рядом притормозило еще одно такси — водитель попытался соблазнить Синклера туром по самым горячим барам Французского квартала. Священник проигнорировал предложение и ускорил шаг. Пешком он добрался до отеля «Роял Сент-Чарльз», где ему было предписано снять номер. Там можно будет спокойно разобраться в происшедшем.
Синклер всегда имел в виду вероятность подобного развития событий, но до конца не верил в нее. Степень защиты так высока, думал он, что обеспечивает полную недоступность извне. Лишь Совету Пяти известны ритуальные имена тех, кто входит в Ближний Круг, и их не называют иначе даже за глаза. Вероятно, утечка как-то связана с новостями, донесшимися из Франции. Не иначе, кто-то навел мосты, взломал код или предал общее дело. Вначале он думал, что разглагольствования о родословной основаны на беспочвенных домыслах. Каких только догадок за эти годы не было понастроено — в основном стараниями беспокойных умов и приверженцев теории заговора. Теперь Синклер страшился, что кто-то все же докопался до сути.
Синклер мечтал провести жизнь в безвестности, подобно предшествовавшим ему многочисленным собратьям, которые следовали стопами Христовыми, но один-единственный телефонный звонок положил конец надежде.
27
Отец Романо держал палец на кнопке разъединения и никак не мог решить, звонить ему в ФБР или нет. С одной стороны, не поговорив с Синклером, он ничего не может сообщить агентам Бюро, а тот меж тем уже выехал на год в Гватемалу для миссионерской работы. С другой стороны, Бритт и ее встреча с обоими ныне покойными священниками… Связана ли все же с ней их кончина? И зачем в нее стреляли? Известие о смерти иезуитов явно ее огорошило, да и не похожа она на хладнокровную убийцу… Романо решил обождать до тех пор, пока побольше не узнает о Бритт и о пресловутой родословной или пока не созвонится с Синклером. Подумав так, он отпустил кнопку на телефонной базе и положил трубку.
Ему снова вспомнился Тэд — как он лежал на кровати. Будто молился. А может, и вправду молился? И еще эти раны… Какие-то они были ненастоящие, почти бескровные. Романо снова взялся за телефон и собрался позвонить Биллу Шелдону, чтобы узнать, получили ли они заключение о смерти, но едва он успел набрать код штата, как в комнату вошла Бритт в сопровождении Чарли и Карлоты, нагруженных двумя тяжелыми пакетами и подносом с напитками. Романо снова положил трубку.
— Надеюсь, мне из этого что-нибудь перепадет? — осведомился он.
— Вам, как всегда, куриный салат по-восточному и булочка с цельными злаками, — объявил Чарли, водружая пакеты на стол. — А зеленый чай — заслуга Карлоты.
Романо встал и помог им сдвинуть компьютеры на край круглого стола, чтобы освободить место для ланча.
Покончив с едой, он неожиданно понял, как выглядит общий знаменатель: Бритт спешила закончить книгу, чтобы обнародовать результаты своих исследований, и это могло спровоцировать кончину обоих священников.
28
Гавриил бегом спустился на первый уровень нью-орлеанского международного аэропорта Армстронг и окликнул такси. Его рейс опоздал, и времени оставалось в обрез. Он велел отвезти его к собору Сент-Луис на Джексон-сквер: таксисту совершенно не нужно потом вспоминать, что он подвозил пассажира из аэропорта к отелю Роял Сент-Чарльз. От собора до отеля можно шесть или даже восемь кварталов пройти пешком.
Гавриил удобно расположился на заднем сиденье и подставил лицо под воздушную струю кондиционера. Поглаживая ладонью прохладную шероховатую кожаную обивку, он впал в мрачное спокойствие. На сегодня план ясен, а потом останется только заключительный этап. Собрание в святилище наконец-то подведет итог всему. Сам Господь ниспослал ему испытание: искоренить богохульство, виной которому — неведение и алчность человеческого разума.
Пройдет несколько дней, и церковь снова сможет нести веру страждущим, не опасаясь угрозы со стороны «Rex Deus». Только членам Совета Пяти ведомы устные предания братства и его деяния. И они, и весь Ближний Круг должны навеки исчезнуть. Второе Пришествие состоится, как некогда предвещал сам Господь, и исполнится предсказанное в Евангелиях: «…и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою великою».[624]
29
После обеда отец Романо и Бритт вкратце передали Карлоте и Чарли суть той части их беседы, где речь шла о покушении и о кончине священников. Решено было сосредоточить внимание на поиске наиболее вероятных связующих элементов между Бритт, Романо и мотивами неизвестного злоумышленника, вознамерившегося лишить жизни профессора Хэймар и обоих иезуитов. Допивая зеленый чай, Романо задумчиво глядел на Бритт.
— Думаю, что самый очевидный фактор — это ваши исследования для будущей книги.
— И звонки насчет евангелия от Иакова — лишнее тому доказательство, — подтвердил Чарли. — Из-за них вы с отцом Романо оказались на станции, а тип, который послал вам фрагмент рукописи, навел вас на отцов Маттео и Метьюса.
— Но я уверена, что это не один и тот же человек, — не соглашалась Бритт.
— Однако они оба упоминали неизвестное Евангелие, — вмешалась Карлота. — Все это напрямую касается вашей идеи о родословной и, вероятно, ставит кого-то под удар — возможно, целую организацию. Или кто-нибудь решил, что вы выведали информацию, которой на самом деле не располагаете.
— Или он просто псих, — предположил Чарли.
Бритт тут же вспомнила замечание отца Романо насчет «голоса из зала». Она постепенно проникалась уважением к ассистентам священника и к их сообразительности. Ей пришло в голову, что она ничего не потеряет — напротив, даже выиграет, — если поделится с ними своими текущими соображениями: некоторые частности ей никак не удавалось связать воедино. Сам Романо не вызывал у нее полного доверия — вероятно, потому что он священник. К тому же она никого не собиралась посвящать в материал последней, ключевой главы книги.
— Общую концепцию «Подложного Иисуса» можно определить как попытку представить читателю разносторонний обзор исторических фактов, преданий и мифов, в том числе и каноническую версию событий, принятую официальной церковью, — пояснила Бритт. — Пресса же увидела в моей книге в первую очередь сенсацию, а вовсе не научное сочинение.
— И все же создается впечатление, что вы собрались развенчивать христианство, — заметил Чарли.
— Нет же, Чарли! В мои намерения входит лишь показать более широкий спектр представлений об Иисусе Христе в пику донельзя однобоким воззрениям церкви.
— Но, придавая вес воззрениям, противоречащим официальной доктрине, тем самым не развенчиваете ли вы ее? — не отступал юноша.
— Ну же, Чарли, — перебил его Романо. — Мы здесь собрались не для дебатов о книге и взглядах профессора Хэймар — для этого можно выбрать другое время. Давайте постараемся не отходить от темы, а сейчас это — исследования родословной и рукопись Иакова. Я согласен с тобой и с Карлотой: здесь скрывается некая подоплека.
Они переглянулись и, не сговариваясь, кивнули.
— Так и есть, — откликнулась Бритт. — Мои сомнения насчет обоснованности христианских верований частично проистекают из моих прошлых исследований о коханим — верховных жрецах Иерусалимского храма времен Иисуса. Собирая материал для предыдущей книги, я проделала значительную работу по изучению гностических Евангелий и посланий святого Павла. Они и привели меня к фундаментальному вопросу: явился ли Христос для разоблачения или для искупления?
— И что же коханим? — заинтересовалась Карлота. — Я писала по ним реферат. По поводу них и Христа есть кое-какие интересные теории…
— Ты, вероятно, имеешь в виду предположение, что Иисус — сын Марии от одного из верховных жрецов храма?
— Именно, — подтвердила Карлота. — Я читала, что священниками коханим могли стать только сыновья самих коханим. Часть историков утверждают, что двадцати четырем верховным жрецам храма Ирода в Иерусалиме было препоручено не только обучать девушек в храмовой школе, но так же и оплодотворять их, когда избранные юницы достигали детородного возраста, а затем подбирать им супруга из наиболее уважаемых мужчин общины. Чета растила ребенка, рожденного от такого союза, до семи лет, а потом возвращала храму, где он далее получал соответствующее образование. Предположительно, таким образом обеспечивался принцип наследования высших священнических должностей коханим и поддерживалась чистота их родословной ветви.
— Не забудь про ритуальные имена верховных жрецов, — встрял Чарли.
— Верно, — продолжала Карлота. — У отцов Маттео и Метьюса были тайные имена: Уриил и Рафаил. Здесь нам подсказка. Во время торжественных обрядов верховные жрецы выстраивались на ступеньках храма по старшинству, согласно их ритуальным прозваниям — Мелхиседек, Михаил, Гавриил, Рафаил, Уриил. Но это и имена архангелов.
— Есть также предположения, что Мария зачала от Гавриила, одного их верховных жрецов, — подхватил Чарли. — Они опираются на свидетельства из Евангелий, что Марии явился ангел Гавриил, чтобы возвестить ей, что на нее снизошла милость Господа понести во чреве сына по имени Иисус.
Бритт покивала:
— Жаль, что вас не было у меня, когда я начинала писать книгу. Для работы над ней я взяла творческий отпуск, потому что не могла позволить себе роскошь держать под рукой двух таких вундеркиндов.
— А вы сами верите, что Иисус был сыном Марии и верховного жреца? — спросила Карлота.
Бритт обратила внимание, что Романо спокойно сидит и никак не вмешивается в разговор. Она колебалась, как отреагировать на вопрос Карлоты, но в конце концов выбрала искренность. Пусть сами решают, кто она — ученый альтернативных убеждений или шарлатан от науки. Ей все равно.
— Лично я не исключаю такую возможность. Я также допускаю, что Иисус мог вести два обособленных бытия — физическое и духовное. То есть Господь облек духовную суть Христа в физическую оболочку — возможно, при посредничестве Иоанна Крестителя. В таком случае воскресла его духовная сущность — она и встречалась с его учениками и последователями, а потом вознеслась на небо. А физическая соединилась с Марией и произвела на свет детей.
Чарли и Карлота смущенно переглянулись, а потом уставились на Романо — тот сидел с бесстрастным выражением и сохранял молчание. Весь его облик, казалось, побуждал профессора Хэймар излагать свои воззрения дальше.
— Я вполне понимаю тех ранних христиан, которые надеялись обрести духовное озарение через таинства, недоступные обычному человеческому пониманию, — продолжила Бритт. — Бог надреален. Почему мы обязательно должны принимать на веру церковную парадигму понятий о Христе, включающую непорочное зачатие, распятие, воскресение и вознесение на небеса? Разве не может получиться так, что подобные события просто-напросто недоступны нашему разумению?
— Хвала вам за вашу прямоту, — наконец подал голос Романо. — Я думаю, согласие ученых выражается и в праве на несогласие. А Чарли и Карлота вольны выработать собственные убеждения.
— Вот интересно, — парировала Бритт, — ваши студенты наверняка перелопатили гору материала по альтернативным воззрениям на Иисуса Христа. Почему же вы сами не даете себе труда пристальнее рассмотреть хотя бы одно из них или просто подвергнуть сомнению общепринятый взгляд на вещи?
Романо кивнул на своих ассистентов:
— Пусть они вам ответят за меня.
— Для меня тут вопросов нет, — пояснил Чарли. — Со времен Христа и в последующие несколько столетий после Его распятия сохранилось множество письменных источников, подтверждающих написанное в документах, известных теперь как Новый Завет. Что до альтернативных предположений, то не сохранилось ни письменных свидетельств очевидцев, ни знакомых этих очевидцев, чтобы подкрепить неканонические воззрения.
— Я согласна с Чарли, — кивнула Карлота. — И я еще раз отметила бы важность критерия преемственности. Члены молодой христианской церкви утвердили Евангелия и передавали их из поколения в поколение. Если бы в Писании содержались серьезные погрешности, неужели же не нашелся кто-нибудь, кто исправил бы их?
— Не забывайте, — возразила Бритт, — что в середине второго века набирающая силу ортодоксальная церковь объявила ересью многие тексты, датированные началом христианской эры. — Она заметила, что Романо при этих словах будто встрепенулся. — К четвертому веку, когда римский император Константин Великий провозгласил христианство государственной религией, церковники вытребовали у властей признать хранение таких еретических сочинений преступлением. Найденные экземпляры сжигались, поэтому они до нас и не дошли.
— Но ведь сохранились же тексты Наг-Хаммади, — не выдержал Чарли. — Разве они не подтверждают, что в ту эпоху ничто явно не противоречило христианским канонам?
— Простите, что вмешиваюсь, — поспешно ввернул Романо, — но, боюсь, так мы рискуем окончательно увязнуть — вернее, ужеувязли. О текстах Наг-Хаммади написаны тысячи книг, статей и отзывов. Единственное, на чем сходятся все без исключения авторы, — то, что это чрезвычайно пест рая смесь, основанная на христианских, языческих и еврейских верованиях, которые бытовали в те далекие времена. А поскольку гностицизм всегда подразумевал поиск духовной истины и самопознание, некоторые его мистические положения практически не допускают однозначных и точных толкований при переводе. Именно поэтому упомянутые здесь тексты и стали в современных научных кругах настоящей chronique scandaleuse.[625] И поводом для серьезных распрей среди ученых.
— И к чему же мы в результате пришли? — спросила Карлота.
— Я думаю, пора вернуться к вопросу Карлоты: «Неужели не нашелся кто-нибудь, кто исправил бы погрешности?» — заявила Бритт.
Она посмотрела сначала на студентов, потом на Романо, которого явно тяготила эта тема. Вероятно, священник угадывал заранее, что она собирается сказать. Остановив на нем пристальный взгляд, Бритт продолжила:
— Очевидно, что кто-то в конце концов так и поступил. Как я уже говорила, у меня есть фрагмент папируса времен Христа, прошедший радиоуглеродный анализ. В этой рукописи Иаков признается, что у его брата Иисуса родились двое близнецов.
Бритт заметила, что на рубашке Романо расползлись под мышками темные пятна. Сдержав улыбку, она добавила:
— Будем считать, что это первый шаг к исправлению погрешностей.
30
Кристиан Фортье любовался видом из окна в своих пентхаус-апартаментах в Парк-паласе. Этот уголок можно было без преувеличения назвать одним из самых живописных в мире. Лучи заходящего солнца сверкали на скалистых пиках, окружавших Монако, отражались в темной синеве вод Средиземного моря. Их затухающий отблеск подсвечивал в отдалении белые скорлупки частных яхт, пришвартованных в местном порту. Слева вдавалась в море громада Международного конференц-центра — части комплекса «Спелег», выстроенного на бетонных сваях вдоль побережья. Его шестиугольная мозаичная терраса радовала глаз живым сочетанием ярких красок.
Фортье жил в княжестве Монако уже почти тридцать лет. Поначалу он переместил сюда из Франции свою постоянную резиденцию, желая уберечь от налогов немалое состояние — результат умелых операций внутри финансовой империи, созданной Советом. Впрочем, через несколько лет он убедился, что Монако не просто рай для богатых. Спокойное изящество этого места, томность запахов моря и садов приютившегося на Лазурном Берегу крошечного княжества окончательно пленили его.
Экран интеркома возвестил о прибытии остальных членов Совета Пяти. Фортье нажал зуммер и впустил их. Гости прибыли в Ниццу водным путем — из Мюнхена, Глазго, Москвы и Лондона. Там их уже ждал личный вертолет. Всего за семь минут он доставил прибывших в Монте-Карло, а оттуда до Парк-паласа их домчали два темно-серых «бентли».
Открылись двери персонального лифта, и Фортье вышел навстречу гостям. Прислугу он загодя отпустил на весь вечер.
— Прошу прощения за доставленные неудобства, господа.
Он пригласил всех в свой кабинет и предложил занять места за обширным столом розового дерева, над которым нависала люстра из венецианского стекла. Для них уже были приготовлены удобные, в тон столу кресла с обивкой из итальянской кожи, хрустальные наборы — графин с бокалом, и для каждого — отдельный ноутбук.
Когда гости расселись, Фортье занял место во главе стола.
— События последних дней носят катастрофический характер, что и вынудило меня прибегнуть к столь крайним мерам.
— Еще ни разу дело не доходило до убийства членов нашего Ближнего Круга. Что вы теперь, черт возьми, собираетесь предпринять? — спросил «Москва».
— Нет ли тут ошибки: их точно убили? — поинтересовался «Глазго».
Все головы, как по команде, повернулись к шотландцу.
— Что за дурацкие намеки? — осведомился «Лондон».
— Вовсе не такие уж дурацкие, — огрызнулся тот. — Нам поручено оберегать наш священный орден. Мы — слуги Господни. Но не все в мире подвластно нашему пониманию и контролю.
— Господа, господа! — Фортье легонько постучал по столу. — Скоро мы с вами выясним, отчего умерли Уриил и Рафаил, а сейчас наш долг — сделать все возможное для защиты оставшихся членов. Если тут вмешался Божий промысел, то так тому и быть. Его деяния нам неподвластны.
— И что вы предлагаете? — спросил «Москва».
— Я выяснил, что Бриттани Хэймар приезжала к Уриилу за день до того, как его нашли мертвым, и сразу после встречи улетела обратно в Штаты.
Лица у присутствующих заметно вытянулись, все начали озадаченно переглядываться.
— Я тут же отправил следом Филипа Армана. Он должен был временно вывести ее из игры, — сообщил Фортье.
— И что? — не выдержал «Москва».
— Филип выбрал огнестрельное ранение…
Гости разом ахнули.
— Он заверил меня, что не станет ее убивать, — продолжал Фортье. — Пока Хэймар лежала в больнице, он собирался скопировать из ее компьютера материалы, относящиеся к новой книге, чтобы доставить их в Монако на наш общий суд. Непосредственно перед вашим приездом я получил сообщение, что Филип сейчас в «Отеле де Пари», а материалы вскоре прибудут с посыльным.
— Вы считаете, что Хэймар причастна? — спросил «Лондон».
— Полной уверенности нет, но не забывайте, что у нас сейчас две головные боли, — сказал Фортье. — Недавние смерти и предотвращение утечки информации, могущей навредить нашему священному ордену. Из-за последних публикаций в прессе и своей новой книги «Подложный Иисус» Хэймар теперь первая на подозрении. Не будем забывать и об отце Джозефе Романо. Филип получил указание организовать улики в покушении на Хэймар против отца Романо. Это на время выведет их обоих из игры.
— Рафаил уверял, что отец Романо не представляет угрозы, — заметил шотландец. — Он ничего не знает.
Фортье испепелил его взглядом:
— Рафаила больше нет. И это меняет дело, не так ли?
— Считаю, что нужно собрать оставшихся и заново их рассредоточить. Пусть скрываются до тех пор, пока угроза полностью не исчезнет, — предложил «Москва».
— Но сделать это необходимо, не привлекая к ним лишнего внимания, — добавил «Лондон». — Не исключена слежка. Человек, владеющий информацией, может оказаться куда опаснее вооруженного бандита.
Мелодичный звон развеял тягостную атмосферу в комнате. Фортье встал:
— Вероятно, доставили донесение от Филипа и материалы исследований, скопированные у Хэймар.
По пути к интеркому он вдруг задумался. Может быть, кто-то в Совете или в Ближнем Круге все же дознался правды о манускрипте? Неужели рвение, направленное на то, чтобы сцементировать основы священного ордена, предопределило его крах?
31
Романо колебался, не зная, как отреагировать на заявление Бритт, и бездумно таращился на страницу блокнота, где его рука машинально выводила каракули. Он не хотел открыто оспаривать подлинность манускрипта, хотя испытывал на его счет большие сомнения. Сколько уже было случаев, когда «настоящие» артефакты и документы успешно проходили первичный анализ, а впоследствии оказывались обычными подделками… Сама Бритт тоже не внушала полного доверия. Романо раздражала ее манера взглядывать украдкой, словно она что-то недоговаривает. Вероятно, она совершенно искренне предается своим эксцентричным воззрениям, но чересчур увлеклась нетрадиционными концепциями и забрела совершенно не в ту степь. Что-то в ней чрезвычайно настораживало священника.
Наконец он оторвался от блокнота и увидел, что к нему обращены три пары глаз: все ждали какого-то ответа.
— Я бы хотел взглянуть на эту рукопись, — произнес он. — Мне много раз приходилось заниматься толкованием старинных манускриптов и подтверждать их подлинность.
— Мне очень важно услышать ваше авторитетное мнение, — оживилась Бритт. — Но у меня есть условие: вы позволите мне сослаться на ваше мнение в новой книге?
Романо вовсе не улыбалась идея оказаться в гуще кривотолков, поднятых прессой и оспаривающих истинность церковного учения. Но ведь он сам требовал от своих студентов доискиваться истины, через какие бы дебри ни пролегал путь к ней!
— Я всегда отвечаю за свои слова, — произнес он. — Итак, где и когда?
Он перехватил взгляд Бритт, брошенный на потрепанную кожаную сумку, лежащую на стуле у письменного стола священника.
— Давайте в начале недели, — предложила Хэймар. — В понедельник или во вторник. Я принесу манускрипт с собой, и вы сможете исследовать его в вашей лаборатории.
— Лучше в понедельник, — ответил Романо.
— Отец, разве так годится? — вмешалась Карлота.
— А что тебе не нравится?
Будем считать, что все эти страсти-мордасти нам не страшны и прятаться смысла нет. Зато никто не станет спорить, что дело именно в рукописи. Может, профессор Хэймар и не ошибается — тогда человек, первым позвонивший ей и приславший потом манускрипт, к покушению отношения не имеет. А если за ней действительно следят? Отца Маттео и отца Метьюса уже убили. Этим людям наверняка известно о вашей дружбе с отцом Метьюсом. Если он владел какой-нибудь информацией, то и вас теперь будут подозревать в том же. Они ведь уже добрались до профессора Хэймар и ранили ее.
— Где сейчас рукопись? — перебил ее Романо.
— Заперта в моем сейфе, — ответила Бритт. — Но в рассуждениях Карлоты есть рациональное зерно. Пока я лежала в лечебнице, кто-то забирался в мой компьютер, хотя квартира не вскрыта.
— Тогда, выходит, кто-то точно подозревает: вы знаете лишнее. Или он охотится за папирусом, — заключил Романо. — Пусть рукопись остается в сейфе до тех пор, пока компетентные органы не разберутся, кто за всем этим стоит.
— Я тут пока немного систематизировал наши загадки, — сообщил Чарли, прокручивая на мониторе текст с подцвеченными абзацами. — Общий момент один: телефонные звонки. Уверен, что ФБР без труда определит, откуда они поступили.
Романо достал бумажник, отыскал визитку агента Катлера и протянул ее Бритт, а затем пододвинул к ней телефонный аппарат:
— Чарли прав. Вам следует немедленно сообщить в Бюро об этих звонках и о встречах с покойными священниками.
Но Хэймар неожиданно положила визитку на стол, резко поднялась и порывисто схватила сумку:
— Простите, это невозможно. Не сейчас.
Она повернулась и направилась к двери. Романо снял трубку:
— Если вы не хотите сами позвонить в ФБР, я сделаю это за вас.
32
Отец Синклер вошел в холл отеля «Роял Сент-Чарльз» и занял очередь у круглой регистрационной стойки. Из середины стола вырастала огромная серебристая колонна и уходила ввысь, под самый потолок. На полпути к своду ее обхватывал широкий металлический венчик с подсветкой, отбрасывавшей на поверхность стойки бледно-желтые овальные блики. Синклеру было непонятно, почему Гавриил выбрал именно этот дорогой отель в двух шагах от Французского квартала. Заведение было куда шикарнее прежних приютов Синклера, особенно по сравнению со скудостью будущего миссионерского житья в Гватемале. Впрочем, Гавриил, конечно же, привык жить в роскоши.
На регистрации затруднений не возникло. Захлопнув за собой дверь гостиничного номера и накинув на замок цепочку, Синклер испытал несказанное облегчение. Сунув свою котомку в стенной шкаф, он достал из мини-бара кофеварку и насыпал в нее кофе на одну порцию. Затем, устроившись в плюшевом кресле, священник принялся ждать телефонного звонка от Гавриила. В любом случае, пока Совет решает проблему убийств, кто, как не Гавриил, способен защитить отца Синклера?
33
Бритт застыла на пороге кабинета. Тон у священника изменился: в нем появилась незнакомая ей резкая нотка. Несомненно, он не отступит от своего намерения и позвонит в ФБР. Она обернулась, и ей показалось, что мягкие глаза Романо странно потемнели. Не хватало только, чтобы еще один поп вторгался в ее жизнь! Приходской священник изводил ее уговорами помолиться за Тайлера. «Господь внемлет нашим просьбам», — неустанно твердил он. Бритт и так молилась: день за днем, не зная ни минуты отдыха. Если случалось проснуться среди ночи, то она произносила молитву за молитвой, пока снова не погружалась в дремоту. Но разве это помогло? Тайлер все равно умер — и как же долго он мучился!
После гибели Алена к ней заявился очередной священнослужитель. Этот тоже проповедовал о пользе молитв для облегчения собственных страданий. И тоже безрезультатно. Она разом отринула от себя и молитвы, и попов, и прочие пустопорожние церковные догмы — и тогда же познакомилась с Феликсом. Именно его разглагольствования, хоть и весьма двусмысленные по сути своей, побудили Бритт «исправить погрешности». Ради этого она была готова пожертвовать собственной профессиональной репутацией — если нужно, даже жизнью. Нет, никоим образом нельзя допустить, чтобы Романо позвонил федералам.
— Прошу вас, не надо, — попросила Бритт. — У меня билет на самолет. Через несколько часов я лечу в Вену на встречу с человеком, который, возможно, разъяснит мне и эти смерти, и покушение. Я не хочу, чтобы ФБР вмешивалось раньше времени.
— Надеюсь, это не священник, иначе остается думать, что и его ожидает не лучшая участь, — произнес Романо.
Бритт устало отложила сумку, оперлась о дверной косяк и покачала головой.
— Нет, тут совсем другое. Я собираюсь увидеться с человеком, который впервые поведал мне о «Rex Deus». Это было год назад в Лондоне, на собрании общества Соньера.
— О боже! — не удержался от восклицания Романо. — Это же сборище чокнутых, помешанных на конспирации! Если уж вы упомянули «Rex Deus», то с таким же успехом можете сослаться и на короля Артура, и на сэра Ланселота, и на Святой Грааль!
Бритт начала обуревать злоба, но в то же время ей хотелось рассмеяться ему в лицо. Романо даже не представляет, насколько он близок к истине! Ее так и подмывало сообщить ему настоящую цель своего путешествия, но Бритт заранее знала, что не успеет она закончить, как он уже наберет номер ФБР.
— Очень может быть, что часть этих предположений не совсем достоверна, — допустила она. — Но и в них имеется доля исторической правды.
— Ничтожная доля, — с нажимом произнес Романо.
— Доля есть доля.
— Давайте вернемся к начатому, — сказал Романо. — С кем вы встречаетесь?
— Я знаю только его имя — Феликс. Это его сведения побудили меня заняться теорией о родословной Христа. Он ссылался на Le Serpent Rouge и некие неизвестные документы, доказывающие ее существование. А через несколько месяцев после нашей встречи во французской прессе начали появляться статьи о новом Евангелии от Иакова. Именно в тот период мне и позвонил человек, который потом выслал фрагмент манускрипта.
— Этот незнакомец знаком с Феликсом? — поинтересовался Романо.
— Нет. Я спрашивала его, не от Феликса ли он, но тот человек даже не понял, кто это.
— А зачем вам теперь встречаться с этим Феликсом?
— Он предупреждал меня, что я навлеку на себя опасность, если буду и дальше заниматься исследованиями Le Serpent Rouge, да еще включу их результаты в свою новую книгу. С тех пор Феликс никак не давал о себе знать, но именно от него я рассчитываю услышать правду о кончине священников и о покушении на меня.
— Тогда вам прямая дорога в ФБР, — настаивал Романо. — Возможно, ваш Феликс все это время держал вас на крючке. Может статься, он и есть убийца.
— Сильно сомневаюсь, — возразила Бритт. — Больно уж он непредставительный — весь какой-то жалкий, маленький, почти карлик. Уж поверьте, Феликса я бы узнала, задумай он стрелять в меня. Если бы он был замешан в одном из этих преступлений, полиция уже давно бы составила его фоторобот.
— Но ФБР на всякий случай все же следует поставить в известность.
— Если Феликсом займутся федералы, то его потом не сыщешь днем с огнем. И я даже не знаю его фамилии.
— Как же вы назначили с ним встречу? — удивился Романо.
Бритт понимала, что ее объяснение прозвучит смехотворно, но ничего не оставалось, как признаться:
— Он сказал, что я могу связаться с ним через один из книжных магазинов Вены: надо попросить их положить для него записку в условленную книгу — как минимум за неделю до своего приезда.
Романо откинулся на спинку стула и смерил ее ироничным взглядом.
— Вы, должно быть, шутите, — проронил он. — Это явный розыгрыш.
Бритт помолчала, стиснув зубы, а потом едко осведомилась:
— А двое мертвых священников и покушение на меня — тоже розыгрыш?
Она заметила, как напряглось лицо у Романо, но скоро к нему вернулось обычное выражение. Вероятно, священник все же внял ее доводам. Меж тем Карлота и Чарли застыли, вперив взгляды в пол.
— Нет, это, конечно, не розыгрыш, — медленно вымолвил Романо. — И мне очень хотелось бы найти убийцу отца Тэда.
— Я ни минуты не сомневаюсь, что Феликс знает ответы на эти вопросы, — умоляюще обратилась к нему Бритт. — Если вы действительно хотите доискаться истины, почему бы вам не полететь со мной в Вену и не убедиться воочию? Вполне возможно, что этот Феликс — священник. Может, хоть это вас убедит…
Романо вытаращил на нее глаза, поморгал от неожиданности, а затем его лицо неожиданно расцвело улыбкой:
— В Вене живет мой близкий приятель и коллега. Может, он даже знаком с вашим Феликсом. Когда у вас рейс? Встречаемся прямо в аэропорту.
34
Члены Совета Пяти, рассевшись за столом розового дерева, не отрывали глаз от мониторов ноутбуков. Прокручивая на экранах добытые Филипом Арманом файлы, они изучали материалы исследований Бриттани Хэймар. Скользя взглядом по тексту, по цифровым изображениям, Кристиан Фортье все более внутренне холодел. Пока он не обнаружил ни одной прямой и опасной для Совета улики, зато ему попались цитаты, недопустимо близкие к истине. Хэймар использовала в книге многочисленные ссылки на «Rex Deus» — довольно, впрочем, безобидные: никаких конкретных имен, лишь общеизвестные, за последние годы изрядно на слуху версии о некой тайной династии, якобы владеющей истиной о происхождении Христа и о его потомках, а также исторические свидетельства о правопреемстве рода Давида на иерусалимский престол, появившиеся после Первого крестового похода.
— Здесь есть упоминания об архангелах, — многозначительно взглянул на собеседников коротышка шотландец. — В основном касаемо верховных жрецов Иерусалимского храма. Она хорошо поработала на тему коханим. Даже докопалась до генетического изъяна.
— Говорится ли тут об архангелах в связи с Le Serpent Rouge? — спросил Фортье.
— В этом разделе ничего нет ни о Le Serpent Rouge, ни о родословной. Все внимание она здесь сосредоточила на непорочном зачатии. Хэймар ссылается на теорию о том, что Мария понесла от верховного жреца Иерусалимского храма.
— Ого-го, плохи дела! — Здоровяк из России налег грудью на стол и ткнул в монитор. — Вот тут она намекает, что ей по силам взломать тайный код «Rex Deus». — Скрипя стулом, он водил пальцем по экрану: — Хэймар подозревает, что Феликс может дать ключ к разгадке, что он выдаст ей подробности — надо только его разговорить!
Фортье, вскинувшись, огрызнулся на русского:
— Этого еще не хватало! Она что, знает Конрада?
— У нее тут есть пометка о бронировании авиабилета в Вену, — пояснил англичанин. — На сегодняшний вечер.
— Может быть, она вычислила Михаила, — добавил русский. — Надо срочно ее задержать.
— Очень может быть, — согласился Фортье. — Это наверняка Феликс Конрад навел ее на след. Может, он даже с ней заодно.
— Даже если порознь: кто знает, что он может ей выболтать? Хэймар сделает свои выводы, а нам это зачем? — добавил англичанин.
— Филип следил за ним целый год после того, как нам стало известно о предсмертной исповеди его дядюшки. Оттуда у Конрада и пошли странности в поведении, — сообщил Фортье. — Но Арман не выявил у него признаков опасной для нашего дела осведомленности. Тогда мы решили, что Конрад — обычная жертва расплодившихся сейчас теорий заговора. А когда во французских журналах появились статьи о неизвестном Евангелии от Иакова, я снова подослал к нему Филипа, но Арман не обнаружил никакой связи между Конрадом и этими публикациями. Он проникал к нему в дом, но о Евангелии ничего не нашел. На нашей последней встрече мы с вами договорились, что те материалы в прессе были голой фальшивкой. К тому же переводы пресловутого подлинника далеки от исключительной точности.
— Итак, Конрад опять попал в наше поле зрения. Нам лучше теперь не рисковать, — высказал свое мнение англичанин.
Фортье повернулся к монитору и продолжил просматривать файл.
— Нашел ли кто-нибудь из вас доказательства, что Хэймар причастна к убийству Уриила и Рафаила или что она располагает сведениями о Ближнем Круге или о нашем Совете? — спросил он.
Гости переглянулись, а шотландец нервно поерзал на си денье:
— Прямых доказательств нет.
— В отчете Филипа ясно говорится, что она не могла убить Рафаила, — подтвердил русский. — Он проследил за ними до самого бара, а потом до ворот иезуитского центра. Там Хэймар распрощалась с Рафаилом и вернулась в Нью-Йорк.
— Что, если у нее был сообщник — тот же Конрад? — предположил русский. От волнения его голос срывался. — А она заманила Уриила и Рафаила в ловушку. Нам известно, где в это время был Конрад?
— Господа, у нас есть забота поважнее, — вдруг объявил немец.
Фортье вчитался в текст на экране и похолодел.
— Весь этот файл — выдержка из Евангелия от Иакова, — продолжил немец. — Правда, совсем небольшая, зато перевод очень близок к оригиналу.
— Быть не может. — Фортье сгорбился и вновь принялся прокручивать перед глазами текст, барабаня пальцем по коврику мыши. — Никто из посторонних не знает об истинном Евангелии от Иакова, тем более — не имеет его переводной версии.
— Мог ли кто-нибудь снять копии с манускрипта, прежде чем он попал к вам? — поинтересовался русский.
— Я лично присутствовал при вскрытии гробницы, — ответил Фортье. — И сразу забрал папирус к себе. Бывший со мной египтянин мог лишь мельком увидеть верхний лист манускрипта. Он ни за что не запомнил бы даже несколько строк унциального письма.[626] — Фортье подобрался и внимательнее вгляделся в экран: — К тому же переводили фрагмент из середины документа.
— Может быть, Рафаил и Уриил выдали перевод сообщнику Хэймар? — предположил шотландец. — Она его на них навела, а он потом их пытал или накачивал наркотиками?
— Лично мне верится с трудом, что Конрад на такое способен, — вмешался англичанин.
— Этот файл создан несколько месяцев назад, — сообщил русский, добравшись до конца документа. — Здесь указано, что она переводила с оригинала. Есть также пометка о подтверждении подлинности через радиоуглеродный анализ.
— Но это невозможно, — возразил Фортье. — Евангелие хранится у нас в опечатанном сейфе.
Англичанин встал у него за спиной и всмотрелся в экран:
— Все катится неизвестно куда. Надо немедленно что-то предпринимать. Эта Хэймар — серьезная помеха, и Конрадом давным-давно следовало заняться.
Фортье провел по лбу тыльной стороной ладони — она оказалась мокрой от пота. Разумеется, Хэймар никак не могла раздобыть подлинный фрагмент Евангелия от Иакова, но ведь налицо факт, что у нее на руках точный перевод небольшого отрывка! От Фортье требовалось немедленное решение — самое что ни на есть радикальное.
— Согласен, — тихо произнес он. — Я предлагаю отправить Филипа в Вену, чтобы он устранил там и Хэймар, и Феликса Конрада.
Гости смущенно переглянулись, потом русский кивнул, за ним — англичанин, немец и наконец шотландец.
35
— Н-неужели?.. Как же так, отец? — пролепетал Чарли, когда Бритт удалилась на достаточное расстояние от кабинета. В глазах у него читалось неподдельное изумление. — Вы шутите, да?
— Не собираетесь же вы в самом деле лететь с профессором Хэймар в Вену? — спросила вслед за ним Карлота не столько с удивлением, сколько с ужасом.
Романо тоже не мог объяснить себе причину своего поступка. Он и сам не знал, зачем ляпнул, что встретится с Бритт в аэропорту. Импульсивность была вовсе не в его характере — наоборот, обычно он страдал излишней рассудочностью, не позволявшей принимать скоропалительные решения. А тут вдруг он очертя голову бросается неизвестно куда!
— Я уже пообещал ей, что буду ждать в аэропорту, — сказал Романо. — Не отказываться же теперь, правда?
— Но это же бред! — вскричал Чарли. — Я еще могу вы кинуть такое, но только не вы и не Карлота!
Романо позволил себе сдержанную улыбку:
— На самом деле в спешке замешаны целых два фактора.
— Еще бы, симпатичная дамочка, — ухмыльнулся Чарли.
Шарлота шлепнула приятеля по руке, так что на «дамочке» он едва не поперхнулся.
— Вот больной!
— Ну-ну, перестаньте, — урезонил их Романо. — Чарли имеет право на собственное мнение. Хоть я и священник, но не в моей власти отделаться от мужских хромосом.
Карлота вытаращила на него глаза, и Романо поспешно добавил:
— Но к делу это совершенно не относится. Профессор Хэймар значительно преуспела в исследованиях теории родословной, и мне хотелось бы выяснить, каким образом она добилась столь заметных результатов. Долгий перелет предоставит для этого прекрасную возможность. К тому же я должен узнать, отчего умер отец Тэд и какая существует связь между ним и ее изысканиями.
Чарли покопался в своем рюкзачке и выудил из его недр электронный приборчик со встроенной мини-клавиатурой — судя по виду, электронный секретарь. Он подъехал на стуле к Романо и протянул ему аппарат:
— Вот, держите мой «Блэкберри».
Священник в ответ замахал на него руками:
— Спасибо, но нет и нет, — помотал он головой. — Я уже говорил, что отказался от сотовых телефонов.
— Это не просто сотовый, — пояснил Чарли. — По нему вы можете круглосуточно посылать и получать электронку. У него есть «куод-бэнд»,[627] поэтому он будет работать и в Европе через Дойче-Телеком.
Глаза у Карлоты заблестели.
— Возьмите, отец Романо, — принялась уговаривать она, — и мы всегда будем с вами на связи. Вы будете подсовывать нам вопросики, а мы станем вашими глазами и ушами.
Священник поколебался, но принял предложенный «Блэкберри» и взглянул на часы.
— Подскажите хоть, как обращаться с этой штуковиной. Мне пора идти укладываться, чтоб не опоздать на самолет.
Чарли наскоро показал ему основные опции и настроил прибор на получение почты со своего адреса. Романо отправил Карлоте тестовое послание, в котором просил ассистентов заняться альтернативными точками зрения на распятие и воскресение Христа, а также подстраховать его на работе на несколько дней. Чарли и Карлота оккупировали один из «макинтошей» и сообща послали ему ответное письмо. Через несколько секунд «Блэкберри» загудел, и Романо открыл почтовый ящик. Чарли и Карлота ударили по рукам.
— Экзамен сдан успешно, отец! — Чарли потянулся к Романо с рукопожатием. — Теперь вы снова в цифровой эпохе.
Священник взглянул на часы на экране «Блэкберри».
— Если я немедленно отсюда не уберусь, то будет уже не важно, в какой я эпохе: я просто никуда не полечу. Тем более что и билета у меня еще нет.
Он заглянул в свой ежедневник, сунул его в сумку, перекинул лямку через плечо и уже на выходе обернулся к ассистентам:
— На ближайшие несколько дней у меня не запланировано никаких встреч. Всем говорите, что я в Вене. Там меня можно найти через отца Ганса Мюллера в иезуитском епископате. Или пусть пишут сюда.
Он кивнул на «Блэкберри» — и закрыл за собой дверь.
36
Филип Арман задумчиво повертел в пальцах бокал «Шато-Лафита», поднял его повыше, любуясь на свет густыми долгими струями темного бордо, стекающими по внутренним стенкам, затем поднес хрустальный кубок к ноздрям и с наслаждением вдохнул насыщенный аромат, отдающий помимо миндаля и фиалки множеством разнообразных оттенков. Наконец он сделал внушительный глоток, смакуя острый, резковатый вкус, откинулся в кресле и промокнул губы льняной салфеткой. Он весьма ценил привилегию ужинать в этой tres chic[628] Имперской зале «Отеля де Пари». Дверные проемы здесь были задрапированы бархатными, шитыми золотом портьерами, на мраморных постаментах красовались гипсовые скульптуры, со сводчатого потолка свисали роскошные канделябры с золоченой росписью, а изящные золотые капители увенчивали под потолком стройные каменные колонны. Общество в зале в этот вечерний час представляло собой melange[629] из аристократов, крупных финансистов, известных актеров, интеллигенции — то есть мировой общественной элиты.
Когда бы Филипу ни заказывали доставить личное сообщение его таинственному работодателю, для него всегда в «Отеле де Пари» был забронирован номер. Весь гостиничный персонал ходил перед ним на цыпочках. Раз за разом процедура с точностью повторялась: Арман оставлял донесение на регистрационной стойке, занимал один и тот же номер с видом на причесанный цветник в обрамлении пальм-истуканов и ждал звонка. Сегодня вечером он просидел в комнате не один час, после чего побаловал себя изысканным ужином в Имперской зале. Он даже позволил себе порцию любимого фуа-гра, замаринованного в превосходном выдержанном коньяке и приправленного трюфелями.
Порой Филипа обуревало желание тайком проследить за курьером, забиравшим его донесения со стойки рецепции и платившим по его счету в ресторане. Он буквально сгорал от желания выведать, кем в действительности являлся его неведомый хозяин, но еще отец некогда предупреждал его, что если Филипу тоже хочется прожить жизнь, ни в чем себе не отказывая, или, проще говоря, вообще жить, то лучше раз и навсегда отказаться от подобного намерения.
Папаша Филипа, Карлос Арман, пробыл у того же нанимателя и в том же качестве все свои лучшие годы. Когда сын окончил университет, Карлос направил его по своим стопам, то есть привил ему все навыки, которые могут пригодиться будущему частному сыщику и правительственному связному. Он также обучил Филипа особо ценному умению — убивать и бесследно исчезать. Отец предвосхищал день, когда сыну потребуется пустить в ход свои знания — как пришлось самому Карлосу в 1967 году. Тогда он вынужден был истребить четырех человек в строго оговоренных обстоятельствах. Один из этих четверых был выброшен из экспресса Париж — Женева ради портфеля с очень важными документами. Карлосу пришлось замучить и вздернуть еще троих, чтобы завладеть материалами о книге под названием «Le Serpent Rouge», отпечатанной в частной типографии и переданной теми тремя в Национальную парижскую библиотеку.
Карлос не раз объяснял Филипу, что работает на тайное общество, тесно связанное с христианской церковью. Он признавался, что порученная ему слежка часто имеет явно религиозную окраску. По ходу дела он не раз сталкивался с опасными для церкви секретными документами и целыми организациями. «Делай, что велят, и не задавай вопросов», — учил Карлос. «Немножко больше знать — немножко меньше жить» — вот еще одна формула, которую он не уставал вдалбливать сыну.
Стрелять в Хэймар оказалось не так сложно, как предполагал Филип. Нажав на спусковой курок и увидев, как расширились от шока глаза женщины, как осела она потом на каменный пол, он даже испытал необъяснимый подъем. Адреналиновая волна захлестнула его и понесла прочь вместе с улепетывающей толпой, так что он едва успел сунуть футляр в руки священнику. Теперь, ожидая звонка, Арман уже начал кое-что понимать. Наитие подсказывало ему, что события стали развиваться с неимоверной быстротой и неплохо было бы воспользоваться помощью дублера. Однако его дублер неожиданно исчез из поля зрения. Четыре года назад Карлос, выполняя особый заказ, сообщил сыну, что уезжает на два месяца. В Париж он больше не вернулся, и Филип так и не смог выяснить, что случилось с отцом, — тот словно испарился. Филип допускал, что старший Арман превысил допустимый предел любознательности.
Допив бутылку чудесного бордо, он наконец ощутил вибрацию мобильника. Чтобы ответить на звонок, Арман поспешно вышел из Имперской залы и отыскал уединенный закуток за одной из каменных колонн просторного гостиничного холла. Разноцветные солнечные зайчики от полихромного стеклянного купола плясали на полу дикий танец. Голос в телефоне был пропущен через электронный модулятор — Филип каждый раз гадал, звонит ли ему один и тот же человек, или это разные голоса. Он внимательно выслушал инструкции.
Закончив разговор с нанимателем, Арман ощутил, что его трясет, а внутри все мучительно сжимается. Вот и пришел день, к которому так тщательно готовил его отец. Встряска пробудила в нем спавшее до сей поры чувство, знакомое Филипу по выражению отцовских глаз, когда тот рассказывал ему о событиях 1967 года. Он даже не мог точно определить его природу — то ли боязнь, то ли предвкушение.
Забрав из гостиничного номера сумку, Арман отправился в аэропорт, чтобы ближайшим рейсом вылететь в Вену. Там его ждало двойное убийство с последующим бесследным исчезновением. Но не обошлось и без подвоха: в обратные попутчики себе он обязан был прихватить священника, за которого отвечал головой.
37
Отец Романо раскрыл одну из коробок, загромождавших его новое жилье в Америка-хаус, покопался в ней и извлек кожаный рюкзачок, предназначенный для недолгих поездок. Затем он вынул из ящика стола паспорт и начал складывать вещи. По пути домой священник пытался привести мысли в порядок и уразуметь, ради чего он так поспешно летит в Вену. Получалось, что он сорвался с места, повинуясь минутному порыву. Романо убеждал себя в том, что им движет пытливость исследователя, но его неотвязно преследовало и иное соображение: было в Бритт Хэймар нечто такое, чему он не находил объяснения. Неуловимый взгляд ее глаз… и манера разговаривать. Все это действовало ему на нервы, не давало покоя.
Сунув в рюкзачок туалетные принадлежности, Романо еще раз проверил, не забыл ли чего. Бритт заинтересовала его своей одержимостью, почти богохульным философствованием, стремлением опровергнуть христианские каноны. Однако ничто в ее выкладках во время беседы с аспирантами и близко не подтвердило эти спорные теории. Даже если такой документ существует и даже если это действительно подлинник времен Христа, его мог составить какой угодно экстремист или иудейский верховный жрец — с целью подорвать авторитет молодого христианского вероучения. Не все в толковании древних манускриптов и подтверждении их подлинности решается углеродным анализом.
Романо не мог избавиться от ощущения, что Бритт Хэймар что-то от него утаивает — причину, по которой она всем этим занимается. Некое обстоятельство, о котором она боится или просто не решается рассказать. И это нечто, возможно, подскажет ему, из-за кого — или из-за чего — погиб Тэд.
Уже в дверях Романо вспомнил об отце Кристофоро. Он уже схватился за телефон и принялся набирать номер помощника отца-магистра, но вдруг сообразил, что в Риме скоро наступит ночь. Тогда он наскоро набрал со своего компьютера электронное сообщение для Кристофоро о покушении на профессора Бриттани Хэймар. Он оповестил его о встречах Бритт с ныне покойными священниками, состоявшихся благодаря звонку таинственного незнакомца. Тот назвал ей кодовые имена иезуитов, утверждая, будто оба они располагают информацией о Христовой родословной. В послании Романо упирал на то, что известие о смерти отца Метьюса глубоко потрясло Хэймар и что, по его мнению, она не имеет прямого отношения к кончине священников. В конце он известил отца Кристофоро о том, что вылетает вместе с Бритт в Вену, где собирается встретиться с неким священником, который, возможно, прольет свет на недавние трагедии. Напоследок Романо упомянул о странном письме отца Метьюса, в котором наставник требовал от него как можно скорее связаться с отцом Синклером, и пообещал держать отца Кристофоро в курсе предстоящих событий.
Только нажав клавишу «Отправить», Романо понял, какую совершил глупость: с помощью «Блэкберри», позаимствованного у Чарли, можно было заняться почтой прямо в очереди в аэропорту! Он взглянул на часы и похолодел: даже если еще остается надежда вовремя добраться до аэропорта, добыть билет на тот же рейс, что у Бритт, и пройти таможню, то, как пить дать, ему сейчас попадется не таксист, а настоящая черепаха!
Романо забросил рюкзачок на плечо, кинулся к черному входу, бегом добрался с 56-й улицы до Шестой авеню и отчаянно замахал первой попавшейся машине. Таксист плавно затормозил и, услышав от Романо JFK,[630] расплылся в ухмылке. Сделав несколько резких поворотов, он направился к туннелю Куинс-Мидтаун, затем выехал на магистраль Лонг-Айленда, и только тогда Романо немного расслабился и перевел дух. Впрочем, он до сих пор не мог уяснить, зачем ему сломя голову мчаться в Вену — как выразился Чарли, с «симпатичной дамочкой».
38
Ближе к вечеру Гавриил, надвинув на лоб козырек кепки с эмблемой «Нью-Орлеанских святых», вошел в телефонную будку на авеню Сент-Чарльз. На фасаде отеля «Роял Сент-Чарльз» трепетал на ветру американский флаг. Гавриил набрал номер и немедленно услышал в трубке голос отца Синклера.
— Я только что приехал, — сказал Гавриил. — Скоро буду в отеле. Все прошло без затруднений?
— Да, довольно гладко, но все же я вздохну свободнее, когда ты объяснишь мне, что произошло.
— Слежки точно нет?
— До гостиницы я всю дорогу шел пешком, но никого подозрительного рядом не было. Из осторожности я даже сделал порядочный крюк. Когда мы едем? Все ли ты продумал?
Гавриил огляделся: прохожие, как обычно, направлялись в сторону Французского квартала, спеша успеть к началу часа утех.
— Все будет нормально, — заверил он. — Я контролирую ситуацию. Я сейчас приду к тебе и все разъясню. В каком номере ты остановился?
— В шестнадцатом. Третий этаж, сразу от лифта направо.
— Через несколько минут жди.
Гавриил повесил трубку, закинул на плечо дорожную сумку и зашагал к гостинице. У главного входа он подождал, пока женщина в цветастом платье и старомодной ярко-розовой шляпе и мужчина в футболке с изображением «Яростного Кейджина»[631] исчезнут за крутящимися дверьми, вошел вслед за ними и, когда парочка завернула в холле в уютный бар, направился прямиком к лифту.
Поднимаясь на третий этаж, Гавриил успел вынуть из сумки портсигар и сунуть его во внутренний карман пиджака. Лифт резко остановился. Он опустил руку в боковой карман, стиснул лежащий там «Тэйзер»[632] и коротко постучался в шестнадцатый номер.
Дверь открыли сразу. Гавриил ворвался в комнату и приставил «Тэйзер» к груди Синклера. Глаза у оглушенного священника полезли из орбит, он обмяк и рухнул на ковер. Пока тело билось в конвульсиях, Гавриил запер дверь на замок и на внутреннюю задвижку, затем открыл портсигар, извлек оттуда шприц и медленно вколол его в грудь Синклеру, вводя препарат прямо в сердце.
Убрав пустой шприц обратно в портсигар, из второго его отделения Гавриил достал крохотную ампулу, вскрыл и накапал себе на указательный палец немного маслянистой жидкости. Начертив на лбу Синклера крест, он произнес: «Прими миропомазание в знак Господней любви и прощения. Да пребудет на тебе благодать Святого Духа». Пометив крестным знамением ладони священника, Гавриил добавил: «Да отринет Господь от тебя грех и дарует спасение и воскрешение. Аминь». Молитвенно сложив руки, он молча пронаблюдал, как у Синклера наступила агония и он испустил дух.
Затем Гавриил осторожно втащил труп в ванную, раздел его и положил в ванну. Из третьего отделения портсигара он вынул металлический шип с наконечником в виде плоского креста, а из дорожной сумки — молоточек. Вполголоса читая псалом на латыни, Гавриил пробил шипом запястья и ступни Синклера. Он передохнул, стер со лба капли пота и острым лезвием шипа сделал надрез у трупа в боку, а его острием выколол круг на макушке жертвы.
Закончив работу, Гавриил тщательно вытер туалетной бумагой следы крови и смыл ее в унитаз. Он аккуратно вынул тело из ванны и отнес его в спальню, где положил поверх расписного покрывала. Там Гавриил вновь надел на Синклера трусы, сложил ему руки ладонями вместе, закрыл трупу глаза и прочитал отходную молитву. Отмыв в ванной лезвие ножа и шип, он тщательно ополоснул стенки ванны, чтобы не оставлять улик, затем позвонил в приемную архиепископа в Нью-Орлеане и попросил проверить, все ли ладно с отцом Синклером — с ним вроде бы случилась неприятность в отеле «Роял Сент-Чарльз».
Спешно покинув гостиницу, Гавриил отправился в близлежащий Французский квартал, где окликнул такси и устремился в аэропорт, к финальному этапу своих религиозных исканий. Им овладело необъяснимое спокойствие, словно он попал в самое око тайфуна.
39
Брайан Донахью вошел в Стратегический центр обработки информации, располагавшийся в Гувер-билдинг на шестом этаже. В СЦОИ занимались случаями особой важности. Том Катлер в этот момент инструктировал элитную команду ФБР на предмет смертей священников. Донахью протянул ему последнюю сводку и занял место во главе стола. Катлер просмотрел распечатку и поместил ее в сканер рядом с кафедрой, с которой выступал. На экране за ним тут же отобразился отчет из луизианского отдела Бюро.
— Вас всех собрали здесь потому, что дело, которое я расследую, привлекает к себе самое пристальное внимание. Недавно умер уже третий по счету священник. У него те же отметины, что и у первых двух, хотя на этот раз на груди замечены следы от «Тэйзера». Брайан, есть ли результаты вскрытия по предыдущим жертвам?
— Ждем. Предварительный анализ показал использование яда. Сейчас в лаборатории проводят дополнительное исследование и держат связь с Испанией. К завтрашнему дню что-нибудь обязательно прояснится.
Катлер спроецировал на экран подробный снимок тела отца Метьюса, на котором выделялись стигматы.
— По крайней мере, божественноевмешательство почти наверняка исключается.
В группе слушающих раздались смешки.
— Леди и джентльмены, шутки в сторону. Мы имеем дело с серийным убийцей, по которому у нас пока ничего существенного. Брайан, как обстоят дела с Бриттани Хэймар?
— К ее квартире приставлен наш агент. Она пока не появлялась. Один из соседей показал, что вроде бы видел, как она куда-то уходила с дорожной сумкой.
— Мне она нужна здесь для допроса — и немедленно!
— Мы сейчас проверяем билетную бронь на самолеты и поезда. — Донахью ткнул в экран: — Но в Нью-Орлеан она бы точно не успела — это не ее работа.
Катлер грохнул по кафедре кулаком:
— Мне плевать! Пока она для нас единственная зацепка. И я не хочу, чтобы в Штатах, пока я веду это дело, продолжа ли убивать священников. Марсия и Тим, вы свяжетесь с нью-орлеанскими коллегами. Мне необходимо знать поименно всех, с кем этот священник виделся за последние несколько дней, с кем разговаривал. Все остальные уже знают, что кому делать.
Когда члены следственной группы разошлись по своим поручениям, Катлер обернулся к напарнику:
— Брайан, мы не уйдем из этого здания, пока не вычислим Бриттани Хэймар, даже если нам придется сидеть тут до утра. Пошерсти своих — пусть перепроверят резервирование билетов, а я зашлю еще парочку агентов к ее соседям. Понятно, что тут орудует какая-то придурочная сволочь — того и гляди, где-нибудь снова найдут убитого пастора.
Часть вторая
ПОИСКИ
40
Отец Романо оказался последним пассажиром, взошедшим на борт самолета «Австрийских авиалиний», следующего в Вену. Едва он успел отыскать место, которое он просил в кассе, как стюардесса приступила к обычному перед рейсом пассажирскому инструктажу и объяснению правил безопасности.
— Простите, мэм, мне кажется, мы сидим рядом, — улыбнулся Романо, стоя над Бритт.
Та подняла на него глаза и захлопала ресницами от удивления:
— Вот так сюрприз!
— Летел на всех парусах и чудом успел.
Романо открыл багажную нишу над сиденьями и пристроил свой рюкзачок между чьими-то сумками. Хэймар отстегнула ремень и встала, чтобы пропустить его на среднее кресло.
— Честно говоря, я не особо надеялась на ваше появление.
— Мне многое хотелось с вами обсудить, а долгого пере лета все равно не избежать.
— Что ж, если вы меня не усыпите беседой… — зевнула Бритт. — Последние дни у меня были — хуже некуда.
— Будем дремать и разговаривать вперемежку. Я тоже, знаете ли, еще не совсем оправился после кончины отца Тэда. Впрочем, у меня есть подозрения, что и эти смерти, и покушение на вас спровоцированы вашими исследованиями.
Кабину заполнил шум реактивного двигателя, и аэробус А-330 покатил по взлетной полосе, набирая скорость. Романо деликатно отодвинул руку, заметив, что Хэймар вцепилась в подлокотник с такой силой, что у нее побелели костяшки пальцев.
— Вы, как видно, не поклонница воздушных путешествий.
Самолет разогнался и наконец оторвался от земли. Бритт втиснулась в кресло, глубоко вдохнула и задержала дыхание, пока аэробус круто набирал высоту. Только когда он стал выравниваться, она понемногу расслабилась.
— Ничего, сейчас все пройдет.
Романо подождал, пока Бритт перестанет стискивать подлокотник и окончательно справится с дыханием.
— Я размышлял над вашими подозрениями по поводу вмешательства церкви. Но зачем церковной организации расправляться с собственными священниками? Я не могу придумать никаких, даже самых эксцентричных версий.
— А что, если они располагали пагубными для церкви фактами? Например, одна из церковных группировок могла следить за мной и видеть, что я встречалась со священниками. Тогда ее члены вполне могли отдать распоряжение устранить их, а заодно и меня — чтобы защитить саму церковь.
Романо с сомнением покачал головой:
— Поверьте, вряд ли церковь держит сыскное агентство, убивающее людей направо и налево.
— Джозеф, но ведь вы же сами знаете из истории, что руки церковников не вполне чисты от крови.
— Не надо сравнивать Средневековье и современность. С тех пор многое изменилось — и сколько еще изменится! Сейчас нет никакой тайной полиции, а за исполнительной, судебной и законодательной властью папского престола надзирает курия. Существуют и проверки, и оппозиция.
— И все же нельзя оспорить то, что и Папа, и кардиналы, и епископы обладают большими полномочиями. Еще не совсем забылись убийства, тоже связанные с исследованиями — между прочим, похожими на мои.
Романо недоверчиво взглянул на нее:
— И тоже о родословной?
— Феликс — тот, с кем я встречаюсь в Вене, — предупреждал, что если я не прекращу изысканий на эту тему, то подвергну свою жизнь серьезной опасности. Он рассказал мне о четырех убийствах, случившихся во Франции в тысяча девятьсот шестьдесят седьмом году и имевших отношение к Le Serpent Rouge. Я нарочно занялась этими случаями и выяснила вот что: некто Лео Шидлоф, австрийский перекупщик миниатюр, известный по махинациям с сочинениями под названием «Dossiers Secrets»,[633] якобы хранил у себя бумаги, касающиеся родословной Христа. После смерти Шидлофа портфель с его личным архивом перешел к Фахару уль-Исламе, тело которого впоследствии было обнаружено на железнодорожном полотне: беднягу выкинули из экспресса Париж-Женева. Сам портфель бесследно исчез. Через месяц после гибели Исламы в Национальную парижскую библиотеку поступила книга, отпечатанная в частной типографии, называлась она «Le Serpent Rouge». Этот труд содержал полную генеалогию Меровингов, две карты Франции в эпоху этой династии, а также многочисленные ссылки на хорошо известное нам полотно Пуссена «Les Bergers d'Arcadie». Речь в книге шла о «красной змее, проползшей по Франции сквозь столетия», — прямой намек на родословную некоего семейства. Всех трех авторов «Le Serpent Rouge» нашли повешенными. После них не осталось никаких документов, подкреплявших проведенные ими изыскания.
— Что ж, история и впрямь интригующая, но в ней — и тут вы со мной не поспорите — нет ни грамма надежных доказательств.
— В том-то и суть, — согласилась Бритт. — Люди, у которых они имелись, уже мертвы, а документы неизвестно куда подевались. Ко мне попал отрывок из Евангелия, где описываются попытки оживить Иисуса после распятия. Там же есть упоминание о Марии Магдалине с ребенком.
Романо явно не верил своим ушам:
— Вы хотите сказать, что в вашем фрагменте рукописи содержатся подробности о распятии и о каком-то ребенке?
Бритт повернула голову и посмотрела священнику прямо в глаза:
— Вот именно. Там говорится о Симоне Зилоте, подстроившем дело так, что Иисусу, висевшему на кресте, дали смесь прокисшего вина и змеиного яда, что ввело его в коматозное состояние. Вначале Христос отказывался от предложенного ему питья, но перед самой его кончиной некто, оказавшийся рядом, смочил вином губку, насадил ее на тростину и подал умирающему. Тот выпил и тут же произнес: «Кончено», за тем поник головой и испустил дух. В тексте, попавшем в мое распоряжение, утверждается, что впоследствии Иисуса пере несли в семейную гробницу…
— Ого! — произнес Романо и предостерегающе поднял палец. — Что вы подразумеваете под семейной гробницей?
— Вот очередной пример того, что церковь предпочитает не слишком вдаваться в смысл некоторых мест в Писании.
— Я, видно, что-то недопонимаю…
— Католическая церковь недвусмысленно утверждает, что у Иисуса не было ни братьев, ни сестер. По-моему, тем самым она всего лишь пытается убедить верующих в пожизненном девстве Богородицы. Церковники толкуют греческие слова «брат» и «сестра», исходя из семитской традиции того времени, уверяя, что под ними могли подразумеваться племянники и племянницы, а также двоюродная родня.
— Признаю, что в данной идее и заключается яблоко раздора между некоторыми учеными и христианскими конфессиями. Но какое отношение все это имеет к семейной гробнице? Склеп, в котором похоронили Иисуса, принадлежал Иосифу Аримафейскому, уважаемому человеку и члену синедриона.
— Судя по некоторым Евангелиям, Иосиф был учеником Христа.
— Верно, — кивнул Романо, — но для родственной связи этого явно недостаточно.
— Опираясь на уже упомянутую «языковую традицию эпохи», я достаточно легко докажу, что Иосиф Аримафейский вполне мог быть Христу братом.
Романо, хоть и внимательно следивший за ходом ее рассуждений, развел руками:
— Я не вижу между ними явной связи.
— Я тоже вначале не видела. Но стоило мне проанализировать ситуацию строго с точки зрения языка и обычаев той эпохи, я сразу натолкнулась на один общий момент.
— Какой?
— Разве не логично предположить, что тело Иисуса выдали для погребения его родственникам?
— В других обстоятельствах — пожалуй; если бы речь шла, скажем, о воре или о другом обычном преступнике. Но Иисуса же обвинили в подстрекательстве к мятежу, и «языковая традиция» нам тут ничем не поможет.
Огни в салоне померкли. Соседка Романо с другой стороны откинула сиденье, пристроила подушку между спинкой кресла и иллюминатором и стала готовиться ко сну. Бритт повернулась к попутчику, чтобы сидеть с ним лицом к лицу. Приглушенный свет ламп и мерцание экрана, на котором шел какой-то новый фильм, мягко озаряли ее силуэт.
— Выслушайте меня, пожалуйста.
— С превеликой охотой. — Романо понизил голос и наклонился к Бритт, чтобы не мешать спящей женщине. — Я весь внимание, хотя и не совсем представляю, куда нас может вывести языковое толкование.
— К пониманию, кто был в действительности Иосиф Аримафейский. В Евангелиях многие персонажи названы не своими настоящими именами. Матфей Аннас был наречен жреческим прозванием Левий Эльфийский или Левий Преемник. Слово «Аримафейский» — впрочем, как и «Эльфийский» — сочетает в себе еврейский и греческий элементы. Еврейским в нем будет ha ram или ha rama — «высший» или «верхний», а греческим — theo, то есть Бог. Вместе они означают некую божественную высоту: ha Rama Theo — Божественное величие.
Романо тем не менее не усмотрел в ее объяснении прямой связи с темой:
— Но Иосиф известен в первую очередь как супруг Марии, а также плотник или ремесленник.
— Думаю, там имеется в виду совсем не Иосиф. Мне кажется, что речь идет о брате Иисуса, Иакове, у которого было немало приверженцев среди евреев.
— Так можно дойти до какой угодно научной вольности! Как вы собираетесь превратить Иосифа в Иакова?
— Очень многие ученые сходятся на том, что Иисус был наследником престола Давидова. Статус патриарха должен был передаваться от Иосифа к его наследнику. Если Христос имеет отношение к Давиду, то его старший брат Иаков — почти то же самое, что Иосиф.
Романо изобразил бесшумные аплодисменты:
— Честь вам и хвала, Бритт, за очень интересную версию, но всех этих рассуждений явно мало, если вы хотите развить их в стоящую теорию и защитить ее перед судом ваших ученых коллег. — Он на минуту задумался. — А как быть с тем обстоятельством, что Иосиф — как уже было сказано, не последний человек в еврейском сообществе — добровольно передал свою гробницу синедриону и римским властям, рассчитывая таким образом охранить ее от поругания и попыток выкрасть тело?
— Но разве это противоречит общеизвестным фактам? Почему же Иисус не мог быть погребен в склепе, принадлежавшем его семье? И разве Пилату было бы не легче поручить это родному брату Иисуса, весьма уважаемому человеку? Доказательством тому факт, что родственницы Иисуса беспрекословно приняли помощь Иакова в погребальных хлопотах. Романо поскреб подбородок и вскинул брови:
— Признаться, я оценил и ваше творческое воображение, и глубину разработки темы. Вы меня заинтриговали, и мне не терпится взглянуть на тот отрывок из Евангелия. Возможно, тогда я больше проникнусь вашей точкой зрения, но пока она остается лишь версией, не более того. Не забывайте, что я и сам немало занимался разнообразными теориями о Христе и христианстве — и пришел к заключению, что все они не доказаны напрямую. В Новый Завет вошли Евангелия, пережившие не одно столетие, стало быть, наиболее достоверные.
— Давайте все-таки не будем зацикливаться на чем-то одном. В конце отрывка рассказывается, что ученики Иисуса тайно от всех применили алоэ и миррис в качестве слабительного, стремясь оживить своего наставника. — Глаза у Бритт слипались, и она из последних сил боролась с дремотой. — Святой Иоанн засвидетельствовал, что Никодим доставил в гробницу сто фунтов этих растений.
— Но если Иисус действительно умер на кресте, не следует ли назвать его оживление воскресением?
— Я уже говорила вам, что в отрывке упоминается змеиный яд, с помощью которого Христа ввели в кому.
Однако яд мог только усугубить дело, ускорив смерть от асфиксии. Насколько я знаю, распятие практически парализует грудные мышцы и диафрагму, поскольку положение грудной клетки препятствует дыханию. Чтобы ослабить нагрузку на эти мышцы и вдохнуть, человек вынужден опереться на ноги. В конце концов изнурение лишает его сил и не позволяет больше дышать. Если бы Христос впал в кому, он почти сразу задохнулся бы.
— Я придерживалась того же мнения, пока внимательнее не изучила подробности, содержащиеся в Писании. Когда стражники перебили ноги двум другим распятым преступникам и подошли к Иисусу, они увидели, что он уже мертв. Тогда один из легионеров вонзил ему в бок острие копья, и оттуда пролились кровь и вода. Медицинские эксперты полагают, что водой могла быть жидкость, собирающаяся в околосердечной сумке и плевральной полости и ускоряющая асфиксию. Копье проделало в боку отверстие, жидкость вытекла, что и отсрочило летальный исход.
Романо сложил пальцы домиком у рта и кивнул:
— Должен признать, что такое предположение небезынтересно. Но что в Евангелии от Иакова рассказывается дальше? Ученикам удалось вернуть Иисуса к жизни? И что потом случилось с его телом, ожившим или мертвым?
Бритт потупилась:
— К сожалению, мой фрагмент рукописи обрывается до того, как заканчивается этот эпизод. Вот почему меня не пришлось упрашивать прийти на Гранд-Централ за оставшейся частью.
Она посмотрела на Романо и, несмотря на заволакивающую глаза усталость, слабо улыбнулась. Священник грустно улыбнулся ей в ответ:
— Меня тоже, хотя я не мог даже представить, о чем говорится в этом пресловутом Евангелии.
— В моем фрагменте также есть упоминание о Марии Магдалине и ее ребенке, вернее, о близнецах.
— Эта идея с завидным упорством прослеживается почти в каждой альтернативной христианской церкви теории. — Романо вдруг осенило: — Послушайте, Мария Магдалина лишний раз подтверждает ваше предположение о том, что Иосиф Аримафейский имеет отношение к Иакову. Мне доводилось читать труды авторов, считавших, что она на самом деле — Мириам, выросшая в рыбацкой деревушке под названием Магдала.
Бритт опустила спинку сиденья и устроилась в нем поудобнее.
— Кажется, появился проблеск надежды, что вы со временем разделите мою точку зрения.
— О, до этого пока очень, очень далеко. — Романо по примеру Бритт тоже разложил кресло. — Думаю, мы сейчас находимся на этапе «согласия о несогласии».
— Ну, это уже прогресс.
Романо заметил, что Бритт сомкнула веки, и предложил:
— Почему бы нам не сделать перерыв? Продолжим, когда снова появится способность соображать. У меня лично ее уже не осталось.
— Прекрасная мысль, — пробормотала Бритт, и ее голова тут же склонилась на плечо.
Глаза у Романо закрывались сами собой. Засыпая, он успел все же порадоваться, что отправился в это путешествие: Бритт Хэймар предстала перед ним в несколько ином свете. Пусть ее убеждения и основаны на довольно спорных выкладках — зато она чистосердечна в своих пристрастиях.
Он покосился на попутчицу. Ее грудь от глубокого спокойного дыхания мерно поднималась и опадала. Погрузившись в глубокий сон, Бритт по-детски обхватила раненое плечо. Вдруг она непроизвольно дернулась и сползла в сторону Романо. Ее голова клонилась все ниже, пока не успокоилась на плече у священника.
Романо осторожно пристроил вспотевшие ладони на коленях и прикрыл глаза. Темноту вновь заполонил образ Марты. Какие только усилия он ни прилагал, но все-таки не смог вы травить воспоминание о ней, не мог избавиться от фантазий, как бы устроилась его жизнь, будь она рядом. Где-то в подсознании засело тиранящее душу озлобление на мать. Он не раз пытался оправдать случившееся, следуя наставлениям Тэда, увещевавшего своего подопечного: «Возможно, Господь направил свой промысел на приведение тебя к священству, где ты можешь воздействовать на столь многие судьбы». Но, несмотря на все усилия, Романо так и не примирился с тем, что произошло.
Наконец улыбчивое лицо Марты растаяло в сгустившемся тумане, и Романо ощутил, что подстраивает дыхание под тихие теплые волны, колеблющие его плечо.
41
Агент Том Катлер жевал уже второй по счету питательный батончик, припрятанный для подобных случаев в одном из ящиков письменного стола. Ссутулившись, он сидел за компьютером и просматривал свежие донесения своей рабочей группы. Его жену Мэгги такой поворот событий, конечно, не обрадует, ведь Катлеру вновь придется засидеться здесь до глубокой ночи, а может, и до самого утра. Однако его не покидало предчувствие, что смерти священников продолжатся, а ему предстояло как можно быстрее нейтрализовать их инициатора.
Его агенты опросили всех соседей Бриттани Хэймар, но лишь один видел, как она куда-то уходила с дорожной сумкой. Домой профессор до сих пор не вернулась и пока оставалась единственной свидетельницей по делу минимум о двух убийствах. Далее, покушение на нее… Дело грозило обернуться порядочной путаницей. Как только скандальные подробности о покойниках со стигматами попадут в колонки новостей, вокруг этой истории поднимется немыслимая шумиха. Бюро начнут осаждать звонками чокнутые, помешанные на всякого рода тайнах.
В кабинет Катлера с кипой бумаг вошел Донахью:
— Том, мы вычислили Хэймар.
— Отлично! — Катлер схватился за пиджак. — Пошли, надо немедленно ее допросить.
Донахью жестом остановил его и свалил бумаги на стол:
— Не спеши, Том, сегодня нам не удастся с ней встретиться. Она сейчас летит в Вену.
Катлер немедленно достал мобильник:
— Вена как раз недалеко от аэропорта Вашингтон-Даллес. Поручи пока агентам из местного филиала Бюро задержать ее прямо в аэропорту, а я зарезервирую нам билеты до Даллеса.
— Боюсь, что ее Вена не в Виргинии. Хэймар летит в Австрию.
— Черт! — Катлер хотел убрать телефон, но передумал: — Закажи мне билет на ближайший рейс до Австрии, а я буду звонить в Центральный федеральный штаб. Попробую добиться, чтобы Интерпол выделил мне агента для встречи в аэропорту Вены. Мы не можем предоставить им достаточно оснований для ареста Хэймар, но по крайней мере они могут засечь ее и вести до моего прибытия.
— Кажется, до завтра рейсов туда не предвидится. — Донахью указал на верхний лист в кипе, сваленной на стол Катлера. — Взгляни для начала вот сюда. — Пальцем он ткнул в распечатку, переданную из аэропорта: — Отец Джозеф Романо летит тем же самолетом.
— Дьявол! — Катлер шлепнул себя ладонью по лбу: — Неужели теперь и его кокнут?
42
Чарли захлопнул том «Утерянных христиан», схватил кружку с кофе и отъехал на стуле от компьютера.
— Уф, я-то думал, что как только закончим универ, так навсегда позабудем про ученье.
— Никакое это не ученье, — хохотнула Карлота, — а сплошное развлеченье.
— Угу, развлеченье… — Чарли отхлебнул из кружки. — В общем, теперь ясно, что профессорша Хэймар пошла по скользкой дорожке.
Карлота пополнила распечатками последних статей Бритт Хэймар стопку бумаг у своего компьютера.
— Я делала заметки по ходу наших обсуждений. Прослеживается явная тенденция: эта дорожка уводит профессора все дальше от доктрины ортодоксальной церкви.
— Думаю, все началось с «Утерянных христиан», — предположил Чарли. — С тех пор она окончательно увлеклась гностическими Евангелиями, стала не в меру интересоваться всякими ритуалами, тайнами, поисками гнозиса или абсолютной истины через учение Христа.
— Что и вылилось в очередной опус. — Карлота взяла со стола книгу «Святой Павел — апостол, ходивший опричь Христа». — Он весь напичкан сомнениями в истинности основных положений христианства. Здесь утверждается, что именно Павел увел зарождающуюся церковь от учения, согласно которому спасение достигается благодаря знаниям, почерпнутым из проповедей Христа, и добрым делам. Взамен он насадил убеждение, что спастись можно, только уверовав в Иисуса как в Спасителя, ставшего Христом через распятие и воскресение.
Чарли допил остатки кофе и провозгласил:
— Думаю, что где-то в процессе профессорша Хэймар превратилась в замаскированного гностика.
— В своих последних статьях она этого и не скрывает. — Карлота разложила на столе пять распечаток. — Тут профессор без обиняков заявляет, что принятием Символа веры и посулами полного отпущения грехов на исповеди церковь намеренно упростила вероучение Иисуса.
— Надеюсь, отец Романо знает, с кем имеет дело в лице этой профессорши.
— Завтра у меня встреча с одной из ее студенток. Вероятно, какие-то события заставили ее выбрать этот путь — и наверняка не совсем учебного свойства.
— Хорошо, что отец взял с собой «Блэкберри». Я пошлю ему сводку наших последних наработок.
Чарли вновь подкатился к столу и застучал по клавиатуре.
43
В кабину проникли солнечные лучи. Пассажиры открывали шторки иллюминаторов, а стюардессы начали подавать завтрак. Романо уловил безошибочно узнаваемый кофейный запах, открыл один глаз и прищурился от яркого света. Голова попутчицы по-прежнему лежала на его плече, но вскоре общие шевеления разбудили Бритт, и она тоже открыла глаза. В первое мгновение взгляд ее казался затуманенным, словно профессор была в прострации и не понимала, кто она и где находится. Моргая, она осмотрелась вокруг и помотала головой.
— Я не сразу сообразила, где я. Мне снилось что-то про покушение, и я решила, что до сих пор нахожусь в больнице.
Стюардесса подкатила к ним тележку и застопорила ее ножным тормозом. Она улыбнулась пассажирам, передала им подносы с завтраком и, пока они распечатывали тарелки, упакованные в фольгу, разлила по чашкам кофе.
— Вообще-то надо было бы самому заварить себе эспрессо, — констатировал Романо, сделав глоток с добрые полчашки.
— Подумать только, вы — и ценитель эспрессо. Бритт ощупала рукой левое плечо и вздрогнула.
— Болит?
— Чуть-чуть. Не привыкла я к огнестрельным ранениям. Но все будет нормально. Эспрессо — это ваша утренняя традиция?
— Да, можно сказать, слабость. Выпьешь с утра обжигающий эспрессо — и все дела спорятся.
— Сами завариваете?
Романо виновато признался:
— Есть у меня тайная блажь — замечательный итальянский эспрессо-автомат «Френсис-Френсис». Сам мелю, сам смешиваю, закладываю по собственной системе, заливаю — и через двенадцать секунд получаю вкуснотищу с золотистой пенкой. Несколько глоточков — и мозги включаются.
— Скоро вас ждет настоящий рай, — засмеялась Бритт. — Кофейни в Вене — просто улет. Меня уже предупреждали, чтобы я не слишком злоупотребляла тамошней несравненной выпечкой.
Романо дожевал круассан и допил остатки кофе.
— Я несколько раз бывал в Вене. Мой девиз: «В чужой монастырь со своим уставом не ходят», поэтому я позволяю себе эспрессо не только утром и особенно налегаю на сласти. Мы с моим старинным приятелем по иезуитскому колледжу когда-то жили в одной комнате. Теперь он обосновался в иезуитском епископате. В числе прочего он занимается религиозными изысканиями и, надеюсь, выручит нас по поводу этого Феликса. Кстати, вы уже назначили встречу? Вам удалось с ним связаться?
Бритт отвела глаза и стала что-то счищать со своей вязаной кофточки.
— Я ведь уже предупреждала вас о его скрытности. — Она взглянула на Романо с неловкой улыбкой: — Я звонила в тот книжный магазин. Сообщение уже забрали.
— Он вам перезвонил? Что он сказал?
— Предварительная договоренность была, что в сообщении я укажу время прибытия в Вену и название гостиницы, где собираюсь остановиться. Когда я доберусь до места, он сам меня найдет.
Романо не верил своим ушам: они вот-вот сядут в Вене, а Бритт даже не позаботилась точно договориться о встрече с таинственным инкогнито. В любом случае на такое он никак не рассчитывал.
— Вы хотите сказать, что мы, возможно, и не увидим никакого Феликса?
— Понимаю, это прозвучит нелепо, но я почему-то ему верю. Мы с ним виделись несколько месяцев назад на таких же условиях: я передала в книжный магазин сообщение для него и потом остановилась в Вене на полпути из Европы в Штаты — нарочно, чтобы встретиться с ним. Тогда я жила в отеле «NH» в самом аэропорту. На регистрации он заранее оставил мне записку, что вечером будет ждать в ресторане неподалеку. Тогда-то Феликс и предупредил меня, что лучше прекратить исследовать Le Serpent Rouge, и рассказал об убийствах во Франции.
Романо решил не упускать удобный момент и поподробнее расспросить Бритт о ее новой книге. Может быть, ее пояснения как-нибудь высветят причину смерти священников. Если встреча с Феликсом обернется провалом и Романо придется ближайшим рейсом лететь обратно в Нью-Йорк, он хотя бы предварительно выудит у профессора Хэймар полезную для ФБР информацию, чтобы помочь им напасть на след убийцы Тэда.
Когда стюардесса собрала подносы, Романо, поглаживая эспаньолку, как бы невзначай обронил:
— Мне все же не дает покоя основной тезис, на котором основывается ваша книга.
— Потому что он противоречит учению церкви?
— Тогда, у меня в кабинете, вы утверждали, что собираетесь представить разносторонний обзор исторических фактов, преданий и мифов, равно как и каноническую версию церкви. Мне показалось, что вы предлагаете весьма ограниченную выборку из таких фактов и привлекаете для их доказательства не связанные друг с другом теоремы. Надеюсь, вы все же признаете важность для церкви очевидных данных, на которых и строится каноническая версия.
Лицо Бритт полыхнуло от гнева, ее лучистые глаза недоброжелательно сощурились, а губы сжались в ниточку.
— А вы утверждали, что преследуете прежде всего истину. Скоро вы убедитесь, что в книге я признаю важность чего угодно, если оно того заслуживает.
— Что же, по-вашему, истина?
— Вероятно, то, что вы пока не готовы воспринять.
Чувствуя, как закипает внутри раздражение, Романо сказал:
— Я постараюсь.
— Что, если покушение на меня и смерти священников — проявление Божьего промысла, поскольку мир пока не способен признать истину?
— Это полная ерунда. Вы рассуждаете, как поборница каких угодно конспираций.
Бритт еще плотнее стиснула зубы, отчего ее лицо стало прямо-таки свирепым, а в глазах появилось плохо скрываемое высокомерие.
— Может, вам и лучше знать, отчего умер ваш друг, но вы же сами предположили, что причину следует искать в моем исследовании. Я тут вам втолковываю, что мне удалось выяснить в ходе моих изысканий, а у вас, похоже, одна цель — заклеймить меня как любительницу безрассудных теорий или, пуще того, глупую конспираторшу.
Романо сообразил, что вышел за рамки.
— Простите меня, я вовсе не хотел умалить значение вашего исследования. Я лишь пытаюсь глубже проникнуть в источник ваших посылок.
— Практически всю свою сознательную жизнь я слепо придерживалась церковного учения, пока меня не осенило однажды, что церковники, возможно, не говорят всей правды, что они трансформировали изначальную доктрину с целью оправдать свои земные слабости, стремление к власти и могуществу. Эта мысль и привела меня к гностицизму и гностическим евангелиям. Думаю, вам стоило бы изучить их более пристрастно и оценить по достоинству.
Романо заметил, что Бритт готова сбросить свою защитную маску, и решился копнуть глубже:
— Я тоже изучал гностические Евангелия.
— Ну вот в них, несомненно, можно найти немало пищи для размышлений. Например, почему вы столь уверены, что Иисус был физически и духовно един? Откуда взялось такое представление? Есть ли на этот счет какие-либо убедительные, последовательные теории или неопровержимые факты?
Священнику хотелось понять, куда клонит Бритт с подобной аргументацией, и он решил пока ретироваться:
— Видите ли, с нынешним уровнем развития науки и техники не так-то просто изучить духовный аспект проблемы. Но с другой стороны, за прошедшие два тысячелетия наука ничем не опровергла ни церковные каноны, ни основы, на которых зиждется Новый Завет.
— Вы обвиняете меня в принижении важности канонической версии. Но ведь вы даже не даете себе труда рассмотреть альтернативные воззрения! За последние годы моя вера претерпела серьезную трансформацию. Теперь я думаю, что Иисус сочетал в себе две отдельные сущности — физическую и духовную. Физическую его суть могли распять, умертвить и похоронить, а духовная, в свою очередь, воскресла и вознеслась на небеса.
Романо кивал, а сам пытался отыскать хоть малейший намек на то, откуда Бритт черпает свои мотивировки и почему она так упорно старается развенчать общепризнанную церковную доктрину.
— Придется мне позаимствовать у Чарли одно из его любимых программистских словечек. Так мы рискуем, что называется, зациклиться. Фактор духовности препятствует доказательству обеих позиций, однако наука не располагает и очевидными данными, чтобы их опровергнуть. Таким образом, мы попадаем в заколдованный круг. Интереса ради все же скажите, как бы вы объяснили опустевшую гробницу, описанную во всех Евангелиях, или более поздние свидетельства о Туринской плащанице?
— Если взять мое предположение о том, что Иисус был захоронен в семейной гробнице — а это подтверждается фрагментом Евангелия от Иакова, — то мы получим несколько вариантов. Например, Иисус действительно умер, а его родственники и ученики решили спрятать тело. Или его реанимировали, а потом переправили вместе с Марией Магдалиной в Южную Францию, где они впоследствии и растили своих крошек-близнецов.
— А плащаница?
— В этой теме я чувствую себя как рыба в воде. Мое мнение: из-за нее церковь оказалась в двусмысленном положении.
— Поясните-ка.
— Многие ученые подтвердили высокую вероятность того, что отпечаток на плащанице оставлен именно телом Христа, и причиной тому послужили некие физико-химические процессы в гробнице, где он был захоронен. Медицинские эксперты, рентгенологи, криминалисты и светила судебной медицины — все как один сошлись на том, что совокупность признаков указывает на подлинное изображение распятого Иисуса, вплоть до порезов от тернового венца и ран от гвоздей на запястьях — а не на ладонях, вопреки распространившимся в Средние века изображениям. Даже большие пальцы рук оказались завернуты внутрь вследствие поражения срединного нерва, поскольку гвозди прошли через полости Десто. В ходе исследования также выяснилось, что вопреки иудейским за конам и обычаям тело не омыли, а, напротив, обильно умастили дорогостоящими маслами, а затем сразу же обернули погребальным саваном. Этот факт говорит в пользу предположения о попытке оживить Христа с помощью алоэ и мирриса.
— Позвольте мне прихоть спорить ради спора, — поднял палец Романо. — Если гробница принадлежала Иосифу, члену еврейского самоуправления, и если тело передали ему римские легионеры, разве невозможно предположить, что иудейские обычаи были им более чем безразличны? Ведь и синедрион, и римские власти сочли Иисуса смутьяном и подстрекателем к мятежу. Они даже в насмешку называли его Царем Иудейским.
— Вот мы и вернулись к противоборству теорий и снова угодили в «цикл» вашего Чарли. Почему бы нам просто-напросто не обратиться к доказанным, строго научным фактам?
— Согласен, — кивнул Романо.
— Микроскопический анализ волокон показал, что полотно соткано в Палестине, где-то у побережья Мертвого моря. В тысяча девятьсот девяносто восьмом году независимый радиоуглеродный анализ был проведен сразу тремя учреждениями: Университетом штата Аризона, Швейцарским государственным технологическим институтом и Оксфордской исследовательской лабораторией. Все они на 99,9 процента сошлись во мнении, что Туринская плащаница датируется периодом с тысячного по тысяча пятисотый год новой эры, а на девяносто пять процентов — что она изготовлена между тысяча двести шестидесятым и тысяча триста девяностым годами.
— Что и дало любителям конспирации простор для буйной фантазии.
Пришел черед Бритт грозить пальцем:
— Не забывайте, что и церковь вздохнула с облегчением, когда подлинность плащаницы поставили под сомнение, поскольку она доказывала, что снятый с креста Иисус не обязательно был мертв.
— В споре о плащанице точка еще не поставлена. Я нарочно поднимаю этот вопрос, потому что вы наверняка сейчас упомянете последние результаты исследований. Остается спорным, не попал ли на радиоуглеродный анализ более поздний, восстановленный фрагмент плащаницы, либо пожар тысяча пятьсот тридцать второго года в часовне, где она хранится, затронул и ее вместилище. Серебряный реликварий оплавился, и это могло повлиять на результаты анализа.
— Однако следует помнить и о биогенном покрытии — об осевших на волокнах бактериях и проросших на них спорах. Сама плащаница подвергалась анализу менее чем на сорок процентов, а микрофлора с нее — на шестьдесят.
— Вижу, что вы провели собственное расследование на тему плащаницы, — вскинул брови Романо. — Тогда почему бы нам не сойтись на том, что она, скорее всего, принадлежит эпохе Христа?
Бритт от изумления вытаращилась на него:
— Не могу поверить: хоть в чем-то мы с вами пришли к согласию!
— Мне кажется, что все наши несогласия объясняются разной ценностью для нас тех или иных теорий. Для меня же остается несомненным лишь одно. — Романо задумчиво склонил голову и взглянул в глаза Бритт: — Идея «вечной истины» есть миф, выдуманный людьми в борьбе за выживание в этом несовершенном мире.
На губах у Бритт мелькнула улыбка:
— А мне кажется, что Христос наполняет собой наши поиски «вечной истины». Он и послан был на землю для того, чтобы указать, как нам жить в этом несовершенном мире.
«Леди и джентльмены, просим вас возвратиться на свои места и пристегнуть ремни. Самолет идет на посадку». Романо поднял откидные столики.
— Ну что ж, последнее слово осталось за вами.
Самолет накренился на один борт, и Бритт указала в иллюминатор:
— Поглядите!
За пышным слоем кучевых облаков проглядывали фермы в окрестностях Вены. Местность за окном напоминала искусно сшитое лоскутное одеяло. Линии, разделяющие зеленоватые квадраты, казались неестественно четкими. Впрочем, священник знал, что при снижении он разглядит все мелочи, самые мелкие штрихи, включая и огрехи. Этот образ походил на ситуацию, в которой сейчас находился сам Романо. Возможно, он слишком увлекся созерцанием общей картины, легко мысленно отвлекшись от подробностей и, по примеру Бритт, видел лишь то, что хотел видеть. Следовало увеличить фокус и вникнуть в детали.
Он снова вспомнил о кресте, подаренном ему Тэдом. Очень похожий Бритт видела у отца Маттео. Может быть, отец Синклер как-нибудь прояснит значение этого символа? Неплохо было бы также побольше узнать о жизни отца Тэда. Романо ничего не было известно о швейцарском периоде жизни своего наставника, кроме того что тот учился в Инсбруке вместе с отцом Гансом Йозефом — отцом-ректором венского иезуитского епископата. Прольет ли отец Йозеф свет на смерть Тэда? И наконец — Бритт. Романо чувствовал, что до сих пор не увидел настоящей Бриттани Хэймар, что она по-прежнему скрывается от него. Ее усердные нападки на церковную доктрину не могли проистекать из обычной исследовательской пытливости. Судя по всему, профессор Хэймар взялась выполнять некую миссию, а он до сих пор даже приблизительно не понял, в чем она состоит. Романо покосился на ее левую руку, опять прочно вцепившуюся в подлокотник. Кольца нет. А ведь раньше он этого не замечал.
44
Их такси пробиралось сквозь уличные заторы вдоль Дунайского канала к самому центру Вены. Бритт не могла устоять перед изяществом и очарованием этого города. Она уже просмотрела путеводитель и карту, приобретенные в аэропорту. Описания австрийской столицы были пронизаны духом безмятежности и упорядоченности, свойственных Старому Свету и совершенно утраченных в Америке. Эти черты были заметны даже в облике машины, взятой в аэропорту Швехат. Новенькие кожаные сиденья черного красавца «мерседеса», шофер в черном костюме и накрахмаленной рубашке, при галстуке — все это составляло разительный контраст с побитыми и помятыми желтыми колымагами, шныряющими по нью-йоркским улицам.
Тут Бритт заметила, что внимание Романо по-прежнему приковано к прибору со встроенной клавиатурой — священник выудил аппарат из рюкзачка сразу же, как только такси покинуло аэропорт, и за двадцать минут езды не проронил ни слова.
— Надеюсь, вы не развлекаетесь игрой, вместо того чтобы любоваться прекрасным видом.
Оторвавшись от прибора, Романо пояснил:
— Я проверяю почту. Это Чарли настоял, чтобы я взял в поездку его «Блэкберри». Теперь я могу получать сообщения круглосуточно, но в самолете им нельзя было пользоваться. — Он опять уставился на экранчик: — Хочу покончить с этим, пока мы не приехали в гостиницу, но, к сожалению, я не очень-то в ладах со всякой электроникой.
Бритт стало любопытно, какие это веские причины могут помешать человеку на всем протяжении поездки пренебрегать живописными уголками, особенно после многочасовой тесноты самолетной кабины. Но священник держал экран наклонно, и ей ни разу не удалось туда подглядеть.
Водитель свернул налево и переехал по мосту через канал. По узкой улочке они направились в густо застроенный городской центр, легко узнаваемый по витиевато украшенным венским церковным шпилям, пронзающим небосклон цвета голубого хрусталя. Такси петляло по Первому округу, а Бритт не уставала удивляться непрерывности, с которой крыши многоэтажных зданий переходили одна в другую. Дома стояли вдоль улиц сплошной стеной, образуя настоящий лабиринт. В архитектуре соседствовали ренессанс и барокко, кое-где выделялись свежие отметины недавних реставраций. Консервативные австрийцы, стараясь сохранить богатое наследие господства Габсбургов, явно ратовали за историческую преемственность.
Такси снова свернуло, и они оказались на улице шире прежней. На углу здания Бритт заметила сине-белую табличку с названием «Зингер-штрассе» — улицы, где расположена ее гостиница. Судя по карте, Зингер-штрассе должна вливаться в пешеходную зону у знаменитой церкви Штефенсдом, которую многие считают сердцем Вены. В путеводителе говорилось, что пешеходная зона проходит вдоль Кернтнер-штрассе, влекущей туристов, словно магнит. Ее бесчисленные магазинчики и лавчонки торгуют в розницу всем, что только душе угодно, — от изделий прославленных кутюрье и ювелиров до миниатюрных копий дворца Хофбург, знаменитого шоколада «Моцарт» и репродукций периода югендштиль кисти известных живописцев, творивших на рубеже веков.
Бритт увидела, что Романо наконец засунул «Блэкберри» в карман рюкзачка и озадаченно поглядел на нее.
— Я беспрестанно думаю о всей цепочке невероятных событий, и из нее упрямо выбивается одно обстоятельство.
— Какое же?
— Как я уже говорил, причина покушения наверняка кроется в ваших исследованиях. Но в вашем рассказе есть вопиющее несоответствие — это встречи с Феликсом и звонки от Вестника. Вы ведь уверяли, что никого не посвящали в подробности вашей теории.
— А я еще раз вам повторяю, что если бы Феликс был причастен к смерти священников, то его непременно заметили бы. Такому человеку трудно слиться с толпой. К тому же во время покушения я его абсолютно точно не видела.
— Звонки от Вестника начались после вашей встречи с Феликсом?
— Они начались между встречами. Но уверяю вас, если бы Вестником был Феликс, я узнала бы его по голосу. — Бритт недовольно поморщилась: — Это был не он.
— Однако мы сошлись на том, что покушение на вас каким-то образом связано с вашими открытиями.
— Конечно, связано.
— Почему «конечно»? — Романо недоверчиво прищурился.
— Помните, когда я лежала в лечебнице, кто-то залезал ко мне в компьютер? Наверняка это был или сам преступник, или его соучастник. Ничего не стерто, то есть они не нашли там никакого компромата. Я очень надеюсь, что Феликс подскажет, где искать связующие звенья для составления целостной картины — тем более что его жизнь теперь тоже под угрозой.
— Его жизнь? — удивился Романо. — Я что-то не совсем понимаю…
— Информация, которую предоставил мне Феликс, побудила меня более серьезно отнестись к теории о родословной — говоря вашими же словами, благодаря ему я по-иному оценила важность такого предположения. Если Феликс не заодно с убийцей, то он сам подвергается большой опасности, и я обязана его об этом предупредить.
— Но откуда другим знать о каком-то Феликсе?
— Я неоднократно упоминала его в своих записях.
— Если он и вправду такой параноик, как вы описываете, то и имя у него, скорее всего, ненастоящее. — Лицо у священника посуровело, и, обернувшись к Бритт, он добавил: — А вот за вами явно следили.
— Тогда мы все в опасности, — пожала плечами Хэймар. — Впрочем, Феликсу это все равно. В своих пометках я упоминала и место, где мы встречались, и сам предмет нашей беседы, а поскольку он — личность примечательная, то им не составит большого труда его вычислить.
— И это лишний повод все ему рассказать. Я считаю, вам пора объясниться с Феликсом начистоту. Поведайте ему обо всех недавних перипетиях. Если он действительно заподозрит опасность, то, может быть, вытащит на свет тех, кто за этим скрывается.
«Или закроет рот на замок и бесследно исчезнет». Бритт решила, что будет действовать по обстоятельствам. Кто знает, может, завтра никакой Феликс будет ей уже ненужен…
В череде домов выступило массивное каменное оштукатуренное здание, украшенное скульптурами и колоннами. Перед ним происходило настоящее столпотворение.
— Сейчас мы и узнаем, стоит ли рассчитывать на встречу с Феликсом. — Бритт неопределенно указала вперед. — Моя гостиница находится где-то здесь, до начала пешеходной зоны.
Романо оглядел улицу:
— Надо же, мировой лидер фаст-фуда и сюда добрался.
Фронтон массивного здания украшали золоченые арки, венчающие второй этаж. По мере приближения Бритт разглядела огромную неоновую вывеску отеля «Роял», а под ней — табличку со стрелкой, указывающую через дорогу на кафе «Макдоналдс». Сразу за отелем улица заканчивалась, переходя в пешеходную зону. Туристы толпами разгуливали среди величественных строений, вертя головами во все стороны в поисках примет былой венской царственности.
Такси остановилось перед застекленным главным входом в отель «Роял». Романо вышел первым, вынул из багажника сумку Бритт и расплатился с шофером. Хэймар пошла заполнять регистрационный бланк и заодно посмотреть, есть ли вести от Феликса. Пока она записывала свои данные, рецепционист подал ей заклеенный конверт — ее имя было отпечатано на нем фигурным шрифтом. Бритт прервала заполнение бланка и немедленно вскрыла послание, также набранное фасонными буквами: «Мисс Хэймар, я позвоню Вам вскоре после Вашего прибытия, чтобы договориться о встрече. Не волнуйтесь, Ваш приезд я не пропущу. Вам не придется долго ждать. Феликс».
Бритт ощутила, как внутри у нее все сжимается, словно от нехорошего предчувствия, и оглянулась на входные застекленные двери гостиницы. В них показался Романо, несущий ее багаж, а следом за ним — группка туристов. Еще несколько отдыхающих сидели у входа, в летнем кафе в окружении целой батареи декоративных кадок с обстриженными кустиками и деревцами бонсай, обрамленными по краю цветочной каймой. Лилипутского силуэта Феликса она нигде не приметила. Бритт еще раз оглядела улицу за стеклом, пробежалась взглядом по площади и поначалу пешеходной зоны. Тысяча мест, где он, невидимый, мог бы прятаться: в одной из припаркованных вдоль улицы машин, в витрине магазина, в телефонных будках под навесом на углу — даже окно третьего этажа «Макдоналдса» могло скрывать его от ее глаз. Романо поставил рядом ее сумку.
— Есть что-нибудь от Феликса?
Она показала записку:
— Думаю, пока я не поговорила с Феликсом, вам лучше уйти. Он все же странноватый субъект — со всеми вытекающими. Не хотелось бы, чтобы он отменил встречу из-за того, что видел меня с каким-то незнакомцем. Я сейчас поднимусь к себе в номер и свяжусь с вами, как только он позвонит.
Романо взглянул на послание.
— Я пока пойду в иезуитский епископат и там буду ждать вашего звонка. — На обороте конверта он записал телефон. — Вот номер рецепции. Я предупрежу, что мне должны звонить по очень важному делу.
Священник закинул на плечо рюкзачок, вышел из отеля и затерялся среди любителей сладкого, изучающих витрины кафе-кондитерской «Аида» на углу.
Бритт хотелось верить, что она не напрасно пригласила с собой Романо. Ей позарез нужно было увидеться с Феликсом до следующего этапа своей поездки, и теперь она опасалась, что он видел ее в компании священника: это могло его отпугнуть. Феликс должен был предоставить ей крайне важную информацию для завершения «Подложного Иисуса» и, что гораздо ценнее, раскрыть ей тайну, как остаться в живых.
45
Солнце пронизывало тонкий слой рассеянных по небу облаков, а ветер задувал вдоль улиц, пока Романо шагал по направлению к зданию Старого университета. Священник решил, чем брать такси, лучше совершить короткую прогулку до приходского центра, располагавшегося неподалеку от иезуитской церкви и Старого университета. В последние дни он пропускал свою регулярную пробежку и теперь хотел немного размяться, хотя понимал, что даже несколькими прогулками не наверстать нерастраченных усилий. Но озабоченность по поводу несостоявшихся пробежек не шла ни в какое сравнение с угрызениями совести: он обвинял себя в небрежении ежедневным духовным самоанализом. В последний раз Романо занимался им более суток назад, хотя всегда неукоснительно следовал этому ритуалу иезуитов. Духовное упражнение способствовало сосредоточению и помогало священнику почувствовать себя ближе к Господу и собственному религиозному призванию.
Он хотел заняться анализом вчера вечером в самолете, перед отходом ко сну. Он даже успел закрыть глаза и для начала вызвал в себе осознание божественного присутствия, но в этот момент голова Бритт опустилась ему на плечо, и Романо впал в смущение. Он еще пытался сосредоточиться на следующих пяти этапах упражнения, но в сознании то и дело вспыхивали образы, нагонявшие то страх, то отчаяние и повергавшие его в бессилие и даже гнев. В конце концов он решил помолиться о примирении и просветлении, поскольку понял, что сейчас ему необходимо снисхождение Господа к его человеческим слабостям. Вслед за этим священник погрузился в тревожное забытье, перемежаемое обрывками сновидений, которые он безуспешно пытался отогнать.
Романо ничуть не удивило сообщение от Чарли и Карлоты: его беседа с Бритт в самолете подготовила его к представленным ими развернутым доказательствам, что профессор Хэймар все дальше отклоняется от ортодоксальной церковной доктрины. Его ассистенты провели настоящее расследование, переработав ее труды и дав им взвешенную характеристику. Теперь для Романо почти не составляло секрета, в какую сторону движется Бритт. Сам он считал это отклонение весьма опасным, хотя и не понимал, почему она с такой поспешностью ухватилась за радикальные толкования жизни и страстей Христовых.
Романо решил поговорить с Бритт начистоту и выяснить у нее наконец, какие сведения она надеялась получить, встречаясь с Тэдом и отцом Маттео. Он собирался выпытать у нее также что-нибудь о пресловутом Вестнике. Почему ее таинственный телефонный собеседник так себя назвал? Если священники имели секретные прозвища по именам архангелов, то почему бы и Вестнику не последовать их примеру? И в Ветхом Завете, и в Коране упоминается архангел Гавриил — вестник Господень. Может быть, тут и кроется разгадка?
Священник торопливо миновал величественный фасад Австрийской академии наук, свернул за угол на Игнас-Шепель-платц и вышел на мощенную булыжником площадь. Прямо перед ним высилась громада иезуитской церкви Во Славу Пресвятой Девы. Венчающие ее два купола сильно позеленели от времени. Романо направился к входу в австрийский епископат, расположенный сбоку от церкви.
В холле его радушно встретила регистраторша — ее улыбка казалась приклеенной. Она вежливо попросила Романо присесть и подождать, пока дежурный священник не проводит его в гостевую комнату. Похоже, эта студентка из Польши очень обрадовалась возможности блеснуть своим знанием английского. Девушка преувеличенно настойчиво извинялась перед Романо от имени его приятеля, отца Хайнца Мюллера, и отца-ректора Ганса Йозефа, у которых на этот день запланированы дела в университете, поэтому они должны вернуться в резиденцию только после обеда. Романо успокоил ее заверением, что для него это не составляет никакого беспокойства, поскольку он все равно ожидает звонка и собирается на чрезвычайно важную встречу, ради которой он и прилетел в Вену без предварительной договоренности.
На столе регистраторши зазвонил телефон.
— Отец, это вас. — Девушка указала Романо на столик, рядом с которым он расположился: — Я сейчас переключу.
Романо взял трубку:
— Бритт, как скоро!
— Вероятно, Феликс следил за мной, как он и предупреждал. Мне даже как-то не по себе.
— Вы назначили встречу?
— Как только я намекнула, что хочу прийти не одна, он стал жутко упираться. Но я разъяснила, что вы — мой коллега, профессор, как и я, и большое подспорье в моих изысканиях.
— Я польщен честью называться вашим коллегой.
Бритт рассмеялась:
— Я это сделала, лишь бы убедить его согласиться на ваше присутствие. А последнее слово я попридержу до тех пор, пока не увижу вашу рецензию на мое сочинение.
— Когда и где мы встречаемся?
— В десять у кафе «Цум Альтен Блуменшток». Он сказал, что оно находится на углу Баллгассе и Блуменштокгассе, в двух кварталах от моей гостиницы. Я уже смотрела по карте — кажется, этот переулочек где-то недалеко от Вайбурггассе.
— Я подойду в отель минут через десять.
Видя, что к нему направляется молодой священник с протянутой для приветствия рукой, Романо встал, поздоровался и по пути в гостевую комнату перекинулся парой шуток со своим провожатым. Там он сразу же достал из рюкзачка легкую ветровку и сунул в ее внутренний карман блокнот и ручку. Извинившись, что вынужден спешить на назначенную встречу, он захватил с собой «Блэкберри» и покинул епископат. По дороге в отель Романо еще раз взвесил все, что случилось за последние дни. Чем больше он обдумывал недавние события, тем больше опасался, как бы церковь и в самом деле не оказалась в них непосредственно замешанной.
46
Когда они вышли к Баллгассе, Романо невольно остановился. Судя по карте, улица брала начало от Вайбурггассе неподалеку от церкви францисканцев, на деле же она напоминала скорее вход в некий дворик. В проеме меж двумя зданиями была выстроена каменная арка с выбитым наверху изображением ангела. Узкий темный проулок за аркой, по мнению Романо, менее всего соответствовал месту встречи с таинственным осведомителем Бритт.
— Я не совсем так это себе представляла, — покачала головой его спутница.
— Мысли у нас сходятся. Вы говорили, что он странноватый субъект. Надеюсь, «странный» не подразумевает «опасный».
Романо вошел в проулок и принялся изучать таблички на стене сбоку от арки. Среди них оказались: ресторан, антикварный магазинчик, лавка краснодеревщика, мастерская по реставрации мебели и — кафе. Священник вгляделся в полумрак узкого мощеного прохода. Среди освещенных окон домов выделялась яркая витрина, расположенная на пересечении двух улочек.
Он подозвал Бритт, и вдвоем они стали пробираться по узкой булыжной мостовой к подозрительному кафе. У входа в него были выставлены таблички с названиями дежурных блюд, а рядом на стене три застекленных ящика с подсветкой предоставляли полную информацию о меню и напитках. Обрамляла дверь гирлянда из цветных огоньков.
Они вошли, и Бритт так резко застыла на месте, что Романо натолкнулся на нее и, чтобы не сбить с ног, схватил за плечи. Хэймар, едва не упав, тут же указала на вделанное в стену каменное изваяние рядом с позолоченной вычурной зеркальной рамой, обрамляющей открытый бар с богатой коллекцией спиртных напитков.
— Бафомет. Вчера в Нью-Йорке я была на мессе у гностиков в Ordo Templis Orientalis, и они его упоминали. Говорят, этого идола в числе прочих почитали тамплиеры, а еще он — современный символ дьявола.
— Только не говорите, что вы и выдумки о тамплиерах припутали к родословной. — Романо подошел к изваянию и присмотрелся повнимательнее. — Это Бахус, бог виноделия. Посмотрите, его голова украшена гроздьями и виноградной лозой.
— Бахус был безрогим. — Она обратила его внимание на рожки на голове скульптуры. — Поклоняться Бафомету в открытую было небезопасно, поэтому его образ часто маскировали под какой-нибудь другой.
— Вы еще скажите, что голова преподобного Иоанна Крестителя в действительности принадлежала Бафомету, боготворимому тамплиерами. — Романо укоризненно покачал головой. — Бритт, это совершенно необоснованные домыслы.
Прежде чем Бритт успела что-либо возразить, к ним приблизился низенький человек с вытянутым, как у собаки-ищейки, лицом. На нем был твидовый пиджак спортивного покроя и шелковый аскотский галстук с золотым отливом. Концы галстука были заправлены под нарядную коричневую рубашку. Человечек помахал пальцем под носом у Романо и провозгласил:
— Сэр, не спорьте с ней. Профессор Хэймар права, она знает, что говорит.
— Джозеф, это и есть Феликс. Феликс, это Джозеф — коллега, о котором я вам рассказывала.
Феликс окинул интерьер кафе недоверчивым взглядом, а затем двинулся в небольшой закуток сбоку от стойки бара.
— Сюда. Тут есть столик. Сядем подальше от всех.
Пока шли в отдельный закуток, Романо успел хорошенько рассмотреть Феликса. Теперь он готов был согласиться с Бритт, что этого человека довольно легко узнать среди прочих. Коротышка мог служить живой карикатурой на творение мадам Тюссо, попавшее под раскаленный воздушный поток: кожа у него на лице висела складками, а глаза были похожи на щелки и едва угадывались под набрякшими веками.
Они уселись за стол, и внимание Романо тут же привлекла необычная картина на стене за спиной у Феликса. На ней была изображена чернокудрая незнакомка в окружении изумительных по красоте облаков на фоне глубокой небесной синевы. Женщину целовал в губы херувим с младенчески розовым личиком. Своими нежными пальчиками крылатый мальчик ласкал ей шею.
Феликс ухитрился поднять свои нависшие брови, и его унылое лицо озарило подобие улыбки:
— Ага! Вижу-вижу, что и вы заинтересовались Софией.
— Мы с вами еще не дошли до этой темы, — пояснила Бритт. — Феликс убежден, что расшифровка имени Бафомет ключом «Атбаш» дает анаграмму «София», что по-гречески означает «Мудрость».
— Чрезвычайно занимательно, — сказал Романо. — И как это соотносится с вашей теорией о родословной?
— Некоторые исследователи, и Феликс в том числе, полагают, что «Rex Deus» учредил орден рыцарей-храмовников с целью сохранить Le Serpent Rouge и отыскать богатейший клад, зарытый под Иерусалимским храмом. Эти ученые считают, что и тамплиеры, и «Rex Deus» придерживались изначального учения Христа, в котором утверждалось, что истинное знание, или гнозис, следует искать внутри себя. А Бафомет как раз и символизирует поиск такого знания.
Феликс предпринял очередную попытку улыбнуться:
— Хорошо излагаете, профессор. Думаю, вы завоевали себе еще одного сторонника. — Он бросил диковатый взгляд на Романо: — Верно, сэр?
— Я бы сказал, что пока значительно отстаю от профессора Хэймар. Она говорила мне, будто бы вы провели серьезные изыскания по поводу теории о родословной. — Романо поглядел на Бритт, словно призывая ее в свидетели: — Мы оба надеемся, что ваши сведения помогут пролить свет на личность человека, пытавшегося ее убить.
Впервые за время их беседы Феликс вытаращил свои за плывшие глаза, и в их темных зрачках проглянул страх.
— Кто-то пытался убить вас, убить… — дрожащим голосом затянул он. — А ведь я предупреждал… Предупреждал. Это они, хранители родословной. Они уничтожат вас, вот увидите.
— Поэтому я и настаивала на встрече с вами. Мне необходимо знать, кому выгодно убивать меня. В моих исследованиях лишь одно доказательство по-настоящему опасно — это подлинный фрагмент неизвестной рукописи, составленной Иаковом, братом Христа.
Внезапно Феликс начал бесконтрольно дергать головой, моргая при каждом рывке, словно ему досаждал назойливый комар. Затем он уставился в потолок и принялся ожесточенно скрести обеими руками подбородок, будто припоминая некое неясное или забытое обстоятельство. Наконец он уставился на Бритт.
— Иаков? Но он не оставлял никаких рукописей. Это все бред, полный бред… Французские газеты… Ложь, везде сплошная ложь… Что у вас за неизвестная рукопись?
Бритт стала пересказывать ему содержание фрагмента, и все это время Феликс, опершись подбородком о сложенные ладони, пожирал ее недоверчивым взглядом. Выслушав пояснения, он лишь покачал головой:
— Все эти подробности знакомы мне и по многим другим источникам. Да-да, это все не ново. Никакое это не Евангелие. Где вы его взяли?
— Вы могли бы и догадаться: из источника вроде вас. — Бритт и Романо переглянулись. — Мне позвонил неизвестный, назвавшийся Вестником. Это случилось через несколько месяцев после собрания общества Соньера в Лондоне. Он выслал мне фрагмент, заверив, что, когда придет время, я увижу весь документ.
— В вас стреляли… Кто?
Бритт рассказала Феликсу о странном звонке, когда ее попросили подойти на станцию Гранд-Централ за манускриптом.
Она описала обстоятельства покушения, особо упирая на то, что звонил ей в тот раз вовсе не Вестник.
— Я раздумывал насчет вашего анонима, — вмешался Романо. — Он назвал вам тайные имена священников — Уриил и Рафаил. Но архангел Гавриил также известен как вестник Господень, то есть…
— Какие еще священники? — вскрикнул Феликс.
Бритт пояснила, что Вестник рекомендовал ей отцов Маттео и Метьюса как сведущих в вопросе о родословной. Пароли — имена Уриил и Рафаил — должны были помочь успешно провести беседу. Феликс, слушая ее, даже подался вперед, боясь пропустить хоть слово. Когда Хэймар рассказала про смерть священников и про стигматы, он резко отпрянул, и его сморщенное лицо исказилось неподдельным ужасом.
— Это были иезуиты? Священники-иезуиты? — забеспокоился он.
— Вот именно, — подтвердил Романо. — А что, это имеет какое-то значение?
Их собеседник заерзал на стуле. Бегающий взгляд выдавал его замешательство, словно Феликс никак не мог решиться ответить.
— Я сам был священником, у меня был приход… — перешел он на шепот. — Однажды я выслушал исповедь… и очень, очень испугался. Я занимался исследованиями ордена иезуитов. Хм-м… И у меня появились подозрения. Думаю, что «Rex Deus» их финансировал. Да-да, думаю, так. Потому-то этот орден и стал таким могущественным. Быстро набрал силу, разбогател… Тамплиеры нашли сокровища. Вот… Под Иерусалимским храмом. «Rex Deus пустил эти средства на сохранение своей тайны. Игнатий Лойола — из их числа, — Феликс кивал как заведенный, — из их числа. Он снабдил орден всем необходимым. Орден иезуитов, то есть… «Следуйте стопами Христовыми». Где лучше спрячешь родословную? — Он воздел указательный палец перед носом изумленных собеседников. — «Следуйте стопами Христовыми»!
Сообщение о тайной связи иезуитов с пресловутой Христовой родословной застало Романо совершенно врасплох. В чем только ни обвиняли его орден за долгие годы, но это был уже явный перебор. Пока он обдумывал возражения, подошел официант. Они заказали два эспрессо, некрепкий кофе со сливками для Бритт и пирожные.
— Вы толком ничего не знаете об иезуитах. Но стоит только копнуть… — подхватил нить разговора Феликс, едва официант удалился на достаточное расстояние. — Исследуйте их получше — и увидите сами.
Романо промолчал, а Бритт покачала головой:
— Я ни разу не сталкивалась с упоминаниями этого ордена.
— Мне кажется, вы невероятно утрируете, — поддержал ее Романо. — Если у кого-то и появятся основания покопаться в темном иезуитском прошлом, то лучше меня кандидатуры не сыскать. Я — профессор религиоведения в Фордхэмском университете и сам иезуит.
Феликс прищурился, отчего его веки еще больше сморщились, а лицо приняло двусмысленное выражение. Казалось, тусклый свет комнатки весь сосредоточился в узких щелках его глаз.
Романо и не заметил, как официант принес заказ: настолько его захватила мысль о причастности иезуитов к этому делу.
47
Едва рассвело, а Чарли уже пристегивал свой велосипед у кампуса Фордхэмского Линкольн-центра. Бегом припустив ко входу, он успел заметить, что продуктовые тележки по краям тротуара еще не установлены, значит, придется начинать день без привычной стимулирующей порции горячего напитка.
Ничего, можно будет спуститься сюда попозже, когда придет Карлота, а кампус заживет обычной учебной жизнью.
Он вошел в кабинет Романо, достал из поношенного холщового ранца CD-диск и, пока компьютер загружался, не терпеливо вертел его на пальце. У своего приятеля-программиста Чарли раздобыл сложную программу по расшифровке анаграмм; несколько дней он потратил на создание для нее базы данных из латинских слов. Теперь ему не терпелось посмотреть, выдаст ли ему компьютер что-нибудь новенькое на надгробную надпись: «ЕТ IN ARCADIA EGO», которая значилась на полотне Пуссена. До сих пор ему с Карлотой удалось вывести всего один вариант — «ET IN ARCA DEI AGO» («И я действую от имени ковчега Господня»).
Чарли установил программу, импортировал с другого диска базу латинских слов — и ввел фразу. Ожидая результата, он отхлебнул из бутылки вчерашней степлившейся газировки, но не успел проглотить, как на мониторе вслед за придуманной ими анаграммой появилась еще одна: «ITEGO ARCANA DEI». Чарли едва не поперхнулся, сплюнул воду и, пристроившись за письменным столом Романо, поспешно занялся полученным вариантом.
Вскоре, несколько раз перепроверив перевод, он присовокупил новую интерпретацию к прочим, записанным марке ром на раскладной таблице: «I TEGO ARCANA DEI» — «В изгнании храню тайны Господа». С довольной улыбкой Чарли откинулся на спинку кресла. Да, это настоящий прорыв в их исследовании. До сих пор они с Карлотой считали эту надпись своеобразным шифром к деяниям человека, погребенного в могиле, или, в лучшем случае, указанием на неизвестный катарский клад. Новая анаграмма открывала перед ними широкие перспективы. Она вполне могла означать, что сама тайна спрятана у всех на виду — зарыта под камнем, изображенным на картине Пуссена, и находится сейчас во Франции, у Ренн-ле-Шато.
Чарли просмотрел файлы с материалами по Ренн-ле-Шато, а потом поискал в Интернете дополнительную информацию, получив сотни ссылок на сайты про эту затерянную высоко в Пиренеях деревушку. Из них он отобрал заслуживающие наибольшего доверия и отправил почту на «Блэкберри», сообщив Романо о своем открытии. Затем он вспомнил замечание наставника о том, что «меня лучше всего искать по телефону» и что «мое время — только мое», достал мобильник и набрал номер иезуитского епископата в Вене.
48
Феликс опрокинул в себя чашечку эспрессо так, словно это была рюмка виски, и прерывисто вздохнул.
— Вам никогда не обнаружить «Rex Deus». Они очень умело затаились. По всей Европе. Я годы потратил на поиски. Нет, нет, никогда… — Он тряс головой, словно не вполне владел собой. — Я ведь предупреждал вас, предупреждал… Вы теперь слишком близко к ним, слишком… И они пошли на это. Они вас найдут. — Он указал пальцем на Бритт: — И вас больше не будет на свете.
— Может, это никакого «Rex Deus» нет на свете? — вмешался Романо.
— Поверьте мне, профессор — они есть! — Феликса одолел новый приступ конвульсий. Он с усилием кивнул и добавил: — И Le Serpent Rouge тоже существует. Недалеко от Ренн-ле-Шато есть гостиница. Тайна спрятана где-то там. Да-да, тайна. Санта-Мария, Санта-Мария… В ней хранится ключ. Или даже Святой Грааль.
— Какая тайна? — спросила Бритт. — И что вы понимаете под Святым Граалем?
— Нет, нет… Я услышал это на исповеди.
— Послушайте, — склонился к нему Романо. — Это ведь не игрушки. Погибли люди, достойные люди, а у вас в руках сведения, которые могут спасти других от смерти. Любая информация пригодится полиции, чтобы выйти на след преступника.
— Отец, вы сами священник. Да, вы священник… Исповедь неприкосновенна. Нет-нет, ни за что… Я не буду нарушать клятву. Все, что я услышал, я унесу с собой в могилу. Вот-вот, в могилу…
Романо кивнул на Бритт:
— Вы хотите, чтобы тот неизвестный снова совершил на нее покушение?
Феликс беспокойно звенел ложечкой о пустую чашку, избегая смотреть на них обоих.
— Тайна, которую мне открыли, не поможет. Их так просто не найти. Никогда их не отыщут. Профессор Хэймар, вы должны скрыться. Они идут по вашему следу.
— Давайте все же поручим полиции решать этот вопрос, — настаивал Романо. — Один из покойных священников был мне вместо родного отца.
Феликс с явным подозрением уставился на Романо, разинув рот:
— А кто был ваш настоящий отец?
Романо подобный вопрос показался неуместным — но, может быть, он послужит отгадкой личности Феликса и его тайн?
— Моего отца звали Грегорио Романо. Он умер, когда мне было двенадцать лет. Священник Тэд Метьюс, его близкий друг, стал моим наставником. Он и побудил меня вступить в орден иезуитов. А теперь не назовете ли и вы нам свою фамилию?
Феликс смотрел на Романо так, словно мог видеть сквозь него.
— А откуда он был родом? Чем занимался?
— Он американец, как и я. Мой отец был банкиром и являлся представителем Европейской банковской группы. Незадолго до смерти он учредил в Штатах ее финансовое подразделение. — Выдерживая неотрывный взгляд собеседника, Романо напомнил: — Теперь ваша очередь, Феликс.
Тот резко поднялся:
— Я и так рассказал вам больше, чем следует. Слишком, слишком много…
Он рывком отодвинул стул и выбежал из кафе. Романо сунул руку в карман и вытащил горстку обменянных в аэропорту евро.
— Не упускайте его! Я заплачу и догоню вас.
Хэймар поспешила к выходу и стала оглядывать узкий проулок в обоих направлениях. Отчаявшись разобрать сумму, накорябанную официантом на чеке, Романо оставил на столе горку монет и кинулся вслед за Бритт. Она стояла на углу и, вертя головой, осматривала соседнюю улочку. Увидев своего спутника, она пожала плечами:
— Я не успела заметить, куда он делся. Когда я выбежала на перекресток, его уже и след простыл. Увы!..
— На самом деле это я должен оправдываться, — успокоил ее Романо. — Я понятия не имею, что мы сделали бы, если бы догнали его. Думаю, венцы меня не погладили бы по головке за приставание на улице к пожилому человеку.
Бритт закусила губы, будто подавляя улыбку:
— Пожалуй, вы правы. Но у меня осталось еще столько вопросов к Феликсу…
— Простите, но я должен высказать свое мнение, — покачал головой Романо. — Я не стал бы слишком доверять его словам. У этого человека серьезные психические нарушения. Думаю даже, что он нуждается в помощи специалистов. Я, конечно, не психиатр, но, по-моему, у него начинается шизофрения или какое-то другое психическое заболевание. — Он взглянул на часы: — Пойдемте в иезуитский епископат. Мой приятель, наверное, уже вернулся из университета — может, он подскажет нам, кто такой этот Феликс.
Бритт тоже посмотрела на часы — и переменилась в лице. Романо вдруг открылась ее хрупкость и незащищенность перед чем-то неведомым и ужасным, над чем она не властна.
— Что с вами? — испугался Романо.
— Ничего. — Она слегка нахмурилась. — Понимаю, Феликс очень похож на чокнутого — возможно, оттого, что он не на шутку увлечен исследованием нетрадиционных теорий. То, что он однажды услышал на исповеди, потрясло его до глубины души, но это не значит, что он помешался. Скажу только, что почти все предоставленные им материалы впоследствии подтверждались моими изысканиями. На собрание общества Соньера он притащил два портфеля, набитых подробными рукописными заметками со множеством цитат. Пусть Феликс немного не в себе, но когда речь заходит о «Rex Deus» или о Le Serpent Rouge, он оставит позади любого эксперта.
Романо стало жаль Бритт: она готова цепляться за что угодно ради доказательства своей более чем спорной теории. Впрочем, ее пытались убить — это тоже нельзя сбрасывать со счетов.
— Можно поступить и по-другому, — предложил священник. — Мой приятель, отец Мюллер, много времени посвятил некоторым маргинальным теориям от христианства. Возможно, вам было бы полезно пообщаться с ним, он смог бы подкинуть кое-какие интересные идеи для ваших изысканий… К тому же не исключено, что он что-нибудь вспомнит и о Феликсе — или как бы там его ни звали. Стоит только описать внешность…
Бритт снова посмотрела на часы:
— В таком случае будьте добры, разузнайте у отца Мюллера о Феликсе и попросите его выделить для меня немного времени. Я вспомнила, что мне нужно кое-что уладить в отеле. Давайте встретимся внизу в два и там договоримся насчет дальнейшего плана действий.
Романо проводил ее до гостиницы, а затем отправился в епископат, по пути размышляя о Бритт и о происшествии с Феликсом. Он уже предостаточно наслушался разных небылиц и безумных предположений относительно христианства и теперь ломал голову, почему такая образованная женщина, преподаватель — и попалась на крючок подобных безрассудств? Складывалось впечатление, будто она хватается за все, что попадается под руку… Чем больше Романо анализировал точку зрения профессора Хэймар, тем яснее становилось ему, насколько сильно она отдалилась от исторически выверенных христианских ценностей. Или, наоборот, сам он в наивности своей многое упустил из виду?
Романо вспомнил рассуждения Феликса об иезуитах и их связи с «Rex Deus» и с родословной. Упоминал коротышка и о тамплиерах. Священник не мог отделаться от неприятного ощущения, будто он проглядел нечто существенное… почти намеренно проглядел.
49
Когда Романо вернулся в епископат, регистраторша вновь разулыбалась:
— Отец Романо, надеюсь, ваша важная встреча прошла успешно?
— Спасибо, все прошло… как запланировано.
— Джозеф!
Священник с коротко остриженной бородкой и в очках в черной пластиковой полуоправе — вылощенная копия Робина Уильямса — уже спешил навстречу Романо. Он заключил друга в медвежьи объятия.
— Я слышал про Тэда. Молился о вас обоих. — Он отступил, разглядывая гостя и все еще держа его за плечи: — Давненько не виделись. Каким ветром тебя занесло в Вену?
— Спасибо за участие, Хайнц. А я, кажется, пока не смирился со смертью Тэда. Наверное, потому и приехал.
Мюллер заинтересованно посмотрел на Романо, словно ожидая разъяснений, а затем провел его по коридору в один из кабинетов, сказав, что там они смогут спокойно поговорить.
Кабинетом оказалось небольшое, скудно освещенное помещение, оформленное в истинно австрийской манере: высокий потолок, лаковый паркет и аскетическая обстановка. Романо очень кратко пересказал Мюллеру странные события последних дней, а тот слушал и морщился, когда друг описывал ему стигматы на теле Тэда. Но стоило Джозефу заговорить о карлике Феликсе, как его приятель не удержался от стона пополам со смехом:
— Вернее всего, что ваш Феликс не кто иной, как Феликс Конрад, бывший сельский пастор. Он сумасшедший — verükt, как говорят у нас в Австрии.
— Что тебе о нем известно?
— О, это долгая история… Я расскажу вкратце, а подискутировать о его завиральных идеях мы сможем потом с профессором Хэймар. Ко всему, что он успел ей нарассказать, надо относиться с изрядной долей иронии.
— О чем я ей и говорил. Надеюсь, Бритт прислушается к твоему мудрому совету и впредь будет должным образом оценивать мои старания.
— Конрад всегда слыл большим оригиналом, даже когда был священником. Унаследовав от родителей дом и значительное по размеру имение, он оставил служение и на короткой ноге сошелся со всякого рода маргиналами и конспираторами, которых отыскивал по всей Европе. Поговаривали, что он принял исповедь у своего дядюшки, тоже священника, и оттуда, дескать, все пошло-поехало. От себя лично могу добавить, что Конрад очень вольно трактует обет нестяжания. Все свое время он посвящает разъездам по Европе в погоне за всякой белибердой, которую измышляют современные щелкоперы. Ваш Феликс — просто чудак или, если угодно, фантазер.
— Он живет здесь, в Вене?
— В Хитцинге. Скорее всего, на Глориеттегассе. Шикарное местечко, что и говорить. Во времена Марии Терезии знать выезжала туда на лето. Это по ту сторону знаменитой аркады Глориетте, на холме за Шенбруннским дворцом.
Зазвонил телефон. Мюллер снял трубку, что-то сказал по-немецки и взглянул на друга:
— Джозеф, тебя спрашивает твой ассистент. Сейчас переключат звонок. — Улыбнувшись, он протянул Романо трубку: — Да, у тебя не обленишься! В Штатах едва-едва утро.
Чарли первым делом напомнил Романо, что «Блэкберри» после приземления нужно держать все время включенным, а также что аппарат установлен на виброрежим, поэтому никто, кроме него самого, не может знать о получении электронной почты и о телефонных звонках. Пока Чарли рассказывал о новой полученной анаграмме, Джозеф достал «Блэкберри» из кармана пиджака и принял сообщение. Удостоверившись, что его пространное письмо дошло в целости и сохранности, Чарли сообщил, что этим утром Карлота собирается встретиться с одной из студенток Бритт, которая якобы знает какой-то сногсшибательный секрет, объясняющий, отчего профессор Хэймар придерживается столь радикальных убеждений. Чарли пообещал: как только Карлота прибудет в офис, они тут же известят его о результате.
Распрощавшись с помощником, Романо передал трубку Мюллеру:
— Спасибо. Один из моих ассистентов только что отчитал меня: я не позаботился включить его электронную штуковину, чтобы днем и ночью принимать от него депеши.
— Что бы мы делали без современных технологий!
— Наверное, меньше бы нервничали, — обронил Романо, просматривая сообщение.
Его внимание привлекла выжимка из материалов интернет-поиска по Ренн-ле-Шато, посвященная местному приходскому священнику, Беранже Соньеру, который сумел скопить значительное состояние и возвести в этой уединенной горной деревушке множество непонятных строений.
— Можно мне как-нибудь распечатать письмо?
Мюллер что-то черкнул на листе бумаги и протянул Романо:
— Перешли его на мой адрес — и я тебе распечатаю.
Он присел за компьютерный стол и открыл почту, ожидая прихода сообщения.
— Мне пора на встречу с Бритт, — сказал Романо. — Давай увидимся сегодня днем, но попозже. Не сомневаюсь, что ты не в пример мне подкован для обсуждения с Бритт ее изысканий. Ты же и предупредишь ее насчет Конрада.
Мюллер подал другу готовую распечатку:
— В самом деле, мне бы очень хотелось познакомиться с ней. Все-таки не каждый день представляется возможность убедить автора «Подложного Иисуса» пересмотреть концепцию целой книги.
— Поверь, ты поставил себе задачу не из легких.
Романо просмотрел распечатку и заметил, что в ней тоже постоянно упоминается Ренн-ле-Шато. Неужели, подумал он, шумиха вокруг затерянной во французских Пиренеях деревушки теперь приобретет совершенно иную наполненность?
50
Бритт и Романо сидели у входа в отель «Роял» в летнем кафе под красно-белым полосатым навесом, наслаждаясь кофе и свежими круассанами, которые священник купил заранее на углу в кондитерской «Аида», пока ждал Бритт внизу за столиком. Он уже успел обратиться к гостиничному регистратору и найти адрес Феликса в телефонном справочнике. Протянув Бритт распечатку сообщения от Чарли, Романо пояснил:
— Вот это довольно интересно. Анаграмму Чарли получил с помощью новой программы.
Хэймар внимательно прочитала письмо, время от времени одобрительно кивая.
— В моем манускрипте тоже упоминается эта анаграмма и само место. Вероятно, «тайны Господа» — то же самое, что Грааль, или San Graal, родословная Христа. Вполне возможно, Беранже Соньер раскопал захоронение и нашел Грааль, что и явилось причиной его обогащения.
— Почему же вы не рассказали об этой анаграмме, когда мы обсуждали картину Пуссена у меня в кабинете?
— Это не имело отношения к тогдашней беседе. Мы ведь ни разу не рассматривали мою теорию с точки зрения тождества «Мария Магдалина — Грааль».
— Святой Грааль, или просто Грааль, — пожалуй, я не слишком сведущ в этом вопросе. — Романо искоса взглянул на Бритт. — Просветите меня, если вам не трудно.
— Что касается этимологии Святого Грааля, то ученых можно поделить на несколько школ. Ряд его исследователей проводят параллель со словами sangraal и gradales, что в провансальском соответствует значениям «чаша», «тарелка» или «миска». Другие предлагают разбивать слово sangraal на две части после буквы g, что даст sang raal. На старофранцузском это выражение обозначает «королевская кровь». Моя теория строится на том, что в действительности Святой Грааль — это Мария Магдалина, которая увезла королевскую кровь в своем лоне в Южную Францию. Таким образом, Святой Грааль, или прах Марии Магдалины, спрятан где-то в окрестностях Ренн-ле-Шато.
— Этим перечень тайн, по всей видимости, не исчерпывается?
— Я решила, что сама дам истолкование мифу этого захоронения. Кто знает, может, именно мне доведется обнаружить легендарный Святой Грааль.
— Вы шутите?
— Я уже заказала билет на утренний самолет во Францию.
— Там до вас уже наверняка побывали полчища охотников за сокровищами. За столько лет они успели прочесать всю местность вдоль и поперек.
— Но они-то искали чашу или какие-нибудь рукописи, а меня интересует то, что преспокойно лежит незамеченным у всех под носом. — Глаза у Бритт взволнованно заблестели: — Кости на кладбище!
— Но ведь нет никакой возможности проверить, есть ли там кости Марии Магдалины!
— Я уже над этим размышляла, — Бритт дожевала оставшийся бутерброд и воодушевленно улыбнулась: — Можно отдать кости на радиоуглеродный анализ и выяснить, датируются ли они эпохой Христа. К тому же помните, Феликс говорил о гостинице неподалеку от Ренн-ле-Шато? Он утверждал, что там следует искать разгадку тайны родословной и Святого Грааля и местечка Святая Мария.
— Я рад, что вы сами завели об этом разговор, — сказал Романо. — Может быть, теперь вы и сами откажетесь от своей затеи. Хайнц уверяет, что фамилия Феликса — Конрад. Он бывший священник, унаследовавший значительное состояние. Теперь он тратит все время на то, что носится по Европе как угорелый и водит компанию с теоретиками заговора. У меня есть его адрес — мы можем его навестить. Когда он поймет, что его личность для нас больше не тайна, то, пожалуй, поумерит свою скрытность. Вы можете поделиться с ним своими предположениями и сразу получить на них отклик.
Бритт залпом допила кофе, промокнула губы салфеткой и встала:
— Отлично. Идемте!
Романо почувствовал внутреннее удовлетворение от того, что ему, кажется, удалось вывести Бритт на верный путь. Она вот-вот поймет, что до сих пор витала в облаках. Если, конечно, этот Феликс не шарлатан, рано или поздно он сознается, что единственная причина, по которой он не желает разглашать свои «тайны», — та, что их нет и в помине. Точнее, что они существуют только в его больном воображении.
51
Филип Арман попросил таксиста высадить его у парадного входа в Шенбруннский дворец. В Вену он приехал поездом, поскольку вез с собой в сумке пистолет. Наниматель постарался: обеспечил его любимой маркой — «Глок-17» со сменным стволом и глушителем — и без обиняков пояснил, что время поджимает: Филипу некогда будет смотаться в Европу или в Штаты, где в крупных городах в сейфах хранится достаточно «пушек».
Он расплатился с шофером и затесался в толпу туристов, роящуюся у входа в крупнейшую из венских достопримечательностей. Как только такси, взяв нового пассажира, устремилось прочь, Арман сразу углубился в дворцовый парк и направился оттуда на Максинг-штрассе. Он прекрасно знал маршрут и надеялся, что его первая мишень сейчас дома или по крайней мере в городе. Времени оставалось мало.
Он свернул на Глориеттегассе и там едва не прошел мимо жилища Феликса Конрада. Внушительный особняк прятался в глубине, за ажурной зубчатой оградой. Главные ворота были приоткрыты, но ярко-желтая табличка по-немецки запрещала посетителям парковаться на подъездной аллее. В этот час дня здесь не было заметно ни машин, ни пешеходов. Филип чуть не поддался искушению немедля войти в дом и покончить с первым заказом, но, приметив над дверью видеокамеру, не стал торопиться — такой вариант он не просчитывал. Он решил покрутиться по близлежащим улицам и разведать обстановку на случай непредвиденных ситуаций и вынужденного бегства.
В прошлый раз, когда Филип приезжал в Вену, у Конрада еще не было установлено видеонаблюдение. Тогда он без труда проник в дом, пока хозяин отлучался в город, и сфотографировал бесчисленные стопы исписанных от руки листков, которые коротышка заботливо складывал на полки своей библиотеки. Армана удивило, что записи велись то на немецком, то на французском, то на английском: малый, по всему видно, хорошо образован и литературно плодовит.
Филип вспомнил, что сегодня его неприятно задела еще одна деталь — что-то насчет соседней улицы. Он свернул за угол и вышел на Вайдлихгассе, пролегавшую за особняком Конрада. Вдоль длинной высокой стены каменной кладки то же были установлены видеокамеры, а вход в имение преграждали по бокам две караулки. Арман перешел на другую сторону тротуара и убедился, что в обеих будках есть сторожа. Тут он понял, в чем дело, и решил, что лишний шум ему совершенно ни к чему: к дому Конрада с тыла примыкало американское посольство.
Арман принял решение вернуться к особняку и посмотреть, дома ли сейчас старичок и один ли он у себя. Если нет, это создало бы ненужные осложнения, поскольку Филипу совершенно незачем было светиться в таком фешенебельном месте. Он ничуть не сомневался, что сюда время от времени заворачивают полицейские патрули. Следовало также вычислить, есть ли в доме другая сигнализация, кроме камер, затем пробраться внутрь и там затаиться.
Приближаясь к особняку, Арман ощутил, как учащается сердцебиение. Немного не доходя, он застегнул куртку на все пуговицы и перекинул через голову лямку мягкой кожаной сумки, расположив ее спереди. Убедившись, что быстро достать пистолет с глушителем не составит труда, он вынул из сумки шерстяную шапочку с небольшим козырьком, металлическую нагрудную визитку и объемистый конверт. Приколов визитку к куртке над нагрудным карманом, Арман натянул шапочку так, чтобы не был виден шрам, и направился к дому.
52
Феликс Конрад расхаживал по домашней библиотеке, нервно покусывая нижнюю губу. Нельзя было встречаться с ними, с Хэймар и Романо… Если бы знать заранее, что ее коллега — иезуит! Нет-нет, этого не должно было случиться! Все так запуталось, перемешалось, вышло из-под контроля… Покушение на Хэймар, умершие священники — теперь он сам в опасности! Они — разносчики зла. Он-то знает… Кругом зло. Он никому не выдавал секрета, ни разу не проговорился. Дядя его предупреждал — унести тайну с собой в могилу. В могилу! Он годы потратил на розыски себе подобных — тех, кто тоже знает. И никого не нашел. Были такие, кто пытался сложить воедино теории, склеить нечто из обрывков. Но ни один не раз гадал тайны.Хэймар тешила себя надеждой, что ей удалось расшифровать смысл Святого Грааля. Прах Марии Магдалины… Его так и подмывало рассмеяться ей прямо в глаза.
Феликс задыхался, жадно хватая ртом воздух. Что же делать? Уехать? Да, исчезнуть, скрыться… Спрятаться там, где его не найдут. Однако если они вычислили Хэймар, то доберутся и до него. Возможно, они видели их в одной компании. Никаких мыслей, сплошная пустота… Логика совсем не работает. Воздуху, воздуху не хватает!
Звонок! Кто-то пришел… Феликс почувствовал, что его голова начала бесконтрольно подергиваться, перед глазами замелькали какие-то вспышки, виски сжало, словно тисками. Это знак. Нутром он почуял опасность. Он ведь никого не ждет.
Так, камера. Феликс установил систему видеонаблюдения месяц назад, когда страх стал переплескиваться через край. Разносчики зла пока не приходили — вообще никто, кроме торговцев и почтальонов. Он взглянул на монитор и увидел человека в костюме и шапочке, с кожаной сумкой через плечо. На груди у него будто бы значок или табличка с именем — толком не разобрать, а в руках большой белый конверт. Феликс вздохнул с облегчением: это просто почта. Наверное, последние отчеты собраний общества Соньера. Он сглотнул и направился к двери.
— Будьте любезны, оставьте конверт у входа. Спасибо! — сказал он по-немецки.
— Нужно расписаться, — ответил человек.
Феликс приник к дверному глазку — и увидел, что почтальон полез в карман куртки и достал ручку. Тогда он отщелкнул замок и приоткрыл дверь, крепко держась за дверную щеколду. Он протянул руку за посланием, человек приблизился, подавая конверт, и вдруг резко распахнул створку, втолкнул Феликса в прихожую, схватил его за горло и захлопнул дверь.
Конрад чувствовал, как рука незнакомца все сильнее смыкается на его горле, и вдруг что-то проникло ему в грудь. Раздался хлопок, а за ним — резкая боль. Его страшно затрясло, в мозгу замельтешили обрывочные звуки и образы, бесконечно множась, пока тело не прошиб ледяной пот… А потом все заполонила темнота.
53
Романо с Бритт спустились по ступенькам на станцию подземки напротив гостиницы под сервисным комплексом. Они миновали оборудованный по последнему слову техники центр управления, весь из стекла, где дежурные не отрывали взглядов от мониторов, контролирующих узловые станции и поезда метро. На огромной карте на стене была изображена схема пронумерованных линий с названиями всех станций. Оказалось, что до Хитцинга добраться довольно просто: нужно сделать всего одну пересадку.
— Не поможете разобраться?
Романо озадаченно рассматривал автомат по продаже билетов. Бритт прочитала инструкцию.
— Думаю, надо нажать «Взрослый», потом «Зона 4» — и вам покажут, сколько монеток опустить.
Бритт принялась наблюдать, как Романо, зажав в горсти несколько евро, нажимает кнопку за кнопкой, пока он наконец не выкрикнул: «Эврика!» — и внизу в прорези не показались два билета и сдача. Священник протянул ей билет, и они направились ко входу на линию U-1. Пропустив билеты через компостер, Романо и Хэймар с помощью цветных указателей нашли нужную платформу, где уже стояла толпа ожидающих следующего поезда.
Бритт приятно удивил современный, безупречно чистый интерьер венской подземной станции метро. Поверхности из стекла и нержавеющей стали были начищены до блеска, полы вымыты, на стенах отсутствовали граффити. Зная о пристрастии европейцев к табаку, она ожидала, что все вокруг будут нещадно дымить. Оказалось, однако, что курить на платформах и в поездах запрещено.
В ожидании поезда Бритт раздумывала, стоит ли им все-таки выслеживать Феликса. Кто знает, куда может завести открытая вражда с ним? Похоже, Романо от ее затеи бросает в дрожь, и каждое новое обстоятельство только усиливает его подозрительность. Она уже начинала сомневаться, не ошибка ли, что он взялся ее сопровождать. Но так или иначе, с ним ей гораздо спокойнее. Конечно, он немало потрепал ей нервы, зато потом стал выказывать искреннее внимание. А Бритт за последнее время уже успела отвыкнуть от чьего-либо внимания. Все-таки внимание — это приятно.
На встрече в кафе Бритт уже услышала от Феликса практически все, что нужно. Он не был лично знаком ни с кем из «Rex Deus», хотя и предполагал, что общество рассеяно по всей Европе. Зато причастность иезуитов — настоящая сенсация! Если родословную прячут внутри иезуитского ордена, то смерти священников вполне объяснимы. Может быть, они знали кого-то из Le Serpent Rouge… или сами были ее частью? Но главный вопрос пока оставался без ответа — кто убил их и кто покушался на нее?
Поезд замер у перрона, дверцы раздвинулись — и наружу хлынула во всех направлениях толпа пассажиров. Бритт вслед за Романо вошла в вагон и поспешила занять первое попавшееся место; священник остался стоять, уцепившись за кожаный поручень. Каждую станцию объявляли в динамик, поэтому они без затруднений вышли на Карлс-платц, где и пересели на линию U-4. Вскоре голос возвестил прибытие в Хитцинг. Романо за весь путь не проронил ни слова. Бритт не сомневалась, что он предвкушает встречу с Феликсом как очередную возможность доказать ей, что вся ее теория целиком построена на домыслах, сопровождающих популярный миф, а не на фактической стороне вещей.
Они вышли на станции вместе с толпой туристов, обвешанных фотоаппаратами, и вместе со всеми направились к Шенбруннскому дворцу. Там любители достопримечательностей кратчайшим путем потянулись к главному входу в дворцовый комплекс, а Бритт и Романо обогнули его вдоль ограды и направились к Максинг-штрассе.
Эта соседствующая с парковой зоной улица оказалась весьма оживленной, на ней стоял постоянный гул от машин и грузовиков. Бритт едва поспевала за быстрым шагом Романо. Несмотря на легкую сутулость, походка у него была вполне спортивная. Раньше она не придавала значения тому, что, за исключением лечебницы, он везде представал перед ней то в одежде цвета хаки, то в рубашке с расстегнутым воротником, то в спортивной куртке с рукавом реглан или в ветровке. И в довершение ко всему этот рюкзак! Да, профессора и священника Джозефа Романо трудно было представить облаченным в приличествующий его статусу твидовый костюм с галстуком-бабочкой.
Бритт нагнала спутника и взяла его за руку, побуждая умерить шаг.
— Боюсь, я скоро начну задыхаться.
— Простите, я, бывает, увлекаюсь. — Романо улыбнулся. — Стараюсь бегать по пять-десять миль в день. Если не получается, то организм начинает протестовать и пытается восполнить пробел. Идите вперед, а я подстроюсь под вас. Тут, наверное, недалеко.
Разыскивая дом Феликса, они случайно наткнулись на прелестное строение, похожее на замок из детской сказки. Романо замедлил шаг и указал на табличку, из которой явствовало, что здесь некогда жил Иоганн Штраус.
— Интересно, сколько домов Иоганна Штрауса рассеяно по всему городу? Его, пожалуй, можно сравнить с Джорджем Вашингтоном.
Бритт поглядела на него как на сумасшедшего:
— Нет, пожалуй, это у вас сбои суточного ритма. Там впереди что — Глориеттегассе?
Романо проследил ее взгляд и заметил в отдалении сине-белую табличку на углу здания.
— Если да, то придется признать, что ваше чувство пространства дает фору моему примерно на полквартала.
Они прошли еще немного, и Бритт отняла у Романо руку, чтобы дать ему шутливый тычок:
— Да, это Глориеттегассе. Теперь мы видим, что вы в лучшей физической форме, зато у меня зрение острее.
Они свернули на улицу, где жил Феликс, и Бритт поняла, почему Хитцинг считается летней резиденцией аристократии. На смену коричневатым фасадам вдоль Максинг-штрассе, представляющим собой едва ли не сплошные стены, пришли обширные участки в обрамлении великолепных садов, с элегантными особняками пастельных оттенков, украшенными ажурными решетчатыми балкончиками.
— Да-а, похоже, Феликс уже подзабыл, каково это — быть скромным сельским пастором, — заметила Бритт.
— Ага, отец Мюллер оказался прав, — согласился Романо. — По его мнению, Феликса нельзя упрекнуть в излишней приверженности к обету нестяжания.
Довольно скоро они обнаружили дом Феликса Конрада. Он стоял немного в глубине, и путь к нему преграждала высокая черная металлическая ограда. Засов на калитке был поднят, и Романо отвел створку в сторону, пропуская вперед Бритт. Она предоставила священнику идти первым и робко последовала за ним по подъездной аллее через небольшой парк, которому явно требовалось внимание садовника.
Подойдя ближе, они увидели, что входная дверь приоткрыта. Заметив вверху видеокамеру, Бритт еще больше насторожилась. Романо дважды позвонил, потом оглянулся на спутницу. Слышно было, как отдается в доме переливчатый звон, но больше ничего внутри не нарушало молчания. Тогда Романо просунул голову в приотворенную дверь.
— Что там? — спросила Бритт.
— Ничего, просто прихожая, — ответил Романо и крикнул: — Мистер Конрад!
Бритт приоткрыла дверь побольше и тоже заглянула внутрь:
— Феликс, это Бриттани Хэймар!
Наконец она решилась войти. К прихожей примыкала просторная гостиная. Там Бритт и увидела Феликса. Концы его шелкового галстука почти заслонили ему лицо, а сам он лежал, скрючившись, на ковре у самого входа в комнату.
— О боже!
Бритт оттолкнула Романо и рванулась к Конраду. Священник тоже подошел, опустился возле тела и пощупал у него пульс.
— Его застрелили.
Он указал на красное отверстие в груди Феликса.
— Он жив?
— Пульс не прощупывается, и тело уже остыло, — покачал головой Романо и направился к стойке с телефоном в углу комнаты. — Вы знаете, как вызвать неотложку?
Бритт перехватила его руку:
— Понятия не имею. Но нам лучше никуда не звонить.
— Что вы такое говорите? — смерил он ее недоуменным взглядом.
— Нам не надо в это впутываться. Я ездила к отцу Маттео… и он умер. Потом ездила к отцу Метьюсу… он тоже умер. Теперь вот Феликс… мертвый. Тут уже ничем не поможешь. — Она наконец выпустила его руку: — Если будете звонить, то я сейчас же уеду отсюда — и из Австрии. Сию же минуту.
— Но мы же не можем оставить его так лежать!
Бритт сообразила, что ей сейчас нельзя попадать под следствие об убийстве, тем более — в другой стране, тем более — в ближайшие пару дней. Слишком велика ставка в начатой партии. Потом ей будет уже все равно — но сначала надо дождаться окончания игры.
— Вы же священник, вот и помолитесь — и мы сразу же уйдем. В конце концов его обнаружат. — Она озабоченно прижала ладонь ко рту. — Если вас мучают угрызения совести, позвоните с уличного телефона.
Романо укоризненно посмотрел на нее, затем сложил руки и опустил голову, шепча молитву. Тем временем Бритт заглянула в соседнюю комнату, все стены в которой были уставлены книжными шкафами. Улучив момент, она проскользнула туда и обнаружила, что это вместе библиотека и кабинет. Мебель в помещении была старинная, дубовая, письменный стол — антикварный. Бритт начала поочередно открывать шкафы, на полках которых хранились кипы рукописных листков. В каждом шкафу лежали записи на одном языке: французском, немецком или английском. Сделаны они были авторучкой, четким аккуратным почерком. Бритт пролистала английские записи и увидела, что все они датированы. Просмотрев самую свежую подборку, она нашла пометки о родословной Габсбургов, о Ренн-ле-Шато и аббате Соньере. На одной из страниц ей встретилось упоминание о вилле Санта-Мария близ Ренн-ле-Шато; в глаза бросились слова: «…хранит тайны Господа». Она схватила эту кипу листков и стала спешно засовывать ее в сумку.
— Чем, черт возьми, вы тут занимаетесь? — вскричал возникший в дверях Романо.
— Это последние наработки Феликса. Здесь наверняка содержатся очень важные сведения.
Романо кинулся к ней и вырвал у нее из рук сумку.
— Вы ничего не возьмете из этого дома. Важные тут записи, не важные — все равно.
Он вытащил бумаги из сумки Бритт, положил их обратно на полку шкафа и с досады грохнул дверцей, затем кивнул на телефон на письменном столе.
— Если вы не хотите, чтоб я немедленно позвонил куда надо, то сейчас же уйдете отсюда вместе со мной.
Бритт перекинула сумку через плечо и, не говоря ни слова, направилась к выходу. Ей до смерти хотелось порыться в записках Феликса, но впереди предстояло гораздо более важное дело. Вестник наконец сообщил ей, где и когда состоится их встреча, и теперь ничто не должно было встать на ее пути.
54
Филип Арман стоял напротив гостиницы «К+К» и внимательно изучал подходы к ней. Это, безусловно, не «Отель де Пари», но и тут причудливо смешались утонченность Старого Света и современный комфорт. К тому же расположение отеля обеспечивало Филипу самое основное — безопасность и возможность беспрепятственно скрыться в случае надобности. Это здание на Рудольфс-платц имело и историческую ценность, поскольку некогда принадлежало императорской семье. Через улицу от него простирался парк с часто посаженными деревьями и высоким кустарником. Следом за парком начиналась набережная Франца Иосифа — главная магистраль, тянущаяся вдоль Дунайского канала. Любая из боковых улочек непременно вывела бы Филипа в самый центр Первого округа Вены. Отец всегда советовал ему обеспечивать себе как можно больше отходных путей на случай непредвиденных обстоятельств.
Двери и вестибюль были отделаны черной анодированной сталью и стеклом, что придавало интерьеру атмосферу ар-деко. Филип попросил номер с видом на парк: так он мог без труда обозревать улицу напротив отеля. Он не стал тратить времени даром: зарегистрировался и сразу же поднялся к себе, чтобы немедленно начать поиски Хэймар. Там, вынув из тумбочки телефонный справочник, он открыл его на разделе «Гостиницы».
Филипу было непонятно, почему этот идиот, его наниматель, велел ранить женщину в Нью-Йорке, а застрелить — в Вене, но, вспомнив очередное отцовское наставление: «Наше дело — не рассуждать, а выполнять или умирать», скривился в горькой ухмылке. Затем он набрал номер первого отеля в списке и спросил, остановилась ли у них Бриттани Хэймар.
55
Поднимаясь по ступенькам из подземной станции, Романо все еще не мог оправиться от потрясения: в голове у него не укладывалось ни само убийство Феликса, ни то, что они так и не вызвали полицию. Он не мог до конца осознать, почему пошел на поводу у Бритт и поддался на ее безумное настояние ни во что не вмешиваться. Они уже и так встряли во все по самые уши. А теперь он опасался, что кто-то идет по их следу.
Пока они с Бритт ехали в метро до Первого округа, Романо разглядывал пассажиров в вагонах, пытаясь вычленить из толпы подозрительных личностей, но навязчивая идея привела священника к тому, что чуть ли не каждый внушал ему подозрения. В конце концов Романо здраво рассудил, что Вена — огромный котел, где смешиваются туристические потоки со всей Европы и Ближнего Востока.
На углу пешеходной улицы, рядом с площадью, он заметил будки платных телефонов и, обронив на ходу: «Задержимся на минуту, я позвоню в полицию», подошел и снял с рычага трубку. Заметив, что Бритт от испуга переменилась в лице, он добавил:
— Не беспокойтесь, я просто попрошу их заглянуть в дом, где я слышал выстрел, и сразу повешу трубку. Если вам что-нибудь нужно взять в отеле, перед тем как пойти в епископат, советую не терять времени.
Бритт уходить не собиралась — она зашла в соседнюю пустую кабинку и стала ждать, пока Романо наберет «ноль» и попросит оператора соединить его с полицией. У него создалось впечатление, что ей важно было проследить, как бы он не сообщил чего-нибудь лишнего. Повесив трубку, Романо ощутил значительное облегчение: по крайней мере, тело Феликса Конрада не надолго останется без надзора.
По пути в епископат Бритт и не думала жаловаться на быструю ходьбу. Судя по всему, услышав от Романо, что отцу Мюллеру нравится заниматься не совсем каноническими интерпретациями церковной истории и что он немало наслышан о Феликсе, его спутница летела на предстоящую встречу как на крыльях.
Отец Мюллер встретил их в приемной зале и сразу проводил по темноватому коридору в свой кабинет. Его облачение — черный костюм, накрахмаленная белая рубашка с узким черным галстучком — более соответствовало званию священника, нежели свободный стиль одежды Романо. Обменявшись любезностями, они перешли к делу.
— Перед тем как мы с вами перейдем к обсуждению Феликса Конрада, — начал Мюллер, — я должен засвидетельствовать, что с огромным интересом ожидаю вашей готовящейся к выпуску книги «Подложный Иисус». Мне не терпится расспросить вас, что конкретно вы подразумеваете под словом «подложный».
— Увы, я не располагаю достаточным временем, чтобы это объяснить, — ответила ему Бритт. — Замечу только, что у большинства людей создается превратное впечатление на этот счет. Я не ставила своей целью уверить общественность, что Иисус является неким подлогом. Главная идея книги — исправить некогда сформированные ложные представления о Нем самом и о Его учении.
Мюллер, откинувшись на спинку стула, сложил руки на груди.
— Позвольте предположить, что вы — приверженка философского течения, согласно которому Христос явился в мир с просветительской целью. То есть недостаточно поверить, что Он стал Спасителем через распятие и воскресение, — необходимо прежде приобрести знания и подкрепить их добрыми деяниями?
Бритт улыбнулась:
— Я закажу вам написать аннотацию к моей книге, отец Мюллер.
— То, что я угадал ваши предпосылки, вовсе не значит, что я их разделяю. Мое мнение таково: гностицизм — хорошая приманка для тех, кто боится подвергнуть свои философские взгляды всестороннему анализу. — Мюллер поправил на носу модные очки. — К тому же я не согласен с религиозными воззрениями, направленными против апостола Павла.
— Хайнц, оставь Павла в покое! Бритт написала книгу «Святой Павел — апостол, ходивший опричь Христа», так что ей не составит труда опередить нас по всем пунктам. Расскажи ей лучше, что ты знаешь о Феликсе Конраде. Это он предоставил Бритт материалы, которые, как мне кажется, и побудили ее развить в «Подложном Иисусе» довольно любопытные теории.
— Прошу прощения, — осклабился Мюллер, — Джозеф, вероятно, предупреждал вас, что уход от темы — мое слабое место…
— Вообще-то я предпочел бы не разглашать твои, мягко говоря, особенности, — заметил Романо.
— Тогда мне лучше вернуться к начатому, пока не поздно, — приподнял брови Мюллер. — Как я уже рассказывал Джозефу, Феликс служил приходским священником и — по-моему, так говорится у вас в Штатах — дошел до ручки. Он соборовал перед смертью своего дядюшку, который, в свою очередь, принимал последнюю исповедь у аббата Беранже Соньера. После откровенностей дяди на смертном одре Конрад, по слухам, стал совершенно неадекватным. Поговаривали, что тот якобы поверил ему некую тайну, обнаруженную Соньером в Ренн-ле-Шато и принесшую аббату огромное богатство. Прихожане Конрада начали сетовать, что священник излагает в своих проповедях невразумительные мистические идеи. Но церковь не успела вплотную заняться нововведениями Конрада, поскольку его мать вскоре скончалась, оставив сына единственным наследником значительного состояния. Как епархиальный священник, Конрад мог и принять управление семейным имением, и продолжать службу в своем приходе, но вместо этого он послал в Рим прошение об оставлении священнического сана. Власть епископа отныне казалась ему невыносимой. Добившись секуляризации, Конрад уехал в доставшийся ему от матери особняк в Хитцинге, где и втерся в какие-то подозрительные сообщества. Прославился он и своими возмутительными заявлениями.
— Они потому возмутительны, что противоречат церковной доктрине? — поинтересовалась Бритт.
— Ничуть, но они напичканы погрешностями, искажениями, а то и полностью ошибочными сведениями. Я бы посоветовал вам не придавать никакого значения полученным от него сведениям до тех пор, пока не добудете для них серьезных и основательных доказательств. В последние годы Конрад все больше увязал в нелепых теориях; я бы нисколько не удивился, если бы он провозгласил Папу Римского антихристом, а мать Терезу — наследницей Марии Магдалины по прямой.
— Послушайте, я тоже не сразу ему поверила, — возразила Бритт. — Однако, перелопатив горы материала, пришла к выводу, что многие из его заявлений представляют хоть минимальный, но все же интерес.
— А я вам говорю лишь одно: перед тем как ссылаться в книге на сведения, полученные от Конрада, неплохо бы запастись подкрепляющими их существенными данными. Этот Конрад — total verückt, совершенный безумец, как говорят у нас в Вене.
Бритт с беспокойством посмотрела на Романо, словно обращаясь к нему за поддержкой.
— А примеры? Что вы скажете о тайне, якобы обнаруженной Соньером, и о его скороспелом богатстве? Я видела фотографии виллы Вифании и башни Магдалы. Не очень-то они похожи на владения скромного сельского пастора.
Глаза у Мюллера заблестели. Из стопки бумаг на столе он вытащил файловую папку.
— Ходит немало слухов по поводу того, каким образом Соньер заполучил свои богатства. Здесь и золотой клад визиготов, и Соломоновы сокровища, и драгоценные военные трофеи Дагобера, и катарские ценности, пропавшие из Монсегюра, — вплоть до ограбления караванов, которые правитель Ренна переводил через испанскую границу. Ну и конечно же, Святой Грааль, Менора, Ковчег Завета и неизвестные документы, которыми Соньер шантажировал то ли церковь, то ли Габсбургов. На всем этом пасется несметное количество теоретиков заговора.
Бритт слушала очень внимательно, но потом нетерпеливо спросила:
— И какому из предположений лично вы отдаете предпочтение?
Мюллер раскрыл папку и подал Бритт несколько ксерокопий.
— Вот образцы раздаточного материала, который я использую на занятиях в университете. Этот комплект я приготовил специально для вас. Здесь вы найдете копии документов, свидетельствующих о том, что Соньер был лишен прихода: епархия Каркассона признала его виновным в мздоимстве во время богослужений. Вероятно, он был одним из первых священников, увидевших источник дохода в продаже приглашений на мессы. Соньер рассылал их благочестивым католикам по почте наложенным платежом и рекламировал себя в религиозных газетах и журналах. Вот так он и скопил свое состояние.
— Но я во многих книгах и статьях встречала намеки на некую тайну, которая будто бы обеспечила его материальное благополучие.
— Что тут можно сказать? — пожал плечами Мюллер. — На тайнах продается больше книг, чем на обычных фактах.
— Профессор Хэймар убеждена, что в Ренн-ле-Шато может храниться разгадка Святого Грааля, — вмешался Романо. — Бритт, вы не возражаете, если я поделюсь с Хайнцем вашей теорией и расскажу о подкрепляющем ее доказательстве?
— Давайте же, не стесняйтесь, — кивнула Бритт. — Было бы удивительно, если бы у отца Мюллера не нашлось среди документов опровержения и на нее.
Романо заметил, что от ее слов его приятеля даже передернуло, и поспешно пояснил:
— У Бритт есть подлинный фрагмент до сих пор не обнаруженного пресловутого Евангелия от Иакова. Его принадлежность к эпохе Христа подтверждена радиоуглеродным анализом.
Глаза у отца Мюллера полезли на лоб. Он лихорадочным движением сорвал с себя очки и уставился на Хэймар и Романо.
— Что за чушь?
Бритт потрясла у него перед носом ксерокопиями и веско заметила:
— Не более чушь, чем здесь у вас…
— Она перевела этот фрагмент, и из него следует, что Мария Магдалина приходила смотреть на казнь Иисуса, будучи уже беременной, — продолжил меж тем Романо. — Далее, когда Христа перенесли в гробницу, были предприняты попытки его оживления, но чем они закончились, в данном отрывке не говорится.
— Мне думается, — доверительно склонилась Бритт к отцу Мюллеру, — что Мария перебралась в Южную Францию, где родила двойню — мальчика и девочку. Они и дали начало родословной Христа. Таким образом, Мария Магдалина — ее источник, то есть она и есть Святой Грааль. И я предполагаю, что ее прах похоронен где-то в окрестностях Ренн-ле-Шато.
Мюллер водрузил очки обратно на нос и задумчиво сложил вместе кончики пальцев.
— Ну да, ну да… Чрезвычайно интересно. Джозеф, ты проверял подлинность документа?
— Бритт согласилась отдать мне его для анализа, когда мы возвратимся в Нью-Йорк.
— Если это действительно подлинник, то у вашей теории появятся дополнительные шансы. Но я от себя добавлю, что с крайним недоверием отношусь к идее о родословной Христа.
Романо увидел, что Бритт насупилась и в ее глазах блеснул злобный огонек.
— Путешествие Марии Магдалины на юг Франции — иное дело, — продолжал Мюллер. — Существует два весьма убедительных предположения, подтвержденных к тому же историческими свидетельствами. По одному их них Мария вместе со святым Иоанном Евангелистом отправилась в Эфес — Сельчук в современной Турции, — где впоследствии и скончалась. Другая версия допускает, что Мария могла обосноваться в Провансе. По некоторым данным, там она тридцать лет прожила в пещере отшельницей и только потом умерла.
— Если так, то ее прах, возможно, и захоронен где-то в той местности.
— В таком случае этим местом вполне может быть Ренн-ле-Шато, — воодушевилась Бритт.
— Едва ли, — потер лоб Мюллер. — С тех пор расплодилось множество историй о закопанных кладах, религиозном мистицизме и тайных обществах. Эта местность теперь — настоящая Мекка для искателей сокровищ и фанатиков теории заговора. Вот уже более сотни лет население региона страдает от нашествия полчищ гробокопателей, просеивающих каждую горсть земли на участках, указанных в неведомо кем составленных путеводителях.
— Но ведь они не ищут чей-то конкретный скелет! — вспылила Бритт.
Мюллер по-прежнему постукивал пальцами и шевелил бровями.
— Вы, конечно же, правы: они, несомненно, ищут вполне осязаемые сокровища. Но как вы собираетесь доказывать, что некие найденные там кости принадлежали именно Марии Магдалине?
— Феликс упоминал, что неподалеку от Ренн-ле-Шато есть гостиница, где хранится разгадка тайны Святого Грааля и родословной Христа, — ввернул Романо.
Мюллер на это только покачал головой, красноречиво закатив глаза:
— Мы опять возвращаемся к пресловутой загадке Соньера. Поверьте, весь этот мистический антураж — фантазия, и ничего более! Уже немало людей попадалось на удочку ценной находки, но все преследовали единственную цель — обогащение. Давайте тогда уж заодно вспомним того француза, Пьера Плантара, который усиленно занимался мифотворчеством о некоем Сионском аббатстве, якобы имеющем отношение к находкам Соньера. Он даже сфабриковал ряд документов — только чтобы добиться известности и веса в определенных кругах.
— Там не обошлось и без вмешательства иезуитов, — подхватил Романо. — На месте прежнего аббатства возник целый орден. Плантар утверждал, что оно ведет начало от самых Меровингов, а те, в свою очередь, передавали из поколения в поколение тайну дома Давидова.
Романо замолчал, сообразив со смятением, что вот оно — новое подтверждение связи иезуитов с родословной. Бритт резко повернула к нему голову — в ее глазах он прочитал изумление и недоверие.
— Но то же самое утверждал и Феликс: «Rex Deus» финансировал иезуитов с целью сокрытия родословной!
Даже Мюллер застыл, не скрывая замешательства:
— Откуда такое взялось? Он объявил это до или после провозглашения Папы антихристом?
— Придумано на самом деле замечательно, — ответил Романо. — Феликс считает девиз «Следуйте стопами Христовыми» прекрасным прикрытием для поддержания родословной, а быстрый финансовый взлет ордена приписывает поддержке со стороны «Rex Deus».
Удивление на лице Мюллера сменилось добродушной усмешкой. Он повернулся к Бритт:
— Перед тем как использовать эти данные в книге, я бы не раз и не два их перепроверил. Вы, конечно же, в курсе, что орден иезуитов был распущен Папой Климентом Четырнадцатым в тысяча семьсот семьдесят третьем году, и…
— Могу вас заверить, что я, разумеется, не стану включать в рукопись какие попало сведения! — взорвалась Бритт. — Я не хочу злоупотреблять вашим временем, но мне интересна ваша точка зрения на австрийскую версию. Вы тут уже упоминали Габсбургов — каково же ваше мнение об этой династии в связи с «Rex Deus» и Меровингами?
— Как вы, вероятно, уже уяснили, — ответил Мюллер, — я придаю очень мало значения теориям, касающимся Христовой родословной. Но так или иначе, династию Габсбургов окружают разнообразные легенды. Габсбурги правили Священной Римской империей, хотя многие из них взошли на императорский престол без коронации, которую обычно осуществлял Папа Римский. В связи с этим даже выдвигалась гипотеза, что церковь весьма предвзято относилась к слухам об их наследовании Меровингам, якобы прямым потомкам ветхозаветного дома Давидова. В тысяча восемьсот восемьдесят девятом году в охотничьем домике в Мейерлинге были найдены мертвыми тридцатилетний эрцгерцог Рудольф со своей любовницей Марией Вечера; судя по всему, они совершили двойное самоубийство. Рудольф слыл умным и прогрессивным человеком; как наследник Габсбургского трона, он, возможно, очень близко к сердцу принимал домыслы о его членстве в «Rex Deus» или даже о родстве с царем Давидом, то есть, следуя вашей теории, с самим Христом.
— О таком повороте дела я и не подозревал, — вмешался Романо. — Видите, Бритт, я же говорил вам, что отец Мюллер окажется более эрудированным в сфере ваших изысканий.
— Но сага о Рудольфе на этом не заканчивается, — перебил его Мюллер. — Он оставил своему кузену, эрцгерцогу Иоганну, стальной ларец с ключом, а тот после похорон Рудольфа неожиданно отрекся от права на престол и отплыл в Южную Америку. Ни его, ни ларца больше никто не видел.
На лице Бритт появилось задумчивое и вместе с тем недоверчивое выражение. Она заметила как бы невзначай:
— Вы говорите совсем как Феликс Конрад.
— Я просто даю вам понять, что не совсем чужд мифам на эту тему, — усмехнулся Мюллер. — Но верить им я не обязан. Если вам требуются реальные доказательства вашей теории, лучше посетите усыпальницу императора Максимилиана в Инсбруке. Молва утверждает, что он лично спроектировал для себя этот мавзолей и велел украсить его великолепными, больше человеческого роста бронзовыми статуями своих предков. Там вы найдете и Меровинга Хлодвига, и короля Теодрика, и Готфрида Бульонского, и королеву Елизавету Венгерскую, и эрцгерцога Сигизмунда. Вся коллекция включает сорок фигур — вот вам трехмерный перечень сильных мира сего и полная родословная «Rex Deus».
Бритт явно заинтересовало такое предложение. Она устремила на Мюллера пристальный взгляд, а потом спросила:
— А вы сами как считаете — это лишь легенда или зримое доказательство исторического факта?
Священник рассмеялся:
— Предлагаю по вопросу исторической правды не откладывая обратиться к эксперту: Джозеф защитил по ней диссертацию.
Бритт нетерпеливо обернулась к Романо:
— Ну же, профессор, просветите меня!
Тот принялся поглаживать эспаньолку и, напустив на себя ученый вид, изрек:
— Строго говоря, ни церковную догму, ни историю нельзя считать правдой в чистом виде.
Пришла очередь Бритт залиться смехом:
— Вы хотите сказать, что история — это фикция? И здесь тайна?
— И догма, и история — лишь интерпретация истины на основе имеющихся фактов. Мы накапливаем фактический материал или уточняем данные с помощью новейших технологий, и в соответствии с этим догматика и история могут изменяться.
— Выходит, что мы живем в фиктивном мире, — сказала Бритт.
— В принципе, вы правы. В своей диссертации я выдвинул идею, что нам было бы гораздо легче жить, если бы мы признали неустойчивость догматики и истории, их зависимость от эпохи.
— Значит, вы допускаете, что церковная доктрина может со временем измениться?
Романо подпер подбородок сложенными руками и произнес:
— Если говорить упрощенно, я считаю церковную догму наиболее достоверной правдой. Никто ее до сих пор не опроверг, и именно поэтому я могу смело утверждать, что за две тысячи лет она выдержала испытание не только временем, но и самой въедливой критикой.
Бритт повернулась на сиденье, чтобы видеть обоих собеседников, и посмотрела на них испытующим взглядом.
— А поскольку Библия прямо-таки изобилует иносказаниями, ее толкование целиком опирается на субъективный фактор и на факты, доказанные современной наукой?
В глубине души Романо надеялся, что встреча Бритт с отцом Мюллером поубавит в ней запальчивости в стремлении любой ценой развенчать общепринятую церковную доктрину. Он знал, что разубедить профессора Хэймар будет не так-то просто, но его единственной задачей на данный момент было побудить ее повернуться лицом к очевидным фактам.
— В общем, да, все сводится к этому, — согласился он.
— То есть если у меня окажется документ, признанный современной наукой как подлинник времен Христа, и если в нем будет утверждаться, что у Иисуса и Марии были дети, то теорию родословной можно считать доказанной, а церковную догму придется пересмотреть?
Романо и Мюллер озабоченно переглянулись.
— Пересмотреть — пожалуй, — поспешно ответил отец Мюллер. — Но без подкрепления дополнительными осязаемыми свидетельствами такой подлинник вряд ли сможет изменить догму. Как знать, может, он был написан некими недоброжелателями с целью навредить усиливающемуся влиянию новой религии или таким же Феликсом Конрадом — с поправкой на эпоху.
В дверь постучали, и в кабинет вплыл дородный священник в темном литургическом облачении. Отец-ректор выступал с величественностью и достоинством и всегда казался Джозефу постаревшей и слегка обрюзгшей версией Тэда Метьюса. Романо поспешно поднялся, чтобы поприветствовать отца Ганса Йозефа. Тот объявил:
— Прощу прощения за вторжение, но отца Романо просят срочно подойти в канцелярию: ему звонят из приемной отца-магистра.
56
Дверь кабинета распахнулась, и Карлота на бегу чуть не сшибла Чарли со стула. Ему еще не доводилось видеть ее в таком состоянии: его напарница задыхалась, а по ее лбу и щекам струился пот. Несомненно, эта правильная, уравновешенная, трезвомыслящая аспирантка из канзасской Топеки была чем-то сильно потрясена.
— Ты не поверишь! Я такое узнала о профессоре Хэймар!
Чарли развернулся к ней вместе со стулом:
— Ну давай выкладывай свою сенсацию.
— Я разговаривала с одной из ее выпускниц. Бывшей, конечно.
— И что?
— Бриттани Хэймар два года назад пережила настоящий ад. Ее ребенок умер от болезни Тея-Сакса.[634]
— Да-а, плоховато… А что это за болезнь?
— По словам Полы, совершенно ужасная. — Карлоту передернуло. — От нее разрушается центральная нервная система. Ребенок слепнет, умственно не развивается, потом у него начинаются приступы и наступает паралич. Я даже не могу себе представить, что значит — пройти через все это…
— А теперь еще в нее еще и стреляли. Тут у любого начались бы завихрения.
— Чарли, это только полдела. Очевидно, что оба родителя — носители гена Тея-Сакса, а он чаще всего встречается у потомков ашкенази — евреев из Центральной или Восточной Европы.
— Хэймар — еврейка? И читает курс по Новому Завету?
— Вот-вот! — тараторила Карлота. — Ее удочерили и покрестили в католичество. Она не знает, кто ее настоящие родители, а ее муж — французский канадец, и у него тоже были все шансы иметь в Луизиане каджунскую[635] родню.
— Вот не повезло так не повезло…
— А сейчас я тебя добью окончательно. — Карлота упала в кресло и выдохнула: — Муж Бриттани Хэймар очень сильно винил себя в том, что поспособствовал смерти собственного сына, и в конце концов покончил с собой.
Чарли так сильно хлопнул себя по лбу, что даже сбил с головы кепку:
— Черт, это настолько плохо, что так даже и не бывает! Она, наверное, до сих пор ходит к психотерапевту.
— Пола сказала, что после смерти мужа Хэймар как-то совершенно растерялась. Трагедия произошла во время учебного года, и Пола не видела ее до следующей осени, а когда снова встретила в университете, то поняла, что это уже абсолютно другой человек. Раньше профессор была очень верующей и горячо молилась за сына — особенно когда стало ясно, что мальчик не выживет, — а к преподаванию она вернулась с уже готовой концепцией новой книги. Пола искала для нее исследовательский материал по религиозным философским течениям, которые, по ее словам, иначе как еретическими не назовешь. Поле кажется, что Хэймар пишет «Подложного Иисуса» в отместку религии, не принесшей ей утешения. Профессор мучается мыслью, как же любящий всех Господь оставил ее молитвы без ответа и послал невинному ребенку такую ужасную смерть.
— Кто бы стал ее за это винить…
Чарли нагнулся и подобрал с пола кепку.
— Она зациклилась на этом и стала подвергать сомнению буквально все, что касается христианства, а потом логичным образом обратилась к гностицизму. Тогда-то Хэймар и решила, что Христос был пророком, посланным Господом на землю в качестве учителя и советчика. Его миссией было помочь людям обрести сокровенные знания. Профессор считает, что Иисуса следует рассматривать как две независимые сущности. Духовная составляющая влилась в физическую во время крещения Христа Иоанном. Пола говорила, что приходила в ужас от чудачеств новоявленной Бриттани Хэймар, и испытала огромное облегчение, когда профессор получила от университета разрешение взять творческий отпуск для работы над книгой — возможно, оплачиваемый.
— Интересно, кому она умудрилась так насолить, что довела дело до покушения? — удивился Чарли. — И какое отношение ко всему этому имеет наш отец Романо?
— Я спрашивала у Полы, приходилось ли ей знакомиться с его научными трудами. Она ответила, что даже фамилии такой не знает.
— Вот это номер! — Чарли снова подкатился к компьютеру и начал что-то быстро набирать на клавиатуре. — Пошлю-ка я сообщение отцу Романо. Кто знает, чем занимается эта профессор Хэймар. Может, она водит дружбу с экстремистами и через них вляпалась в какие-нибудь темные делишки.
— Пола рассказывала, что Хэймар начала посещать собрания всяческих сект. — Карлота указала на репродукцию Пуссена: — Она даже летала в Лондон на встречу общества Соньера; эти люди как-то связаны с тем местечком во Франции, где расположена могила на картине.
— Что-то меня начинает тревожить эта профессор Хэймар, — признался Чарли. — Интересно, что они оба сейчас поделывают в Вене?
— Отец Романо такой славный, — подхватила Карлота, — такой доверчивый. — Ее опять передернуло. — Надеюсь, ему не угрожает опасность!
— Чем больше я думаю об этом загадочном типе Феликсе, тем сильнее мне кажется, что он причастен и к смерти священников, и к покушению — в общем, везде замешан. Непонятно, зачем отцу Романо было с бухты-барахты лететь в Вену.
Чарли закончил набирать сообщение, откатился от стола и ткнул в монитор:
— Проверь-ка, все ли подробности я вспомнил. И сразу скажи, согласна ли ты с моим настоятельным советом ему вернуться в старые добрые Американские Штаты и держаться подальше от профессора Хэймар, пока все окончательно не прояснится.
Карлота бегло просмотрела послание на экране, подняла оба больших пальца и щелкнула «Отправить».
57
Провожая Романо в свой кабинет, отец Ганс Йозеф положил руку ему на плечо.
— Для меня было трагедией услышать о кончине отца Тэда. Он был мне добрым приятелем, а вам, я знаю, лучшим другом. Нам его будет очень не хватать.
Романо искоса поглядел на отца-ректора — у того с лица не сходило угрюмое выражение, но в глазах теплилось подлинное сочувствие. Буквально с порога отец Йозеф указал на телефон на своем рабочем столе:
— Вам звонит отец Кристофоро. Он должен о чем-то безотлагательно с вами переговорить.
Романо опустился в коричневое замшевое кресло рядом с антикварным письменным столом красного дерева и поднял трубку.
— Отец Романо, очень рад, что успел застать вас. Нам звонили из Интерпола. Вы уже встречались с тем священником?
Романо похолодел. Не хватало только, чтобы все узнали, как они с Бритт обнаружили тело. И кто может знать, что на уме у этого Кристофоро?
— Да. Мимоходом, в кафе. Его фамилия, кажется, Конрад, он секуляризированный священник. Отец Мюллер предупредил нас, что этот субъект помешан на заговорах. — Он поколебался, стоит ли сообщать Кристофоро об иезуитской теории Феликса, но в последний момент воздержался. — Но к смерти отца Метьюса он не имеет ни малейшего отношения. А что стало известно вам?
— Я как раз звоню, чтобы предостеречь вас насчет Бриттани Хэймар. Из Интерпола поступили сведения, что ее подозревают в причастности к убийству отцов Метьюса и Маттео.
— Не думаю, что она замешана в убийстве.
— Пусть это выясняют компетентные органы. В какой гостинице она остановилась?
— В отеле «Роял» неподалеку от Штефансдом. Сейчас она у отца Мюллера в кабинете — мы пытаемся переубедить ее, заставить пересмотреть некоторые положения новой книги «Подложный Иисус».
— Тем более попрошу вас соблюдать осторожность. Если она рассчитается в отеле и захочет уехать из Вены, сообщите мне, и я сразу же извещу Интерпол.
Романо повесил трубку и увидел, что Ганс Йозеф не сводит с него удрученного взгляда.
— Отец Кристофоро сообщил мне, что эту Хэймар подозревают в убийстве отцов Метьюса и Маттео. Вы давно с ней знакомы?
— Достаточно давно, чтобы понять: нет причин обвинять ее в причастности к этим преступлениям. Ее саму чуть не убили в тот день, когда умер отец Метьюс.
— Могут быть причины, о которых вы не знаете. К тому же я слышал, что она встречалась с обоими священниками накануне их гибели.
— Профессору Хэймар кажется, что ее преследуют за научные исследования. Она говорила мне, что ей порекомендовали этих святых отцов, что они будто бы могли поделиться сведениями о Христовой родословной.
— Что за вздор! И вы, и я знали отца Метьюса, как никто другой. Он бы и слушать не стал подобную бессмыслицу. А если эта Хэймарводит знакомство с Конрадом, то она ни чуть не благоразумнее его. Я твердо уверен, что отец Метьюс не одобрил бы такого неосмотрительного поведения с вашей стороны.
— Хорошо, я попытаюсь убедить Бритт вернуться в Нью-Йорк и встретиться с федералами.
— Думаю, это будет наилучший выход для всех. — Отец Йозеф прошел за свой письменный стол и уселся в кожаное кресло с высокой спинкой, украшенной блестящими латунными клепками. — А вам я предлагаю как можно скорее прервать с ней всякие отношения.
Выражение лица отца-ректора не оставляло повода для сомнений, что его предложение подразумевает гораздо большее.
58
Романо указал на кафе «Иниго», расположенное через площадь от иезуитского епископата.
— Вы не против поужинать пораньше? Я что-то проголодался. Самолетная пища, круассаны — все это не для меня.
Бритт сразу же посмотрела на часы и быстро окинула взглядом небольшую площадь. Вокруг было пустынно, исключение составляла престарелая пара в одинаковых соломенных шляпах с путеводителями в руках — оба задрали головы, рассматривая великолепный барочный фронтон Академии наук по соседству с церковью. В сквере неподалеку было припарковано несколько машин.
— Думаю, в «Иниго» можно без помех и отужинать, и поговорить о том о сем, — уговаривал Романо.
Он заметил, что Хэймар вдруг смутилась.
— Туда заходят в основном иезуиты, преподаватели, научные работники… К тому же народу пока не очень много.
Бритт кивнула, и они пошли в «Иниго». Кафе осталось таким, каким помнил его Романо. У дверей в дополнительную небольшую залу, расположенную в глубине помещения, стояло пианино с лакированным пестрым вертящимся стулом. Скрытая подсветка и настенные бра вкупе со столиками на двоих, застеленными белыми льняными скатертями и украшенными свежими цветами в вазах, придавали интерьеру уютный вид. На стенах висели фотографии в рамках и современные гравюры, а над входом в служебные помещения был укреплен небольшой деревянный крест.
Их приветствовал официант в накрахмаленной белой рубашке и синем переднике. Романо попросил столик в дальнем углу главной обеденной залы, откуда хорошо был виден вход в кафе, но где им никто не помешал бы спокойно беседовать. Перед тем как сделать заказ, оба решили выпить по бокалу красного вина.
Бритт заглянула в меню:
— Видно, придется прибегнуть к вашей помощи: кажется, ваш немецкий получше моего.
Романо принялся водить пальцем по строчкам раскрытого буклета.
— Наверное, в дежурных блюдах я еще разобраться смогу… — Он вздохнул с облегчением: — Слава богу, их всего три, и я почти наверняка знаю, из чего их приготовили. Есть цыпленок в томатно-розмариновом соусе со спагетти. Далее, шницель из индейки. А вот отбивная, запеченная с помидорами и моцареллой, и на гарнир — рис с пряностями.
— Нет-нет, довольно! — Бритт замахала рукой. — Мы все-таки в Вене. Я возьму шницель.
Романо добрался до последнего пункта в меню:
— Могу еще предложить шницель из запеченной свиной головы.
— Нет уж, спасибо, — Бритт скорчила недовольную гримаску, — я обойдусь индейкой.
— Отлично, тогда я заказываю два шницеля, и до самого десерта можно не беспокоиться.
Официант принес вино и принял заказ. Романо поднял бокал:
— Давайте выпьем за скорейшее прекращение всей этой неразберихи — и желательно без потерь.
Они чокнулись. Бритт отпила внушительный глоток, и на ее лицо набежала тень.
— Вы и вправду думаете, что нам в Вене что-то угрожает?
— Я думаю, что за вами следят. Феликс Конрад убит, а мы до сих пор теряемся в догадках, кто повинен в стольких жертвах.
— Феликс не сомневался, что «Rex Deus» реально существует и оберегает эту самую родословную. Но если они видели нас с ним в кафе, то почему не убили всех прямо на месте?
— Ждали удобного случая, — предположил Романо. — За нами могли подсматривать с улицы, а когда Феликс выбежал из кафе, то они, скорее всего, проследили за ним и убили дома потихоньку, без свидетелей.
Опасение на лице Бритт сменилось неподдельным страхом:
— Значит, теперь они, наверное, ищут меня…
— Вот поэтому нам надо пойти в полицию.
— Только не в Австрии! — не сдержалась Бритт. — Они начнут проверять мои данные, и тогда всплывет встреча с отцом Маттео в Испании. Мне сейчас нельзя связываться с этими убийствами — лучше потом…
— Послушайте, мы уже тут ни на что не повлияем. — Романо достал небольшой кожаный бумажник и положил на стол прямо перед Бритт визитку. — Ну же, позвоните агенту Катлеру из ФБР. Он ведет дело отца Метьюса. Нам нужно как можно скорее лететь обратно в Нью-Йорк. Вы сейчас сказали, что не хотите впутываться в расследование убийств здесь, в Вене. Но когда обнаружится, что мы встречались с Феликсом Конрадом за несколько часов до его гибели и к тому же приходили к нему на дом, поверьте мне — нас привлекут за милую душу!
Романо со смятением заметил, что Бритт смотрит на него так же непримиримо, как недавно в лечебнице.
— Вы и полетите в Нью-Йорк и сходите там в ФБР. — Она отпихнула от себя визитку обратно к Романо. — А я завтра утром лечу в Марсель, а оттуда — в Ренн-ле-Шато.
Романо от изумления едва мог спросить:
— Но зачем?
— Вы сами слышали рассказ Феликса и видели его пометки о вилле Санта-Мария. До Пиренеев отсюда совсем недалеко, поэтому я не собираюсь упускать шанс разузнать, что же все-таки там спрятано.
— Но кто может поручиться, что вилла Санта-Мария — не выдумка? Вы же беседовали с отцом Мюллером: этот Феликс Конрад — обычный помешанный. Вы надеетесь что-то найти там, где сотни искателей сокровищ уже все обрыскали?
Выражение лица Бритт становилось все упрямее.
— Но ведь он убит, так? — не сдавалась она. — Если бы он был просто помешанным, зачем тогда его прикончили?
— Затем, что вы встречались с ним — как и с отцами Метьюсом и Маттео.
Бритт опустила голову и уставила глаза в стол, а когда вновь взглянула на Романо, то пряди волос, упавшие ей на лицо, были мокрыми от слез. Священник поспешно погладил ее по плечу:
— Простите меня, но вас, судя по всему, очень увлекла эта выдумка, поэтому вы и ведете себя так безрассудно. Хватаетесь за любую соломинку.
Бритт промокнула слезы салфеткой и высвободилась из-под руки Романо. Она несколько раз глубоко вздохнула и взглянула на священника так, словно собиралась прибегнуть к решающему доводу. Он заметил, что естественный румянец отхлынул с ее щек.
— Было бы странно, если бы вы поняли, — прошептала она. — Но для меня это не выдумка. Я ищу ответ на вопрос, почему моя жизнь оказалась расколотой. Некое оправдание тому, почему все мои надежды и молитвы пошли прахом. — К ее глазам вновь подступили слезы, и она сглотнула, чтобы их удержать. — Этот короткий перелет до Пиренеев — последняя возможность получить ответы… — Ее глаза вдруг сверкнули решимостью: — Меня влечет туда очень личная причина, и я не откажусь от поездки, пусть она даже будет стоить мне жизни.
Официант принес заказ. Бритт дождалась, пока он уйдет, и спокойно принялась за еду, предоставив Романо втайне сомневаться и тревожиться. Он не понимал, что скрывает от него Бриттани Хэймар. И дело даже не в маргинальных теориях об Иисусе Христе — оказывается, она уже давно запланировала путешествие в Ренн-ле-Шато. В этот момент в его кармане завибрировал «Блэкберри».
59
Филип держал палец на разъединительной кнопке телефона. Так, в отеле «Римский Кайзер» ее тоже нет… Если обзвон гостиниц ничего не даст, надо думать, что предпринять дальше. Он последовательно двигался по списку от зоны аэропорта по главным кварталам Вены и уже проверил Бельведер, Таун-халл, район музеев и Хофбург. Теперь очередь дошла до центра города.
Филип набрал номер отеля «Роял» в Штефансдом и спросил Бриттани Хэймар. На рецепции ответили: «Минуточку», затем раздался щелчок и послышались долгие гудки. Арман не стал ждать, пока на том конце провода снимут трубку, и отключился. Он просмотрел расстеленную на кровати карту города, нашел дом 3 по Зингер-штрассе и довольно ухмыльнулся: гостиница находилась рядом с оживленнейшим туристическим кварталом Вены. Там сходились Кернтнер-штрассе, Штефанс-платц и Грабен; гораздо легче растворяться в многолюдной толпе, нежели улепетывать по глухому, но пустынному переулку.
Все сразу встало на свои места — удача сама шла ему в руки. Арман решил прочесать местность вокруг гостиницы и разработать стратегию удара и отступления. На Конрада он истратил всего один патрон, и в магазине «глока» их оставалось еще шестнадцать — более чем достаточно, чтобы уничтожить Хэймар и по дороге в Монте-Карло прикрыть, если потребуется, вверенного ему священника. Он пока не знал, сколько времени придется его охранять. Ему было бы гораздо спокойнее, если бы можно было опереться на отца: вдвоем они обеспечили бы святому отцу круглосуточное прикрытие, не дающее сбоев. Наниматель уверял, что дом в Монте-Карло очень надежно защищен. Но сначала следовало покончить с Хэймар, а лишь потом связаться со священником, организовать встречу с ним и вылет из Австрии. Для этого наниматель сообщил ему пароль: «Я охраняю. Время пришло» — и имя объекта — Михаил.
60
Такси остановилось напротив отеля «Роял». Романо и Хэймар все еще не могли избавиться от опасений, что убийца Феликса теперь охотится за Бритт или за ними обоими. За десертом, состоящим из мангового торта и еще одного бокала вина, Бритт напомнила священнику, что покушавшийся на нее неизвестный и компьютерный взломщик — возможно, одно и то же лицо; он мог узнать о Феликсе из украденных у нее данных. Было бы прекрасно, если бы он считал Хэймар погибшей — тогда преследовать их никто бы не стал. Они уговорились, что этим вечером им будет безопаснее оставаться у себя в номерах, а завтра утром встретиться в отеле «Роял» и вместе взять такси до аэропорта.
Бритт с осторожностью открыла дверцу «мерседеса» и почти добежала до входа в гостиницу. Романо подождал, пока она скроется за ослепительными стеклянными створками вестибюля, и попросил таксиста задержаться на минутку, а сам принялся осматривать пешеходную зону неподалеку. Никаких подозрительных личностей он не обнаружил: рядом с самой Зингер-штрассе не было ни души, а люди на площади даже не смотрели в сторону гостиницы. Летнее кафе уже закрылось на ночь, никого не было и рядом с телефонными будками.
Тогда Романо велел отвезти его в епископат, а по пути решил проверить на «Блэкберри» сообщение, полученное за ужином в кафе. Он испытал большое облегчение при мысли, что не сделал этого в присутствии Бритт: по мере того как он погружался в подробности ее злоключений, на него все больше нисходила некая темная пелена. Вчитываясь в строчки письма, священник видел перед собой новый, измененный образ профессора Хэймар — крайне несчастного человека, буквально побывавшего в аду.
Он задал себе вопрос, могла ли трагедия сломить Бриттани Хэймар настолько, чтобы ее увлечение превратилось в манию. Каковы настоящие причины поездки Бритт в Ренн-ле-Шато? Чарли и Карлота недвусмысленно давали ему понять, что профессор Хэймар немного не в себе и что она задумала своего «Подложного Иисуса» в пику разочаровавшей ее религии. Неужели у нее развился психоз? Неужели существует другая Бриттани Хэймар — та, что убивает священников? Романо вспомнил о Феликсе Конраде. Когда его убили, Бритт была рядом — или нет? С полпервого до двух Романо оставался в епископате, предполагая, что и она находится у себя в гостиничном номере. Но откуда у нее оружие?
Едва он дочитал сообщение, как «Блэкберри» принял новое послание от Чарли, озаглавленное «911!». Романо наскоро просмотрел его содержание. Это оказалась сводка новостей, в которой сообщалось, что в нью-орлеанской гостинице найден мертвым еще один священник. Обстоятельства его смерти, как в пенсильванском и испанском случаях, остались невыясненными. Упоминались в коммюнике и отметки-стигматы, но самая последняя строка заставила Романо содрогнуться: «Умерший опознан как отец Натан Синклер».
Прибыв в иезуитский епископат, Романо сразу же справился об отцах Мюллере и Йозефе, но их не было у себя, и никто не мог уточнить, куда они ушли. Он сделал вывод, что трагические известия пока не достигли Вены.
Затем священник попытался свести все три смерти воедино. Лишь в одном он был уверен точно: Бриттани Хэймар не могла убить отца Синклера. Когда тот скончался в Нью-Орлеане, она находилась в кабинете у Романо. Ему упорно приходило на ум то обстоятельство, что все три убийства неким образом переплетаются с тайным обществом «Rex Deus».
О чем знали трое святых отцов, что поплатились за это жизнью? Кому была выгодна их гибель? Один из них — испанец, другой — шотландец, а отец Тэд — родом из Швейцарии. Все трое когда-то несли миссионерское служение, а Тэд Метьюс последние десять лет своей жизни провел в Вернерсвиле в качестве почетного директора. Выходит, все они из Европы и все — иезуиты. Бритт говорила, что два из них что-то знали о Le Serpent Rouge. Но почему христианские священники вообще должны интересоваться этой еретической концепцией о родословной?
Придя в гостевую комнату, Романо почувствовал, как давит на него тишина епископата. На кровати лежало сложенное коричневое тканое покрывало, а в головах — наглаженная белая простыня, навевая мысль об армейской дисциплине. Романо тихо поднял с подушки деревянный крест с затейливой резьбой и переложил его на столик в углу комнаты. Сев на постель и сняв ботинки, он ощутил легкий запах хлорки, идущий от белья. Затем он разделся до трусов и лег, удобно устроив голову на пуховой подушке.
Но стоило ему смежить веки и соединить ладони, как в памяти сразу возник образ отца Тэда, застывшего почти в том же положении и изуродованного стигматами. Он спросил себя, умер ли его наставник во время духовного самоанализа. Мысли о Тэде окончательно заполонили Романо — у него накопилось столько вопросов к своему наставнику… Священник прерывисто задышал, на глаза у него навернулись слезы.
Немного успокоившись, Романо приступил к ежедневному духовному упражнению, пытаясь представить недавние события в логической последовательности. Но когда он дошел до ступени анализа совершенных за прошедший день поступков, он осознал, что с момента выстрела на Гранд-Централ и звонка, извещавшего о смерти Тэда, он словно грезит наяву. Внимательно все взвесив, священник пришел к выводу, что в подобном состоянии мог бы принять немало пагубных решений — например, не выдать полиции револьвер. Он попенял себе, что немедленно не уведомил австрийские власти о том, что обнаружил тело Феликса Конрада, но потом вспомнил о терзаниях Бритт и о ее явном стремлении опереться на чье-нибудь плечо. В завершение самоанализа Романо прочел молитву о примирении и разрешении трудностей. Теперь, когда он так нуждался в помощи Господа, ему пришли на ум слова Тэда, неустанно внушавшего ему, что Бог нарочно посылает нам испытания. Возможно, путешествие в Вену — лишь способ поддержать Бритт, помочь ей противостоять силе, пытающейся вырвать ее у религии и у веры.
Напрасно Романо пытался заснуть — его осаждали мысли, обрывками вспыхивающие в сознании, терзали думы о матери, преследовали образы Марты, Тэда, Бритт и даже скорченного на полу Феликса. Он вспомнил, с какой запальчивостью Конрад убеждал его поверить в спрятанную в недрах иезуитского ордена родословную Христа. Абсурд, но священники-иезуиты не переставали умирать, а люди, интересовавшиеся обществом «Rex Deus» и проблемой Le Serpent Rouge, — погибать от пуль. К тому же невозможно было отрицать очевидное: отец Тэд направил своего подопечного к отцу Синклеру, а тот неожиданно скончался при тех же странных обстоятельствах, что и сам Тэд Метьюс. Сомнений не оставалось: между этими событиями существовала какая-то связь. Последним мучительным размышлением отца Рома не перед тем, как он отплыл в область сна, было осознание того, что отец Тэд, судя по всему, выходил за рамки постулата Ad Majorem Dei Gloriam — «Ради Господнего величия и славы».
61
Пройдя ворота прибытия в аэропорту Швехат, агент Катлер сразу понял, что его встречает сотрудник Интерпола: мордастый здоровяк с красным мясистым и, видимо, некогда перебитым носом держал в руках табличку с именем, написанным крупными буквами: «Катлер». По его угрюмому виду и мятому коричневому костюму агент ФБР сразу понял, что детектив из венской «криминал-полицай» без большой охоты притащился в аэропорт к восьми утра. Тот беспокойно вертелся на месте, озирая толпу прибывающих пассажиров.
Катлер подошел и отрекомендовался:
— Здравствуйте, детектив Браун. Я — Том Катлер из ФБР. Простите, что так рано вытащил вас сюда.
— А, никаких проблем. — Браун даже скупо улыбнулся. — Вероятно, и вы мне кое в чем поможете. Вчера у нас тоже убили священника — вернее, бывшего священника. Как знать, может, это касается и вашего расследования. Об убийстве сообщил человек, хорошо говорящий по-английски. Сам он не представился.
— Да, связь прослеживается, — немедленно насторожился Катлер. — Женщина, которую нам требуется допросить, — Бриттани Хэймар, — вполне возможно, прилетела сюда вместе с иезуитским священником, отцом Джозефом Романо.
— Нашего убитого многие считали, как говорится, чокнутым. Он поддерживал связь с фанатиками и обществами, помешанными на конспирации. Был застрелен у себя дома прямо в сердце.
— Мой напарник вчера следил за Хэймар и как раз попал на сборище каких-то, как вы выразились, фанатиков — возможно, того же самого толка. Я попрошу прислать в ваше управление данные экспертизы на пулю, извлеченную из плеча Хэймар в Нью-Йорке два дня назад. Я сильно удивлюсь, если они совпадут с вашими, но проверить стоит. Стрелял, возможно, и один человек, но оружие, скорее всего, использовал разное. Если же нет, то мне будет чертовски интересно узнать, как ему удалось провезти пистолет из Штатов в Вену.
Браун помог Катлеру побыстрее пройти таможню и забрать багаж, а потом повел на нижний уровень, к выходу, где их уже поджидал белый микроавтобус «фольксваген» с черной надписью «Polizei». За рулем сидел офицер в защитного цвета форме. Браун постучал по заднему стеклу, водитель открыл люк, и Катлер закинул внутрь свою дорожную сумку. Они устроились на заднем сиденье, и Браун снова скупо улыбнулся Катлеру:
— К нам в сыскной отдел звонили из Интерпола и просили оказать содействие ФБР. Чем можем быть полезны?
— Мне как можно скорее хотелось бы установить местонахождение Хэймар и отца Романо.
Браун немедленно потянулся за сотовым и быстрым набором вызвал какой-то номер.
— Мои сотрудники уже ищут Бриттани Хэймар. Я попрошу их заняться и отцом Романо.
— Его полное имя — Джозеф Романо. Священник-иезуит.
— Это облегчает задачу, — сказал Браун. — Он, вероятно, остановился в епископате. Если же нет, то они все равно подскажут, где именно.
Полицейский микроавтобус, завывая сиреной, устремился из аэропорта в сторону города. Браун меж тем разглядывал Катлера с разных ракурсов.
— Я вам кого-то напоминаю? — спросил тот.
— Э-э, мне просто интересно, досталось ли вам по работе?
Катлер непонимающе посмотрел на коллегу, и тот потрогал себя за нос.
Агент ФБР усмехнулся:
— Если бы мне досталось по долгу службы, было бы не так обидно. В колледже я боксировал, но не умел как следует ставить верхний блок.
Браун фыркнул в ответ:
— А мне-то как обидно! Пришел на дом к подозреваемому, а тот увидел, что я из полиции, и как влупит мне по сопатке! — Он еще посмеялся и потеребил нос с красными прожилками: — Ну и мой Liebling[636] на нем расписался — австрийское вино.
Катлер рассмеялся в ответ и с облегчением откинулся на спинку сиденья: кажется, этот Браун — малый неплохой, с ним можно поладить. Он решил, что попросит у него посмотреть материалы на убитого вчера в Вене бывшего священника. Сборища фанатиков, заговоры — все это тесно переплеталось со случаями Метьюса и Синклера, а в совпадения Катлер не верил. Исходя из рапорта Донахью о вчерашнем посещении профессором Хэймар некоего ритуального действа, она, возможно, сама и не убивала, зато уж точно фигурировала в первых строчках списка подозреваемых.
62
Гавриил переключил передачу, и его серебристо-серый «Ситроен С5» повернул на гравиевую дорожку, уводящую в лесную чащу. Машину он взял напрокат в Каркассоне и теперь ехал через Пиренеи к последнему пункту своих поисков. В багажнике стояли четыре коробки с надписью: «Хрупкий груз: компьютерное оборудование». Их содержимое должно было помочь ему до конца исполнить божественную миссию.
Автомобиль приблизился к обширному хозяйственному комплексу посреди сосновой рощицы, состоящему из хлевов и загонов для скота. Неожиданно откуда-то вынырнули двое с винтовками и принялись пристально вглядываться в водителя. Но, узнав Гавриила, опустили оружие.
— Мы не ждали вас так рано, — сказал тот, что стоял у дверцы водителя.
Гавриил вышел из машины, подошел к багажнику и, открыв, показал мужчинам на коробки:
— Мне надо успеть обновить оборудование до прибытия членов Совета. Отнесите все это в комплекс, но аккуратно: компьютеры — вещь хрупкая.
Вместе они осторожно выгрузили коробки из багажника и отнесли их в конюшню через боковой вход. В дальнем углу строения Гавриил набрал код на потайной двери, и перед ними оказался коридорчик с лифтовой кабинкой из нержавеющей стали. Помощники внесли в нее коробки и снова вышли. Дверь за ними автоматически закрылась.
Гавриил нажал на сенсор большим пальцем, и створки лифта сомкнулись. Пока кабинка медленно опускалась в недра глубокой шахты, он вознес благодарственную молитву Господу за то, что ему дано достаточно сил для восстановления справедливости. Очень скоро церковь освободится от мракобесного влияния лжепророков, передававших ересь из уст в уста со времен распятия. Завтра «Rex Deus» отмечает день смерти и истинного воскресения духовного Иисуса — Совет ни разу не пропустил этого святого и торжественного события. Уже через двадцать четыре часа Гавриил завершит свою миссию и навеки почиет во славе Господней.
Лифт остановился, и дверцы его разошлись. Гавриил не двигался, благоговейно склонив голову. Видит Бог, он старался спасти невинных, но их удел теперь — в высшей власти.
63
Катлер просматривал с помощью переводчика рапорт по делу Феликса Конрада, когда в кабинет вошел детектив Браун.
— Мы нашли Бриттани Хэймар, — сообщил он, прихлебывая из кружки кофе. — Она остановилась в отеле «Роял» в Первом округе. Это старый центр, неподалеку от Штефансдом.
Катлер взглянул на часы и понял, что забыл перевести их на австрийское время.
— Долго туда добираться?
Браун покачал головой, снимая пиджак со спинки стула:
— Служебная машина мигом домчит.
— А что отец Романо?
— В гостиницах его нет. Наверняка он остановился в иезуитском епископате. После того как разберемся с дамочкой Хэймар, лучше лично туда наведаться. — Браун многозначительно поднял брови: — Если будем предварительно звонить, то можем его и не застать, а поедем сразу, так увеличим шансы его увидеть. Понимаете, о чем я?
— Полностью полагаюсь на вас, — кивнул Катлер. — Вы здесь хозяин.
64
Романо проснулся от резкого трезвона наручных часов и с силой прижал кнопку, чтобы отключить будильник. Уронив руку обратно на постель, он ощутил, что до сих пор лежит прямо на покрывале. Веки после глубокого забытья были тяжелыми, глаза никак не открывались. Он ненавидел этот момент сразу после пробуждения, когда в голове еще бродят спутанные после сна мысли, над которыми он не был властен.
Кутерьма образов влекла его от матери к Марте, Бритт, покойным священникам, одиночеству и далее по кругу — к озлоблению на мать и на себя самого, неспособного простить и забыть. Почему семья Марты вдруг исчезла? Он знал — это его мать услала их подальше. Марта была для него всем… а он даже ни разу не занимался с ней любовью. Все было — желание, ласки, объятия, теплота тела рядом; затем — одиночество, иссушающий страх обета безбрачия… Все эти обрывки хлынули в его сознание и сплелись там в ком смятения и страстей.
Священник почувствовал, что все его тело покрывается испариной, и принялся яростно отгонять наваждение, терзавшее его сознание по утрам столь часто, что он не решался признаться в этом своему психотерапевту. В висках у него застучало, и мыслительное буйство начало утихать. Романо сосредоточился на Бритт Хэймар. А ее гнев, ее ярость? Что она должна сейчас чувствовать? Не попала ли она в зависимость от некоего религиозного культа, приверженцы которого вообразили себе, что хранят древнюю мрачную тайну? Неужели они всерьез сочли убитых священников, Бритт и Феликса опасными для себя? Или Бритт — сама последовательница такого культа, выискивает людей, представляющих угрозу для их общины? Тогда почему в нее стреляли?
Романо открыл глаза и, сидя на краю кровати, потер ладонями виски. Волнение понемногу улеглось. Нет, все это бессмысленно и в какой-то мере даже безумно. Его взгляд упал на крест на письменном столе, стоймя прислоненный к стенке, и глаза священника снова закрылись сами собой. Он несколько раз глубоко вздохнул и произнес молитву о завершении кровопролития и прекращении мук, терзающих Бритт. Затем он попросил Господа за Тэда, а под конец — об усмирении собственных демонов.
65
Филип потихоньку пил кофе в кондитерской на углу, а сам не сводил глаз со входа в отель «Роял». Весь последний час он прохаживался в районе пешеходной зоны, туда-сюда по Зингер-штрассе в толпе венцев, спешащих на работу, и первых утренних туристов, среди грузовичков доставки, не теряя из виду здание гостиницы. Тем не менее за это время из нее вышла только одна молодая парочка. Под мышкой Филип держал свежий номер «Курьера».
Наконец он неторопливо направился к телефонным будкам напротив гостиницы, откуда ясно просматривались двери. Арман позвонил в епископат, но снова не застал священника. Он начинал испытывать беспокойство: на предыдущий звонок никто не ответил. Теперь в трубке послышался женский голос, который сообщил Филипу, что святого отца сего дня утром не видели. Служащая спросила его имя и телефон, но Арман сказал, что сам позже перезвонит, и отключился.
Рано или поздно Хэймар все же выйдет из гостиницы. Тогда он сунет «глок» под газету и подойдет к ней. На этот раз ему не надо выверять цель с точностью до шести дюймов. К моменту, когда все сообразят, что женщина, упавшая перед входом в гостиницу, застрелена, Арман будет уже далеко.
66
Романо быстро принял душ, оделся и запихнул вещи в рюкзачок, а затем позвонил в отель и спросил Бриттани Хэймар. Линию переключили на ее номер, и Бритт сняла трубку после первого же гудка.
— Джозеф?
— А вам должен звонить кто-то еще?
— Нет, что вы… Я все еще не могу забыть о нашем вчерашнем разговоре — что кто-то, может быть, охотится за мной здесь.
— Давайте я заеду за вами в отель. Вы можете пока расплатиться и заказать для нас такси в аэропорт? Только не выходите на улицу, пока я не приеду.
— Я буду ждать вас внизу, в холле.
Романо спешно вышел из епископата и по одной из боковых улочек направился к отелю «Роял». Мимо прогромыхал огромный чистильщик с трафаретным рисунком «Der Saubermacher»[637] на дверце кабины и, выскребая грязь из сточной канавы, скрылся за углом. Священник прибавил шагу и свернул на Волльцайле, где лавочники в белых и зеленых комбинезонах протирали окна, подметали ступеньки и тротуар перед входом. Подобную картину в Нью-Йорке Романо заставал редко.
Когда он добрался до Штефансдом, пешеходная зона была забита грузовичками и микроавтобусами, доставлявшими товар в магазинчики на Кернтнер-штрассе и Грабен. Люди шли кто куда, спеша на работу. В этот ранний час кругом почти не было заметно туристов, глазеющих на архитектурные красоты. На углу Зингер-штрассе, у входа в кафе-кондитерскую «Аида», даже собралась небольшая толпа: многие хотели с утра глотнуть горячего кофейку и съесть булочку.
Священник еще раз повернул и направился к Зингер-штрассе. Подходя к отелю, он заметил, как официантки в красно-белых полосатых блузках готовят столики для летнего кафе. У входа в гостиницу развернулось такси. Шофер отъехал в тупичок пешеходной зоны и там остановился.
Романо подошел:
— Вы по заказу мисс Хэймар? Едете в аэропорт?
— В гостинице заказывали такси на двух пассажиров — мужчину и женщину.
— Да-да, это мы, — сказал Романо.
Он обернулся и увидел Бритт за стеклянными дверьми входа. Она помахала ему и вышла навстречу.
67
У такси, подъехавшего ко входу в гостиницу, остановился мужчина в тенниске и защитного цвета брюках и о чем-то заговорил с водителем. Филипу он показался смутно знакомым, и вдруг его осенило: это священник, просто он без воротничка — отец Джозеф Романо! Что он делает в Вене, у гостиницы, где живет Хэймар? Арман встревожился: этот человек мог запомнить его на Гранд-Централ и помешать приблизиться к Хэймар.
Романо обернулся и зашагал ко входу в отель. За стеклянными дверьми показалась блондинка с дорожной сумкой через плечо. Она помахала священнику рукой.
Филип вынул из пиджака оружие, спрятал его под газету и начал пробираться к боковому переулку, хотя планировал стрелять Хэймар в сердце с более близкого расстояния. Ни чего, он выпустит в нее сразу три заряда, а затем скроется в толчее у кафе на углу. Арман взвел под газетой курок и двинулся к выбранной позиции.
* * *
У гостиничной пешеходной зоны остановилась полицейская машина. Из нее вышли детектив Браун и агент Катлер и направились к отелю. Вывернув из-за угла со стороны Зингер-штрассе, они увидели у входа в летнее кафе группку людей. Мимо проходил человек с газетой. Неожиданно он вынул из пиджака пистолет и спрятал его под сложенный пополам газетный лист. Катлер первый заметил неладное и ткнул Брауна локтем. Тот кивнул и полез в кобуру за револьвером.
Романо распахнул перед Бритт двери и вдруг заметил поблизости человека, правая рука которого была прикрыта газетой. Что-то в лице незнакомца привлекло внимание священника, и он вгляделся повнимательнее. Воспоминание дало обратный ход и быстро привело его на станцию Гранд-Централ. Да-да, шрам… Это он, тот самый!
Романо сгреб Бритт и оттолкнул ее в сторону. В этот момент прогремел выстрел. Священник кинулся бежать, увлекая за собой Хэймар. Уже на углу женщина немного опомнилась, и они вместе устремились в торговые проулки вокруг Штефансдом.
* * *
Детектив Браун по-прежнему держал под прицелом человека, лежащего у такси на асфальте. Катлер пинком отшвырнул пистолет, валявшийся рядом, и пощупал пульс. Тот не подавал признаков жизни. Катлер взглянул на Брауна:
— Готов.
Браун уже прятал оружие в кобуру:
— Не упускайте их. Здесь я займусь сам.
Катлер пробрался сквозь толпу зевак, уже стягивавшихся к месту выстрела, и выбежал к пешеходной зоне. Поочередно оглядев Грабен, уходящую вдаль перспективу Кернтнер-штрассе, а затем окрестности Штефансдом, он понял, что не знает, где искать. Нигде в людской толчее и среди скопища машин не мелькала белокурая голова Бритт Хэймар, а когда Катлер приметил неподалеку голубой кружок с белой бук вой «U», обозначающий станцию метро, он лишь удрученно покачал головой: поезда венской подземки ходят как часы и охватывают все городские кварталы. Насколько он успел заметить, у Хэймар на плече висела дорожная сумка, а Романо нес рюкзак. Они могли спешить на поезд, самолет или даже на русскую «Комету» — мало ли их ходит сейчас вверх-вниз по Дунаю!
Катлер вернулся обратно к отелю. К Брауну уже присоединился водитель-полицейский, привезший их туда из участка. Офицер следил за тем, чтобы люди не приближались к месту происшествия, а детектив разговаривал по сотовому. Увидев Катлера, Браун сложил телефон и сообщил:
— Наши сотрудники уже выехали. Вы не проследили за ними?
— Скорее всего, они забежали в станцию метрополитена.
Браун на это только покачал головой:
— Отсюда ходят поезда линий U-один и U-три, а в такую рань интервал движения всего несколько секунд. Надо передать их приметы в наш отдел и предупредить квартальных.
— У них с собой дорожные сумки. Хорошо бы проверить гостиницу — вероятно, они там уже рассчитались.
Браун снова раскрыл мобильник:
— Попрошу ребят сделать запрос на ближайшие рейсы. Если они едут поездом, то нам явно не повезло.
— А этот кто? — Катлер ткнул в убитого.
— По паспорту — Филип Арман. Французский подданный.
Вдали слышался нарастающий вой сирен, а Катлер пытался свыкнуться с мыслью, что ему придется целиком положиться на австрийскую «криминал-полицай», чтобы выследить Бриттани Хэймар.
68
Пока они обегали Штефансдом сзади, Романо успел снять у Хэймар с плеча сумку и взять спутницу за руку. Он повел Бритт по узкому проулку позади церкви и на ближайшем перекрестке свернул направо. Время от времени священник оглядывался, но погони, судя по всему, не было. Этим же путем он пришел из епископата, однако теперь условия существенно изменились. Наконец они повернули налево и попали на небольшую улочку, которая и вывела их к Волльцайле. Здесь можно было перевести дух, но Романо упорно тащил за собой Бритт, пока они не оказались в многолюдной толпе, где перешли с бега на быстрый шаг.
— На Волльцайле можно поймать такси. Если не удастся, доедем до кольца, а там уж точно найдем машину.
Бритт тяжело дышала, словно только что пробежала кросс.
— Невозможно поверить, — выдохнула она.
— Будем считать, что нам повезло. — Романо приобнял ее за плечи. — Когда мы уже сворачивали за угол, я заметил, как к гостинице бросился полицейский. Может быть, они задержали преступника.
— Мне все равно, лишь бы побыстрее выбраться отсюда.
Романо увидел неподалеку такси и проголосовал.
— Не волнуйтесь, мы сейчас же едем в аэропорт.
Бросив водителю: «В Швехат», священник шепнул Бритт:
— Клянусь, именно этот человек в вас стрелял.
Она удивленно поглядела на него глазами, полными слез:
— С чего вы взяли? Мне казалось, что вы не запомнили его внешность на Гранд-Централ…
— Из-за шрама. У того был на лбу шрам, и у сегодняшнего типа тоже. Я потому и схватил вас — заметил его, и мне мигом стало ясно: это лицо я уже видел раньше. — Он привлек Бритт поближе к себе: — Может, все же обратимся в полицию?
Хэймар отстранилась:
— Нет, не обратимся. Не сейчас. Мне нужно лететь в Марсель.
Романо изумился столь скорой перемене в поведении Бритт: от слез к злости и упрямству — все это он прочитал в ее глазах. Ясное дело, профессор Хэймар что-то недоговаривает.
— Разве вам не интересно узнать, задержала ли полиция преступника, который покушался на вас, убил Феликса, а возможно, и священников?
— А если не задержали? — отрезала Хэймар. — Ждать — пусть попробует еще раз? Если его поймали, то мы об этом услышим, а если нет, мне нужно убираться подальше отсюда.
Ее доводы обезоружили Романо. И в затруднительном положении она не теряла присутствия духа, а ее ранимость тут же оборачивалась непоколебимостью. Какую бы тайну она ни скрывала, Романо готов был поручиться: все дело в пресловутой родословной, а теперь еще — в Ренн-ле-Шато.
69
Полицейская машина резко затормозила на брусчатой площади перед иезуитским епископатом. Браун, а следом за ним Катлер поднялись по каменным ступеням к темным тяжелым деревянным входным створам. Австрийский детектив толкнул дверь и первым вступил в полутемный холл, где за конторкой сидела молодая девушка. Она улыбнулась и что-то произнесла по-немецки. Браун показал ей служебное удостоверение, и они перекинулись несколькими фразами, среди которых Катлер понял только слово «английский».
— Девушка учится в университете, — пояснил Браун, — и прекрасно говорит по-английски.
Агент ФБР улыбнулся и кивнул служащей:
— Спасибо. К сожалению, мои языковые познания оставляют желать лучшего.
— Никаких проблем, сэр… — Девушка с готовностью взялась за авторучку.
— Простите, я — агент Том Катлер из Федерального бюро расследований.
Он раскрыл перед ней удостоверение, и служащая записала его имя в блокнот рядом с данными Курта Брауна.
— Будьте любезны, пригласите сюда отца-ректора, — попросил австриец. — Мы пришли к вам по запросу Интерпола.
На лице девушки промелькнуло замешательство.
— Отца Ганса Йозефа сейчас нет в епископате. Позвать его заместителя?
— А когда отец Йозеф должен вернуться? — поинтересовался Браун.
Девушка смутилась еще больше:
— Я точно не знаю.
— А где он сейчас? — спросил Катлер.
— Он… он мне не сказал. — Лицо у студентки запылало. — И я его сегодня не видела, хотя обычно отец всегда сообщает, куда уходит. — Она взялась за телефон: — Позвольте, я спрошу у кого-нибудь из священников. Может быть, они лучше знают…
— Вообще-то нам нужен отец Джозеф Романо из Америки, — пояснил Браун.
Студентка от облегчения улыбнулась:
— Отец Романо сегодня утром уехал от нас. Наверное, он уже летит обратно в Штаты.
Она принялась набирать чей-то номер:
— Я вызову отца Мюллера. Он вчера очень долго беседовал с отцом Романо и профессором Хэймар. Возможно, он что-нибудь слышал и об отце Йозефе.
Пока ждали отца Мюллера, Катлер не мог избавиться от одного навязчивого соображения. Он жестом пригласил Брауна в дальний конец приемной залы, где на стене висело непонятное масляное полотно круглой формы. Темно-серый унылый ландшафт на картине смягчало слабое мерцание далекой светящейся полоски — линии горизонта. Оба уставились на изображение, и Катлер потихоньку наклонился к Брауну.
— Я пригласил вас сюда не живописью любоваться. Служащая явно нервничает. Странно, что в епископате не могут подсказать местонахождение отца Йозефа. — Он многозначительно поглядел на коллегу: — У нас уже три убитых иезуита. Как бы не появился четвертый…
— Джентльмены, я — отец Хайнц Мюллер. Чем могу быть полезен?
К ним через залу шагал человек в ладно скроенном костюме.
— Нам бы хотелось разыскать отца Джозефа Романо, — ответил Катлер.
— Тогда вам надо в аэропорт, но на вашем месте я бы поторопился. — Мюллер картинным жестом отодвинул обшлаг пиджака и взглянул на часы, судя по всему, очень дорогие. — Он уехал из епископата несколько часов назад, а сейчас, вероятно, уже летит в самолете.
— Нам также нужна Бриттани Хэймар, — добавил Катлер.
— Вчера профессор Хэймар приходила сюда с отцом Романо. Мы обсуждали ее научные изыскания к будущей книге. К сожалению, я понятия не имею, где она сейчас может находиться. Мне показалось, что они собираются вместе возвращаться в Нью-Йорк.
— Мы уже сделали запрос в аэропорт, — сказал Браун. — А у вас мы надеялись узнать, каким рейсом они вылетают.
Мюллер покачал головой:
— Извините, я совершенно не в курсе. Могу я спросить, в чем, собственно, дело?
Браун быстро переглянулся с Катлером и кивнул:
— Мы расследуем убийство трех священников-иезуитов, а мисс Хэймар может предоставить нам весьма полезную информацию.
Мюллер поморгал, а потом откровенно вытаращился на собеседников:
— Я слышал только про отца Маттео в Испании и про отца Метьюса в Штатах.
— Два дня назад в Нью-Орлеане был найден труп отца Натана Синклера, погибшего при похожих обстоятельствах.
— Боже праведный… — пролепетал Мюллер. — Он был добрым другом отцу Йозефу… и отцу Метьюсу. О господи… Непременно надо разыскать отца Йозефа. Я — и все здесь — видели его в последний раз вчера, как стемнело.
70
Бритт пробиралась в терминале сквозь плотную толпу пассажиров к очереди на регистрацию рейса «Эр Франс». Наконец она обернулась к Романо. Он снял с плеча сумку и протянул ей.
— Ну вот, здесь мы, наверное, и расстанемся…
Бритт вдруг смутилась. Ей захотелось чмокнуть Романо в щеку, но ей никогда раньше не доводилось целовать священников, пусть и в знак благодарности. Она улыбнулась и добавила:
— Я позвоню вам, когда вернусь в Нью-Йорк.
Покидая Романо, Бритт испытывала смешанные чувства.
С одной стороны, он спас ей жизнь и с ним было удивительно спокойно. С другой стороны, была даже рада, что он не стал набиваться ей в попутчики для путешествия в Ренн-ле-Шато. Кто знает, что подумает Вестник, когда увидит их вместе? Сейчас ни за что нельзя его спугнуть…
Романо неотрывно смотрел на нее, и в его взгляде читались и тревога, и внимание, и сострадание, или даже все эти три чувства вместе. Пусть он и не разделяет направления ее исследований, зато не таит угрозы и не пытается навязать ей свою церковную доктрину. Возможно, в нем говорит учитель, пытающийся исподволь, без высоких слов указать ей, где свет… Бритт очень хотелось рассказать ему всю правду, но нельзя же рисковать, когда столь близок ответ на все вопросы…
Вид у Романо был такой, словно он мучительно подыскивал слова для прощания. Неожиданно он странно взглянул на нее и проронил:
— Вы так просто от меня не отделаетесь… — Так же хитровато он смотрел на нее тогда, у него в кабинете. — Пойду-ка я встану в очередь за билетом на этот же рейс. — Он пожал плечами и застенчиво улыбнулся, а может, даже подмигнул: — Вы не представляете, какую популярность я приобрету у своих студентов, когда расскажу им, что случайно оказался рядом с профессором Хэймар при поимке Святого Грааля.
И Романо удалился к кассе «Эр Франс». Бритт не знала, что ей делать: на такое она вовсе не рассчитывала. Ей вспомнился последний разговор с Вестником. Он не требовал от нее прибыть непременно одной, и в нем самом не было ничего настораживающего. Напротив, Вестник прямо предупредил о грозящей ей опасности. Он так и сказал тогда: «Мы оба в опасности».
Но что она скажет Романо? Правду раскрывать нельзя: он сочтет ее сумасшедшей, если узнает, что она доверилась человеку, которого даже ни разу не видела. Но с этим человеком ее связывают узы особогорода — узы крови.
71
Романо вздохнул с облегчением, лишь когда самолет, набирая скорость, покатил по взлетной полосе. В их с Бритт ряду не оказалось третьего пассажира. Священник надеялся, что Бритт теперь все же разоткровенничается и расскажет, что она на самом деле хочет найти в Ренн-ле-Шато. Это многое бы объяснило — в частности, ее слепую уверенность в теории о родословной.
Пока они не набрали высоту, Бритт сидела, вцепившись в подлокотники, а потом повернула над головой вентилятор и подставила лицо под струю прохладного воздуха. Скосив глаза на Романо, она призналась:
— Простите, что вам приходится при взлете и посадке наблюдать одну и ту же картину.
— У всех есть свои особенности. Вы еще не видели моих.
— У нас все впереди, — улыбнулась она.
Священник почувствовал, что краснеет. Он решил, что сейчас самое время выпытать у Бритт, что влечет ее к пиренейской деревушке, которая у всех на слуху.
— А чем конкретно вы собираетесь заниматься, когда приедете в Ренн-ле-Шато?
Хэймар ответила не сразу, что-то обдумывая про себя.
— Пойду и взгляну на церковь Святой Магдалины, выстроенную Соньером. Вероятно, в ней достаточно символики, которая переплетается и с моими исследованиями. Но особенно меня интересует кладбище. Говорят, что Соньер уничтожил надпись на могиле Бланшфлор. Предположительно, дама д'Опуль де Бланшфлор указала ему на тайник с секретными документами, которые аббат позже обнаружил в Вестготском столпе. Так называют колонну, подпирающую алтарь в церкви Святой Магдалины.
— И что вы хотите там найти?
Бритт задумчиво смотрела мимо него:
— Сама точно не знаю. Просто я должна там побывать, и все. Может, после всей проделанной работы я увижу там знаки, которые позволят мне что-нибудь связать воедино. Несмотря на доводы отца Мюллера, я уверена, что в Ренн-ле-Шато хранятся зримые доказательства теории родословной — они и подтвердят мой рукописный фрагмент. Иногда ответ находится прямо перед глазами — надо только четко знать, что ищешь.
— Как же Мария Магдалина? Вы, кажется, не сомневались, что она и есть Святой Грааль, а ее прах захоронен возле Ренн-ле-Шато.
— Вот почему я хочу расспросить местных жителей, слышали ли они о вилле Санта-Мария. Мне также интересно было бы добыть сведения о статуе Марии Магдалины, которую Соньер воздвиг в Саду Голгофы, на деревенской площади. Этот памятник исчез много лет назад. Видите, сколько всего связано с Марией Магдалиной! Потому я и уверена, что именно она — разгадка тайны, некогда хранимой Соньером.
— Эта статуя несет в себе какой-то смысл?
— Беранже Соньер вообще славился пристрастием к тайнописи, поэтому я бы очень удивилась, если бы на статуе не оказалось шифра к местоположению останков Марии Магдалины. Многие видели, как Соньер собирал поделочные камни в долине Баль и носил их в деревню в угольном ведерке. В углу сада он соорудил из этих обломков непонятный грот и поставил внутри ту самую статую. Возможно, в ведре он переносил не только камни. Что, если он отрыл останки Марии Магдалины и выстроил для нее усыпальницу?
— Ну, это уже слишком… Гипотеза, не более того, и практически недоказуемая. Простите за прямоту, но здесь вы явно донкихотствуете.
Бритт досадливо поморщилась:
— Если наберется достаточно частей головоломки, то можно начать составлять из них картинку. Мне потребовались годы исследований, чтобы разрешить сомнения, и только теперь я начинаю видеть цельный образ.
Романо задумчиво покачал головой:
— Но для своей головоломки вы выбираете лишь те куски, которые вам нравятся, поэтому в результате получаете ясное представление, но только о собственных фантазиях.
— Зато мое представление, возможно, пригодится другим, чтобы составить непредвзятое мнение, — недовольно ответила Бритт. — Пусть так. Я до смерти устала от всяких тайн, секретности и обрядов Римской католической церкви. И мне думается, что ранняя ортодоксия создала бюрократический аппарат, нацеленный на удержание власти и богатства, а вовсе не на распространение учения Христа. С тех пор паства сама должна была искать пути к просветлению.
— Вы написали книгу о гностицизме — мне кажется, что вы неравнодушны к этой теме, что она в вашей жизни особенная. Очевидно, что вы все более отступаете от церковной доктрины и уклоняетесь в сторону гностицизма.
— Не вешайте на меня ярлык гностика. — Бритт снова подставила лицо под вентилятор и глубоко вздохнула. — Вы пока не понимаете. Послезавтра — может быть…
— Вы правы, не понимаю. Вы и вправду надеетесь получить некое откровение, обойдя вокруг эту глухую деревушку? Считаете, что таким образом опровергнете то, что выстояло перед еретическими заявлениями, детальнейшим научным анализом и самой разнузданной критикой — через два тысячелетия?
— Ладно! — Бритт сверкнула на него глазами. — Что вы скажете о результатах изысканий, напечатанных в серьезных журналах? Иерусалимскую церковь в самом начале возглавлял Иаков — возможно, брат Христа. Он чтил еврейский закон и провозглашал поиск просветления сутью учения Иисуса.
— Не стану спорить. Вам вольно верить в родство Иакова и Иисуса и в погоню за просветлением у ранних христиан. Но даже эти положения доказывать нелегко, поскольку не осталось соответствующих письменных памятников, сколько-нибудь близких к той эпохе.
Глаза Бритт горели от воодушевления. Без всякого сомнения, она очень привержена своей излюбленной теории. Но Романо понимал, что всей правды она не говорит: невозможно поверить, чтобы такая эрудированная исследовательница отправилась в затерянную в Пиренеях деревушку ради простого каприза.
Хэймар, подумав, возразила:
— Вы сами знаете, что вначале последователи апостолов не называли Иисуса Спасителем. И они тогда не проповедовали веру в Христа и в исповедь как условие избавления от грехов — ее требовалось подкреплять добрыми делами.
— За сотни лет христианская религия все же эволюционировала, — заметил Романо. — Каждый из первых десяти учеников Иисуса принял за свою веру ужасную смерть. Если бы некие сведения о Христе были недостоверными, кто-нибудь обязательно положил бы начало дальнейшим искажениям.
— Меня интересуют не сведения о самом Христе, — замотала головой Хэймар. — Моя задача — истолковать, что такое Христос для нас всех и какова Его роль в становлении христианства. Представление об Иисусе как об искупителе исходит от Павла — это ему первому пришло в голову, что Христос принял смерть за грехи всего человечества, что теперь Он — посредник между людьми и Богом на небесах. Те, кто верует в Него, почитает Его как Господа, может в Судный день надеяться на Его покровительство. Вера в Христа как в избавителя стала основой проповеднической деятельности Павла.
— И с чем вы тут не согласны? — пожал плечами Романо.
— Не согласна? Вы шутите! — оскорбилась Бритт. — Я согласна с Мартином Лютером! Доктринерская тема искупления мне претит, она изжила себя. Если убийца с большой дороги верует в Христа и кается, значит, ему простится? Ну уж увольте!
Романо поднял обе руки в знак капитуляции:
— Пока сдаюсь! Мы с вами затронули области, требующие не меньше семестра усердных штудий.
Он хотел еще пофилософствовать, но самолет вдруг попал в воздушную яму, и пассажиров несколько раз сильно тряхнуло. Впереди загорелась табличка, и голос пилота объявил по интеркому: «Мы входим в зону турбулентности. Просим прощения за неудобства. Просьба пристегнуть ремни».
Бритт снова вцепилась в подлокотники — Романо понял, что на этом их дискуссия закончена. Он взглянул на часы: скоро посадка в Лионе, а оттуда — перелет до Марселя. Интересно, арестовали ли того типа с револьвером у гостиницы в Вене? Причастен ли он к гибели его друзей-священников? Романо захотелось, как только самолет приземлится, написать отцам Мюллеру и Кристофоро, но он вспомнил, что не знает их адресов наизусть. Телефонный звонок не поправит положения: как объяснить, зачем он сопровождает в Ренн-ле-Шато профессора Хэймар, которая надеется отыскать там доказательства существования родословной Христа?
72
Когда Катлер и Браун вернулись в главное управление венской криминальной полиции, там уже вовсю кипела работа. Отца Ганса Йозефа в епископате не оказалось, и в отель «Роял» выслали усиленный наряд. К счастью, ни в одном из номеров тело священника обнаружено не было. Отец Мюллер, осмотрев комнату отца Йозефа, заметил, что туалетных принадлежностей и любимой дорожной сумки отца-ректора нет на месте, и это обстоятельство доставило ему явное облегчение. Расспросили и других священников, но никто не мог сказать, куда отправился глава епископата. Его видели сразу после встречи Мюллера с Романо и Хэймар, а один из священников даже видел, что гости потом пошли ужинать в кафе «Иниго» на близлежащей площади, но отца Йозефа с ними не было.
Мюллер передал Катлеру и Брауну разговор о Конраде и Ренн-ле-Шато. Известие о том, что Конрад был убит позже в тот же день у себя дома выстрелом в сердце, сильно взбудоражило священника. Дрогнувшим голосом он признался, что подсказал Романо, где живет Феликс. Его явно опечалило, что он по незнанию подверг друга и его спутницу опасности: убийца мог увидеть их в доме Конрада и проследить за ними, а потом пытался застрелить.
В кабинете Брауна их уже дожидался офицер. Он о чем-то коротко переговорил с детективом, и тот довольным тоном объявил Катлеру:
— Они только что приземлились в Марселе.
— У вас найдется карта Франции? — спросил агент ФБР.
Австриец порылся в шкафчике и извлек довольно потрепанную карту, которую не мешкая расстелил на рабочем столе. Толстым пальцем он ткнул в точку внизу, у Лионского залива.
— Вот здесь они сели. — Он покачал головой. — Боюсь, поздно просить французских коллег их задержать.
— Я, кажется, знаю, куда они держат путь.
Катлер внимательно изучил карту, пока не отыскал нужный пункт. Ренн-ле-Шато оказался крохотной точкой в Пиренеях пониже Каркассона. Его единственным опознавательным знаком был крест, указывающий, что в этой незначительной деревушке есть часовня.
— Отец Мюллер недвусмысленно намекнул, что профессор Хэймар очень интересуется Ренн-ле-Шато, — пояснил он.
Браун сквозь нижнюю часть линз всмотрелся в обозначение на карте.
— Вы тоже можете слетать в Каркассон. Мы закажем вам билеты на ближайший рейс.
— Спасибо.
— Никаких проблем, дружище. Если хотите, я свяжусь с французской полицией и вас встретят. — Браун приподнял густые брови и посмотрел на Катлера поверх очков: — Мне это будет легче сделать, чем американцу. В Интерполе у меня есть приятель, и за ним числится должок.
— Был бы очень признателен. — Катлер хлопнул австрийца по плечу. — Вы славный малый, герр Браун.
Пока детектив говорил по телефону, Катлер еще раз мысленно вернулся к убийствам священников и к связи, существующей между Романо и Хэймар. Почему он сразу этого не заметил? Иезуит, давший обет безбрачия, и, согласно рапорту лейтенанта Ренцетти, симпатичная блондинка, у которой с религией особые счеты… Либо этот Романо состоит в тайном обществе, о котором ФБР ничего не известно, либо он — будущая ритуальная жертва Ordo Templis, либо Хэймар приберегает его для личной вендетты… Черт возьми, ведь она могла ранить себя, а револьвер сунуть в ящик нарочно, чтобы Романо, поспешивший к ней на помощь, взял его себе! Стрелявшего толком никто не видел, а пострадавшую на пороховой остаток и не подумали проверить…
Катлер понимал, насколько нелегко будет убедить французов превысить полномочия и арестовать Романо и Хэймар: все убийства совершены не на их территории. Но если даже ему просто помогут найти беглецов, дальше он справится в одиночку. А пока, перед отлетом во Францию, следовало как можно больше разузнать о местном преступнике — Филипе Армане. Нельзя отклонять версию, что именно он стоит за гибелью всех священников, а Романо и Хэймар — следующие на очереди. В таком случае возникал вопрос мотива и возможных соучастников. И еще одна головная боль — отец Йозеф. Все жертвы были лично знакомы. Хэймар встречалась с каждым из них, кроме отца Синклера. Да, между этими случаями, несомненно, есть связь, и теперь агент Катлер готов был поспорить на что угодно, что профессор Хэймар — в курсе дела.
73
Романо и Бритт сидели в вагоне-ресторане поезда Марсель-Каркассон, распивая бутылку бургундского и откусывая по маленькому кусочку от французских бутербродов. Краткий перелет от Лиона до Марселя не дал им возможности толком побеседовать: Бритт едва могла опомниться от своих приступов. Теперь, в спокойной обстановке, Романо надеялся, что ему удастся разговорить профессора Хэймар. Он хотел, чтобы она сама рассказала ему о своей трагедии, возможно и обусловившей ее крестовый поход против всей церкви.
Глотнув из бокала бургундского, Романо оценил его мягкий, нежный букет. Однажды они с отцом Тэдом вместе пробовали марочное вино, и, когда в бутылке оставалось уже на донышке, наставник с неуловимой улыбкой поднял бокал и заявил: «Качественное бургундское напоминает лицо прекрасной женщины с изящной фигурой, оно восхитительно». С тех пор Романо занимал вопрос, встречалась ли отцу Тэду в жизни женщина, похожая на хорошее бургундское. Он заметил, что Бритт смотрит в окно, но на самом деле погружена в себя. Она казалась вполне безмятежной и, несмотря на недавние треволнения, тихо улыбалась чему-то. В ней не было ничего деланного, надуманного. Все в Бритт было естественным — кроме, пожалуй, рвения закончить книгу.
— Я знаю, что церковь не безгрешна, — начал священник. — Ничто не без изъяна, разве что жизнь самого Христа. Даже если вы оспариваете Его роль как искупителя, то, наверное, согласитесь с мыслью, что Бог послал нам Иисуса, чтобы указать путь.
Бритт посмотрела на Романо. Ее глаза все еще лучились мягким светом.
— Вы знаете, здесь у нас не возникнет разногласий. Вы сами как-то отмечали, что гностики полностью разделяют такой подход. — Неожиданно она посерьезнела. — Почему вы стали священником?
— О, для этого разговора лучше выбрать другое время и место, — улыбнулся Романо. — Мои первоначальные мотивы были далеки от идеала, но, судя по всему, результат оказался даже лучше, чем я мог предполагать.
Бритт опустила ресницы:
— Следует ли это понимать так, что вам очень по душе быть священником?
— А вам по душе преподавать религиоведение?
— Само преподавание я люблю, оно доставляет мне огромное удовольствие. Но ведь священство — это не профессия. Это жизнь, к тому же по определенным канонам.
Романо подлил вина в бокалы и сделал еще глоток.
— Кажется, пришла пора мне обнародовать некоторые свои особенности. Церковная традиция отнюдь не облегчает священникам жизнь. Я часто думаю о любви к женщине, об одинокой старости — и о сексе. Много думаю.
— Вот это да! Никогда бы не подумала, что священник способен признаться, что в первую очередь он мужчина.
— Нет, в первую очередь я священник. Но, если уж на то пошло, все мы люди со своими слабостями и недостатками. Я часто размышляю над строгостями и ограничениями, которые накладывает сан. Вовсе не Христос придумал обет безбрачия — нет, эта традиция идет от первых отцов церкви, и направлена она на решение практической дилеммы, связанной с человеческим фактором. Вы в самолете говорили, что, по вашему мнению, ранняя ортодоксальная церковь создала чиновничий аппарат, нацеленный на приобретение власти и богатства. Я бы назвал его скорее структурой, помогающей выжить в этом не совсем совершенном мире. Пусть само христианство весьма далеко от идеала — зато в общем и целом на протяжении двух тысячелетий оно служило благородному замыслу.
— Если в неидеальную его часть поместить всех жертв, принесенных во благо церкви, то я, пожалуй, соглашусь с вами.
— Все мы несем свой крест, — произнес Романо. — Я… я думаю, и у вас в жизни были разочарования и трагедии.
Бритт не поднимала глаз от столика.
— В трагедиях человека отчасти повинен он сам.
Было видно, что она с трудом удерживается от слез. Наконец Хэймар взглянула на священника и сказала:
— Я потеряла ребенка и мужа, хотя могла это предотвратить. Мой сын умер от болезни Тея-Сакса.
— Вы не должны винить себя, это просто несчастный случай…
— Должна, — покачала головой Бритт. — Меня удочери ли, и я не знаю, кто мои настоящие родители. Если бы я прошла обследование, такого бы не случилось.
— Но ведь вы не знали и не могли знать.
— Мой муж — то же самое. Он был французский канадец и ни сном ни духом не догадывался, что среди его генов может встретиться и дефектный. Он винил себя еще больше. — Взгляд Хэймар вдруг опустел, и она стала смотреть сквозь Романо, словно его не было рядом. — Он покончил с собой.
Священник видел, что глаза Бритт налились слезами, но на щеки не пролилось ни капли.
— Я вам искренне сочувствую и даже не могу представить, как вы пережили такое горе.
— Вы не представляете… Вот и я разочаровалась в религии. Я столько молилась за своего умирающего сыночка, а Бог оставил мои мольбы без ответа. Как же мог всемилостивый Господь допустить, чтобы ребенок умер такой ужасной смертью? Наверное, это и побудило меня поглядеть, что находится за пределами церковных догм. За ложной гранью всепрощения…
— Неужели же вы откажетесь от всепрощения? Станете во что бы то ни стало добиваться ответственности, невзирая на исход?
Бритт вытерла слезы:
— Я не понимаю.
— Если вы докажете, что не было ни распятия, ни воскресения, то есть нечего надеяться на искупление грехов и всепрощение, — вы победили. Но даже если вы не правы и Христос действительно — наш Спаситель, то из-за своего неверия вы лишаете себя прощения.
— Ну, с этим злом я как-нибудь сама справлюсь.
— Так-то оно так, но, мне кажется, главное здесь — понять, что заставляет вас переворачивать все без разбору камешки в надежде развенчать общепринятую основу множества христианских верований.
— Первым камешком на самом деле была болезнь сына.
Романо немного растерялся:
— Теперь уже я не понимаю…
— Когда я заинтересовалась болезнью Тея-Сакса, то поняла, что, вполне возможно, «Rex Deus» — не фикция и его членов можно вычислить. Изучая генетические мутации, вызывающие заболевание, я обнаружила еще одну врожденную особенность, присущую всем нынешним коханим.
— Вы говорите об еврейском жреческом роде, происшедшем от первосвященника Аарона?
— О нем самом, — кивнула Бритт. — Речь идет о двадцати четырех верховных жрецах Иерусалимского храма. Коханим могли становиться только рожденные от них мальчики. В тысяча девятьсот девяносто седьмом году израильские ученые обнаружили у евреев уникальное генетическое звено, предположительно соединяющее потомков коханим по всему миру. Установлено, что у этих людей, точнее, у мужчин есть специфическая игрек-хромосома, передающаяся от отца к сыну.
— К нынешнему моменту потомков с такими генами наберется, скорее всего, тысячи или даже десятки тысяч, — предположил Романо.
— Если верно мое предположение о том, что Дева Мария понесла от одного из жрецов Иерусалимского храма, которого сейчас принято называть архангелом Гавриилом, тогда Иисус принадлежит к роду коханим — как и члены «Rex Deus». Некоторые исследователи утверждают, что после гибели Иакова и накануне окончательного разрушения храма жрецы рассеялись по всей Европе. Те, кто выжил, назвали себя «царями Божьими» — «Rex Deus».
Эта новая частичка головоломки — легенды о родословной, которую тщательно составляла для себя Бритт, — обеспокоила Романо. Он спросил:
— Кто-нибудь знает подробности ваших изысканий на счет связи игрек-хромосом с «Rex Deus»?
— Единственная общедоступная информация о моей книге — это сама концепция родословной, которой я поделилась в интервью. — Бритт допила вино из бокала. — Подробности известны многим по отдельности — в основном тем, кто сам мне их и предоставил во время исследований.
— Кого-то это все сильно заботит, раз дело дошло до убийств и покушений.
Поезд замедлил ход, и в окне промелькнул знак с надписью «Каркассон». Чем больше Бритт рассказывала о своей книге, тем большую тревогу ощущал священник. Она затрагивала столь нетрадиционные области знания, что могла встать поперек дороги фанатикам самого разного толка. У Романо до сих пор не было полной уверенности, что охота за ней окончилась и что убитые иезуиты не пострадали от руки злоумышленника, вообразившего, будто те разделяют ее эксцентрические воззрения. Он нервозно оглядел помещение вагона-ресторана. Было бы гораздо спокойнее знать, что тип со шрамом и пистолетом сейчас сидит в венской тюрьме. Впрочем, даже если преступник и улизнул от полисмена, вряд ли он смог проследить за ними до аэропорта. К тому же он понятия не имеет, на какой рейс они сели, если только…
— Когда вламывались к вам в компьютер, в нем была информация о бронировании авиабилетов?
Бритт задумалась, теребя между пальцами ножку пустого бокала.
— Я заказывала билеты через Интернет. И у меня были пометки о будущей встрече с Феликсом.
— А о путешествии в Ренн-ле-Шато там была информация? Или вы запланировали этот вояж прямо в Вене?
Бритт сконфузилась:
— В компьютере были сведения о полете в Марсель, но ничего — о железнодорожных билетах. — Она хотела еще что-то добавить, но вместо этого выглянула в окно и произнесла: — Мы прибываем. Когда наш следующий поезд?
Романо видел, что она по-прежнему недоговаривает. Из нагрудного кармана он вынул небольшой кожаный бумажник и принялся пересчитывать оставшиеся евро.
— Давайте узнаем, сколько стоит такси отсюда до Ренн-ле-Шато. Нам предстоит ехать сквозь пиренейское безлюдье — из машины будет лучше видно, есть ли за нами хвост. Мне бы очень хотелось думать, что его нет.
Внутренний голос настойчиво твердил ему, что нужно следующим же поездом вернуться в Марсель и лететь оттуда в Нью-Йорк, но потребность остаться с Бритт и выяснить, чем закончатся ее поиски, победила.
74
Закончив установку последнего устройства, Гавриил надавил большим пальцем на сенсор. Дверца, за которой находилась компьютерная система безопасности, отошла в сторону. Он проник в комнатку, ввел свой персональный код и добавил в него несколько изменений. Пока все шло по плану. Когда массивная стальная дверь в подземный комплекс закрылась за ним и Гавриил начал подниматься на лифте, он ощутил, как нарастает внутреннее беспокойство. Ждать оставалось недолго — конец близился.
Снова оказавшись в конюшне, Гавриил с наслаждением вдохнул пьянящую смесь запахов конского пота, соломы и упряжи. Просто потрясающе! Он больше привык нюхать выхлоп машин на виа делла Консильяцьоне и дизельные ароматы туристских автобусов, кружащих по просторной пьяцца Сан-Пьетро. Гавриил зачерпнул из яслей пригоршню сена и подбросил в воздух. До чего же смешно! Иисус родился в яслях — и финальный акт действа произойдет тут же.
Покинув конюшню, он миновал стойла, а затем по аллее из остролиста направился к основному зданию. Зайдя к себе в комнату, Гавриил вышел на выложенный плиткой балкон, откуда открывался вид на горную страну. Солнце пробивалось сквозь клочковатые облака, отчего вершины казались пятнистыми. Гавриил устроился на стуле, обозревая шоссе. Он ждал Михаила. Из всего Ближнего Круга теперь остались только они вдвоем.
* * *
Пока такси петляло по горному серпантину, Михаил правой рукой прижимал к себе кожаную дорожную сумку. Он все еще не мог успокоиться после звонка Гавриила, предписавшего ему немедленно покинуть епископат и прибыть на встречу в святилище их тайного комплекса. Нельзя было тратить время: кто-то планомерно уничтожал Ближний Круг, и Михаил мог оказаться следующим на очереди.
Такси свернуло на гравиевую аллею, ведущую к «Трактиру Лошади». Преодолевая крутой подъем, водитель переключил передачу, и автомобиль заскрипел шинами по щебенке. Михаил, вцепившись в сумку, молился, чтобы весь этот ужас поскорее остался позади. Он и его братья были последними действующими членами Ближнего Круга. Для поддержания их священной обязанности, заключающейся в сохранении святого ордена до Второго Пришествия, Совет Пяти принял решение использовать современные технологии. Михаил надеялся провести остаток жизни в спокойствии и безвестности, пока не разыгралась трагедия. Все началось несколько дней назад со смертью Уриила в испанском Бильбао.
Машина подъехала вплотную к роскошному зданию гостиницы, и Михаил с облегчением убедился, что Гавриил встречает его у главного входа. Они обнялись, а такси тем временем развернулось и двинулось вниз по аллее. Гавриил взял у гостя сумку.
— Я рад, что ты добрался целым и невредимым.
— А я-то как рад! Есть ли новости из Ватикана? Уже известно, отчего они умерли?
— Давай пройдем внутрь — там нам уж точно никто не помешает. — Гавриил зашагал к стойлам и конюшне. — Завтра с самого утра здесь соберется Совет Пяти. Мы отпразднуем наш священный день, и они решат, как дальше поступить.
Оказавшись у лифта лицом к лицу с Гавриилом, Михаил не утерпел и снова спросил:
— Есть ли уже сведения, отчего они скончались?
Тот покачал головой:
— Видимых причин смерти нет. Единственной уликой могут служить только отметины на трупах в виде стигматов.
— Ты знаешь, что Бриттани Хэймар вместе с отцом Романо приехали в Вену, чтобы выведать что-нибудь о родословной, о Ренн-ле-Шато и о Габсбургах? Спрашивается: зачем? Боюсь, что она до чего-нибудь уже докопалась.
— Вот почему я и попросил тебя приехать не откладывая.
Михаил похолодел:
— Они знают?
— Хэймар беседовала с Уриилом и Рафаилом за день до того, как были обнаружены их тела. Я счел это достаточным основанием, чтобы ты поскорее уехал из Вены и прибыл сюда. Думаю, Совет рассматривает любые из возможных вариантов.
— Она настойчиво расспрашивала о Ренн-ле-Шато. Как ты думаешь, она уже слышала о гостинице?
Гавриил открыл дверь лифта и ступил в кабинку.
— Сомневаюсь. Думаю, что ее изыскания затрагивают в первую очередь Ренн-ле-Шато. Пока Совет ищет выход из кризиса, поверь — нам здесь ничто не угрожает.
Лифт поехал вниз. Гавриил уставился Михаилу прямо в глаза:
— Нельзя исключить, что эти смерти творятся по воле Божьей, что они — провозвестники Второго Пришествия.
От его слов Михаил содрогнулся всем телом.
75
Такси неспешно катило по извилистому шоссе среди Пиренеев, и Романо то и дело взглядывал в окно. Кругом на целые мили царило запустение: ни машин, ни городов, ни деревень, ни даже просто домишек — ничего. Местами, правда, им попадались коровьи стада, объедающие на покатых склонах траву и кустарник.
— Вы все еще думаете о погоне? — спросила Бритт.
— Я не только не думаю о ней, но и вообще опасаюсь, живет ли хоть кто-нибудь в этой загадочной деревушке.
— Я читала, что в ней не менее сорока дворов.
Романо обернулся:
— Вы и вправду верите, что найдете там доказательства своей теории?
— Если честно, не знаю. Зато уж точно найду кое-какие ответы — если на то пошло, просто душевное спокойствие.
— Какие же ответы?
Бритт смешалась, и Романо опять заметил на ее лице то же самое выражение: словно она что-то скрывает. Неожиданно ее глаза заблестели:
— Как побороть собственных демонов!
Она отвернулась и стала разглядывать в окне смутные очертания далеких вершин. Чем выше в горы они забирались, тем бесплоднее становились окрестности. Местный пейзаж живо напомнил священнику первые телевестерны — унылое сочетание оттенков сепии.
Бритт посмотрела на него искоса:
— Да, признаю — я немало времени потратила на изучение легенд о Святом Граале — возможно, даже слишком. Но я искала в них общий момент. Столь многое в его нынешнем на звании и в более ранних вариантах — San Graal или Sangreal — указывает на интерпретацию «королевская кровь», так что о простом совпадении говорить не приходится. Вы хоть представляете, сколько людей на протяжении всей истории посвятили себя поиску Грааля, отдали за него свои жизни? Это вселило в меня надежду, а ее после ухода Тайлера и Алена у меня почти не оставалось…
Романо видел, как ей больно. Горе читалось и во взгляде Бритт, и в скорбной морщинке, пересекшей ее гладкий лоб.
— Пусть вы и найдете… скажем, остов. Женский скелет эпохи Христа. Что вы этим докажете? К родословной он будет иметь весьма опосредованное отношение.
— Присовокупите его к манускрипту, написанному братом Христа, в котором сообщается, что Мария Магдалина ко времени распятия носила во чреве ребенка, а потом бежала на юг Франции, — тогда у любого зародятся сомнения. Даже у настоящих ученых вроде вас.
Романо чувствовал, что целеустремленность Бритт уже пошатнула его научный рационализм. Она меж тем продолжала:
— Нельзя игнорировать и вопрос восприятия. Посмотри те, какие споры разгорелись вокруг противоборства креационизма и эволюционизма. Мы с вами живем в двадцать первом веке и до сих пор не договорились, как и что преподавать детям в школе. Если найдется альтернатива воскресению и искуплению, неужели она не будет заслуживать равного внимания или просто толику внимания?
Машина замедлила ход: впереди показалась обветшалая конюшня с полуобвалившейся крышей, а рядом — фермерский домик, знававший лучшие времена. При повороте на заросшую сорняками грязную тропинку виднелся залепленный грязью указатель с рисунком коня и словами «Трактир Лошади». Водитель обернулся к пассажирам и пожал плечами. Бритт побледнела.
Шофер довез их по ухабистой дороге до самого входа. Романо вышел и крепко постучал кулаком в рассохшуюся от непогоды деревянную дверь. По-видимому, в доме никто не жил: изнутри не доносилось ни звука. Священник сквозь траву и чертополох пробрался к окошку — в помещении валялось несколько колченогих стульев и лежал на боку сломанный стол. Стало ясно, что ферма заброшена — и довольно давно.
— Здесь никого нет, — сообщил Романо.
Бритт, не отходившая от такси, откликнулась:
— Этого не может быть.
— Вы разговаривали с хозяевами трактира, когда резервировали номер?
Бритт выглядела совершенно потерянной.
— Я… мне сказали: «Приезжайте, здесь для вас приготовят комнату».
Она в бессилии оперлась на машину.
— Кто заказывал номер? Я ничего не понимаю. Объясните же толком!
— Теперь уже все равно. — Хэймар гневно сверкнула глазами и всунула голову в окошко такси: — Далеко отсюда до Ренн-ле-Шато? Вы можете нас туда отвезти?
Шофер развернул карту, поводил по ней пальцем и снова пожал плечами:
— То ли десять, то ли пятнадцать километров. Хотите — отвезу. — Он бросил взгляд на часы. — Но если вы хотите там побродить, то я долго оставаться не могу, мне надо обратно в Каркассон.
Бритт озадаченно произнесла:
— Ничего не понимаю. Мне сказали, что трактир находится всего в нескольких километрах от Ренн-ле-Шато.
Романо добежал до знака у поворота. Указатель был совсем новенький. Кому понадобилось устанавливать современную табличку у гостиницы, которая наверняка пустует не меньше года? Романо поскреб грязь в нижней части вывески и крикнул Бритт:
— Наверное, потому, что это правда. Здесь стрелка, она предписывает ехать дальше.
Они снова сели в машину и продолжили путь. Когда обогнули очередной кряж, Романо заметил вдали горный пик с прогалиной у самого подножия. На этой небольшой площадке ютилась группа строений.
— Кажется, это и есть ваш трактир, — показал он Бритт.
— Слава богу! Вы не представляете, как хорошо, что он нашелся.
Священник пристально посмотрел на спутницу и решил, что момент истины теперь настал.
— Послушайте, вы ведь с самого начала знали, что приедете сюда. Теперь вы заявляете, что вас здесь даже ждут. Кто-то забронировал вам номер. Мне кажется, я заслужил правду. Что там, в Ренн-ле-Шато?
Хэймар едва заметно покачала головой и взглянула ему в глаза:
— Верно, вы как никто заслуживаете правды. Я опасалась рассказывать вам раньше, потому что вы позвонили бы своему знакомому в ФБР и сообщили, куда я направляюсь. Они бы меня задержали, а я не могу пропустить такую важную встречу.
— Встречу с кем? И почему она так важна, что ее нельзя пропустить?
— Об этом довольно сложно говорить. Дело касается реальных доказательств моей теории. Когда доберемся до гостиницы, я вам все объясню. — Бритт помолчала. — Возможно, там меня уже сейчас ждет ответ.
Романо не знал, что и думать. С лица Бритт не сходила тревога. Ему показалось, что в глубине ее огромных оливковых глаз затаился страх.
— Вот, наверное, ваша гостиница.
Шофер взглянул в зеркало заднего вида и указал на знак «Трактир Лошади» возле убегающей вдаль аллеи. Они свернули на трехполосную дорожку и миновали обширный загон, в котором на сочном зеленом лужку вольно паслись великолепные кони. В конце аллеи обнаружилась большая конюшня и стойла, сооруженные у купы деревьев. Наконец машина затормозила у элегантного каменного строения, крытого оранжевой черепицей и украшенного круговым балконом с изящной белой балюстрадой. Среди пустынного непритязательного пейзажа здание смотрелось совершенно не к месту.
Бритт выскочила из такси, а Романо попросил водителя немного подождать: он собирался выяснить, есть ли в гостинице свободные комнаты. Они пошли ко входу, но Бритт задержалась и показала куда-то через луг на ближние деревья. За их верхушками священнику открылся горный пик, а рядом — холм, напоминающий потухший вулкан, увенчанный кучкой каменных и беленых домишек.
— Это, скорее всего, и есть Ренн-ле-Шато. — Глаза Бритт вспыхнули от воодушевления. — Давайте пока разведаем обстановку в трактире, а потом я хотела бы кое-что осмотреть в деревне, пока совсем не стемнело.
Она вошла внутрь, и Романо последовал за ней. Хозяин едва говорил по-английски, но с помощью базовых знаний во французском Хэймар смогла подтвердить свою бронь и заказать номер для Романо. Выяснив, что для нее не оставляли ни сообщений, ни посылок, она явно упала духом.
— Когда вы собираетесь все мне рассказать? — поинтересовался священник.
Бритт попыталась скрыть неловкость:
— Теперь уже поздно что-либо менять. Думаю, здесь мы в безопасности. Сегодня мы, как только вернемся в гостиницу, сядем на балконе, и за бутылочкой вина я попытаюсь объяснить вам, зачем все-таки мы сюда ехали. Могу пообещать, что завтра к вечеру я или получу необходимые ответы, или мы уже будем на пути в аэропорт, чтобы лететь обратно в Нью-Йорк.
Они снова сели в такси и отправились в Ренн-ле-Шато.
76
Браун вернулся в кабинет и грузно опустился на стул рядом с Катлером.
— Кое-что накопали.
Подмышки его белой рубашки потемнели от пота. Детектив дернул узел галстука и основательно расслабил его. Катлер подумал, что, когда он завтра с утра полетит в Брюссель, а оттуда — в Каркассон, австриец снова сможет жить спокойно. Браун то ли вздохнул, то ли крякнул от жары.
— Интерпол почти ничего не обнаружил по Филипу Арману. Кажется, киллер нам попался нетипичный. Он из зажиточной французской семьи, всю жизнь прожил в Париже. Вместе с отцом они числятся бизнес-консультантами, но никто не может указать, кто их клиенты. Досье у Армана чистое — даже за вождение ни одного штрафа. Он постоянно разъезжал по Европе и Штатам.
— А где он был на прошлой неделе, установлено?
— Да, и информация явно придется вам по вкусу. — Браун расплылся в довольной улыбке. — Когда убили двух священников и стреляли в мисс Хэймар, он был в США. И в Вене он останавливался в отеле как раз тогда, когда застрелили Феликса Конрада. Но на момент смерти отца Маттео местонахождение Армана установить не удалось.
— Что ж, вот верный кандидат в исполнители убийства и покушения, — заключил Катлер. — Я отошлю в Бюро и-мейл — пусть проверят резервирование билетов из Нью-Йорка в Нью-Орлеан и Пенсильванию, а заодно и аренду автомобилей. Как было бы славно, если бы все это натворил Филип Арман.
— В лаборатории уже заканчивают баллистическую экспертизу его пистолета и пули, от которой погиб Конрад. Результаты получим примерно через час.
Катлер искренне надеялся, что устранение Армана положит конец убийствам священников. Однако Хэймар тоже нельзя было списывать со счетов: может, она с ним заодно. А если так, то — Катлер это понимал — потенциально отец Романо следующая жертва.
77
Такси медленно ползло по заброшенному извилистому проселку, ведущему к Ренн-ле-Шато. Наконец машина одолела последний перевал и устремилась к въезду в деревню. Романо обернулся и спросил с непередаваемым выражением:
— Это то, чего вы ожидали?
Бритт, казалось, не верила своим глазам:
— Нет, это для меня полная неожиданность. Я-то надеялась увидеть здесь тихий сельский уголок. Думала, что за церковью Соньера сейчас присматривают местные крестьяне, а в его поместье живет какой-нибудь чудак вроде Феликса Конрада.
Сквозь клубы пыли их взору предстала вереница автомобилей с английскими, испанскими, немецкими и французскими номерными знаками, покидающая огромную незаасфальтированную парковку. Машины сновали по дороге, проложенной по склону горы, словно муравьи. Немного дальше простирался светлый металлический забор, охватывающий значительную территорию. Зеленая арка над входом была украшена массивными желтыми буквами, гласящими: «DOMAINE DE L'ABBE SAUNIERE».[638] Рядом приткнулась зеленая будочка с единственным окошком и надписью «Billeterie».[639] К ней выстроилась целая очередь: люди жаждали попасть туда, что в представлении Бритт являлось глухой деревушкой.
Больше всего это напоминало вход в парк аттракционов. Тут же на заборе висела зеленая, в тон арке, доска объявлений, пестрящая предложениями всевозможных сувениров и развлечений, а рядом возвышался автономный розово-синий рекламный щит, расхваливающий различные сорта мороженого. Повсюду сновали птички и белки, суетливо подбирающие брошенные туристами крошки. Бритт удрученно взглянула на Романо:
— Вот тебе и скромная горная деревушка. Называется, отправились искать затерянную в веках тайну… — Она оглядела парковку, где еще оставалось несколько такси. — Но раз уж приехали, давайте хоть посмотрим, что здесь такое. Отпустим машину в Каркассон — даже если мы потом ничего не найдем, то вполне сможем дойти до гостиницы пешком.
Пока священник расплачивался с шофером, Хэймар купила билеты в поместье Соньера. На карточках значилось уведомление на французском, английском, голландском, испанском и немецком языках: «Сохраните этот билет — он дает право на скидку в двух других музеях». Вверху указывалось, в каких именно — Ката-Рама в Лиму и замок Пюивер. Бритт решила, что это местные достопримечательности, тоже связанные с некими загадками или секретами. К каждому билету была приклеена красная полоска с надписью «Сокровище Ренн-ле-Шато» и картонный кругляшок со скетчем: пещера, и в ней человечек в черном освещает фонарем изящный сундучок. Насколько Хэймар поняла из разъяснений под картинкой, написанных по-французски, речь в них шла о кладе, найденном аббатом Соньером в конце прошлого века. Говорилось там что-то и об австрийской королевской династии, и об убийстве какого-то священника, и о тайне, скрытой под могильным камнем.
Бритт пришла в полное смятение. Она рассчитывала, что прогулка по старинной деревне предоставит ей превосходный исследовательский материал: ведь эти места знали присутствие человека на протяжении уже трех тысяч лет. Крохотная горная твердыня хранила память о римлянах, вестготах, гуннах, меровингах и катарах. Очевидно, что кто-то смог разглядеть ее туристический потенциал и сделал из нее лакомый кусочек для европейцев, охочих до всяческих тайн.
К ней подошел Романо:
— Пойдемте же. Простите, что омрачаю ваш энтузиазм, но вряд ли мы здесь раскроем какую-нибудь древнюю темную тайну.
— Я совершенно огорошена, — призналась Бритт, пока они шли ко входу в поместье.
Очередной нырок с «американской горки» ждал ее внутри, где стрелки указывали несколько направлений — музей, кафе, сувенирная лавка и даже какой-то бутик. Они остановились у киоска, где были в изобилии представлены кассеты, DVD-диски и книги по всем конспиративным теориям, появившимся за последнюю сотню лет. Бритт спросила продавца, слышал ли он о вилле Санта-Мария и о статуе Марии Магдалины, пропавшей из Сада Голгофы. Вместо ответа он попытался всучить ей аудиогид с «полной историей» Ренн-ле-Шато. Бритт чувствовала себя словно в кошмарном сне: в своих мечах она не раз расшифровывала кодовые надписи на статуях и по ним находила захоронения с древними мощами. От обиды она готова была разрыдаться, но сдержалась: Романо уже достаточно насмотрелся на ее слезы.
Священник меж тем приобрел путеводитель для туристов со значком в виде британского флага на обложке и протянул его спутнице:
— Почему бы нам пока не посетить музей Соньера? Может, хоть что-нибудь в нем перекликается с вашей теорией.
Бритт показалось, что своим предложением Романо пытается утешить ее, и ей это было приятно. Она ощутила порыв немедленно рассказать ему, что именно ее сюда так влекло, но сочла, что и знакомство с целым манускриптом, и разгадка Святого Грааля, и встреча с Вестником — все это состоится уже очень скоро. Кто знает, может быть, ее паника преждевременна, ведь никто не утверждал, что Соньер и Ренн-ле-Шато имеют отношение к делу. Ей просто велели приехать в «Трактир Лошади» неподалеку от пресловутой деревни, где она якобы получит долгожданные ответы. Наверное, она слишком уж начиталась о загадках, окружающих личность Беранже Соньера. Вполне возможно, что настоящая тайна теперь сокрыта за пределами этой миниатюрной туристической Мекки.
Музей располагался в домике священника рядом с церковью. В нем хранились копии документов, имеющих отношение к многочисленным слухам о местном аббате. В документах упоминались катары, Мария Магдалина и некая тайна, раскрытая Соньером. Оказалось, что музей учредили потомки сельчан — его современников. Вся экспозицияопиралась главным образом на устные сказания, передаваемые из поколения в поколение и почерпнутые из рукописей и артефактов, обнаруженных в самой церкви, в усыпальницах местных «сеньоров». Внимание Бритт привлек стенд, озаглавленный «Les hypotheses».[640]
— Джозеф, взгляните-ка сюда. Вот фотография «Пастухов в Аркадии», а рядом снимок какого-то местного захоронения. Невероятно, окрестности точь-в-точь похожи на пейзаж на картине Пуссена.
Они склонились к застекленному стенду. Фотографии были снабжены напечатанными на двух листках пояснениями. Первый — «Les documents»[641] — был переведен на английский. В нем значилось: «Несомненно то, что аббат Соньер отыскал в церкви некие рукописи. С тех пор эти документы никто не видел, и их содержание осталось полностью неизвестным. Нашел ли аббат Соньер «обычный» клад или вместе с несколькими реннскими священниками стал обладателем священных тайн?»
Второй листок содержал только французский текст.
— Здесь я буду вынужден просить вашего содействия, — сказал Романо.
Бритт старательно вчитывалась в мелкий шрифт распечатки.
— По крайней мере, введение мне по силам. Это выдержка из письма аббата Луи Фуке своему брату Николя Фуке, министру финансов Людовика Четырнадцатого. Датировано двенадцатым апреля тысяча шестьсот пятьдесят шестого года.
Перевод послания давался Хэймар явно с трудом: и сам текст, и ее познания во французском требовали обновления. Наконец она смущенно взглянула на Романо:
— Я поняла только некоторые отрывки. «Мы с ним имели беседу по некоторым вопросам, из коей я смогу тебе передать… поскольку… посредство месье Пуссена даст тебе такие преимущества, коих и короли не всегда бывают… когда-либо… в будущих веках открыть… и манускрипты эти имеют такую важность, что в мире дотоле ни единого… богатство».
Напрасно Бритт щурилась — дальше ничего не выходило.
— Простите, это все, на что я способна.
Она раскрыла сумку «Коуч» и принялась рыться в ней, пока не извлекла миниатюрную цифровую «мыльницу». Сфотографировав листки с комментариями и сами снимки, она пояснила:
— Во всяком случае, это наглядно доказывает, что у Соньера были единомышленники и они верили, что все домыслы о великой тайне или кладе, найденном им, строятся не на пустом месте.
Романо, качая головой, ответил уклончиво:
— Или же они сочли, что так проще привлечь к их безвестной деревушке побольше туристов.
Он прошел дальше, где в стеклянных ящиках хранились другие документы.
— И здесь что-то о сокровищах…
Бритт взглянула на листок, озаглавленный «Легенда о реннском сокровище», текст которой, к счастью, был представлен на трех языках: «В восемнадцатом веке пастух по имени Парис набрел в поисках пропавшей овцы на лаз, выведший его к пещере со скелетами и грудами золота. Наполнив шапку монетами, Парис возвратился в деревню, но был обвинен в воровстве и убит, поскольку наотрез отказался разгласить, где он взял свое "сокровище"».
— Может быть, вот каким образом Соньер обогатился — наряду с продажей приглашений на мессы, — заметил Романо. — Вы говорили, что Соньер будто бы носил в деревню камни в угольном ведерке. Что, если он нашел золото и перетаскал его к себе в домик под булыжниками?
— Ага, или не золото, а кости Марии Магдалины. Или одни камни. Или вообще — Святой Грааль. — Бритт в раздражении всплеснула руками. — Все это так мало похоже на научную экспедицию, что просто не передать!
— Понимаю, что вы ожидали несколько иного, но никакой катастрофы я тут не усматриваю. Вы же сами утверждали, что надо испробовать все возможные варианты и уметь отойти от общепризнанной догмы. Мы видим здесь свидетельства людей, которые лично знали аббата Соньера. Даже среди туристского нашествия можно отыскать что-нибудь стоящее. Фотографируйте все, что, по вашему мнению, заслуживает внимания, а я от себя преподнесу вам несколько брошюр и видеозаписей. Когда вернетесь в Нью-Йорк, все как следует посмотрите, и, может быть, недостающие части головоломки займут свое место в общей картине. — Он взглянул ей прямо в глаза: — Вы немало времени посвятили разнообразным теориям. Если вам не удастся найти им реальные доказательства, то, надеюсь, вы все же пересмотрите некоторые из своих выводов.
Бритт осознала, насколько он прав, но ведь ей еще предстоял завтрашний день, с получением полного Евангелия от Иакова и разоблачением всех тайн. Так и будет, если только это обещание не обман, не гнусная шутка. Нет, невозможно поверить: священников убили, в нее саму стреляли — какой тогда в этом смысл? Она кивнула и взглянула на часы, заметив, что большинство туристов уже направляются к выходу из поместья Соньера.
— Давайте пойдем дальше, пока нас здесь не закрыли или пока совсем не стемнело.
В Саду Голгофы они посетили Вестготский столп, воздвигнутый Соньером. В путеводителе указывалось, что вершина и основание колонны поменялись местами в знак того, что разгадка секрета, скрытого внутри церкви, тоже связана с перевертышем. В самом низу Хэймар и Романо рассмотрели надпись: «Христе, храни люди Твоя от всякой напасти». Там же было выгравировано слово «Миссия» и дата — 1891, которая вверх ногами выглядела как 1681 — год, значившийся на надгробии маркизы Бланшфор. Бритт передала книжицу Романо, не снимая мизинца со сноски. Он прочел и резюмировал:
— Вот это и называется «переворачивать камешки» в поисках тайн и загадок. Реставрация проходила с тысяча восемьсот восемьдесят седьмого по тысяча восемьсот девяносто шестой годы. Значит, надпись «Миссия тысяча восемьсот девяносто один» вполне может служить не только ключом к могильной тайне, но также просто датировать строительные работы.
Когда Бритт вдоволь нафотографировалась в саду, они поспешили к церкви Святой Магдалины, чтобы успеть ее осмотреть хоть поверхностно. Тимпан над входом был окаймлен позолоченными розочками, а в центре красовался крест и под ним надписи: «Бойтесь этого места!» и «Здесь обитель Господа и небесные врата». Бритт озадачилась, но решила, что подобные заявления — лишнее свидетельство эксцентричности аббата.
Они вошли внутрь, и Хэймар застыла на месте.
— Только не говорите мне, что и здесь вы видите Бахуса, а не Бафомета.
Она указала на изваяние отвратительного беса, подпирающего чашу со святой водой, края которой поддерживали четверо ангелочков.
— Придется, видно, хоть в чем-то с вами согласиться, — засмеялся Романо.
В церкви они примечали любопытные особенности, куда бы ни падал их взгляд: знак Розы и Креста по обеим сторонам исповедальни, очевидно связанный с розенкрейцерами; Христос, припавший к ногам Иоанна Крестителя в неестественном поклоне, напоминающем позу беса у входа; барельеф коленопреклоненной Марии Магдалины, проливающей слезы в пещере перед крестом, составленным из двух веточек и черепа; и, наконец, десятую ступень крёстного пути, где с Христа срывают одежды и легионер торгует его туникой, бросая две игральные кости: у одной из них на прилегающих сторонах невозможное сочетание «три» и «четыре», а на другой выпало «пять». В путеводителе они также нашли упоминания о криптограммах, якобы заложенных в сочетании черно-белых напольных плит, и о несоответствиях в крестных ступенях, будто бы указывающих на конкретное место каменной гряды, окружающей Ренн-ле-Бэн.
Все эти странности показались Бритт воистину ошеломляющими; вместо того чтобы найти ответы на мучившие ее вопросы, она видела кругом все новые и новые предметы для исследований. Тщательно засняв все особенности, упомянутые в буклете, Хэймар при выходе из церкви заметила, обращаясь к священнику:
— Мне теперь кажется, что Соньер был параноик под стать Феликсу. Он тешил себя тем, что выдумывал тайные коды и прочие развлечения, которые, по сути, могут оказаться бессмыслицей.
Романо, на протяжении всей экскурсии сохранявший удивительную невозмутимость, откликнулся:
— Да, судя по всему, этот аббат был незаурядной личностью, если не сказать больше. — Он указал на одну из страниц путеводителя: — Единственная тема, которая упорно повторяется и вроде бы подтверждена очевидцами, — это Соньер и золото. Давайте перед тем, как уйти, взглянем еще на виллу Вифания и башню Магдалы. Здесь говорится, что сводная сестра экономки Соньера утверждала, будто бы своими глазами видела золотые слитки, хранившиеся на полке в погребе виллы.
Они направились к строению в стиле ренессанс, а Романо меж тем не отрываясь просматривал пояснения.
— Вот еще интересная подробность, — сообщил он. — По смерти Соньера все поместье унаследовала его экономка, Мари Денарно. Совершенно непонятно, почему он дал вилле такое странное название — Вифания. Некогда так назывался дом брата Марии Магдалины, Лазаря. Кстати, похоже на то, что местный епископ недолюбливал Соньера. Он даже выхлопотал по суду запрет на то, чтобы сделать из виллы Вифания приют для престарелых священников, как было указано в завещании аббата.
Бритт, взглянув на здание, щелкнула фотоаппаратом.
— Неужели вы и теперь не допускаете, что Соньер все же владел кое-какими религиозными тайнами?
Романо, указывая на башню Магдалы, возвышающуюся у края плато, ответил:
— Полного доверия к этим историям у меня, конечно, нет, но, глядя на такую помпезную виллу и величественную цитадель ей под стать, я все более утверждаюсь в мысли, что ваш скромный сельский аббат имел доступ к огромным богатствам, которым насыщал свой возрастающий аппетит к власти и роскоши.
Сама Бритт испытывала смешанные чувства от осмотра высокогорных достопримечательностей. Стремясь в эту затерянную в Пиренеях деревушку, она ни минуты не сомневалась, что отыщет в ней духовные тайны, скрытые в веках. И прочитанные книги, и даже полоумный Феликс — все убеждало ее, что ответы хранятся именно здесь. Теперь оказалось, что она, вполне возможно, доверилась мифотворцам, любителям религиозных конспираций, вздорным болтунам, которых, по словам отца Мюллера, можно было считать total verückt. Ей на ум пришло любимое изречение ее мужа: «Не вопросы ввергают нас в беду, а поиск ответов». Она обернулась к Романо:
— Наверное, пора возвращаться в гостиницу. Надо собраться с мыслями.
Завтра к заходу солнца она уже будет знать, бред ли все это или нет.
78
Михаил мирно спал в одной из роскошно обставленных комнат, предназначенных для членов Ближнего Круга, совершающих ежегодное паломничество в святилище. Здесь, у Святого Грааля, они проводили несколько дней в молитвах и воспоминаниях.
Гавриил нажал пальцем сенсор, и дверь неслышно убралась в стальную стену. Он прошел в конференц-зал и проверил, есть ли на полированном столе красного дерева все необходимое. С каждой его стороны располагалось по два стула, обитых кожей темно-бордового оттенка, и еще один стоял во главе — он предназначался для председателя Совета. Этот зал служил исключительно для заседаний накануне ежегодного священного празднования. Здесь Совет Пяти голосованием принимал постановления касательно святого долга.
Гавриил убрал от стола три стула и придвинул их к стене, а два оставшихся расположил во главе. Затем он растянул на столе алое полотнище, а другое такое же расправил сверху крест-накрест и заново расставил стулья по краям получившегося креста. Красный цвет он выбрал как символ праздника: завтра он будет отмечать возрождение церкви. Второе рождение позволит ей жить дальше, избавит от богохульства, угрожающего ей уже на протяжении двух тысячелетий.
На угловом столике Гавриил любовно расположил икону в бархатном обрамлении и небольшой пестик, рядом поставил склянку с елеем, марлевые тампончики и бутылочку со спиртом. Наконец все было готово к последнему этапу его духовной миссии.
79
Не успели Хэймар и Романо выйти из поместья Соньера и отправиться на парковочную площадку, как перед ними затормозил пыльный серый «рено». Водитель опустил стекло; его волосы были густо напомажены, на нем был буро-черный пиджак рисунка pied de poule[642] и рубашка с расстегнутым воротником, выставляющим напоказ массивный золотой нательный крест. Из машины на спутников крепко пахнуло полынью и лавровишней. Шофер немедленно отрекомендовался как Леоне и на французском, английском и испанском языках объявил клиентам, что он к их услугам.
— Слава богу, — обрадовалась Бритт. — Нам как раз нужно в гостиницу.
Леоне воодушевился:
— Где вы остановились?
— В «Трактире Лошади».
Энтузиазм водителя как рукой сняло.
— Вам крупно повезло. Я отвезу вас в Лиму, а хотите — в Арк. Там вы посмотрите великолепные катарские руины и насладитесь magnifique[643] ужином. Лучшие вина нашего региона. — Он поднес к губам кончики пальцев и с чувством их поцеловал, а затем погрозил собеседникам: — Не надо торопиться. Вы проведете прекрасный вечер, а потом я отвезу вас в гостиницу по очень, очень низким расценкам, в которые все включено.
— Очень любезно с вашей стороны, — ответила Бритт, — но нам все-таки нужно в гостиницу.
Леоне проворно выпрыгнул из машины и открыл для них заднюю дверцу. Романо начал подумывать, не отправить ли Бритт на такси, а самому сделать пробежку, но в конце концов решил не оставлять ее одну — и неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы он не передумал.
Не успели они выехать из деревни, как Хэймар подалась вперед, чтобы спросить у шофера:
— Вы что-нибудь слышали о вилле Санта-Мария?
Тот взглянул на них в зеркало заднего вида и покачал голо вой:
— Простите, нет.
— А что думают местные жители по поводу статуи Марии Магдалины из Сада Голгофы? Куда она могла деться?
В зеркало Романо разглядел, что Леоне улыбается.
— Наше семейство живет в этой деревне уже более двух веков, и мы знаем все эти истории не понаслышке. Статую мог похитить кто-нибудь из приезжих, охотников до тайн Соньера. Много их сюда наведывалось, даже копались в могилах.
— А что в вашей семье думают насчет находки аббата?
— Деревенские старожилы судят, как говорится, надвое. Одни считают, что это золото, другие клянутся, что это были какие-то неизвестные рукописи. Моя бабушка утверждала, что аббат нашел брачное свидетельство Христа и Марии Магдалины.
Бритт едва не подпрыгнула на сиденье:
— Такое предположение на чем-то основано?
— Нет, что вы… Так, болтовня, выдумки. Много ходит всяких небылиц — все оттого, что Мария Магдалина жила на юге Франции. Ее, знаете ли, очень почитают в Лангедоке.
— А как насчет продажи приглашений на мессы? — поинтересовался Романо.
Леоне оглянулся на него:
— О, конечно, так и было. Моя двоюродная прабабка работала у Соньера — готовила для рассылки приглашения прихожанам по всей Европе. Аббат также отправлял рекламные объявления во многие религиозные журналы.
— Может, этим он и сколотил свое огромное состояние?
— Вряд ли, — хохотнул Леоне. — Тетя говорила, что за неделю приезжало не больше сотни человек, а иногда и того меньше — пятьдесят или семьдесят.
— Но кто может сказать, сколько богачи в больших городах вроде Парижа готовы заплатить за благословение, даруемое на богослужении или на молебне? — возразил Романо.
Леоне снова засмеялся:
— Вы же видели, сколько всего аббат понастроил в нашей деревне. Никакой богач не согласится пожертвовать крупную сумму за клочок бумажки, пусть даже с обещанием молитвенного благословения. К тому же продажа приглашений продолжалась всего несколько лет, а потом церковь положила этому конец. — Он снова взглянул в зеркало на пассажиров. — Аббата лишили права приобщать Святых Тайн, и моя тетушка из-за этого перестала ходить к нему в церковь. Затем новый Папа Бенедикт Пятнадцатый отменил запрет, и Соньеру присвоили титул Великого магистра Реннского.
— А вы сами как думаете: откуда у Соньера такое богатство? — спросила Бритт.
— Я лично за тайные рукописи. Записи, которые церковь и европейская знать хотели бы сохранить в секрете, поэтому и раскошелились.
— И что это были за рукописи?
— Понятия не имею, но думаю, что они хранились где-то в старой деревенской церкви и Соньер нашел их во время реконструкции здания. Скорее всего, их спрятал там аббат Бигу, а ему передала эти документы дама д'Опуль де Бланшфор в конце восемнадцатого века. Бумаги священник держал в церкви, а тайной поделился и с другими пасторами. В те годы, да и позже, во времена Соньера, в маленькой деревушке вроде нашей поп был все равно что король. В книжках, где говорится о Ренн-ле-Шато, вы найдете немало историй о загадочных рукописных свидетельствах, но никто точно не знает, о чем они и куда они теперь подевались.
Такси остановилось у гостиницы, и Леоне бодро выскочил, чтобы открыть дверцу. Романо и Хэймар вышли, и Леоне признался:
— Вы мои первые пассажиры до «Трактира Лошади». Здесь обычно гостят элитные постояльцы — у них свои шоферы. Обслуживание только на французском. Для гостиницы это очень странно.
Романо расплатился, и Леоне подал ему свою визитку:
— Если захотите осмотреть другие достопримечательности, прошу, звоните. Я с удовольствием вас прокачу, — он подмигнул, — и отвечу на все ваши вопросы о неисчислимых загадках катарских земель.
Не теряя времени даром, Леоне проскрежетал шинами по грубому гравию дорожки и устремился обратно к Ренн-ле-Шато за очередными ездоками. Романо тем временем размышлял о тайнах, которыми Соньер успел поделиться с другими священниками. За каждую из них церковь заплатила бы немалую цену. Неужели в мифологическом сумбуре, привлекающем Бритт, есть зерно истины — истины, убивающей святых отцов? Ему тяжело было допустить мысль, что Тэд Метьюс знал нечто, приведшее его к смерти. Может быть, отец Тэд намеренно скрывал от Романо эти сведения, чтобы уберечь его от опасности?..
80
Бритт дошла до ступенек крыльца, оглянулась и увидела, что Романо не двигается с места: стоя на гравиевой дорожке, он неотрывно смотрел на удаляющееся такси. Ей даже не верилось, что истории о тайнах и сокровищах взбудоражили его в той же мере, что и ее. Священник наконец повернулся, медленно подошел и распахнул перед Хэймар входные двери. Бритт улыбнулась:
— Не думайте, что я нарочно ждала, пока вы откроете мне дверь: я и так знаю, как вы хорошо воспитаны. Мне просто стало любопытно, чем вас так привлек этот Леоне.
— Своими пояснениями. Я размышлял над странностями, которые встретились нам в Ренн-ле-Шато.
— Надеюсь, теперь и вы видите, как во всей этой невообразимой путанице кое-что проясняется.
Они вошли в холл. Стол рецепции ютился в крохотной нише под лестницей. Всюду были расставлены вазы с садовыми и комнатными растениями. Нигде не было заметно ни души. Бритт просунула голову в приоткрытую дверь небольшого ресторанчика — пусто. Столы, впрочем, были явно сервированы для ужина: на каждом стояли бокалы с бордовыми соцветиями салфеток. Каменную арку, ведущую в отдельную комнатку с внушительным камином и всего двумя столиками, увивала сочная зелень.
Бритт вернулась в холл. Романо уже вертел в руках два ключа, прикрепленные к массивным металлическим стержням с резиновыми наконечниками.
— Висели возле стола, — пояснил он. — Видимо, комнат здесь всего десять, и все другие ключи пока на месте. Либо мы здесь единственные постояльцы, либо все остальные поддались на увещевания Леоне.
— По крайней мере, не возникнет трудностей с заказом столика на ужин. — Бритт кивнула в сторону ресторана. — Все уже накрыто, но никого нет.
— Желаете ужинать?
Рядом со столом рецепции отворилась дверь, и в ней возник человек с сигаретой в зубах. Он неторопливо направился к гостям. Стлавшийся за ним дымный след мог посоперничать с паровозным. Романо посмотрел на Бритт:
— Вы проголодались? Можно вернуться и позже…
Но Хэймар уже повесила свой ключ обратно на крючок и заявила:
— Я просто измотана и хочу сегодня лечь пораньше. К тому же давайте воспользуемся уединением и обсудим в ресторане великие открытия, которые мы сделали в Ренн-ле-Шато.
Романо тоже вернул на место ключ и обратился к незнакомцу:
— Сразу ужин, пожалуйста.
Только теперь Бритт разглядела над столом рецепции фотографию. На ней, очевидно, была запечатлена та же гостиница, но в былые годы, еще до реконструкции. Рядом с главным входом высилась внушительная статуя Марии. Человек прошел за стол и затушил окурок в пепельнице.
— Меня зовут Реми. Пройдемте со мной.
— Простите, — Бритт указала ему на снимок, — что было в этом здании раньше, еще до гостиницы?
Казалось, подобный вопрос ошарашил Реми. Он сузил глаза, и его прищур можно было назвать и смущенным, и дерзким одновременно. Наконец он открыл рот, собираясь ответить, и Бритт разглядела, что зубы у него плохие, неровные.
— Прошу прощения, я плохо знаю английский, — произнес Реми с сильным французским акцентом.
Бритт перегнулась через конторку и ткнула пальцем в фотографию:
— Что на этом снимке?
— А-а… Трактир. «Трактир Лошади».
Хэймар поводила рукой в обоих направлениях, словно отодвигая время.
— А раньше, давно? Еще до трактира?
— Здесь была вилла. Частная вилла.
— Вилла Санта-Мария?
Реми такой допрос явно тяготил.
— Нет-нет, не жилище святого. — Он уже направлялся к столовой: — Пожалуйста, идите за мной.
Когда Бритт и Романо уселись за столик, она наклонилась к нему и тихо спросила:
— Вы верите, что он не силен в английском? Как вам его разъяснения по поводу снимка?
— Если честно, — покачал головой священник, — мне никогда не удавалось постичь французов. Они живут в своем обособленном мирке, который не во всем совпадает с нашим.
— Когда я расспрашивала его о вилле Санта-Мария, мне показалось, будто он что-то недоговаривает.
— А я думаю, что его реакция говорит сама за себя. Семья Леоне насчитывает несколько поколений, и тем не менее он ни разу не слышал о вилле Санта-Мария. Уверен, что здесь найдется учреждение, где можно полистать местные имущественные акты — так мы поймем, существовало ли вообще такое название.
Реми возвратился с блокнотом и ручкой. Клиентам он протянул меню, написанное от руки и исключительно по-французски. Бритт принялась с грехом пополам разбирать изящный почерк и наконец объявила:
— Французский у меня и без того неважный, но эта каллиграфия крайне затрудняет чтение. Здесь есть говяжье филе и несколько куриных блюд. Если вы любите курятину, то я порекомендовала бы poulet au porto. Это жареный цыпленок в соусе из портвейна, сливок и грибов, а гарнир к нему — risotto и побеги спаржи.
— Мои познания во французской кухне ограничиваются словами boeuf и poulet,[644] поэтому я охотно соглашаюсь с вашим выбором.
Реми принял заказ и вскоре вернулся с бутылкой белого бургундского «Монраше». Он показал Романо этикетку, дождался его одобрительного кивка и только тогда откупорил бутылку и наполнил их бокалы. Когда он ушел, священник глотнул вина и улыбнулся:
— Прекрасно. — Он поднял бокал и предложил тост: — За то, чтобы мы оба добрались до истины и вернулись в Нью-Йорк в добром здравии.
Бритт чокнулась с ним и ответила:
— Да, выпьем за это. И чтобы истина у нас оказалась одна и та же.
Романо снова улыбнулся. Глоток спиртного — вот что требовалось Бритт, чтобы избавиться от умопомешательства последних нескольких дней. Сухое белое вино ласкало ей нёбо, соблазняло своим ароматом. Она отпила из бокала еще глоток, вдохнула поглубже и ощутила во рту приятное покалывание. Романо не сводил с нее глаз, и Бритт спросила:
— Только честно, вы считаете, что это с моей стороны сумасшествие — пытаться подвести обоснование под родословную Христа?
Священник поглядел на нее с участием, но не удержался от улыбки:
— Я, конечно, поостерегся бы назвать это сумасшествием. Скажу только, что ваше стремление развенчать общепринятую доктрину пагубно влияет на вашу объективность. Что конкретно вы стараетесь найти?
— Единственное реальное доказательство, на которое я могу опираться, — это неизвестное Евангелие от Иакова. Что, если именно его Соньер прятал в Ренн-ле-Шато, шантажируя и саму церковь, и процерковную европейскую аристократию?
Романо сложил пальцы в замок и прижал их к губам. Наконец он вымолвил:
— Сегодня мы с вами уже довольно наслушались и насмотрелись. Тем не менее Соньера нет на свете уже около девяноста лет, но никто до сих пор так и не раскрыл, в чем состояла его тайна. Это единственный вывод, который я сделал за сегодняшний день.
— Но ведь кто-то же обнаружил это Евангелие, иначе ко мне не попал бы отрывок из него? И меня просили приехать сюда за оставшейся частью. Разве это не…
— Что-что? — вытаращился на нее Романо. — Кто просил вас сюда приехать?
— Не кипятитесь, сначала выслушайте. Я думаю, этот человек тоже священник, а может, даже член «Rex Deus». Он нашел это тайное Евангелие и хочет исправить ужасную ошибку в отношении религии. Если правда откроется, то христианство, может быть, от слепой веры во всеобщее спасение вернется к учению Иисуса и добрым делам во имя Господа.
Романо смотрел на нее, разинув рот:
— Да, теперь это действительно на грани сумасшествия… И кто же он?
— На самом деле понятия не имею. Я его ни разу не видела.
— Может, он и убивает священников во имя Господа. Это он — Вестник? Почему вы сразу не рассказали о нем полиции?
— Я знаю, что он вовсе не убийца. Это он выслал мне фрагмент рукописи, подлинность которой подтверждена экспертизой. Он направил меня к отцам Маттео и Метьюсу; оба что-то знали о «Rex Deus» — и поплатились за это жизнью. Вас там не было, вы не видели их реакции… И он предупреждал меня, что найдутся те, кто захочет мне помешать. Когда он звонил мне, чтобы удостовериться, что я точно приеду в эту гостиницу, он просил соблюдать осторожность, потому что считал: человек, стрелявший в меня в Нью-Йорке, скорее всего, повторит попытку. Кстати, именно он убедил меня, что от вас не исходит никакой угрозы для моей жизни. Да, да, да! Почему бы мне ему не верить?
— Потому что вы даже не представляете, кто он такой. И у вас нет доказательств, что не он всем этим заправляет.
— Я прошу только об одном: потерпите до завтрашнего вечера. Конечно, вы можете прямо сейчас уехать в Каркассон — не сомневаюсь, Леоне с готовностью вас отвезет. Завтра к заходу солнца я или получу нужное доказательство, или нет. Или умру.
— Не говорите так, это не шутки. Кто-то уже умер, в вас стреляли — чуть ли не дважды.
— Тогда отправляйтесь в Каркассон.
Романо округлил глаза:
— Я не оставлю вас здесь одну.
Подошел Реми с заказанными блюдами и, наполнив клиентам бокалы, снова удалился. Бритт предложила тост:
— Выпьем за это превосходное угощение и за то, чтобы мне поскорее разрешить свое наваждение.
— Согласен. — Романо чокнулся с ней. — Но я все же не отступлюсь от попыток заставить вас пересмотреть основные позиции.
Выпив бургундское, Романо и Бритт принялись за еду. Они были одни в ресторанном зале; тишину нарушали только редкие жалобные птичьи крики и отдаленное конское ржание. Еда была превосходная. Цыпленка, как подметила Бритт, не только пропитали портвейном, но еще и ароматизировали бренди, risotto оказалось не слишком сухим и не слишком мягким, а побеги спаржи были приготовлены a point. Ей стало интересно, кто такой Реми — неужели одновременно хозяин, официант и управляющий этого уютного трактирчика?
Романо очень скоро управился со своей порцией. Отправив на вилке в рот последнюю горстку risotto, он виновато посмотрел на Бритт и разлил оставшееся вино по бокалам. Она не успела ничего сказать, как рядом снова возник Реми с очередной бутылкой. Откупорив ее, он подлил им еще бургундского, а затем спросил:
— Кофе? Эспрессо?
— Счет, пожалуйста, — попросила Бритт.
Она заметила, что Романо удивился. Француз ответил со странной ухмылкой:
— Ваш счет уже оплачен. Все включено.
Он перевел взгляд на Романо и добавил:
— Святого отца мы угощаем.
— Кого я должна благодарить за такую любезность? — поинтересовалась Хэймар.
Реми смущенно помялся и изрек:
— Вам лучше обратиться к владельцам. Они дали распоряжение.
Он подхватил пустую бутылку и проворно исчез в проеме ресторанной двери. Бритт озадаченно уставилась на Романо:
— Вообще-то я собиралась уточнить, что вы понимаете под пересмотром позиций, но сейчас меня посетило странное чувство, что мы не совсем одни в этой комнате.
Романо принялся оглядываться — и в конце концов признался:
— Пусть это прозвучит нелепо, но, боюсь, тут я с вами солидарен.
Сквозь окно проникало слабое мерцание светила у самого горизонта. На тусклом фоне сгущающейся синевы выделялись яркие пунцовые и лиловые полосы.
— Предлагаю распить эту бутылку на балконе, — обратилась к священнику Хэймар. — Я поэтапно изложу вам доводы, приведшие меня к моей позиции, и тогда вы без труда воспримете ее. Я не сомневаюсь, что вы считаете меня одержимой или, говоря вашими же словами, на грани сумасшествия. Если вы узнаете, какие ступени я преодолела, чтобы оказаться здесь, вы, возможно, лучше поймете, откуда у меня такое тяготение к доказательству Христовой родословной.
Романо одной рукой взял их бокалы за ножки, а другой ухватил за горлышко бутылку.
— Прошу.
Бритт сняла оба ключа со стенда рядом с конторкой и стала подниматься на второй этаж, где находились комнаты и выход на балкон. От вина и нечеловеческой усталости последних двух дней ее окончательно разморило. Еще пару бокалов — и она готова будет рассказать священнику правду о Вестнике.
81
Сидя перед монитором, Гавриил наблюдал, как Хэймар и Романо вышли из ресторана. Ему неудержимо захотелось пробраться наверх, в гостиницу и увидеть Бритт вживую. Видеоэкран скрадывал ее очарование: нельзя было разглядеть ни блеск глаз, ни румянец на щеках, ни эмоциональное возбуждение, которое, он знал, ее в этот момент охватывало. Во время звонков он чувствовал, как она воодушевлялась, проникалась почти религиозным пылом — особенно после того, как узнала правду об их особом сродстве.
На мониторе возникло изображение Реми, убирающего со стола посуду, и Гавриил выключил изображение. Это он сегодня вечером должен был наслаждаться ужином и прекрасным вином в компании Бритт, делясь воспоминаниями о порознь прожитых жизнях и сходных переживаниях. Его раздирал на части поиск решения, но выбора уже не оставалось. Никаких компромиссов.
Он почувствовал, как все его тело наполняет могучий заряд энергии, а от мысли о завтрашнем дне мозг словно опаляет жаром. Завтра наступит конец его религиозным поискам и начнется что-то новое, невыразимо прекрасное — такое, что он и сам не в силах постичь.
82
В замок Кристиана Фортье, располагавшийся в окрестностях Каркассона, прибыл последний долгожданный лимузин. Бывшая вилла Санта-Мария теперь служила летней резиденцией председателю Совета Пяти. Дорогостоящая реконструкция в ней была проведена после того, как прах Марии Магдалины перенесли в «Трактир Лошади», где он теперь хранился вместе со Святым Граалем.
Фортье и остальные члена Совета обернулись на звук отворяемых дверей — из-за массивных дубовых створок главной залы показался Егор Иванов.
— Егор, мы беспокоились. Что вас так задержало? — спросил Фортье.
Иванов уже занял отведенное ему место.
— Прошу прощения, господа. В моем самолете обнаружились технические неполадки. В свете последних событий я не мог рисковать и поручил запасной бригаде механиков еще раз все досконально проверить. — Он улыбнулся присутствующим: — Но я все-таки прибыл. Разве не это главное?
— В самом деле, — заметил Фортье. — Давайте уже приступим.
— Как обстоят дела с Михаилом и Гавриилом? — поинтересовался Уокер.
— Я недавно созванивался с Гавриилом, — обернулся к англичанину Фортье. — С ним все в порядке, он сейчас в гостиничном комплексе. А Михаил вылетел из Вены. — Фортье задумчиво почесал подбородок и затем продолжил: — О Филипе ничего не слышно. Ни он, ни Михаил в Монте-Карло не появлялись.
— Значит, мы даже не знаем наверняка, убрал ли Арман Конрада и Хэймар! — Иванов со всего маху хлопнул ладонью по столу. — Что-то мне это не нравится! Его папаша давно бы все уладил. Вы звонили Карлосу?
У Фортье захолонуло в сердце: ему стало страшно, что кто-нибудь сейчас его уличит в содеянном.
— Карлос уже несколько лет как отошел от дел. Он сейчас тихо сидит где-то в южном Таиланде. Он заверил меня, что его сын вполне способен разрулить любую сложную ситуацию. Тем более что до сих пор Филип нас не подводил.
— Но здесь не стандартный заказ по сопровождению. Трое из Ближнего Круга уже мертвы, и с четвертым могло случиться то же самое.
— Егор прав, — вмешался Ран. — Мы даже толком не знаем, кто убийца. Карлос в шестидесятых сразу пресек утечку информации, приведшей Le Serpent Rouge к провалу. Он немедленно и без всяких последствий уничтожил угрозу в самом зачатке.
Фортье поспешил сгладить напряжение, пока оно не перешло границы:
— Филип считает, что в гибели священников виновны Хэймар и Конрад, и я с ним согласен. Возможно, есть и третий — кто-нибудь из общества Соньера. У меня на руках список самых активных его членов; как только Михаил благополучно прибудет в Монте-Карло, я поручу Арману начать охоту за ними. Отдельный человек у меня приставлен отслеживать сводки новостей из Вены. К завтрашнему дню мы уже будем точно знать, что там произошло, и тогда примем соответствующие меры.
— По-моему, ждать до завтра — непозволительная роскошь. — Коротышка-шотландец Хендерсон обвел всех многозначительным взглядом, нервно выводя каракули в углу блокнотной страницы. — Если уж этот некто поименно знает членов Ближнего Круга, то и о нас он наверняка слышал.
Фортье заметил тревогу на лицах присутствующих. Сам он тоже рассматривал такую угрозу развития событий.
— Вот почему мы съехались сюда каждый по отдельности и вилла сейчас находится под усиленной охраной. Завтра с утра мы на трех лимузинах отправляемся в святилище. Там для нас самое безопасное место. Мы не высунем носа оттуда до тех пор, пока не получим новости из Вены или не узнаем, что Михаил благополучно добрался до Монте-Карло.
— Думаю, так и надо сделать, — заметил Ран, смерив председателя холодным взглядом. — Но я никак не постигну мотивов этих убийств. Если Хэймар и Конрад открыли тайну нашего святого ордена, то почему просто-напросто не опубликовали ее? Хэймар уже известна своими инсинуациями в прессе по поводу ее смехотворного опуса «Подложный Иисус». Зачем же истреблять Ближний Круг?
— Возможно, это дело рук Конрада или неизвестного третьего лица, — предположил Фортье. — Мне кажется, они используют Хэймар как прикрытие, а сами тем временем следуют некоему плану. Может, им втемяшилось, что, уничтожая членов Ближнего Круга, они устраняют угрозу для церкви.
— Но ведь существует и Святой Грааль, и Евангелие от Иакова, — вмешался Уокер. — Вот весомая улика против церковников и реальная угроза для них.
— Мы все сошлись на том, что сохранение эмбрионов — самый надежный способ защитить наш святой орден, — начал эмоционально жестикулировать Ран. — Вы помните, что я без восторга отнесся к идее прекращения естественного поддержания родословной. — Правый глаз немца дергался в нервном тике. — Наш долг — сохранить ее до Второго Пришествия. Я расцениваю эту задачу как наличие живых человеческих индивидуумов, а не каких-то эмбрионов в крио генной камере.
— Раз уж кто-то избрал мишенью Ближний Круг, то для нас всех огромное облегчение в том, что мы своевременно задумали проект с эмбрионами, — возразил Уокер.
— Послушайте, господа! — вскричал Хендерсон. — Мы пока в точности не знаем, как умерли эти трое. И мы не можем исключить, что Второе Пришествие уже настало, что Господь посылает нам своего истинного наместника, который приведет мир к обновленному Царствию Божию.
Члены Совета изумленно вытаращились на шотландца. Неожиданно раздавшийся звон колокольчика разрядил обстановку, вызвав у Фортье чувство облегчения. Он поднялся и возвестил:
— Блэр абсолютно прав. Мы не можем ничего исключать до тех пор, пока не будет установлена причина смерти священников или мы не получим известий от Филипа. Обед для нас уже накрыт в главной столовой зале. Момент сейчас трудный, но давайте сначала запасемся достаточным количеством фактов и только потом будем принимать взвешенное решение. Завтра у нас священный день. Не сомневаюсь, что Господь наставит нас и не даст ошибиться.
С этими словами Фортье направился к выходу. Прочие тоже встали и двинулись вслед за ним. Председатель Совета не мог отделаться от опасения, что совершил ошибку — еще тогда, когда привлек документ с Евангелием для поддержания устной традиции их святого ордена. К счастью, единственным свидетелем, знавшим всю правду, был Карлос Арман — а его тело никто никогда не обнаружит.
83
Романо поставил бутылку с вином и бокалы на столик, придвинутый к алебастровой балюстраде. Вид, открывающийся с балкона, захватывал воображение: внизу колыхались вершины деревьев, а вдаль, насколько хватал глаз, простирались горные кряжи. Ближайший пик, увенчанный деревушкой Ренн-ле-Шато, уже окутала темная тень. Необъятная перспектива, состоящая из череды хребтов, растворялась в ту манной дымке, а заходящее солнце окрашивало небосклон нежными цветными мазками.
Бритт сдвинула два кресла поближе друг к другу и заняла одно из них. Священник наполнил бокалы и последовал ее примеру. Они откинулись на спинки, смакуя прекрасное бургундское, и Романо впервые увидел, как с Бритт спало напряжение. В угасающем сумеречном освещении вдруг стала доступной ее сокровенная красота, усиленная мягким сиянием глаз, которого он не замечал раньше. Впечатление было такое, что Бритт совлекла с себя прежний покров муки и недоверия. Она повернулась к нему и спросила:
— Что заставило такого привлекательного мужчину, как вы, стать священником?
Потрясенный подобной бесцеремонностью, Романо сначала хотел осадить спутницу шаблонными рассуждениями о духовном призвании, но потом рассудил, что если он поделится с ней своими истинными переживаниями, то она, вполне возможно, быстрее разговорится на тему ее более чем загадочного стремления в Ренн-ле-Шато.
— Мне не очень приятно признаваться в том, что мое решение принять сан было злонамеренным, если не сказать хуже. Можете считать, что я стал священником, чтобы насолить собственной матери.
Он заметил, как Бритт вздрогнула, но тут же ободряюще улыбнулась, давая понять, что внимательно его слушает.
— Мой отец скончался, когда мне было двенадцать. После него нам с матерью достался значительный капитал. Сколько я себя помню, у нас всегда жила прислуга — супружеская пара, и у них была дочь Марта. На первом курсе колледжа между мной и Мартой возникло чувство, но мы скрывали его, потому что не надеялись, что моя мать отнесется к нему благосклонно. На весенних каникулах мать обо всем узнала — и разошлась не на шутку. Она говорила, что я мог выбрать себе кого-нибудь получше, что Марта гораздо ниже меня по положению… Потом она оставила эту тему. А через неделю семья Марты куда-то пропала. Мать сообщила, что они решили перебраться на Западное побережье и не оставили ей нового адреса. Я был вне себя, пытался разыскать их, но тщетно — они буквально испарились. Я не сомневался, что мать заплатила им за такое бесследное исчезновение, и не мог ей этого простить. Тогда-то мы и сошлись поближе с отцом Метьюсом, он пригласил меня вместе провести летние каникулы в иезуитском центре. В глубине души я понимаю, что на мое решение принять сан немало повлияло желание отомстить матери. Ей хотелось, чтобы я подыскал себе равную по положению женщину, с которой пристойно создать семью. Ну и вот — теперь это никогда не осуществится.
Едва солнце скрылось за отдаленным горным кряжем и их столик стал не виден во мраке ночи, как сзади на стене зажглись два круглых светильника.
— Вы сожалеете, что стали священником?
Романо уловил колебание в ее голосе и, запустив руку в волосы, откинулся на спинку кресла:
— О, бывают моменты, когда мне кажется, что я допустил ужасную ошибку. Я до сих пор помню восхитительное ощущение от объятий Марты. Такой теплоты мне больше никогда не испытать. До сих пор я иногда предпринимаю попытки разыскать ее семью, но до сих пор ничего существенного не обнаружил. Думаю, они вообще уехали из страны. Зато я нашел себя в преподавании и получаю от него огромное удовольствие. Мои студенты и есть моя семья, которой не будет конца. В общем, можно сказать, что я обрел и семью, и Господа.
Повеяло ветерком. Лицо Бритт омрачилось.
— А я все же успела испытать любовь мужа и сына, хоть и ненадолго…
Романо допил бургундское, подлил себе еще из бутылки и добавил вина в бокал Бритт. Он решил, что настал благоприятный момент, чтобы переменить тему.
— Как вы думаете, что случится завтра? Или, скорее, я должен спросить: что бы вам хотелось, чтобы случилось?
На лице Хэймар отразилась решимость:
— Я жажду определенности. Мне нужно некое удовлетворительное доказательство, которое придаст мне веры для окончания книги и убежденности хоть в чем-нибудь, чтобы можно было жить дальше. Признаюсь честно, мне все равно, подтвердится ли существование родословной, или появятся веские доводы против. Тогда я буду рассматривать эту теорию просто как легенду.
— Я рад, что вы сами заговорили о вере, — отозвался Романо. — Я верую в догму, которую вы почему-то оспариваете. Впрочем, моя вера зиждется на опыте многих и многих, живших до меня. — Он глотнул еще вина. — Ветхий Завет — средоточие более чем тысячелетней веры и культуры израильтян. Новый Завет возник подобным же образом примерно через столетие после смерти Христа. Большинство книг Старого и Нового Заветов имели сугубо устное хождение до того, как были записаны. К их созданию причастно множество людей: рассказчики, сочинители, обработчики, слушатели, читатели; всех их объединяет одно — вера.
Хэймар с улыбкой покачала головой:
— Для нас обоих не секрет, что вера естьбезоговорочное доверие, не подкрепленное реальными доказательствами.
— Смотря что считать реальным доказательством. На протяжении столетия после распятия Иисуса Его ближайшие ученики передавали из уст в уста истории, которые и составили Новый Завет. И эти люди не отрекались от сказанного даже перед лицом страшной смерти. — Романо, поморщившись, искоса взглянул на Бритт: — По-моему, это уже достаточный залог достоверности.
— Вы же знаете, что я вовсе не отрицаю основные христианские ценности. — Бритт неторопливо отпила из бокала. — Для меня главная сложность связана с идеей абсолютного искупления и молитвенными посулами. Есть и другой аспект, который не дает мне покоя с тех пор, как ко мне попал фрагмент Евангелия: могла ли физическая сущность Христа умереть и воскреснуть из мертвых?
— Мне кажется не столь существенным, чем в результате обернется ваше неизвестное Евангелие, поскольку в любом случае оно сводится к тем же основам — к вере.
— Разве не существенно, о чем там говорится? — удивилась Бритт.
— К сожалению, сегодня мы склонны верить всему, что пишут. Y2K,[645] глобальное похолодание, а за ним — глобальное потепление, следы йети, оружие массового уничтожения… Марк Твен однажды сказал замечательную вещь: «В жизни я повидал множество неприятностей, и большинство из них так никогда и не случились». Что бы вы ни написали, найдутся те, кто поверит в это, и те, кто нет.
— Но я только хочу рассказать правду!
— Поскольку простые смертные не в состоянии постичь божественную сущность, то вы не можете поделиться любым из своих открытий, кроме как посредством ныне существующих, всем доступных понятий. Что происходит, когда наш разум в бессилии отступает? Это значит, что мы достигли пределов постижения действительности. Здесь нам на помощь приходит вера, она ведет нас дальше. Вывод из всего этого следующий: есть нечто большее и лучшее, чем мы все, вместе взятые. Это Бог.
Бритт неотрывно глядела в лицо священнику.
— Я почти всю жизнь верила и в Бога, и в то, как религия толкует учение Христа. Но когда пришла пора испытаний, моя вера меня не спасла.
Романо заметил, как ее взгляд вновь затуманился от боли и печали.
— Я сочувствую вашим страданиям. Даже к лучшим из людей жизнь не всегда благосклонна. Вы же тем не менее сразу поверили своему призрачному телефонному собеседнику — Вестнику. Разве он предоставил для этого реальные доказательства?
Бритт ответила не сразу, очевидно обдумывая, чем можно поделиться. Поколебавшись, она наконец промолвила:
— Я допускаю, что после смерти сына и мужа я слишком ополчилась на церковь, подвергая сомнению ее основы. Я хваталась за любые конспиративные теории, которые тогда попадались мне под руку. Я знаю, вы сочтете меня сумасшедшей, но я просто хочу, чтобы вы поняли, как я пришла к своим нынешним умозаключениям и в результате оказалась здесь.
— Бритт, ради Бога, я вовсе не собираюсь вас критиковать! Я и сам не знаю, как бы я вел себя в подобной ситуации. Но мы оба что-то упускаем из виду, и я очень сожалею, что ваша безудержная погоня за доказательствами родословной застит вам глаза. Меж тем гибнут люди, на вашу жизнь тоже покушались… Видите, здесь много такого, о чем мы даже не подозреваем.
Хэймар встала, оперлась на балюстраду и устремила взгляд на огненное зарево у самого горизонта. Помолчав, она обернулась к Романо:
— Чем больше я погружалась в историю рыцарей-храмовников, тем яснее мне становилось, что существует прямая связь между храмом Соломона, раскопками тамплиеров, быстрым ростом благосостояния и могущества их ордена и, наконец, осадой Монсегюра, который расположен не так далеко на запад от этого места. Многие исследователи убеждены, что тамплиеры нашли под храмом и сокровища, и Святой Грааль. Я считаю, что сама святыня в конце концов попала в руки катаров, которым приписывали обладание опасными для Римской церкви тайнами. Во время одного из папских крестовых походов катары в осажденном Монсегюре попросили у крестоносцев милости провести в крепости последнюю ночь, после чего поклялись добровольно сдаться на казнь. Те подумали, что они собираются совершить какой-то предсмертный обряд, но под покровом ночи четыре человека спустились вниз по голой скале, унося с собой и катарские загадки, и Святой Грааль. Их путь вполне мог пролегать через местность неподалеку от Ренн-ле-Шато, и где-то тут они спрятали то, что спасли из Монсегюра, — возможно, в могиле, изображенной на полотне Пуссена, — пока аббат Беранже Соньер не обнаружил тайник. — Она перевела дух и снова глотнула вина. — Даже ваши ассистенты додумались до искомой анаграммы: «В изгнании храню тайны Господа». Чем бы ни был Святой Грааль, он может поведать нам правду об Иисусе Христе. Я думаю, Вестник причастен к «Rex Deus», поскольку он имеет доступ к неизвестному Евангелию от Иакова. И он обещал мне показать сам Святой Грааль.
Романо подался к ней и нетерпеливо спросил:
— Так вы поэтому ему поверили?
— Нет, на это у меня есть другая, более личная причина. Вестник — мой родной брат.
Романо прерывисто вздохнул. Такого поворота он нисколько не ожидал.
— Но… вас же удочерили! Вы даже не знаете, кто ваши настоящие родители. Какой же он вам брат?
— Мы с ним двойняшки. Нас разлучили при рождении.
— И кто он?
— Не знаю. Мы ни разу с ним не виделись. Я даже не знаю его имени. И то, что у меня есть брат, тоже было мне неизвестно, пока Вестник не прислал мне фрагмент манускрипта и пробирку с прядью волос для сравнения ДНК.
Романо поймал себя на том, что смотрит на нее, разинув рот:
— И что, анализ подтвердил, что это ваш брат?
— Да, мы разнояйцевые близнецы. Я отдавала свои и его волосы на экспертизу. Вот почему я уверена, что он принадлежит к «Rex Deus»: у него нашли дефектный ген — тот же, что у всех коханим, который вызывает мутацию с огромной долей вероятности. Исключение составляет всего одна тысячная процента. Если даже мой брат не член «Rex Deus», я, безусловно, могу поручиться, что, по крайней мере, он из числа потомков великих жрецов Иерусалимского храма.
— Почему же тогда он не откроет вам, кто он на самом деле? Чего он добивается?
— Он сказал, что пытается исправить чудовищную ошибку, а я помогаю ему на пути к истине. Вообще, Вестник говорил очень уклончиво; все, чего я добилась от него, — то, что мне нужно приехать сюда и тогда он предоставит мне полный текст Евангелия от Иакова и раскроет тайну Святого Грааля. Это случится завтра, еще до заката солнца.
— Но откуда вы знаете, не причастен ли он к смерти священников? Вы же понятия не имеете, кто он сейчас и чем он занимался всю свою жизнь!
Лицо Бритт приняло отстраненное выражение. Она глядела поверх плеча Романо на объятые мраком горы, над которыми тлел пурпурный отсвет, словно искала у неба божественного наставничества.
— Наверное, вы опять сочтете меня безумной, но когда я разговариваю с Вестником, между нами возникает особое взаимопонимание, ощущение, будто мы с ним находимся на одной волне. Наверное, потому что мы — единоутробные близнецы. Я ему верю. — Она встала, склонилась к Романо и поцеловала его в щеку. — Спасибо, что остались со мной. Давайте встретимся в восемь за завтраком. — В балконных дверях Бритт обернулась к священнику и улыбнулась: — Как бы там ни получилось, завтра все станет известно.
84
— Агент Катлер, вас спрашивают из Бюро.
Вытянув через стол ручищу, Курт Браун передал Катлеру трубку, а сам вновь принялся за бутерброд с Wiener schnitzel.[646] Всю ночь они вместе разбирали дело Филипа Армана, поэтому принесенная помощником Брауна снедь оказалась весьма кстати.
— Том, Божий промысел можно исключить, — доложил Донахью. — Вскрытие всех трех тел показало, что причиной смерти явился быстродействующий яд, смешанный со змеиным.
— Вот черт…
— Да, тут дело нечисто. Священники перед смертью некоторое время находились в коме, но медэксперты утверждают, что все стигматы нанесены уже после летального исхода. Таким образом, убийца вынужден был ждать полной остановки сердца и только потом прокалывал трупам запястья, ступни и бока. Раны нанесены заостренным металлическим предметом, чем-то вроде гвоздя.
— Как был введен яд? — спросил Катлер.
— Первым двум жертвам его подмешали в вино и виски, а священника из Нью-Орлеана оглушили «Тэйзером», а потом сделали инъекцию. Наши аналитики считают, что мы имеем дело с серийным убийцей, который вершит ритуальную вендетту против церкви или иезуитов.
— Брайан, утром я лечу во Францию: хочу успеть перехватить Бриттани Хэймар и отца Романо. Бывший священник, о котором они оба справлялись накануне, вчера застрелен здесь, в Вене.
— Это они убили его?
— Киллера мы взяли. К сожалению, детектив Браун вынужден был его устранить: когда мы приехали к отелю, где жила Хэймар, он как раз целился в нее и в Романо. Его зовут Филип Арман, он француз. Я сейчас набираю для тебя сообщение, скоро отправлю все подробности. Этот тип летал в Нью-Йорк незадолго до того, как погибли священники. Он легко мог прикончить Метьюса. Проверь, пожалуйста, не смотался ли он за это время и в Нью-Орлеан, чтобы расправиться заодно и Синклером.
— Этот Арман тоже священник? — поинтересовался Донахью.
— Нет. А что?
— Вскрытие показало, что у каждой жертвы на лбу и на ладонях маслом начертан крест. И это не просто масло, а церковный елей, используемый в католическом обряде миропомазания. Раньше этот ритуал назывался также соборованием и применялся для исцеления больных. Из всего этого следует, что убийца или священник, или когда-то был им.
— Я извещу Интерпол, — ответил Катлер. — Пока у нас по Арману лишь предварительные сведения. Между прочим, не удалось найти достаточных улик, что он был в Испании, когда скончался первый священник. Если все же это он постарался и удастся доказать его связь с нью-орлеанским случаем, то Филип Арман почти наверняка наш клиент. А когда я нагоню Хэймар и Романо и получу от них разъяснения, возможно, эта серия убийств предстанет перед нами в новом свете.
— Да, продолжения пока не последовало.
— Ну, не спеши радоваться, — возразил Катлер. — Вчера в местном епископате не смогли доискаться еще одного священника-иезуита.
85
Едва Хэймар добралась до своей комнаты, как ее глаза наполнились слезами и ее начали одолевать рыдания. Она присела на край постели, повесив голову и сотрясаясь всем телом. Бритт сама не понимала, что с ней происходит. Романо прав: погибли люди, кто-то пытался убить ее, а может, и его тоже. Во что она его втянула?
На старших курсах в Гарварде Хэймар работала с картотекой, открывавшей доступ к проповедям и апокрифам, найденным в 1945 году близ Наг-Хаммади. Все они были написаны в первые столетия от Рождества Христова — бесчисленные гностические тексты, предоставляющие богатую пищу для раздумий, поскольку были нацелены на поиск сокровенных знаний. Многое из сказанного там существенно расширяло границы общеизвестных истин. Был ли у Иисуса брат-близнец по имени Иуда Фома? Можно ли считать непорочное зачатие и воскресение из мертвых недоразумением по легковерию? Произведения содержали обширные ссылки, каждая из которых была весьма неоднозначной, глубоко символичной и служила поводом для самых разнообразных интерпретаций. Потратив годы на их изучение, Бритт в результате не приобрела ничего, кроме сомнений и мысленного разброда.
А потом она потеряла Тайлера и Алена, и все ее существование словно наполнилось и пропиталось ядом. Ее охватило ужасное одиночество. Затем от Вестника пришли фрагмент Евангелия и пробирка — вместе с признанием, что он ее брат. Когда Бритт получила результаты экспертизы ДНК и радиоуглеродного анализа, у нее будто бы спала пелена с глаз и она начала видеть то, что другие не замечали. Порой ей даже казалось, что смерть Тайлера составляет часть божественного замысла, чтобы повернуть ее к поиску истины, так долго утаиваемой от всех главами ортодоксальной церкви.
Но теперь стали умирать священники, в нее саму дважды стреляли — сначала в Нью-Йорке, а потом повторили попытку в Вене. Несмотря на все это, отец Джозеф Романо как будто бы верил в ее чистосердечие — по крайней мере, не пытался уличить в ереси. Она пока не могла сказать, зачем ей сдался этот долговязый иезуит, у которого к копне темных волос имелись впридачу бородка и пушистые усы. Тем не менее от мысли о том, что она втянула его в какую-то опасную авантюру, у Хэймар кровь стыла в жилах. Что, если ее брат действительно повинен в смерти священников? Опять Романо оказывался прав: она понятия не имела, чем занимается ее пресловутый родственник и чему он посвятил свою жизнь.
Бритт заползла в постель, устроившись меж прохладными простынями, и вытерла кулаками глаза. Понемногу она успокоилась и погрузилась в печальные сны, которые давно стали для нее привычными.
86
Тусклый голубоватый свет, таинственно фосфоресцируя, заливал гостиничный номер. Романо оторвал голову от подушки и прищурился на будильник, стоящий рядом на тумбочке. На экране мерцали синие цифры: пятнадцать минут шестого. Священник просыпался уже в четвертый раз; возможно, он так толком и не заснул — просто всю ночь медленно дрейфовал между сном и явью. Мысли метались от Бритт и ее таинственного брата-близнеца к странным теориям о Христовой родословной, к отцу Тэду и человеку со шрамом. Что все это означает? Чушь какая-то… Ему никак не удавалось собрать разрозненные куски воедино.
Романо включил ночник и сел на краю постели, затем вытащил «Блэкберри» и собрался отправить Чарли и Карлоте сообщение, но увидел, что нет сигнала. Тогда он встал, натянул тренировочные шорты и футболку и вышел на балкон. Ни в одном номере не было света, горели только белые лампы-шары между широкими балконными дверьми, ведущими к комнатам, и мерцал на горизонте неясный сероватый предутренний отблеск. Прохладный горный воздух приятно бодрил. Вдали, в направлении Ренн-ле-Шато и близлежащей долины Ренн-ле-Бэн, сияли редкие огоньки.
Священник решил сделать пробежку вниз по петляющей горной дороге до прибрежной деревушки, отстоящей от гостиницы на несколько километров. Он вернулся в комнату, надел кроссовки и запихнул в задний карман несколько евро и паспорт. В гостинице все было тихо, и, спустившись на первый этаж к рецепции, священник так никого и не встретил. Он заметил, что на стенде не хватает только ключа Бритт, и очень удивился: получалось, что они действительно единственные постояльцы в этом трактире. Он задался вопросом, не загадочный ли брат Бритт содержит гостиницу.
Конюшня и загоны окутывала тишина. В легком утреннем тумане священник побежал по гравиевой дорожке, в конце которой стоял припаркованный черный фургон. Романо заглянул внутрь — на водительском сиденье никого не было. Еле заметная тропинка круто спускалась в лес, среди которого выделялось непонятное сооружение, вблизи оказавшееся охот ничьей вышкой.
Сбегая вниз по узкой горной тропе, Романо размышлял о том, какие могут быть последствия, если для теории Бритт найдутся весомые основания. Он понимал, что многое будет зависеть от подлинности и содержания неизвестного Евангелия от Иакова, а также от тех сведений, что собирается предоставить Вестник. Впрочем, все это могло относиться к области заговора, инспирированного недоброжелателями Иисуса. Священника раздирало на части стремление, с одной стороны, выяснить, кто и зачем убил отца Тэда, а с другой — позаботиться, пусть и бессознательно, о благополучии церкви или, может, даже о самой Бритт Хэймар. Ему не давала покоя ее безотчетная уверенность в своем брате-близнеце, которого она ни разу не видела и который вполне мог оказаться фиктивным.
Чем ниже Романо спускался в долину Ренн-ле-Бэн, тем больше рассеивался туман, а пейзаж становился все живописнее. Склоны холмов вблизи деревни, приютившейся на берегу одного из пиренейских потоков, радовали сочной зеленью. На повороте дороги священник резко остановился: под откосом в скальном углублении темнело похожее на пещеру отверстие. Над ним нависала скала, по ее поверхности стекала вода. Прямо от входа ручеек убегал дальше, не видимый среди травяных зарослей и переплетшейся лозы.
Романо взглянул вверх, где вокруг вершины с Ренн-ле-Шато еще клубился туман. Ему подумалось, сколько таких пещер, должно быть, рассеяно по всему горному массиву в окрестностях поместья аббата Соньера. А бездонные подземные лабиринты некогда хранили — а то и сейчас хранят — немало тайн.
87
В аппаратной запищал тревожный сигнал, и Гавриил тут же принял сидячее положение на койке, которую он поставил себе в центре видеонаблюдения — небольшой комнатке в недрах комплекса. Он бросил взгляд на стену с многочисленными жидкокристаллическими мониторами и заметил, что на одном из них — том, который контролировал главный вход в гостиницу, — мигает красный огонек. Проследив, как Романо выбежал наружу и потрусил прочь по подъездной аллее, он подумал: как удачно, что священник решил с утра немного размяться. Гораздо безопаснее будет привести их в святилище по отдельности.
Гавриил сразу же позвонил в комнату Бритт. В трубке слышно было, насколько женщина ошарашена: она едва подыскивала слова. Тем не менее она согласилась на его предложение встретиться через пятнадцать минут. Наскоро приняв душ, Гавриил надел свой обычный черный костюм итальянского покроя и поправил на шее входящий в облачение накрахмаленный белый воротничок. Он очень долго ждал этой встречи — с тех пор, как помнил себя. Ее не должно было случиться, потому что Бритт еще при рождении исключили из «Rex Deus»: она являлась носительницей гена Тея-Сакса, а значит, ее нельзя было использовать для продолжения рода кого-нибудь из членов Ближнего Круга. Совет принял решение отдать девочку на усыновление. Таким образом, для всех их целей и замыслов она больше не существовала и никогда не должна была догадаться о значительности своей родословной. Но теперь все изменилось.
Перед тем как выйти из центра видеонаблюдения, Гавриил сунул в карман пиджака «Тэйзер», искренне надеясь, что его применение не понадобится.
88
По дороге к Ренн-ле-Бэн Романо миновал второй, а затем и третий вход в пещеру. Охотникам за сокровищами, обшаривающим местность вдоль и поперек в поисках источника богатств Беранже Соньера, здесь было где развернуться. Интересно, сколько их погибло в бесчисленных горных туннелях или утонуло в подземных потоках? Должно быть, в Пиренеях насчитываются сотни таких пещер… Романо не сомневался, что истории о кладах золота и драгоценностей приманивали сюда немало авантюристов, не представляющих себе, какие опасности подстерегают человека в неосвоенных пространствах земных недр.
В детстве Джозеф вместе с отцом и Тэдом не раз отправлялся в спелеоэкспедиции по горным системам, рассеянным от Теннесси до Мэна. Даже после смерти отца они не забросили свои вылазки и часто проводили выходные вблизи пещер, где Романо мог совершенствоваться в освоении карстовых полостей. Лучшего наставника, чем Тэд, было не найти: он учил своего подопечного считаться с природной средой и всегда иметь про запас несколько путей для отступления в случае опасности. Как сейчас ему вспоминались леденящие кровь подробности скитаний ползком по темным и сырым коридорам, выводящим к изумительной красоты подземным залам.
При мыслях об отце и Тэде Романо начало терзать раскаяние: он равно уважал их двоих и пытался брать с них пример. Теперь обоих нет на свете, а он до сих пор по-настоящему этого не осознал. Наставнические отношения канули в прошлое, а сам он никогда не сможет передать свой жизненный опыт ни одному юноше. Да, у него есть студенты вроде Чарли, которых он обучает, наблюдает их внутренний рост и отправляет в самостоятельный путь по жизни. Но совсем иное — быть постоянно рядом и помогать мальчику преодолевать испытания, когда тот становится мужчиной. Никогда больше Тэд не подставит ему свое плечо; если бы он по-прежнему был рядом, кто знает — может, Джозеф и не попал бы в эти богом забытые горы Южной Франции.
Рядом послышался шум падающей воды, и тропа, по которой бежал Романо, сделала крутой поворот. Впереди расстилалась долина с речушкой, низвергающейся небольшим каскадом. Несколько оштукатуренных домишек с красными черепичными крышами подсказали ему, что он находится на окраине Ренн-ле-Бэн.
Священник взглянул на часы и понял, что пора поспешить обратно в гостиницу: вверх по горной тропе бежать дольше и труднее, а ему ни за что бы не хотелось опоздать к завтраку в компании Бритт. Предстояло также выяснить, правда или выдумка ее пресловутый брат-близнец.
89
Фортье сел в первый из трех лимузинов и приготовился к поездке в святилище. Он уже поговорил с Гавриилом — все шло по плану. Тот ждал их в подземном комплексе, и группа безопасности тоже была готова к приему гостей. Охрану выставили от самой подъездной аллеи, и никто, включая поставщиков, не смог бы даже приблизиться к главному корпусу.
Поначалу Фортье задумывал отложить ежегодное паломничество к святыне, но так и не решился нарушить традицию. Сегодня они празднуют жизнь и смерть Спасителя, и в этот день Совет Пяти подтверждает обет сохранять Его родословную до Второго Пришествия. На протяжении истории многие жертвовали собой ради выполнения обязательства. В тринадцатом веке целая катарская община приняла гибель в Монсегюре, но сберегла святая святых — Святой Грааль, а также жизни четырех членов Ближнего Круга.
По мере того как длинный черный «мерседес» удалялся от виллы Санта-Мария близ Каркассона, Фортье все больше укреплялся в мысли, что он поступает правильно. На них возложен священный долг перед Господом, и Он защитит их.
90
Романо вернулся в гостиницу изрядно пропотевшим. В обратный путь он тронулся, когда солнце уже прогнало с горных вершин предутренний туман, а крутая извилистая дорога заставила его до предела напрягать мышцы ног. В загонах у трактира не было видно лошадей, а на парковку не поставили ни одну машину, зато черный фургон в начале подъездной аллеи никуда не делся.
На стенде у рецепции по-прежнему не хватало только ключа Бритт, и, пока Романо поднимался в свой номер, он не услышал ни единого постороннего звука. Священник принял душ и оделся в привычные брюки защитного цвета и рубашку-тенниску, а затем повесил на шею крест, подаренный ему отцом Тэдом. До завтрака с Бритт оставалось еще минут двадцать, поэтому он заранее собрал свой рюкзачок и проверил «Блэкберри», однако сигнала все не было. Ничего, вечером можно будет попытаться снова. Романо взял с тумбочки визитку Леоне и убрал ее в карман. Он решил, что не останется здесь еще на сутки — либо переночует в Каркассоне, либо уже будет лететь одним из пересадочных рейсов по пути в Штаты. Если у Бритт есть планы, которыми она не желает с ним делиться, пусть осуществляет их в одиночестве.
В дверь громко постучали, и Романо открыл, ожидая увидеть свою спутницу, но застыл в крайнем изумлении: на пороге, при полном параде, словно собираясь на официальную встречу в Ватикане, стоял отец Данте Кристофоро, помощник отца-магистра в Риме.
— Простите, что ошеломил вас, — заявил он. — Мне следовало предварительно позвонить по телефону, но время не ждет.
— Что вы здесь делаете?
— Пожалуйста, пойдемте со мной, и я вам все объясню. У нас очень мало времени.
Романо подхватил рюкзак:
— Но куда?
— Не берите с собой ничего, мы просто идем в конюшню. Точнее, в комплекс, расположенный под конюшней.
Внутри у Романо все сжалось от нехорошего предчувствия. Ему вдруг пришло в голову, что церковь, вполне возможно, причастна ко всему — и к смерти священников, и к покушению на Бритт.
— А где Бритт? Бриттани Хэймар? Мы приехали вместе.
— Не беспокойтесь, Бриттани ничто не угрожает. Она уже ждет вас в святилище.
Кристофоро отступил в коридор, сунув при этом руку в карман.
— Нам надо поспешить. Сюда скоро прибудет Совет. Мне надо отвести вас обоих в безопасное место, пока они не приехали.
Романо схватил ключ от комнаты, вышел за отцом Кристофоро в коридор и закрыл дверь.
— Но скажите все-таки, куда мы идем? Что за комплекс? И какой Совет? Что все это значит?
Тот в явном нетерпении двинулся вперед:
— В надлежащий момент вы с Бритт получите все необходимые объяснения. Вам здесь есть на что посмотреть. Поверьте, Джозеф, это превосходит пределы любых ваших догадок.
Романо прошел вслед за отцом Кристофоро через конюшню в самый дальний ее угол, где обнаружилась потайная дверца. Кристофоро набрал на панели код, и Романо оказался в небольшом вестибюле. Дверь за ними закрылась, и оба вошли в лифт. Отец Данте пальцем нащупал сенсор, и кабинка медленно поехала вниз. Романо не сводил со спутника пристального взгляда.
— Кто убил Тэда? И почему?
Лицо Кристофоро приняло еще более замкнутое выражение. Он смерил Романо холодным взглядом темно-оливковых глаз.
— Есть тайны, что превосходят собой логику и понимание. Тэд, так же как Хуан и Натан, — часть одной из таких тайн. Они последовали за братьями по крови, покинувшими этот мир до них, и все трое уподобились в своей кончине Господу, который грядет во славе для спасения мира. Теперь и они приобщились к святому делу.
— К святому делу? К какому такому делу?
Лифт начал замедляться, а потом вздрогнул и остановился.
— Я сейчас все объясню вам и Бриттани. Пойдемте же. Романо прикинул, что они спустились под землю не менее чем на несколько сот футов. Створки кабинки плавно разошлись, и перед священниками возник сияющий нержавеющей сталью коридор. Сразу по правую руку обнаружилась большая дверь — тоже с электронным сканером, но Кристофоро повел Романо дальше, мимо двух других дверей, одна из которых была приоткрыта. Романо успел заглянуть туда и увидеть стену, сплошь увешанную мониторами; часть из них отображала различные уголки внутри трактира. Они подошли к последней двери в коридоре. Над ней сияла золотистая сфера, в верхнюю часть которой были вделаны металлические лучи.
— Бриттани сейчас тут, — пояснил Кристофоро. — Занята нашими самыми священными реликвиями.
Кристофоро просунул большой палец внутрь сканера — и дверные створки разошлись. Перед ними открылось просторное помещение, стены и потолок которого были обиты темными матовыми металлическими панелями. Вверху были расположены три направленных источника света, бросающих на пол призрачные круги. В центре комнаты Бритт, склонившись, изучала содержимое вместительного стеклянного контейнера. Едва они вошли, как она встрепенулась:
— Джозеф, вы не поверите!
Ее лицо лучилось от радости. Она подбежала к ним и схватила Кристофоро за руку.
— Разве даже в самых смелых мечтаниях можно было подумать, что отец Данте Кристофоро и есть мой загадочный брат-близнец?!
— Даже в самых смелых мечтаниях я бы ничему этому все равно не поверил.
Романо огляделся. В одном из углов был воздвигнут пьедестал со стеклянным ящиком, в котором хранился некий свиток, в другом возвышалась статуя — по виду та самая Мария Магдалина. Посередине помещения в стеклянный контейнер был заключен небольшой деревянный саркофаг с причудливой резьбой, кое-где отделанный позолотой. Навершием саркофагу служила золотая сфера с выходящими из нее лучами, похожая на недавно виденную над дверью.
— Данте, что все это значит?
— Вы находитесь в святилище, состоящем на попечении Совета Пяти — правящего органа «Rex Deus». — Кристофоро вынул из кармана миниатюрное электронное устройство и что-то в нем проверил. — Через час они прибудут сюда. Их ежегодное паломничество — дань уважения тому, что вы привыкли считать Святым Граалем.
Романо слушал, не веря своим ушам. Все здесь более походило на сон, чем на явь.
— Что именно вы называете Святым Граалем?
— Святейшую из реликвий «Rex Deus». — Кристофоро кивнул в сторону Бритт: — Бриттани и в самом деле проделала исключительную работу, собирая материал для своей книги — помимо моего содействия. У Совета имеется копия уже готовой к публикации рукописи и образцы ее исследовательских заметок. Ее догадка верна: «Rex Deus» — потомки двадцати четырех верховных жрецов храма Ирода в Иерусалиме. В ритуальных целях их называли по именам архангелов. На верховных жрецов возлагалась обязанность не только обучать детей в двух школах, где мальчики и девочки содержались отдельно, но также оплодотворять юниц, достигших детородного возраста. Далее девушкам подыскивали подходящие брачные партии среди зажиточных мужчин общины, а дети, рожденные в таком союзе, в возрасте семи лет возвращались для воспитания обратно в храм. Эти сведения особенно важны в свете единственной цитаты в Библии, касающейся юных лет Иисуса Христа: там упоминается его беседа с верховными жрецами в самом храме.
Романо крайне недоверчиво воззрился на Кристофоро и произнес:
— Вы же образованный и уважаемый человек, священник, знаток Библии… Неужели вы будете утверждать, что все Евангелия ошибочны? Есть ли хоть какие-то доказательства подобному вымыслу?
Тот приблизился к контейнеру с саркофагом:
— Устные предания, сохраненные членами «Rex Deus», повествуют, что мать Иисуса Мария забеременела от верховного жреца, известного как Гавриил, после того, как его посетило божественное видение. В Евангелии от Луки есть упоминание этого события: «Ангел, вошед к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна ты между женами».[647]
Романо вслед за Бритт и Кристофоро приблизился к резному саркофагу, напоминающему экспонат с выставки, посвященной Тутанхамону. Контейнер, заключавший его, был обнесен по периметру невысоким ограждением.
— Вы хотите сказать, что не считаете Иисуса Христа сыном Бога Отца?
— Почему же, отнюдь нет, — отозвался Кристофоро. — Исходя из наших устных преданий, мы верим, что Иисус был одновременно духовным Сыном Божьим и обычным человеком — таким, как все остальные. Христос следовал закону Господа, потому что так повелел Его небесный Отец, но физически он сам не был Богом, а только Его посланником. Даже в Евангелиях говорится о духовной сущности Иисуса. «Rex Deus» по своим целям и устремлениям — секта гностиков, сохранившая изначальное учение Иисуса и взявшая на себя обязательство поддерживать Его родословную.
Романо указал на свиток в другом стеклянном ящике:
— А это, надо понимать, печально известное Евангелие от Иакова?
Кристофоро кивнул:
— Вначале Иаков порицал деятельность своего брата, и только после смерти Иисуса он согласился принять христианство, чтобы возглавить церковную общину в Иерусалиме. Впрочем, он и тогда не перестал следовать иудейским законам и неустанно осуждал принципы, проповедуемые Павлом. Тем не менее именно они приобретали все большее распространение среди христианского сообщества. Этот папирус написан на арамейском, и радиоуглеродный анализ отнес его к эпохе Иисуса. В Совете считают, что записи сделаны рукой Иакова; они доносят до нас правдивую повесть о распятии и воскресении. Это главное зримое свидетельство нашего учения, поощряющее взятое нами обязательство сохранять Христову родословную.
— Но если Иаков порицал деятельность Иисуса, в его рассказе непременно будут расхождения со свидетельствами апостолов, верно? — Бритт с улыбкой поглядела на Романо. — А теперь, Джозеф, я не против выслушать ваши возражения. Как видите, народ не очень-то охотно верил в воскресение после смерти. Только представьте, что бы началось, если бы о таком объявили сейчас, в наши дни!
— Кроме этого документа есть другие доказательства, что Христос в действительности сын верховного жреца? И что его родословная существует и поныне? — спросил Романо.
— Евангелие от Иакова обнаружили всего три года назад в Египте. Его нашел председатель нашего Совета Пяти, а до тех пор история ордена передавалась из уст в уста его членами. Они и несут ответственность за сохранение наших самых священных реликвий.
Кристофоро указал на контейнер с саркофагом, но в этот момент приборчик в его руке запищал, и отец Данте кинулся к выходу:
— Они прибыли! Я должен пойти и поприветствовать их. Вы здесь в полной безопасности.
И он исчез за дверью, которая автоматически закрылась за ним.
91
Первый из лимузинов объехал с тыла стойла, расположенные у конюшни. Водитель щелкнул пультом, и огромная створка из рифленой стали отползла в сторону, открыв внутренности вместительного гаража, где уже стояли два темных фургона и серебристо-серый «ситроен».
— Я побуду в машине, пока не подъедут остальные, — сказал шоферу Фортье.
Он не любил конные фермы — и вообще все связанное со скотом. Навозной вони он, признаться, предпочитал легкие океанские бризы Монте-Карло. Впрочем, даже Фортье понимал, сколь удачным прикрытием для их подземного комплекса служат эти хозяйственные постройки. И они исправно выполняли свою функцию на протяжении более сотни лет. Их было легко обезопасить, а проникнуть внутрь — просто невозможно.
Когда в гараж въехал третий лимузин и створки за ним закрылись, Фортье присоединился к четверым членам Совета. Все вместе они прошли через конюшню к лифту, чтобы сразу же спуститься в комплекс. У всех были с собой портфели и ноутбуки с важнейшей информацией их общей финансовой империи касательно кризиса, постигшего святой орден. Оказавшись внизу, Фортье открыл кодовый замок на дверях конференц-зала. Войдя внутрь, он не сразу нашелся что сказать: на столе и на окружающих его стульях была раскинута красная атласная материя, а по центру ее помещен золотой крест.
— Что, черт возьми, это все значит? — поинтересовался Ран.
— Вероятно, Гавриил постарался. — Все подошли к столу, и Фортье поднял покров за уголок. — Только он имеет доступ в зал.
С этими словами он потянул на себя материю, и членам Совета предстало жуткое зрелище: на столе, на перекрестье двух красных атласных полос, лежал синюшно-бледный Михаил.
Руки отца Ганса Йозефа были раскинуты в стороны, лодыжки скрещены, а на тело нанесены стигматы. Глаза трупа были устремлены в потолок, словно ища защиты у Господа.
Фортье стремительно обернулся и кинулся к дверям, которые сошлись, едва члены Совета вошли в зал. Он пропихнул палец в считыватель — ничего! В панике Фортье набрал запасной код — не работает! Он заметил, что сигнальные лампы системы погасли. На всякий случай председатель потянул за рычаг ручного аварийного управления, но дверь не тронулась с места. Он подумал, что Гавриил, должно быть, лежит где-нибудь в комплексе в том же состоянии, что и Михаил. Или Гавриил и есть убийца?!
92
— Вы понимаете, что здесь происходит? Чего добивается Кристофоро? — поинтересовался Романо.
— Он вроде бы сказал, что собирается устранить угрозу, которую «Rex Deus» несет христианству. Это все, что я знаю.
— Тогда он мог просто уничтожить все, что есть в этом хранилище. Как же в таком случае быть с отрывком из Евангелия, который сейчас лежит у вас в сейфе?
— Он признался мне, что это подделка: папирус взят от подлинного Евангелия, а чернила использованы современные. Кристофоро утверждает, что уже отправил нам обоим письма с разъяснениями. Теперь нужно только подвергнуть экспертизе сами письмена, и обнаружится, что это подлог.
— Но ведь мы-то с вами знаем правду. Все, что он тут нам рассказывал, будто бы подтверждает пресловутую теорию о родословной. Осведомлены о ней и члены Совета Пяти. Он что, теперь их убьет?
От воодушевления Бритт не осталось и следа. Вместо этого она едва не задохнулась от страха:
— Вы думаете, это он убивал священников?
— Ему ничего не стоило добраться до них: его пост помощника отца-магистра вполне это позволяет. А каков его статус в «Rex Deus»?
— Понятия не имею.
Романо подошел к двери и вскоре убедился, что выйти из помещения может только тот, кто обладает нужным отпечатком пальца или знает код.
— Без Кристофоро нам отсюда не выбраться. — Он задумчиво смотрел в пол. — Это нехорошо. Что касается церковной доктрины, Кристофоро — закоренелый консерватор. И даже хуже, учитывая, что он иезуит. В нашем ордене ходят шутки, что в будущем отец Кристофоро видит себя на месте отца-магистра. Тогда ничто не помешает ему возродить идею о Черном Папе и бросить вызов папскому престолу. Он — экстремист по самому образу мыслей. Но за одно его суждение уже можно ручаться: Кристофоро считает отцов Метьюса, Маттео и Синклера продолжателями родословной.
Бритт ступила в круг неяркого золотистого света, изливающегося сверху на стеклянный контейнер, и стало видно, как побледнело ее лицо.
— Что же тогда будет с нами?.. Ведь мы знаем правду, значит, мы тоже опасны?
93
Кристофоро отключил компьютерную систему безопасности и разбил модуль, контролировавший главные двери. Мониторы мигнули и окончательно погасли. Еще раньше он вывел из строя аварийную систему и заблокировал ручное управление запасного выхода. Теперь из комплекса никто не сможет выбраться наружу. Затем Кристофоро нажал кнопку таймера, установленного под столом в комнатке видеонаблюдения, и, убедившись, что прибор начал мерно отсчитывать секунды, отправился обратно к Святому Граалю. Утешительно было думать, что последний шаг к завершению своей религиозной миссии он сделает рука об руку со своей сестрой-близнецом.
Тяжелая дверь отошла на этот раз не с мягким гулом, а со скрипом: серводвигатели больше не работали. Романо немедленно обернулся к Кристофоро:
— Что тут происходит? Что вы собираетесь делать? И что будет с нами?
Кристофоро первым делом подошел к Бритт и обнял ее за плечи, а потом ответил:
— В Совете Пяти меня называют Гавриилом. Я — последний из Ближнего Круга, Христовой родословной, о которой Бритт пишет в своей книге. Давным-давно нас называли Desposyni, что значило «потомки Учителя». Затем нас стали именовать Le Serpent Rouge — род Христа, охвативший юг Франции.
— Не может быть… — произнесла потрясенная Хэймар.
— Может, милая сестренка! И близнецы в нашем роду не редкость. В апокрифическом Евангелии от Фомы и в Деяниях Фомы есть ссылки на то, что у Иисуса мог быть брат-близнец, один из апостолов, поскольку само имя Фома на древнееврейском служило прозвищем именно для близнеца. Мария Магдалина тоже родила двойню — мальчика и девочку.
Бритт отстранилась от его объятий и спросила:
— Откуда в вас такая уверенность, что все это правда и что родословная действительно существует?
— О, она существует! И «Rex Deus» на протяжении столетий очень тщательно соблюдал ее непрерывность и чистоту. — Кристофоро указал на свиток: — Я верю в то, что физическое тело Иисуса умерло на кресте, как это передавали из уст в уста многие поколения нашего ордена и как написано в Евангелии от Иакова. Но его родословная, начатая Марией Магдалиной, пришедшей смотреть на распятие уже беременной, была и остается наследственностью обычного смертного. Я считаю, что Бог предназначил Христу покинуть этот мир, оставив людям завет следовать по Его стопам. A «Rex Deus» буквально воспринял Его наставления, возложив на себя обязанность сохранять род Господень до Второго Пришествия. — Кристофоро патетически воздел руки: — Если Бог мог сотворить мир и все в нем, то зачем Ему «Rex Deus» для сохранения родословной?!
— Почему же никто до вас не сомневался в ее истинности?
— По моему мнению, сама идея сохранения рода Христова до Второго Пришествия продуцирована человеческим разумом, а не Божьей волей. Бог дал людям возможность рассуждать, Он наделил их силой воображения. Именно разум сначала увлекся этой идеей, а уже потом члены «Rex Deus» вообразили, что их первейшая обязанность — продолжать родословную Христа. Вероятнее всего, огромное богатство, которым распоряжался орден, и явилось базой для увековечения мифа.
— О каком богатстве идет речь? — поинтересовалась Бритт.
— Общество «Rex Deus» создало орден тамплиеров, что бы легче было искать Святой Грааль и несметные сокровища, зарытые под храмом Соломона. На эти деньги они смогли создать в Европе единую банковскую систему и начали финансировать орден иезуитов в обмен на то, что те скрывали и сохраняли чистоту родословной до самого Второго Пришествия. Таким образом, чтобы следовать стопами Христовыми, «Rex Deus» придумал превосходный тайник в самом лоне церковной паствы.
— Я не совсем понимаю, — перебила Бритт. — Что, если эта легенда правдива? Вы хотите уничтожить то, что должны оберегать, — волю Господню?
Кристофоро покачал головой:
— Именно потому я и собираюсь это сделать. Если бы мое намерение противоречило воле всемогущего Бога, я бы не смог его осуществить. Неизвестное Евангелие от Иакова было найдено три года назад, и это событие заставило меня еще раз взвесить последствия нашего дела и его потенциальную угрозу для христианства. В документе говорится, что Господь явился Иакову и попросил сохранять Святой Грааль и Его мужскую наследственность до Второго Пришествия. И бесценный Святой Грааль, и Евангелие от Иакова, подкрепленные свидетельствами пятерых ведущих европейских банкиров — потомков королевской крови, поставили бы церковь перед нешуточной угрозой.
— Что такое Святой Грааль? — указал Романо на саркофаг. — Если это прах Марии Магдалины, как теоретизировала в своей книге Бритт, то Богу это разве не все равно?
— Статуя Марии Магдалины — это оссуарий для ее праха. — Кристофоро кивнул на изваяние в углу помещения, а затем широким жестом обвел контейнер с саркофагом: — Вот где хранится подлинный Святой Грааль. Это неправильный перевод слова «sangraal», которое на самом деле должно звучать как «sang raal», что на старофранцузском значит «королевская кровь». Поэтому в действительности Святой Грааль — мумия Иисуса Христа.
Романо и Хэймар недоверчиво переглянулись.
— Апостолы Христа умастили Его тело и завернули в холст, а затем тайно переправили в Египет, где оно было мумифицировано и сокрыто в подземелье Иерусалимского храма. Позже рыцари-тамплиеры обнаружили мумию наряду с несметными богатствами, и она перешла на хранение к «Rex Deus».Именно ее спасали четверо членов Ближнего Круга, спускаясь по скальной крутизне во время осады катарского Монсегюра. Они спрятали ее в пещере неподалеку от Ренн-ле-Шато, где она пролежала до восемнадцатого века. Позже Святой Грааль был тайно погребен в склепе одного из аристократических семейств. Когда аббат Беранже Соньер раскрыл секрет захоронения, он запросил у «Rex Deus» выкуп за него, и пятеро глав европейского Совета Пяти навестили его и заплатили священнику за возвращение реликвии и за его молчание. После этого они выстроили этот сверхнадежный комплекс, где и разместили обретенные святыни.
— Подвергались ли эти останки экспертизе? — поинтересовался Романо, опершись на стеклянный контейнер. — Есть ли доказательства, что здесь действительно покоится тело Иисуса Христа?
— Нынешний состав Совета Пяти поднимал вопрос об анализе Грааля, но председатель Кристиан Фортье выступил против, заявив, что, потревожив священные останки, мы совершим богохульство. После того как обнаружилось Евангелие от Иакова, Совет отверг необходимость экспертизы, поскольку документ и так подтверждал наши устные предания. — Кристофоро взглянул на часы и обошел контейнер, встав напротив Романо: — Впрочем, теперь это уже не важно. Я уверился в том, что традиция «Rex Deus» полностью построена на лжи — или, по крайней мере, на искажении истины. Отец Хуан Маттео — Уриил, отец Тэд Метьюс — Рафаил, отец Натан Синклер — Мазальдек, отец Ганс Йозеф — Михаил, я сам — Гавриил: мы последние представители родословной.
— Но отец Ганс Йозеф сейчас в Вене, — потрясенно произнес Романо.
— Он вылетел сюда сразу после встречи с вами. Я попросил Михаила поспешить ради его же собственной безопасности, — ухмыльнулся Кристофоро. — Члены Совета Пяти в этот момент, вероятно, таращатся на его тело, распростертое на столе в конференц-зале. — Он снова проверил время: — Совсем скоро и я, последний из последних, присоединюсь к своим братьям, а Совет Пяти и эти священные реликвии исчезнут с лица земли.
Только теперь Романо догадался посмотреть в глаза Кристофоро — и разглядел в них сосредоточенность и внимание, граничащие с одержимостью. Зрачки у отца Данте были расширены, словно его посетило видение — сродни тем, что, по свидетельствам истово верующих, случаются при нисхождении Святого Духа. Романо перевел взгляд на Бритт и понял, что она пришла к тому же выводу: живым им отсюда не выбраться.
94
Бритт почувствовала, как ее захлестывает волна гнева. Ее брат оказался вторым Дэвидом Корешем, и вся история грозила обернуться новым инцидентом в Уэйко.[648] Он собирался лишить жизни и себя, и тех, кто, по его мнению, представлял опасность для созданного им извращенного образа — плода странного религиозного мифа. Все это так живо напомнило Бритт Средневековье с гонениями на еретиков и сжиганием ведьм на кострах, что ее даже затошнило. Она потеряла и сына, и мужа, потому что не знала о своей генетической наследственности, а теперь и Джозефу придется погибнуть по этой же при чине. Но ведь Кристофоро — ее родной брат. Может быть, еще удастся убедить его, что он ошибается?
— А что случится с вашими будущими потомками? — спросила Хэймар. — Где же дети нового поколения?
Кристофоро, хитро улыбаясь, выдержал ее взгляд:
— Ты, моя дорогая сестренка — наглядный пример тому, что случилось с родословной. Из-за близкородственных браков возникли проблемы с наследственностью. Ты могла бы стать идеальным вместилищем нового поколения, но вместо этого тебя отстранили от выполнения этой задачи и отдали на усыновление — ведь ты носительница гена Тея-Сакса. Кандидаты в Ближний Круг все чаще рождались с серьезными генетическими мутациями, и их приходилось выбраковывать.
— Почему же не позволить Богу и природе самим разрешить эту проблему? — предложил Романо.
— Потому что эмбриональные исследования и чудеса криоконсервации подсказали Совету Пяти другой выход. Они решили, что новое поколение нашей родословной будет ждать Второго Пришествия Господа в криогенной камере, в виде эмбрионов. — Кристофоро слегка склонил голову набок и посмотрел прямо в глаза Романо: — А вы были знакомы с одной из трех избранных производительниц этих эмбрионов. Честное слово, нагнали вы страху на членов Совета, когда им стало известно про вас с Мартой.
Романо вздрогнул и попятился. Голос его дрожал, когда он спросил:
— Что с ней случилось?
Кристофоро с сожалением покачал головой:
— Только те пятеро в конференц-зале могут сказать, что с ней случилось и где хранятся эмбрионы. И только они знают на память секретные коды доступа к этим зародышам. Никаких записей на этот счет не существует, и когда эти люди умрут, вместе с ними умрет и будущее.
— Но вы нарушаете Божью заповедь: «Не убий»! — вскрикнула Бритт. — Это не повод: убивать, чтобы спасти церковь! Если она существует по воле Бога, то выживет, несмотря ни на что. За два тысячелетия церковь уже прошла через столько испытаний…
— Стоит вам уничтожить эти артефакты, и у ваших соратников не останется никаких доказательств для своих притязаний. У них не будет никакой возможности подтвердить, что вы или те эмбрионы родственны Христу. Остановитесь же! — призывал Романо.
— Слишком поздно. Из этого комплекса нет выхода. Взрывное устройство, которое я заложил, сработает через несколько минут и уничтожит все остатки ереси. Поверьте, это безболезненно. — Он окинул Хэймар и Романо холодным взглядом. — Будет похоже на Армагеддон. — В его расширившихся глазах проступила зловещая сила: — А может, это и есть Армагеддон. Может, взрыв ознаменует начало Судного дня и в нем — кто знает? — свершится воля Господня.
Бритт охватила дурнота. Она придвинулась ближе к Романо. Кристофоро меж тем простер к ним обоим руки над стеклянным контейнером:
— Давайте соединим наши длани и помолимся над телом Господа нашего.
Бритт испытывала одновременно и гнев, и страх, но по мере того, как она вглядывалась в лицо своего брата-близнеца, страх исчезал, уступая место неприкрытой ярости.
95
Романо все еще не мог оправиться от потрясения, связанного с правдой о Марте, но теперь у него была более насущная задача: спасти жизнь Бритт и свою собственную. Он склонился над стеклянным контейнером и схватил Кристофоро за руку, а сам меж тем оглядывал комнату. Бывший дверной проем за это время полностью слился с черной стеной.
— С ума вы сошли, что ли? — взвизгнула Бритт. — Мы все здесь умрем!
Романо покрепче стиснул Кристофоро за руку и удивился, до чего она ледяная на ощупь. Сильно дернув более хилого противника на себя, он сцапал отца Данте за волосы и расплющил его лицо о поверхность контейнера. Тот яростно рванулся, и тогда Романо уже обеими руками схватил его за голову и снова изо всей силы припечатал ее о стеклянный ящик. На этот раз тело Кристофоро обмякло и сползло на пол. Ногой Романо выбил из пазов поручень и с его помощью разбил ларец с манускриптом. Засунув свиток себе за пазуху, он посмотрел на Бритт — она застыла над телом Кристофоро, во лбу у которого зияла кровоточащая рана. Она с ужасом спросила:
— Что нам теперь делать? Он сказал, что выхода нет…
Романо схватил ее за руку и потянул к дверце в дальнем углу помещения:
— Но ведь свежий воздух как-то сюда поступает.
Он с силой рванул на себя дверь и втащил Бритт в каморку, набитую хитроумными приборами, отвечающими, по всей видимости, за климат-контроль помещений внутри комплекса.
— Наш единственный шанс выбраться отсюда — найти вентиляционную шахту.
Единственным освещением в каморке служили зеленые и красные огоньки индикаторов на панели воздуходувного и фильтрационного оборудования. Романо вынул из кармана связку ключей на цепочке, к которой был прицеплен точечный фонарик «ЛЭД», и попытался осмотреть помещение с помощью едва заметного луча. В углу он заметил воздуховод, соединяющий манипулятор с вентиляционной отдушиной в стене. Сняв с шеи подаренный отцом Тэдом железный крест, священник использовал его как отвертку: короткая перекладина креста легко вошла в щель одного из крупных шурупов вентиляционной сетки. Затем ножкой креста как рычагом он стронул с места оставшиеся скрепы и, светя фонариком, помог Бритт забраться в оцинкованный воздуховод, напутствуя при этом:
— Ползите вперед так быстро, как только сможете. Я понятия не имею, сколько у нас осталось времени, но мы должны быть у внешнего вентиляционного источника до того, как здесь наступит кромешный ад.
Полая труба стыковалась с другой, а через несколько метров перешла в темный, выбитый в скале туннель. Романо схватил Бритт за пятку:
— Позвольте, я полезу первым. — Он протиснулся мимо нее в узком пространстве скального коридора. — Вы с непривычки продвигаетесь медленно, а я в свое время много лазил по пещерам — правда, при совершенно других обстоятельствах. В случае затруднения я вас предупрежу, а пока — не отставайте.
Бритт ухватилась за его штанину:
— Не волнуйтесь, как только я вас упущу, сразу начну вопить. Я вообще-то не очень люблю темные и тесные углы.
— Просто не думайте об этом — ползите, и все. Сегодня утром, когда я бегал к Ренн-ле-Бэн, видел несколько входов в пещеры. Ничего, выберемся.
Романо пополз вперед: ему хотелось оказаться как можно дальше от комплекса в момент взрыва. Туннель вывел их к небольшому залу со сводчатым потолком, с которого, словно сосульки, свисали сталактиты, а чуть дальше угадывалась расщелина в горной породе. Высота свода позволила Романо встать на ноги и почти выпрямиться. Он помог Бритт подняться, чтобы она немного передохнула, пока он высматривает, куда им двигаться. К сожалению, тусклого голубоватого лучика его фонаря было недостаточно, чтобы осветить темные скальные полости; он понимал, что система пещер может растянуться под землей на несколько миль и насчитывать множество выходов наружу — и столько же тупиков.
— Постойте пока, отдохните, — сказал он Бритт, — я пройдусь по периметру зала и посмотрю, как лучше отсюда выбраться.
— Не оставляйте меня одну в темноте, — дрогнувшим голосом попросила Хэймар.
— Не бойтесь, вам будет виден мой фонарик.
Неожиданно пол под ними сотрясся, и вслед за этим издали стал нарастать громкий гул. Романо схватил Хэймар в охапку, увлекая ее в угол пещеры, и там толкнул наземь, а сам упал сверху. Последовала череда взрывов в сопровождении ярких вспышек, осветивших туннель, откуда только что вылезли беглецы. Грохот стоял оглушительный; несколько сталактитов отломились и разбились на камнях на мельчайшие частицы, разлетевшиеся по известковым наростам. Романо, прикрывавший Бритт своим телом, чувствовал, как ее всю трясет. Наконец он откатился в сторону и помог ей сесть.
— С вами все в порядке?
Хэймар провела дрожащей рукой по волосам, затем стиснула голову в ладонях:
— Наверное, раз мы оба живы, мне не пристало жаловаться.
Романо поднялся на ноги и двинулся в обход залы, поворачивая луч фонарика к Бритт через каждые несколько шагов. Выход он обнаружил только один — довольно узкий, зато священника перестал мучить страх, что в этой подземной полости не окажется ничего, кроме трещин.
— Сюда.
Он посветил на пол, чтобы Бритт смогла к нему подойти. Романо очень надеялся, что узкая расселина не уведет их еще глубже в подземный лабиринт. В темно-бурой известковой породе отпечатались ведущие к щели едва приметные желобки: вполне вероятно, что грунтовые воды прокладывали себе здесь путь к одному из подземных потоков. Священник подумал: было бы прекрасно, если бы стремнина в конце концов вывела их к одному из ручьев, которые, он помнил, во множестве протекали в низине Ренн-ле-Бэн.
Романо на спине протиснулся в узкую расщелину, затем перевернулся на живот и посветил лучом в проход. Ему сразу полегчало: насколько хватало его слабого источника света, было видно, что трещина дальше еще сильнее расширяется. Он помог Бритт пролезть в щель, и они вместе поползли дальше — до тех пор, пока Романо не услышал вдалеке шум потока. Туннель выходил прямо к подземной реке, и вскоре она полностью преградила им путь, заполнив собой весь подземный коридор, кроме узкого пространства над поверхностью воды.
Романо ухитрился сесть на корточки и попросил:
— Только не паникуйте: нужно ненадолго убрать свет.
Бритт на коленях подползла к нему и ухватилась за его плечо:
— Что нам теперь делать?
— Молитесь, чтобы эта речка вывела нас к еще одному широкому коридору и как можно ближе отсюда. А еще лучше, чтобы она впадала в настоящую реку, которая течет не во тьме, а на свету.
Он выключил «ЛЭД», и их окутала почти осязаемая тьма. Бритт сильнее сжала священника за плечо, он почувствовал, как ее ногти впиваются ему в кожу. Романо изо всех сил напрягал зрение, всматриваясь в невидимый поток, но в чернильном мраке только слышал журчание бегущих струй. Было очевидно, что поток не выходил наружу — по крайней мере, не в непосредственной близости, иначе в этой адской бездне их обнадежил бы хоть проблеск света. Романо снова включил «ЛЭД», и Бритт слегка разжала пальцы. Передавая ей фонарик, он пояснил:
— Остается одно: я должен проверить, выводит ли эта протока к какому-нибудь коридору.
— Но вы же не собираетесь лезть в воду?
Священник уже стягивал с ног кроссовки «Найк»:
— У вас найдутся предложения получше?
Он снял с себя крест и тенниску, обмотав ею свиток папируса, и вручил их Бритт:
— Вот, отдаю на хранение. Через минуту вернусь.
Затем он сполз в воду и тут же содрогнулся: вода, доходившая до пояса, показалась священнику ледяной. Страх заполонил его, сжав все внутри, будто тисками: Джозеф всегда боялся подземных потоков. Он полностью окунулся, чтобы быстрее привыкнуть к холоду, и, вынырнув на поверхность, улыбнулся Бритт, стараясь не выдать свои опасения. Он понимал, что сильно рискует, но ничего другого не оставалось. Под потолком туннеля обязательно должны быть воздушные пазухи, но они ему вряд ли пригодятся: слишком слаба надежда обнаружить их в этой смоляной тьме. Зато течение было несильным — этот фактор мог оказаться решающим в случае необходимости вернуться за глотком ценного кислорода. Романо сделал три глубоких вдоха — и скрылся среди темных струй.
96
Когда священник исчез в говорливом потоке, Хэймар затаила дыхание. Секунда проходила за секундой, и ею снова понемногу овладел страх. Вдруг до нее дошло, что она одна сидит в сырой и холодной пещере, словно в западне. Осознав весь ужас своего положения, она задрожала всем телом. Фонарик Бритт держала близко к воде, направляя туда его слабый луч, надеясь, что он послужит священнику маячком на пути назад, к ней. Она не отводила взгляда от тусклого мерцания, растворявшегося в темноте у самой поверхности, и не смела даже моргнуть, ведь Романо мог появиться в любой момент. Она чувствовала, что потеряла счет времени, и не знала, сколько в точности прошло секунд или минут с тех пор, как он ушел. Ей казалось — уже предостаточно. Бритт сильнее стиснула зубы — священник все не возвращался.
Неожиданно рядом раздался громкий всплеск, и Романо наполовину высунулся из воды. Задыхаясь, он привалился спиной к скальному выступу, ненароком опершись головой о ее колено. Немного придя в себя, он взглянул на нее и спросил:
— Вы хорошо плаваете?
— Лето на пляжах я не проводила, с тренером не занималась, и дома у меня бассейна не было. Плавать могу, но, наверное, неважно.
Романо выбрался из воды и присел рядом с Бритт.
— Этот коридор еще на какое-то расстояние заполнен водой, но в конце виден тусклый свет — там есть другой туннель, и он, скорее всего, ведет наружу.
Священник расшнуровал кроссовки и надел их. Затем он взял у Бритт рубашку и крест, разомкнул его массивную цепочку и прицепил ее одним концом к поясу брюк, а к другому концу шнурком привязал обернутый тенниской сверток. Второй шнурок послужил для соединения свертка с петлей для ремня на поясе Бритт. Романо улыбнулся:
— Теперь вы не сбежите от меня вместе с манускриптом.
Хэймар ощутила, что не может справиться с паникой: на нее напало оцепенение.
— Даже не знаю, справлюсь ли я… Вы и сами, кажется, еле-еле смогли.
Священник забрал у нее фонарик, прицепил к брючному поясу, затем крепко взял женщину за плечи и произнес, глядя ей прямо в глаза:
— Поверьте, вы тоже сможете. Сейчас мы окунемся в воду. Она немного холодновата, но это ничего — будете плыть активнее, чтобы скорее выбраться. Сначала нужно сделать три глубоких вдоха, на последнем задержать дыхание и под водой не отставать от меня. Брыкайтесь и лягайтесь так, как еще никогда в жизни.
Хэймар кивнула. Романо сполз обратно в воду и протянул к ней руки, затем приподнял и поставил рядом с собой. Вода оказалась гораздо холоднее, чем думала Бритт. Она немедленно начала дрожать, но священник скомандовал: «Раз!» Хэймар набрала в грудь как можно больше воздуха, и они вместе выдохнули. «Два!» — на этот раз вдох получился куда глубже. «Три!»
97
Двум французским «рено» оставалось всего несколько километров, чтобы доехать до Ренн-ле-Шато, как вдруг от близлежащего горного пика до агента Катлера донесся гул, а вслед за ним — убыстряющаяся череда из четырех взрывов. Его французский коллега весь напрягся, затем затормозил и, вытягивая шею, начал вглядываться в ту сторону, где только что грохотало. Катлер указал ему на столб дыма, взметнувшийся неподалеку.
— Вон там взорвалось. Там что?
— «Трактир Лошади». Конная ферма и гостиница. Это одно из мест, где могли остановиться ваши подозреваемые.
— Будем надеяться, что там хоть что-нибудь сохранилось.
Француз нажал на газ, и машина рванулась по направлению к клубам дыма, уже поднявшимся выше верхушек деревьев. На повороте «рено» заложил крутой вираж, а Катлер, прижатый ремнем безопасности, задался вопросом, не пополнили ли Романо и Хэймар печальную статистику по этому делу.
98
Романо выволок Бритт из воды и поставил в туннеле на ноги. Она отплевывалась и кашляла, пытаясь выровнять дыхание, а он тем временем отвязал от их поясов сверток и зашнуровал кроссовки, затем отжал рубашку и надел ее. Вслед за этим священник тщательно выгнал воду из промокшего насквозь папируса и сунул его к себе за пазуху.
Бритт понемногу приходила в себя: она убрала с глаз на липшие на лицо пряди, надула щеки, сильно выдохнула и наконец смогла взглянуть на Романо:
— Очень надеюсь, что подземных потоков больше не будет. Вы даже не представляете: еще чуть-чуть — и мне бы пришел конец…
Священник выключил фонарик, но Хэймар взмолилась:
— Пожалуйста, оставьте!
Тогда он привлек ее к себе, взяв за плечи:
— Ну-ну… Видите вон там, в конце коридора, полусвет — это и есть наш билетик на выход. — Он обнял ее крепче: — Обещаю, плавание на сегодня закончено.
Затем Романо снова включил фонарик и пополз вперед:
— Не отставайте же!
Бритт, ухватившись за его кроссовок, откликнулась:
— Можете не сомневаться — не отстану.
Полумрак впереди все больше разрежался. Через несколько минут, протиснувшись за очередной скальный выступ, Романо увидел столб света, отвесно падающий на стену туннеля. Добравшись до отверстия, наглухо заросшего травой и лозой, Романо прорвался сквозь зеленый покров и выполз на склон высокого холма. Он обернулся, чтобы помочь выбраться и Бритт, но она уже выкарабкалась сама. Ухватившись за его руку, она выпрямилась, затем обняла священника и спрятала голову у него на груди. После зябкой пещеры и ледяной воды Хэймар тряслась от холода и все крепче стискивала его в объятиях, а он поглаживал ее по спине и по плечам: оба грелись в теплых утренних солнечных лучах.
Бритт, качая головой, поглядела на священника:
— Черт, вот так история!.. В голове не укладывается…
— Действительно. Однако же факт. Убийства на этом закончились, а вопросы, скорее всего, остались.
— Что мы теперь будем делать?
Романо огляделся и увидел, что в направлении трактира над одной из вершин вздымается дымовой столб, а внизу, у подножия холма пролегает узкая извилистая горная дорога. Там уже слышался вой сирен: мимо на всей скорости промчалась красная пожарная машина, за ней — еще несколько автомобилей.
— Давайте спустимся к дороге, — решил Романо. — Мы, вероятно, не очень далеко от трактира. Может быть, здание не пострадало и наши вещи и паспорта целы.
Сквозь подлесок они продрались к шоссе. Священник, обернувшись к Бритт, похлопал себя по груди, где лежал за пазухой свиток:
— Не знаю, как вы, но я и сейчас не сомневаюсь, что многое остается невыясненным в том, о чем с нами откровенничал Кристофоро. Поэтому я призываю вас вместе изучить все данные и тщательно их взвесить, а только потом делать выводы. История «Rex Deus» и Христовой родословной покрыта мраком; вы же помните, Кристофоро называл богатство и власть главными побудительными мотивами для Совета Пяти.
— Что ж, если вы больше не станете уличать меня в сокрытии истины…
Романо с чувством сжал ее руку:
— После того что выпало на нашу долю, надеюсь, мы оба заинтересованы выяснить ее. В жизни хватает всякого рода иллюзий; если «Rex Deus» — долгоиграющий миф, мне очень бы не хотелось принимать участие в его возобновлении.
— Каков бы ни был исход, некоторых скандальных подробностей все же не избежать.
— Думаю, ваша будущая книга — прекрасный плацдарм для выстраивания их в надлежащем порядке. — Взглянув на Бритт, Романо почувствовал, что его академический настрой куда-то улетучился. — Смею надеяться, что теперь вы сможете доказать свои излюбленные теоремы, опираясь в первую очередь на наглядные доказательства. — Он еще раз похлопал по папирусу у себя за пазухой: — Это ваше. Буду счастлив подключить к переводу свои познания в арамейском.
Хэймар вежливо улыбнулась:
— Считайте, что уже получили приглашение. И надеюсь, вы не откажете мне в профессиональной критике, когда будет готова моя книга.
— Можете на меня рассчитывать — если, конечно, не опасаетесь предвзятого мнения.
Они зашагали к трактиру и, выйдя на шоссе, убедились, что главный его корпус разрушения не затронули. Дым валил со стороны конюшни — там пожарные уже заливали из брандспойтов языки пламени. Рядом с гостиницей стояло несколько автомобилей, собравшаяся толпа глазела на работу пожарного расчета.
Романо и Бритт были на полдороге по подъездной аллее, когда двое из стоявших у трактира людей вдруг поспешно сели в «рено», и автомобиль, завизжав тормозами, вскоре остановился рядом. Из него вышел человек и предъявил удостоверение.
— Отец Романо, надеюсь, вы меня помните. Агент Катлер, ФБР. — Он сделал приглашающий жест сидящему за рулем напарнику, и тот неуверенно приблизился. — Это агент Ги Резон, французский сотрудник Интерпола. — Поглядев на Бритт, Катлер осведомился: — А вы, если не ошибаюсь, профессор Бриттани Хэймар.
Она кивнула. Катлер двинулся к машине.
— Мы подвезем вас до трактира, вы там обсохнете, а потом, надеюсь, посвятите нас в то, что здесь произошло.
— Непременно, — отозвался Романо. — Жаль только, что вы не приехали несколькими часами раньше: это могло спасти еще шесть-семь жизней.
Катлер изумленно оглянулся на священника:
— Уж не хотите ли вы сказать, что сами избежали смерти потому, что повинны в гибели всех остальных?
— На самом деле мы должны были стать номерами восемь и девять, — ответил Романо, садясь в машину.
Они доехали до трактира, и там священнику и Бритт позволили принять душ и переодеться. Получив по кружке горячего кофе, они по отдельности были допрошены сначала Катлером, затем Резоном, потом еще двумя французскими агентами. Через час оба спустились в ресторан гостиницы, где их уже ждали все те же Катлер и Резон.
— Интерпол дал согласие отпустить вас со мной под мою ответственность, — сообщил им агент ФБР. — Мы вместе полетим в Марсель, где вы дадите официальные показания, а затем я препровожу вас обратно в Штаты, где мы детально во всем разберемся.
Бритт слабо улыбнулась, но для Романо этого было достаточно. Кошмар закончился, хотя тревога пока оставалась. Так бывает в первые минуты после грозы: кажется, что в наступившем затишье вот-вот снова блеснет молния или раздастся удар грома. Предстояло еще выяснить все о Евангелии от Иакова, о «Rex Deus» и о родословной. Что там правда, а что — фикция?..
Романо ощутил во всем теле неприятную дрожь: его донимала назойливая мысль о том, что спасенное им и неизвестное доселе Евангелие может вызвать последствия, угрожающие святости самой церкви.
99
Романо, Бритт, Карлота и Чарли явились к зданию Федерального управления имени Джейкоба Джавица. Каменные и бетонные строения по адресу: Федеральная площадь, 26, — казались состоящими из множества колонн — благодаря уходящим ввысь цепочкам узких темных окон. Пешеходную дорожку отделяли от проезжей части черные столбики с серебристым орнаментом, а лестница, ведущая к дверям главного входа, была кое-где перегорожена стальными барьерами. Офицеры в униформе проверяли пропуска у всех входящих и выходящих.
Романо заметил, как Чарли обменялся с Карлотой беспокойным взглядом. Уже ставшие привычными меры безопасности сообщали уютному миру Манхэттена новое, скандальное измерение: терроризм оставил неизгладимый отпечаток на всех более или менее значительных государственных учреждениях.
Все вместе они поднялись по лестнице, ведущей ко входу от пешеходной дорожки. Вверху их остановила одна из служащих. Романо предъявил визитную карточку Катлера. Офицер с кем-то переговорила по рации и впустила их в здание.
В просторном холле посетителей встретил агент Донахью. Он проводил всех на самый верхний этаж, в небольшой конференц-зал, где их уже ждал агент Катлер в компании человека в темно-синем костюме. Его седые волосы, морщинки вокруг глаз и очки для чтения, прицепленные дужкой за нагрудный карман, навели Романо на мысль, что это, должно быть, один из самых опытных агентов в управлении. Романо несколько удивила официозность обстановки в помещении.
Когда все расселись за круглым столом, Катлер передал Донахью кипу документов и начал:
— Прежде чем мы перейдем к анализу манускриптов, спешу вас сразу успокоить: мы обнаружили улики, подтверждающие причастность отца Кристофоро к гибели священников. Мы проверили маршруты его путешествий — он побывал в интересующих нас городах, а его отпечатки пальцев найдены на месте каждого преступления. — Катлер обернулся к человеку рядом с ним: — Разрешите представить вам агента Карла Лэндиса, главу отдела судебной экспертизы. Он обсудит с вами результаты радиоуглеродного анализа.
Донахью раздал всем распечатки, а Лэндис пояснил:
— Это результаты экспертизы фрагмента, предоставленного профессором Хэймар. Из них явствует, что папирус датируется эпохой Христа, что совпадает с первоначальным предпринятым профессором Хэймар анализом. Чернила на документе тем не менее всего годичной давности, то есть это подделка.
Донахью передал присутствующим еще по два листка, а Лэндис поставил на стол пластмассовый ящичек со свитком, привезенным из Франции.
— А вот здесь — совсем другое дело. И папирус, и чернила — все современно эпохе Христа. Отец Романо, — кивнул он на священника, — подтвердил, что арамейские письмена на документе также подлинные. Следовательно, мы вынуждены признать аутентичность этого манускрипта.
Бритт и ассистенты Романо разом ахнули, а сам священник остался внешне спокойным. Втайне он надеялся, что доказать подложность документа не составит труда, но, учитывая почти безграничные возможности «Rex Deus», едва ли не с самого начала в этом сомневался. И еще глубже в нем сидел страх, что Евангелие окажется подлинным.
— Прежде чем мы придем к согласию и сочтем его аутентичным, мы должны учесть еще один фактор, — проронил Романо. — Я отдельно исследовал возможности подделки древностей. Надо сказать, что на Среднем Востоке, в особенности в Израиле, случались весьма искусные фальсификаторы. Не так давно был найден склеп, надпись на котором указывала, что там покоится «Иаков, сын Иосифа, брат Иисуса». Можно представить, какой переполох поднялся среди ученых, когда выяснилось, что надпись принадлежит эпохе Христа. После долгих обсуждений и более тщательного анализа исследователи обнаружили, что патина в углублениях разная: в начале фразы одна, а в конце и на самой поверхности склепа — другая. Оказалось к тому же, что слова «Иаков, сын Иосифа» выгравированы вертикально, тогда как буквы в окончании — «брат Иисуса» — слегка наклонны.
— Но у нас-то здесь не гравировка, — вмешалась Хэймар.
— Я применяю тот же метод для оценки возраста письменных памятников, — возразил ей Романо.
Лэндис взглянул на него озадаченно:
— Простите, но я не совсем представляю, как можно изучать папирус под чернилами.
— Это и не нужно, — ответил священник.
Теперь все взгляды устремились на Романо.
— Что вы предлагаете? — поинтересовался Лэндис.
— Во-первых, существует способ обмануть радиоуглеродную экспертизу. Умелые фальсификаторы давно заметили, что, если сжечь папирус нужной эпохи и подмешать пепел в чернила, то анализ документа даст искаженный результат.
Присутствующие вопросительно посмотрели на Лэндиса. Судебный эксперт с растерянным видом поскреб подбородок и признался:
— Конечно, мне сначала надо экспериментально в этом убедиться, но такое вполне вероятно.
— Вы хотите вовлечь нас в очередное мнимое противоборство, — не выдержала Бритт. — Подлинник против подделки. Что ж, вперед! И теперь уж я не пойду на поводу у зримых доказательств. Даже если выяснится, что рукопись ненастоящая, это будет значить лишь то, что ее автор вовсе не Иаков, брат Иисуса.
— И в этом нет нужды, — ответил Романо, а затем обратился к Лэндису: — Могут ли в вашей лаборатории исследовать свиток на наличие некоего первоначального и позже удаленного текста?
— Вероятно, все зависит от того, каким способом удаляли буквы, — подумав, ответил Лэндис. — На папирусе могли остаться мельчайшие частицы чернил или оттиск от прежнего письменного прибора. С помощью особого освещения и цифрового микроскопического анализа, вероятно, можно будет частично воссоздать текст, некогда написанный на этом свитке.
— А сколько времени потребует такой анализ? — спросил Романо.
— Я сейчас позвоню в отдел спорной документации. Если у них нет срочных экспертиз, то они могут сразу исследовать нашу рукопись на наличие изначального текста. — Лэндис снял трубку с аппарата на столе и набрал номер. — Более точные результаты с расшифровкой букв — дело другое, тем более что наше оборудование не запрограммировано на арамейскую или греческую пропись.
Он предупреждающе поднял руку, чтоб ему не мешали договариваться по телефону, и, закончив, взял под мышку пластмассовый ящик с Евангелием от Иакова. Пожав плеча ми, Лэндис обратился к Романо:
— Хотите поприсутствовать при анализе? Обычно в лабораторию не поступают настолько древние документы. Может статься, вы подскажете нашим технарям какие-нибудь новые методики.
— О, такого рода исследованиями мне заниматься не приходилось, — ответил священник. — Моя специализация касается письменных памятников. Я привык анализировать особенности почерка, строение букв, язык и все такое…
— Все же пойдемте, — кивнул на дверь Лэндис, — хоть лабораторию посмотрите. Все последние достижения. Это моя радость и гордость.
С коробкой в руках он двинулся к выходу, за ним — Катлер, а следом — Чарли. Пока все шли в лабораторию, Карлота время от времени поглядывала на Романо. Наконец она отстала от общей группы и поравнялась с ним.
— Вы верите своим глазам: наш Чарли — в рубашке и при галстуке? — шепнула студентка. — Он даже оставил в офисе свою любимую кепку с «Овнами». Не кажется ли вам, что он метит на должность засекреченного федерального агента и сейчас пытается примазаться к интернатуре?
Романо, улыбнувшись, шепнул ей на ухо:
— Вообще-то мне кажется, что ты подходишь им гораздо больше.
Войдя вместе со всеми в лифт, чтобы спуститься в лабораторию, Романо снова испытал запоздалое раскаяние. Неужели, сохранив этот манускрипт, он положил начало цепи событий, которых опасался отец Кристофоро, первым заваривший всю эту кашу?
100
Лаборатория произвела на Романо гораздо большее впечатление, чем конференц-зал. После беглого ее осмотра он готов был с радостью признать, что налоговые средства израсходованы здесь на новые технологии, а не на декор интерьера.
Выделив для экспертизы фрагмент рукописи, лаборант перенес его изображение на огромный жидкокристаллический монитор и стал увеличивать разрешение. На клейкой текстуре папируса стали заметны небольшие, беспорядочно разбросанные темные точки.
— Не думаю, чтобы они были растительного происхождения, — прокомментировал Лэндис. — Может быть, это остатки чернил. Мэтт, измените угол падения света при сканировании. Проверьте, нет ли вдавлений от пишущего инструмента в месте скопления этих частиц.
Пять голов сдвинулись у настенного монитора высокого разрешения. Лаборант тремя пальцами легонько поглаживал большой трекболл, медленно выделяя курсором интересующую их область. Затем он набрал команду на клавиатуре, программа выполнила заданную операцию — и вместо неровной текстуры папируса на экране возникло трехмерное изображение гладкой страницы с ясно видимыми темными выемками — прежними непонятными точками на рукописи. Поля страницы тем не менее были свободны от всяких шероховатостей.
Лэндис вынул из нагрудного кармана очки и приблизился к монитору, внимательно изучая изображение. Из-за толстых линз морщинки вокруг его глаз стали еще заметнее.
— Мэтт, отсканируйте таким же образом смежный с этим фрагмент и распечатайте нам результат. Смею высказать предположение, что этот свиток ранее содержал совершенно другую запись. По распечатке соседнего фрагмента мы сможем лучше судить, какого рода был прежний текст. — Обернувшись к Романо, Лэндис добавил: — Если и вправду здесь обнаружится хоть малейшее подобие текста, вам с Мэттом придется покорпеть над ним, разбирая каждую букву. — Он с сомнением покачал головой: — Подобный проект может растянуться неизвестно насколько и закончиться ничем.
— Мы не станем пускаться в такие крайности, — успокоил его Романо.
— Я не понимаю… Как же мы установим, когда сделана изначальная запись? — В голосе Лэндиса сквозила недоверчивость. — Определить, что нынешний текст является подлогом, можно лишь расшифровкой предыдущего, то есть извлечением из него информации на предмет описываемых в нем событий.
— Стиль письма сам по себе — такая же информация, — заметил ему Романо. — Немецкий институт элементарных эпистемологических изысканий в Падерборне разработал чрезвычайно действенные аналитические методики датировки древних манускриптов, опирающиеся на сверхточный анализ стилей письма.
Лэндис уже не скрывал своего скептицизма.
— О каком сверхточном анализе может идти речь, если вы еще не прочитали сам текст?
— Внимание в первую очередь обращают на стиль написания, который для разных периодов разный, — пояснил Романо. — Унциальное письмо, состоящее только из заглавных греческих букв, использовалось в эпоху Христа — вплоть до девятого-десятого веков. Минускул, включающий и прописные, и строчные греческие литеры, вошел в обращение в девятом веке.
Мэтт подошел к принтеру, вынул из него пачку листов и аккуратно разложил их на столе.
— Мне кажется, результаты получились более чем очевидные, — сообщил лаборант.
Лэндис сдвинул очки на кончик носа и внимательно просмотрел череду распечаток.
— Я не очень понимаю, что это за загогулины, — произнес он, — но, по-моему, здесь есть и заглавные, и строчные буквы. Воодушевленный этим заявлением Романо тоже придвинулся к столу и стал рассматривать значки на бумаге. Затем он вынул блокнот, что-то себе пометил и принялся вторично изучать буквы. После третьей попытки он с удовлетворенным видом обернулся к Лэндису и Катлеру:
— Большего увеличения не требуется — я и так смог разобрать некоторые из греческих символов. Без всякого сомнения, это минускульное письмо, которое до девятого века не применялось. Следовательно, все написанное сверху датируется еще более поздним периодом.
— И даже малейшая возможность ошибки исключается? — уточнила Бритт.
— Лично я ее не допускаю, — ответил Романо. — Этот тип шрифта совершенно точно не встречается в документах эпохи Христа. Если даже исследователи, определявшие время появления минускула, ошиблись на столетие или два, это в любом случае произошло гораздо, гораздо позднее сроков жизни предполагаемого брата Иисуса.
— Что ж, нам остается только признать правоту отца Кристофоро, — заключила Бритт. — Теперь, надеюсь, христианству не грозит полная переоценка устоев.
— Простите, я не совсем понимаю, — заинтересовался Катлер.
— Он считал, что философские принципы, на которых на протяжении сотен лет — даже почти тысячи! — зиждился «Rex Deus», изначально являлись ложными. — Хэймар указала на манускрипт: — Этот мошеннический документ показывает, что он ничуть не ошибался.
— Остается еще немало животрепещущих вопросов, на которые, думается, мы никогда не сможем ответить, — добавил Романо. — На чем в действительности зиждились «Rex Deus» и его Ближний Круг, названный Le Serpent Rouge? «Rex Deus» предпринимал чрезвычайные меры для сохранения родословной — но чьей, вот вопрос! Что в их верованиях опирается на факты, а что является вымыслом? Поскольку отец Кристофоро уничтожил не только всех посвященных в это дело, но и крипту со зримыми свидетельствами его существования, нам, вероятно, никогда не добраться до сути.
— Одну вещь вам все же удалось вдолбить мне в голову, — заметила ему Хэймар. — Мы думаем, что все уже поняли и распознали, но при более внимательном подходе оказывается, что не так и много.
— Это вовсе не моя заслуга, а скорее результат испытаний, свалившихся на нас за последние дни. Многое из того, что мы принимаем за действительность, основано на нашем ее восприятии и является лишь неточной интерпретацией истины.
— Наверное, «RexDeus» можно считать первыми в мире пиарщиками, — пошутил Чарли.
Все засмеялись.
— Чарли, боюсь, само это понятие имело хождение уже на заре человечества, — сказал Романо. — Разум у людей устроен так, что всегда стремится представлять все к своей наилучшей выгоде. Однако не забудь, что пиарить что-либо надо все же на основе некоторого подобия истины.
— Но разве вера не константа сама по себе? — вмешалась Карлота. — Вы постоянно нам напоминаете: что бы ни случилось, что бы ни наговорили какие угодно пиарщики, человек в результате все равно обращается к Богу.
— Аминь, — улыбнулся Романо. — Согласен, последние несколько дней стали для меня серьезным испытанием веры.
Он проникся гордостью за своих ассистентов, за их умение подойти ко всему критически и за смелость перед новыми испытаниями. Вдвоем они уже составляли превосходный исследовательский коллектив, и священник с грустью напомнил себе, что по выходе из университета их по отдельности переманят к себе разные фирмы или учебные заведения, и каждый пойдет своей дорогой. Впрочем, не важно, где они в конце концов окажутся: хотелось надеяться, что на Чарли найдется другая Карлота, а на Карлоту — свой Чарли. В этот момент в лабораторию вошел Донахью:
— Простите, что вмешиваюсь в обсуждение, но вам, наверное, будет интересно это узнать. Отец-магистр ордена иезуитов только что сделал официальное заявление по поводу отца Кристофоро, который, как выяснилось, испытывал сильнейший психический стресс. Его состояние прогрессировало, пока не превратилось в фобию по отношению к пяти из европейских бизнесменов и некоторым его духовным собратьям. Все эти люди, по мнению отца Кристофоро, являлись угрозой для церкви, но его умозаключения проистекали из его собственных заблуждений, а вовсе не фактов. О Христовой родословной в заявлении ничего не говорится. А из Интерпола мы сейчас получили подтверждение имен погибших во время взрыва. — Он подал Катлеру распечатку: — Официальных сведений об организации под названием «Rex Deus» Интерпол не обнаружил. Эти пятеро — заметные личности в европейской финансовой структуре; они — главы крупнейших банков во Франции, Шотландии, Германии и Англии. К ним примыкает русский аристократ и богатейший землевладелец.
На мысли Романо вдруг набежало облачко: его отец переехал из Италии в США, чтобы организовать там филиал германского банка, а в Англии у него был близкий приятель и компаньон.
— Могу я взглянуть на список? — попросил он.
— Разрешение на публикацию есть? — справился Катлер у Донахью.
Тот кивнул, и Романо, взяв лист с распечаткой, прочитал имена банкиров — Кристиан Фортье, Блэр Хендерсон, Егор Иванов. Последние две фамилии вызвали у него сильнейшее замешательство: Георг Ран и Рексфорд Уокер. Это были деловые партнеры его отца.
101
Романо стоял в углу террасы перед главным входом в Иезуитский центр духовного развития и через каменную арку глядел на подъездную аллею, обсаженную могучими деревьями. Тусклое серое небо обволакивало тончайшей дымкой их вершины, колеблющиеся от легкого ветерка. Сама природа, казалось, благоговейно замерла этим утром, перед похоронами отца Тэда.
Последние несколько дней Романо провел в Вернерсвиле, помогая в приготовлении траурных мероприятий, и все это время священника неотвязно преследовала мысль, что его отец и Тэд были членами «Rex Deus». Мучил его и вопрос, что же в действительности случилось с Мартой. Каждый день он общался с Бритт, которая решила предпринять углубленное исследование этого тайного общества и теперь делилась со священником результатами. Обнаруженные ею подробности были в большинстве своем весьма эксцентричными, если не хуже. Профессор нашла упоминания о сексуальных ритуалах египетских гностиков, об убийстве Иоанна Крестителя с целью проведения колдовских обрядов над его головой, опришельцах с Сириуса — родоначальниках египетской цивилизации, о тайных замыслах уничтожить арабские страны, чтобы завладеть Святой землей — или, наоборот, ниспровергнуть Папу вместе с Римской католической церковью, а потом и весь западный христианский мир. Единственным вразумительным элементом в изысканиях Бритт служила повторяющаяся ин формация о том, что члены «Rex Deus» стремились поддерживать родословную, которая, они верили, в один прекрасный день поможет установить на земле Царствие Божие. Всплывали также сведения об их мистических традициях, известных как «Путь» и передаваемых посвященным устно после длительного процесса инициации. Если Кристофоро не солгал, то все причастные к этому обществу были ныне мертвы — и «Путь» окончился вместе с ними.
Интерполу не удалось обнаружить ни крупицы информации о продолжении дела «Rex Deus» его современными потомками. Родственники погибших европейских бизнесменов клялись, что не существовало никакого тайного общества. Они уверяли, что гостиница использовалась исключительно для деловых совещаний и для семейных прогулок верхом. Подземный бункер, по их словам, был выстроен во времена холодной войны: он должен был послужить надежным пристанищем на случай ядерного взрыва.
Романо понемногу смирился с мыслью, что ему никогда не узнать всей правды об отце и о Тэде, решив в конце концов, что это не так и обязательно. Он ведь все равно помнил их и уважал за то, что оба они помогли ему выбрать путь в жизни — вот что, по сути, было важнее всего. Правда, так и осталась невыясненной история с Мартой, вернее, с участием матери Романо в ее исчезновении, но сам он теперь чувствовал потребность все же наладить отношения с матерью, сохранив о Марте светлое воспоминание как о своей первой любви.
На дорожке показался черный лимузин. Романо прошел через террасу и стал спускаться по ступенькам, пока автомобиль разворачивался у главного пролета. Водитель услужливо приоткрыл заднюю дверцу, и Романо увидел мать. На Регине было черное шифоновое платье и темные очки. Крашеные черные волосы она собрала в пучок. Священник вежливо поцеловал ее в обе щеки, заметив сквозь дымчатые стекла очков разрушительные последствия слез: глаза у Регины опухли, а густой слой макияжа кое-где размазался. Он не помнил, чтобы мать так убивалась даже на отцовых похоронах.
Регина стиснула сына за руку:
— Какое облегчение для меня, что ты в порядке. Я не знаю, что бы я делала, если бы потеряла сразу и Тэда, и своего единственного сына.
Романо обнял ее — впервые за долгое время.
— Мама, мне ничто не угрожает, опасность уже позади. Но Тэд, увы, умер, и нам остается только скорбеть.
Регина вынула из сумочки носовой платок, приподняла очки и промокнула глаза. Обилие пятен на платке подсказывало, что по пути из Нью-Йорка в Вернерсвиль мать не раз им пользовалась. Романо взял ее под локоть и повел вверх по ступенькам.
— Мама, давайте пойдем ко мне в комнату — вы там сможете умыться. Панихида еще не скоро.
На лице матери промелькнула улыбка — тоже впервые после случая с Мартой.
— Вижу теперь, что ты не забыл привычки своей матери. Мне было бы очень неловко явиться на отпевание в таком ужасном виде.
Из ванной Регина вышла совершенно другим человеком: морщинок на ее лице заметно поубавилось, а бледность сменилась сияющим румянцем. Тонированные очки она сняла и навела на глаза макияж.
— Мама, ты просто светишься! Тэд был бы доволен…
Регина на мгновение смутилась, но тут же спохватилась, и ее взгляд снова принял отстраненное выражение:
— Вот так, это первый твой мне комплимент с тех пор, как… э-э, за много лет.
— Об этом нам стоит поговорить. — Романо глубоко вздохнул. — Тэд оставил для меня посмертное письмо, в котором умолял как можно скорее помириться с тобой. Вероятно, его кончина и побудила меня наконец попытаться… — Глаза его наполнились слезами: — Все эти годы я ненавидел себя за то, что малодушно злился на тебя из-за Марты.
Руки у Регины задрожали.
— Ты даже не знаешь, сколько раз я порывалась рассказать тебе правду, но боялась.
— Боялась? Кого?
Регина присела на краешек постели и понурилась.
— Я тогда сказала тебе, что не знаю, куда делись Марта и ее родители, и это была чистая правда. Но я не рассказала тебе о том, что этому предшествовало.
Романо, сидевший за столом, подался вперед, не сводя с нее глаз.
— Толком я так и не знала, во что были вовлечены твой отец и Тэд, но догадывалась, что только банковским бизнесом дело не ограничивается. Муж как-то обмолвился: если с ним что-то случится, то Тэд поможет мне вывести тебя в люди. Мне думается, что твой отец занимался чем-то противозаконным. — Все это время она неотрывно глядела в пол, но тут подняла глаза на сына: — Знаешь, я так и не поняла, какова была в этом роль Тэда.
Романо подсел к матери и обнял ее за плечи:
— Ничем противозаконным они не занимались. Они были частью организации, избравшей себе в качестве высшего духовного призвания сохранение тайн Господних. И отец, и Тэд были хорошими людьми, и устремления у них были самыми добрыми, но по ряду причин их воззрения сложились на основе вековых преданий и мистических учений, а не реальной действительности.
По лицу Регины было видно, что она неподдельно страдает.
— Как я обрадовалась, когда узнала, что ты встречаешься с Мартой: она была такой доброй и славной девушкой. Я сказала об этом Тэду — в какую же ярость он пришел! Я никогда еще его таким не видела и не могла понять, то ли он так сильно злится, то ли боится чего-то. Он объявил мне, что Марта — особенная, что у нее есть в жизни исключительное призвание, поэтому вы с ней никак не можете быть вместе. Тэд сказал, что Марта обещана кому-то другому, и я не совсем поняла, что он имел в виду. Потом он попросил меня во что бы то ни стало запретить тебе встречаться с ней, и, когда я рассказала ему, как ты на это отреагировал, он заверил меня, что сам справится с ситуацией. А через неделю Марта вместе с семьей исчезли без всякого предупреждения.
Романо в изумлении взирал на мать, чувствуя себя так, словно из него выкачали весь воздух. В голове вдруг промелькнула его собственная недавняя сентенция: «Многое из того, что мы принимаем за действительность, основано на нашем ее восприятии и является лишь неточной интерпретацией истины».
Он привлек Регину к себе:
— Прости меня.
Другие слова ему на ум не шли.
102
После панихиды и похорон, прошедших на небольшом кладбище иезуитского центра, Романо проводил мать до машины. Обняв ее на прощание, он объявил:
— Я остаюсь здесь еще на месяц — буду вместе с группой паломников выполнять упражнения для внутреннего развития и немного отдохну. После всего, что случилось, мне предстоят серьезные духовные искания. — Он улыбнулся, глядя на нее: — Когда вернусь в Нью-Йорк, давай поужинаем вместе. Мне хочется, чтобы мы снова стали одной семьей.
Регина потрепала его по плечу:
— Думаю, мы оба это заслужили.
Священник помахал вслед удаляющемуся лимузину и уже повернулся, чтобы идти обратно к центру, как вдруг заметил белокурую женщину, направлявшуюся прямо к нему от парковочной площадки. Она еще не успела приблизиться, но Романо уже понял, что это Бритт, и рванулся ей навстречу.
— Я не ждал вас… Думал, вы глаз не смыкаете — день и ночь строчите новую версию книги.
— Идея нанять Карлоту и Чарли себя оправдала. — Хэймар показала ему коробку с рукописью, которую держала в руках. — Команда просто убойная. Вместе нам удалось придать материалу несколько иной характер. Здесь пока черновой вариант, в форме конспекта. Они высказали мнение, что сначала надо заручиться вашим экспертным заключением — только тогда я смогу продвигаться дальше.
Романо принял от нее коробку со словами:
— Вы выбрали на редкость удачное время: я буду делать перерывы в созерцании духовных заповедей святого Игнатия.
Взглянув на крышку, он испытал необычное волнение. Бритт сама приподняла ее, заявив:
— Вам вовсе не будет стыдно перед вашими собратьями-иезуитами.
На титульном листе крупными буквами было напечатано: «Нечестивый Грааль».
— Куда же делся «Подложный Иисус»?
Бритт с гордостью кивнула на свое детище:
— Над этим еще много предстоит работать, но, надеюсь, вы заметите, что здесь я придаю вес самым разным воззрениям — в особенности рассказываю, какой опасной может быть легенда, основанная на ложном представлении. Она ведет к стремлению любой ценой сохранить то, что на поверку оказывается «нечестивым Граалем».
— А Карлота и Чарли как-то повлияли на изменение на звания?
— Нет, это полностью моя заслуга, — засмеялась Бритт. — Что до Чарли, то он предложил схему для объяснения теорий, согласно которым Иисус вовсе не умер на кресте. Он порекомендовал мне ссылаться на ранних христианских мистиков, пытавшихся по-разному интерпретировать само слово «распятие».
— Представляю, как скоро у вас наступила передозировка от его поучений!
— Зато какой он головастый! Но и Карлоту я не стала бы недооценивать. Например, она однажды возразила ему так: «Очень заманчиво растрепать историю на лоскутки, а потом соткать из них полотно на свой вкус». Это замечание стало последним штрихом в моем замысле.
— Я рад, что они оба вам понравились.
— Отсюда вытекает следующий вопрос. Я получила аванс от своего издателя на дальнейшие исследования по теме. Если вы не возражаете, я бы привлекла к ним Карлоту и Чарли. Пока вы в отпуске, кто-то же должен обеспечивать мне «голос из зала»!
— Могу вас всех только благословить! — просиял Романо. — А эти двое будут горды и счастливы! — Он шутливо погрозил ей пальцем: — Но с одним условием: потом я заберу их обратно.
— На этот счет не волнуйтесь: они вас боготворят. — Бритт спохватилась и потупилась: — Простите, я не очень удачно выразилась.
— Учитывая все, что мы вместе пережили, в выборе слов я даю вам карт-бланш. — Романо увидел, что у главного входа уже собралась небольшая толпа, и предложил: — Хотите, пойдем со мной в центр? Думаю, никто не будет против, если вы сегодня вечером у нас поужинаете.
— Спасибо, — покачала головой Бритт, — но у вас сегодня и так много гостей. Почести по отношению к отцу Метьюсу требуют вашего безраздельного участия. Мы непременно поужинаем вместе, когда вы вернетесь в Нью-Йорк. Я буду с нетерпением ждать ваших комментариев.
Хэймар уже направилась к своей машине, но вдруг остановилась и обернулась к нему.
— Я хотела кое в чем вам признаться. — Она окинула взглядом толпу у входа и, пожав плечами, сказала: — Мне хотелось бы обнять и поцеловать вас, но, наверное, здесь не самое подходящее место. Наше общение помогло мне понять, что до сих пор я была полностью погружена в переживания прошлого. Я не видела будущего. Теперь я думаю, что и Ален, и Тайлер хотели бы, чтобы я жила своей жизнью, чтобы я оправдывала ее. Господь даровал нам жизнь, чтобы мы распорядились ею по своему разумению. Но иногда по дороге мы попадаем в переделки. Вы помогли мне справиться с самой трудной. Спасибо вам.
Бритт заспешила к машине, а Романо почувствовал, будто его частица уходит вместе с ней. Он повернулся и зашагал навстречу друзьям и коллегам Тэда, понимая, что теперь и сам попал в немалую переделку. Духовные упражнения, которые он задумал для себя, должны будут помочь ему определиться относительно следующей главы своей жизни и решить, следует ли и дальше неколебимо следовать обету или пуститься в объезд — в погоню за собственным сердцем.
Мария Фагиаш
«Лейтенант и его судья»
Памяти моего отца Геза Фагиаша, обер-лейтенанта австро-венгерской армии.
Погиб 9 октября 1914 г.
ПРИКАЗ
1 ноября 1909 г.
По Императорской австро-венгерской армии
Нижеследующим обер-лейтенантам — выпускникам военного училища 1905 года присвоить досрочно звание капитана (ротмистра) с немедленным переводом в Генеральный штаб:
(очередность в соответствии со средним баллом аттестата)
№ 1. Аренс, Роберт Штефан, 2 пехотный полк, Егер
№ 2. Айнтхофен, Людвиг Александр, 30 пехотный полк, Будапешт
№ 3. Шёнхальс, Карл-Хайнс, 13 бригада горных егерей, Мостар
№ 4. Герстен, Йоханн Пауль фон, 31 пехотная бригада, Брассо
№ 5. Виддер, Франц Август, 1 пехотный полк, Грац
№ 6. Хохенштайн, Рудольф Принц, 5 драгунский полк, Вена, Нойштадт
№ 7. Дугонич, Титус Милан, 5 драгунский полк, Вена, Нойштадт
№ 8. Мадер, Рихард Эммерих, 8 полк уланов, Краков
№ 9. Ландсберг-Лёви, барон Отто Эрнст, 4 драгунский полк, Эннс
№ 10. Храско, Вацлав Яс, 5 пехотный полк, Сараево
№ 11.Траутмансдорф, Георг, 28 пехотный полк, Нагиканица
№ 12. Молль, Карл Понтер, 13 дивизия ландвера, Вена
№ 13. Мессемер, Густав Йоханн, 65 пехотная бригада, Гиёр
№ 14. Облонски, Зигмунд Александр, 3 полк уланов, Брук
№ 15. Ходосси, Золтан Гёза, 13 полк гусаров, Кешкемет
1
Семнадцатого ноября, в последний день его жизни, капитан Рихард Мадер на один час раньше, чем обычно, покинул здание военного министерства, где он служил. Анна Габриель обещала быть у него дома около шести, и он хотел до ее прихода переодеться и немного отдохнуть. К радости вновь увидеться с Анной примешивалось легкое беспокойство. Несколько раз в течение дня он хотел отправить с посыльным записку Анне, но не сделал этого, опасаясь, что записка может попасть в руки ее мужа.
Рихард Мадер относился к типу людей уравновешенных, умеющих держать свои чувства под контролем. Он нравился женщинам, так как был предупредителен с ними и к тому же довольно красив. Его любили и товарищи по службе, так как на него всегда можно было положиться. Как офицер, он обладал тем сдержанным мужеством, которое делает человека в определенных обстоятельствах героем, но не бретёром.[649] За свои тридцать лет ему не привелось страдать ни морально, ни физически, и он добился довольно многого, сумев стать к этим годам капитаном Императорской австро-венгерской армии и быть прикомандированным к Генеральному штабу. Для сына мелкого венского адвоката это было серьезным достижением.
Судьба избавила его от необходимости принимать серьезные решения или переживать сильные разочарования, что и у лучших людей отнимает много сил.
Отношения с женщинами складывались у него легко и не требовали больших душевных затрат. Последние годы он часто влюблялся: в девушек из хороших семей, в замужних женщин, в маленьких актрис и один раз — один-единственный раз, когда ему было шестнадцать, — в одну проститутку. Все это он называл романтическим словом «любовь», хотя это было не что иное, как проявление страсти молодого человека, любопытство и в лучшем случае влюбчивость.
С девушками из хороших семей он прогуливался, умудряясь в подъездах домов или в редкие минуты, когда контроль за девушкой ослабевал, сорвать страстный поцелуй. С женщинами у него протекали страстные, но большей частью кратковременные романы. Он никогда не терял при этом головы и обладал достаточным тактом мягко прекращать такие отношения, как только замечал за предметом своей страсти матримониальные устремления. Согласно положению о воинской службе при вступлении в брак офицер в чине обер-лейтенанта обязан был внести залог в размере тридцати тысяч крон, а капитан Генерального штаба — шестидесяти тысяч.
Не обладавшие средствами офицеры вроде Мадера могли выбирать один из трех вариантов — выйти в отставку, жениться на богатой невесте или оставаться холостяками. Капитан Мадер выбрал третий вариант, по крайней мере на этот момент. Ему нравилось вести независимое существование с необремененным, упорядоченным образом жизни. Для него не было ничего более приятного, чем провести спокойный вечер в своей квартире, после того как женщина, с которой он с увлечением предавался любви, уже ушла. Сейчас же, впервые со времени его юности, перспектива спать с женщиной не доставляла ему, как ранее, чувства радости. Напротив, он чувствовал себя неуверенно и тревожно.
От министерства до Хайнбургерштрассе, где он жил, было добрых тридцать минут ходьбы. Он мог бы взять фиакр — на Михаэльплатц была их стоянка, — но передумал, надеясь, что движение на свежем воздухе поможет снять нервное напряжение.
В цветочном магазине на Шубертринг он купил букет хризантем. Он спросил, есть ли розы — любимые цветы Анны, — но их не было. Ноябрь для всех цветов, за исключением хризантем, был неподходящий месяц. Везде продавались только хризантемы, вся Вена была ими полна. В День Всех Святых, когда вспоминают об умерших и украшают могилы, на кладбище устремлялся настоящий поток хризантем, и вид букетов, как бы красивы они ни были, напоминал о смерти.
Всю последнюю неделю стоял туман, и когда он дошел до своей Хайнбургерштрассе, зажглись газовые фонари. Ему нравилась эта улица в основном из-за ее характера части пригорода. Дома, все не выше трех этажей, образовывали прямоугольные дворы со старомодными источниками, остатками недалекого прошлого, когда жители Вены обходились без туалетов и водопровода.
Мадер снимал двухкомнатную квартиру на первом этаже дома номер 56, довольно скромно обставленную, так как он только несколько месяцев как был переведен из Кракова и успел приобрести только самое необходимое. Его мать предложила свою помощь, но он любезно, но твердо от нее отказался. Он хотел оборудовать квартиру по своему вкусу — чтобы было много воздуха, чтобы она выглядела современно и не была загромождена мебелью. Стены были уже покрыты обоями — в гостиной нежно-зелеными, а в спальне серыми, те и другие — из самых модных образцов, довольно дорогих и красивых. Ему доставляло особое удовольствие покупать что-нибудь для квартиры. Это была одна из причин, почему он не очень торопился с ее обустройством. Он предпочитал, что довольно редко встречается у молодых людей, продлить это удовольствие.
«Будут вонять, как погребальные свечи», — заметил его ординарец Йозеф Бока, когда капитан приказал ему поставить цветы в вазу.
Бока был крепкий молодой парень из венгерской крестьянской семьи, он практически не умел ни читать, ни писать, но был настолько ловок и изобретателен, насколько только крестьяне способны. В свои первые восемнадцать лет он учился, как бы перехитрить природу, а в последующие восемь — австро-венгерскую военную машину. Без сомнения, он был идеальным ординарцем — быстрым, аккуратным, неутомимым и надежным. Еще до Мадера он служил трем офицерам, один из которых, чешский граф, вышколил его до того образцового состояния, в котором он теперь пребывал. Шрам под его левым глазом напоминал об обувной колодке, которая была в него запущена, когда графу показалось, что сапоги начищены не должным образом.
Капитана и солдата Бока связывала глубокая мужская симпатия, что все же не могло удержать Бока оттого, чтобы из походов за покупками для капитана не выудить небольшой дополнительный заработок. Мадер подозревал подобную хитрость ординарца, но закрывал на нее глаза. Только от офицера требуется быть абсолютно неподкупным и верным высоким моральным устоям, от простого солдата — нет.
В четверть шестого Мадер выдал Бока пять крон и послал его в магазин деликатесов Вольфа на Штубенринг с заданием купить полкилограмма пражской ветчины, двенадцать булочек, пирожных и две бутылки вина.
«Значит, снова фрау Габриель», — подумал Бока, спускаясь по лестнице.
Фрау Габриель — значит, пражская ветчина и вино; темноволосая нервная жена генерала — это шампанское и паштет из гусиной печенки; маленькая танцовщица из венского кордебалета — непременно шоколадный торт и ликер. Между Бока и Мадером существовала молчаливая договоренность, согласно которой любовные приключения капитана его, Бока, вообще не касались. На время визита какой-нибудь дамы Бока исчезал, но приход и уход женщины не оставались для него незамеченными, так как окно его комнатушки выходило на лестничную клетку. Мужская солидарность и врожденное чувство такта удерживали его от того, чтобы кому-нибудь, включая знакомых капитана, хотя бы словом об этих визитах обмолвиться.
В этот раз Бока приметил у капитана легкое беспокойство. Обычно перед свиданием Мадер был в прекрасном настроении, особенно с Анной Габриель. Она относилась к тем женщинам, с которыми и он, Бока, не прочь был бы переспать, что, после всего слышанного о ее любовных похождениях, не было чем-то несбыточным. Будучи дочерью майора кавалерии, она, по слухам, не отказалась бы и от интрижки с простым солдатом. Некоторые утверждали, что именно из-за неуемного и беспорядочного сексуального аппетита Анны ее отец вынужден был рано оставить военную службу.
Анна Габриель была стройной женщиной с несовременной, мальчишеской фигуркой, худощава и плоскогруда. Ее кожа цвета слоновой кости, миндалевидные угольно-черные глаза и слишком большой для ее маленького, овальной формы лица рот придавали ей столько невыразимого шарма, что против него лишь немногие могли устоять. В течение двух лет учебы Мадера в военном училище ее отец, майор барон Йоганн фон Кампанини, руководил курсом верховой езды. Тогда двадцатидвухлетняя Анна выглядела робкой, худенькой девушкой лет пятнадцати. Но довольно многие из курсантов, в том числе и Мадер, знали по опыту, как обманчив может быть внешний вид. В постели она оказалась совсем не робкой и отнюдь не худенькой.
Вопреки ее репутации, рано или поздно должно было случиться так, что какой-либо свежеиспеченный офицер падет жертвой ее шарма и сделает Анне предложение. Обер-лейтенант Фридрих Габриель, блестящий и многообещающий выпускник военного училища, был именно тем, у кого хватило на это и любви и решимости. Конечно, женитьба на Анне означала внезапный конец его военной карьеры. Даже если бы он раздобыл тридцать тысяч залога, которые были очень желательны, это все же не давало возможности супругу Анны фон Кампанини получить должность в Генеральном штабе. В лучшем случае он был бы отправлен служить в какой-нибудь медвежий угол в Галиции или Далматии.
Для Анны обер-лейтенант Габриель принес большую жертву — он вышел в отставку. Поскольку его образование не могло служить ему основой для занятия чем-то прибыльным или перспективным, он занял скромное место почтового служащего. Все знавшие его глубоко сожалели об этом и сочувствовали ему. Габриель был, таким образом, вторым офицером, чья карьера была разрушена дочерью инструктора верховой езды. Но вопреки всем предсказаниям их брак оказался на редкость счастливым. Так, во всяком случае, единодушно утверждали все их друзья, которые поддерживали с ними отношения.
Мадер потерял после свадьбы чету Габриель из виду. Однажды октябрьским днем, четыре года спустя, он случайно столкнулся с Анной в кондитерской Демеля и тотчас привел ее прямиком в свою квартиру и в свою постель.
В ноябре она была у него дважды. Их любовные игры были, как и ранее, довольно изощренными, но теперь еще более страстными. Ненасытность Анны, которая вначале льстила самолюбию Мадера, теперь начинала его беспокоить. Ему было досадно признать, что он не всегда оказывался на высоте. Это открытие было для него шоком, особенно когда это повторилось и он не смог в полной мере соответствовать роли любовника.
В сентябре он завел небольшую интрижку с женой одного генерала. Однажды эта дама, к его удивлению, приняла всерьез сделанное им в шутку приглашение посмотреть его новые обои. День был для этого времени года необычайно жарким и душным. Она была одета в закрытое белое кружевное платье с черными шелковыми бантами и чрезвычайно надушена ароматом майских колокольчиков. Мадер терпеть не мог тяжелых духов, гораздо больше ему нравились естественные ароматы: запах высохшего на солнце белья или чисто вымытой водой с мылом женской кожи. Воздух в комнате действовал угнетающе, и присутствие женщины вызвало в его душе ощущение дискомфорта.
— Как мило с вашей стороны, что вы пришли, — промямлил он, так как ничего более оригинального ему в голову не пришло.
Он взял правую руку дамы, расстегнул достающую до локтя лайковую перчатку и запечатлел поцелуй на розовой влажной коже обнаженного запястья, затем повторил эту процедуру с ее левой рукой. Это была обычная полная эффекта прелюдия — символическая увертюра к пьесе, которая должна была затем последовать.
И в этот момент Мадер почувствовал, что с ним что-то не в порядке. Легкая вибрация должна была пронзить его тело от горла до бедер, сигнал, что его мужское начало готово к действию. Были времена, когда один лишь взгляд на ножки садящейся в омнибус девушки возбуждал его. Теперь же, когда он находился наедине с очень привлекательной женщиной, которая, придя к нему на квартиру, ясно дала понять о своих намерениях, — он оставался холодным и безжизненным, как мраморная плита на могиле старика.
Они стояли в центре комнаты, он по-прежнему держал ее руку. Она улыбалась ему, полная ожидания. У нее были красивые, здоровые зубы, но слегка неравномерно расположенные резцы и острые клыки придавали ее, в общем хорошенькому личику несколько хищное выражение. Волосы ее были блестящие, иссиня-черные, а над верхней губой чуть заметные усики. В военных кругах ее прозвали одалиской из-за роскошных, с налетом восточного колорита форм и явной слабости к ярким краскам и броским украшениям. Ее отец, банкир еврейского происхождения, принял католичество, когда три его дочери выросли и стали появляться в обществе. Самая старшая из них теперь была супругой министра, другая стала монашкой. Третья была гостьей Мадера: Лили Венцель.
— Не хотели бы вы присесть? — Мадер отпустил ее руку и отодвинул стул.
Выражение лица женщины явно свидетельствовало о том, что она готова пренебречь общепринятыми условностями. Мадер занял себя тем, что откупорил бутылку, которая лежала в холоде, налил шампанского и предложил гусиный паштет. Она залпом выпила два бокала охлажденного вина, но от паштета отказалась.
— Жара просто невыносима. — Она нервно обмахивала себя маленьким веером, который был изготовлен из таких же кружев, что и платье. — Как вы думаете, не лучше ли открыть окно? — А когда он поднялся, тут же сказала: — Ах, оставьте, будет еще жарче. Мне не надо было надевать это платье. Вы, мужчины, даже не знаете, как вам хорошо. — Она теребила свои крючки сзади у шеи. — Мне кажется, что все портные ненавидят нас, женщин: кругом они вставляют эти ужасные корсетные косточки. Наверное, вся моя кожа — сплошная рана. Вас не шокирует, если я вас попрошу расстегнуть мне крючки? — И добавила, хихикая: — Разумеется, только у шеи.
Он послушно обошел стул и стал нащупывать под ее прической верхний крючок. Кожа под пальцами была горячей. Лили встала. Медленно и педантично он расстегнул один крючок за другим до талии. Узкое платье распалось надвое, как переспелый арбуз. От его прикосновения она слегка вздрогнула, дыхание ее участилось, но заметное возбуждение гостьи только напугало Мадера, так как он по-прежнему ощущал себя не способным к активным действиям. И ее вины здесь не было. От полуобнаженного женского тела веяло теплым животным ароматом. Он скользнул рукой под ее тонкую шелковую сорочку и ощутил полную крепкую грудь с набухшими под его пальцами сосками.
Еще совсем недавно Рихард Мадер с восхищением обнаруживал под многочисленными модными юбками, закрытыми блузками, сапожками, чулками, корсетами и нижним бельем теплое, желанное женское тело. Но теперь, с Лили Венцель, он не мог ощутить в своем теле ни малейшего следа страсти. Мадер был в смятении. В свои тридцать лет в плавании, в беге или на скачках он по-прежнему мог дать фору любому из своих друзей, его мозг работал с точностью и быстротой хорошо смазанного механизма. Не было ни малейшего основания, почему он в свои цветущие тридцать лет должен стать импотентом. Сама эта мысль повергла его в ужас. С резкостью, заставившей Лили Венцель вскрикнуть, он привлек ее к себе и прижался губами к ее рту. Она живо откликнулась на его порыв и язычком скользнула сквозь его зубы. Несколько мгновений они стояли, обнявшись. Она задыхалась, а он чувствовал, как холодный пот струится у него по спине. И вдруг Мадер с отчаянием понял, что этот театр нужно немедленно прекратить, если он не хочет, чтобы этот день закончился скандалом и позором. Он резко отстранился от ее губ и сделал шаг назад. Лили стояла с приоткрытым ртом, застыв в позе полного самоотречения. Затем с испуганным выражением лица она произнесла горячим шепотом:
— Что случилось?
Он оставил вопрос без ответа, схватил бутылку шампанского, налил бокал и протянул ей. Ее глаза под густыми ресницами были наполнены жаждой, которую могло бы утолить отнюдь не шампанское.
— Что с тобой? — спросила она еще раз. — Я тебе не нравлюсь или мне это показалось?
— Что ты, даже очень. Вы всегда ко мне так замечательно относились. Вы оба.
— Вы оба? — Она наморщила лоб.
— Вы и господин генерал. И я вам безмерно благодарен.
Она начинала понимать.
— Не делайте из себя идиота, — фыркнула она. — Вы ненавидите его. И все подчиненные ненавидят его. Как будто я этого не знаю!
Она была права. Из всех, кто состоял в руководстве военной юстиции, генерал Венцель был наименее любим.
— Вы заблуждаетесь, — мягко возразил Мадер. — Я испытываю к господину генералу глубочайшее уважение.
— За этим вы меня сюда завлекли? Чтобы это мне сообщить? — Ее голос звучал громко и пронзительно.
Гнев удивительным образом был ей к лицу. Она выглядела восхитительно. На лице играл румянец, глаза сверкали, молочно-белая кожа казалась особенно нежной и почти прозрачной. Он вынужден был себе признаться, что она на редкость соблазнительна и обольстительна. Но его разум на это реагировал, а тело нет.
— Господин генерал прекрасный офицер. Один из лучших, — пробормотал он, стыдясь самого себя.
Она резко поставила бокал на стол так, что половина шампанского выплеснулась.
— Как трогательно! Он, несомненно, будет рад, если я все ему расскажу. Вы этого хотите?
— Это зависит от вас, — пожал он плечами.
— Вдобавок вы еще и наглец, — сказала она и оглянулась в поисках перчаток. Когда она надела перчатку на левую руку, то заметила, что платье на спине оставалось открытым.
— Застегните меня, черт побери!
Мадер подчинился. Пока он боролся с крючками, она, метнув на него через плечо полный презрения взгляд, гневно произнесла:
— В следующий раз я обязательно возьму с собой горничную.
Воротник платья еще не был до конца застегнут, когда она устремилась вон из квартиры.
Он рванулся вслед за Лили вниз по лестнице и уже на улице, остановив фиакр, предложил проводить ее до дома, но она зло бросила, что поедет одна. Как только цокот копыт удалился в направлении Штубенринга, он, совершенно разбитый и в полном отчаянии, поднялся к себе домой.
Часы на башне собора на Хауптштрассе пробили половину шестого. До прихода Анны Габриель оставалось еще полчаса.
«Пилюли!» — вдруг вспомнил Мадер.
Впрочем, насколько можно было судить по тщательной упаковке из красной лощеной бумаги, это были не пилюли, а капсулы. Он получил их с утренней почтой в своем бюро. В конверт с капсулами также была вложена отпечатанная на гектографе инструкция, текст которой даже для того времени, когда такие веши совершенно свободно рекламировались в газетах, звучал довольно откровенно.
Мадер не был ханжой, но слово coitus его все же шокировало. Обе пилюли нужно принять со стаканом холодной воды за полчаса до coitus — так указано в тексте. Следующий абзац утверждал: «Действие потрясающее!» Все остальное было выдержано в том псевдонаучном стиле, который был характерен для подобного рода рекламных объявлений. В качестве отправителя значилось: Чарльз Френсис, фармацевт. Первой реакцией Мадера на письмо было чувство возмущения, смешанное с растерянностью. По-видимому, кому-то захотелось таким идиотским способом позабавиться. В течение дня он узнал, что еще двое из его друзей, Принц Рудольф Хохенштайн и Ганс фон Герстен, оба, как и он, капитаны при Генеральном штабе, также получили циркуляр от Чарльза Френсиса, который они с видимым удовольствием зачитали вслух в мужском туалете. Они рассказали Мадеру, что еще один офицер на их этаже также получил капсулы. Известие несколько успокоило Мадера. Стало быть, это не было чьей-то глупой шуткой, а просто необычный способ рекламы новой продукции. Принц выбросил конверт вместе с содержимым в туалет и смыл водой. Было ясно, что «потрясающее действие», которое обещали капсулы, его совершенно не интересует.
Решив, что до прихода Анны еще есть время, Мадер решил закончить письмо к одной молодой женщине по имени Ингрид Фиала, которое он начал накануне вечером. Ингрид была той девушкой, на которой он, возможно, охотно женился бы, если бы не служил в армии. Блондинка с голубыми глазами, курносенькая и ангельски хорошенькая, она была бы превосходной матерью всем маленьким Мадерам, кому судьбой было предначертано остаться нерожденными, так как их возможный отец служил в Генеральном штабе австро-венгерской армии.
В представлении Мадера армия была не просто институтом, а скорее некой религией, расой или братством. Она была отдельным, выросшим на теле монархии органом, питаемым жизненными соками нации и тем не менее функционировавшим абсолютно независимо. Сердцем этого органа был Генеральный штаб. Человек, принадлежавший этому органу, больше не был хозяином своей судьбы. Для Мадера было абсолютно исключено назвать когда-нибудь Ингрид Фиала своей законной женой, так как Ингрид была артисткой варьете, а именно третьей частью «танцующих тройняшек Леонардо». На самом деле они звались вовсе не Леонардо, были не близнецами, а тремя совершенно разными девушками, которые до этого и знакомы-то не были, а в настоящее время выступали в одном из варьете Франкфурта. Генеральный штаб, разумеется, не был против, чтобы его офицеры спали с Ингрид Фиала, — главное, чтобы такие связи не вызывали скандала.
«Мой милый ангел, — так начиналось письмо. — Три недели назад маляр наконец закончил с обоями. Квартира выглядит теперь прекрасно. Не могу дождаться, когда ты сама увидишь это. Я знаю, что насчет образца для спальни у тебя были сомнения, но теперь тебе, безусловно, понравится. На стенах выглядит все гораздо лучше, чем на маленьком клочке. Я купил письменный стол, который мы с тобой присмотрели в магазине Хорна. На прошлой неделе его доставили, и теперь у комнаты вполне приличный вид. — Мадер зажег свечу, сел за письменный стол и продолжил письмо: — Вчера я был на концерте Лили Леманн, но в антракте ушел — быть одному на концерте не доставило мне никакого удовольствия. Без тебя я долго не выдержу. Ты обещала после гастролей во Франкфурте вернуться, то есть не позже первого декабря. И пожалуйста, никаких отговорок. Ты нужна мне, мой ангел, более, чем…»
Часы на башне пробили три четверти шестого. Мадер положил перо и встал. Анна всегда была пунктуальна. Если отвести на предварительный обмен репликами четверть часа: «Ты выглядишь прелестно. Проходи, я возьму у тебя пальто». — «Что нового в министерстве? Ты уже слышал последнюю новость? Как ты думаешь, может ли на следующий год дело обернуться войной между Англией и Германией? Ты слышал, что царица больна? Это ужасно». А когда Анна расстегнет блузку и снимет юбку — будет примерно шесть часов пятнадцать минут. В циркуляре указано: «Примерно за полчаса до coitus». Если он хочет эти чертовы капсулы попробовать, нужно принять их именно сейчас. В худшем случае они содержат только сахарную пудру. Вероятно, этот Чарльз Френсис, или кто там за ним стоит, полагается, в основном, на психологическое воздействие этого «возбуждающего средства». Допустим, у человека все в порядке и ему недостает только уверенности в себе, — тогда эти таблетки точно так же хороши, как и любые другие.
Конверт все еще был в кармане пальто, куда он положил его утром. Мадер вынул маленькую плоскую коробочку. Осторожно, как предписывала инструкция, разорвал красную лощеную бумагу и высыпал капсулы на ладонь.
Бока зажег газовые лампы в комнате, но в прихожей и на кухне было темно. Мадер на ощупь прошел до шкафа на кухне и оттуда к водопроводному крану. Он положил капсулы на язык и запил их стаканом воды. Только он собрался зажечь свет в прихожей, как вспомнил, что циркуляр остался лежать на письменном столе. Он прошел в комнату и бросил его вместе с бумагой и коробочкой в огонь камина. Золотые карманные часы, подарок отца к успешному окончанию военного училища, показывали без десяти минут шесть. Недописанное письмо он решил положить под папку для бумаг. Совсем не потому, что хотел спрятать его от Анны. Скорее наоборот: ему казалось неправильным, что письмо станет свидетелем того, что произойдет между ним и Анной в этой комнате. В отличие от Ингрид, Анна не любила его. В этом было все дело. Он подошел к письменному столу, но еще до того, как он взял письмо в руки, вдруг почувствовал сильное головокружение. В следующий миг на его грудь навалилась тяжесть, и он мучительно попытался вздохнуть.
«Я тону!» — пронеслось у него в голове.
«Бока», — хотел позвать он, но ни один звук не вырвался из его горла.
Сердце замерло, но тут же забилось вновь. Давление на грудь становилось нестерпимым. Казалось, сердце заполнило всю грудную клетку. Невыносимая боль пронзила все внутри, его тело дергалось, как будто оно висело на нитях, которыми управлял сошедший с ума кукловод.
— Бока! — На этот раз звук появился, но никто не ответил. — Помогите! На помощь! — крикнул он, охваченный ужасом, а боль тем временем поднялась до гортани, и рот как будто охватило пламенем. — Воды, — прошептал он и ринулся вслепую на кухню. «Только водой, — подумал он, — можно потушить огонь». Только огонь и ничто другое может причинять такую смертельную боль, разрывающую все его тело. — Боже, боже мой! Я умираю! — Его голову молнией пронзила мысль, что в капсулах был яд.
Мадеру не удалось добраться до кухни, он рухнул на пол в прихожей, корчась и задыхаясь, из горла его вырывались громкие хриплые звуки. Он пытался подняться, но ничего не получалось. В борьбе со смертью пальцы вгрызались в паркет пола, занозы впивались под ногти, но адская боль внутри затмевала все.
Перед тем как потерять сознание, он закричал еще раз, затем пульс замедлился до слабого подрагивания, дыхание стало едва слышным. Несколько секунд еще продолжались судороги, и после полного паралича наступила смерть.
Солдат Бока подходил к лестнице, когда он услышал крик. Это был такой пронзительный звук, который могла бы издать женщина или даже животное. Бока не стал долго раздумывать — он и без того запаздывал. В лавке у Вольфа было полно покупателей, а на обратном пути он к тому же встретил земляка из своей деревни. Тот тоже служил ординарцем у офицера, и они немного поболтали. Только когда часы на башне пробили три четверти шестого, Бока быстро попрощался и поспешил домой.
Солдат взбежал вверх по лестнице одним духом. Нагруженный пакетами, он не смог быстро вставить ключ в замок. Пройдя темную прихожую, Бока положил покупки на кухонный стол. В квартире было тихо, и он подумал, что визит еще не начался. Решив спросить у господина капитана, как сервировать ветчину, он снова прошел через прихожую в гостиную. Какой-то особенный горьковатый запах стоял в воздухе, какого раньше никогда не было. Капитана не было ни в гостиной, ни в спальне, ни в ванной комнате. Во всех помещениях горели газовые лампы, а на письменном столе стояла еще и горящая свеча. Удивляясь, Бока оглянулся вокруг и тут внезапно вспомнил о животном крике, который он слышал. Он схватил свечу, и, еще не дойдя до прихожей, его охватило предчувствие, что с капитаном случилось что-то ужасное.
Он нашел труп в углу около двери на кухню. В позе эмбриона, поджав ноги к груди так, что они почти касались подбородка, лежал Мадер. Только руки все еще впивались в паркет, и из-под разодранных ногтей выступала кровь.
— Боже милостивый, господин капитан! Что случилось, господин капитан?
Бока опустился на колени возле бездыханного тела и попытался его выпрямить. Лицо капитана было багрово-синим, но на ощупь еще теплым. Бока попытался нащупать пульс. Он приложился ухом к груди своего капитана, но не мог понять: слышит он удары собственного сердца или капитана. Бока был крепким парнем, он поднял тело и положил на кровать в спальне, укрыв одеялом. Затем он ринулся из квартиры, сбежал по лестнице вниз и устремился через улицу к дому, где висела табличка с фамилией врача.
В приемной находились два пациента. Сидевшей в регистратуре медсестре после нескольких попыток удалось из сбивчивого рассказа Бока на его ломаном немецком узнать, в чем дело, и она позвала врача. Это был пожилой человек со спутанной бородкой, усталыми покрасневшими глазами и высоким морщинистым лбом. Не надевая пальто, которое уже держала медсестра, он бросил несколько инструментов в свой черный саквояж и последовал за изнывавшим от нетерпения Бока. На пороге врач на секунду остановился.
— Сообщите в полицию, — крикнул он медсестре и после короткого раздумья добавил: — И в штаб гарнизона!
Переходя дорогу, доктор с трудом поспевал за Бока. Перед домом номер 56 они натолкнулись на людей, большей частью жильцов, толпившихся вокруг управляющей домом. Очевидно, она видела, как Бока куда-то понесся сломя голову, и инстинктивно почувствовала, что в квартире капитана что-то неладно. Управляющая загородила Бока дорогу и со всей силой авторитета представителя домовладельца потребовала сообщить, что случилось.
Как раз в этот момент к дому приблизилась Анна Габриель. Одета она была в темно-зеленый шерстяной костюм с современной, укороченной юбкой, на голове — в тон костюму — широкополая шляпка со множеством шелковых цветочных лепестков на полях. Несмотря на то что шляпка была закреплена на голове четырьмя шпильками, Анне с трудом удавалось удерживать ее от порывов ветра. Слегка запыхавшаяся, с румянцем на шеках, Анна выглядела прекрасно, была в превосходном настроении и напевала про себя последний шлягер Лео Фалля. Заметив Бока и пожилого господина в белом халате, стоявших в окружении группы женщин, она остановилась.
Бока тоже увидел ее. Он как раз входил в дом, грубо отодвинув управляющую в сторону. Позднее он никак не мог объяснить, что заставило его остановиться на пороге и крикнуть Анне Габриель:
— Идите домой!Убирайтесь отсюда, черт побери! Убирайтесь отсюда!
Затем он поспешил в дом, и врач последовал за ним.
Анна стояла окаменев. Она чувствовала направленные на нее враждебные вопрошающие взгляды, но уже через миг все потянулись в дом и столпились перед дверью квартиры капитана.
Анна чувствовала неодолимое желание следовать за людьми и лишь отчаянным усилием воли заставила себя повернуться и уйти. Она понимала, что с капитаном Мадером случилось что-то ужасное и что слова солдата Бока, возможно, были попыткой предупредить, спасти ее от той же судьбы. Она стояла на краю пропасти, чувствовала, что почва стала уходить у нее из-под ног. На ближайшей стоянке она взяла фиакр, назвала кучеру адрес и приказала поторопиться.
Доктор Брук бросил беглый взгляд на лицо Мадера, лежавшего на мягкой подушке, и понял, что его помощь здесь не понадобится. Человек был мертв. Доктор наклонился к трупу, и, когда он приподнял одеяло, ему ударил в нос запах горького миндаля. Из угла рта стекала тонкая струйка крови, пачкая расстегнутый ворот кителя. Насильственная смерть, как знал доктор из опыта, была неприятным делом.
— Синильная кислота, — пробормотал он сам себе.
Бока стоял у кровати, крепко сцепив руки на спинке, бледный как полотно.
— Нет тридцать минута, как я уйти, — сообщил он. — Моя уходить, капитан был хорошо.
— С этим ядом и минуты достаточно. Он действует мгновенно, — мрачно проговорил доктор и вдруг сердито набросился на Бока: — Не стой тут истуканом, черт побери! Делай что-нибудь!
Доктор был штатским, и, по мнению Бока, штатский может кричать на человека в форме, если он больше или сильней. Но здесь это было не так. Доктор взглянул устало на солдата и увидел в его глазах отчаяние и тоску. Ему стало стыдно.
— Мне здесь больше нечего делать, — и, взглянув вновь на мертвого, добавил: — Позови-ка ты, братец, лучше священника. Я думаю, капитан был католиком. — Заметив, что Бока не пошевелился, доктор добавил: — В такие моменты, молодой человек, нужно думать более о живых, чем о мертвых. Я имею в виду родителей капитана.
— Вы оставаться с ним? — спросил Бока.
Было ясно, что Бока сказал бы обязательно «с господином капитаном», если бы Мадер был жив. Не из неуважения к капитану, а из-за того, что Бока был не в состоянии в этой скрюченной фигуре с лицом, изуродованным гримасой смертельной муки, узнать того самого человека, которого он всего полчаса назад оставил в квартире.
— Да, я останусь здесь, — сказал доктор и сел в кресло, стоявшее около кровати. Ему было шестьдесят девять лет, а после рабочего дня он чувствовал себя так, как будто ему было сто.
Едва Бока вышел, как появился лейтенант полиции Хорн с двумя своими людьми. Медсестра сообщила ему о несчастном случае с офицером Генерального штаба, поэтому лейтенант сразу же известил военное министерство, Бюро безопасности и комендатуру гарнизона. Он был вовсе не сторонник того, чтобы люди из этих организаций вмешивались в расследование, так как считал, что полиция работает эффективней, если ей не мешают, но в данном случае военных исключить было невозможно.
На первый взгляд, все говорило в пользу самоубийства: мгновенно действующий яд, начатое письмо на письменном столе, отправка из дома ординарца перед тем, как принять яд. Свеча, при которой погибший писал письмо, все еще горела. В одной из ваз стоял букет хризантем, а на кухонном столе лежали несколько нераспечатанных пакетов с деликатесами.
— Какая жалость, — сказал доктор. — Такой красивый молодой человек. Я встречал его пару раз утром на улице. Обычно я без четверти восемь иду навещать своих пациентов, и в это время он выходил из дома. Понятия не имею, где он работал.
— В военном министерстве, — произнес лейтенант.
— Ах да, правильно. Солдат сказал мне, что он служил в Генеральном штабе. Почему он это сделал, господин лейтенант?
— Что сделал?
— Покончил с собой. Наверное, из-за женщины. Как безрассудна молодость. Лишить себя самого дорогого — жизни — из-за того, что так доступно и всегда имеется в избытке.
Лейтенант не ответил. Он прошел в кабинет, взял в руки неоконченное письмо, прочитал его внимательно два раза и, помедлив, положил вновь на письменный стол. Один из детективов изучал содержание корзинки для бумаг, другой — мусорное ведро на кухне. Лейтенант выдвинул ящики письменного стола. Стопка бумаги для писем, фотографии в коробках и вклеенные в альбом, ручки, карандаши, почтовые марки, пачка табака, бумага для сигарет, машинка для свертывания сигарет, узкий скоросшиватель для счетов — все с пометкой «оплачено», квитанции, стопки писем — все аккуратно перевязанные красивым шнурком, служебный пистолет капитана. Всё в чистоте и порядке.
— Почему же он не застрелился? — спросил доктор. — Почему выбрал такую мучительную смерть?
Грехи покойному отпустил пастор Еллинек, высокий, мускулистый священник из церкви на Хауптштрассе. Его в спешке удалось найти на одном из незастроенных участков, где он, судя по глине, налипшей на его башмаки, вероятно, играл в футбол.
Бока стоял на коленях в ногах кровати, уставившись на висевшую на стене копию «Святого семейства» Микеланджело. Капитан Мадер купил ее во Флоренции, когда возвращался из Рима с соревнований по скачкам. Он рассказал Бока, как при посещении галереи Уффицци встретил молодого художника, который писал в этот момент копию этой картины, и как он, Мадер, был счастлив, когда художник согласился уступить ее капитану. Казалось, что он гордился этим гораздо больше, чем призом, который завоевал на скачках. Тогда Бока не смог до конца понять своего капитана, но сейчас при воспоминании об этом слезы потекли у него из глаз.
— Когда, говоришь, отправил тебя капитан в лавку за деликатесами? — спросил лейтенант.
Священник и его служка уже ушли. Лейтенант полиции сидел на софе, солдат Бока стоял перед ним. Доктор Брук уселся вновь в кресло около кровати, которое он тактично освободил, когда пастор Еллинек совершал обряд над покойным.
— Как я вам сказать, господин лейтенант, в четверть шесть, — ответил Бока.
— И когда же ты вернулся?
— Полчаса позже, господин лейтенант.
Бока говорил с сильным венгерским акцентом, а его словарный запас был ограничен. Поскольку в его родном языке артикли, обозначающие мужской, женский или средний род, отсутствовали, он обходился вообще без них и говорил всегда «он», независимо от того, шла ли речь об окороке, который он только что купил, или о девушке, которая его обслуживала в лавке, об улице, по которой он возвращался, или о часах на башне, которые ему напомнили, что он должен поторопиться домой. Точно так же мало он заботился о спряжении немецких глаголов и использовал только неопределенную форму, невзирая на то, говорил ли он о происшедшем вчера, сегодня или сто лет назад. Настоящим знатоком немецкого языка он был только в одной области — ругательствах. Здесь он мог дать несколько очков вперед любому специалисту из пехоты или преподавателю конной езды у драгун. Его способ изъясняться привел в замешательство доктора, но отнюдь не лейтенанта полиции. Уши служащего венской полиции привыкли к многочисленным диалектам и грамматическим несуразицам речи жителей этого двухмиллионного города.
— Почему господин капитан послал тебя за покупками? — спросил лейтенант.
Бока пожал плечами.
— У нас нет кушать дома, господин лейтенант.
— Он ждал кого-нибудь в гости?
— Может и так, господин лейтенант. — Когда Бока попадал в щекотливую ситуацию, он изображал из себя деревенского недотепу и его лицо приобретало абсолютно бессмысленное выражение.
— Да или нет?
— Я не знать, господин лейтенант. — Бока презирал всех штатских, включая полицейских, но старался с ними не ссориться.
— Он тебе ничего не сказал?
— Как же, сказать, — с готовностью сообщил Бока.
— Так что же?
— Полкило ветчина должен принести, двенадцать булочка и два бутылка вино. Это он мне сказать, господин лейтенант.
— А тебе не показалось, что для ужина на одного человека это немного многовато?
— Нет, господин лейтенант. Господин капитан любить покушать. И еще, — он бросил взгляд на бездыханное тело на кровати, и у него перехватило горло от душевной боли, — что он кушать, я тоже кушать. Так он всегда хотеть.
С лестницы послышался звук приближающихся шагов и громкие голоса. Вошли военный следователь капитан-аудитор Кунце и полковой врач доктор Рупперт. Капитан остался ждать в кабинете, пока доктор Рупперт, худой нервный человек в пенсне и с выражением постоянного недоверия ко всем и вся, обследовал тело. Доктор Рупперт небрежно пожал руку доктору Бруку, после чего открыто игнорировал его присутствие.
— Полагаю, нам придется подождать результатов вскрытия, прежде чем мы сможем судить о причинах смерти, — объявил доктор Рупперт. — Это может быть приступ эпилепсии, эмболия легких, инфаркт миокарда или пищевое отравление — все возможно.
Усталый голос доктора Брука, сидевшего за ним, произнес:
— Вздор, доктор! Это отравление синильной кислотой.
Доктор Рупперт резко повернулся и бросил строгий взгляд на штатского:
— Давайте не будем делать поспешных заключений!
— Это было отравление синильной кислотой. — Тихий голос доктора Брука звучал убежденно и властно.
— Вы полагаете, это самоубийство? — спросил Рупперт.
— Этот вопрос я оставляю открытым.
Капитан Кунце слушал этот разговор, слегка нахмурившись. Это был стройный мужчина средних лет, с выражением лица, напоминавшим лицо Гамлета, только что пережившего укол отравленной шпаги. Слово «самоубийство» в сочетании со словом «синильная кислота» встревожили его. Он хорошо знал, что для армии инсульт или сердечный приступ были бы гораздо предпочтительней. От офицера, к тому же служившего в Генеральном штабе, в случае если он решил покончить счеты с жизнью, можно было ожидать, что он пошлет себе пулю в голову, а уж крысиный яд, кислота, прыжок из окна или под поезд — это для штатских.
— Благодарю вас, доктор, за то что вы так быстро смогли прийти. — Он пожал врачу руку. — Что касается вашего гонорара, то финансовый отдел все это уладит.
— В этом нет нужды, — отрицательно покачал головой старый доктор. — Хотя я не имел чести лично знать господина капитана Мадера, пока он был жив, но тем не менее — мы были соседи, и я считаю своим долгом помочь соседям в случае необходимости. Я хотел бы только сделать для него больше.
Полицейский сообщил, что прибыла санитарная машина. Закутанный с головы до ног тяжелым покрывалом, труп Рихарда Мадера отвезли в морг военного госпиталя, где должны были произвести вскрытие. Капитан Кунце дал лейтенанту Хорну указание связаться с полицай-президентом Бржезовски и полицейским комиссаром доктором Вайнбергом, который относился к Бюро безопасности Управления полиции, и представить им обоим подробный рапорт о случившемся. Бока было предписано находиться на кухне и ждать дальнейших указаний.
— Теперь, между нами, — Кунце обратился к доктору Рупперту, когда люди из полиции уже ушли, — считаю своим долгом сообщить вам, что Мадер не кончал жизнь самоубийством. — Он взял неоконченное письмо к Ингрид Фиала в руки. — Это письмо Мадер писал непосредственно перед смертью. Оно совершенно не похоже на прощальное послание. Бедный парень строил планы на будущее. Кроме того, человек, который собрался принять смертельный яд, не будет обсуждать с девушкой обои или говорить о концерте Лили Леманн. Нет, доктор, нравится нам это или нет — это не самоубийство!
Доктор Рупперт поправил свое пенсне.
— Это могло бы быть несчастным случаем, — предположил он. — Почему бы и нет? Человек хочет принять аспирин, берет по ошибке не ту упаковку и глотает крысиный яд. В любом случае, я не готов принять как версию, что его отравили.
Капитан Кунце придерживался другого мнения. Это был не первый случай, когда он видел доктора Рупперта в деле и считал его плохим врачом и самонадеянным глупцом. На фоне всего этого ужаса, смрада насильственной смерти и вида молодого мужского тела, скрюченного, как огромное насекомое, ограниченность доктора вызывала у Кунце отвращение. Вообще, случай был ужасным, и Кунце надеялся, что дело будет поручено не ему.
Анна и Фридрих Габриель жили на четвертом этаже старого дома позади городского театра. Подъем по узкой крутой лестнице со стертыми ступенями — в доме не было лифта — требовал почти таких же усилий, как подъем в Альпах, и когда Анна наконец стояла перед своей дверью, она, как обычно, почти задыхалась. Анна надеялась, что Фриц еще не вернулся, но, увидав свет в гостиной, поняла, что надеялась напрасно.
— Что случилось? — спросил он. — Я думал, что ты на приеме у доктора Лорентца. — Она сказала ему утром, что вернется домой позже, так как зубной врач не может принять ее раньше шести.
— Ах, его срочно вызвали к больному. Медсестра отправила всех домой и закрыла кабинет. — Она лгала не задумываясь. С Фрицем можно было не осторожничать, так как он верил всему, что ему говорили. Отнюдь не потому, что он был глупым или легковерным, а потому, что он ей безоговорочно доверял.
— Расскажи, как ты провела день, — попросил он.
У них было заведено рассказывать друг другу о часах, которые они провели не вместе. Он работал на почтамте на Мариахильферштрассе около Западного вокзала. Там обычно что-нибудь случалось, бывали иногда довольно интересные люди, и он рассказывал ей о тех событиях, которые, по его мнению, могли ее развлечь. Она слушала его с удовольствием, хотя ее не оставляло чувство, что он при этом хочет ее убедить, что работа на почте ему нравится и он нисколько не жалеет, что принес ей в жертву свою военную карьеру.
Обедать он приходил, как правило, домой, поэтому ужин состоял из остатков от обеда, бутербродов и чая. Их прислуга работала только до обеда, и Анна проводила первую половину дня занимаясь покупками, уборкой и готовкой. С двух часов дня до семи вечера она была свободна. Само собой, ее рассказы о том, как она проводила эти часы, были совсем не так полны и правдивы, как его, и напоминали прошедшую цензуру газету в каком-нибудь полицейском государстве, в которой были большие пробелы.
Они практически не поддерживали связи с его бывшими офицерскими друзьями. Среди их нынешних знакомых были писатели, музыканты, журналисты, которые ему нравились, а ее приводили в восторг. Но она взяла себе за неукоснительное правило никогда не спать с мужчинами, которые как-то могли соприкасаться с их теперешним кругом знакомых.
— Ты так и не рассказала мне, как ты провела сегодня день, — напомнил он ей.
Она заметно нервничала, что было ей совсем несвойственно. Их совместные вечера с самого начала были самыми счастливыми и приятными часами всего дня, но сегодня он ощущал ее беспокойство, и это тревожило его.
— О, ничего особенного, — она пожала плечами. — Я забегала на минутку к маме. Отца снова мучает подагра. Ах да, я сегодня видела императора, когда его карета сворачивала с Мариахильферштрассе на Ринг. Наверное, он ехал из Шёнбрунна. Мне показалось, что он был бледен, но я могу и ошибаться, так как он ехал в закрытой карете.
Ее речь была отрывистой и не всегда достаточно связной. Что-то должно было сильно взволновать ее, подумал он и удивился, что она ему ничего не рассказала.
— Ну мы сегодня и посмеялись, — сказал он, когда молчание затянулось. — Один клиент попросил продать ему тысячу почтовых марок по десять геллеров. Выглядел он как простой рабочий — вроде каменщика или плотника. Я спросил его, зачем ему нужно тысячу марок. Ты никогда не догадаешься, что он ответил! Он слышал, что почтовый сбор будет повышен до двенадцати геллеров, и тогда после повышения он сможет продать свои марки с выгодой. Как тебе это нравится?
Анна ответила лишь мимолетной улыбкой. В отчаянии она пыталась скрыть раздиравшее ее внутреннее волнение. Что-то ужасное случилось с Мадером, но не это было страшным, а то, что ей едва удалось избежать скандала. Приди она на какую-то пару минут раньше, она была бы уже в квартире или даже в его постели, когда несчастье — это, конечно, было какое-то несчастье — произошло бы. До сих пор ей пока удавалось предаваться своим удовольствиям, не ставя под удар свой счастливый брак. Она стала беззаботной и неосторожной, не задумываясь о том, что достаточно просто проговориться или произойти какой-то случайной встрече, чтобы навсегда разрушить семейные узы.
— Я люблю тебя, Фриц, — сказала она.
Он бросил на нее удивленный взгляд. Никто из них двоих не был по природе склонен к чрезмерному проявлению эмоций. Он принимал ее чувство к нему таким же само собой разумеющимся, как его к ней. Не было необходимости тратить на это слова. Они целовались при встрече или при расставании и часто бывали вместе в постели. Они были не только мужем и женой, но и хорошими друзьями.
— Я знаю. — Это прозвучало спокойно, но он чувствовал себя неуютно.
Внезапное объяснение в любви было для него так же непонятным, как и ее попытки скрыть свою нервозность. Он подошел к камину и стал возиться с дровами, но она продолжала:
— Я люблю тебя больше жизни. Не забывай это. Что бы ни случилось.
Принц Хохенштайн был высоким худощавым молодым человеком, с лицом испанского гранда с картины Эль Греко. Своими движениями он напоминал чистокровного коня.
Если он подходил к стулу, было полное впечатление, что он собрался одним движением перепрыгнуть через него, а не сесть. Он был вежлив, скромен и обладал выдающимися интеллектуальными качествами. Хотя он проявлял незаурядные способности к математике, семейные традиции требовали от него, как младшего сына, выбора военной карьеры, а не университетской. Нужно признать — и это делает честь армии, — что его способности были замечены, и ему было предоставлено достойное место в Генеральном штабе.
— Была ли встреча в туалете последней, когда ты вчера видел Мадера? — спросил Принца аудитор[650] Эмиль Кунце.
Они сидели в кабинете Кунце в гарнизонном суде. Капитан получил утром приказ о передаче ему дела Рихарда Мадера.
Хохенштайн, секунду подумав, сказал:
— Нет. Примерно в половине пятого я снова встретил его в коридоре. На нем уже были надеты плащ, фуражка и перчатки. Я заметил ему, что он уходит слишком рано, и пошутил, что сбегать нехорошо. Он засмеялся и сказал, что он торопится домой встречать гостя.
— Мужчину или женщину?
— Этого он мне не сказал.
— Знаешь ли ты еще кого-нибудь, кроме Герстена, кто получал такой же пакет от Чарльза Френсиса?
— Нет, но это ничего не значит. Мы сидим с Герстеном в одном кабинете и были вместе, когда принесли почту. Что касается Мадера — это была чистая случайность, что он зашел в туалет как раз в тот момент, когда мы с Герстеном эту дрянь выбросили.
— Лучше бы ты этого не делал, — заметил капитан Кунце.
Хотя они не были знакомы, тем не менее разговаривали друг с другом на ты. Таково было неписаное правило между офицерами в одном звании и между вышестоящими офицерами с подчиненными — разве только ситуация требовала официального разговора.
— На этот момент мы достоверно не знаем, есть ли связь между этим циркуляром и смертью Мадера, — продолжал Кунце. — После всего, что я о нем слышал, он мне показался слишком умным человеком, чтобы попасться на такой дешевый трюк.
— Замечательный парень и отличный товарищ. Нам в Генеральном штабе будет его очень не хватать, — сказал Принц.
Проводив Хохенштайна, Кунце вернулся к своему письменному столу. Он открыл папку и стал внимательно читать находившиеся там бумаги. На этих страницах содержалось рукописное сообщение о жизни капитана Рихарда Мадера, все данные, которые в спешке удалось собрать: выписка из его ежегодного медицинского обследования, короткая биография, его аттестаты и данные о личной жизни. Общий вывод на последней странице порадовал бы любое родительское сердце, но поверг бы в отчаяние криминалиста. Ни малейших указаний на какие бы то ни было неблаговидные поступки или сомнительные знакомства, сексуальные отклонения или враждебные с кем-либо отношения. Рыцарь без страха и упрека.
Почему кому-то нужно было убивать человека, который был настолько безобиден и дружелюбен, что непонятно, как такой человек вообще мог попасть в Генеральный штаб?
Еще до обеда полицейский привел в бюро Кунце фрау Чепа, управляющую дома номер 56 на Хайнбургерштрассе. Тощая, с узкими губами, она сильно напоминала главный инструмент ее профессии — длинную метлу из прутьев. Некоторое время она болтала о несущественном, и Кунце слушал ее в полудреме, пока одно из замечаний вмиг не прогнало его сон: «…и тут перед домом появилась молодая дама. И только Бока ее увидал, как его лицо стало белым и он закричал ей, что она должна уйти».
— Что вы имели в виду, когда сказали, что его лицо стало белым? — спросил Кунце.
— То, что я сказала, господин капитан, — пожала она плечами. — Белым как полотно. — Она помолчала секунду и шепотом добавила: — Выглядело все так, как будто он не хотел, чтобы она была там, когда появится полиция. Наверное, она что-то знала, а он не хотел, чтобы она это им рассказала.
Фрау Чепа в душе была зла на солдата Бока. Уже вскоре после переезда Мадера между Бока и ею возник спор из-за мусора, который она должна была забирать у жильцов. Бока, не привыкший к тому, чтобы получать указания от какой-то штатской, сделал ряд обидных замечаний об австрийцах вообще и их стремлении всегда увильнуть от физической работы в частности, на что фрау Чепа прошлась насчет родителей Бока самым нелестным образом. Только своевременное появление капитана Мадера предотвратило начало активных действий, но вражда между ними сохранилась.
— Вы сказали «молодая дама», — заметил Кунце. — По вашему мнению, она действительно выглядела как настоящая дама?
— Она совсем не выглядела как шлюха, если господин капитан это имел в виду.
— Какие отношения, по-вашему, могли бы быть между ней и солдатом Бока?
— Если вы меня спрашиваете, ваша милость, то они одна шайка-лейка. Когда он ей закричал, то она сначала вроде бы удивилась, а потом сразу повернулась и пошла прочь.
— А до вчерашнего дня видели ли вы ее раньше?
— Только один раз. На лестнице. Она как раз тогда вышла из квартиры Мадера.
— Был ли господин капитан тогда дома?
— Этого я не знаю. Может, и был. Это было примерно в семь вечера. Обычно в это время он дома.
Если Мадер был дома, ясно, что женщина посещала именно его, а не ординарца, подумал Кунце.
Утром того же дня полиция и военные юристы получили результаты вскрытия. Смерть наступила в результате отравления синильной кислотой. Хотя исследование еще не было закончено, патологоанатомы были едины во мнении, что дозы хватило бы, чтобы отправить на тот свет дюжину людей.
Капитан Кунце отдал приказ доставить на допрос солдата Бока. Пока он ждал его, почувствовал, как мигрень, подобно ненасытной крысе, пытается угнездиться у него за правым глазом и начинает вгрызаться в кости черепа. Вдобавок в желудке нарастало какое-то давление, хотя он за целый день не съел ни крошки. В последнее время эти головные боли стали появляться чаще, и он не знал почему. Жизнь, которую он вел, была приятной и упорядоченной, и он имел все основания считать ее счастливой: он был здоров, был доволен работой и домом.
Офицерская карьера Эмиля Кунце началась довольно поздно. Случай к тому представился во время маневров 1902 года, в которых он участвовал как лейтенант запаса. Предложение последовало от генерала Хартманна, одного старого знакомого, практически друга, хотя то, что их связывало, не совсем подходило под это определение. Мать Кунце служила более пятнадцати лет экономкой в доме Хартманнов, а он, Эмиль Кунце, вырос на их большой, комфортабельной, расположенной в огромном парке вилле.
Его мать, Вильгельмина Кунце, дочь учителя, была стройной, не лишенной привлекательности женщиной и напоминала собой казавшихся истощенными и не имеющими пола средневековых святых. Она была хорошо воспитана и обладала манерами дамы. Всех удивляло, почему она предпочла работать по хозяйству у чужой женщины, вместо того чтобы подыскать себе мужа, способного предложить ей собственный дом.
Ей было двадцать пять, когда на свет появился сын Эмиль как результат ее недолгого брака с фельдфебелем немецкого полка Гербертом Кунце, который вскоре после свадьбы исчез из ее жизни так же незаметно, как и появился незадолго до этого.
— Только не пытайся его найти, — сказала она подраставшему Эмилю, когда он стал спрашивать об овеянном тайной фельдфебеле. — Он был приличным человеком и хорошим солдатом. Это все, что ты должен знать. Имя, которое он тебе дал, почтенное имя. Если в будущем кто-то придет к тебе и станет предъявлять от имени фельдфебеля Герберта Кунце какие-то требования, укажи ему на дверь. Ты ничего фельдфебелю не должен — ни денег, ни заботы о нем. Помни всегда об этом.
Это была довольно необычная манера говорить с юношей о его предполагаемом отце, но Эмиль Кунце привык к особенностям своей матери. Кроме этого, он научился уважать ее нежелание подробно распространяться о своем браке. Ей тяжело давалась каждая копейка, которую она зарабатывала, при этом ей платили намного меньше, чем другим экономкам, не имеющим к тому же детей. Тем не менее мать Эмиля была, казалось, на особом положении в доме — ни прислугой, ни членом семьи. По иронии судьбы в доме семейства Хартманн были дамы, которые чувствовали себя в большой зависимости от экономки и даже слегка побаивались ее, а вовсе не наоборот.
Кунце подозревал, что мать располагает какими-то дополнительными средствами: мальчик никогда не испытывал нужды. Два раза в год она заказывала большой портрет дорогому фотографу. На себя она не тратила ни копейки. В воскресенье, когда после обеда мать была свободна, они гуляли вместе в лесу или совершали походы вдоль Дуная. В свой день рождения, а также вдень рождения императора они отправлялись в маленький ресторанчик. Дважды в году, когда были готовы фотографии, она отпрашивалась у фрау Хартманн после обеда, одевалась особенно тщательно и ехала в город. Через несколько часов она возвращалась и была на следующий день особенно молчалива. Своей привычке два раза в год отсутствовать она оставалась верной до самой смерти. Эмиль к тому времени уже сдал экзамены на юриста и работал в известной адвокатской конторе Теллера и Бауэра. Несмотря на его настойчивые просьбы оставить работу, мать продолжала вести хозяйство в семье Хартманн, пока сердечный приступ не заставил прекратить службу и не прервал ее жизнь. К своему огромному удивлению, Кунце узнал, что мать сумела собрать для него почти десять тысяч гульденов. «Для моего любимого сына Эмиля, — значилось в ее завещании. — В качестве компенсации за его несчастливое детство без отца».
У него часто возникало желание сказать ей, что она была не права. Он никогда не чувствовал себя несчастным. Ему никогда не хотелось быть кем-то другим, а не Эмилем Кунце, сыном фрау Вильгельмины. Генерал Хартманн, его жена, дочь и оба сына принимали его как члена семьи. Но где-то существовал еще кто-то, кто незримо вел его по жизни и внимательно за ним следил. Несомненно, предложение от фирмы Теллера и Бауэра было делом его рук, так же как и назначение в гарнизонный суд. Казалось, этот некто парил где-то на недосягаемых олимпийских высотах и не считал возможным снизойти к обычным смертным. В юные годы у Кунце часто возникало неодолимое желание вознестись на фаэтоне к своему ангелу-хранителю. Ясно было, однако, одно: фельдфебель Герберт Кунце, чье имя он носил, этим ангелом точно не был.
Эмиль был холостяком, но жизнь подарила ему фактическое супружество без неизбежных при этом неудобств. Женщина, с которой он жил, Роза фон Зиберт, воплощала в себе все мыслимые женские достоинства. Она нежно любила его и была готова быть его верной, тактичной, полной понимания подругой во все времена. Он считал себя вполне заурядным, неплохо выглядевшим для своих тридцати восьми лет человеком, с мягким бледным лицом, скорее более подходящим для священника, чем для военного. Его темно-русые волосы уже начинали седеть на висках. Он никогда не задумывался над тем, какое впечатление он производит на окружающих, был очень чистоплотен и приучен к порядку, но держался всегда несколько отчужденно, как мальчик, которого в детстве терпели в чужом доме и который теперь стал зрелым мужчиной.
С Розой он был знаком уже три года. Тогда он снял в ее высокой, перегруженной роскошной мебелью квартире две комнаты. Целый год понадобился Розе, прежде чем ей удалось завлечь его в постель. Как квартиросъемщик, который одновременно исполнял роль любовника, он настоял на неукоснительном выполнении договоренностей — платил довольно высокую квартплату, оплачивал половину остальных затрат, в том числе жалованье прислуги. За это он выдвинул единственное требование — чтобы его не тревожили. Роза не имела права зайти в его комнаты, если ее не приглашали. Точно так же она не имела права представлять его своим гостям или рассчитывать на его общество, когда ее куда-то приглашали. Сначала она пыталась нарушать эти предписания, но после его угроз съехать с квартиры смирилась.
С самого начала их связи он дал ясно понять, что жениться на ней он сможет не ранее, чем станет полковником, что означало срок не менее двадцати лет. Роза была вдовой одного из членов кабинета и жила на государственную пенсию. Офицеры императорской армии пользовались авторитетом и уважением, но денежное содержание их было невелико. Залог, который требовалось заплатить при заключении брака, не могли внести ни Кунце, ни Роза. Только начиная с чина полковника оклады становились достаточно большими, и офицеры могли жениться, не внося залога. Необходимым условием при этом было то, что невеста должна иметь безупречную репутацию. Роза была достаточно умна — она заключила договор на аренду квартиры с Кунце от имени своего деверя, тем самым избежав лишних разговоров. Кунце забавляло, что армейский кодекс чести ничего не имел против сожительства, но категорически запрещал, чтобы такое сожительство позднее было узаконено. В этом заключалось одно из тех противоречий, которые наводили на мысль, что армия ведет себя как ставший большим, но оставшийся на прежнем умственном уровне ребенок.
— Кто была эта женщина? — в пятый раз на протяжении допроса спросил капитан Кунце у солдата Бока.
И солдат Бока в пятый раз отвечал:
— Какая, господин капитан?
— Черт побери, Бока, ты прекрасно знаешь, кого я имею в виду! — не выдержал капитан.
В ответ Бока стал быстро много что-то говорить, но ничего конкретного. Кроме того, его немецкий вообще временами понять было невозможно.
В конце концов капитан потерял терпение, вызвал аудитора-практиканта лейтенанта Сабо и приказал допросить солдата на родном языке.
Если Кунце по своему внутреннему миру и поведению был скорее юрист, чем военный, то лейтенант Сабо был военным с головы до ног. Небольшого роста, коренастый, с копной курчавых волос на голове и висячими усами, он походил на маленькую, охранявшую стадо в венгерской степи собачку. Да и голос его, когда он задавал вопросы, напоминал лай. В один момент Кунце показалось, что лейтенант станет не только лаять, но и кусаться.
Нужно отдать должное Бока, что он при этом смог выдержать больше часа.
Вначале он рявкал в ответ так, как если бы он находился на казарменном плацу; постепенно голос его перестал напоминать раскаты грома, он стал медлить с ответами и перешел почти на шепот.
Ровно через семьдесят две минуты после прихода лейтенанта Сабо Бока сдался и назвал имя: фрау Фридрих Габриель.
Имя капитана Рихарда Мадера появилось в венских газетах впервые 19 ноября 1909 года. Ведущая утренняя газета в разделе «Местные новости» поместила следующее сообщение:
17 ноября около шести часов вечера капитан Рихард Мадер, один из способнейших офиисров Генерального штаба, был найден своим ординарцем мертвым. Принимая во внимание, что капитан обладал при жизни отменным здоровьем, начато следствие с целью установить причину его внезапной смерти.
В следующей заметке описывалось происшествие на Кэрнтнерштрассе. Лошадь одного из фиакров без всяких видимых причин понесла, чем обратила прохожих в панику. При этом легкие повреждения получил один семидесятилетний табачный фабрикант. Только благодаря мужественному вмешательству полицейского офицера Михаэля Рознера лошадь удалось остановить.
Хотя обе заметки были примерно одной величины, репортеров, толпившихся у бюро полицай-президента Бржезовски, совершенно не интересовало состояние здоровья табачного фабриканта. Несколько крон, которые удалось сунуть ждавшим задания детективам, позволили узнать о срочном совещании, в котором участвовали полковник Кучера от венского гарнизона, капитан-аудитор Кунце, комиссар полиции доктор Вайнберг и генерал Карл Венцель, начальник гарнизонного суда. Темой совещания была смерть капитана Мадера.
Поскольку, по мнению полиции, возможность самоубийства была исключена, обсуждался главный вопрос — поиск убийцы-отравителя. Необходимо было отыскать хотя бы какой-нибудь след или указания на личность или мотивы преступления. Возможно, это был член какой-нибудь антимонархической организации — серб, хорват или венгр. Им мог бы быть и ревнивый супруг, обойденный по службе офицер или соперник. Совсем не обязательно это был «он», с такой же вероятностью это могла бы быть и женщина — покинутая возлюбленная, например. Слухи и предположения были настолько шатки и неопределенны, что даже падкие на сенсации репортеры бульварных газет не отваживались их публиковать.
В десять часов тридцать минут одетая в дорогой зеленый шерстяной костюм молодая женщина была препровождена одним детективом с черного хода по бесконечным коридорам через переполненную приемную в кабинет шефа полиции. Хотя ее лицо было скрыто густой вуалью, один из репортеров моментально ее узнал. Ее имя было Анна Габриель.
Репортер вращался, как и супруги Габриель, в богемном кругу и был ошеломлен, увидев, что она доставлена в Управление полиции. Растолкав коллег, он остановил ее у дверей кабинета.
— Фрау Габриель! Ради всего святого, что им нужно от вас?
Она остановилась и взглянула на него, как на внезапно возникшего билетного контролера. Ее глаза под вуалью казались еще больше и темнее, чем обычно. Ее страх и растерянность бросались в глаза.
Сопровождающий ее детектив вмешался:
— Дама не имеет права ни с кем разговаривать, господин Свобода.
Генерал Венцель и барон фон Кампанини на протяжении своей долгой военной карьеры встречались довольно часто, иногда по работе, иногда в обществе. На глазах генерала Анна из неуклюжей девчонки превратилась в привлекательную, обладающую особым шармом женщину. Он был наслышан о ее похождениях и, как член гарнизонного суда, приложил руку к преждевременному выходу ее отца на пенсию.
И вот перед ним стояла Анна фон Кампанини, запятнавшая в свое время репутацию офицера австро-венгерской армии. Стояла в качестве свидетеля, а возможно, и подозреваемой, в деле о вероятном отвратительном убийстве.
Этот день у генерала был довольно тяжелым. Язва желудка снова напомнила о себе, что было, вероятно, реакцией на последнюю выходку его любовницы, актрисочки из венского театра. Под предлогом посещения своей больной матери в Граце она провела несколько дней в Монте-Карло в обществе одного итальянского графа. И вот теперь, когда он видел перед собой снова молодую женщину с далеко не безупречным образом жизни, он чувствовал не только физическую боль в желудке, но и душевную, вызванную ревностью и обидой. Но что еще более его раздражало, так это современная молодежь. Ему было пятьдесят шесть лет, он был далек от мысли считать себя стариком, но любой человек моложе тридцати был для него непостижимым, и это приводило его в ярость. В его глазах вся эта молодежь нового столетия — не исключая его возлюбленную — была алчной, неблагодарной и пресыщенной. Они не могли по достоинству оценить того, что обеспечило для них его поколение, — мирную, процветающую монархию, в которой каждый, кто стремился достичь чего-то в жизни, имел перспективы и шансы. Нижние слои участвовали в шумных и бессмысленных демонстрациях или в подстрекаемых социалистами забастовках. Верхние слои тратили время на всякий вздор: дрались на дуэлях, погрязли в разврате и бесконечных любовных аферах. Много говорилось о войне. Он, как и большинство военных, полагал, что война неизбежна. Более того, он мечтал о ней, считая войну единственным средством, способным очистить монархию от грязи и позора и восстановить добрые старые моральные устои.
К проблемам с возлюбленной прибавилось еще и то, что отношение жены к нему заметно изменилось. На протяжении их двадцатилетнего брака Лили Венцель ревностно следила за продвижением по службе супруга, закрывая при этом глаза на его любовные интрижки. От своего отца она унаследовала не только деньги, но и остроту мышления и терпимость — или это было высокомерие? — богачей. А теперь вдруг она стала капризной и раздражительной. Он поначалу пытался объяснить это влиянием погоды, необычной для сентября жарой, однако дни стали прохладнее, но она оставалась такой же. Вероятно, таким невыносимым образом переживала она климакс, и он должен был с этим, как и со своими другими проблемами, примириться.
После обычных формальностей: фамилия, семейное положение, род занятий, адрес — капитан Кунце приступил к допросу.
— Фрау Габриель, что вы делали семнадцатого ноября в шесть часов вечера перед домом по адресу Хайнбургерштрассе, номер 56?
Муж Анны узнал о смерти Мадера из утренней газеты. Она оставалась еще в постели, когда он, бледный и потрясенный, зашел в комнату и сказал ей об этом. Они с Мадером учились в военном училище на одном курсе и позднее служили войсковыми офицерами в 15-м пехотном полку в Брассо. Хотя после выхода Габриеля в отставку они потеряли связь друг с другом, трагическая смерть бывшего товарища глубоко его потрясла. Он испытывал даже некоторое чувство раскаяния. Мадер был одним из немногих, кто прислал ему поздравление к свадьбе. И Габриель его за это не поблагодарил, так как свою записную книжку с военных лет он выбросил, как и воспоминания о людях того периода. Внезапно он понял, насколько это было ошибочным. Мадер протянул ему руку, а он этот жест проигнорировал. И вот Мадер мертв, и нет никакой возможности это исправить.
— Что я делала на Хайнбургерштрассе? — повторила вопрос Анна.
Вплоть до того момента, как ее ввели в этот кабинет, она не могла понять, что полиции от нее нужно. Но когда она узнала генерала Венцеля в группе выглядевших чрезвычайно серьезными мужчин, смотревших на нее холодно и недоверчиво, и заметила еще двоих в военной форме, она поняла, что допрос связан со смертью Мадера. Анна, конечно, понятия не имела, что им известно о ее связи с Мадером. Она знала только одно: ей надо быть начеку и постараться избежать любых ловушек.
— Я прогуливалась, — как можно спокойнее ответила она.
— Знакомы ли вы с солдатом по имени Йозеф Бока?
Она наморщила лоб. Имя казалось ей знакомым. И тут она догадалась, что речь идет об ординарце Мадера. Ей вспомнилось, что этот Бока был одним из солдат, которые когда-то обслуживали лошадей в школе верховой езды ее отца. Видимо, уже тогда Бока был ординарцем у кого-то из офицеров.
— Нет, я не знаю никакого солдата Бока, — ответила она с заметным оттенком неудовольствия. В конце концов, никто не имеет права требовать, чтобы дочь майора кавалерии знала солдата только потому, что он когда-то околачивался в школе ее отца.
— Почему же вы тогда повернулись и ушли, когда он закричал вам, что вы не должны входить в квартиру капитана Мадера? — спросил Кунце.
— Я вас не понимаю. Почему вы решили, что я собиралась входить в квартиру Мадера?
— Разве вы не были у него шестого и двенадцатого ноября?
Она была ошеломлена. Кто-то, скорее всего ординарец, рассказал им об этом. Или сам Мадер? Боже мой, только бы Фриц не узнал об этом!
— Ну, даже если и так, что с того, — вздернула она голову.
Было бы глупо врать дальше, так как ее инквизитор, по-видимому, был в курсе дела. Но стоит ли отчаиваться? В конце концов, она не имеет никакого отношения к смерти Мадера. Ясно, что он был убит, иначе к чему тогда весь этот театр? Если она сможет их убедить, что она здесь ни при чем, они должны будут ее отпустить. Секунду подумав, как далеко она может идти в своих признаниях, она сказала:
— Да, я была в эти дни в его квартире. И каждый раз после моего ухода он был жив и здоров. Позавчера я не успела даже подойти к дому. Об этом вы хотели у меня узнать? — И, не дождавшись никакой реакции, продолжала: — Я не понимаю, зачем вы меня сюда привели и спрашиваете о вещах, не имеющих к этому никакого отношения.
— Об этом решать нам, фрау Габриель! — закричал генерал Венцель. — А как насчет капитана Карла Молля?
Накануне вечером капитан Молль, который также был недавно переведен в Генеральный штаб, сообщил о получении аналогичного циркуляра от Чарльза Френсиса. Он не стал его выбрасывать, а передал вместе с содержимым своему начальнику.
— А что с ним? — спросила Анна. В первый момент это имя ей ни о чем не говорило.
— В апреле и мае этого года вас много раз видели входившей и выходившей из его квартиры на Зингерштрассе.
Только теперь до нее дошло: Молль был одним из этих безликих мужчин, с которыми она — будучи уже замужем — спала. Ни о какой любви к этому Моллю не было и речи, и когда их интрижка прекратилась, она о нем ни разу не вспоминала. Неожиданное упоминание его фамилии испугало ее. Она не видела тут никакой связи со смертью Мадера.
— Он что, тоже умер? — удивилась она. Она не могла позднее ни себе самой, ни другим объяснить, почему она это спросила. Но, по-видимому, этот вопрос подходил к цепи умозаключений этих пяти мрачных мужчин, так как они сбросили свои непроницаемые маски и обменялись многозначительными взглядами.
— Нет, ему удалось этого избежать, — сообщил ей генерал Венцель. — Так же как и Принцу Хохенштайну.
Еще одно имя возникло словно из воздуха. «Что им от меня нужно»? — спросила себя Анна. Сначала Молль, а теперь еще и Принц. Они что, собираются раскапывать все ее прошлое, как будто речь идет об античном городе, погребенном под слоями вековой пыли? И собираются копаться с каждым осколком амфоры илинайденой иконой?
Она распрямилась и выставила подбородок, как ребенок, которого подвергают незаслуженно строгому наказанию. В голове все закружилось, она сцепила руки в замок, чтобы не было видно, как они дрожат. В кабинете воцарилось молчание. Генерал Венцель явно ждал ее ответа, она же решила молчать.
Капитан Кунце прервал затянувшуюся паузу.
— Когда вы видели в последний раз фон Герстена, фрау Габриель?
Третье имя. На этот раз она вообще перестала что-либо понимать.
— Я думаю, что я не знаю никакого капитана фон Герстена.
— Это был один из учащихся вашего отца в военном училище в 1905 учебном году.
— Там были и сотни других. Некоторых из них я знала, вряд ли больше трех-четырех. И не уверена, что они все были из 1905 учебного года.
Снова собравшиеся обменялись взглядами.
— Но с Принцем Хохенштайном вы все же знакомы?
— Да, в свое время мне его представили, — она слегка кивнула.
— У вас была с ним любовная связь, точно так же, как с капитаном Мадером, Моллем и фон Герстеном!
— Нет, никакой связи с фон Герстеном у меня не было! Я уже вам сказала, что я его вообще не знаю!
— Но насчет других вы признаётесь? — набросился на нее генерал Венцель.
«Зря он так радуется», — подумала Анна. Она согласилась признать трех любовников абсолютно сознательно. Она все еще пребывала в неведении относительно цели ее допроса. Одно было ясно — в ее личной жизни основательно покопались и кое-что из интимной жизни вытащили наружу, то, что, как она надеялась, навсегда останется тайной для ее мужа. Конечно, не в их власти было привлечь ее к ответственности за то, что она спала с другими мужчинами, — если бы это было возможно, большая часть женского населения Вены оказалась бы за решеткой.
Однако в их власти было сообщить обо всем Фрицу Габриель, и это означало бы катастрофу. Она должна предложить им сделку — их молчание в ответ на ее согласие сообщить все, что они хотят знать.
— Да, насчет остальных я признаюсь, — она глубоко вздохнула. — Я действительно не понимаю, господа, что вы ищите. Скажите мне, и я, вероятно, смогу вам помочь. Мне очень тяжело…
— Ваш муж ревнивый человек? — прервал ее генерал Венцель.
— Нет, я думаю нет. — Ее сердце вновь забилось сильнее. — Нет, конечно же нет. Почему вы спрашиваете?
Генерал пропустил мимо ушей ее вопрос.
— Уж не хотите ли вы этим сказать, что он не имел ничего против ваших… делишек? — процедил Венцель. — С людьми, которые были его однокашниками или с которыми он служил в одном полку? Тогда он должен быть либо слабоумным, либо не иметь ни малейшего понятия о чести.
Анна почувствовала нарастающий гнев.
— Пожалуйста, оставьте моего мужа в покое, — закричала она. — Он замечательный человек с высокими моральными принципами!
В разговор вмешался полицай-президент Бржезовски.
— Человек с высокими моральными принципами, который терпит похождения своей жены! — До сих пор он сидел молча, сложив руки на животе и внимательно следя за говорившими. При этом он быстро и нервно вращал большими пальцами, что напоминало Анне игру кошки со своим хвостом.
— Нет, конечно, это не так! — Анна готова была разрыдаться. — Я думаю, что, конечно, он бы этого не потерпел, если бы знал.
Ее голос прервался, она не могла говорить дальше, онемев от страха перед этими пятью грозными мужчинами и от того, что они могут сделать с ее семьей. Она не сводила взгляда с Венцеля. Он был здесь единственным, кого она знала: она была знакома и с его женой, и с его репутацией старого донжуана. Она помнила его еще со времен своего детства. Он и его богатая, элегантная жена Лили бывали иногда на приемах, которые устраивала ее мать. Однажды он даже подарил ей коробку конфет.
— Я знаю, что это трудно понять, — сказала она тихо генералу Венцелю, пытаясь при этом забыть, что в помещении находились и другие. — Я люблю своего мужа больше всего на свете. Но я не могу, просто не могу оставаться ему верной. Это странно, я знаю, и я часто думала, что я должна, должна, наверное, обратиться к врачу, но к какому?
— Понимаете ли вы вообще, какую жертву принес вам ваш муж? Когда он сообщил своему командиру о намерении жениться, перед ним был поставлен выбор: или вы, или его военная карьера. Он выбрал вас. Это вам известно? — чеканя каждое слово, призывал к ответу генерал Венцель.
— Да, я всегда это…
— Но это не помешало вам изменять ему? — генерал укоризненно поднял указательный палец.
Она не могла найти слов, чтобы объяснить этому трибуналу праведников, что ее любовь к мужу и ее похождения на стороне не имеют между собой ничего общего. Ей было известно, что по моральным нормам общества она со своим «распутством» должна испытывать чувство вины. Но ей казалось, что она состоит как бы из двух личностей — образцовой супруги Фридриха Габриель и публичной девки, убежденной поборницы сексуальной свободы. При этом ни одна из них не должна привлекаться к ответственности за поступки другой. Теперь же пред судом должна была предстать образцовая супруга и ответить за проступки девки.
— Вы не ответили на мой вопрос, фрау Габриель, — сурово напомнил генерал Венцель.
— Я не знаю, что сказать, — пожала она плечами.
Было бессмысленно с ним что-либо обсуждать. Она нарушила супружеский долг и подлежала, по его мнению, самому суровому наказанию. И никакой Иисус Христос не смог бы ее спасти. Возможно, единственным выходом для нее было изобразить полное раскаяние — и не для собственного спасения, а исключительно ради мужа.
— Я признаю, что совершила ужасную ошибку.
— Ошибку? Тут не об одной ошибке речь идет, фрау Габриель, — полицай-президент чуть не задохнулся от смеха. Генерал Венцель реагировал на шутку с ухмылкой, выражение лиц остальных оставалось серьезным.
— Ну хорошо, я совершила ужасные ошибки, — согласилась она, и в ее голосе послышались резкие ноты. — Но здесь уже ничего не изменишь. Я могу только одно — исправиться и молить Бога, чтобы мой муж ничего об этом не узнал. — Она снова обратилась к Венцелю: — Господин генерал, я прошу вас только об одном — спасите мою семью. Вы не знаете моего мужа. Это самый добрый и внимательный человек на земле, но если он узнает, что я ему изменяла, то он…
— Убьет вас? — вставил быстро генерал.
Жесткость его тона заставила ее вздрогнуть.
— Нет, конечно нет, но…
Венцель встал и подошел к ней вплотную.
— Или убьет ваших любовников? Это вы хотите сказать?
Она отпрянула.
— Нет, нет! Я совсем этого не хотела сказать. Вы пытаетесь навязать мне это! Я бы никогда до такой вздорной идеи не додумалась!
— А разве не могло так случиться, что он узнал о ваших изменах и в порыве безумия или отчаяния решил отомстить тем мужчинам, с которыми вы ему изменяли?
Теперь наконец ей стало ясно, чего добивался трибунал, и эта догадка повергла ее в ужас. Кто-то убил Мадера и пытался убить также Молля и Принца. По роковой случайности все трое были ее любовниками, и поэтому ее Фриц становился главным подозреваемым. Господи милосердный! Если бы ее муж хоть капельку догадывался о Мадере или других, она бы это сразу заметила. Анна лихорадочно попыталась вспомнить подробности сегодняшнего утра, то, как муж, потрясенный, зашел в спальню, чтобы прочитать ей сообщение в газете. Если бы он хотел проверить ее реакцию или попытался поймать ее на чем-то, он бы вел себя совершенно иначе. Может, стал бы наблюдать, не выдаст ли она себя чем-то. О нет, он совершенно не обращал внимания на то, что она сказала, был страшно ошеломлен известием о внезапной смерти своего товарища. С другой стороны, тогда, двумя днями раньше, когда она вернулась с Хайнбургерштрассе, разве не спрашивал он настойчиво, что она делала во второй половине дня. Муж всегда интересовался, как она провела день, но семнадцатого он был особенно настойчив.
Генерал наклонился над спинкой ее стула. Она чувствовала его горячее дыхание, пропитанное сигаретным дымом.
— Что вы на это скажете, фрау Габриель? — шепотом проговорил он.
— Нет! Вы ошибаетесь! Фриц не убивал Мадера или кого-то другого. Он вообще на это не способен. Мы женаты уже четыре года, и я ни разу не видела его рассерженным. Он самый уравновешенный человек, какого я только встречала. У него нет ни одного врага. Он абсолютно ничего не знал ни о капитане Мадере, ни о других. Но даже если бы и узнал, конечно, он страдал бы, ужасно страдал, но никогда бы никому не сделал ничего плохого.
Генерал Венцель снова сел и стал листать материалы дела.
— Будем надеяться, что вы правы, фрау Габриель, — пробормотал он. — Я искренне на это надеюсь. Ради вас и ради вашего мужа.
— Я тоже, — присоединился полковник Кучера, а полицай-президент согласно кивнул головой.
После обеда в отеле «Бристоль», по пути в Президиум Кунце на несколько минут остался вдвоем с Бржезовски и попытался его убедить в том, что было бы целесообразно каким-то образом отстранить генерала Венцеля от роли судьи-следователя и ангела мщения. Кунце был совсем не в восторге от предстоящего допроса мужа Анны. То, что Габриель отказался от многообещающей военной карьеры ради любви к нимфоманке, по мнению Кунце, говорило о том, что он либо болен, либо невероятно наивен. И в том и в другом случае он заслуживал скорее сочувствия, а не осуждения. Вероятность, что он окажется Чарльзом Френсисом, весьма мала. Если бы это было так, то его попытка массового убийства поднимала его личность от простого рогоносца до трагической фигуры. Такой человек может просто сломаться под напором безжалостного допроса генерала Венцеля, и участвовать в таком спектакле Кунце не хотелось бы. Тактика генерала состояла в том, чтобы подавить человеческое достоинство подозреваемого еще до того, как будет доказана его вина. Работая аудитором, Кунце был свидетелем полной деградации человека в результате такой обработки, и каждый раз ему было не по себе, как если бы при этом пострадало его собственное достоинство.
Фридрих Габриель не имел ни малейшего понятия, для чего он был вызван и почему в повестке стояло «явиться немедленно».
Комиссия отправилась уже обедать в «Бристоль», когда в начале второго Габриель явился в Президиум, где его попросили подождать. На его предложение тоже сходить домой и прийти после обеда, один из полицейских грубо его осадил.
Пару недель до этого неизвестный попытался ночью проникнуть в почтамт. Полиция провела расследование, но безрезультатно. Когда Фридрих Габриель вошел в кабинет полицай-президента Бржезовски и увидел там генерала Венцеля и полковника Кучеру, он решил, что его вызвали по поводу неизвестного почтового грабителя, который пытался похитить какие-то военные документы.
Комиссару доктору Вайнбергу понадобилось не более получаса, чтобы уничтожить Фридриха Габриеля: как мужчину, как супруга, гражданина и служащего. Его первые вопросы касались отставки Габриеля из военной службы на основании известных мотивов. Затем он перешел к финансовым вопросам: сколько зарабатывает Габриель, каковы месячные расходы, имеет ли он значительные долги или нет. Постепенно Габриель начал терять терпение. Он все еще полагал, что речь идет о краже в почтамте, но не мог понять, почему с ним обращаются не как со свидетелем, а скорее как с подозреваемым.
— Вы не могли бы перейти к делу, господин комиссар, — предложил он в конце концов. — Что вам от меня нужно? О чем, собственно, речь? Задавайте откровенные вопросы и вы получите от меня такие же откровенные ответы.
Комиссар глубоко вздохнул:
— Хорошо, господин Габриель. Я спрошу вас совершенно откровенно. Посылали ли вы господину капитану Мадеру циркуляр от имени Чарльза Френсиса, в котором находились две капсулы с цианистым калием?
Несколько мгновений Габриель, буквально онемев, смотрел на комиссара. Затем он моргнул, как будто ему помешал внезапно упавший на него луч света.
— Что я посылал? — спросил он тихо, словно боясь понять услышанное.
— Посылали ли вы капитану Мадеру в военное министерство письмо с цианистым калием или нет?
Наконец до Габриеля дошел ужасный смысл вопроса.
— Черт побери, конечно нет! — ответил он. Его голос был спокоен, и в нем не было ни малейшего намека на оскорбленную невинность. — Как вам могла прийти в голову такая нелепость? Почему я? Что, милосердный боже, я должен был иметь против бедного Рихарда?
— Разве он не был любовником вашей жены?
Допрос развивался совсем не так, как ожидал доктор Вайнберг. Габриель был или один из лучших актеров монархии, или ничего не подозревавшей, невинной жертвой обстоятельств. Комиссар был слишком опытным полицейским, чтобы не понять, что последнее замечание Габриеля было с большой вероятностью искренним. Ему неодолимо захотелось прекратить допрос и отпустить этого человека, пока они не зашли слишком далеко, когда последствия уже невозможно будет исправить. К несчастью, армия требовала головы этого человека. Жертвами этого необычного покушения на убийство должны были стать четыре прекрасных офицера Генерального штаба. Один из них был убит, трем удалось избежать смерти. В данный момент мотив преступления все еще оставался загадкой. Но основанием могло послужить многое: от политических комбинаций до личной мести. Нельзя было также исключить шантаж, предательство, гомосексуальный аспект или деньги — все это могло иметь место, и все могло самым серьезным образом скомпрометировать армию и нанести на ее репутацию пятно неизгладимого позора. Окажись, однако, убийца ревнивым супругом, сияющий образ армии останется, как и прежде, без единого пятнышка.
От молодых, здоровых офицеров никто не ждет, что они будут вести монашеский образ жизни. Если капитаны Мадер, Молль и Хохенштайн наставили рога почтовому служащему — браво капитанам и к черту почтового служащего!
— Нет, он не был любовником моей жены! — Габриель, побледнев, повернулся к членам комиссии. — И если вы, господа, думаете, что ваш чин и ваше положение дают вам право обливать грязью мою жену, то вы глубоко заблуждаетесь. Мы живем не при военной диктатуре, а в государстве с конституционной монархией. И я приложу все силы, чтобы защитить наше доброе имя и воздать должное тому, кто пытается его запачкать, и вы все, господа, не являетесь исключением!
Генерал Венцель смотрел на него не двигаясь, и его лицо напоминало мраморную доску, на которой начертаны десять заповедей. Полковник Кучера, молчавший на протяжении всего допроса, сидел с закрытыми глазами, погруженный либо в глубокие раздумья, либо в сон. Бржезовски производил впечатление скучающего — много лет проработав в венской полиции, он привык к таким тирадам. Капитан Кунце, страдавший от всего происходящего, не мог сидеть спокойно на своем стуле.
Кунце ожидал, что Габриель или слабовольный человек, или просто дурак; но создавалось впечатление, что он ни то ни другое. Скорее всего, это был доверчивый, заслуживающий уважения человек, чье зрение сыграло с ним злую шутку — он смотрел на потаскуху, а видел в ней святую. Теперь этот дефект зрения предстояло исправить путем мучительной и необычайно болезненной операции.
Доктор Вайнберг, огорченно вздохнув, встал и протянул Габриелю один из рукописных листков протокола, лежавших на столе.
— Прочтите это, молодой человек, — приказал он.
Кунце не мог за этим наблюдать. Со своего места он видел в окно Ринг и расположенный за ним парк. Осеннее небо было затянуто серыми облаками, моросил дождь, и голые ветки деревьев блестели, как будто они были натерты воском. Какой-то дворняга-пес бежал вдоль стены парка, поджав хвост. Кунце проследил за собакой, пока она не исчезла. Он пытался таким образом уйти от необходимости смотреть на человека, который читал в этот момент протокол о похождениях своей жены.
— Что вы на это скажете, господин Габриель? — прервал молчание пронзительный голос генерала Венцеля.
Ни у кого из присутствовавших не было ни малейшего сомнения в том, что этот написанный на ужасном бюрократическом немецком протокол содержит сведения о похождениях жены Габриеля, о которых он никогда не знал и даже не догадывался.
У Габриеля был вид человека, получившего сильнейший удар или напившегося до бесчувствия. Он не ответил на вопрос генерала, видимо, он его вообще не понял.
Комиссар подождал несколько мгновений.
— Так что вы можете на это сказать?
Хотя его голос звучал мягко, Габриель реагировал так, как если бы в этот миг в окно попала пуля — голова его дернулась вверх, он бросил на доктора Вайнберга совершенно растерянный взгляд. Его лицо было красным от возмущения.
— Почему она это сделала? Кто докажет, что это все правда? Только потому, что это здесь написано? Но это ничего не доказывает! Вы просто пытаетесь на меня все это повесить! Поэтому вы пытаетесь меня убедить, что она… Что вам нужно? Скажите мне, и я сделаю все возможное, чтобы вам помочь! Я могу сказать лишь одно: я не посылал Мадеру эту гадость. Не тратьте зря время — так вы упустите настоящего преступника!
— Принц Хохенштайн и капитаны Молль и фон Герстен тоже получили циркуляры с ядом. Из этих троих Принц и Молль также были любовниками вашей жены. Герстен, насколько нам известно, нет. — Комиссар Вайнберг протянул Габриелю еще один лист протокола:
— Вот, прочтите это.
Габриель лист не взял.
— Нет. — Он отрицательно покачал головой. — Вы можете повесить на меня любые обвинения, но заставить меня читать эту грязь вы не сможете.
Пожав плечами, доктор Вайнберг положил листок на стол.
— Пригласите сюда фрау Габриель, — приказал он сидевшему в углу полицейскому, ведущему протокол. Тот встал и вышел из кабинета.
— Сядьте, господин Габриель, — комиссар указал на стул. Он сам тоже сел за стол.
Капитан Кунце почувствал подступающую тошноту, как всегда, когда ему приходилось присутствовать при казни.
Анну Габриель ввели в кабинет. Кунце с удивлением обнаружил, что она выглядела моложе и нежнее, чем до обеда, — обычно допросы, длившиеся часами, старили людей.
Ее зеленый шерстяной костюм был помят, элегантная прежде прическа выглядела неряшливо. Увидев мужа, она как бы споткнулась и попыталась поправить растрепавшиеся волосы. На ее лице блуждала слабая улыбка.
— Они тебе все рассказали? — спросила она и посмотрела ему в глаза.
— Что рассказали?
Он стоял выпрямившись и не двигаясь. В своем хорошо выглаженном сером костюме — он всегда уделял большое внимание одежде, — безупречной белой рубашке с накрахмаленными воротом и манжетами, он напоминал манекен в витрине.
— О Мадере и обо мне. — Она замолчала и глубоко вздохнула. — И о других, — добавила она.
Он смотрел на нее совершенно безучастно.
— Значит, это правда. — Это прозвучало скорее как утверждение, а не вопрос.
Она только кивнула.
— Все?
— Да.
Капитан Кунце наблюдал за этой сценой вовсе не как должностное лицо, а как забывший обо всем на свете зритель.
— Что теперь? — обратился Габриель к доктору Вайнбергу.
— Мы должны вас временно задержать, господин Габриель, — сказал комиссар. — Но вам нечего опасаться, если вы действительно не посылали яд. Можете быть уверены, что мы найдем убийцу. Наши люди опытны и толковы. Они редко ошибаются, а мой долг проследить, чтобы и в данном случае этого не произошло.
— Благодарю, — тихо и безучастно ответил Габриель.
— Могу я поговорить со своим мужем наедине? — обратилась Анна к Вайнбергу. — Только несколько минут.
Комиссар не успел ответить, как вмешался Габриель.
— Я не хочу этого, — сухо проговорил он.
Впервые, казалось, Анна потеряла самообладание.
Она положила дрожашую руку на плечо мужу. Он бросил взгляд на эту руку и отвернулся к противоположному углу комнаты, как если бы там было нечто, более заслуживающее внимания.
— Я понимаю, что все это ужасно, — она разрыдалась. — Но позволь мне только объяснить… Только выслушай меня!.. — Она повернулась к комиссии: — Пожалуйста, дайте мне только две минуты!
— В этом нет необходимости, — Габриель отрицательно покачал головой. — С вашего разрешения, господин комиссар, если у вас нет больше вопросов ко мне, я бы попросил отвести меня в камеру, — с военной четкостью офицера, которым он был до знакомства с Анной Кампанини, произнес он, обращаясь исключительно к доктору Вайнбергу, как если бы в кабинете никого больше не было.
— Как вы хотите, — согласно кивнул комиссар.
Поскольку у других членов комиссии возражений не было, комиссар дал указание отвести Габриеля в одну из приличных камер, где во время следствия содержались так называемые «важные» персоны.
— Ему разрешается принести постельное белье и ужин из дома, — сказал он полицейскому. — Вы не будете испытывать никаких неудобств, — сообщил он, обращаясь к Габриелю. — Однако свет должен гореть всю ночь. Так полагается, понимаете ли.
Габриель чопорно поклонился, остальным же членам комиссии он только кивнул головой. Полицейский сделал ему знак следовать за ним, и он двинулся к двери, но едва успел дойти до нее, как дорогу ему преградила жена.
— Я люблю тебя, — шепнула она ему. — Я никогда никого не любила, кроме тебя. Помни об этом. Помни об этом всегда.
Он протянул к ней руку, но только для того, чтобы отодвинуть ее с пути. Она проводила его взглядом, пока он не исчез за дверью.
— Вы можете теперь идти, фрау Габриель, — сказал полицай-президент Бржезовски. — Разве что у вас есть еще что-то сообщить, о чем не было упомянуто.
— Я не думаю, что у меня есть что-то еще, что бы вас интересовало. — Она выглядела теперь собранной и почти спокойной. — Вы сказали, господин доктор, — обратилась она к Вайнбергу, — что я могу прислать мужу постельное белье. Я бы хотела заказать ему в кафе напротив чашку кофе и ужин. Надеюсь, это разрешается?
— Конечно, фрау Габриель.
— Тогда я пойду. Благодарю вас, господа. До свидания.
— До свидания, фрау Габриель, — ответил комиссар. Остальные также пробормотали что-то в ответ, и лишь капитан Кунце поднялся, когда она выходила из комнаты.
Члены комиссии условились продолжить работу на следующий день в восемь часов утра, однако было уже около десяти, когда появились наконец последние — генерал Венцель и полковник Кучера. За четыре дня, прошедшие после смерти Мадера, работникам Бюро безопасности удалось выяснить новые важные подробности.
Кроме капитанов Мадера, Молля, фон Герстена и Принца Хохенштайна, подобные же циркуляры Чарльза Френсиса с цианистым калием получили еще четыре офицера. Это удалось узнать в результате опроса, проведенного во всех гарнизонах. Трое офицеров предоставили эти конверты, четвертый успел свой уничтожить, но описал его содержимое. Из этих четырех один проходил службу в Галиции, еще один в Будапеште, двое находились в отпуске. На всех конвертах, находившихся в руках следователей, стоял штемпель почтового отделения номер 59, расположенного на Миттельгассе, узкой улочке недалеко от Западного вокзала Вены.
— Материала вполне достаточно, чтобы отправить Фридриха Габриеля на виселицу, — заметил генерал Венцель. — Это как раз то отделение, где он работает.
Комиссия практически согласилась с мнением генерала, хотя это могло быть и случайным совпадением, но все изменилось, когда изучили конверт, адресованный капитану Моллю.
— А я думаю, что это как раз тот факт, который заставит нас снять с него обвинение, если оно будет ему предъявлено, в чем я сомневаюсь, — сказал доктор Вайнберг. — Если бы он действительно посылал письма от имени Чарльза Френсиса, то уж определенно не из почтового отделения, где работает. Фридрих Габриель к этим проклятым письмам не имеет никакого отношения. Допустим, он знал о связи своей жены с Мадером, Моллем и Хохенштайном. А что же тогда с пятью остальными? Что, она с ними тоже спала? С тем, кто в Галиции, и с тем, кто в Будапеште?
— Да уж, это вопрос так вопрос, — хихикнул генерал Венцель. — А вот над чем стоит подумать, так это то, что все получатели писем являются выпускниками военного училища 1905 года, как и сам Габриель. Барон фон Кампанини, отец фрау Габриель, был тогда преподавателем верховой езды. Это был последний год его службы. Следующим летом он вышел в отставку, когда стало известно, что его дочь спала со многими курсантами. Тем не менее, несмотря на ее репутацию, Фридрих Габриель женился на ней, что вовсе не говорит в его пользу. По моему мнению, господин комиссар, парень не имел понятия о моральных принципах. А когда он это понял, он сам ушел со службы. Ему стало ясно, что он не соответствует офицерскому корпусу.
Офицерский корпус! Синоним чести, мужества и порядочности! И сердцем этого могучего организма был Генеральный штаб, собрание благородных рыцарей круглого стола, паривших высоко на Олимпе и вхожих в Валгаллу. И каждый, кто отворачивался от них, считался дезертиром, как отлученный от церкви священник, как пария, трус или отравитель. В случае с Мадером у армии была только одна цель — виновный должен быть найден на нижней ступени общества, а именно среди штатских. И предполагаемыми жертвами были офицеры — тут ничего нельзя было изменить и скрыть это также было невозможно. Но, чтобы репутация армии оставалась безупречной, убийцей мог быть только штатский.
В конце дня капитан Кунце продиктовал своему протоколисту лейтенанту Хайнриху резюме всего того, что удалось до сих пор узнать полиции, Бюро безопасности и военным юристам по существу дела:
1. Все восемь получателей циркуляра Чарльза Френсиса были выпускниками военного училища 1905 года; семеро из них вскоре были представлены к званию капитана и переведены в Генеральный штаб, так же как и находящийся еще в настоящее время в Галиции обер-лейтенант. Адреса, несомненно, взяты из армейского официального вестника. Все послания были одинакового размера с одинаковым содержанием: обычные серые официальные конверты, письма размером 23 х 15 сантиметров, коробочки с двумя капсулами, завернутые и заклеенные в красную лощеную бумагу. Капсулы заполнены вручную и закрыты. Адреса напечатаны на гектографе, только фамилии написаны от руки, чертежным пером и красными чернилами, применяемыми для обозначений на военных картах и планах. Поскольку письма были не тяжелее, чем обычные письма 1 класса, конверты были маркированы марками достоинством десять геллеров.
2. Циркуляр содержал следующий текст:
Дата почтового штемпеля
КОНФИДЕНЦИАЛЬНО!
Чарльз Френсис, Вена, абонентский ящик VI/4
Ваше высокоблагородие!
Преждевременное снижение мужской половой активности стало болезнью нового столетия. Решение этой проблемы потребовало проведения серьезных исследований, в результате которых удалось получить средство, которое без каких-либо побочных эффектов позволяет существенно повысить мужскую потенцию.
Мы позволили себе предложить вам бесплатно это средство для опробования.
Ваш отзыв будет служить для нас лучшей рекламой.
Инструкция по применению: упаковку осторожно освободить от бумаги. Пилюли, не повреждая защитного слоя, принять обе за полчаса до coitus, быстро, одну за другой и запить холодной водой.
Великолепный результат гарантирован!
Пилюли рекомендуем принять без задержки, так как их содержимое легко портится на воздухе.
Ожидаем вашего заказа. Адрес указан выше.
С глубоким уважением.
Преданный Вам Чарльз Френсис, фармацевт
— Великолепный результат! — пробормотал лейтенант Хайнрих. — Вполне сойдет за блеф столетия.
Капитан Кунце продолжал:
3. Полицией установлено, что указанный абонентский ящик действительно существует, но уже на протяжении многих лет арендуется католическим управлением.
4. Каждая капсула содержит один грамм цианистого калия — количество, превышающее смертельную дозу в десять раз. Цианистый калий никогда не применялся в медицинских целях; основная область применения — фотография.
В империи для приобретения указанного вещества необходимо иметь особое разрешение на покупку ядовитых веществ. Продавец обязан сообщать о каждой покупке.
5. Полицией произведен опрос всех фармацевтов как в столице, так и в провинции, пока без результата.
6. Военное командование возможность политического заговора не исключает. Жертва и другие, которым угрожала смерть, являлись высокоодаренными молодыми офицерами. Вероятно наличие попытки врага, стоявшего за этим преступлением, таким образом обескровить императорско-королевскую армию. На этой стадии расследования не следует пренебрегать самыми абсурдными версиями.
7. Военное министерство установило вознаграждение в размере две тысячи крон за сведения, которые помогуть установить личность Чарльза Френсиса.
Капитан Рихард Мадер был похоронен со всеми воинскими почестями. Присутствовал весь состав Генерального штаба во главе с начальником Генштаба Францем Конрадом фон Хётцендорфом. Эрцгерцог Франц Фердинанд представлял кайзера. Для перевозки многочисленных венков и букетов цветов потребовалось большое количество катафалков.
Родители Мадера, невысокие пожилые люди, смотрели на это цветочное великолепие совершенно безучастно, на их лицах было написано лишь горестное страдание.
Днем раньше из Франкфурта приехала Ингрид Фиала. Полицай-президент Бржезовски распорядился выслать ей билет на поезд и отправил детектива сопровождать ее во время поездки. На время пребывания в Вене она была поселена на частную квартиру, откуда ей разрешалось выходить только в сопровождении полицейского. Ей было строго-настрого предписано избегать каких-либо контактов с прессой. Допрос, которому ее подвергли по прибытии, не дал ничего нового. Милое существо, глубоко потрясенное трагедией, она показалась им довольно скучноватой, и у полицай-президента создалось впечатление, что он напрасно потратил деньги налогоплательщиков на расходы по ее доставке в Вену.
Не дождавшись обещанного сопровождения, Ингрид решила пренебречь запретами и отправилась на похороны самостоятельно. Добравшись довольно поздно до кирхи, она примостилась на последней скамье среди домохозяек, школьниц, пенсионеров и других зевак, которые всегда стремятся попасть на похороны какой-нибудь знаменитости.
Ингрид была слишком подавлена, чтобы обратить внимание на присевшую рядом с ней даму в элегантном, отделанном норкой костюме. Лили Венцель также не имела понятия, кто такая Ингрид. После панихиды генерал Венцель быстро провел Лили через боковой выход к ожидавшему фиакру. Ингрид, всхлипывая, подошла было к фрау Мадер, чтобы сказать ей слова соболезнования, но, увидев страдание на ее лице, передумала.
Анна Габриель не пошла на похороны. В эти дни после смерти Мадера она редко вспоминала о нем. А в те моменты, когда это случалось, к чувству жалости примешивалась и какая-то зависть, сходная с завистью школьницы к одноклассникам, уже сдавшим эказамен, который ей еще предстоял.
Фридрих Габриель все еще содержался под стражей в полицейском Президиуме.
Анна много раз пыталась с ним увидеться. Комиссар Вайнберг лично выдал ей разрешение и даже говорил с ее мужем, но Габриель категорически отказался от встречи. Однажды она попыталась заговорить с ним в коридоре, когда его вели на утренний туалет, но он прошел мимо, не проронив ни слова.
Она лежала, вытянувшись на кровати, которую они делили с мужем в счастливые времена, и пыталась представить себе будущее без него. Как всегда, будут мужчины. Ее сексуальные потребности превратились просто в болезнь, с которой она безуспешно боролась в последние годы и которой при всей любви к мужу преодолеть не могла.
А без него шансы справиться с этим были ничтожны. Анна росла в семье единственным ребенком, и ее отношения с родителями никогда не были простыми. Новое столетие ознаменовалось огромными изменениями в социальной жизни — женщины стали независимыми и могли учиться, приобретать профессии и сами зарабатывать на жизнь. Но Анна не получила ни школьного образования, ни какой-либо профессии. Честно говоря, у нее не было ни малейшего желания работать на какой-то фабрике или сидеть в бюро. В ее размышлениях она снова вернулась к мужчинам. Теперь она будет требовать деньги зато, что она прежде дарила. Возможно, здесь ей удастся даже сделать карьеру, стать известной кокоткой, этакой венской дамой с камелиями.
Она схватила подушку Фридриха и прижала к себе.
«Пожалуйста, не бросай меня, любимый! — умоляла она подушку. — Дай мне, пожалуйста, шанс. Давай начнем все с начала. Забудь о том, что случилось. Я изменюсь, ты увидишь. Я обязательно исправлюсь. Клянусь, ты никогда не раскаешься».
Внезапно она выпустила подушку из рук. Звук собственного голоса вернул ее к реальности. А реальность состояла втом, что спальня была пуста, муж находился под стражей, супружество разрушено и она сама безвозвратно погибла. Она поднялась и быстро направилась к шкафу в стиле барокко в гостиной, где стояло спиртное. Между винами местного производства стояла красивая бутылка коньяка «Наполеон», еще почти полная, — ее держали для особых случаев.
Посчитав случай достойным считаться «особым», она взяла бутылку и вернулась в спальню.
Анна почти опустошила ее, прежде чем почувствовала себя достаточно пьяной. Шатаясь, она прошла к ночной тумбочке мужа, достала оттуда его старый служебный пистолет и выстрелила себе в сердце.
Между двадцатым и двадцать пятым ноября в полиции были допрошены другие подозреваемые по делу Чарльза Френсиса.
Одним из них был серб, давно известный властям из-за его антимонархических устремлений. Когда на его квартире был обнаружен копировальный аппарат и красные чернила именно той марки, которой были написаны циркуляры, он был арестован.
Другой подозреваемый, бывший унтер-офицер, отчисленный из армии за недостойное поведение по приговору суда, членом которого был Принц Хохенштайн, смог обеспечить такое неопровержимое алиби, что был тут же выпущен на свободу.
Третьим и самым многообещающим подозреваемым был один каменщик, который своей квартирной хозяйке не раз кричал, что разошлет письма с цианистым калием всем этим проклятым офицерам, от лейтенантов до генералов, включая самого кайзера. Но все надежды быстро развеялись; полиции пришлось признать, что она снова ошиблась. Каменщик не мог быть отправителем писем по той простой причине, что он вообще не умел писать. После медицинского обследования, признавшего его душевнобольным, он был прямо из Президиума отправлен в Венскую психлечебницу Штайнхоф.
Вечером двадцать первого ноября капитан Кунце ужинал дома. Они с Розой сидели в столовой с высокими готическими окнами, красно-коричневыми портьерами и огромными серебряными канделябрами. Кунце эта столовая сильно напоминала морг.
Если он брал работу на дом или просто хотел побыть один, он чаше всего ужинал в своем кабинете. Роза уважала его желания, и если у них не было никаких особых планов на вечер, она отправлялась спать. Ее любовь к квартиранту была всепоглощающа: даже одна мысль, что, хотя они и разделены несколькими комнатами, но находятся под одной крышей, быстро погружала ее в глубокий сон.
Это была статная, высокая женщина с довольно широкими плечами. В ее темно-русых волосах проблескивало уже несколько седых волос, а чуть заметные морщинки вокруг ее глаз придавали им выражение досады или недоверия, но в то же время в них словно бы притаилась улыбка. В юности Роза была просто красавица и теперь, в свои тридцать семь, оставалась привлекательной женщиной с хорошей фигурой. Она не отличалась особым умом, но и не была глупа и к тому же обладала отменным чувством юмора, по крайней мере если это не относилось к ней самой. Она была довольно чувствительна к критике и меняла друзей приблизительно так же часто, как свои модные шляпки. Кухарка работала у нее уже несколько лет, но горничные более двух-трех месяцев не задерживались. Венские конторы по найму предпочитали не иметь с ней дел, с тех пор как одна девушка выбросилась из окна ее кухни. Хотя Роза и кухарка клятвенно уверяли, что девушка стала жертвой несчастной любви, да и полиция подтвердила это, молва твердо уверяла: Роза фон Зиберт довела свою горничную до самоубийства.
Кунце знал, что это неправда, но ему также хорошо был известен довольно крутой нрав Розы. Он принимал ее такой, какой она была: способной на безрассудный поступок, страстной, живой, энергичной и надежной особой, с сочной, часто с крепким словцом, речью крестьянки.
Они еще ужинали, когда зазвонил телефон. Доктор Вайнберг сообщил Кунце о самоубийстве Анны Габриель. Она уже несколько часов была мертва, когда ее нашла прислуга лежащей на кровати с пустой бутылкой в одной руке и с пистолетом — в другой.
— Мне бы хотелось верить, что Чарльз Френсис убил и Анну, так же как и Мадера, — сказал Вайнберг. — Но это не так. Бедную Анну убили мы. Мы решили, что должны найти приемлемого для армии подозреваемого, и нам было безразлично, сколько невиновных при этом пострадает.
Горькие признания комиссаром собственной вины не были для Кунце чем-то неожиданным. Он знал, что Вайнберг принимает все близко к сердцу и отличается человеколюбием, что было довольно редким качеством для служащих в полиции.
— Видно было, что вы не считаете Габриеля виновным, — сказал Кунце. — Я тоже так думаю. Мы должны его отпустить.
— Согласен, но только через пару дней, — возразил Вайнберг. — Нужно, чтобы он немного отошел после известия о смерти своей жены. Я скажу ему об этом сам. Очень осторожно. Если вообще можно осторожно сообщить человеку о том, что его жена пустила себе пулю в сердце. Хоть и была развратницей, но ясно, что она любила его. Да и он, похоже, любил жену, несмотря на ее распутство. Так не бывает в жизни: все только черного или только белого цвета, как пытается нам внушить генерал Венцель.
Они попрощались, и Вайнберг повесил трубку. Кунце извинился перед Розой и прошел в свой кабинет. С самого начала, когда ему передал и дело, его мучило одно подозрение. Он не высказывал его вслух, так как точно знал, что генерал Венцель встретит это в штыки. Самоубийство Анны меняло все дело. Кунце разделял чувство вины Вайнберга и твердо решил не допустить дальнейших жертв ради сохранения престижа армии.
План для такого массового отравления мог придумать только человек, обладающий проницательностью и тонким умом. Достать цианистый калий, профессионально составить циркуляр, размножить его на гектографе, найти подходящую упаковку для пилюль, такую, чтобы конверт проходил в щель почтового ящика, предусмотреть, чтобы вес не превышал веса письма с обычной оплатой и не вызывал лишнего любопытства почтовых служащих, — это была длинная цепочка действий, хорошо спланированных и исполненных.
Ключ к разгадке — несомненно, мотив действий этого человека. Если его целью было нанести удар по Генеральному штабу, то почему выбор пал на только что назначенных, а не на опытных и зачастую незаменимых офицеров? Как ни крути, очевиден только один мотив — личная выгода.
Кунце плохо спал в эту ночь, проснулся гораздо раньше, чем обычно, и долгих два часа лежал, поглядывая на часы, пока наконец не пришло время выйти из дома. Он направился прямиком в бюро доктора Вайнберга в Президиуме и уже через несколько минут стоял перед ним.
— Мне нужен лучший графолог из всех, что у вас есть, — сказал он комиссару. — У меня есть определенные подозрения, но я должен быть уверен, прежде чем я предприму дальнейшие шаги; я считаю отвратительным, когда страдают невиновные люди.
— Вы подозреваете кого-то конкретно?
— Откровенно говоря, нет. Скорее, кого-то из группы лиц.
— Кого-то из военных. — Это был не вопрос, а скорее утверждение, при этом капитан молча кивнул. — Я был уверен, что вы рано или поздно придете к этому выводу, — продолжал Вайнберг.
— Это единственный логический вывод. Мы исследовали все возможные мотивы, кроме одного: кому выгодна смерть восьми офицеров одного и того же года выпуска? Ответ: только лучшим по оценкам в аттестате из тех, кто не подлежал переводу в Генеральный штаб. Всего выпуск должен был насчитывать девяносто четыре офицера. Двое умерли, Габриель вышел в отставку. Остались, стало быть, девяносто один человек. По окончании училища все эти свежеиспеченные обер-лейтенанты были направлены в различные гарнизоны монархии для прохождения службы в войсках. По истечении четырех лет пятнадцать лучших из них были произведены в капитаны и переведены в Генеральный штаб, в то время как остальные должны были ждать следующего чина согласно сроку службы. Если не будет войны, им предстоит рутинная служба с перспективой в лучшем случае выхода на пенсию в чине полковника. И уж, конечно, никто из них не станет генералом. — Кунце на секунду приостановился и перевел дыхание. — Теперь же из-за смерти Мадера тому, кто стоит в списке под номером 16, гарантировано повышение в звании и перевод в Генеральный штаб. Если бы умер еще один из восьми, то же самое повышение и перевод предстоял бы номеру 17, еще с одной смертью — номеру 18, и так далее.
— Понятно, — кивнул Вайнберг. — Ваши подозрения направлены, таким образом, на номер 16 и стоящих за ним выпускников этого года.
— Верно, только номер 16, к счастью или несчастью, попал тридцатого октября в военный госпиталь с аппендицитом и был прооперирован. Четырнадцатого ноября, когда были отправлены циркуляры, он все еще лежал в госпитале.
— А если у него был сообщник, которому он поручил отправить письма еще до того, как лег в госпиталь?
— Маловероятно, так как вплоть до первого ноября у него были все основания ждать своего перевода и повышения. До нынешнего года и ранее первые тридцать лучших выпускников подлежали после обязательного прохождения службы в войсках переводу в Генеральный штаб. И только в нынешнем году начальник Генерального штаба Конрад неожиданно изменил систему таким образом, что повышению в звании и переводу стали подлежать только первые пятнадцать лучших. Я не знаю его мотивов. Может быть, он хочет таким образом повысить уровень своих штабных или просто сократить штат. Но в любом случае его решение было болезненным ударом для тех пятнадцати, которые все годы были уверены, что им вскоре предстоит надеть темно-зеленую форму.
— Согласно вашей теории, и номер 17 может оказаться Чарльзом Френсисом.
— Вполне возможно. Хотя номер 17 служит в Загребе и с сентября не покидал расположения части.
— Я вижу, вы времени даром не теряли, господин капитан!
— Все еще впереди. Например, о номере 18 я ничего не знаю,кроме того, что он служит в Линце. Что касается номера 19, здесь возникает интересный вопрос. Он является единственным из получателей циркуляра, кто не был повышен в звании и переведен. Тот факт, что он служит в Галиции, в большей или меньшей степени позволяет исключить его из числа подозреваемых. То же самое относится и к номеру 20 — он служит в гарнизоне Кракова. Конечно, у обоих могли быть и сообщники, которые отправили циркуляр.
— Значит, вы сосредоточили свои усилия на этих четырех?
— Возможно, я займусь еще и некоторыми другими, чтобы быть полностью уверенным, но в настоящий момент эти четверо — мои главные подозреваемые.
— Хотел бы вас предостеречь, господин капитан, — невесело улыбнулся Вайнберг, — вы не завоюете особую любовь господ офицеров, когда начнете искать среди них Чарльза Френсиса.
— Да, я знаю, — пожал плечами Кунце, — но у меня нет другого выбора.
— Я пошлю к вам Йоханна Побуду. Он лучший графолог, с которым я когда-либо работал. В последний раз он нам хорошо помог при раскрытии одного запутанного дела о шпионаже.
Несмотря на все усилия комиссара Вайнберга, Побуда появился у Кунце в казармах у зернового рынка, где располагалось военное училище, только в два часа дня. Графолог был небольшого роста элегантный человек, неопределенного возраста, с несколько жеманными манерами. Он был одет в хорошо сшитое пальто на меху и имел при себе черный саквояж, наподобие тех, которые берут с собой врачи, направляющиеся на дом к пациенту. Не теряя времени, Кунце с экспертом направились в архив. В одном небольшом помещении хранились экзаменационные работы курсантов выпуска 1905 года. Кунце достал из своей папки два конверта Чарльза Френсиса и подал их Побуде.
— Я прошу вас о невозможном, — сказал он. — У нас есть около сотни рукописных работ, и я надеюсь, что вы найдете среди них того, кто подписал адреса на этих конвертах.
Самое сложное состоит в том, что конверты подписаны не обычным почерком, а тем шрифтом, который применяется для нанесения обозначений на военных картах и планах.
Побуда посмотрел на него с улыбкой.
— Если бы конверты были подписаны обычным почерком, моя помощь наверняка не потребовалась бы, не так ли?
Он взял конверт, адресованный капитану Моллю, некоторое время внимательно смотрел на него, затем достал лупу из саквояжа и стал рассматривать буквы.
— Таинственный Чарльз Френсис, — пробормотал он.
Побуда был прилежным читателем газеты «Новая свободная пресса» и догадался, что его услуги потребовались для расследования дела об отравлении.
— Вы угадали, — кивнул Кунце. Он взял наугад семь тоненьких папок из стоящих на полке и положил их перед Побудой на стол. — Начнем с этих.
Кунце открыл в каждой папке страницу, на которой не было никаких сведений об авторе.
Йоханн Побуда снял с левой руки лайковую перчатку — правую он снял раньше, когда здоровался с капитаном, и внимательно рассмотрел каждую страницу из этих семи.
— Все они написаны в крайне возбужденном состоянии, — заметил он, — причем молодыми людьми примерно двадцати пяти — двадцати шести лет.
Это замечание не произвело на Кунце никакого впечатления. Каждый читающий газеты мог бы прийти к такому же выводу.
— Как вы полагаете, есть ли среди них отправитель этого конверта? — спросил Кунце.
Жеманные манеры графолога стали действовать ему на нервы. Никогда еще не видел он ни у мужчин, ни у женщин таких отполированных до перламутра ногтей.
— Нет, — тотчас же уверенно ответил Побуда.
Его ответ несколько успокоил Кунце. Из этих семи работ три были написаны лучшими выпускниками этого года, остальные занимали места в последних пятидесяти. Он подал Побуде следующую пачку. Снова среди авторов работ были лейтенанты, никоим образом не попадавшие под подозрение. На этот раз Побуда затратил на них гораздо больше времени.
— Здесь есть некоторое сходство, — пробормотал он, положив оба конверта рядом с одной из страниц, и снова стал внимательно разглядывать текст через лупу. — Нет, — наконец сказал он. — Это не то, что мы ищем. Его R смутило меня в первый момент, но это было единственное сходство.
Кунце нашел работы, принадлежавшие выпускникам, стоявшим в списке под номерами 16, 17, 18, 19 и 20.
— Теперь посмотрите, пожалуйста, эти.
Побуда с ухмылкой взглянул на него.
— Вы меня все еще проверяете или мы займемся наконец делом?
— Все это время мы только делом и занимаемся, — резко прервал его Кунце.
— Только не рассказывайте мне, что вы подозреваете двадцать человек.
— У меня их девяносто один. После того как вы исключили пятнадцать, осталось еще очень много.
Конечно, это было не так, но Кунце предпочитал держать этого человека в неведении.
Некоторое время Побуда был занят рукописью номер 16, обер-лейтенанта, который перенес операцию аппендицита. С номером 17 он расправился очень быстро, только один раз скользнув по его тексту лупой.
— Нет, это не тот, без сомнения, не тот, — пробормотал он.
Под номером 19 стоял обер-лейтенант Йозеф фон Хедри, служивший в Гродеке в Галиции, который не подлежал повышению, но получил тем не менее циркуляр. Побуда затратил на изучение его почерка более десяти минут.
— Этот придется мне, наверное, взять с собой и сфотографировать. Увеличенные фотографии говорят гораздо больше, чем лупа или микроскоп. Буквы L и I кажутся мне подозрительными, но я бы с большой натяжкой сказал, что это он.
Следущей была страница, написанная офицером, служившим в Линце. Побуда медленно наклонился над текстом, и его бледное лицо слегка покраснело.
— Это он! — взволнованно воскликнул он.
Кунце схватил папку и прочитал на обложке фамилию: обер-лейтенант Петер Дорфрихтер.
— Это тот человек, — повторил Побуда абсолютно убежденным голосом. — Для того чтобы исключить сомнения, я должен взять рукопись и оба конверта с собой. Завтра утром вы получите заключение.
Кунце подумал и сказал:
— Согласен. Но убедительно прошу вас держать это в строжайшей тайне.
Этим же вечером, незадолго до того, как он собирался покинуть свое бюро, Кунце получил важное сообщение. Еще два недавно переведенные в Генеральный штаб капитана получили циркуляры Чарльза Френсиса и немедленно передали их командованию. Оба были в отпуске и нашли циркуляры в общей скопившейся почте, когда приступили к несению службы.
Число получателей циркуляра увеличилось, таким образом, до десяти.
На следующее утро Йоханн Побуда сообщил капитану о результатах своей ночной работы с рукописью Дорфрихтера: на основании всестороннего научного анализа можно было сделать вывод, не подлежавший никакому сомнению, — выпускная работа и адреса на конвертах написаны одной и той же рукой.
Кунце между тем удалось собрать кое-какие сведения о личной жизни обер-лейтенанта Дорфрихтера, а также заглянуть в его характеристики. Образ, который из всего этого вырисовывался, никак не подходил для безжалостного убийцы-отравителя.
Репутация обер-лейтенанта как офицера и джентльмена была безупречной. С момента его направления в мае 1909 года в 14-й пехотный полк он находился в Линце, примерно в пяти часах езды от Вены. Два года назад он женился, и сейчас они с женой ожидали рождения своего первого ребенка. Согласно краткой служебной характеристике, его отличали надежность, уравновешенность, ответственное отношение к службе и преданность.
До обеда Кунце консультировался еще с двумя графологами. К его удивлению, их выводы не были единодушны. Первый эксперт считал, что, действительно, есть необычное совпадение между надписями на конвертах и почерком письменной работы.
Второй же сказал, что таких совпадений можно найти чуть ли не в десятках почерков.
Ни один из них не мог дать стопроцентную гарантию, что все образцы почерков принадлежат одному и тому же лицу.
Заключения этих экспертов были для Кунце ударом. Он долго читал их, затем еще раз внимательно изучил заключение Побуды. Из этих трех экспертиз доклад Побуды показался ему самым основательным и авторитетным. Два других были не всегда ясно сформулированы и оставляли много места для разночтений. Кунце понял, что следствие подошло к той стадии, когда подозрение, каким бы оно ни было шатким, оставлять без внимания нельзя. Повинуясь внезапному решению, он отправил оба противоречащих друг другу заключения в ящик стола и попросил генерала Венцеля срочно принять его.
Час спустя, сидя напротив генерала перед его огромным письменным столом, уставленным бесчисленными портретами эрцгерцога, в том числе и с личным посвящением, он сказал генералу:
— Я покорнейше прошу разрешить мне провести проверку десяти выпускников военного училища 1905 года, а именно тех, кто занимал места согласно итоговым результатам с номера 16 по номер 25. Речь идет о расследовании обстоятельств дела, связанного с циркуляром Чарльза Френсиса. Далее я прошу разрешения начать с допроса номер 18, обер-лейтенанта Петера Дорфрихтера.
Венцель реагировал так, как если бы капитан просил его разрешения взорвать гарнизонный суд.
— Вы отлично знаете, что я этого не позволю. Как вы осмелились вообще предложить такую глупость! Я вас всегда считал разумным человеком!
Большие голубые глаза генерала под мохнатыми, но тщательно расчесанными бровями метали молнии. Но тренированное ухо Кунце легко улавливало разницу между истинным и рассчитанным на публику сопротивлением, и он оставался спокоен.
В передовой статье газеты социалистов «Рабочая газета» полицию обвинили в недееспособности, военных — в сокрытии материалов следствия, а Бюро безопасности вообще приписали попытку увести виновных от суда. Кунце взял газету с собой и сейчас протянул ее генералу. Преувеличенно осторожно, как если бы она была заразной, генерал брезгливо взял ее двумя пальцами.
— Только не говорите мне, что вы с проклятыми соци одного мнения. А может быть, вы вообще один из них. Меня бы это не удивило.
Поскольку Кунце не заканчивал кадетского корпуса, он никого из людей вроде генерала Венцеля не признавал за своего. Но это его не трогало. С детства он привык чувствовать себя если не парией, то в какой-то мере отчужденным и научился с этим справляться.
Оставив без внимания колкости генерала, он показал ему заключение Побуды.
— По моему мнению, господин генерал, Петер Дорфрихтер является главным подозреваемым. Но мы должны действовать с величайшей осторожностью. Главное, чтобы при допросах никто — и он также — не заметил, что его подозревают. Таким образом, ни он, ни другие, если они не виновны, никак не пострадают. Только его командир должен быть в курсе дела, но этого не избежать.
В конце концов скрепя сердце генерал дал свое согласие. Было решено, что комиссия в составе доктора Вайнберга, капитана Кунце и генерала отправится поездом в Линц завтра утром. С ними поедут также два детектива из уголовной полиции.
Когда генерал Венцель этим вечером вернулся домой, там царила заметная суматоха.
В доме была мадам Шарлотт, парикмахер, и, кроме этого, Берта — маленькое существо, постоянно занятое гардеробом его жены, а именно внесением изменений в платья и костюмы в зависимости оттого, поправлялась или худела Лили Венцель.
— Что случилось? — робко спросил генерал, осторожно заглянув в будуар жены.
Лили стояла перед трельяжем, а Берта лихорадочно работала с ее роскошным новым платьем, криком моды из дома моделей Ворт. Усилиями покойной императрицы Елизаветы крючки и пуговицы стали немодными; это вынуждало изначально сделать талию стройнее, но имело и недостатки, главным из которых было то, что это в какой-то степени ограничивало аппетит. Для императрицы это не имело значения, она мало уделяла внимания еде, а для Лили умерить свой аппетит было сродни средневековой пытке.
— Мы ужинаем сегодня у Ауффенбергов, ты что, забыл? Ой, вы меня обожгли, как так можно? — закричала она на мадам Шарлотт, которая пыталась привести в порядок непослушные локоны на затылке с помощью горячих щипцов.
Спустя полчаса Лили зашла в кабинет генерала.
— Ну, как я выгляжу? — спросила она.
— Прекрасно, — ответил он машинально, но, бросив взгляд на жену, отметил, что она действительно — он пытался подобрать слово — выглядит «потрясающе».
С того момента, как он занялся делом Мадера, Венцель не мог уделять жене много времени.
Сейчас он с удивлением обнаружил, что к Лили снова вернулся веселый нрав. Ее летаргия и постоянное в последнее время упадническое настроение исчезли, не слышно стало неизменных колкостей и обидных замечаний.
— Бедный парень был, значит, импотентом, — сказала она.
Генерал посмотрел на нее с недоумением. Но тут ему, чья голова была постоянно занята мыслями об отравлении цианистым калием, стало понятно, что она говорит о Мадере.
— С чего это ты взяла? — спросил он.
— Иначе он не стал бы принимать эти таблетки с цианистым калием, не так ли?
— Капсулы, — поправил генерал. Он был педантом.
— Не имеет значения — главное, он принял их. Значит, ему нужен был стимулятор.
Лили Венцель считала себя современной женщиной, но иногда в разговорах, касающихся секса или подобных тем, заходила слишком далеко, что приводило к ссорам между супругами. Генерал не раз называл ее бесстыдной, развратной и непристойной.
Венцель поднялся, хотя знал, что они приедут на добрых четверть часа раньше.
— Может быть, мы уже поедем?
— Еще рано. Я не хочу приехать туда в то время, когда Ида еще показывает всем свои бесталанные этюды. — Она говорила о хозяйке дома, фрау Ауффенберг.
Генерал послушно уселся снова.
— Газеты пишут, что он спал с Анной Габриель.
— Да, это правда.
— Понятно, раз он был импотент, ему нужно было кого-то вроде нее — ну, чтобы стать мужчиной. Но как раз с ней-то это и не получилось. Поэтому ему и пришлось эти пилюли — извини — капсулы принять.
— Ну, допустим, он был импотент. Ну и что с того? — Тема начинала его раздражать.
— Эх вы, христианские рыцари-крестоносцы, арийские казановы и трубадуры! Что вы из себя строите, как вы пыжитесь и увиваетесь за нами, а как доходит до дела, то тут вам все и отказывает. — Лили говорила громким пронзительным голосом, который он хорошо знал и который терпеть не мог.
У них была молчаливая договоренность не касаться сомнительного происхождения Лили. Она, как и он, была строгой католичкой, и единственное, что они неукоснительно выполняли, так это посещение воскресной мессы в гарнизонной кирхе. Неожиданно резкий тон жены озадачил генерала. Был ли этот выпад направлен на него или на умершего Мадера? Он снова поднялся.
— Идем, наконец, — сказал он своим ледяным тоном судьи, от которого многих обвиняемых прошибал холодный пот. — Лучше приехать чуть раньше, чем опоздать. Кроме того, мне завтра вставать чуть свет. Я еду в Линц, черт побери.
Он не стал уточнять, что поездка связана с делом Мадера. Иначе она снова начнет болтать о капитане и его импотенции.
Город Линц был окутан осенним туманом. Температура понизилась до минус трех градусов и продолжала падать дальше. Деревья и кусты стояли голые на холодном ветру, который постепенно разгонял туман. Дунай еще не замерз, и в его серой воде отражалось унылое осеннее небо. В такие дни солнце кажется таким же нереальным, как мечты подвыпившего поэта. Как может солнце вообще пробиться через толстый слой облаков, окутавших всю землю?
Несмотря на все принятые меры, сохранить в тайне поездку комиссии не удалось.
Этим же поездом поехала дюжина репортеров. В Линце они сопровождали фиакр комиссии, как стая голодных воробьев, надеющихся поживиться тем, что оставляют лошади по дороге.
Полковник фон Инштадт, принявший комиссию в своем служебном кабинете в комендатуре полка, реагировал на обвинения против обер-лейтенанта Дорфрихтера точно так же, как и при первом разговоре по телефону, — он отказывался этому верить.
— Нет, господа, — сказал он. — Во-первых, я не допускаю даже мысли, что офицер нашей армии способен на такое отвратительное преступление. Во-вторых, по моему мнению, Петер Дорфрихтер является именно тем, кто в наименьшей степени может иметь к этому отношение. Вы говорите о разочарованном честолюбии, о ревности, о паранойе. Все это ни в малейшей степени не имеет какой-либо связи с характером Дорфрихтера. Случайно я знаю его довольно хорошо. Когда мой полк участвовал в занятии Боснии и Герцеговины, он был офицером связи с 15-й бригадой. Я был тогда вследствие одного происшествия — о котором я не буду распространяться, чтобы это не увело нас слишком далеко, — временно отстранен от моих обязанностей. Хотя многие офицеры знали, что я был жертвой некоторых не зависящих от меня обстоятельств, лишь один Дорфрихтер отважился послать рапорт в военное министерство с изложением действительных событий. Такой шаг идет вразрез с уставом и мог стоить ему карьеры. Он знал это. Если бы Дорфрихтер был параноиком, как вы его представляете, он бы никогда не встал на мою сторону, рискуя вызвать сильное неудовольствие министерства. В-третьих, он на редкость способный человек, который и в гражданской жизни сумел бы занять достойное место. Конечно, сейчас он концентрирует все свои усилия на военной службе. Дорфрихтер много читает и гораздо образованнее любого из моих младших офицеров. Он говорит и пишет на шести языках: немецком, французском, английском, итальянском, венгерском и чешском. Лично я убежден, что это большая ошибка и потеря для армии, что он не был переведен в Генеральный штаб.
— Я от всей души надеюсь, что вы правы, дорогой Инштадт, — ответил генерал Венцель. — Тем не менее наш долг — продолжить следствие. Само собой — под девизом: такт и осторожность. К настоящему моменту никто — ни Дорфрихтер, ни кто-либо другой — не должен знать, что он находится под подозрением. Мы не хотим бросить тень на невиновного. Разговор должен производиться в непринужденной, товарищеской атмосфере. Я предлагаю вызывать офицеров в алфавитном порядке.
Доктор Вайнберг обедал у шефа полиции Линца, генерал Венцель принял приглашение полковника фон Инштадта быть гостем в офицерской столовой. Капитан Кунце был также приглашен, но отказался, сославшись, что ему еще многое предстоит сделать.
До возвращения в Вену ему хотелось поближе познакомиться с городом. Он обедал в отеле «Усадьба» и убедился, что поступил правильно — там кормили превосходно.
Построенный еще при императрице Марии Терезии примерно в 1770 году, отель раньше был дворцом, а потом местом проведения городских собраний. Это был прелестный образец старинной благородной семейной усадьбы: широкие въездные ворота, отделанная деревом прихожая, низкий уютный обеденный зал со стульями — на которых и дамам в кринолинах было удобно сидеть, — мощеный двор в тени роскошных дубов. Официанты соответствовали обшей атмосфере — они были в годах и полны достоинства. Неторопливость, с которой они обслуживали посетителей, не мешала ни гостям, ни персоналу. Все были единодушны в одном: хорошее не терпит суеты — ни в еде, ни в любви.
Капитан Кунце смог выбрать себе столик по своему вкусу, так как в этот пасмурный день посетителей было немного. Он долго изучал меню, никак не решаясь сделать окончательный выбор между жареной зайчатиной по-охотничьи и венским ростбифом.
Наконец он сдался и попросил кельнера подать что-нибудь на его выбор. Мясо было нежирным, но сочным и очень вкусным. Кунце не преминул сообщить кельнеру, который, словно ангел с фрески Альтомонте в Соборе францисканцев, кружил все время вокруг его стола, как ему все понравилось.
— Ах, вот еще что, — непринужденным тоном и как бы между прочим заметил Кунце, — мой друг просил меня, когда я буду в Линце, найти обер-лейтенанта господина Петера Дорфрихтера. Вы его случайно не знаете?
Лицо кельнера на долю секунды застыло, но мгновенно приняло прежнее выражение. Только такому юристу с опытом, как Кунце, удалось бы заметить этот мимолетный знак.
— Пехотные офицеры здесь почти не появляются, господин капитан, — сказал кельнер. — Они посещают в основном отель «У почты». У нас же частые гости в основном — господа офицеры из 2-го драгунского полка.
— Так-так. А все же вам знаком господин обер-лейтенант?
— К сожалению, нет, господин капитан. — Голос кельнера был холоден. Он сделал попытку отойти от столика.
— Но вы все же знали, что он пехотный офицер, — не отступал Кунце.
— Это я сказал так, к слову, мой господин. Я знаю практически всех кавалерийских офицеров в округе. А поскольку такая фамилия мне незнакома, это и навело меня на мысль. Могу предложить господину капитану поговорить с портье. Хотя я не думаю, что он сообщит вам больше.
Прежде чем уйти из отеля, Кунце постоял некоторое время у регистрации. Он не представился портье, но было ясно, что человек в курсе дела, кто такой Кунце и что он входит в комиссию из Вены. Все это было знакомо — новости в маленьких городах распространялись мгновенно из уст в уста, быстрее, чем в больших городах по телеграфу.
Тем более что портье сидел у телефона.
— Как вы сказали: господин обер-лейтенант Дорфрихтер? — переспросил портье с чересчур равнодушным видом. — Думаю, этот господин никогда у нас не останавливался.
Кунце решил оставить свои попытки, заметив про себя реакцию и кельнера и портье.
Из девяноста одного выпускника 1905 года девять офицеров служили в 14-м пехотном полку Линца, входящего в военный округ Инсбрука. Из этих девяти только трое служили в самом Линце: Дорфрихтер и еще двое. Чтобы не вызвать подозрений, в своих комендатурах были допрошены еще двадцать других младших офицеров.
Очередь Дорфрихтера подошла около одиннадцати часов утра. Это было на следующий день после приезда комиссии. К этому моменту комиссия получила по результатам совместной работы венских полицейских и их местных коллег дополнительные доказательства, что преступление готовилось именно здесь, в Линце. Выяснилось, что писчебумажный магазин Кирххаммера, расположенный недалеко от комендатуры, торгует именно такой бумагой, которую использовал Чарльз Френсис, а картонажная фабрика здесь же, в Линце, — владелец Карл Плой — в числе прочих производит именно такие коробочки, в каких были упакованы капсулы с цианистым калием.
Петер Дорфрихтер был третьим из опрошенных офицеров. Как и другие, он был вызван в кабинет полковника фон Инштадта. Его умышленно заставили около часа ждать в приемной: доктор Вайнберг считал, что это заставит обер-лейтенанта понервничать.
Генерал Венцель был в принципе против подобного эксперимента, но, когда Кунце предположил, что, возможно, это поможет ускорить дело, согласился. Полковник фон Инштадт также присутствовал при допросе, но только в качестве наблюдателя.
Было похоже, что долгое ожидание в приемной не оказало на обер-лейтенанта Петера Дорфрихтера никакого воздействия. Когда он наконец был вызван, то вошел в кабинет твердым чеканным шагом. Щелкнув каблуками, коротко кивнул и согласно уставу доложил о своем прибытии своему полковнику. Члены комиссии встали и пожали ему руку, убедившись при этом, что рука у него была холодная, но сухая и его рукопожатие было крепким.
Петер Дорфрихтер был немного выше среднего роста, и его узкая фигура, казалось, состоит только из костей и мышц. Держался он безупречно, а движения его по своей элегантности были сродни движениям танцора балета, но при этом — ни следа жеманности. Он производил приятное впечатление: гладкие темные волосы, бледная чистая кожа, ухоженные усики над полными губами, умные глаза, напомнившие Кунце глаза ирландского сеттера, когда-то верного его друга. Лицо Петера выражало удивительно милую прелесть безгрешности.
Венцель предложил ему стул.
— Мы расследуем одно очень прискорбное дело, — начал он, — и должны задать вам несколько стандартных вопросов. Пожалуйста, постарайтесь на них ответить, по возможности, самым обстоятельным образом.
— Именно этого я и хочу, господин генерал, — кивнул Дорфрихтер. Для человека тридцати лет голос его был удивительно юным.
На Кунце голос произвел особое впечатление. Звук этого голоса, так же как и спокойная беззаботная манера держаться, сбивали его с толку. Его охватила злость на этого молодого человека, хотя он тут же стал себя упрекать в этом. Как юрист, он постоянно пытался придерживаться того основного положения, согласно которому человек оставался невиновным вплоть до той поры, пока его вина не доказана. А сейчас ему было досадно, что подозреваемый вовсе не вел себя соответствующим образом, да и не выглядел как подозреваемый.
— Где вы находились тринадцатого ноября между одиннадцатью часами вечера и восемью часами утра? — спросил Венцель.
Дорфрихтер на секунду задумался, сосредоточившись.
— Здесь, в Линце, у себя дома, господин генерал. — Затем он хлопнул себя по лбу, как если бы что-то внезапно пришло ему в голову: — Нет, я ошибся, вы ведь сказали тринадцатого, не так ли, господин генерал? Как раз тринадцатого в полночь я сел на поезд и в шесть часов тридцать минут прибыл в Вену, на Западный вокзал.
Лицо генерала выражало явную досаду.
Ответ никак не подходил под его убеждение, что они допрашивают абсолютно невиновного человека. Он бросил на Кунце укоризненный взгляд, как будто тот был виноват в появлении этого нового подозрительного обстоятельства. Властным движением руки он предложил Кунце продолжить допрос и, скрестив руки, откинулся на спинку стула — строгий, но нейтральный наблюдатель. Чаша весов начала склоняться в пользу версии Кунце, но это не уменьшило его необъяснимой антипатии к этому человеку. Мелькнувшая на лице молодого офицера улыбка обеспокоила его.
— Первым же омнибусом я отправился в город и вскоре был уже на квартире моей тещи в переулке Хангассе.
— Вы получили отпуск одиннадцатого ноября, разве вы не сообщили в своем рапорте, что хотите навестить своих родителей в Зальцбурге?
Почти всю вторую половину дня накануне Кунце потратил на изучение полковых протоколов. А ещедо поездки в Линц он собрал все, что можно было узнать о Дорфрихтере — его отметки в военном училище, оценку его спортивных достижений и акты медицинских обследований из его личного дела, а также все имеющиеся характеристики. Из всего этого вырисовывался образ высокоодаренного, добросовестного, но типичного офицера. Человек, который сидел напротив него, не вписывался в этот образ. Петер Дорфрихтер был каким угодно, но не типичным.
— Совершенно верно, господин капитан, — ответил он. Это прозвучало так, словно бы ему льстил проявляемый к его персоне интерес. — Так я вначале и предполагал. Но моя жена, которая в это время гостила у своей матери, написала мне, что чувствует себя не очень хорошо и не хотела бы возвращаться домой одна. Поэтому я должен был ее забрать. Она в положении, господин капитан.
— Вы ждете ребенка? — спросил генерал Венцель. Тон его голоса был дружеским, почти теплым, как будто офицер, чья жена ждет ребенка, не может быть отравителем.
— Так точно, господин генерал.
— Когда должен родиться ребенок?
— В конце месяца, господин генерал.
На какой-то момент все замолчали. Затем Кунце продолжил:
— Господин обер-лейтенант, вам известно о случае, который расследует наша комиссия?
— Так точно, господин капитан, как всякому, кто читает газеты.
— Тогда вы должны были прочесть, что письма с ядом — причем все десять — были брошены в почтовый ящик в части города, которую обслуживает почтовое отделение номер 59 в районе Вены Мариахиль. Между семью и семью пятидесятью письма были вынуты из ящика и в восемь часов утра проштемпелеваны. Вы только что сказали, что утром четырнадцатого ноября вы прибыли в шесть тридцать в Вену. Один из почтовых ящиков, относящихся к 59-му отделению, стоит перед домом номер 28 на Мариахильферштрассе, в трех минутах ходьбы от Западного вокзала.
Первый омнибус после шести часов тридцати минут отправляется в шесть сорок два. Это означает, что у вас между прибытием поезда и отправлением омнибуса было двенадцать минут, в течение которых вы легко могли дойти до этого почтового ящика, бросить письма и вернуться на остановку омнибуса. Что вы можете на это сказать?
Дорфрихтер слушал с преувеличенной вежливостью, не отводя глаз от лица Кунце. Теперь на его губах играла слабая, слегка виноватая улыбка.
— Я не знаю, какой ответ вы ждете от меня.
— Только то, что было в действительности.
— А в действительности, господин капитан, я не ходил к Мариахильферштрассе, не опускал никаких писем и не возвращался также к остановке омнибуса.
— А что же вы делали, когда вышли из здания вокзала?
— Я спустился по лестнице к улице и перешел к ближайшему фонарному столбу напротив, а потом вернулся к остановке, где и сел в омнибус.
— К ближайшему фонарному столбу? Зачем? — В момент, когда Кунце задавал этот вопрос, он уже знал, что не должен был спрашивать об этом.
— Я был со своей собакой, господин капитан.
Кто-то рассмеялся. Кунце посмотрел в ту сторону, откуда послышался смех, — это был доктор Вайнберг.
— Ни один нормальный человек не возьмете собой собаку, если он собирается отправлять письма с ядом, — сердито проворчал полковник фон Инштадт.
Кунце не обратил на это внимание.
— Сколько вы пробыли в Вене, господин обер-лейтенант?
— Только два дня, господин капитан. Шестнадцатого ноября я вернулся, а семнадцатого вышел снова на службу.
— Но вы не доложили вашему командиру, что свой отпуск провели в Вене, а не в Зальцбурге.
— Так точно, господин капитан.
— Вы можете объяснить почему?
— Господин капитан, — перебил полковник фон Инштадт Кунце, — здесь гарнизон, а не лагерь для заключенных. До тех пор, пока мои офицеры выполняют достойно свой долг, их личные дела меня не касаются. Естественно, если они ведут себя прилично.
Дорфрихтер бросил на полковника благодарный взгляд. Кунце почувствовал, что к нему возвращается первоначальная злость.
— Благодарю, господин полковник. — Он кивнул фон Инштадту и повернулся вновь к обер-лейтенанту. — Если я правильно припоминаю, вы сказали нам, что оформили отпуск с тринадцатого ноября. Но в документах полка стоит, что вы были в отпуске с двенадцатого по семнадцатое число.
Дорфрихтер на секунду задумался:
— Это правда, господин капитан, я перепутал даты.
— Означает ли это, что вы уже двенадцатого числа поехали в Вену?
— Нет, я поехал тринадцатого числа и прибыл в Вену четырнадцатого ноября утром, как я уже сказал.
— Чем вы занимались двенадцатого ноября?
— Ничем особенным. Занимался всякими мелочами по дому.
— Значит, вы провели весь день дома?
— Практически весь день. Не считая того, что я трижды выходил с собакой.
— Минутку, Дорфрихтер, — неожиданно вмешался в допрос генерал Венцель. — Даже если вы и не должны этого знать: ваш почерк подвергся сравнению с почерком, которым были подписаны конверты Чарльза Френсиса, и эксперт однозначно подтвердил, что они идентичны. — Генерал выглядел довольно рассерженным, но было трудно судить, вызвано ли его недовольство Дорфрихтером или оно направлено против Кунце.
Впервые Дорфрихтер несколько смутился.
— Господин генерал, неужели вы хотите сказать, что меня подозревают в покушении на десятерых моих товарищей офицеров? Что я убил Рихарда Мадера? Вы не можете всерьез так считать. Тот, кто утверждает, что письма с ядом посылал я, просто сошел с ума.
— Но вы же были в Вене в тот день, когда были отправлены эти письма?
— Там были еще два миллиона других! Нет, господин генерал, я даю мое честное слово, что я к делу Чарльза Френсиса не имею никакого отношения.
Генерал Венцель встал, все остальные последовали его примеру. Он повернулся к Кунце и движением руки дал понять, что теперь его очередь.
— Я покорнейше прошу, господин генерал, — сказал Кунце, — вашего разрешения на проведение обыска в квартире господина обер-лейтенанта, — конечно, при его согласии на это.
— Хорошо, — вздохнул генерал. — После того как мы зашли так далеко, мы можем идти и дальше.
Дорфрихтер ответил на вопрос, едва он был задан.
— Конечно, я даю свое согласие.
Кунце внезапно охватило чувство подавленности. Он смотрел на этого молодого, на восемь лет моложе его, офицера, на его по-детски обиженное лицо, и Кунце охватило желание тут же с извинениями прекратить допрос и покончить таким образом с этим мучительным делом. Искушение было велико, но одновременно он представил статьи в газетах, вопросы, которые будут задавать дотошные журналисты, бюрократы и полицейские, и ему было абсолютно ясно, что запушенная машина следствия уже не может быть остановлена, во всяком случае без скандала.
— Вы можете быть уверены, Дорфрихтер, — услышал он голос генерала, который звучал по-товарищески, — мы верим вам потому, что хотели бы вам верить. Есть, однако, известные неприятные факты, которые кое-кто вряд ли согласился бы придать огласке. Преступление Чарльза Френсиса может бросить чудовищную тень на офицерский корпус, и это в тот момент, когда дальнейшее существование монархии в определенных обстоятельствах будет зависеть от репутации этого корпуса. Мы все хорошо знаем, что война неизбежна. Она может разразиться завтра или только через десять лет, но, когда это случится, лишь благонадежность войск и авторитет, которым будут пользоваться офицеры у своих солдат, будут решать, победим мы или проиграем войну. — Он на мгновение остановился и, глубоко вздохнув, продолжил: — Если вы виновны, Дорфрихтер, ваш долг судить себя самому и вынести приговор, не дожидаясь решения военного суда. Вы понимаете меня, не так ли, Дорфрихтер?
Обер-лейтенант стоял, вытянувшись по стойке «смирно».
— Слушаюсь, господин генерал, — сказал он громким четким голосом.
Венцель опять вздохнул.
— Не желаете ли вы пойти к себе домой до того, как мы к вам придем? — Он посмотрел на свои часы. — Сейчас одиннадцать сорок восемь. Мы хотим дать вам время, — он остановился, — сделать то, что вы посчитаете необходимым.
— Например, господин генерал? — спросил Дорфрихтер.
— Проклятье, — какой-то момент, казалось, генерал не находил слов. — Предупредить ваших домашних, черт побери!
Дорфрихтер улыбнулся в третий раз за время допроса, на этот раз почти с озорством.
— Я бы предпочел, чтобы мы пошли все вместе, господин генерал. Нет никакой необходимости предупреждать моих домашних. Моя жена очень хорошая хозяйка, и я убежден, что квартира в идеальном порядке.
Снова стало ясно, что поведение Дорфрихтера тревожит и беспокоит генерала.
— Черт побери, Дорфрихтер, — взорвался он. — Против вас собрано столько доказательств! У вас есть все основания подумать о своей судьбе. На вашем месте я бы так не веселился!
Лицо молодого человека мгновенно стало серьезным.
— С вашего позволения, господин генерал, у меня нет никаких оснований для беспокойства. Я уверен, господин генерал, что вы на моем месте вели бы себя точно так же.
Дорфрихтер смотрел генералу прямо в глаза, и генерал, не выдержав, отвернулся.
— Хорошо, — уже спокойно проговорил он.
Он хотел еще что-то сказать, но передумал. Откашлявшись, он достал платок и стал протирать свои очки. В комнате повисла тишина.
— С вашего разрешения, господин генерал, позволю себе сделать предложение, — нарушил тишину голос Кунце. — Я хотел бы просить обер-лейтенанта подождать нас здесь, пока будет производиться обыск. Я полагаю…
— Но почему же, господин капитан? — Впервые с начала допроса Дорфрихтер, казалось, потерял терпение. Раздраженным тоном он перебил старшего по званию. — Я не вижу никаких причин, почему я не могу при этом присутствовать. Можно представить, как разволнуется жена, когда вдруг чужие люди в доме все перевернут вверх дном. В ее состоянии каждое волнение может ей навредить.
— Пардон, господин обер-лейтенант, — впервые произнес комиссар Вайнберг. До сих пор он следил за разговором молча. — Весь гарнизон Линца, включая вашу жену, наверняка знает об этих обысках. Многих из ваших товарищей офицеров уже допрашивали и у многих побывали в квартирах.
— Но при этом никаких обысков не производилось! — воскликнул Дорфрихтер.
— Это так. Тем не менее я не думаю, что фрау Дорфрихтер заметит разницу. Во всем этом деле военные власти действуют со всей деликатностью — думаю, некоторые скажут, с чересчур большой деликатностью. Вы можете быть уверены, господин обер-лейтенант, что к вашей жене отнесутся со всем уважением.
— Вы еще можете отказаться от своего согласия, Дорфрихтер, — заметил генерал Венцель. — В конце концов, вам не предъявлено еще никакого обвинения. — Было очевидно, что он недоволен вмешательством комиссара.
— Покорно благодарю, господин генерал. — Дорфрихтер, снова взяв себя в руки, чинно поклонился. — Я не отказываюсь от своего согласия. Где бы вы хотели, чтобы я ожидал результатов обыска? — обратился он к Кунце.
Ему ответил полковник фон Инштадт:
— Займитесь чем-нибудь здесь, на плацу. Изображайте занятого делом, черт побери. Я не хочу, чтобы кто-нибудь из проныр репортеров раньше срока гронюхал, что одич из моих офицеров замешан в этом проклятом деле с убийством!
Марианна Дорфрихтер действительно ждала ребенка. До беременности она была стройной и хрупкой женщиной, с талией, которую можно было охватить пальцами рук. Сейчас она казалась себе бесформенной и безобразной и ни за что не хотела показываться днем на людях, соглашаясь гулять только с наступлением темноты. Она надевала для таких прогулок широкое шерстяное пальто и не разрешала мужу сопровождать ее, а прогуливалась со своей горничной и собакой. Она не любила вместе с мужем навешать старых друзей. Ей казалось, что каждый, кто их видит вместе, непроизвольно представляет их голыми в постели за тем занятием, которое и привело ее в нынешнее состояние. Ей казалось, что выйти куда-нибудь вместе с мужем — это выставить себя напоказ любопытным зевакам.
Марианна полулежала на шезлонге в спальне, когда Алоизия, ее горничная, неуклюжая крестьянская девица с фигурой японского борца и куриными мозгами, влетела в комнату и сообщила, что пришли пять офицеров, которые хотят с ней говорить.
— Наверное, с господином обер-лейтенантом что-то случилось, — добавила она при этом и начала реветь. — Господи милосердный! Когда господин майор Далмайер упал с лошади, то только три офицера приходили, чтобы сказать фрау Далмайер, что он умер.
Марианна с трудом поднялась и подошла к туалетному столику. Она причесалась и велела Алоизии пригласить господ офицеров в гостиную и сказать, что она сейчас же выйдет.
— И не строй из себя дуру! — сердито добавила она.
— С вашего позволения, сударыня, — сказала горничная обиженным тоном и исчезла из комнаты.
Марианна Дорфрихтер положила щетку для волос и посмотрела на себя в зеркало. Ее красивое лицо практически не изменилось — ни малейших следов припухлости и не обезображено пигментными пятнами, этими ужасными спутниками беременности. Фигура, конечно, выглядела ужасно, и Марианне было стыдно показать себя пятерым чужим мужчинам. Но она была женой офицера и знала, что в армии нет места возражениям. Она встала, накинула на плечи кружевной плед и вышла в гостиную к своим посетителям.
Из пяти гостей в качестве господ она оценила только троих: генерала Венцеля, капитана Кунце и представителя гарнизонного суда Линца аудитора-майора Шульце. Их сопровождали два унтер-офицера, которые под наблюдением капитана Кунце и должны были, собственно, производить обыск.
— Простите нас, уважаемая фрау Дорфрихтер, за неожиданное вторжение, — сказал генерал Венцель, после того как все представили себя.
Фрау Дорфрихтер молча предложила им сесть, в то время как унтер-офицеры остались у двери.
— Вы, конечно, слышали о деле Чарльза Френсиса, — продолжал генерал.
— Да, — кивнула Марианна.
— К сожалению, есть некоторые свидетельства того, что письма могли быть написаны в гарнизоне Линца. Мы вынуждены были допросить практически всех служащих здесь младших офицеров. Ваш супруг, как и остальные, дал нам разрешение провести в вашей квартире обыск. Позвольте вас заверить, что все это чисто рутинное мероприятие. Наши люди постараются ничего не повредить. Все будет поставлено и положено на свои места.
Марианна выслушала все это также молча и лишь спросила, можно ли предложить господам шерри.
Венцель ответил за всех:
— Да, с большим удовольствием.
Хрустальный графин с такими же бокалами стоял в буфете в столовой, и Марианна попросила Алоизию принести их. Она распорядилась также угостить унтер-офицеров на кухне пивом или вином, по их желанию.
— Разрешите нам начать? — спросил Кунце, когда заметно подкрепившиеся унтер-офицеры вернулись из кухни.
— Ну конечно, пожалуйста, — ответила Марианна и накинула шаль, прикрывая свою располневшую фигуру.
Венцель и Шульце остались сидеть на мягких, подозрительно скрипящих стульях, которые стояли по обе стороны от обтянутого такой же тканью дивана. Капитан Кунце присоединился к унтер-офицерам и руководил обыском. Они начали с гостиной — и дело закипело. Комната была обставлена без особой фантазии. Обитая светло-зеленым муаровым шелком мебель — плохое подражание стилю Адама — была слишком изящной, чтобы быть удобной. В стеклянном шкафу находилось множество фарфоровых безделушек, любовно ухоженные аспидистры стояли в больших горшках, а на отдельной подставке — мраморная фигурка Венеры, у которой на одной руке не хватало пальца. Французский ковер машинной вязки с вытканными цветами покрывал натертый до блеска паркетный пол, на окнах висели накрахмаленные шторы. Это была комната, которую использовали только для приема гостей.
— У вас чудесный дом, сударыня, — сказал генерал Венцель. Он чувствовал ее нервозность под напускным спокойствием и хотел своим комплиментом разрядить напряженную атмосферу, придать ей непринужденность, как если бы речь шла о дружеском визите, а не о предстоящем допросе. — Еще до вашего появления, пока мы вас ждали, я сказал майору Шульце: сразу видно, что в этом доме живут два счастливых человека. Верно, господин майор?
— Так точно, господин генерал. Именно так вы и сказали, — кивнул Шульце, который хоть убей не мог вспомнить что-либо подобное.
Марианна ответила на комплимент лишь слабой улыбкой.
Капитан Кунце со своими помощниками перешли тем временем в столовую. Комната была уютной, но неэлегантной. Мебель подобрана исходя из практических целей, а не из соображений стиля или красоты. Богато инкрустированный буфет выдержан в готическом стиле, стоявший в центре длинный стол с тяжелой столешницей опирался на четыре массивные ножки. Шесть обитых кожей стульев окружали стол, а четыре других стояли по бокам стоявшего у стены большого книжного шкафа. Марианна услышала, как открыли дверцу этого шкафа. Осмотр начался с верхнего ряда, решила она, со словарей, толстых томов по тактике, стратегии и теории артиллерии, над которыми ее муж просиживал ночами.
— Скажите, сударыня, рассказывал ли вам когда-нибудь ваш супруг о капитане Мадере? — спросил Венцель.
— Я не помню. Возможно, и говорил. Он много рассказывал мне о своих однокурсниках по военному училищу, но, поскольку я их не знала, их имена мне не запоминались.
— А после этого известного несчастного случая?
— Да, он сказал мне, что заказал венок. Это было в тот день, когда в газетах в первый раз напечатали о смерти капитана Мадера.
— И как отреагировал на это известие ваш супруг, сударыня?
— Он заказал венок для похорон, господин генерал.
— Да, понятно, — но как вам показалось, он был опечален или испуган?
— Скорее опечален, чем испуган. Ему было очень жаль капитана. Мадер был слишком молод, чтобы умереть, сказал он. А еще он сказал, что капитан был единственным, кто на протяжении всех этих двух лет вел себя как настоящий товарищ. Он никогда не считал его своим соперником. Вот что сказал мой муж.
Фрау Дорфрихтер говорила это машинально, прислушиваясь одновременно к звукам, доносившимся из столовой. Один из унтер-офицеров был занят все еще книгами, вероятно, он тряс каждую, надеясь найти неизвестно что. Другой возился с посудой. Были ли стаканы недавно протерты, вспоминала она. А чашки? Некоторые были надтреснуты. Она должна была давно выбросить их, так же как и треснутые тарелки и супницу с отломанной ножкой. Марианна хотела все это заменить на новое в последней поездке в Вену, но ее состояние стало настолько заметным, что она решила оставить это до лучших времен.
В половине второго генерал Венцель и майор Шульце отправились обедать. Капитан Кунце и унтер-офицеры продолжали обыск. Они перешли теперь в спальню. Марианне хотелось бы там присутствовать, но гордость заставляла ее сидеть неподвижно на диване, как будто перед фотоаппаратом. Она взяла в руки журнал и сделала вид как будто читает.
Алоизия непрерывно прибегала из кухни и жаловалась. Казалось, у непрошеных гостей была одна цель — мешать ей, Алоизии, в работе и создавать беспорядок вопреки обещаниям генерала Венцеля, что все будет расставлено по обычным местам. Наконец у Марианны лопнуло терпение, и она приказала Алоизии не показываться ей на глаза.
Она слышала, как выдвигались ящики в спальне и открывались дверцы шкафа. Они будут возиться с ее платьями и наверняка увидят пятно от варенья на юбке, найдут рубашки Петера с обтрепанными манжетами, простыни с заплатами, подержанные детские вещи от детей ее сестры, письма мужа с намеками на любовные шалости, которые он посылал ей в прошлом году, когда был на маневрах. Скрипнула дверца ночного столика. Кто-то вынул ночной горшок. Боже милостивый, и это тоже? Что же, нет никаких границ, никакого уважения к личной жизни супругов? Так они дойдут до того, что будут искать на простынях следы спермы?
Мужчины перешли в кухню. Алоизия явилась с красным сердитым лицом и попросила ключ от кладовки. Фрау Дорфрихтер полагала ненормальным держать все под замком, но местные дамы считали это в порядке вещей, и Марианна не хотела выглядеть белой вороной. Через десять минут Алоизия принесла ключ назад.
— Три яйца они разбили, — радостно доложила она, — и банку с огурцами. Знать бы, чего они ищут. Я дала собаке вылизать яйца с пола, а огурцы она есть не стала. Может, их вымыть и снова сложить в банку?
— Выброси их, — приказала хозяйка и закрыла лицо руками.
Марианна испугалась, что они увидят следы ярости, охватившей ее лицо. У нее было чувство, что какая-то часть ее жизни подходит к концу. Она полюбила эту квартиру — после двух лет замужества это был впервые настоящий дом. Теперь же, когда чужие руки и глаза обшарили каждый уголок, она знала, что с ее любовью к этой квартире покончено.
Было уже три часа пополудни, когда Кунце объявил, что обыск закончен. Дорфрихтер был прав, подумал Кунце. Они не нашли ни одного шкафа, где что-либо лежало не в порядке, под коврами везде была чистота, не было невымытой посуды или побитой молью одежды. Не было обнаружено ни бумаги, которую использовал Чарльз Френсис, ни красных чернил, ни цианистого калия или копировального устройства. Единственное, что хоть как-то могло быть связано с отравлением, — маленькая упаковка капсул с облатками в шкафчике для лекарств в ванной.
— Не знаете ли вы, фрау Дорфрихтер, зачем вашему мужу понадобились эти капсулы? — задал вопрос Кунце.
Марианна все еще сидела, сжавшись в комок, на диване, в страхе и смятении. Незадолго до этого она слышала, как ушла Алоизия, и знала, что теперь все обстоятельства этого постыдного официального посещения будут известны всем соседям. Марианна больше не верила, что этот осмотр — просто рутинное мероприятие и что и другие квартиры офицеров подвергались такому же обыску.
— Капсулы? — переспросила она. Она поняла, что они как-то связаны с тем, что искали у них в доме. Марианна припомнила также сообщение в газетах, что капитан Мадер был отравлен ядом, который был в капсулах, полученных по почте. Как и почему ее муж оказался причастным к этому делу, оставалось для нее полной загадкой. Она лихорадочно пыталась найти какой-нибудь безобидный ответ.
— Да, я помню, он принимал какое-то лекарство. Он недавно сильно простудился. С осложнениями, — добавила она.
— Вы видели, как он наполнял капсулы?
— Нет.
— Вы не будете возражать, если я их возьму?
Больше всего ей хотелось сказать: «Убирайтесь к черту, вы и оба ваших вонючих идиота!» Но она была женой офицера, поэтому согласно кивнула и даже изобразила улыбку:
— Нет, конечно нет, господин капитан.
От внимания Кунце не ускользнула натянутая улыбка фрау Дорфрихтер, так же как и усилие, которого она стоила. Когда он знакомился с биографией Дорфрихтера, он также узнал все о Марианне.
Отец Дорфрихтера, преуспевающий в торговле с заграницей делец, стоял на несколько ступенек социальной лестницы выше, чем отец Марианны, который был скромным банковским служащим. Марианне было десять лет, когда ее отец, страстный альпинист, погиб в тирольских Альпах. Оставшаяся без материальной поддержки, мать вынуждена была пойти работать продавцом в маленький хозяйственный магазин, который она впоследствии выкупила у часто болевшего владельца. Марианне, младшей из четырех дочерей, не было еще и двенадцати, когда врачи обнаружили у нее туберкулез. В восемнадцать они объявили ее совершенно здоровой. Шесть долгих лет — дома ил и в санатории — она провела лежа на спине у открытого окна. Ей было заказано заниматься каким-либо спортом и ходить в школу.
Тот факт, что Дорфрихтер женился на ней, говорил против того, что он был чрезмерно честолюбив. Такие женятся обычно на дочерях генералов или миллионеров, так как лейтенанты пехоты редко происходят из состоятельных семей. Но Марианна была необыкновенно привлекательна и грациозна. Кроме того, она умела легко приспосабливаться к любым жизненным обстоятельствам, иначе ей не удалось бы всего за два года супружества стать настоящей офицерской дамой.
— Как я слышал, вы только недавно вернулись из Вены, сударыня, — продолжал беседу Кунце, медленно и аккуратно заворачивая коробочку с капсулами в лощеную бумагу.
Лишь позже у Марианны мелькнула мысль, что он умышленно затягивал разговор.
— Нельзя сказать, что совсем недавно. Недели две назад.
— И часто вы ездите в Вену?
— Довольно часто. Там живет моя мама. Мы ведь венцы. Я имею в виду нашу семью. Жаль, что путешествовать становится все трудней. Весь мир стремится куда-то ехать. Наш поезд вчера был переполнен.
— Наверное, вам было не очень приятно ехать одной?
Его тон был абсолютно непринужденным, почти свойским. Он не сказал «в вашем состоянии», но она поняла, что он имел в виду, и покраснела.
— Но я возвращалась не одна. Петер — то есть мой муж — сопровождал меня из Вены.
— Вы его просили об этом или это был его рыцарский поступок?
На этот раз она рассмеялась.
— Наверное, это был, как вы говорите, рыцарский поступок. Я и понятия не имела, что ему разрешат взять отпуск.
— Это был сюрприз для вас?
— Ну конечно. Он появился в самую рань, примерно около семи часов. Я еще спала, но он меня разбудил. Вообще-то я проснулась от того, что собака царапалась в дверь.
— Это было четырнадцатого ноября?
Марианна испуганно посмотрела на капитана. Только сейчас она снова осознала, что ее допрашивают.
— Да, — тихо ответила она. — Четырнадцатого.
После ухода капитана Кунце и унтер-офицеров Марианна подождала пять минут, затем, накинув пальто, поспешила к соседям, где был телефон. Она хотела позвонить мужу. Прошло несколько минут, пока телефонистка не сообщила, что господина обер-лейтенанта нет.
Она возвратилась в свою оскверненную квартиру. Вопреки заверениям капитана Кунце, что все останется в полном порядке, комнаты выглядели как после разгрома. Покрывало с кровати было сдернуто, из ящиков комода свисали вещи, дверцы шкафов раскрыты настежь, перед туалетным столиком рассыпана пудра. Марианна разобрала постель и забралась, полностью одетая, под одеяло. Она хотела как следует выплакаться, но, как назло, слез не было. После такого потрясения Марианна заснула. Проснулась от скрипа двери в спальню. Открыв глаза и увидев в дверях мужа, она соскочила с кровати, бросилась к нему, вцепившись в него, как утопающая:
— Петер! Петер, что им от нас нужно? Они всю квартиру перевернули вверх дном, рылись во всех углах! Где ты был? Я пыталась до тебя дозвониться, но сказали, что тебя нет.
Он мягко освободился от ее рук.
— Успокойся, дорогая. — Его голос был спокойным, он был, как всегда, хладнокровен. — Помни о том, что тебе нельзя волноваться. Это вредно для тебя.
— Но Петер, что все это значит?
— Ничего, нас это вообще не касается. Произошло убийство, и есть некоторые подозрения, что нити ведут в Линц. Этим и вызваны обыски. К несчастью, все выглядит так, что преступник относится к местному гарнизону. Мы должны будем смириться с некоторыми неудобствами, пока не найдут преступника или не прекратят дело.
— Они задавали такие странные вопросы.
— Какие вопросы? — В его голосе послышалась настороженность.
— Самые разные. Например, поехал ли ты в Вену сам или я об этом тебе написала, чтобы ты приехал.
— Да, ты же об этом мне написала.
Она испуганно посмотрела на него.
— Нет, я не писала.
— Ты мне написала, что чувствуешь себя неважно. Ты что, уже не помнишь?
Его тон, уверенный и слегка сердитый, смутил ее.
— Я действительно так написала?
— Ну конечно. Твое письмо где-то у меня лежит.
— Я тебе много писем посылала, но не могу вспомнить, чтобы я…
— Но именно из-за этого я поехал Вену, а не в Зальцбург! — перебил он ее. — Я не мог тебе позволить ехать одной. — Он помолчал секунду. — И что же ты им сказала?
— Я сказала им, то есть капитану, что я тебя не просила приезжать. Извини, Петер, но так мне казалось. Да и сейчас тоже. — Она вконец расстроилась. — Это очень плохо, что я им так сказала?
Он пожал плечами.
— Сейчас уже все равно ничего не изменишь.
— Я бы могла сказать, что ошиблась.
— Это было бы только хуже.
Необычайно глухой голос мужа встревожил ее.
— Петер, у меня ужасное чувство: что-то произошло. Не смотри на меня так. Я только хочу сказать, что если ты по какой-то причине замешан в этом ужасном деле, давай со всем этим покончим. Я готова умереть вместе с тобой, мне нисколько не страшно. — Не в силах выносить его полный упрека взгляд, Марианна опустила глаза. — Убей сначала меня, а…
— А потом самого себя? — Он усмехнулся: — Сегодня это уже второе такое предложение! Разница только в том, что те сочувствующие не выразили желания умереть вместе со мной. Нет, любимая. Я не застрелю ни Тролля, ни себя.
— Тролля?
— Уж не думаешьли ты, что мы оставили бы его? Для газет будет гораздо заманчивее, если и собака участвовала в этом спектакле!
— Ты отвратителен!
— Нет, я трезво смотрю на вещи. В такие игры я не играю. Кстати, ты поведала капитану, что ты сказала мне, когда мы с тобой говорили о списке моих однокашников, которых с первого ноября переводят в Генеральный штаб?
— О каком списке?
— Так ты снова забыла? Я тебе показал список, а ты сказала, что еще раньше была знакома с капитаном фон Герстеном. Он пытался за тобой ухаживать, и если бы ты ответила на его ухаживания, то была бы сейчас, наверное, женой офицера Генерального штаба, а не простого пехотного обер-лейтенанта.
— Я так не говорила, — запротестовала она.
— Говорила, говорила.
— Я тебя только подразнить хотела!
— Да я знаю. И все-таки: если тебя кто-нибудь спросит, — этого никогда не было! Ты поняла? Никогда! Я тебе никогда не показывал этот список, и мы никогда об этом не говорили. Ты вообще не знаешь, видел я этот список или нет. И даже если я его читал, то при тебе ни разу о нем не упоминал!
— А почему это так важно?
— Это не важно. То есть не очень важно. Но людям поручено расследовать это злополучное дело, чтобы успокоить общественность и прессу. Они готовы ради сохранения добрых отношений между гражданскими властями и армией пожертвовать невиновным. Дело заключается в том, что я отказался быть жертвенным барашком.
Постепенно она стала чувствовать себя лучше, но до конца еще не успокоилась.
— Я им рассказала, что ты послал венок на могилу Мадера. Это не может тебе навредить, правда?
— Конечно нет. Мадер был мой товарищ. Хороший парень. Прекрасный офицер. Не луч света, но с ним всегда было интересно. Его все любили. А кроме этого, — он запнулся на мгновение, — а кроме этого, у меня была особая причина любить его. Однажды он спас мне жизнь.
— Неужели? — она была удивлена до крайности. — Ты мне никогда об этом не рассказывал.
— Нет.
— И каким же образом он спас тебе жизнь?
— Ах, это долгая история. Я тебе расскажу об этом в другой раз. Мы сегодня вообще будем ужинать, а?
2
На следующий день после допроса Дорфрихтера в Линце в полицай-президиуме Вены утром появилась невысокая, плотного телосложения женщина лет сорока. Ее сопровождал полный чувства собственного достоинства мужчина в хорошо отутюженном, но довольно поношенном черном костюме. Мужчина сказал, что им необходимо встретиться с полицай-президентом Бржезовски. Их проводили в кабинет капитана полиции Кубелика. Мужчина отрекомендовался как старший почтовый советник Блош.
— Позвольте представить вам фрейлейн Анну Поссельт, служащую почтового отделения номер 59, — сказал он Кубелику. — Я думаю, у нее есть важная информация по делу Чарльза Френсиса.
При попытке выяснить подробности Блош ответил, что фрейлейн Поссельт хотела бы говорить с самим полицай-президентом. К этому моменту у капитана полиции зародились серьезные сомнения в том, может ли фрейлейн Поссельт вообще разговаривать, так как с самого начала встречи она не проронила ни звука. В своем длинном, до пят, пальто, темными глазами и черными волосами, круглым как луна лицом она напоминала ваньку-встаньку.
Спустя некоторое время фрейлейн Поссельт и ее сопровождающий были приняты полицай-президентом Бржезовски. Бржезовски был вежлив, но, к разочарованию Блоша, не проявил большого интереса к их визиту. В последние дни поступило множество сообщений о якобы важных свидетельствах от людей, стремящихся попасть в газеты. Но он, как и прежде, был убежден, что преступника нужно искать среди военных. Генерал Венцель и его группа допрашивали в Линце некоего обер-лейтенанта, и ходили слухи, что речь идет о скором его аресте. Тем не менее был вызван секретарь, чтобы стенографировать сообщение фрейлейн Поссельт.
— Она одна из моих самых добросовестных служащих, — сообщил советник Блош. — Более двадцати лет безупречной службы. — Он обратился к женщине: — Расскажите-ка господину полицай-президенту о польском еврее и о письмах.
Фрейлейн Поссельт сделала глубокий вдох.
— Это было четырнадцатого ноября, незадолго до восьми. Перед моим окном — «Заказные письма и продажа почтовых марок» — стояла очередь из нескольких человек, а этот польский еврей был вторым и чуть шею себе не свернул, хотел узнать, почему я так долго вожусь, хотя на самом деле я все делаю моментом. Когда дошла его очередь, он протянул мне пачку писем. Обычные письма, марки уже наклеены. Тогда я сказала ему, что их нужно бросить в почтовый ящик. А он мне отвечает, что письма из ящиков только что вынули — тут он не врал — двое коллег как раз сортировали их, он попросил передать его письма моим коллегам, чтобы успеть к следующей доставке. Клиент был такой настырный, извините, просто привязался с этими письмами. Я его спрашиваю, что, мол, у вас горит, что за спешка? А он отвечает, что, значит, его послал господин обер-лейтенант с этими письмами из Галиции и их позарез нужно тут же отправить. Тогда, чтобы отвязаться от него, я ему показала, как обойти стойку и положить письма на сортировочный стол. Ну, он так и сделал.
Женщина повествовала все это совершенно безучастно, монотонно и не делая пауз.
— Вы еще не упомянули про адрес, — напомнил советник Блош.
— Ах да, — спохватилась она и слегка оживилась. — Когда он подвинул мне письма в окно, я мельком взглянула на один адрес. Письмо было какому-то господину капитану. Никакой улицы не было указано, а только Генеральный штаб, военное министерство, Вена.
Бржезовски посмотрел на нее с сомнением.
— А с чего это вы вдруг стали читать адрес? — спросил он.
Фрейлейн Поссельт густо покраснела.
— Да я вовсе не читала, а только глянула, он такую суматоху поднял с этими письмами. Я еще удивилась, а что же господин обер-лейтенант не бросил их в Галиции. Почему это он посылает человека в такую даль, в Вену? Наклеил бы еще марок по пять геллеров, и дело с концом. Непонятно мне все это. Как вспомню, так удивляюсь.
— Вы сказали, что это был польский еврей. Почему вы так решили?
— Да смотрелся он так, кафтан на нем был, борода такая рыжая. Да и говорил он точно как польский еврей. Я их много таких повидала.
— Когда фрейлейн Поссельт рассказала мне об этих письмах, — перебил ее Блош, — я сразу понял, что они связаны с делом Чарльза Френсиса, и настоял пойти прямо к вам, господин полицай-президент. Я считаю моим гражданским долгом помочь полиции.
— Мы высоко это ценим, — сказал Бржезовски, добавив про себя: «Ну конечно, и о двух тысячах крон вознаграждения вы, естественно, не забыли».
Бржезовски попросил их подождать в приемной, пока будет расшифровываться стенограмма, которую они должны подписать. Сразу за этим он послал детектива в Генеральный штаб с заданием опросить всех капитанов, получали ли они отправленные четырнадцатого ноября письма от служившего в Галиции их товарища по военному училищу. Другой полицейский был отправлен в опечатанную квартиру Мадера, чтобы еще раз проверить все его бумаги. Хотя Бржезовски по-прежнему считал собранные против Дорфрихтера доказательства наиболее многообещающими, он, учитывая, что новые данные также указывают на причастность военных к делу, решил проверить тщательно и их.
Посланный в квартиру Мадера полицейский вернулся с конвертом, который был отправлен четырнадцатого ноября из 59-го почтового отделения. Само письмо отсутствовало, но на конверте с обратной стороны были указаны имя и адрес отправителя. Имя отправителя приобретало особое значение: обер-лейтенант Йозеф фон Хедри, также выпускник военного училища. В списке выпускников он занимал по итогам учебы девятнадцатое место, сразу вслед за Дорфрихтером. Имя Хедри уже всплывало один раз в ходе следствия — он был одним из адресатов Чарльза Френсиса. Во внимание был принят тот факт, что он оказался единственным из получателей циркуляра, кто не был повышен в звании и переведен в Генеральный штаб. Однако этому не придали большого значения. Хедри служил в расположенном далеко в Галиции местечке Гродек, и из телефонного разговора с его командиром выяснилось, что в Вене он не был более полугода. И вот теперь обнаружилось адресованное им покойному Мадеру письмо, отправленное, как и циркуляры Чарльза Френсиса, в восемь часов утра с того же самого 59-го почтового отделения.
Полицай-президент известил по телефону генерала Венцеля о новом повороте событий. После обсуждения этой информации комиссия пришла к выводу, что капитан Кунце по возможности незаметно должен покинуть Линц и с первым же поездом отправиться в Гродек.
Обер-лейтенант Йозеф фон Хедри скакал на лошади по главной аллее прекрасного парка. Он был участником охоты на лис. Но куда делась вся свора собак? Почему он один? Спустя секунду он был уже не на лошади, а гулял с одной актрисочкой из Будапешта, с которой у него прошлым летом был роман. Он как раз пытался вспомнить ее имя, как вдруг ему в лицо хлынул поток ледяной воды. Он закашлял, захрипел, стал хватать воздух. Внезапно ему показалось, что он тонет, он стал беспорядочно размахивать руками — и вдруг наткнулся на что-то мягкое и теплое. Тут он окончательно проснулся и понял, что он в Гродеке, а водой его облила Наташа, местная проститутка.
— Чтоб ты пропала, глупая курица! Ты что, с ума сошла?
Он с отвращением посмотрел на ее злое лицо. Польские потаскухи сами по себе не стоили доброго слова, но местные были гораздо хуже. Нужно напиться до чертиков, чтобы на такую польститься. Они были грязные и отвратительные, как все в Галиции. В Библии зря описывают ад, как геенну огненную с горящей серой. Настоящий ад — это безлесная местность с клубами пыли летом и всепроникающей вонью навоза, ледяными ветрами и грязью по колено в сентябре. Был только один примиряющий со всем этим аспект — в грядущей войне, — а Хедри молился, чтобы она началась скорее, — можно было ожидать, что Галиция, вполне вероятно, станет полем битвы, а после этого вообще исчезнет с лица земли.
— Потому что ты меня просил, — закричала Наташа. — Ты сказал, чтобы я тебя разбудила ровно в шесть. А если не будешь просыпаться, сказал облить тебя водой. Вставай, а то опаздаешь к построению.
Ее имя было вовсе не Наташа, но Хедри звал ее именно так. Называть ее настоящим именем означало, по мнению Хедри, сводить их отношения к близким. Офицер же должен, особенно в Галиции, держать дистанцию в отношениях со штатскими.
Он поднялся с трудом. Голова раскалывалась. Он смутно помнил, что происходило вчерашним вечером: ужин у Яблонски с другими гусарами и в итоге попойка в одном из кабинетов «Гриль паризьен», грязной комнатушке ночного кабака. Там к ним присоединились три улана. Обычно эти рода войск держались отдельно, но оглупляющая, глубокая безысходность иногда сводила их вместе. Уланы были в общем-то неплохие парни. Большинство из них польские шляхтичи — Галиция, в принципе, была частью их родины. Проблемы возникали при совместных пирушках: дело быстро доходило до пари: «кто больше выпьет», вспыхивали споры, которые иногда заканчивались дуэлью. Дуэли были строжайше запрещены, но, поскольку они хоть как-то нарушали вечное однообразие, командиры смотрели на это сквозь пальцы, если только они не заканчивались смертью.
Хедри посмотрел на грязь и беспорядок в комнате и вдруг почувствовал, будто все бесчисленные галицийские насекомые поползли по нему. Он спрыгнул с кровати с такой прытью, которой еще минуту назад у себя не подозревал. Заглянув в бумажник, он убедился, что пачка денег в нем значительно поубавилась. Но он не стал проверять, сколько пропил вечером, а сколько взяла себе Наташа. Вытащив десятикроновую купюру, он протянул ее так, как бросают кость бродячей собаке, — двумя пальцами, чтобы не испачкать пастью руку.
Десять крон были неожиданно щедрой платой за оказанные услуги. Лицо Наташи расплылось в счастливой улыбке. Она с визгом кинулась на шею обер-лейтенанту, и он почувствовал, что тонет в этой массе женской плоти. От неожиданного напора он на миг потерял равновесие. Запах жирных волос и пота вызывал тошноту. Хедри оттолкнул Наташу довольно жестоко, так, что, несмотря на ее сто килограммов, ее отбросило на кровать.
— Никогда больше не хватай меня, — закричал он, цепляя свой офицерский палаш.[651] — И не вздумай затащить меня еще раз в свой свинарник, когда я пьян. Иначе просплюсь и прикончу тебя на месте!
Чертыхаясь, он натянул свой плащ. Все они здесь вызывали отвращение — и мужчины и женщины. Сама мысль — провести лучшие годы жизни в этой богом забытой дыре — приводила его в отчаяние. Сколько еще он сможет выдержать? Насколько еще хватит сил? Только война, может быть, смогла бы его спасти!
Снаружи было еще темно, и на улицах попадались только женщины, поджидавшие клиентов около своих домов. Из-за ноябрьских холодов они надели на себя все, что можно, и напоминали живые тумбы. Хедри не удостоил их даже взглядом.
В Гродеке, насколько он знал, население состояло из двух групп: тупых, дурно пахнувших крестьян и множества маленьких, одетых в черное вежливых евреев. Он предпочитал евреев. Без их постоянной готовности помочь, их ловкости и смекалки он бы здесь не выдержал. Благодаря им эта абсолютно невыносимая дыра становилась почти приемлемой: только они могли помочь найти приличную квартиру, разыскать французское шампанское и разные деликатесы, без них невозможно было достать хорошее средство от клопов или договориться о кредите. Он не переставал им удивляться. Хотя они росли в такой же нищете, что и крестьяне, у них было врожденное понимание элементарных потребностей людей совершенно чуждой им культуры. Раньше у него были определенные предубеждения против евреев, но здесь он научился их ценить. Кроме того, он просто не мог без них обойтись.
Еще до того как явиться и доложить о себе в казарме, он хотел заскочить домой, принять ванну и переодеться. Хотя он жил в другой части городка, он решил идти пешком, чтобы проветриться. Уже через несколько минут он почувствовал себя лучше. По крайней мере, физически. Духовно ему уже ничто не могло помочь. С тех пор как в приказе от первого ноября он не обнаружил своей фамилии, его настроение было безнадежно мрачным.
Он закончил военное училище в 1905 году девятнадцатым по списку. Годом раньше лучшие тридцать выпускников 1904 года после четырех лет службы были переведены в Генеральный штаб. На этот раз по совершенно неизвестным причинам — может быть, лишь из прихоти нового шефа Генерального штаба Франца Конрада фон Хётцендорфа — переводу подлежали лишь первые пятнадцать.
Сам по себе этот факт не смог бы его сильно огорчить. Он не был чересчур честолюбив и чувствовал себя гораздо лучше в войсках, чем в бюро за письменным столом. Он любил кавалерию — она была его жизнью, его страстью, его прошлым и будущим. Что он ненавидел, так это Галицию.
Правительство, в своих безуспешных попытках спаять население монархии, состоящее из многочисленных национальностей, в единую нацию, в числе других мероприятий практиковало посылать венгерские, например, полки стоять в Галиции, австрийские — в Сараево, полки из Словении — в Зальцбурге, а чешские — в Дебрецене. Это, по замыслу правительства, должно было способствовать укреплению двухсторонних братских отношений, но на самом деле вызывало у военных как острую тоску по родине, так и лютую ненависть к каждому клочку чужой земли и к каждому жителю, за исключением молодых особ женского пола. Сознание того, что он некоторым образом является участником крестового похода, никоим образом не уменьшало отчаяние обер-лейтенанта фон Хедри. А тот факт, что он к тому же потерял Лебовица, делало его страдания бесконечными.
Лебовиц был его домашним евреем, лучшим из всех, кто у него был. Худой человечек неопределенного возраста, он был умен, изворотлив, понимал все с полуслова и был неутомим. Они познакомились в тот день, когда Хедри вышел из поезда Вена — Гродек — Тарнополь и не нашел ни носильщика для своего багажа, ни фиакра, который отвез бы его в город. Лебовиц ехал этим же поездом в третьем классе — он возвращался с похорон из соседнего городка. Увидев, что молодой офицер находится в затруднении, он немедленно взялся за дело. Тут же нашлись машина для господина обер-лейтенанта и повозка для его багажа. В лучшем отеле была снята комната, доставлена коробочка с порошком от клопов, чтобы обеспечить спокойный сон, на следующий день была найдена приличная квартира с ванной и отдельным входом, а также рекомендательные письма в закрытые бордели Тарнополя и Пршемышля.
И вот это сокровище теперь решило покинуть родную Галицию и отправиться в Соединенные Штаты. Для обер-лейтенанта это стало полной неожиданностью, но для Лебовица и большого числа его единоверцев это было результатом долгих приготовлений. Двадцать три человека, некоторые со своими семьями, присоединились, себе на радость и на горе, к молодому раввину, организовавшему этот массовый исход. У большинства были родственники в Америке, и они считали, что рискуют немногим. Лебовиц в этой чужой стране не знал ни единой души, но он был первым, кто присоединился к этой группе. Когда Хедри пытался его отговорить, рассказывая кровавые истории о зверствах индейцев или про ужасы Дикого Запада, Лебовиц только смеялся.
— Господин обер-лейтенант, да мне, нищему, который двадцать лет на побегушках у военных, чтобы только на хлеб насущный заработать, индейцы ангелами покажутся. — И тут же поспешил добавить: — Конечно, я говорю об уланах, а не о гусарах. Уланы и поляки нас, евреев, терпеть не могут. Венгерские господа относятся к нам лучше и никогда не колотят, когда они трезвые.
Прошло уже десять дней, как он уехал. Хотя Лебовиц поручил своему племяннику заботиться о господине обер-лейтенанте, Хедри чувствовал себя осиротевшим. Племянник был тощим юношей с вечно мокрым носом, который за десять дней ни разу не сменил рубашку, не вычистил ботинки и не воспользовался носовым платком.
Придя домой, Хедри испытал замешательство и понял, что его мечты о горячей ванне отодвигаются на неопределенное время. Его ожидал унтер-офицер с приказом немедленно явиться к командиру. Идигес, его конь, уже стоял под седлом, накрытый попоной, во дворе. Обер-лейтенанту показалось, что и в глазах лошади отразилось его собственное недовольство. «Идигес» по-венгерски означало «нервный», и животное полностью оправдывало свою кличку. От всего, что двигалось — будь это орудие, велосипед, автомобиль или приближающийся к Идигес еврей, — он шарахался и вставал на дыбы, если не чувствовал по бокам шенкеля обер-лейтенанта. Тогда он был смирным как овца, хотя Хедри никогда грубо с ним не обращался. У него был особый дар быстро находить общий язык с лошадьми. С людьми так было не всегда.
Начинало моросить, и темнота уступила серому рассвету, когда он подъехал к казарме.
Кабинет командира находился на втором этаже мрачного двухэтажного здания недалеко от ворот. Дежурный по штабу фельдфебель немедленно доложил о нем.
Граф Петофи был высокий, властного вида человек, обладавший, по слухам, самой прямой спиной и самым большим носом в австро-венгерской армии. От стального взгляда его голубых глаз самых бывалых гусар бросало в холодный пот. Хедри решил, что его ожидает порядочная взбучка за вчерашнюю попойку. Он был сильно растерян, когда увидел, что эти беспощадные глаза смотрят на него почти по-отечески. «Всемилостивый боже, — подумал он, — кто-то умер в нашей семье! Мама? Боже, сделай, чтобы это была не мама! Я ей уже сколько недель не писал!»
Тут он заметил, что полковник в своем кабинете был не один. Капитан, которого он до этих пор никогда не видел, поднялся и представился как военный юрист Кунце.
— Капитан Кунце является аудитором военного суда в Вене и расследует одно преступление. Вам будут заданы вопросы, постарайтесь на них ответить в полном объеме, — указал Хедри полковник. — Потребуется помощь, обращайтесь. Я сказал капитану, что вы один из моих лучших офицеров и готов за вас поручиться.
«Удивительно, — подумал Кунце, — австрийский полковник в Линце и венгерский полковник в Гродеке реагируют абсолютно одинаково, когда один из их людей попадает под подозрение. Может быть, это некий вселяющий надежду знак? Значит ли это, что монархия на самом деле становится единой нацией, а не мозаикой из разных народов? И что она не обречена на медленный распад или, наоборот, взрыв, вызванный химическим взаимодействием таких разных рас, вынужденных жить вместе? И что именно армия является той властью, которая обеспечивает их совместную жизнь если не навечно, то по меньшей мере на следующие сто лет?»
Капитан вынул из своего бумажника конверт и протянул его Хедри.
— Вам знаком этот конверт, господин обер-лейтенант?
Хедри растерянно посмотрел на него.
— Так точно, господин капитан. Это мое письмо к покойному капитану Мадеру.
— Почему вы послали ему письмо?
— Мы были друзьями. Когда я узнал, что он переводится в Генеральный штаб, я поздравил его.
— Невзирая на то, что вас при этом обошли?
Кровь прилила обер-лейтенанту к лицу.
— Я не понимаю, господин капитан, какое это имеет отношение к моему письму Мадеру.
Кунце на секунду закрыл глаза. Он никогда не мог спать в поездах, а поездка в Гродек была долгой и утомительной.
— Вы уезжали из Гродека после тринадцатого ноября?
— Нет, господин капитан.
— А как же получилось, что ваше письмо Мадеру было отправлено в Вене, утром четырнадцатого ноября?
— Его отправил мой домашний еврей, когда он был в Вене по пути в Америку.
Кунце удивленно поднял брови.
— Ваш домашний еврей?
— Это местное выражение, — объяснил полковник. — Гродек как гарнизон отнюдь не райское место. Особенно для молодых офицеров. Даже приличную квартиру найти проблема. В этом смысле евреи незаменимы. Они могут найти и обеспечить буквально все. Может быть, это связано с их религией. Наши местные, сдается мне, еще лучше, чем Моисей. Они могут из скалы не только холодную, но и горячую воду высечь.
Кунце принял шутку с вежливой улыбкой и обратился вновь к Хедри:
— Почему вы отправили письма с этим человеком, а не опустили их в почтовый ящик здесь, в Гродеке?
— Я посчитал, что так будет быстрее. Почта здесь работает, мягко говоря, плохо.
— Это было единственное письмо, которое вы передали с этим человеком?
— Нет, господин капитан. Я передал ему три или четыре письма. Все были адресованы друзьям в Вену.
— Так три или четыре?
Хедри, на секунду задумавшись, сказал:
— Три.
— Друзьям среди военных?
— Нет, господин капитан, штатским.
— Получатели, значит, не друзья-офицеры?
— Нет, господин капитан. Только капитан Мадер. Остальные — ну, в общем, женщины.
— Все трое?
— Так точно, господин капитан.
Капитан Кунце спросил фамилии и записал их.
— А как фамилия этого, — он запнулся на секунду, — вашего домашнего еврея?
— Лебовиц.
— Имя?
— Я не знаю. Я его звал только по фамилии. Но это можно выяснить. Его заменил у меня его племянник. Я могу спросить, если вы считаете это необходимым.
— Это бы нам очень помогло.
Разговор протекал спокойно и непринужденно. Обер-лейтенант все еще был слегка озадачен, но показал себя готовым всячески помочь капитану.
— Девятнадцатого ноября вы получили циркуляр, подписанный неким Чарльзом Френсисом, и немедленно передали его командиру. Это так?
— Так точно, господин капитан.
— Вы вскрывали конверт?
— Нет, господин капитан.
— А почему нет?
— Я не вскрывал его, так как все офицеры гарнизона получили приказ немедленно передать циркуляр господину полковнику, если таковой будет получен! — Впервые с начала разговора в тоне обер-лейтенанта прозвучали нотки раздражения.
Кунце бросил на него долгий вопрошающий взгляд. Этот молодой человек оставался для него загадкой. Перед поездкой в Гродек Кунце ознакомился с его биографией.
Хедри происходил из старинной и очень богатой семьи. Тот факт, что ему удалось не только поступить в военное училище, но и закончить его, свидетельствовал о том, что он был способнее, чем обычный кавалерийский офицер. Но на данный момент он находился в состоянии глубокого похмелья и с трудом сдерживал зевоту.
В предписанном офицерским кодексом, четком, подчеркнуто почтительном тоне его ответов уши Кунце улавливали некий оттенок надменности. Один из фон Хедри говорил с неким Кунце. Снова для Кунце было загадкой, каким магнитом тянет к себе армия? Почему такой молодой фон Хедри с его прекрасными физическими и духовными качествами выбирает карьеру офицера, которая не может ему предложить ничего, кроме оглупляющей рутины, недалеких друзей-офицеров и тягостного принуждения?
— Какие у вас планы на будущее, господин обер-лейтенант?
Молодой человек сморщил лоб. Он не понимал вопроса.
— Относительно чего, если позволите спросить?
— Вы собираетесь продолжить службу?
— Разумеется, господин капитан.
— Несмотря на разочарование, что вас не перевели в Генеральный штаб?
Обер-лейтенант больше не выглядел сонным. Он сделал глубокий вдох.
— Так точно, господин капитан, вопреки разочарованию, что меня не перевели в Генеральный штаб.
Голос Хедри стал тише, но был полон язвительного презрения. Князь, который ставит своего шута на место. В тот же момент Кунце стало ясно, почему Чарльз Френсис поместил фамилию обер-лейтенанта в список своих жертв. Если он хотя бы один раз с Чарльзом Френсисом говорил таким тоном…
— Вы помните обер-лейтенанта Дорфрихтера? Он был вашим сокурсником в военном училище.
Обер-лейтенант потряс головой, как если бы ему попала вода в уши. Смена темы была слишком резкой.
— Я не успеваю за вашей мыслью, господин капитан, — сказал он с оттенком вызова.
— Обер-лейтенант Петер Дорфрихтер. — Кунце произнес фамилию подчеркнуто медленно и отчетливо. — Вы его помните?
— Так точно, господин капитан.
— Как вы относились друг к другу?
Хедри пожал плечами.
— Он был товарищем по учебе. Просто один из однокашников.
— Вы дружили с ним?
Ответ последовал мгновенно.
— Нет, господин капитан. — И потом, с несколько извиняющейся улыбкой: — Дорфрихтер был не из тех, с кем можно легко подружиться. Да и я не из таких.
— Вы с ним когда-нибудь ссорились? Вы были номером 19, а он номером 18. Это означает, что вы были конкурентами.
— Мы все там были конкурентами. Весь класс. Так обстоит дело в военном училище. Никакой дружбы. Путь к успеху мог пролегать только через трупы тех, кто перед тобой. Вам же это известно, господин капитан. Так это было, по крайней мере, когда я там учился. Может быть, сейчас все по-другому и отношения носят благородный характер, но я сильно в этом сомневаюсь.
«Он абсолютно прав», — подумал Кунце.
— Но какое-то мнение о Дорфрихтере тем не менее у вас сложилось, — настаивал Кунце.
— Ну конечно. — Хедри пытался быстро собраться с мыслями. — Он был довольно умен и очень способен. По правде сказать, он был способнее многих тех, кто обошел его по списку. Вся проблема была в его нервах: в сложной обстановке, в стрессе он терял голову. Во время экзаменов он получал гораздо более низкие оценки, чем он заслуживал. К тому же его страх перед лошадьми! — Хедри быстро поправился: — Не страх, я имел в виду антипатию к лошадям. И со спортом у него не ладилось. К несчастью, майор фон Кампанини задался целью сделать из него именно спортсмена. Он давал ему только самых упрямых жеребцов. Много раз они сбрасывали Дорфрихтера на землю. Его иной раз можно было пожалеть, бедного парня. — Он улыбнулся: — Да и лошадь тоже.
— У вас репутация одного из лучших наездников монархии, господин обер-лейтенант, — заметил Кунце.
Хедри пожал плечами.
— Об этом мне ничего не известно, господин капитан. По мне было бы лучше сказать — я умею ездить на лошадях. Это нельзя считать каким-то особым достижением, если учесть, что я практически вырос в седле. Конечно, это было преимуществом перед Дорфрихтером, которое у меня было изначально.
Кунце встал.
— Благодарю вас, господин обер-лейтенант. На данный момент это все. Хотел бы только попросить вас дать мне полное имя и адрес этого Лебовица. И название группы, с которой он отправился в поездку.
— Когда они вам нужны?
— Как можно быстрее, — тихим голосом, но все же категорическим тоном сказал Кунце.
Обер-лейтенант поклонился своему командиру, щелкнул каблуками и вышел из кабинета. Снаружи, на плацу, он приказал первому из галопирующих там гусар подвести его коня. Одним ловким движением он впрыгнул в седло и поскакал в направлении местного гетто.
Несколькими часами позже Моисей Лебовиц, проживающий со своей группой в одном из пансионов Вены, получил повестку, в которой значилось, что он должен незамедлительно явиться в бюро полицай-президента Бржезовски. Момент был на редкость неподходящий, так как все препятствия были преодолены, все необходимые документы получены и на вечер был назначен отъезд.
Хотя Лебовиц за две недели пребывания в Вене никаких следов недружественного к себе отношения не почувствовал, он счел за благо взять с собой адвоката. Этот адвокат был товарищ по школе молодого раввина, который организовал их отъезд. Он уже давно жил в Вене, и большой город сделал из него общительного, находчивого человека и, по мнению Лебовица, уже не совсем еврея.
Полицай-президент принял их немедленно. После нескольких дружелюбных слов, которые должны были успокоить заметно нервничавшего Лебовица, Бржезовски перешел к разговору об обер-лейтенанте Хедри. Это произошло так неожиданно, что Лебовиц был сильно испуган. Тело его под тяжелым кафтаном покрылось холодным потом, он судорожно вцепился своими скрюченными пальцами в обивку стула.
Господина обер-лейтенанта ограбили, наверное даже убили, размышлял он, и его, Лебовица, подозревают в этом преступлении. В детстве и юности Лебовиц неоднократно переживал погромы, но они пугали его меньше, чем явно участливое поведение полицай-президента. Погромы Лебовиц понимал, а полицай-президента и его мотивы он понять не мог.
Так точно, он оказывалгосподину обер-лейтенанту услуги. Да, он получал небольшие суммы в качестве платы за эти услуги, но это все, что он может сказать по этому поводу. Господин обер-лейтенант не раз повторял, что он им очень доволен.
— Господин обер-лейтенант фон Хедри дал вам несколько писем, которые вы должны были отправить в Вене. Помните, сколько их было? — спросил полицай-президент.
Лебовиц с недоумением уставился на него вытаращенными глазами.
Почему вдруг письма? Лебовиц сильно забеспокоился. Что же было в них такого важного? Может быть, деньги?
— Их было четыре, господин полицай-президент, — заикаясь, пролепетал он.
— Вы уверены, что не больше?
— Так точно, с вашего позволения, господин президент. Я их сосчитал, когда господин обер-лейтенант отдал их мне, а потом еще раз на почте.
— Вы их бросили в почтовый ящик?
— Нет, с вашего позволения, господин президент. Мне надо было знать наверняка, что они не потеряются. Поэтому я их на стол положил, где почту сортировали. — Он заговорил погромче: — Если их потеряли, то я, с вашего позволения, здесь ни при чем, а виновата почта!
— Вам господин обер-лейтенант именно так поручил отправить письма?
— Нет. Как я уже говорил, я только хотел, чтобы они не потерялись. И чтобы они скорее были отправлены. Я всегда старался служить моему господину офицеру как можно лучше.
— Вы прочитали, куда были адресованы письма?
— Нет, с вашего позволения, господин президент.
— Почему нет?
— Я не умею читать, милостивый господин. По-немецки то есть. На иврите я могу читать. Но вы же не подписываете ваши письма на иврите.
— Как правило, нет, — сказал Бржезовски, и по его губам скользнула улыбка.
Допрос длился около часа. По окончании допроса полицай-президент сообщил Лебовицу, что тот должен оставаться в Президиуме, чтобы его смог допросить капитан Кунце, который вернется только завтра.
— Но милостивый господин, я же должен сегодня ехать в Гамбург! — закричал Лебовиц. Он начал рыться в своих карманах и достал оттуда аккуратно свернутую бумагу, на которой молодой раввин изобразил ему план поездки. — Мы пересаживаемся в Праге и Лейпциге и приезжаем завтра в обед в Гамбург. На другой день, двадцать восьмого, мы отплываем на «Кримхильде». Если я останусь в Вене, милостивый господин, я опоздаю на пароход.
— Ну тогда вы отправитесь на следующем пароходе, господин Лебовиц, — сказал Бржезовски.
Никогда в жизни никто в Галиции не называл Лебовица господином. Эта необычная честь привела его в еще большее смятение.
— Но я ни за что не смогу решиться отправиться в такое далекое путешествие один, милостивый господин! Один я бы даже сюда никогда не приехал. Я родился в Гродеке и всю жизнь там прожил — один раз только ездил в Пршемышль и два раза в Краков. Никуда я больше не ездил. Я никак не могу отстать от моей группы.
Бржезовски встал и обратился к адвокату:
— Боюсь, мы вынуждены задержать господина Лебовица. Возможно, он будет одним из важных свидетелей, и мы не можем пойти на риск потерять его.
Когда Лебовиц в отчаянии зарыдал, полицай-президент ободряюще похлопал его по спине и, обратясь к адвокату, продолжал своим дружеским, но и одновременно приказным тоном:
— Я распоряжусь, чтобы с ним хорошо обращались. Закажите ему еду в каком-нибудь кошерном ресторане. Я не возражаю. Мы не задержим его ни на минуту сверх того, что необходимо. Я еще раз хочу сказать, что он только свидетель, а отнюдь не подозреваемый.
Полицай-президент и адвокат обменялись рукопожатиями, и Моисея Лебовица увели.
Группа галицийских эмигрантов, как и предполагалось, уехала вечером в Гамбург.
Спустя три дня Лебовиц был отпущен, так и не будучи допрошен капитаном Кунце.
Новый поворот в деле Чарльза Френсиса был виной тому, что о Лебовице в полиции просто забыли. Если бы адвокат не стал наводить о нем справки, он просидел бы, наверное, еще несколько дней. К сожалению, есть определенные недостатки быть не подозреваемым, а гостем в полиции, сказал адвокат Лебовицу.
После своего освобождения Лебовиц заплатил адвокату его гонорар, забрал проездные билеты и паспорт, которые оставил для него раввин, и отправился пешком на Северный вокзал. Несколько часов до отправления поезда он провел, забившись в угол в зале ожидания третьего класса. Когда объявили его поезд, он кинулся бегом на перрон.
Это был скорый поезд с вагонами разных классов. Лебовиц пошел вдоль поезда, рассматривая лица пассажиров через чисто вымытые окна вагонов. Не было никого, кто хотя бы как-то походил на него, все, даже пассажиры третьего класса, выглядели страшно чужими.
Когда раздался сигнал к отправлению, он все еще стоял на перроне и, не двигаясь, смотрел, как поезд все быстрее и быстрее уносил свой груз из металла и людей, пока не исчез из вида.
Он вернулся в город, на этот раз в туристическое бюро, где покупались билеты для всей группы. Билеты назад у него не приняли, так как было уже поздно и пароход из Гамбурга давно находился в пути. Ему вернули только стоимость проезда до Гамбурга. Лебовиц отошел от окна и равнодушно порвал пароходный билет на мелкие клочки.
Вечером он сел на поезд Вена — Гродек. Даже потертые деревянные сиденья напоминали что-то родное. Старушка, сидевшая в углу напротив, жила на той же улице, что и он, двое мужчин ехали в соседние Винники. Впервые за последние дни он почувствовал себя спокойно и умиротворенно. Как ему вообще пришла в голову эта сумасшедшая мысль ехать в Америку?
Капитан Кунце вернулся в Вену двадцать восьмого ноября, проведя еще одну бессонную ночь в поезде. Он отправился с вокзала прямо в свое бюро и попросил соединить его с генералом Венцелем, который все еще был в Линце.
— Я убежден в том, — сказал он ему, — что обер-лейтенант фон Хедри не имеет к делу Чарльза Френсиса никакого отношения. Еврей, который сдавал письма — всего четыре, находился у него в услужении. Я поручил своим сотрудникам найти получателей писем. Три женщины подтвердили показания Хедри. Четвертое письмо было адресовано Мадеру. Нет никаких оснований считать, что в нем было еще что-нибудь, кроме поздравления Мадеру с переводом в Вену.
Венцель слушал его молча, не перебивая. В конце доклада он сказал:
— Приезжайте, пожалуйста, ближайшим поездом сюда. Здесь появились интересные новости. Во всяком случае, так считает доктор Вайнберг. Я лично не хочу без вас ничего предпринимать. Вы заварили всю эту кашу, и вам доводить дело до конца.
Вздох, с которым Кунце встретил эти слова, был достаточно громким, чтобы его услышали на другом конце провода. У него кружилась голова от усталости, он надеялся добраться наконец до дома и выспаться. Но он отлично знал, что возражать — просто терять время. Это был приказ.
— Хорошо, господин генерал, я еду, — ответил он, не спрашивая, что за интересные новости генерал имел в виду.
Как раз этим же утром в Линце аптекарь Ритцбергер проснулся раньше, чем обычно.
Несмотря на свои пятьдесят шесть лет, он чувствовал себя отдохнувшим, полным сил и энергии, и у него было еще целых полчаса в запасе. Почему бы ему не заняться любовью со своей молодой женой, которая еще спала, подумал он. Только он протянул руку, чтобы дотронуться до жены, как ему вспомнился случай, который произошел две недели назад. Он решил воздержаться от семейных радостей, вскочил с кровати, оделся и быстро зашагал к дому шефа полиции, с которым еще вчера вечером играл в карты.
А вспомнилось ему следующее. Поздним вечером к нему в аптеку зашел солдат, пехотинец 14-го полка, и попросил цианистый калий, довольно большую дозу, насколько он помнил. На вопрос, зачем ему это понадобилось, солдат сказал, что калий нужен его лейтенанту для каких-то фотографических опытов. Аптекарь объяснил, что, во-первых, у него цианистого калия нет, а во-вторых, если бы даже и был, то без особого рецепта яд он продавать не имеет права. Он посоветовал солдату, чтобы его лейтенант получил рецепт в отделе здравоохранения и с ним пошел в гарнизонную аптеку, единственную в Линце, в которой есть цианистый калий.
Капитан Кунце отправился в Линц одиннадцатичасовым поездом. Он дал проводнику две кроны чаевых и получил в свое распоряжение отдельное купе, где немедленно отправился на боковую. В Линц он приехал уже относительно отдохнувшим и, взяв фиакр, поехал в комендатуру 14-го пехотного полка, где его уже ожидали генерал Венцель и доктор Вайнберг.
Заседание началось не под счастливой звездой. Показания Ритцбергера, которые еще утром казались таким весомым свидетельством против обер-лейтенанта Дорфрихтера, к обеду свелись к нулю. Когда аптекарю показали ординарца Дорфрихтера, Ритцбергер заявил, что он не имеет ничего общего с тем солдатом, который спрашивал цианистый калий. Ординарца отпустили, но аптекарь остался.
— Я вот тут еще раз подумал, — сказал он, — мне кажется, что все-таки мне этот парень знаком. Должно быть, я пару раз видел его в аптеке. Уверен, что не так давно я его сам обслуживал.
— А не припоминаете ли вы, что он покупал? — спросил Кунце.
— Так, что же это могло быть? Должно быть, что-то без рецепта, иначе бы я помнил. — Аптекарь задумался, и вдруг глаза его блеснули. — Капсулы! Капсулы с облатками! Несколько дюжин капсул с облатками!
Он описал эти капсулы, они были точно такими, что пришли с циркуляром Чарльза Френсиса. Скрепя сердце генерал Венцель объявил, что он согласен на повторный допрос обер-лейтенанта Дорфрихтера.
Дорфрихтер и при втором допросе был так же безмятежен и спокоен, как и при первом. Да, это верно, он посылал своего ординарца за капсулами. У его собаки Тролля были глисты, но пес никак не желал глотать прописанное ветеринаром лекарство. Он, Дорфрихтер, и придумал давать собаке это лекарство в облатках. Лечение помогло, и скоро глисты исчезли.
Приписанный к 14-му пехотному полку ветеринар подтвердил показания Дорфрихтера, и комиссии не оставалось ничего другого, как поблагодарить Дорфрихтера за сотрудничество и отпустить его.
В течение вечера были допрошены все ординарцы полка на предмет загадочной покупки цианистого калия. Поскольку поиски результата не дали, опросили всех ординарцев гарнизона. В итоге генерал Венцель вместе с доктором Вайнбергом ночью вернулись в Вену. Кунце остался в Линце. До обеда он попытался еще раз проанализировать все показания свидетелей. В полдень он принял приглашение полковника фон Инштадта отобедать в офицерской столовой. Несмотря на проявляемое внешне гостеприимство, он чувствовал как со стороны полковника, так и со стороны других офицеров за столом неуловимую антипатию. Это его не удивляло. С самого начала он прекрасно осознавал, как относится весь гарнизон к этому расследованию.
Он сделал вид, что не замечает холодного приема, а просто наслаждается едой и прежде всего их обществом.
Разговор зашел о новых достижениях в воздухоплавании. Один из лейтенантов, сидевших за столом, будучи летом во Франции, принял участие в качестве наблюдателя в историческом перелете Луи Блерио через Канал. Молодой офицер заявил с энтузиазмом, что это самое значительное событие в его жизни.
— Я не думаю, что аэропланы смогут когда-нибудь играть существенную роль в войне, — заметил полковник фон Инштадт. — Возможно, их будут использовать при рекогносцировке, но главный недостаток этих этажерок — они чертовски громко шумят. Их слышно за много километров до того места, куда они должны добраться. С кавалерией совсем другое дело.
После семи лет службы в армии Кунце не переставал удивляться ограниченности военных. Кроме стратегии, для них ничего не существовало. Все достижения прогресса, по их мнению, имели смысл только тогда, когда они служили разрушению.
— Англичане, я слышал, собираются устанавливать на аэропланах пулеметы, — сообщил один из лейтенантов.
— Я тоже слышал об этом, но мне кажется это сомнительным. Что же, один аэроплан должен нападать на другой, как рыцари Средневековья? Да ведь они страшно дорогие. Ни одно правительство не сможет себе позволить такие затраты.
— Можно применять аэропланы и для бомбардировки с воздуха.
— Исключено. По крайней мере, пока армией командуют офицеры. Враг может во всех отношениях отличаться от нас, но в одном мы одинаковы: его командование состоит из джентльменов. Война, конечно, это кровавый ад, но сохранились некоторые, еще с рыцарских времен действующие правила. Ведь при такой бомбардировке бомбы могут не попасть в цель, а упасть на мирное население. Ни один командующий, не важно, с какой стороны, не захотел бы взять на себя ответственность за такое преступление!
Кунце не хотел спорить с полковником; он не стал напоминать ему о впечатляющих успехах немцев при бомбометании. В конце концов, он принял приглашение на обед не для того, чтобы обсуждать перспективы воздухоплавания.
Разговор перешел от аэропланов к Франции и ее армии. Есть слухи, сказал один молодой лейтенант, что они хотят изменить военную форму: Генеральный штаб предложил упразднить сверкающие кирасы у кавалерии и красные рейтузы у пехоты — они являются сейчас для современной дальнобойной артиллерии прекрасной мишенью.
Большинство за столом высказалось, однако, в том смысле, что с малозаметной формой теряется военный лоск солдата и подрывается мораль войск. Беседа о французах привела к обсуждению недавно нашумевшего случая в Вердене. Солдат пытался убить восемьдесят своих товарищей, подмешав им яд в пищу, только из-за того, что одному из них был должен сто пятьдесят франков. Капитан Кунце счел момент подходящим, чтобы перейти к разговору о Чарльзе Френсисе. Он достал из кармана коробочку и протянул ее полковнику фон Инштадт.
— Вот одна из коробочек, в которых был отправлен цианистый калий. Это показывает, насколько тщательно все было запланировано. Если коробочка хотя бы на несколько миллиметров была толще, конверт не прошел бы в щель почтового ящика.
Коробочка из тонкого картона пошла по рукам, пока не попала светловолосому лейтенанту на другом конце стола. Он смотрел на нее несколько мгновений, после чего поспешно, как будто обжегшись, передал ее соседу. От внимания Кунце это не ускользнуло.
— Вы уже видели где-то такую коробочку, господин лейтенант?
Офицер смотрел на него, не отвечая. Возникло тягостное молчание. Лейтенант ответил растерянным, тихим голосом:
— Да, господин капитан, в такой коробочке я получил писчие перья. В подарок ко дню ангела.
— Писчие перья ко дню ангела?
— Это была шутка. Я однажды попросил перо у товарища, и оно мне понравилось. На следующий день случайно был мой день ангела, и он подарил мне дюжину таких перьев.
— Как зовут вашего друга?
— На этот вопрос, пожалуйста, позвольте мне не отвечать, господин капитан.
Лейтенант говорил вежливым, но решительным тоном.
— Почему же нет?
— Потому что мы все находимся под подозрением, господин капитан. Весь гарнизон. И я не хочу подводить никого из моих товарищей.
За столом царило гробовое молчание. Кунце вглядывался в лица — они были похожи на статуи: глаза, которые ничего не видели, уши, которые для доводов разума глухи.
Полковник фон Инштадт прервал молчание:
— У меня есть предложение, Дильманн. — В слегка гнусавом аристократическом голосе сквозила некоторая досада. — После обеда вы назовете имя господину капитану тет-а-тет. Все это мне представляется не столь важным, чтобы терять на это время.
Хотя своим вмешательством полковник помог Кунце, сделал он это скрепя сердце. Капитану же было давно ясно, что следователь, если он хочет добиться успеха, должен уподобиться бесхозной кошке — позволять каждому делать с ней кто что хочет, но не пропускать ни одного мусорного ведра, как бы оно ни воняло.
— А теперь фамилию! — сказал Кунце в раздевалке лейтенанту Дильманну, пока тот пристегивал портупею.
Дильманн выглядел совершенно несчастным.
— Я должен, да, господин капитан? — И когда его мучитель кивнул, он вздохнул: — Ну хорошо, господин капитан. Это был обер-лейтенант Петер Дорфрихтер.
Кунце ничего не сказал. Он к этому ответу был уже готов. Если бы Дильманн назвал другое имя, он был бы сильно разочарован.
— Мне нужна эта коробочка, господин лейтенант.
— Наверное, я ее давно выбросил, господин капитан.
— Вы должны ее найти! Этим вы поможете не только следствию, но и обер-лейтенанту Дорфрихтеру.
— Лучше бы он не дарил мне эти проклятые перья, — застонал Дильманн. — Ну хорошо, господин капитан. Пойдемте ко мне домой. Может быть, эта проклятая коробочка найдется.
Он жил недалеко от комендатуры. Коробочка с перьями лежала в верхнем ящике комода, а карточка с поздравлением, с которым ее прислали, — в стопке писем под пресс-папье. Кунце забрал обе вещи, а также фотографию группы офицеров, среди которых были Дильманн и Дорфрихтер, снятую во время пикника неподалеку в лесу.
Коробочка была идентична тем, которые посылал Чарльз Френсис. Полиция до этого успела установить, что такие коробочки продавались в городе только в одном магазине, а именно в хозяйственном магазине Моллера на Бетховенштрассе.
Семейство Моллеров: отец, мать и четыре дочери — жило в маленькой квартире позади магазина. Каждый из них, не занятый на кухне, уборкой, сном, едой или болтовней, обслуживал покупателей.
— Вы не могли бы вспомнить, продавали ли вы одному офицеру в начале ноября дюжину или больше таких коробочек? — Кунце показал супругам Моллер найденную у лейтенанта Дильманна коробочку. Ни Моллер, ни его жена ничего об этом припомнить не могли.
— Так задолго до Рождества их никто и не спрашивает, — сказал Моллер. — Люди покупают их позже для маленьких подарков. Мы получили партию таких коробочек в начале ноября, так нам их, думаю, до следующей осени хватит.
Кунце поговорил и со всеми четырьмя дочерьми, и веснушчатая младшая, четырнадцати лет, оказалась именно той, которая и продала такие коробочки.
Она хорошо запомнила того покупателя. Это был обер-лейтенант, не высокий, но и не маленький, с усиками. Коробочки были ему нужны, чтобы хранить в них запонки. Ей показалось странным, что у офицера такая куча маленьких запонок, которые влезли бы в маленькие коробочки. Она показала ему коробочки побольше, но он от них отказался и уже собрался уходить, когда она вспомнила про новое поступление. Офицер взглянул на маленькие коробочки и купил целую дюжину. Он не захотел, чтобы она упаковала коробочки, и спрятал их в карман плаща. Вообще-то она знала, что офицеры любят заворачивать такие коробочки в белую лощеную бумагу и перевязывать их золотым шнурком. Все знают, что так обычно упаковывают конфеты, духи или украшения.
Настоящую причину, по которой она вспомнила об этом покупателе, она не упомянула. Он был первым мужчиной, который сказал ей, что у нее красивые руки. Когда она достала коробочки из упаковки и положила их на прилавок, он сделал ей этот комплимент. До этого она не обращала внимания на свои руки, но с тех пор стала пользоваться кремом для рук и ложилась спать в нитяных перчатках, стойко перенося насмешки своих сестер.
Кунце показал девушке групповую фотографию офицеров на пикнике, и она тут же указала на Дорфрихтера: этот офицер покупал коробочки, сказала она.
Кунце отправился из магазина прямо в свой номер в отеле и попросил соединить его с генералом Венцелем в Вене.
Тридцатого ноября погода разыгралась не на шутку. С вершины Римских холмов, где жил обер-лейтенант Дорфрихтер, можно было разглядеть только очертания близлежащих домов. Остальной город был покрыт чем-то, напоминавшим пивную пену.
Он сидел за завтраком и читал утреннюю газету. На первой полосе снова была заметка о деле Чарльза Френсиса. Как и во всех предыдущих, ничего, кроме спекуляций, там не было. Армия по-прежнему отказывалась сообщить прессе что-либо существенное.
Накануне один из депутатов парламента, Риттер фон Мюленверт, сделал запрос военному министру. Он хотел бы знать, касаясь дела Чарльза Френсиса, к чему вся эта завеса тайны вокруг этого дела? Пытается ли министерство вообще навеки скрыть от общественности правду? Или можно допустить, что преступник арестован, предстал перед военным судом или даже уже казнен?
— Что нового в газете? — спросила Марианна. Она встала вместе с мужем, хотя он и уговаривал ее побыть еще в постели. С момента визита капитана Кунце она то и дело ударялась в слезы, даже по самому незначительному поводу.
— Ничего особенного, — сказал Дорфрихтер. — Бельгийский король Леопольд заболел. Хочет лишить свою дочь Луизу наследства. Ему, кажется, не сильно повезло с дочерьми, да? Одна выходит замуж против его воли, другая связалась вообще с аферистом.
— А что еще?
— В Вену прибывает король Дании. Царица все еще недомогает. Интересно, на что бы вообще жили газеты, если бы не было монархий? О, это интересно! Сербская армия в скором времени получит на вооружение девяносто тысяч самозарядных винтовок, десять батарей гаубиц, сто пятьдесят пулеметов, сто двадцать миллионов пуль и патронов для двухсот тысяч солдат! Официально отрицается, что король Петр посетил царя. Это означает, что он наверняка в Санкт-Петербурге и получает от русского командования указания по проведению запланированной кампании против монархии.
Он в сердцах отшвырнул газету.
— А мы тут валяем дурака и теряем драгоценное время. Все думают, что мир будет вечно!
— А что с этим делом Чарльза Френсиса? — спросила Марианна. — Нашли они этого человека?
— Какого человека?
— Ну, который яд рассылал.
Дорфрихтер встал из-за стола.
— Нет. И коль ты меня спрашиваешь, они его никогда не найдут. Но пока они закроют это дело, успеют погубить несколько невиновных.
— И нас в том числе, — сказала она, и ее глаза наполнились слезами.
— Нас — никогда, — засмеялся он. — Мы им не достанемся. Они могут только со слабаками да трусами дело иметь. А с нами — извините.
— А я как раз слабая и трусиха, — вздохнув, сказала Марианна.
— Ты женщина, и причем на девятом месяце. Когда все будет позади и ты будешь снова как прежде, ты сама будешь надо всем этим смеяться. А до тех пор предоставь все мне, дорогая. Мне хватит сил на двоих.
Как всегда, он отправился в казарму пешком. Его рота отрабатывала штыковой бой под руководством старшего фельдфебеля. Дорфрихтер считал это старомодным и даже нелепым — столько сил тратить на обучение бою пехоты. Он был приверженцем огнестрельного вооружения и защищал свои взгляды открыто, в том числе и перед своим командиром. Для командования не было секретом, что он честно исполняет свой долг пехотного офицера, но без особого энтузиазма. Лучшим образом он показывал себя при маневрах, особенно когда он мог проявлять собственную инициативу. На последних маневрах летом он был прикомандирован к штабу эрцгерцога Франца Фердинанда. На редкость умело организованное отступление с последующим ударом молва приписывала не в последнюю очередь тому факту, что в его свите был Дорфрихтер.
Роту составляли выходцы из Верхней Австрии, крепкие крестьянские парни и горцы. Некоторые происходили из его родного Зальцбурга или жили в соседних горах. Отдельные семьи Дорфрихтер хорошо знал, с солдатами ему удалось легко найти контакт — его уважали. Командир полка знал, что солдаты в любом бою, не раздумывая, пойдут за Дорфрихтером.
Около одиннадцати часов Дорфрихтер получил приказ явиться в комендатуру к майору Шульце. На этот раз его не заставили ждать, а пригласили сразу же в кабинет. Комиссия была в полном составе: генерал Венцель, комиссар доктор Вайнберг — оба прибыли утром из Вены, — капитан Кунце и майор Шульце, председатель гарнизонного суда в Линце. Молодой лейтенант вел протокол, он один поднялся, когда вошел Дорфрихтер. Остальные продолжали сидеть, и никто не предложил Дорфрихтеру стул.
Капитан Кунце начал допрос. Без долгого предисловия он взял одну из трех коробочек, которые стопкой лежали на столе.
— Вы когда-нибудь видели эти коробочки?
Глаза капитана внимательно следили за лицом молодого человека. Он ожидал увидеть тревогу или испуг и был слегка сбит с толку, когда не обнаружил ни того ни другого. Абсолютное хладнокровие обер-лейтенанта вызвало у него гнев, смешанный с удивлением. Дорфрихтер подошел ближе, чтобы рассмотреть коробочки получше.
— Так точно, — кивнул он и тут же поправился: — Вернее, одну, похожую на эти, в которой я лейтенанту Дильманну послал дюжину писчих перьев.
— Вы купили ее специально для этого случая?
— Нет, господин капитан. У меня дома таких много.
— Сколько же?
— Я не знаю, господин капитан. Невозможно уследить за всем хламом, который собирается в хозяйстве.
— Делали ли вы когда-нибудь покупки в хозяйственном магазине Моллера на Бетховенштрассе?
Дорфрихтер слегка приподнял плечи.
— Вполне возможно, хотя я не припоминаю сам магазин. Бетховенштрассе? — пробормотал он. — Это недалеко от вокзала. Может быть, я там что-то и покупал. Линейку, например. Да, я припоминаю, что я где-то там, в маленьком магазине, покупал линейку.
— Это была не линейка. Это была дюжина таких коробочек.
Дорфрихтер потряс головой. Он казался сильно удивленным.
— Должно быть, это было очень давно. Не могу припомнить.
— Это было совсем не так давно, — сказал Кунце. — Сразу после первого ноября.
Дорфрихтер сделал жест рукой, показывая свое удивление.
Кунце прошептал что-то молодому лейтенанту, тот встал, вышел из кабинета и возвратился с младшей дочерью Моллера. На ней была коричневая шерстяная юбка и блузка с рукавами «фонариком», которую она для этого случая выпросила у одной из сестер. Довольно замысловатая шляпка, украшенная чем-то похожим на хвост енота, венчала ее прическу. При взгляде на группу официальных мужчин у девушки задрожали губки и она зарделась. Она понимала, что эти люди тут же догадались, что она изображает из себя взрослую.
— Фрейлейн Моллер. — Капитан Кунце встал, подошел к ней поближе и показал на Дорфрихтера. — Будьте так любезны, посмотрите на господина обер-лейтенанта и скажите мне, встречали ли вы его когда-нибудь?
В кабинете воцарилась полная тишина. Дорфрихтер стоял вытянувшись и смотрел девушке прямо в глаза. На его губах играла легкая улыбка. Единственным приветливым из присутствующих в помещении было его лицо. Девушка уставилась на него, ее взгляд скользил по нему вверх и вниз, не упуская волос и даже обуви. Она поняла просьбу Кунце буквально и старалась изо всех сил.
— Да, — наконец прошептала она.
— Говорите, пожалуйста, громче, — приказал генерал Венцель. — Я не могу вас понять.
Она повысила голос.
— Да, — повторила она громче.
— Вы хотите сказать, что уже прежде видели господина обер-лейтенанта? — спросил Кунце.
— Да, конечно. — Она кивнула. Сейчас она больше не смотрела на Дорфрихтера, как бы избегая его взгляда, и уставилась в пол.
— Где вы его встречали?
— У нас в магазине.
— Расскажите нам об этом. Как это все происходило, когда господин обер-лейтенант был в магазине вашего отца? Что он вам сказал?
— Ну, значит, так, — она по-прежнему смотрела в пол, как будто читала там текст, — он пришел и спросил, есть ли у нас маленькие коробочки. Такие, вроде спичечных коробков, сказал он. Я ему разные показала, но он про все сказал, что они слишком большие. Тогда я ему другие показала, которые мы недавно получили, и тогда он сказал, что они подходят, и купил их. Целую дюжину. — Она глубоко вздохнула и добавила: — Больше он ничего не сказал.
— Нет, это неправда! — улыбнулся Дорфрихтер и погрозил ей пальцем. — Я еще вам сказал, что у вас красивые руки. Вы что, про это забыли?
Она открыла рот и вытаращила на лейтенанта глаза, потом уставилась на свои руки, потом снова на его насмешливое лицо. В растерянности она не заметила, что и все остальные удивлены не меньше ее. Несколько мгновений спустя Кунце спросил:
— Говорил вам это господин обер-лейтенант?
В совершенном смятении девушка не могла и слова вымолвить и только кивнула.
— Кроме этого, я купил у вас маленькую упаковку марципанов, — обратился к ней Дорфрихтер. — У вас было два сорта в продаже — маленькие кубики и разные фрукты из марципана. Я купил ягоды.
Девушка пожала плечами.
— Вы продавали господину обер-лейтенанту марципаны? — спросил генерал Венцель.
— Я не знаю. Наверное.
— Есть у вашего отца в продаже такие сладости?
— Конечно есть. Люди вешают их на елку. У нас есть еще зверушки из марципана. Медвежата, львы и тигры. — Внезапно в ней заговорила деловая женщина. — Это так красиво выглядит на елке и очень практично — ведь их потом можно съесть.
Комиссия не проявила больше никакого интереса к марципану и отпустила свидетельницу.
Она сделала книксен и выскочила из бюро с быстротой кошки, которая пролила чернила и хочет удрать прежде, чем на ковре появится пятно.
— Если я вас правильно понял, господин обер-лейтенант, — продолжил капитан Кунце, — вы признаете, что эти, — он указал, — коробочки вы купили в магазине Моллера.
— Не эти, господин капитан, — поправил его Дорфрихтер, — а точно такие же.
— Черт побери, Дорфрихтер, — взорвался генерал Венцель. — Пару минут назад вы сказали, что никогда в этом магазине не были и никаких коробочек там не покупали. Зачем, вы думаете, мы все здесь находимся? В коллективные игры играть?
— Осмелюсь доложить, господин генерал, я только сказал, что не могу вспомнить о такой покупке.
— А сейчас, стало быть, вспомнили?
— Когда я увидел эту девчушку, я сразу все вспомнил, господин генерал.
— Как же вы объясните эту потерю памяти и внезапное выздоровление?
— Вся эта история выпала у меня из памяти, потому что она такая малозначащая, господин генерал. С тех пор как мы переехали в Линц и получили квартиру, я сделал массу покупок. Моя жена в ее нынешнем состоянии не выходит из дома, поэтому разные вещи, такие как шторы, тазы, кастрюли и сковородки, должен был покупать я, хотя обычно это ее забота. Просто невозможно упомнить каждую покупку, господин генерал.
— Ну хорошо, — сказал капитан Кунце. — Вы купили дюжину коробочек. Где они?
— Одну я послал лейтенанту Дильманну.
— А остальные? Где остальные одиннадцать?
— Они должны быть у меня дома, господин капитан.
— Их там нет! Два унтер-офицера и я — мы втроем перевернули в квартире все вверх дном и ни одной не нашли.
Дорфрихтер задумался, сжав губы.
— Вы правы, господин капитан, — кивнул он. — Их там нет. Я их просто сжег.
Члены комиссии уставились на него, никто не проронил ни слова, пока тишину не прервал генерал Венцель, голос которого для его роста и веса был слишком тонким.
— Почему?
— Мне нужны были коробочки, чтобы сделать для моей жены ящичек для шитья. Там должны были быть отделения для разных пуговиц и наперстков. Первый раз у меня ничего не получилось. И вторая попытка была неудачной. Только когда я купил коробочки большего размера и поместил их в четырехугольную коробку, получилось то, что нужно, — ящичек для шитья, которым и пользуется теперь моя жена. А коробочки, которые мне не пригодились, я сжег.
— Я обыскал квартиру основательно, — сказал Кунце, — но не помню, чтобы там был какой-нибудь ящичек для шитья.
— Вы должны были его видеть. Обычно он лежит на ночном столике моей жены.
Генерал Венцель внезапно поднялся и гневно зашагал по кабинету, что заставило всех офицеров вскочить на ноги. Он был в ярости, остановившись перед столом Дорфрихтера:
— Вы уверяли нас, что о происхождении этих проклятых коробочек вам ничего не известно, пока вам не устроили очную ставку с дочкой Моллера. При этом, по вашим собственным словам, вы часами возились с коробочками — пытались их собрать, склеить и подогнать. Дорфрихтер! Вы же умный человек! Если вы хотите нас обмануть, придумайте что-нибудь получше!
— Я бы так и сделал, если бы я лгал, господин генерал! К несчастью, я говорю правду, а правда не всегда кажется правдоподобной.
— Почему же вы ничего о ящичке для шитья не сказали, когда капитан Кунце вас впервые спросил о коробочках?
— Я просто забыл об этом. У меня было столько работы по дому: установить полки, повесить цветочные ящики, покрасить стены, повесить шторы — работа, которую офицер обычно не делает, надо признаться. Но я не богат, господин генерал, и я полагал, пока я это делаю в пределах моих четырех стен, никакого вреда репутации армии я не приношу.
— Давайте не будем отклоняться от темы, — заметил Кунце без особой убежденности. Он был зол на себя, что дал возможность генералу вмешаться в допрос.
— Мы вынуждены жить очень скромно, — продолжил Дорфрихтер, обращаясь по-прежнему к Венцелю. — Я женился не на деньгах — обе наши семьи собирали тридцать тысяч залога буквально по кроне, чтобы я не был вынужден оставить службу. Принадлежать к корпусу офицеров для меня значит больше чем жизнь. Ради этой привилегии я готов отказаться от роскоши, любовных приключений, путешествий и развлечений. Такие же жертвы я требую и от моей жены. Я не знаю, господин генерал, приходилось ли вам требовать от женщины, чтобы она разделила с вами бедность. Позвольте заметить, что это не так легко!
— Ну хватит, Дорфрихтер! — взорвался Венцель. — Нам глубоко наплевать, сколько полок и цветочных ящиков вы повесили. В этом вас никто не обвиняет. Вы обвиняетесь в том, что пытались лишить жизни десять своих товарищей офицеров и при этом одного убили!
Кровь прилила Дорфрихтеру к лицу.
— Позвольте, господин генерал, — вы сказали «обвиняетесь»?
Венцель уставился на него:
— Именно это я и сказал. — Затем он повернулся к членам комиссии: — У всех такое же мнение, господа, не так ли?
Его взгляд переходил от одного лица к другому, ожидая подтверждения своим словам членов комиссии.
— Вы позволите сделать одно предложение, господин генерал? — спросил комиссар Вайнберг. — Хотелось бы посмотреть на этот ящичек для шитья, который господин обер-лейтенант сделал для своей жены.
Венцель не возражал. В дом Дорфрихтера был послан лейтенант. У него была с собой записка, которую Дорфрихтер написал жене с просьбой отдать ящичек ее подателю.
Дорфрихтеру было приказано пройти в соседнее бюро. Один офицер из штаба майора Шульце как раз отсутствовал. Средний ящик письменного стола был наполовину выдвинут так, что было видно его содержимое. Рядом со стопкой бумаг и формуляров лежал темный, блестящий и заряженный служебный пистолет.
Комната находилась на первом этаже, и снаружи, сквозь окно без штор, прохожим хорошо был виден сидевший за столом прямо, не облокачиваясь на спинку стула, Дорфрихтер. Иногда он вставал и прохаживался по комнате. Один солдат, проходивший мимо, видел, как он в какой-то момент остановился около стола и задвинул ящик.
Посланный лейтенант вскоре возвратился с ящичком. Это не был настоящий ящичек для шитья — поэтому Кунце и не мог о нем вспомнить. Это была небольшая, плетеная из прутьев коробка с откидывающейся крышкой, в которую были помещены девять маленьких коробочек для разных предметов.
— Очень практично, — заметил доктор Вайнберг.
Доктор с женой и тремя дочерьми жил в отдельном доме, в котором каждая комната выглядела так, как будто по ней прошел мамай. Его жена хранила пуговицы в черепаховой коробке, которую в случае необходимости найти было невозможно.
— Откровенно говоря, я не понимаю, какое отношение эта коробка имеет к делу Чарльза Френсиса, — сказал генерал Венцель.
Постепенно генерал Венцель начал терять терпение. Теперь, когда вину от армии отвести не удалось, подозреваемый должен быть обвинен, и чем скорее, тем лучше, считал он. Конечно, газеты поднимут шумиху, но со временем шум станет тише и прекратится совсем. Кроме того, ему срочно надо было вернуться в Вену: утром он позвонил любовнице, и ее горничная сообщила — она получала от генерала особую плату за эти услуги, — что та не ночевала дома.
— Наступил момент, господа, когда мы должны принять решение, — веско сказал он. — Я лично считаю, что этот человек виновен настолько, насколько это только возможно!
Венцелю нужно было теперь, чтобы и остальные присоединились к его мнению без лишних возражений. Непоколебимое спокойствие Дорфрихтера он воспринимал как оскорбление, а его замечание, что он женился не на деньгах, — как целенаправленный выпад. Венцель был не единственный генерал, женившийся на богатой еврейке, но относился к любому намеку очень болезненно. Иногда достаточно было самого безобидного замечания, и все — этот человек становился для него заклятым врагом.
Сейчас же он мог выплеснуть свой гнев на Дорфрихтера.
— Имеется три важных факта, говорящих против Дорфрихтера, — подвел итоги следствия на данный момент капитан Кунце. — Первое: он находился в интересующее нас время в Вене неподалеку от почтового ящика, куда были брошены письма с ядом. Второе: от смерти предполагаемых жертв он получал очевидные выгоды для своей карьеры. Третье: он купил дюжину коробочек именно того сорта, какие использовал Чарльз Френсис. Кроме этого, у нас есть заключение эксперта, подтверждающее бесспорную идентичность его почерка с тем, которым были написаны циркуляры. Но у нас по-прежнему нет доказательств того, что у него имелся цианистый калий, что он покупал, арендовал или имел копировальный аппарат. В его доме не было обнаружено бумаги того сорта, на которой были напечатаны циркуляры Чарльза Френсиса, не найдены красные чернила, красная лощеная бумага, а также клей. Нет свидетелей, которые видели бы его у почтового ящика на Мариахильферштрассе, хотя офицер в форме, ведущий на поводке большую собаку, должен был, с большой вероятностью, привлечь внимание идущих на работу ранних прохожих. — Он перевел дыхание. — Тем не менее на основании имеющихся доказательств считаю необходимым его арест.
Венцель обратился к Вайнбергу:
— А вы, господин комиссар?
— Как полицейский я убежден в его вине. Как человек я сомневаюсь.
— А вы, господин майор? — Вопрос был задан исключительно из вежливости, так как майор Шульце принимал участие в следствии только в качестве наблюдателя и представителя комендатуры Линца.
— Вы разрешите мне, учитывая противоречивость данных, господин генерал, воздержаться?
— Вы что, находитесь в приятельских отношениях с обвиняемым? — спросил Венцель.
Его сорвавшийся на фальцет голос выдавал его раздражение.
— Не совсем так, господин генерал, но мы с ним встречались. Видите ли, в нашем гарнизоне сильно чувство товарищества между офицерами, господин генерал.
— Это похвально, — пробурчал генерал, хотя по нему не было заметно, что он так думает. — Разрешаю воздержаться.
Голубые глаза под густыми седеющими бровями смотрели на Кунце.
— Мы получим этот чертов скандал, но отправляйтесь и арестуйте его. Вы ведь этого с самого начала хотели, не правда ли?
Создавалось впечатление, что генерал был недоволен положительными результатами следствия и вину за это возлагал на капитана.
— Я выполняю приказ, господин генерал.
Кунце решил не обращать внимание на сквозивший в словах генерала сарказм.
Генерал встал.
— Итак, господа, считаю заседание закрытым.
Вместе с лейтенантом, который вел протокол, Кунце вошел в бюро, где ожидал Дорфрихтер, и объявил ему о решении комиссии. Дорфрихтер выслушал его вытянувшись и ничего не сказал. Ему предложили сдать палаш и пистолет, если таковой имелся. Он ответил, что пистолета с собой у него нет. Поскольку Дорфрихтер все еще оставался офицером, его слова было достаточно.
В сопровождении капитана Кунце и молодого лейтенанта Дорфрихтер был доставлен в местную гауптвахту — мрачное строение с толстыми стенами и двором, вымощенным булыжником. Три камеры предназначались офицерам, и Дорфрихтер был помещен в первую. Во время поездки он сидел неподвижно и молча. Но когда Кунце собрался уже оставить его одного, он вдруг оживился.
— А моя жена, господин капитан? Сможет ли она меня навещать? Что ей скажут? Я должен с ней поговорить! — Слова срывались с его губ стремительно, явно не поспевая за мыслью.
— Боюсь, ей не разрешат видеться с вами. Никто, кроме членов комиссии, не получит такого разрешения.
— Она на девятом месяце. Это ее убьет, господин капитан. Я мужчина, и у меня хватит сил все выдержать, но она этого не сможет.
Кунце чувствовал, что его раздражение постепенно сменяется состраданием. Неожиданное и непонятное сочувствие Дорфрихтеру обеспокоило его гораздо больше, чем прежнее неприятие. Не надо поддаваться обаянию этого человека, решил он.
Они были одни в камере, надзиратель стоял снаружи, за тяжелой дубовой дверью с глазком.
— Я, собственно, не должен был этого вам говорить, — сказал Кунце безучастным голосом, — но сейчас полковник фон Инштадт со своей супругой у вашей жены. Господин полковник взял на себя труд сообщить ей о вашем аресте. Фрау фон Инштадт собирается побыть с вашей женой, пока не приедет кто-нибудь из родственников.
— Слава богу, есть еще жалость на этом свете. — Легкий румянец возвратился на лицо Дорфрихтера. — Я знаю, что отсюда ни письма, ни записки послать нельзя, — добавил он, — но если вы будете говорить с моей женой, скажите ей, пожалуйста, чтобы она не теряла веры в меня. Скажите ей, что с нами ничего плохого не случится, пока она со мной.
Кунце не показал и вида, что он слышал слова заключенного. Когда он вышел, тяжелая дверь с грохотом закрылась за ним на замок.
3
Генерал Венцель и комиссар Вайнберг отправились после обеда поездом в Вену.
Капитан Кунце задержался, чтобы оформить отправку всех документов в военный суд Вены. Он как раз собирался на вокзал, когда в коридоре его остановил дежурный унтер-офицер.
— Что будет с собакой, господин капитан?
— С какой собакой?
— С Троллем господина обер-лейтенанта Дорфрихтера. Господин полковник распорядился привести его сюда. С обеда он лежит у меня в комнате, не пьет и не ест. Я ему и колбасы давал, и воды — бесполезно.
Ранее было решено отправить собаку на обследование в ветеринарный институт в Вену, чтобы получить заключение, получала собака лекарство от глистов с капсулами или без.
— Какой породы пес? — спросил Кунце.
— Этого я не знаю, господин капитан. Похоже, понемногу от разных. Родословной, насколько я знаю, у собаки точно не было.
Кунце пошел за унтер-офицером в его комнату. Пес, величиной с полуторамесячного теленка, в наморднике и казавшийсяпомесью всех известных и частью неизвестных в Австрии собачьих пород, лежал в углу. Он был по-своему красив, но в настоящее время олицетворял собой горе.
— Господин обер-лейтенант Дорфрихтер говорил, что он сделает из Тролля настоящего военного пса, — сказал унтер-офицер. — У него была очень удивительная метода: он никогда не бил пса, ни разу на него не накричал, а только всегда с ним разговаривал, как с ребенком. В жизни не встречал человека, который бы так любил свою собаку. Господин обер-лейтенант отправил однажды одного ординарца на шесть суток гауптвахты за то, что тот ударил пса плетью. В приказе стояло — нарушение субординации и невыполнение приказа. Любого другого офицера в роте ругали бы страшно, но не обер-лейтенанта Дорфрихтера.
— Его любят солдаты?
— Так точно, господин капитан. Он замечательный офицер.
Кунце почувствовал легкий упрек в голосе унтер-офицера.
— Что же нам делать с собакой, господин капитан?
Пес между тем навострил уши и настороженно смотрел на говорящих.
— Кто-то должен его отвезти в Вену.
— Это можно сделать только завтра, господин капитан. Канцелярия уже закрыта, и нет никого, кто бы выписал командировку тому, кто будет сопровождать пса. Мне придется его запереть здесь. Самое худшее, что может случиться, — так это то, что он перевернет здесь все вверх дном.
— Я возьму его с собой.
Кунце понятия не имел, почему он это сказал. Со времен ирландского сеттера в его детстве он никогда больше не имел дело с собакой. А с таким большим псом, как Тролль, поездка могла быть довольно затруднительной.
— Как вы думаете, я с ним справлюсь?
— Я не знаю, господин капитан. Для двух солдат, которые его сюда привели, это было одно мучение. Они поэтому и намордник на него надели. Конечно, ему это не нравится. Господин обер-лейтенант никогда на него намордник не надевал.
— Ну, это мы сейчас узнаем, — сказал капитан Кунце.
Унтер-офицер пристегнул поводок к ошейнику собаки и попытался поставить ее на ноги. Пес слегка зарычал и остался лежать, свернувшись клубком, в углу.
— Давайте снимем с него намордник, — предложил Кунце.
— Будьте осторожны, может, он кусается, господин капитан.
Кунце снял с собаки намордник и отстегнул поводок. При этом он все время что-то тихо ей говорил. С поводком в руке он пошел к двери. Пес встал и последовал за ним.
Поезд был переполнен, и проводник открыл для Кунце резервное купе со словами:
— Эту собаку я уже однажды видел, господин капитан. Один обер-лейтенант ехал с ней пару недель назад. Поезд был так же переполнен, как и сегодня, и я с трудом нашел для него место. Люди были против собаки в купе, особенно против такой большой.
Кондуктор пожелал Кунце спокойной ночи и ушел. Кунце поднял подлокотники кресел и вытянулся на сиденьях, но уснуть не мог. Последнее замечание кондуктора не давало ему покоя. Если Дорфрихтер действительно ездил в Вену, чтобы отправить циркуляры Чарльза Френсиса, зачем ему нужно было брать с собой собаку? Собаку, которую узнают из сотни других? Человек, планирующий преступление, сделает все, чтобы, по возможности, остаться незамеченным. Возможно ли, что Дорфрихтер, вопреки всем уликам, говорящим против него, все-таки невиновен?
Пес по-прежнему был неспокойным. Несмотря на то что он послушно зашел в вагон, если мимо проходил кто-нибудь в форме, он коротко, но пронзительно тявкал. «Бедный пес, — подумал Кунце. — Он тоскует по хозяину». Кунце начал говорить с собакой, и пес сел перед ним, положив свою большую голову ему на колени; в его коричневых глазах можно было прочесть доверие. Тролль напоминал капитану спутника его детства — ирландского сеттера в доме Хартманнов — и вызывал, казалось бы, совсем забытые воспоминания прошлого.
В центре самых ранних воспоминаний юного Эмиля Кунце стояли другие дома — два или три, в которых ему, сыну экономки, или уделяли слишком много ненужного внимания, или его просто терпели. Он помнил, что ему было около десяти лет, когда мать получила место в семье Хартманнов. Эмиль рос вместе с тремя детьми Хартманнов: одногодкой Паулой, годом моложе Мартином и тремя годами старше Рудольфом. Что касается воспитания, то между ними всеми царило полное равноправие. Дети играли и учились все вместе и только ужинали врозь — фрау Кунце настояла, чтобы сын ужинал в ее комнате, в то время как остальные дети ели вместе со своими родителями.
Эмиль Кунце относился к Рудольфу, который обращался с ним со снисходительной небрежностью тринадцатилетнего к десятилетнему, с фанатичным восхищением. Не только Эмиль, весь дом Хартманнов и все соседские мальчишки безропотно признали господство Рудольфа. Он был высок для своего возраста, сильный, красивый, умный и упорный. Слово похвалы от него было равносильно медали за отвагу, его порицание — все равно что ссылка в Сибирь. Под его предводительством начиналось большинство детских проделок: крали яблоки в соседнем саду или запускали тайно выдру в садовый пруд с золотыми рыбками. Когда Рудольф поступил в кадетский корпус в венском Нейштадте, чтобы идти по стопам своих предков, все предсказывали ему блестящую военную карьеру.
С этого времени Рудольф больше не участвовал в детских проделках. В своем кадетском мундире он выглядел особенно красивым и повзрослевшим и играл со взрослыми в теннис. По вечерам его часто видели с элегантными дамами, которые были вдвое старше его. Он больше не проявлял к Эмилю никакого интереса, разве что иногда подтрунивал над ним. Однажды под вечер, когда Эмиль убирал кресла в саду, Рудольф последовал за ним в сарай, запер дверь и приказал раздеться. Мальчик подчинился как под гипнозом. То, что последовало за этим, он никогда не мог выкинуть из памяти. Он понимал, что с ним произошло, однако чувство обожания делало невозможным оказать хоть какое-то сопротивление. Идол потерял в его глазах святость, но приобрел над ним еще большую власть.
То, что произошло в сарае, повторялось в течение лета много раз. Но, несмотря на это, Рудольф по-прежнему не замечал его, а при редких встречах, когда они разговаривали друг с другом, был совершенно равнодушен, и это усиливало муки Эмиля.
Следующей зимой Рудольф попал в военный госпиталь с аппендицитом и был прооперирован.
Поскольку фрау Хартманн в тот день, когда Рудольфа должны были выписать из госпиталя, чувствовала себя нездоровой — она, как и все женщины ее круга, проводившая каждый месяц два дня в постели, послала фрау Кунце в госпиталь привезти Рудольфа домой.
Эмиль сопровождал свою мать. В коридоре госпиталя они никого не встретили и прошли прямо в палату к Рудольфу. Окна в палате стояли открытыми, а Рудольф — они поняли, что это был Рудольф, — лежал на кровати, накрытый белой простыней, из-под которой выглядывали только его босые ноги. Фрау Кунце приподняла край простыни с его лица. Кричать ей было не свойственно. Она накрыла снова лицо мертвого юноши, перекрестилась, прошептала короткую молитву и пошла искать врача.
Эмиль остался возле трупа. Его первой реакцией был неописуемый ужас, второй — чувство облегчения и свободы. Но тут же мальчика охватило чувство вины, которое преследовало его месяцами и даже годами, переходя иногда в пульсирующие, подобные мигрени головные боли.
После смерти Рудольфа самым близким существом для Эмиля стал ирландский сеттер. Собака отвечала на привязанность своеобразно — она играла с другими детьми, ласково виляя хвостом приветствовала взрослых, но принадлежала одному Эмилю.
Кунце было девятнадцать, когда пес умер от старости. С тех пор этот дом перестал быть для Эмиля родным, а только тем домом, в котором, кроме других людей, случайно жила и его мать.
Кунце приехал в Вену во втором часу ночи. На вокзале он взял такси и попросил отвезти его в переулок Цаунергассе. Шофер был не в восторге от собаки. Он боялся за свой «панхард» выпуска 1907 года с обтянутыми красным плюшем сиденьями, который он недавно купил у одного графа. Он осторожно осведомился, не линяет ли собака.
— На это мне никто еще не жаловался, — вполне правдоподобно ответил Кунце.
Кунце телеграммой предупредил Розу о своем приезде. В доме не спали и ожидали его. Он не был дома почти целую неделю. Кухарка пожарила курицу, а в печи дозревало шоколадное суфле. Едва услышав поворот ключа в замке, Роза стремглав бросилась в прихожую, помогла ему снять плащ и взяла палаш и фуражку.
— Ангел мой, как я по тебе соскучилась! — прошептала она, и Кунце оказался в ее мягких, теплых и душистых объятиях. Тут вдруг она увидела Тролля и вскрикнула: — А это что такое?
— Это собака, — ответил он. Иногда ему доставляло тайное удовольствие ее подразнить.
— А он чистоплотный?
— Должно быть. Он воспитан как военная собака. — Кунце отпустил Тролля с поводка. — Мы с ним хорошо прогулялись перед домом. Твои ковры, думаю, будут в безопасности.
Он прошел в свой кабинет, Роза и Тролль шли следом. Роза позвонила горничной и распорядилась подать господину капитану ужин. Кунце расстегнул крючки мундира и уселся за свой бидермайеровский длинный стол, за которым он обычно ужинал один. Собака растянулась на любимом бухарском ковре Розы. Роза страдальчески посмотрела на это и спросила:
— А он не линяет?
— Меня уже сегодня об этом спрашивали! — ухмыльнулся Кунце. — Честно говоря, я не знаю!
— Откуда он у тебя?
— Это долгая история.
Кунце рассказал Розе все в двух словах, и она успокоилась.
— Ты меня так напугал, я думала, что ты его привел насовсем. — Теперь, когда опасность миновала, она снова осмелела. — Для пса будет лучше поспать сегодня в прихожей.
— Но там же не отапливается.
— Собакам лучше спать на холоде.
Кунце без видимых причин начал злиться.
— Откуда ты знаешь? У тебя хоть раз была собака?
— Ну и что? Я скажу кухарке, чтобы она нашла старое одеяло. Мы постелим ему в углу.
Одеяло постелили, но Тролль забрался на кровать Кунце и свернулся у него в ногах. Он линял, причем очень сильно. Утром по дороге на службу Кунце отвез его в ветеринарный институт. Он рассказал дежурному профессору, на предмет чего должна быть обследована собака, попросил, чтобы псу отвели просторную клетку, и обратился к вахтеру, дав ему чаевые, с просьбой позаботиться о собаке.
В утренних газетах на первой полосе сообщалось об аресте Дорфрихтера. В заметках об этом было мало фактов и много предположений. Военное министерство опубликовало краткое сообщение, поэтому репортерам пришлось дать волю фантазии. Одни представляли Дорфрихтера как злодея, другие считали его жертвой. Но везде военные власти обвинялись в излишней таинственности, которой было окутано это дело.
По дороге на службу в гарнизонный суд Кунце везде видел очереди у газетных киосков. Посетители кафе растягивали свой завтрак и ждали новостей из следующих выпусков газет. Уже ходили слухи, что Дорфрихтер вообще шпион, анархист, садист и участник заговора против монархии. Все выглядело так, как если бы вовсе не убийство привело в волнение весь город.
В конце рабочего дня капитан Кунце получил приказ явиться на следующее утро в шесть часов в замок Шёнбрунн на аудиенцию к кайзеру Францу Иосифу. Приказ был доставлен майором канцелярии кабинета императора.
— Его Величество с присущей ему тактичностью принял во внимание, что вы, вероятно, рано не встаете. Поэтому Его Величество не настаивал, чтобы вы доложили о себе уже в утренние часы, — сказал майор. Даже намека на улыбку не было на его лице с темно-русым подобием императорских усов.
Кунце спросил себя, что же они там, в Шёнбрунне, имеют в виду под понятием «рано».
Приказ гласил: парадная униформа и орденские планки. Первому требованию он решил последовать, второму — нет. Он поднялся задолго до рассвета и понадеялся, пока надевал униформу, что кайзер не придет в ужас от отсутствия на его груди наград.
Такси, которое он заказал накануне, уже ожидало его перед домом. Был определенный риск ехать в Шёнбрунн на автомобиле. Нужно было считаться с вероятностью прокола колеса, с отказом мотора или с тем, что шофер забудет заправиться. С лошадьми ехать дольше, но надежнее. Тем не менее Кунце выбрал автомобиль. Ночи становились все холодней, и ему не хотелось приехать в Шёнбрунн продрогшим до костей и с красным носом.
Долгая поездка через Мариахильферштрассе протекала без происшествий. Уличное движение состояло в основном из крестьянских телег. Однако в густом тумане они представляли серьезную опасность для шофера, так как улицы были освещены очень плохо, газовые фонари лишь как бледно-желтые пятна виднелись в густой темноте утренних сумерек.
В пять часов двадцать минут такси въехало через величественные ворота парка. Дежурный лейтенант указал шоферу проезд к боковому входу, от которого лестница вела вверх прямо в покои кайзера.
Кунце приехал почти на час раньше и был препровожден флигель-адъютантом в маленькую комнату рядом с дежурной комнатой адъютантов, где уже, сидя на хрупких стульях в стиле рококо, ожидали аудиенции два человека: врач из медицинского корпуса и штатский во фраке с белой манишкой. Оба были вызваны еще раньше Кунце. Врач, как он шепотом сообщил Кунце, был командирован из Мостара, чтобы лично доложить кайзеру о резко возросших случаях венерических заболеваний в оккупационных войсках в Боснии. Гражданский был одним из руководителей народного образования из Праги, который хотел доложить об успехах преподавания немецкого языка в чешских школах. Несмотря на парадную униформу и фрак с белой манишкой, утренние аудиенции носили чисто служебный характер.
Врач был первым приглашен к императору. Когда он вернулся, его глаза сияли так, как если бы он видел мессию, снисходящего с еврейского небосклона. Тот факт, что «мессия» лишь осведомился о проценте больных сифилисом в войсках, нисколько не повлиял на его восторженное состояние. Деятель образования был принят вторым и уже через несколько минут вышел с мокрым насквозь воротничком и каплями пота на лбу и щеках. Но у него был такой сияющий вид, словно у школяра, который неожиданно получил хороший табель.
— Его Величество был очень милостив ко мне, — объявил он, покидая комнату.
Адъютант вызвал Кунце и оставил дверь кабинета кайзера открытой. Это была комната, известная по картинам и описаниям каждому австрийцу. Слишком простая и скромная, чтобы быть центром всей империи: письменный стол с письменным прибором, стопка документов и несколько семейных фотографий в простых рамках. На другом столике лежала еще одна стопка документов, ожидавших подписи. Кунце спросил себя, неужели старик действительно, проверяя каждый документ из той кучи дерьма, которую ему вываливает на стол огромная бюрократическая машина, надеется держать в руках государство? В свои семьдесят девять лет он все еще обладал удивительной памятью и никакие детали не упускал из виду, будь то изменение галунов в драгунской униформе или новое в юридической терминологии в Венгрии. Будучи врагом конституционной монархии, он тем не менее добросовестно придерживался конституции, дарованной им народу, и был верным стражем основанной на государственных документах и меморандумах башни, призванной защитить монархию.
Капитан Кунце, стоя навытяжку, отдал честь. Дверь закрылась, и он остался со своим государем наедине.
Франц Иосиф встал в это утро, как обычно, в три часа тридцать минут и порадовался предстоящей ванне. В его личных покоях, обставленных бесценной мебелью, старинными коврами и обоями, отсутствовало одно удобство, ставшее уже привычным для квартир большинства обеспеченных семей Вены, а именно ванная комната.
Вместо этого каждое утро два дюжих служителя приносили огромную деревянную лохань с теплой водой. Им помогал так называемый «банщик», который и поливал водой кайзера. К сожалению, сам банщик к этому времени не только поседел, но и возомнил себя всемогущим, главным образом потому, что никто, даже если бы и в одежде выглядел таким же властным и могучим, — не пользовался у монарха абсолютным уважением. Каждое утро банщик, всегда в веселом настроении, являлся на службу и развлекал кайзера пространными байками о бедах монархии и жалобах народа. Франц Иосиф, который не терпел ни малейшего намека на критику монархии в своем окружении, к удивлению двора, охотно слушал речи этого человека. Более или менее разумные придворные объясняли это тем, что банщик выражает чаяния того класса общества, с которым кайзер никогда бы не общался. Он предоставлял кайзеру такую информацию, которую не могли дать никакие горы документов на его столе.
В это утро банщик явился на службу совершенно пьяным. Огонь в кафельной печи в его комнате погас, и он спасался от холода усиленными порциями шнапса. Кеттерл, камердинер кайзера, зная, что Его Величество не потерпит никакой замены, сделал все, чтобы привести банщика в чувство. Эта процедура несколько затянулась, и задержка слегка испортила настроение Франца Иосифа.
Он еще стоял в деревянной лохани, когда Кеттерл доложил, что в приемной ждет полковник Бардольф, адъютант эрцгерцога Франца Фердинанда, со срочным сообщением. Появление посланника от наследника престола в столь ранний час не предвещало ничего хорошего. День начинался плохо. С самого начала эрцгерцог настаивал на том, чтобы дело Чарльза Френсиса не нанесло даже малейшего ущерба репутации армии. Услышав, что подозреваемый является офицером, он вообще хотел замять дело. Однако, несмотря на настроение эрцгерцога, Дорфрихтер был арестован. Теперь Франц Фердинанд посчитал своим долгом вмешаться: он отправил в Шёнбрунн полковника Бардольфа с просьбой об аудиенции. Кайзер согласился, хотя и без особого желания, принять Франца Фердинанда в течение дня. Он не сказал, однако, адъютанту, что уже в ближайший час будет беседовать со следователем, ведущим дело, и что еще до встречи с наследником престола решение будет принято.
Франц Иосиф вышел из-за своего письменного стола, ответил на приветствие и протянул руку. Его рукопожатие было по-солдатски крепким. Кунце видел его уже однажды во время маневров 1902 года, но вот так, с глазу на глаз, он был с кайзером впервые. С тех пор канцлер почти не постарел. Он стал сутулиться, волосы поредели, мешки под глазами стали больше, но голубые глаза под густыми бровями были по-прежнему ясны и внимательны, сейчас шесть часов утра, а он уже дал три аудиенции и более часа проработал за письменным столом.
Кайзер сразу же перешел к делу.
— Я слышал, господин капитан, что вам поручено следствие против обер-лейтенанта Дорфрихтера, который подозревается в убийстве и девяти покушениях на убийство.
— Так точно, Ваше Величество, — кивнул Кунце.
Глядя на этого старого, наверняка страдающего разными недугами человека, он пытался проанализировать свои ощущения. Он знал, что должен испытывать благоговение и радость, но ничего этого не чувствовал. То, что он испытывал к своему кайзеру, было скорее сочувствие, чем почитание. Будучи судьей, он видел такие же мрачные морщины на лбу многих людей, которые возникали от подобных забот, разочарований и безнадежности. В старости монарха, решил он, нет ничего величественного.
— Я принял вчера полковника фон Инштадта, — продолжал кайзер. — Он очень высоко отозвался об обер-лейтенанте Дорфрихтере и считает его не способным на преступление. Что вы думаете по этому поводу? Есть ли у вас как у юриста веские основания для предъявления обвинения?
Франц Иосиф, полный нетерпения, ждал ответа капитана. В этот момент вина или невиновность одного-единственного человека были для него важнее всех проблем Австрии. Снова над ним довлело его безграничное чувство долга, и всеми своими, отнюдь не выдающимися, способностями он пытался понять существо проблемы, с которой, даже обладая мудростью Господа Бога, трудно было бы справиться.
Только сейчас Кунце понял, почему он был вызван к императору. Франц Иосиф взял на себя решение вопроса о целесообразности проведения уголовного расследования. Ему было абсолютно ясно, как пагубно воздействует на армию обвинение и осуждение офицера.
Но он здесь представлял собой не только главнокомандующего вооруженными силами, но также и гаранта совести сорока трех миллионов мужчин и женщин. Кроме этого, он был стар, а старые люди не могут позволить себе ошибаться. «Для молодых это было бы гораздо проще, — грустно подумал он. — Они могут от мыслей о своих ошибках искать спасения в алкоголе, или в любви, или забывшись крепким сном. Но старики — они лежат бессонными часами в своих одиноких кроватях, а собственные ошибки не оставляют их в покое, издеваются и мучают, как толпа линчевателей».
Капитан медлил. Он знал, какого ответа втайне ждет от него кайзер. Одно простое нет означало бы для Петера Дорфрихтера свободу, его дело было бы похоронено под грудой свидетельских показаний, объяснений, протоколов и прочего бумажного хлама. Пресса, главным образом левые листки, будут задавать неприятные вопросы, но уже следующая сенсация — какой-нибудь расчлененный труп в чемодане или приехавшая с неким цыганским бароном принцесса — вытеснила бы дело Чарльза Френсиса с первых полос и заставила его забыть. Кайзер знал это, и если бы он не был тем, кем он был, он бы попросту удовлетворился ручательством полковника фон Инштадта.
Мысли Кунце обратились к Петеру Дорфрихтеру, этому привлекательному молодому офицеру. Он видел перед собой улыбающееся лицо, и эта картина вмиг пробудила в нем ту нервную антипатию, которую он почувствовал тогда в Линце. Это было мимолетное чувство, слишком внезапное и ирреальное, чтобы попытаться его объяснить.
Он дал краткий обзор состояния следствия и перечислил те подозрительные моменты, которые свидетельствовали против подозреваемого. Он обрисовал его как деятельного и способного офицера, но также как человека, который достаточно хладнокровен и самоуверен, чтобы совершить убийство.
— Я боюсь, Ваше Величество, — сказал он в заключение, — что имеющиеся факты делают, по моему скромному разумению, совершенно оправданным предъявление обвинения господину обер-лейтенанту.
Кайзер некоторое время обдумывал услышанное.
— Ну что же, господин капитан, — наконец сказал он, — продолжайте работу и позаботьтесь о том, чтобы справедливость восторжествовала.
Кайзер вздохнул, с его лица исчезло какое-либо выражение, как будто его душа в этот момент освободилась от тяжелого груза сиюминутных переживаний, чтобы хотя бы немного отдохнуть и набраться сил для решения оставшихся на этот день проблем. Он покачал головой. Куда, спрашивается, это все может привести?
Это были не слова кайзера, это была жалоба старого человека, который не поспевал идти в ногу с новым поколением. Маленькие часы на письменном столе, которые показывали, когда время, отведенное на аудиенцию, заканчивалось, прозвенели.
Франц Иосиф поблагодарил капитана, пожелал ему успеха в решении стоящих перед ним задач и отпустил его.
4
Обер-лейтенант Дорфрихтер находился в своей камере уже два дня. За это время с ним никто не разговаривал. Завтрак, обед и ужин приносил надзиратель на подносе и, когда Дорфрихтер заканчивал есть, снова уносил посуду. Все попытки перекинуться с ним парой слов наталкивались на упорное молчание. Еда, несомненно, доставлялась из какого-то ресторана и, наверное, заказывалась его женой. Других признаков, что о нем кто-то заботится, не было.
Его полная изоляция не была для него неожиданностью. Согласно Положению о военном уголовно-процессуальном кодексе, принятом в 1768 году правительством императрицы Марии Терезии, каждый подозреваемый в тяжком уголовном преступлении офицер после своего ареста поступал в распоряжение аудитора, который осуществлял функции следователя, обвинителя и защитника в одном лице, а позднее еще и являлся членом суда. Все это было ему хорошо известно. Вплоть до вынесения приговора никому не разрешалось входить в контакт с арестованным, за исключением аудитора, в данном случае капитана Эмиля Кунце.
На третий день заключения его разбудили в четыре часа утра и предложили одеться. Накануне вечером его одежду забрали, и сейчас он получил свежее белье, форма и плащ были выглажены, а сапоги начищены до блеска. Когда он оделся, его отвели в бюро гауптвахты, где его ожидали три офицера — два лейтенанта и один капитан, — которых он до сих пор никогда не видал.
Они принадлежали к 51-му пехотному полку, который стоял в Вене. Разговаривал с ним только капитан. Он назвался и представил обоих лейтенантов. Капитан сообщил Дорфрихтеру, что они будут сопровождать его в Вену, и попросил обер-лейтенанта следовать его указаниям, добавив, что они вооружены и получили приказ при попытке к бегству стрелять без предупреждения.
Это была для всех безрадостная поездка. Два прошедших дня помогли Дорфрихтеру привыкнуть к окружавшему его вакууму, и когда все его нерешительные попытки завязать разговор не нашли никакого отклика, он, пожав плечами, сдался. Офицеры, напротив, чувствовали себя не в своей тарелке. Их подопечный был, в сущности, их товарищ офицер, и им тяжело давалось вести себя по отношению к нему невежливо.
Они избегали его взгляда и свели разговоры между собой к минимуму.
Они наняли экипаж, улицы по дороге к вокзалу были еще пусты. Когда подошел поезд, они сели в последний вагон, где было зарезервировано купе. Из пассажиров вряд ли кто обратил внимание, что из четырех офицеров только у троих было на боку полагающееся оружие, а четвертый сидел без палаша, засунув руки глубоко в карманы плаща.
Они были уже более часа в пути, когда Дорфрихтер внезапно прервал тягостное молчание.
— Я знаю, что у вас есть приказ избегать каких-либо разговоров со мной, господин капитан, — он обращался к нему, — но вы, наверное, последние непредубежденные лица, с которыми я имею возможность говорить и…
— Пожалуйста, господин обер-лейтенант, — перебил его капитан, — все, что бы вы ни сказали, для нас не представляет никакого…
— Не представляет никакого интереса. Это вы хотели сказать, господин капитан? Но вы не правы. Несправедливый арест невиновного человека для каждого в этой стране — мужчины, женщины или ребенка — представляет интерес! То, что произошло с ним, может произойти и с вами.
— Пощадите нас, господин обер-лейтенант. У нас приказ! — повысил голос капитан.
— Я категорически протестую против этого приказа, господин капитан!
Капитан беспокойно заерзал на своем сиденье. Будучи в принципе миролюбивым человеком, он при такой агрессивности арестованного впал в полную растерянность.
— Не заставляйте меня принять более жесткие меры, — сказал он, пытаясь придать своему голосу угрожающий тон.
— Вы можете заткнуть мне рот, господин капитан, но это единственное, что заставит меня замолчать! Я не виновен! Аудитор Кунце собрал против меня в кучу не связанные с существом дела факты и подтасовал их, чтобы они укладывались в его схему. Он сможет предать меня военному суду, но уличить в преступлении он не сможет никогда в жизни, разве что приведет лжесвидетелей, которые…
— Это просто наглость, Дорфрихтер! — Капитан покраснел от гнева. — Таким грязным способом поносить человека!
— Я сказал «разве что». По-другому ему никогда не доказать, что у меня был доступ к цианистому калию, что я рассылал циркуляры или писал их. Он не сможет доказать то, чего вообще не было!
— Ради всего святого, Дорфрихтер, умерьте свой пыл! Мы же не ваши судьи. Предположим, вы склоните нас на свою сторону. Ну и что изменится? Я имею в виду исход вашего следствия?
— Это решайте вы сами и оба лейтенанта. Даже если только трое моих товарищей будут убеждены в моей невиновности, это было бы началом, вселяющим надежду. Не забывайте, господин капитан, что я попал в большую беду. Для меня важна даже самая маленькая поддержка.
Капитан отвернулся и тяжело вздохнул. Два молодых офицера напряженно уставились в окно, разглядывая проносящийся мимо пейзаж. В купе молчали вплоть до прибытия поезда на Западный вокзал Вены.
Весть о доставке Дорфрихтера в город всколыхнула многочисленные толки. К собравшимся репортерам присоединилась, как водится, толпа зевак. Как это обычно бывает в таких случаях, все, что удалось увидеть, никак не соответствовало ожиданиям и ажиотажу собравшихся на перроне. Из поезда вышел бледный молодой офицер, которого немедленно усадили в поджидавший фиакр. Все произошло так быстро, что один из фоторепортеров ошибочно принял одного из сопровождавших за самого Дорфрихтера. Снимок появился с подписью: «Злодей в офицерском мундире». Последовала серия протестов, опровержений и язвительных статей в конкурирующих изданиях.
Камера в военном трибунале — одна из восьми, предназначенных для офицеров, — была небольшим, но светлым помещением с узкой кроватью, столом, двумя стульями и шкафом для одежды. Окно с решеткой выходило на мощенный булыжником двор, а тяжелая дверь была оборудована смотровым окошком, откуда охрана могла наблюдать за каждым движением заключенного. Дорфрихтер попросил ручку и бумагу, чтобы написать письмо жене, ему было в этом отказано. Затем он попросил что-нибудь почитать, но и это было против правил. Но когда ему сообщили, что он не имеет права на посещения и получение почты, у старшего надзирателя Туттманна создалось впечатление, что Дорфрихтер вот-вот потеряет самообладание и набросится на коменданта. Надзиратель уже не раз наблюдал такие случаи и знал все их признаки: яростный взгляд, пульсирующие виски и сжатые кулаки. За свою долгую службу Туттманн пришел к выводу, что все предписания ставят своей целью, имея в виду условия заключения, как раз вызвать открытый протест заключенного, и при каждой возможности еще более ужесточить их. Но в данном случае заключенный сумел взять себя в руки. Щелкнув каблуками, он по-военному поклонился и извинился, что потревожил коменданта своими излишними требованиями. Туттманн решил, что они получили необычно хитрого заключенного.
Дорфрихтеру не сообщили, что днем раньше в Вену приехали его родители с сестрой и в это время ждали приема у коменданта.
Отец Дорфрихтера занимался импортом стекла в Зальцбурге. Он был невысокого роста, коренаст, с напыщенными манерами — словно боевой петух. В чертах его матери, полной удрученной женщины, ничего не напоминало черты ее симпатичного сына. Сестра унаследовала от отца розовый цвет лица и его приземистую фигуру.
После того как Дорфрихтер был определен в камеру, семью пригласили в кабинет коменданта. Отец немедленно изложил в своей бессвязной, но выдержанной в драматических тонах речи возмущение арестом сына. Чтобы сын смог стать офицером, они пошли на большие жертвы, сказал он. Любой другой потребовал бы от сына помощи в бизнесе. И свою дочь он принес в жертву армии, согласившись на ее брак с неимеющим средств драгунским ротмистром. Только один залог в этом случае стоил небольшого состояния, не говоря уже о сумме, которую он должен был заплатить, когда и сын женился на женщине без средств. Но, несмотря на эти финансовые трудности, для него большая честь, что сын и зять служат Его Величеству. Абсурдно даже думать, что сын таких патриотов и преданных кайзеру граждан может подозреваться в ужасном преступлении века! Он потребовал немедленного освобождения сына или как минимум дать ему возможность поговорить с ним тет-а-тет.
Когда ему вежливо, но категорически было отказано, он разразился бессильными слезами. И жена его тихо плакала, только дочь оставалась хладнокровной и спокойной. Комендант, доброжелательный и терпеливый человек, привыкший за свою долгую службу к слезам, пообещал на прощание позаботиться о том, чтобы Дорфрихтер был обеспечен всем, что в данных обстоятельствах представляется возможным.
Следующие три дня Дорфрихтер был полностью изолирован от внешнего мира. Как и в Линце, ему три раза в день приносили еду из недалеко расположенного кафе. В первый день он отказался от пищи, но скуку и тоску выносить было нелегко, и он сказал себе, что было бы неразумно добавлять к этому еще и муки голода. Со второго дня он начал нормально есть и разработал план, как нарушить ужасную монотонность дня. Он вставал поздно — офицеры не были связаны тюремным распорядком, — медленно завтракал и после этого в течение тридцати минут делал зарядку. Один солдат из охраны, наблюдавший в смотровое окошко, был сам активным гимнастом и заметил по беспомощным движениям Дорфрихтера, что в этом у него большого опыта нет. После этого он умывался и его брили. Остаток первой половины дня он проводил стоя у окна и разговаривая сам с собой. Так, во всяком случае, казалось охране. Время от времени им удавалось понять какое-нибудь слово, обычно названия городов, таких как Ульм, Фридланд, Ваграм, Лейпциг, Бородино. Когда капитан Кунце об этом узнал, он понял, что Дорфрихтер повторяет места битв наполеоновских войн — видимо, он решил тренировать свои умственные способности так же, как и тело.
Третьего декабря — это был день, когда Дорфрихтера доставили в Вену, — Кунце получил из прокуратуры ордер на проведение обыска в квартире фрау Жозефины Грубер, тещи Дорфрихтера, по адресу Хангассе, 32. Это был уже второй обыск, первый состоялся сразу же после ареста Дорфрихтера. При каждой поездке в Вену обер-лейтенант непременно бывал в квартире Грубер. Полиция надеялась отыскать там копировальный аппарат или пишущую машинку, а может быть, и остатки цианистого калия, но в итоге полицейские были вынуждены уйти ни с чем.
На этот раз сам обыск был лишь поводом. Кунце знал, что Марианна Дорфрихтер приехала из Линца, и хотел с ней поговорить прежде, чем на нее кто-либо повлиял. Чтобы все выглядело законно, он попросил присутствовать комиссара доктора Вайнберга и двух детективов.
Им открыла молодая, деревенского вида горничная. Поскольку фрау Грубер находилась в своем хозяйственном магазинчике, расположенном на первом этаже дома, четырем мужчинам пришлось подождать в прихожей, пока за ней ходили.
Теща Дорфрихтера пришла, тяжело дыша и покраснев от негодования. Это была маленькая, очень домашняя женщина с короткими ногами и внушительным бюстом.
При виде ее Кунце непроизвольно пришли на ум легендарные гуси на Капитолии, которые шумом своих крыльев и гоготаньем спасли Рим.
Фрау Грубер провела их из прихожей в столовую, которая одновременно была комнатой для посетителей, рабочей комнатой, а когда собиралась вся семья — и гостиной. Застекленный шкаф с семейным серебром, майснеровским фарфором и книжный шкаф с собранием сочинений Лессинга, Гете, Шиллера, Гриллпарцера и Шекспира свидетельствовали об определенном вкусе и культуре.
В столовой находились в это время четыре молодые женщины — дочери фрау Жозефины Грубер. Марианна Дорфрихтер, закутанная в широкий плед, сидела в кресле у окна, ее сестры — вокруг стола. При появлении мужчин они не пошевелились, лишь повернули свои хорошо причесанные головки и едва заметным кивком ответили на приветствие. Сцена напомнила Кунце одну из картин Вермеера. Сестры, несомненно, приехали выразить Марианне сочувствие и оказать поддержку.
Оба детектива приступили к делу. Согласно полученным ими указаниям, они должны были искать, главным образом, письма или записки Дорфрихтера и вообще его любую корреспонденцию. Фрау Грубер следовала за ними по пятам, как если бы она опасалась за фамильное серебро. Дочери продолжали молча сидеть, намеренно игнорируя пришедших.
Благодаря своему замужеству, Марианне, младшей и самой красивой из дочерей, удалось подняться на более высокую общественную ступень. То же самое удалось и ее трем сестрам. Фрау Грубер всегда внушала своим дочерям, что девичья честь — это высшая добродетель любой девушки и ею можно пожертвовать только тому, кто за это предложит больше других. Альма, старшая из сестер, вышла замуж за владельца фабрики по производству кухонного оборудования в Граце, Тильда стала женой строительного мастера в Бадене недалеко от Вены, Лизл — владельца кафе в Клагенфурте. Было две общих черты у всех зятьев — они были богаты и значительно старше своих жен.
По любви вышла замуж лишь Марианна. То, что она стала женой офицера и попала в совершенно другое общество, не имело для нее никакого значения.
Марианна познакомилась с Дорфрихтером незадолго до окончания им военного училища. За годы болезни она часто оставалась одна, мечтала, много читала или смотрела, как идут спиралью кольца дыма из труб соседних домов. Она все время пыталась представить себе, как это будет, когда она снова окажется среди людей.
Мысли девушки вертелись вокруг того незнакомца, который однажды заберет ее из этой забитой мебелью и вещами квартиры на Хангассе и спасет от вечного измерения температуры и неусыпной заботы матери. Когда она увидела Петера Дорфрихтера, она с первого мига поняла — это он.
Она полностью вылечилась от туберкулеза, но от чувства одиночества за долгие годы болезни она исцелиться не смогла. Она охотно знакомилась с людьми, но чувствовала себя среди них комфортно только тогда, когда рядом был муж. Он был тем мостиком, который соединял мир романов с действительностью. Сейчас этот мостик у нее грубо разрушили, и она была снова заперта в тесной квартирке на Хангассе.
Эти ужасные дни скрашивало только одно — участие матери и сестер. Однажды они уже пришли на помощь в решающий момент: когда Дорфрихтер не мог заплатить тридцать тысяч крон залога, они все вместе внесли двадцать тысяч. Остаток был без особого желания внесен его семьей, так как старший Дорфрихтер считал, что сын достоин лучшей партии.
Женщина не с таким твердым характером, как фрау Грубер, решила бы, что она неправильно вложила свои деньги, и изменила бы отношение к зятю. Но фрау Грубер всегда только восхищалась им. Марианна чувствовала даже некоторую зависть, когда видела, с какой решимостью вела себя мать с этим ужасным капитаном. Ей хотелось бы высказать такое же возмущение, но каждый раз, когда она хотела что-то сказать, у нее словно перехватывало горло.
— Поскольку мы снова здесь, фрау Грубер, — услышала она слова капитана, — я хотел бы задать вам несколько вопросов.
Фрау Грубер скрестила руки на груди.
— Ну так что же, спрашивайте, господин капитан.
— Когда господин обер-лейтенант Дорфрихтер четырнадцатого ноября приехал утром в Вену, зашел сюда, к вам домой, — вы не помните, сколько было на часах?
Фрау Грубер фыркнула с презрением.
— Об этом меня уже тысячу раз спрашивали! Сначала детективы, потом господин комиссар. Почему бы вам не спросить у них?
Кунце ответил тихо, но твердо:
— Я спрашиваю вас!
— Ответ всегда будет один и тот же, господин капитан. Ровно в семь. Я это точно знаю, потому что, когда горничная его впустила, у меня зазвонил будильник. — Ее голос звучал теперь менее воинственно.
— Вы не смогли бы припомнить, что в это утро господин обер-лейтенант сказал или сделал?
— Когда я услыхала его голос, я накинула халат и пошла с ним поздороваться. Он приехал с собакой и маленьким чемоданом. Мы не знали, что он приедет, и это был для меня сюрприз. Я ему сказала, что Марианна еще спит в красной комнате — так мы ее называем из-за красных портьер. Он сказал, чтобы я ее не будила. Потом он играл с детьми.
— С какими детьми?
— С детьми моей дочери Тильды. — Она показала на курносую блондинку в платье из черно-белой тафты. — Они были у меня, так как в квартире у дочери шел ремонт. Они живут в Бадене под Веной.
— А во что он с ними играл?
— Ах, собственно это даже не совсем детская игра. Каждый раз он им что-нибудь привозит — оловянных солдатиков, пушки и всякое такое. Он все это выстроил на полу, а я отправилась вниз, в магазин.
— Они все еще играли вместе, когда я проснулась, — вмешалась в разговор Марианна.
Она отбросила плед, встала и повернулась к капитану. Ее щеки горели, и она никак не могла унять дрожь в губах. Тем не менее Марианна заставила себя защищать мужа. С первой встречи капитан Кунце показался ей демоном, который явился, чтобы разрушить их жизнь, и она ненавидела его со всей страстью, которую в себе и не подозревала. Армия в ее глазах была слишком благородным институтом, чтобы она решилась возвести на нее, армию, вину за эту трагедию. Поэтому вся ее горькая обида и злость были обращены на одного-единственного человека — на капитана Кунце.
— Я услыхала, как дети смеялись, — продолжала она, — а потом вдруг голос моего мужа. Когда я пришла сюда, он лежал с детьми на полу. Мальчику шесть лет, а девочке четыре, все они лежали на животе… они играли в солдатики… а он рассказывал им про тактику и как нужно с флангов окружать противника… детям это ужасно нравилось… и ему тоже. — У нее сорвался голос, в один момент казалось, что она упадет в обморок. Мать бросилась к дочери и обняла ее.
— Ради бога, успокойся, Марианна!
— Оставь меня, — сказала она и высвободилась из материнских объятий.
Ее взгляд по-прежнему был направлен на Кунце, который пристально смотрел на нее, удивленный этим внезапным взрывом.
«Она уже совсем скоро должна рожать», — подумал он.
— Неужели выдумаете, что человек способен играть и смеяться с детьми после того, как он только что послал десять смертных приговоров? — гневно спросила Марианна. — Потому что эти циркуляры были именно смертными приговорами. Только один был приведен в исполнение, но это лишь по чистой случайности. Нужно быть сумасшедшим или злодеем, чтобы такое задумать. А мой муж ни то и ни другое — он ласковый и добрый. Вы не найдете никаких доказательств против него, потому что их не существует. И он к этому злодейскому преступлению, за которое вы хотите его повесить, не имеет никакого отношения.
Этот порыв Марианны произвел на присутствующих разное впечатление. Фрау Грубер выглядела так, как будто она готова сию минуту выцарапать глаза капитану Кунце. Дочери всхлипывали. Кунце же испытывал досаду. По непонятным причинам Марианна была ему неприятна, возможно, это было связано с ее беременностью. Ему, старому холостяку, вообще беременные казались непривлекательными, а отчасти даже отталкивающими.
— Мы не вешаем невиновных, фрау Дорфрихтер, — с упреком, но и слегка растерянно сказал он.
Обыск вскоре был закончен, и, как предсказывала Марианна, никаких доказательств найдено не было. Перед уходом комиссар Вайнберг извинился за доставленные неудобства, что было встречено ледяным молчанием. Кунце был уже у двери, когда его остановила Марианна.
— Господин капитан, — сказалаона, стараясь, чтобы ее голос звучал не вызывающе, но и не обиженно, — как чувствует себя мой муж? Как переносит он весь этот ужас?
— С тех пор как он в Вене, я его еще не видел, — сказал Кунце. — Но насколько я знаю, чувствует он себя хорошо. Я думаю, что увижусь с ним на этой неделе. — Он снова вспомнил об обращении Дорфрихтера к жене, которое тот просил его передать, но промолчал.
Марианна вздохнула.
— Пожалуйста, передайте ему, что я по нему очень скучаю. И что я в него верю. Обо мне пусть он не беспокоится. Я справлюсь. — Когда Кунце ничего не ответил, она подошла к нему почти вплотную: — Вы передадите ему это? Или это тоже против правил?
Кунце кивнул утвердительно.
— Да, это против правил, но я ему все передам.
Старший надзиратель Туттманн приказал охране открыть камеру. Было десять минут одиннадцатого, Дорфрихтер как раз закончил придуманный им комплекс упражнений, стоял одетый перед окном и бормотал свои таинственные заклинания. При звуке открываемого замка он повернулся.
— Осмелюсь доложить — унтер-офицер Туттманн, — отдал честь надзиратель, поскольку Дорфрихтер и во время заключения оставался офицером, звания его могли лишить только после приговора суда. — У меня есть приказ доставить вас, господин обер-лейтенант, в бюро господина капитана-аудитора Кунце.
— Наконец-то. — Дорфрихтер казался почти веселым, хотя был бледен и глаза его впали.
Военная тюрьма располагалась непосредственно рядом с гарнизонным судом. Согласно предписанию, если речь шла об офицере, надзиратель должен был идти рядом, а солдат с примкнутым штыком — сзади.
Бюро Кунце находилось на третьем этаже. Это было весьма скромное помещение с высоким потолком и двумя выходящими на улицу окнами, книжными полками вдоль стен, большой кафельной печью и письменными столами для капитана и его сотрудников. Военный уголовный кодекс предписывал, чтобы при допросе как обвиняемого, так и свидетелей присутствовали, кроме аудитора, еще два офицера — аспирант-аудитор и офицер, ведущий протокол. К следствию по делу Дорфрихтера были прикомандированы лейтенанты Стокласка и Хайнрих, последний в качестве протоколиста.
После доклада о прибытии надзиратель и солдат удалились. Кунце обратился к Дорфрихтеру:
— Прежде чем мы начнем наш разговор, я хотел бы вам сообщить, что я веду это следствие абсолютно без предубеждения. У меня лично нет ничего против вас. Моя задача отыскать правду.
— Звучит очень благородно, господин капитан, — сказал Дорфрихтер. — Я бы очень хотел в это верить.
Вопреки своим лучшим намерениям, Кунце рассердился. Обер-лейтенант оказался не так умен, как казалось. Человек, у которого есть хоть капля разума, не станет восстанавливать против себя того, от решения которого зависит вся его судьба! Мужество — это одно, а безрассудство — это другое. Кунце спросил себя, не пришел ли обер-лейтенант к выводу, что его положение безнадежно. Он знал, что бахвальство часто бывает признаком вины. Человеку, которому светит смертная казнь, терять уже нечего.
— Будьте благоразумны, Дорфрихтер. В течение следующих недель мы будем часто встречаться, и для нас обоих было бы гораздо легче, если бы эти встречи проходили в нормальной атмосфере. Если бы мне одному довелось на основании имеющихся доказательств выносить приговор, я бы признал вас виновным. Но я этого не делаю.
— Почему же вы этого не делаете? — перебил его Дорфрихтер, опустив при этом «господин капитан».
— Я уже вам говорил почему. Я не сторонник обвинений, основанных на косвенных уликах. Для обоснованного обвинения необходимо иметь или убедительные доказательства вашей вины, или ваше признание.
— Признание было бы для вас предпочтительнее, не так ли? — И только после паузы он добавил: — Господин капитан.
— Не обязательно.
— Но без признания, согласно закону, вы не можете приговорить меня к смертной казни, ведь так? Если человек не пойман на месте преступления, он может быть приговорен к смерти, только если он признается. Это так или нет?
Кунце решил не терять терпения.
— Позволю вам напомнить, господин обер-лейтенант, что в этом кабинете вопросы задаю я, — сказал Кунце тоном недовольного учителя.
— Но мы же должны работать согласованно, господин капитан. Я должен знать, чего вы добиваетесь, и на этом строить свою защиту.
— Дорфрихтер, у меня тут есть заключение психиатров. В нем указано, что вы обладаете необычайно высоким уровнем интеллекта, близким к гениальности. Так что перестаньте говорить глупости, или я начну сомневаться в этой экспертизе.
Дорфрихтер упрямо продолжал:
— Господин капитан, позвольте высказать мою точку зрения. Я считаю, что у нас здесь происходит нечто вроде дуэли. Вы обвиняете меня в попытке убить моего товарища, а я обвиняю вас в попытке убить меня.
— Что-что? — переспросил резким тоном Кунце.
— А ирония заключается в том, — продолжал обер-лейтенант, — что если ваши обвинения покажутся правдивыми, то и мои тоже! Потому что, если вы докажете, что я убийца, вы сами превращаетесь в убийцу. И в этом случае разницы между нами почти нет, не так ли?
Кунце бросил на него полуиронический-полурассерженный взгляд и спросил себя, что же, интересно, думают Стокласка и Хайнрих об этом разговоре. Оба сидели с безучастным видом: Хайнрих старательно записывал каждое слово, Стокласка стоял у окна, разглядывая крыши соседних домов.
— Давайте перейдем к делу, Дорфрихтер, — сказал Кунце. — В заключении психиатров отмечено, что вы не только необычайно способный, но и необычайно честолюбивый человек.
— Такие вещи обычно взаимосвязаны или нет? — Дорфрихтер ухмыльнулся. Создавалось впечатление, что он получает все больше удовольствия от допроса.
— Какова была ваша первая реакция, когда вы прочитали приказ и обнаружили, что не подлежите переводу в Генеральный штаб? Вы были разочарованы?
Дорфрихтер на секунду задумался.
— Нет, господин капитан, — сказал он спокойно, — я не был разочарован. Я был взбешен. Возмущен. Я вспомнил о двух годах в военном училище, о приемных экзаменах, о зубрежке день и ночь перед выпускными экзаменами и снова и снова приходил в бешенство от мысли, что все было понапрасну, что впереди ничего нет, кроме грязных, вшивых гарнизонов, сменяющихся один за другим, чтобы из крестьянских идиотов делать солдат и выполнять долг, с которым точно так же может справиться любой ревностный унтер-офицер. Да, я был вне себя от тупости системы, которая позволяет вот так расточительно обращаться с талантом и опытом.
— И тогда вы решили что-нибудь предпринять?
— Нет, господин капитан, я выпил стакан вина. Кого-то это возбуждает, но меня вино успокаивает. Поэтому я выпил еще один. И тогда я задумался. Война неизбежна, она должна начаться. Сегодня, через год, через пять лет. Начальник Генерального штаба — сторонник войны, наследник престола тоже, только кайзер против. Но ему уже семьдесят девять лет. Сколько ему еще осталось? Если война разразится, такие, как я, будут востребованы, и это решение, я имею в виду приказ, будет, при здравом обсуждении, пересмотрено. Таким образом, я пришел к решению спокойно ждать и выполнять дальше свой долг.
— Почему вы так уверены, что война непременно будет?
— Потому что это вопрос: «Быть или не быть». Подумайте о принцессе по имени Гегемония, за которой ревностно ухаживают четыре рыцаря: Россия, Германия, Франция и наша монархия. Эта дама не любит никого из них, она просто садистка, которую возбуждает только вид пролитой крови. Если кто-то из этих рыцарей хочет ее завоевать, он должен представить ей головы своих соперников. Дело осложняется еще и наличием Великобритании и Османской империи. Но турки страдают хронической анемией, а Англия чувствует одинаковую симпатию как к принцам, так и к принцессам. Поэтому весьма вероятно, что эти двое в турнире участвовать не будут.
— Ваши рассуждения ошибочны. Если начнется война, мы будем воевать на стороне Германии. И на стороне Италии. Предположим, наш альянс победит. Тогда Германия будет еще сильней, так же как и Италия. А где будем мы?
— Но именно это я и говорю. Поэтому люди моего калибра будут нужны. Немцы во многом превосходят нас: больше войск, больше и лучшего качества вооружение, единый народ. Боже мой, да вы читали книгу Блоха «Возможна ли сегодня война?», — Дорфрихтер глубоко вздохнул. — Главным пунктом его рассуждений является то, что после первых наступлений, когда погибнут миллионы, война придет некоторым образом к затишью. Обе стороны начнут закапываться, как кроты, в окопы, и лопата станет так же необходима, как винтовка.
Кунце кивнул:
— Да, я читал эту книгу. Он, возможно, окажется прав.
— Конечно. Точно так и произойдет, если мы не проснемся. Два изобретения, которые были сделаны в последнее время, изменят облик мира. Мотор внутреннего сгорания и беспроволочный телеграф. Мы обладаем оружием невиданной мощи, нам нужно только его использовать там, где это необходимо! Но, как и прежде, французский и немецкий генеральные штабы, да и наш тоже, — считают штыковую атаку лучшим средством наступления! Как и прежде, при разведке и рекогносцировке делается основная ставка на кавалерию! А при снабжении — на лошадей! Наше единственное спасение состоит в том, чтобы эти допотопные представления, которые нам навязывают как наши союзники, так и враги, отбросить в сторону и идти собственным путем. Французский генеральный штаб полностью политически коррумпирован. Немцы просто ограниченны. Их шеф Генерального штаба генерал фон Мольтке провалился во время учебы в военном училище, а их училище по сравнению с нашим — просто детский сад. Он и на свой пост попал только потому, что носит известное имя и кайзер питает к нему слабость. Кайзер не терпит в своем окружении никого, у кого есть хоть капля таланта: все более или менее важные посты в войсках заняты принцами или тупыми солдафонами, которые не имеют ни малейшего понятия о настоящей войне. Рука об руку с ними мы двигаемся к пропасти. Но если мы пойдем собственным путем, мы можем стать мировой державой. Однако при этом нельзя допускать, чтобы такие офицеры, как я, тратили свое время на муштру на плацу или учили солдат, как полировать пуговицы и держать нужники в чистоте. Уже не говоря о полной бессмыслице того, что я здесь и вынужден защищаться от абсурдных обвинений!
Кунце слушал молча, не сводя, однако, глаз с лица Дорфрихтера.
— Я рад, что вы не забыли полностью цель нашей встречи, — резко сказал он. — Вы здесь находитесь по обвинению в убийстве. Мой долг указать вам на то, что все, что вы здесь сказали, подтверждает обвинение.
Дорфрихтер подавил смех.
— Ради бога, господин капитан, не надо со мной этих юридических фокусов! Вспомните, что я далеко не идиот. Не ведите себя со мной как с зеленым юнцом!
— Ну конечно, вы вовсе не такой! И я очень высокого мнения о вашем интеллекте. Но у вас есть нечто от фанатика. Собственно, только честолюбие не подвигнет такого человека, как вы, к убийству. Но, возможно, честолюбие в сочетании с фанатизмом — вполне может!
Дорфрихтер вскочил на ноги.
— Я покорнейше прошу разрешения закурить, — с огромным усилием сдерживая себя, сказал он.
— Разрешаю.
Кунце достал серебряный портсигар — подарок Розы — и протянул его Дорфрихтеру. Лейтенант Хайнрих поднес зажигалку. Кивком головы Дорфрихтер поблагодарил его. Он глубоко затянулся, и, казалось, его волнение улеглось.
— Фанатик я или нет, но с проклятыми циркулярами я не имею ничего общего, — уже спокойнее произнес он.
Кунце на это не отреагировал.
— Ваша жена шлет вам сердечный привет, — сказал он.
Лицо Дорфрихтера стало белым как полотно. Рука с сигаретой опустилась.
— Вы ее видели? — спросил он сдавленным голосом.
— Да, примерно пять дней назад.
— Как она себя чувствует?
— Она чувствует себя хорошо, и она в вас верит. Вы не должны о ней беспокоиться — и она скучает по вам.
— Она уже родила?
— Когда я ее видел, еще нет.
— Но это было пять дней назад.
— Если бы это произошло, меня бы известили.
— Почему ей нельзя меня навестить?
— Вы же знаете правила.
— Разве нельзя сделать исключение? Я ведь, в конце концов, офицер. Чего вы этим хотите добиться? Если надеетесь этим меня сломить, то вы ошибаетесь. Меня не сломить, господин капитан. И какие бы средневековые методы вы ни использовали — я выйду отсюда свободным человеком. Вы можете быть в этом уверены.
Кунце холодно разглядывал его. Упоминание о его жене впервые вывело обер-лейтенанта из равновесия. Впервые задрожала рука, державшая сигарету. Он вел себя по-прежнему своенравно, но в его тоне сквозило больше страха, чем убежденности.
Разлука с Марианной, видимо, больше всего угнетала заключенного. Виновен или невиновен, обвинение в убийстве было чем-то, с чем он мог бороться. А при его интеллекте и фантазии не факт, что он обязательно проиграет. Но для своей жены он не может сделать ничего. По ту сторону стены, которая их разделяет, она может заболеть, влюбиться в другого или просто его бросить, а у него нет ни малейшей возможности связаться с ней. Пока Марианна с ним, в их дуэли с Кунце он неуязвим. Она была для него тем же, чем был для Зигфрида липовый листок на его плече.
Кунце вынул свои часы.
— На сегодня закончим, — сказал он. — Нельзя сказать, что мы далеко продвинулись, но время у нас есть.
Первая конфронтация закончилась. Обер-лейтенант Дорфрихтер был отведен в свою камеру. По коридору раздались шаги, затем тяжелая дверь с цифрой шесть захлопнулась за ним на замок.
5
Канцелярия доктора Пауля Гольдшмидта находилась в самом центре города, у Угольного рынка, в непосредственной близости от дворца Хофбург. С отделанным мрамором холлом, роскошными лифтами, богато украшенными решетками — это был дом, всем своим видом говоривший о богатстве его жильцов. Внутри лифтов были установлены зеркала и стулья с сафьяновыми сиденьями. Сам доктор Гольдшмидт владел в этом доме двумя квартирами на втором этаже. В одной квартире находилась его канцелярия, в другой он жил с женой и четырьмя слугами. Его экипажи — ландо, коляска и две двуколки — находились в расположенном неподалеку каретном сарае. Там же стоял и его «даймлер», для которого был нанят шофер, обходившийся ему в сто пятьдесят крон в месяц.
Идея обратиться к доктору Гольдшмидту принадлежала фрау Грубер: он был не только самый успешный, но и самый дорогой адвокат в Вене. Сначала вся семья была против. Один из кузенов в семье был адвокатом, и все полагали, что надо посоветоваться с ним. Но фрау Грубер об этом не хотела и слышать. Дело Дорфрихтера стало сенсацией. Было уже два депутатских запроса в парламенте; оба касались особенностей, с которыми военные власти проводили расследование. Имя Петера Дорфрихтера ежедневно появлялось в газетах, этот случай оживленно обсуждался в обществе на всех раутах и приемах, в клубах, кафе и на улицах. Фрау Грубер удалось убедить семью, что именно доктор Гольдшмидт, чье имя славилось в связи с самыми громкими судебными делами, безусловно, не устоит перед искушением участвовать в таком сенсационном процессе и защищать Дорфрихтера.
Безошибочный инстинкт подсказал фрау Грубер, что Марианна сама должна пойти к адвокату. Дочь, однако, всячески противилась этому. С тех пор как первого декабря приехала в Вену, она не выходила из дома. Она избегала даже подходить к окну, так как репортеры и детективы постоянно околачивались вокруг дома.
— Я не хочу, мама. Я не пойду к доктору Гольдшмидту. В моем теперешнем состоянии — ни за что! Скорее я покончу с собой, — сказала она со слезами.
Слезы Марианны на фрау Грубер нисколько не подействовали.
— Твое состояние? Ты ведешь себя так, как будто ты единственная беременная на всем белом свете. Когда я ожидала тебя, твой отец взял меня и твоих сестер на знаменитый народный праздник принцессы Полин Меттерних. А через пять дней я родила тебя, и никто нисколько не удивился. Твой муж сидит в тесной тюремной камере и света белого не видит, а его жена палец о палец не хочет ударить, чтобы ему помочь!
Фрау Грубер написала письмо в канцелярию доктора Гольдшмидта и получила ответ, что доктор готов принять фрау Дорфрихтер. Для пущей верности фрау Грубер, опасаясь, как бы Марианна не передумала, проводила ее до самого Угольного рынка. Обе были одеты в черное, мать — из-за возраста, а дочь — чтобы хоть как-то скрыть свое состояние.
Приемная адвокатской конторы доктора Гольдшмидта производила глубокое впечатление на клиентов — солидный желто-серый преобладающий цвет, на стенах неброские копии пейзажей известных художников. Двери всех помещений канцелярии находились в длинной темной прихожей; из комнат доносились приглушенные звуки.
Человек, который принял Марианну — фрау Грубер оставалась в прихожей, — был среднего роста, скорее коренастый, чем полный и уже успел обзавестись лысиной. Его маленькие внимательные глаза пытливо разглядывали посетительницу. Он был одет в дорогой костюм с гвоздикой в петлице, носил обручальное золотое кольцо на одной руке и тяжелый перстень с изумрудом — на другой. Марианне показалось, что у него крашеные и волосы и усы. Ему было за пятьдесят, скорее пятьдесят пять, но он двигался с наигранной живостью примадонны, когда та играет роль наивной девушки. Тем не менее он умел внушать симпатию и уважение. Марианна протянула ему руку, и он поднес ее к губам. Поцеловать руку было принято в свете, а она все-таки была женой офицера.
— Чем я могу быть для вас полезен, глубокоуважаемая фрау Дорфрихтер? — Его тон был приветливый, чуть-чуть покровительственный, а его пронизывающий взгляд неприятно скользил по ее фигуре. Марианна чувствовала, что она покраснела, и ее бросило в жар. Она знала, что вот-вот расплачется, и попыталась справиться со своей слабостью.
— Господин доктор Гольдшмидт, вы возьметесь защищать моего мужа? — Она чувствовала, что слезы вот-вот брызнут из ее глаз.
Адвокат взял ее за локоть и подвел к креслу.
— Присядьте, моя дорогая. — Он сам сел в кресло напротив. — Я уже понял, что вы хотите со мной встретиться по этому поводу, и навел кое-какие справки. Боюсь, что…
— Он этого не делал! Он невиновен! — перебила она его.
— Вполне возможно, но в настоящий момент это имеет второстепенное значение. Главное сейчас — это вытащить его из лап военных и передать дело гражданскому суду.
— Умоляю, господин доктор Гольдшмидт, помогите ему, я уверена, что вы это сможете.
Ее слезы высохли, и она снова взяла себя в руки. Он пристально смотрел на нее и не мог не отметить мысленно, как она хороша. Ее красота была тем совершенством, которое могут оценить только знатоки. Большинство мужчин проходили мимо нее совершенно безучастно, особенно теперь, когда она была беременна. Но эротические фантазии Пауля Гольдшмидта были гораздо шире. Он был прирожденный открыватель, постоянно в поиске, но до сих пор так и не нашедший того, что искал. В его положении он мог себе позволить все самое лучшее, особенно то, что ново и редкостно. Доктор Гольдшмидт, производивший впечатление образцового супруга и отца семейства, позволял себе волнующие приключения за границей, ничем, кроме денег, не рискуя.
В родной Вене он ограничивался интрижками с известными актрисами или дорогими кокотками, хотя такие связи доставляли ему гораздо меньше удовольствия, чем поездка в его «даймлере». Он был не глуп, понимал, что его угасающий сексуальный аппетит объясняется возрастом, и примирился с тем, что только нечто необычное может его возбудить. Эта молодая женщина с лицом Флоры кисти Боттичелли и фигурой беременной захватила его так, как он не был увлечен со времени его романа с негритянкой из Судана годом раньше в Париже.
— Моя дорогая фрау Дорфрихтер, — покачал он головой, — мне бы не хотелось ни в коем случае вселять в вас ложные надежды.
— Меня не пускают к мужу, я не могу ему даже записку послать. Я ездила в военную тюрьму — я читала в газете, что он там, — и хотела передать ему кое-что из вещей: носки, белье и прочее. Но у меня не приняли передачу. Сказали, что он должен носить тюремные вещи. Это ужасно. Он может подумать, что я о нем не беспокоюсь, что я его бросила в беде.
— Ну, так он наверняка не думает.
— Я вообще не знаю, жив ли он.
Доктор Гольдшмидт нежно погладил ее по руке.
— Конечно, он жив. Мы же не в Средние века живем, моя дорогая, а в двадцатом веке.
Прикосновение его мягкой пухлой руки как-то успокоило ее. Она чувствовала какую-то симпатию к нему, наверное, из-за его возраста. Таким же был бы наверняка ее отец, будь он жив.
Хотя доктор Гольдшмидт не имел ни малейшего сходства с ее отцом, она чувствовала себя рядом с ним гораздо менее уязвимой, чем за все эти ужасные последние недели.
— Так вы возметесь за это дело? — спросила она.
Мать особо настаивала на том, чтобы она сразу же решила вопрос с гонораром: о таких вещах нужно договариваться на берегу, чтобы потом не было неприятных сюрпризов. Марианна не знала, как завести об этом разговор.
— Мы не богаты, — пролепетала она, — но мы, я имею в виду — наша семья, — мы готовы…
— Это неважно, моя дорогая, — прервал он резко. — Если я возьмусь за это дело — если я возьмусь, — он сделал ударение на если, — то почту это своим гражданским долгом — бороться за отмену этого устаревшего и бесчеловечного закона, а не только защищать отдельно взятого человека, являющегося жертвой этого закона.
Он производил впечатление решительного и искреннего человека. Марианна почувствовала к нему горячую благодарность.
Доктор Пауль Гольдшмидт, которого многие считали развратником и циником, умел, когда это было ему нужно, быть идеалистом и добрым самаритянином. Он обладал блестящим умом, был высокообразован и увлекался в свободные часы ботаникой. В теплицах в своем имении на Вертерзее он разводил различные экзотические растения.
В его библиотеке, наряду с древними первоизданиями, а также историческими, философскими, антропологическими и психиатрическими трудами, находилось и крупнейшее в Австрии, а возможно и во всей монархии, собрание порнографических картин и фотографий. Его пламенной страстью было любопытство.
Он постоянно пытался решать все новые и новые проблемы, ставить новые и новые эксперименты. Жизнь представлялась ему бескрайней областью, где каждый квадратный сантиметр должен быть самым тщательным образом изучен, проанализирован и зарегистрирован. Он не был нуворишем — состояние Гольдшмидтов было создано его дедом и каждым следующим поколением приумножалось. Но он обладал особым даром и страстью создать атмосферу роскоши, придать богатству блеск, в чем он когда-то признался одному восточному монарху. С гордостью он вел свою родословную вплоть до Исаака Абраванеля, последнего большого еврейского ученого и государственного деятеля Испании в XV веке. В себе он чувствовал влечение к блеску барокко католической церкви. Он не перешел в католичество, но за границей его часто видели на католических богослужениях в храмах. Когда он говорил Марианне об устаревшем, полном несправедливости законе, который должен быть изменен, он говорил это совершенно серьезно.
— Дайте мне один-два дня, моя дорогая, — сказал он. — Я хочу кое-что проверить и сообщу вам результат. Не отчаивайтесь, пожалуйста, вы слишком молоды, чтобы впадать в уныние. Заботы делают из нас взрослых и способствуют становлению характера. Но о них и быстрее забывают, чем вы думаете. А теперь, в вашем состоянии, вам нужны силы. Позвольте мне все ваши заботы взять на себя.
Он упомянул о ее состоянии, но это странным образом не привело Марианну в смущение. Та ужасная тяжесть, гнетущая ее последнее время, стала казаться переносимой. Она поблагодарила его, а он посмотрел на нее с дружелюбной, ободряющей улыбкой.
Это был тягостный, затянувшийся надолго процесс, но так предписывал закон. Сначала был вызван свидетель, имя и личные данные которого были записаны лейтенантом Хайнрихом. Капитан Кунце привел свидетеля к присяге, и только затем начался допрос. После того как свидетель был отпущен, был доставлен обер-лейтенант Дорфрихтер. Ему зачитали свидетельские показания, при этом его реакция была занесена в протокол.
Алоизия Прехтель, одетая под грубошерстным пальто в свой лучший деревенский наряд, в зеленой, украшенной пером шляпке, сидела на самом краешке стула для свидетелей. Она пыжилась от важности собственной персоны, пылала жаждой мести, но была начеку. Хозяйка Алоизии уехала из Линца, не сказав ей ни слова, сколь долго ее не будет. Неожиданно свалившаяся на нее известность служила некоторым утешением: чужие люди заговаривали с ней на улице, пытаясь выведать что-нибудь о частной жизни Дорфрихтера; репортеры брали у нее интервью, Патер Кольб из церкви миноритов пригласил ее после мессы в ризницу.
Сейчас Алоизию вызвали в Вену, чтобы дать показания под присягой. Она никогда еще не была в столице, но, к счастью, тут жила ее кузина, которая встретила родственницу на вокзале и проводила вплоть до дверей кабинета капитана Кунце.
— Фрейлейн Прехтель, — сказал Кунце, после того как были записаны ее имя и адрес и с какого времени она служила у Дорфрихтеров, — я хочу, чтобы вы вспомнили про день тринадцатое ноября. Тогда господин обер-лейтенант Дорфрихтер поздно вечером уехал в Вену. Вы были в тот день в их квартире?
— А где ж мне еще быть? Я ведь живу там. Я не из таких, которые шляются где попало, когда хозяйки нет.
— Ну, мы тоже так думаем, — сказал капитан Кунце. — Как мы слышали, господин обер-лейтенант находился с двенадцатого ноября в отпуске. Не могли бы вы припомнить, был ли он тринадцатого ноября дома, и если да, то что он делал?
— Само собой, он был дома, но я не знаю, что он делал, потому как он был в своей комнате запершись.
Кунце попытался вспомнить квартиру.
— Что вы имеете в виду под «своей комнатой»? Там есть салон, столовая и спальня.
— В спальне, конечно. Там у него письменный стол есть.
— И он вас туда целый день не пускал?
— Нет.
— Вам показалось это необычным или это и раньше случалось?
— Нет, такого раньше не было. Мне это чудно показалось, а сейчас-то я знаю, чего он там запирался. Он там эти письма господам офицерам писал да капсулы ядом наполнял.
Все трое в кабинете были ошеломлены.
— Откуда вам это известно? — резко спросил Кунце.
— Да все это знают, — пожала она плечами. — И в газетах, говорят, про это писали!
— Но быть может, вы видели письма или остатки пыли или порошка находили, которые походили бы на яд?
— Пыли у меня вообще не бывает. Про меня никто не скажет, что, мол, я плохо прибираю.
— А как насчет писем и капсул?
— Может, и видала, но толком не знаю.
— Скажите, а двенадцатого ноября господин обер-лейтенант тоже запирался?
— Конечно, господин капитан, не считая, когда он выходил с собакой.
— А кто же выходил с собакой тринадцатого ноября?
— Господин обер-лейтенант, а кто ж еще? Мне и своих делов хватает, чтоб еще и с собакой возиться!
— Вы сказали, что господин обер-лейтенант как двенадцатого, так и тринадцатого ноября выходил гулять с собакой. Это означает, что он не все время сидел запершись в комнате.
— Нет. Он только комнату запирал, когда уходил, да и ключ с собой брал.
— Значит, вы не могли попасть в спальню ни двенадцатого, ни тринадцатого ноября?
— Только на другой день. Он уж в Вене был — господин обер-лейтенант.
Кунце откинулся назад на своем стуле и задумался, глядя в пустоту.
— Ну, что же, благодарю вас, фрейлейн Прехтель. На данный момент это все.
Алоизия неохотно поднялась. Волнение, от которого вначале у нее перехватывало горло, улеглось.
— Я еще третьего ноября хотела уволиться, — внезапно сказала она трем мужчинам, которые, как она думала, понять не хотели, какая она важная свидетельница. — Я прям тут же уйти хотела. Из-за господина обер-лейтенанта. Он меня глупой гусыней обозвал. Да фрау Дорфрихтер меня уговорила, чтобы я не порола горячку и оставалась. Он, мол, господин обер-лейтенант то есть, шибко нервный был, его, вишь, обошли по службе.
Ее надежда этим сообщением привлечь внимание господина капитана сбылась.
— Как обошли по службе? — спросил Кунце.
— Так капитаном его не сделали. Они оба так радовались, что скоро в Вену переедут. А потом вдруг совсем об этом ни слова. А как я ее спросила, она мне и говорит, что, мол, не лезь не в свое дело, а он раскричался, кругом наследил да как дверью хлопнет!
— Когда вы впервые заметили изменения в поведении господина обер-лейтенанта? — спросил Кунце.
Алоизия тяжело опустилась на стул.
— Да аккурат после первого ноября. — Она теперь не торопилась выдавать информацию.
— Показалось ли вам, что фрау Дорфрихтер тоже была огорчена, что они не смогут переехать в Вену?
— Чего не знаю, того не знаю. Она и раньше-то нервная была, чувствовала себя не ахти как. А еще злилась, что растолстела. Видать, побаивалась, что господин обер-лейтенант до нее меньше интересу иметь будет. — Алоизия хихикнула. — Она ужас какая ревнивая. Все от него добивалася, где был да с кем был.
— Давал ли он ей основания для ревности?
— Бог ты мой, конечно нет. Да он на нее разве что не молился. По вечерам, бывало, я сколько раз разогревать ужин должна была, пока они выйдут из спальни. Никак он до ночи потерпеть не хотел, понимаете? Ох и злилась я всегда! Я сроду и суфле не могла приготовить, потому как, пока они вылезут из постели, оно сто раз опадет. Понятно, это было месяца два — два с половиной назад. Счас-то она уж на сносях. И господин доктор сказал ему, чтобы он ее оставил в покое, она ведь слабенькая.
После этих последних откровений Кунце отправил ее столь решительно, что Алоизия не стала больше задерживаться. Сразу же после этого Кунце распорядился привести Дорфрихтера.
Со времени их последней встречи прошло два дня. Обер-лейтенант, казалось, был в хорошем настроении. Кунце докладывали, что он твердо придерживался разработанного им распорядка: гимнастика, обливание холодной водой, бесконечные беседы «сам с собой». Так, во всяком случае, назвал это озадаченный надзиратель.
Дорфрихтер ходил большими шагами по камере взад и вперед и спустя некоторое время громким голосом объявлял, словно кондуктор трамвая, название следующей улицы. В первый день он якобы преодолел таким образом расстояние от Оперы до Вайскирхенштрассе. На следующий день ему удалось «достичь» даже Урании.
Дорфрихтеру были зачитаны показания Алоизии, в первую очередь та часть, которая касалась действий обер-лейтенанта двенадцатого и тринадцатого ноября. Заключенный выслушал это с невозмутимым видом.
— Что вы скажете по этому поводу? — спросил Кунце.
Дорфрихтер пожал плечами.
— А что вы ожидаете от меня услышать? Что я заперся, чтобы подписывать конверты с циркулярами и заполнять капсулы ядом?
— А разве вы не занимались именно этим?
— Нет. Я работал и не хотел, чтобы Алоизия ходила туда-сюда. Я писал реферат о ставосьмидесятимиллиметровых гаубицах, чье значение до сегодняшнего дня командованием недооценивается. По всей комнате у меня были разложены листы рукописи и источники. Пустить ее — это значит, что она тут же начнет наводить порядок, сметет все в кучу, только чтобы показать, какая она старательная. — Он в некотором смущении помолчал. — Извините, господин капитан, я разболтался как баба. Мне никогда бы не пришло в голову обсуждать modus operandi Алоизии с кем-нибудь из товарищей офицеров.
— Вы сказали, что двенадцатого и тринадцатого ноября вы работали над этим трактатом. Но вы же знали, что не будете переведены в Генеральный штаб. На что же вы рассчитывали с этой работой? Мы оба хорошо знаем армию, Дорфрихтер. Вы же прекрасно понимаете, что ваши предложения никогда не заставят командование хоть на йоту изменить их планы.
— Я не понимаю, к чему вы клоните.
— А я это вам сейчас объясню, черт побери! — Кунце заговорил повышенным тоном. Хождение вокруг да около действовало ему на нервы. — Вы твердо решили разрушить препятствие между вами и Генеральным штабом. Этого можно было достичь, только убрав стоящих перед вами трех офицеров. Другого способа не существовало. Вы не хотели быть войсковым офицером, который ступенька за ступенькой дослуживается до звания полковника, затем отправляется на пенсию и до самой смерти ведет спокойную, но бесславную жизнь. Вы…
— У вас действительно богатая фантазия, если вы позволите сделать это замечание, господин капитан. Если у вас не хватает улик, вы их просто придумываете. Я виновен, стало быть, в том, что я написал реферат об использовании ставосьмидесятимиллимстровых гаубиц. Я — этот злодей Чарльз Френсис только потому, что мой почерк якобы похож на его, потому, что я был в Вене в тот день, когда эти циркуляры были разосланы, потому, что я купил в лавке дюжину коробочек. Я не думаю, что вам, господин капитан, удастся убедить суд, если у вас не будет других доказательств против меня. В состав военного трибунала входят, кроме вас, еще семь офицеров, обладающих восемью голосами, а вы только одним. Я верю в своих товарищей офицеров. Какое бы вы на них не оказывали давление — приговор будет один: «Не виновен!»
— Мне не нужно никаких других доказательств. Вы в любом случае сознаетесь, — сказал Кунце своим безучастным, равнодушным тоном.
— Так вот на что вы рассчитываете, — возбужденно воскликнул Дорфрихтер. — На то, что я сознаюсь? Я вам скажу прямо сейчас — не рассчитывайте на это! Я выйду отсюда свободным человеком, а вы будете дожидаться представления вас к званию майора, пока не пройдут положенные годы!
Дорфрихтер встал и начал нервно прохаживаться по комнате взад и вперед. Кунце, задумчиво за ним наблюдавший, не переставал удивляться выдержке этого человека. С момента его ареста прошло уже две недели, но он не выглядел сломленным, наоборот, казалось, что он стал уверенней и тверже, чем раньше. Дорфрихтер не сомневался, что из этого поединка он выйдет победителем. Весь его облик: красивое лицо, сжатые кулаки, гибкая походка — все олицетворяло твердую решимость.
— Что вы думаете о нем? — спросил Кунце Стокласку и Хайнриха, после того как Дорфрихтер был уведен.
Обычно Кунце со своими подчиненными не говорил о подозреваемых. Согласно закону, принятому более ста пятидесяти лет назад, он был судьей, обвинителем и защитником в одном лице, и независимо оттого, хорош был закон или плох, вся моральная ответственность лежала на нем одном. Это неписаное правило он сейчас нарушил.
— Глядя на него, можно подумать, что он и мухи не обидит, — сказал Стокласка. — Но чертовски много говорит против него. Я бы не хотел быть в его шкуре, Эмиль. — Между собой они не придерживались формальных обращений и говорили на ты.
— Я думаю, Эмиль, не хватает доказательства, что он где-то смог раздобыть цианистый калий. И пока ты его не добудешь, вся твоя цепочка доказательств может оказаться недостаточной, — поразмышляв, сказал Хайнрих.
Капитан кивнул:
— Это я понимаю. Но какое впечатление произвел на вас этот человек?
— Я думаю, он первоклассный офицер. Может, лучше его вообще больше нет. Виновен он или нет — я бы его отпустил. Грянет война, и такие офицеры, как Петер Дорфрихтер, будут просто необходимы, — ответил Хайнрих.
6
Генерал Венцель с супругой давали обед в своем доме в Хитцинге. Впервые среди приглашенных был капитан Кунце. Получить тисненный золотом пригласительный билет считалось в Вене такой же честью, как в Лондоне быть принятым в свете.
Кунце как раз надевал свои новые, к сожалению слегка узкие, лакированные сапоги, когда в комнату, негромко постучав, влетела Роза.
— Пауль лежит при смерти! — сообщила она тоном, для этого случая слишком уж радостным.
— Какой Пауль?
— Мой дядя. — Ее голос звучал теперь подобающим образом озабоченным. Умирающий был ее любимым дядей. — У него случился инсульт. Врач считает, что он больше двух дней не проживет. Бедный Пауль! Ему всего-то шестьдесят! Умирать так рано!
Кунце наконец удалось натянуть сапоги, и он подошел к платяному шкафу, чтобы надеть китель.
— В будущем году мы пойдем к Венцелям вместе, — сказала Роза.
Его рука задержалась на верхней пуговице.
— Еще неизвестно, пригласят ли меня на следующий год.
Судя по выражению ее лица, Роза ожидала другого ответа.
— Но если пригласят тебя, то и меня тоже.
Роза прижалась к нему и поцеловала золотой шнур на его аксельбантах. Кунце отпрянул в досаде. Такие проявления нежности он считал излишними и ненужными. Он понимал, какого ответа она ждет, но что-то внутри его противилось.
— Когда я в последний раз дядю Пауля видела, он сказал мне, что написал новое завещание: мне он отдает дом и часть акций. — Она буквально захлебывалась словами, не сводя глаз с его лица. — Если он умрет, мы сможем пожениться.
— Но ведь он еще не умер, правда? — Его голос прозвучал резче, чем он хотел.
— Что же, мне и помечтать нельзя? — спросила она. Губы у нее задрожали, и глаза наполнились слезами.
— Ты всегда мне говорила, что любишь его. Как же ты можешь желать, чтобы он умер?
— Потому что тебя я люблю в сто раз больше, чем его. Тебя я люблю сильнее всего на свете. Поверь мне: любой женщине неприятно всегда оставаться в тени, быть одинокой. Мы живем вместе, но я называю тебя жильцом, ты меня — хозяйкой. Это было бы правильно, если бы нас связывал только договор о найме! Я хочу когда-нибудь сказать: «Это мой муж!»
Внезапно ему стало действительно стыдно. На самом деле на свете была только одна женщина, которая дарила ему свою нежность и внимание, давала ему кров, ничего за это не требуя. Если он болел — она ухаживала за ним; если ему было одиноко — она была рядом; хотелось побыть одному — он держал ее на расстоянии; когда бы он ни пожелал — дверь ее спальни для него всегда была открыта. А не будь Розы?.. Бесцельно болтаться где-либо? Пускаться в мимолетные интрижки? Вечер за вечером возвращаться в пустую квартиру, где единственным развлечением был бы его граммофон? Он подошел к Розе и притянул ее в свои объятия.
— Не будь таким ребенком. Конечно, я хочу на тебе жениться. Я вообще не смотрю ни на одну из женщин, ты же знаешь. — Он мягко отодвинул ее от себя. — А сейчас, пожалуйста, не лей слезы на мой парадный мундир. Каждая слезинка оставляет на этом платке пятно.
Она рассмеялась, пока он вытирал ей слезы своим платком, и грустно сказала:
— Я хочу, я могла бы сегодня пойти с тобой. У меня есть новое платье, ты его еще не видел. Все из белых кружев, а внизу подкладка из черного шелка. Чудесное платье! Ты гордился бы мной!
Это был один из ее лучших дней. Свежевымытые пушистые волосы были прекрасны, несмотря на слегка проблескивающую седину на висках, а ее кожа розово светилась, как у юных девушек на картинах Ренуара. Она была одета в шелковое платье с маленькими воланами впереди и слегка касающимся пола шлейфом. Внезапно ему вспомнилось, что уже несколько недель он не обнимал это пышное, с прекрасными формами тело, затянутое сейчас в корсет.
Общество у Венцелей собралось почти исключительно из военнослужащих. Штатских было довольно мало. Преобладающим цветом был зеленый цвет мундиров Генерального штаба. Здесь была представлена вся клика сторонников войны во главе с Францем Конрадом фон Хётцендорфом, стройным худощавым человеком с нервной повадкой фокстерьера и крепкой хваткой бульдога. Он и его соратники каждое утро с надеждой разворачивали газеты, ожидая прочитать там, в разделе известий императорского двора, сообщение о том, что кайзер нездоров и должен, по указанию своего лейб-доктора, лечь в постель. Такое сообщение было бы верным знаком того, что здоровье кайзера — наконец-то — пошатнулось! Но еще больше они радовались бы, если бы появилось срочное сообщение о сердечном приступе или инсульте. Будь они сербами, или турками, или представителями армии с более низкими моральными устоями, они бы уже давно объединились и составили заговор с целью убийства монарха. Но на их пути стоял Франц Иосиф, и такое радикальное решение даже и не приходило им в голову. Они негодовали, они скрежетали зубами, а их вожди были частыми гостями в замке Бельведер, венской резиденции наследника престола Франца Фердинанда, или в его загородном поместье Конопишт в Чехии. Шеф Генерального штаба Конрад позволял себе даже стучать кулаком по письменному столу кайзера, если ему что-то было не по нраву, но это не приблизило войну ни на шаг. Единственной уступкой, которую он добился от кайзера, было его согласие на основополагающую реорганизацию и модернизацию армии. Франц Конрад фон Хётцендорф за время своего трехлетнего пребывания на посту совершил буквально чудо, но был похож на мальчишку, которому на Рождество подарили любимую игрушку, но не разрешили с ней играть.
На таких приемах Кунце был не слишком общителен. Ему нравилось больше наблюдать, чем участвовать в разговорах в той или иной группке. Его забавляли маленькие трагедии или комедии, которые при таких приемах то и дело разыгрывались, дружеские отношения, которые разрушались или возникали вновь, внезапные ссоры, которые вспыхивали умышленно или неумышленно, начало или конец чьих-то карьер, закат любовных связей, безобидные подшучивания, которые нередко вели к дуэлям и бессмысленным смертям.
Как обычно, было приглашено довольно много младших офицеров — преимущественно из кавалерии, милые молодые люди, сдержанно относящиеся к выпивке, основной задачей которых было неутомимо развлекать танцами жен и дочерей офицеров. Гусары выглядели роскошно, но чувствовали себя не очень удобно.
В то время как драгуны и уланы красовались в узких черных брюках и легких мягких сапожках, парадная форма гусар состояла из облегающих брюк цвета киновари, богато украшенного золотыми галунами серо-голубого френча и высоких, до колен, лакированных сапог. Танцуя ночь напролет, они к утру страдали от болей в уставших ногах. К тому же для них было обязательным наличие шпор, звяканье которых постоянно дополняло звуки прекрасной музыки, а ущерба, который наносили шпоры бальным платьям и шлейфам, избежать было невозможно.
Если обычно на таких балах можно было видеть вечерние туалеты, которые умелая домашняя портниха лихо шила из камчатной ткани бабушкиных портьер с претензией на модели от Пуаре или Ворта, то здесь, в этот вечер, наряды были, как правило, haute couture, а драгоценности дам были подлинными:некоторые колье, украшавшие decolleté, превышали годовой заработок их супругов.
Платье Лили Венцель было выдержано в стиле последней моды — бледно-зеленый сатин с золотистым тюлем поверх. На ней были ее знаменитые изумруды, и она выглядела восхитительно. Одно-единственное ожерелье превосходило Лили по блеску — бриллианты фрау Гольдшмидт. Супруги Гольдшмидт были одной из немногих пар, которые были приглашены, несмотря на то что не принадлежали к кругу военных. Фрау Гольдшмидт была троюродной сестрой Лили Венцель. Но это было бы недостаточным основанием для приглашения. Доктор Гольдшмидт был членом Жокей-клуба; кроме этого, ходили слухи, что вскоре он должен быть кайзером произведен в бароны.
В самом начале вечера доктор Гольдшмидт извлек капитана Кунце из группы сверкающих униформами офицеров. Их знакомство начиналось еще во времена деятельности Кунце в известной адвокатской конторе Теллера и Бауэра.
— Какой прекрасный сюрприз! Вы здесь, господин капитан! — просиял Гольдшмидт. — Если бы я знал, что встречу вас здесь, не стал бы посылать вам письмо. Вы его найдете в утренней почте. — Не дождавшись ответной реакции Кунце, он продолжал: — Это касается обер-лейтенанта Дорфрихтера. Я бы охотно поговорил с вами об этом. Его семья поручила мне представлять его интересы.
Для Кунце это было нечто новое.
— Боюсь, что вам не удастся многое для него сделать, господин доктор, — сказал он. — Как вы знаете, он находится под военной юрисдикцией, поэтому участие гражданской зашиты не допускается.
— Не обязательно. Здесь мог бы вмешаться Его Величество. А если в дело вмешается господин министр фон Шенайх? От вас ведь не укрылся тот факт, что общественность с большим неодобрением относится к той завесе тайны, которой окутано все следствие.
— Действительно?
— Вы что, совсем не читаете газет, господин капитан?
— Общественнось была категорически против обрезки деревьев на Оперном кольце и против указа, согласно которому собак можно выводить только на поводке и с намордником. Тем не менее все деревья были обрезаны, а собаки ходят в намордниках.
— На прошлой неделе было два запроса в парламенте. Вас обвиняют в злополучной тройственности ваших функций — следователя, прокурора и защитника в одном лице! Случай с Дорфрихтером может стать австрийским делом Дрейфуса!
— Что касается злополучной тройственности, господин Гольдшмидт, то все мои усилия служат делу истины и справедливости, причем именно в этой последовательности, — сказал Кунце. Он знал, что это прозвучало высокопарно, но не мог иначе. Люди типа Пауля Гольдшмидта доводили его до того, что он говорил такие вещи, о которых потом жалел.
— Поймите меня правильно, господин капитан, моя критика направлена вовсе не против вас лично, но вы ведь тоже человек. И вы можете ошибаться.
— Надеюсь, вы не думаете, господин доктор Гольдшмидт, что наше расследование сосредоточено на одном обер-лейтенанте Дорфрихтере? Это совсем не так. Мы двигаемся в различных направлениях. Более половины всех расположенных в Линце солдат, к примеру, допрошены в связи с попыткой покупки в аптеке Ритцбергера цианистого калия. Другое свидетельство поступило из Бадена. Оно касается одного молодого человека — блондина, который купил большое число капсул с облатками и вел себя при этом довольно подозрительно. От десяти до двенадцати человек, которые могут быть связаны с этим делом, находятся под наблюдением. Если речь идет о гражданских лицах, мы работаем в тесном контакте с полицией. Вы, конечно, знаете комиссара доктора Вайнберга. Мы тесно с ним сотрудничаем.
— Это звучит действительно обнадеживающе, господин капитан. Тем не менее Дорфрихтер по-прежнему изолирован, как бешеная собака.
— Он содержится во вполне комфортабельной, хорошо отапливаемой камере, и состояние здоровья у него очень хорошее. Сотрудники медчасти делают все, чтобы здоровье его и впредь оставалось таким же. Еда доставляется ему его семьей, и я дал специальное указание надзирателю, чтобы горячие блюда подавались горячими, а холодные — холодными. Книги и контакты с внешним миром не разрешены, но, возможно, в ближайшее время ситуация может быть изменена.
— А свет в камере вообще не выключается, и за ним наблюдают днем и ночью, — фыркнул доктор Гольдшмидт.
— Это верно. Но я бы одно хотел добавить. Возможно, вы окажете этому человеку медвежью услугу, если добьетесь перевода его под гражданскую юрисдикцию. Согласно военным законам, смертная казнь полагается только в случае полного признания вины или наличия неопровержимых доказательств. Гражданский же суд, если будет убежден в его вине, приговорит его к смертной казни. Может статься, господин доктор Гольдшмидт, что ваши усилия вырвать Дорфрихтера у меня как раз и приведут его на виселицу.
— Значит, я могу исходить из того, что вы, господин капитан, мое касающееся этого дела ходатайство в военное министерство не поддержите?
Кунце почувствовал, как его охватывает гнев.
— Вы правы, я не стал бы его поддерживать. — Ему удалось как-то взять себя в руки. — Я остаюсь при своем мнении, что практикуемый в настоящее время порядок ведения процесса соответствует как интересам обвиняемого, так и общественности.
Соблюдая приличия, они некоторое время еще постояли вместе, болтая о пустяках, но остаток вечера старательно избегали друг друга. Кунце досадовал гораздо больше на свою реакцию на предложение доктора Гольдшмидта, чем на само предложение.
Чтобы отвлечься от мыслей о Пауле Гольдшмидте, Кунце прошел в большой салон наверху, где ковер был скатан по сторонам. Капелла венгерских цыган из «Гранд-отеля» играла танцевальную музыку. Это было восхитительное зрелище — пестрый вихрь взметающихся юбок, блеск украшений в свете канделябров, раскачивающихся в такт музыке, как цветущие в поле маки, головы, мозаика изукрашенных золотыми шнурами военных мундиров и ряды стоящих вдоль стен дам, чьи пышные бюсты были чересчур приподняты тесными корсетами — все остальное было милосердно спрятано под широкими юбками.
Лили Венцель танцевала с одним из офицеров Генерального штаба капитаном Дугоничем. Кунце знал его. И он был одним из тех, кому были посланы циркуляры Чарльза Френсиса. Как только молодой улан сменил его в танце, он, поцеловав руку даме, устремился прямо к Кунце.
— Как дела у нашего друга Дорфрихтера? — спросил он. Однако в том, как звучало слово «друг», не было ничего дружеского.
Среднего роста, с характерным носом, телом — казалось, состоящим только из мускулов, он был похож на цыгана, однако вряд ли кто-либо отважился бы намекнуть ему на это. Он был сыном несметно богатого землевладельца из южной окраины Венгрии, потомком одного из вождей сербских племен, и обладал снисходительной непринужденностью человека, которому вследствие его богатства вряд ли кто-либо мог бы навредить.
— Когда я видел его в последний раз, у него было все хорошо, — ответил Кунце. Он неохотно говорил вне службы об этом деле. Однако тон, которым Дугонич задал вопрос, заинтересовал его. — Мне казалось, что вы вовсе не были друзьями?
— Я ненавижу этого парня, — сказал Дугонич. — И не из-за того, что он хотел убить меня.
— Это еще не доказано.
— Что касается меня, то да! Он из того сорта людей, которые способны на это. Я два года был с ним в одном классе. Два года — это много, когда тебе двадцать пять или двадцать шесть. Я могу себе представить, что кому-то это не покажется долгим, если человеку сорок или пятьдесят лет, но если тебе двадцать пять — два года кажутся вечностью. Он сидел рядом со мной, Хохенштайн — слева от меня, Мадер — за мной. Не думай, что я сноб. Но если я кого и не выношу, то это карьеристов и парвеню. Я знаю, что мне повезло, я с самого начала имел гораздо больше, чем те, кто вышел из средних слоев. Но это вовсе не означает, что тот, кто не вышел из такой богатой семьи, как я, или, как Хохенштайн, из аристократов, должен неминуемо стать подлецом. Ведь Мадер же им не был, и Герстен тоже, но Дорфрихтер им как раз и был. Бешеное честолюбие, стремление везде и всюду быть первым буквально было написано у него на лице. А то, что это ему не удалось, так это только потому, что он уж слишком сильно старался. Перед экзаменами его скручивало так, что, заговорив с ним, и ответа от него не добьешься. Несомненно, он чрезвычайно одарен и умен. Но какому преподавателю понравится ученик, который умнее его? Да и со многими своими однокашниками он сумел поссориться. Все знают, что в военном училище нет места настоящему товариществу. Девиз такой: сожри или погибнешь. Трижды просеивают только при поступлении. А пока доберешься до выпускных экзаменов, половину потока выгоняют. Но даже если человек так честолюбив, не выпячивай это, прояви терпение, а при неудаче постарайся проиграть достойно. Но, как бы то ни было, Дорфрихтер уже тогда был готов идти по трупам.
— Что ты имеешь в виду?
— К концу первого года Дорфрихтер был в списке двенадцатым. На одиннадцатом месте стоял Хоффер. Летом нас троих отправили в распоряжение командования в Инсбрук. Не очень веселое место, разве что если ты альпинист, а так — много пьянки и карт. Хоффер игрок был страстный, но играл плохо. В основном он проигрывал. Дорфрихтер пил умеренно, а играл вообще редко. В ту ночь он играл вместо приятеля, которому надо было спешить на поезд, и поймал Хоффера на жульничестве — так, во всяком случае, говорил Дорфрихтер. Речь шла вовсе не о больших деньгах, то есть дело не шло о жизни или смерти. Все можно было вообще решить между нами. Можно было вполне принять извинение Хоффера: он, мол, по ошибке заказал семь взяток, приняв двойку червей за тройку. У него была дама, четверка и спорная тройка. Хоффер бросил карты на стол, не показав их. Дорфрихтер же открыл карты и закричал, что у него только шесть взяток, а не семь. Хоффер был пьян и объяснялся не самым джентльменским образом. Дело дошло до полкового суда чести, где Дорфрихтер повторил свои обвинения. Тут всплыли и другие грешки Хоффера: долги, процесс по установлению отцовства, связь с проституткой. После окончания процесса Хоффер застрелился, а Дорфрихтер начал учебный год одиннадцатым. После похорон Хоффера я подошел к Дорфрихтеру и сказал ему все, что я о нем думаю как об офицере, товарище и человеке. Откровенно говоря, я рассчитывал, что он даст мне пощечину или вызовет на дуэль. Но он мне такого одолжения не сделал.
Он подождал, пока я закончу, и сказал: «Я тебе это еще припомню!» Когда я услышал о нем в связи с делом Чарльза Френсиса, первой моей реакцией было сообщить о том давнем инциденте, а потом я подумал: если он окажется в итоге невиновным, я поступлю так же по-свински, как и он в случае с Хоффером. А теперь, когда мы тут случайно встретились, я предоставляю тебе самому делать отсюда выводы.
— К началу второго года обучения он, стало быть, был номером 11. Почему же он отодвинулся назад в списке?
— Ну, во-первых, некоторые инструкторы просто не любили его. А кроме того, физически он был менее вынослив, чем большинство в классе. Полевые учения были часто ему не по силам. Ну а всадник он был просто никакой. Вначале он вообще всякий раз оказывался на земле, да и до конца он так и не смог преодолеть страха перед лошадьми. К тому же старый Кампанини решил, что неуспехи Дорфрихтера бросают тень на его репутацию преподавателя, и сажал его на самых норовистых лошадей.
— Был ли еще кто-нибудь в классе, кто не ладил с Дорфрихтером?
— Нет, но это ни о чем не говорит. В училище все не так, как обычно среди офицеров. Отчасти и времени достаточно не было, чтобы завязалась дружба, да и все мы были конкурентами. Немногие из класса были теми, кого все любили, — и Мадер был один из них. Лучшего товарища, чем он, просто не было.
Хозяйка дома подошла к ним и пригласила к столу. Кунце пришло в голову, что она на протяжении всего вечера как-то выделяла Дугонича. Котильон, правда, она танцевала с почетным гостем — шефом Генерального штаба Конрадом, но до этого ее изумруды постоянно сверкали на фоне темно-зеленого мундира Дугонича.
Ужин имел большой успех и длился с полуночи до двух часов утра. Год назад Лили Венцель удалось одержать решающую победу над соперницами в свете — она сумела переманить к себе повариху скончавшегося Иоганна Штрауса. Пышная бабенка, урожденная венгерка, с божественным даром что касается венской кухни, была в своем деле таким же маэстро, как ее усопший хозяин в музыке. Вставая из-за стола, все гости были под хмельком и убеждены, что они слегка переели.
В конце ужина Лили Венцель «нечаянно» опрокинула бокал с шампанским и залила себе платье. Она поспешила наверх, чтобы переодеться. Обнаружив в своей комнате крепко спящую на стуле горничную, Лили растолкала ее и приказала немедленно идти спать, сказав, что она больше не понадобится. Девушка мгновенно исчезла, пока госпожа не передумала.
Капитан Дугонич, которому Лили объяснила, как пройти в ее комнату, тем не менее дважды оказывался не там. Когда он наконец попал к ней, Лили стояла перед огромным, до пола, зеркалом. Ее пышное белоснежное тело от бюста до бедер было скрыто шелковым корсетом. Не отрывая от нее глаз, Дугонич тихо прикрыл дверь и пытался рукой нащупать ключ. Не найдя его, он посмотрел на дверь и увидел, что ключа вообще не было.
— Скажите, что, дверь вообще не запирается? Клянусь, мой боевой дух не так силен при мысли, что в любой момент сюда может войти ваш муж.
Она рассмеялась.
— В этом доме — никогда. Мы нашли тайный рецепт для счастливого супружества. Каждый уважает личную жизнь другого. Карл слишком хорошо воспитан, чтобы сюда ворваться, если его не пригласили.
— И вы его действительно приглашаете?
— Время от времени, конечно. Я же должна давать ему возможность доказывать, что он женился на мне не из-за денег. Это необходимо ему для самоутверждения.
— Кажется, вы хорошо разбираетесь в психологии, да?
— Нет, я только осторожна. Я уже сталкивалась с тем, насколько мужчина без самоутверждения может быть опасен.
Он привлек ее к себе и поцеловал в шейку. Его правая рука скользнула по ее телу, отправляясь в увлекательное путешествие.
— Как хорошо, что я не ваш муж, — сказал он.
— Вы им и не смогли бы быть. Я никогда бы не вышла за вас замуж.
— Почему же нет? Я богат, благовоспитан и неплохо выгляжу.
Пока он говорил, рука его скользила по корсету, расстегивая многочисленные крючки. Она откинула голову назад, глаза ее под густыми ресницами затуманились, дыхание участилось.
— Я бы никогда не вышла за мужчину, в которого я влюбилась.
Его рука задержалась. Слово «влюбилась» подействовало на него как холодный душ. Ничего он не опасался больше, как связей, основанных на чувстве.
— Вам не кажется, что мы все-таки слегка рискуем? — спросил он. — Не было бы разумней встретиться завтра в городе? У меня есть квартира на Химмельпфортгассе…
— Нет. — Она стала расстегивать пуговицы его мундира. — Сейчас.
Она обвилась вокруг него с такой стремительностью, что он упал на обтянутый шелком шезлонг и увлек ее за собой. Под этим пламенным огнем его оборона была прорвана. В зеркале он на миг увидел их переплетенные тела среди вороха белья и сдавленно засмеялся. «Вот если бы кто-нибудь сейчас зашел…» — подумал он. Его неожиданный смех заставил Лили насторожиться, во взгляде, брошенном на него, на секунду скользнуло недоверие, но затем глаза ее вновь закрылись, и она забылась в сладостном блаженстве.
Позже он спросил ее:
— Ты всегда так развлекаешься, когда у вас собирается общество?
Лили выбрала голубое вечернее платье из шифона, и он возился со сложными крючками на спине. Она резко повернулась к нему, и в какой-то момент ему показалось, что она его ударит.
— Нет, — сказала она. — Не всегда удается найти подходящего партнера.
— Несмотря на то что тут столько молодых орлов? Уверен, что каждый бог знает что отдал бы за это.
— Да, бог знает что. А кончается это тем, что они просят замолвить за них словечко перед генералом. То, что я вам про самоутверждение мужчин сказала, относится и к женщине. Я не хочу, чтобы меня использовали. По крайней мере, пока не хочу. Может быть, через пару лет, но не сейчас. Сейчас я хочу, чтобы меня принимали, какая я есть, и каждый должен рисковать точно так же, как и я.
Только теперь он все понял. Вот почему на двери не было замка!
Он рассмеялся:
— Ну ты и стервочка! — Однако вдруг почувствовал, что полностью протрезвел.
Капитан Кунце провел первую половину дня, изучая журнал успеваемости офицеров, которые получили циркуляр Чарльза Френсиса, и пытаясь понять, почему именно эти десять человек должны были умереть. Разговоре капитаном Дугоничем навел его на мысль побеседовать с каждым из них, чтобы понять их взаимоотношения с обвиняемым.
— Странно, — сказал он лейтенанту Стокласке. — Девять из этих десяти превосходные наездники, и вообще все они хорошие спортсмены. В характеристиках подчеркиваются их выдающиеся достижения. Единственным исключением является Молль. Майор фон Кампанини поставил ему «весьма посредственно» так же точно, как и Дорфрихтеру.
— Возможно, Дорфрихтер испытывает личную злобу к Моллю.
— Это мы должны выяснить, — кивнул Кунце. — И еще многое другое, — добавил он, вздохнув.
Дорфрихтера доставили на допрос. Казалось, он слегка поправился. Круги под глазами и следы усталости на лице исчезли. Он был не таким бледным, как раньше. Бесспорно, это было результатом его ежедневных «прогулок» при настежь открытом окне. На улице похолодало, и он выстудил камеру почти до уличной температуры, оставляя окно постоянно открытым. Воспаление легких для него предпочтительней, чем сидеть в духоте, сказал он. На вопрос, как он себя чувствует, он всегда отвечал, что ему скучно, но других жалоб у него нет.
— Какие отношения у вас были с капитаном Моллем? — начал допрос Кунце.
Если он и предполагал какую-то объяснимую реакцию, то был разочарован. Дорфрихтер отвечал с удивленным видом.
— Капитан Молль? Думаю, что я не знаю никакого капитана Молля.
— Ну хорошо — обер-лейтенант Молль. Он был одним из ваших однокашников по военному училищу.
Дорфрихтер почесал в задумчивости лоб.
— Молль? Ах да, Молль. Сейчас я смутно припоминаю. В конце концов, в выпускном классе было больше ста человек. Я не думаю, что смог бы вам навскидку назвать больше десяти имен.
— Почему вы сказали десять?
— Почему именно десять? — Дорфрихтер, ухмыляясь, казалось, дразнил его. — Потому, что как раз десять циркуляров были отправлены. Как я глупо проговорился, подумали вы, наверное. Вот и еще одно доказательство моей вины!
— Прекратите эти шутки. Отвечайте на мой вопрос!
— Я его едва знал. Понятия не имею, где он и что с ним. Думаю, что я его с тех пор не встречал.
В тот же день после обеда Карл Молль сидел на стуле перед письменным столом Кунце. В настоящий момент он был приписан к Бюро железных дорог Генерального штаба.
Казалось, его гложет единственная забота: чтобы поезда отправлялись точно в срок. Его лицо, как и голова, были чисто выбриты. В речи Молля слышался легкий прусский акцент, и он применял иногда выражения, обычно не использовавшиеся в императорской армии. Нечто прусское проявлялось и в его манере держаться — чопорно, подчеркнуто корректно, в нем не было ни малейшего намека на шарм и живость венцев.
— Мое отношение к обер-лейтенанту Дорфрихтеру, — объявил он, — нельзя считать вполне дружественным. У меня было чувство, что он меня недолюбливает, и это было обоюдным.
— Какова же была причина? Возможно, были какие-то споры?
— Спор — не совсем подходящее выражение для этого случая. Скорее, я бы назвал это различием мнений. Мы…
Кунце, не желавший копаться в терминах, поймал его на слове:
— В чем же заключались различия ваших мнений?
— Главным образом, в военных вопросах. Но вы позволите мне сделать замечание личного характера? Мой отец еще молодым переехал в Австрию. Я здесь родился, но остальная семья Молль живет по-прежнему в Бреслау. Два дяди и шесть кузенов служат офицерами в прусской армии. Они профессиональные офицеры. От них я узнал, что такое настоящая дисциплина. Боюсь, что наша австро-венгерская армия несколько чересчур комфортна, если можно так выразиться. Это не идет ей на пользу. Дорфрихтер не хотел об этом и слышать.
Пространные рассуждения Молля действовали Кунце на нервы.
— Вы хотите сказать, что ваши споры касались абстрактных вещей и что никаких личных конфликтов между вами не было?
— Конечно нет, — сказал Молль, слегка обескураженный поворотом мысли Кунце. — У нас были также различные взгляды на значение скорострельного оружия.
— Подумайте как следует, — настаивал Кунце. — Возможно, вы вспомните о каком-то инциденте, носившем личный характер?
— Мне очень жаль, но не могу ничего припомнить.
— Скажите, после окончания военного училища были ли у вас прямые или косвенные контакты с Дорфрихтером?
— Никаких. Но есть вот еще что. Мне это только сейчас пришло в голову. В 1907 году я был направлен в 24-й пехотный полк в Кешкемет, в Венгрию. Я жил там у некой фрау Варга. Несколькими месяцами раньше эту же комнату снимал Дорфрихтер, которого к этому времени перевели в 13-ю бригаду в Сараево.
— И что же?
— В прошлом году мы с ним неожиданно столкнулись в министерстве. Я рассказал ему об этой случайности. «Мир тесен, не так ли?» — сказал я. Но меня удивила его реакция: он вдруг покраснел, повернулся и ушел, не сказав ни слова. Я до сих пор не понимаю, в чем тут дело.
— Ваша квартирная хозяйка рассказывала что-нибудь о Дорфрихтере?
Молль напряженно задумался, сжав губы и наморщив лоб. Кунце не мог понять, что нашла Анна Габриель в этом совершенно непривлекательном человеке. Кунце часто думал об Анне Габриель; у него было такое чувство, что часть вины в этой трагедии лежит и на нем. Он принадлежал к тем людям, у которых стремление сохранить свою совесть чистой было чертой натуры. И это чувство вины не оставляло его.
— Я помню, что фрау Варга как-то раз рассказывала об одной актрисе, — сказал Молль. — У Дорфрихтера якобы был с ней роман. Надеюсь, я не путаю его с кем-нибудь. Вы же знаете эти провинциальные гарнизоны. Молодому холостяку там ничего другого не остается, как пьянка и путешествия из одной постели в другую.
— Кто была эта актриса? Вы ее знали?
— Она уехала из города вместе с Дорфрихтером. Ее исчезновение вызвало целый скандал.
— Вы не сможете вспомнить, как ее звали?
— Нет, но я могу написать фрау Варга и спросить ее. Она будет просто счастлива оказать услугу.
Кунце поблагодарил капитана за содействие и проводил его до двери. С тех пор как на Дорфрихтера пало первое подозрение, его прошлое было тщательно изучено, особенно его образ жизни в различных гарнизонах, но результаты были скудными: командиры отзывались о нем как о блестящем офицере, подчиненные повсюду его любили. Личная жизнь его также протекала, насколько это было известно, нормально: невинный флирт, связи с легкомысленными замужними женщинами, посещение дорогих борделей, а со дня женитьбы — только времяпровождение дома с Марианной. В этот день Петер Дорфрихтер после обеда снова был вызван на допрос. Его щеки, нос и уши были пурпурно-красными. Как объяснил надзиратель Туттманн, он как раз совершал свою «прогулку по городу».
— Вы так себя погубите, — заметил Кунце.
— Было бы неплохо, оставить вас с этим нераскрытым преступлением, — негромко рассмеялся Дорфрихтер. — Но не волнуйтесь. Я собираюсь остаться живым и выйти отсюда полностью реабилитированным. Устраивает это вас или нет.
Кунце был задет этим вызывающим тоном.
— Не ведите себя так глупо, Дорфрихтер. Вы же не считаете всерьез, что я хочу подвести под приговор невиновного. Я вовсе не стремился получить это расследование, и оно не доставляет мне никакой радости, могу вас заверить. Оставим шутки и позаботимся о том, чтобы это прискорбное дело завершилось так или иначе.
— Прошу прошения, — вытянувшись по стойке «смирно», сказал Дорфрихтер.
Кунце перелистывал свои записи. Он был все еще возбужден, сильнее, чем был для этого повод, и он понимал это.
Дорфрихтер прервал молчание:
— Могу я задать вопрос, господин капитан? — После того как Кунце кивнул, он спросил: — Вы что-нибудь слышали о моей жене? Как ее здоровье? Родился ли ребенок?
— Нет, ребенок еще не родился, но со здоровьем у нее все в порядке. Она наняла адвоката, который сделает для вас все, что возможно.
— Спасибо. — Поведение Дорфрихтера было официальным. Если он и испытал облегчение, то вида не показал. — Вы разрешите мне еще один вопрос?
— Только один.
— Не знаете ли вы, господин капитан, что с моей собакой?
— Тролль находится здесь, в Вене, в ветеринарном институте.
— Почему? — Замешательство Дорфрихтера было неподдельным.
— Вы сказали, что капсулы с облатками покупали для собаки, так как пес иначе не хотел принимать лекарство. Мы хотим проверить, так ли это.
— Конечно так. Но если бы я знал, что будут мучить собаку, я бы этого ни за что не сказал.
— С ним ничего не случится. Я вам это гарантирую. С ним хорошо обращаются.
— Откуда вам это известно?
— Потому что я сам его туда отвел и убедился, что с ним будут хорошо обращаться. Я сам привез его из Линца. Первую ночь он провел у меня в квартире. Он спал, свернувшись на моем шелковом одеяле, если это вас интересует.
Обычно сдержанный лейтенант Стокласка был первым, кто хихикнул. Лейтенант Хайнрих последовал его примеру. Дорфрихтер сказал, смутившись:
— Простите меня, господин капитан!
Кунце продолжил допрос:
— Раз уж мы говорим о животных: ясно, что вы любите собак. А как насчет лошадей?
— Что вы имеете в виду?
— Я просмотрел отзывы о вашей спортивной подготовке. И ваши оценки в военном училище. Барон фон Кампанини был отнюдь не высокого мнения о ваших успехах в верховой езде.
Дорфрихтер молчал. После некоторой паузы он спросил:
— А какое это имеет отношение к циркулярам Чарльза Френсиса?
— Я не говорил, что это как-то связано с циркулярами. Я спросил просто из любопытства.
— Искусство верховой езды! — Дорфрихтер произнес эти слова так, как если бы это было проклятием. — Человеку нужно пройти ад, прежде чем он вообще будет принят в военное училище. Для начала нужно раздобыть рекомендацию от офицера командного состава. Свихнуться можно, пока ее получишь, — один неверный шаг — все насмарку. Наконец тебя допускают к общим экзаменам. Это происходит в январе. Примерно две трети справляются, остальные едут домой. В октябре восемнадцать дней подряд вой, стоны и зубовный скрежет. Вечером ты конченый человек и не можешь заснуть. Утром, еще до того, как идти в казарму, тебя выворачивает наизнанку. И наконец, вместе со ста пятьюдесятью другими ты готов сдавать решающие приемные экзамены. После двух лет остается только девяносто один человек, которые допущены к выпускным экзаменам. Военная география, вооружение, структура Генерального штаба и тактика боевых действий, история войн и организация вооруженных сил, топография и естествознание, укрепления, оборонительные линии и их преодоление. История культуры. Государственное право и международное право. Французский язык. Русский язык. И наконец — вот еще что — искусство верховой езды! Кроме того, картография. Добавьте полевые учения в обстановке, приближенной к боевой, с восхода до захода солнца без еды, изнуряющие марш-броски, при которых у некоторых ноги распухали так, что нельзя было снять сапог. Бесконечные скачки, от которых задница превращается в сплошную рану. И наконец после этих двух лет каторги — вообще-то вместе с экзаменами почти три года — все позади. Голова забита знаниями, как энциклопедия. Любой может перечислить все битвы Пунических войн, знает, где Веллингтон расположил свою конницу в битве при Ватерлоо, знает различия в толковании habeas corpus cum causa в наполеоновском и английском законодательстве и может спрягать французские неправильные глаголы. Но вся эта мудрость ему не поможет, если барон фон Кампанини не доволен тем, как он поднимает свой зад во время прыжка лошади через канаву. В будущей войне не будет места лошадям. Может быть, в самом начале, когда командовать еще будут эти старики генералы из XIX столетия. Тем не менее одна плохая оценка барона фон Кампанини может отбросить человека с одиннадцатого на восемнадцатое место…
Кунце терпеливо ждал, пока Дорфрихтер переведет дыхание. Терпение было тем, чему он, сын экономки, хорошо научился.
— Я считал, что вы закончили первый год двенадцатым.
— Так и было. — Последовала короткая пауза. — Человек, стоявший передо мной, покончил жизнь самоубийством.
— Что же его заставило?
— Откуда мне это знать? Он был не единственным. Один улан повесился. Командир пришел в ужас, так как он считал, что так офицеру поступать не подобает. Если мне не изменяет память, была еще одна попытка самоубийства. Человек вскрыл себе вены. Еще один пример mauvais goût![652] Он, правда, остался жив, но ему дали понять, что он должен уйти в отставку. Еще один умер во время учений от перенапряжения. Конечно, упор делался на выработку выносливости. Невыносимые марш-броски на сорок километров были не редкость. Ты можешь быть гением в тактике, но если не выдерживаешь темп в марше, тут же следует минус. Тот, кто писал этот учебный план, понятия не имел о существовании двигателя внутреннего сгорания.
Дорфрихтер сидел с лицом, покрасневшим от возмущения или от тепла, исходившего от кафельной печи; Кунце не мог решить, от чего именно. Ему внезапно пришла в голову мысль, что они поменялись ролями, возможно, еще при первой их встрече в Вене. Кунце был обвиняемым, а Дорфрихтер — обвинителем. Это было мимолетное чувство, но он должен сделать все, чтобы уйти от этого сценария, в который его завлекал Дорфрихтер. Иначе он, Кунце, проиграет в этой борьбе. «Какой борьбе? — спросил он себя. — За что я борюсь? За мое звание майора? За жизнь этого человека? Или за что-то другое, гораздо более важное, за что-то страшное, чему еще и названия нет?»
— Знаете ли вы, что почти все получатели циркуляра по оценке фон Кампанини являлись отличными всадниками? — спросил Кунце.
Дорфрихтер несколько успокоился.
— Нет. От меня ждали, что я это знаю? Честно говоря, я не могу уследить за вашей мыслью, господин капитан. Допускаю, что ваши вопросы должны меня запутать и вовлечь в противоречия. Я бы охотно пошел вам навстречу, если бы знал, куда вы клоните. Уж не хотите ли вы этим сказать, что я намеревался убить десять человек только потому, что они могли дольше, чем я, усидеть в этом проклятом седле?
— Молль этого не мог.
— Вы снова о Молле! Молль! Вы просто замкнулись на этой дряни!
— Почему вы называете его дрянью? Сегодня утром вы уверяли, что едва можете вспомнить о нем.
— Я этого высокомерного дурачка совершенно забыл, а вы просто помогли его вспомнить. Многое, о чем я забыл, сейчас снова вспоминается. Да, наши мнения во многих вопросах различались. Именно он был одним из самых глупых в классе.
— Он закончил курс двенадцатым.
— Вполне возможно. Там было еще несколько личностей такого сорта. Фотографическая память, но ни малейшего интеллекта. Без наставления или устава они не смогли бы отвести взвод от нужника до плаца.
— А что вы скажете о капитане Дугониче?
— Он что, тоже стоит в списке?
— Вас это не должно беспокоить. Вы его что, тоже забыли?
— Черт побери, нет. Я хотел сказать, так точно, нет, — поправился он, ухмыляясь. — Как можно забыть Титуса Дугонича! Это был, действительно, всадник! Атилла гуннов, хотя он и был жалким сербом. На свете нет дикой лошади или дикой бабы, которых он не смог бы укротить.
— Какие у вас с ним были отношения?
— Вообще никаких. Мы принадлежали к разным группировкам. Абсолютное равенство в офицерском корпусе существует только в теории. Подхалимы у него были в чести, с которыми он любил проводить свободное время. Такие вечера обычно заканчивались битьем стекол в кофейнях и отправкой минимум пары полицейских в госпиталь на зависть всем полицейским Вены — ведь, наряду со щедрой платой за молчание, они еще и отдыхали там, то есть лечились, довольно долго. В любом случае он со своими однокашниками практически компанию не водил. Его друзьями были гусары и драгуны венского гарнизона. У них и денег было не меньше, чем у него, да и в пьянке или похождениях с проститутками они ему не уступали. Это было обязательным условием для допуска во дворец Дугонича на Херренгассе. Я уверен, что эти правила действуют и поныне.
— А вы не преувеличиваете? — спросил Кунце. — С чего бы это человек с такими низкими моральными качествами стремился попасть в военное училище и в Генеральный штаб?
— Потому что он это мог себе позволить. Я не имею в виду финансовую сторону. Необходимым интеллектом он обладал. Но использовал его исключительно для того, чтобы сделать карьеру. Полевая служба, сказал он мне однажды, претила ему, поэтому он решил пойти в военное училище. Ну, а когда он попал в училище, тут препятствий для него уже не было.
— Вам он нравился?
— Не совсем. Но он был мне и не противен.
— Лейтенант Хоффер был его другом?
Дорфрихтер сделал удивленное лицо.
— Хоффер? Это не тот ли, который покончил с собой в Инсбруке? Вполне возможно, что они дружили. Ничего не могу об этом сказать. Я уже говорил, что с Дугоничем почти не общался.
Кунце решил захлопнуть ловушку.
— У вас были контакты с капитаном Аренсом?
Аренс не был в числе получателей циркуляра.
Впервые в этот день Дорфрихтер, казалось, не был готов к вопросу. По всей видимости, он не знал, как он должен на это имя реагировать. Кунце казалось, что ему слышно, как напряженно идет работа мысли в голове обер-лейтенанта.
Конечно, Дорфрихтер был готов, что ему зададут многочисленные вопросы по тем десяти фамилиям, которым отправлены циркуляры Чарльза Френсиса. Часами, стоя у окна, он размышлял, как ему на них реагировать, какие ответы он должен давать. Перехитрить, ввести в заблуждение следователя с полным правом принадлежит к стратегии обвиняемого, который должен себя защищать. Но на вопросе об Аренсе обвиняемый споткнулся, хотя и на долю секунды. Эта заминка не прошла мимо внимания Кунце.
Наконец обер-лейтенант заговорил:
— Аренс был номер один. По-настоящему способный и чертовски здоров. Этот будет со временем или шефом Генерального штаба, или его застрелит какой-нибудь лейтенант. Насколько я слышал, он прикомандирован к железнодорожному бюро, хотя он относится к секретной службе. — Дорфрихтер становился все более разговорчивым. — Аренса никто не любил, включая преподавателей. Как они ни пытались усложнить ему жизнь, остановить его они не смогли.
— А как у него обстояло дело с верховой ездой?
— Здесь у него было все в порядке. Не думайте, господин капитан, что старый Кампанини простил бы ему малейшую ошибку.
— Создается впечатление, что он вам довольно сильно нравился. Аренс, имел я в виду.
Дорфрихтер, казалось, был полностью обескуражен.
— Ваше право так думать, — пожал он плечами. — На самом деле я его терпеть не мог.
— Почему же тогда вы не послали ему ваш циркуляр?
Дорфрихтер бросил на него быстрый испытующий взгляд.
— Что вы сказали, простите?
— Почему вы упустили его в вашем списке? Мадер был там, Герстен, Принц Хохенштайн и семеро остальных, но Аренса там не было.
— О, так их было действительно десять. Большое спасибо за информацию.
— Да, десять. Но почему не одиннадцать?
Дорфрихтер откинулся на спинку своего стула, явно наслаждаясь ситуацией.
— Я же был номер 18, не так ли? Если убрать троих, я становлюсь номером 15. Таким образом я бы продвинулся в списке вперед. Из десяти кандидатов убить троих — это был очень осторожный прогноз. В конце концов, я не хотел никакого массового убийства.
— Так, значит, вы признаете, что рассылали циркуляры? — тут же отреагировал Кунце.
— Черт побери, конечно нет. Конечно не признаю, — раздраженно сказал он. — Я только хотел услышать, что бы вы на это сказали, и вы сказали именно то, что я ожидал.
Он перевел дух и снова сел.
— Можно мне для разнообразия задать один вопрос, господин капитан? — Его голос звучал устало. — Почему все ваши усилия нацелены только на меня? Почему не номер 16, или 17, 19, 20, вплоть до 25? И им было бы выгодно убрать стоящих в списке перед ними.
— Мы их проверили и убедились, что они все вне подозрений.
— Действительно? Но относительно меня вы ошибаетесь. Возможно, вы ошибаетесь и относительно других. Проверьте, пожалуста, все снова по всем пунктам. Вероятно, вы столкнетесь с чем-то, что ускользнуло от вашего внимания.
— А вы довольно крепкий орешек, господин обер-лейтенант, — сказал Кунце, уставший от этой перепалки. — Закончим на сегодня, хорошо?
Еще не стемнело, когда Кунце покинул здание гарнизонного суда. Но только выйдя на улицу, он заметил снег — первый за эту зиму. Снег, по всей видимости, шел уже давно — белый ковер покрывал тротуары и дороги. Мальчишка в пальто, которое было ему велико на несколько размеров, вышел из дома с санками, хотя снега было еще слишком мало.
Эмиль Кунце попытался вспомнить свое детство. Он не помнил, чтобы у него было пальто, перешедшее ему по наследству. Он никогда не был один на улице, и у него никогда не было санок. Внезапно ему вспомнился, хотя довольно смутно и отрывочно, дом, в котором мать служила экономкой. Комнаты с высокими потолками и постоянно задернутыми гардинами; звон шпор, часто раздававшийся в длинном узком коридоре; комната, в которой они жили с матерью, такая маленькая, что приходилось пробираться через кровать, чтобы пройти от стола к комоду; огромная кухня, где блестели начищенные печные конфорки; бледная неприятная женщина, лежащая среди взбитых пуховых подушек; вечные напоминания: тише, Эмиль, не говори так громко, Эмиль, — у мадам болит голова! Игрушки, ящики строительного конструктора, книжки с картинками, калейдоскоп, волшебный фонарь, но никаких санок. Ах, что за умненький мальчик! Это племянник? О господи, конечно нет, это Эмиль, сын нашей экономки.
Это было самым трудным в жизни — каждому возрасту свойственны свои желания. И неисполненные желания нельзя просто отложить и в нужное время реализовать. Они просто приходят в негодность, вянут, как срезанные розы. «И все это навеяли маленькие санки», — грустно подумал Кунце.
Воздух был по-зимнему свеж, а когда Кунце дошел до Ринга, снега было уже столько, что он приглушал цоканье копыт по мостовой. Он хотел сократить путь и пройти через переулки между Гюртелем и Рингом, но вдруг ощутил потребность очутиться где-нибудь без этого нагромождения серых домов, лишенных неба и воздуха. Он попытался изгнать из своих мыслей Петера Дорфрихтера, но тот, как навязчивый попрошайка, возникал в его в памяти вновь и вновь со своей обезоруживающей усмешкой, которая любого могла бы свести с ума. Кунце уже давно пришел к выводу, что Дорфрихтер виновен, однако прошло уже две недели со дня его ареста, а решающих доказательств не было. Он начал понемногу сомневаться в своем методе ведения следствия. До сих пор, когда ему не хватало прямых улик, он старался проникнуть во внутренний мир подозреваемого, сконцентрироваться на возможных мотивах преступления, пытаясь разобраться, способен был этот человек на преступление или нет. В его тройственной роли следователя, обвинителя и защитника первым шагом было убедиться, что человек действительно виновен, а второй состоял в том, чтобы убедить в этом суд. В деле Дорфрихтера он первый шаг уже сделал, и нужно было готовиться ко второй стадии. Но вопросов без ответа было еще слишком много. Не было ни одного свидетеля, который бы видел Дорфрихтера и его собаку поблизости от почтового ящика на Мариахильферштрассе. Ни один из пассажиров, ехавших вместе с ним в жарко натопленном купе, не почувствовал запаха цианистого калия, который, будучи даже помещен в закрытый конверт, должен издавать характерный запах миндаля; ни одна из принадлежностей, которая могла быть использована при написании и размножении циркуляра, не была найдена ни в квартире Дорфрихтера, ни у его тещи. Когда Кунце подошел к дворцу Хофбург, часы на ближайшей кирхе пробили половину четвертого. Под влиянием внезапного порыва он свернул к входным воротам. Если ему повезет, он сможет застать в бюро Герстена и прямо там с ним переговорить. «В конце концов, они старые знакомые, — сказал себе Кунце, — и поэтому совсем не обязательно идти формальным путем, чтобы с ним встретиться». Герстен был племянником генерала Хартманна и проводил в доме генерала гораздо больше времени, чем у себя дома. Армия в некоторой степени заменяла ему семью. Его отец, полковник фон Герстен, был и сегодня еще в строю. Кунце всякий раз удивлялся, как такой неуклюжий своенравный парнишка превратился в образцового офицера — корректного, добросовестного, ответственного и интеллигентного. Как лучший армейский стрелок, Ганс фон Герстен принимал участие в Олимпийских играх 1908 года и выиграл для Австрии серебряную медаль. В настоящее время Герстен служил в телеграфном бюро. Когда доложили о Кунце, он выскочил из комнаты и приветствовал капитана, крепко обняв его. Он был выше гостя на целую голову.
— Вот это действительно приятный сюрприз! — сказал он Кунце и провел его в свое бюро. — Я слышал, что тебе поручили вести дело Дорфрихтера. На днях хотел тебе позвонить, но соединяли так долго, что пришлось положить трубку.
— Как раз поэтому я к тебе и пришел — из-за дела Дорфрихтера.
— Ну что, ты уже разобрался с ним? В газетах почти ничего не пишут.
— Есть довольно убедительные улики, и только. Многое мне все еще не ясно. Например, почему он выбрал десять офицеров — если предположим, что он действительно Чарльз Френсис, — из пятнадцати или, собственно, из шестнадцати? Потому что он включил Хедри, который не был представлен к повышению? Почему он остальных шесть не включил в свой список?
— Назови-ка мне эти шесть фамилий, может быть, я найду объяснение.
— Аренс, Шёнхальс, Виддер, Траутмансдорф, Мессемер и Айнтхофен.
— Партия войны! — закричал Герстен. — Они разделяли его взгляды, или он их: чем раньше мы нападем на Балканы, тем лучше. — Он задумался. — Но были и другие того же мнения. Молль, например, и Хедри. У него, наверное, были и другие причины.
— Какие же причины у него могли быть в этом случае? — спросил Кунце.
Герстен ответил незадумываясь:
— Его жена! Ничего другого я придумать не могу. Но имей в виду, Эмиль, это только мое предположение. Ты сам сказал, что полностью не уверен, что Дорфрихтер виновен.
— Даю тебе слово, что все, что ты скажешь, останется между нами.
— Я познакомился с Марианной Грубер через ее зятя, строителя, с которым имел дело мой отец, — рассказал Герстен. — Я тогда был без ума от нее и был готов на все, чтобы затащить ее в постель, но, к сожалению, у меня ничего не вышло! Это было в Вене, я тогда был на втором курсе училища. Как-то раз какой-то купеческий союз давал бал — абсолютно не мой случай! Тем не менее я предложил себя в качестве кавалера для Марианны — конечно, под присмотром мамаши. По какой-то причине, не помню, я не смог пойти с ней и попросил Дорфрихтера заменить меня. И этот чертов идиот влюбился в нее в тот же вечер. Он совершенно потерял голову, и это при том, что более хладнокровного и владеющего собой мерзавца трудно найти. До этого он строил куры племяннице фон Мольтке. Она была старше его и выглядела как валькирия, но родство с шефом немецкого Генерального штаба, без сомнения, способствовало бы его карьере. И всем этим он пренебрег ради Марианны Грубер. Я же ничего не знал, что у них дело далеко зашло, и продолжал по-прежнему ухлестывать за Марианной, пока она мне не сообщила, что они обручены. Узнав об этом, я попытался с ним поговорить по-хорошему — в его же собственных интересах, — потому что я не считал ее такой уж завидной партией для него. Но он посоветовал мне не совать нос в чужие дела. С той поры я для него не существовал больше. — Герстен замолчал, задумавшись. — Когда он был направлен в Кешкемет, я случайно встретил Марианну. Из того, что она мне рассказала, я сделал вывод, что он ее водит за нос. По-видимому, ему стало ясно, что женитьба на ней может повредить его карьере, и он пытался выпутаться из этой истории. Я тогда слыхал краем уха, что у него в каждом гарнизоне были подружки. Видно было, что Марианна сильно переживала все это, и я, естественно, был готов ее утешить. Само собой, ни о чем серьезном не могло быть и речи. Я даже представлял себе, как бы смог преподнести своему отцу такой сюрприз, что хочу жениться на Марианне Грубер, чья мать владеет хозяйственной лавкой на Хангассе. Мало-помалу Марианна начала оттаивать. Она разрешила мне провожать ее из церкви и соглашалась даже пройтись со мной вокруг парка. Вероятно, что-то дошло до Дорфрихтера, во всяком случае, однажды он неожиданно появился в Вене. Через две недели они поженились. Обе семьи — его и ее — сумели как-то насобирать тридцать тысяч крон для залога. Когда он после этого был переведен в Боснию, он не смог сразу взять ее с собой. Сначала надо было найти подходящую квартиру. В прошлом году, примерно в это время, я что-то покупал в магазине, когда туда зашла Марианна. Увидев меня, она повернулась и вышла. Наверняка она подумала, что ему не понравится, если кто-то скажет, что нас видели вместе. Она все еще была очень красива.
— Она и сейчас красива, хотя должна вот-вот родить.
— Да, я знаю. Это было в газете. Я написал ей после ареста Петера, но она не ответила.
— Как ты думаешь, почему она вышла за него замуж? Была ли это любовь или ей хотелось оказаться в обществе?
— Я убежден, что она его безумно любила. И страшно ревновала, каждый слух о его похождениях сводил ее с ума. Тогда даже помолвка чуть было не расстроилась. Мне она об этом никогда не рассказывала, она слишком горда для этого, но ее сестра Тильда, жена строителя, о котором я тебе говорил, та мне все поведала. Я часто тогда встречался с ней. Она не такая красивая, как Марианна, но…
— Но не такая неприступная?
— Я этого не говорил. Ее муж, старый мешок с деньгами и большой любитель выпить, вдвое старше ее, но мама Грубер посчитала, что он будет хорошей партией для Тильды. Бедная Марианна, по крайней мере, вышла замуж по любви — хотя сейчас она наверняка жалеет об этом.
— Я так не думаю. Она стойко держится за него. Как долго, поживем — увидим.
— Наверное, до печального конца. Если бы у вас в тюрьме были надзиратели-женщины, было бы иначе. А так она уверена в его верности. И я полагаю, это для нее самое главное.
Кунце пробыл у Герстена еще некоторое время. Они вспоминали общих друзей и знакомых. Из всех детей и племянников Хартманнов фрау Кунце больше всех нравился Ганс фон Герстен. И Эмилю, хотя между ними было восемь лет разницы, он тоже нравился. Мальчишкой Ганс постоянно обращался к нему, если ему нужен был совет или помощь в домашних заданиях, — дети генерала были довольно дикими и большими эгоистами. Сейчас, когда они сидели друг против друга, Герстен испытывал такую же полную уважения симпатию, как и тогда, в детстве. Кунце, казалось, нисколько не изменился, ни внешне, ни внутренне. «Прирожденный юрист», — подумал Герстен. Он никогда не встречал другого человека, который бы оставался так свободен от влияния всех предубеждений и предрассудков общества, как Кунце.
Когда Кунце вышел из Михаэлевских ворот, снег уже шел большими пушистыми хлопьями. Всегда, когда он бывал в центре, делал круг через площадь Иосифа. Еще не будучи военным, ему довелось побывать в Риме, Венеции, Флоренции, в Париже и даже в Лондоне, но, на его взгляд, ничто из шедевров архитектуры не могло бы сравниться с совершенством этой площади. Он любил ее всем сердцем — так, как человек любит часть собственной страны. Он постоял под арками, глядя на памятник напротив, которому все сильнее идущий снег придавал мягкие очертания, — памятник Иосифу II, вне времени и одиноко стоявшему на своем пьедестале.
Кунце снова подумал о тех сумасшедших, которые ждут не дождутся, как бы развязать войну. Он вспомнил рассказы прабабушки Хартманн об ужасах наполеоновской войны: о страшных опустошениях и тысячах беженцев, о страхах перед вторгшимся врагом. Откуда этим людям знать, не кончится ли война тем, что казаки будут грабить дворец Хофбург, а стрелки из Монтенегоро палить по окнам на Ринге? И смогут ли потом люди с той уверенностью, которая стала уже привычной в относительно мирные годы, строить планы на будущее для своих детей и внуков?
Едва Кунце вернулся домой, как позвонил доктор Гольдшмидт. Телефон был всего несколько месяцев назад установлен в его рабочей комнате, и он все еще не мог привыкнуть к мысли, что любой, у кого есть несколько геллеров, чтобы заплатить за звонок, может позвонить ему. «Замечательная вещь для бюро, — подумал он, — так как жизнь становится все сложней, но иметь аппарат в собственном доме — это совсем другое».
— Простите, что беспокою вас в нерабочее время, — сказал адвокат, — но я подумал, что вы должны сразу узнать, что фрау Дорфрихтер родила. Это мальчик. Четыре кило!
«Как радостно взволнован голос этого стареющего повесы», — подумал Кунце.
— Когда же это произошло?
— Сегодня, в шесть часов вечера. Бедной малышке это тяжело досталось. Схватки начались вчера вечером. Около трех часов утра я позвонил профессору Хайну. Он спас ей жизнь и ребенку тоже. Акушерка угробила бы их обоих.
— Откуда же вы узнали, что у нее начались роды?
На другом конце провода возникла пауза.
— Я взял с матери обещание, что она мне сообщит об этом. Вообще-то я хотел, чтобы фрау Дорфрихтер рожала в клинике, но она отказалась. Она ужасно боится чужих. Когда я узнал о том, что роды начались, я поспешил к Груберам.
— Фрау Дорфрихтер должна быть безумно счастлива, — сказал Кунце, не в силах сдержать сарказма, — иметь такого человека, как вы, в качестве защитника — всегда готового к услугам, далеко выходящим за рамки долга!
За ужином Кунце рассказал Розе о рождении ребенка. Она долго смотрела на него, и ее глаза наполнились слезами.
— Пожалуйста, не начинай плакать, — сказал он раздраженно. — Все просто переполнены состраданием к этому парню. Петиции, душераздирающие истории. Завтра устроят вокруг этого ажиотаж: «Отца младенца злодей аудитор держит в тюрьме!», «Муки одинокой женщины!». Вся нация погружена в скорбь, и никто, ни одна душа не думает о Рихарде Мадере, который сдох как собака, в судорогах, от боли, захлебнувшись собственной кровью.
— Я плакала не из-за Дорфрихтера, — резко сказала Роза. — И вовсе не из-за его жены.
— А из-за кого же?
— Из-за нас! — И она посмотрела на него таким холодным, полным возмущения взглядом, какого он раньше не видел. — У нас никогда не будет ребенка.
Какое-то время он не знал, что должен ответить. То, что она мечтала вместе с ним иметь полноценную семью, не приходило ему в голову. В ее тридцать семь лет, она, по его мнению, вышла из возраста, когда заводят детей. Но видимо, она считала иначе, и это испугало его. Решив, что это — ее вызванная дурным настроением необдуманная выходка — явление временное, Кунце спросил:
— Мы ведь, насколько я знаю, не женаты. Ты что, хочешь завести внебрачного ребенка?
— Для меня это не играет никакой роли. Лишь бы ты был со мной.
— Хорошо. Я буду иметь это в виду. Но прежде чем мы посвятим себя этому проекту, мне нужно уладить кое-что важное.
— Куда же ты собрался?
— Я должен сообщить счастливому отцу эту новость.
7
Свисавшая с потолка 25-ваттная лампа с белым эмалированным абажуром освещала камеру Петера Дорфрихтера тускло и безрадостно. Заключенный лежал на узких нарах, ночная рубашка была расстегнута на груди, а голова лежала на подушке с наволочкой из грубого льна. Ноги под тяжелым одеялом были вытянуты. Он еще не спал и сел, когда услышал звук ключа в замке. Охранник открыл Кунце дверь.
— Разрешите обратиться, господин капитан, — сказал охранник. — Может, лучше мне тут побыть?
— Не нужно, — ответил Кунце.
— Должен я перед дверью подождать, господин капитан?
— Возвращайтесь в караульное помещение. Если надо будет, я позвоню.
Как и другие камеры для офицеров, камера Дорфрихтера была оборудована звонком, с тем чтобы арестованные могли в любое время вызвать охрану. В камере номер один в это время сидел лейтенант, обвиняемый в растрате полковых денег. Остальные камеры были пусты.
Лицо Дорфрихтера было серым на фоне побеленной стены.
— Она умерла, — глухо сказал он.
— Поздравляю! У вас родился сын, — сказал ему Кунце.
Дорфрихтер не пошевелился. Он смотрел совершенно безучастно, только глаза его неотрывно следили за Кунце.
— Она умерла, правда?
— Да нет же, она чувствует себя превосходно. Это были нелегкие роды, но мать и дитя в прекрасном состоянии.
Дорфрихтер глубоко вздохнул и через некоторое время пробормотал:
— Благодарю вас, господин капитан.
Он порывался встать. Кунце остановил его.
— Ложитесь. Я не хотел тревожить вас так поздно, но подумал, что вы имеете право узнать, что стали отцом.
— Вы очень внимательны. Вы не хотели бы присесть?
Кунце сел на один из двух стульев у стола. Обер-лейтенант облокотился на изголовье лежанки. Со своими спутанными волосами он выглядел лет на десять моложе. Известие, что он стал отцом, повергло его, казалось, в задумчивое настроение. Впервые, с тех пор как Кунце имел с ним дело, с его лица исчезло выражение высокомерия и заносчивости.
— Наверное, это далось ей тяжело.
— Ребенок весит четыре кило, — кивнул Кунце.
— Это ведь много, правда? Для новорожденного, я имею в виду.
«Он думает, как и прежде, больше о матери, чем о ребенке», — пронеслось у Кунце в голове.
— Я холостяк, — сказал он. — В этих делах у меня нет опыта.
— Она такая хрупкая. Наверное, нам надо было еще подождать, — продолжал Дорфрихтер, как если бы он не слышал ответа. И тут, видимо, ему открылся весь ужас его положения. — Что за будущее ожидает моего сына? В школе у меня был одноклассник, чей отец сидел в тюрьме — за грабеж, по-моему. Сейчас уже не помню. Никто с ним не водился, все его только дразнили и мучили. Дети могут быть жестокими. Такое будущее и у моего сына? Лучше бы, наверное, он умер. И для его матери это было бы тоже лучше. — Он остановился и посмотрел с улыбкой на Кунце. — Извините, господин капитан. В этой проклятой гостинице я становлюсь сентиментальным и болтливым. — По его лицу сквозила ирония. — Если ставший только что отцом заключенный попросил бы разрешения на посещение его женой и сыном, это не было бы слишком большой просьбой?
— Вы же знаете, что я не вправе изменить предписания.
— А разве это не против предписаний, когда аудитор заходит к подозреваемому преступнику в камеру — поздним вечером и без охраны? — спросил Дорфрихтер.
Если он ожидал, что это замечание заставит Кунце выйти из себя, то он ошибался. Кунце продолжал сидеть и спокойно смотрел на него.
— А вы негодяй, Дорфрихтер. Думаю, вас ничто не остановит, если кто-то станет у вас поперек дороги. Если бы вы могли, то сейчас, не колеблясь, подсунули бы мне дозу цианистого калия и хладнокровно наблюдали, как я сдохну. Тем не менее я готов на все, чтобы сделать ваше пребывание под арестом сносным. Но жена сможет вас посетить только тогда, когда вы признаетесь. Это мое последнее слово. — Он поднялся со стула. — Собственно, известие о рождении ребенка я получил от доктора Гольдшмидта. Он во время родов был у вашей тещи и, когда возникли осложнения, позвал профессора Хайна.
Темные глаза Дорфрихтера расширились.
— Кого, простите?
— Профессора Хайна. Гинеколога. Очень хороший специалист и очень дорогой. Вам не следует ни о чем беспокоиться, когда такой человек, как доктор Гольдшмидт, заботится о вашей жене.
— А что это за человек? — спросил Дорфрихтер. — Я о нем почти ничего не знаю. И никогда не был с ним знаком.
Кунце пошел к двери.
— Уже пожилой. Очень богат. Некоторые утверждают — развратник. Но в любом случае прекрасный адвокат.
— Прошу меня извинить, — услышал он за спиной голос Дорфрихтера. — Я был немного не в себе. Я вам очень благодарен за ваш приход. Поверьте, это так.
Кунце нажал на кнопку звонка. Когда охранник открыл дверь, он вышел из камеры не прощаясь.
Кунце редко снились сны. Сон, который он видел этой ночью, был до ужаса живым, и картины были на редкость четкими.
Он видел себя в саду окруженным одетыми в форму людьми. Какой-то одноклассник из интерната — или это был Рудольф Хартманн? — превратился вдруг в Петера Дорфрихтера. Они были уже не в саду, а в какой-то запертой комнате. Дорфрихтер лежал, как и при их разговоре в камере, в кровати, воротник его ночной рубашки был расстегнут. Вдруг комната превратилась в спальню Рихарда Мадера. Они разговаривали по-русски, что Кунце поразило, так как он не знал, что он это может. Вдруг Дорфрихтер наклонился к нему и потянул его вниз, так что их головы оказались на одной подушке — прекрасный знак дружбы. Он обвил руками Дорфрихтера и почувствовал жар на коже, как будто он долго в разгар лета лежал на солнце. Чувство наслаждения пронзило его с такой силой, что он вскрикнул. Собственный крик разбудил его. Дрожащий и с бешено колотящимся сердцем, он сел на кровати, включил свет. «Дорфрихтер, проклятый мерзавец», — застонал он в пустоту комнаты. Но демоны не унимались — бледное молодое лицо с мягкими, улыбающимися губами, обрамленное шелковистыми цвета каштана волосами по-прежнему стояло перед ним. Возбуждение не спадало. «Ты, дьявольское отродье», — произнес он, но было не ясно, относились ли эти слова к Дорфрихтеру или к нему самому.
События далекого прошлого всплывали, как картины Латерна Магика, на стене его воспоминаний: сарай в саду Хартманнов, бледные руки Рудольфа, опускающие засов, нагое тело юноши перед дверью, ночные игры в интернате. Его первый опыт с женщиной в восемнадцать, о чем в памяти осталось нечто отвратительное и грязное.
Я не желаю больше видеть этого Дорфрихтера. Я буду просить освободить меня от этого дела. Я не должен был за него браться. Кто-то другой должен стереть высокомерную, самоуверенную улыбку с этого лица. Нет никакого сомнения, что он виновен. Рано или поздно он себя выдаст. Свидетели, которые видели, как он отправлял письма, или те, которые могут дать сведения, откуда у него цианистый калий, рано или поздно дадут о себе знать. Его повесят или, если ему повезет, поставят к стенке. Тогда он не будет больше улыбаться.
Кунце стало стыдно. Когда он наконец уснул, уже занималось утро.
На письменном столе Кунце, когда он пришел в свое бюро, лежала записка от капитана Молля, в которой он предлагал встретиться во второй половине дня и пообедать в отеле «Бристоль».
Фрау Варга показала хорошие способности детектива. Актрису звали Клара Брассай, и она с января по сентябрь 1907 года состояла в труппе городского театра в Кешкемете. Критики единодушно отмечали ее талант, и на спектаклях с ее участием всегда был аншлаг. Кешкемет был одним из расположенных в венгерских степях городков, в которых молодые актрисы пользовались огромным успехом у молодых же офицеров: все пытались добиться их расположения. Увы, расположением Клары Брассай пользовался не военный, а один старый банкир из Будапешта по имени Шандор Ходосси.
— Шандор Ходосси! — перебил рассказ Молля Кунце. — Не родственник ли он капитану Золтану Ходосси?
Молль перелистал письмо фрау Варга.
— Да, это он и есть. Здесь написано, что сын Ходосси тогда служил в Кешкемете в 13-м гусарском полку. А в чем дело?
— Дело в том, что капитан Золтан Ходосси входит в число десяти получателей циркуляра Чарльза Френсиса и был первого ноября повышен в звании и переведен в Генеральный штаб, как и ты.
— Да, конечно! Я знаю Золи — так мы его звали еще в военном училище. Он закончил пятнадцатым, на три места ниже меня. Вполне приличный парень — для венгра, я имею в виду.
— Что еще сообщает твоя бывшая хозяйка?
— Вот что еще будет для тебя интересным. Долгое время никто к Кларе не приближался, за исключением старого Ходосси. В большом роскошном автомобиле она приезжала в театр, а после представления ее снова отвозили на этой машине. И вдруг, примерно в конце лета, она приезжает и уезжает из театра на фиакре и появляется везде с обер-лейтенантом Дорфрихтером. Когда Дорфрихтера перевели в Боснию, Клара тоже исчезла. Она даже не уволилась из театра. Единственным человеком, который имел с ней связь после отъезда, была ее костюмерша. Она получила от Клары два письма — одно со штемпелем «Гранд-отель» в Вене, а второе — из «Пансиона Кралик», тоже в Вене. Когда от Клары больше не было писем, костюмерша объясняла это забывчивостью молодых людей, пока одно из ее писем не вернулось с пометкой: «Адресат умер».
Фрау Варга высказала различные свои предположения о причинах смерти Клары, но Кунце не стал в них вдаваться. Возвратившись в бюро, он отправил телеграмму капитану Золтану Ходосси с просьбой назначить время, когда они могли бы встретиться. Ходосси в это время был ответственным за планирование маневров пехоты и саперных войск 61-й бригады в Будапеште. Затем Кунце отправил лейтенанта Стокласку в «Гранд-отель». Лейтенант вернулся со справкой, в которой значилось, что указанная Клара Брассай действительно проживала в отеле с семнадцатого по двадцать пятое сентября 1907 года.
Она, по-видимому, была очень спокойным обитателем отеля, так как никто не мог что-либо заслуживающее внимания о ней вспомнить. В качестве адреса для поступавшей почты она назвала тогда «Пансион Кралик». Пансион располагался на одной из мрачных рабочих окраин Оттаринга. Кунце с лейтенантом Стоклаской быстро нашли этот дом.
Девица, которая открыла на их звонок дверь, выглядела как неудачное птичье чучело, слишком фантастического вида, чтобы обмануть даже воробья. Совершенно пустым, отсутствующим взглядом она уставилась на офицеров. С угрюмым видом она провела их в пыльную, заставленную прихожую и отправилась за хозяйкой.
Фрау Кралик оказалась высокой толстой дамой, источавшей аромат пота и гиацинтов. Она провела посетителей в не столь заставленный мебелью салон с немытыми окнами, дымящей печью и неубранной кроватью в углу.
— Да, я помню фрейлейн, — ответила она на вопрос Кунце. Говорила она осторожно, как бы пробуя каждое слово на вкус. — В среду она поселилась у нас, а в следующий вторник уже умерла.
— Она была больна?
Фрау Кралик пожала плечами.
— Я не знаю. Она почти не говорила по-немецки. Так, пару слов.
— Как же она оказалась у вас?
— Через одну мою подругу, которая работала горничной в «Гранд-отеле». Она ведь там жила. Видать, когда деньги у нее кончились, она стала спрашивать насчет жилья подешевле. Когда она умерла, у нее в кошельке оставались пять крон и несколько геллеров. Пятнадцать крон, которые она осталась должна мне, заплатил молодой человек.
— Какой молодой человек?
— А тот, который позаботился о похоронах.
— Как он выглядел?
— Приличный господин. И симпатичный такой.
— Офицер?
— Нет, гражданский.
— Он был другом фрейлейн?
— Я не знаю. Он появлялся здесь всего два раза до того, как она умерла. И никогда долго не оставался. Во второй раз они ссорились, она плакала, а он ушел, хлопнув дверью.
— О чем тогда шла речь?
— Откуда же мне знать? Я за своими жильцами не подслушиваю. Да и ссорились они по-венгерски, а я этот язык не понимаю. Я же вам уже говорила, что она немецкого не знала.
— Молодой человек был венгром?
— Нет, он был такой же чистокровный венец, как и я. Но он хорошо говорил по-венгерски.
— Вы говорили, что он позаботился о похоронах.
— Так оно и было: после ссоры она закрылась в своей комнате. На следующий день я подумала: а что же она ест — я не разрешаю моим жильцам готовить в комнате. Нужно соблюдать правила, если не хочешь, чтобы в один прекрасный день твой дом сожгли дотла. Я постучала в дверь и спросила, не нужно ли ей что-нибудь. Она не отвечала, и я подумала, что, наверное, она чувствует себя неважно и не хочет, чтобы ее тревожили. На следующий день, когда о ней опять ничего не было слышно, я снова постучала. Она и на этот раз не отвечала, я забеспокоилась и открыла дверь запасным ключом. Мне ее вид не понравился, и я вызвала врача. Он сказал, что она умерла уже больше суток назад.
— Вы помните фамилию врача?
— Конечно, но это вам ничего не даст. Доктор Шнорр умер в прошлом году.
— Все равно мне нужен адрес. А теперь давайте вернемся к молодому человеку. Вы знаете его фамилию?
— Нет, но когда она поселилась, я ей передала письмо. Обратный адрес был Главпочтамт, до востребования, пароль «василек». Я написала наудачу по этому адресу, что она умерла. У нее нашлись кой-какие бумаги среди вещей. Ее отец был кальвинистским священником в какой-то деревне в Венгрии. Я ему тоже написала. Когда он не ответил, я подумала, что, может, он ей и не отец или ему это безразлично. Но через неделю он стоял перед дверью во всей красе, то есть был он, наоборот, низкого роста и очень уж тощий для духовного лица.
— А молодой человек?
— Ах этот! Он на другой день, как я написала, появился. Он был тот самый красавчик, про которого я думала. Бедняжку к тому времени уже забрали в морг. Он сказал, чтобы я сложила ее вещи и передала родственникам, заплатил мне деньги, которые она была мне должна, и ушел, чтобы уладить все с похоронами. Я бы охотно пошла на похороны. Она все-таки была человеком, правда ведь? Но он похоронил ее, никому ничего не сказав. Когда приехал ее отец, я даже не могла ему показать, где ее могила. Но он ее нашел, через похоронное бюро. Ее, бедняжку, похоронили на Центральном кладбище.
Кунце достал из кармана фотографию Петера Дорфрихтера. На ней он был в парадном мундире со шпагой.
— Вы знаете этого человека? Это он? Друг Клары Брассай?
Она бросила взгляд на фото.
— Нет. Это господин обер-лейтенант, который всех офицеров отравил. Дорфрихтер, так его зовут! Во всех газетах о нем писали.
Кунце протянул ей другую фотографию. Это был увеличенный снимок шестилетней давности. На фото были изображены все члены семьи Дорфрихтера — родители с сыном и дочерью. Обер-лейтенант был в темном костюме без головного убора.
— А как насчет этого? — спросил Кунце.
Она внимательно посмотрела на снимок.
— Пресвятая Дева, это он!
— Дорфрихтер?
— Нет! Тот молодой человек! — Она схватила снимок, где Дорфрихтер был в военном мундире, и сравнила его с семейной фотографией. — Господи Иисусе! Да ведь это один и тот же! — Обратившись к Кунце, она чуть не со слезами, покраснев от волнения, сказала: — Это форма и шпага меня запутали. Так это был он, убийца! — На секунду запнувшись, она сказала: — И фрейлейн он, конечно, тоже убил.
— Почему вы так думаете? — спросил Кунце.
— Никто после его ухода не видел больше фрейлейн живой. — Внезапно она открыла рот и глаза ее остановились, как будто перед ней предстало видение. — Вот что я сейчас вспомнила! Тогда у меня еще одна жиличка была, которая умела гадать по рукам. Ей Клара пожаловалась, что плохо спит, и спросила, где можно купить таблетки от бессонницы. А когда эта женщина через пару дней хотела дать Кларе адрес аптекаря, та сказала, что ей уже больше не нужно, ее друг, мол, принес ей таблетки.
— Откуда вам это известно?
— От гадалки. Я хотела сообщить это в полицию, но в свидетельстве о смерти стояло: «Сердечный приступ». И тогда я подумала, чего это я должна в такое дело впутываться? И так нет ничего хорошего, когда в пансионе кто-то умирает.
Капитан Кунце, проигнорировав последние слова, спросил:
— Когда точно жила здесь Клара Брассай?
— Осенью 1907 года. Это, должно быть, было в начале осени, но она жаловалась, что замерзает. Мы раньше пятнадцатого октября не отапливаем комнаты, если только жильцы не платят дополнительно. Так стоит в правилах проживания. Но она платить не хотела.
Кунце попросил фрау Кралик показать комнату, в которой жила Клара Брассай. Это была клетушка в конце коридора с узким оконцем, выходившим на крытый двор.
— Какое ужасное место для последнего выхода актрисы! — сказал лейтенант Стокласка.
Еще в этот день Кунце получил из похоронного бюро подтверждение, что Клара Брассай действительно была четвертого октября 1907 года похоронена на Центральном кладбище.
— Три дня спустя он женился на Марианне Грубер, — сказал он Стокласке. — Вероятно, фрау Кралик со своим подозрением, что он убил ее жиличку, не так уж далека от истины.
На следующий день люди комиссара Вайнберга разыскали венгерскую гадалку, которая подтвердила все, что рассказала фрау Кралик. Но капитан Кунце был уже на пути в Будапешт, где он договорился о встрече с капитаном Золтаном Ходосси.
В какой-то степени он был рад такому повороту событий, который позволил ему отправиться в Будапешт. Он не видел Дорфрихтера с того вечера, когда он сообщил ему о рождении сына, и решил следующую встречу с ним отодвинуть на некоторое время. Кунце мучительно искал и не находил ответа на вопрос, который терзал его после того ночного кошмара. Что за чувство испытывал он к этому молодому человеку: одержимость охотника в погоне за убегающей добычей или опасную и постыдную страсть?
Капитан Ходосси встречал его на перроне. Широкоплечий и коренастый, он даже в своей темно-зеленой форме Генерального штаба каждой своей клеточкой оставался кавалерийским офицером. Он был вежливым и спокойным человеком, но двигался в толпе так, как будто каждый квадратный сантиметр под ногами принадлежал ему.
В собственном спортивном «даймлере», который, по оценке Кунце, стоил не меньше двадцати тысяч крон, он отвез гостя из Вены в отель «Панорама». Они не были ранее знакомы, но поскольку оба были офицерами, да еще и в одном чине, между ними сразу же установились товарищеские непринужденные отношения.
— Я сразу подумал, что твой приезд связан с делом Дорфрихтера, — сказал Ходосси, после того как Кунце сообщил ему о цели своего визита. — В газетах писали, что дело поручено тебе. Честно сказать, я тебе не завидую. Это чертовски гнусная история.
Они ехали вдоль бульвара Вачи. Для декабря это был необычный день — холодный, но солнечный. Накануне выпал снег, тротуары были очищены, но на дороге толстый снежный покров был изрезан следами колес и усыпан тут и там конским навозом.
Здесь, в Будапеште, было меньше автомобилей и больше лошадей, чем в Вене. Лошади ржали, когда «даймлер» обгонял их, а люди при звуках автомобильного гудка зачастую впадали в панику.
— Какие отношения у тебя были с Дорфрихтером? — спросил Кунце.
— В военном училище я считал его одним из самых способных в классе, но такого близкого контакта у нас с ним не было. В 1906 году, когда я служил батальонным адъютантом 13-го гусарского полка в Кешкемете, он был направлен в 24-й пехотный полк. Я был рад этому, с ним было гораздо интересней общаться, чем с моими сослуживцами по штабу. Мы подружились, я часто брал его с собой в Будапешт и даже ввел его в школу.
— В какую школу?
— О, прости, пожалуйста: человек из Вены, конечно же, не может знать о школе Ходосси! — Он засмеялся. — На самом деле это никакая не школа, а скорее что-то вроде клуба, только без членских взносов и собственного помещения. Причуда моего отца, или, вернее сказать, придурь. Он основал ее еще в молодости, а когда его не станет, то и школе придет конец. Главная цель его жизни — привить золотой молодежи города вкус к культурному образу жизни. Он владелец банка недалеко от Кешкемета и десяти тысяч акров земли. Главное, что он без этой школы не смог бы играть роль Петрония наших дней.
Тон, с которым Золтан Ходосси говорил о своем отце, был скорее шутливый, чем саркастический. Возможно, он не разделял представления своего отца, но, без сомнения, он его любил. Кунце решил подождать с упоминанием имени Клары Брассай.
— Твой отец, должно быть, примечательная личность.
— Это точно. Нет двух людей, которые бы придерживались одинакового мнения о нем. Некоторые считают его чванливым старым эгоистом, кем он уж точно не является. Он не принимает ни себя, ни свои чудачества всерьез и считает, что жизнь без шуток ничего не стоит, а на то, что должно восприниматься всерьез, нужно тоже смотреть с юмором. Ты познакомишься с ним и его школой уже сегодня вечером. Сегодня у них традиционный ужин по вторникам. Он попросил меня взять тебя с собой, если, конечно, у тебя нет других планов.
— Нет, у меня никаких планов нет. Благодарю.
— Вот и отлично. Ужин состоится в отеле «Вадашкюр». Я заеду за тобой в девять часов. Он не был уверен, что у тебя с собой есть парадная форма. В общем, это и не обязательно.
Шандор Ходосси был располагающий к себе пожилой человек, седой, ростом выше своего сына, с благородным профилем римлянина и хитрыми глазками цыганского конокрада. Он держался прямо, и это заставляло остальных, кто разговаривал с ним, также следить за осанкой. Его живая натура делала затруднительным определить его возраст. В разгар ужина Кунце заметил у него следы легкой усталости — все-таки ему было за семьдесят, — но, встряхнув головой с седой гривой волос, он с прежней энергией включился в веселье.
Гости, все безупречно одетые, хорошо воспитанные и интеллигентные, были в возрасте его сына или моложе. Из военных были только Кунце и Ходосси-младший.
Среди остальных гостей были писатели, артисты, преподаватели университета, художники, музыканты или дети богатых предпринимателей. Из уважения к Кунце разговор шел на немецком.
Из своих предыдущих поездок в Венгрию Кунце всегда возвращался страдая желудком. Но в этот вечер ему не надо было чего-то опасаться. Блюда — некоторая смесь из французской и венгерской кухни — были легкими и без острых пряностей, французское шампанское было выше всяких похвал.
В одиннадцать часов капитан Ходосси и несколько молодых людей исчезли и возвратились с целым отрядом молодых симпатичных дам — артистками и хористками, все не старше двадцати пяти, прекрасно одетые и весьма благовоспитанного вида. Блондинка, появившаяся с капитаном Ходосси, заняла место рядом с его отцом. Кунце понял, что это оговорено заранее. Сын сопровождал ее сюда, так как отец, как хозяин, не мог покинуть общество.
Когда в два часа гости начали расходиться, никто среди них не выглядел пьяным, несмотря на количество выпитого алкоголя. Ходосси-старший показал себя исключительным хозяином. Тем не менее Кунце не покидало чувство, что он принял участие в некоем празднестве восточного властителя.
На следующее утро Кунце отправился в Управление корпусом, где его ожидал капитан Ходосси. К удивлению, тот выглядел свежим и отдохнувшим. Сам же Кунце не выспался и чувствовал похмелье, хотя он выпил гораздо меньше, чем оба Ходосси.
«Чертовы венгры, — подумал он, — они и крысиный яд с бокалом вина выпьют и не заметят».
Расположившись в бюро капитана, Ходосси начал разговор:
— Ну а теперь перейдем к Петеру Дорфрихтеру. Я тебе вчера сказал, что он был принят в эту школу. И ты теперь видел, что это такое — группа молодых людей, которые хотят сделать свою жизнь самой лучшей и избежать обыденности.
— Тебе что-нибудь говорит имя Клары Брассай, Золтан? — спросил Кунце.
— Еще бы, — воскликнул Ходосси. — Она чуть было не стала моей мачехой.
— Что это была за женщина?
— Прежде чем ответить на твой вопрос, я должен тебе еще кое-что рассказать о моем отце. Кроме школы, у него есть еще одно хобби — и, возможно, это его настоящее призвание — из мелкой потаскушки сделать известную куртизанку, из хористки или средненькой актрисочки — даму с камелиями, желательно без чахотки. Обычно держит он их пару лет при себе, учит, как себя вести, берет с собой в поездки, и, когда они приобретают нужный лоск, отправляет их в полет, как дают свободу птице из клетки. Иногда приходится держать клетку открытой долго, так как птичка улетать не хочет. А обычно они и не улетают далеко, их вскоре можно видеть рядом с ближайшим богатым человеком. Отец очень добр к ним, и если какая-либо из его воспитанниц показывает большие способности, он дает ей возможность учиться. Он сооружает для них витрину, в которой они, блистая, находят ценителей. Клара Брассай была одной из таких девушек. Не бог весть какая красавица, но остроумна, весела и талантлива. Отец встретил ее в Кешкемете, где она выступала в местном театре. Я не верю, что она его любила, но она понимала, что для ее карьеры он может быть очень полезен. Она была ему по-настоящему верна, что было не так-то легко, так как все холостые офицеры гарнизона и часть женатых увивались за ней. Ее заваливали цветами, ночами под ее окнами непрерывно пела цыганская капелла… Воздыхатели доходили до безумства. Рассказывают анекдот об одном пьяном лейтенанте-пехотинце, который зимой, перед ее окном справляя малую нужду, изловчился написать на снегу: «Я люблю тебя, Кл…» На букве Л у него, видимо, «чернила» кончились, он отправился домой, разбудил своего ординарца, чтобы тот дописал слово. Но парень только тупо смотрел на него. «Ты что, не можешь пописать?» — закричал лейтенант. «Пописать-то я могу, господин лейтенант, — сказал солдат, — а вот писать не умею». Конечно, не могу ручаться, что эта история была на самом деле, — захохотал Золтан.
— Si non e vero e ben trovato[653] — ухмыльнулся Кунце.
— Во всяком случае, дает тебе представление, к чему может привести нормального в общем-то, взрослого человека беспросветная скука провинциального гарнизона.
Примерно раз в неделю я отвозил Клару в Будапешт, чтобы она могла продолжить свое «образование» у моего отца, и, если у Дорфрихтера было время, он ехал с нами. Не знаю, когда и как это случилось, но она в него влюбилась. Он обладает каким-то шармом, который и пугает и притягивает. Что-то угрожающее есть в этом.
— Что-то угрожающее? — ухватился за слово Кунце.
— Могу ошибаться, но я это всегда ощущал. Задолго до того, как его стали упоминать в связи с этими проклятыми капсулами. — Он остановился, чтобы закурить. — Клара была ему абсолютно безразлична, но Дорфрихтер делал вид, что речь идет о большой страсти. Вероятно, он тешил свое самолюбие, уводя ее от отца и лишив гарнизонных молодцов всяких надежд. Их отношения были известны всему городу, каждый вечер они ужинали в отеле «Беретвас». Отец был оскорблен до глубины души. Думаю, она была единственной девушкой, с которой у него все было серьезно. Если бы не появился Дорфрихтер, отец определенно женился бы на ней. И это не было бы с его стороны ошибкой. Она была на редкость порядочной девушкой. Представь, она вернула отцу все подарки, которые он ей делал. Дорфрихтер знал, что ему предстоит перевод в другой гарнизон, но ничего ей не сказал. А когда это произошло, он уехал из города, даже не попрощавшись. Сначала она не хотела этому верить, но неделю спустя также исчезла из Кешкемета. Болтали, что она поехала за ним в Боснию.
— Она действительно поехала за ним, но не в Боснию, а в Вену, — сказал Кунце.
— Потом я услышал, что она умерла.
— Ты не пытался с ней связаться, когда она уехала?
— Нет, никогда. Из-за отца. Я решил, что чем скорее он ее забудет, тем лучше.
— А тебе не приходило в голову, что Дорфрихтер может быть виновен в ее смерти?
Золтан Ходосси взглянул на него с испугом.
— Нет. Неужели это так?
— Мы еще не знаем. А как ты думаешь?
— Она с ума сходила по нему. Наверное, уже тогда она была для него в тягость. Он же был практически обручен с девушкой, которая позже стала его женой.
— Да, через три дня после похорон Клары Брассай. Она была похоронена четвертого октября, а Дорфрихтер женился седьмого октября.
— Нет, ты подумай! Но ему совсем не обязательно было ее убивать, если он хотел от нее избавиться. Она совсем не из тех, кто способен на шантаж!
Кунце сменил тему:
— Давай поговорим о циркулярах. Предположим, что Дорфрихтер действительно рассылал их. Какие у него были причины убить тебя?
— Мне не приходит в голову ни одна.
— Почему тебя? Почему бы, например, не Аренса?
— Наверное, он выбор предоставил делу случая. Бросил пятнадцать фамилий в шляпу и вытащил десять. Между прочим, я видел однажды, как он это проделал на скачках. Я битый час изучал список лошадей, а он, наоборот, зажмурил глаза и ткнул пальцем в одну кличку. Он тогда выиграл, а я проиграл.
— Ты все-таки дружил с ним. Он мог бы быть Чарльзом Френсисом?
— Трудно сказать. Он был чертовски тщеславен, без сомнений. Может быть, он мечтал о головокружительной карьере. Если разобраться, Наполеон умер каких-то сто лет назад. Многие молодые офицеры считают, что если Наполеон смог оказаться на вершине славы, то и они смогли бы. Но попробуй представить себе какого-то родившегося в Австрии Наполеона, который в 1898 году начинает служить в армии Франца Иосифа. В том возрасте, когда Наполеон возглавлял итальянскую кампанию, — наш был бы все еще лейтенантом. Когда Наполеон короновал себя как император — он был бы капитаном. А когда Наполеон женился на одной из Габсбургеров и правил в Европе — наш, при условии, что ему повезло, стал бы всего лишь майором. Я не знаю, что бы делал Наполеон на месте Дорфрихтера: мирно нагуливал жирок или отравил бы всех, кто стоял у него на пути?
— Мог бы Дорфрихтер быть Чарльзом Френсисом? — повторил свой вопрос Кунце.
Капитан Ходосси на минуту задумался.
— Думается, мог бы. Но тебе будет это чертовски трудно доказать.
После Будапешта Вена показалась Кунце единственным местом в мире, где следует жить. Он узнал от кухарки, когда вернулся домой, что Роза уехала в Грац на похороны дяди Пауля. Не успел он сесть за стол, как она позвонила.
— Он умер еще позавчера. Завтра похороны, — прокричала она в трубку. Телефон был для нее все еще чем-то загадочным, и она всегда опасалась, что ее не услышат. — Адвокат сказал: чтобы уладить все с завещанием, потребуется еще несколько недель. Никаких осложнений не должно быть, но я на всякий случай пробуду здесь до конца.
«Еще и покойник не успел остыть, как она уже с адвокатом поговорила», — подумал Кунце, но тут же устыдился своих мыслей.
— Береги себя, — сказал он Розе и в тот же моменте тяжелым сердцем понял, что не скучает о ней. Он чувствовал усталость и был рад, что ужинать будет один.
В эту ночь, после бутылки бургундского, он спал крепко, без снов.
В первый раз, подумал Кунце, с лица Дорфрихтера исчезло выражение упрямства. Он по-прежнему продолжал свои ежедневные прогулки перед открытым окном, и на щеках его играл тот розовый румянец, который появляется, когда человек заходит с мороза в помещение. После обычного приветствия и ухода охраны обвиняемый, вздохнув, опустился на стул.
— Эти проклятые коридоры, — сказал он. — И лестницы! Я сегодня прошел весь Ринг и Кай. От Оперы и назад. Никаких сил не осталось. — Он закурил сигарету, которую ему предложил Кунце. — Вы что-нибудь слышали, господин капитан, о моей жене и о ребенке? — Он медленно выпустил дым от сигареты.
— Нет, с тех пор ничего не слышал. Но меня в последние дни не было в городе. Я ездил в Будапешт и встречался с вашим другом капитаном Золтаном Ходосси.
Кунце внимательно следил за лицом арестованного. За исключением узкого круга лиц из военных, никто не знал, что Ходосси также входит в число лиц, получивших циркуляр Чарльза Френсиса. Он получил циркуляр одним из последних, и командир предупредил его никому об этом не сообщать. Упоминание имени Ходосси должно было застать врасплох Дорфрихтера — при условии, конечно, что он был Чарльзом Френсисом.
На его лице отсутствовала какая-либо реакция. Он спокойно смотрел на Кунце, затянулся несколько раз сигаретой и потушил ее.
— Вы, наверное, ждете сейчас моего вопроса, зачем вы ездили к Ходосси? — Его тон был несколько резковат.
— Ну, если вы считаете его важным.
— Я вообще не придаю ему никакого значения. И почему я должен облегчать вам жизнь? — Ироническая улыбка появилась снова. — И над вашим следующим вопросом потрудитесь подумать сами и не ждите от меня подсказки.
— Никто ее и не ждет, — проворчал Кунце. — Вы были дружны с капитаном Ходосси?
— Даже очень. Надеюсь, мы и теперь остаемся друзьями. Он просто порядочный парень. Особенно для венгра.
«Точно так же сказал и Молль», — вспомнил Кунце.
— Вы не любите венгров? — спросил он.
— Я ничего не имею против них, но этот их красно-бело-зеленый патриотизм действует мне на нервы. И я до сих пор не уверен, насколько в случае войны на них можно будет положиться. На них можно полностью полагаться, если им будут предоставлены очередные привилегии. У нас, видит бог, и в мирные времена хлопот с ними было предостаточно.
— Вы все время рассуждаете так, как будто война неизбежна, — заметил Кунце. — Разве вы не считаете, что мы живем вполне достойной жизнью? И что в случае войны мы потеряли бы гораздо больше, чем выиграли?
— Это зависит исключительно от того, кто будет командующим. Старые дряхлые эрцгерцоги или молодые люди с современными неортодоксальными идеями.
— Люди вроде вас?
— А почему бы и нет, господин капитан?
— И первое, чтобы вы сделали, — это людей вроде нас, неисправимых пацифистов, поставили бы к стенке, ведь так?
— Так точно, господин капитан, — ухмыльнулся Дорфрихтер.
— Будем тогда считать, что нам повезло, что мы пока живем без войны. — Кунце пытался справиться со своим гневом. Он был взбешен, что случалось не часто. Виною тому был Дорфрихтер, и он презирал его, но еще больше самого себя. — Мы остановились на Ходосси. Вы сказали, что были друзьями. А как вы относились к его отцу?
— Старый надутый болван.
— Но это не мешало вам пользоваться его гостеприимством.
— Некоторое время. Есть одна венгерская поговорка: «Если припечет, то и муху съест черт». Так может случиться с любым, кто попадает в местечко вроде Кешкемета. С местными какие-то отношения просто невозможны — для них существует только гуляш, цыганская музыка и шовинизм. Вы бы заглянули разок вечером в «Берствас». Все вечера сидят они там и слушают цыган, проливая свои горючие жирные слезы в стаканы с вином. А если спросить их, отчего эти слезы, они скажут, что из-за этой мелодии «A csizmamban nincsen kereg mert megette a patkanyfereg!»
— Простите, что это?
— Буквально это значит: «У моих сапог подметок больше нет — их съели крысы».
Дорфрихтер тихо рассмеялся.
— Каждая новая кассирша в кафе — событие года. А если кому-то удается соблазнить ее первым, он чувствует себя, как если бы получил орден за особые заслуги. В итоге она начинает кочевать из кровати в кровать. Одна блондинка по имени Пирошка установила рекорд — заразила триппером одиннадцать человек. В таком проклятом месте ничего другого не остается — только пьянка и проститутки.
— А театр там есть?
— Есть здание, которое так называется. Но спектакли! Они играют «Веселую вдову» и «Короля Лира» одним и тем же составом и с одинаковыми декорациями.
— Между прочим, знали вы в Кешкемете актрису по фамилии Клара Брассай?
— Так точно, господин капитан, — кивнул Дорфрихтер. Было хорошо видно, что он ожидал этого вопроса.
— В каких отношениях вы были с ней?
— Именно в тех отношениях, о которых вам говорил Золи Ходосси. Мы были любовниками.
— Как я слышал, она последовала за вами в Вену. Вы с ней и здесь продолжали встречаться?
— Так точно, господин капитан, — сказал Дорфрихтер, слегка запнувшись.
— Хотя вы были обручены. Если я не ошибаюсь, вскоре после приезда Клары Брассай в Вену вы женились.
— Это так.
— Вы посещали ее после вашей свадьбы?
— Нет, господин капитан.
— Почему же?
— Потому что она умерла, вот почему, — фыркнул обер-лейтенант, теряя хладнокровие.
Насколько возрастала нервозность Дорфрихтера, настолько спокойнее становился Кунце, как если бы они сидели на разных концах качелей.
— Когда она умерла и от чего?
— Первого октября 1907 года. Сердечный приступ.
— Откуда вам это известно?
— Так было написано в свидетельстве о смерти.
— Вы устроили так, что девушка поехала за вами в Вену, хотя точно решили жениться на теперешней вашей жене. По приезде в Вену она умирает в течение двух недель, а за три дня до вашей свадьбы ее хоронят. Отлично все спланировано, я бы сказал.
— Во-первых, я не просил ее ехать за мной. Когда я уезжал из Кешкемета, я ей сказал, что между нами все кончено. Казалось, она с этим смирилась; но потом она неожиданно появилась в Вене и стала меня тяготить.
— Как я понял, она была подопечной старого Ходосси и…
Дорфрихтер резко перебил его:
— Подопечной? Она была его любовницей!
— Хорошо, допустим, любовницей. Но вы же вступили с ней в связь и заставили ее покинуть Ходосси. Вы не чувствовали себя в какой-то степени ответственным за нее?
— Нет. Она была взрослым человеком и знала, что делает. Честно говоря, я не понимаю ваших обвинений, господин капитан. Если из-за таких вещей мучиться угрызениями совести, то весь офицерский корпус должен облачиться в рубище и посыпать голову пеплом.
— У меня здесь есть свидетельские показания человека, который разговаривал с фрейлейн Брассай незадолго до ее смерти. Этому человеку она сказала, что ее друг — она имела в виду вас — принес ей снотворных таблеток. Вы это сделали?
Дорфрихтер побледнел.
— Нет.
— Хозяйка пансиона показала, что вы оплатили похороны, — добавил Кунце. — Почему, собственно?
— Потому что я был в Вене единственным, кто ее знал.
— Имелись родственники, ее родители были живы. Вы не пытались установить с ними связь?
— Нет.
— Почему же?
— Я не считал себя обязанным.
— Вы постарались, как мне кажется, как можно скорее похоронить ее. Производилось ли вскрытие?
— Нет.
— Почему нет?
Дорфрихтер достал носовой платок и вытер мелкие капельки пота, блестевшие на его лбу.
— Не было необходимости. Причину смерти установил врач, и так и было записано в свидетельстве о смерти.
Кунце наклонился вперед и посмотрел Дорфрихтеру прямо в глаза.
— Я хочу вас спросить: вы лично верили в то, что это был сердечный приступ?
— У меня не было никаких причин сомневаться в этом.
— А разве не могла она умереть от чего-нибудь другого? От передозировки снотворных таблеток, которые вы ей никогда не давали?
Обер-лейтенант отвел взгляд от Кунце, нервно скатал носовой платок, порывистым движением спрятал его в карман, как будто он избавлялся от чего-то, его уличающего, и снова взглянул на капитана.
— Да, она могла умереть и по другой причине, — сказал он. — От передозировки снотворного, которое ей кто-то дал. — Он усмехнулся. — От укола шляпной заколкой в сердце. Или от того, что она задержала дыхание, пока не задохнулась. Откуда мне знать, если врач этого не знал?
— Считаете ли вы возможным, что она покончила с собой? Она когда-нибудь говорила об этом?
— Конечно говорила. Самоубийство — это было ее любимое средство шантажа.
— Почему вы говорите о шантаже? Она что, могла создать вам осложнения?
Дорфрихтер бросил на Кунце недоверчивый взгляд.
— Но господин капитан, — сказал он тоном, как если бы говорил с глупым ребенком, — вообще-то вы должны знать, что у меня на носу была свадьба, а тут появляется эта девушка, с которой я, извините, спал, и предъявляет всевозможные требования. Было совсем нелегко убедить ее быть разумной, вернуться туда, откуда она приехала. И когда я уже был уверен, что она садится в поезд и едет в Будапешт, она умирает. Конечно, я мог бы отложить свадьбу, но от этого она бы не воскресла. Все, что я мог сделать, — это организовать приличные христианские похороны и надеяться, что моя невеста об этом ничего не узнает.
— Вы тот еще циник, Дорфрихтер!
— Черт побери, господин капитан! Уж не хотите ли вы, чтобы я лил тут крокодиловы слезы? Это не сделало бы чести вашей интеллигентности! Я себя не считал ни в какой степени ответственным за Клару. Это вопиющая несправедливость — ставить человеку в вину, что он не любит женщину. Когда по той или иной причине уходит любовь, вина ложится всегда на того, кто больше не любит. Но если человек об этом говорит вслух, его считают свиньей. Есть мужчины, которые готовы всю жизнь пребывать в этом рабстве только из-за того, что жена его любит. Но я предпочитаю, чтобы меня считали циником, но сохраняю таким образом свою свободу.
— Вопрос только в том, как далеко вы способны зайти, чтобы защитить свою свободу, — сказал Кунце.
— Что вы имеете в виду?
— Вы отлично знаете, что я имею в виду. Вы убили Клару Брассай? Дали ли вы ей яд, укололи в сердце шляпной иглой или задушили?
Дорфрихтер рассмеялся:
— Вы шутите, господин капитан.
— Вы знаете совершенно точно, что я никогда не шучу.
— Я понял. Я отравил Мадера, я пытался отравить девять других офицеров, я убил и Клару Брассай!
— Да или нет?
Дорфрихтер раздраженно замотал головой.
— Конечно нет. Ни Клару, ни Мадера. Нет, нет и нет!
— Ну что же, — сухо сказал Кунце, — будем эксгумировать тело. К счастью, судебная медицина шагнула в настоящее время далеко вперед. Даже спустя годы патологи могут установить причину смерти. — Он обратился к Стокласке: — Распорядитесь увести обер-лейтенанта в его камеру.
Дорфрихтер встал. Невидящим взглядом он уставился на крыши противоположных домов.
— Я уже вам говорил, господин капитан, что она угрожала себя убить. Еще в Кешкемете у нее были приступы необъяснимой смены настроения. Сегодня ликует, радостная до небес, завтра — в смертельной тоске. Наверное, она отравилась, но я ей яд не давал.
Кунце ничего не ответил. На этот раз все прошло хорошо, подумал он. Чего он опасался: что его внутренние сомнения помешают вести допрос, — не произошло. Он чувствовал себя более уверенным, чем в начале допроса. Дичь была в пределах выстрела. Кунце был убежден, что Клара Брассай была отравлена и что Дорфрихтер приложил к этому руку. Он позвонил комиссару доктору Вайнбергу и попросил его распорядиться произвести эксгумацию и вскрытие трупа Клары Брассай.
Одновременно в венгерскую деревню, где отец Клары заботился о душах своей паствы, были посланы два детектива. Они должны были установить, не было ли в вещах Клары, которые оставались в пансионе фрау Кралик, чего-либо заслуживающего внимания.
В один из дней Роза возвратилась из Граца. Когда Кунце зашел домой, она щеголяла уже в своем ярком надушенном неглиже. Она не догадывалась, что это как раз и не нравится капитану. Он редко выражал свое мнение о том, как она выглядит. Если она его спрашивала, что он думает по поводу ее нового платья, Кунце всегда отвечал, что оно ей очень идет, даже если платье ему и не нравилось.
— Дядя Пауль завещал мне все, — сказала она ему, едва он вошел. — То есть почти все. Десять тысяч крон должны быть выплачены экономке. Я подозреваю, что он ей еще кое-какие ценные бумаги отдал. Или она их просто взяла. Но я не хочу устраивать из-за этого скандала, главным образом из-за того, чтобы не затягивать дело. Адвокат считает, что все должно быть улажено за два месяца. Сегодня у нас двадцатое декабря — значит, это будет конец февраля. Дорогой, мы можем нашу свадьбу планировать на март. Мартовские иды — это было бы прелестно!
— Почему мартовские иды?
— Это звучит так очаровательно!
— Для Цезаря это было совсем не так.
— Разве ты не счастлив? — спросила она, обняв его.
Он был совсем не счастлив, ни от перспективы скорой женитьбы, ни от нежного объятия. Бретелька сползла с ее плеча, и ему вспомнились откормленные и ощипанные венгерские гуси, их бледно-желтые тушки, развешанные в лавках на рынке, мимо которого он шел домой.
— Ты совсем не кажешься счастливым, — услышал он ее голос. Ее большие голубые глаза были полны упрека.
— Я просто устал сегодня, — солгал он и, чуть коснувшись, поцеловал ее в лоб.
Он подумал, что бы сделал Петер Дорфрихтер на его месте. Возможно, ушел бы из дома, чтобы никогда не вернуться, невзирая на упрек в больших голубых глазах. Он бы, вероятно, решил, что наступил момент для честного расставания, иначе впереди предстоит пожизненное рабство — так он это характеризовал, — если не пойти на это расставание. Дорфрихтер — просто циник, потому что у него хватило решимости покинуть женщину, которую он не любил. Эмиль Кунце был порядочный человек, потому что продолжал оставаться рядом с нелюбимой женщиной. На самом деле, подумал он с горькой досадой, получается так, что он порядочен лишь потому, что слаб, а Дорфрихтера считают циником потому, что у него хватило мужества следовать своим убеждениям. Роза любила его, и ему суждено всю жизнь быть к ней прикованным. Ее любовь была подобна огромному ненасытному спруту — это ему очень скоро стало ясно и приходило ему в голову всегда, когда ее руки тянулись к нему и против воли крепко прижимали его к мягкому, рыхлому телу. И тем не менее он ни разу не предпринял попытку бежать. И оправдать себя тем, что он, мол, еще молод, он тоже уже не мог. «Желание быть любимым, — размышлял он, — это заблуждение молодости. Зрелость начинается с понимания того, что любить гораздо сложнее, чем быть любимым, и только немногие находят мужество признать это. Большинство довольствуются тем, что принимают за любовь поверхностный интерес или половое влечение».
— Ирма и Альфред очень рады, — сказала Роза.
— Чему? — спросил рассеянно Кунце, пока до него не дошло, что речь идет о сестре Розы и ее муже.
Роза посмотрела недоуменно на него.
— Тому, что мы женимся. Чему же еще?
«Она им успела уже все сказать», — подумал Кунце.
— Это мило с их стороны, — пробормотал он.
— Надеюсь, у армии не будет возражений, — продолжала Роза. — Квартира оформлена на Альфреда. Но они могут докопаться, что я здесь жила. Как ты считаешь, может быть, мне лучше переехать к Ирме и Альфреду, я имею в виду, до свадьбы?
— Быть может, лучше переехать мне? — в шутку спросил Кунце, и вдруг мысль эта ему понравилась. — Да, так и сделаем. Я сниму квартиру поблизости. Достаточно будет меблированной комнаты. Никакой роскоши. Две комнаты или гостиная со спальней, с отдельным входом и ванной.
— А где же ты будешь кушать?
— Завтракать я могу где-нибудь в кафе по дороге на работу, а ужинать здесь. В конце концов, это же все ненадолго.
Слово «ненадолго», похоже, успокоило ее, и она сказала, что будет присматривать подходящую квартиру. Когда горничная объявила, что стол накрыт, Кунце обратил внимание, что стол сервирован лучшим Розиным майснеровским фарфором. В серебряном ведерке со льдом стояла бутылка шампанского.
— А что же мы празднуем? — спросил он, только чтобы ее подразнить. С момента, как его переезд был решен, настроение у него слегка улучшилось. Он совсем не думал, что может избежать женитьбы — этот приговор обжалованию не подлежал. Тем не менее переезд в новую квартиру был в его нынешнем состоянии поистине благодатью.
После обеда они слушали граммофонные пластинки. Музыка повергала Розу всегда в романтическое настроение, и, когда она два раза подряд поставила вальс из «Веселой вдовы», Кунце встал и, извинившись, что у него был трудный день, пожелал ей спокойной ночи. Дождавшись конца пластинки, Роза отправилась спать. Оставшуюся почти полной бутылку шампанского она взяла с собой в спальню.
Сразу же после возвращения детективов из Венгрии комиссар Вайнберг разыскал Кунце в гарнизонном суде, чтобы проинформировать его о результатах следствия. В последние два дня венские газеты были заполнены сенсационными сообщениями о жизни и смерти Клары Брассай. Досужие репортеры успели поговорить с членами семьи Клары, с директором театра в Кешкемете, с бывшими коллегами, с портье «Гранд-отеля» и с фрау Кралик. Один отчаянный молодой человек попытался взять интервью у Ходосси-старшего, но был вышвырнут на улицу собственноручно его массажистом-сенегальцем.
— Моим людям пришлось попотеть, чтобы от этого патера хоть что-нибудь узнать, — сказал комиссар. — Он сказал, что порвал со своей дочерью, когда она ушла из дома и попала на сцену. — От его жены также много узнать не удалось. Она рассказала детективам, что ездила в Кешкемет и пыталась уговорить дочь вернуться; когда же дочь прямо при ней закурила сигарету, мать поняла, что Клару не спасти. Она встала и ушла. Больше она с дочерью не разговаривала. Я убежден, что она видит и сегодня в печальном конце своей дочери лишь божью кару за курение.
— Типичные кальвинистические убеждения, — заметил Кунце.
— Но мы все-таки заполучили кое-что важное — причем от матери. В шесть лет дочь перенесла скарлатину и в результате осложнений страдала слабым сердцем. В свидетельстве о смерти стоит сердечный приступ, и это совпадает с показаниями матери.
Днем позже на столе Кунце лежали результаты вскрытия. Поскольку труп находился в земле более двух лет, патологоанатомы не могли с уверенностью установить причину смерти. Но они не сомневались, что она не была ни задушена, ни отравлена. Токсикологический анализ дал отрицательный результат. Окончательное заключение гласило — нет никаких указаний на отравление.
Кунце был один в бюро, когда посыльный доставил ему запечатанный конверте заключением. Его первой реакцией было распорядиться доставить Дорфрихтера и сообщить ему результаты вскрытия. Но тут он вспомнил, что единственный раз, когда Дорфрихтер потерял самообладание, был именно тогда, когда речь зашла о том, что Клара, возможно, была отравлена. Девушка угрожала себя убить, и, когда ее действительно нашли мертвой, Дорфрихтер, должно быть, решил, что она привела свою угрозу в действие. Чтобы избежать скандала, который он, как кандидат на перевод в Генеральный штаб, не мог себе позволить, он сделал все, чтобы похоронить Клару как можно быстрей. Если бы в теле девушки сейчас нашли яд, в его невиновность никто бы не поверил. Дорфрихтер это понимал и из-за этого, вероятно, не спал ночами. Кунце решил ничего заключенному не сообщать. Если нужно сломить сопротивление человека, нет ничего лучше, как обречь его на бессонницу.
Он стал размышлять о том, какое действие окажут газетные сплетни на Марианну Дорфрихтер. Прямо перед свадьбой у ее мужа был бурный роман с венгерской актрисой. Скорее всего, он никогда жене о Кларе Брассай не заикался, так же как никогда ей не рассказывал об отправке десяти писем с ядом. Не говоря уже о том, как эта история ранит ее гордость, она сильно пошатнет и веру Марианны в него. В своей камере у Дорфрихтера достаточно времени, чтобы подумать о возможной реакции своей жены. Он не в состоянии будет развеять сомнения жены, вновь завоевать ее, если она решит порвать с ним. Еще один груз, который лег на него тяжким бременем, еще одна заноза в теле, не дающая ему спать.
8
Со времени приема в доме генерала Венцеля Кунце с ним не встречался. Когда он получил приказ явиться к генералу, то понял, что речь идет вовсе не о дружеской беседе.
Венцель без промедления перешел к делу:
— Вы занимаетесь этим делом больше месяца, держите под арестом офицера с безупречной репутацией с тридцатого ноября. Сегодня двадцать третье декабря. И вам до сих пор не удалось найти неопровержимых улик против него или добиться от него признания. Вы даже пытались из смерти несчастной хористки состряпать грязное убийство. Но и это вам не удалось. Как долго прикажете нам ждать результат?
— Разрешите, господин генерал: не я состряпал убийство из смерти молодой женщины, а пресса. Вообще-то она не хористка, а актриса.
— А в чем, черт побери, разница? — недовольно сказал Венцель и добавил: — Что вы собираетесь предпринять дальше?
— То же, что и ранее, господин генерал. Опрашивать свидетелей, собирать дальнейшие доказательства.
— Дальнейшие? Я не знал, что у вас вообще есть какие-либо доказательства.
Кунце молчал.
— Вы не считаете целесообразным освободить этого человека? — спросил генерал.
— Ни в коем случае, господин генерал.
— Ну хорошо. Продолжайте расследование, черт побери. Можете идти.
Прощание было необычно грубым, но Кунце не обратил на это внимание. Он доложил о ходе дела, и остальное его не касалось. Он уже открыл дверь, как вдруг Венцель его остановил.
— Я был вызван вчера во дворец Бельведер. Его Императорское Высочество наследник престола принц Франц Фердинанд выразил свое неудовольствие тем, как нами ведется расследование этого дела. — Не услышав от Кунце ни слова, он добавил: — Я сообщил вам это в надежде, что это произведет на вас впечатление.
Кунце стоял у двери.
— По-видимому, никакого, — пробормотал Венцель.
— Что вы имели в виду, господин генерал?
— По-видимому, это не произвело на вас никакого впечатления.
— Нет, господин генерал. Если Его Императорское Высочество завтра станет императором, он может освободить Дорфрихтера и даже повесить ему на грудь орден. Но пока наш император Франц Иосиф.
— Доктор Гольдшмидт был на приеме у барона фон Шенайха. Он хочет добиться, чтобы военное министерство передало дело гражданской юстиции. — Венцель, видимо, решил выдавать свою информацию по частям.
— Он мне тогда, на приеме у вас, сказал, что будет добиваться этого, — сказал Кунце.
— И что вы ему ответили?
— Что ему не следует хлопотать понапрасну. Министерство в любом случае сошлется на «Положение о военном суде».
— Он настроен по отношению к вам отнюдь не дружески, к вашему сведению.
— Кто? Господин министр фон Шенайх?
— Нет, господин доктор Гольдшмидт.
— Я другого и не ожидал, господин генерал. И честно сказать, думаю, невысокая честь считаться его другом.
Венцель взял папку с бумагами и стал ее перелистывать, давая понять, что аудиенция окончена.
— Это все, господин капитан, — сказал он и добавил: — Счастливого Рождества.
— И вам счастливого Рождества, господин генерал. Наилучшие пожелания вашей супруге.
В своем кабинете Кунце уже ожидали оба лейтенанта: Стокласка и Хайнрих. По их лицам было видно, что есть новости.
— Мы его нашли! — объявил Стокласка. Обычно сдержан и деловит, сейчас он был, казалось, слишком взволнован, чтобы выражаться точно.
— Кого нашли? — спросил Кунце.
— Солдата! — ответил Хайнрих.
— Ординарца, который хотел купить цианистый калий у аптекаря Ритцбергера в Линце! — воскликнул Стокласка.
— Это действительно интересно, — сказал Кунце. — Я прошу только, чтобы кто-то из вас один рассказал все по порядку.
После того как все солдаты гарнизона был и допрошены — к сожалению, безрезультатно, — поиск продолжили по всей монархии. Допрашивали каждого солдата, бывавшего ранее в Линце. Наконец его нашли — в Загребе. Он с готовностью подтвердил все показания аптекаря Ритцбергера. Лейтенант, у которого он тогда служил ординарцем, послал его в аптеку за цианистым калием. Когда он вернулся и доложил лейтенанту, что аптекарь требует разрешение на покупку яда, лейтенант пришел в ярость и ругался. Через несколько дней оба получили приказ о переводе — солдат должен был явиться в 17-й пехотный полк в Загребе, а лейтенант — в 28-й полк в Нагиканице.
Кунце позвонил командиру полка в Нагиканице и попросил допросить лейтенанта Ксавьера Ванини по поводу попытки купить цианистый калий. Уже после обеда был получен по телеграфу ответ, и загадка показаний аптекаря была разрешена. Лейтенант Ванини был страстный фотограф-любитель и хотел получить цианистый калий для приготовления фотораствора. Вскоре после прибытия его в Нагиканицу, двенадцатого ноября, он в местном отделе здравоохранения получил разрешение на покупку химикалия, который и приобрел в городской аптеке.
Кунце еще раз внимательно прочитал телеграмму.
— Вот мы и оказались снова там, где мы начинали месяц назад, — сказал он Стокласке и после короткой паузы добавил: — Разыщи мне все об этом Ванини, что сможешь найти. Личное дело, табели, фотографию — все! — Он нервно барабанил пальцами по письменному столу и снова обратился к Стокласке: — Мне не доставляет это удовольствия, но я прошу тебя выехать с ближайшим поездом в Линц. Если не ошибаюсь, есть поезд, который отправляется в пять часов. У тебя есть сегодняшний вечер и завтра до обеда, чтобы собрать все документы. Если ты попадешь на поезд в Линце сразу после обеда, то вернешься и успеешь еще зажечь свечи на елке. — Он опустил взгляд. Конечно, было нечестно отправлять молодого человека накануне святого вечера в поездку, и ему не хотелось видеть его расстроенное лицо.
Но Стокласка был не из тех, кто жаловался на приказ. Он был большой любитель детективных романов, и не исключено, что задание доставляло ему удовольствие. К тому же он только что порвал со своей девушкой, и на праздничные дни у него не было никаких определенных планов.
Здание суда постепенно опустело, многие сотрудники не вернулись вообще с обеда. Кунце стоял у окна и наблюдал за кипучей жизнью квартала внизу. Весь день шел снег, и метеорологи обещали снежное Рождество. Он любил Вену в любое время года, но больше всего зимой, а когда в день перед Рождеством шел снег, тогда весь город казался тихим собором, а темное небо накрывало его, словно куполом, и сердце наполнялось восторгом. Он не мог понять, как можно праздновать Рождество шумно и со светской музыкой. Кунце был убежден, что Рождество нужно проводить дома, в кругу семьи.
Теперь, в пять часов вечера, весь город был еще на ногах. Люди спешили домой, едва общественный транспорт успевал остановиться, дети шли на специальное представление «Ганс и Гретель» в Опере, хлопали двери магазинов и лавок, повсюду мели снег с тротуаров, раздавались колокольчики саней, и изредка гармонию города из XIX века нарушали гудки автомобилей — вестников века нового.
Стокласка возвратился из Линца с толстой папкой документов. У Кунце на письменном столе теперь находилось описание всей жизни неизвестного Ксавьера Ванини. Ничего особо примечательного в ней не было. Картина, которая вырисовывалась из различных отзывов, характеристик и аттестаций, представляла собой образ среднестатистического войскового офицера, родившегося в Трире двадцать семь лет назад, римско-католического вероисповедания, холостого, выпускника кадетской школы в Нейштадте, служившего последовательно в гарнизонах Граца, Лемберга, Сараево, Линца и, наконец, Нагиканицы.
«С января 1907 года по ноябрь 1908-го в Сараево, — бормотал про себя Кунце, — Дорфрихтер был с октября 1907-го по май 1909 года тоже в Сараево. Оба служили в 18-м пехотном полку. Вполне вероятно, что они были знакомы. Оба были затем переведены в 14-й пехотный полк в Линце. — Он внимательно прочитал последнюю характеристику: — Пригоден к войсковой службе, инициативен ограниченно, не рекомендуется к использованию в полевой службе. Под наблюдением работает лучше».
— Не думаю, что его считают высококвалифицированным офицером, — заметил Стокласка. — В полку его любят, особенно молодежь, но серьезно не воспринимают. Любитель выпить, но алкоголь переносит хорошо. Как говорится, по уши в долгах, и, само собой, попал в лапы ростовщиков, но с помощью друзей до сих пор ему удается выкручиваться.
— Какие-либо отношения с Дорфрихтером?
— Ничего не удалось выяснить. Вне службы они вращались в разных компаниях. Ванини в основном с молодыми и малообеспеченными, Дорфрихтер — с элитой. Дорфрихтер был кандидатом на перевод в Генеральный штаб и должен был соблюдать осторожность. Ванини был из второразрядных, что имело и свои преимущества.
— Отсюда следует, что между ними никаких тайных договоренностей не могло быть. Они дружили, но для Ванини что-либо изменить в своей карьере было невозможно, даже если бы он убил весь Генеральный штаб. Снова тупик. Мне жаль, что я тебя напрасно посылал, — извинился Кунце.
Стокласка улыбнулся:
— Да, я съездил с удовольствием. Люблю ездить поездом. А кроме того, вчера вечером в отеле «Усадьба» меня накормили просто отлично. Кстати, горничная, старая болтливая ворона, сказала мне, что видела как-то Петера Дорфрихтера в отеле. Там что-то было связано с каким-то скандалом.
Кунце тут же вспомнил странное поведение обер-кельнера и портье, когда он их спрашивал о Дорфрихтере.
— Что точно она сказала? — спросил он.
— Не за что зацепиться. Как только она увидела, что я насторожился, тут же как будто язык проглотила. Даже пять крон не помогли.
— Надо было предложить ей десять, — сказал Кунце.
Он тут же записал в блокноте: «Позвонить доктору Вайнбергу насчет отеля „Усадьба“».
— Ты знаешь господина обер-лейтенанта Петера Дорфрихтера? — спросил Кунце солдата, который, вытянувшись, сидел на краешке стула перед столом капитана.
Бока вытаращился на него со взглядом уснувшей рыбы. Господин капитан предложил ему стул, что сразу же его насторожило. Ему было бы привычней, если бы господа офицеры вели себя как обычно, другими словами как свиньи. Он не забыл еще о своем общении с господином капитаном и держал ушки на макушке.
— Осмелюсь доложить, господин капитан. Мой знает один господин обер-лейтенант Дорфрихтер.
— Как хорошо ты его знаешь?
Бока старательно пытался угадать, какие последствия может иметь его ответ.
— Осмелюсь доложить, господин капитан, мой слышал все говорить, он посылать господин капитан Мадер яд.
— Знаешь ли ты что-нибудь об отношениях между господином капитаном Мадером и господином обер-лейтенантом?
— Осмелюсь доложить, господин капитан, мой не понимать вопрос.
Кунце наклонился на своем стуле вперед, стараясь не только действительно сократить расстояние между ними, но и делая отчаянную попытку сократить пропасть между своим миром и миром этого венгра.
— Послушай-ка теперь внимательно, Бока. Вот что я хочу узнать — было ли у обер-лейтенанта что-то против твоего господина капитана? — Он говорил медленно и подчеркивал каждый звук. — Трудно поверить, чтобы офицер хотел убить своего товарища; если он сделал это, должна быть веская причина. Ты четыре года служил у господина капитана Мадера и…
— Пять, господин капитан, — поправил Бока. В его голосе звучала гордость, и Кунце не заметил, как на секунду увлажнились глаза солдата.
— Мы оба — ты и я — хотим одного и того же. Мы хотим найти человека, который убил твоего капитана. Так что подумай-ка еще раз хорошенько. Была ли у твоего господина капитана когда-нибудь ссора с господином обер-лейтенантом? Может быть, они ругались между собой — из-за женщины или из-за денег?
Бока рассудительно покачал головой и уселся на стуле поудобней. Тот факт, что он мог что-то такое знать, чего не знал господин капитан, придало ему сознание некоторой своей значимости.
— Осмелюсь доложить, господин капитан, — сказал он, осторожно делясь информацией, — господин обер-лейтенант иметь ничего против господин капитан. Он иметь причина благодарить господина капитана.
— За что благодарить?
— Благодарить, что мой господин капитан спасать жизнь господин обер-лейтенант, за что же еще?
Кунце понадобилось пару минут, чтобы понять немецкий Бока и уяснить, кто кому спас жизнь. Когда все прояснилось, он попросил Бока подробней описать, как происходило это спасение жизни.
— Осмелюсь доложить, господин капитан, господин обер-лейтенант в воде ходить, вдруг большой волна приходить, и он начинать кричать, а мой господин капитан вода прыгать, обер-лейтенант вытаскивать.
— Черт бы тебя побрал, Бока! Ты можешь толком сказать, в какой воде? Была это река или озеро? Где это все случилось и когда?
— В Кастельнуово, господин капитан, в июне 1904-го.
После окончания экзаменов в конце первого учебного года в военном училище весь класс, то есть все, кто сдал экзамены, были отправлены в Кастельнуово на Адриатике, где они должны были учиться плавать, осваивать хождение под парусом и научиться основам навигации. Занятия были напряженными и требовали больших физических затрат. Все оценки учитывались и шли в зачет к выпуску.
По-видимому, однажды теплым вечером Дорфрихтер, Мадер и трое других лейтенантов решили устроить на берегу пикник. Так, во всяком случае, удалось Кунце установить из бессвязного рассказа Бока.
— Три девушка они с собой приводить, — продолжал Бока, — большой корзина с едой и десять бутылок шампанский в ящик со льдом. Я был один ординарец, они брать с собой. Было еще светло, как мы приходить, потом становиться темно, и я разводить костер. Один из господ с девушка купальни уходить. Господин капитан Мадер и господин лейтенант Дорфрихтер — тогда он еще лейтенант быть — сидеть у костра. Я недалеко на пляже лежать. Мы все шампанское пить. Господин капитан Мадер мне целый бутылка давать — вот такой человек он быть. Потом господин обер-лейтенант вставать и в воду бежать. Я сам слыхать, господин капитан Мадер сказать, он должен осторожно быть. Господин обер-лейтенант Дорфрихтер пить хорошо не уметь, а в тот вечер он слишком много выпить. Он говорить, себя хотеть остудить, а вдруг на помощь начинать кричать. Господин капитан был одетый уже, только китель лежать на песке, а все равно прыгать в вода и господин обер-лейтенант вытаскивать. Такой он был — всегда помогать. В Краков он один раз на крыша залезать, хозяйкину кошка спасать — эта тварь четвертый этаж из окно вылезать и…
Кунце перебил его:
— Давай вернемся в Кастельнуово!
— Слушаюсь, господин капитан. Стало быть, господин капитан Мадер совсем не находить господин обер-лейтенант в темноте, вода его и течение уносить. Потом господин капитан его находить и на песок вытаскивать. Он сильно кашлять и плеваться, господин обер-лейтенант, и мы его на голову ставить и вода из него вытряхивать. Другие три господина прибегать, хотели смотреть, что случится, но господин капитан Мадер говорить, обер-лейтенант только шутить. Они снова к девушка в купальня уходить. Господин обер-лейтенант Дорфрихтер долго плохо чувствовать, пока он снова в себя приходить.
— Господин капитан Мадер, стало быть, сказал, что господин обер-лейтенант хотел только пошутить. Откуда же тебе знать, что это было не так?
— Осмелюсь доложить, господин капитан, господин обер-лейтенант в вода совсем с ума от страха сходить. Он визжать как свинья, которую резать. Я сам слыхать, он господина капитана просить никому не говорить, он почти утонуть. Господин капитан слово давать. И он никогда никому не рассказывать.
— А ты?
— Что, просить прощения?
— А ты кому-нибудь рассказывал?
— Никак нет, господин капитан. Я тогда думать, это хорошо, что господин капитан ему свой слово давать. Это значить, я тоже молчать.
— Скажи, после этого происшествия господин капитан Мадер и обер-лейтенант Дорфрихтер оставались друзьями?
— Не могу знать, господин капитан. Мы — это господин капитан и я, — нас посылать совсем другой гарнизон, господин обер-лейтенант — другой.
— Ты можешь вспомнить, кто были те трое других офицеров?
Бока напряженно задумался.
— Один быть господин лейтенант Габриель, который потом жениться дочь господина майора Кампанини и из армии уволиться. Другой был из четвертый полк драгуны, имя не помнить больше. Он быть барон, но еврей. И как звать третий, не могу тоже знать. Я только знать, что он тем же летом в Инсбруке себя убивать.
— Должно быть, он имеет в виду Хоффера, — сказал Кунце лейтенанту Стокласке.
— Так точно, господин капитан, — подтвердил Бока. — Лейтенант Хоффер. Никто не хотеть верить, что он себя застрелить. Он выглядеть как такой, какой падать перед кайзер с лошадь и только заставлять смеяться.
Кунце не видел Дорфрихтера с того самого допроса, где речь шла о смерти Клары Брассай. Если он ожидал, что заключенный будет в подавленном настроении, то крепко ошибался. Дорфрихтер, который был доставлен старшим надзирателем Туттманном и вооруженной охраной, с его оживленными глазами и розовым лицом, выглядел как самый счастливый человек в австро-венгерской армии.
— Ну, какие же сегодня есть плохие новости, господин капитан? — весело спросил он, когда охрана покинула помещение.
— Не хуже, чем обычно. Я только что узнал, что капитан Мадер вытащил вас однажды из Адрии. Почему вы мне об этом никогда не рассказывали?
Глаза Дорфрихтера потемнели.
— А что, я должен был об этом рассказывать? — раздраженно сказал он. — Как вы знаете, я плохой наездник. А теперь я к тому же еще и плохой пловец.
— Уймитесь, Дорфрихтер! — взорвался Кунце. — Ваши физические данные меня совершенно не интересуют! Единственное, что меня интересует, — это вы или не вы убили человека, который спас вас и вытащил из воды.
— Я уже говорил вам, что не делал этого! Но вы мне не верите и всякий раз притягиваете события, которые к делу не имеют никакого отношения. Я ведь вам говорил, что не убивал Клару Брассай, но вы заставили выкопать ее из могилы, провести вскрытие, и что из этого? Для вас было бы проще и дешевле поверить мне с самого начала.
«Он знает, что мы не нашли никакого яда, — подумал Кунце. — Кто-то рассказал ему о результатах вскрытия и успокоил его. Этим объясняется и то, почему он ведет себя так непринужденно и так спокоен. Шесть недель одиночного заключения должны были оставить след, но этого не произошло. И он ничего не спрашивает о жене и ребенке, хотя раньше все его мысли были заняты только этим. Что, его совсем не интересует, как его жена реагировала на его связь с Кларой Брассай? Он же должен понимать, что все газеты только об этом и пишут. У него есть связь со своей женой? И раньше бывали случаи, когда письма проносились из тюрьмы и обратно».
Кунце снова сосредоточился на арестованном.
— Вы меня удивляете, Дорфрихтер. Ваше тщеславие оказывается временами сильнее вашего инстинкта самосохранения. Если окажется, что Мадер вас спас от гибели на воде, вы были бы просто чудовищем, если хотели его убить. Мне все же не хотелось бы верить, что это вы.
— Откровенно говоря, господин капитан, мне в настоящий момент абсолютно безразлично, что вы думаете. Мне бы только очень хотелось, чтобы вы прекратили эту торговлю. Найдите свидетеля, который бы видел, как я рассылал эти проклятые циркуляры, или того, кто снабдил меня ядом. Но этого вы не сможете сделать, потому что такого человека вообще не существует.
— Возможно, что его не существует. Точно так же можно предположить, что мы его давно нашли.
— Отлично, тогда ведите его сюда и отдавайте меня под трибунал. Пора с этим кончать! Сколько вы еще намерены играть в кошки-мышки?
Кунце встал и подошел к обер-лейтенанту.
— Я вас спросил: вытащил вас Мадер из воды или нет?
— Это вас вообще не касается, черт побери! — взорвался Дорфрихтер. — Распорядитесь его откопать и спросите его самого.
Кунце побледнел:
— На сегодня все!
Сдерживая гнев, он вызвал охрану и распорядился отвести Дорфрихтера в прихожую, где он должен был дожидаться старшего надзирателя, пока тот, кряхтя, спешил вверх по лестнице, чтобы доставить арестованного в его камеру.
— Этот приятель ни разу не спросил о своей жене! — сказал Кунце Стокласке. — У меня такое чувство, что он о ней все знает. Возможно, они уже какое-то время состоят в переписке. — Он закурил сигарету. Как он ни старался, он не мог унять дрожь в пальцах, державших спичку. — Я считаю доктора Гольдшмидта способным на все. Он пытался передать дело в гражданский суд, но это ему не удалось. Сейчас он должен предпринять нечто другое. Он не из тех, кто сдается. — Он чувствовал направленные на него взгляды обоих лейтенантов. Обер-лейтенант Дорфрихтер был не первым подозреваемым, который во время допроса срывался. Но они еще ни разу не видели, чтобы Кунце терял самообладание.
По пути домой он зашел в Бюро безопасности, чтобы поделиться с доктором Вайнбергом своими подозрениями и попросить установить за Марианной Дорфрихтер полицейское наблюдение. Со следующего утра за квартирой Грубер будут следить круглосуточно.
— Кстати, — сказал комиссар, — если бы вы не зашли ко мне, я собирался завтра утром сам вас найти. Полиция в Линце говорила с портье и обер-кельнером отеля «Усадьба», но никто из них не мог или не хотел вспомнить что-либо, связанное с Петером Дорфрихтером. А вчера мне пришло письмо от одного детектива из полиции Линца. Он пишет, что у него есть информация, которая нас заинтересует, и охотно приехал бы в Вену, но его шеф требует, чтобы мы оплатили расходы по командировке. Я послал телеграмму, что мы берем расходы на себя, и завтра утром он должен быть здесь.
9
Йоханн Шифф, детектив, был коренным тирольцем и выглядел так, как будто он по-прежнему жил наверху в горах, а не внизу в городе Линц. Он был одет в темно-зеленый грубошерстный костюм с серебряными пуговицами, тяжелые сапоги и щегольскую фетровую шляпу с пером. Его кожа, задубевшая от ветра и солнца, носила еще оттенки того цвета, который появляется от знакомства с бутылкой. Шеф характеризовал его как одного из способных, достойных доверия сотрудников.
— Прошлой осенью у меня были дела в Вене, и я возвращался пароходом, — рассказал он Кунце. — Это было двадцать первого сентября, день был на редкость для этого времени хороший. Дунай был спокоен, но есть люди, которых только при взгляде на маленькую волну уже укачивает. С одной девицей так и случилось. Звали ее Митци Хаверда. У меня самого две дочери растут, и когда я увидел, что фрейлейн стала просто зеленой и ее выворачивает наизнанку, то попросил капитана, чтобы принесли коньяк, и заставил ее выпить стаканчик. После этого я уговорил фрейлейн прилечь на палубе, и ей стало легче. Она рассказала мне, что едет в Линц по объявлению в газете: «Супружеская чета ищет молодую симпатичную девушку на место прислуги». Она послала свои рекомендации и фотографию, и хозяин ответил ей, что она может приехать и он встретит ее на пристани. Девушка была на редкость хороша собой, и мне показалось странным, что люди не захотели, чтобы она пришла к ним прямо домой. В последнее время было много случаев торговли людьми — молодых девушек завлекали в отели, грабили и продавали в бордели на Восток. Все это меня насторожило. Я сказал девушке, что она должна соглашаться на все, что ей будет предлагать этот человек, а я буду неотступно за ними следить и вмешаюсь, когда сочту это необходимым. — Детектив, вздохнув, сделал паузу. — Ну а дальше все произошло именно так, как я и ожидал. Да, я не сказал, что этот человек написал ей: «Держите розу во рту» — что само по себе было очень странным. Она купила розу накануне вечером в Вене, и, когда мы сошли с парохода и она ее зажала между губами, роза выглядела уже довольно завядшей. Люди удивленно на нее оглядывались, но роза сыграла свою роль: немедленно появился молодой человек, взял ее под руку и повел к ожидавшему фиакру. Она оглянулась, чтобы удостовериться, следую ли я за ними, и я ей сделал знак, что все в порядке. Я слышал, как этот молодой человек назвал кучеру адрес: «В отель „Усадьба“», — сказал он, что еще более усилило мои подозрения. Я поехал за ними. Он, очевидно, заранее заказал в отеле номер, так как провел девушку прямо по лестнице наверх. Я специально отстал от них на половину пролета лестницы и видел, как они исчезли в одном из номеров на третьем этаже. При этом меня заметил один из кельнеров, который сразу же известил местного детектива и управляющего. Они решили, что поймали вора, но я показал им документы и объяснил, с какой целью я здесь. Они сделали вид, что никогда еще гость-мужчина не приводил в номер кого-либо женского пола и что теперь на карту поставлена честь их безупречного по своейрепутации отеля. Конечно, им хотелось, чтобы я предоставил им самим разбираться с этим делом, но я настоял прервать это tête-à-tête прямо сейчас. Дверь была заперта, но служащие открыли ее без проблем. Парочка сидела за столом, на котором красовались миндальный торт и бутылка вина. Молодой человек начал возмущаться, но я предложил ему пройти со мной в отделение. Тогда он поостыл и представился как обер-лейтенант Дорфрихтер. Он признался, что заманил девушку в отель под фальшивым предлогом. Но все это он расценивал как «невинное приключение», тем более что фрейлейн не возражала. Линц — гарнизонный город, вы должны это знать, господин капитан, и обычно мы смотрим сквозь пальцы на эскапады господ офицеров. Когда командир полка подтвердил его личность, я согласился дело прекратить. Мы прошли в комендатуру полка, это находится недалеко от отеля, и дежурный офицер подтвердил все, что касается обер-лейтенанта Дорфрихтера.
— А вы сообщили командиру, зачем вы хотели подтвердить данные по обер-лейтенанту?
— Так точно, господин капитан. Я надеялся, что обер-лейтенант получит приличную взбучку.
— И что, он ее получил?
— Нет, господин капитан. Дежурный офицер воспринял все вообще как веселую историю. Он даже пообещал ничего не сообщать жене обер-лейтенанта. Так я узнал, что господин обер-лейтенант Дорфрихтер действительно женат.
— Вы случайно не знаете фамилию офицера?
— Знаю, господин капитан, — ответил детектив и вынул свою записную книжку. — Это был лейтенант Ксавьер Ванини. Я записал его фамилию, потому что мне вообще не понравилось, как он себя вел. Я вам уже говорил, что у меня самого две дочери, и я бы не считал это веселой историйкой, если бы какой-нибудь молодой человек заманил их в отель.
«Ванини». Кунце на секунду задумался, где он слыхал это имя, и тут же вспомнил. Офицер, чей ординарец пытался купить цианистый калий в аптеке Ритцбергера. Не было ничего необычного в том, что это имя всплывает во второй раз. Кто-то должен был дежурить в комендатуре, какой-нибудь лейтенант из 14-го пехотного полка. В этот вечер дежурил Ванини. Чистая случайность.
— А что вы сделали с фрейлейн? — спросил Кунце.
— Я сказал, чтобы она ждала меня в холле отеля. Когда я все уладил в комендатуре, я проводил ее на вокзал, купил ей билет в третьем классе и посадил на поезд в Вену. Я полагал, что никогда больше ее не увижу. Представьте мое удивление, господин капитан, когда неделю спустя я столкнулся с ней в переулке Моцартгассе. Сначала она пыталась мне врать, что она здесь проездом, но, когда я пригрозил, что арестую ее за бродяжничество, призналась, что живет с господином обер-лейтенантом в Вальдеке. Это пригород Линца.
— Живет с ним? Разве он жил не дома?
— Он снял ей комнату и посещал ее каждый день. Иногда и ночью. Я ее предупредил, что она должна покинуть Линц в двадцать четыре часа, иначе арестую ее за проституцию. Это привело ее в ужас, а обер-лейтенанта, наверное, в еще больший, так как на следующий день она исчезла.
— Вы говорили об этом с господином обер-лейтенантом?
— Нет, господин капитан. У нас есть указание: в отношении господ офицеров соблюдать тактичность и дипломатию. Служба в мирное время бывает чертовски скучной, и время от времени молодые люди должны немного расслабиться. Но с этой девушкой совсем другое дело. Она была дочерью доброго честного ремесленника. В таком случае мы делаем все возможное, чтобы направить девицу на путь истинный.
Кунце задумчиво смотрел на этого человека. Детектив на службе в полиции, хранитель и исполнитель закона в городе с населением шестьдесят пять тысяч человек. Человек с прямо-таки библейским понятием долга, который плюет на все законы и предписания, когда они представляются ему непрактичными, готовый всегда с энтузиазмом ревностно тянуть свою лямку, как все его начальники, как вся австрийская бюрократия.
Он ничего не имеет против, когда молодые офицеры хотят «расслабиться» — это ведь в итоге идет на пользу «фатерланда» — и в то же время наставляет дочь рабочего человека на путь истинный — также для пользы отечества.
— Скажите, чтобы привели Дорфрихтера, — сказал Кунце лейтенанту Стокласке. Когда тот вышел из бюро, Кунце обратился к детективу:
— Господин Шифф, я хочу, чтобы вы внимательно посмотрели на господина обер-лейтенанта Дорфрихтера, когда он придет. Я затем спрошу вас, узнаете ли вы в этом человеке того, которого двадцать первого сентября прошлого года видели в Линце в обществе молодой женщины в номере отеля «Усадьба». Если это он, отвечайте только одним «да». Не больше и не меньше. Это все, что я от вас хочу. После этого лейтенант Хайнрих проводит вас в бухгалтерию, там вы получите свои командировочные. Я вам очень признателен за то, что вы приехали в Вену и сообщили очень ценные сведения.
Пока Дорфрихтера не привели, Кунце занялся бумагами на своем письменном столе. Он пытался сосредоточиться, но его мысли путались. То, что сейчас снова они с Дорфрихтером будут стоять друг против друга, заставляло его нервничать. Как всегда, он боялся этой встречи и одновременно ждал ее. Он не мог больше себя обманывать: то, что он так отчаянно желает, — это признания этого человека. Конечно, он этого страстно ждет, причем нетерпеливо, но должно произойти и еще нечто большее.
Он всегда гордился тем, что на протяжении всей своей жизни мог контролировать свои чувства. А теперь, в зрелом возрасте, внутри его завелась какая-то инфекция, развилась некая болезнь, которую никакими лекарствами не излечить. В спокойные минуты он говорил себе, что это все должно со временем пройти. Пока же он сам не мог разобраться в своем отношении к Дорфрихтеру. Иногда ему казалось, что настоящую цену имеют только те моменты, когда они встречались. На протяжении всех дней его жизни они будут представляться ему как зеленеющие острова в монотонном, мутном потоке ушедшего времени.
Как обычно, Дорфрихтер появился в комнате, сопровождаемый старшим надзирателем Туттманном и солдатом с примкнутым штыком. Увидев детектива, он остановился, остолбенев, на пороге. Бросив на Кунце враждебный взгляд, Дорфрихтер демонстративно встал по стойке «смирно». Стокласка и Хайнрих, встав, отдали ему честь.
Кунце ограничился кивком. В присутствии Дорфрихтера ему стало казаться, как будто в воздухе начинает исчезать кислород и становится тяжело дышать. Одновременно его чутье охотника не упустило момента испуга арестованного, когда он неожиданно увидел детектива. При появлении других свидетелей такого никогда не происходило.
Кунце отпустил конвой и обратился к детективу:
— Господин Шифф, пожалуйста, подойдите ближе и скажите мне, приходилось ли вам видеть господина обер-лейтенанта раньше?
С момента появления Дорфрихтера в комнате Шифф неотрывно смотрел на него.
— Так точно, господин капитан, я видел однажды господина обер-лейтенанта.
— Идет ли в данном случае речь о человеке, которого вы видели в Линце двадцать первого сентября, когда он встречал на пристани девушку по имени Митци Хаверда и которого вы часом позже встретили в номере отеля «Усадьба» с той же девушкой?
— Да, это он, господин капитан.
— Спасибо, господин Шифф. Вы можете идти.
Детектив неловко поклонился. Кунце и Стокласка пожали ему руку, а лейтенант Хайнрих вышел вместе с ним. На пороге Шифф повернулся и бросил прощальный взгляд на Дорфрихтера, но тот смотрел в другую сторону. Как только за ними закрылась дверь, Дорфрихтер с наигранным негодованием обратился к Кунце:
— Зачем, черт побери, вы это сделали? Ну хорошо, я спал с этой девицей. И что, это доказывает, что я убил Рихарда Мадера?
Его легкомысленный тон застал Кунце врасплох. Ни один подозреваемый не стал бы так говорить со своим следователем, скорее это был тон разговора двух товарищей. Это было гораздо хуже, чем открытая враждебность.
— Какого черта, Дорфрихтер, вы заманили обманным путем ничего не подозревавшую девицу в Линц, тут же повезли в отель с единственной целью ее соблазнить.
— Да, а почему бы и нет? Вы когда-нибудь слышали, чтобы мужчина в отеле играл с девицей в шахматы? А что касается вашего обвинения, что я ее под фальшивым предлогом заманил в Линц, то это выглядит так только на взгляд этого старого пня детектива. Уже на присланной фотографии было видно, что девица не собирается особенно утруждать себя работой. Она написала также, что мыть окна и скрести полы она не желает, что она до сих пор работала только у холостяков и вдовцов. Моя жена тут же решила ее не брать. Между прочим, жена в этот момент была на шестом месяце, с самого начала беременности я ее не касался по совету врача. Девица на фотографии выглядела просто красоткой, и я решил рискнуть и написал ей. Она приехала и была совсем не против отправиться со мной в отель. Мы как раз мило болтали, когда ворвался детектив и потащил меня в комендатуру. Она уехала, и я думал, что с этой историей все кончено. Но через день от нее пришло письмо, в котором она спрашивала меня, можно ли ей вернуться в Линц. Само собой, я ухватился за это обеими руками — а кто бы поступил иначе? Остальное вы знаете. И вы должны согласиться, господин капитан, что я в общем и целом никакой не негодяй. Вообще-то она и не была девицей — если вы этого опасались, — то есть никакого непоправимого вреда нанесено не было.
Кунце не мог сдержать смеха.
— Вас ничем не проймешь, Дорфрихтер.
У капитана почти не было сил противостоять этому бесстыдному шарму. Нахальное самомнение Дорфрихтера делало его еще более привлекательным. Кунце долго изучающе смотрел на него. Перед ним сидел необычайно привлекательный молодой человек с нежной бледной кожей ангела с фресок Типоло, с теплыми, выразительными глазами охотничьей собаки и похотливой нижней губой испанского Бурбона.
— Ваша жена знала о Митци Хаверда?
Кожа с фрески Типоло стала еще бледнее.
— Нет, конечно нет. Можно мне задать вопрос, господин капитан?
— Пожалуйста.
— Вы женаты? — Тон, которым был задан этот вопрос, привел Кунце в некоторое замешательство.
— Нет.
Дорфрихтер ухмыльнулся.
— Я так и думал! Если бы вы были женаты, вы бы знали, что измена супруга до тех пор является безобидным поступком, пока об этом не узнает жена. Но уж если его поймали — это самое тяжкое преступление, и нужно радоваться, если за это получишь только пожизненное наказание. — Он немного помолчал. — Я надеюсь, пресса об этом не пронюхает. Я имею в виду историю с Митци. Моей жене и так досталось и со мной, и с ребенком. Она не сможет понять, насколько это не имеет никакого значения и что эта Митци для меня вообще ничто. Боже мой, господин капитан, вы мужчина, и мне не нужно перед вами оправдываться. Женщины — это совсем другое. Они не желают просто так примириться с фактами. Особенно моя жена. Она будет страдать, а ей уже довольно много пришлось перенести. Есть же какой-то предел того, что человек может вынести.
— Об этом вам нужно было думать в сентябре.
— Все правильно, господин капитан! В сентябре, да ведь это было в другой жизни! Тогда мы были обыкновенной супружеской парой, а не такие чудовища, как сегодня! Я до тех пор никогда не изменял своей жене и не собирался вводить это в привычку. Как я мог себе представить, что уже через несколько месяцев самый незначительный пустяк в моей жизни станет предметом болтовни от Зальцбурга до Мостара? — Он глубоко вздохнул. — Господин капитан! Все в вашей власти, чтобы из этого бюро наружу ничего не просочилось. Я покорнейше прошу случай с Хавердой скрыть от прессы. Не ради меня, а ради моей жены. Пожалуйста, пожалейте ее!
Впервые с момента допросов Дорфрихтер показал, что и он уязвим. Как у любого человека, у него была своя ахиллесова пята. Это была маленькая женщина с обезображенным беременностью телом и ангельским личиком. Кунце не видел Марианну с момента обыска в квартире Грубер и поэтому представлял ее такой. И такой же, думал он, должен и Дорфрихтер представлять себе свою жену. «В чем же кроется ее власть над ним?» — размышлял Кунце. Конечно, не в сексе дело, иначе Дорфрихтер не связался бы с этой деревенской простушкой Митци. И не остроумие или особый интеллект — она не производила впечатление чего-то особенного в этом смысле. Или все дело в том, что она родила ему сына? Нет, как и прежде, он беспокоился о ней гораздо больше, чем о ребенке. Остается только признать, что его чувство к ней, и это очевидно, является тем фактором, который способен поддерживать в нем чувство душевного равновесия.
— Я вам ничего не могу обещать, — сказал Кунце. — Перед зданием постоянно околачиваются несколько репортеров. Если они узнали детектива и пронюхали, зачем он был здесь…
Лицо Дорфрихтера помрачнело.
— С его отвратительным стремлением к правопорядку он им с восторгом все выложит!
— Я не могу ему в этом помешать. Лично я практически ничего по возможности репортерам не сообщаю. За это на меня нападают в прессе, да и в парламенте критика стала довольно громкой. Меня упрекают в недостаточном сотрудничестве. Вы бы удивились, узнав, как они меня только не называют.
— Другие нападают на моих сторонников. — Дорфрихтер бросил на Кунце хитрый взгляд. Это не было вопросом, а как бы констатация.
Кунце кивнул:
— Похоже, что так.
— Все будут рады, если вы в итоге должны будете отпустить меня на свободу! — Обер-лейтенант улыбнулся. — Конечно, ваше представление к майору тогда задержится.
«Я делаю это совсем не для того, чтобы получить звание», — хотел было сказать Кунце, но воздержался. Как можно объяснить мотивы своего поведения человеку, который ради карьеры хотел убить десять своих товарищей? Или он это не совершал? — вдруг пришло ему в голову. Разве не он, Эмиль Кунце, был единственным, кто упорно настаивал на вине заключенного? Разве не сомневались на том или ином этапе все, кто занимался этим делом, в вине Дорфрихтера? Это сомнение не раз видел он и в глазах своих сотрудников Стокласки и Хайнриха. Он смотрел на улыбающееся лицо напротив своего стола и мучительно хотел прочесть мысли, скрывающиеся за этим гладким лбом. В век, когда человечество осваивает глубины океана и тайны Вселенной, мир отдельного человека остается туманным и необъяснимым.
— Вы просто упрямец, Дорфрихтер, — убежденно сказал Кунце. — Вы не желаете признать, что эту игру можете проиграть.
— Я проиграю, возможно, один-два раунда, но не всю игру! Я высоко ценю вашу проницательность, господин капитан, но думаю, что вы находитесь в плену более или менее устаревших представлений. В этом вы едины с Иосифом де Майстром, когда говорите: «Проигранная битва — это битва, в которой человек думает, что он ее проиграл, хотя на самом деле физически проиграть ни одну битву нельзя!» Вы пытаетесь сломить мой боевой дух, заперев меня в одиночной камере, вы взываете к духам моего прошлого, раскапываете ничего не значащие любовные истории. Такой способ ведения боевых действий был оправдан во времена Наполеона, а сейчас на заводах Шкода делают трехсотмиллиметровые мортиры, а Крупп производит четырехсотдвадцатимиллиметровые пушки. Если вы хотите меня победить, вводите в бой ваши орудия главного калибра. Докажите, что у меня был цианистый калий, что я размножил циркуляры и отправил их по почте! Без этого, господин капитан, у вас нет ни малейшего шанса, — он сделал паузу, — а сейчас, когда мы все это выяснили, вы позволите мне присесть?
— Ну разумеется. — Ему было неловко, что он все это время заставил арестованного стоять. Он достал свой портсигар. — Хотите закурить?
Дорфрихтер взял сигарету, и Кунце протянул портсигар Стокласке. Лейтенант зажег спичку и дал каждому прикурить.
— Одной спичкой дать прикурить троим приносит несчастье, — сказал Дорфрихтер. — Но даже если это верно, ко мне это не относится. Я и так уже скатился дальше некуда. Для меня все должно идти только к лучшему.
10
Широкоплечий, довольно большого роста человек стоял с самого полудня, когда он сменил своего коллегу, в насквозь продуваемом проезде. Сейчас было уже четыре, ноги промерзли до костей, и искушение зайти в пивную на углу и там сквозь окно наблюдать за входом в дом было велико. Но тогда была вероятность упустить ту женщину, за которой он следил накануне весь день и с трудом поспевал за ней. Она была на редкость шустрая и непредсказуемая и в конце концов в уличной суете просто исчезла.
Он все еще боролся с собой, не вправе ли он пропустить стаканчик вина, как она вынырнула из тени въездных ворот. В наступавших сумерках она казалась еще меньше, чем он ее представлял. Рост один метр двадцать пять сантиметров — написал он в своем рапорте, но сейчас он прикинул, что не больше одного метра пятнадцати сантиметров. Когда комиссар Вайнберг попросил описать ее, он не знал, как ее назвать — женщиной, похожей на карлицу, или карлицей большого роста. На ней было то же темно-серое зимнее пальто с каракулевым воротником, что и вчера, и муфта из того же меха. Она была похожа на маленькую девочку, собравшуюся на маскарад.
И в этот раз, прежде чем отправиться в путь, она задержала взгляд на тротуаре и оглядела улицу слева и справа. «Делает она это из предосторожности?» — спросил себя детектив. Знает она, что за ней следят? Скорее всего нет, она двинулась в путь размеренным шагом, не оглядываясь. Он должен был дать ей удалиться, что, конечно, осложнило слежку. Когда женщина свернула на Турецкую улицу, стало ясно, что ее цель — квартира Грубер в Хангассе, номер 32. На Дойчмайстерплац детектив, вместо того чтобы следовать за ней, нырнул направо и почти бегом устремился вдоль Дунайского канала. Едва переводя дух, он быстро миновал переулок Грюненторгассе и появился у дома Грубер за минуту до женщины. Перед тем как войти в дом, детектив обернулся и увидел на противоположной стороне улицы своего коллегу. Поднимаясь по лестнице, он услышал стук ее каблуков на каменных ступеньках и замедлил шаг. Женщина как раз пыталась пройти мимо него, когда он протянул свою огромную лапищу и схватил ее за руку. «Как маленькое хрупкое птичье крылышко», — подумал он. На какую-то секунду растерявшись, она тут же грязно выругалась и попыталась вырваться.
— Полиция, фрау Пауш, — прохрипел он. — Вы арестованы!
Между тем второй детектив бегом поднялся по лестнице, схватил женщину за другую руку, и они повели ее вниз, к фонарю у входа.
— Вы не имеете права так обращаться со мной! — закричала она. — Вам здесь не Россия! Я порядочная женщина! Я австрийская гражданка! Вы мне за это заплатите! В этой стране еще есть суд! Да я до самого кайзера дойду!
— У кайзера хватает дел, фрау Пауш, — пробормотал детектив. Он часто удивлялся, насколько бессовестны люди. Поймают вора на месте преступления, и первое, что от него слышишь, — это имя кайзера. — Отдайте мне письмо, фрау Пауш!
— Какое письмо? — спросила она.
— Вы прекрасно знаете, что я имею в виду. Если вы не отдадите письмо добровольно, мы вынуждены будем вас обыскать.
— Без ордера на обыск вы не имеете права!
— Вот ордер, фрау Пауш. — Дюжий детектив показал ей при свете фонаря выданный накануне ордер на обыск. Он был заполнен четким канцелярским почерком, и в подлинности его сомневаться не приходилось.
Она прочитала ордер, нахмурив брови.
— Ну, ладно, — сказала она. — Я отдам вам письмо, но не здесь. Я его запрятала в кофточку.
Ее упрямый взгляд давал ясно понять, что она не собирается доставать его оттуда.
На другом конце провода звучал голос доктора Вайнберга.
— Ваша интуиция вас не подвела. У Дорфрихтера была связь с его женой. Уже довольно давно. Мы поймали почтового голубка с его письмом под крылышком.
— Голубка? — переспросил Кунце.
— Одну женщину.
— Кто она?
— Портниха по имени Софи Пауш.
— Никогда не слыхал.
— У нас тоже не проходила. Я ее задержал. Она у нас в бюро. Не хотелось бы говорить об этом деле по телефону. Лучше, если бы вы выбрали время и зашли как-нибудь после обеда. Вас устраивает?
Кунце бросил взгляд на часы на письменном столе.
— Конечно. Я сейчас же приду.
На первый взгляд женщину в потрепанном кресле в кабинете доктора Вайнберга можно было бы принять за ребенка. Но, когда она подняла голову, при свете лампы стали видны желтая, как пергамент, кожа и неизбежные следы возраста. Только глаза смотрелись молодо, были темными и блестящими, как у пойманной в ловушку мыши. Под зимним пальто у нее было шерстяное зеленое платье, на ногах — двухцветные сапоги со шнуровкой.
Вайнберг и Кунце пожали друг другу руки, и комиссар обратился к женщине:
— Это капитан Кунце. Вы не должны его бояться. Расскажите ему все честно и откровенно, и он позаботится, чтобы вы отделались незначительным наказанием.
— По мне, так он может меня расстрелять, мне наплевать. — Ее голос был пронзительным, как у уличного мальчишки. — Я переживаю только за моего брата. Что с ним будет? — Она вскинулась на Кунце с видом боевого петуха.
— Ее брат? — Кунце вопросительно посмотрел на Вайнберга.
— Это как раз то, что я не хотел говорить вам по телефону. Она сестра старшего надзирателя Туттманна, — с несчастным видом сказал комиссар.
Кунце смотрел на Вайнберга не находя слов.
— Нет, — наконец сказал он, и его удивление сменилось злостью. Он не мог бы сказать, злостью на Туттманна, Дорфрихтера или на эту карикатурную пичугу. — Он что, сошел с ума? — Он обратился к женщине: — Что его заставило пойти на это? Деньги? Кто его подкупил? Фрау Дорфрихтер? Доктор Гольдшмидт?
— Никто его не подкупал, — ответила женщина, повысив голос. — Его никакими деньгами не купишь. Вы, наверное, этого не знаете, господин капитан. Если он не офицер, вам и дела нет, что он за человек. Вы, господа, смотрите только на форму, а никогда на человека, который ее носит.
Это был просто водопад слов. Кунце с Вайнбергом безуспешно пытались ее остановить. Наконец комиссар потерял терпение и рявкнул так, что, как показалось Кунце, зазвенели стекла окон.
— Тихо! Ни слова больше, черт побери! Отвечайте только на вопросы господина капитана. Если не будете отвечать, ваш брат всю жизнь проведет в кандалах!
Взгляд, который она бросила на него, был довольно странным:
— Меня вы, господин комиссар, не запугаете. В наше время никого в кандалах не держат. Ну ладно. — Она повернулась к Кунце: — О чем вы хотели меня спросить?
— Кто вас заставил это делать?
— Никто меня не заставлял. Я это делала добровольно.
— Я вам не верю.
— А я от вас другого и не ожидала. Вы человек, который таких, как я, понять не может.
— Ближе к делу, черт побери! — заорал на нее комиссар.
— Хорошо. Так вот. В газете я увидела фото этой бедной милой женщины, которая только что родила, а от моего брата я слышала каждый день, что Дорфрихтер очень хороший человек. Никогда за свою жизнь он не видел такого мужественного заключенного, говорил мой брат! И вот однажды вечером я ему и говорю — он холостяк, и я веду его хозяйство: Йоханн, говорю я, мы должны помочь этим несчастным. Это наш христианский долг, Йоханн. Он долго не хотел и слышать, но я все время заводила разговор об этом, и наконец он сказал, что поговорит с обер-лейтенантом. А я побежала между тем к фрау Дорфрихтер. Долго пришлось ее уговаривать, пока она наконец мне поверила. Я ей говорю: «Проверьте разок меня, вы же ничем не рискуете!» И тогда она дала мне коротенькое письмецо, я передала его брату, а он — господину обер-лейтенанту. Потом мой брат положил пачку бумаги и карандаш под подушку господина обер-лейтенанта. А я отнесла его письмо фрау Дорфрихтер. В жизни не видела такого красивого почерка, каждая строчка как бисером написана!
— И когда это началось? — спросил Кунце.
— Недели две назад. Поверьте, мой брат в жизни этого бы не сделал, если бы не Рождество. Это просто бесчеловечно, невиновного человека запереть в клетке, как дикого зверя, чтобы он и поздравление с Рождеством не мог получить от своей семьи.
— Откуда же вы знаете, что он невиновен? — История была малоправдоподобна, но Кунце был склонен в нее поверить.
— Потому что он так говорит. Вообще-то все так думают. Всякий считает, что он невиновен.
Это было Кунце известно. Каждый день он получал анонимные письма: в одних его умоляли освободить заключенного, в других оскорбляли и даже угрожали. Появляющиеся в газетах фотографии изображали молодого офицера, который с абсолютно невинным взглядом улыбался в камеру. В нем не было ничего отталкивающего. Он излучал теплоту и любезность. Многие женщины вырезали его фото из газет и прикрепляли рядом с изображениями своих театральных кумиров. Шарм, который ощущался при личном общении с ним, был таким непреодолимым, что даже такой человек, как старший надзиратель Туттманн, не устоял и поставил под удар всю свою карьеру.
— Вы утверждаете, что ни вы, ни ваш брат денег от Дорфрихтеров не получали?
— Конечно нет, господин капитан. — И она гордо выпрямилась во весь свой рост.
— А вам предлагали деньги?
— Да, фрау Дорфрихтер. Но я отказалась.
— Очень благородно, — сказал Кунце, покачав головой. Он бросил комиссару полный удивления — на что еще способны люди, — но и с долей сомнения взгляд. — И что было дальше?
Доктор Вайнберг протянул ему сложенный листок бумаги.
— Это письмо, с которым мы ее поймали.
Листок был покрыт с двух сторон красивым беглым почерком. Строчки были подобны нитям с нанизанным на них жемчугом. Кунце пробежал письмо. В нем Дорфрихтер признавался своей жене в глубокой, непоколебимой любви. Кунце поразило, что человек со столь высоким интеллектом, подобно школяру использовал такие избитые и местами пошловатые обороты. «Видимо, для выражения любви, — подумал Кунце, — арсенал слов довольно ограничен; но кому не кажутся неистовые страсти других мужчин чем-то преувеличенным?» Мысли постоянно возвращались к письму Дорфрихтера: его никогда не сломить, пока Марианна Дорфрихтер в него верит. Он, мол, невиновный, который борется с огромной несправедливой силой. Но благодаря ее любви он в этой борьбе может победить.
Когда фрау Пауш была уведена, комиссар Вайнберг сказал:
— Я вам не завидую, господин капитан. Вот уже тридцать пять лет я в полиции, но такого сложного дела не припомню. Я имею в виду такого запутанного для следователя.
Кунце продолжал разглядывать письмо.
— Верите ли вы, господин комиссар, что он невиновен? Я имею в виду, закрадывалось ли у вас сомнение?
Вайнберг на секунду задумался.
— Не могу сказать определенно. Иногда да. Но я, вы понимаете, не нахожусь в таком тесном контакте с этим человеком, как вы. Тот факт, что такой безупречный служака, как Туттманн, пошел у него на поводу, я бы не слишком преувеличивал. Самый искусный соблазнитель, которого я за всю службу встречал, был один растратчик. Он был такой замечательный собеседник, что я чувствовал себя просто покинутым, когда пришло время передать его судье. Это одна из опасных сторон нашей профессии — иногда нам преступники кажутся гораздо привлекательнее, чем честные граждане, зачастую более интересными как личности. Они воплощают в себе нечто загадочное и угрожающее, что у простых граждан встречается редко.
У Вайнберга было такое чувство, что Кунце его вообще не слушал. Капитан о чем-то задумался.
— Если вы не возражаете, господин комиссар, — сказал Кунце, — я бы хотел проделать один эксперимент. Я хочу, чтобы обмен писем между Дорфрихтером и его женой продолжился.
Вайнберг кивнул.
— Да, это, я думаю, стоит сделать.
— Но как? Я не думаю, что эта Пауш согласится сотрудничать. Идеалистам трудно внушить что-то разумное. В принципе они ужасны.
— Я тоже не думаю, что с ней что-то получится. У нас в Бюро безопасности есть одна сотрудница. Она могла бы отправиться с письмом Дорфрихтера к его жене и сказать, что фрау Пауш заболела.
Кунце кивнул.
— Туттманна я распоряжусь сегодня арестовать, но не в служебное время, а у него на квартире. Его арест должен держаться в тайне, особенно от прессы. На место Туттманна я поставлю абсолютно надежного человека. Он скажет Дорфрихтеру, что Туттманн заболел. Остается только надеяться, что Дорфрихтер ничего не заподозрит.
— И что вы хотите этим добиться?
— Минуту, я еще не закончил. Я хочу проинформировать прессу об истории с Митци Хаверда.
Комиссар посмотрел на него озадаченно.
— Когда?
— Чем скорее, тем лучше.
— Вы хотите, стало быть, сломать Дорфрихтера морально.
— Да, именно этого я и хочу.
— И вы полагаете, с оглаской этой истории вам это удастся?
— Да, я надеюсь. Его жена будет оскорблена до глубины души и, возможно, даже окажется в стане его противников. Этого-то он и боится, иначе не просил бы меня сохранить эту историю в тайне.
На следующий день в «Новой свободной прессе» появился эксклюзивный материал об афере с Митци Хаверда. Марианна Дорфрихтер еще спала. С момента ареста ее мужа сон был единственным убежищем от всего этого ужаса. За ночь она вставала дважды покормить ребенка, но быстро засыпала снова. Йоханн Людвиг — его крестили днем раньше, Йоханн — имя в честь деда со стороны отца, Людвиг — со стороны матери — был на редкость спокойный ребенок. Марианна боялась, что все треволнения перед родами могли сказаться на ребенке, но этого не случилось.
Радость материнства, обычную для молодых мам, Марианна как-то не ощущала. Ей трудно было представить, что это крохотное существо — ее дитя и она за него всю жизнь, по крайней мере пока он не вырастет, несет ответственность. Будущее внушало ей и без того страх, а иногда и моменты отчаяния, когда разлука с мужем казалась вечной, особенно теперь, когда визиты фрау Пауш стали редкими. Теперь она знала по крайней мере, что Петер по-прежнему ее любит. Его письма успокаивали ее, но и вызывали очаянную тоску по нему. Ночами Марианну преследовали сны, а когда она просыпалась, все тело ныло от неутомленной страсти. И это тоже пугало ее, так как до сих пор сексуальные потребности она считала привилегией мужчин; женщины для того и были созданы, чтобы идти навстречу этим потребностям, и совсем не обязательно при этом получать еще и удовольствие.
Хотя Марианна и любила своего мужа больше всего на свете, в номер отеля в Бадене недалеко от Вены, где они должны были провести свадебную ночь, она зашла, дрожа от страха, как овечка перед закланием. Она понятия не имела, что ей предстоит.
Свадебная ночь была позади. Но еще день после этого она пребывала в каком-то трансе. Переход от пьедестала к постели был слишком быстрым. Марианна никогда еще не видела мужчину в кальсонах, а еще меньше мужчину в кальсонах, который бы рядом с кроватью мочился в ночной горшок. Она закрыла глаза, заткнула пальцами уши и взглянула на него только тогда, когда он был полностью одет в свою форму с золотыми галунами и блестящими пуговицами. Даже тогда он показался ей совершенно чужим, и она не могла обнаружить в себе ни малейшего проблеска той любви, которую еще недавно к нему питала. «В душе глухо и пусто, — отвлеченно думала она о себе. — Остается только монастырь или покончить с собой». И вдруг все изменилось. Момент этого необъяснимого превращения навсегда остался в памяти. Они собирались на прогулку, и он спустился вниз раньше и ждал ее возле отеля. Она вышла из дверей, и, когда увидела его стройную, грациозную фигуру на фоне полного осенними красками сада, ее как пожаром охватило любовью к нему. Казалось, что он был в отъезде и, когда она считала его уже погибшим, вернулся целым и невредимым. Она побежала и прижалась к нему изо всех сил. Тело, которое ей казалось прежде чужим, стало таким же близким, как и ее собственное. Она никогда не рассказывала ему о муках этих первых дней. Если он что-то и заметил, то принял это, вероятно, за естественную реакцию девушки, потерявшей свою невинность.
Он был опытным любовником и сумел, после того как прошел первоначальный шок, разбудить в ней женщину. Она наслаждалась каждой минутой, когда они были вместе, но принимала физическую близость как венец. Когда они обставляли свою квартиру, то позаботились о хорошей спальне с достойными супружескими кроватями, но она предпочитала спать с ним вместе в его кровати. Она испытывала ревность к каждой минуте, которую он проводил с другими, и заставила его держаться подальше от холостяцких привычек его друзей, их карточных игр и мужских вечеринок. Ее беременность была первым перерывом в их счастливой супружеской жизни. В конце июля, на пятом месяце, появились кровотечения, и врач посоветовал им полное воздержание от супружеских радостей; с этого времени они спали с Петером в разных кроватях. Она стала считать свою беременность отвратительной, а свою располневшую фигуру непристойной. Петер был по-прежнему нежен и мягок и заверял ее, что половое воздержание совсем не такая большая цена за этот бесценный подарок — их дитя. Она верила ему, потому что хотела верить, но чутко прислушивалась, когда он возвращался домой, к интонациям его голоса и внимательно его разглядывала. Его пребывание на службе казалось ей ужасно долгим, но он был всего несколько месяцев назад переведен из Сараево в Линц, а она знала, что в каждом гарнизоне свои порядки. Нетерпеливо считала она дни до родов, но прежде, чем это время наступило, все вокруг нее рухнуло.
В это январское утро, проснувшись, она бросила взгляд на часы. Было пять минут десятого. Йоханн спал, и в квартире было тихо. Мать, вероятно, была внизу, в магазине, а горничная ушла, скорее всего, на рынок за покупками. Марианна поднялась, накинула халатик и новые домашние туфельки, подарок к Рождеству от сестры Тильды, и направилась в столовую взять утреннюю газету. Это было всегда первым, что она, проснувшись, делала. Втайне она надеялась однажды утром прочитать, что Петер свободен. Когда к делу подключился доктор Гольдшмидт, на короткое время все они воспрянули духом, но после того, как ничего не произошло, Марианна была горько разочарована. Однако она продолжала верить в адвоката, как и в то, что муж ее в конце концов будет освобожден.
В столовой газеты не было. Обычно мать клала ее всегда на буфет. Марианна в душе обругала горничную, которая во время уборки комнаты куда-то ее засунула. Она собралась идти на кухню, чтобы поискать там, как открылась входная дверь и появилась горничная с двумя тяжелыми сумками в руках. За ней в комнату хлынул морозный январский воздух, прямо Марианне в лицо.
— Где сегодняшняя газета? — спросила она.
Девушка пожала плечами:
— Откуда мне знать? — Она поставила сумки, подула на ладони и принялась распаковывать продукты.
— Пойди на улицу и купи газету на углу.
Девушка, не глядя на нее, спросила:
— Что, прям сейчас?
— Да, прямо сейчас.
— На вашем месте я бы ни в жисть седни газету не читала, — сказала она с явным оттенком неприязни в голосе.
У Марианны внезапно закружилась голова. Наверное, в газете были плохие новости, поэтому мать ее спрятала. «Петер признался», — пронеслось у нее в голове, но она тут же постаралась взять себя в руки. Мысль эта все равно не уходила.
— Принеси мне газету! Немедленно!
Девушка передернула плечами, бросила на Марианну злобный взгляд и вышла, громко хлопнув дверью. Прошло пятнадцать минут, пока она не появилась снова. Марианна сидела на кухне, спрятав лицо в руках. Когда горничная появилась, Марианна подняла голову.
— Почему ты ходила так долго? — спросила она страдальческим голосом.
— Сичас все расскажу. Должна была бежать аж до Шоттенгинга. Ни в одном киоске во всей округе ни единой газеты не осталось. — Она смотрела на Марианну выжидающе.
Марианна схватила газету и ушла из кухни. В своей комнате она раскрыла газету на кровати. История с Митци Хаверда помещалась на третьей странице. Газета проделала большую работу: ее репортеры успели побеседовать и с Митци и с детективом. Информация полиции Линца полностью подтвердила сведения, полученные капитаном Кунце.
Марианна прочитала статью три раза подряд, пока до нее дошел весь смысл изложенного. Она вспомнила, что Митци Хаверда была одной из претенденток, которые откликнулись на ее объявление в сентябре о том, что им требуется горничная. Она вспомнила даже фотографию: симпатичная девица в прилегающем деревенском платье, с косами, уложенными на голове à la королева Елизавета. Повинуясь какому-то инстинкту, Марианна сразу же ответила ей отказом. Она отдала фотографию Петеру, чтобы он отослал ее назад. Вместо этого он ушел и вызвал эту потаскуху в Линц, снял для нее комнату, в то время как она с трудом ходила и выглядела ужасно из-за его ребенка. «Я не поверю больше ни единому его слову!» Заверяя, что любит только ее, он тем временем спал с этой дешевкой, которая требовала платить ей сорок крон в месяц, не желая при этом ни окна мыть, ни полы.
Боль была такая нестерпимая, что она застонала. Ребенок проснулся и изо всех сил начал плакать. Марианна вскочила с кровати. Она убьет себя и ребенка. Вместе с ним выпрыгнет из окна. Она была уже у кроватки и схватила дитя, когда до сознания вдруг дошла вся абсурдность ее намерений. Его тельце будет наверняка разбито об асфальт, а она останется в живых. Ее руки опустились, она упала на колени, уткнувшись лицом в детскую подушечку с вышитыми словами: «Не забывай меня» — подарком ее сестры Тильды. Марианна чувствовала вокруг себя смертельную пустоту. Один круг замкнулся, и она не видела никаких оснований начинать новый. Существует два сорта людей: солнце и спутники. Она была урожденным спутником, а теперь ее солнце под собственным огнем обратилось в пепел, и она, Марианна, кружит в пустом пространстве. Странным образом ее гнев обратился не против супруга, а против самой себя, как будто она совершила тяжкий проступок. Марианна хотела для себя наказания, причинить себе боль и страдания, как искупление за ее неизвестно какие прегрешения. В отчаянии окинула она взглядом комнату, на глаза ей попались ножницы, лежавшие на начатой детской распашонке. Не помня себя схватила она ножницы и вонзила их в левую руку. Резкая боль пронзила ее, из вены хлынула кровь. Она закричала и упала, потеряв сознание.
Когда Марианна пришла в себя, кровотечение остановилось. Ее халат был весь в крови, кровь попала и на ковер. Других повреждений не было. Она сполоснула халатик в ванной и перевязала себе руку полотенцем. Пятна на ковре почти не видны. Это было одним из достоинств персидских ковров — они принимали на себя грязь столетий, не теряя при этом своей красоты. «Жаль, что люди не такие», — подумала она.
В дверь позвонили. Марианна слышала, как горничная открыла дверь. Чужой женский голос спрашивал фрау Дорфрихтер. Прежде чем горничная впустила незнакомку, Марианна вышла в прихожую.
Женщина была не молода, но и не стара, одета в поношенный твидовый костюм, с большой сумкой в руках.
— Фрау Дорфрихтер? — спросила она.
Марианна кивнула утвердительно.
— Меня послала фрау Пауш. Ее брат неожиданно заболел, врач полагает, что у него воспаление легких, и она должна за ним ухаживать. — Она бросила взгляд на девушку. — Мы не могли бы поговорить наедине, фрау Дорфрихтер?
Марианна провела ее в столовую. Как только за ними закрылась дверь, женщина передала Марианне сложенный листок бумаги.
— Это от вашего супруга. Он передал это вчера надзирателю Туттманну. — Ее глаза остановились на перевязанной руке Марианны. Рана, по-видимому, еще кровоточила, так как на ткани проступило розовое пятно. — Что у вас с рукой?
— Ничего, — резко ответила Марианна. Она развернула письмо. Это были признания в вечной любви. Ее внезапно привело в раздражение, что женщина все это время неотрывно на нее смотрела.
— Фрау Пауш сказала, что один солдат из охраны подсунет ответ господину обер-лейтенанту.
— Никакого ответа не будет, — решительно сказала Марианна.
— Что должен этот человек сказать господину обер-лейтенанту, когда он спросит об ответе?
Женщина с каждой минутой нравилась Марианне все меньше. Маленькая фрау Пауш была так сердечна и участлива. Подруга же ее со своим безучастным, холодным видом казалась только любопытной.
— То, что я вам сказала. Ответа не будет.
Женщина пожала плечами.
— А надзирателю Туттманну передайте, пожалуйста, чтобы он больше не утруждал себя передачей писем от господина обер-лейтенанта.
— Я так и передам.
В комнате повисло тягостное молчание.
— Ну что же, наверное, это все. — Женщина пошла к двери.
— Подождите минутку, — закричала Марианна ей вслед. — Я передумала.
Она прошла в свою комнату, и теми же самыми ножницами, которыми она себя поранила, вырезала из газеты статью. На полях она лихорадочным почерком написала: «Между нами все кончено. Я не хочу тебя больше видеть и слышать о тебе тоже ничего не хочу».
Марианна сложила статью и положила ее в конверт.
— Пожалуста, передайте это господину обер-лейтенанту. — Только тут она поняла, как невежливо обращается с человеком, который оказывает ей услугу. Она быстро добавила: — Большое вам спасибо за все. Я вам очень благодарна, и если я могу что-нибудь для вас сделать, — ей подумалось, что, возможно, подруга фрау Пауш рассчитывала на денежную благодарность или хотя бы на возмещение платы за проезд. — Вы, наверное, потратились. — Она замолчала, так как женщина энергично затрясла головой.
— Ничего я не потратила. Я была рада помочь, фрау Дорфрихтер. До свидания.
В последние годы Кунце взял себе за правило приходить в свое бюро немного раньше своих сотрудников. Ему нравилось провести полчаса одному, спокойно просмотреть утренние газеты без постоянной Розиной болтовни. Со второго января он жил в меблированной квартире в Траунгассе, недалеко от Розы.
Сегодняшние новости были просто удручающими. На Балканах неспокойно. В Сербии царила военная лихорадка, которая вначале, после отказа кронпринца Георга от трона, затихла, но затем снова возобновилась. На Кипре решили послать депутатов в греческий парламент в Афины, и можно было ожидать, что это приведет к конфликту между Турцией и Грецией. Италия вновь заявила о своих притязаниях к Триполи. К тому же тайные переговоры Италии с Францией и Англией уже привели к тому, что Италия выходит из союза с Германией и Австро-Венгрией при условии, что страны Антанты поддержат территориальные претензии Италии в Северной Африке. Об афере с Митци Хаверда в газетах сегодня ничего не было. После того как «Новая свободная пресса» поместила всеобъемлющий материал, она великодушно предоставила возможность раздувать эту историю бульварным газеткам.
С утра лейтенант Стокласка положил на стол Кунце отчетветеринарной клиники о собаке Дорфрихтера Тролле.
— Самое подходящее время, — буркнул Кунце.
Сверху значилось: «Клиника ветеринарного института Вены». Сообщалось, что собака ни под каким видом не желала принимать порошки от глистов, даже если они были замаскированы влажной облаткой. Единственная возможность — это поместить порошок в капсулу и силой ввести в глотку. В этом смысле обер-лейтенант сказал правду. С другой стороны, у собаки нет глистов и нет ни малейших указаний, что в недавнем прошлом они у нее были.
— Вообще-то посыльный, который принес отчет, сказал, — заметил Стокласка, — что пес будет усыплен, как только ты сообщишь им, что удовлетворен отчетом.
Кунце, который все еще смотрел отчет, не сразу среагировал на эти слова. Внезапно до него дошло их значение.
— Усыпить собаку? — он почти кричал. — Но почему же? Как им в голову пришло убивать пса?
Стокласка смотрел на него с удивлением.
— Этого я не знаю, Эмиль. Посыльный больше ничего не сказал.
— Позвони этим живодерам и скажи, что собака ни в коем случае не должна быть умерщвлена, или зарезана, или как-то еще, что они там проделывают с бедными животными. — После короткой паузы он добавил: — И вообще, кто разрешал им усыплять собаку?
Стокласка позвонил в ветеринарную клинику.
— Семья дала разрешение, — сообщил он. — Они написали фрау Дорфрихтер, и она ответила, что в ее нынешнем положении она не в состоянии взять собаку. Она спросила, не смогут ли в клинике найти кого-нибудь, кому можно было бы отдать собаку в хорошие руки. По-видимому, они никого не смогли найти.
— Она, видите ли, не в состоянии взять к себе, эта особа!
Кунце не мог справиться со своим гневом к Марианне Дорфрихтер. Стокласка и Хайнрих были поражены его вспышкой.
— Я и не знал, что ты так любишь животных, — посмеиваясь, заметил Стокласка.
Это было безобидное замечание, но Кунце оно не понравилось. Он сделал вид, что его не слышал, и сказал недовольным голосом:
— Позаботься о том, чтобы собаку доставили сюда. — Стокласка добродушно ухмыльнулся, и Кунце вновь обрел чувство юмора. — А почему бы и нет? Если он будет выдрессирован, как военная собака, его можно будет тут же использовать в войсках. У него мозгов больше, чем у некоторых моих знакомых офицеров.
Тролля доставили в этот же день после обеда. Он сильно отощал, шерсть была сбита в клочья. Пес стоял, поджав хвост и опустив уши. Но, увидев Кунце, с тявканьем пустился вокруг него вскачь и улегся в конце концов у него в ногах.
— Похоже, что ты с ним никогда не расстанешься, Эмиль, — заметил Стокласка. — Разве что отдашь его заключенному.
— Ни в коем случае, — сказал Кунце.
Поведение собаки льстило ему. Но что с ней делать? Сможет ли он найти приличных людей, готовых заботиться о собаке? Поначалу ничего не оставалось, как взять Тролля домой. Против ожидания, не возникло никаких осложнений. Обе соседки по квартире, фрейлейн Балдауф и фрейлейн Кнолль, не возражали, что он будет держать собаку.
Роза же, напротив, проявила гораздо меньше понимания.
— А вот это никуда не годится, — приветствовала она его, когда он появился у нее с Троллем. Как и во всякий вечер, она ждала Кунце, но совсем не Тролля. — Ты же знаешь, как он линяет! Горничная недавно три дня потратила, пока всю шерсть из ковра вычистила.
— Тролль не единственный, кто линяет, — ухмыльнулся он. — Каждое утро я нахожу твои волосы на моем кителе, но не делаю из этого трагедии!
— Это плохая шутка, — обиделась она. — В квартире не держат таких больших собак. Я вообще не понимаю, почему люди держат дома животных. Попугаи еще куда ни шло, они хотя бы говорят. Но собаки?
— Возможно, именно потому, что они не говорят, — сказал Кунце.
На место Туттманна был поставлен довольно молодой человек с круглым лицом, коротко остриженными светлыми волосами и роскошными à la кайзер Вильгельм усами. Его и женщину в твидовом костюме из Бюро безопасности пригласили в бюро Кунце. Ее звали Паула Хайнц. Безучастным тоном стороннего наблюдателя она обрисовала свой визит к Марианне Дорфрихтер.
Кунце обратился к надзирателю:
— Как воспринял господин обер-лейтенант Дорфрихтер письмо своей жены?
— Он был вне себя от ярости. Не на жену, а на статью в газете. Он прочитал ее дважды и разорвал в клочья. Я уже вышел из камеры, а он продолжал швырять вещи и проклинать все и вся. С вашего позволения, господин капитан, если я не ошибаюсь, больше всего он проклинал господина капитана.
— Вы не ошибаетесь, — сказал Кунце.
— И вчера он был весь день в ужасном состоянии, — продолжал надзиратель. — К ужину он почти не прикоснулся. А сегодня он вызвал меня рано утром и дал вот это письмо к жене. Он протянул Кунце письмо. Обе стороны листка были исписаны почерком Дорфрихтера. На этот раз строчки не были такими аккуратными и красивыми, некоторые слова были зачеркнуты, знаки препинания расставлены как попало. История с Митци Хаверда — это чистая выдумка газет, заверял он свою жену. Он заклинал ее верить ему и не оставлять его, потому что без ее любви ему не выдержать.
Кунце читал письмо со смешанным чувством. Письмо было пронизано одновременно страстью и попыткой вызвать сострадание. Он вновь задумался над тем, как такой человек, как Дорфрихтер, может быть без ума от женщины с просто куриными мозгами. Разве реакция Марианны на газетную статью не является доказательством того, что он, Кунце, оценивает ее по достоинству?
— Если господин обер-лейтенант спросит вас об этом письме, — сказал он надзирателю, — не говорите ничего, кроме того, что вы передали его фрау Пауш. Если он даст вам другие письма, приносите их мне.
— Когда я должна снова пойти к фрау Дорфрихтер? — спросила Паула Хайнц.
— Пока этого не требуется. Вы оказали нам большую услугу, фрау Хайнц. Я доложу комиссару Вайнбергу, что мы очень довольны вашей работой.
Кунце отпустил обоих и продолжил то, чем он занимался все последние дни: тщательным изучением всех фотографий, документов и писем, найденых в квартире Дорфрихтера. Он сосредоточил свои усилия на бумагах, относящихся к 1908 и 1909 годам, в надежде найти какой-нибудь упущенный до этого отправной пункт или указание.
11
Перед своим переводом в Линц Дорфрихтер служил в 13-й бригаде в Сараево; областью его занятий была тактика артиллерии. Фельдмаршал-лейтенант фон Вайгль в своей аттестации указал, что как офицер Дорфрихтер показал себя блестяще. В Кунце росла злоба к армии, когда он читал этот отзыв. Такой талант тратить на какие-то полевые учения! Можно понять, почему человек, которого так низко и несправедливо оценивали, оказался способным на такое сумасшедшее преступление!
Кунце знал, что его иногда непроизвольное сочувствие к Дорфрихтеру в принципе небезопасно. Он не должен был допустить, чтобы его взор затуманился из-за этого и он под влиянием этих чувств не свел свое следствие к попытке оправдать этого человека. Ему непозволительно сойти с предначертанного пути. Для этого есть такие идиоты, как старший надзиратель Туттманн и сентиментальная фрау Пауш.
Он хотел разобраться в самой сути дела и стал еще раз читать все письма, которые Дорфрихтер летом 1908 года писал Марианне из Сараево. Марианна в это время жила у своей матери в Вене. Когда он впервые читал эти письма, его раздражало то, что для обоих не находилось ничего другого, как писать о своих любовных отношениях, как бывших, так и будущих. Кунце казалось, что то обстоятельство, что он, Петер Дорфрихтер, спит с Марианной, является для обер-лейтенанта венцом его жизни.
Только изредка то тут, то там попадались прозаические сообщения: о людях, с которыми он, Дорфрихтер, познакомился, местечки, в которых он побывал. Имя Ксавьера, впрочем, упоминалось довольно часто.
«Вчера вечером у меня были молодые гвардейцы. Играли в карты, но не волнуйся, не так крупно, как Ксавьер».
«Вечер провел с Ксавьером. Он ужасно удручен, как обычно, по уши в долгах».
«Ксавьер доставляет много беспокойства. С ним трудно, пьет, не является утром на развод, все взвалил на унтер-офицера».
И несколькими неделями спустя: «Ты права насчет Ксавьера. Но я не могу бросить утопающего в беде».
Ксавьер! Ксавьер! Ксавьер!
Ксавьер был, разумеется, Ксавьер Ванини. Они были в Сараево друзьями, но не в Линце. В этом не было ничего необычного. Дружба редко длится вечно. Ванини, видимо, был человеком неосновательным и для профессии офицера неподходящим, до уровня же Дорфрихтера ему было определенно далеко. Возможно, они повздорили или Дорфрихтер внял совету Марианны прекратить дружбу с Ванини. Тем не менее лейтенант Ванини был единственным изо всех друзей Дорфрихтера, кто имел доступ к цианистому калию.
Кунце подумал, не вызвать ли Дорфрихтера на допрос, но тут же отогнал эту мысль. У него все еще было слишком мало доказательств. Дорфрихтер просто рассмеется ему в лицо. Возможно, устроит сцену. Его ярость от появления статьи про аферу с Митци Хаверда, определенно, еще не утихла.
При чтении писем Кунце столкнулся еще с одним именем, которому следовало уделить внимание: капитан барон Ландсберг-Лёви; он также был одним из получателей циркуляра Чарльза Френсиса. То, что он служил в Сараево в одно время с Дорфрихтером, не было для Кунце новым. В течение последних недель военные карьеры и личная жизнь всех адресатов были тщательно проверены. Ландсберг-Лёви, сын невероятно богатого еврейского промышленника, в годы расцвета австрийского либерализма, в конце девяностых, вступил, как и многие его соплеменники, в армию. Армия показала себя заботливой приемной матерью, для которой домашнее окружение, вероисповедание и банковский счет «сыночка» больше не играли никакой роли. У богатого еврея были точно такие же шансы добиться успеха, как и у бедного христианина. Но с началом нового века стали просматриваться угрожающие изменения: Франц Фердинанд, наследник престола, был отъявленный антисемит — можно было ожидать, что с восшествием его на престол наметится явный отход от либерализма. Кайзер Франц Иосиф был, к счастью, в добром здравии, а вместе с ним и армия оставалась верна принципам терпимости и просвещения.
Среди бумаг Дорфрихтера Кунце нашел два коротких письма на элегантной почтовой бумаге Ландсберга-Лёви с тисненным гербом. В одном из них барон писал о том, что он поражен проступком X, но обещал все хорошенько обдумать, прежде чем предпринять необходимые меры. Во втором письме стояло, что он скорее огорчен, чем возмущен поведением X, и охотно принимает предложение «дорогого Петера» встретиться, чтобы вместе прийти к устраивающему всех решению!
Под X мог подразумеваться любой, почему же и не Ксавьер Ванини?
Эти два письма связывали трех человек друг с другом: подозреваемого в преступлении, потенциальную жертву и третьего, который имел доступ к цианистому калию. Довольно странный треугольник!
Кунце спрашивал себя, с какой целью Дорфрихтер считал необходимым хранить эти письма? Состоялась ли встреча, о которой шла речь в письме? И если да, то какое же «устраивающее всех решение» было принято?
Барон Ландсберг-Лёви в настоящее время, после шестимесячной командировки в Прагу, вновь был направлен в Сараево, где и служил при штабе 13-й дивизии. Когда по почте пришел циркуляр Чарльза Френсиса, он находился в отпуске. По его возвращении Рихард Мадер был уже мертв, и во все гарнизоны были разосланы соответствующие предупреждения. Это обстоятельство, возможно, спасло ему жизнь, хотя барон, судя по всему, был слишком опытным человеком, чтобы польститься наобещавшие «потрясающий эффект» капсулы. «Но ведь и Мадер был вполне разумным человеком, — подумал Кунце, — но и он не устоял перед искушением».
Аудитор написал барону несколько строк, в которых просил его сообщить, когда и где они бы могли встретиться в Вене — и если это невозможно — в Сараево.
Второго февраля состоялось заседание военного суда по делу старшего надзирателя Туттманна. Он признал себя виновным и был приговорен к трем годам заключения в военной тюрьме Моллерсдорф. Его сестра предстала перед гражданским судом и получила шесть месяцев тюрьмы.
Приговор по делу Туттманна расстроил Кунце. Он делал все, что мог, но генерала Венцеля не удалось уговорить не наказывать Туттманна по всей строгости, а советник военного суда Жабо, которому было передано дело, зная настроение генерала и будучи недавно повышен в звании, вел себя соответственно. Бедный старый астматик Туттманн! Оставалось только надеяться, что перемена места для Туттманна не будет слишком тяжела. Если разобраться, то он половину жизни провел в тюрьме. В принципе не все ли равно, по какую сторону решетки находиться?
Кунце, конечно, хотелось бы знать, что подвигнуло Туттманна ради Петера Дорфрихтера поставить на карту всю свою карьеру. Неужели обер-лейтенант обрел над старшим надзирателем такую же скандальную власть, как и над ним? Или объяснение лежит в том, что Туттманн был не женат? В нижних слоях общества мужчины редко остаются холостыми. Если бы Туттманн проявлял хотя бы намеки на склонность к гомосексуализму, это было бы наверняка известно. Или в охране было давно об этом известно и держалось в тайне от сурового третьего этажа гарнизонного суда? Бедный старый Туттманн: неважно, каким страстям он был подвержен, помогая Дорфрихтеру, но лишиться пенсии, отслужив верой и правдой тридцать лет, было слишком тяжким наказанием.
Как только Туттманн был перевезен в Моллерсдорф, Кунце позвонил начальнику тамошней тюрьмы, чтобы замолвить слово за бывшего надзирателя. Он узнал, что заключенного, учитывая его большой опыт, собираются использовать соответствующим образом.
Едва Кунце положил трубку, как раздался звонок. Звонил комиссар доктор Вайнберг.
— Попробуйте отгадать, кто вчера вечером отправился в спальном вагоне с Западного вокзала поездом на Милан с последующей пересадкой на Ниццу?
— Не имею ни малейшего представления.
— Доктор Гольдшмидт.
— И что же? Лазурный берег является, как говорится, любимым местом для его охоты. Вы понимаете, о чем я. В «Hotel de Paris», вероятно, у него имеется собственная кровать с собственной постелью.
— Да, я тоже слышал об этом. Это он в подражание одному русскому великому князю. Но на этот раз он еще и даму для своей кровати прихватил. Видимо, он не удовлетворен тем, что там предлагают по этой части.
— Это действительно интересно. А сейчас вы наверняка ждете, что я спрошу, кто эта дама, которую он взял с собой. Считайте, что уже спросил.
— Марианна Дорфрихтер.
Кунце сжал трубку крепче.
— Исключено! Вы определенно ошибаетесь!
— Нет. Мы продолжали следить за Марианной Дорфрихтер и после ареста фрау Пауш. В последние недели доктор Гольдшмидт посещал ее каждый день. А вчера он приехал в наемной карете, поднялся в квартиру и вышел с Марианной и чемоданом. Он нес его сам, чего не делал, наверное, никогда в жизни. У моего человека хватило ума проинформировать все вокзалы, поэтому дежурный полицейский на Западном вокзале был уже в курсе дела, когда они там появились. Доктор Гольдшмидт тщательно все продумал — служащий вокзала провел их к поезду через багажное отделение, но нас ему провести не удалось.
— Просто не верится, что она отправилась с ним. А что же с ребенком?
— Мать недавно наняла кормилицу.
— Бедный парень, — сказал Кунце.
— Кто? Ребенок?
— Нет, Дорфрихтер. Мы лишили его какой-либо моральной поддержки.
— Но ведь именно этого вы и хотели, не так ли?
Кунце не обратил внимания на эти слова.
— Если допустить, хотя это и в высшей степени маловероятно, что он невиновен, — куда же ему потом податься? Домой он уж точно не вернется. Он не из тех, кто после этого всего возвращается к жене.
— Невиновен? — повторил комиссар. В голосе слышалось сильное сомнение. — Никогда бы не подумал, что вам в голову придет нечто подобное.
— Конечно, я должен учитывать и эту вероятность. — Внезапно ему захотелось закончить разговор. — Я, в конце концов, не ясновидящий. Как, черт побери, я должен быть стопроцентно уверен, что человек виновен, если у меня толком и доказательств-то нет.
— Случай действительно очень сложный, — с готовностью согласился доктор Вайнберг, — вам в самом деле не завидую. Однако фрау Дорфрихтер, похоже, ваших сомнений не разделяет. Для нее уже все ясно, иначе бы она не отправилась с нашим другом Гольдшмидтом.
12
Холодное яркое февральское солнце освещало огромный стеклянный купол миланского вокзала. Марианна Дорфрихтер стояла в проходе у окна спального вагона и наблюдала за суетой на перроне. Ей казалось это похожим на огромный калейдоскоп: при каждом повороте появлялась новая картинка, хотя цветные стеклышки оставались одними и теми же. И здесь точно так же: там, напротив, мать, заливаясь слезами, машет отходящему поезду, тут семья радостно приветствует приехавшего, молодые люди обнимают друг друга, двое мальчишек играют с мячом, студент с огромным тяжелым чемоданом, отъезжающие зовут носильщика, продавцы зазывают покупателей, мальчишки — разносчики газет громким криком сообщают о сенсациях, как если бы они объявляли о наступлении Судного дня.
«Вот она какая — Италия», — подумала Марианна. Петер обещал ей показать следующим летом Венецию и Рим. Это должна была быть их первая совместная поездка. И вот она в Италии, но без Петера. Ночью, когда она просыпалась от стука колес, она все время не могла решить, не сойти ли ей с поезда. Она дала себе срок до Милана, где остановка должна быть долгой, так как спальные вагоны будут прицеплены к марсельскому поезду. И вот теперь, за минуту до отправления поезда, она все еще ничего не решила.
Когда история с Митци Хаверда попала в газеты, ее навестил доктор Гольдшмидт. Сначала Марианна не хотела его принимать, но он настаивал, и она позднее была рада, что уступила. Он был полон сочувствия, совсем не так, как мать, которая пыталась ей внушить, что Петер не сделал ничего дурного, что самые идеальные мужья нет-нет да и согрешат, что, мол, вполне нормальное дело. В то время как фрау Грубер обвиняла дочь в глупости и эгоцентричности, Пауль Гольдшмидт выказал полное понимание того, насколько она была оскорблена. Она не помнила уже, когда он впервые упомянул о Ривьере. Он постоянно повторял, что это приглашение абсолютно не связано с какими-то требованиями или условиями; она ни в коем случае не должна будет делать что-то, чего она не желает. Он богатый человек, а на что нужны деньги, если не для того, чтобы помогать друзьям? Она пережила столько ужасного; ей нужно сменить обстановку, чтобы восстановить силы, и не ради себя самой, а во благо ребенка.
Марианне было ясно, что они играют между собой в какую-то игру. Она делала умышленно вид, что не знает ни правил игры, ни чем эта игра должна закончиться.
Раздался пронзительный свисток, поезд тронулся и покинул Милан. На Марианне было надето пальто, в сумочке было достаточно денег, чтобы вернуться в Вену, но она ничего не предприняла. Как будто почувствовав важность момента, из своего купе вышел доктор Гольдшмидт. Казалось, он был удивлен, увидев ее в коридоре в пальто и шляпке.
— Я как раз собирался посмотреть, проснулись ли вы. Ну а теперь мы можем пойти позавтракать, — сказал он.
Они пошли вместе в вагон-ресторан. Марианне и раньше доводилось ездить в поездах с хорошим обслуживанием, в том числе и в вагонах-ресторанах, но все это не шло ни в какое сравнение с тем, что было им предложено сейчас. Путешествие с Паулем Гольдшмидтом напоминало участие в отличной театральной постановке — актеры играли на пределе своих творческих возможностей, все сцены следовали четко одна за другой, реплики были точны до последнего слова, без тени импровизации.
В Ницце их встречали на двух больших автомобилях. Вокруг суетилась куча лакеев во главе с человеком в полосатых брюках и черном камзоле, который своим величественным видом напоминал как минимум бургомистра города.
Чтобы избежать внимания этих «шакалов пера», как назвал прессу доктор Гольдшмидт, он снял у одного французского аристократа виллу в получасе езды от Ниццы. К вилле вела извилистая дорога, которая следовала всем изгибам берега моря. Доктор посоветовал Марианне не называть свое имя, и в полиции — все иностранцы должны там регистрироваться — она была записана под именем Альбины Браммер: не замужем, католичка, австрийка по национальности, рожденная в 1886 году в Бад-Гаштейне. Марианна спросила себя, существует ли эта Альбина действительно или это только плод фантазии доктора Гольдшмидта.
Поездка радовала Марианну, но долгое путешествие немного утомило ее, и она задремала. На первом указателе, который она увидела, открыв глаза, значилось Эце. Они ехали по шоссе, параллельно железной дороге, по ту сторону которой был спуск к морю. За вокзалом они остановились перед богато украшенными коваными воротами, на которых сверху было указано имя владельца «Eze les Cellets». Лакей отворил ворота, и они поехали по парку мимо двухэтажного дома и других небольших строений и остановились у бокового входа виллы с розовыми стенами, которая, как это обычно бывает на Средиземноморье, была воздвигнута на напоминающем эспланаду выступе скалы над морем.
Partir ćest un peu mourir — было одно из немногих французских выражений, которые она знала. Но это неправильно, подумала она. Уехать означало вовсе не умереть, а как бы родиться заново. Здесь все было другое и ничего не напоминало покинутую двадцать четыре часа назад ужасную квартиру Грубер. И она была уже не Марианна Дорфрихтер и даже не Альбина Браммер. Она снова была той маленькой девочкой, которая, укутанная в одеяло, смотрела на стремящийся вверх дым из труб домов напротив, в контурах которого ей рисовались силуэты королей, замков и экзотических цветов.
— Какой чудесный вид, не правда ли? — раздался за ее спиной голос Гольдшмидта. Он подошел ближе к баллюстраде и положил руку ей на плечо. — Ну не жаль было бы все это упустить?
— Ну, конечно, — кивнула она. Но волшебство было нарушено — она снова была Марианной Дорфрихтер.
Несмотря на это, ей доставило удовольствие смотреть, как горничная, довольно пожилая и выглядевшая как королева в изгнании, распаковывала вещи. Марианна спрашивала себя, что думает эта горничная о ее добропорядочных платьях и белье — произведениях фрейлейн Эльзы, которая появлялась в доме два раза в год и шила все для фрау Грубер и ее дочерей — от наволочек до бальных платьев. Примитивные фланелевые штанишки были положены в роскошный шкаф, обитый внутри шелком цвета кардинальской мантии, где им, конечно, было не место.
Марианна плохо говорила по-французски, но это не мешало, так как горничная угадывала все ее желания и даже те, о которых она еще не догадывалась. Без лишних слов все ее платья были выглажены, а туфли почищены. Как по мановению волшебной палочки, появилась парикмахерша. Горничная зашла в комнату вновь и помогла одеться. Марианне показалось это излишним, но, видимо, в этом доме так принято. Она была благодарна доктору Гольдшмидту, что он тактично оставил ее одну. Обе спальни располагались на первом этаже, в каждой была собственная ванная комната, соединялись же они маленьким салоном. У нее никогда еще не было собственной ванной, тем более с полом и стенами из мрамора; сама ванна была величиной с небольшой пруд.
Простор и вызывающая роскошь ресторана «Негреско» в Ницце, куда они отправились ужинать, ошеломили ее, и она испуганно схватила руку Гольдшмидта. В своем крепдешиновом платьице, сшитом фрейлейн Эльзой, Марианна, увидев разодетых в шикарные наряды и украшенных драгоценностями женщин, почувствовала себя глубоко несчастной. Гольдшмидт, казалось, читая ее мысли, нежно погладил ее по руке.
— Вы здесь самая красивая, — сказал он. — Здесь нет ни одной, которая не хотела бы иметь ваше лицо и вашу фигуру.
— Но они все такие элегантные.
— Если бы они не следили за модой, они бы здесь не были. Это только вопрос денег.
— Но я видела очень богатых женщин, и они не выглядели элегантными, неважно, что на них было надето.
— Офицерские жены в старой доброй Вене. — Он провел Марианну к их столику. — Мне нравится этот отель. Ницца и Ривьера — это одно из лучших совместных творений Бога и человека, это новый сад Эдема. Но и здесь есть свои змеи. Посмотрите на мужчину напротив! С ним рядом женщина в зеленом платье и кучей драгоценностей на голове. Он не молод, уже начал седеть. Это один из самых крупных торговцев оружием в мире. Была бы его воля, уже завтра разразилась бы война между Францией и Германией. Если бы я сейчас встал и застрелил его, у меня перед человечеством было бы больше заслуг, чем у Маркони и Пауля Эрлиха, вместе взятых, — Гольдшмидт улыбнулся. — Как глупо, что я такой трус!
Марианна нахмурила лобик.
— Но ведь война неизбежна, не так ли? Только война поможет монархии не скатиться в ряды второразрядных государств.
— Вы цитируете своего мужа?
Марианне кровь бросилась в лицо.
— Да — в определенной степени.
— У военщины на уме только одно — проверить на практике их драгоценные теории. Они не успокоятся, пока вся эта красота и роскошь, которые вы здесь видите, не будут уничтожены. Ничего не останется — ни людей, ни даже пальм на Английской набережной! Ни одного из всех этих замечательных зданий! Но давайте лучше сменим тему. Вы не представляете, как я рад, что вы здесь и я могу показать вам все прелести этого чудесного места и вместе с вами снова насладиться ими. Я чувствую себя очень счастливым, моя дорогая.
Это был лучший ужин, который был у нее в жизни. Каждое блюдо сопровождалось специальным вином. В конце ужина она чувствовала себя в приятно приподнятом настроении. Гольдшмидт ел мало и пил еще меньше. Его глаза часто останавливались на ее лице с выражением коллекционера, который купил картину и спрашивает себя, соответствует ли она цене. Сначала это приводило Марианну в смущение, но когда все вокруг превратилось в приятное, переливающееся радугой пространство, расплылось и его лицо, которое она за букетом розовых гвоздик на столе и без того видела только наполовину.
— Вы, должно быть, устали. Думаю, нам пора.
Его голос доносился до нее как будто издали. Он поднялся и подошел к ней. Как из-под земли появился официант и отодвинул ее стул. Она не помнила, как поднялась.
— Так мы идем? — в голосе Гольдшмидта послышались повелительные нотки.
Она не могла вспомнить, как ей удалось встать. В один момент Марианне показалось, что она не сможет преодолеть ужасно большое расстояние до выхода. Она сделала шаг и заметила с большим облегчением, что может идти. Она уклонилась от поддержки доктора Гольдшмидта и пошла между столами. Марианна чувствовала взгляды гостей, но они ее больше не волновали, она теперь знала, что они разглядывают ее, потому что она красива.
К удивлению, горничная ожидала ее в комнате. Марианна не возражала, когда ей помогли раздеться. Ванна была уже готова, после чего горничная с мастерством опытной медсестры заботливо укутала ее в подогретый халатик. На кровати уже лежали ночная сорочка и пеньюар. Таких красивых вещей она никогда не видела, но приняла все как должное в ее новой ипостаси.
Следующее, что она помнила, был роскошный, длинный до пола парчовый халат, бутылка шампанского в серебряном ведерке со льдом, доктор Гольдшмидт, протягивающий ей бокал. Он только пригубил от своего, в то время как она выпила все залпом.
Потом она лежала, обнаженная, на кровати. Где-то в комнате горела лампа, но ее свет казался таким слабым, что это могло бы быть освещенным окном на Кап-Ферра или светом где-то далеко на горизонте проплывающего парохода. Ее обнимали чьи-то руки. Ласкающие прикосновения рук и губ убаюкивали ее. Чей-то голос спрашивал, приятны ли ей эти ласки, и она отвечала вежливо: да, даже очень. Ей казалось невозможным попросить оставить ее и позволить спать. Это было бы бестактным.
На следующее утро подул свежий ветер, но небо над Ниццей было таким же голубым, как на открытках в сувенирном магазинчике на Рю де Франс. Ей хотелось бы купить несколько таких открыток и послать знакомым в Вену, но она знала, что этого делать нельзя. Она попыталась вспомнить, почему нельзя, но не смогла. Головная боль, с которой она проснулась, прошла, но у нее было такое чувство, что ее мысли смешались в какую-то кашу, тормозящую работу мозга.
Они проходили мимо элегантного магазина одежды. Доктор Гольдшмидт взял ее за руку.
— Мы хотим что-нибудь красивое купить для маленького, — сказал он и направился ко входу.
— Для какого маленького? — спросила она.
Он нахмурился, и она поняла, что ее вопрос был неуместным.
— Для твоего ребенка, для кого же еще?
— Ах, конечно, для моего ребенка, для кого же еще? — Она извиняюще улыбнулась, чтобы его не расстраивать.
К счастью, в магазине все переговоры он взял на себя. Все вещи, которые он купил, были прелестны и очень дороги, и Марианна преувеличенно горячо его благодарила.
На террасе кафе Марианна делала вид, что разглядывает прохожих, в то время как в отчаянии пыталась отогнать завесу тумана, окутывающую ее сознание. Медленно припоминала она, что не так давно должна была родить ребенка. Ее муж, Петер, сидел в тюрьме, обвиняемый в ужасном убийстве. Ей было жаль женщину, чей муж сидел в тюрьме, но она предпочитала о ней не думать, это портило чувство joie de vivre[654] (еще одно французское выражение, которое она знала).
Доктор Гольдшмидт забросал Марианну дорогими подарками. После обеда они поехали на бульвар Виктора Гюго, где он заказал для нее в модном салоне несколько дорогих платьев, которые должны были доставить в течение четырех дней. Чудесное, отделанное горностаем вечернее манто было сшито как будто для Марианны, и доктор Гольдшмидт уговорил владельца продать его, хотя речь шла о выставочном образце. Заботливо проложенное несколькими слоями мягкой, как шелк, бумаги, манто было упаковано в коробку и двумя швеями отнесено в машину.
Когда они вернулись на виллу, доктор Гольдшмидт распорядился задернуть портьеры и подготовить постель. Он снова спросил ее, действительно ли ей приятны его объятия. «Если это войдет в привычку, — подумала Марианна, — мне надо будет пару стаканов выпивать, прежде чем ложиться с ним в постель».
Под вечер доктор Гольдшмидт постучал в комнату к Марианне. Они собирались поехать поужинать в Монте-Карло.
— Ты бы не хотела надеть свое новое манто? — спросил он.
Она непонимающе смотрела на него.
— Какое манто?
— То, которое я тебе сегодня купил после обеда, — сказал он, нахмурясь.
— Ах, конечно, манто!
Они отправились в гардеробную, где висело во всем его великолепии элегантное манто с чудесным воротником из горностая.
— Оно прелестно, — сказала Марианна, когда он накинул манто ей на плечи. — Боюсь, я тебя так и не поблагодарила за него.
— Ты как раз поблагодарила меня. Идем, нам пора ехать.
Улыбка исчезла с его лица, и по дороге в Монте-Карло он казался расстроенным.
Они ужинали в «Hotel de Paris». Доктор Гольдшмидт тихо обращал внимание Марианны на некоторые августейшие особы. Двое русских великих князей, каждый со своей свитой, сидели за отдельными столами. Элегантный мужчина с юношеским лицом, ужинавший в обществе украшенных драгоценностями женщин и мужчин во фраках, был король Португалии Мануэль. Атмосфера, внушающая еще больше благоговение, чем в «Негреско», породила у Марианны чувство, что она всю свою жизнь провела в местах, где обслуживают королей и великих князей.
На обратном пути Марианна заснула. Только при подъезде к вилле доктор Гольдшмидт разбудил ее. Они поднялись на террасу, так как доктор хотел, чтобы она еще раз взглянула на освещенное луной море. Она послушно восхищалась, подавив в себе желание спросить его, как они, собственно, здесь оказались и что они делают в таком месте, где все так расплывчато, как под водой. Когда они поднимались по лестнице, она почувствовала головокружение. Это была не физическая слабость, а, скорее, дурманящий страх, будто она гибнет. В панике Марианна ухватилась за руку мужчины возле себя — и не для того, чтобы опереться, а убедиться, что она находится среди живых.
— Боюсь, мы выпили немножко лишнего, правда? — спросил он слегка грубоватым, с ноткой упрека тоном.
На следующий день они снова поехали в Ниццу, на примерку в модный салон. Предупредительная служащая в черном спросила ее фамилию.
— Мадам Дорфрихтер, — ответила она с облегчением, что это удалось ей вспомнить, но, увидев гневный взгляд доктора Гольдшмидта, поняла: она сказала что-то не то.
— Мадам Браммер, — поправил он Марианну, но по удивленному лицу служащей понял, что все это ей не понравилось.
— Ты что, хочешь, чтобы на нас набросилась вся французская пресса? — спросил он, выходя из салона.
— Нет, конечно нет! — запротестовала она.
При слове «пресса» ей вспомнилась картина, как возле их дома толпа мужчин в пальто, опершись на фонарные столбы, поджидала, когда она выйдет, чтобы ринуться к ней с вопросами.
— Тогда будь любезна помнить, что здесь ты зовешься мадам Браммер.
— Я постараюсь не забывать, — покорно пообещала Марианна. Она не хотела ни в коем случае расстраивать Пауля Гольдшмидта, который был ее единственным связующим с реальностью. Как ей попасть домой, если он исчезнет и оставит ее в этом призрачно прекрасном безвоздушном пространстве?
— Теперь я буду помнить об этом постоянно, — старательно пообещала она вновь.
— Ну что же, будем надеяться, — пробормотал он наконец, снова улыбнулся и нежно погладил ее по щеке.
Репортеры выследили их на следующий день. Марианна и Пауль Гольдшмидт сидели на террасе кафе и пили аперитив. Марианна впервые наслаждалась картиной, открывавшейся с террасы: проходящая мимо толпа, красивые вереницы экипажей и автомобилей, широкая, усаженная пальмами набережная, повторяющая изгиб бухты, и справа вырисовывавшийся силуэт полуострова — или это было только облако? Но вдруг у стола остановился коренастый человек с лицом терьера и обратился к ней на быстром венском диалекте.
— Рад видеть вас, фрау Дорфрихтер, — поздоровался он с ней. — Я слышал, что вы здесь, и не хотел упустить возможность вас поприветствовать.
Он вел себя так, как если бы они были знакомы, хотя она не могла припомнить, что когда-либо его видела.
— Благодарю.
По злому выражению лица Гольдшмидта Марианна поняла, что снова сделала что-то неправильно.
— Вы ошибаетесь, молодой человек, — рявкнул он на незнакомца. — Дама не фрау Дорфрихтер!
Тут наконец она вспомнила его наставления.
— Вы ошибаетесь, — она попыталась сказать так же строго, как и адвокат. — Я мадам… — она силилась вспомнить имя. Но имя не приходило ей в голову.
Молодой человек ухмыльнулся.
— Конечно, вы фрау Дорфрихтер! А вы, уважаемый господин, ее адвокат доктор Гольдшмидт. Разрешите представиться. К вашим услугам: Райнхарт Лотар.
Он вынул удостоверение корреспондента, в котором значилось, что он репортер одной из венских бульварных газет.
— Убирайтесь к черту, — прошипел Гольдшмидт. — Или я распоряжусь вышвырнуть вас.
Вместо этого репортер подвинул к столу стул и сел.
— Вы сверхопытный человек, господин доктор, и вы хорошо знаете, что это вам ничего не даст, если вы меня разозлите, после того как я вас нашел. Фрау Дорфрихтер было бы разумней со мной поговорить. Если она этого не сделает, я дам волю моей фантазии. — Он обратился к Марианне: — Как вам здесь отдыхается, фрау Дорфрихтер?
— Благодарю вас, очень хорошо. — Она посмотрела на Гольдшмидта, ожидая совета, но его лицо было сплошной холодной непроницаемой маской.
— Господин доктор Гольдшмидт умеет образцово заботиться о своих клиентах. Знает ли ваш муж, что вы с доктором поехали сюда?
— У меня… — начала Марианна, но Гольдшмидт резко встал и бросил на стол несколько купюр.
— Мы уходим, — сказал он Марианне.
Репортер преградил им путь.
— Минуточку, сударь, вы не должны прерывать даму на полуслове. Что вы хотели сказать, фрау Дорфрихтер?
— У меня нет никакого мужа, — испуганно пролепетала она.
Гольдшмидт схватил ее за руку и потянул за собой. Репортер продолжал следовать по пятам.
— Но ведь у вас есть муж, это всем известно. В то время как вы развлекаетесь тут на солнечной Ривьере, он должен томиться в мрачной тюремной камере в Вене!
Слова будто вонзались в сознание Марианны. Резко высвободив свою руку, она повернулась к репортеру:
— Он сидит вовсе не в мрачной камере! Его камера светлая — там есть большое окно. Так сказал капитан Кунце доктору Гольдшмидту. А он…
«А он не лжет, — хотела она сказать, — ведь капитан Кунце все-таки офицер?» — но Гольдшмидт вновь схватил ее руку и грубо повлек за собой.
— Закрой рот!
Автомобиль стоял на улице Рю Альберт, шофер сидел за рулем. Лакей открыл дверцу и помог им сесть.
— Куда прикажете, сударь? — спросил шофер.
— Куда угодно, только прочь отсюда! — зло сказал Гольдшмидт и повернулся к Марианне: — Ты что, сошла с ума? Зачем ты говорила с этим парнем?
Марианна, дрожа, забилась в угол салона.
— Ради всего святого, зачем ты заговорила о камере?
Она смотрела на него пустым взглядом.
— О какой камере?
— О камере твоего мужа!
— Моего мужа?
— Что с тобой? Ты больна? — Встревоженный Гольдшмидт попросил шофера остановиться и пристально посмотрел на Марианну. — Ты что, не знаешь, что наговорила этому человеку?
— Какому человеку?
— Репортеру!
— Это был репортер?
— Я же тебе говорил, чтобы ты ни с кем не заговаривала.
— Я забыла про это, — сказала Марианна. Она была в замешательстве и чувствовала страшную усталость. — Я хочу домой.
— В Эце?
— Эце?
— Ты меня разыгрываешь или… Поезжайте в Эце, — приказал он шоферу хриплым от волнения голосом.
На следующий день они отправились назад в Вену. Марианна Дорфрихтер находилась в состоянии полной апатии, изредка перемежающейся порывами оживленности. Она приняла известие об отъезде без признаков сожаления, но заволновалась, когда увидела, как ее чемодан погрузили в машину.
— Я хочу остаться здесь, — сказала она доктору Гольдшмидту. — Мне здесь нравится. Я не хочу никуда уезжать отсюда.
— Но ты бы хотела вернуться к своему ребенку, правда? — спросил он.
Она уставилась на него уже знакомым ему по последним дням взглядом.
— К какому ребенку?
В замешательстве его бросило в пот.
— Ты родила ребенка, два месяца назад, — в его голосе звучало профессиональное участие человека, который защищает несправедливо обвиненного и пытается его успокоить.
Она, улыбаясь, потрясла головой.
— Кто тебе рассказал эту сказку? У меня никогда не было ребенка.
Обратная дорога прошла без происшествий. Доктор Гольдшмидт все больше нервничал, хотя и без видимой причины: Марианна оставалась приветливой и послушной. Они сошли в Бадене, не доезжая Вены, чтобы избежать репортеров, которые наверняка поджидали их на Западном вокзале.
Райнхарт Лотар исполнил свои угрозы и послал статью в газету, которая в виде специального выпуска появилась с огромным заголовком: ЛЮБОВНАЯ ПАРОЧКА ВСТРЕЧАЕТСЯ НА ЛАЗУРНОМ БЕРЕГУ. По пути, в Зальцбурге, доктор купил на перроне экземпляр газеты. Он тут же известил по телеграфу свою канцелярию, чтобы их встречали в Бадене с наемной машиной. Его «даймлер» был в Вене слишком хорошо известен.
Они поехали прямо к Марианне домой. Когда машина остановилась у дома, Марианна не захотела из нее выходить. Это был хмурый холодный день, солнце не было видно за тяжелыми облаками, промозглый туман проникал повсюду. Хотя на ее шеках горел румянец, всю дорогу от Бадена Марианну сотрясала дрожь. Гольдшмидт подозревал, что у нее температура, но хотел сначала оставить ее у матери, а затем предпринять все, что будет необходимо. В осторожных выражениях он сказал фрау Грубер, которую срочно вызвали из магазина:
— Боюсь, что Марианна не совсем здорова. Нет никаких оснований для беспокойства. Такое случается часто после родов.
В глазах фрау Грубер сквозил упрек. Она с самого начала была против этой поездки, но Марианна, обычно благоразумная и послушная, уехала с доктором Гольдшмидтом как раз, когда матери не было дома.
— Что вы сделали с моей дочерью? — спросила фрау Грубер.
Самым заветным желанием доктора было уйти как можно скорее, но поспешный уход мог еще больше усугубить ситуацию.
— Никто ничего плохого ей не делал, — сказал он сухо. — Она просто устала. В этих обстоятельствах было очень удачно, что я оказался рядом, когда это произошло.
— Когда что произошло?
— Когда появились первые симптомы эмоциональной лабильности.
— Прекратите пугать меня вашими иностранными словечками. Вы имеете в виду, что она сошла с ума?
— Ради всего святого, нет, фрау Грубер. Я же вам сказал, что это все от переутомления. Она слишком много пережила. Несколько недель в санатории, и она снова будет как прежде. Уложите ее в постель и побудьте с ней. Я свяжусь с моим другом доктором Бройером, у него огромный опыт в этой области. Вы должны были о нем слышать, он помощник доктора Фрейда.
На фрау Грубер, казалось, все это не произвело никакого впечатления.
— Не слышала ни об одном из этих господ, — неприязненно сказала она.
— Я позабочусь, чтобы вызвали также профессора Хайна. Совместно эти господа решат, что необходимо предпринять.
— Вы обесчестили мою дочь. Ничего себе, хороший защитник вы оказались.
Ему удалось сдержаться.
— Не беспокойтесь, фрау Грубер, все будет в порядке. А насчет — насчет финансовой стороны — об этом я позабочусь. — Он протянул руку, чтобы ее подбодрить и похлопать по плечу, но на полпути опустил руку. Это был как бы прощальный жест, и он быстро вышел из квартиры.
В течение всего разговора Марианна, как послушный школьник, сидела на стуле.
Маленький Йоханн и кормилица занимали спальню, которая прежде была комнатой Марианны. Временами через стену доносился детский плач, но Марианна, казалось, этого не слышала. Она лежала на кровати, уставившись в потолок, где рассматривала каждую неровность на штукатурке. Фрау Грубер расположилась в кресле рядом и наблюдала за своей младшей и самой красивой дочерью, на которую она возлагала такие большие надежды. Сколько бессонных часов она провела рядом с ней, когда та болела скарлатиной или дифтеритом, или тогда, когда она заболела туберкулезом! Но сейчас, вероятно,она может ее потерять из-за гораздо более ужасной болезни.
— Бедное мое дитя, — шептала она.
Кунце спросил надзирателя с усами кайзера Вильгельма:
— Что, господин обер-лейтенант Дорфрихтер вообще ничего не сказал? Ни единого слова?
— Ни слова, господин капитан. Я отдал ему газету. Он мельком на нее взглянул, прошел к окну и остался там стоять. Он стоял ко мне спиной, но я видел его лицо, отраженное в стекле. Он выглядел как обычно.
— Что вы ему сказали, когда отдавали газету?
— Ну, что-то вроде того, что ему это будет интересно и что, мол, я думаю, он это прочитает. Точно я уж и не помню, господин капитан. Неприятно это все было.
— Так, так.
Надзиратель глубоко вздохнул:
— Так точно, господин капитан. Я же знал, что это его не обрадует. Взаперти же он ни напиться не может, ни бабу поколотить.
— Это все, — сухо сказал Кунце. Надзиратель был уже у двери, когда Кунце бросил вдогонку: — Доставить обер-лейтенанта Дорфрихтера на допрос.
Надзиратель повернулся кругом:
— Прямо сейчас, господин капитан?
— Да, прямо сейчас! — повысил голос Кунце.
— Слушаюсь, господин капитан, — надзиратель отдал честь и покинул помещение.
Кунце поднялся и стал мерить помещение большими шагами взад и вперед, он ждал того изнуряющего нервы напряжения, которое охватывало его перед каждой словесной дуэлью с Дорфрихтером: предвкушение радости, страха, тоски, ожидание какого-то чуда и бог знает чего еще. Раздираемый противоречивыми чувствами: с одной стороны, стремлением уничтожить, сломить, убить своего визави, а с другой — надеждой на участливое слово, дружественный жест, признательный взгляд, — Кунце не находил себе места. «Вот что такое Любовь, — подумал он, — не только то легкомысленно и безответственно используемое слово, а нечто всеобъемлющее, какое-то непреодолимое стремление, которое и приводит к тому, что Медея убивает своих детей, Антоний предает Рим, а Офелия теряет рассудок». Как ужасно играет судьба с аудитором-капитаном средних лет, который уже полагал, что все его сумасбродства юности остались позади.
Раздался дробный топот приближающихся шагов. Кунце умышленно не вызвал лейтенантов Стокласку и Хайнриха — свидетеля и ведущего протокол — их присутствие предписывалось инструкцией. Он хотел первые минуты допроса быть с Дорфрихтером один на один.
В комнату вошли трое — заключенный, надзиратель и охранник. По выражению лица надзирателя Кунце понял, что тот заметил отсутствие обоих лейтенантов. Без сомнения, тот решил, что капитан придумал что-то новое, чтобы заставить арестованного заговорить. Что же, черт побери, таит в себе этот Дорфрихтер, что все, кто входит с ним в контакт, начинают ему симпатизировать? Вероятно, долго ждать не придется, когда и этот надзиратель начнет переправлять письма из тюрьмы, если он уже давно этим не занимается.
Наконец они остались одни. Дорфрихтер с абсолютно отсутствующим видом стоял вытянувшись посередине комнаты.
— Вольно, — сказал Кунце, стараясь, чтобы голос не выдал его внутреннего волнения. — Садитесь, Петер. — Он впервые назвал обер-лейтенанта по имени. Если он думал этим достичь какой-то дружеской атмосферы, то глубоко заблуждался.
— Вы негодяй, — пробормотал без всякого выражения Дорфрихтер.
Оскорбление не застало Кунце врасплох. Где-то в подсознании он даже ожидал этого и позднее спрашивал себя, не потому ли он организовал эту встречу с глазу на глаз.
— За это я могу посадить вас на хлеб и воду, — заметил он.
— Почему же вы не делаете этого? Это было бы последней каплей, которая переполнит чашу.
— Черт побери, Дорфрихтер, поймите же наконец, я не ваш палач! Я выпущу вас на свободу в тот же миг, когда буду убежден в вашей невиновности!
— Да, но до этих пор вам удалось погубить мою семью, мою карьеру и мою репутацию как человека и офицера. — Он глубоко вздохнул. — Это вы передали в газеты историю с Хаверда. Вы хотели довести до гибели мою семью, и вам это удалось. И вы позаботились о том, чтобы я узнал о связи моей жены с другим!
— О чем вы, собственно, говорите?
Дорфрихтер приблизился на шаг.
— Вы выследили надзирателя Туттманна и приказали его арестовать. На его место вы поставили шпика, а я, идиот, передал ему письмо моей жене. Даю голову на отсечение, что письмо не было доставлено и что оно лежит в вашем столе. Потом вы подсунули мне сегодня эту газетную утку. Что это все значит? Что вы, собственно, за чудовище? Ну ладно, вы хотите, чтобы меня повесили, — тогда вешайте! Но не уничтожайте меня по частям!
— Уймитесь, господин обер-лейтенант. Оскорбления, которые я от вас услышал, должны иметь предел.
— Вы никогда не услышали бы их вообще, если бы у вас не была такая нечистая совесть.
— Нечистая совесть? Это еще почему?
— Не заставляйте меня вдаваться в подробности. Вы извращенец, господин капитан, — вы садист! Вы мучаете меня, потому что это доставляет вам удовольствие. Вас совсем не интересует истина. Истина для вас пустой звук. Вам нужно только одно: чтобы я ползал перед вами на коленях и лизал сапоги.
В ярости Кунце грохнул кулаком по столу.
— Ну, с меня хватит! — закричал он. — Еще одно слово, и я до конца вашей жизни буду гноить вас в тюрьме!
Его переполняла убийственная ненависть к этому человеку. Если бы у него под рукой был пистолет, не моргнув глазом он бы выстрелил в эти бессовестные и все понимающие глаза. Несколько секунд он был вне себя от гнева и вынужден был ухватиться за стул. Никогда еще ему не доводилось испытывать такую вспышку чувств. Это было ужасным мгновением. Он отодвинул стул и подошел к окну, повернувшись к Дорфрихтеру спиной.
— Вы сошли с ума, — сказал он.
Человек за его спиной сделал какое-то движение.
— Вы предали огласке дело с Хаверда для того, чтобы разрушить мою семью, ведь так?
— А ее еще нужно было разрушать?
— Что вы имеете в виду?
Стремление сделать этому человеку больно все еще жило в нем.
— Возможно, ваша жена ждала только случая, чтобы от вас отказаться. — Он повернулся: мука в глазах арестованного неожиданно поколебала его злость, пробудила стремление как-то утешить и успокоить. — Да не принимайте вы все это так близко к сердцу. Она этого не стоит. Ни одна женщина этого не стоит, — мягко добавил он.
Дорфрихтер, чей взгляд был обращен в пустоту, повернулся к Кунце:
— Вы говорили, что вы не женаты.
— Да, я не женат.
— Тогда откуда же вам знать, чего она стоит? — Он ждал ответа, но, когда его не последовало, продолжал: — Зачем вы затеяли эту игру с утренней газетой?
Кунце снова отвернулся.
— Здесь вопросы задаю я, господин обер-лейтенант.
— Тогда задавайте какие-нибудь!
— Это вы разослали циркуляры?
Дорфрихтер громко расхохотался.
— Нет. Сколько мне еще это повторять? Мне иногда кажется, что мы, как дети, разыгрываем какой-то спектакль. Вы мне позволите один совет, господин капитан? Попросите, чтобы у вас это дело забрали. У вас и до этого были ничтожные шансы его раскрыть, а теперь вообще никаких.
Кунце позвонил в колокольчик, лежавший на его столе.
— Господина обер-лейтенанта препроводить снова в его камеру, — сказал он вошедшему унтер-офицеру и обратился к Дорфрихтеру: — Вы можете подождать надзирателя в приемной.
— Разве это не против инструкции, господин капитан? — спросил обер-лейтенант с саркастической улыбкой. — А если я попробую сбежать?
Кунце почувствовал, как будто его ноги налились свинцом.
— Это был приказ, унтер-офицер, — резко сказал Кунце.
13
Тролль взял в привычку забираться в кабинете Кунце на подоконник. Оттуда хорошо просматривалась улица, и он мог видеть, когда Кунце заворачивал из-за угла домой. Капитан бросал взгляд наверх и, увидев в окне большую лохматую голову, невольно ускорял шаг. Как только он вставлял ключ в замок, пес появлялся в коридоре и приветствовал его, виляя хвостом и издавая тихое горловое рычание, которое посторонним казалось враждебным. Но Кунце твердо знал, что пес пытается таким образом выразить, как он по нему соскучился. Вместе они шли в спальню, где Кунце менял обувь — надевал старые сапоги, и они направлялись в городской парк. Кунце отпускал Тролля с поводка, и собака стремглав носилась по дорожкам взад и вперед. На плакат, где было предписано держать собаку на поводке, обращали внимание только штатские. Служители же парка и всевозможные ветераны-пенсионеры придерживались мнения, что собака капитана стоит рангом выше, чем все штатские. После того как Тролль набегается, они отправлялись в маленькую гостиницу в переулке Вайбурггассе, где Кунце получал простой, но вкусный ужин. По воскресеньям он обедал у Розы. Она хотела, чтобы он все время питался у нее, но Кунце отказался. Поскольку она по-прежнему не испытывала теплых чувств к Троллю, а Кунце не хотел оставлять его одного дома, они договорились о воскресеньях.
Это была пятница, когда Роза позвонила ему в бюро и сообщила, что адвокат уладил все формальности с наследством ее дяди и через несколько дней она может вступить в свои права. Она провозгласила это с пафосом главы присяжных, так по крайней мере показалось это Кунце. Роза просила его прийти на ужин к ней, и теперь они с Троллем направлялись в переулок Цаунергассе. Он — чтобы обсудить подготовку к свадьбе, а пес — чтобы лежать в отведенном углу гостиной, где ему был постелен старый мешок.
Для Кунце было сюрпризом встретить в доме адвоката, старого друга семьи, и сестру Розы с мужем. Все были в приподнятом настроении. В глазах Розы сияла такая откровенная детская радость, что даже Кунце проникся общим настроением. Его свобода показалась ему ничтожно малой жертвой по сравнению со счастьем, которое означало для нее замужество. Он знал, что она страстно предана ему и что она была единственным существом в мире, которое его действительно всем сердцем любило. Кунце почувствовал легкий укол, когда вдруг вспомнил о своей матери. Он никогда не был уверен в том, чего больше было в матери по отношению к нему: любви или чувства долга.
Было решено, что Кунце уже завтра подаст рапорт командиру корпуса с просьбой о разрешении жениться. Будущая невеста была женщиной с безупречной репутацией и соответствующим положением в обществе. Кроме того, фактически с уплатой залога никаких проблем не было, и поэтому опасений, что возникнут какие-либо сложности, тоже не было. Затем они обсудили возможный срок свадьбы. После некоторых дебатов остановились на дате — пятое марта.
Разошлись только под утро. Было выпито много шампанского, и все, включая кухарку и горничную, сильно раскраснелись. Даже Тролль тоже принял участие в торжестве. Роза накормила его остатками гусиного паштета и ростбифа в тайной надежде установить с ним более теплые отношения. Когда гости расходились. Роза дала Кунце понять, что она не против, если он вместе с Троллем останется. Но Кунце, имея в виду ее статус невесты, счел уместным уйти вместе с гостями.
Хорошее настроение Кунце продолжалось только до следующего дня. Придя в свое бюро, он обнаружил на письменном столе ответ Ландсберга-Лёви на его письмо.
Капитан извинялся за задержку с ответом, он был в служебной поездке в Боснии и письмо Кунце обнаружил только по возвращении. Он готов встретиться с Кунце в Сараево в любое время, но если дело терпит, то он собирается двадцать пятого февраля быть в Вене. Кунце немедленно телеграфировал, что двадцать пятое февраля его вполне устраивает. Затем он принялся писать рапорт на имя командира корпуса с просьбой дать разрешение на женитьбу.
Капитан Ландсберг-Лёви был молодцеватым темноволосым человеком с резко очерченным профилем ассирийского воина и сдержанной диковатостью добермана-пинчера. В его движениях сквозила некая грация и одновременно настороженность, как если бы он постоянно ожидал нападения сзади. Обладая прекрасными манерами, он в то же время, будучи безукоризненно вежлив, допускал налет раздражающей снисходительности в обращении с людьми. За ним стояли мощь и богатство промышленной империи, и он не позволял никому забывать об этом.
Пунктуально, минута в минуту, он появился в бюро Кунце. Они не были знакомы, но приветствовали друг друга, в соответствии с обычаями австро-венгерского офицерского корпуса, сердечно и непринужденно. Оба были в чине капитана, поэтому общались друг с другом на ты.
— Надеюсь, я не причинил тебе беспокойства, попросив прийти сюда, — сказал Кунце. — Дело в том, что в бумагах я натолкнулся на два твоих коротких письма Петеру Дорфрихтеру, одно от девятнадцатого августа 1908, второе от первого сентября того же года. Я был бы тебе признателен, если бы ты пояснил, о чем там речь.
Он не спускал глаз с барона и заметил некую настороженность на лице, свидетельствующую о том, что вопрос не из приятных. Барон водрузил монокль на левый глаз и внимательно посмотрел на письма. Затем он положил их обратно на письменный стол, и монокль выпал из глаза на его грудь.
— Сожалею, но я не могу сказать больше, чем там написано, — сказал он с ледяной решимостью.
— Ты хочешь этим сказать, что не можешь вспомнить, кто такой этот X, и почему его проступок тебя так потряс, и почему ты скорее опечален, чем оскорблен проступком X. И ты не помнишь, о чем шла речь на встрече с Дорфрихтером?
— Как я тебе уже сказал: больше я ничего об этом сообщить не могу, — повторил Ландсберг-Лёви.
— Почему не можешь?
— Об этом я не хотел бы говорить.
— Дорогой барон, здесь речь идет об уголовном преступлении. Я мог бы в приказном порядке тебя принудить сотрудничать со следствием, но по мне лучше, если бы ты сделал это добровольно. Этот загадочный X — это лейтенант Ксавьер Ванини?
Слегка помедлив, барон сказал:
— Да, это Ванини.
— Что ты имел в виду под словом «проступок»?
Барон нервно вскочил со стула.
— Ты допрашиваешь Дорфрихтера, а не Ванини! Я заверяю тебя, что упомянутое в моем письме дело касалось только меня и Ванини. Дорфрихтер был всего лишь посредником.
— Почему Дорфрихтер, а не кто-то другой?
— Не спрашивай меня. Ванини выбрал его. Может быть, тот сам вызвался. Я знаю только, что Дорфрихтер пришел ко мне по поручению Ванини. Возможно, они были приятелями.
— По какой причине ты не хочешь мне сказать, в чем заключалось существо конфликта? Ведь речь шла об этом?
Барон недовольно уселся снова на стул.
— Ну, в известной степени, да. Речь шла о чести одного человека. Мы сумели это уладить, и я дал слово об этом забыть. И я об этом забыл.
Кунце достал из папки, лежавшей на столе, несколько писем. Он так часто читал их, что знал содержание почти наизусть.
— Эти письма Дорфрихтер писал своей жене летом 1908 года. Имя Ванини упоминается чаше других. Создается впечатление, что этот молодой человек постоянно оказывается в каких-то трудных ситуациях из-за неумеренного употребления алкоголя и неисполнения служебного долга. В одном месте Дорфрихтер упоминает о том, что он помог Ванини уладить какую-то неприятность. Это письмо датировано третьим сентября. За два дня до этого ты написал Дорфрихтеру, что готов с ним встретиться по поводу Ванини.
— Почему ты меня спрашиваешь? Почему не обратишься к Дорфрихтеру или Ванини?
Кунце не дал сбить себя с толку поведением барона.
— Всему свое время. Но у меня есть еще один безобидный вопрос. Ваша встреча с Дорфрихтером проходила в товарищеской обстановке? Или были какие-нибудь сложности?
— Ни малейших. Мы прекрасно ладил и друг с другом. Он отличный парень — Дорфрихтер, имел я в виду. Честно сказать, я никогда не поверю, что он тот, кто стоит за этими проклятыми циркулярами. Это довольно плохая шутка. И, кроме того, безвкусная. У тебя, должно быть, есть какие-то веские доказательства, иначе ты не держал бы его под арестом. И все равно я убежден, что ты заблуждаешься. Зачем, к примеру, ему было посылать яд мне? У нас были прекрасные отношения. К тому же он должен был знать, что я не из тех, кто прибегает к таким чудо-средствам. Если у меня возникают проблемы, я иду к врачу.
Кунце терпеливо ждал, пока барон не закончит. Затем он кивнул.
— Возможно, Дорфрихтер и не Чарльз Френсис. Тем не менее я должен проверить все варианты. Давай теперь вернемся к вашей встрече в Сараево. Дорфрихтер пришел к тебе, потому что Ванини сидел на мели? Из-за чего? Думаю, что речь шла о деньгах. Ты сказал, что на кон была поставлена его честь. Стало быть, он совершил какой-то бесчестный поступок. И ты не хочешь мне об этом рассказать, потому что ему это и сейчас может повредить. Его могут уволить из армии, возможно, даже посадить. Ты был готов простить долг или что там еще было — он, получается, обязан тебе по гроб жизни. Но есть еще и третий, который об этом знает, и это — Дорфрихтер. Он оказал Ванини большую услугу, нет вопроса, и после этого Ванини и ему обязан.
— По твоим рассуждениям, — барон ухмыльнулся, — может оказаться, что это Ванини послал мне капсулы с ядом!
— Возможно, ты прав, — согласился Кунце и замолчал.
Ванини показал, что у него был цианистый калий. Он проходил службу в Линце, откуда происходили коробочки и бумага. По данным полковой канцелярии, он заступил на службу в Нагиканице двенадцатого ноября, после того как накануне вечером приехал туда. Это означает, что он не мог быть в Вене и не мог бросить циркуляры четырнадцатого ноября в почтовый ящик на Мариахильферштрассе. Но это мог для него сделать кто-то другой. Но зачем? По какой причине ему нужно было погубить десять офицеров Генерального штаба? Из этих десяти офицеров он лично знал, кроме барона Ландсберга-Лёви, возможно, еще одного или двух. Какую злобу мог бы он испытывать по отношению к другим? Можно допустить, что он, как и многие войсковые офицеры, в принципе не выносил Генеральный штаб. Может быть, он вообще душевнобольной? Боже милостивый, а вдруг это Ванини — тот человек, а не Дорфрихтер!
— Я не смог бы утверждать, что ты мне крепко помог, — сказал Кунце Ландсбергу-Лёви. — Кажется, ты забыл, что здесь идет речь не о каком-то рыцарском турнире, а о расследовании убийства, которое я провожу. Твой бессмысленный кодекс чести чрезвычайно мешает делу.
Барон встал.
— Сожалею, но здесь я ничего изменить не могу, — чопорно сказал он. — Это все?
— На данный момент да, но, возможно, мне придется тебя еще раз побеспокоить. Я имею в виду всех, кто так или иначе связан с этим делом.
Барон щелкнул каблуками.
— Всегда к вашим услугам.
Оставшись один, Кунце стал взвешивать вариант, при котором Ванини как военный или даже как должник был втянут в это дело. Шансов на это было немного, но и отбрасывать совсем такую вероятность тоже было нельзя. Но на этот раз он не должен передоверять расследование кому-то, а при необходимости ехать в Нагиканицу самому. В дверь постучали, и не успел Кунце сказать «войдите», как в комнату влетел Стокласка, размахивая листком бумаги.
— Капитан Титус Дугонич найден с тяжелым огнестрельным ранением в своей квартире в переулке Химмельпфортгассе!
Квартира располагалась на первом этаже старого дома, вход в который находился в переулке Химмельпфортгассе, а сам дом тянулся до следующей улицы. Вход в квартиру был прямо с лестницы; в квартире через кухню был еще один выход, что для Дугонича, который в этой квартире постоянно не жил, было просто идеальным. Звонит, к примеру, ревнивый муж в переднюю дверь, а его жена тем временем спокойно убегает через черный ход, спускается к переулку Баллгассе, берет фиакр и еще раньше своего мужа успевает оказаться дома.
Когда Кунце вошел в квартиру пострадавшего, он обнаружил там смотрителя дома и штатского, который оказался акушером, жившим в этом же доме на втором этаже. Сразу же после прихода капитана появился полковой врач доктор Рупперт. Кунце пришло в голову, что сцена, которую он не так давно пережил, снова повторяется с той лишь разницей, что жертва на этот раз была не мертвой, как Рихард Мадер, а довольно-таки живой и изрыгающей громкие проклятья. Пуля вошла в нижнюю часть бедра и через боковую мышцу вышла с другой стороны, задев верхнюю бедренную кость. Таково было предварительное заключение местного медика, с которым доктор Рупперт с обычным для него презрением военного врача к штатским коллегам не соглашался.
Дугонич испытывал сильную боль, и рана его по-прежнему кровоточила, хотя, к счастью, главная артерия не была задета. Выстрел произошел в салоне, обставленном, как шатер арабского шейха: восточные ковры, камчатные портьеры, на стенах изогнутые сабли и мечи и стеклянные витрины с коллекциями огнестрельного оружия. На одной из стен виднелись брызги крови, а на полу, где Дугонич упал, было большое кровавое пятно.
— Я только вернулся с родов, — рассказывал врач, — как зазвонил телефон. Женский голос попросил, чтобы я прошел в квартиру номер один, там я, наверное, буду нужен. И больше ничего. Сначала я подумал, что это шутка, но потом решил спуститься. Дверь была только прикрыта, и я нашел господина капитана лежащим на полу. На нем был шелковый халат, который сейчас лежит на стуле, и больше ничего. Я остановил кровотечение и позвал смотрителя дома, чтобы он помог мне уложить господина капитана в постель. Моя жена позвонила в полицию. Я вообще-то не знал, что он офицер. Видел его пару раз на лестнице, но он был всегда в штатском.
Хождение в штатском было против инструкций, но Кунце понимал, что человек, направляющийся на тайное свидание, старается не привлекать к себе внимание.
Для Кунце ситуация была ясной. Квартира являлась так называемым любовным гнездышком. Здесь Дугонич встречался со своими многочисленными женщинами. Его любовные похождения были у всех на устах, и сегодня кто-то выстрелил в него наугад: чей-то ревнивый муж или покинутая любовница. Место ранения указывало на то, что убивать его не собирались, а целью был, скорее всего, инструмент любви капитана.
К счастью, тот, кто стрелял — он или она, — хорошим стрелком себя не показал.
Пока ждали карету скорой помощи, Кунце попытался узнать от Дугонича какие-нибудь подробности, но раненый издавал только нечленораздельные звуки, проклинал какую-то сволочь, но, когда Кунце захотел узнать имя, разразился таким своеобразным взрывом ярости, который даже старого фельдфебеля заставил бы умолкнуть.
Еще в этот день в бюро полицай-президента Бржезовски собрались те же самые господа, которые тремя месяцами раньше составляли комиссию по расследованию причин гибели Рихарда Мадера.
— Совершено покушение на убийство человека, который также получал циркуляр Чарльза Френсиса, — сообщил собравшимся генерал Венцель. — Наверняка капитан Кунце нам сейчас скажет, что нет никакой связи между убийством капитана Мадера и выстрелом в капитана Дугонича.
Кунце покачал головой.
— Нет, господин генерал, этого я не скажу, по крайней мере до тех пор, пока не поговорю с капитаном Дугоничем.
Комиссия заседала уже больше часа. Дошла наконец очередь до свидетелей — врача и смотрителя дома.
— Как, показалось вам, звучал женский голос? — спросил врача генерал Венцель. — Не было у нее иностранного акцента?
— Нет, господин генерал, это был чисто венский выговор.
— Кто-нибудь из рабочего класса?
— Нет, господин генерал. Я бы сказал, скорее дама из общества.
— Вы не смогли бы припомнить, что она сказала? Какими словами?
— Я попробую, господин генерал, но женщина была чрезвычайно взволнованна, и сначала я ее не понял. Только постепенно до меня дошло, что она хочет, чтобы я спустился в квартиру номер один и позаботился о больном. Может быть, она сказала «о раненом». И потом она еще что-то сказала, что показалось мне лишенным всякого смысла.
— И что же это было?
— Она сказала: «Надеюсь, я поймала его за яйца».
Несколько мгновений в комнате царило ошеломленное молчание. Комиссар Вайнберг задумчиво теребил свои усы.
— И вы остаетесь по-прежнему при своем мнении, что женщина, говорившая такие вульгарные вещи, относится к обществу?
— Без сомнения, господин генерал. Голос звучал чисто светски.
Кунце отправился из Президиума прямо в госпиталь, но поговорить с Дугоничем ему не разрешили. Он был прооперирован и еще не проснулся после наркоза.
Только на следующее утро Кунце удалось зайти к Дугоничу в палату. Он был бледен, с темными кругами под глазами, но в более веселом расположении духа, чем накануне.
— Как ты себя чувствуешь? — спросил посетитель.
— Как круглый идиот.
— Кто она?
— Ты о ком?
— О женщине, которая в тебя стреляла?
— А кто сказал, что это женщина?
— Ты сам. Ты никогда бы не назвал мужчину стервой. С людьми такого сорта ты бы дело не имел.
Дугонич продолжал молчать.
— Ну, давай говори — кто она? — настаивал Кунце.
— А мы не можем договориться, что я чистил пистолет и выстрел произошел случайно?
— Дугонич, не будь так идиотски благороден! Как же мне расследовать дела, черт побери, если вы все начнете строить из себя рыцарей и при этом ничего не видеть и не слышать? Почему вам так хочется все мне усложнять?
— Ты сам себе все усложняешь. Ну хорошо, одна бешеная бабенка пыталась отстрелить мне яйца. Это касается исключительно ее и меня. А тебя это вообще не касается, понимаешь? Это моя нога лежит в этом дерьмовом гипсе. И армии придется обойтись без меня, пока меня не вылечат. Сделай так, как будто я упал со своего вонючего жеребца!
Кунце вздохнул.
— Дугонич! Генерал Венцель одержим идеей, что тот, кто стрелял в тебя, и Рихарда Мадера отравил. По его мнению, это политический убийца. Серб или русский, чех или венгр. Генерал никогда не сможет примириться с мыслью, что Чарльз Френсис может быть офицером австрийской армии.
Дугонич расхохотался.
— Скажи этому старому стервятнику, чтобы он не совал нос в мои дела, — проворчал он. — Иначе он сам, возможно, окажется в дерьме.
Кунце кивнул.
— Я понял.
Он знал теперь, кто была эта женщина. Лили Венцель. Он удивлялся себе, как это раньше не пришло ему в голову.
— Ничего ты не понял, — сердито сказал Дугонич. — Я имел в виду только…
Кунце перебил его:
— Я знаю, что ты имел в виду. Я хочу тебе только сказать, что мы нашли пулю. Выстрел был сделан из пистолета калибра двадцать два, скорее всего, из браунинга. Это твой пистолет?
— Нет, она принесла его с собой.
— А где он?
— Откуда же мне знать? В конце концов, я чуть не истек кровью. — Он ухмыльнулся: — Одно ясно: в чувстве юмора ей не откажешь! Сначала она пыталась меня кастрировать, а потом вызвала акушера. Этот добрый человек взял весь набор инструментов с собой, начиная с акушерских щипцов, — люди, наверное, помирали со смеху надо мной. — После короткой паузы он продолжил: — А что касается генерала, ты должен что-нибудь предпринять. Чего доброго, он решит, что обязан смыть позорное пятно со своего доброго имени, а он уж точно стреляет лучше своей жены и может запросто меня угробить.
Кунце тихо рассмеялся.
— Во-первых, у него нет ни капли чувства юмора. Поэтому он будет целиться тебе в голову. Ты прав: единственный выход — несчастный случай. И неважно, насколько это малоправдоподобно. Ты чистил свой пистолет, и внезапно произошел выстрел. Генералу дадут понять, что необходимо держать все в тайне, так как ты не хочешь погубить репутацию дамы. К счастью, генерал знает тебя достаточно хорошо, чтобы не заподозрить в тебе русского шпиона.
— А как быть с остальными членами комиссии?
— Об этом не беспокойся. Господа не производят впечатления, что они жаждут тщательного расследования. Для них это дело кажется довольно ясным. И в непорочности офицерского корпуса они и без того убеждены гораздо меньше, чем Венцель.
Генерал Венцель был вновь вызван в замок Бельведер, где ему пришлось выслушать много неприятного от наследника престола. Эрцгерцог Франц Фердинанд прочитал в газете о выстреле в капитана Дугонича и был в бешенстве от того, что это попало в прессу. На этот раз он разделял мнение Кунце, что выстрел связан с любовной историей. Он считал все это дело просто отвратительным и наносящим ущерб репутации Генерального штаба. Он недвусмысленно дал понять, что таким офицерам, как Дугонич, не будет места в армии, как только он станет кайзером. В конце, с присущим ему отсутствием логики, он потребовал, чтобы все подробности этого дела, раз уж оно попало в газеты, были опубликованы, чтобы прекратить все слухи и предположения.
— Я всепокорнейше придерживаюсь другого мнения, чем его Императорское Высочество, — возразил Кунце, когда узнал о приказе эрцгерцога. — Капитан Дугонич настаивает, что это был несчастный случай и что он ранил себя сам.
— Не будьте ослом, Кунце, — проворчал Венцель. — Вы отлично знаете, что он лжет, черт бы его побрал.
— Весьма вероятно, господин генерал. Но какие причины у такого порядочного человека, как капитан, искать спасения во лжи? Здесь могут быть только причины, касающиеся вопросов чести. Вы, господин генерал, встречаетесь с капитаном в обществе гораздо чаще, чем я. Вы хорошо знаете, в каких кругах он вращается. А если дама принадлежит к этим кругам? Вдруг это супруга в высшей степени респектабельного человека? Разве не станет это причиной настоящего скандала?
Глаза Венцеля сузились, и он долго с подозрением разглядывал Кунце.
— Что вам известно? — резко спросил он.
— Только то, что я вам доложил, господин генерал.
— Оружие нашли?
— Нет, еще не нашли. Возможно, эта персона взяла его с собой.
— А пуля?
— Выпущена из пистолета двадцать второго калибра.
— Полиция нашла свидетелей, которые видели эту персону входящей и выходящей из квартиры?
— Нет, господин генерал. Но я постоянно в контакте с комиссаром доктором Вайнбергом, и он обещал немедленно поставить меня в известность, как только они найдут что-либо существенное. Но пока ничего нет.
— Это просто от недееспособности, — проворчал Венцель. — Но вы заблуждаетесь, если полагаете, что я доволен, как ведется расследование этого дела. Один ляпсус за другим! Немедленно поставьте меня в известность, если появится что-то новое. — И затем сухо: — Вы свободны.
Капитан Кунце нашел пистолет за складками тяжелой шелковой портьеры в салоне Дугонича. По каким-то причинам полиция эту штору просмотрела. Кунце еще раз решил осмотреть квартиру, убедиться, что никаких личных предметов — носового платка, шарфика или чего-нибудь подобного, что может указать на фамилию женщины. И тогда, к своему удивлению, он нашел пистолет. Это был подарочный экземпляр, браунинг, на боковой стороне которого было выгравировано: «Всего самого лучшего к дню рождения! Твой любящий тебя муж Карл».
После того как он убедился, что генерал Венцель находится в своем служебном кабинете, Кунце прошел к ближайшей почте, позвонил домой к генералу и попросил госпожу к телефону.
— Это капитан Кунце, — сказал он на испуганное молчание на другом конце провода. — Простите, что я вас беспокою, но у меня есть кое-что принадлежащее вам, и я хотел бы вернуть это вам так, чтобы об этом никто не узнал.
Молчание длилось несколько секунд, затем последовало шепотом:
— Почему?
— Потому что я думаю, что так было бы лучше для всех участников.
— Ах, какой вы хороший человек, — пропела она, видимо, приходя в себя, и он услышал гортанные звуки, напоминающие то ли смех, то ли плач.
— У меня есть одно условие, — сказал он. — Вы мне должны пообещать, что тренироваться в стрельбе впредь будете только по неживым предметам.
— Я обещаю вам это, — прошептала она. — Нечто подобное у человека случается раз в жизни.
— Я верю вам на слово. В любом случае возьмите игрушку назад. Не годится выбрасывать подарки ко дню рождения.
Они условились встретиться в парке Шёнбрунн, сразу возле входа. Парк был ближайшим к вилле Венцелей. Лили должна взять своего белого шпица, что должно было служить алиби, если ее увидят. Кунце должен — по той же причине — взять с собой Тролля.
— Не стоит и говорить, как я вам благодарна, — призналась она спустя некоторое время. И затем спросила: — Как он себя чувствует?
— Соответственно обстоятельствам, — ответил Кунце. — Нога у него в гипсе, но врач надеется, что все будет в порядке.
— Он сильно на меня злится?
— Довольно-таки. Но ведь это можно понять, не так ли?
Они встретились холодными зимними сумерками под голыми деревьями, двое владельцев собак, которым пронизывающий до костей туман был в радость. Вдали только одна женщина выгуливала двух дрожавших фоксов. Пока Тролль с интересом изучал попонку шпица, Кунце, протянув руку как будто для приветствия, передал Лили пистолет, который она небрежно спрятала в карман пальто.
— Еще раз спасибо, и скажите ему, что я сожалею.
Он кивнул.
— Я передам ему это.
— Сожалею, что не попала, — добавила она со смехом. Затем она потянула за поводок и повела шпица прочь от Тролля.
14
Лейтенант Ксавьер Ванини брел по краю узкого ущелья; глубоко внизу пролегали рельсы железной дороги. Что-то влекло его в это место, особенно тогда, когда он был с похмелья. Уже от одного вида железной дороги становилось легче на сердце — есть, стало быть, еще поезда, которые могут увезти его из этого проклятого места, и он не отрезан окончательно и бесповоротно от остального мира.
Дул холодный ветер, и лейтенант продрог. Если хорошенько подумать, он с прошлой осени не переставал мерзнуть. Он взглянул на безотрадное февральское небо и проклял его. В последние дни потеплело, и снег превратился в слякоть. Венгерский ландшафт с его голыми деревьями и бесконечными серо-коричневыми полями выглядел плоско и печально. В его воображении возникла снова картина солнечной бухты Кварнеро, и от тоски у него защемило сердце.
Он родился в Триесте, и, когда ему было три года, его отец, служащий таможни, был переведен в Фиуме. Он рос в порту, который был достаточно оживленным, чтобы быть постоянным источником радости, но и вполне безопасным для мальчишки. Зимой и летом море было постоянным местом для игр: рыбацкие лодки и пароходы, плывущие вдоль берегов с роскошной растительностью и бесконечными дикими пляжами, грузовые суда с их собранными со всего света экипажами, начиная с огромных светловолосых скандинавов и кончая крошечными малайцами.
Ему было тринадцать, когда умер его отец. Следующим летом мать познакомилась с пехотным полковником, который был уже на пенсии и проводил отпуск в Аббации, и вышла за него замуж. В глазах полковника маленький мальчишка, который болтал на десяти языках, включая тайский, который предпочитал венским шницелям соскобленные перочинным ножом со скал моллюски и у которого на левой руке была вытатуирована красно-голубая морская звезда, — был просто невоспитанным парнем. Единственной возможностью спасти его для общества, по мнению полковника, было железное военное воспитание. Ксавьера отправили в венский Нойштадт, в кадетское училище. Он не был образцовым учеником и кое-как дорос до лейтенанта, и то только потому, что он, как примерный сын, не хотел расстраивать свою мать.
Когда человек вынужден жить с постоянно изнуряющей его болью, он хватается за любое средство ее заглушить. Ванини пил, играл и попал в сети женщин не самого порядочного толка. Ему всегда не хватало собственных денег, и до полного финансового и морального краха всегда оставался один маленький шаг. Для молодого и приятно выглядевшего офицера было довольно легко наделать долги, так как кредиторы считали, что даже в самом крайнем случае оставалась возможность выгодной женитьбы. Проценты, которые ему приходилось платить по долгам, были чудовищными, и он каждый раз, когда его переводили в другой гарнизон, вздыхал с облегчением — неоплаченные долги и угрозы кредиторов оставались позади.
Перед ним открывались новые, нетронутые источники кредита. Это была небезопасная игра, и Ванини не имел представления, как долго он сможет держаться на поверхности. Рано или поздно придется выбирать — или увольняться со службы, или решиться на женитьбу на какой-нибудь уродине из богатой семьи.
Хотя в Нагиканице он служил только с двенадцатого ноября, он успел дойти до стадии, когда ему казалось, что положение безвыходно. Его кредиторы из Линца объединились и требовали свои деньги, а от местных ростовщиков практически ничего невозможно уже было получить. В отчаянии он написал своему отчиму, но тот ответил письмом на четырех страницах, полным упреков и без ожидаемого чека.
Внизу в ущелье прогрохотал поезд. На одном из спальных вагонов он сумел прочитать табличку «Будапешт — Загреб — Триест». Сейчас четыре часа дня, значит, рано утром поезд будет уже в Триесте. Безвыходное положение просто угнетало. Почему он, как подобает мужчине, не может выбраться из болота этого ненавистного существования? Или это болото его уже полностью поглотило? Грац, Нойштадт, Сараево, Линц, Нагиканица — какие неблагозвучные названия чужих городов. Что вообще здесь делает он, «проклятый итальяшка»? Какой смысл был становиться офицером и человеком из общества, если приходится все время балансировать как на проволоке?
В кафе у рынка Ванини заказал пару венских сосисок и графин вина. От вина он почувствовал себя лучше и заказал еще один графин. Затем он отправился домой.
Дом, в котором Ванини снимал меблированную квартиру, находился в пяти минутах ходьбы от рыночной площади. Приближаясь к дому, он, к большому удивлению, увидел в своих окнах свет. Два солдата с примкнутыми штыками стояли у дверей его квартиры.
Ошеломленный, он остановился.
— Что, черт побери…
Солдаты вытянулись по стойке смирно, но выражения лиц оставались совершенно безучастными. Он рванул ручку двери и вошел в комнату. Человек в звании капитана и со знаками различия военной юстиции сидел на обтянутой ужасной тканью софе. Человек поднялся, сделал шаг вперед и спросил:
— Лейтенант Ксавьер Ванини?
Ванини только моргал, уставившись на него.
— Так точно, господин капитан.
Он был настолько ошарашен, что и не поприветствовал капитана, как положено.
— Меня зовут Эмиль Кунце, капитан-аудитор при гарнизонном суде Вены.
— Я вас слушаю, господин капитан, — сказал Ванини. От жара, идущего от кафельной печи, и от выпитого вина голова у него кружилась.
— Вы арестованы, господин лейтенант, — спокойно сказал капитан.
Ванини потребовалось несколько секунд, чтобы до него дошел смысл сказанного.
— Что вы сказали? За что?
— За подстрекательство к убийству. Надеюсь, ничего серьезного это для вас не будет означать.
Перед Кунце стоял молодой человек среднего роста, выглядевший моложе своих двадцати семи лет, что слегка удивило Кунце, с черными шелковистыми волосами, оливковой кожей и глазами орехового цвета.
Он затеял довольно рискованную игру, добиваясь ордера на арест Ванини. Генерал Венцель сначала категорически отказался давать на это согласие и уступил лишь тогда, когда Кунце пообещал содержать Ванини под арестом не более сорока восьми часов и немедленно освободить, если не откроются дополнительные доказательства.
По пути в казарму Ванини несколько раз пытался нарушить гнетущее молчание, но непроницаемое лицо капитана не выражало никакой реакции.
В маленьком служебном помещении свет единственной лампы на потолке падал прямо на Ванини, в то время как Кунце сидел за письменным столом в полумраке.
— В декабре ваш командир полка допрашивал вас в связи с попыткой купить в аптеке Ритцбергера цианистый калий. Вы посылали в аптеку вашего ординарца, но ему там отказали. Есть ли что-либо, что вы могли бы добавить к вашим тогдашним показаниям?
Ванини слушал, широко раскрыв глаза. В голове у него слегка прояснилось, но сердце стучало так громко, что он опасался, что капитан может это услышать. «Снова этот проклятый цианистый калий», — подумал он, почувствовав подвох.
— Я не знаю, что вы хотели бы услышать, господин капитан, — осторожно проговорил он.
— Вы знаете очень хорошо, что я хочу услышать, — сухо сказал Кунце. Однако искренне удивленный взгляд молодого офицера заставил его усомниться, на верном ли он пути. — Что вы сделали с цианистым калием?
— С каким цианистым калием, господин капитан? Мой парень не смог тогда его купить.
— Я говорю о двух палочках цианистого калия, которые вы купили в гарнизонной аптеке Сараево пятнадцатого августа 1908 года. Для чего вы их использовали?
Ванини несколько раз моргнул, как будто свет лампы слепил его.
— Пятнадцатого августа 1908 года? Ах да, я покупал этот цианистый калий, чтобы сделать пару фотографий на празднике цветов, который устраивал фельдмаршал-лейтенант фон Вайгль в честь дня рождения Его Величества.
— И вы сделали эти фотографии?
— Осмелюсь доложить — нет, господин капитан.
— Почему нет?
— Сейчас уже не могу вспомнить.
— Значит, вы так и не использовали цианистый калий?
— Нет, использовал — позже — для других фотографий.
— Которые вы снимали в Сараево?
— Так точно, господин капитан.
— Разве у вас была в вашей квартире в Сараево темная комната?
— Нет, господин капитан. Я пользовался темной комнатой в комендатуре корпуса.
— Все это было в начале вашей службы в Сараево, — настаивал Кунце. — Затем вскоре вы потеряли интерес к фотографии.
— Нет, господин капитан, тут я вам должен возразить. У меня по-прежнему было все для занятий фотографией и…
— Но вы же в Сараево не сделали больше ни одного снимка?
Щеки Ванини пылали, он нервно теребил воротник своего кителя.
— Вы меня арестовали, господин капитан, за то что я прекратил заниматься фотографией? — спросил он упавшим голосом. Несколько мгновений в комнате слышался только треск огня в печи. — Я многое прекратил в Сараево, — продолжал Ванини тоном несправедливо обиженного ребенка. — Я перестал играть в теннис, я бросил играть на скачках. Я даже перестал ухаживать за женщинами. В качестве замены моим бывшим любовницам я прибегнул к местному средству, которое разливают в бутылки и которое содержит восемьдесят процентов алкоголя.
Кунце внимательно наблюдал за раскрасневшимся лицом молодого человека.
— Позвольте мне, господин лейтенант, несколько освежить вашу память. Двадцать первого июля в Сараево ростовщик по фамилии Абрахам Херрлих выдал вам в долг двести крон для выкупа вашего фотографического оборудования. Долг в ломбард вы так и не вернули. Именно поэтому вы утратили интерес к фотографии.
Как бы пытаясь избавиться от головной боли, Ванини массировал лоб двумя ладонями.
— Яправ, Ванини?
— Так точно, господин капитан.
Во взгляде Ванини сквозил упрек, в выражении лица проглядывалось смущение человека, пойманного на лжи.
Кунце приехал в Нагиканицу хорошо подготовившись. Он провел несколько телефонных переговоров с Сараево, затем съездил поездом в Линц и там переговорил со множеством людей.
— Когда вы приобрели цианистый калий в гарнизонной аптеке Сараево, у вас уже не было ни камеры, ни другого фотографического оборудования. Это верно?
— Так точно, господин капитан.
— Зачем же вам нужен был цианистый калий?
— Я уже вам говорил, господин капитан. Я хотел сделать несколько снимков на празднике цветов.
— Но у вас ведь уже не было фотоаппарата?
— Я надеялся его выкупить. К несчастью, это мне не удалось.
— Ну хорошо. А что же вы сделали с цианистым калием?
— Наверное, я его выбросил.
— Точно вы не знаете?
На лбу молодого офицера блестели бисеринки пота.
— Это было так давно. Как я сейчас могу вспомнить?
Кунце затаил дыхание. Кто мог подумать, что погоня за фантазией, химерой превратится в настоящую охоту? Возможно ли, что он стоит перед разгадкой тайны этого Чарльза Френсиса? А вдруг ни на чем не основанное предположение, которое пришло ему в голову несколько дней назад, действительно является ключом от камеры Дорфрихтера? Неужели Дорфрихтер не виновен, а преступником является Ванини?
— Вы ведь без особой охоты служите в армии, не так ли, Ванини? — спросил он.
Молодой человек посмотрел на него с недоумением.
— Что вы имеете в виду? Служу ли я охотно как гражданин или как офицер? Я не понимаю вашего вопроса, господин капитан.
— В Линце от вас часто слышали оскорбительные высказывания в адрес ваших товарищей по службе, и особенно в адрес штабных офицеров.
— Вполне возможно. Я совсем не святой, который любит всех и вся.
Было уже поздно, Кунце устал от многочасовой тряски в поезде и от долгого ожидания на шаткой софе в квартире Ванини. Наступил момент выложить все козыри и закончить игру.
— На чем основана ваша враждебность по отношению к офицерам Генерального штаба?
Ванини вытянулся в струнку. Он опустил глаза, словно стараясь уйти от пронизывающего взгляда Кунце.
— Вы это сами прекрасно знаете, господин капитан, — сказал он раздраженным голосом. — Особой любви между войсковыми офицерами и этими бутылочно-зелеными никогда не было. А что касается меня, так меня от них просто тошнит.
«Сейчас начинает играть в нем его итальянский темперамент, — подумал Кунце. — Он становится легкомысленным и может выдать себя из чистого хвастовства».
— Возможно ли, — спросил капитан как бы между прочим, — что вы заполнили двадцать капсул с цианистым калием и отправили их недавно представленным к внеочередному званию офицерам Генерального штаба?
Хотя выпитое в кафе вино и жар, идущий от кафельной печи, и отразились в какой-то степени на умственных способностях лейтенанта, но на его реакции никак не сказались. Как ужаленный, он подскочил и закричал:
— Нет, нет! — В ужасе он уставился на Кунце. — Вы меня арестовали из-за этого? Это просто безумие! Я не имею к этим проклятым капсулам никакого отношения.
— Создается впечатление, что вы кое-что знаете об этом.
— Конечно, я кое-что знаю об этом. Я читаю газеты, как и все остальные. Со мной у вас ничего не выйдет! Только лишь потому, что я больше года назад купил две палочки цианистого калия? Другие тоже покупали! Вы что, хотите всех арестовать? Вам не хватит тюрем всего мира для этого!
— Я совсем не собираюсь арестовывать всех. Только вас.
— Почему меня? Почему вы выбрали именно меня? — закричал Ванини. — Я протестую. Я требую, чтобы меня немедленно освободили!
— Нет, я вас не освобожу до тех пор, пока вы мне не скажете, что вы сделали с цианистым калием.
Ванини на глазах сник.
— Зачем мне нужно было бы убивать этих людей? Я вообще никого из них не знал.
Кунце выждал некоторое время, затем дал бомбе взорваться.
— Перед моим отъездом из Вены я разговаривал с капитаном Ландсбергом-Лёви.
Краска бросилась в лицо Ванини.
— Этот богом проклятый еврей! Я был убежден, что он не сможет держать язык за зубами.
Внезапно Кунце стало не по себе. Протест был слишком спонтанным, чтобы быть наигранным. Этот молодой офицер запутался в жизни, несчастен. Возможно, даже озлоблен, но совершенно определенно он не мог быть психопатом-убийцей. У него нет ни хитрости, ни коварства безумца. Несмотря на свой ум, он был слаб и неоснователен; возможно, он мог быть причастным, но определенно не автором этого чудовищного преступления.
— Минутку, Ванини! Ландсберг-Лёви даже не пытался злоупотребить вашим доверием. Дело совсем в другом. — Кунце осторожно прощупывал дальнейший ход.
— Он дал честное слово, что будет молчать.
Это подтверждало предположение Кунце. Речь шла, вероятно, о деньгах, которые Ванини задолжал барону.
— Почему вы думаете, что это барон рассказал обо всем?
— А кто же еще тогда? — спросил Ванини.
— Петер Дорфрихтер.
— Ну уж нет. Не Дорфрихтер, — запротестовал он. — Для чего это было бы ему нужно? Нет, никогда!
— Тогда, в Сараево, вы оба были близкими друзьями.
— Да, господин капитан, мы были друзьями, — подтвердил лейтенант. — И я горжусь тем, что был его другом.
— Гордитесь настолько, чтобы его покрывать?
— Я не понимаю, что вы имеете в виду, господин капитан.
Кунце не ответил. Откинувшись назад, он ожидал дальнейшего шага Ванини. Ему было жаль молодого человека. «Дорфрихтер, подлец, — думал он, — сколько еще жизней ты погубишь?» Лейтенант Ванини вовсе не был образцовым офицером, но Кунце не видел особого счастья и быть таковым. Генерал Венцель был одним из них, и капитан Молль, и, возможно, барон Ландсберг-Лёви, который должен быть сверхправильным, так как он был евреем. Что такое таила в себе армия, которая всех их притягивала к себе, как моль тянется к свету, — таких, как Герстен, Хедри, Ходосси, и Дугонич, и даже Дорфрихтер?
— Вас с позором вышвырнут из армии, Ванини, — сказал Кунце, поскольку лейтенант молчал. — Скажите мне то, что вы должны сказать, или, клянусь богом, я отправлю вас на всю жизнь за решетку. Отвечайте! Вы отдали цианистый калий Петеру Дорфрихтеру?
— Нет, я этого не делал, господин капитан. — Ванини был близок к тому, чтобы разрыдаться.
— Послушайте, Ванини! До сих пор разговор был исключительно между нами. Так будет и дальше, но только при условии, что вы готовы сотрудничать. Подлым и трусливым образом был убит молодой офицер. У нас есть подозреваемый. Это ваш друг Дорфрихтер. Есть множество людей, которым хочется, чтобы он оказался на свободе, во-первых, потому, что он необычайно одаренный человек, во-вторых, потому, что его осуждение нанесет вред репутации армии. Разделяю ли я это мнение — не относится сейчас к делу. Мне поручено расследовать это убийство, и я пытаюсь это сделать, и больше ничего. Совершенно невинные люди были втянуты в это расследование, и для некоторых это закончилось трагически. Я не вижу никакого смысла затягивать дело. Либо Дорфрихтер не виновен, и тогда должен быть выпущен на свободу, или он виновен, и должен быть наказан. Вы его своим молчанием не спасете — теперь это уже поздно. Дело зашло слишком далеко. Но собственную репутацию и карьеру вы можете спасти, если решите обо всем рассказать откровенно.
Темные итальянские глаза Ванини были устремлены на Кунце.
— Мне нечего сказать, господин капитан.
— Я предлагаю вам сделку, Ванини. Мы все должны время от времени в жизни идти на компромисс, если этого требует безвыходная ситуация.
— Я не уверен, что хочу этого, — угрюмо сказал Ванини. — Не на таких условиях.
Кунце долго смотрел на него и затем решил усилить давление.
— Кончайте строить из себя сэра Галахада, Ванини. Вы, собственно, обычный бессовестный мошенник. Вы постоянно пытаетесь выкрутиться и прячетесь при этом за своей военной формой. Давайте не усугублять положение. А теперь к делу. Давали ли вы обер-лейтенанту Дорфрихтеру цианистый калий — да или нет?
Голос Ванини был почти не слышен:
— Нет. То есть я ему это не давал. Он взял цианистый калий сам.
Три долгих месяца ждал Эмиль Кунце этого момента. Он мечтал о нем и одновременно боялся его. Без этого доказательства вина Дорфрихтера была чистой гипотезой — просто предположение, основанное на связанных друг с другом фактах: бумага циркуляра, которая продавалась только в Линце, маленькие коробочки для самодельного ящичка для шитья, заключение графолога, поезд, который прибывает в шесть часов тридцать минут утра на Западный вокзал Вены, почтовый ящик на Мариахильферштрассе, собака, которая может проглотить порошок от глистов только в капсулах от облаток.
— Что вы имеете в виду: он взял цианистый калий сам?
— Я не знал тогда, что делать — из-за векселя, — прошептал Ванини. — У меня не было никакого выхода — срок истекал через пять дней. А Дорфрихтер все узнал и сказал, что переговорит с Ландсбергом-Лёви.
Стало быть, это был вексель. Хуже, чем долг чести, особенно в этом случае, когда Ванини подписал вексель чужой фамилией. Неоплаченный долг чести делает человека парией в глазах общества, а поддельная подпись под векселем — это тюрьма.
— Вы подделали подпись Ландсберга-Лёви, я прав?
Ванини пожал плечами.
— Ростовщик требовал надежной гарантии. Я же считался ненадежным.
— Как вы могли сделать такую глупость, Ванини?
— Я рассчитывал на наследство моей тетки, которая как раз тогда умерла, — сказал молодой человек. — А потом я узнал, что она все деньги оставила церкви.
— Значит, Дорфрихтер вызвался переговорить с бароном о погашении векселя?
— Да. И к моему большому удивлению, ему это удалось. Он уговорил Ландсберга-Лёви оплатить вексель на две тысячи крон.
— А в качестве оплаты за это он хотел получить цианистый калий?
— Нет! Совсем не в качестве оплаты. — Ванини вытер носовым платком пот со лба. — Он забрал также мой служебный пистолет и начатую пачку аспирина, которая там валялась. Я был в ужасном состоянии. С чего это какой-то еврей будет меня спасать, думал я. Ландсберг-Лёви никогда не производил на меня впечатление мягкосердечного человека. Я себя часто спрашивал, что вообще делает этот богатый еврей в армии? Нет, я не хотел, чтобы Дорфрихтер с ним говорил. Я никогда ни перед кем не унижался и решил пустить себе пулю в лоб.
— Вы хотите сказать, что Дорфрихтер забрал у вас цианистый калий, чтобы помешать вам покончить жизнь самоубийством?
— Так точно, господин капитан.
— А вы говорили ему о своих намерениях?
— Сейчас я уже не могу вспомнить, господин капитан. Я был большей частью пьян. Этот город — Сараево, — я не мог там жить. Он полон ненависти: боснийцы ненавидят турок, турки ненавидят австрийцев, австрийцы терпеть не могут сербов, сербы же ненавидят всех, а все вместе ненавидят евреев. Атмосфера там такая тяжелая, что просто трудно дышать, когда идешь вниз по Мутевеличштрассе. Никакой общественной жизни, все живут маленькими собраниями. Все пивные заведения — неважно, христианские или мусульманские — работают только с опущенными жалюзи и с закрытыми дверями. Нет ни единой женщины, с которой можно было бы просто пообщаться, только жены офицеров и проститутки. Я вообще не должен был идти в армию, господин капитан. Возможно, это благо для меня, если меня из армии вышвырнут.
Кунце испытывал сочувствие к лейтенанту, какое может испытывать старший и опытный брат. Сколько таких Ванини он уже повидал — мальчишек в униформе, которая годилась для взрослых мужчин, мальчишек, стремящихся доказать, что они уже выросли для этой формы.
— Я сделаю все, что смогу, чтобы вас защитить, Ванини, — пообещал капитан. — Но вы должны мне помочь и честно отвечать на мои вопросы.
Ванини кивнул.
— Слушаюсь, господин капитан.
— Дорфрихтер забрал у вас обе палочки цианистого калия. Вы пытались получить их обратно?
— Да, я пытался.
— Когда это было?
— Перед моим переводом в Нагиканицу. Я получил приказ второго ноября. Двенадцатого ноября я должен был доложить о прибытии в новом полку. У меня в Линце была знакомая дама, и я хотел на память сделать пару фотографий. Камеру я взял у одного приятеля, а когда аптекарь отказался продать моему ординарцу цианистый калий, я спросил Дорфрихтера, сохранились ли у него те две палочки, которые он взял у меня в Сараево.
— И что же он ответил?
— Сказал, что он их выбросил.
— Вы ему поверили?
— Конечно. Зачем ему надо было их хранить?
— А вам не пришло в голову, когда вы узнали о циркулярах Чарльза Френсиса и аресте Дорфрихтера, что тут есть определенная связь?
— Так точно, господин капитан, — неохотно сказал Ванини.
— Почему же вы ни к кому не обратились? — спросил Кунце, хотя ответ он знал заранее.
— Тогда выплыла бы наружу история с фальшивым векселем. Я внимательно следил по газетам за этим следствием. Я знал, что следствие не может быть закончено, пока не будет доказано, что у Дорфрихтера имелся цианистый калий. Если бы я сообщил об известных мне фактах, он легко мог бы мне отомстить и рассказать о поддельном векселе. А кроме того, я хотел его защитить — уж вы поверьте мне, господин капитан. Он был моим верным другом. Я не хотел быть тем, кто его выдаст расстрельной команде.
— Палачу! — поправил его Кунце. — Он будет повешен.
— Я во всем виноват, — сказал Ванини. — Вы бы ни за что до всего этого не докопались, если бы я не послал своего парня к Ритцбергеру. Зачем мне нужна была фотография этой толстой, жирной женщины, которая для меня в принципе вообще ничего не значила!
15
Это был один из тех волшебных дней, когда из голубой дали лесов на венских улицах повеяло весной. Небо все еще было затянуто облаками, но они были почти прозрачными, как льняные платки у бедняков. Ласкающий, пахнувший прошлогодней листвой воздух плыл по всему городу. Он навевал мечты о цветах, которые только должны были расцветать. Этот аромат действовал на город как одурманивающий наркотик. В это время было зачато гораздо больше детей и гораздо больше людей покончили с жизнью, чем в любое другое время года.
Кунце вернулся в Вену с Ванини накануне вечером. Хотя лейтенант больше не находился под арестом, Кунце приказал ему провести ночь в одном из пустовавших бюро в здании суда.
На следующее утро он попросил Ванини повторить свои свидетельские показания перед лейтенантами Стоклаской и Хайнрихом. Все было занесено в протокол. При этом ни вексель, ни поддельная подпись Ландсберга-Лёви упомянуты не были. Как только протокол был готов, Кунце приказал привести Петера Дорфрихтера. С того дня, когда Дорфрихтеру передали газету с описанием похождений его жены на Ривьере, оба, Кунце и Дорфрихтер, которые в итоге расстались ненавидя друг друга, больше не встречались. Надзиратель с усами кайзера Вильгельма был заменен на крепкого пожилого унтер-офицера, которому в приказном порядке было предписано наблюдать за обер-лейтенантом и о его поведении ежедневно представлять доклад.
Однако особо докладывать было не о чем. Заключенный придерживался своих привычек маршировать взад и вперед перед открытым окном, вести сам с собой бесконечные разговоры и поддерживать форму с помошью физических упражнений.
По отношению к охране он проявлял полное спокойствие. Когда обер-лейтенанта ввели в комнату, Стокласка и Хайнрих сидели на своих обычных местах, Кунце — за своим письменным столом, а Ванини сидел на стуле на другом конце комнаты. Трио — надзиратель рядом с заключенным и охранник позади — промаршировало к письменному столу, и надзиратель чрезмерно громко доложил о том, что арестованный доставлен. Кунце принял доклад и отпустил охрану. Заключенный остался стоять, вытянувшись по стойке смирно, уставившись в стену позади капитана. Он мог бы почувствовать присутствие в комнате еще одного человека, но в результате военной муштры поле зрения его было ограничено.
— Вольно. Садитесь, Дорфрихтер, — сказал Кунце.
Когда Дорфрихтер собрался сесть на стоявший перед письменным столом стул, он увидел Ванини. Его рука, протянутая к стулу, упала, когда его взгляд встретился со взглядом итальянца.
— Ага, — сказал он, и снова: — Ага. — На лице Дорфрихтера появилась кривая улыбка, из-за чего левый уголок рта сдвинулся кверху. — Привет! — бросил он Ванини.
— Привет! — кивнул лейтенант. Голос его дрожал.
— Сядьте, Дорфрихтер! — повторил Кунце.
Капитан взял бумагу со свидетельскими показаниями Ванини и стал читать ее тем гнусавым голосом, который был принят в кругах юстиции и слушая который, даже смертный приговор казался не таким ужасным. Когда он закончил, он посмотрел на человека, который безмолвно и неподвижно сидел перед ним.
— У вас есть что-нибудь сказать по этому поводу, Дорфрихтер?
Арестованный пожал плечами.
— Мне кажется, у господина лейтенанта Ксавьера Ванини чересчур богатая фантазия.
— Вы считаете, что он говорит неправду?
Дорфрихтер рассмеялся.
— Я не могу припомнить, что брал когда-либо у него цианистый калий.
— Вы взяли цианистый калий вместе с его пистолетом и начатой пачкой аспирина, — сказал Кунце.
— Про пистолет я помню и, возможно, о пачке аспирина тоже. Он был настолько не в себе, что любой бы посчитал своим долгом о нем позаботиться. Но чтобы я у него цианистый калий брал — это чистая выдумка.
Кунце обратился к Ванини:
— Пожалуйста, господин лейтенант, подойдите поближе и станьте против подозреваемого.
Ванини медленно поднялся и шаркающими шагами подошел к Дорфрихтеру. Его губы дрожали, и он заметно нервничал.
— Вы не смогли бы повторить обвиняемому то, что вы показали для протокола относительно цианистого калия?
В глазах Ванини отражалась смесь из отчаяния, просьбы о прощении и мольбы о пощаде.
— Когда ты искал мой пистолет, Петер, — сказал он, — ты вытащил ящики комода, и в одном из них был аспирин и две палочки цианистого калия, они были еще в фабричной упаковке — я их хранил в маленьком стаканчике, а ты прочитал этикетку и сказал, что хочешь быть уверенным, что я никаких глупостей не наделаю, и взял их с собой.
Дорфрихтер спокойно покачал головой.
— Этого я вспомнить не могу.
— Это было за день или за два дня до того, как ты с Ландсбергом-Лёви…
— И этого я тоже не помню, — сказал Дорфрихтер. — Ты просил меня забыть об этом, и я дал тебе свое слово.
— Господи, Петер! — застонал Ванини. — Не мучай ты меня так. Если бы не ты, меня давно уже не было бы в живых, ты же это знаешь. Я этого не забыл, конечно, не забыл!
Кунце встал и подошел к Ванини.
— Еще раз, Ванини: вы подтверждаете свои показания, что в августе 1908 года обер-лейтенант Дорфрихтер взял у вас две палочки цианистого калия и не возвращал вам их?
— Так точно, господин капитан, — простонал Ванини.
Кунце повернулся к Дорфрихтеру:
— Вы слышали слова лейтенанта. Это было показание под присягой. Вы по-прежнему остаетесь при своем утверждении, что он лжет?
— Так точно, господин капитан, — твердо сказал Дорфрихтер.
— С какой целью он стал бы это делать? Он ваш друг. К чему ему лгать?
— Об этом вы должны не меня спрашивать, господин капитан. Не я заключил с ним сделку, а вы.
Ванини побледнел, его губы дрожали, он был близок к тому, чтобы разрыдаться.
— У лейтенанта Ванини не было другого выбора, как сказать правду, Дорфрихтер, — заметил Кунце. — Вероятно, у него еще будут неприятности из-за вас. Он должен был поставить командование в известность, что вы в августе 1908 года взяли у него цианистый калий, а не ждать того момента, пока мы выйдем на его след. Военный суд должен будет решать, считать ли его молчание как соучастие, или нет.
— Я страшно обо всем этом сожалею, Петер, — пробормотал Ванини. — Пожалуйста, верь мне.
Лицо Дорфрихтера оставалось безучастным; взгляд его был устремлен через открытое окно на фронтоны расположенных напротив домов.
— Если вы позволите мне дать вам совет, — сказал Кунце Ванини, когда Дорфрихтер и оба лейтенанта покинули помещение, — увольняйтесь вы из армии, пока не поздно. Уходите в отставку, пока ваша репутация безупречна. Вы еще молоды. Вам не составит особого труда найти место в гражданской жизни. Вы же так любите море. Почему бы вам не пойти в торговый флот? В этот раз вы счастливо отделались только благодаря великодушию Ландсберга-Лёви. В другой раз такого снисходительного товарища вам не найти.
16
На Розе было красивое бирюзовое платье из крепдешина, с черными оборками. Перья страуса крепились в прическе украшенной бриллиантами застежкой. Бал у командира корпуса был их первым совместным выходом в общество после официальной помолвки. Со своим покойным супругом, членом кабинета министров, она вращалась только в довольно скучном обществе правительственных чиновников.
Армия была для нее новым миром, и она была радостно удивлена, каким уважением и любовью пользовался ее жених. Она чувствовала себя абсолютно счастливой.
Кунце хотелось бы разделить ее радость, но он был не в состоянии избавиться от чувства безнадежности, охватившего его. С момента решающего показания Ванини его постоянно преследовало воспоминание об одном молодом солдате, который при аннексии Боснии был приговорен к смерти военным трибуналом, членом которого Кунце тогда был. Образ молодого человека, рухнувшего под градом пуль, упрямо возникал между танцующими парами. Время от времени это лицо с завязанными глазами приобретало образ Дорфрихтера.
Во время ужина они с Розой сидели за столом генерала Венцеля. Лили выглядела усталой и держалась необычайно тихо. На ней было простое платье и почти не было драгоценностей, хотя до Страстной недели было еще пять дней. Генерал же, в парадном мундире, светился, как бенгальский огонь, искрами радости. Разговор за столом вращался вокруг войны. Офицеры обсуждали статью, появившуюся в парижской газете «Le Monde». В статье писалось, что немцы отказались от плана Шлиффена и разработали другой, согласно которому удар будет нанесен со стороны Эльзаса. Все придерживались мнения, что статья в «Le Monde» плод досужей фантазии. Ведь даже из соображений престижа французы должны быть абсолютно готовы к отражению удара с этой границы. С другой стороны стола прозвучало мнение, что Россия будет обязательно втянута в конфликт, но генерал Венцель авторитетно заявил, что России, чтобы оправиться от поражения в войне с Японией, потребуется не менее двадцати лет. Жизненно важно, напротив, было бы выключить Сербию до того, как главные противники будут втянуты в войну. Россия заключила с Сербией пакт о взаимопомощи, поэтому кампания на Балканах должна быть проведена без официального предварительного объявления войны. На это кайзер Франц Иосиф никогда не даст своего согласия, горячо заявил один генерал-майор, а уж наследник престола Франц Фердинанд тем более. Нападение на Сербию без официального объявления войны было бы нарушением кодекса чести всего офицерского корпуса. Правила, которых до сих пор придерживались, должны соблюдаться: ультиматум, объявление войны, нападение. Дискуссия была очень горячей, и все это время оркестр играл вальс из «Веселой вдовы».
— Пойдем потанцуем, — предложил Кунце Розе. — Следующая неделя — Страстная, и, вероятно, этот бал для нас надолго будет последним.
Во время танца Кунце отметил, что они с Розой старше всех танцующих в зале. Мелькавшие перед ними лица были свежими и сияющими, платья белыми, голубыми или нежно-розовыми, на погонах было не более одной или двух звездочек. Он спросил себя, неужели любой из этих молодых людей действительно одержим идеей нападения на Сербию, неважно, с объявлением или без формального объявления войны, как это представляется их командирам. Картина падающего под градом пуль солдата сменилась в его памяти на другую: пустынный ландшафт на боснийско-сербской границе, изрыгаюшие огонь орудия, марширующие плечо к плечу подразделения. Каждый залп косит шеренгу из них, и, как стебли под косой, падают тела по сторонам.
— О чем ты задумался? — спросила Роза.
— Так, ни о чем особенном, — солгал он.
— Ты выглядишь таким печальным.
Он заставил себя улыбнуться.
— Я совсем не печален. Поверь, у меня прекрасное настроение.
— Поздравляю, господин капитан. Все буквально в восхищении от вашей избранницы, — сказал доктор Гольдшмидт, протягивая Кунце руку.
Накануне адвокат предложил Кунце вместе пообедать в отеле, но Кунце это предложение отклонил под предлогом, что у него все следующие дни заняты. Они договорились встретиться в бюро Кунце.
— Моя жена сказала, — продолжал доктор Гольдшмидт, — что будет счастлива в ближайшее время познакомиться с госпожой фон Зиберт.
— Благодарю вас, господин доктор. Я обязательно передам это фрау Зиберт. Она будет очень польщена.
Кунце отнюдь не желал каких-либо светских встреч с супругами Гольдшмидт. Этот человек ему никогда не нравился, а после того как адвокат наставил рога Дорфрихтеру, Кунце было так неприятно, как будто он его лично обидел.
При своем появлении доктор Гольдшмидт излучал шарм и дружелюбие. С увлечением он болтал о всяких пустяках, и было очевидно, что его визит вовсе не посвящен исключительно тому, чтобы поздравить Кунце с удачным выбором его будущей супруги. Но потребовалось определенное время, прежде чем Гольдшмидт перешел к делу. Наконец Кунце удалось во время короткой паузы между двумя пикантными историйками вставить вопрос:
— Что я могу для вас сделать, господин доктор?
Лицо адвоката мгновенно стало печально-озабоченным.
— Я здесь по поводу фрау Дорфрихтер. Как вы знаете, я представляю ее интересы. Фрау Дорфрихтер хочет развестись со своим мужем.
Охваченный внезапным смятением и необъяснимым чувством вины, Кунце спросил:
— Что побудило фрау Дорфрихтер к этому решению?
— К этому решению, главным образом, пришла семья, — ответил доктор Гольдшмидт. — Фрау Грубер решила продать свой магазин и хочет с младшей дочерью и ее ребенком уехать из страны. Ее сестра живет с мужем недалеко от Мюнхена, в Мурнау. Там бы она и хотела поселиться.
Кунце неотрывно смотрел на Гольдшмидта, эту карикатуру на стареющего бонвивана, вместе с которым ему, Кунце, предстояло морально добивать Дорфрихтера. Вообще-то ему следовало быть довольным развитием событий. Вместо этого ему хотелось бы вернуться к тому времени, когда графолог впервые упомянул имя Петера Дорфрихтера.
— Я боюсь, что пока идет следствие, мы не сможем разрешить фрау Дорфрихтер покинуть страну. Вполне возможно, что она будет нужна в качестве свидетельницы.
— Не думаю, что в ее теперешнем состоянии она сможет быть вам полезной, — сказал адвокат, и, когда он увидел, что у Кунце высоко поднялись брови, он добавил: — Она страдает общим нервным расстройством и находится сейчас в санатории доктора Бройера.
Кунце это было известно, но пребывание в модном санатории вовсе не означало, что пациентка была действительно больна.
— Ну хорошо, я поставлю господина обер-лейтенанта Дорфрихтера в известность о желании его жены. Полагаю, что он даст согласие на развод. Не думаю, что могут возникнуть какие-либо проблемы. Как только я буду знать его решение, я дам вам знать.
Сразу же после ухода доктора Гольдшмидта Кунце отправился наверх, в тюремное отделение. В камере Дорфрихтера он не был с того вечера, как он сообщил ему о рождении сына. Несколько раз, спускаясь и поднимаясь по лестницам, он чувствовал желание вернуться и перенести встречу в свой кабинет, где он морально чувствовал себя защищенным. На вопрос, повлияет ли интимная обстановка камеры на то, как он будет себя чувствовать: скорее судьей или просто человеком, — ответа он не знал. Конечно, правильнее было бы сначала послать Стокласку с этим известием к Дорфрихтеру и только тогда пойти к нему, когда шок от сообщения будет позади. Он не должен никогда забывать, что он судья, а Дорфрихтер заключенный.
Оба солдата, несущие вахту, играли в служебном помещении в очко и вскочили при виде капитана как вспугнутые куропатки. Он умышленно не вызвал надзирателя, что предписывалось инструкцией. В служебке стоял крепкий запах мужского пота и дешевого табака.
Кунце потребовал ключи от камеры номер шесть. Если солдаты и удивились, что он не приказал им идти с собой, то вида не подали.
Растратчик из камеры номер один был к этому времени уже осужден и переведен в военную тюрьму Моллерсдорф; его место занимал молодой лейтенант, убивший своего товарища на дуэли. В номере три сидел драгунский лейтенант, обвиняемый в не подобающем офицеру поведении: в пьяном виде он повел свое подразделение в атаку на полицейский участок в Лемберге.
Петер Дорфрихтер лежал на своих нарах, с руками под головой, устремив пустой взгляд в потолок. По-видимому, он думал, что в камеру вошел кто-то из охраны, и повернулся к вошедшему только тогда, когда услышал голос капитана Кунце.
— Я должен вам кое-что сообщить, Дорфрихтер.
Обер-лейтенант сел, опустив ноги с кровати.
— Когда вы приходили в прошлый раз, вы сообщили мне, что я стал отцом. Что на этот раз? Что-то такое же важное?
Как обычно, насмешливый тон тут же вывел Кунце из себя.
— Решайте сами: ваша жена хочет с вами развестись, — безжалостно сказал он в ответ на злобную ухмылку арестованного.
— Так, — Дорфрихтер нахмурился. — Она хочет развода? А что будет, если я не дам своего согласия?
— Вы можете отклонить ее заявление и в свою очередь подать встречное. Я не спросил, что собирается предпринять адвокат вашей жены, но, судя по всему, он будет подавать иск о супружеской неверности.
При упоминании Кунце адвоката его жены Дорфрихтер вздрогнул:
— Она все еще пользуется услугами этого человека?
— В данный момент да. Если дойдет дело до процесса, она, вероятно, найдет кого-либо другого, — ответил Кунце и подумал: «Это было бы просто издевательством, если бы в процессе участвовал Гольдшмидт и называл Дорфрихтера нарушителем супружеской верности».
Капитан уселся на стул у стола. Дорфрихтер сидел, подперев голову руками, на краю кровати. Взрыва, которого ожидал Кунце, не произошло. Известие потрясло лейтенанта, но не привело в ярость.
— Почему? — Впервые он смотрел на Кунце вопрошающе и в его взгляде не было неприязни. — Почему? Что с ней произошло? Это абсолютно на нее не похоже!
Кунце был в какой-то степени разочарован — он ожидал взрыва ярости.
— Вы ее знаете, а я нет.
Со стремительностью, заставившей Кунце вздрогнуть, Дорфрихтер вскочил с кровати.
— Я должен с ней поговорить, — сказал он тоном, не допускавшим возражений. — Иначе я не смогу принять решение, что бы там инструкции ни говорили. Мы все еще женаты. И это дело касается лишь нас двоих. Такие вещи не решаются через третьих лиц или через адвоката.
— А если она не захочет вас видеть?
— Тогда я не дам согласия на развод. Я найду средства и пути. В гражданских делах у меня такие же права, как у любого гражданина. — Дорфрихтер подошел к Кунце: — Вы ведь устроите это, не так ли, господин капитан? Эту встречу вы мне должны.
Капитан поднялся. Их тела почти соприкасались — так близко стояли они друг к другу. Кунце чувствовал, как темные, все понимающие глаза обер-лейтенанта буквально впивались в его глаза. Мучительная страсть охватила его, желание обнять этого человека и отдать всего себя безоговорочно. Что его удерживало — так совсем не сознание, что этим он погубит все свое будущее, а понимание того, что этот человек ждет только малейшего его движения, чтобы праздновать победу над ним.
Кунце отошел к окну. Он должен был освободить себя от колдовских чар этого человека.
— Я подумаю, что можно сделать, — сказал он, как только снова мог владеть своим голосом. — Обещать вам я ничего не могу. Но я, как и вы, считаю, что такая встреча должна состояться. — Не глядя на Дорфрихтера, он пошел к двери. Внутреннее волнение в нем все еще полностью не улеглось, но руки больше уже не дрожали, когда он нажимал на звонок. — Я дам вам знать, — сказал он, выходя из камеры.
Показалось ли это ему, или Дорфрихтер действительно щелкнул каблуками и пробормотал: «Покорнейше благодарю, господин капитан»?
Кунце быстро захлопнул дверь и повернул ключ в замке.
Встреча состоялась в начале марта. Доктор Бройер сначала возражал против отъезда Марианны, затем согласился с фрау Грубер, которая считала, что у ее дочери шансов на нормальную жизнь здесь, в Вене, нет никаких и чем скорее будет получен развод, тем для нее лучше.
В состоянии Марианны наметилось заметное улучшение. Хотя большую часть она была задумчива, но в целом настроение у нее стало гораздо лучше, временами даже радостным. Фрау Грубер регулярно навещала ее и иногда брала малыша с собой. Казалось, Марианна радовалась при виде ребенка, но никогда о нем не спрашивала, если фрау Грубер оставляла дитя дома.
Решение, позволить или нет Дорфрихтеру встретиться со своей женой, было принято после двухчасового совещания в кабинете командующего гарнизоном Вены барона Версбаха фон Хаудера. В совещании принимали участие генерал Венцель, капитан Кунце и правительственный советник Штукарт. Прежде чем было принято окончательное решение, командующий советовался по телефону с военным министром фон Шенайхом, который встречу разрешил.
Чтобы избежатьлюбопытных глаз прессы, было решено провести встречу поздно вечером.
Марианну Дорфрихтер сопровождал доктор Йоханн Фразер, один из молодых адвокатов из канцелярии доктора Гольдшмидта, и санитар. В закрытом фиакре они подъехали к боковому входу гарнизонного суда, где их ожидал лейтенант Стокласка, который и проводил их по лестнице наверх. Санитару предложили подождать в приемной, а Марианна была проведена в бюро Кунце.
На первый взгляд по ней не было заметно ни малейших следов заболевания. Она была одета в темно-серый зимний костюм, сшитый, правда, не по последней моде, с воротником и муфтой из меха крота, на голове — маленькая бархатная шляпка.
Если не считать выбившихся из-за ветра пары локонов, прическа ее была безупречной. Она двигалась со спокойным достоинством и напомнила Кунце лебедя, плывущего по пруду. В последний раз, когда он ее видел, Марианна была на девятом месяце беременности, а сейчас перед ним стояла красивая, молодая, изящная женщина. Она с улыбкой протянула Кунце руку и сказала, что рада его видеть. Затем она села на предложенный ей стул и тихо слушала довольно напряженную беседу между Кунце и адвокатом, которой они пытались заполнить минуты перед появлением заключенного.
Кунце дал указание надзирателю привести Дорфрихтера в приемную и позволить ему одному зайти в бюро. Когда Дорфрихтер появился на пороге, свет лампы на потолке упал на примкнутый штык охранника, стоявшего за ним: острый, сверкающий вид оружия. Марианна повернулась, но по ней нельзя было определить, заметила ли она штык. Она приветствовала мужа слабой улыбкой. Дорфрихтер отдал честь капитану. Казалось, он держал себя в руках, но в нервном напряжении покусывал нижнюю губу. Он коротко кивнул адвокату, не отрывая взгляда от своей жены.
— Добрый вечер, Марианна, — тихо сказал он.
Она высоко подняла брови, скрестила руки и закричала:
— Не смотри на меня! Я выгляжу ужасно! Ты обещал не смотреть на меня, пока ребенок не родится. Ты мне это обещал!
Очевидно было, что Дорфрихтер к этому оказался совершенно не готов. Он стоял с открытым ртом, пытаясь что-то сказать, но не мог произнести ни звука. Он потряс головой, как будто у него были заложены уши, его глаза испуганно и вопрошающе смотрели на Кунце. Вместо ответа Кунце кивком головы дал слово адвокату, чей пронзительный и чересчур громкий голос был совершенно неуместен в небольшом помещении.
— Господин обер-лейтенант, я должен обратить ваше внимание на то, что любое препятствие с вашей стороны только затянет дело, но это вам ничем не поможет. Моя клиентка в любом случае получит свободу, — затараторил он.
Дорфрихтер посмотрел на него.
— Замолчите!
— При всем уважении, господин обер-лейтенант… — пытался тем не менее продолжить адвокат, но выражение лица Дорфрихтера заставило его умолкнуть.
Дорфрихтер подошел к Марианне, взял ее руки и поднял со стула, заключив в нежное, бережное объятие.
— Ты уже родила ребенка, Марианна. — Одним легким, полным любви движением правой руки он поднял ее лицо кверху. — Ты что, разве этого больше не помнишь? — Он смотрел на нее вопрошающим взглядом, как будто пытаясь найти ключ к ее сердцу.
Она улыбнулась ему и покачала головой.
— Ты знаешь, кто я, Марианна?
— Конечно, я знаю, кто ты, — сказала она, засмеявшись. И вдруг оттолкнула его от себя.
— Ты на меня сердишься? — спросил он.
— Нет. — Она покачала головой. — Нет, — повторила она, но на этот раз с вопросительным оттенком в голосе.
Внезапно на ее лице появилась какая-то растерянность, и она закрыла лицо руками. Когда она опустила руки, в глазах у нее стояли слезы.
Обеспокоенный адвокат приблизился к ним.
— Вы должны понимать, господин обер-лейтенант, — ваша жена не совсем здорова. Она проходит курс лечения в санатории доктора Бройера.
— Оставьте нас одних, пожалуйста. Я все понимаю. — И, повернувшись к Кунце, сказал повышенным тоном: — Пожалуйста, господин капитан, скажите ему, что он сделает одолжение, если выйдет.
Кунце не дал шанса адвокату, который открыл уже рот, чтобы протестовать.
— Я был бы вам благодарен, господин доктор Фразер, если бы вы подождали в приемной.
Адвокат пару раз судорожно глотнул воздух и с гордым видом удалился.
— Марианна, — сказал Дорфрихтер, — ты знаешь, где мы сейчас находимся?
Она улыбнулась сквозь слезы и пожала плечами.
— Но ты ведь знаешь господина капитана?
— Конечно, я знаю господина капитана. — В ее голосе прозвучало легкое раздражение. — Разве я об этом уже не говорила?
— Ты знаешь, почему мы здесь?
Казалось, она не слышала вопроса.
— Я устала, — прошептала она. — Разве доктор Бройер не придет сегодня вечером? Он всегда приходит с осмотром в это время.
Дорфрихтер подвел ее к софе, стоявшей в углу, и они сели.
— Пожалуйста, послушай меня, Марианна. Случилось то, что трудно объяснить, но об одном ты должна всегда помнить: я люблю тебя больше всего на свете. Тебя я меньше всего хотел бы обидеть. Ты все, что у меня есть. Ты слышишь меня, Марианна? Слышишь меня?
Она смотрела на него так, как будто прислушивалась к звучащей вдали музыке. Одной рукой она погладила его щеку.
— Тебе нужно подстричься, — сказала Марианна. Она прижалась к нему и говорила ясным, полным любви голосом. — Когда он родился, у него были совсем темные волосики, а потом они все выпали, и теперь малыш стал блондином, волосики просто беленькие.
— Вот видишь, я же сказал тебе, что ты давно уже родила нашего малыша. — Голос Дорфрихтера был полон мольбы и надежды, но светлый момент уже снова угас, как след падающей звезды.
Кунце сидел за своим письменным столом почти спиной к ним, и у него было одно желание: чтобы этот мучительный разговор как можно скорее закончился. Он ощущал стыд, раскаяние и — впервые — глубокое сочувствие к женщине.
Марианна начала проявлять беспокойство и снова спросила о докторе Бройере. Кунце она показалась похожей на ребенка, которого взяли в общество взрослых и который все это время вел себя как примерное дитя, но потом вдруг, устав от этих разговоров, не желал больше ждать ни минуты. И Петер Дорфрихтер должен был заметить, что он пытается говорить лишь с внешней оболочкой того, что было ранее его женой.
— Мне кажется, господин капитан, что мою жену нужно снова отвезти в санаторий. Это слишком большой стресс для нее.
— Я позову доктора Фразера, — сказал Кунце и вышел из комнаты, чтобы дать возможность заключенному попрощаться с женой.
Когда он вернулся, они по-прежнему сидели рядом друг с другом. Дорфрихтер обнимал Марианну одной рукой, ее голова лежала у него на плече. Она казалась совершенно спокойной, и на лице ее было выражение полного умиротворения. Наверное, раньше они часто так сидели и она чувствовала ткань его мундира своей щекой. Она, вероятно, не узнала по-настоящему своего мужа, подумал Кунце, только чувствовала ласку его рук и то, как его руки обнимали ее и как его тело прижималось к ее — мелодия казалась ей знакомой, а соответствующий текст она вспомнить не могла.
Когда санитар вошел в комнату, она не хотела идти с ним. Только напоминание о том, что доктор Бройер будет сердиться, заставило ее покинуть убежище таких близких ей рук.
Кунце еще в приемной сказал адвокату, что он будет разговаривать о разводе с арестованным и сообщит о решении по телефону. Капитан проводил Марианну до выхода. Когда у двери он хотел с ней попрощаться, она взглянула на него абсолютно осмысленным взглядом и сказала:
— Я знаю, кто вы! Если бы я знала, что вас здесь встречу, то ни за что бы не пришла!
Дорфрихтер все еще сидел на софе, облокотившись на стол. Полностью погруженный в свои мысли, он не слышал, как вошел капитан, и, когда Кунце отодвигал свой стул, подскочил с такой стремительностью, что уронил пепельницу со стола.
— Извините, господин капитан. Вообще-то пепельница не выглядит так, как если бы это был армейский инвентарь. Это был подарок?
— Нет. Я привез ее из Венеции. Не беспокойтесь. В следующий раз я куплю себе новую.
Внезапно его пронзила мысль, что для человека, с которым он говорит, не будет уже никакого следующего раза.
— Я сказал адвокату, чтобы он по поводу развода дал вам время подумать. Не решайте опрометчиво.
— Я уже принял решение, — сказал Дорфрихтер. — У меня не будет никаких возражений против развода. Она должна его получить. И чем скорее, тем лучше.
Под его глазами лежали глубокие тени, и впервые на его лице отсутствовало то юношеское сияние, которое делало его таким привлекательным. За какой-то истекший час произошло превращение: это было лицо пожилого человека. Кунце хотелось сказать ему несколько слов в утешение, но он понимал, что момент для этого не подходящий.
— Хотите ли вы, чтобы я завтра утром сообщил об этом доктору Фразеру, или я должен пару дней подождать?
— Нет, ждать не надо, господин капитан. Свое решение я не изменю.
— Мне сказали, что доктор Бройер настроен весьма оптимистично. Он уверен, что ваша жена полностью выздоровеет, это лишь вопрос времени.Считается, что в этом нет ничего необычного, когда молодые женщины после родов имеют проблемы с нервами. А у вашей жены были еще и дополнительные проблемы: ваш арест и…
— Мое решение окончательное, господин капитан, — перебил его Дорфрихтер с легким нетерпением в голосе. — Даже если бы она завтра была бы здорова, даже если бы она меня заверила, что не хочет развода, — я хочу, чтобы она его получила! Ее мать права. Она должна как можно скорее покинуть страну и поселиться где-нибудь, где ее не знают. Марианна слишком молода, чтобы похоронить себя под теми руинами, которые остались от нашей совместной жизни. — После краткого молчания он добавил: — В любом случае, благодарю вас за ваше дружеское участие, господин капитан.
Это было новым: впервые — «благодарю вас», и это прозвучало так, как будто он это говорил всерьез. Не было ли это поднятием белого флага капитуляции? Любой другой на месте Кунце немедленно пригласил бы свидетеля и писца, чтобы подвергнуть заключенного перекрестному допросу. Но Кунце опустил руку, протянутую к звонку. Он не мог заставить себя стрелять по цели, которую представлял собой сидевший против него человек.
— Я думаю, вам нужно сейчас вернуться в вашу камеру, — сказал он и предложил Дорфрихтеру сигарету. — Вам нужно успокоиться.
Было почти заполночь, когда капитану позвонил дежурный тюремный врач и поставил его в известность, что заключенный из камеры номер шесть попросил снотворное. Это была первая такого рода просьба. Кунце поблагодарил врача за звонок. По-хорошему, он и сам был бы непрочь попросить то же самое.
17
День свадьбы пришелся на вторник. Долгое время дата пятое марта маячила довольно далеко и представлялась Кунце чем-то вроде Везувия около Неаполя: он возвышался над горизонтом, выбрасывал время от времени облачка дыма, но реальной опасности не представлял. И вдруг эта гора обрушилась на него почти без предупреждения. Одетый в парадный мундир, достав из комода новенькие лайковые перчатки, он сел в такси в одиннадцать часов с Гансом фон Герстеном, свидетелем, и отправился в церковь Святого Михаэля.
— Ты сегодня такой притихший, — заметил Герстен с легким смехом, когда машина свернула на Ринг. — Уж не боишься ли ты?
— Нет, я просто задумался.
Он действительно задумался, задумался о супружестве, о том, что это такое вообще, что оно ему даст и что за это потребует. С Розой он уже был вместе и раньше, значит, это было не сексуальное, что их связывало. Тогда что же? Чувство, что они принадлежат друг другу, возможность говорить «мы» вместо «я»? Рука, за которую человек держится в смертный час? Любит ли он Розу? И разве любовь — это не самое избитое и банальное слово на свете? Для молодых, возможно, нет. Они могут еще любить. Он пытался представить себя, каким он был двадцать лет назад. Тогда он легко и без оговорок мог любить: свою мать, старшего сына Хартманнов, учителей, друзей. Чего ему не хватало и о чем он тосковал — это быть любимым. Ему удалось благодаря рано развившейся самодисциплине эту тоску утаивать даже от себя самого, но она существовала и мучила его изнутри. Ему казалось, что только ответная любовь может действительно вернуть его к жизни. Пока его никто не любит, он остается только призраком, человеком, который вообще не существует.
Теперь, когда ему тридцать восемь лет, он не чувствует себя больше призраком. Он нашел свое место, научился жить один, не ощущая себя покинутым, он не тосковал больше по привязанности других. Годы оставили все злое позади и помогли найти в мире мужской циничной терпимости свое место. Щедро одаривая людей благорасположением, дружелюбием и сочувствием, он не получал внутреннего удовлетворения, потому что он не способен был наполнить то, что он отдавал людям, таинственными зернышками любви. Любил ли он Розу? — в который раз спрашивал он себя. Охватывает ли его, когда он на нее смотрит, чувство нежности, скучает ли он по ней, когда ее нет? Ответ один — нет. Он терпел ее, как в принципе терпел всех людей. И все-таки иногда его охватывало нежное чувство. Он испытывал это чувство всякий раз, когда его рука скользила по мохнатой голове Тролля, и нежность поднялась в нем, когда он видел склонившегося в тревожных мыслях Петера Дорфрихтера, сидящего на софе в его бюро. Из всех миллиардов людей, населявших землю, Эмиль Кунце испытывал чувство, именуемое любовью, только к двум существам: к одному убийце и к одной собаке.
Был ли он при этом справедлив к себе и к Розе? Ответ был прост. По отношению к Розе да, к себе — нет. Тот факт, что она выходит замуж за человека, который ее не любит, не имел значения. Она выходит замуж за человека, которого она безоговорочно любит, а большего не требует ни одна женщина. Все бремя супружества будет нести он один. Поскольку он не может ответить на любовь Розы в той же степени, он должен за свою вину в том, что он позволил ей любить его все сильней и сильней, заплатить тактом, терпением и заботой. Такой человек, как Петер Дорфрихтер, никогда бы не женился на Розе фон Зиберт.
Свечи в церкви бледно мерцали, когда Роза в сопровождении зятя, шла к алтарю. На ней был весенний костюм бежевого цвета и большая, украшенная черными лентами шляпа в тон костюму. Единственное, что пришло Кунце в голову в этот торжественный момент, была мысль, что на таком сквозняке она может простудиться насмерть. Женщин иногда понять невозможно: только чтобы выглядеть элегантно, они рискуют жизнью. Признаком начала весны для них является совсем не таяние снега, а показ модными салонами их новых коллекций.
Обряд венчания вел преподобный монсеньор Олден, друг и духовник семейства Зиберт. В течение всей торжественной церемонии Кунце чувствовал себя скорее зрителем, чем участником. Он не был религиозен, но ему нравились ритуалы его церкви с ее символикой и роскошью барокко. Елейные речи и общие места ритуала оставляли его тем не менее равнодушным. Он и Роза были к тому же довольно зрелыми людьми, для которых общий тон службы должен был прежде всего соответствовать их интеллектуальному уровню. Но когда Кунце украдкой бросил взгляд на Розу, он, к своему удивлению, обнаружил, что она, как завороженная, слушает с влажными глазами. «Боже ж ты мой», — он мысленно попросил у монсеньора прошения, подумав, что тот, очевидно, лучший знаток женской психологии, чем он.
Свадебный прием состоялся в отдельном маленьком зале отеля «Саше», чему предшествовали долгие переговоры со старшим кельнером и даже лично с симпатизировавшей им мадам Саше. Все участвовавшие сочли обед чрезвычайно удавшимся. Со стороны Кунце гостями были генерал Венцель с супругой, лейтенанты Стокласка и Хайнрих, старый генерал Хартманн с супругой, их дочь Паула со своим мужем и Ганс фон Герстен. Остальные гости были со стороны Розы.
Удивительным образом гости гармонично подошли друг другу, тосты за столом были краткими и полными воодушевления. Словом, и гости и новобрачные остались чрезвычайно довольными.
Кунце подавал рапорт с просьбой о недельном отпуске и получил его, они хотели провести эту неделю в Венеции. Для Кунце было бы предпочтительней поехать в другое время года, когда погода более надежна, но Роза настояла на свадебном путешествии. Все должно идти старым, заведенным порядком: венчание с монсеньором Олденом, празднование в отеле «Саше» и первая ночь с супругом в купе спального вагона по пути к Адриатике. Ее нисколько не смущало то обстоятельство, что это только повторение ритуала, состоявшегося двадцать лет назад.
Едва Кунце появился в своей квартире в переулке Траунгассе, чтобы забрать свой багаж (Розу он высадил у ее дома), его соседка фрейлейн Бальдауф сообщила, что его просили сразу же срочно позвонить в военную тюрьму.
Телефон оставался все еще довольно своенравным средством связи, и Кунце потребовались многие минуты, прежде чем он соединился с дежурным унтер-офицером.
— Я знаю, что у вас сегодня свадьба, господин капитан, — извинился тот, — но вы сами сказали, что мы вас в любое время должны известить, если…
— Что случилось? — перебил его Кунце.
— Господин обер-лейтенант Дорфрихтер хочет вас видеть. Господин старший надзиратель Коллер сказал, что в таком состоянии он господина обер-лейтенанта еще не видел. Он и господина доктора Кляйна вызывал, но это не помогло…
— Хорошо, унтер-офицер, я буду через десять минут.
Было четыре часа дня; поезд в Венецию отправлялся в шесть. Кунце решил немедленно ехать в тюрьму и узнать, что хочет заключенный, — только тогда сможет он решить, откладывать ли поездку. Он попросил фрейлейн Бальдауф отправить чемоданы к Розе и написал ей записку, что он срочно отправляется в гарнизонный суд и постарается вовремя вернуться. Поездка казалась бесконечной, на стоянке не было ни одного свободного фиакра. Он взял одноколку, при этом кучер оказался пьян, а лошадь, по-видимому, страдала астмой. Была половина пятого, когда он наконец добрался до тюрьмы. В помещении охраны его ждали надзиратель и доктор Кляйн. Кунце потребовал ключ от камеры.
— Нам пойти с вами, господин капитан? — спросил надзиратель. — Господин обер-лейтенант, кажется, по-настоящему в скверном состоянии. Охрана говорит, что он всю ночь не сомкнул глаз и метался по камере, как зверь в клетке. С вашего разрешения, господин капитан, одному в камеру, наверное, идти не следовало бы.
Доктор Кляйн согласно кивнул.
— Я рискну, — сказал Кунце. Их опасения действовали ему на нервы. — Если вы понадобитесь, Коллер, я позвоню.
Надзиратель пошел с ним, чтобы отпереть дверь камеры, и неохотно вернулся в служебку.
Дорфрихтер стоял у окна. Он не производил впечатления человека, готового на безрассудный поступок. Хотя лицо его было бледным, под глазами — темные круги, он казался собранным и почти веселым.
— Вы здесь, наконец! — сказал он. — Мне стоило большого труда уговорить Коллера позвонить вам. Он придумывал всяческие отговорки: вас невозможно найти, вас нет в городе, вы больны, а в конце он вообще додумался до того, что у вас свадьба.
— Это правда, — кивнул Кунце.
Дорфрихтер бросил насмешливый взгляд.
— Ах, вот как! Тогда я должен вдвойне оценить то, что вы пришли. Но я хочу покончить с моим делом. Я этого больше не выдержу — ни одного дня, ни одной ночи…
— С каким делом? — спросил капитан.
Выражение лица Дорфрихтера говорило о том, что он посчитал вопрос абсурдным.
— Мое… ну, я не знаю, как это назвать. Мое признание! Да, так это называется.
Хладнокровие покинуло Дорфрихтера. На лице было написано отчаяние. Он сел на нары и облокотился на стену.
— Я никогда и в мыслях не допускал, что со мной может такое произойти. Но это вовсе не ваша заслуга! Не вы довели меня до этого, хотя следствие вы провели ювелирно, должен признать. Просто все сошлось вместе, встреча с моей женой… Я не хочу сейчас говорить об этом, тем более в этой проклятой камере! Без книг, без чернил, не с кем перекинуться словом, целыми днями ничего другого, как смотреть из проклятого окна, или уставиться на проклятый потолок, или считать кирпичи и трещины на крыше. Испанская инквизиция и та была гуманней. Испанский сапог или дыба — я бы это приветствовал, — можно хотя бы отвлечься. Но эти бесконечные ожидания между допросами! Что, черт побери, тут было расследовать? Уже в первый день у вас был о достаточно улик, чтобы меня разоблачить и приговорить к двадцати годам крепости. Но нет, для вашего идиотского перфекционизма этого было недостаточно. Даже под угрозой расстрела вы бы не остановились!
Кунце почувствовал вдруг горечь во рту.
— Не рассчитывайте на расстрел, — сказал он. — Вероятнее всего, это будет виселица. — Наглое поведение Дорфрихтера бесило его, как никогда раньше. Он продолжал спокойным тоном: — Перейдем к фактам. Вы признаете, стало быть, что четырнадцатого ноября прошлого года отправили десять циркуляров с двумя капсулами цианистого калия в каждом в адрес десяти ваших товарищей по военному училищу?
Дорфрихтер кивнул.
— Так точно, господин капитан.
Кунце должен был ощущать радостное возбуждение, триумф, глубокое удовлетворение, но ничего этого не было. Он в этот миг ощутил вдруг свинцовую усталость. Кунце вызвал охрану.
— Проводите господина обер-лейтенанта в мое бюро, — приказал он. — Кроме этого, необходимо найти лейтенантов Стокласку и Хайнриха. Независимо от того, в каком они состоянии, они должны явиться в бюро.
Не взглянув больше на Дорфрихтера, Кунце вышел из камеры и поспешил в гарнизонный суд, расположенный напротив. Он должен был срочно позвонить Розе. Лихорадочно постукивая по аппарату, он попросил местную телефонистку соединить с телефоном Розы.
— Роза, я должен тебя сильно разочаровать: мы не можем сегодня выехать.
— Ох, ну почему же нет?
— Я звоню тебе из бюро. Тут кое-что произошло, и я должен быть здесь.
— О, Эмиль! — Он слышал, как она разрыдалась. — Я так, так радовалась этому путешествию. И ничего нельзя изменить? Это же неправильно, Эмиль…
В нем нарастал гнев, и он довольно резко сказал ей:
— Ты, наверное, забыла, что ты теперь жена офицера. А жена офицера должна знать, что служба превыше всего. Если женщина не можете этим мириться, она не имеет права выходить замуж за офицера. Прекрати плакать и отправляйся в туристическое агентство напротив. Нужно сдать наши билеты и получить деньги.
— Это значит, что мы вообще никуда не поедем?
— Нет, почему же, поедем — только позднее. Сейчас это невозможно. Но позже посмотрим.
— Но, Эмиль, что я должна сказать нашим друзьям? Они все думают, что мы по пути в Венецию!
— Так скажи им, что мы не по пути в Венецию. — Он перевел дыхание. — Ах, Роза, неужели ты не понимаешь? Мне и самому очень жаль. Но здесь все гораздо важнее.
В дверь постучали. Дежурный унтер-офицер доложил, что арестованный ожидает в приемной.
— Я должен прекратить разговор, Роза, — сказал Кунце. — Пожалуйста, сделай, как я сказал. — Он положил трубку и обратился к унтер-офицеру: — Пусть введут господина обер-лейтенанта.
Рядом с надзирателем и сопровождаемый на шаг сзади конвоем в комнату вошел Дорфрихтер. На предписанной уставом дистанции все остановились и встали по стойке смирно. Кунце подумалось, сколько раз разыгрывалась здесь эта пантомима и есть ли разница между прошлыми случаями и сегодняшним. Конвоир был, видимо, каждый раз другой, но холодный блеск штыка был тем же, да и глаза были всегда такими же холодными и суровыми. Надзиратель был новый. Вместо старого грузного Туттманна, страдавшего астмой и имевшего доброе сердце, был поставлен Коллер — у него отсутствовало и то и другое. Он был добросовестным, надежным, но равнодушным служакой. Лишь заключенный разительным образом изменился. В нем со всей очевидностью отсутствовал прежний бойцовский дух.
Кунце отпустил надзирателя и конвоира и предложил Дорфрихтеру сесть.
— Мы должны подождать обоих лейтенантов, — сказал он. — Все, что вы скажете, пока оба не пришли, останется между нами.
— Нет ничего, чтобы я и при них не смог бы сказать. И особенно это: я ни о нем не сожалею.
— О чем вы не сожалеете?
— Ни о циркулярах, ни о цианистом калии, ни даже о Мадере. Случись что, я бы это сделал снова, только начал бы поумней. — Он говорил спокойно, но полным печали голосом. — Ради моей жены. Я сломал ей жизнь, и это ужасно. Я должен был позаботиться, чтобы меня не поймали.
Кунце не верил ушам своим, глядя на это красивое лицо.
— Вы уверены, что у вас с головой все в порядке?
— Я в абсолютном порядке. В ваших документах лежат акты трех психиатрических экспертиз, которые это подтверждают.
— Так вы не чувствуете себя виновным?
Дорфрихтер покачал головой.
— Ни в малейшей степени.
Кунце был как удивлен, так и в какой-то степени проникся завистью. Человек, который не знает мук вины, — Адам, который вкусил запретный плод и наслаждался им до последнего кусочка.
— Вы убили человека и пытались убить девять других. Этому нет оправдания!
— О нет, как раз есть. Возможно, не для вас, потому что вы заранее не принимаете моих доказательств. Но для меня такие оправдания есть, и именно поэтому я себя не чувствую виновным.
— Бог свидетель, я хотел бы вас понять. Но вы, видимо, все-таки безумны.
— Я попытаюсь показать вам ход моих рассуждений, — терпеливо сказал Дорфрихтер.
Он встал и стал большими шагами расхаживать по комнате.
— Я хотел бы начать с ноября прошлого года. В газете был опубликован приказ о повышении в звании и переводе в Генеральный штаб. Моей фамилии там не оказалось, что означало, что я остаюсь войсковым офицером и в случае войны буду командовать ротой — примерно двумя сотнями солдат, в то время как мне, штабному офицеру, была бы доверена судьба многих тысяч. Мадер, к примеру, был прикомандирован к телеграфному бюро. Дни, когда командующий наблюдал за ходом сражения с холма через подзорную трубу, остались в прошлом. В будущей войне он должен находиться далеко от линии фронта и осуществлять связь со своими войсками с помощью телеграфа и телефона. Судьба целого армейского корпуса будет зависеть в определенных обстоятельствах от штабника, который обеспечивает эту связь. Я встретил случайно Мадера в прошлом году в Вене. Мы оба были навеселе и довольно долго дружески болтали об интересующих нас военных вопросах. Мадер был умным парнем и свое дело знал хорошо, но его взгляды были на уровне прошлого века. В принципе наше телеграфное бюро с незапамятных времен существенно не модернизировалось. Если бы все думали, как он, о технических новшествах узнали бы только тогда, когда они уже устарели. Отсюда следует вывод: цель любой войны как можно больше убить вражеских солдат и как можно больше сохранить собственных. Но если у руля стоят такие люди, как Мадер, можно с уверенностью ожидать прямо противоположного результата.
— Когда я вспоминаю Мадера, я всегда вижу его руки, — сказал Кунце тихим, без выражения голосом. — Его разодранные кровоточащие пальцы. Если его взгляды на будущее ведение войны, возможно, и не были такими передовыми, как ваши, но он никоим образом не заслужил быть убитым таким безжалостным способом.
Дорфрихтер бросил на него холодный взгляд.
— Я полагал, вы хотели бы выслушать мои движущие мотивы, а не мои оправдания. Потому что оправдываться я не буду. Это было бы бессмысленно. Меня повесят или расстреляют. У меня глубокое внутреннее убеждение, что в интересах нашей страны было бы гораздо лучше перевести меня в Генеральный штаб вместо одного из этих новеньких. Я, конечно, не настолько глуп, чтобы предположить, что это будет рассматриваться как смягчающее вину обстоятельство. Ни один суд не принял бы это во внимание, и меньше всего трибунал. Но это все ни к чему. Поговорим лучше о погоде. — Он сел на стул. — У вас действительно сегодня была свадьба?
Внезапный переход застал Кунце врасплох.
— Свадьба? Да, да, сегодня.
— Тогда я должен действительно вас поздравить. Но в данный момент я не особенно симпатизирую супружеству. Оно может испортить хорошего человека. — И с горьким смехом он добавил: — И плохого тоже. Я думаю, фрау Кунце не будет ко мне слишком благоволить за то, что я выбрал такой неподходящий день, чтобы все внимание ее супруга было сосредоточено на мне одном.
Кунце промолчал. Все прошедшие месяцы он предвкушал радость от того дня, когда обер-лейтенант произнесет волшебные слова: «Я это сделал». А теперь, когда он их сказал, внезапно это показалось совсем несущественным.
Они были одни, вероятно, в последний раз в жизни, и между ними все должно быть выяснено раз и навсегда, потому что если не сейчас, то уже никогда, подумал Кунце. У него было непреодолимое стремление привлечь к себе этого человека. Своим признанием Петер Дорфрихтер подписал себе смертный приговор. Он уже фактически был умирающим, в то время как Кунце определенно предстояло жить дальше.
— Вы законченный идиот! — в сердцах закричал Кунце. Больше всего ему хотелось в этот момент избить до крови это безупречно красивое лицо заключенного. — Как вы вообще могли предположить, что мы вас не поймаем? Что вы о себе возомнили? Вы что, действительно думали, что сможете армию обмануть? В первый же день, когда мне было поручено это дело, я знал, что это дело рук одного из тех, кого обошли. Мне не оставалось ничего другого, как взять в архиве военного училища несколько экзаменационных работ и отдать их на экспертизу почерковеду. Я вовсе никакой не гений, в лучшем случае средний по способностям юрист. На самом деле гений — это вы! Ах, проклятье! — Он почувствовал в левом виске острый укол боли и одновременно нарастающую тошноту — признак надвигающегося приступа мигрени.
Дорфрихтер смотрел на него обескураженно и одновременно был заметно тронут.
— Мне очень жаль, — сказал он и быстро поправился: — Я имею в виду не сам мой поступок, я уже говорил вам, что все сделал бы снова. Нет, мне очень жаль, что я стольким людям погубил жизнь — Марианне, Ванини, Фридриху Габриель, Анне Габриель, вам…
— Мне?
— Этот случай был для вас вовсе не подарок, я убежден, что, будь ваша воля, вы бы его никогда не взяли. Вы слишком порядочный человек для всей этой отвратительной истории.
Кунце чувствовал, как боль нарастает.
— Вы ошибаетесь, — сказал он. — Ни за что на свете я бы не отказался. И не потому, что у меня были лучшие карты на руках. Нет, совсем не потому! Но почему, черт побери, вы сознались? — вдруг вырвалось у него. — Почему именно сейчас, а не гораздо раньше?
Дорфрихтер закрыл лицо руками.
— Я признался, чтобы положить конец всей этой истории. Я просто все про… вот и все. — Он посмотрел на Кунце. — Простите, что я так осложнил вашу работу. — Он улыбнулся. — Даже день свадьбы я умудрился вам испортить.
В комнату влетели Стокласка и Хайнрих, оба с сильно покрасневшими лицами: когда гости разошлись со свадьбы, они продолжили празднование в кафе отеля. После долгих поисков там их и обнаружили. Они совсем не удивились, увидев, что капитан, вместо того чтобы ехать в поезде в Венецию, сидит за своим письменным столом.
Как только оба лейтенанта заняли свои места, Кунце приступил к официальному допросу обвиняемого.
— Когда вам впервые пришла мысль об отравлении?
18
Это был один из тех дней, когда все идет наперекосяк. Обер-лейтенант Петер Дорфрихтер должен был в этот дождливый день уже в шесть часов утра быть в казарме, чтобы устроить проверку в своей роте. Обычно это проделывал его заместитель, но тот был в отпуске и наслаждался красавицей Веной. После проверки рота отправилась на учебный плац, а Дорфрихтер — в свою служебную комнату, где ему надо было кое-что привести в порядок. По пути он зашел ненадолго в госпиталь навестить унтер-офицера, которому колесо полевой кухни отдавило левую ступню. Из всех офицеров полка у обер-лейтенанта Дорфрихтера был наилучший контакт со своими людьми. В его роте царил порядок. До сих пор не было ни одного случая нарушения субординации, дезертирства или самовольного ухода из части.
Он пробыл около десяти минут возле унтер-офицера и заглянул на минуту к солдату, которого оперировали по поводу аппендицита. Солдат был призван из его родного города Зальцбурга. Для парня его появление было сродни явлению Отца, Сына и Святого Духа. Восхищение и поклонение, которое он читал в глазах солдата, радовало и льстило.
Из госпиталя он отправился в комендатуру и взял отложенный для него экземпляр «Gazette» с приказом от первого ноября. Он умышленно отодвинул это на время, пока не освободится, потому что опасался разочарования. В мае он был переведен в Линц войсковым офицером. Уже давно бродили слухи, что начальник Генерального штаба, фельдмаршал-лейтенант Конрад фон Хётцендорф, собирается уменьшить число выпускников военного училища, подлежащих переводу в Генеральный штаб. До 1909 года тридцать лучших выпускников каждого года после четырехлетней службы в различных гарнизонах переводились в Генеральный штаб. Закончившему под номером 18 Дорфрихтерудо появления этих слухов опасаться было нечему.
Приказ был напечатан на второй странице. В нем были приведены фамилии только пятнадцати выпускников военного училища 1905 года, которым присваивалось воинское звание капитана и которые подлежали окончательному переводу в Генеральный штаб.
Он читал фамилии: 1. Аренс, 2. Айнтхофен, 3. Шёнхальс, 4. фон Герстен, 5. Виддер, 6. Принц Хохенштайн, 7. Дугонич, 8. Мадер, 9. Ландсберг-Лёви, 10. Храско, 11. Траутмансдорф, 12. Молль, 13. Мессемер, 14. Облонски, 15. Ходосси.
Его охватила свинцовая усталость. Он казался себе похожим на того, кто после утомительнейшего восхождения на вершину обнаружил, что он шел неверным путем и не на ту гору. Если бы он был один в комнате, он бы дал волю своей ярости, разразившись проклятиями. А так он спрятал без слов газету в карман плаща и направился к себе домой на Ремерштрассе. Жена наверняка была дома, поскольку она считала, что беременность ее так обезобразила, что на улицу лучше не выходить.
Она обрадовалась его приходу так, как будто опасалась, что он никогда не вернется. Он часто удивлялся тому, какой властью она обладала над ним. Не только красота ее могла быть этому причиной. Что его больше всего привлекало, так это ее абсолютная зависимость от него. Для себя самой она не существовала, она была просто частью его. Оторви ее от него, и она погибнет, как ампутированная часть тела.
Он рассказал ей, что его обошли.
— Я знаю, что ты ужасно разочарован, — сказала она, чтобы утешить мужа, и поцеловала его. — Но мне нравится в Линце. Мне нравится наша квартира. Это наш первый настоящий дом.
Его разочарование перешло постепенно в ярость. Среди пятнадцати не было ни одного, кто бы мог сравниться с квалификацией Петера Дорфрихтера. Возможно, они были хорошими спортсменами, лучшими наездниками, но зачем было целых два года мучить людей в этом чертовом военном училище, если шефу Генерального штаба Конраду нужны в первую очередь хорошие спортсмены? Почти по всем предметам у него были отличные оценки, кроме этого, он владел шестью иностранными языками. Понятно, что он падал с лошадей чаще, чем Принц Хохенштайн или улан Облонски. Но в будущей войне всё будут решать совсем не атаки «легкой кавалерии».
Он был настолько взбудоражен, что это становилось невыносимым. Что-то нужно было делать, и он решил погулять с Троллем. При возвращении его окликнула жена домовладельца, жившая на первом этаже:
— Присматривайте за собакой, господин обер-лейтенант. Какой-то негодяй разбросал вокруг отравленное мясо. Слышала, что несколько животных уже отравились.
— Поймали уже этого приятеля? — спросил Дорфрихтер.
— Конечно нет. Да и не поймают никогда. Его никто и не видел. Как потом докажешь, что это был он?
Прогулка не помогла, гнев в нем бушевал по-прежнему. Он послал горничную за вином и еще перед обедом выпил два стакана, а остальное за обедом. После обеда он решил заняться установкой полок, которые были у него в работе. Ему понадобилась наждачная бумага, и он отправился в кладовку. Там ему на глаза попался стаканчик с двумя палочками цианистого калия. Только по забывчивости он не выбросил их в Сараево. Его денщик упаковал их в один из ящиков, а здесь, в Линце, распаковкой вещей занималась Марианна. Конечно, она не знала, что в стаканчике, и поставила его на одну из полок в кладовке: ключ от кладовой всегда был у нее.
Дорфрихтер, как завороженный, смотрел на стаканчик — план возник мгновенно. Он, конечно, должен был еще созреть, обрести форму и претвориться в жизнь. Но это был дерзкий план, который должен был сработать вопреки всем сомнениям и опасениям.
— Да, — сказал Дорфрихтер, — именно в этот момент и возник мой план, и у меня не было сомнений, что я его исполню.
— У вас был план, и у вас был яд. Но как вы додумались до того, чтобы рассылать циркуляры и капсулы жертвам?
Дорфрихтер пожал плечами.
— Это была единственная возможность. И одновременно минимальный риск. Вряд ли я мог бы пригласить их на обед и подсыпать им яд в тарелку.
Негодяй, который разбросал отравленное мясо, мог рассчитывать на голод бродячих собак. А чем завлечь отнюдь не голодных мужчин? И в какой форме следует послать им яд? С коробкой конфет? Как какой-нибудь напиток? Слишком опасно — они могут это предложить другим — своим женам, подругам, детям, знакомым.
Идея капсул с ядом пришла ему в голову однажды утром при чтении «Новой свободной прессы», где он обнаружил по меньшей мере шесть или семь объявлений о различных чудодейственных средствах.
По иронии судьбы несколькими днями позже он сам получил такой циркуляр, в котором рекламировался эликсир для лечения нервной системы под названием мирацетин. Текст гласил, что крошечные круглые пилюли — шесть штук были приложены в пакетике — гарантировали повышение потенции. Из любопытства он попробовал их, хотя — видит бог — он в них не нуждался. Но когда он их принял, его охватил панический страх. А вдруг случайно кто-то пришел к той же идее, что и он? Что, если он проглотил только что собственную смерть? Ему стало дурно. Из-за таблеток или из-за страха? Он хотел пойти в ванную, чтобы его вырвало, но уже в гостиной все прошло. Его охватило чувство стыда: недостаток самообладания — была та слабость, которую он себе никогда не мог бы простить. Хотя план явно недоработан, его нужно претворять в жизнь незамедлительно. От фельдмаршал-лейтенанта Конрада можно было ожидать, что он в любой момент снова изменит принцип отбора.
Как и большинство людей, в том, что касается действия ядов, Дорфрихтер был абсолютный профан. Само собой, цианистый калий был самым смертельным. Он приводит к мгновенной смерти. Пойти на риск и достать медицинские книги он не мог. Оказалось достаточно заглянуть в краткую энциклопедию. Смертельная доза составляла одну десятую часть грамма. Того количества, что он имел, хватило бы, чтобы отправить на тот свет весь Генеральный штаб включая Конрада фон Хётцендорфа.
Он вспомнил, что несколько месяцев назад он давал Троллю порошок от глистов в капсулах, и их должно было остаться в шкафчике для лекарств довольно много.
Однажды вечером, когда Марианна и горничная уже спали, он принес обе палочки из кладовой и развернул одну из них. Едва он ее коснулся, она рассыпалась, к его удивлению, в порошок, возможно, из-за того, что долго хранилась в закрытом стаканчике. Как бы то ни было, оказалось, что обращаться с ядом легче, чем можно было ожидать.
Он долго размышлял над числом тех, кого следовало ликвидировать. Сначала он имел в виду пятерых, но это число не гарантировало успех — стопроцентный успех. Как он мог быть уверен, что трое из пяти мужчин сочтут необходимым принимать средство для усиления потенции? Допустим, некоторые люди глотают таблетки по всякому поводу, другие — нет. Может быть, лучше отправить шестерым? Семерым? Десятерым?
Почему именно эти десять, хотел бы знать Кунце.
— Почему из шестнадцати или, точнее, из восемнадцати человек, так как вы сюда включили и Хедри, вы выбрали именно этих десятерых?
Дорфрихтер насмешливо посмотрел на Кунце.
— Вот на что вы потратили все это время! Мои отношения с этими десятью! Тут, вы полагали, лежит ключ ко всей этой истории?
— А что, вы предоставили это все делу случая?
— Не совсем. Боюсь, что вы все еще не до конца уяснили, что я никакой не ужасный убийца. Некто принял глубоко ошибочное решение, и у меня было чувство, что моя задача — это исправить. Возможно, я взял на себя слишком много, но я все тщательно взвесил и сделал свой выбор.
Это было не совсем так, по крайней мере с каждым, по его мнению, из «ненужных». Ночами, когда он не спал, он вновь и вновь перебирал эти пятнадцать фамилий про себя, как молитву: Аренс, Айнтхофен, Шёнхальс, Герстен, Виддер, Хохенштайн, Дугонич, Мадер, Ландеберг-Лёви, Храско, Траутмансдорф, Молль, Мессемер, Облонски, Ходосси. Он вспоминал каждое отдельное лицо, вспоминал, какими особенностями или талантами обладал тот или иной из отобранных. Он хотел выбрать только тех, кто созрел, по его мнению, для «пенсии». То, что в этом случае выход на «пенсию» означал смерть, было несущественным.
Аренс? Номер один. Сын военного портного. Энергичный, способный, надежный офицер. В Генеральном штабе такие нужны. И такие, как Айнтхофен или Шёнхальс.
Они обладали качествами, с которыми они способны принимать ответственные решения. Герстен? Хороший человек, но пацифист. Однажды, на втором курсе, в классе возникла дискуссия, насколько надежна Италия как союзник. Аренс и вся «партия войны» были единодушного мнения, что Италия в случае войны займет скорее пассивную позицию и лучше всего было бы подвергнуть этого «союзника» внезапному нападению и разоружить. Герстен был возмущен. Такое решение было бы, по его мнению, аморальным. Это делало его ненужным.
Виддер относился к той же категории, что и Аренс. Полезен и честолюбив. Принц Хохенштайн? Едва ли он был бы помещен под номером шесть, если бы не принадлежал к отпрыскам голубой крови. Нет сомнений, что он раньше всех станет генералом, будет командовать дивизией, хотя по своим качествам и интересам ему бы быть профессором какого-нибудь провинциального университета. И так хватает отпрысков императорского дома на командных постах — армия без них функционировала бы гораздо лучше и, разумеется, без представителей побочных линий.
Принц Хохенштайн был, таким образом, отнесен к ненужным. Так же как барон Ландсберг-Лёви, который, хотя и обладал и талантом и знаниями, но, как эстет, не подходил к Генеральному штабу. Так же, как и так называемые «франкофилы».
Идеальный офицер Генерального штаба не должен интересоваться ничем, что выходит за пределы его профессиональной сферы. Ландсберг-Лёви скорее пожертвует целым полком, чем выпустит один снаряд — к примеру, по Реймскому собору. Кроме того, он еврей. Даже во времена либерализма некоторые части не хотели иметь командира-еврея. Таким образом, не нужен.
Следующим был Молль. Определенно не «франкофил», он, с его педантичностью, корректностью и решительностью, слепым подчинением приказам, был бы, без сомнения, идеальным штабным офицером в армии немецкого кайзера, но не в армии кайзера Франца Иосифа. Между двумя Генеральными штабами имелись существенные различия. Австрийских офицеров учили думать, немецким это было строжайше запрещено. Молль не относился к тем, кто может целыми днями думать. К тому же он был прирожденный ипохондрик. Уж он-то непременно захочет испробовать бесплатное чудо-средство. Ненужный!
Облонски. Худощавый поляк, хорош в седле. Как и большинство уланов, он был бы великолепным цирковым наездником, а в XVIII веке — и искусным воином, но сегодня, в начале XX столетия, он, с его убеждениями о важности кавалерийских атак, не нужен.
Ходосси. Такой же типичный венгр, как Облонски поляк. И также человек XVIII столетия. Армия без труда обошлась бы без него, как и вообще без венгров. В январе 1848 года они восстали против Франца Иосифа. Кто может гарантировать, что они в 1910 году или позже готовы за него сражаться? Каждый венгр, по существу, потенциальный бунтовщик, даже такой хороший человек, как Ходосси, — отсюда следует — не нужен.
Ему не хватало еще четырех. Из соображений безопасности он должен был непременно взять одного, который не был перед ним. Он должен неизбежного ищейку-следователя пустить по ложному следу, должен вынудить его искать преступника, начиная от двадцатого!
Номером девятнадцать был обер-лейтенант фон Хедри. И он был венгр, но совсем другого пошиба по сравнению с Ходосси. Ветренник, отчаянный спорщик, для лошадей и женщин сущее наказание! Лучший фехтовальщик в классе, человек, не знавший страха. Принадлежит к тем офицерам, которые первыми выбегают из укрытия и ведут за собой солдат сквозь заградительный огонь врага, чтобы потом, после смерти, получить золотую медаль «За храбрость». Уж кто не нужен, так это он!
Дугонич! Его внешность выделялась на фоне глубокой темноты его глаз: высокий, стройный, в седле превосходен. О его талантах в спальнях ходили легенды. В то время как вечерами все буквально валились с ног от усталости, Дугонич всегда находил время, чтобы развлечься. Все давалось ему легко, этому богатому сербскому подлецу, который вырос в седле и которому деньги его отца расчистили дорогу. Не нужен!
Достаточно ли восемь циркуляров? Восемь, включая Хедри, который был внесен в список из тактических соображений? Дорфрихтер заметил, что он снова упустил Густава Мессемера. Наверное, потому, что в данном случае речь шла об отнюдь не заслуживающей внимания личности, иначе за четыре года он бы его не забыл так бесповоротно. Ясно, что армия легко сможет без него обойтись. Не нужен!
Покончив с количеством фамилий, он признался себе, что с самого начала считал, что Мадер должен быть в числе ненужных. Мадер, который спас ему жизнь, свидетель одного из самых позорных моментов в его — Петера Дорфрихтера — жизни. Еще много месяцев спустя его мучил один и тот же сон: в то время как он тонет, Мадер стоит на берегу, корчится от смеха и не делает ни малейшей попытки ему помочь. Чем громче он кричит о помощи, тем громче хохочет Мадер, до тех пор пока его крики и смех Мадера не сливались в один раздирающий уши визг, от которого он просыпался. После училища они с Мадером служили в разных гарнизонах и виделись лишь случайно. Он бы с удовольствием вообще с Мадером никогда не встречался. Трое других участников пикника были Ландсберг-Лёви, Хоффер и Габриель. Хоффер сделал одолжение и покончил жизнь самоубийством, Габриель уволился со службы. Что касается Ландсберга-Лёви, то его имя тем не менее стояло в списке ненужных, хотя тогда, в Сараево, он ни разу не подал и вида, что помнит о том происшествии.
— У вас не было чувства, что это чересчур, заносить в список Мадера, который, в сущности, спас вам жизнь, — не выдержал Кунце.
— Я же признался, что послал ему яд. Разве этого не достаточно?
— Должен признаться, что вы для меня просто загадка, Дорфрихтер! Вы хотите мне внушить, что вы планировали убийства с почти научной безучастностью. В это я не верю. Почему в вашем списке так много офицеров-кавалеристов? Не связано ли это скорее с вашими личными антипатиями?
Дорфрихтер откинулся назад и закрыл глаза. Кавалерия! Он видел себя во главе своих солдат, марширующих по улице, ведущей из Линца в Зоммерау. Солнце палит нещадно. Он потный насквозь, у него чувство, что его ноги, стертые в грубых пехотных сапогах, уже не принадлежат ему. И тогда на горизонте образуется вдруг маленькое желтое облако, и когда оно увеличивается, оказывается, что его ядро состоит из расквартированного в Эннсе эскадрона гусар. Они галопом проносятся мимо, и из-под копыт их лошадей бьют фонтаны пыли. Он чувствует грязь на своем лице, которая мешается с его потом.
— Между пехотой и кавалерией никогда не было взаимной симпатии, — сообщает он. — Но это никак не повлияло на мой выбор.
— А как насчет Ходосси? Разве ваша связь с фрейлейн Брассай не была причиной, по которой он был выбран?
— Я думаю, нет. Это были скорее политические соображения. Я говорил уже вам, что венграм в наших войсках я не доверяю.
— А Ландсберг-Лёви? Цианистый калий, который вы использовали, принадлежал Ванини, а Ландсберг-Лёви знал, как вы просили за Ванини.
— Может быть, вы меня еще спросите, почему я Ванини не послал циркуляр?
— А кстати, почему?
— Потому что я был уверен, что он меня не выдаст. Мы были друзья, и я ему доверял. Цезарь и Брут.
В Линце он встречался с Ванини редко. Офицер, ожидающий перевода в Генеральный штаб, должен быть осмотрительным в выборе знакомых. В Сараево командиры были готовы объяснить поведение молодого офицера жалкими условиями жизни в гарнизоне, в Линце же никакого оправдания его образу жизни не было, и его стали считать просто человеком без будущего.
— Перед самым своим отъездом из Линца Ванини спросил вас о цианистом калии. Вы ответили ему, что у вас его больше нет. У вас было ощущение, что он вам не поверил?
— Я никогда не давал ему повода сомневаться в моих словах.
— В чем состояла тайна вашей власти над Ванини? — продолжал допрос Кунце.
— У меня не было никакой власти над ним. Мы были товарищи.
— Ну хорошо. А как вы размножили циркуляры?
— Восьмого ноября я дежурил в казарме, — ответил обер-лейтенант. — Случайно я вспомнил об одном бюро, в котором стоял гектограф. Ключ висел в комнате дежурного унтер-офицера. Я приказал ему проверить запасы на складе, прошел в бюро напротив и сделал десять экземпляров.
— И никто этого не заметил?
— Никто, господин капитан, — сказал Дорфрихтер.
В рапорте об отпуске он указал Зальцбург, но при удачном стечении обстоятельств ему удалось бы незамеченным проехать поездом до Вены. Тогда в полковом журнале должно было стоять, что в решающие часы, когда он отправлял циркуляры, он находился от места преступления в трехстах тринадцати километрах.
Но все пошло не так гладко, как он надеялся. Майор из его полка сел вечером тринадцатого ноября на тот же поезд, как и он, до Вены. Ранее он внезапно решил взять Тролля с собой, хотя собака была известна всем в гарнизоне, но он не смог решиться оставить пса на попечение Алоизии, которая его не слишком жаловала.
Поезд пришел в Вену точно в шесть часов тридцать минут. Он хотел сначала отправить циркуляры на вокзале, но потом передумал и решил бросить их в почтовый ящик на Мариахильферштрассе. Тролля он туда не взял, а оставил его ждать перед булочной напротив вокзала. После того как он его снова забрал, он сел в омнибус, направлявшийся в девятый район, где жила его теща.
— Еще до того, как проснулась ваша жена, вы играли с детьми ее сестры, — перебил его Кунце.
— Так точно, господин капитан!
— Как же вам это удалось?
— Что удалось?
— Проклятье, Дорфрихтер, вы только что приговорили десять человек к смерти! Вам было хотя бы не по себе при детях, которые вас любили и вам доверяли?
— Не по себе? А вы не можете допустить хотя бы на миг, господин капитан, что этим детям безразлично то, что я сделал? Ни один зверь не сравнится с жестокостью маленького ребенка!
— Еще один вопрос, — сказал Кунце и дал знак лейтенанту Хайнриху не заносить ответ в протока! — вы не чувствовали потом раскаяния? Вы, правда, однажды сказали мне, что у вас никакого раскаяния нет, но я, признаться, до конца не поверил. Вы же не варвар, вы цивилизованный человек, христианин. Вы испытываете привязанность к своей жене, вашим друзьям, ксобаке, наконец. Как вы могли так полностью избавить себя от всякого сочувстия?
Дорфрихтер в раздумье провел ладонью по лбу, как будто оценивая, какую степень понимания можно ожидать от Кунце. Он не отрывал от него взгляда.
— Я профессиональный офицер, — сказал наконец заключенный. — С самого начала моего обучения убивать — это был мой главный предмет. Если отбросить всякую мишуру, что окружает мою профессию, я не кто иной, как наемный солдат, а еще вернее — гладиатор. Если прикажет кайзер, я убью собственного брата.
— Ни один кайзер вам этого не прикажет!
— Нет. Но если бы он приказал, я бы выполнил приказ. И все мои товарищи сделали бы то же самое. Когда на меня в Линце пала первая тень подозрения — только тень, ничего больше — я обнаружил в открытом ящике письменного стола служебный пистолет одного из офицеров. Этот дружеский жест сделал для меня генерал Венцель. И не для меня одного, а скорее для всех тех, кто не хотел бы платить по долгам чести, для тех, которые бездумно обесчестили себя или армию. Не забывайте о дуэлях. Человек напился, позволил себе пару неосторожных замечаний, и двумя днями позднее он или тот, кого он оскорбил, уже убит, на что четверо секундантов смотрели абсолютно хладнокровно. С того самого дня, когда человек надевает офицерскую форму, у него имеется только один выбор — убить или быть убитым. Минимум пятеро из моих намеченных жертв погибнут в течение года, случись завтра война! Я просто сократил время их ожидания в приемной госпожи Смерти. — Он пожал плечами. — А теперь я сократил свое собственное!
Кунце непонимающе покачал головой.
— Вы просто сумасшедший.
— Вы повторяетесь, господин капитан. Да и как вы можете меня понять? Вы вообще не принадлежите к гладиаторам.
Кунце посмотрел на часы. Десять минут одиннадцатого. Они находились в бюро больше пяти часов. Оба лейтенанта выглядели абсолютно измученными. Но необходимо было выяснить еще некоторые детали, и Кунце вызвал дежурного унтер-офицера и приказал принести несколько бутылок пива и что-нибудь поесть.
За прошедшие месяцы Кунце часто рисовал себе — хотя он отнюдь не склонен был предаваться мечтам, — как это выглядело бы, когда Дорфрихтер наконец признается. Он представлял себе, что это будет нечто, сопровождаемое слезами и бурным проявлением чувств, но совсем не это уютное закусывание в поздний час, когда вкусно пахло горячими колбасками, пивом и свежим хреном.
Полночь была давно позади, когда протокол полного и окончательного признания был готов и Дорфрихтер его подписал.
— Интересно, — сказал он, рассматривая перо, — коробочку именно таких перьев я послал лейтенанту Дильманну. — Он ухмыльнулся Кунце. — Одна из моих ошибок!
— Вы сделали их много.
— Не так много, но среди них были большие. Я должен был не только Хедри, но и самому себе послать циркуляр. Я подумал об этом, но потом решил собственную персону из игры исключить. Другой ошибкой было использовать картографический шрифт. Но главное, я неправильно оценил возможную реакцию армии. Я был, собственно, уверен, что следствие будет прекращено сразу же, как только тень подозрения упадет на какого-либо офицера.
— В своих предположениях вы были чертовски близки к действительному развитию событий, — проворчал Кунце.
— Я, как и прежде, считаю, что уличать меня было ошибкой. Армия ничего не выиграет от того, что меня осудят. Наоборот. Этим наносится ущерб безупречной репутации всего офицерского корпуса. И это в тот момент, когда уважение армии для всей монархии имеет такое большое значение.
«Сцена постепенно становится какой-то ирреальной», — подумал Кунце. Легкомысленным тоном, как если бы это было действие одной из комедий Шнитцлера[655] болтал преступник со своим судьей о совершенном им преступлении. Ни в одной другой стране, ни в одном другом городе мира не могла бы иметь место такая беседа — она была возможна только между людьми, принадлежащими к императорско-королевской армии. Не хватало только цыганского хора с его песнями.
Капитан Кунце провел свою свадебную ночь в своей квартирке на Траунгассе.
Когда он вышел из здания гарнизонного суда, было уже начало второго, и, хотя он знал, что Роза ждет его, он после этого длинного дня, в котором так много произошло, был рад именно в эту ночь остаться один со своими мыслями. Церковь с ее мерцающими свечами казалась такой далекой, в тысячу километров отсюда и в другом столетии, а человек, который только что подписал свой смертный приговор, был ему неизмеримо ближе во времени и пространстве.
Когда он на следующее утро сообщил Розе, что их свадебное путешествие отодвигается на неопределенный срок, она издала тихий жалобный возглас, но не протестовала. Ее супруг пришел к выводу, что она в течение ночи превратилась в образцовую офицерскую жену.
Генерал Венцель воспринял известие о признании Дорфрихтера со смешанным чувством. Он сердечно поздравил Кунце, с видимым добродушием похлопал его по плечу, но капитан знал его слишком хорошо, чтобы не заметить некоторую озабоченность, скрытую за словами похвалы. Генерал продолжал дальше говорить о том, как он сожалеет о сорвавшемся свадебном путешествии, но мысли его витали совсем в другом месте.
— Лучше, если я сообщу об этом Его Императорскому Высочеству лично, — сказал он, провожая к двери Кунце. Имелся в виду наследник престола эрцгерцог Франц Фердинанд. — Его Императорское Высочество постоянно проявлял интерес к этому случаю и наверняка захочет помочь нам словом и делом.
— Я не представляю, как бы он смог это сделать. Дальнейший ход будет определяться действующими предписаниями.
— Возможно, у него будут свои соображения, — кротко ответил генерал. — Ему постоянно что-то приходит в голову. Он находится сейчас в своей резиденции в Богемии, а поскольку Его Высочество будет снова в Вене только в конце месяца, надо подумать, как нам лучше добраться до Конопишта. До Бенешау мы едем поездом, а оттуда придется добираться экипажем.
Кунце приподнял брови:
— Вы сказали «мы», господин генерал?
— Да, конечно. Я хотел бы, чтобы вы тоже поехали, господин капитан. В конце концов, вы расследовали это дело и могли бы доложить Его Высочеству гораздо подробней, чем я. Насколько я знаю, по прибытии в Бенешау я должен телеграфировать полковнику Бардольфу, адьютанту Его Императорского Высочества.
Кунце до сих пор не доводилось встречаться с эрц-герцогом, наследником престола, и никакой потребности в такой встрече он не испытывал. Благосклонность высочайших персон была вещь непостоянная, а у Франца Фердинанда была слава человека, чрезвычайно переменчивого в своих привязанностях. Считалось, что его раздражительность и дурной нрав являлись следствием постоянных разочарований, которые он, будучи наследником престола, испытывал при исполнении чисто представительских, не имеющих какого-либо решающего значения функций, вмененных ему кайзером. Двадцать лет бился он уже в этой узде, в то время как восьмидесятилетний кайзер восседал на троне — непоколебимый, не поддающийся никаким внушениям или велениям времени — как будто его собственный, из скалы изваянный монумент.
— Мы отправимся лучше всего поездом завтра после обеда, — сообщил Венцель два дня спустя Кунце, — и переночуем в Бенешау. Мне сказали, что вокруг Конопишта все залито из-за наводнения, и нам придется объезжать стороной, чтобы добраться до замка.
Венцель был в дурном настроении. Один из репортеров газеты социалистов «Арбайтсцайтунг» откуда-то пронюхал о том, что Петер Дорфрихтер сознался в совершенном преступлении, и утром в газете была большая статья об этом. Венцель знал, что эрцгерцог, наследник престола, терпеть не мог, если новости доходили до него, когда публика их уже знала. В том, что это произошло, Венцель винил Кунце.
Кунце в этот день пришлось пережить не только неудовольствие Венцеля. Этим вечером впервые у них с Розой произошла семейная ссора. Роза потребовала от него, чтобы Кунце делил с ней в спальне широкую супружескую кровать, он же настаивал на том, что он будет спать в маленькой комнате, которую он у Розы снимал раньше. Она обрушилась на него со слезами и упреками, и он узнал, как и многие супруги до него, что из покладистых, без особых претензий любовниц не обязательно получаются такие же покладистые и без особых претензий жены. Тем не менее он провел эту ночь в своей собственной узкой кровати, и Тролль лежал в ногах.
Когда Кунце на следующее утро зашел в приемную своего бюро, со скамейки, стоявшей у стены, поднялся человек. Лицо его показалось Кунце знакомым, но имя не приходило в голову. Непонятно по какой причине его и без того плохое настроение стало еще хуже.
Посетитель поднялся.
— Могу я попросить вас, господин капитан, о небольшом разговоре?
— Фридрих Габриель! — воскликнул Кунце и спросил себя, почему он сразу не узнал его.
— Так точно, господин капитан, — сказал Габриель, слегка поклонившись и щелкнув каблуками.
Он был аккуратно одет, слегка засаленный черный костюм был хорошо отглажен, белая рубашка была безупречно чистой, туфли почищены. На лице не было ни малейшего следа гнева или враждебности, и, хотя со времени их последней встречи он слегка постарел, его выправка и в штатском выдавала в нем бывшего офицера.
— Разумеется, господин Габриель. Прошу, — сказал Кунце и открыл дверь своего бюро. На пороге они столкнулись, каждый пытался пропустить вперед другого. В бюро Кунце предложил посетителю стул и сигарету.
— Как вам жилось это время, господин Габриель? — спросил он.
— Благодарю вас, господин капитан, очень хорошо, — ответил чисто формально Габриель.
Ни слова жалобы. Такая сдержанность вызывала в Кунце некую обеспокоенность.
— Насколько я в курсе, вы больше не служите на почте. Надеюсь, вы нашли что-то подходящее? — внимательно вглядываясь в лицо посетителя, спросил Кунце, а в голове промелькнуло: «Мне, видимо, доставляет удовольствие мучить других».
— В известном смысле да, господин капитан. Я работаю на молочном предприятии в Хадерсдорфе. Примерно полчаса езды. Там я и бухгалтер, и управляющий, и правая рука — словом, все в одном лице. Совсем неплохое место. Я сам себе хозяин, у меня приличная квартира, и я имею дело с хорошими людьми. И все же, — он запнулся, как бы подыскивая слова. — Короче говоря, господин капитан, я пришел к вам, потому что нуждаюсь в вашем ходатайстве. Я очень хочу вернуться в армию.
Кунце не верил ушам своим.
— На самом деле? — Ему хотелось добавить: «После всего, что вам сделали?»
— Вчера вечером я прочитал в газете, что господин обер-лейтенант сознался во всем. Теперь я свободен от каких-либо подозрений, что имел к этому делу какое-то отношение. Я уволился из армии с безупречным аттестатом и, будучи на гражданской службе, берег свою репутацию. Я хотел бы просить вас, господин капитан, о поддержке, когда я подам заявление о моем восстановлении в армии.
— Вы получите мою неограниченную поддержку, — сказал Кунце. — Я постараюсь сделать все, что смогу. Но вы позволите мне один вопрос, господин Габриель? И я надеюсь, вы не сочтете его навязчивым. Что побудило вас к этому решению?
— Напротив, я благодарен вам за ваш интерес, господин капитан. Я хотел бы вернуться в армию, потому что я к ней принадлежу. Я был четыре долгих года гражданским и все время ощущал себя как в ссылке. Вы должны учесть, что я с десяти до двадцати шести лет моей жизни носил, как и все в моем окружении, военную форму. Я говорил языком армии, выполнял приказы и следовал предписаниям тоже армии.
— Но как вы можете одобрять эти предписания после всего, что с вами сделали?
Хотя Кунце твердо решил не касаться прошлого, у него вырвались эти слова.
— Я воспитан на принципе не одобрять что-то, а просто это принимать. Возможно, это и является причиной того, что я в гражданской жизни не смог найти себя. Там постоянно сталкиваешься с вопросом: правильно или неправильно? Нужно постоянно принимать решения, а если ты уклоняешься от этого, тебя обвиняют в недостаточной дееспособности. Вы можете назвать меня трусом, но я сыт по горло слышать, что я взрослый человек и должен за все отвечать сам. Я хочу, чтобы снова, как во времена моего детства, другие думали за меня и решали, как все должно быть. Вы можете это понять, господин капитан?
— И да и нет, — ответил Кунце.
В поезде, направлявшемся в Прагу, в который они с генералом Венцелем сели после обеда, Кунце завел речь о Габриеле. Генерал в недоумении вздернул брови.
— Парень, видно, не в своем уме! — закричал генерал. — Таким, как он, не место в армии.
— Что вы имеете в виду под «таким, как он» господин генерал? — спросил сбитый с толку Кунце.
— Он был замешан в скандале!
— В каком скандале, господин генерал? Его несправедливо обвинили и арестовали, а жену его принудили к самоубийству.
— Его жена — да она спала со всеми подряд, или нет? Допустим, он снова в армии и случайно сталкивается с Моллем, Хохенштайном или Герстеном. С людьми, которые наставили ему рога. Он что, должен делать вид, что ничего не знал, когда весь белый свет об этом наслышан? Как офицер, он обязан их вызвать на дуэль. Если не сделает этого, он просто трус. Так или иначе, он бросает тень на репутацию армии.
Только большим усилием воли Кунце воздержался от насмешливого замечания о мужьях-рогоносцах, висевшего у него на языке. Генерал сменил тему, и имя Габриеля больше не упоминалось.
На следующее утро у отеля их ожидал фиакр. Дул свежий мартовский ветер. Поездка на Конопишт длилась несколько часов. Вся местность вокруг резиденции эрцгерцога была под водой. Внезапное потепление и таяние снегов в горах превратило местный ручей в долине в бушующий поток.
Генерал Венцель бывал уже однажды в замке и обратил внимание своего спутника на некоторые достопримечательности.
— Там, напротив, стоит личный музей Его Императорского Высочества, — показал он на квадратное двухэтажное здание, которое было окружено от наводнения мешками с песком.
— Я вообще не знал, что Его Высочество является любителем искусства.
— В принципе нет, но он собирает статуи и картины, на которых изображен святой Георгий, поражающий дракона. Он очень чтит этого святого.
— Да, сейчас я тоже припоминаю, — сказал Кунце. — Пару лет назад был небольшой скандал, когда Его Высочество приобрел картину одного из старых мастеров и заставил переписать лицо святого Георгия, чтобы он походил на него.
Генерал, сидевший прямо, как палка, бросил на Кунце полный удивления взгляд:
— Об этом я ничего не знаю.
Они приехали в замок на полчаса раньше и расположились в кабинете полковника Бардольфа. Это было очень кстати, так как им надо было хотя бы согреться.
Ровно в двенадцать их провели в рабочий кабинет эрцгерцога, наследника престола, — длинное, узкое помещение. Его нужно было пройти полностью, прежде чем человек достигал письменного стола, за которым сидел эрцгерцог. Они остановились и щелкнули каблуками. Франц Фердинанд поднялся и протянул руку сначала генералу Венцелю, затем капитану Кунце.
— Благодарю вас, господа, что вы приехали, — сказал он скучающим, монотонным голосом. — Пожалуйста, присаживайтесь. — Он повернулся к полковнику: — Вы тоже, Бардольф!
В течение последующих нескольких минут никто не проронил ни слова. Эрцгерцог, устремив свой взор на стол, задумчиво разглядывал сложный узор скатерти. Франц Фердинанд был высоким, полным человеком с несколько несобранной, отнюдь не военной осанкой, которую еще более подчеркивали покатые плечи и полнота. В его лице с двойным подбородком, похожими на щетку густыми усами и холодными глазами явно отсутствовали признаки величия, и никакая корона с бриллиантами не смогла бы их добавить. «Колпак шеф-повара или фуражка портье подошли бы к этой голове гораздо лучше», — пронеслось в голове Кунце.
— Я читал о признании обер-лейтенанта Дорфрихтера, — сказал наконец Франц Фердинанд. — Чрезвычайно неприятная история. — Он не обращался ни к кому конкретно, а продолжал рассматривать скатерть. — Плохо, когда о таких вещах я должен узнавать из газет! — Наконец он оторвал свой взгляд от скатерти и посмотрел на генерала Венцеля. — Я бы очень хотел, чтобы вы информировали меня о таких вещах прежде, чем вы передаете информацию этим писакам.
— К несчастью, произошла утечка информации, Ваше Императорское Высочество. Мы ничего не можем с этим сделать. В наше время практически невозможно что-либо утаить от прессы.
Эрцгерцог поднялся со своего кресла. Все трое офицеров мгновенно вскочили со своих мест. Эрцгерцог подошел к огромной кафельной печи и положил на нее руки.
— Пресса! Вся насквозь продажна. Либералы и евреи. У них одна-единственная цель — похоронить монархию. Нужно что-то делать, иначе будет поздно! К сожалению, приходится ждать. Тем не менее нельзя праздно сидеть и наблюдать, как все гибнет. — Он повернулся к своим посетителям. — Это признание должно быть отозвано!
Генерал Венцель нервно замигал и вопросительно посмотрел на Кунце, слышал ли он этот приказ. Капитан продолжал смотреть слегка насмешливым взглядом на наследника престола, буквально получая удовольствие от ситуации.
Когда стало ясно, что генерал Венцель предпочитает молчать, Кунце сказал:
— Прошу покорнейше прощения, Ваше Императорское Высочество, я не знаю, как такое возможно.
— Очень просто, господин капитан, — сказал Франц Фердинанд, и лицо его покраснело. — Он признался под давлением. Был в состоянии душевного расстройства. Под гипнозом! А потом просто пришел в себя и отозвал свое признание!
— Покорнейше прошу простить, Ваше Императорское Высочество, что я возражаю. На него не оказывалось никакого принуждения, и он не был под гипнозом. Он был в состоянии полного обладания всеми своими духовными силами, — настаивал Кунце.
— Я знаю, — ответил эрцгерцог раздраженно. — Это неважно.
— Его Императорское Высочество хотел этим сказать, — попытался объяснить полковник Бардольф, — что вы любое из его предложений можете использовать, когда будете передавать прессе сообщение об отзыве его признания.
Кунце сделал вид, что он ничего не понял.
— О каком отзыве идет речь, господин полковник? А если обер-лейтенант откажется отзывать свое признание?
— Тогда заставьте его это сделать, — фыркнул эрцгерцог.
— Но как?
— Вам лучше знать как! Вы сами принудили его признаться, не так ли?
— Нет, Ваше Императорское Высочество. Он признался под тяжестью собранных против него улик. И когда мы получили последнее и самое важное доказательство — а именно, откуда у него появился цианистый калий, — Дорфрихтер понял, что дальнейшая ложь бессмысленна. К тому же допросы его измотали. Он уже не сомневался, что будет признан виновным.
— Ну а если он не будет признан виновным?
— Но он виновен, Ваше Императорское Высочество. В этом нет ни малейших сомнений.
Эрцгерцог подошел к Кунце и встал так близко, что их тела почти соприкасались.
— Я настаиваю на том, чтобы этот человек отозвал свое признание! Я не потерплю это позорное пятно на моем офицерском корпусе! Я этого просто не допущу!
Кунце не отрываясь смотрел в большие голубые глаза эрцгерцога. Он был несколько ниже ростом, чем наследник престола, но сутулость эрцгерцога почти уравнивала эту разницу. «Но это еще не твой офицерский корпус, — подумал Кунце. — Еще нет!»
— С Вашего разрешения, Ваше Императорское Высочество, — сказал он, — позорное пятно уже существует. Оно существует со дня гибели капитана Мадера. Ничто не сможет его смыть.
Эрцгерцог оставил его стоять и обратился к генералу Венцелю:
— Капитан, кажется, не понимает, что я имею в виду. Вам это ясно?
Венцель вытянулся по стойке смирно.
— Так точно, Ваше Высочество!
Франц Фердинанд пожал плечами.
— Ну, тогда нет смысла продолжать эту тему. Вы хорошо доехали?
— Очень хорошо, благодарю Вас, Ваше Высочество, — подобострастно ответил Венцель.
— Дороги вокруг Бенешау все еще стоят под водой?
— Частично. Кучер был вынужден несколько раз выбирать дороги в объезд. — И сразу же, торопясь дать понять, что приглашение рассматривается как большая честь: — Какая прекрасная сторона! Замечательный воздух! Просто оживляет! Ощущаешь прилив новых сил!
«Если до той поры не замерзнешь окончательно», — со злостью подумал Кунце.
Несмотря на видимую несдержанность эрцгерцога, вызванную очевидной неспособностью капитана понять наследника престола, обоих гостей пригласили к столу. Обед был накрыт в семейной столовой. Гостей принимала герцогиня фон Хохенберг, урожденная графиня Чотек, морганатическая супруга эрцгерцога.
Это была красивая женщина с прекрасной фигурой и холодным, с выражением оскорбленного достоинства, лицом королевы, лишенной трона. Ее поведение по отношению к гостям — вероятно, и ко всему миру — было настороженной бдительностью; с первого дня замужества она жила среди людей, которые только и делали, что ждали ее падения или рассчитывали на это. Она не могла увидеть ни одного нового лица — высокого или низкого ранга, — чтобы не почувствовать под подобострастной маской врага. Из бывшей некогда жизнерадостной, сияющей счастьем девушки она теперь, к сорока двум годам, превратилась в эмигрантку, ведущую полную разочарований жизнь в чужой стране, расположенной между ее миром, который она покинула навсегда, и миром супруга, принадлежать к которому она потеряла всякую надежду.
Конопишт был единственным местом, где она чувствовала себя как дома. Здесь она была матерью своих троих детей и женой человека, которого она любила больше всего на свете. Но едва она выходила за стены этого замка, как ощущала гнет ужасных и унизительных правил испанского этикета, единственной целью которых, как ей казалось, было постоянно напоминать ей об ее более низком происхождении.
За столом было девять человек: наследник престола, его супруга, полковник Бардольф, капеллан замка, гофдама герцогини, второй адъютант эрцгерцога, генерал Венцель, капитан Кунце и еще один гость — английский ботаник по фамилии Линтон.
Капеллан прочитал обеденную молитву, но не обычную короткую, а настоящую пространную проповедь. Эрцгерцог и его супруга сидели неподвижно, закрыв глаза, как в трансе, с выражением экстаза на лице. Наконец молитва подошла к концу, все, за исключением ботаника, перекрестились, и хозяева и гости вернулись к земной жизни.
Из уважения к мистеру Линтону разговор за столом шел на английском, на котором эрцгерцог говорил плохо, а его супруга очень хорошо. Ботаник был приглашен в Конопишт, чтобы помочь эрцгерцогу в его любимом увлечении: вырастить черную розу.
— Прошлым летом мы были почти уверены, что получилось, — заявила герцогиня. — К сожалению, когда распустились бутоны, цветы оказались темно-пурпурными.
— Прекрасные цветы, — заметил эрцгерцог, — но еще не черные.
Гофдама, стареющая чешская графиня, вмешалась в разговор:
— Не существует ли какого-то поверия, связанного с черной розой?
Эрцгерцог нахмурился, а супруга его, прижав палец к губам, сделала ей знак замолчать. Но графиня, видимо не замечая ничего, бодро продолжала:
— Ах да, сейчас я припоминаю: кажется, если расцветает черная роза, происходит убийство и начинается война!
— Глупее этого мне слышать ничего не приходилось, — набросился на нее по-немецки Франц Фердинанд. — Впредь оставьте подобного рода шутки при себе, графиня. — Настроение герцога, очевидно, было до конца обеда испорчено. Его неудовольствие теперь обратилось против Кунце: — Это верно, господин капитан, что вы при первом допросе положили вблизи обер-лейтенанта Дорфрихтера пистолет, чтобы он застрелился?
Вопрос застал Кунце врасплох, и на какой-то момент он растерялся.
— Прошу прошения, Ваше Императорское Высочество, но я не могу припомнить ничего подобного, — наконец сказал он.
Но эрцгерцог не унимался:
— Он бы умер без последнего причастия. Меня удивляет, что вы могли допустить, чтобы христианин был обречен на вечное проклятье.
— Покорнейше прошу простить, Ваше Высочество, но я не давал никакого оружия обер-лейтенанту Дорфрихтеру и не оставлял его рядом, чтобы он в себя стрелял.
— Но вы считали его виновным прежде, чем кто-либо другой пришел к этому выводу?
— Так точно, Ваше Высочество, основываясь на заключении эксперта-почерковеда.
— Ваша карьера зависит оттого, будет ли он признан виновным, не так ли?
— Конечно нет, Ваше Высочество. Ни один аудитор нашей армии ради карьеры никогда не осудит невиновного к смерти.
— Он был талантливый офицер?
— Это действительно так. Он был бы превосходным офицером Генерального штаба. Это большая потеря для армии, что он не был переведен в Генеральный штаб.
— Был бы он полезен для армии в случае войны?
— Безусловно, Ваше Высочество.
Подали мясо, и Франц Фердинанд на некоторое время сосредоточился на еде. Внезапно он обратился к ботанику.
— Что думают в вашей стране о войне, мистер Линтон, в самых общих чертах?
Англичанин был смущен.
— О какой войне, сэр? — спросил он.
— О будущей войне. Например, между Англией и Германией.
— Я не думаю, сэр, что дело дойдет до этого. Я полагаю, народ вообще не думает об этом. Почему, собственно, англичане должны воевать с немцами?
— А если разразится война между Германией и Францией?
— Это нас бы не касалось, не так ли, сэр?
— Да, едва ли, — подтвердил Франц Фердинанд.
Мистер Линтон перевел дух.
— Я могу позволить себе вопрос, сэр?
— Да, пожалуйста.
— Полагает ли Ваше Высочество, что в ближайшем будущем может разразиться война между сверхдержавами?
Эрцгерцог на некоторое время задумался.
— Да, — сказал он. — Война неизбежна. Более того, она необходима. Европа сейчас как человек, зараженный чумой. Чумой под названием либерализм. Лучше сказать, несколько меньшей по масштабу, чем эпидемия, но злокачественного характера. Необходимо провести операцию, иначе инфекция проникнет в кровь и человек сгниет заживо.
— Но разве не нужны убедительные причины для такой войны, сэр?
— Ах, для этого достаточно какого-либо происшествия или конфликта, который сам по себе безобиден, но для сторон, которые хотят войны, может быть обыгран как повод, если, конечно, время и обстоятельства для этого благоприятны.
У мистера Линтона вопросов больше не было, он сидел молча, ошеломленно уставившись в свою тарелку. Остаток обеда прошел в разговорах о вещах, гораздо более близких душе ботаника, — например, о способах выращивания не поддающихся червям яблонь или разведении стойких к вредителям комнатных растений.
Венцель и Кунце распрощались сразу же после обеда.
— Что вы собираетесь предпринять, чтобы Дорфрихтер отозвал свое признание? — спросил генерал, когда экипаж покинул территорию замка.
— Вообще ничего, господин генерал.
— Что, вообще ничего? — повысил голос Венцель.
— Я не допущу, чтобы он отозвал свое признание. Это было бы издевательством над юстицией, господин генерал!
Потребовалось некоторое время, чтобы генерал переварил ответ Кунце.
— Вы слышали, черт побери, что сказал Его Высочество! Он желает, чтобы мы отпустили этого человека.
— Я знаю.
— Вы не смеете просто так игнорировать его желание. Завтра он может стать кайзером!
— Совершенно верно, господин генерал. Но сегодня он еще не кайзер.
19
Капитан Кунце уже давно не спал, когда зазвонил будильник, поставленный на шесть часов. Он встал, открыл окно и сделал несколько глубоких вдохов.
Утренняя свежесть была для него как прикосновение к щекам ласкающей руки. С покрытых виноградниками холмов Гринцингса спускался вниз теплый воздух приближающегося лета. Уже совсем скоро ворота крестьянских домишек будут украшены зелеными гирляндами, говорящими о том, что хозяева угощают вином прошлогоднего урожая. В тенистых дворах будут установлены столы и скамейки, и тысячи людей — особенно по выходным дням — устремятся в извилистые переулки Гринцингса, как муравьи, шныряющие вокруг упавшего на пол куска пирога. Трезвыми приедут они сюда и под крепким хмельком заполнят, возвращаясь, вагоны трамвая, в которых будут звучать губные гармоники и будет стоять крепкий винный дух.
Кунце развернул утреннюю газету. Король Англии Эдуард VII завтра будет похоронен, и подготовка к завтрашнему государственному погребению в Лондоне была темой дня, вследствие чего отчеты о слушании по делу Дорфрихтера в военном трибунале были, к счастью, отодвинуты с первых полос. Его Императорское Высочество наследник престола эрцгерцог Франц Фердинанд несколькими днями ранее отправился в Англию, чтобы представлять там кайзера. Девять коронованных особ, среди них немецкий кайзер, принцы и принцессы, государственные министры, бывший президент Америки Теодор Рузвельт, — все они должны будут следовать за гробом на лошадях или в экипажах. Когда Кунце читал неизбежные для таких случаев сплетни и анекдоты, у него было чувство, что самым живым во всем этом собрании сиятельных особ был как раз человек, которого хоронили. Он был этому веселому толстому королю лично признателен. Его смерть заставила эрцгерцога покинуть в этот момент Вену, где его присутствие сильно осложняло дело.
Кунце спросил себя, как вообще чувствует себя в это ласковое утро Петер Дорфрихтер. После поездки в Конопишт он разговаривал с обер-лейтенантом дважды. Один раз, когда Дорфрихтер должен был подписать необходимые для развода документы, и во второй раз, когда он передал заключенному список офицеров, входящих в состав военного суда. Он зашел к Дорфрихтеру в камеру, сам до конца не понимая, должен ли он намекнуть ему, чтобы он отозвал свое признание. Искушение было настолько велико, что он едва мог его преодолеть.
Картина расстрела молодого солдата в Сараево преследовала его с ужасным постоянством. Другая же картина, которую он также постоянно себе представлял, — это был вид молодого обер-лейтенанта, фланирующего по Рингу с лихо задвинутой фуражкой, звенящими шпорами — свободный человек, чрезвычайно благодарный за то, что он жив.
Когда Кунце зашел в камеру, Дорфрихтер был погружен в недавно вышедший труд Е. К. Нойяна «Правда о Порт-Артуре». С тех пор как он признался, обер-лейтенант имел право получать книги, писать и принимать своих ближайших родственников: отца, мать, сестру и ее мужа.
От вспыльчивости не осталось и следа, даже внешний вид его изменился — возможно, потому, что он перестал делать гимнастику. Вместо этого он, как голодный, набросился на книги и работал над трактатом о влиянии сделанных в этом столетии новых открытий в металлургии, химии и биологии на современные методы ведения войны. Хотя работа вдохновляла его, под глазами лежали темные круги. Он похудел, и его бледность делала его похожим, считал Кунце, на поэта XIX столетия: благородным, романтичным и отмеченным печатью смерти.
Кунце пробыл в камере больше часа, хотя первым его побуждением было уйти уже через десять минут, так как Дорфрихтер не проявил ни малейшего интереса к офицерам, которые будут его судьями. Но Кунце не смог заставить себя уйти. Он любил его. Он любил смотреть, как вспыхивают глаза молодого человека, когда тема близка ему, как он кладет ноги одна на другую, усаживаясь. Он любил движения его узких, с длинными пальцами рук. Кунце дошел до того состояния, когда он больше не стыдился своих чувств. В конце концов, в этой симпатии могло и не быть ничего греховного, это было влечение, почти лишенное плотского вожделения, симпатия, которая в равной степени наполняла его радостью жизни и глубокой болью.
Они беседовали в первую очередь о темах, близких к профессии обер-лейтенанта.
После четырех месяцев полной изоляции чтение было для Дорфрихтера тем же, чем является вода для умиравшего в пустыне от жажды. Он рассчитывал, наряду с теперешней работой, найти время закончить другую: большой трактат о применении артиллерийских снарядов и мин при защите линий обороны пехоты.
Кунце, которого вопросы стратегии и тактики в принципе не интересовали, не слышал, о чем говорил Дорфрихтер, а слушал лишь музыку его голоса. Эти звуки приводили его в состояние эйфории, которое длилось недолго и никогда больше не повторится. Этот голос вскоре замолчит, стройное тело будет погребено, а он должен будет жить дальше, постоянно сознавая, что одного его слова было бы достаточно, чтобы спасти заключенного.
Когда Кунце открыл дверь и хотел попрощаться, Дорфрихтер на секунду положил руку на его плечо. Даже спустя годы ощущал Кунце, когда он вспоминал об этом, нежное, невесомое прикосновение.
Сегодня было девятнадцатое мая. В шесть часов тридцать минут Кунце в полной парадной форме, с палашом направился в военный суд. Несмотря на ранний час, улицы были, на удивление, оживленны. На редкость теплый летний воздух манил людей из их душных квартир на свободу. Они сидели в парках на скамейках, подставляя лица солнцу, как верующие в соборе Святого Петра в ожидании папского благословения.
Для процесса был выбран небольшой зал на втором этаже. Посторонним доступ в зал был закрыт. Многочисленные репортеры толпились перед входом в здание, толпа любопытных скопилась на виадуке напротив.
Ровно в восемь часов два поставленных в зале горниста протрубили сигнал, после чего, назначенные бароном Хадауэром, командующим венским гарнизоном, вошли в зал один за другим члены трибунала, ведомые полковником Генерального штаба, который должен был председательствовать на суде. За ним следовали Кунце, два капитана, два обер-лейтенанта, два лейтенанта, все в полной парадной форме.
Они промаршировали к столу, вдоль длинной стороны которого стояли восемь стульев. Один из стульев, с более высокой спинкой, стоял на небольшом возвышении. Полковник сел на этот стул, Кунце расположился слева от него, затем два капитана — один слева от Кунце, другой справа от полковника, также по разные стороны сели обер-лейтенанты, лейтенанты заняли места в конце стола. Все проходило очень официально, под звон шпор и шум двигавшихся стульев. Скамейки в зале были пусты — присутствие общественности исключалось.
Второй сигнал горнистов был сигналом для надзирателя Коллера ввести обвиняемого. Трио — заключенный, надзиратель и конвоир — промаршировало до дверей зала. Там конвоир остался на посту, надзиратель повернулся кругом и удалился, а Петер Дорфрихтер один вошел в зал.
На нем был мундир его полка, фуражка, но палаша не было. Он казался спокойным, только на щеках играл румянец, как если бы у него была температура. Барьер с маленькой дверцей отделял трибунал от пустых скамеек зала. Дорфрихтер прошел через эту дверцу. Перед полковником он остановился, встал «смирно» и отдал честь.
Члены трибунала поднялись и ответили на приветствие коротким кивком. Затем они сели, и полковник скомандовал вполголоса Дорфрихтеру: «Вольно!»
— Обер-лейтенант Петер Дорфрихтер! — обратился к нему полковник. — Вас известили о заседании этого трибунала? Вам известны фамилии и принадлежность к войсковым частям отдельных членов военного суда?
— Я был поставлен в известность о заседании этого военного суда, господин полковник, — ответил обвиняемый с предписанной военной лаконичностью.
— Есть ли у вас возражения против отдельных членов трибунала или его нескольких членов?
Глаза Дорфрихтера прошли одного за другим членов трибунала, смотревших на него неподвижно через стол. Когда его взгляд встретился со взглядом Кунце, они секунду смотрели друг на друга.
— Осмелюсь доложить, у меня нет никаких возражений против одного или нескольких членов военного суда. — Дорфрихтер отвечал с типично военной бесстрастностью и четкостью.
Полковник сделал короткий вдох. До сих пор все шло по плану. Он подал офицерам знак, и все поднялись. Лейтенант Хайнрих, назначенный вести протокол, вышел вперед. Собравшиеся были приведены к присяге.
Офицеры вновь заняли свои места. Капитан Кунце, перед которым лежала аккуратная стопка материалов следствия, держа в руке верхнюю тетрадь, остался стоять. Он приступил к чтению обвинительного заключения. После информации о составе преступления он перечислил имеющиеся доказательства и процитировал отдельные места из признательных показаний заключенного.
Дорфрихтер слушал с вежливым нетерпением человека, которому рассказывают анекдот, а он знает гораздо лучший его вариант. Кунце прочитал уже довольно много, когда полковник попросил его сесть, чтобы обвиняемый мог также занять свое место. Дорфрихтер поблагодарил за внимание, но попросил разрешения остаться стоять, что ему, с гримасой удивления, было разрешено.
— Господин обер-лейтенант Дорфрихтер, подтверждаете ли вы подлинность признания, которое вы сделали господину капитан-аудитору Кунце пятого марта 1910 года? — спросил полковник.
Дорфрихтер медленно, подчеркивая каждый звук, ответил:
— С вашего разрешения, господин полковник, я отказываюсь подтвердить сделанное мною пятого марта 1910 года господину капитан-аудитору Кунце признание.
Кунце был первым, до кого дошло все значение этих слов.
Полковник заморгал, и его монокль упал с левого глаза. Шестеро офицеров, в их роскошных парадных мундирах, сидели без слов, застывшие, как куклы из музея восковых фигур. Наконец полковник обрел дар речи.
— Черт побери, господин обер-лейтенант, вы что, хотите сказать, что решили изменить свое признание?
— С вашего разрешения, господин полковник, — я признаю себя невиновным, — объявил Дорфрихтер громко и отчетливо.
— Вы отзываете свое признание — почему?
Дорфрихтер посмотрел полковнику прямо в глаза.
— Я отзываю свое признание, потому что оно было сделано под принуждением и в состоянии душевного расстройства, — объявил он.
Кунце откинул голову назад и закрыл глаза. Формулировка была ему знакома, только чего-то не хватало. Он вспомнил: обер-лейтенант опустил «под гипнозом».
Полковник водрузил монокль на место:
— Вы хотели бы сообщить что-либо дополнительно?
— С вашего разрешения, господин полковник, я настаиваю, что преступление, которое вменяется мне в вину, я не совершал. Я не знал о нем вплоть до того дня, когда я прочитал о нем в газетах. Я не нахожусь ни в какой связи с преступником или преступниками.
— Боже милостивый, Дорфрихтер, вы же признались! Добровольно!
Дорфрихтер медленно покачал головой, не отводя взгляда от лица председательствующего.
— Я хотел бы повторить, что мое признание я сделал под принуждением и в состоянии полного душевного и эмоционального изнеможения.
Полковник вопрошающе обратился к Кунце, который только пренебрежительно пожал плечами.
Принятый еще при Марии Терезии Военный уголовный кодекс предусматривал, что теперь обвиняемый должен подписать протокол, затем выведен из зала и в заключение процесса вновь введен, чтобы выслушать приговор. Все восемь членов трибунала понимали абсурдность этого закона, но были бессильны что-либо изменить или ему воспротивиться. Согласно тому же закону, защита и обвинение сосредоточивались в руках одного человека, а именно аудитора. Обвиняемый при этом должен был отсутствовать, когда вопрос: виновен он или нет — будет поставлен перед членами трибунала, решающими его судьбу. При этом роль аудитора была намного больше, чем просто члена военного суда.
В мертвой тишине лейтенант Хайнрих зачитал протокол заседания, после чего он передал его капитану Кунце. Тот подошел к обвиняемому:
— Господин обер-лейтенант, пожалуйста, прочитайте этот документ.
— Как пожелаете, господин капитан, — натянуто ответил Дорфрихтер.
Он взял протокол, не взглянув на Кунце. Бегло просмотрев страницы, он вернул документ капитану.
— Вы удостоверились, что протокол соответствует действительности? — спросил его Кунце.
— Он соответствует действительности.
— Вы не будете возражать против его подписания?
Они подошли к пульту писаря, где Кунце взял ручку, обмакнул перо в чернила и подал обвиняемому. При этом их руки на миг соприкоснулись, и Кунце отметил, что ладонь обер-лейтенанта была холодной и влажной.
— Благодарю вас, господин капитан, — пробормотал Дорфрихтер и подписал протокол.
Полковник отпустил обвиняемого. Как из-под земли, возник надзиратель, и конвоир с примкнутым штыком шагнул на несколько шагов со своего поста ближе к дверям. Поскольку дверь в коридор оставалась открытой, этот символический акт позволял, видимо, считать, что процесс, согласно закону, носит открытый характер.
Дорфрихтер отдал честь, повернулся кругом и направился к ожидавшему его эскорту. В полной тишине трибунал слышал его удалявшиеся шаги.
После этого капитан Кунце попросил председательствующего о перерыве до трех часов дня. Полковник дал свое согласие, и Кунце поспешил на третий этаж к себе в бюро и незамедлительно принялся за дело. Он выругался вслух, когда вспомнил, как замечательно уверенно он себя чувствовал, зная, что Франца Фердинанда нет в Вене. До мысли, что ловкая рука наследника престола уже давно перемешала карты, он бы никогда не додумался. Теперь он должен был за неполные четыре часа перевернуть работу двух месяцев. Если бы Стокласка не принес из ближайшего кафе пару франкфуртских колбасок и стакан вина, Кунце за весь день вообще ничего бы не съел.
— Я знаю, в чем разгадка! — сказал Стокласка, пока Кунце торопливо ел. — Две недели назад генерал Венцель побывал в камере Дорфрихтера. Но Венцель был не один. Он сопровождал полковника Бардольфа.
У капитана вилка выпала из рук.
— Откуда ты знаешь, что это был полковник Бардольф?
— Один солдат из охраны служил в его полку. В 15-м драгунском. Он его узнал.
— Черт побери! — Кунце крепко выругался в адрес генерала Венцеля. Ему сразу полегчало, и он принялся за еду. — Я так и знал, что что-нибудь должно случиться. Боже, помоги этой стране, если этот человек станет кайзером! Упрямый как мул, а мозги как у воробья!
Начиная с трех часов этого дня и во все рабочие дни этой и до среды последующей недели Кунце сидел напротив членов трибунала и зачитывал результаты своего шестимесячного расследования. Его голос, то монотонный, то дребезжащий, приводил семерых членов суда в оцепенение и действовал усыпляюще. Кунце пытался говорить живее, он решил держать их бодрствующими, но, несмотря на его ораторские старания, то у одного, то удругого опускался подбородок на расшитую галунами грудь и из открытого рта вырывался храп. Пока закон от 1768 года о процедуре военного суда не был изменен, не мог быть изменен и порядок ведения процесса.
Читая страницу за страницей, Кунце спрашивал себя, обладали ли члены подобного суда сто пятьдесят лет назад большей выдержкой и терпением, чем те, кто заседал сегодня.
Воскресенье было желанным перерывом как для трибунала, так и для капитана Кунце. К вечеру субботы он потерял голос и мог читать только хриплым шепотом. К разочарованию Розы и Тролля, он все воскресенье просидел в своей комнате за работой. В конце дня он сделал примирительный перерыв для прогулки и был Троллем прощен. Но не своей женой. Она хоть и пошла с ними, но все время причитала.
— Никогда у тебя нет времени для меня! Ты вообще со мной не разговариваешь. Ты думаешь, меня не интересует твоя работа? — сказала она, и ее глаза увлажнились. — Какой он?
— Кто он?
— Петер Дорфрихтер!
Кунце остановился, повернулся к жене и посмотрел ей в глаза.
— Он человек, обладающий талантом, мужеством, фантазией, терпением и практически без совести. Человек, который бы бесстрашно бился с целой фалангой римских легионеров, чтобы снять Христа с креста, но только затем, чтобы распять его покрепче. Чтобы он больше не смог воскреснуть! В глазах Дорфрихтера только мертвый пацифист чего-то стоит, а тот, кто лишь произносит слова «мир на земле», по его мнению, уже заслуживает смерти.
— Я бы не хотела слушать такие кощунственные речи. Мне это ужасно не нравится!
Заседание суда продолжилось в восемь утра в понедельник с чтением Кунце материалов дела. С утра во вторник членов военного суда ознакомили с соответствующими параграфами Военного кодекса и мерами наказания за преступления подобного рода. Наконец-то Кунце мог отодвинуть в сторону лежащую перед ним гору материалов следствия и своими словами обрисовать собранные доказательства по делу. Он говорил свободно, не заглядывая в свои заметки. После четырех дней слушания пространного и монотонного доклада на этот раз его красноречие и ясность изложения победили летаргию, в которую впадали в предыдущие дни члены суда, — все семеро слушали его внимательно и с интересом.
Он обрисовал характер обвиняемого, его происхождение, детство, воспитание, его успехи в военном училище и в последующей службе в различных гарнизонах. Он рассказал о выдающихся способностях и таланте Дорфрихтера. Не заметить и обойти при переводе в Генеральный штаб человека с такими превосходными умственными данными и такой преданностью долгу означало нанести серьезный урон армии. Система, при которой физические данные офицера оцениваются выше его интеллектуальных способностей, является архаичной, является следствием представлений прошлых столетий, когда в битвах сражался человек против человека. Современные методы ведения войны требуют таких офицеров, как Дорфрихтер, не рубак, а исследователей, дипломатов, людей, способных к фантазии, людей, которые хотели бы идти в ногу с великими открытиями нового столетия.
После того как он обрисовал в светлых тонах портрет обвиняемого, Кунце перешел к мотивам и размышлениям, которые подвигнули Дорфрихтера на преступление. Вопреки утверждению обвиняемого, что он невиновен, Кунце неоднократно, на основании доказательств показал, что он безусловно виновен. Его признание соответствовало истине, а отзыв признания является чистой ложью!
Собственно, и без признания доказательств вполне достаточно, аргументировал Кунце, чтобы приговорить Дорфрихтера. Он является патологическим эгоистом, фанатиком, его выдающийся талант уживается с честолюбием Наполеона и убеждением, что он стоит вне общечеловеческих норм. То, что он не способен оценить в какой-то степени недостойность своего преступления, ни в коей мере не освобождает его от ответственности.
Утром в среду Кунце выступил с обоснованием меры наказания. Отсутствие прямых доказательств и тот факт, что обвиняемый поклялся в своей невиновности, вследствие чего его признание оказывается ничтожным, параграф 212 Военного кодекса делал невозможным применение смертной казни или пожизненного заключения. Учитывая наличие неопровержимых доказательств, основанных на косвенных уликах, капитан Кунце потребовал наказания в виде двадцати лет заключения в одной из военных тюрем. Когда он сел после своего выступления, он почувствовал себя таким выпотрошенным и смертельно изнуренным, как никогда еще в своей жизни.
Двадцать лет строгого режима в военной тюрьме монархии было почти равносильно, и он знал это, смертному приговору. Даже самые крепкие заключенные спустя короткое время заболевали смертельной болезнью или страдали полным нервным расстройством. Достаточно было нескольких лет, чтобы превратить крепкого молодого человека в развалину. Даже если человек получал помилование, он больше уже не мог оправиться. Помилования же происходили довольно редко, большинство заключенных отбывали свой срок полностью или покидали тюрьму, завернутые в полог в деревянном ящике. Кунце пытался представить себе Дорфрихтера через двадцать лет: сломленный человек? Преждевременно постаревший? Больной туберкулезом? Полуживой? Его раздирало противоречие: желание видеть виновного приговоренным к наказанию и одновременно тайная мысль, что суд сочтет его, Кунце, доводы недостаточными и оправдает Дорфрихтера.
Кунце не сомневался в том, что некоторым членам суда было доведено до сведения, что оправдательный приговор был бы очень желателен для эрцгерцога, наследника престола. Кунце напряженно ожидал, как разрешится конфликт между верноподданническим духом и порядочностью.
Полковник поблагодарил Кунце за образцовое проведение процесса и объявил, что военный суд теперь готов взвесить все за и против и вынести приговор.
Согласно требованиям Военного уложения о наказаниях, каждый из семи судей должен был быть заперт в отдельном помещении, чтобы в полной изоляции, без какого-либо внешнего влияния, в одиночестве, слушая исключительно голос своей совести, прийти к решению. В случае если один из судей приходил к своему решению, он должен постучать в дверь и сообщить об этом стоявшему там постовому. Но он должен оставаться, однако, в своем помещении до тех пор, пока каждый член суда не придет к определенному решению.
Часы показывали пять минут двенадцатого, когда ведомые полковником члены суда вернулись в зал заседаний. Капитан Кунце, ждавший их более часа, вглядывался вопрошающе в их лица. Решение определяло не только судьбу Дорфрихтера, но и его собственную. Ему было ясно, что, если он хочет выбраться из лабиринта своих сомнений и неопределенности, прежде всего он должен покинуть мягкую, пахнувшую ароматом увядшей сирени кровать Розы. Он должен сам все решить за себя, достичь пункта, где он смог бы сказать: я таков, какой я есть.
Семь офицеров заняли свои места и ждали, чтобы Кунце объяснил им ход дальнейшей процедуры. Каждый из сидевших за столом обладал одним голосом, включая Кунце. Лишь председательствующий обладал двумя голосами.
Самый младший по чину офицер был первым, кто объявлял свое решение. Ему было предоставлено право назначить более мягкое, чем требовал аудитор, наказание или более жесткое без объяснения причин или оправдания своего приговора. В соответствие с чином каждый член суда объявлял свое решение, последним был председательствующий и только затем аудитор. Если приговор не был единогласным, отданные голоса выстраивались в порядке от самого мягкого наказания до самого жесткого, пятый голос был решающим. Если приговор принимался, члены суда под присягой давали клятву никогда никому не сообщать, каково было соотношение голосов при вынесении приговора.
По знаку полковника встал самый молодой лейтенант и объявил громким голосом:
— Не виновен.
Когда он снова занял свое место, он посмотрел с вызовом на пустые скамьи напротив, как если бы он ожидал оттуда протесты. В мертвой тишине, наступившей после этого ходатайства об оправдании, Кунце кивнул полковнику, и тот предложил второму лейтенанту сообщить о своем решении.
— Виновен, — сказал он и добавил: — Двадцать лет тюрьмы.
Оба обер-лейтенанта были едины в своем решении, что обвиняемый виновен, но считали, что десять лет заключения было бы достаточным наказанием. Один из капитанов, самый молодой из них, ходатайствовал об оправдании Дорфрихтера, все остальные согласились с требованием аудитора.
Окончательный приговор гласил — двадцать лет заключения в военной тюрьме.
У Кунце было такое чувство, что процесс длился не шесть дней, а шесть лет. Он должен был, собственно, быть довольным исходом дела. Страшная смерть Рихарда Мадера была, хотя бы и не полностью, но в известном смысле отомщена. Эрцгерцогу, наследнику трона, не удалось воздействовать на военный суд, так же мало ему удалось осуществить давление на Кунце, чтобы тот выступил с предложением оправдать Дорфрихтера.
Прежде чем приговор огласить, его должны были представить на утверждение генералу Версбаху, командиру 2-го армейского корпуса. Командующий венским гарнизоном обладал привилегией утвердить приговор или смягчить наказание либо обвиняемого вообще помиловать. Одного из капитанов и одного из лейтенантов отправили с досье к командующему гарнизоном.
Было около четырех часов дня, когда они вернулись. На приговоре стояла резолюция командующего венским гарнизоном. «Утверждаю. Приговор объявить и опубликовать».
Приказ «приговор опубликовать» повлек за собой символические последствия: были открыты оба окна в зале и дверь в коридор. Горнисты протрубили сигнал о приближении обвиняемого вместе с его эскортом, и этот сигнал был повторен трижды, когда Дорфрихтер вошел в зал. На нем по-прежнему была форма обер-лейтенанта. Спокойным, размеренным шагом он подошел к столу судей и в трех метрах от него, повернувшись к председателю, остановился. Он держался прямо, откинув голову назад, его глаза были устремлены вперед, мимо головы полковника и даже мимо висевшей в раме фотографии кайзера. Казалось, он полностью владел собой, и только болезненная бледность выдавала его внутреннее состояние. Одним-единственным быстрым движением он снял фуражку, положил ее под левую руку и снова вытянулся, поприветствовав трибунал коротким кивком.
Какой-то момент царило молчание, затем полковник встал, и семеро офицеров последовали его примеру.
Председательствующий взял досье, в котором находился приговор, передал его капитану Кунце и вытащил палаш из ножен. Это был сигнал горнистам: скорбные торжественные звуки, прозвучавшие три раза, пронеслись по залу заседаний и коридору, проникли через открытые окна наружу и были поглощены уличным шумом.
За сигналами горнистов последовала барабанная дробь. Во время всей этой церемонии Петер Дорфрихтер оставался стоять, вытянувшись «смирно». Кунце открыл досье, взял лежавшие в папке листы в руку и зачитал умышленно бесстрастным, монотонным голосом приговор.
«Военный суд признает обвиняемого виновным и приговаривает его к наказанию в виде двадцати лет заключения в военной тюрьме».
Глаза Дорфрихтера были устремлены на Кунце. Веки его слегка подрагивали, едва заметное подергивание во время чтения пробегало по его лицу, но в общем он не обнаруживал никакой реакции. Когда сигнал горна возвестил об окончании церемонии, он отдал честь, образцово повернулся кругом и покинул зал заседаний. Слышно было только стаккато удалявшихся быстро по каменным плитам коридора шагов. Затем послышался знакомый грохот закрывшихся за заключенным и его эскортом тяжелых железных дверей.
Судебный процесс закончился.
Приказ, опубликованный в номере «Gazette» от первого июня, гласил, что капитану Кунце, в знак признания его выдающихся заслуг, присваивается звание майора. Кроме этого, он награждается серебряной медалью почета за особые военные заслуги в мирное время. Эта честь обязывала его выразить личную благодарность кайзеру, на этот раз не в утренние часы в Шёнбрунне, а во время торжественного приема в Хофбурге.
Все это означало огромный шаг вперед, и все единодушно признали майора Кунце одним из самых перспективных офицеров гарнизонного суда. Наибольшее впечатление признание заслуг ее мужа произвело на Розу, в наименьшей степени на самого Кунце.
Быть супругой всеми уважаемого аудитора, принадлежать к высшим военным кругам, быть приглашенными на все светские мероприятия в какой-то степени компенсировали Розе ее разочарование в супружестве. Семья пришла в состояние определенного равновесия. Как и в каждом супружестве, здесь были свои взлеты и падения. Но их взлеты не были по-настоящему взлетами, а падения не были действительно глубокими.
Дни после процесса не были легкими для Кунце. Шесть месяцев был Петер Дорфрихтер главным в его жизни, и Кунце чувствовал, что образовавшаяся пустота никогда не будет заполнена.
После вынесения приговора он встречался с бывшим обер-лейтенантом один-единственный раз, в тот июньский день, когда заключенного должны были переводить в тюрьму Моллерсдорф.
Дорфрихтера доставили в бюро Кунце в гарнизонном суде. Он был одет в гражданское платье для поездки — плохо сидящий серый костюм, плащ и зеленую шляпу с пером. Ждали его семью, с которой он должен был попрощаться, и Кунце должен был подолгу службы при этом присутствовать. То ли семья задерживалась с приездом, то ли Дорфрихтер был доставлен слишком рано, так или иначе они в течение получаса были одни. Это были тяжелые полчаса; в то время как Кунце пытался малозначащими замечаниями поддерживать разговор, заключенный отделывался односложными ответами и был неожиданно язвителен и резок.
— Майор Кунце звучит действительно намного лучше, чем капитан Кунце. Это ведь на самом деле причина того, почему мое осуждение так много для вас значило?
Несколько секунд Кунце не знал, что ответить.
— Что вы имеете в виду под «так много значило»? Вы же действительно виновны!
— Это несущественно. Без вас, майор Кунце, меня бы оправдали!
— Но Дорфрихтер, мы оба знаем, что вы преступник. Действительно, вы отозвали свое признание, но я слишком хорошо знаю, что вас к этому побудило. И знаю также, что я, вероятно, в последний раз повышен в звании, так как не пошел навстречу пожеланиям одной высокопоставленной персоны. Не стройте себе никаких иллюзий — вы не пали жертвой моего честолюбия. Я совсем не такой, как вы, Петер Дорфрихтер: из честолюбия я не смогу погубить даже кошку, тем более человека!
— Вы приговорили бы меня к смерти, если бы я не отозвал мое признание!
— Вполне вероятно!
— Вы хотели меня убить, так как другим способом вам меня было не заполучить?
Кунце чуть было не спросил: каким другим способом?
— Мы находились по отношению друг к другу как обвиняемый и судья. И никак иначе. Исходя из этого я выполнял свой долг.
— Меня от вашей порядочности тошнит! — закричал Дорфрихтер. — Допустим, я убил человека, но вы сами что сделали? Ни один Яго не пошел бы на такие трюки, с которыми вы заманили меня в ловушку!
— Ну хватит, Дорфрихтер, — взорвался Кунце. Чувство поражения и вызванное этим недовольство самим собой переполняли его. — Мне абсолютно все равно, что вы обо мне думаете: я искренне вам сочувствую и желаю вам всех благ, которые вы в вашем положении можете иметь.
— Возможно, ваше пожелание осуществится гораздо быстрее, чем вы думаете. Я не проведу двадцать лет в тюрьме, это уж наверняка. В тот же день, когда начнется война, я буду на свободе!
Вот, значит, что было условием для отзыва его признания! Не слишком благородно. Сделанное со стороны Его Высочества предложение было для него характерным — жалким и утонченным.
— В этом случае я воздерживаюсь от пожелания вам всех благ, — сказал Кунце. — Вы же знаете, я убежденный пацифист.
Согласно приговору, Дорфрихтер должен был провести первый год заключения в одиночной камере. Никаких послаблений режима не предусматривалось. Его камера располагалась на первом этаже, стены были покрыты плесенью, имелось единственное узкое окно. Камера с таким же успехом могла находиться и в подвале.
Сразу же после вынесения приговора он без лишних церемоний был уволен из армии и вместо военного кителя получил простую куртку. Короткие прогулки во дворе разрешались трижды в неделю. Один день в неделю он получал только хлеб и воду. Как и в начале его ареста, ему было запрещено писать, читать или заниматься какой-либо деятельностью, которая могла бы отвлечь его от однообразия дня.
В течение первых недель майор Кунце часто звонил в Моллерсдорф и справлялся у начальника тюрьмы о заключенном. Его нисколько не заботило, что думает этот начальник о таком необычном интересе. Его и в остальном заботило теперь немногое, в том числе и расстройство его семейной жизни. Он привык приходить домой непосредственно перед ужином и, если они не выходили из дома на прогулку или на прием, сразу же забирался в свой кабинет. Роза была ревностной католичкой, поэтому вопрос о разводе даже не упоминался. Даже просто расставание было для нее неприемлемым, но Кунце надеялся, что со временем она уступит и даст ему свободу.
Обычно Роза по утрам спала долго и вставала тогда, когда он уже уходил на службу. Но в один прекрасный день в конце июля она ожидала его в своем соблазнительнейшем неглиже перед завтраком. Лицо ее было скромно припудрено, макияж был едва заметен. Она подала ему кофе и намазала маслом рогалики.
— Я должна тебе кое-что сообщить, — сказала она, и это прозвучало торжественно, почти трагически. Он затаил дыхание. У него не было ни малейшего сомнения, что она произнесет сейчас волшебное слово, с которым он обретет свободу Вместо этого она сообщила ему, что ждет ребенка.
Какое-то бесконечно долгое мгновение он смотрел на нее, не находя слов. Эта возможность никогда не приходила ему в голову. Ей было тридцать восемь лет, ему тридцать девять.
— Да, но — в твоем возрасте? — сказал Кунце, ошеломленный от неожиданного открытия.
Роза немедленно разразилась слезами.
— Что ты имеешь в виду — в моем возрасте? Мне ведь, в конце концов, не семьдесят, хотя ты иногда, сдается мне, так и считаешь.
— Ах, Роза, будь же благоразумна. Когда ребенку будет двадцать, тебе же действительно будет шестьдесят.
— Звучит так, как будто ты хочешь, чтобы я от него избавилась, — тихо сказала она. — Убить дитя — это то, что ты хочешь?
Он потерял терпение.
— Боже мой, Роза, не надо этой твоей постоянной мелодрамы! Не делай из меня злодея только потому, что все для меня так неожиданно! Как давно ты уже знаешь об этом?
— Примерно шесть недель, но я хотела знать наверняка, прежде чем сказать тебе.
— Ты должна пойти к врачу!
— Я была у него вчера.
— И что он сказал?
— Что я на третьем месяце.
Наконец он полностью осознал услышанное. У них будет ребенок. Не только у Розы — это будет и его дитя. От одной этой мысли у него перехватило дыхание.
Рудольф Кунце — так он был крещен по имени старшего сына генерала Хартманна — родился одиннадцатого ноября 1910 года. Ребенок весил четыре кило, мать и дитя перенесли роды превосходно. Когда майору Кунце показали маленький кричащий сверток, который был его сыном, он рассматривал его не с большим любопытством, чем какую-нибудь экзотическую рептилию в зоопарке. Он пытался понять причины своего абсолютного равнодушия и пришел, сознавая свою вину, к выводу, что он вовсе не отец и никогда настоящим отцом не будет. Он вспоминал свое детство без отца, и ему было жаль это маленькое создание, которому была уготована та же судьба. Само собой, он поклялся на совесть выполнять свой отцовский долг и тщательно скрывать от ребенка свое равнодушие.
Эти его помыслы изменились внезапно и неожиданно, когда Рудольфу было всего восемь месяцев. Кунце взял в привычку по вечерам заглядывать в детскую. Малыш лежал, как обычно, в коротких штанишках в своей кроватке, всецело, казалось, занятый попыткой сосчитать пальчики на ноге. Он был крепенький, для своего возраста живой ребенок. Услышав шаги, он оставил свою ножку и повернулся на бок, чтобы посмотреть, кто пришел. Кунце остановился у кроватки и стал смотреть на малыша. Вдруг навстречу ему протянулись ручонки его сына.
Осторожно он взял ребенка, опасаясь, что он такой же хрупкий, как цветок, но маленькое тельце, к его удивлению, было крепким и мускулистым. Крошечные ручки Рудольфа играли с пуговицами мундира и звездочкой на петлице.
— Он любит тебя, — объявила Роза, только что вошедшая в комнату.
— Глупости! Как он может? Он меня почти не знает, — проворчал Кунце. Ни за что на свете он не хотел дать понять Розе, как он смущен и тронут.
— Он знает, что ты его отец, — настаивала Роза.
— Ах, оставь. Все дело в форме. Дети любят все, что сверкает.
20
Все предвещало хорошее лето. Майор снял виллу в окрестностях Штробла, откуда открывался вид на озеро Вольфганг. Роза с маленьким Рудольфом, кухаркой и горничной выехали туда еще в начале июня, а Кунце решил присоединиться к ним в августе и провести там свой отпуск.
Ему не доставляло никаких неудобств, что он остался один в Вене. Тролль составлял ему компанию, он поседел вокруг носа и вел себя теперь спокойно и с достоинством. С недавних пор Кунце стал брать его с собой в бюро, где никто не был в претензии, что он линяет, хотя и Роза с течением времени смирилась с тем, что, если она хочет удержать мужа, она должна терпеть собаку.
В эти летние недели Кунце снова вел жизнь холостяка. Он питался в маленьком кафе гостиницы на Вайбурггассе. Если вечер был теплым, он ехал омнибусом в Венский лес. Он много читал — Штриндберга, Голсуорси, Томаса Манна, Франца Верфеля, д'Аннунцио и открыл для себя Пруста. Когда он спустя годы вспоминал об этом памятном месяце — памятном, потому что это был последний счастливый и спокойный июнь в его жизни и жизни его поколения, — он видел себя, сидевшим в тенистом дворе маленького ресторанчика под Веной с бокалом холодного вина перед собой, с Троллем у ног и перелистывающим страницы книги ветерком, дувшим с горы Каленберг. Пара кур выискивала хлебные крошки под столом, день угасал, всходил месяц, и хозяин вешал принесенную из дома керосиновую лампу.
Где-то кто-то наигрывал на цитре мелодию Лео Фалля, в соседнем дворе любительский оркестрик играл вальс о «прекрасном голубом Дунае», далее по улице звучала мелодия Оффенбаха на губной гармонике. Чудесные мелодии соединялись с ароматом лип и стаккато лошадиных копыт по мостовой перед домом в один умиротворяющий легкий шум.
Именно в этом дворике его застало известие об убийстве эрцгерцога, наследника трона. Кунце только что пришел сюда, договорившись о встрече с Герстеном и Принцем Хохенштайном. Они собирались втроем проехать на машине Принца на гору Каленберг, откуда открывался чудесный вид на город, и там, на террасе отеля, поужинать. Они собирались выехать в семь, но около восьми примчался Герстен с известием, которое, как ядовитый газ, уже заполняло все уголки Вены: Франц Фердинанд и его супруга убиты в Сараево!
Кунце прежде всего подумал, должен ли он привезти семью домой.
— Война? — спросил он.
Герстен покачал головой.
— Я не думаю. Кто в этой империи готов мстить за Франца Фердинанда и умирать за него? «De mortuis nil nisi bene», но будем честными: любить его никто не любил.
Кунце пришло в голову посещение замка Конопишт, вопрос английского ботаника, как может начаться война, и циничный резкий ответ эрцгерцога: «Всегда может произойти какой-нибудь конфликт, который сам по себе довольно безобиден, но стороной, желающей войны, может легко быть использован как повод». Теперь, при воспоминании об этом, эти слова звучали как ужасное предсказание.
— Кто возьмет меч, тот от меча и погибнет, — пробормотал Герстен. — Ты знал, что Франц Фердинанд заказал для себя изготовить двуствольную винтовку Манлихера? Фотографии, на которых он изображался рядом с горой убитой дичи, стали мне просто противны.
«Довольно сильно сказано для серебряного медалиста соревнований по стендовой стрельбе», — подумал Кунце.
— Я надеюсь только, что в известных кругах не захотят сделать из него мученика, — задумчиво произнес Кунце. — Меня бы это не удивило. Если для них это будет выгодно.
Панические настроения, возникшие вначале, улеглись, и Роза с Рудольфом оставались в Штробле. Ее письма были полны оптимизма, но проскакивали легкие жалобы на погоду (часто идут дожди), на горничную (она поняла слово «отпуск» слишком буквально), на местных лавочников (цены у них здесь ужасные). И вдруг Сербии был поставлен ультиматум и издан приказ о мобилизации. Кунце взял один день отпуска, чтобы перевезти свою семью в Вену.
Хотя он не посылал телеграмму, Роза была готова к переезду, все вещи были уложены. Ее женская интуиция правильно оценить обстановку снова удивила Кунце и вызвала его уважение. Та самая Роза, которая из-за опавшего суфле закатывала истерику, была в обстановке надвигающейся самой большой опасности в ее жизни спокойна и собранна.
Поездка от Штробла на Ишл была сушим кошмаром, а от Ишла до Вены еще хуже.
Вагоны были переполнены. Поездка, занимавшая обычно шесть часов, длилась теперь десять, поскольку на каждой станции приходилось пропускать воинские эшелоны.
На перронах можно было видеть сцены, которые в последующие годы стали привычными: женщины, и молодые, и старые, все в слезах, провожавшие своих мужчин, некоторые из которых были уже в военной форме. Контраст между заплаканными лицами женщин и шумным весельем молодых людей, отправлявшихся на войну, придавал этой картине нечто зловещее. Чем ближе подъезжали к Вене, тем сильнее была волна экзальтированного патриотизма. Настроение повсеместно было одним и тем же — будь это полк боснийцев с красными фесками на голове или полк венгерских гусар в сером, садившихся в товарные вагоны, на которых значилось: «шесть лошадей, сорок человек». Взрослые мужчины превратились в мальчишек, которым предстоят какие-то увлекательные, полные приключений каникулы, какая-то чудесная вылазка на природу.
Они вернулись в Вену поздно ночью, но казалось, что в городе никто не спит. На Ринге толпилась масса народу, толпа пела и размахивала флагами с портретами кайзера Франца Иосифа, немецкого кайзера и итальянского короля Виктора Эммануэля. Создавалось впечатление, что между Австрией и Россией война уже началась. Угрозы в адрес врага смешивались с криками, прославляющими кайзера, который внезапно превратился в символ мудрости и добра. Слово «война» — пришло Кунце в голову, привело массы в состояние какого-то опьянения, когда он увидел перед собой это море сияющих, смеющихся, ликующих лиц. Люди вели себя так, как будто победа была уже обеспечена.
Возбуждение на улицах достигло нового предела шестого августа, в день объявления войны России. Между тем Франция, Бельгия и Англия объявили о мобилизации. В этом море враждебности верховное военное командование как в Германии, так и в Австрии было каким-то островом, на который все события оказывали отрезвляющее влияние.
Чем громче было воодушевление на улицах, тем скорее оно затихало в коридорах военных ведомств. Предвещавшее славу предприятие вопреки тщательно разработанным планам не хотело тотчас претворяться в жизнь: вести на войну многомиллионную армию оказалось не так просто, как ожидалось. Временами создавалась угроза остановки всей военной машины. Это был, особенно для Австрии, новый способ ведения боевых действий, который она никогда еще не применяла в деле: сложный, жестокий, диаметрально противоположный старой, овеянной дыханием веков системе затяжных позиционных боев.
Самым неожиданным и обескураживающим было то, что враг оказывал ожесточенное сопротивление, а стрельба поражала своей точностью.
Август был для Кунце месяцем прощаний. Сам он, как и прежде, нес службу в гарнизонном суде, но большинство его друзей были отправлены на различные фронты. Как-то утром в конце августа к нему пришел посетитель. В полевой форме простого резервиста — по пути на фронт — в кабинет зашел под предлогом попрощаться Фридрих Габриель, но Кунце подумал, что истинным мотивом Габриеля было лишний раз напомнить о том поражении, которое потерпел Кунце в свое время при попытке его, Габриеля, реабилитировать.
— Когда меня мобилизовали, я их предупредил: я, мол, позор для армии. — Он тихо рассмеялся. — Но они мне сказали, что для заряжающего я вполне подхожу.
Кунце пришел в ярость.
— Это просто свинство, — пробормотал он, подошел к телефону и позвонил капитану Штольцу, одному из адъютантов военного министра.
Спустя полчаса Кунце сидел в кабинете напротив министра, в роскошном помещении, в котором сто пятьдесят лет назад Мария Терезия председательствовала на военном совете. Когда Кунце через час покинул кабинет, Фридрих Габриель был снова в чине обер-лейтенанта с приказом явиться в свой бывший полк.
— У меня для вас хорошие новости, — сказал Кунце Габриелю, который ждал его в гарнизонном суде. — На вашем могильном памятнике будет стоять надпись «обер-лейтенант», а может быть, и «капитан Габриель». При условии, конечно, что вас до этого не похоронят в братской могиле.
Габриель ухмыльнулся:
— Такое впечатление, что войну вы не любите.
— А вы сами?
— Нет. Я люблю армию и ненавижу войну. Я, должно быть, чудовище!
— В таком случае, я такой же монстр!
— Я так не считаю, господин майор. Мне кажется, что вы никогда особо не жаловали военных. Я часто себя спрашивал, почему вы пошли на военную службу.
Кунце вздохнул.
— Над этим вопросом я тоже часто ломал голову!
В середине октября на письменный стол майора Кунце легло прошение Петера Дорфрихтера о помиловании, которое, при положительном решении, давало ему возможность отправиться на фронт, чтобы там сражаться «за Бога, кайзера и фатерлянд» и за лучшее будущее его сына. Прошение было адресовано главе государства, но барон Больфрас, шеф военной канцелярии кайзера, переадресовал его майору и таким образом возложил на него обязанность принять решение.
Он не видел Дорфрихтера более четырех лет. И не потому, что он не хотел его видеть. Нужно было, чтобы прошло достаточно времени с тех пор, как он себя мучил, он должен был найти пути и способы чувствовать себя свободным от тяги к этому человеку. Каким-то образом благодаря природному здравомыслию — он называл это малодушием — ему всегда удавалось взять себя в руки и избежать неверных шагов. С годами это навязчивое желание медленно превратилось в глухую боль где-то в глубине его подсознания.
И вот прошение Дорфрихтера, написанное его прекрасным почерком, лежало на письменном столе Кунце.
С началом войны множество офицеров и солдат, сидевших в военных тюрьмах, были помилованы. Они вызвались идти добровольцами на фронт. То, что четыре года назад было красивым жестом эрцгерцога, наследника трона, теперь стало повседневным явлением. И тем не менее майор не был готов решить проблему Дорфрихтера одним простым да или нет. Он должен сначала поговорить с ним, должен выяснить, заслуживает ли он теперь быть отпущенным на свободу. Поскольку выкроить время из-за сильной загруженности делами для поездки в Моллерсдорф он не мог, Кунце распорядился доставить заключенного в его бюро в гарнизонном суде.
Четыре года не прошли для Дорфрихтера бесследно. Его волосы приобрели каштаново-седую тусклую окраску, а со впавшими и бледными щеками он напоминал плохую паспортную фотографию того человека, каким он был ранее.
Вокруг глубоко впавших глаз лежали мелкие морщины. Тот же самый костюм, в котором он четыре года назад покинул Вену, теперь сидел на нем плохо. Казалось, что заключенный поправился.
Когда они остались одни, разговор начал Дорфрихтер:
— Я вам глубоко признателен, господин майор, за то, что вы вызвали меня. Даже короткая поездка с вокзала сюда была как сон!
Кунце ожидал дерзостей и оскорблений от заключенного. Кротость в словах этого человека была для него неожиданностью. Ему бы очень хотелось понять, изменила ли его так тюремная жизнь или он только делает вид, что изменился. У прежнего Дорфрихтера не было ни следа угодничества, он всегда был нагл, самодоволен, высокомерен — но никогда расчетлив. Неужели Моллерсдорф так измотал его психику?
Кунце предложил заключенному присесть и угостил сигаретой, но Дорфрихтер от сигареты отказался. Находясь в одиночной камере, пояснил он, он отвык от курения.
— Я не мог просто так дать пройти году, чтобы себя в чем-нибудь не усовершенствовать, — добавил он, и в его улыбке мелькнул отблеск прежнего Дорфрихтера.
Кунце пристально наблюдал за ним и одновременно за самим собой. Ему казалось, что он разделен на две половины — одна сидела напротив своего посетителя, а другая, как тайный соглядатай, прокралась в укромный уголок. Он заранее предвкушал эту встречу, но и испытывал некоторый страх перед ней. Сейчас же он с удивлением убедился, что вообще ничего не испытывает.
— Если бы мне в первый год разрешили хотя бы читать — ну по крайней мере газеты! Это было просто ужасно, вообще ничего не знать, что происходит в мире. — В голосе Дорфрихтера проскальзывали жалобные нотки. — Ни одного письма, ни одного посетителя. В 1912 году у меня с коротким посещением был зять, и больше никто. Однажды у меня была моя бывшая теща фрау Грубер. Она ненадолго приезжала в Австрию. Марианна вместе с матерью и ребенком живут теперь в Баварии. Фрау Грубер рассказала мне, что Марианне лучше — она не совсем здорова, но ей значительно лучше. Она ко мне не приезжала, врач не разрешает этого. Он боится рецидива. Фрау Грубер предложила мне приехать с малышом, но я не хотел этого. Тогда не хотел. Даже фотографий его я не хотел видеть. Сейчас, конечно, все будет по-другому.
— Это каким же образом?
Дорфрихтер посмотрел на него с удивлением.
— Перед войной я для него фактически не существовал, так же как и он для меня. Не велика честь быть сыном заключенного. Но сейчас все изменится! Придет день, когда я смогу ему сказать: я твой отец, и он не должен будет меня стыдиться.
Взгляд Кунце упал на прошение о помиловании, которое все еще лежало на его письменном столе.
«Этот глупец считает само собой разумеющимся, что он будет помилован», — подумал он и почувствовал нарастающее внутреннее раздражение.
— В первый год главной задачей было не сойти с ума, — продолжал Дорфрихтер. — Десять раз могла начаться война, а я об этом мог и не узнать.
Один из охранников постоянно издевался надо мной. Он все время говорил, что война началась, но я якобы не должен об этом знать, так как меня хотят оставить в заключении. Это я, идиот, как-то рассказал ему об обещании Его Высочества.
— Сейчас вы получили вашу войну! — сухо сказал Кунце.
Для погрузившегося в размышления Дорфрихтера не дошел смысл сказанных с горечью в голосе слов майора.
— В последние недели я закончил свою докладную записку о том, как должны вести боевые действия центральные державы. Что особенно неправильно делалось — это то, что слишком долго ждали. Сейчас октябрь. В скором времени дороги станут непроходимыми. Да, кстати, вы слышали о таком полковнике — Бурстине?
— Не думаю, что встречал это имя, — ответил Кунце.
— Я так и думал. Напрасно я пытался найти в газетах упоминание о нем. Пять лет назад, когда я видел его в последний раз, он рассказал мне о своем изобретении. Великолепное изобретение! Бронированный пулемет на гусеничном ходу. Вы понимаете, господин майор, для всех грузовых машин с двигателями внутреннего сгорания проблема состоит в том, что они могут двигаться только по твердому грунту. Гусеницы устраняют это затруднение. Но когда выяснилось, что в нашем военном министерстве никто не понял важность этого изобретения, Бурстин обратился к немцам. Но, видимо, и там ему не повезло, иначе об этом было бы слышно. Почему мы всегда готовимся к прошлой войне?
— У противника все происходит точно так же. — Кунце пожал плечами. Рвение Дорфрихтера его удивляло, но и вызывало отвращение.
— Наши шансы на быструю победу мы наверняка упустили, — заявил Дорфрихтер. — Что нам надлежит сделать, так это укрепить наши позиции и готовиться к весне. И в первый же весенний день начать наступление! Не только на фронтах, но и в глубоком тылу противника. Центральные державы, окруженные, в сущности, со всех сторон, неминуемо потерпят поражение, если будут воевать методами XIX столетия. Мы должны ударить внезапно и всеми силами. Главные города противника должны быть подвергнуты бомбардировке с воздуха — самолетами и дирижаблями. Заводы, железнодорожные узлы, госпитали и церкви должны быть разрушены! Ни один вражеский солдат не станет воевать, если узнает, что его жена и дети на родине убиты. Короткий, массированный удар — и война через неделю закончится!
Все это было сказано возбужденным горячечным шепотом, и Кунце спросил себя, нет ли у Дорфрихтера температуры, или он действительно в своей заплесневевшей камере сошел с ума? Но если он безумец, то такими же могли быть и другие: Шлиффен, Жоффр, Конрад фон Хётцендорф, Вильгельм II. Или всякий раз, когда он говорит о войне, он просто превращается во всеразрушающего демона?
Что касается Кунце, то Дорфрихтер для возвеличивания войны выбрал далеко не лучший день. За последние полмесяца Кунце получил известие о гибели многих своих друзей и знакомых. Не только ему, но и миллионам людей стало понятно, что мир уже никогда не будет таким, каким он был. Он боялся читать в газетах списки погибших. Не проходило дня, чтобы он не находил там знакомую фамилию. Беспомощность и страх распространялись в военных учреждениях, там, где еще два коротких месяца назад царило торжество и ликование.
Титус Дугонич пал в одном из последних больших кавалерийских наступлений этой войны в Галиции; Принц Хохенштайн лежал в братской могиле где-то в районе Пршемышля, барон Ландсберг-Лёви, офицер связи 5-й немецкой армии, был похоронен в Арденнах, на французской земле, которую он так любил.
И этим утром Кунце получил два печальных известия: капитан фон Герстен погиб на боснийско-сербской границе и майор Хартманн, младший сын генерала Хартманна, был убит на русском фронте, в бою южнее Вайкселя. Ему казалось, что со смертью этих двух друзей детства умерла и часть его самого. Слишком поздно он понял, как много они для него значили. Они заменяли ему близких родственников, которых у него не было.
— Боюсь, что ваши теории основаны большей частью на самообмане, — сказал майор бывшему обер-лейтенанту. — Враг может бомбить и наших детей.
Дорфрихтер пожал плечами.
— Нельзя победить, если не готов пойти на риск.
Кунце на секунду показалось, что ворот его мундира слишком узок.
— На прошлой неделе на сербском фронте погиб капитан фон Герстен, — резко сказал он.
Дорфрихтер вопросительно смотрел на него.
— Что вы имеете в виду, господин майор?
— Я получил сегодня утром известие, что капитан фон Герстен погиб на сербско-боснийской границе, — повторил он. — Он был прикомандирован ко 2-й армии и должен был в районе Вальево прокладывать телефонный кабель. Он проник со своими людьми на вражескую территорию, где они попали в засаду. Он мог этого и не делать, а оставаться за линией фронта.
Намек самодовольной улыбки скользнул по лицу Дорфрихтера.
— Служба, выходящая далеко за пределы воинского долга. Как типично для Герстена. Если я верно припоминаю, однажды у нас был разговор об этой — об этой тяге к геройству. Вы хотели знать, почему я именно этих десятерых выбрал, почему не Аренса или Айнтхофена. Убежден, что Аренс никогда не пойдет на ненужную жертву. — Он остановился, вздохнув. — Могу биться с вами об заклад, что Герстен не единственный из моих десяти, кто отправился на тот свет.
Кунце кивнул.
— Вы выиграли пари. — Еще минуту назад ему было тепло, а сейчас его била дрожь. — Принц Хохенштайн и Ландсберг-Лёви уже тоже мертвы. Я должен сказать, — добавил он бесстрастным тоном, — что война вас перещеголяла. Вы убили только одного из десяти, а война уже троих. Теперь вы стали номером 14, Дорфрихтер. Если бы вы не были убийцей, вы были бы теперь кандидатом на перевод в Генеральный штаб.
Дорфрихтер хотел что-то ответить, но инстинктивно почувствовал, что стоит на зыбкой почве, и быстро сменил тему.
— Я надеюсь, господин майор, что вы удовлетворите мою нижайшую просьбу отправиться на фронт. Мне, конечно, не надо вас убеждать, что я приложу все силы и способности, чтобы выполнить мой долг. Я, как вы знаете…
Майор все еще не был в состоянии говорить о помиловании. Он перебил Дорфрихтера и спросил:
— Вы действительно испытываете раскаяние?
— Раскаяние? — переспросил Дорфрихтер звонким голосом. — Ах, вы имеете в виду из-за циркуляров, господин майор?
— Из-за чего же еще?
— Конечно, господин майор, — сказал он с готовностью, почти ревностно. — Глубокое раскаяние. Я этого никогда больше не сделаю, если это то, что вы имеете в виду. Это был безумный поступок, и я действительно должен был не признавать себя виновным вследствие временного помутнения рассудка. Конечно, всегда ищешь оправдания своим поступкам — и я нашел несколько причин. Хотя я признаю, что мои поступки повлекли за собой смерть Рихарда Мадера.
— Почему же вам теперь и не признаться? Вы же в безопасности. Вас нельзя судить дважды за одно и то же преступление.
— Он умер семнадцатого ноября 1909 года. Если бы это тогда не произошло, то он наверняка бы погиб сейчас, на войне — так же, как Герстен и Принц. Что же я у него, таким образом, отнял?
— Пять лет! Пять раз прекрасного лета и пять зим, пять волшебных весен и пять раз пропавшие осенние месяцы, которые особенно прекрасны здесь, в Австрии. — Кунце встал. — Хорошо, Дорфрихтер, это все. Я хотел бы сказать, что был рад вас видеть, но в данных обстоятельствах это было бы неправдой.
Дорфрихтер также поднялся, впервые он выглядел встревоженным.
— Вы хотите этим сказать, что меня не помилуют, господин майор?
— Этого я не сказал. Я должен еще над этим подумать.
— О чем тут еще думать? — грубо спросил Дорфрихтер. — Его Императорское Высочество предложил мне сделку. У меня есть его обещание. Без этого я не дал бы вам на четыре года бросить меня в тюрьму. Если бы не его обещание, я предпочел бы виселицу.
— Его Императорское Высочествомертв, — сказал Кунце.
— Но полковник Бардольф жив! Он в курсе дела! Спросите его!
— Я не нуждаюсь в этом. Я знал о сделке еще до того, как вам ее предложили.
— Ну, значит, тогда вопрос решен.
— Совершенно верно, Дорфрихтер, вопрос решен.
— И что же вы решили?
Кунце долго и насмешливо посмотрел на него.
— Не забывайте, Дорфрихтер, что мы здесь находимся в армии. Ваше прошение будет тщательно проверено, и вам будет сообщено о решении имперской военной канцелярии. Больше, к сожалению, я вам ничего не могу сказать.
Он вызвал начальника караула. Дорфрихтер стоял с опущенными плечами и смертельно бледным лицом. Он провожал взглядом майора, идущего к своему столу. Какой-то момент казалось, что он раздумывает, идти ли ему к двери или броситься на Кунце. Но когда караульный вошел в комнату, атмосфера разрядилась, холодно и не попрощавшись Дорфрихтер покинул помещение.
Кунце бездумно смотрел вслед заключенному и его конвоиру. Только теперь он заметил, что был без сил. У него кружилась голова, и он решил пойти домой, принять ванну и до следующего утра забыть о Петере Дорфрихтере.
Но едва он направился к двери, как что-то внутри неожиданно остановило его. Он не мог бы сказать, что это было: жалобный сигнал горна, донесшийся со двора тюрьмы, или луч солнца, слишком яркого для октября, упавший на прошение Дорфрихтера.
Внезапно решившись, он взял ручку, обмакнул перо в темно-синюю глубину чернильницы и наложил короткую резолюцию под последней строкой петиции:
«Отказать. Майор Кунце».
Финней Патрисия
Роковой бал
Мег, с благодарностью
Совершенно личный и секретный Дневник леди Грейс Кавендиш, фрейлины Ее Величества Королевы Елизаветы I
Спрятан в восточном углу покоев фрейлин Ее Величества. Верхний этаж дворца Уайтхолл, Вестминстер, Миддлсекс, избранное Богом Королевство Англия

Февраль,
Тринадцатый день,
год от Рождества Христова
1569

 Вообще-то в этой книжице я должна записывать молитвы и свои прегрешения. Во всяком случае, именно так заявила миссис Чемперноун, вручая мне ее в качестве новогоднего подарка. И еще она сказала, что раз я так люблю вышивать, можно сделать красивую вышивку на обложку.
Я не против, но зачем это мне сидеть, надувшись как мышь на крупу, и размышлять над какими-то там прегрешениями? Вот тоска-то!
Кстати, у меня и прегрешений почти нет, если не считать того случая, когда я спрыгнула с бревна и испортила платье. Да, и того, что я вечно теряю вещи!
Вот и подарок мисс Чемперноун случайно завалился под кровать, поэтому я в нем ничего еще и не записала. Но раз я его нашла, то буду записывать здесь все-все-все! Это будет книга обо мне, леди Грейс Кавендиш, фрейлине Ее Величества королевы Елизаветы. И обо всем, что я люблю. А почему бы и нет?
Больше всех на свете (после мамы, которая умерла, упокой Господь ее душу) я люблю Ее Величество королеву. Она уже немножко пожилая, но вы лучше этого не говорите, или она запустит в вас туфлей.
Ей целых тридцать пять! Для того чтобы выйти замуж, как любая другая знатная дама, и завести детей, она «старовата», как сокрушается миссис Чемперноун, думая, что ее никто не слышит.
Лично мне кажется, что у миссис Чемперноун не все в порядке с головой: с какой стати королеве выходить замуж? Чтобы заполучить мужа, которого придется слушаться? И зачем вообще выходить замуж, если ты не обязан?
К сожалению, я-то как раз обязана. Так говорит королева.
Так что завтра — решающий день моей жизни. Ее Величество устраивает бал в честь дня Святого Валентина, и на нем я должна буду выбрать одного из трех претендентов на свою руку, которых она отобрала лично. Как только адвокаты уладят все формальности, будет помолвка, а когда мне исполнится шестнадцать, я выйду замуж. Все три моих жениха уже при Дворе и готовятся к завтрашнему вечеру.
Как же я не хочу выходить замуж! Я чувствую себя еще такой юной! Но я наследница, а поэтому должна, хотя будь я незнатного происхождения, я бы подождала с этим лет этак до двадцати пяти!
Вошла Мэри Шелтон и жалуется на леди Сару, которая не хочет идти гулять с собаками, хотя сегодня ее очередь. Это отличная возможность! Надо бежать!
Вообще-то в этой книжице я должна записывать молитвы и свои прегрешения. Во всяком случае, именно так заявила миссис Чемперноун, вручая мне ее в качестве новогоднего подарка. И еще она сказала, что раз я так люблю вышивать, можно сделать красивую вышивку на обложку.
Я не против, но зачем это мне сидеть, надувшись как мышь на крупу, и размышлять над какими-то там прегрешениями? Вот тоска-то!
Кстати, у меня и прегрешений почти нет, если не считать того случая, когда я спрыгнула с бревна и испортила платье. Да, и того, что я вечно теряю вещи!
Вот и подарок мисс Чемперноун случайно завалился под кровать, поэтому я в нем ничего еще и не записала. Но раз я его нашла, то буду записывать здесь все-все-все! Это будет книга обо мне, леди Грейс Кавендиш, фрейлине Ее Величества королевы Елизаветы. И обо всем, что я люблю. А почему бы и нет?
Больше всех на свете (после мамы, которая умерла, упокой Господь ее душу) я люблю Ее Величество королеву. Она уже немножко пожилая, но вы лучше этого не говорите, или она запустит в вас туфлей.
Ей целых тридцать пять! Для того чтобы выйти замуж, как любая другая знатная дама, и завести детей, она «старовата», как сокрушается миссис Чемперноун, думая, что ее никто не слышит.
Лично мне кажется, что у миссис Чемперноун не все в порядке с головой: с какой стати королеве выходить замуж? Чтобы заполучить мужа, которого придется слушаться? И зачем вообще выходить замуж, если ты не обязан?
К сожалению, я-то как раз обязана. Так говорит королева.
Так что завтра — решающий день моей жизни. Ее Величество устраивает бал в честь дня Святого Валентина, и на нем я должна буду выбрать одного из трех претендентов на свою руку, которых она отобрала лично. Как только адвокаты уладят все формальности, будет помолвка, а когда мне исполнится шестнадцать, я выйду замуж. Все три моих жениха уже при Дворе и готовятся к завтрашнему вечеру.
Как же я не хочу выходить замуж! Я чувствую себя еще такой юной! Но я наследница, а поэтому должна, хотя будь я незнатного происхождения, я бы подождала с этим лет этак до двадцати пяти!
Вошла Мэри Шелтон и жалуется на леди Сару, которая не хочет идти гулять с собаками, хотя сегодня ее очередь. Это отличная возможность! Надо бежать!

Тот же день, позже
Пишу в постели, потому что леди Сара и Мэри Шелтон еще не вернулись, и я не могу заснуть.
Мое любимое место в Уайтхолле — за мусорными кучами в конце Большого фруктового сада. Но пробираться туда надо очень осторожно — если об этом проведают другие фрейлины или камеристки, то обязательно нажалуются на меня старшей фрейлине, миссис Чемперноун. А уж она обязательно сообщит об этом королеве, и тогда Ее Величество будет «информирована об этом официально», а не просто так, как знает сейчас.
Поэтому, если мне надо к мусорным кучам, я вызываюсь погулять с королевскими собачками. Все знают, что из всех фрейлин королевы только я их люблю.
Королевские собачки маленькие, мохнатые, вонючие и злые. И еще, пожалуй, кусачие, если с вами не знакомы, но мы с ними отлично ладим. Они меня обожают.
Вот поэтому я прекратила писать: пришлось бежать вниз искать леди Сару Бартелми (она у нас самая хорошенькая и отлично это знает!).
Леди Сара стояла у двери во внутренний сад — личный сад королевы с кислым, как двухнедельное молоко, лицом.
— Что-то случилось? — спросила я, уже все зная от Мэри Шелтон.
Сара тряхнула своими блестящими рыжими кудряшками и возмущенно заявила:
— Королева велела мне выгулять собак!
— Это же здорово! — ответила я, зная, что она со мной совершенно не согласится — подобная сцена повторялась уже не раз.
— Но там же ветер с дождем, и жуткий холод! Мама как раз прислала мне розовую воду и миндальное масло от прыща, а у меня даже нет времени их попробовать! — надулась Сара.
У леди Сары прыщик на носу, но совсем небольшой. Вечно она носится со своими прыщами!
— Пожалуйста, не беспокойся. Я погуляю с собаками, а ты как следует приготовься к балу! — сказала я примиряюще.
Леди Сара на мгновение просияла, но тут же скривила мину.
— Кажется, тебе даже нравится возиться с этими вонючими чудовищами!
— Нравится, — согласилась я. — Только подожди, я пойду переоденусь!
Я побежала наверх в наши с Мэри и леди Сарой покои — переодеться в наряд для верховой езды — зеленый шерстяной лиф и юбку, которая мне немного коротка. Не могла же я гулять с собаками в белом дамастовом лифе и юбке со вставкой, расшитой розами! Это вставка моя любимая, потому что ее вышивала мама.
Я не стала просить горничную помочь мне, я прекрасно одеваюсь сама, ведь у всех моих нарядов шнуровка спереди, а не сзади. Дамастовый лиф я оставила на кровати, потому что ужасно хотела попасть в Большой фруктовый сад до темноты. Натянув башмаки и схватив плащ, я бросилась вниз по черной лестнице.
Тут-то миссис Чемперноун меня и поймала. Словно специально сидела в засаде!
— Леди Грейс! — воскликнула она. — Леди Грейс! Немедленно остановитесь и подождите!
Миссис Чемперноун родом из Уэльса и ужасно строгая. Но я должна проявлять к ней уважение, поскольку она служит королеве дольше нас всех — еще с тех пор, когда Ее Величество была принцессой Елизаветой, и все думали, что ее казнят.
Так что я остановилась и присела в реверансе, прекрасно зная, что мне собирается сказать миссис Чемперноун. И она это сказала.
— Леди Грейс! Когда, наконец, ваши манеры будут соответствовать имени[656], которое дала вам ваша бедная матушка? Сколько раз вам говорено не топать по лестнице, как стадо коров?
Глупая старая зануда! Где это она видела коров, топающих по лестнице?
— Простите, миссис Чемперноун, — покорно пробормотала я, хотя мне совсем не было стыдно, потому что я не топала. Я спускалась очень тихо, а если на моих уличных башмаках металлические набойки, так я не виновата!
— Ступайте, дитя мое, и постарайтесь выглядеть достойно. Что сказала бы королева, если бы увидела вас сейчас? Почему вы не можете вести себя, как леди Сара?
Ну да, как леди Сара Бартелми-Рыжие Кудряшки, то есть визжать всякий раз при виде паука и думать только о том, достаточно белая ли у тебя кожа, хорошо ли блестят волосы и сколько сонетов посвятили тебе какие-то глупые юнцы?! Вот еще!
Но этого я не сказала, хотя и очень хотелось, а сказала: «Хорошо, миссис Чемперноун». И еще раз присев в реверансе, грациозно удалилась на полусогнутых ногах. Если бы я их распрямила, миссис Чемперноун обязательно бы заметила, что юбка мне коротка, и отправила переодеваться! Завернув за угол, я припустилась во всю прыть.
Я влетела в личный сад королевы, ужасно скучный и приглаженный, с трудом переводя дыхание. Леди Сара стояла под деревом, прикрывая лицо шарфом от свежего воздуха, и мрачно взирала на Генри, поднявшего лапу возле дерева.
— Что так долго? — фыркнула она.
— Меня перехватила миссис Чемперноун и велела быть такой же грациозной, как ты.
Я произнесла это с очень серьезным видом, чтобы леди Сара не заметила в моих словах иронии. Впрочем, я не уверена, знает ли она вообще, что такое ирония!
Сара еще раз фыркнула, передала мне собак и заторопилась во Дворец, чтобы не обветрить свою белую кожу.
В личном саду королевы я держала собак на поводке, чтобы они не подкапывали кусты лабиринта, как в прошлый раз. Все песики были очень рады меня видеть: они лаяли, носились вокруг и приносили мне всякие интересные палки.
По тропинке мимо замерзшего большого фонтана, насколько могла степенно, я прошла к воротам Большого фруктового сада.
На воротах стоял королевский стражник — наверное, охранял сад от нашествия диких яблонь! Вид у него был простуженный и несчастный, а нос красный от холода. Сам виноват: чтобы все видели его шикарный малиновый дублет, пышные бархатные штаны, белые чулки на крепких ногах и новенькие блестящие сапоги, он был без плаща. Думаю, надеялся, что мимо пройдет леди Сара или даже заглянет королева, и обе обязательно обратят внимание на то, какой он красавец — все мужчины на это рассчитывают!
— Будьте добры, откройте мне, сэр, — сказала я, присев в реверансе.
Стражник вздохнул, повернул ключ и распахнул ворота. И даже не поклонился! А вот леди Саре с ее пышной фигурой поклонился бы, я уверена! А мне — нет: у меня нет еще никакой фигуры!
Но я все равно еще раз присела в реверансе, потому что чем любезнее будешь с людьми, тем больше они для тебя сделают, и ради этого не стоит жалеть коленей!
— Вы собираетесь сегодня на конную прогулку с сэром Чарльзом? — поинтересовался стражник.
Я совершенно об этом забыла! Вот черт! (Хорошо, что миссис Чемперноун не слышит, как я богохульствую!). Я не очень люблю лошадей, но сэр Чарльз — один из претендентов на мою руку — любит. Он довольно забавный, хотя пожилой, толстый и пыхтит.
Обычно он живет у себя в поместье, потому что при Дворе чувствует себя неуютно. Но на этот раз он остался здесь специально, чтобы научить меня держаться в седле: королева хочет, чтобы на охоте я не падала с лошади, как в прошлый раз.
Сэр Чарльз хороший учитель — никогда не кричит и объясняет все подробно, пока я не пойму, да и лошади его любят. Но сэр Чарльз в качестве мужа — избави Господи! (Это не богохульство, я проверяла!).
— Да, попозже, — ответила я, пулей проносясь мимо стражника, потому что собаки тащили меня вперед.
Большой фруктовый сад совсем не похож на аккуратный и прилизанный личный сад королевы. Здесь растут яблони, груши и вишни; на некоторые из них можно залезть, если подоткнуть юбку. А еще кусты красной смородины, малина, ежевика и разные травы, которых не найти в прикухонном огороде. И здесь тебя не видно из окон Дворца.
Правда, из окон спальни королевы видно, если встать в нужном месте. Так однажды Ее Величество заметила, как я сражалась на шпагах с кустом малины, и это ее позабавило.
Королева приказала держать ворота в Большой сад закрытыми для всех, кроме меня (и все это из-за старших фрейлин с их поклонниками!).
«Потому что эти пустоголовые дурочки готовы испортить себе жизнь ради медальончика и дурного стишка!» — так она сказала.
Когда меня никто не видит, я иду к вишневому дереву, которое напоминает мне маму. Весной лепестки его бутонов точно такого же цвета, как тот шелковый наряд, которой она надевала прошлым летом.
Моя мама умерла год назад, спасая жизнь королеве, и она была не такой, как матери других девушек, злые, раздражительные и строгие. Она была доброй!
Но сейчас на дереве были только маленькие почки. Я спустила собак с поводка, и они с диким лаем бросились прочь. Я знала, куда они бегут, потому что заметила, как от одной мусорной кучи в конце Большого сада, у реки, идет тоненький дымок.
Собаки возбужденно зарычали, скрываясь за кучей, а Генри тут же выскочил обратно, держа в пасти блестящий красный мячик для жонглирования; вделанные в него стекляшки вспыхнули на солнце.
Я усмехнулась, заслышав голос Мазу:
— Ах ты, грязное чудовище! Пошел прочь отсюда! Прочь, отродье шайтана!
Мазу мой друг и лучший мальчик-акробат Уайтхолла, во всяком случае, он так говорит.
Я вынула мячик из слюнявой пасти Генри и направилась к хижине, которая со стороны выглядела ну точь-в-точь как мусорная куча. Ее построили мы с Мазу и прачкой Элли, тоже моей хорошей подругой.
Надо быть очень осторожной, чтобы никто не узнал о нашей дружбе, а то ребятам попадет еще больше, чем мне. Их даже могут выпороть березовыми розгами, «чтобы знали свое место». Ненавижу, когда на людях им приходится называть меня «миледи» и «госпожа» и низко кланяться! Здесь, за мусорными кучами мы просто Элли, Мазу и Грейс, и никто ни перед кем не должен снимать шапку!
(Я решила записать эту тайну соком севильского апельсина, чтобы прочесть ее можно было, только разогрев страницу. Но когда я пробралась на кухню, оказалось, что все апельсины повар уже положил в мармелад. Тьфу! Теперь придется еще пуще беречь дневник от посторонних глаз!).
Мазу развел за хижиной небольшой костер. Вообще-то это опасно, не говоря уж о том, что от большого жара мусорные кучи могут начать тлеть.
Он жарил на прутьях речных раков, а Элли грела у огня свои бедные истертые руки. Элли работает в прачечной Уайтхолла, к тому же она сирота и ночует там же, в одном из чуланов, и никогда не ест досыта. Мне неловко, что ей приходится столько работать. Я хотела, чтобы она стала моей горничной и занималась моими туалетами, но мой опекун, лорд Уорси, один из самых уважаемых членов Тайного Совета, который к тому же распоряжается моим состоянием, сказал, что это лишние расходы. Думаю, он просто хочет, чтобы эту должность занимала девушка по его выбору. Поэтому мне, как Мэри и леди Саре, пока прислуживает Фрэн.
Мазу задумчиво жонглировал двумя блестящими мячиками, красным и желтым. Когда я бросила ему третий, он поймал его и стал жонглировать еще и ножиком, чашкой и роговой ложкой.
Я очень люблю Мазу. Он чуть ниже меня, хотя мы с ним, кажется, ровесники. Мазу родился в южной стране, где солнце светит так ярко, что кожа у него смуглая, словно деревянная шкатулка. Он акробат труппы Ее Величества, и у него есть туника из ярких разноцветных полос бархата и парчи. Вообще-то у него две туники: одна для представлении и одна, старая, для всего остального.
С лаем подбежали собаки. Элли подхватила на руки песика Эрика, обняла его, а потом принялась оттирать следы его мокрых лап с передника.
Я нащупала в кармане верхней юбки пару сладких рулетов, которые припасла специально для нее.
Мазу стряхнул с раков пепел, и они с Элли начали отрывать у них клешни и есть мясо. Я не люблю раков. Правда, я никогда их не пробовала, но от одного их вида мне становится нехорошо.
— Что вы приготовили для бала в честь Дня Святого Валентина? — спросила я Мазу.
Он подмигнул и провел рукой по горлу.
— Страшная тайна! Меня повесят, утопят и четвертуют, если тебе расскажу!
Я знала, что на балу королева собирается загадать мне загадку. При Дворе я слыву хорошей отгадчицей загадок, шарад, головоломок и всякого такого. И мне было ужасно любопытно (и ни капельки не страшно!), что она придумала на этот раз. Поэтому я решила узнать, не слышал ли чего Мазу — Королевская группа обычно в курсе всех придворных сплетен, особенно когда королева устраивает нечто особенное.
— Королева сказала, что придумала для меня загадку. Ты об этом что-нибудь знаешь? — спросила я напрямую.
Мазу прижал руку к груди, вы таращил глаза и изобразил на лице полную невинность.
— Я? Откуда бедному акробату знать?
— Лорд Роберт принял сегодня особую, душистую ванну, — задумчиво произнесла Элли, — а вчера он ходил в бани…
Я рассмеялась. Лорд Роберт Рэдклифф граф Уочестер — второй из претендентов на мою руку, отобранных королевой. Он, видно, тоже весьма обеспокоен тем, чтобы выглядеть — и пахнуть — достойно!
— Его сердце сгорает от страсти к очаровательной леди Грейс, и он должен был как-то потушить эту страсть! — нарочито восторженно воскликнул Мазу.
Я пнула земляной холмик так, чтобы земля полетела в его сторону. Нечего надо мной смеяться!
— Он поступил как истинный джентльмен, — сказала Элли. — Прилично и разумно. Ведь ему сейчас не на что купить новый костюм — кредиторы не отходят от него ни на шаг. Сэр Джеральд Уорси тоже прибыл. У него новая рубашка и новый бархатный камзол для танцев.
Сэр Джеральд Уорси — племянник лорда Уорси и третий претендент на мою руку. Я с ним едва знакома, потому что он путешествовал по Европе. У лорда Уорси нет детей, его жена умерла молодой, так что сэр Джеральд его единственный наследник. Он считается для меня подходящей парой. Говорят, он довольно красив — это все, что мне известно. Я как раз собиралась расспросить о нем Элли, но тут услышала, как у ворот Большого сада кто-то меня зовет.
Я вскочила, а собаки, как мы их учили, разом залаяли. Мазу закидал костер землей, Элли разгрызла последние рачьи клешни, и они оба скрылись в мусорной куче — нашей хижине, в то время как я неслась между деревьями к воротам.
Ну, точно! У ворот стоял сэр Чарльз Эймсбери, и его круглое лицо было абсолютно красным!
— Пойдемте, миледи, — сказал он, похлопывая себя по животу. — Помните, чтобы привыкнуть к седлу, надо тренироваться каждый день!
Он довольно улыбнулся.
— По крайней мере, вы не забыли переодеться для верховой езды, леди Зеленые рукава!
«Да, только, пожалуйста, не надо петь!» — подумала я.
— «Твоим зеленым рукавам я жизнь без ропота отдам! — распевал сэр Чарльз, пока мы шли через личный сад королевы к арене для турниров. — Я ваш, пока душа жива, Зеленые рукава!»[657]
Вообще-то у сэра Чарльза очень приятный глубокий голос, и вместе с другими джентльменами Двора он часто поет для королевы. Просто мне неловко, что мужчина, по возрасту годящийся мне в отцы, но желающий стать мужем, исполняет для меня такую старомодную песню! Интересно, знает ли он какие-нибудь итальянские мадригалы?
Возле арены для турниров нас уже поджидали две оседланные лошади.
Я передала поводки конюху, и Генри немедленно принялся рычать на мою Ласточку, пытаясь укусить ее за ногу. Что еще раз говорит о глупости комнатных собачек!
Моя лошадь стала нервно дергать головой, и сэр Чарльз взял ее за уздечку.
— Успокойся, Ласточка, — сказал он, — успокойся! Ты можешь раздавить этого щенка одним копытом, просто это ниже твоего достоинства, так что стой смирно! Видите, миледи? Видите? Когда общаешься с лошадью, надо двигаться спокойно и осторожно.
Я спокойно и осторожно приблизилась к лошади, чтобы потрепать ее по шее. Потом сэр Чарльз подставил мне руку, и я умудрилась забросить себя в седло, не свалившись с него лицом вниз с другой стороны, что обычно со мной случается.
 Едва я пристроила одну ногу спереди, а другой умудрилась попасть в стремя и взяла в руки хлыст, как сэр Чарльз, отдуваясь, взобрался на свою лошадь. И тотчас же превратился в совсем другого человека: решительного, полного достоинства и уверенности в себе. Могу поклясться, что именно так он выглядел во времена юного короля Эдварда, когда славился своими победами в турнирах.
— «За что, за что, моя любовь, за что меня сгубила ты…», — распевал мой наставник, пуская свою лошадь рысью, в то время как я, стараясь не нервничать и сохранять равновесие, пыталась двигаться в такт со своей.
Пока мы так прогуливались, разогревая лошадей, сэр Чарльз рассказывал мне о разных вещах. Он всегда так делает, чтобы я перестала думать о том, что вот-вот свалюсь.
Сегодня он сообщил мне очень печальную новость: его брат-близнец недавно погиб в религиозной войне во Франции.
— Я вчера получил письмо, — хмуро сказал сэр Чарльз. — В нем было только известие о его смерти, ничего больше. Увы, мы с Гектором не поладили, когда он уезжал, и теперь я об этом очень сожалею. Правду сказать, он всегда был паршивом овцой и частенько строил против меня козни, но все же он был моим братом!
— Мне очень жаль. Он сражался на стороне протестантов? — осторожно поинтересовалась я.
— Ну да, против этих грязных католиков Гизов, — мрачно ответил сэр Чарльз.
Услышав о Гизах, я нахмурилась. Я тоже их ненавидела, и у меня были на то свои причины: моя мама погибла в результате одного из их гнусных заговоров. Гизы только и мечтали убить нашу королеву-протестантку, и вместо нее возвести на английский трон монарха-католика.
Тут сэр Чарльз стал показывать мне, как правильно посылать лошадь в галоп, и отвлек от мрачных мыслей. Мы потренировались, потом я попробовала пустить Ласточку из рыси в медленный галоп сама.
Это ощущение очень напоминало езду на деревянной лошадке, и мне ни чуточки не было страшно. Я промчалась вокруг Арены, а потом вдоль изгороди и обратно. Я очень гордилась собой, ведь я впервые проскакала галопом и не свалилась!
При виде моего раскрасневшегося лица сэр Чарльз рассмеялся.
— «Я ваш, пока душа жива, Зеленые рукава!» — пропел он и поцеловал меня в лоб, помогая спешиться. — Отлично получилось, миледи! Вы еще научитесь ездить лучше самой королевы!
— Хорошо, что она вас не слышит! — сказала я и не могла не улыбнуться, заметив, как сэр Чарльз изобразил притворный испуг.
— Но ведь вы ей не расскажете? — воскликнул он. — Ради Бога, только не это! Хотите, я попрошу вас об этом на коленях?
Я изо всей силы старалась не рассмеяться.
— Ну что вы, пожалейте свои бедные колени!
Сэр Чарльз поднял на меня лукавый взгляд.
— А вы правы, миледи, колени стоит приберечь! Вы, наверное, ждете не дождетесь завтрашнего дня?
— Нет, — просто ответила я: мне было лень лгать и прикидываться вежливой. — Мне кажется, я еще не готова к замужеству!
— И я вас понимаю, — согласился сэр Чарльз. — Но не все дамы могут позволить себе поступать так, как Ее Величество! Если завтра вы выберете меня, дорогая Грейс, леди Кавендиш, клянусь, я стану относиться к вам так же, как и сейчас, пока вы не вырастете и не станете настоящей женщиной!
Я вздохнула. Сэр Чарльз мне очень симпатичен, но хотя королева и отобрала его мне в женихи среди прочих, я совершенно не хочу за него замуж!
Едва я пристроила одну ногу спереди, а другой умудрилась попасть в стремя и взяла в руки хлыст, как сэр Чарльз, отдуваясь, взобрался на свою лошадь. И тотчас же превратился в совсем другого человека: решительного, полного достоинства и уверенности в себе. Могу поклясться, что именно так он выглядел во времена юного короля Эдварда, когда славился своими победами в турнирах.
— «За что, за что, моя любовь, за что меня сгубила ты…», — распевал мой наставник, пуская свою лошадь рысью, в то время как я, стараясь не нервничать и сохранять равновесие, пыталась двигаться в такт со своей.
Пока мы так прогуливались, разогревая лошадей, сэр Чарльз рассказывал мне о разных вещах. Он всегда так делает, чтобы я перестала думать о том, что вот-вот свалюсь.
Сегодня он сообщил мне очень печальную новость: его брат-близнец недавно погиб в религиозной войне во Франции.
— Я вчера получил письмо, — хмуро сказал сэр Чарльз. — В нем было только известие о его смерти, ничего больше. Увы, мы с Гектором не поладили, когда он уезжал, и теперь я об этом очень сожалею. Правду сказать, он всегда был паршивом овцой и частенько строил против меня козни, но все же он был моим братом!
— Мне очень жаль. Он сражался на стороне протестантов? — осторожно поинтересовалась я.
— Ну да, против этих грязных католиков Гизов, — мрачно ответил сэр Чарльз.
Услышав о Гизах, я нахмурилась. Я тоже их ненавидела, и у меня были на то свои причины: моя мама погибла в результате одного из их гнусных заговоров. Гизы только и мечтали убить нашу королеву-протестантку, и вместо нее возвести на английский трон монарха-католика.
Тут сэр Чарльз стал показывать мне, как правильно посылать лошадь в галоп, и отвлек от мрачных мыслей. Мы потренировались, потом я попробовала пустить Ласточку из рыси в медленный галоп сама.
Это ощущение очень напоминало езду на деревянной лошадке, и мне ни чуточки не было страшно. Я промчалась вокруг Арены, а потом вдоль изгороди и обратно. Я очень гордилась собой, ведь я впервые проскакала галопом и не свалилась!
При виде моего раскрасневшегося лица сэр Чарльз рассмеялся.
— «Я ваш, пока душа жива, Зеленые рукава!» — пропел он и поцеловал меня в лоб, помогая спешиться. — Отлично получилось, миледи! Вы еще научитесь ездить лучше самой королевы!
— Хорошо, что она вас не слышит! — сказала я и не могла не улыбнуться, заметив, как сэр Чарльз изобразил притворный испуг.
— Но ведь вы ей не расскажете? — воскликнул он. — Ради Бога, только не это! Хотите, я попрошу вас об этом на коленях?
Я изо всей силы старалась не рассмеяться.
— Ну что вы, пожалейте свои бедные колени!
Сэр Чарльз поднял на меня лукавый взгляд.
— А вы правы, миледи, колени стоит приберечь! Вы, наверное, ждете не дождетесь завтрашнего дня?
— Нет, — просто ответила я: мне было лень лгать и прикидываться вежливой. — Мне кажется, я еще не готова к замужеству!
— И я вас понимаю, — согласился сэр Чарльз. — Но не все дамы могут позволить себе поступать так, как Ее Величество! Если завтра вы выберете меня, дорогая Грейс, леди Кавендиш, клянусь, я стану относиться к вам так же, как и сейчас, пока вы не вырастете и не станете настоящей женщиной!
Я вздохнула. Сэр Чарльз мне очень симпатичен, но хотя королева и отобрала его мне в женихи среди прочих, я совершенно не хочу за него замуж!
Пришлось пойти налить еще чернил. Начав писать, я и представить себе не могла, что о таком скучном дне можно столько всего рассказать!
Едва я вернулась с урока верховой езды, как мне передали, что королева требовала меня к себе. Я бросилась наверх, переоделась в дамастовый лиф и юбку и поспешила на зов Ее Величества.
Войдя, я присела в глубоком реверансе.
Один из портных личной Гардеробной комнаты Ее Величества стоял перед королевой на коленях и был очень взволнован.
— Почему торжественный наряд леди Грейс до сих пор не готов? — недовольно поинтересовалась королева. — Я вас не узнаю, мистер Бизли. Отчего так долго? Я хотела бы увидеть его прежде, чем леди Грейс его наденет!
— Но Ваше Величество! — в отчаянии затараторил портной. — Очаровательнейшая леди Грейс постоянно растет, чего не скажешь об ее одежде!
Я заметила, что королева чуть не рассмеялась, но, сдержалась и сказала портному, что дает ему личное разрешение зажечь вечером на десять восковых свечей больше, чтобы его помощники не испортили себе глаза, подрубая подол нарядов. Потом отослала мистера Бизли жестом.
Королева — женщина величественная и непредсказуемая. У нее рыжие волосы, живые темные глаза, и приятное бледное лицо с чуть заметными следами оспы — она болела ею, когда я была еще совсем маленькой, но они ее не портят. Она среднего роста, хотя и выглядит намного выше, особенно когда сердится! И у нее самые прекрасные наряды, какие только можно себе представить! Все их сшили портные личной Гардеробной комнаты Ее Величества.
Королева очень умна, и была весьма довольна тем, что я быстро научилась читать, писать и всякое такое. Она говорит, что ей надоели глупые девчонки, которые думают только о платьях и побрякушках. Она любит меня еще и потому, что знает с детства, а год назад моя мама спасла ей жизнь.
— Почему у тебя такие красные щеки, Грейс? — поинтересовалась Ее Величество.
— Я скакала галопом на Ласточке, — с восторгом сообщила я, — и ни разу не свалилась!
Королева хлопнула в ладоши.
— Тогда ты, наверное, очень устала. Съешь на ужин что-нибудь легкое и отправляйся спать. Завтра у тебя трудный день!
Вообще-то я не хотела уходить, но нельзя же спорить с королевой! Я легко поужинала отличными пирожками с мясом, кусочками соленой рыбы, парой колбасок, белыми хлебцами и тушеными овощами, а после этого направилась в нашу спальню.
Я в постели, в ночной сорочке. Горят три ночных свечи, и осталось только помолиться…
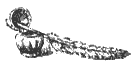
Тот же день, позже
Мне пришлось прерваться, потому что в дверь постучали, и в комнату с очень хитрым видом прокрались Мазу и Элли.
— Вы что? Представляете, что будет, если вас тут застанут? — шепотом воскликнула я.
— Подумаешь! — сказала Элли. — Посмотри, госпожа, какую славную сорочку я тебе принесла на завтра. Глянь, не красота ли?
— Фу! — фыркнул Мазу. — Это вовсе не сорочка! Это — ночная рубашка! Ну что за простушка эта Элли, не правда ли, миледи?
И Мазу нарочито погрозил Элли пальцем.
— Немедленно прекратите называть меня «госпожа» и «миледи»! — возмутилась я.
В ответ Элли показала мне язык.
— Ладно, давай уж посмотрю, — сказала я примирительно.
Рубашка и вправду была прелестная: льняная, с черной вышивкой по белому фону. Я догадалась, что именно над ней миссис Чемперноун и королева трудились всю осень, и улыбнулась — я была очень тронута.
Ее Величество так беспокоилась о завтрашнем бале Святого Валентина, словно я была ее собственной дочерью!
— Мы ее только что отгладили. А посмотри, какие кружавчики! Это я сама сделала, — сказала Элли.
Потом она аккуратно, как настоящая прачка, сложила рубашку и убрала ее в мой бельевой сундук.
Мазу подошел и уселся на мою кровать. В руках у него был маленький алебастровый горшочек.
— Взгляни, это тени для век, — сказал он, открывая горшочек. — Намажешь немножко вокруг глаз, совсем чуть-чуть, и они станут красивыми и сияющими.
— Я не люблю краситься, — сказала я и отстранила его руку.
Мазу рассмеялся.
— Это же не белила и не киноварь, просто твои глаза будут казаться больше.
— Мазу, дорогой Мазу, скажи лучше, что там придумала королева? — взмолилась я. — Она мне ни словом не обмолвилась!
Он прижал палец к губам и подмигнул.
— Мистер Соммерс лично приказал ни в коем случае тебе не говорить, и еще так строго на меня посмотрел… — прошептал он.
Я вздохнула. Мазу прав, он не может ослушаться руководителя труппы.
Потом он с Элли станцевал коротенький смешной танец, одновременно жонглируя дюжиной леди-Сариных баночек с гримом и притирками для лица.
Вернув баночки на место, ребята выскользнули в коридор, где моментально приняли серьезный и благовоспитанный вид. Я даже рассмеялась!
Ужасно, что не удалось узнать, что придумала королева, хотя она никогда не была со мной жестока, как порой с другими придворными…
О Боже, только бы мне не пришлось танцевать! Или петь!
А теперь пора спать.
Февраль,
Четырнадцатый день,
год от Рождества Христова
1569


Служба в честь Святого мученика Валентина
Вообще-то сейчас писать нельзя. Мы в королевской часовне, и уже часа четыре, не меньше, придворный капеллан читает проповедь. Ну, может, и не четыре, но я уверена, что время уже обеденное! Я притворяюсь, что записываю слова службы (ха — ха!).
Утром, во время торжественного шествия в церковь, мы проходили мимо Большого зала. Казалось, там собралась вся прислуга: кто-то развешивал шелковые алые полотнища, кто-то носился туда и обратно с лестницами, кто-то прикреплял сердечки из мишуры.
При виде этой суеты, не знаю, разволновалась я или испугалась, но сердце мое забилось чаще.
Ее Величество тоже не слушает проповедь, а читает какие-то бумаги и тихонько фыркает. Она всегда берет с собой в церковь красные кожаные ящички с документами. Как она мне говорила, посещать службу, конечно, необходимо, но Бог, видя, сколько у нее забот с этими идиотами из Тайного Совета, простит ей, если она будет проводить это время с пользой. Не сомневаюсь, что она нрава.
Пожалуй, пора остановиться. Запели мальчики-хористы, так красиво, точно птички. Надо убрать чернила, служба вот-вот закончится.
Тот же день, позже
Сижу у окна с дневником и чернильницей, хотя не должна этого делать НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ! Я уже в торжественном наряде из розового бархата, и если я капну на него чернилами…
Мне страшно, сердце колотится, а руки холодные, словно слизни, и надо хоть чем-то заняться… Больше всего я беспокоюсь о белых рукавах — на них любое пятнышко будет заметно. Можно, конечно, попросить Фрэн отшнуровать эти и пришнуровать другие, но неизвестно, какая из моих пар подойдет.
После службы я поела, хоть и не была голодна, а потом миссис Чемперноун позвала меня в Гардеробную комнату Ее Величества, чтобы камеристки помогли мне одеться. Но сначала я выкупалась с розовым кастильским мылом в личной ванне королевы, а когда вытерлась, надела новую сорочку.
Я думала, мне придется одеваться в нашей комнате, а леди Сара с Мэри Шелтон будут суетиться вокруг, обсуждать вышивки и вставки для юбок, ругаться по поводу своих баночек с косметикой. А в Гардеробной королевы было так тихо, что мне не оставалось ничего другого, как начать нервничать.
Я подождала за ширмой, пока один из королевских слуг вынес ванну, а потом миссис Чемперноун сказала, растирая руки, чтобы согреть их:
— Приступим! И будьте любезны, леди Грейс, не вертитесь!
Одеваясь, Элли зашнуровывает поверх сорочки лиф, надевает обе юбки, верхнюю и нижнюю, закалывает чепец, потом надевает башмаки, а на них деревянные кломпы — вот она и готова!
Но меня одевали к балу на-а-много дольше! Сначала миссис Чемперноун расчесала мне волосы, потом ее личная горничная принесла мне новую шемизетку, всю расшитую цветочками, из такой тонкой ткани, что я боялась ее порвать, когда продевала голову в ворот! Как я не люблю эти завязки под мышками — они щекочутся! Королева подарила мне новую пару шелковых чулок — белых, с розовыми шерстяными подвязками, и новые вышитые туфли для танцев. Еще мне сделали новый корсет, во французском стиле — он так стиснул талию, что я едва дышу.
Даже металлический каркас для юбки и фарзингейл у меня новые, хотя нижняя юбка и юбка на каркас перешиты из маминых. А верхняя юбка на фарзингейл из белой парчи, вся расшитая розами. Просто потрясающе! И еще — мой наряд такой тяжелый, что в нем я не иду, а плыву!
Я вынырнула из ворота шемизетки всклокоченная, с болтающимися как у куклы руками.
Миссис Чемперноун и Фрэн потребовалась целая вечность, чтобы все это уложить, привязать и пришнуровать. Серебряные наконечники шнуров украшали розочки, это шнуры моей мамы. У меня перехватило горло — вот если бы это мама одевала меня к первому балу…
— Ну-ну, дорогая, — сказала миссис Чемперноун, вытирая мне глаза и нос. — Если нос у тебя покраснеет, придется замазывать его белилами, имей в виду!
Я кивнула, заставив себя думать о другом.
Наконец они закончили и повернули меня к большому и ужасно дорогому зеркалу из венецианского стекла (на эти деньги можно было бы купить лошадь!).
 Из него на меня взглянула высокая статная дама.
Фрэн надела мне на шею маленький плоёный воротник.
Я сделала реверанс — дама тоже. Я, конечно, знала, что это мое собственное отражение, но как-то не верилось.
— Смотрите, какая красивая фрейлина Ее Величества! — миссис Чемперноун удовлетворенно вздохнула.
— Вы правда так думаете? — Мне казалось, что незнакомка в зеркале гораздо красивее меня.
— Да любой мужчина должен считать себя счастливцем, заполучив вас в супруги! — заявила миссис Чемперноун. — И конечно, сэр Джеральд накупит вам столько нарядов, сколько захотите!
Я мысленно улыбнулась. Видно, лорд Уорси уже заручился поддержкой для своего племянника.
— А сэр Чарльз? — спросила я, по большей части затем, чтобы отвлечь ее внимание от милорда Роберта, который, если честно, нравился мне больше других.
Миссис Чемперноун фыркнула:
— Сэр Чарльз скорее накупит вам лошадей! А что до этого юнца, лорда Роберта, так я надеюсь, вы себя ставите выше! Тут на днях вышла у них размолвка с сэром Джеральдом, и лорд Роберт только и мог, что промычать в ответ.
Это правда, язык у лорда Роберта подвешен так себе, но он хотя бы не старик! Ему всего двадцать. Интересно, что они не поделили с сэром Джеральдом? Не буду спрашивать, а то миссис Чемперноун только этого и ждет! И больше не хочу слышать, какой сэр Джеральд замечательный!
— Теперь можете идти. И не вздумайте испачкаться, леди Грейс, не то я вас высеку, ей-богу, высеку и на Ее Величество не посмотрю! Идите же, время одеваться королеве!
Я вздохнула, сунула ноги в бальных туфлях в специальные шлепанцы на толстой кожаной подошве, чтобы не испачкать подол, и прошлепала к двери.
Едва я оказалась в коридоре, как из-за угла черной лестницы выглянули Мазу и Элли.
Элли захлопала в ладоши.
— Да вы красавица, миледи, — восхищенно заявила она. — Как Бог свят, красавица!
— Да ладно, — отмахнулась я. — В таком наряде кто угодно станет красавицей!
Элли покачала головой. Лицо у нее все в веснушках, на носу горбинка, а руки красные от постоянной стирки.
— В нем так неудобно! — добавила я. — Слишком жмет в талии, руки толком не согнешь, а от воротника шея немеет — ни вздохнуть, ни почесаться!
Мазу изящно поклонился, подошел поближе и мазнул краской из маленькой баночки мне по векам. Было щекотно, я испугалась, что мой наряд помнется, но Мазу сделал все очень быстро и аккуратно.
Я глянула на себя в блестящий серебряный кувшин, стоявший на сундуке возле окна — глаза у меня стали более… таинственным, что ли. Сам Мазу уже был загримирован для представления.
— На тебе нет ожерелья, — заметил он.
Он был прав, ожерелья на мне не было.
— К чему бы это? — Мазу снова поклонился, улыбаясь, и я поняла: это и есть ключ к загадке, о которой я спрашивала.
И они с Элли убежали — перед балом у них было еще много дел.
Из него на меня взглянула высокая статная дама.
Фрэн надела мне на шею маленький плоёный воротник.
Я сделала реверанс — дама тоже. Я, конечно, знала, что это мое собственное отражение, но как-то не верилось.
— Смотрите, какая красивая фрейлина Ее Величества! — миссис Чемперноун удовлетворенно вздохнула.
— Вы правда так думаете? — Мне казалось, что незнакомка в зеркале гораздо красивее меня.
— Да любой мужчина должен считать себя счастливцем, заполучив вас в супруги! — заявила миссис Чемперноун. — И конечно, сэр Джеральд накупит вам столько нарядов, сколько захотите!
Я мысленно улыбнулась. Видно, лорд Уорси уже заручился поддержкой для своего племянника.
— А сэр Чарльз? — спросила я, по большей части затем, чтобы отвлечь ее внимание от милорда Роберта, который, если честно, нравился мне больше других.
Миссис Чемперноун фыркнула:
— Сэр Чарльз скорее накупит вам лошадей! А что до этого юнца, лорда Роберта, так я надеюсь, вы себя ставите выше! Тут на днях вышла у них размолвка с сэром Джеральдом, и лорд Роберт только и мог, что промычать в ответ.
Это правда, язык у лорда Роберта подвешен так себе, но он хотя бы не старик! Ему всего двадцать. Интересно, что они не поделили с сэром Джеральдом? Не буду спрашивать, а то миссис Чемперноун только этого и ждет! И больше не хочу слышать, какой сэр Джеральд замечательный!
— Теперь можете идти. И не вздумайте испачкаться, леди Грейс, не то я вас высеку, ей-богу, высеку и на Ее Величество не посмотрю! Идите же, время одеваться королеве!
Я вздохнула, сунула ноги в бальных туфлях в специальные шлепанцы на толстой кожаной подошве, чтобы не испачкать подол, и прошлепала к двери.
Едва я оказалась в коридоре, как из-за угла черной лестницы выглянули Мазу и Элли.
Элли захлопала в ладоши.
— Да вы красавица, миледи, — восхищенно заявила она. — Как Бог свят, красавица!
— Да ладно, — отмахнулась я. — В таком наряде кто угодно станет красавицей!
Элли покачала головой. Лицо у нее все в веснушках, на носу горбинка, а руки красные от постоянной стирки.
— В нем так неудобно! — добавила я. — Слишком жмет в талии, руки толком не согнешь, а от воротника шея немеет — ни вздохнуть, ни почесаться!
Мазу изящно поклонился, подошел поближе и мазнул краской из маленькой баночки мне по векам. Было щекотно, я испугалась, что мой наряд помнется, но Мазу сделал все очень быстро и аккуратно.
Я глянула на себя в блестящий серебряный кувшин, стоявший на сундуке возле окна — глаза у меня стали более… таинственным, что ли. Сам Мазу уже был загримирован для представления.
— На тебе нет ожерелья, — заметил он.
Он был прав, ожерелья на мне не было.
— К чему бы это? — Мазу снова поклонился, улыбаясь, и я поняла: это и есть ключ к загадке, о которой я спрашивала.
И они с Элли убежали — перед балом у них было еще много дел.

Тот же день, совсем поздно
Пишу при свете свечи. Наконец-то я в своей постели, а в других спят леди Сара и Мэри Шелтон. Леди Сара храпит как поросенок, а Мэри Шелтон — как барсук.
Накануне пришлось прерваться и быстренько все спрятать, потому что пришла миссис Чемперноун. Я попросила Элли забрать дневник и прибор для письма, а позже занести их ко мне.
В голове у меня все перепуталось — столько всего произошло!
Миссис Чемперноун отвела меня в приемный зал королевы и я сидела там на подушках вместе с остальными пятью фрейлинами, чувствуя себя деревянной куклой и мечтая пробежаться по личному саду королевы раз этак с полдюжины! Но бегать там нельзя — миссис Чемперноун, пожалуй, выпорет меня, если я попробую. Так что я только чуть-чуть повертелась, потому что онемела спина.
— Сидите смирно, леди Грейс, — прошипела миссис Чемперноун. — Имейте в виду, этот ваш наряд обошелся королеве в сотни фунтов, не считая работы портных!
Я изумленно уставилась на нее.
— На такие деньги в Вестминстере можно купить дом, — продолжила старшая фрейлина. — Так что не вздумайте опять взяться за свои проказы!
Хорошо еще, что она не застала меня с пером и чернильницей!
Мы долго сидели в приемном зале, тихонько переговариваясь, но, наконец, настало время идти. Я так нервничала, что меня даже затошнило.
Из личных покоен появилась Ее Величество в чудесном, шитом серебром торжественном наряде из черного бархата. Остальные придворные дамы были ей под стать в белом или серебристом дамасте. Это особая честь, что мне разрешили надеть розовое. Леди Бедфорд, статс-дама, несла за Ее Величеством длинный черный парчовый шлейф и вуаль.
Мы встали парами и двинулись по проходу в Большой холл, вдоль которого стояли королевские гвардейцы в красных бархатных камзолах. Придворные приветствовали нас, хлопая в ладоши.
Мне пришлось идти рядом с леди Сарой, которая ужасно злилась, что мне оказывают такое внимание, и со мной не разговаривала.
Большой холл был украшен красными и пурпурными лентами и свисавшими с балок мишурными сердечками.
Фрейлины здесь бывают редко. Королева предпочитает обедать в личных покоях, где мы часто составляем ей компанию. (В прошлом месяце Ее Величество была так занята работой с бумагами и заседаниями Тайного совета, что еду ей приносили на подносе, а нам приходилось питаться как придется. В конце концов я не выдержала, дала Элли немного денег и отправила ее за пирожками в ближайшую харчевню. (И все мы тогда обожгли рты, потому что пирожки были очень горячими!)
Мы выстроились за стоявшим на возвышении большим столом, лицом к залу. Королева произнесла что-то вроде небольшой приветственной речи, но я чувствовала себя так плохо, что даже не слушала.
Я быстренько поискала глазами претендентов на свою руку. Все они были на противоположном конце стола, рядом с лордом Уорси, и не обращали друг на друга никакого внимания. Королева нарочно так все устроила, чтобы они на меня не таращились.
В другом конце зала я заметила Элли, которая помахала мне рукой. Но в ответ я ей не помахала, потому что была обязана вести себя достойно.
Я думала, что сойду с ума от всех этих мельканий лакеев туда-сюда. Ненавижу пиры. Ненавижу сидеть, поддерживая вежливую беседу, когда в желудке громко урчит от голода, а приходится целую вечность ждать, пока принесут еду!
На этот раз ждать нам пришлось действительно долго, пока подавальщики, кухонные лакеи и пажи разобрались по старшинству. Я чуть из кожи не выпрыгнула, когда музыканты затрубили в трубы, возвещая об их прибытии.
Наконец, под торжественную громкую музыку, слуги появились в зале, неся на головах, на тяжелых серебряных блюдах, говядину, оленину, лебедя, молочного поросенка и пирог с дичью с колодец величиной. Мне даже стало их жаль — попробуй-ка, потаскай такую тяжесть! Потом опять пришлось ждать, пока всю еду поставят на разделочный стол и разрежут на порции.
К этому времени во рту у меня так пересохло, а желудок так скрутило, (я нервничала из-за танцев, но больше и из-за того, что приготовила для меня королева), что не смогла съесть ничего, кроме кусочка хлеба с маслом, нескольких засахаренных морковок и веточек зелени, которые украшали салат. Так что для меня все кулинарное великолепие пропало даром.
Единственное, что случилось интересного за все время, так это то, что слуга с очень сосредоточенным лицом, который принес мне засахаренную морковку, наклонился вперед, чтобы взять тарелку с гренками, и громко пукнул. Мы с Мэри Шелтон сразу захихикали.
Лебединое мясо — такая гадость! Фу! (Миссис Чемперноун говорит, что леди должны плеваться только в платочек, но я могу плеваться и письменно, если мне так хочется!). Лебедя только потому и подают, что он красиво выглядит на серебряном блюде. Когда его готовят, с него снимают всю кожу с перьями, а потом снова надевают, а голову и шею так хитро поворачивают — кажется, что он еще живой. Но какая разница, королевская это птица или нет, если она отдает рыбой и на вкус куда хуже индюшки!
Леди Сара все так же со мной не разговаривала, болтая с Мэри Шелтон и Карминой. Ну и отлично, по крайней мере, мне не надо было поддерживать разговор, когда в горле так пересохло. Миссис Чемперноун велела пажу принести мне разбавленного вина, и это немного помогло. Я пила его очень осторожно, потому что ужасно боялась запачкать свой торжественный наряд.
После первой перемены блюд наступила пауза. Я только начала успокаиваться, как вдруг — бам-бам-да-да-бам-бам! От испуга я чуть не свалилась со скамьи!
В двери зала вошел француз-акробат Луи с большим барабаном, колотя в него как сумасшедший. За ним — два карлика, близнецы Питер и Пол, жонглируя красными шелковыми сердечками, а следом мистер Вилл Соммерс, шут королевы, подпрыгивая и кувыркаясь на ходу.
А потом барабан опять сделал бам-да-да-бам-да-да-бам, трубы заиграли еще громче, и появился Малыш Джон, огромный силач, с шестом на голове. А наверху шеста, на маленькой, величиной с две ладони платформе стоял Мазу! Я уставилась на него, раскрыв рот. Это было уже слишком! Краем глаза я заметила, что Элли, прижав руки ко рту, тоже глядит на Мазу, белая, как простыня.
Стоя на одной ноге, словно это было ни капельки не опасно, Мазу жонглировал палочками. Он заметил нас, ухмыльнулся и подмигнул мне. А потом вдруг выгнулся, взмахнул руками, качнулся и полетел вниз…
Я не могла этого вынести — я вскрикнула. Впрочем, в этот момент вскрикнули все. Перевернувшись в воздухе, Мазу легко и ловко, словно кошка, приземлился на ноги, сделав сальто. Потом он поймал палочки, которыми жонглировал, и продолжил своевыступление, но уже танцуя джигу. Все закричали и зааплодировали; даже Ее Величество засмеялась и захлопала.
Я тоже захлопала, но только не сильно, потому что руки у меня слишком уж дрожали. А Элли выглядела так, будто вот-вот упадет в обморок. Не знаю, что с Мазу происходит, когда он выступает перед публикой. В него словно черт вселяется!
Королева обратилась к одному из пажей, и мистер Соммерс подвел Мазу к нашему помосту, чтобы представить его Ее Величеству. Я не слышала, что она сказала, но все акробаты поклонились, подпрыгнули и прошлись колесом. Мазу тоже сделал сальто, и физиономия у него сияла.
Потом наступило время десерта. Мы все встали и прошли в сад, в банкетный павильон, который специально достали из кладовой по такому случаю. Рисунки на его панелях с Венерой и Купидоном отлично сохранились — краска только чуть-чуть облетела, и обнаженная фигура Венеры была все такой же розовой.
Обычно мне нравятся банкеты в саду, и все эти желе, сладости, пирожки и чудесные фигурки из марципана в центре стола. На этот раз из марципана сделали Венеру с Купидоном, держащим лакричную стрелу на подставке из розового сахара. Все очень миленькое. Еще я заметила на столике, напротив угощенья, три голубые бархатные подушечки, накрытые белыми шелковыми платками, под которыми что-то лежало.
Мне стало ни до сладостей: ни до мармелада и айвового варенья, моего любимого, ни до ванильного яичного крема. Я изо всех сил старалась не смотреть на эти подушечки. Под одним платком было что-то круглое, под другим — что-то длинное и острое, а то, что было под третьим, и вовсе походило на кучу гороха!
Принесли настил для танцев из полированного дерева, и сидевшие в углу музыканты заиграли «контраданс алеманда» — для разминки. Этот немецкий танец ужасно глупый — совершенно невозможно сохранять достоинство, когда трясешь пальцами, подпрыгиваешь и переплетаешь руки!
Все королевские фрейлины выстроились в длинную линию лицом к кавалерам. Как-то так вышло, что лорд Роберт оказался как раз напротив меня. Когда я взяла его за руку и сделала первые па танца, он уставился на меня, покраснел и пробормотал:
— Э-э… леди Грейс… м-м-м…
— Что? — переспросила я, запыхавшись.
Но тут как раз наступила его очередь подпрыгивать и тянуть мыски ног, а когда он снова ко мне повернулся, шанс был упущен — надо было менять партнеров.
И каждый раз, как лорд Роберт смотрел на меня или брал в танце мою руку, пытаясь произнести что-то, явно заготовленное заранее, он только запинался и потел. Это очень раздражало. Я думаю, его многозначительное молчание объясняется тем, что он просто не знает, что сказать!
Впрочем, ему только двадцать лет. Это уже кое-что. И ноги у него неплохие. Другие девушки говорят, что у него высокое рождение и низкие карманы, то есть что у него нет денег, а имение заложено. Но если он меня любит, это неважно. Денег у меня достаточно и своих. Хотя было бы неплохо, если бы он мог сказать что-нибудь, кроме «Э-э…».
Следующим танцем была павана, которую не напрасно считают самым скучным танцем в мире. Танец хорош, если в нем приходится скакать до потери дыхания, а не прохаживаться туда и обратно, браться за руки, поворачиваться, кланяться, приседать в реверансе, выходить вперед и отступать назад. Это разве танец? Скукота!
На паване мне достался сэр Чарльз, странно мрачный и раздраженный.
— Во всяком случае, мелодия знакомая, — заметила я, услыхав, как музыканты играют «Зеленые рукава».
— Что? — озадаченно переспросил сэр Чарльз, прогуливая меня туда и обратно. — Вы о чем, миледи?
Я слегка ткнула его под ребра:
— Да это же «Зеленые рукава», вы всегда это поете во время наших уроков!
Он как-то кисло улыбнулся:
— Ах да, миледи, я и забыл. Как глупо, конечно же, это «Зеленые рукава»! Та-да, ди-да, ди-да, да-да-да…
Он явно фальшивил.
— У вас кажется, что-то с голосом, сэр Чарльз, — посетовала я. — Вам лучше не петь. И не танцевать.
Этого можно было и не говорит!.. Хотя его колени сегодня гнулись немного лучше, чем обычно, павана — единственное, на что он был способен!
Церемониймейстер объявил следующий танец — вольту. Мы только что изучили ее в танцевальном классе.
Этот танец очень неприличный, потому что в нем кто угодно может увидеть твои коленки! Но королеве он нравится. Мне, правда, не по душе та его часть, где ты танцуешь, а кавалер просто стоит, и еще та, где он принимает гордые позы. Зато я люблю, когда кавалер берет тебя за талию и подбрасывает, а ты в это время ударяешь одной ногой о другую. Здорово! Хотя в прошлый вторник учитель танцев очень расстроился:
— Вы должны опускаться как перышко! Перышко! — закричал он на меня, когда со стены Королевской галереи свалилась картина.
Когда мы выстроились в линию, ожидая кавалеров, сэр Джеральд встал как раз напротив леди Сары (ее бюст чуть не вываливался из лифа — не понимаю, куда смотрит миссис Чемперноун!). Но тут к нему подошел лорд Уорси и что-то сказал, после чего сэр Джеральд поменялся своим местом с каким-то джентльменом, который, судя по его виду, был этим страшно доволен. Так что на вольте сэр Джеральд достался мне.
Он улыбнулся, поклонился и взглянул мне в глаза.
Новый кавалер леди Сары смотрел на ее грудь, а сэр Джеральд — мне в лицо (может, потому что ниже у меня смотреть не на что, даже во французском корсаже!).
У сэра Джеральда по-мужски красивое лицо, всё углы да прямые линии, и насмешливые черные брови. Он высокий, поэтому, когда смотрит на меня сверху вниз, кажется, что он смотрит себе под нос. Как-то раз я сыграла с ним в карты (и выиграла! ха-ха!), во время одного из официальных приемов прогулялась по личному саду королевы, вот и все. Он довольно стар, хотя и моложе сэра Чарльза. Кажется, у него была жена, но умерла при родах. По крайней мере, он не толстый и умеет разговаривать.
— Сегодня вы прекрасны, как никогда, — сказал он. — Розовый бархат вам к лицу, леди Грейс.
Я попыталась покраснеть, но не вышло.
— Спасибо, сэр Джеральд, — ответила я.
Я сосредоточилась на своей части выступления, а он — на своей. Вольта хороша тем, что дает возможность показать себя во всем блеске, если ты, конечно, умеешь танцевать.
Сэр Джеральд, несомненно, умел. В жизни не видела, чтобы кто-то так же ловко подскакивал, ударял ногой об ногу и перебирал ими в такт быстрым барабанным ударам.
А потом наступила моя очередь подскакивать. Когда сэр Джеральд взял меня за талию и подкинул, я взлетела выше, чем у учителя танцев, который вечно жалуется, что из-за нас надорвал спину. Взмыв вверх, я крутанулась и ловко приземлилась, а сэр Джеральд поймал меня и снова подкинул, так что когда «скакательная» часть закончилась, я с трудом переводила дыхание.
— Думаете, лорд Роберт на такое способен, миледи? — прошептал сэр Джеральд, когда наступила «ходильная» часть.
Я заметила, что он ни капельки не запыхался.
— Или сэр Чарльз?
Сэр Чарльз точно не способен — он задыхается даже подсаживая меня в седло. А лорд Роберт? Он молодой и довольно худощавый, но, как мне кажется, тоже сильный. Я видела, как он без труда подбрасывал Мэри Шелтон, а ведь она не худышка!
— Вы слишком хороши для этих чурбанов, — продолжил сэр Джеральд, едва мы оказались друг напротив друга. — Лорд Роберт беден, а сэр Чарльз всегда будет любить лошадей сильнее, чем вас. Выходите за меня!
Потом танец нас разъединил, но я успела разозлиться. Терпеть не могу, когда мне советуют, что думать! Я сама знаю, кто мне больше нравится, и это уж точно не сэр Джеральд-Ходячая-Самоуверенность! Пусть достается леди Саре!
Тут королева хлопнула в ладоши, танцы прекратились, и она приказала мне выйти вперед.
— Дорогие друзья, — сказала Ее Величество, а музыканты стали наигрывать на скрипках какую-то нежную мелодию. — Для нашей леди Грейс сегодня радостный день. Она просила меня выдать ее замуж за джентльмена по моему выбору…
Я об этом не просила, но знаю, что мой отец написал так в завещании, перед тем как умер во Франции, в первый год правления Ее Величества.
— …И я выбрала трех благородных джентльменов, каждый из которых мог бы стать достойным супругом любой даме. Но кто же из этих мужчин воспламенит юное сердце леди Грейс?
Послышался ропот, потом вперед выступил лорд Роберт и встал на одно колено:
— Я, Ва-ваше Величество, — проблеял он.
За ним вышел сэр Джеральд и тоже опустился на колено:
— О Ваше Величество, кого еще больше возвеличивает забота о леди Грейс… — начал он.
Я видела, как лорд Уорси довольно улыбнулся, глядя на своего обаятельного племянника.
— Леди Грейс нужен мужчина, а не мышь. А из всех претендентов только я соответствую этому званию! — заявил сэр Джеральд.
При этом замечании другие фрейлины захихикали, а лорд Роберт покраснел и уставился на свое отражение в отполированном полу.
Затем вперед вышел сэр Чарльз и тоже преклонил колено:
— Ваше Величество, — заявил он, — я буду самым лучшим мужем для леди Грейс. Мы с ней друзья, и у нас общие интересы.
Я взглянула на сэра Чарльза, и мне стало очень неловко. Да, мы с ним вроде как друзья, но сегодня он выглядел особенно старым! И лицо у него было не такое розовое и доброжелательное, как обычно. Видно, он тоже нервничал.
Королева захлопала в ладоши и улыбнулась:
— Таковы ваши слова, но что у вас на сердце? И что скажет юное и неискушенное сердечко леди Грейс? Говорят, в день Святого Валентина сердца могут разговаривать друг с другом…
Она сделала мне знак рукой, приглашая приблизиться. Я подошла, сделала реверанс и встала на одно колено.
Королева взяла меня за руку и подняла.
— Каждый из вас приготовил леди Грейс свой подарок. И когда она выберет себе подарок по сердцу, мы узнаем, кто владеет сердцем леди Грейс!
Мое сердце билось бум! прыг! и хотелось грохнуться в обморок, чего, стоя рядом с королевой, позволить себе было ну никак нельзя!
— Подойди сюда, дорогая, и взгляни на свои подарки, — приказала мне Ее Величество.
Я подошла, мельком взглянула на подушки и подняла с них белые шелковые платки.
Под первым платком была маленькая, оправленная в серебро фляжка из слоновой кости с крышечкой, которая, снимаясь, превращалась в бокал. Именно такую фляжку с бренди королева берет с собой на охоту, пряча ее в рукаве.
На второй подушечке лежал маленький нож в чехле, украшенном жемчугом и гранатами, с миленьким жемчужным купидоном на рукояти. У меня, конечно, есть столовый нож в кожаных ножнах, но рукоятка у него обычная, костяная, и носить его в каких-нибудь особых случаях не станешь. Нож мне понравился — я взяла его, чтобы посмотреть, настоящий ли. Стальное лезвие было очень острым, и я очень осторожно положила нож назад.
На третьей подушке было жемчужное ожерелье с золотыми цепочками — довольно простое, но очень длинное. Если надеть его на шею, оно будет спускаться до талии. Его даже можно вплести в волосы. Я потрогала бусины. Мне очень нравится жемчуг, его любила моя мама. У меня всегда на руке ее жемчужное колечко. Что там говорил Мазу? Я быстро посмотрела туда, где он, среди других музыкантов, играл на лютне. Почему на мне нет ожерелья? Хороший вопрос!
Я отошла и склонилась в поклоне перед королевой.
— Наше Величество, позволено ли мне будет сказать, что я думаю об этих подарках? — спросила я, одновременно пытаясь придумать что-нибудь умное. — Эта фляжка, Ваше Величество, прекрасно подходит для поднятия духа на охоте. Возможно сэр Чарльз, который изо всех сил старается привить мне любовь к верховой езде, надеется, что скоро она мне понадобится. Этот дар — символ великого умения любить, большого сердца, благородной и щедрой души.
Сэр Чарльз поклонился.
— Но боюсь, что я еще не скоро научусь настолько хорошо держаться в седле, чтобы сопровождать Ее Величество на охоте, — заключила я.
Я повернулась к жемчужному ожерелью с золотыми цепочками.
— Вот нитка жемчуга. Тот, кто преподнес его мне, знает, что жемчуг я люблю больше всего. И само ожерелье достаточно длинно, чтобы не слишком меня сковывать. Я вижу, что даритель внимателен к моим чувствам, но все-таки хочет связать меня, не так ли, лорд Роберт?
Лорд Роберт, как обычно, покраснел и поклонился, а сэр Джеральд довольно ухмыльнулся.
— Теперь этот великолепный нож, который свидетельствует об остром и блестящем уме. Он меня искушает и привлекает, но разве можно дарить острые предметы? Нож скорее разрубит узел, а не завяжет его, сэр Джеральд!
Сэр Джеральд нахмурился. Скривив рот в недоброй ухмылке, он выпил бокал вина и протянул его пажу, чтобы тот его наполнил.
Я повернулась к королеве и снова опустилась на колено.
— Ваше Величество, я очень благодарна вам за заботу, но я еще не готова к замужеству…
Королева покачала головой и грустно улыбнулась.
— Я обещала твоим родителям, Грейс, — сказала она. — Тебе необходим муж, чтобы присматривать за твоими землями.
— В таком случае… — я встала, вздохнула, провела пальцами по ножу и фляжке, затем взяла жемчужное ожерелье и осторожно надела его себе на шею. — Я выбираю подарок лорда Роберта.
Лорд Роберт застыл, словно громом пораженный. Совсем как теленок, у которого вдруг заболел живот, как сказал потом Мазу. Я с трудом сдержалась, чтобы не рассмеяться.
Наконец лорд Роберт подошел ко мне, чтобы поцеловать руку. Такого красного лица у него еще никогда не было!
— Э-э… Леди Грейс… Я… э-э…
Музыканты заиграли новый танец, а сэр Джеральд выпучил глаза и выпил еще один бокал вина. Лорд Уорси торопливо подошел и что-то зашептал племяннику на ухо, но в ответ тот только рыкнул.
Под пристальными взглядами всех присутствующих мы с лордом Робертом стали танцевать вольту, поскольку музыканты заиграли именно ее. Кстати, лорд Роберт оказался достаточно сильным. Он легко подбросил меня, но, когда я приземлилась, ничего, кроме «Э-э» сказать так и не смог.
Мне стало его жалко. Зато теперь, когда я выйду за него замуж, я сама смогу говорить сколько захочу!
Другие придворные тоже встали в пары и начали танцевать. Я заметила сэра Чарльза сидевшего возле шандала со свечами и хмуро наблюдавшего за нами.
Потом мимо протанцевал сэр Джеральд с довольно упитанной фрейлиной. Он толкнул лорда Роберта, наступил ему на ногу и удалился, как ни в чем не бывало.
Никто не заметил, как лорд Роберт стиснул рукоять своей шпаги.
— Н-ненавижу его, — произнес он, заикаясь.
Я коснулась его руки своей.
— Вы победитель, а он побежденный. Будьте же добры и великодушны!
— О, леди Грейс, — ответил лорд Роберт. — Вы… т-такая… замечательная!
Пожалуй, это была его самая длинная из обращенных ко мне речей, и довольно лестная. Я улыбнулась и поцеловала его в щеку.
От танцев мне стало жарко, и когда музыка умолкла, я, обмахиваясь веером, попросила лорда Роберта принести мне что-нибудь попить.
Подойдя к столу, где пажи и слуги разливали вино, он терпеливо дождался, пока лорд Уорси нальет себе медовой настойки. И прежде чем взять бокал для себя и маленький кубок венецианского стекла с душистой водой для меня, лорд Роберт обернулся и оглядел зал.
Сэр Чарльз и сэр Джеральд забирали отвергнутые мной подарки. Жаль, что я обидела сэра Чарльза, он ведь и вправду славный старикан!
А сэр Джеральд был в бешенстве: его прямо трясло, когда, схватив нож, он заткнул его себе за пояс. Глаза у него сверкали, а на щеках алели пятна.
— Только глупая маленькая девчонка могла предпочесть этого мальчишку взрослому мужчине, — прорычал он. — Неужели она думает, что лорд Роберт будет о ней заботиться? Это ей придется подтирать ему задницу!
Потом сэр Джеральд одним махом опрокинул в глотку новый бокал вина, не замечая розовых брызг на сорочке, и протянул его пажу.
Но королева дала четкое указание пажам и слугам не наливать тому, кто уже пьян. Ее Величеству не нужны пьяные скандалы при Дворе, как, например, при дворе короля Шотландии.
— Какого черта, здесь, что, кончилась выпивка? — рявкнул сэр Джеральд.
Я взяла душистую воду из рук лорда Роберта. Он тоже был весь красный, видно, злился на сэра Джеральда, назвавшего его мальчишкой. А я была очень рада, что не выбрала нож: кому захочется замуж за забияку и пьяницу?
Толпа расступилась, и рядом с нами оказалась королева. Тот, кто хорошо ее знал, мог сказать, что Ее Величество в бешенстве.
— Если вам нужно вина, чтобы утопить в нем свою печаль, сэр Джеральд, я уверена: тот, кому принадлежит сердце леди Грейс, будет щедр и предложит вам свой бокал! — сказала она с презрением.
Лорд Роберт еще больше залился краской и стиснул свой бокал.
Лорд Уорси выскочил вперед и взял сэра Джеральда за руку:
— Не надо, не надо, — сказал он примиряюще. — Пойдемте, племянник, я думаю, сегодня вы выпили достаточно!
— Если сэру Джеральду так хочется вина, пусть пьет! — заявила королева тоном, который не предвещал ничего хорошего. — Или вы не примете его от победителя?
Королева скользнула по паркету и протянула руку к бокалу лорда Роберта.
Я наступила ему на ногу. Сэр Роберт быстро поклонился и вручил свои бокал королеве.
— Но уж от меня — обязательно! — закончила Ее Величество, передавая бокал лорду Джеральду, который его взял и поклонился.
 Когда королева отошла, я подумала о том, какая она умная женщина! Собственноручно вручив бокал лорда Роберта сэру Джеральду, она предотвратила ссору, а может, и дуэль!
— Разве могу я отвергнуть дар из столь милостивых и справедливых рук? — торжественно произнес лорд Джеральд, осушая бокал лорда Роберта одним глотком.
Он попытался еще раз поклониться, но потерял равновесие и упал носом в пол.
Я засмеялась, королева тоже, да и все присутствующие, особенно лорд Роберт. Только лорд Уорси не засмеялся. Он бросился к сэру Джеральду, поднял его на ноги и что-то шепнул племяннику на ухо.
Сэр Джеральд снова поклонился, на этот раз более уверенно.
— Ваше Величество, с вашего позволения, я отправился бы в постель, — пробормотал он.
— Думаю, это верное решение, сэр Джеральд. — многозначительно заметила королева. — Бокал вина не излечит разбитого сердца, но сон — хороший лекарь! Утро вечера мудренее.
По моему мнению, королева была слишком добра к сэру Джеральду. Обычно она гораздо суровее к тем, кто едва держится на ногах. И честно говоря, я была очень удивлена, что сэр Джеральд так набрался оттого, что я ему отказала!
— Благодарю вас, Ваше Величество, — сказал сэр Джеральд.
Лорд Уорси направился было к двери вместе с ним, но королева его окликнула.
— Останьтесь, старый мой друг, — попросила она. — Графа Лестера сегодня нет, а мне нужен партнер. Идемте танцевать!
Отказаться лорд Уорси не мог. Но, судя по выражению его лица, и не был особенно счастлив, когда, поклонившись, поцеловал руку королевы и повел ее танцевать французскую фарандолу.
Мне стало так жарко в розовом бархате, что я поняла: надо охладиться, или я растаю! Я сунула ноги в бальных туфлях в специальные пробковые подошвы-подставки и вышла из банкетного павильона в личный сад королевы. Там было холодно и сыро. Почти под каждым кустом шептались парочки, а под одним даже лежал и пел, любуясь звездами, молодой человек. Я быстро прошла вдоль лабиринта к кухням и чулану.
Элли была там вместе с Пипом, слугой сэра Джеральда.
Пип говорил, возбужденно размахивая руками:
— Я только хотел его вычистить! Вычистить, отряхнуть от розовой пудры, а потом проветрить, чтобы хозяин еще раз мог появиться в нем при Дворе. Но он был в такой ярости, ну просто не в себе…
Элли нахмурилась и полезла в чулан за ведром.
— Так где, говоришь, его вырвало?
— На угол ковра, — ответил Пип. — Да что ты, я сам уберу!
— Да уж нс беспокойся, я что ни бал, за ними убираю! — презрительно заметила Элли.
Тут она заметила меня и просияла, закатив глаза. Элли была в переднике, с закатанными рукавами.
— … так что оборки на штанах теперь будут мятые, а воротник весь перегнется. А завтра он проснется, увидит, что я его не раздел — и все шишки на меня, ты ж понимаешь! Нечего удивляться, если он меня вышвырнет…
Бедный Пип стиснул руки.
Я еще сильнее порадовалась, что не выбрала нож — по тому, как человек обращается со слугами, многое можно понять! Вон как Пип боится сэра Джеральда — это дурной признак!
— Он в покоях лорда Уорси? — спросила Элли. — Так я постучусь, войду, да начну там мыть, а если он не проснется, так, верно, и ты его не разбудишь! Войдешь потихоньку да снимешь с него что надо!
Пип просиял от чувства признательности.
— Сходишь? Нет, правда, сходишь? Только будь осторожна, он прямо бешеный становится, когда пьян!
— Да ну уж! — фыркнула Элли. — Коли я не увернусь от пинка пьянчуги, так поделом мне и синяк на заднице! Ты не волнуйся. Пип, я пойду и посмотрю.
Она подмигнула мне и убежала с ведром щелока и тряпкой в сторону персональных апартаментов придворных.
Я развернулась и пошла назад к банкетному павильону, где пламя горящих свечей, проникая сквозь холст, отбрасывало на траву силуэты Венеры и Адониса.
Я стояла и смотрела на них, пока не озябла.
Кто-то подошел и взял меня за руку.
— Кто это? — спросила я.
— Роберт, — последовал ответ.
Я улыбнулась, успокоившись и позволив держать себя за руку. В темноте я различала только его тень.
— М-можно м-мне п-поцеловать вас в г-губы, леди Г-грейс?
Еще одна длинная фраза! Наверное, когда никто не видит, лорду Роберту легче говорить.
— Только в следующем месяце, после обручения, — ответила я чопорно. Но разрешила лорду Роберту поцеловать мне руку. Это так романтично!
— Уже м-много в-времени прошло. П-пойдемте, п-потанцуем?
— Ну конечно, милорд! — сказала я вполне благосклонно.
Я позволила ему проводить меня в зал, где мы присоединились к танцующим фарандолу — со стороны лорда Роберта это было весьма смелым поступком, если учесть, сколько раз я наступила ему на ногу во время вольты!
Мы станцевали еще несколько танцев. Потом вошел сэр Чарльз — вид у него был по-прежнему угрюмый.
Он пожал лорду Роберту руку, что было очень мило с его стороны, и все время пристально на меня смотрел. Мне это не понравилось. Потом я заметила Пипа, который разговаривал с лордом Уорси. Тот держал веер королевы, а Ее Величество пристально наблюдала за сэром Кристофером Хэттоном, одним из своих фаворитов, который демонстрировал ей новые па вольты.
Лорд Уорси разговаривал с Пипом довольно резко. Похоже, он беспокоился о здоровье сэра Джеральда, а Пип объяснял, что тому очень плохо. Пару раз лорд Уорси взглянул на нас с лордом Робертом.
Наконец Ее Величество решила, что натанцевалась, и, естественно, все ее фрейлины и придворные дамы тоже. Мы выстроились в ряд, правда, не такой аккуратный, как по прибытии, и чинно удалились под музыку. А кавалеры стали разбиваться на группы, обсуждая, не нанять ли им лодку, чтобы поехать в Парижский Сад еще поразвлечься.
Когда я пришла помочь королеве раздеться, она отослала меня.
— Нет, дорогая, возьми Фрэн и иди спать. Ты, должно быть, очень устала!
И тут я вдруг почувствовала, что ноги у меня горят, а желудок накрепко стиснут корсетом. Я встала на колени и поцеловала королеве руку.
— Ну что, понравился тебе бал в честь дня Святого Валентина? — улыбнулась она.
— О да, Ваше Величество! Я отлично провела время, — ответила я. И это была правда. Во всяком случае, задачку с подарками я решила!
Когда я уходила, Ее Величество добавила:
— Грейс, у себя на подушке ты кое-что найдешь…
Я присела в реверансе, сгорая от желания узнать, что именно, и поспешила к себе.
Фрэн быстро расцепила все крючки, расшнуровала рукава, сияла с меня верхнюю бархатную юбку, лиф и вставку. Потом настала очередь второй юбки, фарзингейла, нижней юбки и металлического каркаса. За ними последовала еще одна юбка, и, наконец, Фрэн расшнуровала мне корсет.
Я сказала: «Уф-ф!»
Приятно сознавать, надев корсет, какая тонкая у тебя стала талии, но еще приятнее — снять его и расслабиться! Тогда все внутренние органы немедленно начинают работать, и хочется поскорее остаться одной.
Фрэн это знала. Улыбнувшись, она поцеловала меня в щеку.
— Вы были так прекрасны нынче вечером, леди Грейс! Вы всех превзошли!
Сейчас-то я знаю, что это неправда — ни одной девушке с волосами мышиного цвета не превзойти леди Сару Бартелми-Рыжие Кудряшки, но слышать эти слова было приятно, и я поцеловала Фрэн.
Она ушла, прихватив с собой мои юбку, лиф и французский корсет, чтобы почистить их и проветрить.
Я сняла ожерелье лорда Роберта, положив его возле кровати, потом переоделась в ночную сорочку и воспользовалась стульчаком с крышкой.
Фрэн налила мне в чашку немного свежей розовой воды, так что я умылась и почистила зубы новой зубной тряпочкой с миндальной пастой и солью, а потом сполоснула рот укропной водой.
Ну вот. В камине горит огонь. Мне не холодно. Надев ночную рубашку, я сижу в своем любимом углу и пишу.
Наверное, с небес мама может заглянуть в мои дневник и прочесть все, что я написала. Так что я пишу как будто для нее. Я знаю, ей бы очень поправилось, как я танцевала на балу. Интересно, что бы она сказала о моем выборе? Наверное, одобрила бы. Сэр Джеральд ей вряд ли понравился бы, и еще она бы согласилась, что сэр Чарльз для меня слишком стар.
Что-то глаза слипаются. Пора спать.
Когда королева отошла, я подумала о том, какая она умная женщина! Собственноручно вручив бокал лорда Роберта сэру Джеральду, она предотвратила ссору, а может, и дуэль!
— Разве могу я отвергнуть дар из столь милостивых и справедливых рук? — торжественно произнес лорд Джеральд, осушая бокал лорда Роберта одним глотком.
Он попытался еще раз поклониться, но потерял равновесие и упал носом в пол.
Я засмеялась, королева тоже, да и все присутствующие, особенно лорд Роберт. Только лорд Уорси не засмеялся. Он бросился к сэру Джеральду, поднял его на ноги и что-то шепнул племяннику на ухо.
Сэр Джеральд снова поклонился, на этот раз более уверенно.
— Ваше Величество, с вашего позволения, я отправился бы в постель, — пробормотал он.
— Думаю, это верное решение, сэр Джеральд. — многозначительно заметила королева. — Бокал вина не излечит разбитого сердца, но сон — хороший лекарь! Утро вечера мудренее.
По моему мнению, королева была слишком добра к сэру Джеральду. Обычно она гораздо суровее к тем, кто едва держится на ногах. И честно говоря, я была очень удивлена, что сэр Джеральд так набрался оттого, что я ему отказала!
— Благодарю вас, Ваше Величество, — сказал сэр Джеральд.
Лорд Уорси направился было к двери вместе с ним, но королева его окликнула.
— Останьтесь, старый мой друг, — попросила она. — Графа Лестера сегодня нет, а мне нужен партнер. Идемте танцевать!
Отказаться лорд Уорси не мог. Но, судя по выражению его лица, и не был особенно счастлив, когда, поклонившись, поцеловал руку королевы и повел ее танцевать французскую фарандолу.
Мне стало так жарко в розовом бархате, что я поняла: надо охладиться, или я растаю! Я сунула ноги в бальных туфлях в специальные пробковые подошвы-подставки и вышла из банкетного павильона в личный сад королевы. Там было холодно и сыро. Почти под каждым кустом шептались парочки, а под одним даже лежал и пел, любуясь звездами, молодой человек. Я быстро прошла вдоль лабиринта к кухням и чулану.
Элли была там вместе с Пипом, слугой сэра Джеральда.
Пип говорил, возбужденно размахивая руками:
— Я только хотел его вычистить! Вычистить, отряхнуть от розовой пудры, а потом проветрить, чтобы хозяин еще раз мог появиться в нем при Дворе. Но он был в такой ярости, ну просто не в себе…
Элли нахмурилась и полезла в чулан за ведром.
— Так где, говоришь, его вырвало?
— На угол ковра, — ответил Пип. — Да что ты, я сам уберу!
— Да уж нс беспокойся, я что ни бал, за ними убираю! — презрительно заметила Элли.
Тут она заметила меня и просияла, закатив глаза. Элли была в переднике, с закатанными рукавами.
— … так что оборки на штанах теперь будут мятые, а воротник весь перегнется. А завтра он проснется, увидит, что я его не раздел — и все шишки на меня, ты ж понимаешь! Нечего удивляться, если он меня вышвырнет…
Бедный Пип стиснул руки.
Я еще сильнее порадовалась, что не выбрала нож — по тому, как человек обращается со слугами, многое можно понять! Вон как Пип боится сэра Джеральда — это дурной признак!
— Он в покоях лорда Уорси? — спросила Элли. — Так я постучусь, войду, да начну там мыть, а если он не проснется, так, верно, и ты его не разбудишь! Войдешь потихоньку да снимешь с него что надо!
Пип просиял от чувства признательности.
— Сходишь? Нет, правда, сходишь? Только будь осторожна, он прямо бешеный становится, когда пьян!
— Да ну уж! — фыркнула Элли. — Коли я не увернусь от пинка пьянчуги, так поделом мне и синяк на заднице! Ты не волнуйся. Пип, я пойду и посмотрю.
Она подмигнула мне и убежала с ведром щелока и тряпкой в сторону персональных апартаментов придворных.
Я развернулась и пошла назад к банкетному павильону, где пламя горящих свечей, проникая сквозь холст, отбрасывало на траву силуэты Венеры и Адониса.
Я стояла и смотрела на них, пока не озябла.
Кто-то подошел и взял меня за руку.
— Кто это? — спросила я.
— Роберт, — последовал ответ.
Я улыбнулась, успокоившись и позволив держать себя за руку. В темноте я различала только его тень.
— М-можно м-мне п-поцеловать вас в г-губы, леди Г-грейс?
Еще одна длинная фраза! Наверное, когда никто не видит, лорду Роберту легче говорить.
— Только в следующем месяце, после обручения, — ответила я чопорно. Но разрешила лорду Роберту поцеловать мне руку. Это так романтично!
— Уже м-много в-времени прошло. П-пойдемте, п-потанцуем?
— Ну конечно, милорд! — сказала я вполне благосклонно.
Я позволила ему проводить меня в зал, где мы присоединились к танцующим фарандолу — со стороны лорда Роберта это было весьма смелым поступком, если учесть, сколько раз я наступила ему на ногу во время вольты!
Мы станцевали еще несколько танцев. Потом вошел сэр Чарльз — вид у него был по-прежнему угрюмый.
Он пожал лорду Роберту руку, что было очень мило с его стороны, и все время пристально на меня смотрел. Мне это не понравилось. Потом я заметила Пипа, который разговаривал с лордом Уорси. Тот держал веер королевы, а Ее Величество пристально наблюдала за сэром Кристофером Хэттоном, одним из своих фаворитов, который демонстрировал ей новые па вольты.
Лорд Уорси разговаривал с Пипом довольно резко. Похоже, он беспокоился о здоровье сэра Джеральда, а Пип объяснял, что тому очень плохо. Пару раз лорд Уорси взглянул на нас с лордом Робертом.
Наконец Ее Величество решила, что натанцевалась, и, естественно, все ее фрейлины и придворные дамы тоже. Мы выстроились в ряд, правда, не такой аккуратный, как по прибытии, и чинно удалились под музыку. А кавалеры стали разбиваться на группы, обсуждая, не нанять ли им лодку, чтобы поехать в Парижский Сад еще поразвлечься.
Когда я пришла помочь королеве раздеться, она отослала меня.
— Нет, дорогая, возьми Фрэн и иди спать. Ты, должно быть, очень устала!
И тут я вдруг почувствовала, что ноги у меня горят, а желудок накрепко стиснут корсетом. Я встала на колени и поцеловала королеве руку.
— Ну что, понравился тебе бал в честь дня Святого Валентина? — улыбнулась она.
— О да, Ваше Величество! Я отлично провела время, — ответила я. И это была правда. Во всяком случае, задачку с подарками я решила!
Когда я уходила, Ее Величество добавила:
— Грейс, у себя на подушке ты кое-что найдешь…
Я присела в реверансе, сгорая от желания узнать, что именно, и поспешила к себе.
Фрэн быстро расцепила все крючки, расшнуровала рукава, сияла с меня верхнюю бархатную юбку, лиф и вставку. Потом настала очередь второй юбки, фарзингейла, нижней юбки и металлического каркаса. За ними последовала еще одна юбка, и, наконец, Фрэн расшнуровала мне корсет.
Я сказала: «Уф-ф!»
Приятно сознавать, надев корсет, какая тонкая у тебя стала талии, но еще приятнее — снять его и расслабиться! Тогда все внутренние органы немедленно начинают работать, и хочется поскорее остаться одной.
Фрэн это знала. Улыбнувшись, она поцеловала меня в щеку.
— Вы были так прекрасны нынче вечером, леди Грейс! Вы всех превзошли!
Сейчас-то я знаю, что это неправда — ни одной девушке с волосами мышиного цвета не превзойти леди Сару Бартелми-Рыжие Кудряшки, но слышать эти слова было приятно, и я поцеловала Фрэн.
Она ушла, прихватив с собой мои юбку, лиф и французский корсет, чтобы почистить их и проветрить.
Я сняла ожерелье лорда Роберта, положив его возле кровати, потом переоделась в ночную сорочку и воспользовалась стульчаком с крышкой.
Фрэн налила мне в чашку немного свежей розовой воды, так что я умылась и почистила зубы новой зубной тряпочкой с миндальной пастой и солью, а потом сполоснула рот укропной водой.
Ну вот. В камине горит огонь. Мне не холодно. Надев ночную рубашку, я сижу в своем любимом углу и пишу.
Наверное, с небес мама может заглянуть в мои дневник и прочесть все, что я написала. Так что я пишу как будто для нее. Я знаю, ей бы очень поправилось, как я танцевала на балу. Интересно, что бы она сказала о моем выборе? Наверное, одобрила бы. Сэр Джеральд ей вряд ли понравился бы, и еще она бы согласилась, что сэр Чарльз для меня слишком стар.
Что-то глаза слипаются. Пора спать.
Февраль,
Пятнадцатый день,
год от Рождества Христова
1569


Очень рано утром
Я хотела заснуть, но не удалось. Никак не могу успокоиться и должна все записать.
Сняв с кровати покрывало, я заметила на подушке маленький сверток. Сначала я очень удивилась, кто мог его мне оставить, но потом вспомнила последние слова королевы. Я схватила сверток, поднесла его к свече — и тут же выронила, увидев знакомый почерк. Это писала моя мама год назад. 14 февраля 1568 года, в ночь своей смерти.
Иногда я думаю: как было бы хорошо, если бы в ту ночь я была не собой, спокойно спавшей в маминой спальне, а ангелом! Тогда, милостью Божьей, я сумела бы ее спасти.
Попробую все изложить по порядку; как рассказчик на ярмарке. Может, тогда мне станет легче. Я слышала, что если пересказать то, что тебя мучает, боль стихает, а память перестает сопротивляться и гнать сон.
Моя мама, леди Маргарет Кавендиш, была фрейлиной Ее Величества, смотрительницей королевской спальни, одной из ближайших подруг королевы. 13 февраля 1568 года она ужинала с Ее Величеством (а перед этим зашла в мою спальню и поцеловала меня на ночь, пожелав спокойной ночи).
Неожиданно вошел человек от мистера Сесила, секретаря королевы и сообщил, что прибыло срочное донесение из Шотландии. Тогда королева (она сама мне об этом рассказывала), сказала, что вернется минут через десять, предложила моей маме выпить немного вина, чтобы прошла ее головная боль, и удалилась узнать новости.
А мама налила себе вина и выпила…
Именно в этот момент я и представляю себя ангелом. Я бы влетела в комнату, когда мама взяла бокал в руки, и закричала:
— Не пейте это вино, миледи!
А поскольку мой вид произвел бы на маму сильное впечатление — ореол, крылья и всякое такое, она уронила бы бокал на пол. А потом какая-нибудь королевская канарейка, из тех, что вечно дергают тебя за волосы, подлетела, отпила из лужицы и упала бы рядом, так что все бы немедленно поняли, что вино отравленное.
А потом вернулась бы королева, позвала стражников, и приказала проверить вино. И тогда бы доктор обнаружил в нем смертельный яд под названием горетрав, и королева приказала бы закрыть все входы и выходы и обыскать дворец, и они поймали бы этого гада-француза, подосланного Гизами, чтобы отравить королеву…
Но все случилась иначе. Моя мама выпила вино королевы, и ей стало плохо.
Я смутно помню, как миссис Чемперноун разбудила меня и замотала в свой пушистый халат. Я никак не могла проснуться и идти своими ногами, поэтому она посадила меня на закорки — даже не могу в это поверить, она всегда такая сердитая и колючая! — но все было именно так! — и отнесла в спальню королевы.
Ее Величество убирала со стола перо и чернила, а на ее щеках были слезы. В маленькой подставке курился ладан, но в воздухе все равно чувствовался отвратительный горький запах.
Миссис Чемперноун плакала, я тоже начала плакать, хотя спросонок не понимала, почему. Потом на кровати я увидела маму в расшнурованном корсете. Видимо, ей пускали кровь — одна рука у нее была перевязана. Тут уж я проснулась как следует.
Глаза у мамы были закрыты, лицо восковое, а в углах рта — желтая пена.
— Чума? — прошептала я.
— Нет, Грейс, — печально ответила королева. — Если бы так, от этой болезни можно было бы выздороветь! Думаю, она отравилась ядом, который предназначался мне. Доктор вышел изучить рвоту.
Тут открылась дверь и, завернутый в отороченный мехом халат, торопливо вошел мой дядя, доктор Кавендиш. Он приблизился к кровати с другой стороны, пощупал маме пульс, потрогал лоб, приподнял веки.
Я взяла ее за руку — рука была холодной. Мама умирала, оставляя меня одну. Вот тогда я почувствовала, как это бывает, когда разрывается сердце. Казалось, в груди что-то надломилось, и стало невыносимо больно.
Дядя Кавендиш покачал головой.
— Ваше Величество. — с трудом выговорил он, — это яд. По желтому пятну на ковре ясно, что это горетрав.
Лицо у него было пепельно-серым — дядя очень любил мою маму.
— У меня в кабинете есть безоар и рог единорога… — начала королева.
— Увы, боюсь, против горетрава эти средства бессильны. Уже недолго осталось…
— Я позову священника, — вздохнула королева.
Они говорили тихо, но я все слышала. Я заплакала и взяла маму за руку, пытаясь удержать ее на этом свете.
— Не уходи, — шептала я. — Пожалуйста, останься. Останься, мама…
Но она слишком крепко спала, чтобы меня услышать.
Дядя Кавендиш встал позади меня.
— Ей не больно, — сказал он. — Она уже ничего не слышит и не чувствует.
 Конечно, он доктор, ему лучше знать, но я помню: когда я взяла мамину руку, чтобы поцеловать, я почувствовала, как она сжала мои пальцы на прощание. Я поцеловала ее в лоб.
Королева встала рядом со мной на колени, обняла, а я все плакала, так что даже лиф ее платья намок. Потом она начала меня тихонько укачивать, и я поняла, что Ее Величество тоже плачет.
Мама умерла вскоре после полуночи, в день Святого Валентина, 14 февраля 1568 года, и это был худший день в моей жизни. Я была совсем маленькой, когда на королевской службе во Франции умер мой папа, так что я его почти не помню. Но мама… Я не поэт и не знаю слов, чтобы описать это чувство. Просто мир раскололся.
Весь прошедший год все были ко мне очень добры, особенно королева. Она утешала меня, когда становилось особенно тяжело, и пообещала, что никогда не отошлет на воспитание в чужую семью.
Лорд Уорси вызвался быть моим опекуном и заботиться о моем наследстве, пока я не выйду замуж, и этим не займется мой муж.
Дяде Кавендишу было не до меня, он плохо себя чувствовал, по крайней мере, мне так говорили. Я-то думаю, что все это время он беспробудно пил. Дядя всегда очень любил маму, и его подкосило то, что он не смог ей помочь.
Да, они нашли отравителя. Преступника наняли эти гнусные католики Гизы, которые вечно что-то замышляют против королевы. Он пытался скрыться, но в схватке был убит одним из королевских стражников.
Королева была в ярости, а мне было все равно. Даже если б его казнили, как полагается, мне бы от этого легче не стало!
Мама выпила отравленное вино и этим спасла не только королеву, но и Англию от кошмаров гражданской войны. Поэтому ее похоронили в часовне Уайтхолла.
А теперь надо собраться с силами и открыть сверток.
Конечно, он доктор, ему лучше знать, но я помню: когда я взяла мамину руку, чтобы поцеловать, я почувствовала, как она сжала мои пальцы на прощание. Я поцеловала ее в лоб.
Королева встала рядом со мной на колени, обняла, а я все плакала, так что даже лиф ее платья намок. Потом она начала меня тихонько укачивать, и я поняла, что Ее Величество тоже плачет.
Мама умерла вскоре после полуночи, в день Святого Валентина, 14 февраля 1568 года, и это был худший день в моей жизни. Я была совсем маленькой, когда на королевской службе во Франции умер мой папа, так что я его почти не помню. Но мама… Я не поэт и не знаю слов, чтобы описать это чувство. Просто мир раскололся.
Весь прошедший год все были ко мне очень добры, особенно королева. Она утешала меня, когда становилось особенно тяжело, и пообещала, что никогда не отошлет на воспитание в чужую семью.
Лорд Уорси вызвался быть моим опекуном и заботиться о моем наследстве, пока я не выйду замуж, и этим не займется мой муж.
Дяде Кавендишу было не до меня, он плохо себя чувствовал, по крайней мере, мне так говорили. Я-то думаю, что все это время он беспробудно пил. Дядя всегда очень любил маму, и его подкосило то, что он не смог ей помочь.
Да, они нашли отравителя. Преступника наняли эти гнусные католики Гизы, которые вечно что-то замышляют против королевы. Он пытался скрыться, но в схватке был убит одним из королевских стражников.
Королева была в ярости, а мне было все равно. Даже если б его казнили, как полагается, мне бы от этого легче не стало!
Мама выпила отравленное вино и этим спасла не только королеву, но и Англию от кошмаров гражданской войны. Поэтому ее похоронили в часовне Уайтхолла.
А теперь надо собраться с силами и открыть сверток.
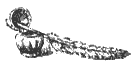
Позже, но так-же рано
Ну вот, теперь в дневнике клякса. Да, я плакала, и все из-за этого свертка. Когда я его развернула, на подушку выпал кожаный кошелечек — там он и лежал, пока я читала мамино письмо.
Половина письма была написана маминой рукой, и в конце его буквы были крупными и неразборчивыми. Дальше они сменились аккуратным и изящным почерком королевы. Вот, значит, почему она убирала перо и чернила, когда миссис Чемперноун привела меня той ночью!
Я всегда буду хранить это письмо, здесь, между страницами своего дневника.
Дорогая моя Грейс!
Я умираю. Сердце мое разрывается при мысли о том, что я не увижу, как ты станешь взрослой, не смогу найти тебе хорошего человека, который позаботится о тебе и твоем состоянии.
Когда тебе исполниться тринадцать Грейс, настанет время замужества. Как ни добра королева, Двор — не место для юной девушки.
Ее Величество обещала приглядеть за тобой и подобрать подходящую пару. Сначала ты обручиться, а когда тебе исполнится шестнадцать, выйдешь замуж.
Королева уверила меня, что сделает для тебя все, что не успела я. Передаю тебе свое жемчужное кольцо — его подарил мне твои отец, и все мои платья, и лошадей. В день помолвки тебе вручат и мои жемчужные серьги.
Ты лучшая из дочерей, моя девочка, и я отдала бы все на свете, лишь бы не покидать тебя так рано. Но такова воля Господа, и я не могу Его ослушаться. Я молю Бога о том, чтобы ты всегда была счастлива, добродетельна и любима так, как любима мною.
Прощай, доченька, радость моя, настанет день, когда мы снова встретимся с тобой.
А до тех пор да пребудет с тобой моя любовь.
Твоя мама Маргарет, леди Кавендиш.
Я открыла кошелечек, в нем были серьги — очень красивые жемчужные сережки с гранатами и бриллиантами, как у королевы, только поменьше.
Взяв свечку, я подошла к леди-Сариному зеркалу и надела их. Взглянула на свое отражение, на игру гранатов и бриллиантов, вспомнила, как мама носила эти сережки, как смеялась…
Опять на дневнике клякса. Все, спать.

Тот же день, колокола бьют пять
Снаружи еще темно, но я почему-то проснулась. Я в своей постели, в маминых сережках — так уютнее, а ее письмо лежит под подушкой. Может, это только бумага, но мне кажется, что мама рядом со мной, как раньше, когда мы с ней жили в одних покоях рядом с королевскими. Надеюсь, я не испачкала чернилами простыни.
Мои соседки еще спят. Леди Сара храпит как поросенок, а вот Мэри Шелтон стада храпеть как козел. Но проснулась я не от этого. В персональных апартаментах придворных слышится какая-то беготня, приглушенные голоса, сдавленный шепот. Видно все боятся разбудить королеву. По утрам она всегда мрачнее тучи, особенно если накануне поздно легла.
Там явно что-то происходит. Я пойду и узнаю, что.

Позже, утро
До сих пор не могу поверить, никогда не слышала ни о чем подобном! При дворе, правда, иногда случаются дуэли, но это! Я едва могу писать — так сильно дрожат руки.
Я рассказала обо всем своим соседкам, леди Саре и Мэри Шелтон, и они побежали посмотреть. А мне надо посидеть и подумать.
Всего полчаса назад я, надев ночную рубашку поверх сорочки и сунув ноги в ночные туфли, прошмыгнула в коридор, а кажется, будто прошло уже несколько часов.
Шум доносился из персональных апартаментов лорда Уорси, занимавшего их в знак особого расположения Ее Величества. Туда я и направилась.
Свечу я не взяла, поэтому спускалась по каменным ступеням наощупь. У дверей апартаментов уже собралась толпа — в ночных рубашках, в наспех наброшенной одежде, кто в чем.
Там же был бедный Пип, белый как простыня, который ломал руки и сбивчиво объяснял:
— Я специально зашел к хозяину пораньше, принес ему хлеба и пива… Боже мой, я сроду такого не видел!
Я растолкала стоящих впереди локтями (иногда полезно быть высокой и костлявой) и увидела, что случилось.
Я не закричала. Ну, то есть закричала, но тут же прижала руки ко рту, так что крик получился почти неслышным. Зато в обморок не упала (леди Сара наверняка упала бы!), только ноги у меня стали ватными, а желудок сжался в комок.
Полог кровати сэра Джеральда был откинут, а сам он, в одном дублете, лежал ничком на постели. Из его спины торчал нож!
 Тот самый нож, который он собирался мне подарить. Я не могла отвести глаз от этого ужасного зрелища, хотя ничего отвратительного в нем не было, во всяком случае, нигде не было ни капли крови. Сердце у меня билось, как французский барабан: бам-да-да-бам!
Не знаю, сколько я так простояла, прежде чем заметила в комнате сэра Чарльза и прислонившегося к стене полуодетого лорда Роберта. Он был бледен до зелени.
Сквозь толпу протиснулся лорд Уорси с четырьмя слугами — и застыл, уставившись на кровать. Лицо его, обычно серое и невыразительное, стало белым, как перья того противного лебедя, которого мы ели на балу.
Пип рухнул на колени.
— Сэр, я п-принес сэру Дже-же-ральду за-завтрак и увидел… — он сбился и безнадежно махнул рукой.
Лорд Уорси, кажется, не слышал, уставившись на нож, торчавший из спины племянника. Потом он огляделся, собираясь с мыслями, точно эти мысли кто-то раскидал по всей комнате, и теперь надо было собрать их по одной. Целую вечность спустя он заговорил:
— Удвойте стражу у спальни Ее Величества. Когда королева проснется, сообщите ей о случившемся. За доктором Кавендишем послали?
— Он уже идет, милорд, — сказал один из офицеров личной стражи королевы. — Поскольку преступление совершено во дворце, надо срочно созвать Гофмаршальский Совет.
Лорд Уорси поморщился и схватился за стойку кровати.
Мне стало его жаль, и я коснулась его руки.
Лорд Уорси поднял голову, но, кажется, меня не увидел. Волосы у него торчали в разные стороны, а вид был утомленный и весьма неряшливый. Он даже не переоделся: вышитый перед рубашки был залит вином, а манжеты запачканы чем-то зеленым.
Лорд Уорси часто-часто поморгал, потом покачал годовой и повернулся к собравшимся.
— Кто-нибудь заметил что-нибудь подозрительное после того, как мой племянник ушел с бала?
Пип начал рассказывать, как снял с хозяина камзол, а штаны и чулки оставил, потому что хотел, чтобы тот проспался как следует, как утром он пришел с пивом и хлебом…
О том, что Элли убирала за сэром Джеральдом, Пип не упомянул. Я открыла рот, чтобы добавить такую важную подробность, но вовремя поняла: лучше не впутывать Элли в эту жуткую историю! Уж наверняка не она воткнула нож в сэра Джеральда, а вот тот, кто это действительно сделал, будет только рад свалить вину на беззащитную прачку!
Слегка покачиваясь, вошел мой дядя, доктор Кавендиш, в парчовом, отделанном куницей камзоле. Лицо у него было опухшее, глаза налиты кровью. Казалось, он мечтал только о том, чтобы голова у него и вовсе отвалилась. Щурясь на пламя свечи, он начал осматривать сэра Джеральда.
И вдруг сэр Чарльз указал на маленькую серебряную вещицу на подушке сэра Джеральда.
— Что это? — мрачно спросил он.
Доктор Кавендиш поднес вещицу к свече.
— Пуговица. Даже с ниткой. Гм-м… И с гербом.
— Это не хозяина, — заметил Пип, тоже разглядывая пуговиц. — Это герб Рэдклиффов.
— Что? — словно очнулся сэр Уорси, и все повернулись в сторону лорда Роберта.
Тот покраснел и как обычно безуспешно попытался что-то сказать.
— Клянусь Богом, вы, верно, обронили ее, когда пырнули ножом сэра Джеральда! — воскликнул сэр Чарльз. — Доказательство налицо!
— Н-но, — в отчаянии выдавил из себя лорд Роберт.
— Не лгите, сэр, — потребовал сэр Чарльз. — Как иначе здесь оказалась ваша пуговица? Видно, вы приревновали свою даму к сэру Джеральду, приревновали настолько, что убили своего соперника, пока тот спал!
— Я…
Лорд Роберт пошарил рукой по боку, ища рукоять шпаги, но поскольку к ночной рубашке шпаги не полагается, поиски успехом не увенчались.
Тут же к нему шагнул один из стражников лорда Уорси.
— А! — сказал сэр Чарльз, подойдя к лорду Роберту почти вплотную и грозя тому пальцем. — Угрожаете? Может, завтра вы придете и зарежете в моей постели меня?
Это уж совсем никуда не годилось! Надо было срочно вмешаться, в конце концов, лорд Роберт мой жених!
— Господа, — сказала я, — может быть, убийца нарочно подбросил пуговицу лорда Роберта, чтобы подозрение пало именно на него?
Они меня даже не услышали, продолжая кричать. Конечно, ни сэру Чарльзу, ни лорду Уорси не по душе лорд Роберт.
Оба они будут рады обвинить его в убийстве и предъявить королеве качестве преступника, как только Ее Величество узнает о происшествии. И абсолютно ясно, что никого не интересует мнение несовершеннолетней фрейлины в мятой ночной рубашке!
Я с тоской наблюдала, как люди лорда Уорси заломили лорду Роберту руки, а потом ему было официально объявлено, что он подозревается в коварнейшем убийстве спящего сэра Джеральда.
Побледневший лорд Роберт потерянно озирался по сторонам. Хорошо, что у него хватало ума молчать! Возникло секундное замешательство, так как лорд Уорси не знал, куда заточить лорда Роберта.
В Уайтхолле нет тюремных застенков — все комнаты, даже самые маленькие, занимает кто-нибудь из придворных. Ближайшая к нам тюрьма — Тауэр. В конце концов было решено закрыть лорда Роберта в чулане с зарешеченными окнами, в одной из дворцовых башен.
Когда его уводили, лорд Роберт не проронил ни слова. Лорд Уорси и доктор Кавендиш обсуждали детали расследования. Решено было не проводить вскрытия тела сэра Джеральда, так как причина его смерти была совершенно ясна. Вряд ли кто останется жив, если ему воткнут в спину нож, даже с такой изящной рукояткой!
Неожиданно мне пришло в голову, что выбери я сэра Джеральда, этот нож принадлежал бы мне. И что, тогда в убийстве обвинили бы меня? От этой мысли мне стало так дурно, что я развернулась и бросилась в наши покои.
Когда я вошла, Мэри Шелтон, сидевшая на кровати с папильотками в волосах, взглянула на меня с нескрываемым любопытством:
— А чего это ты не спишь, Грейс?
— Случилось нечто ужасное! — сообщила я. — При дворе произошло убийство!
Мэри вскрикнула, а леди Сара проворчала, просыпаясь:
— И из-за этого ты подняла такой шум? Я же сплю!
— Сара, дорогая, — выдохнула Мэри, — ты не понимаешь, о чем говоришь! Произошло убийство! И Грейс уже все разузнала.
Сара тут же подскочила:
— Господь с нами! Убийство? Некоролевы?
— Нет, нет, — успокоила я ее, надевая через голову корсет. — Просто кто-то воткнул нож в спину сэру Джеральду!
— Ужас какой! — Леди Сара была в замешательстве. — Он такой миленький и так славно танцует! Надеюсь, он выздоровеет?
— Вряд ли! Он мертв. И это очень темная история. Они обвиняют лорда Роберта, но мне кажется, что убийца не он…
Но мои соседки уже не слушали. Никогда в жизни Сара и Мэри так быстро не одевались! Выскочив в коридор, Мэри, кажется, даже не заметила, что у нее папильотки в волосах!
Бедный сэр Джеральд! До сих пор не верится, что он мертв. Только что кружил меня в вольте — и вот на тебе!
Что касается милорда Роберта, то и подумать жутко, как он там, в чулане. Если настоящего убийцу не найдут, королева отправит его в Тауэр. Мне его так жаль! Он меньше всех похож на убийцу. Да и зачем ему было убивать сэра Джеральда? Вот если бы сэр Джеральд зарезал лорда Роберта за то, что я выбрала его, я бы еще поняла…
Надо быстро одеться и идти прислуживать королеве. Пожалуй, писать дневник полезно — это проясняет голову, ведь прежде чем что-то записать, надо сначала подумать! Королева говорила мне об этом и была права. Она вообще очень умная! А, вот я и придумала! Я поговорю с ней о лорде Роберте. Во всяком случае, она-то никогда не посоветует мне не забивать себе этим голову!
Тот самый нож, который он собирался мне подарить. Я не могла отвести глаз от этого ужасного зрелища, хотя ничего отвратительного в нем не было, во всяком случае, нигде не было ни капли крови. Сердце у меня билось, как французский барабан: бам-да-да-бам!
Не знаю, сколько я так простояла, прежде чем заметила в комнате сэра Чарльза и прислонившегося к стене полуодетого лорда Роберта. Он был бледен до зелени.
Сквозь толпу протиснулся лорд Уорси с четырьмя слугами — и застыл, уставившись на кровать. Лицо его, обычно серое и невыразительное, стало белым, как перья того противного лебедя, которого мы ели на балу.
Пип рухнул на колени.
— Сэр, я п-принес сэру Дже-же-ральду за-завтрак и увидел… — он сбился и безнадежно махнул рукой.
Лорд Уорси, кажется, не слышал, уставившись на нож, торчавший из спины племянника. Потом он огляделся, собираясь с мыслями, точно эти мысли кто-то раскидал по всей комнате, и теперь надо было собрать их по одной. Целую вечность спустя он заговорил:
— Удвойте стражу у спальни Ее Величества. Когда королева проснется, сообщите ей о случившемся. За доктором Кавендишем послали?
— Он уже идет, милорд, — сказал один из офицеров личной стражи королевы. — Поскольку преступление совершено во дворце, надо срочно созвать Гофмаршальский Совет.
Лорд Уорси поморщился и схватился за стойку кровати.
Мне стало его жаль, и я коснулась его руки.
Лорд Уорси поднял голову, но, кажется, меня не увидел. Волосы у него торчали в разные стороны, а вид был утомленный и весьма неряшливый. Он даже не переоделся: вышитый перед рубашки был залит вином, а манжеты запачканы чем-то зеленым.
Лорд Уорси часто-часто поморгал, потом покачал годовой и повернулся к собравшимся.
— Кто-нибудь заметил что-нибудь подозрительное после того, как мой племянник ушел с бала?
Пип начал рассказывать, как снял с хозяина камзол, а штаны и чулки оставил, потому что хотел, чтобы тот проспался как следует, как утром он пришел с пивом и хлебом…
О том, что Элли убирала за сэром Джеральдом, Пип не упомянул. Я открыла рот, чтобы добавить такую важную подробность, но вовремя поняла: лучше не впутывать Элли в эту жуткую историю! Уж наверняка не она воткнула нож в сэра Джеральда, а вот тот, кто это действительно сделал, будет только рад свалить вину на беззащитную прачку!
Слегка покачиваясь, вошел мой дядя, доктор Кавендиш, в парчовом, отделанном куницей камзоле. Лицо у него было опухшее, глаза налиты кровью. Казалось, он мечтал только о том, чтобы голова у него и вовсе отвалилась. Щурясь на пламя свечи, он начал осматривать сэра Джеральда.
И вдруг сэр Чарльз указал на маленькую серебряную вещицу на подушке сэра Джеральда.
— Что это? — мрачно спросил он.
Доктор Кавендиш поднес вещицу к свече.
— Пуговица. Даже с ниткой. Гм-м… И с гербом.
— Это не хозяина, — заметил Пип, тоже разглядывая пуговиц. — Это герб Рэдклиффов.
— Что? — словно очнулся сэр Уорси, и все повернулись в сторону лорда Роберта.
Тот покраснел и как обычно безуспешно попытался что-то сказать.
— Клянусь Богом, вы, верно, обронили ее, когда пырнули ножом сэра Джеральда! — воскликнул сэр Чарльз. — Доказательство налицо!
— Н-но, — в отчаянии выдавил из себя лорд Роберт.
— Не лгите, сэр, — потребовал сэр Чарльз. — Как иначе здесь оказалась ваша пуговица? Видно, вы приревновали свою даму к сэру Джеральду, приревновали настолько, что убили своего соперника, пока тот спал!
— Я…
Лорд Роберт пошарил рукой по боку, ища рукоять шпаги, но поскольку к ночной рубашке шпаги не полагается, поиски успехом не увенчались.
Тут же к нему шагнул один из стражников лорда Уорси.
— А! — сказал сэр Чарльз, подойдя к лорду Роберту почти вплотную и грозя тому пальцем. — Угрожаете? Может, завтра вы придете и зарежете в моей постели меня?
Это уж совсем никуда не годилось! Надо было срочно вмешаться, в конце концов, лорд Роберт мой жених!
— Господа, — сказала я, — может быть, убийца нарочно подбросил пуговицу лорда Роберта, чтобы подозрение пало именно на него?
Они меня даже не услышали, продолжая кричать. Конечно, ни сэру Чарльзу, ни лорду Уорси не по душе лорд Роберт.
Оба они будут рады обвинить его в убийстве и предъявить королеве качестве преступника, как только Ее Величество узнает о происшествии. И абсолютно ясно, что никого не интересует мнение несовершеннолетней фрейлины в мятой ночной рубашке!
Я с тоской наблюдала, как люди лорда Уорси заломили лорду Роберту руки, а потом ему было официально объявлено, что он подозревается в коварнейшем убийстве спящего сэра Джеральда.
Побледневший лорд Роберт потерянно озирался по сторонам. Хорошо, что у него хватало ума молчать! Возникло секундное замешательство, так как лорд Уорси не знал, куда заточить лорда Роберта.
В Уайтхолле нет тюремных застенков — все комнаты, даже самые маленькие, занимает кто-нибудь из придворных. Ближайшая к нам тюрьма — Тауэр. В конце концов было решено закрыть лорда Роберта в чулане с зарешеченными окнами, в одной из дворцовых башен.
Когда его уводили, лорд Роберт не проронил ни слова. Лорд Уорси и доктор Кавендиш обсуждали детали расследования. Решено было не проводить вскрытия тела сэра Джеральда, так как причина его смерти была совершенно ясна. Вряд ли кто останется жив, если ему воткнут в спину нож, даже с такой изящной рукояткой!
Неожиданно мне пришло в голову, что выбери я сэра Джеральда, этот нож принадлежал бы мне. И что, тогда в убийстве обвинили бы меня? От этой мысли мне стало так дурно, что я развернулась и бросилась в наши покои.
Когда я вошла, Мэри Шелтон, сидевшая на кровати с папильотками в волосах, взглянула на меня с нескрываемым любопытством:
— А чего это ты не спишь, Грейс?
— Случилось нечто ужасное! — сообщила я. — При дворе произошло убийство!
Мэри вскрикнула, а леди Сара проворчала, просыпаясь:
— И из-за этого ты подняла такой шум? Я же сплю!
— Сара, дорогая, — выдохнула Мэри, — ты не понимаешь, о чем говоришь! Произошло убийство! И Грейс уже все разузнала.
Сара тут же подскочила:
— Господь с нами! Убийство? Некоролевы?
— Нет, нет, — успокоила я ее, надевая через голову корсет. — Просто кто-то воткнул нож в спину сэру Джеральду!
— Ужас какой! — Леди Сара была в замешательстве. — Он такой миленький и так славно танцует! Надеюсь, он выздоровеет?
— Вряд ли! Он мертв. И это очень темная история. Они обвиняют лорда Роберта, но мне кажется, что убийца не он…
Но мои соседки уже не слушали. Никогда в жизни Сара и Мэри так быстро не одевались! Выскочив в коридор, Мэри, кажется, даже не заметила, что у нее папильотки в волосах!
Бедный сэр Джеральд! До сих пор не верится, что он мертв. Только что кружил меня в вольте — и вот на тебе!
Что касается милорда Роберта, то и подумать жутко, как он там, в чулане. Если настоящего убийцу не найдут, королева отправит его в Тауэр. Мне его так жаль! Он меньше всех похож на убийцу. Да и зачем ему было убивать сэра Джеральда? Вот если бы сэр Джеральд зарезал лорда Роберта за то, что я выбрала его, я бы еще поняла…
Надо быстро одеться и идти прислуживать королеве. Пожалуй, писать дневник полезно — это проясняет голову, ведь прежде чем что-то записать, надо сначала подумать! Королева говорила мне об этом и была права. Она вообще очень умная! А, вот я и придумала! Я поговорю с ней о лорде Роберте. Во всяком случае, она-то никогда не посоветует мне не забивать себе этим голову!

Тот же день, вечерней порой
Пишу, чтобы не заснуть. У меня есть план, совершенно замечательный, но чтобы он осуществился, спать никак нельзя!
Утром, одевшись, я пошла прислуживать Ее Величеству при пробуждении, надеясь, что у королевы будет настроение перекинуться парой слов. При Дворе все знают: если тебе что-то надо от королевы, выбирай нужный момент!
Держа лиф платья королевы прямо, чтобы леди Бедфорд могла как следует подшить горловину, я собралась духом:
— Ваше Величество, можно мне спросить о…
— О лорде Роберте?
Губы у королевы были поджаты, и весь ее вид выражал недовольство.
— Хорошо. Но помни, что пуговица, которую нашли возле подушки сэра Джеральда, принадлежала ему!
— Да, Ваше Величество, — согласилась я. — Только лорду Роберту незачем было убивать сэра Джеральда, ведь я выбрала его! Может быть, кто-то нарочно подбросил эту пуговицу, чтобы все подумали именно на лорда Роберта?
Королева взглянула на меня и хмыкнула, а леди Бедфорд неодобрительно покачала головой.
— По крайней мере, не отправляйте его в Тауэр, Ваше Величество! — попросила я, вставая на колени и целуя королеве руку. — Ваше Величество… Можно, я попробую выяснить правду?
— Полагаю, юной леди не подобает… — возмущенно начала леди Бедфорд.
Королева остановила ее жестом руки.
— Отлично. Проведи тайное расследование, леди Грейс, — согласилась королева, — но не сообщай о том, что узнаешь, никому, кроме меня. В твоем распоряжении день, после этого мне придется или освободить лорда Роберта, или отправить его в Тауэр!
— Спасибо, Ваше Величество! А можно мне…
— Что еще? — голос королевы прозвучал раздраженно.
Я знала, что сегодня у нее аудиенция с послами Шотландии и Франции. Я наверно, тоже бы злилась, думая о том, что придется просидеть несколько часов подряд с этими невыносимыми шотландцами и французами!
— …можно мне погулять с собаками?
— Иди! Во всяком случае, это лучше, чем ерзать на скамье, действуя мне на нервы и отвлекая от дел!
— Спасибо, Ваше Величество, спасибо!
— Если, конечно, поднимаясь наверх чтобы переодеться, ты не будешь издавать этого ужасного грохота!
Честное слово, я сделала все, чтобы двигаться легче перышка! Переодевшись в удобный наряд для верховой езды и накинув плат, я взяла башмаки в руки и на цыпочках спустилась по черной лестнице. А возле ворот в личный сад королевы, стоя на потеху стражникам на одной ноге, я надела их и, как могла, зашнуровала.
Один из грумов привел собак, и я, схватив собачьи поводки, побежала в Большой сад. Впереди с бешеным лаем мчался Генри.
 Обойдя лабиринт с другой стороны, я скользнула в калитку, отпустила собак и залезла на свое любимое вишневое дерево — подумать. Там есть отличное местечко для размышления — развилка между двух толстых ветвей. На ветках вишни уже появились почки, но распускаться они не спешили — было слишком сыро и холодно.
В голове у меня один за другим зрели планы. Я точно знала, как найти убийцу: от дяди Кавендиша я слышала, что мертвое тело может рассказать очень о многом.
Например, если посветить трупу в глаза, можно увидеть в них отражение убийцы. А если принести с собой оружие, которым человек был убит, его рана снова начнет кровоточить. Что ж, значит, необходимо увидеть тело сэра Джеральда еще раз!
Я слезла с дерева и направилась к мусорной куче. Элли и Мазу были уже там, возились с чем-то.
Эрик прыгал на задних лапах и скулил, стараясь это что-то схватить, но Элли держала непонятный предмет высоко, так, чтобы пес не достал.
— Элли, зачем тебе полуободранный кролик? — спросила я, разглядев, что у нее в руках.
— Поджарим и съедим, — ответил Мазу так, словно это подразумевалось само собой.
— А шкурку я растяну, выскоблю и сделаю себе муфту на зиму! — добавила Элли.
Я привязала псов и присела на корточки, ожидая, пока Элли закончит с кроликом. Работала она быстро и аккуратно, ловко снимая с зверька шкурку, точно раздевая его. Нигде не было ни капли крови, очевидно, кролик был уже вычищен и выпотрошен.
И тут меня осенило: когда я увидела сэра Джеральда с ножом в спине, на его одежде тоже не было ни капли крови! И это очень странно, потому что не кровоточат только мертвые тела, а когда сэра Джеральда закололи, он наверняка был жив!
Это была еще одна тайна. Совершенно необходимо взглянуть на тело сэра Джеральда еще раз!
— Кухонные псы поймали его и загрызли, а я их добычу отобрала, — рассказывала Элли, — правда, отдала потроха. Ну, вот и готово, — она протянула кролика Мазу.
Тот взял длинный прут, продел его сквозь кролика и подвесил над костром. Элли посыпала кролика хлебными крошками, и мы приступили к обсуждению убийства.
Элли и Мазу пересказали мне множество дворовых сплетен и догадок: например, что во дворец ворвались шотландцы и закололи сэра Джеральда по ошибке, вместо королевы.
Я сообщила им, что случилось на самом деле, и что вряд ли стоит подозревать сэра Роберта. Если честно, на мгновение я в нем тоже усомнилась, припомнив, как на балу он сжал рукоять своей шпаги. Но потом я поняла, что это глупо — лорд Роберт никогда не напал бы на человека со спины, в этом я уверена!
— Бедняжка, — мрачно усмехнулась Элли, — тогда его повесят ни за что!
— Не повесят. Я не позволю повесить моего будущего мужа прежде, чем я выйду за него замуж! Это было бы глупо! — ответила я.
— А что, после свадьбы пусть вешают? — издевательски поинтересовался Мазу.
— Ну, тогда я хотя бы останусь добропорядочной вдовой, — фыркнула я.
— А я пойду смотреть казнь, и буду бросать на эшафот лаванду и руту, — мечтательно протянула Элли. — И расскажу ему, как ты печалишься — это его утешит! А потом мы попросим придворного стихотворца сочинить о вас балладу, напечатать ее и…
— Элли, его не повесят, потому что я собираюсь выяснить правду! — оборвала я ее романтические размышления.
Мазу насмешливо мне поклонился, перевернув кролика над огнем.
— Вы так мудры, миледи! А скажите, каким образом вы собираетесь это сделать?
Я легонько шлепнула его по руке.
— Для начала мне надо взглянуть на тело сэра Джеральда! Он, кажется, лежит в часовне Святой Маргариты.
— А зачем? — удивилась Элли.
— Затем, что на теле сэра Джеральда не было крови! — заявила я многозначительно.
— И что? — нахмурился Мазу.
— Если человека пырнуть ножом, пойдет кровь. А если зарезать до смерти, крови будет ого-го как много! А там крови совсем не было! Я же помню, как дядя рассказывал: со смертью человека кровотечение прекращается!
— Ах, вот оно что… — задумчиво пробормотал Мазу.
— Так что я просто обязана взглянуть на тело сэра Джеральда еще раз! К тому же, — я понизила голос, потому что от самой этой мысли становилось жутко, — в глазах покойника можно увидеть истинного убийцу!
— А что же доктор ничего не заметил? — справедливо поинтересовалась Элли, разгрызая ручку марципановой Венеры, которую Мазу выудил из рукава.
— Дядя был расстроен. И он слишком много пьет с тех пор, как… Ну, вы знаете!
Они оба кивнули.
— Но я уверена, что узнала от него достаточно, чтобы заметить что-либо достойное внимания! — заявила я.
Мазу расхохотался.
— Значит, всего делов-то — проскользнуть в часовню, когда все заснут, как убитые…
— Когда все крепко заснут, — поправила я. — Давайте сходим туда в полночь! Посмотрим на труп, посветим ему в глаза и все узнаем!
— Все так просто, что даже странно, что никто другой не догадался это сделать! — ухмыльнулся Мазу.
Я сердито глянула на него:
— Другие просто не захотели забивать этим голову! Лорд Роберт мало с кем дружил, кроме того, он многим должен, и всех устроит, если убийцей окажется именно он.
— Ну, только не тех, кому он должен! — вставила Элли.
— А что делать с людьми лорда Уорси, которые охраняют часовню? — спохватился Мазу.
Об этом я не подумала.
— Тогда не ходите со мной. Я не хочу, чтобы у нас были неприятности. Я сама найду часовню святой Маргариты!
— Щас! — возмутилась Элли. — Я и так твоя должница! Ты ведь не проболталась, что я убирала за сэром Джеральдом!
Она обижено вздохнула.
— И ни пенса мне не заплатили, а уж как там воняло!
— А я, — включился Мазу, — ничего не боюсь, к тому же я лучший акробат труппы мистера Соммерса. Вряд ли меня выгонят за такие мелочи, а если и выгонят, им же хуже — подамся в театр или поступлю в Парижский Сад!
— Надо купить у аптекаря сонного порошка, авось он как-нибудь попадет стражникам в пиво, — подмигнула мне Элли.
Я поцеловала их обоих (Мазу тут же старательно утерся), вручила Элли несколько монеток на снотворное и припустилась бежать, чтобы передать псов груму, который должен был расчесать им шерсть.
Беседуя с грумом возле конюшни, я заметила сэра Чарльза, который как обычно зашел проведать лошадей.
— О, леди Грейс, — поприветствовал он меня.
— Сегодня у нас урок? — спросила я, чувствуя угрызения совести — я ведь совсем об этом забыла!
Он смутился:
— Нет, думаю, нет! После всего, что случилось…
— Тогда пойдемте хотя бы поздороваемся с Ласточкой, — предложила я. — Если не по мне, так по вам она наверняка соскучилась!
— Э-э… — протянул он.
Напорное, сэру Чарльзу опять было неловко, так что пришлось мне самой подвести его к стойлу.
Ласточка вытянула свою очаровательную морду (пожалуй, есть в ней что-то от уэльсского пони!), и потянулась ко мне. Я потрепала ее по бархатному носу, и она фыркнула.
Сэр Чарльз резко протянул руку, чтобы тоже погладить лошадь, но Ласточка неожиданно отпрянула назад и оскалилась. Сэр Чарльз попятился:
— Эй, ты что, рехнулась?
Я очень удивилась. Ни разу во время наших многочисленных (и очень скучных) уроков сэр Чарльз не разговаривал с лошадью таким тоном, а она не реагировала на него подобным образом. Это было очень странно!
Я уже собиралась спросить, что это с ним, ведь он сам учил меня подходить к лошади осторожно, не делая резких движений, но тут появился грум с аккуратно расчесанными собачками королевы.
— Миледи, — сказал он, запыхавшись, — Ее Величество приказала привести псов!
Видно, королеву здорово утомили на Тайном Совете. Если она хочет поиграть с собаками, значит, настроение у нее ужасное.
Я взяла поводки, торопливо попрощалась с сэром Чарльзом и побежала обратно, чтобы, передав собак, переодеться перед визитом к королеве.
Перед лестницей на Верхнюю галерею я вдруг вспомнила замечание королевы. Я снова сняла башмаки (чертовски трудно соответствовать требованиям Ее Величества, выглядя одновременно умно и прилично!), подхватила юбки и заспешила наверх но ступеням.
Но едва я достигла верхней площадки, как, словно черт из табакерки, появилась миссис Чемперноун.
— Что вы делаете, леди Грейс?!
— Собираюсь переодеться, чтобы предстать перед Ее Величеством в достойном виде, — отрапортовала я.
— Но ваши чулки! Дитя мое, взгляните на ваши чулки!
Все еще придерживая юбки, я глянула вниз. И что такого? Отличная пара белых шелковых чулок, только подошвы у них уже не совсем белые, то есть совсем не белые…и на пальце дырка… а на коленке другая…
— Ох! — сказала я, быстро опуская подол, чтобы скрыть компрометирующие подробности. — Я старалась не стучать башмаками, миссис Чемперноун, и вести себя, как вы мне говорили, и…
Миссис Чемперноун на секунду закрыла глаза, а потом возвела их к потолку.
— Леди Грейс, башмаки предназначены для… Надо носить туфли, когда вы… О, ради бога, дайте скорее сюда эти чулки и ступайте наденьте шерстяные. Не хватало еще явиться к королеве в рваных чулках!
Миссис Чемперноун, казалось, была готова лопнуть от возмущения, поэтому я быстренько выскользнула из чулок, отдала ей их вместе с подвязками и босиком побежала в свои покои переодеваться. Шерстяные чулки! Они же кусаются! А почему нельзя пойти совсем без чулок? Ну кто под всем этими юбками разглядит мои ноги? У Элли вообще нет ни одной пары чулок, и она без них прекрасно обходится!
Королева действительно была в ужасном настроении. Я села рядом с нею, принявшись за вышивание, а Ее Величество стала играть с собаками, бросая им мячик. И вдруг на Мэри Шелтон что-то нашло — когда Генри подпрыгнул и лизнул ее в щеку, она сердито его шлепнула.
— Прочь! — взревела королева. — Как ты смеешь бить мою собаку? Ах ты, дрянь, будь ты проклята со всеми своими…
Я, пожалуй, опущу, что еще она говорила, а то будет уж совсем неприлично!
Над головой Мэри пронеслись щетка для волос и баночка с блеском для губ, и она тут же исчезла за дверью.
Я шепотом предложила леди Бедфорд позвать акробатов, полагая, что это развлечет Ее Величество. Так и случилось. Да и мы все получили удовольствие, глядя, как Мазу с главным силачом и маленьким, похожим на гнома человечком делают сальто, ходят на руках и жонглируют предметами при помощи ног. Мазу нарочно все время ронял свои палки и мячи, а потом ловил их ногами, коленями или зубами. Королева даже заулыбалась.
Жалея бедного лорда Уорси, Ее Величество предложила ему отужинать с ней и велела мне к ним присоединиться. Мне не хотелось есть — я слишком нервничала, думая о предстоящем походе. Тут уж не до фазанов, солонины и пирожков с олениной. Но выбора у меня не было.
Лорд Уорси пришел поздно, помятый, расстроенный, и все в той же рубашке. В другой день королева швырнула бы в него за это туфлей, но сегодня она была очень терпима, видно, из уважения к его горю.
Лорд Уорси разговаривал только с королевой и только об ужасно скучных вещах — шотландской и французской политике, Гизах и Максвеллах, и так далее, и тому подобное. Поразительно, как столько всего помешается у него в голове! Впрочем, мне было все равно. Я думала о том, удастся ли нам пробраться в часовню, и что мне надеть, и смогла ли Элли купить снотворное. Правда, за столом я изо всех сил изображала интерес к разговору и старалась не зевать. Хорошо еще, что подали мои любимые апельсиновые карамельки!
Наконец лорд Уорси замолчал.
Королева коснулась его руки.
— Милорд, отныне состояние сэра Джеральда принадлежит вам, и вы можете распоряжаться им так же, как своим и леди Грейс.
Лорд Уорси поднял на королеву тоскливый взгляд.
— У меня хороший управляющий, Ваше Величество. Мы справимся.
— Безусловно, — согласилась королева. — Как ваше самочувствие? — поинтересовалась она ласковым голосом. — Я знаю, вы высоко ценили своего племянника.
— Да, Ваше Величество. Он был славным юношей, хотя ему и были свойственны пороки юности. Порою он бывал вспыльчив, склонен к сарказму, даже высокомерен, но думаю, время исправило бы все эти недостатки!
— Через пару дней лорд Роберт предстанет перед судом, — сказала королева, на мгновение прикрыв глаза, — так грустен был голос лорда Уорси.
Тот печально кивнул, неотрывно глядя на пламя свечи.
Я с интересом наблюдала за ним. Мне вдруг пришло в голову, что он также опечален смертью своего племянника, как я — смертью мамы. Глаза защипало, словно от лука.
Видно, пытаясь отвлечь лорда Уорси от грустных мыслей, королева взяла стоявший в углу вёрджинел, сняла с него крышку и начала настраивать. Потом заиграла нежную итальянскую мелодию, и мне сразу стало веселее.
Я очень люблю слушать, как Ее Величество музицирует. Это даже послам нравится: как только королева садится за инструмент, они начинают улыбаться и расслабляются, потому что в такие минуты могут одновременно и делать комплименты, и говорить правду.
Мне показалось, что лорд Уорси хочет поговорить с королевой наедине. Когда произведение закончилось, я сделала реверанс и попросила разрешения удалиться. Королева пожелала мне спокойной ночи, и я медленно побрела к себе, с грустью думая о лорде Уорси.
Соседок моих еще не было — они играли в карты, зато на кровати с хитрющим видом сидела Элли.
— Ну как? — с порога поинтересовалась я. — Купила?
— Купила! Ты дала столько денег, что хватило на целую бутылку опийной настойки! — Элли протянула мне зеленую бутылочку. — Я завернулась в полосатый плащ и сбегала к аптекарю в Вестминстер!
— А где ты взяла полосатый плащ? (Такие плащи носят проститутки — это у них вроде униформы. Отцы города специально так распорядились.).
— Да был у нас заказ со стороны! — небрежно сообщила моя подруга-прачка. — Одна из этих девиц отдала свой плащ в стирку, а сама завела новый, а старый так и остался у нас. И гляди, пригодился!
Я кивнула.
— Вот сдача, — Элли ссыпала монетки на кровать. — И смотри, не бери вина с буфета — я туда тоже опия накапала, чтобы твои вертихвостки спали без задних ног!
Элли терпеть не может других фрейлин. И это не удивительно, если вспомнить, как они грубят, когда она забирает их грязное белье!
— Мы с Мазу подождем тебя у кухни, — продолжала она. — И если луна поднимется, а ты так и не прибежишь, мы сами пойдем взглянем на сэра Джеральда. Он уже у Святого Мартина, в часовне, да, думаю, вряд ли его зароют прежде, чем расследование закончится!
Элли вскочила с кровати, схватила с пола пару смятых ночных сорочек, засунула их к себе в сумку и бросилась в коридор. Я почистила зубы, переоделась в зеленый лиф и юбку для верховой езды и натянула поверх всего этого ночную рубашку. В коридоре послышались голоса леди Сары и Мэри.
Скоро начнутся мои ночные приключения! А сейчас притворюсь-ка я спящей!
Обойдя лабиринт с другой стороны, я скользнула в калитку, отпустила собак и залезла на свое любимое вишневое дерево — подумать. Там есть отличное местечко для размышления — развилка между двух толстых ветвей. На ветках вишни уже появились почки, но распускаться они не спешили — было слишком сыро и холодно.
В голове у меня один за другим зрели планы. Я точно знала, как найти убийцу: от дяди Кавендиша я слышала, что мертвое тело может рассказать очень о многом.
Например, если посветить трупу в глаза, можно увидеть в них отражение убийцы. А если принести с собой оружие, которым человек был убит, его рана снова начнет кровоточить. Что ж, значит, необходимо увидеть тело сэра Джеральда еще раз!
Я слезла с дерева и направилась к мусорной куче. Элли и Мазу были уже там, возились с чем-то.
Эрик прыгал на задних лапах и скулил, стараясь это что-то схватить, но Элли держала непонятный предмет высоко, так, чтобы пес не достал.
— Элли, зачем тебе полуободранный кролик? — спросила я, разглядев, что у нее в руках.
— Поджарим и съедим, — ответил Мазу так, словно это подразумевалось само собой.
— А шкурку я растяну, выскоблю и сделаю себе муфту на зиму! — добавила Элли.
Я привязала псов и присела на корточки, ожидая, пока Элли закончит с кроликом. Работала она быстро и аккуратно, ловко снимая с зверька шкурку, точно раздевая его. Нигде не было ни капли крови, очевидно, кролик был уже вычищен и выпотрошен.
И тут меня осенило: когда я увидела сэра Джеральда с ножом в спине, на его одежде тоже не было ни капли крови! И это очень странно, потому что не кровоточат только мертвые тела, а когда сэра Джеральда закололи, он наверняка был жив!
Это была еще одна тайна. Совершенно необходимо взглянуть на тело сэра Джеральда еще раз!
— Кухонные псы поймали его и загрызли, а я их добычу отобрала, — рассказывала Элли, — правда, отдала потроха. Ну, вот и готово, — она протянула кролика Мазу.
Тот взял длинный прут, продел его сквозь кролика и подвесил над костром. Элли посыпала кролика хлебными крошками, и мы приступили к обсуждению убийства.
Элли и Мазу пересказали мне множество дворовых сплетен и догадок: например, что во дворец ворвались шотландцы и закололи сэра Джеральда по ошибке, вместо королевы.
Я сообщила им, что случилось на самом деле, и что вряд ли стоит подозревать сэра Роберта. Если честно, на мгновение я в нем тоже усомнилась, припомнив, как на балу он сжал рукоять своей шпаги. Но потом я поняла, что это глупо — лорд Роберт никогда не напал бы на человека со спины, в этом я уверена!
— Бедняжка, — мрачно усмехнулась Элли, — тогда его повесят ни за что!
— Не повесят. Я не позволю повесить моего будущего мужа прежде, чем я выйду за него замуж! Это было бы глупо! — ответила я.
— А что, после свадьбы пусть вешают? — издевательски поинтересовался Мазу.
— Ну, тогда я хотя бы останусь добропорядочной вдовой, — фыркнула я.
— А я пойду смотреть казнь, и буду бросать на эшафот лаванду и руту, — мечтательно протянула Элли. — И расскажу ему, как ты печалишься — это его утешит! А потом мы попросим придворного стихотворца сочинить о вас балладу, напечатать ее и…
— Элли, его не повесят, потому что я собираюсь выяснить правду! — оборвала я ее романтические размышления.
Мазу насмешливо мне поклонился, перевернув кролика над огнем.
— Вы так мудры, миледи! А скажите, каким образом вы собираетесь это сделать?
Я легонько шлепнула его по руке.
— Для начала мне надо взглянуть на тело сэра Джеральда! Он, кажется, лежит в часовне Святой Маргариты.
— А зачем? — удивилась Элли.
— Затем, что на теле сэра Джеральда не было крови! — заявила я многозначительно.
— И что? — нахмурился Мазу.
— Если человека пырнуть ножом, пойдет кровь. А если зарезать до смерти, крови будет ого-го как много! А там крови совсем не было! Я же помню, как дядя рассказывал: со смертью человека кровотечение прекращается!
— Ах, вот оно что… — задумчиво пробормотал Мазу.
— Так что я просто обязана взглянуть на тело сэра Джеральда еще раз! К тому же, — я понизила голос, потому что от самой этой мысли становилось жутко, — в глазах покойника можно увидеть истинного убийцу!
— А что же доктор ничего не заметил? — справедливо поинтересовалась Элли, разгрызая ручку марципановой Венеры, которую Мазу выудил из рукава.
— Дядя был расстроен. И он слишком много пьет с тех пор, как… Ну, вы знаете!
Они оба кивнули.
— Но я уверена, что узнала от него достаточно, чтобы заметить что-либо достойное внимания! — заявила я.
Мазу расхохотался.
— Значит, всего делов-то — проскользнуть в часовню, когда все заснут, как убитые…
— Когда все крепко заснут, — поправила я. — Давайте сходим туда в полночь! Посмотрим на труп, посветим ему в глаза и все узнаем!
— Все так просто, что даже странно, что никто другой не догадался это сделать! — ухмыльнулся Мазу.
Я сердито глянула на него:
— Другие просто не захотели забивать этим голову! Лорд Роберт мало с кем дружил, кроме того, он многим должен, и всех устроит, если убийцей окажется именно он.
— Ну, только не тех, кому он должен! — вставила Элли.
— А что делать с людьми лорда Уорси, которые охраняют часовню? — спохватился Мазу.
Об этом я не подумала.
— Тогда не ходите со мной. Я не хочу, чтобы у нас были неприятности. Я сама найду часовню святой Маргариты!
— Щас! — возмутилась Элли. — Я и так твоя должница! Ты ведь не проболталась, что я убирала за сэром Джеральдом!
Она обижено вздохнула.
— И ни пенса мне не заплатили, а уж как там воняло!
— А я, — включился Мазу, — ничего не боюсь, к тому же я лучший акробат труппы мистера Соммерса. Вряд ли меня выгонят за такие мелочи, а если и выгонят, им же хуже — подамся в театр или поступлю в Парижский Сад!
— Надо купить у аптекаря сонного порошка, авось он как-нибудь попадет стражникам в пиво, — подмигнула мне Элли.
Я поцеловала их обоих (Мазу тут же старательно утерся), вручила Элли несколько монеток на снотворное и припустилась бежать, чтобы передать псов груму, который должен был расчесать им шерсть.
Беседуя с грумом возле конюшни, я заметила сэра Чарльза, который как обычно зашел проведать лошадей.
— О, леди Грейс, — поприветствовал он меня.
— Сегодня у нас урок? — спросила я, чувствуя угрызения совести — я ведь совсем об этом забыла!
Он смутился:
— Нет, думаю, нет! После всего, что случилось…
— Тогда пойдемте хотя бы поздороваемся с Ласточкой, — предложила я. — Если не по мне, так по вам она наверняка соскучилась!
— Э-э… — протянул он.
Напорное, сэру Чарльзу опять было неловко, так что пришлось мне самой подвести его к стойлу.
Ласточка вытянула свою очаровательную морду (пожалуй, есть в ней что-то от уэльсского пони!), и потянулась ко мне. Я потрепала ее по бархатному носу, и она фыркнула.
Сэр Чарльз резко протянул руку, чтобы тоже погладить лошадь, но Ласточка неожиданно отпрянула назад и оскалилась. Сэр Чарльз попятился:
— Эй, ты что, рехнулась?
Я очень удивилась. Ни разу во время наших многочисленных (и очень скучных) уроков сэр Чарльз не разговаривал с лошадью таким тоном, а она не реагировала на него подобным образом. Это было очень странно!
Я уже собиралась спросить, что это с ним, ведь он сам учил меня подходить к лошади осторожно, не делая резких движений, но тут появился грум с аккуратно расчесанными собачками королевы.
— Миледи, — сказал он, запыхавшись, — Ее Величество приказала привести псов!
Видно, королеву здорово утомили на Тайном Совете. Если она хочет поиграть с собаками, значит, настроение у нее ужасное.
Я взяла поводки, торопливо попрощалась с сэром Чарльзом и побежала обратно, чтобы, передав собак, переодеться перед визитом к королеве.
Перед лестницей на Верхнюю галерею я вдруг вспомнила замечание королевы. Я снова сняла башмаки (чертовски трудно соответствовать требованиям Ее Величества, выглядя одновременно умно и прилично!), подхватила юбки и заспешила наверх но ступеням.
Но едва я достигла верхней площадки, как, словно черт из табакерки, появилась миссис Чемперноун.
— Что вы делаете, леди Грейс?!
— Собираюсь переодеться, чтобы предстать перед Ее Величеством в достойном виде, — отрапортовала я.
— Но ваши чулки! Дитя мое, взгляните на ваши чулки!
Все еще придерживая юбки, я глянула вниз. И что такого? Отличная пара белых шелковых чулок, только подошвы у них уже не совсем белые, то есть совсем не белые…и на пальце дырка… а на коленке другая…
— Ох! — сказала я, быстро опуская подол, чтобы скрыть компрометирующие подробности. — Я старалась не стучать башмаками, миссис Чемперноун, и вести себя, как вы мне говорили, и…
Миссис Чемперноун на секунду закрыла глаза, а потом возвела их к потолку.
— Леди Грейс, башмаки предназначены для… Надо носить туфли, когда вы… О, ради бога, дайте скорее сюда эти чулки и ступайте наденьте шерстяные. Не хватало еще явиться к королеве в рваных чулках!
Миссис Чемперноун, казалось, была готова лопнуть от возмущения, поэтому я быстренько выскользнула из чулок, отдала ей их вместе с подвязками и босиком побежала в свои покои переодеваться. Шерстяные чулки! Они же кусаются! А почему нельзя пойти совсем без чулок? Ну кто под всем этими юбками разглядит мои ноги? У Элли вообще нет ни одной пары чулок, и она без них прекрасно обходится!
Королева действительно была в ужасном настроении. Я села рядом с нею, принявшись за вышивание, а Ее Величество стала играть с собаками, бросая им мячик. И вдруг на Мэри Шелтон что-то нашло — когда Генри подпрыгнул и лизнул ее в щеку, она сердито его шлепнула.
— Прочь! — взревела королева. — Как ты смеешь бить мою собаку? Ах ты, дрянь, будь ты проклята со всеми своими…
Я, пожалуй, опущу, что еще она говорила, а то будет уж совсем неприлично!
Над головой Мэри пронеслись щетка для волос и баночка с блеском для губ, и она тут же исчезла за дверью.
Я шепотом предложила леди Бедфорд позвать акробатов, полагая, что это развлечет Ее Величество. Так и случилось. Да и мы все получили удовольствие, глядя, как Мазу с главным силачом и маленьким, похожим на гнома человечком делают сальто, ходят на руках и жонглируют предметами при помощи ног. Мазу нарочно все время ронял свои палки и мячи, а потом ловил их ногами, коленями или зубами. Королева даже заулыбалась.
Жалея бедного лорда Уорси, Ее Величество предложила ему отужинать с ней и велела мне к ним присоединиться. Мне не хотелось есть — я слишком нервничала, думая о предстоящем походе. Тут уж не до фазанов, солонины и пирожков с олениной. Но выбора у меня не было.
Лорд Уорси пришел поздно, помятый, расстроенный, и все в той же рубашке. В другой день королева швырнула бы в него за это туфлей, но сегодня она была очень терпима, видно, из уважения к его горю.
Лорд Уорси разговаривал только с королевой и только об ужасно скучных вещах — шотландской и французской политике, Гизах и Максвеллах, и так далее, и тому подобное. Поразительно, как столько всего помешается у него в голове! Впрочем, мне было все равно. Я думала о том, удастся ли нам пробраться в часовню, и что мне надеть, и смогла ли Элли купить снотворное. Правда, за столом я изо всех сил изображала интерес к разговору и старалась не зевать. Хорошо еще, что подали мои любимые апельсиновые карамельки!
Наконец лорд Уорси замолчал.
Королева коснулась его руки.
— Милорд, отныне состояние сэра Джеральда принадлежит вам, и вы можете распоряжаться им так же, как своим и леди Грейс.
Лорд Уорси поднял на королеву тоскливый взгляд.
— У меня хороший управляющий, Ваше Величество. Мы справимся.
— Безусловно, — согласилась королева. — Как ваше самочувствие? — поинтересовалась она ласковым голосом. — Я знаю, вы высоко ценили своего племянника.
— Да, Ваше Величество. Он был славным юношей, хотя ему и были свойственны пороки юности. Порою он бывал вспыльчив, склонен к сарказму, даже высокомерен, но думаю, время исправило бы все эти недостатки!
— Через пару дней лорд Роберт предстанет перед судом, — сказала королева, на мгновение прикрыв глаза, — так грустен был голос лорда Уорси.
Тот печально кивнул, неотрывно глядя на пламя свечи.
Я с интересом наблюдала за ним. Мне вдруг пришло в голову, что он также опечален смертью своего племянника, как я — смертью мамы. Глаза защипало, словно от лука.
Видно, пытаясь отвлечь лорда Уорси от грустных мыслей, королева взяла стоявший в углу вёрджинел, сняла с него крышку и начала настраивать. Потом заиграла нежную итальянскую мелодию, и мне сразу стало веселее.
Я очень люблю слушать, как Ее Величество музицирует. Это даже послам нравится: как только королева садится за инструмент, они начинают улыбаться и расслабляются, потому что в такие минуты могут одновременно и делать комплименты, и говорить правду.
Мне показалось, что лорд Уорси хочет поговорить с королевой наедине. Когда произведение закончилось, я сделала реверанс и попросила разрешения удалиться. Королева пожелала мне спокойной ночи, и я медленно побрела к себе, с грустью думая о лорде Уорси.
Соседок моих еще не было — они играли в карты, зато на кровати с хитрющим видом сидела Элли.
— Ну как? — с порога поинтересовалась я. — Купила?
— Купила! Ты дала столько денег, что хватило на целую бутылку опийной настойки! — Элли протянула мне зеленую бутылочку. — Я завернулась в полосатый плащ и сбегала к аптекарю в Вестминстер!
— А где ты взяла полосатый плащ? (Такие плащи носят проститутки — это у них вроде униформы. Отцы города специально так распорядились.).
— Да был у нас заказ со стороны! — небрежно сообщила моя подруга-прачка. — Одна из этих девиц отдала свой плащ в стирку, а сама завела новый, а старый так и остался у нас. И гляди, пригодился!
Я кивнула.
— Вот сдача, — Элли ссыпала монетки на кровать. — И смотри, не бери вина с буфета — я туда тоже опия накапала, чтобы твои вертихвостки спали без задних ног!
Элли терпеть не может других фрейлин. И это не удивительно, если вспомнить, как они грубят, когда она забирает их грязное белье!
— Мы с Мазу подождем тебя у кухни, — продолжала она. — И если луна поднимется, а ты так и не прибежишь, мы сами пойдем взглянем на сэра Джеральда. Он уже у Святого Мартина, в часовне, да, думаю, вряд ли его зароют прежде, чем расследование закончится!
Элли вскочила с кровати, схватила с пола пару смятых ночных сорочек, засунула их к себе в сумку и бросилась в коридор. Я почистила зубы, переоделась в зеленый лиф и юбку для верховой езды и натянула поверх всего этого ночную рубашку. В коридоре послышались голоса леди Сары и Мэри.
Скоро начнутся мои ночные приключения! А сейчас притворюсь-ка я спящей!
Февраль,
Шестнадцатый день,
год от Рождества Христова
1569


Вечер, часы пробили пять
Да поможет мне Господь, во что же я влипла! Боюсь даже вспоминать, как была сердита Ее Величество! Правда, благодаря тому, что она меня отослала, я могу все записать.
Начну с того места, на котором остановилась. Мои соседки-вертихвостки Мэри и леди Сара вернулись поздно, часов в десять. Проиграв весь вечер в карты, они еще долго обсуждали, кто из них неправильно сдавал. Олуэн, горничная, помогла им раздеться. Потом они почистили зубы, легли в свои кровати и выпили разбавленного вина — для крепкого сна, — не прекращая болтать о картах. Кажется, обе они проиграли миссис Чемперноун.
Горничная Олуэн то развешивала их наряды, то чистила, то разглаживала, и так без конца. Мне жутко хотелось ее прогнать, но, наконец, она ушла сама. Вертихвостки уже давно храпели.
Я с нетерпением ждала, пока наступит полночь, и сменится караул в личных покоях королевы. Услышав, как стражники прошли мимо, я выскользнула из кровати, оставив полог задернутым, и стянула с себя ночную рубашку — шерстяные чулки я сбросила уже давно.
Потом прошмыгнула в коридор, вздрагивая от любого шороха и прячась в дверном проеме даже от кошки, прошествовавшей мимо с мышью в зубах.
Сначала надо было пролезть в окно в личный сад королевы. Это мне удалось. Потом надо было пробраться в Большой сад. Ворота были заперты, но я знала, что стражник прячет ключ под камень рядом с воротами, чтобы не потерять. У мусорных куч меня уже поджидали Элли и Мазу.
Элли была в мальчишеской одежде. Ее ей подарила одна прачка, сын которой в прошлом году умер от чумы (я аж вздрогнула, когда она все это рассказала!). Элли припасла комплект и для меня, но я отказалась. Для нее это не опасно: Элли-то переболела чумой в детстве и осталась жива, так что второй раз уже не заразится. А мне лучше не рисковать!
Мазу пожал плечами.
— Это даже лучше! Если нас поймают, миледи, они сразу поймут, что вы — фрейлина королевы!
Но меня это расстроило, потому что какой интерес в приключениях без переодевания?!
— Ну ладно, раз так, — вздохнула я.
А что мне еще оставалось? Хотя перелезать через стену Большого сада в юбке было ужас как неудобно!
 Мы перебрались через мусорные кучи, через обвитые сухими стеблями старые подпорки для бобов, и нашли в стене выбоины, но которым было удобно забираться наверх.
Мазу перекинул через стену веревку, и мы оказались по другую сторону Большого сада.
Двор по эту сторону стены окружали дома, в которых жили юные придворные джентльмены. В кустах ежевики валялись пивные бутылки, сломанные роговые кружки, трубки, столы, разбитая лютня, полдюжины стульев, видимо, поучаствовавших в драке, на гвозде, торчавшем из стены, болтался клок чьей-то нижней юбки.
Мы пробрались через мусор и, продравшись сквозь заросли (Мазу что-то сердито бормотал на своем языке, цепляясь за колючки), оказались на аллее, которая вела к нависавшей в темноте мрачной громаде Вестминстерского Аббатства. Потом, скользнув в калитку, направились к часовне Святой Маргариты, где лежало тело сэра Джеральда.
Мазу бесшумно побежал вперед выяснить, спят ли стражники лорда Уорси.
— Да наверняка! — прошептала шедшая вслед за мной Элли. — Они как раз поджидали лорда Уорси с ужина, когда я предложила сбегать в погреб, наполнить их фляжки. Бренди с опиумом — ну не славный ли напиток?
Элли хихикнула.
Появился Мазу, сверкнув зубами в темноте.
— Спят, как дети!
Мы осторожно пробрались мимо стражников — они так мило прикорнули на скамейке, прислонившись друг к другу, — и открыли тяжелую деревянную дверь в часовню.
Рядом с телом, завернутым в саван, горело шесть толстых черных свечей. Стол был накрыт дорогим полотном. Несомненно, ожидался и искусно сделанный гроб, но пока его не было.
Было очень холодно и страшно. Через старинные витражные окна светила луна, отбрасывая на саван голубые и желтые тени. В часовне стоял ужасный запах.
Элли вздрогнула и перекрестилась, а Мазу стиснул амулет, который он всегда носит на шее, и что-то пробормотал на своем языке.
Я сглотнула, шагнула вперед и с бьющимся сердцем приблизилась к трупу. Вонь и впрямь была ужасная, хуже, чем от ночного горшка. И к ней примешивался еще один запах — неприятный и горький, который бил прямо в ноздри. Странно, но от этого запаха мне захотелось плакать, хотя я не могла понять, почему. Конечно, это грустно, когда кто-нибудь умирает, но нельзя сказать, чтобы я уж очень любила сэра Джеральда!
Он лежал на спине — нож они, конечно, вынули. Я задержала дыхание и откинула саван с его лица.
На веках сэра Джеральда лежали монетки. Я убрала их. Глаза у него были наполовину открыты и напоминали желе. Я поднесла свечу поближе, но никакого отражения убийцы в них не увидела. Надо было еще взглянуть на рану, но мне совершенно не хотелось трогать тело, чтобы не навлечь на себя проклятья.
С одной стороны, дух сэра Джеральда должен бы быть доволен, что мы ищем его убийцу, но с другом — сэр Джеральд и при жизни не был большим добряком, так чего ожидать от привидения? И тут в углах его рта я заметила легкий желтый налет.
Я удивленно заморгала, а сердце мое забилось часто-часто. Такой же желтый налет был на губах у мамы, когда она умерла. Теперь я вспомнила и этот горький запах — так пахло у ее гроба. Это был горетрав.
Я застыла на мгновение, пытаясь разобраться. Безумие, конечно, но что, если сэр Джеральд уже был отравлен горетравом, когда его пырнули ножом? Это вполне объясняет отсутствие крови, не так ли? Рана не кровоточила, потому что он был уже мертв!
Вдруг снаружи послышались шаги и голоса. Мы застыли, уставившись друг на друга. Крыльцо заскрипело, потом раздался чей-то сердитый голос. Дверь распахнулась. Кто-то вошел в часовню.
Меня так затошнило, что чуть не вырвало, а ноги подогнулись, как у тряпичной куклы. Элли прижала руки ко рту. Мазу посерел.
Их здорово выпорют, если обнаружат здесь, особенно Мазу. Господи всемилостивый, да они их обоих запорют до смерти! И уволят с королевской службы! И тогда им придется голодать, что бы там Мазу и не говорил о Парижском Саде. А вот если здесь застанут меня…
— Прячьтесь, — прошептала я. — Я все улажу!
Ребята секунду помешкали, потом шустро скользнули под скамейку. Было слышно, как они там устраивались.
Я осталась там, где и стояла, — рядом с телом сэра Джеральда — и начала хныкать. Обычно мне трудно заплакать (не то, что леди Саре и Мэри, они вечно ревут, когда им что-то нужно!), но как только я представила, что всех нас выпорют, а королева отошлет меня от Двора (что еще хуже), слезы появились сами собой. Я им помогала, шмыгая носом, всхлипывая и больно прищипывая кожу над переносицей.
В часовню вошли стражники во главе с лордом Уорси. Вид у них был очень суровый. Но, как я и надеялась, при виде меня, ревущей над телом сэра Джеральда, они застыли в проходе как вкопанные.
Лорд Уорси приблизился, взволнованно и чуточку недоверчиво бормоча:
— Ну, ну, миледи… Отчего же вы не попросили разрешения попрощаться? И зачем пришли сюда ночью? Было бы более разумно появиться днем, в сопровождении… как вам подобает…
— Я… Я хотела побыть с ним наедине, — я сглотнула, стараясь вложить в эту сцену весь свой актерский талант. — Не хотела, чтобы другие указывали на меня своими носовыми платками…
— Но как вы сюда попали? Вам кто-то помог? — голос лорда Уорси прозвучал недовольно.
— Нет, нет! — воскликнула я, замирая при мысли, что он велит осмотреть часовню. — Я пришла сама, хотя и было очень страшно…
Уставившись на тело сэра Джеральда, лорд Уорси молчал. Я стояла рядом, думая, что он мог бы быть со мной и помягче. Он же мой опекун, в конце концов!
— Идемте, миледи, — сказал он, наконец. — Все это очень неподобающе. Без свиты… Так никуда не годится. Я сам провожу вас во Дворец и препоручу заботам миссис Чемперноун.
«О, нет!» — подумала я, опустила голову и заревела — уже по-настоящему.
— Ну, хватит, хватит! — Лорд Уорси крепко взял меня за руку и повел к противоположному выходу часовни. За ним последовали все его люди, таращась на меня так, точно я вдруг превратилась в медведя. Они, верно, не знали, что и думать!
Мы прошли через церковный двор в ворота, выходившие на Кинг-стрит. Потом через ворота Кинг-стрит вошли на территорию Дворца и направились к Верхней галерее.
Там лорд Уорси что-то сказал одному из стражников, и тот ушел, посмеиваясь.
Мы стояли и ждали. Лорд Уорси теребил в кармане носовой платок, а я переминалась с ноги на ногу. На сердце у меня было ох как нехорошо! Я очень надеялась, что Мазу и Элли удалось скрыться из часовни незамеченными. Мне показалось, когда мы шли через двор, сзади кралась какая-то тень, но уверена я не была.
Кажется, прошла целая вечность, и наконец в дверях появилась миссис Чемперноун, в ночной рубашке и с папильотками в волосах. На ее лице одновременно читались недоумение и возмущение. Возможно, если бы эти эмоции относились к кому-нибудь другому, мне бы стадо смешно…
— Что это значит, леди Грейс? — рявкнула она.
Пробормотав нечто нечленораздельное, я уставилась в землю.
— Почему в такое время вы не в постели? Вас застукали с молодым джентльменом? — миссис Чемперноун бросила взгляд на лорда Уорси.
— Нет! — воскликнула я. — Я просто ходила попрощаться…
— Довольно! — отрезала миссис Чемперноун. — Если я захочу послушать, как вы лжете, я сама вас об этом попрошу!
— Миссис Чемперноун, я лично могу подтвердить, что никакого молодого джентльмена не было! — заявил лорд Уорси. — В часовне была только она!
— Странно, — протянула миссис Чемперноун. Потом повернулась к лорду Уорси:
— Благодарю вас, милорд, за спасение нашей леди Грейс от ее неблагоразумия, — при этих словах миссис Чемперноун презрительно улыбнулась.
Я вздохнула.
Лорд Уорси поклонился и в сопровождении своих людей направился в апартаменты, где жил. Миссис Чемперноун присела перед ним в легком реверансе, а когда он удалился, больно схватила меня за руку и потащила наверх.
— Ну, если только я узнаю, что там был джентльмен… — прошипела она.
— Тогда можете собственноручно меня выпороть! — возмущенно воскликнула я, вне себя от того, что меня приравняли к другим вертихвосткам. — Вы что, считаете меня такой же дурочкой, как леди Сара?
— Леди Сару не приводили из часовни Святой Маргариты в три часа ночи! — мрачно заметила миссис Чемперноун.
— Пока не приводили, — пробормотала я, но к счастью, она меня не услышала. — Может это и глупо, но я хотела… попрощаться с сэром Джеральдом, чтобы рядом не шушукались разные дураки. Я сама перелезла через стену, уверяю вас, и в часовне была одна, никаких молодых джентльменов там не было…(не считая Мазу, но он ведь не джентльмен, так что это абсолютная правда!) —…и я не сделала ничего дурного!
— Вы были не в постели, как положено, а там, где вам быть совершенно не положено! — отрезала миссис Чемперноун, как мне показалось, все же слегка смутившись. — Как вы посмели обмануть доверие королевы, как вы могли шляться, как…
Миссис Чемперноун глубоко вздохнула и, видимо, взяла себя в руки.
— Ну, ладно, хватит кричать, как на базаре!
«Поздно, — злорадно подумала я. — Ты уже весь двор перебудила своими воплями, дракониха старая!»
На площадке Верхней галереи миссис Чемперноун вдруг решила, что отправлять меня спать уже поздно, а вести к королеве еще рано, и закрыла в своей гардеробной комнате.
Там было темно и душно, пахло миссис Чемперноун, розовой и лавандовой водой и очень дорогим жасминовым маслом, которое ей привозят с востока, — от него и гардеробной совершенно нечем было дышать. Наверное, миссис Чемперноун надеялась, что я вся изведусь, ожидая утра. Но я так устала, что уселась на коврик, прислонила голову к стене и уснула.
Вот черт, чернила кончились! Надо пойти взять еще.
Мы перебрались через мусорные кучи, через обвитые сухими стеблями старые подпорки для бобов, и нашли в стене выбоины, но которым было удобно забираться наверх.
Мазу перекинул через стену веревку, и мы оказались по другую сторону Большого сада.
Двор по эту сторону стены окружали дома, в которых жили юные придворные джентльмены. В кустах ежевики валялись пивные бутылки, сломанные роговые кружки, трубки, столы, разбитая лютня, полдюжины стульев, видимо, поучаствовавших в драке, на гвозде, торчавшем из стены, болтался клок чьей-то нижней юбки.
Мы пробрались через мусор и, продравшись сквозь заросли (Мазу что-то сердито бормотал на своем языке, цепляясь за колючки), оказались на аллее, которая вела к нависавшей в темноте мрачной громаде Вестминстерского Аббатства. Потом, скользнув в калитку, направились к часовне Святой Маргариты, где лежало тело сэра Джеральда.
Мазу бесшумно побежал вперед выяснить, спят ли стражники лорда Уорси.
— Да наверняка! — прошептала шедшая вслед за мной Элли. — Они как раз поджидали лорда Уорси с ужина, когда я предложила сбегать в погреб, наполнить их фляжки. Бренди с опиумом — ну не славный ли напиток?
Элли хихикнула.
Появился Мазу, сверкнув зубами в темноте.
— Спят, как дети!
Мы осторожно пробрались мимо стражников — они так мило прикорнули на скамейке, прислонившись друг к другу, — и открыли тяжелую деревянную дверь в часовню.
Рядом с телом, завернутым в саван, горело шесть толстых черных свечей. Стол был накрыт дорогим полотном. Несомненно, ожидался и искусно сделанный гроб, но пока его не было.
Было очень холодно и страшно. Через старинные витражные окна светила луна, отбрасывая на саван голубые и желтые тени. В часовне стоял ужасный запах.
Элли вздрогнула и перекрестилась, а Мазу стиснул амулет, который он всегда носит на шее, и что-то пробормотал на своем языке.
Я сглотнула, шагнула вперед и с бьющимся сердцем приблизилась к трупу. Вонь и впрямь была ужасная, хуже, чем от ночного горшка. И к ней примешивался еще один запах — неприятный и горький, который бил прямо в ноздри. Странно, но от этого запаха мне захотелось плакать, хотя я не могла понять, почему. Конечно, это грустно, когда кто-нибудь умирает, но нельзя сказать, чтобы я уж очень любила сэра Джеральда!
Он лежал на спине — нож они, конечно, вынули. Я задержала дыхание и откинула саван с его лица.
На веках сэра Джеральда лежали монетки. Я убрала их. Глаза у него были наполовину открыты и напоминали желе. Я поднесла свечу поближе, но никакого отражения убийцы в них не увидела. Надо было еще взглянуть на рану, но мне совершенно не хотелось трогать тело, чтобы не навлечь на себя проклятья.
С одной стороны, дух сэра Джеральда должен бы быть доволен, что мы ищем его убийцу, но с другом — сэр Джеральд и при жизни не был большим добряком, так чего ожидать от привидения? И тут в углах его рта я заметила легкий желтый налет.
Я удивленно заморгала, а сердце мое забилось часто-часто. Такой же желтый налет был на губах у мамы, когда она умерла. Теперь я вспомнила и этот горький запах — так пахло у ее гроба. Это был горетрав.
Я застыла на мгновение, пытаясь разобраться. Безумие, конечно, но что, если сэр Джеральд уже был отравлен горетравом, когда его пырнули ножом? Это вполне объясняет отсутствие крови, не так ли? Рана не кровоточила, потому что он был уже мертв!
Вдруг снаружи послышались шаги и голоса. Мы застыли, уставившись друг на друга. Крыльцо заскрипело, потом раздался чей-то сердитый голос. Дверь распахнулась. Кто-то вошел в часовню.
Меня так затошнило, что чуть не вырвало, а ноги подогнулись, как у тряпичной куклы. Элли прижала руки ко рту. Мазу посерел.
Их здорово выпорют, если обнаружат здесь, особенно Мазу. Господи всемилостивый, да они их обоих запорют до смерти! И уволят с королевской службы! И тогда им придется голодать, что бы там Мазу и не говорил о Парижском Саде. А вот если здесь застанут меня…
— Прячьтесь, — прошептала я. — Я все улажу!
Ребята секунду помешкали, потом шустро скользнули под скамейку. Было слышно, как они там устраивались.
Я осталась там, где и стояла, — рядом с телом сэра Джеральда — и начала хныкать. Обычно мне трудно заплакать (не то, что леди Саре и Мэри, они вечно ревут, когда им что-то нужно!), но как только я представила, что всех нас выпорют, а королева отошлет меня от Двора (что еще хуже), слезы появились сами собой. Я им помогала, шмыгая носом, всхлипывая и больно прищипывая кожу над переносицей.
В часовню вошли стражники во главе с лордом Уорси. Вид у них был очень суровый. Но, как я и надеялась, при виде меня, ревущей над телом сэра Джеральда, они застыли в проходе как вкопанные.
Лорд Уорси приблизился, взволнованно и чуточку недоверчиво бормоча:
— Ну, ну, миледи… Отчего же вы не попросили разрешения попрощаться? И зачем пришли сюда ночью? Было бы более разумно появиться днем, в сопровождении… как вам подобает…
— Я… Я хотела побыть с ним наедине, — я сглотнула, стараясь вложить в эту сцену весь свой актерский талант. — Не хотела, чтобы другие указывали на меня своими носовыми платками…
— Но как вы сюда попали? Вам кто-то помог? — голос лорда Уорси прозвучал недовольно.
— Нет, нет! — воскликнула я, замирая при мысли, что он велит осмотреть часовню. — Я пришла сама, хотя и было очень страшно…
Уставившись на тело сэра Джеральда, лорд Уорси молчал. Я стояла рядом, думая, что он мог бы быть со мной и помягче. Он же мой опекун, в конце концов!
— Идемте, миледи, — сказал он, наконец. — Все это очень неподобающе. Без свиты… Так никуда не годится. Я сам провожу вас во Дворец и препоручу заботам миссис Чемперноун.
«О, нет!» — подумала я, опустила голову и заревела — уже по-настоящему.
— Ну, хватит, хватит! — Лорд Уорси крепко взял меня за руку и повел к противоположному выходу часовни. За ним последовали все его люди, таращась на меня так, точно я вдруг превратилась в медведя. Они, верно, не знали, что и думать!
Мы прошли через церковный двор в ворота, выходившие на Кинг-стрит. Потом через ворота Кинг-стрит вошли на территорию Дворца и направились к Верхней галерее.
Там лорд Уорси что-то сказал одному из стражников, и тот ушел, посмеиваясь.
Мы стояли и ждали. Лорд Уорси теребил в кармане носовой платок, а я переминалась с ноги на ногу. На сердце у меня было ох как нехорошо! Я очень надеялась, что Мазу и Элли удалось скрыться из часовни незамеченными. Мне показалось, когда мы шли через двор, сзади кралась какая-то тень, но уверена я не была.
Кажется, прошла целая вечность, и наконец в дверях появилась миссис Чемперноун, в ночной рубашке и с папильотками в волосах. На ее лице одновременно читались недоумение и возмущение. Возможно, если бы эти эмоции относились к кому-нибудь другому, мне бы стадо смешно…
— Что это значит, леди Грейс? — рявкнула она.
Пробормотав нечто нечленораздельное, я уставилась в землю.
— Почему в такое время вы не в постели? Вас застукали с молодым джентльменом? — миссис Чемперноун бросила взгляд на лорда Уорси.
— Нет! — воскликнула я. — Я просто ходила попрощаться…
— Довольно! — отрезала миссис Чемперноун. — Если я захочу послушать, как вы лжете, я сама вас об этом попрошу!
— Миссис Чемперноун, я лично могу подтвердить, что никакого молодого джентльмена не было! — заявил лорд Уорси. — В часовне была только она!
— Странно, — протянула миссис Чемперноун. Потом повернулась к лорду Уорси:
— Благодарю вас, милорд, за спасение нашей леди Грейс от ее неблагоразумия, — при этих словах миссис Чемперноун презрительно улыбнулась.
Я вздохнула.
Лорд Уорси поклонился и в сопровождении своих людей направился в апартаменты, где жил. Миссис Чемперноун присела перед ним в легком реверансе, а когда он удалился, больно схватила меня за руку и потащила наверх.
— Ну, если только я узнаю, что там был джентльмен… — прошипела она.
— Тогда можете собственноручно меня выпороть! — возмущенно воскликнула я, вне себя от того, что меня приравняли к другим вертихвосткам. — Вы что, считаете меня такой же дурочкой, как леди Сара?
— Леди Сару не приводили из часовни Святой Маргариты в три часа ночи! — мрачно заметила миссис Чемперноун.
— Пока не приводили, — пробормотала я, но к счастью, она меня не услышала. — Может это и глупо, но я хотела… попрощаться с сэром Джеральдом, чтобы рядом не шушукались разные дураки. Я сама перелезла через стену, уверяю вас, и в часовне была одна, никаких молодых джентльменов там не было…(не считая Мазу, но он ведь не джентльмен, так что это абсолютная правда!) —…и я не сделала ничего дурного!
— Вы были не в постели, как положено, а там, где вам быть совершенно не положено! — отрезала миссис Чемперноун, как мне показалось, все же слегка смутившись. — Как вы посмели обмануть доверие королевы, как вы могли шляться, как…
Миссис Чемперноун глубоко вздохнула и, видимо, взяла себя в руки.
— Ну, ладно, хватит кричать, как на базаре!
«Поздно, — злорадно подумала я. — Ты уже весь двор перебудила своими воплями, дракониха старая!»
На площадке Верхней галереи миссис Чемперноун вдруг решила, что отправлять меня спать уже поздно, а вести к королеве еще рано, и закрыла в своей гардеробной комнате.
Там было темно и душно, пахло миссис Чемперноун, розовой и лавандовой водой и очень дорогим жасминовым маслом, которое ей привозят с востока, — от него и гардеробной совершенно нечем было дышать. Наверное, миссис Чемперноун надеялась, что я вся изведусь, ожидая утра. Но я так устала, что уселась на коврик, прислонила голову к стене и уснула.
Вот черт, чернила кончились! Надо пойти взять еще.
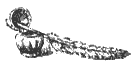
Тот же день,
новыми чернилами
У леди Сары в столе всегда есть чернила. Вот я у нее и позаимствовала. Все равно не заметит!
Утром меня растолкала ничуть не подобревшая миссис Чемперноун. Завтрака мне не дали, зато сказали, что Ее Величество ожидает меня в приемном зале.
В старом заляпанном с ног до головы костюме для верховой езды я поплелась за миссис Чемперноун, не переставая думать об Элли и Мазу. Только бы им удалось убежать!
В приемном зале королевы уже сидели и вышивали остальные фрейлины, а леди Сара-Ах-какая-я-красавица! — штопала одну из своих нижних юбок.
Королева была не на троне, но на стул, стоявший у окна, была наброшена ткань с гербом, так что встреча могла считаться вполне официальной.
Она поманила меня рукой. Я приблизилась, остановившись в трех шагах, и опустилась перед королевой на колени.
У Ее Величества белая кожа и очень темные глаза. Порой кажется, что они смотрят тебе прямо в душу. И именно туда они смотрели сейчас.
Я опустила глаза, стараясь не чувствовать себя маленькой и ничтожной, и стояла так, на коленях, довольно долго, пока…
— И что же, ради Бога, произошло нынче ночью? — воскликнула королева. — Ты в своем уме, Грейс? Клянусь, я в жизни ничего подобного не слышала!
И так далее и тому подобное, отчаянно ругаясь. Я уж не буду писать, как именно она ругалась, поберегу ее репутацию. По большей части она на разные лады повторяла, что лорд Уорси нашел меня в этой проклятой часовне.
— Так что, леди Грейс? — Королева стиснула ручку кресла. — Как ты это объяснишь?
Я вздохнула, чувствуя себя ужасно уставшей. Шея у меня совершенно занемела. Похоже, Элли и Мазу не поймали, иначе они тоже были бы здесь, в зале. Это меня очень успокоило.
— Мы ждем ответа, — холодно повторила королева.
— Я хотела… э-э… взглянуть на сэра Джеральда в последний раз…
— Зачем?
— Прошу прощения, Ваше Величество. Просто захотелось.
Я вздохнула и подняла на королеву глаза.
— Ты хотя бы молилась? — спросила та.
— Нет, Ваше Величество, не успела. Пришел лорд Уорси.
Королева, похоже, была очень недовольна.
— Лорд Уорси сказал, что в часовне никого больше не было, и что у нас нет повода обвинять тебя в дурных намерениях. Но ты должна беречь свою репутацию, Грейс! Никогда больше так не делай! Подобные поступки не к лицу молодой леди и моей фрейлине.
— Хорошо, Ваше Величество, — еще раз вздохнув, ответила я.
Наконец королева сказала:
— Возвращайся к себе в спальню, Грейс, и оставайся там, пока я за тобой не пришлю. Наверное, это бал Святого Валентина и все, что потом случилось, так на тебя подействовали. Я попрошу доктора Кавендиша проверить, здорова ли ты.
Я стояла, все так же опустив голову, надеясь, что королева не столь сердита, как кажется. И тут Ее Величество наклонилась к моему уху. Я заметила, что фрейлины смотрят на нас во все глаза, но они не расслышали ни единого ее слова.
— Послушай, Грейс, ты ставишь меня в очень неловкое положение. Я не могу прилюдно одобрять столь безумный поступок, — прошептала королева. — Проводя свое расследование, постарайся быть поаккуратнее…
Затем она подозвала миссис Чемперноун и велела ей проводить меня в наши покои.
Вернувшись к себе, я села на кровать, чувствуя огромное облегчение оттого, что заручилась поддержкой Ее Величества. Правда, она, кажется, забыла, что я еще не завтракала. Я слушала, как урчит у меня в желудке, и размышляла над тем, что делать дальше.
Днем горничная принесла мне хлеба с сыром и пива. К этому времени я уже умылась, переоделась в свой третий по счету лучший наряд и села у окна вышивать.
Помню, давно, еще в детстве, когда мама только начала учить меня вышивать, мне это занятие ужасно не понравилось. Образец, который я вышивала, был скучню-ющий! Но понемногу я втянулась, поняла, что на белом льне можно создавать целые картины, «раскрашивая» их цветными нитками.
Солнце почти закатилось, и мне пришлось бросить вышивание — я уже едва различала иголку. Я встала посредине комнаты. Мне было скучно, ужасно скучно, невыносимо скучно, до боли под ребрами! Сейчас я обрадовалась бы даже Мэри и леди Саре! Тут я вспомнила про дневник, зажгла свечу, и стала писать, благо мне никто не мешал.
Но лучше прекратить — кто-то подошел к двери.

Тот же день,
часы едва пробили семь
Это были Мазу и Элли! Мы обнялись. Мазу качал головой и что-то залопотал на своем языке, но Элли шикнула на него и с беспокойством взглянула мне в лицо.
— Они тебя выпороли? — спросила она. — Небось, задница горит? Я вот тут принесла целебной мази…
— Да нет же, — улыбнувшись, успокоила ее я. — Никто и не думал меня наказывать! Просто отослали к себе, пока королева не позовет.
— Ты что-нибудь увидела в глазах сэра Джеральда? — спросил Мазу.
— В глазах — нет, зато я заметила кое-что другое! Желтый налет на его губах и горький запах напомнили мне… — Я запнулась, ненавидя себя за слабость, — я вспомнила… когда моя… — Я снова запнулась и сглотнула. — От этого яда умерла моя мама. От яда с горьким запахом, оставляющего желтые следы.
— Точно. — пробормотала Элли. — И на ковре в его спальне это желтое было! До того дрянное пятно — и воском не оттиралось, и десятидневная моча его не брала!
Какой только гадостью они не пользуются у себя в прачечной, я иногда поверить не могу! От трудновыводимых пятен помогает, к примеру, побелевшее от времени собачье дерьмо…
— Там, где мама уронила бокал, пришлось заменить часть ковра, — наконец проговорила я. — Они тоже не могли вывести это пятно.
— Но если его отравили, зачем было еще втыкать в него нож? — совершенно справедливо поинтересовался Мазу.
Они оба взглянули на меня.
— Может, чтобы всех запутать? Или для верности? — предположила я.
Других идей ни у кого не было. Я сказала ребятам, что вообще-то ко мне не пускают, так что им лучше уйти. Тогда Элли схватила очень грязную сорочку леди Сары, и они убежали. А я думаю, что…

Тот же день,
часы уже пробили девять
Я снова прервалась и накрыла дневник подушкой (Надеюсь, все не расплывется! На наволочке уже осталось маленькое чернильное пятно…), потому что пришел мой дядя, доктор Кавендиш.
После маминой смерти я видела папиного брата либо пьяным, либо мучающимся с перепоя, одно из двух. Сейчас он был явно с похмелья — глаза налиты кровью, лицо серое, вид ужасно несчастный.
Дядя кивнул, велел мне присесть на постель, осмотрел мои глаза, уши, рот, приложил ухо к груди и прощупал пульс аж в двенадцати местах!
Потом стал задавать мне вопросы. Некоторые были настолько неприличные, что я на всё отвечала «нет», а дядюшка не знал, что и думать!
— Пожалуй, для бледной немочи ты еще слишком молода… Никаких признаков лихорадки или избытка желчи… — вздохнул он.
— Конечно, ведь я же не больна, — возмутилась я. (Еще не хватало! Ненавижу, когда пускают кровь, ставят клизму… Боже упаси!)
— Тогда что тебя подвигло на такие безумства, Грейс? Если бы ты была легкомысленной дурочкой, вроде леди Сары, я бы не удивился, но мне всегда казалось, что ты девушка здравомыслящая…
Неужели? Вот тоска-то!
— …Мне очень жаль, что ты увидела столь непристойное зрелище — убитого ножом сэра Джеральда, — продолжал дядя, — и еще больше жаль, что это недостойное деяние совершил твой нареченный. Но нельзя позволять происшедшему омрачить твой рассудок…
— Но дядя, его убили вовсе не ножом! — вставила я.
Дядя недоверчиво улыбнулся:
— Почему ты так считаешь, Грейс?
— Там ведь не было крови! А если человека убили ножом, кровь обязательно должна быть!
Дядя уставился на меня недоуменно.
— Не помнишь? Ты же мне сам рассказывал, что сердце — это печка, а легкие — кузнечные меха, и кровь, ты называл ее сангвина, разносит тепло от печки в остальные части тела, то накатывая, то откатывая, точно волны.
— Ну да, — согласился дядя.
— Но у мертвого человека поток крови останавливается, и из новой раны кровь уже не потечет… Я видела рану сэра Джеральда — вокруг нее совсем не было крови! Ты же и сам это видел!
Дядя кивнул.
— Вот поэтому я и пошла в часовню, — затараторила я. — Сначала я хотела заглянуть сэру Джеральду в глаза и увидеть там отражение убийцы. Ничего такого я не увидела, зато заметила еще кое-что…
Мой голос пресекся.
— …У него губы в желтом налете, и еще там стоял этот горький запах…
— Ты хочешь сказать…
Дядя нервно моргнул.
— Грейс, только потому, что твоя мама…
Он полез было за борт дублета, где всегда прячет фляжку, но я слегка коснулась его руки.
Дядя так долго смотрел на меня, что я даже испугалась. Его голос прозвучал очень мягко:
— Прости, девочка, я действительно должен был это заметить…
— Так пойди и посмотри! Как врач, ты бы мог потребовать вскрытия…
— Я хотел, но лорд Уорси не разрешил…
Дядя говорил с трудом.
— Но теперь я действительно пойду и взгляну на тело более внимательно!
Он поцеловал меня в щеку, сам источая горьковатый запах, но совсем иного рода, и заспешил прочь.
Леди Сара и Мэри вернулись. Я чувствовала себя ужасно усталой, наверное, оттого что не выспалась прошлой ночью. Нелегкая это работа — спасать невинных! Бросаю дневник и иду спать!
Февраль,
Семнадцатый день,
год от Рождества Христова
1569

 Я очень тороплюсь, потому что за ужином должна прислуживать Ее Величеству. День сегодня был просто безумный! Мы узнали такое! Не могу поверить, хотя слышала все своими собственными ушами! Этот секрет уж точно надо было записать апельсиновым соком, но все апельсины опять перевели на мармелад.
Мне нужны чернила и новое перо — старое исписалось так, что его больше не заточить!
Вернувшись вечером, леди Сара и Мэри Шелтон немедленно принялись бурчать по поводу разбитых баночек и оторванного полога кровати.
А что мне было делать? Я скучала-скучала, а потом подумала: а нельзя ли пройти по комнате, совсем не спускаясь на пол? Ну и во время эксперимента нечаянно разбила пару леди-Сариных баночек и немножко оторвала полог на кровати Мэри!
Утром за мной прислала королева, чтобы сообщить мне лично, что должна отправить лорда Роберта в тюрьму Флит. Это лучше, чем Тауэр, так что я надеюсь, ему там будет не очень плохо. Еще королева добавила, что я могу покинуть свои покои и продолжить расследование, а вечером она просит меня присутствовать на ужине.
Успокоенная, я вернулась к себе и переоделась в зеленый лиф и юбку для верховой езды, а потом отправилась искать Элли — я припрятала для нее пирожок со свининой от своего обеда.
Миссис Твист, смотрительница прачечной Двора, отправила Элли на задний двор чистить большие кипятильные котлы. Когда я ее нашла, она уже заканчивала.
— А потом у меня будет еще одно дело, — сказала Элли, в один присест прикончив мои пирожок, и высыпая крошки в рот. Утро было морозное, щеки и нос у нее раскраснелись.
— Надо отнести простыни к миссис Твинхоу. Пойдешь со мной?
Официально миссис Твинхоу замужем за главным кастеляном Двора, который отвечает за все столовое и постельное белье. Но вообще-то она повивальная бабка и очень умная женщина. Мне всегда хотелось с нейпоговорить.
— А она, правда, ведьма? — заинтересовано спросила я.
— Какая она ведьма! — усмехнулась Элли. — Она славная и все на свете знает про травы и лекарства. Давай ее спросим, где можно купить горетрав.
А все-таки жаль, что мисс Твинхоу не ведьма — мне всегда хотелось знать, правда ли, что ведьмы умеют летать. Но все равно было интересно с ней познакомиться, так что я отправилась вместе с Элли.
Пожалуй, поначалу миссис Твинхоу меня разочаровала: у нее даже не было бородавок! Обыкновенная кругленькая женщина с улыбчивым лицом, седыми кудряшками под чепцом и с руками, как у моряка.
Она легко взяла у нас корзины с чистым бельем и поставила их на длинные деревянные цилиндры для глажки.
— Миссис Твист велела мне помочь вам, — сказала Элли, кланяясь.
Миссис Твинхоу просияла.
— Помоги, милочка, помоги! Да называй меня миссис Беа. Твинхоу такое неловкое имя, я его и сама с трудом выговариваю. Погладь вот эти простыми, я займусь отпариванием, а подружка твоя пусть сядет да подрубит пару простыней, я их только что перелицевала!
Она вручила мне иголку, наперсток, моток ниток и огромную льняную простыню, обколотую булавками.
Потом они с Элли стали растягивать простыни между цилиндрами и гладить их горячими, прямо с жаровни, утюгами.
Это была тяжелая работа, но Элли справлялась с ней на удивление ловко. Воздух в комнате стал горячим и плотным.
Я сидела у окна и подрубала простыню, стараясь делать это как можно аккуратнее. Вот интересно, как миссис Беа догадалась дать мне именно эту работу? Может, она видела меня у королевы, вот только я ее не помню…
Элли болтала с миссис Беа о травах, а я внимательно слушала.
— Весь мыльник в кухонном садике поела какая-то мошка, — рассказывала Элли. — И теперь придется покупать его в огороде лорда Уорси на Стрэнде!
— Вот незадача, — покачала головой миссис Беа. — Его посадили вместе с чесноком и морковью?
Элли отрицательно покачала головой.
— Нет, новый садовник все сажает рядами и квадратами и никогда не смешивает разные растения на одной грядке!
— Ну и глупо, — пожала плечами миссис Беа. — Чеснок — отличная защита от мошки!
— Миссис Беа, — Элли перешла к самому главному, — леди Грейс хочет спросить вас про горетрав.
Добродушное лицо миссис Беа мгновенно посерьезнело.
— Дрянная это трава, милочка. Горетрав еще никому добра не принес!
Глаза у миссис Беа стали как у королевы — темные, пронзительные, проникающие прямо в душу.
— А почему вас интересует горетрав?
Но тут, видно, она вспомнила про мою маму:
— О, простите, дорогая…
— Миссис Беа, у меня есть причина подозревать, что сэр Джеральд Уорси был им отравлен.
Миссис Беа перестала гладить:
— Вы уверены?
— Да. Я узнала желтый налет на губах и такой горький запах, — ответила я.
— Гм… — Миссис Беа внимательно взглянула на меня, потом на Элли, потом сняла с цилиндров свежевыглаженную простыню, потом вместе с Элли стала аккуратно складывать ее, продолжив:
— Горетрав — трава из того же семейства, что паслен и белладонна, только встречается реже. Высушенный и измельченный, он превращается в безвкусный ядовитый порошок, а если его смешать, например, с вином, желтеет.
— А где его можно достать? — поинтересовалась я.
Задумавшись, миссис Беа налила в кружку эля из стоявшего на столике у двери кувшина и предложила его нам. Элли никогда не отказывается от еды или питья, и я не отказалась, потому что в комнате было очень жарко, и мне захотелось пить.
Эль был хороший, лучше, чем я ожидала, с лимонной цедрой.
— Значит так, — сказала миссис Беа, присаживаясь и разглаживая свой передник. — Я знаю в Лондоне четыре аптеки, где его продают. Он, кстати, очень дорогой, не меньше десяти шиллингов за скрупул!
— А какие это аптеки? — спросила я.
Миссис Беа усмехнулась.
— Не собираетесь же вы разгуливать по лондонским аптекам и расспрашивать хозяев, не покупал ли кто горетрав в последнее время? Не надо, милочка, хотя бы ради вашего будущего мужа!
Я кивнула, соглашаясь.
— Но что же тогда делать?
— Я сама обо всем расспрошу. Мне они скорее расскажут, поскольку знают меня. А потом я сообщу вам.
Она была так добра, что я решилась:
— А еще, миссис Беа, нам очень нужно обойти все персональные апартаменты придворных, не поднимая лишнего шума и посмотреть, нет ли там…
— Горетрава? — Миссис Беа взглянула на меня изучающе. — Гм… А как там простыня?
— Что? Ах, да! Я почти закончила. Это ведь просто!
Миссис Беа взяла простыню, критически оглядела ее и одобрительно кивнула.
— Ну что ж, пока отдохните, а я скажу миссис Твист, что послала вас собирать наволочки и простыни!
Она покопалась в ящике.
— Возьмите-ка, — она протянула мне передник и чепец. — Так-то лучше будет, дорогая.
Элли улыбнулась и сделала реверанс, и я тоже сделала реверанс, потому что миссис Беа была очень добра, а ведь она вовсе не обязана нам помогать, разве не так?
Мы взяли холщовый мешок и побежали вниз по коридору. Я была рада, что надела чепец, скрывавший мое лицо — а вдруг встретится кто из знакомых?
Элли объяснила, что всегда собирает грязное белье с кем-нибудь в паре: отчасти, чтобы в покоях ничего не пропало, а отчасти, чтобы никто ее не обидел. Миссис Беа и мистер Твист не очень-то доверяли джентльменам!
Я очень тороплюсь, потому что за ужином должна прислуживать Ее Величеству. День сегодня был просто безумный! Мы узнали такое! Не могу поверить, хотя слышала все своими собственными ушами! Этот секрет уж точно надо было записать апельсиновым соком, но все апельсины опять перевели на мармелад.
Мне нужны чернила и новое перо — старое исписалось так, что его больше не заточить!
Вернувшись вечером, леди Сара и Мэри Шелтон немедленно принялись бурчать по поводу разбитых баночек и оторванного полога кровати.
А что мне было делать? Я скучала-скучала, а потом подумала: а нельзя ли пройти по комнате, совсем не спускаясь на пол? Ну и во время эксперимента нечаянно разбила пару леди-Сариных баночек и немножко оторвала полог на кровати Мэри!
Утром за мной прислала королева, чтобы сообщить мне лично, что должна отправить лорда Роберта в тюрьму Флит. Это лучше, чем Тауэр, так что я надеюсь, ему там будет не очень плохо. Еще королева добавила, что я могу покинуть свои покои и продолжить расследование, а вечером она просит меня присутствовать на ужине.
Успокоенная, я вернулась к себе и переоделась в зеленый лиф и юбку для верховой езды, а потом отправилась искать Элли — я припрятала для нее пирожок со свининой от своего обеда.
Миссис Твист, смотрительница прачечной Двора, отправила Элли на задний двор чистить большие кипятильные котлы. Когда я ее нашла, она уже заканчивала.
— А потом у меня будет еще одно дело, — сказала Элли, в один присест прикончив мои пирожок, и высыпая крошки в рот. Утро было морозное, щеки и нос у нее раскраснелись.
— Надо отнести простыни к миссис Твинхоу. Пойдешь со мной?
Официально миссис Твинхоу замужем за главным кастеляном Двора, который отвечает за все столовое и постельное белье. Но вообще-то она повивальная бабка и очень умная женщина. Мне всегда хотелось с нейпоговорить.
— А она, правда, ведьма? — заинтересовано спросила я.
— Какая она ведьма! — усмехнулась Элли. — Она славная и все на свете знает про травы и лекарства. Давай ее спросим, где можно купить горетрав.
А все-таки жаль, что мисс Твинхоу не ведьма — мне всегда хотелось знать, правда ли, что ведьмы умеют летать. Но все равно было интересно с ней познакомиться, так что я отправилась вместе с Элли.
Пожалуй, поначалу миссис Твинхоу меня разочаровала: у нее даже не было бородавок! Обыкновенная кругленькая женщина с улыбчивым лицом, седыми кудряшками под чепцом и с руками, как у моряка.
Она легко взяла у нас корзины с чистым бельем и поставила их на длинные деревянные цилиндры для глажки.
— Миссис Твист велела мне помочь вам, — сказала Элли, кланяясь.
Миссис Твинхоу просияла.
— Помоги, милочка, помоги! Да называй меня миссис Беа. Твинхоу такое неловкое имя, я его и сама с трудом выговариваю. Погладь вот эти простыми, я займусь отпариванием, а подружка твоя пусть сядет да подрубит пару простыней, я их только что перелицевала!
Она вручила мне иголку, наперсток, моток ниток и огромную льняную простыню, обколотую булавками.
Потом они с Элли стали растягивать простыни между цилиндрами и гладить их горячими, прямо с жаровни, утюгами.
Это была тяжелая работа, но Элли справлялась с ней на удивление ловко. Воздух в комнате стал горячим и плотным.
Я сидела у окна и подрубала простыню, стараясь делать это как можно аккуратнее. Вот интересно, как миссис Беа догадалась дать мне именно эту работу? Может, она видела меня у королевы, вот только я ее не помню…
Элли болтала с миссис Беа о травах, а я внимательно слушала.
— Весь мыльник в кухонном садике поела какая-то мошка, — рассказывала Элли. — И теперь придется покупать его в огороде лорда Уорси на Стрэнде!
— Вот незадача, — покачала головой миссис Беа. — Его посадили вместе с чесноком и морковью?
Элли отрицательно покачала головой.
— Нет, новый садовник все сажает рядами и квадратами и никогда не смешивает разные растения на одной грядке!
— Ну и глупо, — пожала плечами миссис Беа. — Чеснок — отличная защита от мошки!
— Миссис Беа, — Элли перешла к самому главному, — леди Грейс хочет спросить вас про горетрав.
Добродушное лицо миссис Беа мгновенно посерьезнело.
— Дрянная это трава, милочка. Горетрав еще никому добра не принес!
Глаза у миссис Беа стали как у королевы — темные, пронзительные, проникающие прямо в душу.
— А почему вас интересует горетрав?
Но тут, видно, она вспомнила про мою маму:
— О, простите, дорогая…
— Миссис Беа, у меня есть причина подозревать, что сэр Джеральд Уорси был им отравлен.
Миссис Беа перестала гладить:
— Вы уверены?
— Да. Я узнала желтый налет на губах и такой горький запах, — ответила я.
— Гм… — Миссис Беа внимательно взглянула на меня, потом на Элли, потом сняла с цилиндров свежевыглаженную простыню, потом вместе с Элли стала аккуратно складывать ее, продолжив:
— Горетрав — трава из того же семейства, что паслен и белладонна, только встречается реже. Высушенный и измельченный, он превращается в безвкусный ядовитый порошок, а если его смешать, например, с вином, желтеет.
— А где его можно достать? — поинтересовалась я.
Задумавшись, миссис Беа налила в кружку эля из стоявшего на столике у двери кувшина и предложила его нам. Элли никогда не отказывается от еды или питья, и я не отказалась, потому что в комнате было очень жарко, и мне захотелось пить.
Эль был хороший, лучше, чем я ожидала, с лимонной цедрой.
— Значит так, — сказала миссис Беа, присаживаясь и разглаживая свой передник. — Я знаю в Лондоне четыре аптеки, где его продают. Он, кстати, очень дорогой, не меньше десяти шиллингов за скрупул!
— А какие это аптеки? — спросила я.
Миссис Беа усмехнулась.
— Не собираетесь же вы разгуливать по лондонским аптекам и расспрашивать хозяев, не покупал ли кто горетрав в последнее время? Не надо, милочка, хотя бы ради вашего будущего мужа!
Я кивнула, соглашаясь.
— Но что же тогда делать?
— Я сама обо всем расспрошу. Мне они скорее расскажут, поскольку знают меня. А потом я сообщу вам.
Она была так добра, что я решилась:
— А еще, миссис Беа, нам очень нужно обойти все персональные апартаменты придворных, не поднимая лишнего шума и посмотреть, нет ли там…
— Горетрава? — Миссис Беа взглянула на меня изучающе. — Гм… А как там простыня?
— Что? Ах, да! Я почти закончила. Это ведь просто!
Миссис Беа взяла простыню, критически оглядела ее и одобрительно кивнула.
— Ну что ж, пока отдохните, а я скажу миссис Твист, что послала вас собирать наволочки и простыни!
Она покопалась в ящике.
— Возьмите-ка, — она протянула мне передник и чепец. — Так-то лучше будет, дорогая.
Элли улыбнулась и сделала реверанс, и я тоже сделала реверанс, потому что миссис Беа была очень добра, а ведь она вовсе не обязана нам помогать, разве не так?
Мы взяли холщовый мешок и побежали вниз по коридору. Я была рада, что надела чепец, скрывавший мое лицо — а вдруг встретится кто из знакомых?
Элли объяснила, что всегда собирает грязное белье с кем-нибудь в паре: отчасти, чтобы в покоях ничего не пропало, а отчасти, чтобы никто ее не обидел. Миссис Беа и мистер Твист не очень-то доверяли джентльменам!
Мы поднялись на этаж, расположенный рядом с Большой галереей над личными покоями королевы. Казалось, где-то рядом топочет стадо слонов.
Когда я бросилась наверх, Элли меня остановила, и мы притаились у дверей галереи, слушая, как музыканты играют на скрипках и барабанах, а фрейлины учатся танцевать.
Учитель танцев, как обычно, считал вслух.
— И раз-и два-и-прыжок!
Послышалось несколько громовых ударов.
— Как перышко! — воскликнул учитель танцев. — На носочках! Mon Dieu, се sont les vaches… Vraiment…[658]
Мы с Элли захихикали. Через минуту музыка смолкла и по лестнице протопало множество ног, а потом — чуть медленнее — прозвучали шаги учителя танцев и одного из музыкантов.
Когда все ушли, мы проскользнули внутрь и увидели Мазу, прогуливавшегося по галерее на руках. Во время занятий танцами он исполнял для фрейлин роль кавалера.
— Нет, мне с вами нельзя, — сказал он, когда мы посвятили его в свои планы. — Мистер Соммерс хочет, чтобы я научился ходить на руках, жонглируя ногами. Мы готовим новый номер! — Он еще раз прошелся на руках туда и обратно, точно решил таким образом дойти до Йорка. — А потом, это прачкам разрешается ходить по покоям, а если меня там застанут, пожалуй, решат, что я хочу что-нибудь украсть!
Так что мы отправились на поиски одни. В первую очередь мы пошли в персональные апартаменты лорда Роберта: я хотела убедиться в своей правоте.
Лакей лорда Роберта сидел, прислонившись спиной к двери, и раскладывал пасьянс. Вид у него был весьма печальный.
Элли направилась прямо к нему и заявила:
— Миссис Твинхоу приказала нам забрать наволочки и простыни!
Лакей пожал плечами и открыл дверь. Я быстро, стараясь не показывать своего лица, скользнула внутрь, Элли вошла вслед за мной.
Это была маленькая, странной формы комната с большой кроватью с балдахином на четырех столбах и еще одной кроватью, приставной, на колесиках, наверное, для лакея.
А беспорядок здесь царил такой, что и представить себе невозможно! Пол был усыпан куриными костями, объедками колбасы, обрывками бумаги и грязными чулками, ну почти как в покоях некоторых фрейлин! На минуту я даже растерялась.
Мы нашли горшочки с мазями для очищения кожи — так утверждали приложенные к ним рецепты моего дяди Кавендиша. Сердца наши забились чаще, когда в сундуке лорда Роберта, под чулками, обнаружились пакетики с какими-то травами. Еще Элли выудила оттуда записку и дала мне ее прочитать. На ней тоже был почерк моего дяди. Оказалось, что травы эти были средством против заикания, а записка гласила:
«Заварить бархатцы, репей и огуречник горячим молоком или вином, добавить сахару и пить перед сном».
Бедным лорд Роберт! Очевидно, средство дяди не возымело действия!
Желтого порошка, похожего на горетрав, мы нигде не обнаружили. Зато я поняла, почему лорд Роберт так беден! Он постоянно играл в карты с другими придворными, или в кости на городских постоялых дворах. Один из сундуков почти доверху был забит его неоплаченными счетами и долговыми расписками. Похоже, лорд Роберт был должен всем, кого я знаю, и многим, о ком я даже не слыхала!
Еще там было его недописанное письмо к матери, датированное четырнадцатым февраля.
Дорогая матушка,
надеюсь, вы будете рады узнать, что благодаря стараниям Ее Величества и вашему доброму совету, удача, наконец, мне улыбнулась. Как только я обручусь с наследницей Кавендиш, я расплачусь со всеми долгами. Как вы и предсказывали, милая матушка, жемчуг ей понравился — больше, чем другие подарки, а именно фляга и нож.
К счастью, лицо у девицы Кавендиш довольно чистое, хотя она слитком костлява и едва только начинает походить на женщину. Она кажется целомудренной и жизнерадостной, а худший ее недостаток в том, что она слишком много болтает. Но, думаю, со временем это можно изменить к лучшему.
— Вот еще! — воскликнула я, чувствуя себя глубоко уязвленной.
Я думала, лорд Роберт подарил мне жемчуг, потому что узнал, как я его люблю, а он, оказывается, последовал совету матери! А еще хуже, гораздо хуже — то, что его интересует только мое состояние. Как гадко и неромантично! И кто он такой, чтобы заявлять, что у меня «лицо довольно чистое» и что я «слишком много болтаю»?! Уж это куда лучше, чем не уметь связать двух слов, так я считаю!
Я не разорвала письмо, хотя и очень хотелось. Я даже прочитала отрывок из него Элли, которая не знала, смущаться ей или смеяться, а потом положила письмо обратно в сундук.
Теперь мне было совершенно ясно, что лорд Роберт меня не заслуживает. Он может забрать свое жемчужное ожерелье назад и сообщить своей разлюбезной матушке, что все сорвалось!
Но все-таки желтого порошка здесь не было!
Элли нашла одну «чужую» наволочку, убрала ее в свою сумку, а потом вопросительно взглянула на меня:
— Ну и?
— Я все равно собираюсь вытащить его из тюрьмы! — заявила я решительно. Но замуж за него не пойду! А теперь нам надо проверить вещи леди Сары…
Элли удивленно подняла брови.
— Сэр Джеральд ухаживал за ней, — объяснила я. — Может, она его возненавидела за то, что он сделал предложение мне. Хотя я точно знаю, — добавила я печально, — что он согласился на это по указке своего дяди, лорда Уорси. Тоже из-за моего состояния.
— Уж точно, всех их только деньги интересуют! — ядовито заключила Элли. — Всех, кроме сэра Чарльза, у которого и своих полным-полно!
Выйдя из апартаментов лорда Роберта, Элли поблагодарила лакея, который все так же уныло раскладывал пасьянс.
Мы быстро спустились вниз к Каменной галерее, перешли маленький мостик и оказались на верхнем этаже Внутренней галереи, там, где располагались покои фрейлин и придворных дам королевы.
В нашей комнате Элли начала шустро перебирать всякие бутылочки и баночки леди Сары. Изумрудно-желтой среди них не было. Зато было несколько пурпурных, и некоторые из них выглядели и пахли ну совершенно тошнотворно!
Кроме того, мы нашли свинцовые белила для лица и киноварь для губ, порошок лазурита и малахита, чтобы красить веки в голубой и зеленый, и несколько брусочков особой восточной подводки для глаз и чернения бровей. Понюхав содержимое одной бутылочки, Элли заявила, что это настойка пижмы и королевской мяты, а надпись на другой гласила: «ДЛЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ ВСЕХ ВИДОВ ЛЮБВИ». Прочтя это, я не выдержала и рассмеялась.
Еще там был миниатюрный портрет леди Сары — с неправдоподобно хорошеньким личиком и бюстом еще большим, чем в жизни. Кроме этого, в ее сундуке мы обнаружили несколько дюжин любовных писем от разных сумасшедших подхалимов, и среди них было несколько писем от сэра Джеральда, лорда Роберта и даже сэра Чарльза!
Я не на шутку обиделась. Они были обязаны ухаживать за мной, а не слать весь этот мусор леди Саре! Неужели большой бюст такая важная вещь?
— Еще какая! — заявила Элли, когда я поделилась с ней этой мыслью.
Я не удержалась, сунула нос в комнату миссис Чемперноун, аккуратную и чистую, с большой стопкой разных книг возле кровати. Я заглянула в парочку — сплошные занудные проповеди!
И никакого желтого порошка!
Мы решили проверить и персональные апартаменты лорда Уорси — уж проверять, так всех! Там было столько разных бумаг, сколько я за всю жизнь не видела! Пройдясь по комнате, Элли нашла под кроватью простыню с каким-то отвратительным пятном и убрала ее в сумку.
А я обнаружила рецепт от облысения, пакетик с зеленым порошком и несколько баночек с мазями. Я приоткрыла у одной из них крышечку — и от нее так сильно запахло лошадиным навозом, что даже Элли на другом конце комнаты скорчила гримасу, а уж каково было мне! Я поскорее закрыла банку.
Потом мы направились к сэру Чарльзу, хотя Элли была против.
— Сэр Чарльз — добрый старикан! На Рождество он передал для меня отличные чаевые и два пирожка с мясом, да потом еще проверил, получила ли я их! — заявила она, подбоченясь.
— Элли, мы должны проверить всех, кто имеет к этому отношение. Под подозрением все, кроме королевы! — заявила я твердо.
Персональные апартаменты сэра Чарльза располагались недалеко от дворцовых ворот, рядом с небольшой конюшней. В одной из комнат на выдвижной кровати спал его лакей, так что нам с Элли пришлось пробираться мимо на цыпочках. Но если что, мы всегда могли отговориться, что ищем наволочки для миссис Твинхоу!
Мы проверили несколько баночек на столе, заглянули под кровать и в сундук с одеждой. Никакого желтого порошка!
И только когда мы снова вернулись к двери, я заметила одну странную вещь. У кровати сэра Чарльза была выставлена его обувь: две пары хороших туфель для носки при дворе и одна пара сапог для верховой езды, всё совсем новое. А поглубже, под кроватью, стояли еще две пары туфель и пара сапог, но довольно поношенные. Кроме того, обувь из-под кровати была значительно меньшего размера, чем обувь у кровати. Я даже взяла туфли и сравнила их!
— Посмотри-ка! — прошептала я Элли. — Разве это не странно?
— Что? — удивилась она.
— Туфли! Посмотри, новые — большие, а старые, под кроватью — маленькие! Как будто сэр Чарльз вдруг вырос, как я с прошлого года. Но ведь он уже не растет!
Элли глянула и застыла в изумлении.
Вдруг я услышала шаги в коридоре.
— Стивенс, ты здесь? — раздался голос сэра Чарльза.
Мы с Элли в ужасе переглянулись, потом Элли присела и полезла под кровать, и я за ней следом. Едва мы успели спрятаться в куче старых чулок и обуви, как вошел сэр Чарльз.
Я взглянула на его ноги. На нем была еще одна пара сапог, абсолютно новых, щегольских и очень больших. Я попыталась вспомнить, какого размера были ноги сэра Чарльза, когда мы занимались верховой ездой, но не смогла.
Сэр Чарльз подошел к спавшему лакею и встряхнул его несколько раз.
— Что? Что такое? — пробормотал тот, и, видимо, проснувшись, быстро вскочил на ноги.
— Да, мистер Эймсбери.
Мы с Элли переглянулись. Мистер Эймсбери?
— Иди, посмотри, как там мой брат. Убедись, что у него есть вода, и что он как следует заперт, — сказал мужчина, которого я приняла за сэра Чарльза.
— Да, хозяин, как прикажете, — хмуро ответил Стивенс.
— Именно это я и приказываю, Стивенс!
Голос был холодным и неприятным, вовсе не похожим на дружелюбный рокот сэра Чарльза.
У меня просто отвисла челюсть. Это был не сэр Чарльз, это был кто-то другой! С таким же лицом, но с большими ногами…
В голове у меня промелькнуло — а ведь у сэра Чарльза, кажется, был брат? Я зажмурилась, пытаясь вспомнить. Брат, который погиб во Франции… Если только он действительно погиб! Как его звали? Гарри? Нет. Гектор!
— Лучше бы пырнуть его ножом, сэр, да скинуть в Темзу, — проворчал Стивенс, натягивая куртку. — Так было бы…
— Спасибо за совет, Стивенс. Я сам знаю, что лучше! — оборвал его двойник сэра Чарльза — Я не могу этого сделать, пока не узнаю, как он ведет свои дела и где хранит документы на дом!
— Не думаю, что он вам скажет, сэр, — возразил Стивенс. — Боюсь, его придется долго уговаривать!
— Я знаю своего брата, Стивенс. Он все расскажет, как только ему станет нечего есть!
Неужели так можно говорить о родном брате! У Элли глаза стали как блюдца, а я прижала руку ко рту — от старых чулок ужасно несло вонючим сыром — впору было задохнуться!
— Я решил ненадолго заболеть. По крайней мере, так я избавлюсь от всех этих насмешек, — продолжал самозванец. Вне всякого сомнения, это был малопочтенный брат сэра Чарльза Гектор!
 Он присел на кровать и с помощью Стивенса переобулся в сапоги для верховой езды.
— Но для начала надо сходить на конюшню, а то кто-нибудь решит, что мой помешанный на лошадях брат забыл про своих чудовищ. А потом я навещу его… и поговорю… Так ему и передай!
— Да, сэр, — Стивенс уже был возле двери. — А могу я… поторопить его… так, совсем немножко?
— Пожалуй. Но не наноси ему серьезных повреждений, — тем же отвратительным холодным голосом ответил Гектор Эймсбери.
— Конечно, сэр!
Все еще прижимая руку ко рту, чтобы не закашляться, я молилась, чтобы Гектор поскорее ушел, и можно было выбраться из этих проклятых чулок! На Элли запах, похоже, не действовал, но ее всю трясло.
Ничего себе брат этот Гектор Эймсбери! Держит сэра Чарльза в заточении и морит его голодом! Ужасно! Особенно учитывая то, как сэр Чарльз любит поесть…
Как только за мошенниками закрылась дверь, я вынырнула из-под кровати. Элли последовала за мной, все еще дрожа.
— Господи, помоги нам! — воскликнула я. — Наверное, этот тип и убил сэра Джеральда!
— Уж наверняка! Если он этакое творит со своим родным братом… — Элли покачала головой. — А бедный сэр Чарльз так любит покушать!
— Вот поэтому Гектор и не понравился Ласточке, — задумчиво произнесла я. — Ласточка — умное животное, она сразу поняла, что это не сэр Чарльз. Потому-то он не смог спеть на балу «Зеленые рукава»! Но зачем же ему так поступать с собственным братом?
Мы побежали обратно в Длинную галерею, чтобы все рассказать Мазу. Он все так же кувыркался с рук на ноги и обратно, успевая при этом делать сальто в воздухе.
Правда, выслушав нашу историю, Мазу кувыркаться перестал.
— Мы должны спасти сэра Чарльза! — заявила я решительно.
Ребята уставились на меня:
— Но как? — спросила Элли.
— Ясно, как! Найти, где его прячут, и освободить! — сказала я. — Надо проследить за Гектором Эймсбери и выяснить, куда он ходит!
Мазу взглянул на нас, потом словно в какой-то пьесе обвел взглядом зал и ткнул себя пальцем в грудь.
Я нежно ему улыбнулась и кивнула.
Мазу надел туфли, засунул ноги в деревянные кломпы и направился к двери.
— Он сейчас в конюшне, — уточнила я. — А потом собирается навестить брата.
Мазу кивнул и сбежал вниз по лестнице. Потом вдруг вернулся и спросил:
— А если он возьмет лодку?
Я покопалась в кармане юбки и протянула Мазу несколько пенсов.
— А если он тебя заметит, сделай вид, что идешь за ним, потому что ищешь работу, — предложила я.
Мазу ухмыльнулся и побежал вниз.
Мы с Элли вернулись в апартаменты сэра Чарльза и обследовали их как положено, от угла до угла. И ничего не обнаружили. Ни крошки порошка какого бы то ни было цвета, не говоря уж о желтом, и ни пятнышка.
Элли подобрала две грязные рубашки, и мы побрели к миссис Беа, которая забрала все наши трофеи, осмотрела их и велела Элли вернуться к своей работе в прачечной.
Потом миссис Беа внимательно взглянула на меня:
— Ну, что, нашли что-нибудь интересное? — спросила она.
Я хотела было рассказать ей про сэра Чарльза и Гектора, но не решилась, опасаясь, что она всё передаст миссис Чемперноун. Стараясь не показать, что нервничаю, я отрицательно покачала головой.
— Горетрава нигде не было, — объявила я, изобразив разочарование (и кажется, мне это удалось!).
— Гм-м… Зайдите-ка ко мне завтра, дорогая. Может, я сообщу вам, кто из аптекарей недавно его продавал. Хотя имейте в виду, они могут запамятовать, а могут и нарочно промолчать, если за молчание было заплачено! Но для вас я постараюсь. Да и жаль будет, если лорд Роберт расстанется с головой ни за что, ни про что!
— А его разве не повесят? — спросила стоявшая в дверях Элли (Ну и кошмарный вопрос! Уж чего-чего, а сплетню она никогда не пропустит!) — А я думала, убийц вешают!
— Верно, но лорд Роберт благородного рода, так что он может просить о снисхождении, то есть чтобы ему отрубили голову, — объяснила миссис Беа.
«Ну и снисхождение! — подумала я. — Но до чего милая эта миссис Беа, что нам помогает!» Видно, я произнесла это вслух, потому что миссис Беа так расхохоталась, что даже щеки у нее затряслись.
— Господь с вами, леди Грейс, — сказала она, — неужто я буду желать смерти тому, кто должен мне столько денег!?
— Так он и вам должен?
— А как же! За три пузырька мази от бородавок, да за заговор от заикания, да еще за один — на удачу в картах, но за этот я денег не возьму, он, похоже, не действует!
— Лорд Роберт, кажется, должен всем, — вздохнула я. — Вот поэтому он и хотел на мне жениться…
— Ну конечно же, милочка, а ты что же, думала, что он в тебя влюблен? Ты сама-то, надеюсь, в него не влюбилась?
— Да нет, — я отрицательно покачала головой. — Он ничего такого не сделал, за что я могла его полюбить, он и двух слов связать не может! А потом, влюбляться — это недостойно, это занятие только для мужчин!
Миссис Беа хихикнула.
— Это верно! Такой благородной леди, как вы, не пристало влюбляться, и я очень рада слышать, что голова у вас крепко сидит на плечах!
— Не то, что у лорда Роберта! — вставила Элли и тоже хихикнула.
Вернув миссис Беа ее чепец и передник, я направилась к себе.
Перед дверью в наши покои для меня был оставлен ужин: белые хлебцы, солонина, тушеные овощи и твердый сыр с протертыми корнями синеголовника, предохраняющими от цинги. Я с аппетитом проглотила все, что мне принесли, и теперь сижу и пишу дневник. Но кто-то подошел к двери…
Он присел на кровать и с помощью Стивенса переобулся в сапоги для верховой езды.
— Но для начала надо сходить на конюшню, а то кто-нибудь решит, что мой помешанный на лошадях брат забыл про своих чудовищ. А потом я навещу его… и поговорю… Так ему и передай!
— Да, сэр, — Стивенс уже был возле двери. — А могу я… поторопить его… так, совсем немножко?
— Пожалуй. Но не наноси ему серьезных повреждений, — тем же отвратительным холодным голосом ответил Гектор Эймсбери.
— Конечно, сэр!
Все еще прижимая руку ко рту, чтобы не закашляться, я молилась, чтобы Гектор поскорее ушел, и можно было выбраться из этих проклятых чулок! На Элли запах, похоже, не действовал, но ее всю трясло.
Ничего себе брат этот Гектор Эймсбери! Держит сэра Чарльза в заточении и морит его голодом! Ужасно! Особенно учитывая то, как сэр Чарльз любит поесть…
Как только за мошенниками закрылась дверь, я вынырнула из-под кровати. Элли последовала за мной, все еще дрожа.
— Господи, помоги нам! — воскликнула я. — Наверное, этот тип и убил сэра Джеральда!
— Уж наверняка! Если он этакое творит со своим родным братом… — Элли покачала головой. — А бедный сэр Чарльз так любит покушать!
— Вот поэтому Гектор и не понравился Ласточке, — задумчиво произнесла я. — Ласточка — умное животное, она сразу поняла, что это не сэр Чарльз. Потому-то он не смог спеть на балу «Зеленые рукава»! Но зачем же ему так поступать с собственным братом?
Мы побежали обратно в Длинную галерею, чтобы все рассказать Мазу. Он все так же кувыркался с рук на ноги и обратно, успевая при этом делать сальто в воздухе.
Правда, выслушав нашу историю, Мазу кувыркаться перестал.
— Мы должны спасти сэра Чарльза! — заявила я решительно.
Ребята уставились на меня:
— Но как? — спросила Элли.
— Ясно, как! Найти, где его прячут, и освободить! — сказала я. — Надо проследить за Гектором Эймсбери и выяснить, куда он ходит!
Мазу взглянул на нас, потом словно в какой-то пьесе обвел взглядом зал и ткнул себя пальцем в грудь.
Я нежно ему улыбнулась и кивнула.
Мазу надел туфли, засунул ноги в деревянные кломпы и направился к двери.
— Он сейчас в конюшне, — уточнила я. — А потом собирается навестить брата.
Мазу кивнул и сбежал вниз по лестнице. Потом вдруг вернулся и спросил:
— А если он возьмет лодку?
Я покопалась в кармане юбки и протянула Мазу несколько пенсов.
— А если он тебя заметит, сделай вид, что идешь за ним, потому что ищешь работу, — предложила я.
Мазу ухмыльнулся и побежал вниз.
Мы с Элли вернулись в апартаменты сэра Чарльза и обследовали их как положено, от угла до угла. И ничего не обнаружили. Ни крошки порошка какого бы то ни было цвета, не говоря уж о желтом, и ни пятнышка.
Элли подобрала две грязные рубашки, и мы побрели к миссис Беа, которая забрала все наши трофеи, осмотрела их и велела Элли вернуться к своей работе в прачечной.
Потом миссис Беа внимательно взглянула на меня:
— Ну, что, нашли что-нибудь интересное? — спросила она.
Я хотела было рассказать ей про сэра Чарльза и Гектора, но не решилась, опасаясь, что она всё передаст миссис Чемперноун. Стараясь не показать, что нервничаю, я отрицательно покачала головой.
— Горетрава нигде не было, — объявила я, изобразив разочарование (и кажется, мне это удалось!).
— Гм-м… Зайдите-ка ко мне завтра, дорогая. Может, я сообщу вам, кто из аптекарей недавно его продавал. Хотя имейте в виду, они могут запамятовать, а могут и нарочно промолчать, если за молчание было заплачено! Но для вас я постараюсь. Да и жаль будет, если лорд Роберт расстанется с головой ни за что, ни про что!
— А его разве не повесят? — спросила стоявшая в дверях Элли (Ну и кошмарный вопрос! Уж чего-чего, а сплетню она никогда не пропустит!) — А я думала, убийц вешают!
— Верно, но лорд Роберт благородного рода, так что он может просить о снисхождении, то есть чтобы ему отрубили голову, — объяснила миссис Беа.
«Ну и снисхождение! — подумала я. — Но до чего милая эта миссис Беа, что нам помогает!» Видно, я произнесла это вслух, потому что миссис Беа так расхохоталась, что даже щеки у нее затряслись.
— Господь с вами, леди Грейс, — сказала она, — неужто я буду желать смерти тому, кто должен мне столько денег!?
— Так он и вам должен?
— А как же! За три пузырька мази от бородавок, да за заговор от заикания, да еще за один — на удачу в картах, но за этот я денег не возьму, он, похоже, не действует!
— Лорд Роберт, кажется, должен всем, — вздохнула я. — Вот поэтому он и хотел на мне жениться…
— Ну конечно же, милочка, а ты что же, думала, что он в тебя влюблен? Ты сама-то, надеюсь, в него не влюбилась?
— Да нет, — я отрицательно покачала головой. — Он ничего такого не сделал, за что я могла его полюбить, он и двух слов связать не может! А потом, влюбляться — это недостойно, это занятие только для мужчин!
Миссис Беа хихикнула.
— Это верно! Такой благородной леди, как вы, не пристало влюбляться, и я очень рада слышать, что голова у вас крепко сидит на плечах!
— Не то, что у лорда Роберта! — вставила Элли и тоже хихикнула.
Вернув миссис Беа ее чепец и передник, я направилась к себе.
Перед дверью в наши покои для меня был оставлен ужин: белые хлебцы, солонина, тушеные овощи и твердый сыр с протертыми корнями синеголовника, предохраняющими от цинги. Я с аппетитом проглотила все, что мне принесли, и теперь сижу и пишу дневник. Но кто-то подошел к двери…
Февраль,
Восемнадцатый день,
год от Рождества Христова
1569


Полдень
О Боже! Столько всего надо записать, а я даже не знаю, с чего начать! Я опять всю ночь не спала и ужасно устала. Но записать это обязательно нужно, как бы голова у меня ни кружилась. А не то я и вовсе не засну!
Это было самое потрясающее ночное приключение в моем жизни!
Когда меня прервали в последний раз, это зашла миссис Чемперноун:
— Где вы были, дитя мое? — потребовала она ответа, входя в комнату. — Ее Величество о вас спрашивала!
— Я… гуляла по дворцу. Ее Величество разрешила мне… — я надеялась, что для миссис Чемперноун мой лепет прозвучит убедительнее, чем для меня самой!
— Думаю, мы слишком вас разбаловали, леди Грейс, — сурово заметила миссис Чемперноун. — Одевайтесь, будете прислуживать Ее Величеству за ужином. И не вздумайте еще что-нибудь выкинуть!
Лорд Уорси опять ужинал с королевой, но в этот раз меня к столу не пригласили. Я только поднесла королеве вина, когда она попросила, да подержала салфетку, о которую она вытерла пальцы после того, как ополоснула их. Королева держалась отстраненно, и мне никак не удавалось сообщить ей о том, что удалось разузнать.
«Интересно, — думала я, нервно кусая ногти, — как там Мазу. Вернулся ли он? И все ли с ним в порядке?» Королева сделала мне замечание, и я опустила руку.
Вошли акробаты и, слава Богу, Мазу был среди них! Сначала он шел на руках, потом перекувырнулся и встал на ноги. Он подмигнул и так пристально посмотрел на меня, что я едва дождалась удобного случая, чтобы улизнуть. Наконец меня отправили в кладовую за элем.
Жонглеры и акробаты уже были в кладовке и жадно пили его в свое удовольствие. Мазу исполнил целый спектакль, наполнив кувшин элем и возвратив его мне. Потом мы отошли в небольшую нишу, и он мне все рассказал.
— Я пошел за сэром Чарльзом, — сказал он и изобразил, как крался, перебегая от дерева к дереву.
— Вообще-то это не сэр Чарльз, это его брат, Гектор! — поправила я.
Мазу возвел глаза к потолку:
— Кто будет рассказывать, ты или я?
Я засмеялась и сделала жест рукой, чтобы он рассказывал дальше.
Тогда Мазу нарочито почтительно мне поклонился и продолжил:
— Я последовал за этим братом-шайтаном в конюшни, моля Аллаха, чтобы он не отправился к Несчастному верхом, и слава Аллаху, он не отправился! Он обругал за что-то конюхов, а потом спустился к реке и крикнул: «Эй, весла!»
И тут же появилась черная лодка с черными парусами и зеленым змеем на веслах. Он сел в нее, и змей унес его в сторону Лондона.
Едва он отчалил, я тоже крикнул: «Эй, весла!», и тут же появилась золотая ладья с алыми веслами и желтым змеем на веслах.
Змей спросил: «Чего желаете, о принц акробатов?» Я прыгнул к нему в лодку и взмолился: «О, змей! Отвези меня вслед за этим братом-шайтаном!»
Змей тут же обратился в джинна и потребовал: «Тогда плати шесть пенсов!» Мне ничего не оставалось, как согласиться.
И тогда он налег на весла и поплыл за братом-шайтаном, прямо до сверкавшей серебром и золотом лестницы, которая вела в волшебный сад с маленькими каменными домиками. Там я расплатился с джинном и вышел на берег.
Я спрятался под волшебным кустом, накрывшим меня подобно плащу-невидимке, а брат-шайтан направился к одному из домиков и постучал в дверь. Дверь ему открыл другой шайтан, у которого кулаки были в крови. Сам я не видел Несчастного, но он наверняка был там, ибо так сказал его брат-шантан.
В великом страхе быть обнаруженным, я спустился к воде и стал искать лодку. На мой зов появилась крошечная скорлупка с паутинкой вместо паруса. Управляла ею маленькая обезьянка. Я стал умолять обезьянку взять меня на борт, и она согласилась. Так я вернулся во Дворец и успел выступить перед королевой.
Сложив руки на груди, Мазу поклонился, а я захлопала в ладоши.
— Чудесная история! А есть в ней хоть слово правды?
— Конечно, самая суть! — ухмыльнулся Мазу. — Я выяснил, что сэра Чарльза держат в одном из коттеджей возле кладбища Святой Марии Ронсевальской.
— Сегодня ночью отправляемся туда! — решительно заявила я. Сердце у меня ушло в пятки при мысли о том, что скажет королева, но что я могла поделать? — Скажи, а можем мы попасть внутрь, но так, что бы охрана не заметила?
Мазу задумался.
— Там есть стеклянные окна, довольно маленькие… я могу в них пролезть. Это очень опасно, миледи, но думаю, возможно!
— Раз так, мы это сделаем! Ты договоришься насчет лодки?
Мазу снова сложил руки на груди и поклонился.
— Слушаюсь и повинуюсь, миледи, — сказал он и колесом укатился прочь.
Схватив кувшин, я заспешила в личные покои королевы. Там, сделав реверанс и приложив руку ко лбу, я попросила Ее Величество разрешить мне пойти в постель, ибо от событий последних дней меня мучает ужасная мигрень.
Ее Величество не поверила — я это почувствовала, но позволила мне удалиться.
И снова мне пришлось лежать, как деревянной лодке, застыв от страха и волнения, в ночной рубашке поверх платья, пока Мэри и леди Сара не вернулись от королевы. Правда, вернулась только Мэри, а леди Сара и вовсе не пришла.
«Вот и отлично! — подумала я. — Нажалуюсь на нее потом, она-то всегда на меня жалуется!»
Едва только Мэри захрапела, я пробралась на цыпочках к воротам в Большой сад, у которых меня уже поджидали Мазу и Элли.
— Ты взяла деньги? — спросил Мазу. — За лодку надо будет платить!
У меня было с собой несколько пенсов. Прячась от слуг и придворных — любителей ночных прогулок, мы прокрались к причалу. Мазу тихонько свистнул, и откуда-то появилась лодка. Только это была не обычная лодка, что плавают по Темзе, а крошечная, с маленьким парусом, и в ней сидел худой мальчишка не старше Мазу.
— Кто это? — прошептала я. — Это и есть твоя обезьянка в скорлупке?
— Миледи, позвольте представить вам моего друга Керси, — сказал Мазу, отводя руку назад и кланяясь, как настоящий придворный. — Керси, это леди Грейс, я тебе о ней говорил!
— А что ты ему говорил? — шепнула я.
Изобразив полную невинность, Мазу пожал плечами.
Мальчик в лодке бросил весла, сорвал с головы потертую шапку и поклонился.
— Мое почтение, леди, — сказал он. — Мазу, прости, что я тебе ее поверил! Прошу на борт, леди, — добавил он, подмигивая Элли.
Элли фыркнула.
— Не надо звать меня «леди», — недовольно заявила она, пока мы залезали в лодку. — Я здесь с моей госпожой и блюду ее репутацию!
Мазу ткнул меня локтем, я достала кошелек и отдала Керси все деньги, что у меня были. Он хмыкнул, спрятал их в рукав, потом смущенно кашлянул.
— Мазу сказал мне, что вы придворная дама Ее Величества…
— Я — фрейлина, — ответила я, подумав, что лучше бы Мазу держал язык за зубами!
— Хорошо, фрейлина, а еще он сказал, что вы каждый день видите королеву и говорите с ней…
— Это правда, — подтвердила я.
— Я тоже однажды видел королеву, — сказал Керси. — Она была вся в серебристом и черном бархате, а в волосах у ней были бриллианты. Я придерживал лодку, пока она перебиралась из нее на баркас… мой отец служит на королевском баркасе… Она наступила мне на большой палец, а потом дала свой платок…перевязать… и пожелала, чтобы у меня все быстрее зажило. Она такая чудесная, правда? Просто дала мне свой платок и сказала…
— Она очень добра со всеми, кто ей служит, — согласилась я.
Керси повез нас вдоль северного берега Темзы, огибая опасные водовороты. Разговором он был увлечен явно больше, чем веслами, и я слегка нервничала.
— Я хотел бы видеть ее каждый день, как вы, — лицо его светилось обожанием. — А как можно стать придворным?
— Для этого надо быть богатым, или достаточно богатым, чтобы таковым притворяться, — ответила я.
Керси кивнул:
— А насколько богатым?
— Один бархатный костюм стоит сотню фунтов, и это еще дешево! — сообщила я.
Керси от изумления приоткрыл рот, потом закрыл его и больше ни о чем не спрашивал.
Мазу постучал по борту, и Керси подвел лодку к блестящей скользкой стене одного из домов, стоявших прямо у воды. На реку выходило несколько окон, прямо из воды к воротам вели деревянные сходни.
— Вон там держат сэра Чарльза, — прошептал Мазу, указывая на домик. — У дверей стражник, так что я проберусь другим путем!
Керси привязал нос своего суденышка к кольцу в стене.
— Надо залезть вон на тот выступ, — Мазу показал в сторону окон. — И еще мне нужно кольцо с бриллиантом.
— Это зачем? — удивилась Элли.
Мазу блеснул зубами.
— Затем, что стекло можно разрезать только бриллиантом! — объяснил он.
— Гм, — сказала Элли.
В мамином жемчужном колечке были бриллианты. Я секунду помешкала, потом вручила его Мазу.
Он улыбнулся — я ведь могла и отказать! — кольцо было очень дорогое.
— Это хорошо, что ты такая высокая. Надеюсь, ты еще и сильная! Поможешь мне залезть туда, — заявил он, обращаясь ко мне.
— Стоя в лодке?
— Да. Лестница здесь не поможет — она не гнется.
Керси привязал корму лодки к другому кольцу.
— Но… — начала я.
— Керси и Элли тебя подстрахуют. Все, что от тебя требуется — это стоять прямо. Я сам по тебе заберусь, как по дереву.
Стоять прямо? В лодке? Различив в стене небольшой выступ, я наклонилась вперед и что было сил вцепилась в него.
— Отлично! — сказал Мазу и прыгнул мне на спину.
У меня вырвалось: «Ох!», и я чуть не упала. С виду невысокий и гибкий, Мазу все-таки был очень тяжелым!
— Я же тебе говорила, давай лучше я, — фыркнула Элли. — Я сильнее!
— Она выше! — ответил Мазу, ставя ногу мне на плечо. — Так, еще чуть-чуть, достаточно…
Лодка скрипела и раскачивалась.
Удерживая равновесие, Мазу встал мне на другое плечо. Как было больно! Я думала, плечи у меня сломаются! Потом я почувствовала толчок, и сразу стало легко.
Мазу примостился на выступе, заглядывая в окно. Потом разочарованно буркнул что-то, обогнул его, прижавшись к стене, и заглянул в другое окно. И снова буркнул.
Элли и я таращились на него, опасаясь, что все наши старания окажутся напрасными. Я заметила, что через спину Мазу перекинуто что-то длинное, узкое, завернутое в ткань, но не могла понять, что это.
Мазу перелез дальше и заглянул в следующее окно.
— Ага! Слава Аллаху!
Кажется он сидел там целую вечность, потом послышался отвратительный царапающий звук алмаза по стеклу и быстрый частый стук. С помощью пальцев и ножа Мазу вытащил из рамы большой кусок оконного стекла и швырнул его в Темзу. Потом просунул в дырку руку, нашел щеколду и приоткрыл окно. Дальше Мазу распустил веревку, которая была обмотана у него вокруг талии, и привязал один ее конец к оконному откосу.
 — Лезьте сюда, леди Грейс, — негромко сказал он, глядя на меня сверху вниз.
Я совершенно не знала, как это делается! Тогда Мазу велел мне обмотать веревку вокруг талии и подтягиваться на руках, упираясь пальцами ног в уступы на стене.
Эта стена была такая скользкая! Дважды я чуть не свалилась в воду, но все-таки умудрилась влезть на выступ и сгруппироваться там. Сердце у меня билось бам-та-да-бам! — как барабан во время танцев.
Мазу перекинул веревку в комнату и спрыгнул вниз, я за ним. Внутри стоял отвратительный запах сырости и неопорожненного ночного горшка, а на соломе в самом углу, лежал, завернувшись в плащ, крупный мужчина.
Я подошла и тронула его за плечо. Он дернулся и вскочил, выставив кулаки. Я попятилась.
— Кто? Что? — прорычал он.
— Сэр Чарльз? — неуверенно спросила я.
Мазу в это время возился с огнивом. Когда он зажег свечу, у меня не осталось и сомнений — это действительно был сэр Чарльз, хотя выглядел он ужасно! Борода свалялась, волосы торчат в разные стороны. Он был без камзола, кутался в плащ, и вдобавок под глазом у него был синяк.
— О небо, леди Грейс! Господи всемилостивый! — воскликнул настоящий сэр Чарльз. И вдруг он недоверчиво сузил глаза. — Вас привел мой брат?
— Нет, нет! — я даже обиделась. — Я не знаю, что он за брат, но мы пробрались сюда, чтобы вас спасти!
Я объяснила ему, что мы разузнали и как здесь оказались. Сэр Чарльз, не веря своим ушам, только качал головой.
Мазу в это время сиял и разворачивал то, что было у него на спине. Потом поклонился сэру Чарльзу.
— Сэр, боюсь, окно для вас будет узковато, но у меня есть вот что! — Он вручил сэру Чарльзу острый стилет.
Сэр Чарльз схватил его, попробовал лезвие, затем отрицательно покачал головой.
— Я не смогу. Вот, — он приподнял ногу, и мы увидели у него на щиколотке кольцо, цепь от которого была вмурована в стену.
Мазу снова улыбнулся и достал небольшой футляр. Внутри были разные крючки и напильники. Он принялся что-то делать с кольцом на ноге сэра Чарльзе, а я в это время стояла у двери и прислушивалась, не идет ли стражник. Несколько царапающих звуков, скрежет напильника, щелчок — и сэр Чарльз вскочил на ноги со стилетом в руке. Несмотря на свою полноту и возраст, выглядел ом решительно и грозно.
— Теперь молитесь и полезайте обратно, — приказал он нам.
— Но сэр Чарльз, мы же можем вам помочь… — начала я.
— Леди Грейс, это зрелище не для вас! Встретимся у сходней, — решительно повторил сэр Чарльз.
Мазу почтительно поклонился ему, держа веревку, чтобы я могла подняться и спуститься — это было еще труднее, чем в прошлый раз, потому что ладони у меня горели.
Мы спрыгнули в лодку и стали ждать.
Вдруг до нас донесся звук глухих ударов в дверь и крик сэра Чарльза:
— На помощь! Помогите! Я задыхаюсь…
И хотя прозвучало это не очень правдоподобно, мы услышали звук открываемой двери и голос Стивенса:
— Тебе что, мало? Ах ты…
Последовал удар, какая-то возня, отвратительный хруст, короткий вскрик — и тишина. Через несколько минут мы услышали, как сэр Чарльз, тяжело дыша, спускается по сходням и увидели его мощный силуэт.
Он осторожно влез в лодку, которая осела почти по самые борта, и сполоснул в воде стилет и руки. Потом протянул оружие Мазу, но тот покачал головой. Все это происходило в полной тишине. Правду сказать, меня слегка подташнивало.
Керси медленно повел лодку назад, к Уайтхоллу, по поскольку теперь мы плыли против течения, путь должен был занять больше времени.
— Что с вами случилось, сэр Чарльз? — спросила я, чтобы не думать о своем бунтующем желудке и темной воде, подступавшей к самому борту лодки.
Сэр Чарльз повернулся ко мне.
— Миледи, все, что я помню — в день Святого Валентина после нашей прогулки я лег вздремнуть, а очнулся в этом отвратительном месте с кольцом на щиколотке. Я едва мог поверить в реальность происходящего, когда появился мой брат-близнец и стал выпытывать у меня, где я храню бумаги на дом и как веду свои дела на Королевской бирже.
Сэр Чарльз стер пот со лба: несмотря на холод и сырость, его трясло, как в лихорадке.
— Мой брат-близнец Гектор всегда ненавидел меня, хотя я никогда не отказывал ему в деньгах, сколько бы он ни попросил. Я думал, он во Франции сражается с папистами. Потом я получил известие о его смерти, помните, я вам рассказывал. И вдруг он здесь, угрожает мне голодом и даже хуже, если я не выполню его требований. Конечно, я не пошел на это — узнав все, что нужно, он тут же убил бы меня, это ясно как день! И тогда он прислал своего прихвостня избивать меня и запугивать…
— Что вы сделали со Стивенсом? — спросила я.
Сэр Чарльз отвел глаза.
— Я воздал за нанесенные мне побои и унижение, как того требуют правила мести. Он мертв.
— О Боже! — вот и все, что я смогла сказать.
Трудно было представить, что кругленький, добродушный сэр Чарльз, который учил меня ездить верхом, распевая «Зеленые рукава», убил кого-то своими собственными руками. Даже если на то была веская причина.
— Правильно, — сказала Элли. — Так ему и надо!
Я подняла голову к небу и увидела, что уже светает. Сердце у меня ушло в пятки. Сэра Чарльза мы спасли, но — ох, что теперь будет!
Сэр Чарльз заметил выражение моего лица и сказал очень мягко:
— Не бойтесь, леди Грейс. Ее Величество будет вами довольна. Я поговорю с ней и всё улажу.
И лицо его снова закаменело.
Больше никто из нас не проронил ни слова до самого Уайтхолла.
Когда мы поднялись по ступеням пристани, нас встретило крайне изумленное лицо дворцового стражника. Он преградил нам дорогу.
Керси, высадив нас на берег, быстро погреб к тому причалу, что у кухни.
Я узнала стражника, иногда сопровождавшего королеву.
— Доброе утро, Митчелл, — сказала я. — Не пошлешь ли ты к Ее Величеству сказать, что я спасла из заточения сэра Чарльза Эймсбери, похищенного его собственным братом, и привезла сюда?
Я очень старалась, чтобы моя просьба прозвучала так же властно и убедительно, как у королевы, хотя мой старый и грязный наряд вряд ли тому способствовал!
Вот что значит «не буди лиха, пока оно тихо»! Поднялась жуткая суматоха.
Королеву разбудили, и ей пришлось готовиться к аудиенции. Через какое-то время нас всех проводили в приемный зал, где на троне сидела совершенно разъяренная королева, а рядом с ней стоял лорд Уорси.
Из-за возвышения за троном выглядывали леди Сара и Мэри, и видно было, что они сгорают от любопытства. Наверно, их вызвали подержать шлейф Ее Величества, а потом они притворились, что очень заняты вышиванием!
Королева даже не взглянула на меня. Я надеялась только, что ее ярость показная, для соблюдения приличий. Если она и в самом деле устала от моих похождений — ох, и худо мне придется!
Сэр Чарльз выступил вперед, опустился перед королевой на колени и рассказал Ее Величеству все то, что рассказывал нам в лодке. Королева слушала молча. Потом она послала за человеком, называвшим себя его именем.
Вошел Гектор Эймсбери, нервно покусывая ус.
Сэр Чарльз шагнул к нему, положив руку на стилет. На первый взгляд братья были похожи как две капли воды, но когда они встали рядом, я заметила, что Гектор выше на пару дюймов, кроме того, сэр Чарльз был полуодет и неприбран.
— Я вижу, мой бедный безумный братец сбежал, — презрительно заметил поддельный сэр Чарльз. — Бедняга думает, что он и в самом деле я! А он убедителен, клянусь!
— Как ты мог, Гектор? — мрачно спросил настоящий сэр Чарльз. — Я давал тебе деньги, я помог тебе отправиться во Францию, и как ты отплатил мне?
Гектор пожал плечами:
— Он не в себе, Ваше Величество, это ясно как день! Неудивительно, что ему удалось одурачить эту юную фрейлину, леди Грейс.
Королева перевела взгляд с одного сэра Чарльза на другого, потом нахмурилась.
— Ну и как же тут разобраться, господа? — спросила она.
Я так разволновалась, что даже забыла встать на колени.
— Ваши Величество! Я знаю, как!
После моих слов в зале повисла нехорошая тишина.
— Ну? — осведомилась королева, не очень-то ободряюще.
— Надо спросить у лучшего друга сэра Чарльза.
— Лезьте сюда, леди Грейс, — негромко сказал он, глядя на меня сверху вниз.
Я совершенно не знала, как это делается! Тогда Мазу велел мне обмотать веревку вокруг талии и подтягиваться на руках, упираясь пальцами ног в уступы на стене.
Эта стена была такая скользкая! Дважды я чуть не свалилась в воду, но все-таки умудрилась влезть на выступ и сгруппироваться там. Сердце у меня билось бам-та-да-бам! — как барабан во время танцев.
Мазу перекинул веревку в комнату и спрыгнул вниз, я за ним. Внутри стоял отвратительный запах сырости и неопорожненного ночного горшка, а на соломе в самом углу, лежал, завернувшись в плащ, крупный мужчина.
Я подошла и тронула его за плечо. Он дернулся и вскочил, выставив кулаки. Я попятилась.
— Кто? Что? — прорычал он.
— Сэр Чарльз? — неуверенно спросила я.
Мазу в это время возился с огнивом. Когда он зажег свечу, у меня не осталось и сомнений — это действительно был сэр Чарльз, хотя выглядел он ужасно! Борода свалялась, волосы торчат в разные стороны. Он был без камзола, кутался в плащ, и вдобавок под глазом у него был синяк.
— О небо, леди Грейс! Господи всемилостивый! — воскликнул настоящий сэр Чарльз. И вдруг он недоверчиво сузил глаза. — Вас привел мой брат?
— Нет, нет! — я даже обиделась. — Я не знаю, что он за брат, но мы пробрались сюда, чтобы вас спасти!
Я объяснила ему, что мы разузнали и как здесь оказались. Сэр Чарльз, не веря своим ушам, только качал головой.
Мазу в это время сиял и разворачивал то, что было у него на спине. Потом поклонился сэру Чарльзу.
— Сэр, боюсь, окно для вас будет узковато, но у меня есть вот что! — Он вручил сэру Чарльзу острый стилет.
Сэр Чарльз схватил его, попробовал лезвие, затем отрицательно покачал головой.
— Я не смогу. Вот, — он приподнял ногу, и мы увидели у него на щиколотке кольцо, цепь от которого была вмурована в стену.
Мазу снова улыбнулся и достал небольшой футляр. Внутри были разные крючки и напильники. Он принялся что-то делать с кольцом на ноге сэра Чарльзе, а я в это время стояла у двери и прислушивалась, не идет ли стражник. Несколько царапающих звуков, скрежет напильника, щелчок — и сэр Чарльз вскочил на ноги со стилетом в руке. Несмотря на свою полноту и возраст, выглядел ом решительно и грозно.
— Теперь молитесь и полезайте обратно, — приказал он нам.
— Но сэр Чарльз, мы же можем вам помочь… — начала я.
— Леди Грейс, это зрелище не для вас! Встретимся у сходней, — решительно повторил сэр Чарльз.
Мазу почтительно поклонился ему, держа веревку, чтобы я могла подняться и спуститься — это было еще труднее, чем в прошлый раз, потому что ладони у меня горели.
Мы спрыгнули в лодку и стали ждать.
Вдруг до нас донесся звук глухих ударов в дверь и крик сэра Чарльза:
— На помощь! Помогите! Я задыхаюсь…
И хотя прозвучало это не очень правдоподобно, мы услышали звук открываемой двери и голос Стивенса:
— Тебе что, мало? Ах ты…
Последовал удар, какая-то возня, отвратительный хруст, короткий вскрик — и тишина. Через несколько минут мы услышали, как сэр Чарльз, тяжело дыша, спускается по сходням и увидели его мощный силуэт.
Он осторожно влез в лодку, которая осела почти по самые борта, и сполоснул в воде стилет и руки. Потом протянул оружие Мазу, но тот покачал головой. Все это происходило в полной тишине. Правду сказать, меня слегка подташнивало.
Керси медленно повел лодку назад, к Уайтхоллу, по поскольку теперь мы плыли против течения, путь должен был занять больше времени.
— Что с вами случилось, сэр Чарльз? — спросила я, чтобы не думать о своем бунтующем желудке и темной воде, подступавшей к самому борту лодки.
Сэр Чарльз повернулся ко мне.
— Миледи, все, что я помню — в день Святого Валентина после нашей прогулки я лег вздремнуть, а очнулся в этом отвратительном месте с кольцом на щиколотке. Я едва мог поверить в реальность происходящего, когда появился мой брат-близнец и стал выпытывать у меня, где я храню бумаги на дом и как веду свои дела на Королевской бирже.
Сэр Чарльз стер пот со лба: несмотря на холод и сырость, его трясло, как в лихорадке.
— Мой брат-близнец Гектор всегда ненавидел меня, хотя я никогда не отказывал ему в деньгах, сколько бы он ни попросил. Я думал, он во Франции сражается с папистами. Потом я получил известие о его смерти, помните, я вам рассказывал. И вдруг он здесь, угрожает мне голодом и даже хуже, если я не выполню его требований. Конечно, я не пошел на это — узнав все, что нужно, он тут же убил бы меня, это ясно как день! И тогда он прислал своего прихвостня избивать меня и запугивать…
— Что вы сделали со Стивенсом? — спросила я.
Сэр Чарльз отвел глаза.
— Я воздал за нанесенные мне побои и унижение, как того требуют правила мести. Он мертв.
— О Боже! — вот и все, что я смогла сказать.
Трудно было представить, что кругленький, добродушный сэр Чарльз, который учил меня ездить верхом, распевая «Зеленые рукава», убил кого-то своими собственными руками. Даже если на то была веская причина.
— Правильно, — сказала Элли. — Так ему и надо!
Я подняла голову к небу и увидела, что уже светает. Сердце у меня ушло в пятки. Сэра Чарльза мы спасли, но — ох, что теперь будет!
Сэр Чарльз заметил выражение моего лица и сказал очень мягко:
— Не бойтесь, леди Грейс. Ее Величество будет вами довольна. Я поговорю с ней и всё улажу.
И лицо его снова закаменело.
Больше никто из нас не проронил ни слова до самого Уайтхолла.
Когда мы поднялись по ступеням пристани, нас встретило крайне изумленное лицо дворцового стражника. Он преградил нам дорогу.
Керси, высадив нас на берег, быстро погреб к тому причалу, что у кухни.
Я узнала стражника, иногда сопровождавшего королеву.
— Доброе утро, Митчелл, — сказала я. — Не пошлешь ли ты к Ее Величеству сказать, что я спасла из заточения сэра Чарльза Эймсбери, похищенного его собственным братом, и привезла сюда?
Я очень старалась, чтобы моя просьба прозвучала так же властно и убедительно, как у королевы, хотя мой старый и грязный наряд вряд ли тому способствовал!
Вот что значит «не буди лиха, пока оно тихо»! Поднялась жуткая суматоха.
Королеву разбудили, и ей пришлось готовиться к аудиенции. Через какое-то время нас всех проводили в приемный зал, где на троне сидела совершенно разъяренная королева, а рядом с ней стоял лорд Уорси.
Из-за возвышения за троном выглядывали леди Сара и Мэри, и видно было, что они сгорают от любопытства. Наверно, их вызвали подержать шлейф Ее Величества, а потом они притворились, что очень заняты вышиванием!
Королева даже не взглянула на меня. Я надеялась только, что ее ярость показная, для соблюдения приличий. Если она и в самом деле устала от моих похождений — ох, и худо мне придется!
Сэр Чарльз выступил вперед, опустился перед королевой на колени и рассказал Ее Величеству все то, что рассказывал нам в лодке. Королева слушала молча. Потом она послала за человеком, называвшим себя его именем.
Вошел Гектор Эймсбери, нервно покусывая ус.
Сэр Чарльз шагнул к нему, положив руку на стилет. На первый взгляд братья были похожи как две капли воды, но когда они встали рядом, я заметила, что Гектор выше на пару дюймов, кроме того, сэр Чарльз был полуодет и неприбран.
— Я вижу, мой бедный безумный братец сбежал, — презрительно заметил поддельный сэр Чарльз. — Бедняга думает, что он и в самом деле я! А он убедителен, клянусь!
— Как ты мог, Гектор? — мрачно спросил настоящий сэр Чарльз. — Я давал тебе деньги, я помог тебе отправиться во Францию, и как ты отплатил мне?
Гектор пожал плечами:
— Он не в себе, Ваше Величество, это ясно как день! Неудивительно, что ему удалось одурачить эту юную фрейлину, леди Грейс.
Королева перевела взгляд с одного сэра Чарльза на другого, потом нахмурилась.
— Ну и как же тут разобраться, господа? — спросила она.
Я так разволновалась, что даже забыла встать на колени.
— Ваши Величество! Я знаю, как!
После моих слов в зале повисла нехорошая тишина.
— Ну? — осведомилась королева, не очень-то ободряюще.
— Надо спросить у лучшего друга сэра Чарльза.
Странно, наверное, выглядела вся наша процессия, направлявшаяся в денник.
Заслышав ржание Ласточки, сэр Чарльз улыбнулся, наверное, впервые за много дней. А Гектор Эймсбери неуверенно позвал:
— Эй, лошадка… Лошадка…
Один из мальчиков-конюхов вывел Ласточку из денника. Проходя мимо Гектора, она плелась уныло, опустив голову. Потом, видимо почуяв запах сэра Чарльза, оживилась, вскинула голову и радостно заржала, потянув конюха прямо к нему.
Сэр Чарльз потрепал ее по шее и позволил себя обнюхать. Его избитое лицо прояснилось, и он снова стал похож на того добряка, которого я знала.
— Видите? — торжествующе сказала я. — Лошадь сразу узнала сэра Чарльза!
Гектор шагнул к Ласточке.
— Ну же, лошадка, ты ведь меня знаешь, — пробормотал он, протягивая руку к уздечке.
Ласточка мотнула головой, прижала уши, недовольно фыркнула и куснула его протянутую руку.
Гектор дернулся и отступил назад, переведя взгляд с лошади на своего брата, а потом на королеву. Но никто не пришел ему на помощь.
Тогда негодяй понял, что его песенка спета, оттолкнул стоявшего рядом конюха и что естьсилы помчался к Дворцовым воротам.
Двое стражников бросились следом. Один прыгнул ему на спину, а другой схватил за камзол и прижал к земле. Гектор Эймсбери вывернулся и вскочил на ноги, потрясая кулаками и вопя, что это нечестно. Вокруг валялось все, что выпало из его камзола.
Стражники подвели Гектора к королеве. Она подняла на него холодные, словно два кусочка льда, глаза, а губы ее были так крепко сжаты, что почти не видны. От одного взгляда на королеву становилось жутко.
— Мистер Эймсбери, у вас есть минута, чтобы признаться и избежать обвинения в государственной измене!
Голос у нее тоже был ледяной.
Гектор сдался. Он упал на колени и закрыл лицо руками.
— Я не виноват, что я захотел лучшей доли! Этот ублюдок похитил все мое состояние! Он возомнил себя первенцем, наследником всего, тогда как старший из близнецов — я! Это я должен был жить в роскоши, а он — отправиться во Францию сражаться с гугенотами!
Королева объявила, что мы немедленно должны вернуться в приемный зал, поскольку все грумы и конюхи высунулись уже из окон конюшни и с любопытством прислушивались к происходящему.
Гектора окружили стражники, а сэр Чарльз галантно предложил Ее Величеству опереться о его руку. Она вежливо отказалась (и я ее не виню — от сэра Чарльза после его длительного заточения, исходил та-акой запах!).
В приемном зале Мазу, Элли и я устроились у стены, а королева послала за клерком (чтобы тот записал все, что расскажет Гектор) и моим дядей, доктором Кавендишем. Мэри Шелтон и леди Сара снова достали свое вышивание и притаились в углу, надеясь, что королева не заметит их и не отошлет.
Сэр Чарльз встал и рассказал драматическую историю их с братом рождения, которая произошла задолго до появления на свет Ее Величества. Много лет назад чета Эймсбери произвела на свет близнецов, и первенцу, сразу после рождения, повязали на запястье красную нитку. Случилось все это глубокой зимой, в мороз, поэтому повитухе, мамаше Корбетт, пришлось затопить в спальне роженицы камин.
— К несчастью, пеленки, развешанные перед камином, вспыхнули, — рассказывал сэр Чарльз, — и в мгновение ока вся спальни оказалась охвачена огнем. Отец вынес из огня мать, а младенцев подхватила и спасла повитуха. Все мужчины деревни, передавая ведра по цепочке, тушили огонь, и в конце концов, они его одолели, хотя часть дома была уничтожена. Но во всей этой суете красная ниточка с моего запястья затерялась, и только со слов повитухи было установлено, что первенец именно я. Мамаша Корбетт помнила, что старшего из близнецов она несла на правой руке, а младшего — на левой.
Гектор фыркнул: «Поверить старой пьянчуге!»
— Но она ясно помнила и никогда не сомневалась, — сказал сэр Чарльз.
— Будь ты проклят! — выкрикнул Гектор, казалось, вложив в этот вопль все свои чувства. — Это я — первенец, а ты — самозванец! Я знаю это с девяти лет. С тех самых пор, как старуха Корбетт рассказала мне эту историю! Но ты всегда всё отрицал!
— Я отрицал, потому что это неправда, — сдержанно ответил сэр Чарльз.
— Итак, — сказала королева, — каким же образом, мистер Эймсбери, вы решили восстановить попранную справедливость?
Гектор уставился на ковер, лицо его нервно подергивалось, а по подбородку стекала слюна.
— Меня чуть не разорвало на куски в той чертовой битве! И я принял свое спасение за знак свыше. Почему я должен был сражаться там, во Франции, в крови и грязи, когда здесь, в Англии, меня дожидалось мое по праву наследство? Я уговорил командира сообщить брату о моей гибели, и тайно вернулся в Лондон.
Гектор поднял глаза. Его широкое, как у сэра Чарльза, лицо искажала злоба.
— Я заплатил пажу Чарльза шиллинг, чтобы он добавил опия в вино моему брату. Пока Чарльз был без сознания, я перетащил его в одну из телег, что доставляют во Дворец сено для лошадей, и отвез в заброшенный коттедж у кладбища Святой Марии Ронсевальской. А потом занял его место. Правда, мне пришлось купить себе новую обувь (его была мне мала), да подкладывать что-нибудь в камзолы, которые были мне велики. Так я провел всех!
Гектор рассмеялся и пригрозил кому-то невидимому пальцем:
— Но и они были до смешного слепы. Не зря говорят: «Встречают по одежке…» Потом, чтобы сберечь собственное состояние, я решил жениться на девчонке Кавендиш. Но для этого мне надо было…
— Убить сэра Джеральда? — резко закончила королева.
— Именно! — как-то странно восторженно согласился Гектор. — И по возможности так, чтобы подозрение пало на лорда Роберта, а я остался единственным из претендентов на ее руку. Если бы потом все раскрылось, это ничего бы не изменило — ее состояние принадлежало бы мне, как супругу!
Он засмеялся еще громче, и это уже напоминало истерику.
— Я не просто хитер, я гениально хитер! Незаметно проникнув в апартаменты лорда Роберта, я отрезал пуговицу от одного из его камзолов. Потом отправился к сэру Джеральду, который был так пьян, что даже не пошевелился при моем появлении. Я взял лежавший на сундуке нож, вонзил его ему в спину и оставил на подушке пуговицу лорда Роберта. Так одним ударом я избавился от обоих соперников.
— А потом вы вернулись в банкетный павильон, и танцевали там и спокойно разговаривали с лордом Робертом? — осведомилась королева.
Гектор высокомерно кивнул.
— Неужели вам было так легко убить беспомощного человека? — Королева говорила тихо, но голос у нее был стальной.
Гектор пожал плечами.
— Но Боже мой, Гектор! — вмешался сэр Чарльз. — Во имя Господа, отчего ты решил, что твой ужасный план удастся?
— А что ему было не удасться? Никто не заподозрил бы старого доброго Чарльза Эймсбери в убийстве сэра Джеральда, у которого столько врагов, и в первую очередь лорд Роберт… А уж после моей женитьбы на наследнице Кавендиш это и вовсе перестало бы иметь значение. Став богачом, я обезопасил бы себя навсегда. Никакой борьбы за существование, никакой войны во Франции…
Гектор, казалось, забыл, что его кто-то слышит, в том числе королева.
Он ткнул в меня пальцем:
— И все шло хорошо, пока эта докучливая девчонка не стала совать нос не в свои дела!
Я фыркнула. Смею заявить, что любого, кто бы его разоблачил, Гектор Эймсбери назвал бы «докучливым!»
— Леди Грейс, — сурово заявил сэр Чарльз, обращаясь к Гектору — смелая и умная девушка, она вызволила меня из того страшного места, куда ты меня заточил!
— Лорду Роберту стоит хорошенько подумать, прежде чем жениться на девчонке, которой может прийти в голову шляться по ночам неизвестно где и кого-то там спасать!
От этих слов у королевы глаза на лоб полезли. Заметив это, Гектор замолчал, и лицо его исказилось гримасой.
После долгой и многозначительной паузы королева сказала:
— Мистер Гектор Эймсбери, вы будете отправлены в тюрьму Флит, а лорд Роберт немедленно освобожден. Впоследствии вы будете привлечены к суду за убийство сэра Джеральда Уорси…
Я закашлялась. Просто пришлось — никто не имеет права прерывать королеву!
Она взглянула в мою сторону и вздохнула.
— Да, леди Грейс. Ты хочешь что-то добавить?
Я встала. Ох, если бы мой вид был хоть чуть поприличнее!.. Но я была просто обязана это сказать, потому что тот, кто однажды воспользовался ядом, может сделать это еще и еще раз!
— Ваше Величество, вряд ли это Гектор Эймсбери убил сэра Джеральда, даже если сам Гектор так думает! Видно, он так хотел избавиться от своего соперника, что не заметил, что сэр Джеральд был уже мертв!
— Что? — воскликнул Гектор, и глаза у него, казалось, вот-вот выскочат из орбит.
— Что ты имеешь в виду, Грейс? — сдержанно поинтересовалась королева.
— Там был кто-то до него, Ваше Величество! Мой дядя, доктор Кавендиш, заметил, что рана на спине сэра Джеральда не кровоточит. Значит, к тому моменту, когда сэра Джеральда пырнули ножом, он уже был мертв, — объяснила я.
Дядя бросил на меня признательный взгляд.
— А потом, когда я… э-э… стояла у тела сэра Джеральда… я заметила зеленовато-желтый след вокруг его губ и почувствовала отвратительный горький запах.
Королева изменилась в лице, прекрасно поняв, о чем идет речь.
— Горетрав, — мрачно заключила она.
— Да, Ваше Величество, — не совсем трезвым голосом вставил мой бедный дядя, — боюсь, что так! И я намерен настаивать на вскрытии тела. Если это был горетрав, печень должна почернеть.
Услышав, что тело его племянника собираются вскрыть, лорд Уорси посерел. Мне было очень жаль его. Бледный и подавленный, он наклонился вперед, обратившись непосредственно к королеве:
— Ваше Величество, я не в силах этого выносить. Не будете ли Вы так добры, позволить мне удалиться?
Королева взглянула на него с сочувствием.
— Да, милорд, — ласково сказала она. — Может, прислать вам доктора Кавендиша?
— Нет, нет, благодарю вас, — поспешно ответил лорд Уорси. — Доктор Кавендиш нужен здесь. Мне же требуется лишь небольшой отдых, и я полностью восстановлю свои силы.
И он заспешил прочь из приемного зала, а королева обернулась к дяде.
— Так значит, когда мистер Эймсбери пронзил ножом сэра Чарльза, он пронзил труп! — еще раз уточнила она.
Гектор хихикал, как ребенок.
— Выходит, это было не убийство, не так ли? Скажи ей, Чарльз!
Но сэр Чарльз отрицательно покачал головой.
— Вы же не повесите меня за то, что я воткнул нож в труп!? — взмолился Гектор Эймсбери.
— Но это было покушение на убийство, — холодно ответила королева, — и именно так оно будет истолковано. Кроме того, вы обвиняетесь в похищении и пленении собственного брата и в безнравственном обмане всех нас. Даже если суд и не приговорит вас к повешению, думаю, остаток жизни вам придется провести в Бедламе, потому что вы явно безумны!
Ее Величество сделала знак, чтобы Гектора Эймсбери увели. Он ушел, непрерывно хихикая и тряся головой, словно погрузившись в свой собственный мир.
— Сэр Чарльз, доктор Кавендиш считает, что ваше здоровье не было сильно подорвано в результате козней вашего брата. Я рада это слышать!
Раскланявшись еще более неуклюже, чем обычно, сэр Чарльз приблизился к королеве и опустился на колено.
— Ваше Величество, вы очень добры, — выдохнул он.
Он явно вознамерился поцеловать королеве руку. Но Ее Величество, поспешно приложив к носу кружевной платочек, попросила сэра Чарльза подняться и предложила ему пойти отдохнуть, добавив, что он может оставаться в своих апартаментах столько, сколько потребуется.
Когда сэр Чарльз ушел, королева снова нахмурилась.
— Значит, отравитель все еще здесь, при Дворе, — мрачно заметила она.
Я шагнула вперед:
— Боюсь, что так, Ваше Величество! И я уверена, что если новость об отравлении распространится, преступник немедленно избавится от всех улик. Поэтому, когда я помогала Элли собирать белье, мы осмотрели все персональные апартаменты в поисках горетрава. Но мы ничего не обнаружили, а когда были у сэра Чарльза, случайно услышали рассказ Гектора о том, где сейчас находится его брат.
— Понятно, — вздохнула королева. Она кивнула Элли и жестом пригласила ее и Мазу приблизиться.
Они оба опустились перед Ее Величеством на колени.
Элли была бледна, как одна из ее свежевыглаженных простыней. Видимо, королева внушала ей благоговейный трепет. Я была искренне удивлена, ведь Элли сотни раз забирала из ее спальни грязные простыни! Но похоже, это не одно и то же, что встретиться с их хозяйкой!
Мазу тоже слегка посерел, но, собрав силы, сумел изящно поклониться, помахав своей шапочкой.
— Мазу переправил нас через реку и сделал все самое трудное: залез в окно и проник внутрь, — объяснила я.
Королева благосклонно кивнула.
— Я тебя помню, — сказала она Мазу. — Вилл Соммерс очень высоко о тебе отзывается, хотя жалуется, что порой тебя трудно найти. Но теперь мы знаем, почему…
Вид у растерявшегося от такой похвалы Мазу стал слегка глуповатый, и я с трудом сдержалась, чтобы не рассмеяться.
— Мазу и Элли, похоже, вы хорошие и преданные друзья моей леди Грейс, — сделала верный вывод королева. — Благодарю вас! Можете нас оставить!
Оба с облегчением заторопились прочь. Мазу еще пытался пятиться первые несколько шагов, а Элли, попробовав последовать его примеру, наступила себе на юбку.
Я была уверена, что они будут ждать снаружи и подслушивать, если только их не прогонят. Выходя, они столкнулись с миссис Твинхоу.
— Что-то срочное, Беа? — спросила королева, нахмурившись.
Миссис Беа присела в реверансе и обмахнулась веером.
— Боюсь, что да, Ваше Величество! Леди Грейс рассказала мне о горетраве, и я кое-что разузнала.
— Ах, вот как, — сказала королева. — Тогда ты вовремя, Беа. Мы слушаем.
Миссис Беа снова присела в реверансе.
— Я поговорила со всеми аптекарями Вестминстера и Лондона. Я знаю, никто из них не продал бы горетрава незнакомому человеку. И только у одного, у моего старого приятеля из Чипсайда, покупали его в последние дни.
— И ты разузнала, кто был покупателем, Беа? — резко спросила королева.
— Да, Ваше Величество, именно поэтому я так торопилась! Клянусь Богом, я бы никогда ничего не сделала вам во вред, Ваша Милость, ни за какие богатства!
— Я знаю, Беа, — мягко сказала королева, потому что миссис Беа выглядела очень расстроенной и судорожно стискивала руки.
— Это так ужасно, Ваша Милость, — продолжала миссис Беа. — Я и сама не поверила, когда услыхала! Я даже назвала аптекаря лгуном, и он обиделся…
Пока миссис Беа собиралась с мыслями, королева нервно стучала пальцами по подлокотнику трона.
— Аптекарь сказал, что за горетравом приходил высокий худой лакей в плаще. Когда он вынимал кошелек, плащ распахнулся, и аптекарь разглядел его ливрею. Это был лакей лорда Уорси…
Наступила гнетущая тишина, которую нарушила Ее Величество.
— Это невозможно! — воскликнула она. — К тому же леди Грейс и эта девочка, Элли, обошли все персональные апартаменты, в том числе апартаменты лорда Уорси. И ничего не нашли!
— Это правда, миссис Беа, — подтвердила я. — Желтого порошка нигде не было!
При этих словах мой дядя, доктор Кавендиш, вздрогнул.
— Но Грейс, — сказал он изумленно, — порошок горетрава не желтый, дорогая, он зеленый!
Я застыла, открыв рот.
Миссис Беа энергично закивала:
— Да, моя милая, чистый горетрав зеленого цвета. Это если его смешать с вином, он становится желтым и оставляет такие следы, что их и десятидневная моча не берет!
Мы с Элли видели зеленый порошок в комнате лорда Уорси и зеленые пятна у него на манжетах. С бьющимся сердцем я сообщила об этом королеве.
На мгновение она застыла словно статуя, лицо ее было точно высечено из мрамора. Потом громко крикнула:
— Мистер Хэттон!
Один из ее личных гвардейцев просунул голову в дверь. Я заметила, как за дверью, в коридоре, мелькнула Элли, видно, надеявшаяся, что ее не заметят и не отошлют прочь на самом интересном месте. Наверняка и Мазу там был и подслушивал!
— Пригласите лорда Уорси в приемный зал, и немедленно! — приказала королева.
Мистер Хэттон мгновенно испарился. Мы все застыли и ждали — я, миссис Беа, дядя Кавендиш, королева…
Я стискивала руки, мысли мои прыгали. Да, все сходится… Но почему он это сделал? Зачем лорд Уорси отравил сэра Джеральда, своего собственного племянника? В голове не укладывалось!
Наконец мистер Хэттон вернулся и доложил:
— Лорд Уорси!
Лорд Уорси выглядел очень усталым и взволнованным.
— Милорд, — начала королева официальным тоном, — я получила достоверные сведения о том, что один из ваших лакеев недавно приобретал горетрав, а также о том, что горетрав видели в ваших апартаментах!
Лорд Уорси побледнел, веки его затрепетали. На мгновение он утратил дар речи. Потом прокаркал:
— Ваше Величество!?
— Да, милорд, горетрав! — повторила королева. — Вы это отрицаете?
— Безусловно, Ваше Величество! Это лишено всякого смысла! Кто только посмел донести до вашего слуха столь жестокую и коварную ложь… что я, лорд Уорси, могу иметь какое-то отношение… Какая отвратительная шутка… — бормотал лорд Уорси.
— Ваше Величество, могу я кое-что спросить у лорда Уорси? — нерешительно вставила я.
Королева кивнула.
Лорд Уорси взглянул на меня.
— Что? Что вы здесь делаете? Это вас не касается, вы всего лишь фрейлина!
— Нет, касается, милорд! — воскликнула королева. — Равно как и меня!
— Милорд, у вас должно быть зеленое пятно от горетрава на манжете. Не могли бы вы показать нам свои рукава? — спросила, замирая от волнения, я.
Лицо лорда Уорси стало холодным и надменным. Он вытянул обе руки:
— Прошу вас. Убедились? На моих манжетах нет никаких пятен!
Сердце у меня оборвалось. Лорд Уорси успел переодеться, и теперь все улики канули в прачечную!
И тут в дверь робко постучали.
— Кто там еще? Мы заняты! — рявкнула королева.
В комнату боком протиснулась Элли, безостановочно приседая в реверансе и кивая головой, точно голубь.
— Гм… — начата она. — я тут… подслушала под дверью… да и думаю — надо признаться… я намедни была занята малость другим делом… вот и не успела постирать…
С этими словами она достала из-за спины отвратительного вида мужскую рубашку.
Сердце мое подпрыгнуло.
— Элли, это она? Та самая? Лорда Уорси?
Элли кивнула и снова присела в невообразимо почтительном реверансе.
— Абсурд! — вскричал лорд Уорси. — Меня что, обвиняют фрейлина и прислуга!?
Но лицо его было абсолютно серым.
— Спокойно, милорд, — пугающе холодно произнесла королева.
Атмосфера в комнате стала такой тяжелой, что даже птицы в клетках замолчали, и не было слышно ни звука.
Все так же кивая, словно голубь, Элли подошла поближе и развернула рукава рубашки так, чтобы всем было видно.
На одной из манжет было зеленое пятно.
— Что скажете, милорд? — потребовала Ее Величество.
— Э-э… — протянул лорд Уорси, — это просто шпинат от вчерашнего ужина!
— Голову даю на отсечение, что это не шпинат! — торжественно изрекла миссис Беа.
Она подошла к столу, взяла кувшин с вином и капнула из него на манжету. Красное вино впиталось в зеленый след, и пятно на глазах стало желтеть.
— Горетрав, Ваше Величество, — уверенно заявила миссис Беа.
— А теперь меня обвиняет эта ведьма!? — вскричал лорд Уорси. — Где же Ваша хваленая справедливость, Ваше Величество!?
— Это горетрав, — подтвердил мой дядя Кавендиш. — Вне всякого сомнения!
— А теперь слушайте внимательно, лорд Уорси, — сказала королева, приподнимаясь на троне. — Вы верно служили мне, и я считала вас своим другом! — Голос ее сорвался. — Или вы сейчас же, — немедленно! — прекратите мне лгать и честно расскажете о том, что произошло, или я отправлю вас в Тауэр, клянусь Богом, и передам в руки мистеру Нортону, королевскому мастеру пыток. Вы меня поняли, милорд? — последние слова королева не произнесла. Она их прорычала.
При упоминании о мистере Нортоне все вздрогнули.
 Лорд Уорси взглянул на королеву, и тут словно что-то сломалось у него внутри. Он опустился на колени и уронил голову. В тишине мы услышали его шепот:
— Да, это был горетрав…
Я не могла вздохнуть. Неужели он… Неужели…
— Для вашего собственного племянника, лорд Уорси? — уточнила королева.
Нет! — воскликнул лорд Уорси. — Я не собирался… — Он вздохнул, потом продолжил ровным и невыразительным голосом:
— Горетрав предназначался лорду Роберту. А подозрение должно было пасть на сэра Чарльза… Было ясно, что леди Грейс предпочитает лорда Роберта, к тому же она часто проводила время с сэром Чарльзом. Я не мог позволить ей выйти замуж за кого-либо, кроме моего племянника. И я подсыпал горетрав в бокал лорда Роберта, а остатки яда собирался подложить сэру Чарльзу. И все бы шло по плану…
Лорд Уорси закрыл лицо руками.
— Но на балу Джеральду вздумалось выставить себя дураком, и вы предложили ему выпить из бокала лорда Роберта. Я был в ужасе, но не мог же я приказать ему ослушаться вашего повеления?
Лорд Уорси рассмеялся — ужасным, пустым и горьким смехом.
— Представьте себе мое состояние, когда выяснилось, что мой бедным Джеральд зарезан, а не отравлен, нет, и более того, что подозрение пало на лорда Роберта!
Он повернулся ко мне, глаза его сверкали.
— Конечно, после того, как разнеслась весть о смерти Джеральда от кинжала, а не от яда, я отказался от мысли подложить горетрав сэру Чарльзу…
Мне стало очень грустно, и я опустила глаза.
— Но лорд Уорси, — сказала королева, — почему было так необходимо, чтобы леди Грейс вышла за вашего племянника?
— Так ни она, ни кто-либо другой не узнал бы… — еле слышно прошептал лорд Уорси.
— Не узнал чего? — голос королевы был холоден, как сталь. Думаю, она уже знала, что последует дальше, хотя я — нет.
— Что у леди Грейс нет ни состояния, ни земель.
Мне показалось, что меня саму пырнули ножом. Я не могла даже вдохнуть! Мой опекун, лорд Уорси, который считался моим другом и хранителем!
— Объяснитесь! — процедила королева.
— Когда год назад я принял опекунство над леди Грейс, я был в долгах, — начал лорд Уорси, — и решил поправить свое финансовое положение и заложить земли леди Грейс, однако это не изменило состояние моих дел. Через месяц просрочки кредиторы отказали мне в праве их выкупа, и земли леди Грейс были потеряны. Поэтому нельзя было допустить ни малейшей возможности, чтобы леди Грейс вышла за лорда Роберта или сэра Чарльза, и все обнаружилось. Только Джеральду я мог довериться, зная, что он меня не выдаст… — Лорд Уорси глубоко вздохнул.
Меня тошнило, живот бурлил. Лорд Уорси украл наследство, которое оставили мне родители, а потом попытался женить на мне своего племянника, чтобы скрыть это? Я не могла поверить! И Мэри с леди Сарой не могли. Они обе уставились на меня, а в глазах Мэри стояли слезы сочувствия. И вдруг лица их закружились передо мной, как колеса кареты…
Миссис Беа взяла меня за руку:
— Сядьте, дорогая!
Я плюхнулась на скамью, а она пригнула мне голову. Кружение в животе стало потише. Я что, чуть не упала в обморок? Ужас как неприлично, точно леди Сара! Я дважды сглотнула и отпила вина, которое подала мне миссис Беа.
— Прошу вас, Ваше Величество, умоляю… Я был вынужден так поступить! Я не мог позволить, чтобы обнаружилось… — голос лорда Уорси звучал душераздирающе жалобно.
— Вы были вынуждены отравить лорда Роберта, чтобы скрыть, что обокрали леди Грейс? — возмутилась королева. — Вот, значит, как, милорд, вынуждены!
— Я…
— Никто вас не вынуждал, — Ее Величество покачала головой. — Вы могли прийти ко мне сразу, как только запутались в долгах, и я бы вам помогла. Вы получили бы деньги честно и открыто. И при Дворе не случилось бы нового убийства!
— Пожалуйста, Ваше Величество…
— Мистер Хэттон, позовите стражу! Пусть лорда Уорси доставят в Тауэр по обвинению в убийстве, растрате, лжи и подверганию угрозе жизни королевы!
Озадаченный гвардеец увел лорда Уорси.
А я все сидела на скамье, ожидая, пока моя голова перестанет кружиться. И вдруг начала плакать, что было очень досадно и неприлично. Я не хотела, но просто не могла больше сдерживаться! Все было так ужасно!
Подбежала Элли и обняла меня. Мэри Шелтон тоже подошла и вложила мне в руку чистый платок, чтобы я высморкалась.
А я осознала еще одну ужасную вещь, и желудок у меня свернулся в комок.
— Ваша Милость, теперь, когда у меня больше ничего нет, я должна буду покинуть Вас? — спросила я королеву, думая, что сердце у меня вот-вот разорвется.
Королева подошла, шурша дамастом, и притянула меня к себе, так что драгоценные камни на ее лифе слегка царапнули мне щеку.
— Что ты, Грейс, конечно же, нет! Ты моя самая любимая крестница и фрейлина! Ты можешь оставаться при дворе столько, сколько захочешь!
— По крайне мере, теперь ты сможешь выйти замуж за лорда Роберта, — весело сказала миссис Беа, видно, стараясь меня утешить.
— Ни за что! — возмутилась я. — Ему были нужны только мои деньги! К тому же я поняла, что он просто идиот!
— Абсолютно с тобой согласна, — улыбнулась королева.
Это меня так обрадовало, что я приподнялась и поцеловала Ее Величество в щеку:
— Значит, теперь мне можно не выходить замуж?
— Можно, Грейс, можно, — ответила королева. — Во всяком случае, не сейчас. Хотя со временем, может быть, ты и захочешь…
Во всей этой суматохе Мазу тоже проскользнул в комнату.
— Зато теперь наверняка к вам будут свататься по любви, а не из-за денег! — заявил он. — Так что может, оно и к лучшему, что вы больше не богаты, леди Грейс?
— Совершенно верно, — улыбнувшись, согласилась королева. — Отлично сказано, Мазу!
Правду говорят, что ее улыбка — волшебная. Сразу чувствуешь себя в тепле и безопасности!
Королева взяла мои руки в свои.
— Леди Грейс, я несказанно благодарна за все, что ты сделала за эти несколько дней. Ты — простая фрейлина, к тому же совсем юная, с помощью своих друзей спасла жизнь сэру Чарльзу, разоблачила козни его брата и нашла убийцу сэра Джеральда. Не всякому мужчине из моего окружения это под силу! Так что будь уверена, я не оставлю тебя, награжу по заслугам и найду более достойного хранителя твоему состоянию!
Я кивнула и шепнула ей на ухо:
— И я могу Вам помочь, Ваше Величество, раскрывать тайны Двора!
Королева засмеялась и тоже прошептала:
— Ты будешь моим тайным осведомителем! Берегитесь, злодеи!
Я была в восторге! Ведь осведомитель — это тот, кто выслеживает врагов государства и королевы, разоблачает шпионов и убийц. Это так интересно!
— Но будь осторожна, Грейс, — предупредила меня королева, слегка нахмурившись. — Я все-таки считаю, что моя фрейлина должна вести себя так, как подобает ей по рождению. Больше никаких ночных путешествий по реке… без крайней необходимости….
— Хорошо, Ваше Величество, — покорно ответила я.
Тогда королева снова улыбнулась, прижала меня к себе, а потом отослала в наши покои, а миссис Беа сделала мне горячий поссет, чтобы я крепче уснула (который я до сих пор не выпила, и он, наверное, остыл!). Его мне принесла Мэри Шелтон и даже поделилась своим замечательным миндальным печеньем. А я и не знала, что она такая добрая! И даже леди Сара была ничего себе… Я чувствую себя так странно, вдруг перестав быть богатой, но…
Лорд Уорси взглянул на королеву, и тут словно что-то сломалось у него внутри. Он опустился на колени и уронил голову. В тишине мы услышали его шепот:
— Да, это был горетрав…
Я не могла вздохнуть. Неужели он… Неужели…
— Для вашего собственного племянника, лорд Уорси? — уточнила королева.
Нет! — воскликнул лорд Уорси. — Я не собирался… — Он вздохнул, потом продолжил ровным и невыразительным голосом:
— Горетрав предназначался лорду Роберту. А подозрение должно было пасть на сэра Чарльза… Было ясно, что леди Грейс предпочитает лорда Роберта, к тому же она часто проводила время с сэром Чарльзом. Я не мог позволить ей выйти замуж за кого-либо, кроме моего племянника. И я подсыпал горетрав в бокал лорда Роберта, а остатки яда собирался подложить сэру Чарльзу. И все бы шло по плану…
Лорд Уорси закрыл лицо руками.
— Но на балу Джеральду вздумалось выставить себя дураком, и вы предложили ему выпить из бокала лорда Роберта. Я был в ужасе, но не мог же я приказать ему ослушаться вашего повеления?
Лорд Уорси рассмеялся — ужасным, пустым и горьким смехом.
— Представьте себе мое состояние, когда выяснилось, что мой бедным Джеральд зарезан, а не отравлен, нет, и более того, что подозрение пало на лорда Роберта!
Он повернулся ко мне, глаза его сверкали.
— Конечно, после того, как разнеслась весть о смерти Джеральда от кинжала, а не от яда, я отказался от мысли подложить горетрав сэру Чарльзу…
Мне стало очень грустно, и я опустила глаза.
— Но лорд Уорси, — сказала королева, — почему было так необходимо, чтобы леди Грейс вышла за вашего племянника?
— Так ни она, ни кто-либо другой не узнал бы… — еле слышно прошептал лорд Уорси.
— Не узнал чего? — голос королевы был холоден, как сталь. Думаю, она уже знала, что последует дальше, хотя я — нет.
— Что у леди Грейс нет ни состояния, ни земель.
Мне показалось, что меня саму пырнули ножом. Я не могла даже вдохнуть! Мой опекун, лорд Уорси, который считался моим другом и хранителем!
— Объяснитесь! — процедила королева.
— Когда год назад я принял опекунство над леди Грейс, я был в долгах, — начал лорд Уорси, — и решил поправить свое финансовое положение и заложить земли леди Грейс, однако это не изменило состояние моих дел. Через месяц просрочки кредиторы отказали мне в праве их выкупа, и земли леди Грейс были потеряны. Поэтому нельзя было допустить ни малейшей возможности, чтобы леди Грейс вышла за лорда Роберта или сэра Чарльза, и все обнаружилось. Только Джеральду я мог довериться, зная, что он меня не выдаст… — Лорд Уорси глубоко вздохнул.
Меня тошнило, живот бурлил. Лорд Уорси украл наследство, которое оставили мне родители, а потом попытался женить на мне своего племянника, чтобы скрыть это? Я не могла поверить! И Мэри с леди Сарой не могли. Они обе уставились на меня, а в глазах Мэри стояли слезы сочувствия. И вдруг лица их закружились передо мной, как колеса кареты…
Миссис Беа взяла меня за руку:
— Сядьте, дорогая!
Я плюхнулась на скамью, а она пригнула мне голову. Кружение в животе стало потише. Я что, чуть не упала в обморок? Ужас как неприлично, точно леди Сара! Я дважды сглотнула и отпила вина, которое подала мне миссис Беа.
— Прошу вас, Ваше Величество, умоляю… Я был вынужден так поступить! Я не мог позволить, чтобы обнаружилось… — голос лорда Уорси звучал душераздирающе жалобно.
— Вы были вынуждены отравить лорда Роберта, чтобы скрыть, что обокрали леди Грейс? — возмутилась королева. — Вот, значит, как, милорд, вынуждены!
— Я…
— Никто вас не вынуждал, — Ее Величество покачала головой. — Вы могли прийти ко мне сразу, как только запутались в долгах, и я бы вам помогла. Вы получили бы деньги честно и открыто. И при Дворе не случилось бы нового убийства!
— Пожалуйста, Ваше Величество…
— Мистер Хэттон, позовите стражу! Пусть лорда Уорси доставят в Тауэр по обвинению в убийстве, растрате, лжи и подверганию угрозе жизни королевы!
Озадаченный гвардеец увел лорда Уорси.
А я все сидела на скамье, ожидая, пока моя голова перестанет кружиться. И вдруг начала плакать, что было очень досадно и неприлично. Я не хотела, но просто не могла больше сдерживаться! Все было так ужасно!
Подбежала Элли и обняла меня. Мэри Шелтон тоже подошла и вложила мне в руку чистый платок, чтобы я высморкалась.
А я осознала еще одну ужасную вещь, и желудок у меня свернулся в комок.
— Ваша Милость, теперь, когда у меня больше ничего нет, я должна буду покинуть Вас? — спросила я королеву, думая, что сердце у меня вот-вот разорвется.
Королева подошла, шурша дамастом, и притянула меня к себе, так что драгоценные камни на ее лифе слегка царапнули мне щеку.
— Что ты, Грейс, конечно же, нет! Ты моя самая любимая крестница и фрейлина! Ты можешь оставаться при дворе столько, сколько захочешь!
— По крайне мере, теперь ты сможешь выйти замуж за лорда Роберта, — весело сказала миссис Беа, видно, стараясь меня утешить.
— Ни за что! — возмутилась я. — Ему были нужны только мои деньги! К тому же я поняла, что он просто идиот!
— Абсолютно с тобой согласна, — улыбнулась королева.
Это меня так обрадовало, что я приподнялась и поцеловала Ее Величество в щеку:
— Значит, теперь мне можно не выходить замуж?
— Можно, Грейс, можно, — ответила королева. — Во всяком случае, не сейчас. Хотя со временем, может быть, ты и захочешь…
Во всей этой суматохе Мазу тоже проскользнул в комнату.
— Зато теперь наверняка к вам будут свататься по любви, а не из-за денег! — заявил он. — Так что может, оно и к лучшему, что вы больше не богаты, леди Грейс?
— Совершенно верно, — улыбнувшись, согласилась королева. — Отлично сказано, Мазу!
Правду говорят, что ее улыбка — волшебная. Сразу чувствуешь себя в тепле и безопасности!
Королева взяла мои руки в свои.
— Леди Грейс, я несказанно благодарна за все, что ты сделала за эти несколько дней. Ты — простая фрейлина, к тому же совсем юная, с помощью своих друзей спасла жизнь сэру Чарльзу, разоблачила козни его брата и нашла убийцу сэра Джеральда. Не всякому мужчине из моего окружения это под силу! Так что будь уверена, я не оставлю тебя, награжу по заслугам и найду более достойного хранителя твоему состоянию!
Я кивнула и шепнула ей на ухо:
— И я могу Вам помочь, Ваше Величество, раскрывать тайны Двора!
Королева засмеялась и тоже прошептала:
— Ты будешь моим тайным осведомителем! Берегитесь, злодеи!
Я была в восторге! Ведь осведомитель — это тот, кто выслеживает врагов государства и королевы, разоблачает шпионов и убийц. Это так интересно!
— Но будь осторожна, Грейс, — предупредила меня королева, слегка нахмурившись. — Я все-таки считаю, что моя фрейлина должна вести себя так, как подобает ей по рождению. Больше никаких ночных путешествий по реке… без крайней необходимости….
— Хорошо, Ваше Величество, — покорно ответила я.
Тогда королева снова улыбнулась, прижала меня к себе, а потом отослала в наши покои, а миссис Беа сделала мне горячий поссет, чтобы я крепче уснула (который я до сих пор не выпила, и он, наверное, остыл!). Его мне принесла Мэри Шелтон и даже поделилась своим замечательным миндальным печеньем. А я и не знала, что она такая добрая! И даже леди Сара была ничего себе… Я чувствую себя так странно, вдруг перестав быть богатой, но…

Снова пришлось прерваться — ко мне заглянули сэр Чарльз и доктор Кавендиш.
Сэр Чарльз выглядел (и пах!) гораздо лучше. Он переоделся, побрился, его синяк был чем-то смазан.
— Леди Грейс, — сказал он, — правда ли что лорд Уорси растратил всё ваше состояние?
Я кивнула, вздохнув.
— Но королева обещала мне помочь и еще она сказала, что не станет отсылать меня от Двора!
— Моя дорогая леди Зеленые рукава, — улыбнулся сэр Чарльз, — знаете ли вы, что если случается убийство, все деньги и вся собственность убийцы переходят к ближайшему родственнику жертвы?
Я кивнула. Да, я об этом слышала, по какое это имеет отношение ко мне?
— Так вот, — продолжал сэр Чарльз. — Отец сэра Джеральда был кузеном моей матери, так что я его наследник. Кроме того, я наследую все земли лорда Уорси.
Я непонимающе уставилась на него. Я слишком устала, чтобы во всем этом разобраться!
— Вы?
— Да, — подтвердил сэр Чарльз. — И земли лорда Уорси, я убежден в этом, стоят гораздо больше, чем ваши, даже при том, что он плохо ими управлял. А я, в отличие от него, дела держу в порядке и достаточно богат, чтобы обеспечить все свои нужды, — он перевел дыхание. — Завтра я увижусь со своим нотариусом, и когда мы всё уладим с бумагами, я сделаю так, чтобы всё, что мне достанется от лорда Уорси, перешло к вам в качестве компенсации за совершенную им растрату.
— Правда? — изумилась я.
Он кивнул, и глаза у него сияли.
— Но почему? — вырвалось у меня.
Сэр Чарльз ласково улыбнулся мне.
— Дорогая моя, я знаю, что вы меня не любите, но тем не менее, из чувства сострадания и справедливости вы спасли мне жизнь! И разве я могу поступить иначе и зародить в вас мысль, что вы сделали это напрасно?
Ну и дела! Сэр Чарльз Эймсбери передаст мне земли лорда Уорси и даже постарается выкупить мои собственные! И еще он сказал, что попросит королеву назначить себя моим опекуном и как следует позаботится о моем состоянии. Только что я была бедна, как церковная мышь, и вот снова богата!
Может, когда-нибудь я и выйду замуж, но только по любви. Мама всегда говорила, что любила папу, и что им было очень хорошо вместе, хоть это продолжалось так недолго.
А пока я останусь просто леди Грейс Кавендиш, фрейлиной и тайным осведомителем Ее Величества королевы Елизаветы I.
Уверена, мама гордилась бы мной, а это для меня самое большое счастье!
Продолжение следует…
Толковый словарик
Аллах — Бог мусульман.
Бедлам — главный сумасшедший дом в Лондоне во времена Елизаветы I.
Безоар — твердое вещество из козьего желудка, безуспешно использовавшееся во времена Елизаветы I как противоядие.
Белладонна — ядовитое растение с очень сильным и резким запахом. Обычно растет на пустырях.
Бренди — крепкий алкогольный напиток.
Вёрджинал — музыкальный инструмент, предшественник спинета и клавесина, но в отличие от них был переносным. Королева Елизавета I обладала поразительным музыкальным дарованием и могла играть на нескольких музыкальных инструментах.
Вольта — старинный парный танец, возникший в Италии. В вольте кавалер проворно и резко поворачивает высоко в воздухе танцующую с ним даму, обнимая ее за талию.
Вставка — кусок узорчатой или вышитой ткани, который прикреплялся к основной, второй юбке так, чтобы он виднелся в разрезе верхней, первой.
Вышивка — очень популярное и повсеместное занятие в елизаветинские времена. Вышивкой покрывали одежду, обувь, шкатулки и книги, мебель. Королевские фрейлины занимались рукоделием в специально отведенные часы, или в свое свободное время. Елизавета лично проверяла их работу, поскольку сама была прекрасной рукодельницей.
Гардеробная комната — одновременно специальное подразделение королевского двора, к которому относились портные и обувщики королевы, а также помещение, что-то вроде сокровищницы с нарядами королевы, за которой следили специальные служащие. Гардероб как предмет мебели появился также примерно в это время.
Гофмаршальский совет — группа особо приближенных к королеве вельмож. Гофмаршальский совет собирался и проводил расследование в случае чьей-либо смерти, произошедшей на расстоянии одной мили от королевской персоны.
Гизы — аристократический род во Франции, ярые католики, одни из организаторов Варфоломеевской ночи (1572 г.), когда во Франции за одну ночь были зарезаны тысячи протестантов.
Горетрав — вымышленное ядовитое растение, не существующее в природе.
Гугеноты — французские христиане-протестанты.
Дамаст — плотная узорчатая хлопчатобумажная ткань, на блестящей поверхности которой располагается матовый рисунок. Впервые ее начали изготавливать в Дамаске (Сирия), отсюда и такое название.
Денник — помещение для временного содержания лошадей.
Дамская обувь — во времена Елизаветы не отличалась большим разнообразием. Дома носили домашние тапочки-носки slippers, на балах — туфли-лодочки. В качестве обуви для улицы использовали туфли на высокой пробковой подошве, напоминавшие деревянные «венецианские подставки» — «цоколи». Они присоединялись к туфлям ремешками и были необходимы для защиты платьев от уличной грязи.
Дублет — узкая мужская одежда на подкладке, которую носили поверх рубашки.
Женская одежда — требовала очень много времени. Сначала надевали сорочку, за ней шла нижняя юбка. После этого надевали корсет на шнуровке с планшетками. Иногда планшетки были железными, напоминая латы, а во французских корсетах — костяными. Далее шел каркас для юбки. Затем надевали платье, состоявшее из двух частей — лифа и юбки из дорогого материала. Сверху придворные дамы надевали фарзингейл.
«Зеленые рукава» — (Greensleeves) — романтическая баллада. Ее автором чаще всего называют английского короля Генриха VIII, который якобы адресовал эти стихи своей возлюбленной Анне Болейн.
Камзол — облегающий мужской пиджак длиной до колен.
Камеристка — служанка знатной дамы.
Киноварь — минерал красного цвета, а также краска из этого минерала, использовавшаяся для изготовления румян.
Королевская гвардия — (или личная стража королевы) — молодые вельможи, задача которых состояла в том, чтобы защищать королеву от нападения.
Корсет — широкий пояс до уровня груди, стягивающий талию и живот для придания фигуре определенной формы.
Косметика — не употреблявшие косметику женщины во времена Елизаветы считались непривлекательными, при этом многие из них страдали дефектами кожи и стремились их скрыть. Дамы и девицы обильно покрывали лицо белилами и румянами, обесцвечивали волосы, выщипывали и чернили брови и красили губы в красный цвет. Чтобы предохранить лицо от вредного воздействия солнца и чтобы дождь не смыл краску с их лица, они носили специальные маски. Большинство косметических средств наносили толстым слоем вместе с белком яйца, что создавало эффект легкой полировки и делало кожу похожей на гладкий мрамор.
Лиф — верхняя часть женской одежды, как правило, на шнуровке.
Мадригал — музыкальное произведение, исполняющееся на несколько голосов; во времена Елизаветы мадригалы были в большой моде.
Марципан — кондитерское изделие из миндального теста.
Мигрень — сильная головная боль.
Ночная рубашка — предмет одежды, который во времена Елизаветы I предназначался вовсе не для сна — спали тогда в сорочках. Как женщины, так и мужчины носили ночные рубашки в качестве утреннего или ночного наряда, как сегодня надевают халат. Поэтому их шили из дорогой ткани, чаше всего атласа, и покрывали вышивкой.
Опий — болеутоляющее и снотворное средство, добываемое из головок мака. Вызывает галлюцинации.
Оспа — заболевание, сопровождающееся сыпью, после которой остаются рубцы. Вплоть до изобретения прививок оно считалось почти смертельным, поскольку выживших было очень мало.
Павана — пышный и торжественный танец испанского происхождения, от латинского слова «павлин».
Паписты — просторечное название католиков.
Парча — плотная узорчатая шелковая ткань, расшитая золотыми или серебряными нитями.
Паслен — ядовитое растение.
Парижский Сад — место увеселений в Лондоне времен Елизаветы I, где было множество всякого рода развлечений.
Персональные апартаменты — жилые помещения, которые выделялись придворным по личному распоряжению королевы.
Подвязки — узорчатая, украшенная кружевом резинка или тесьма для подвязывания чулок.
Поссет — горячий напиток из подслащенного, приправленного специями молока, разбавленного элем или вином.
Придворная дама — знатная дама, входившая в свиту королевы и составлявшая ей компанию.
Приемный зал — зал, в котором королева принимала подданных. Фрейлины сидели на покрытых подушками скамьях вдоль стен зала.
Реверанс — почтительный поклон с приседанием.
Религиозные войны — войны между католиками и гугенотами во Франции XIV века.
Рукава — во времена Елизаветы I не пришивались, а пришнуровывались к лифу платья или камзола, и не крест-накрест, а «через край».
Синеголовник — приморское растение с большим содержанием витаминов, использовалось как пища и как лекарство.
Скрупул — мера аптекарского веса, чуть больше 1 грамма.
Сонет — стихотворение в четырнадцать строк из двух четверостиший и двух трехстиший.
Стульчак — туалетный деревянный стул с крышкой. Однако в 1569 году в Англии был изобретен ватерклозет с верхним бачком для слива воды и «каменным сидением для туалета». Его автором стал Джон Харрингтон, поэт, придворный и племянник Елизаветы: его отец был женат на незаконной дочери Генриха VIII.
Столовые приборы — во времена Елизаветы могли позволить себе немногие. Ложки, хоть и были широко распространены, ценились очень высоко, их хранили в специальных футлярах. Вилки появились в Англии только к концу правления Елизаветы I. Мясо уже резали не кинжалами, а ножами с остроконечными или клинообразными лезвиями. Традиция, согласно которой гости должны были приходить на званый обед со своими ножами, постепенно ушла в прошлое.
Тауэр — замок-крепость в Лондоне, главная государственная тюрьма.
Торжественный наряд — гаун (gown, англ.) — парадная одежда. Дамский гаун представлял собой верхнее платье из тяжелой ткани с узким облегающим лифом, который повторял формы корсета. Каркас для юбки делали из металла и покрывали его натяжной юбкой. Сверху надевали фарзингейл. Полы юбки гауна спереди расходились усеченным треугольником, и между ними была видна узорчатая ткань нижнего платья — котт.
Уайтхолл — королевский дворец в Лондоне.
Фарандола — французский танец, в котором танцующие, держа друг друга за руки, образуют цепочку, и, следуя за ведущим, исполняют самые разнообразные движения под аккомпанемент флейты и тамбурина.
Фарзингейл — английский вариант металлического каркаса для юбки (XVI век) в форме большого плоского срезанного спереди овала. Такой вариант фарзингейла имели право носить лишь королева и придворные дамы, но только в особо торжественных случаях.
Флит — долговая тюрьма в Лондоне.
Фрейлина — юная девушка, входившая в свиту королевы, оказывавшая ей мелкие услуги.
Цинга — заболевание десен, вызванное недостатком витамина С.
Чума — смертельная болезнь, разносчиками которой являются крысы.
Шайтан — в исламской мифологии злой дух, Сатана.
Шемизетка — вставка-манишка из тонкой белой ткани, заменявшая верхнюю часть лифа платья; завязывалась подмышками. Для парадной одежды ее часто украшали вышивкой и драгоценными камнями.
Шлейф — у длинного женского платья волочащаяся сзади удлиненная часть подола.
Щелочь — едкое химическое соединение, входило в состав мыла.

Примечания автора
Истории о леди Грейс Кавендиш — выдумка, но некоторые из их героев существовали в реальной жизни.
Помимо королевы Елизаветы I это миссис Чемперноун, Френсис Дрейк, Мэри Шелтон. Настоящая Мэри Шелтон однажды имела смелость подшутить над королевой — и получила пощечину! Но обычно королева была добра к своим придворным.
Придворные дамы и фрейлины не являлись прислугой королевы — все они происходили из знатных семей и были ее подругами и компаньонками. Официально звание «леди» носили те дамы и девицы, чьи отцы или мужья имели определенный высокий титул.
Часто знатных юных девушек присылали ко Двору чтобы там они могли найти себе богатых супругов. Елизавета была очень требовательна и строга к поведению, манерам и нравам своих фрейлин, и с любовными похождениями при дворе было строго. Встречаться с молодыми людьми девушкам в те времена КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещалось! А выходить замуж было принято только за того, кого выбирали родители.
В эпоху Елизаветы I жили многие известные люди, например, драматурги-поэты Уильям Шекспир и Кристофер Марлоу. Именно тогда знаменитый мореплаватель сэр Фрэнсис Дрейк, которого называли «пиратом королевы», совершил кругосветное путешествие, одновременно не прекращая набегов на испанские колонии в Южной Америке, а один из любимых придворных Елизаветы, сэр Уолтер Рэйли, основал первую английскую колонию в Северной Америке.
О нарядах
Наряды во времена Елизаветы I были очень дорогими. Даже обычная одежда стоила недешево, потому что процесс ее изготовления был очень сложным и трудоемким — надо было спрясть нить, соткать и покрасить ткань. Одежду любой сложности шили тогда вручную, швейные машинки были изобретены гораздо позже, в XIX веке, но зато в XVI веке в Англии были изобретены машины дли вязании чулок!
Бедняки ходили в обносках; у обычных людей было, как правило, одно платье, у людей побогаче — два или три. Настоящие богачи могли иметь и десять, и двадцать разных комплектов одежды, и изо всех сил старались перещеголять друг друга.
Цена наряда вельможи, украшенного драгоценными камнями, золотым позументом, вышивкой и кружевами была просто фантастической. Однажды сэр Уолтер Рэйли, поэт, историк и мореплаватель, бросил в грязь свой роскошный плащ, чтобы дать пройти по нему королеве. Это то же самое, что в наше время врезаться в дерево на новеньком «феррари», в надежде произвести впечатление на Мадонну!

Елизавета и ее время
Комментарии к русскому изданию
В истории каждой страны существует миф об идеальном правителе, олицетворяющем нацию. В России это царь Петр I, во Франции — император Наполеон, в Англии — королева Елизавета I.
Королева Елизавета I Английская — одна из двух главных героинь серии книг о Грейс Кавендиш — персонаж исторический.
Король Генрих VIII Тюдор, ее отец, известен тем, что у него было шесть жен.
Первый раз он женился на Катарине Арагонской, дочери испанского короля и ярой католичке. Из шестерых королевских отпрысков выжила только одна девочка — Мария. Для Генриха это было катастрофой — ему был необходим сын, наследник, ибо никто в те времена и представить себе не мог, что Англией способна править женщина!
По этой причине Генрих решил развестись с Катариной и жениться на своей возлюбленной, Анне Болейн, красивой и умной женщине из знатного и богатого рода, которая к тому моменту уже была беременна. Но для развода и нового брака королю было необходимо разрешение Папы Римского. Дело о расторжении брака было передано на рассмотрение в Рим в 1529 году, однако только через четыре года папский двор вынес решение, и это был отказ.
В ноябре 1529 года начал заседать английский парламент. Им были приняты законы, в результате которых английская церковь фактически отделилась от Рима. Генрих VIII разорвал все отношения с католической церковью. Онизменил заложенный в древности характер взаимоотношений церкви и государства, провозгласил себя главой Англиканской протестантской церкви и объявил протестантизм государственной религией. Но многие знатные и богатые семейства юга Англии, в том числе Шотландия остались верны католицизму.
Брак между Катариной Арагонской и Генрихом был признан недействительным, и она была сослана в один из отдаленных дворцов.
После этого Генрих VIII официально женился на Анне Болейн, и у них родилась дочь, Елизавета, которую воспитали в протестантской вере. Анна Болейн заставила Генриха официально объявить Елизавету законнорожденной, и ради нес внести изменения в закон о перворождении, согласно которому отцу наследовал старший сын.
Позже, когда Анна Болейн родила мертвого мальчика, Генрих решил жениться в третий раз, потому что не оставил свои мечты о наследнике-сыне. Он ложно обвинил Анну Болейн в супружеской неверности. Она была заключена в Тауэр и через несколько месяцев казнена. А трехлетнюю Елизавету объявили незаконнорожденной и лишили права престолонаследия. Генрих VIII много раз менял свое решение о наследниках, и юной принцессе то даровали, то отбирали права на трон.
Третья жена Генриха VIII, Джейн Сеймур, родила ему сына Эдварда и умерла от родовой горячки несколько недель спустя. Сам Эдвард был болезненным ребенком, и королю требовался еще один наследник-мальчик. Кстати, юный Эдвард стал прототипом принца из повести Марка Твена «Принц и Нищий».
У четвертой жены Генриха VIII, Анны КлевскоЙ, детей не было. Поскольку это был дипломатический брак, и Анна не любила Генриха, она согласилась на развод.
У пятой жены Генриха, Катерины Ховард, тоже не было детей. Как и Анну Болейн, ее обвинили в супружеской неверности и казнили.
Но и шестая жена Генриха, Катерина Парр, не родила Генриху VIII наследников, хотя пережить своего супруга и остаться живой ей удалось!
Генри VIII умер в 1547 году, и в соответствии с законом о перворождении на престол взошел принц Эдвард. Он умер совсем юным в 1553 году.
Следующей наследницей Генриха VIII была дочь Катарины Арагонской Мария, или Мария I, получившая прозвище Мария Кровавая, позже ставшая супругой короля Испании Филиппа II. Она была ярой католичкой, и сожгла на кострах множество испанских еретиков и английских протестантов, убежденная, что таким образом спасает их души.
Во времена правления Марии Кровавой жизнь принцессы Елизаветы постоянно висела на волоске. Она была заключена в Тауэр, где на время ей пришлось принять католичество.
После многих лет лишений и преследований, в 1558 году она взошла на трон своего отца вполне законно, после смерти бездетной Марии, по праву наследования. День ее воцарения — 17 ноября — со временем превратился в национальный праздник, отмечавшийся вплоть до XVIII века как «день рождения нации» и торжества протестантизма.
Елизавета правила Англией вплоть до самой своей смерти в 1603 году. Однако обстоятельства ее рождения и тот факт, что король, разведясь с ее матерью, первоначально лишил ее права на престол, делало положение королевы очень сложным и шатким. Все 45 лет ее царствования были полны заговоров, интриг и козней претендентов, оспаривавших у нее права на власть.
Елизавета I Английская была выдающейся женщиной, и именно во время ее правления Англия добилась мирового могущества. Не зря эта эпоха названа многими английскими поэтами и драматургами «Золотым веком».
Елизавета I любила повторять, что она «замужем за Англией». При Дворе постоянно обсуждались так называемые «брачные игры» королевы. Не собираясь выходить замуж в реальности и делиться с кем-нибудь своей властью, Елизавета I почти все время находилась в состоянии «обручения» с каким-нибудь иностранным принцем или знатным вельможей. Например, сватовство французского герцога Алансонского безрезультатно длилось 10 лет! А в 1527 году к ней заочно сватался даже царь Иван Грозный! В целях сохранения политического «баланса» между Францией и Испанией, Елизавета умело пользовалась тем, что ее руки искали многие монархи Европы, надеявшиеся получить вместе с ней и английский престол.
В сердцах английских вельмож тоже жила надежда на брак со своей сиятельной повелительницей, и Елизавета этим пользовалась в своих целях — мужчины, влюбленные в нее, делались покорнее, становясь надежными помощниками. Но в душе Елизавета презирала мужчин, понимая, что по-настоящему всем этим блистательным кавалерам нужна не она сама, а ее власть.
Так, многолетний фаворит Елизаветы, Роберт Дадли граф Лейстер, за которого она в действительности чуть было не вышла замуж, когда королева тяжело заболела оспой, с нетерпением ждал ее смерти в сопровождении нескольких тысяч вооруженных приспешников, надеясь захватить трон. Так что не напрасно Елизавета I никогда не помышляла о браке серьезно!
Однако личная заинтересованность приближенных в «особой благосклонности королевы» создавала при Дворе обстановку постоянного соперничества, всеобщей ненависти и склок. Все интриговали и подсиживали друг друга. При Дворе постоянно вспыхивали мелкие и крупные заговоры, что грозило личной безопасности королевы.
Не напрасно Елизавета I учредила тайную службу по расследованию преступлений против государства и короны. Ею руководил талантливый мастер шпионажа сэр Френсис Уолсингем. Его люди, наделенные особыми полномочиями, выслеживали католических священников, заговорщиков, убийц. Но, судя по осведомленности Елизаветы I о делах в государстве, у нее было много и других осведомителей. Как знать, возможно, среди них была и такая леди, как Грейс Кавендиш!

Об авторе
Патрисия Финней (Patricia Finney) написала свое первое произведение, когда ей было всего семь лет, а когда ей исполнилось восемнадцать, первый роман Патрисии был признан в Великобритании лучшей книгой года.
После окончания колледжа Патрисия Финней изучала историю в Оксфорде, поэтому неудивительно, что действие большинства ее книг происходит в XVI веке — эпоху правления династии Тюдоров, ее любимом периоде английской истории.
На материалах этого времени она создала несколько захватывающих исторических детективов для взрослых, а в 2004 году в свет вышла первая книга серии «The Lady Grace Mysteries» (в русском издании «Дневник тайн Грейс»), написанная Патрисией Финней от имени леди Грейс Кавендиш — юной фрейлины королевы Елизаветы I.
Помимо увлекательной интриги, все «дневники» Грейс содержат много исторических фактов и захватывающих подробностей и пользуются заслуженным интересом не только у юных, но и у взрослых читателей.
Примечания
1
Дуат — в мифологии Древнего Египта загробный мир.
(обратно)
2
Хель — в скандинавской мифологии царство мертвых в подземном мире.
(обратно)
3
Осирис — в мифологии Древнего Египта бог возрождения, царь загробного мира.
(обратно)
4
Один — верховный бог в германо-скандинавской мифологии.
(обратно)
5
Амон (Амон-Ра) — в мифологии Древнего Египта бог солнца, царь богов и покровитель власти фараонов.
(обратно)
6
В этой битве в 1030 г. погиб Олаф Святой, бывший королем Норвегии в 1015–1028 гг.
(обратно)
7
Один — верховный бог в германо-скандинавской мифологии, отец и предводитель асов, высших богов. Тор — один из асов, бог грома и бури, защищающий богов и людей от великанов и чудовищ. Бальдр — один из асов, бог весны и света. Браги — сын Одина, бог поэзии и древнейший скальд (поэт) на Скандинавском полуострове. Фрей (Фрейр) — бог плодородия, богатства, мира и лета. Фрейя — богиня любви и войны, предводительница валькирий.
(обратно)
8
Валгалла — в германо-скандинавской мифологии небесный чертог в Асгарде для павших в бою, рай для доблестных воинов.
(обратно)
9
Скальды — норвежские и исландские поэты IX–XIII вв.
(обратно)
10
Хавдинг — в Исландии и Норвегии в эту эпоху предводитель, глава рода.
(обратно)
11
Снорри Стурлусон (1178–1241) — исландский историк, поэт и государственный деятель.
(обратно)
12
В 1508 г. папа Юлий II поручит расписать потолок Сикстинской капеллы Микеланджело.
(обратно)
13
«Речи Высокого» — одна из песен древнескандинавского литературного памятника «Старшая Эдда».
(обратно)
14
«Бассейн Снорри» — термальная каменная купальня XIII в., сохранившаяся в местечке Рейкхольт, родине знаменитого поэта Снорри Стурлусона. По преданию, Снорри Стурлусон купался в ней каждый день.
(обратно)
15
Быстрая перемотка (англ.).
(обратно)
16
Биркебейнеры (букв. «березоногие», т. е. «лапотники») — крестьяне, участники гражданской войны в Норвегии в конце XII в.
(обратно)
17
Каролингский минускул — один из типов средневекового письма с четкими, свободно поставленными буквами латиницы.
(обратно)
18
Аурни Магнуссон (1663–1730) — исландский ученый, собиратель древнеисландских рукописей.
(обратно)
19
Старшие руны — древнейшие долатинские письмена германских народов.
(обратно)
20
Лейв Эйрикссон — скандинавский викинг, который первым совершил в древности плавание из Исландии к территории, ныне являющейся частью США. Рядом с этой гостиницей перед церковью стоит памятник ему. Его имя носит также международный аэропорт Рейкьявика в Кеплавике.
(обратно)
21
Тинг — древнескандинавское и германское правительственное собрание, состоящее из свободных мужчин страны или области.
(обратно)
22
Говард Картер (1874–1939) — знаменитый английский археолог и египтолог, совершивший в 1922 г. в Долине царей, близ Луксора, открытие гробницы Тутанхамона, признанное одним из решающих и наиболее известных событий в египтологии.
(обратно)
23
Пожалуйста (англ.).
(обратно)
24
Что? (англ.).
(обратно)
25
Где свитки? (англ.).
(обратно)
26
Этот алфавит из 24 знаков использовался в Скандинавии и некоторых других странах Европы вплоть до IX в. Начиная с IX в. стали использовать, причем только в Скандинавии, так называемые младшие руны, с алфавитом из 16 знаков.
(обратно)
27
Гусиная печенка (фр.).
(обратно)
28
Дерьмо случается! (англ.).
(обратно)
29
Ворвань — жидкий жир, добываемый из сала морских млекопитающих (китов, тюленей) и рыб.
(обратно)
30
В 1537 г. Норвегия потеряла самостоятельность и стала провинцией Дании.
(обратно)
31
Всякий дар во благо (лат.).
(обратно)
32
Приветствие новым рыцарям (лат.).
(обратно)
33
«Supertramp» — британская рок-группа, работающая в жанре прогрессивного рока и поп-рока.
(обратно)
34
Оригинал этого текста находится в библиотеке дворца Мьерколес, номер по каталогу 1432-KJ-sjs-31.— Прим. авт.
(обратно)
35
Аль-Андалуз — мусульманская часть Иберийского полуострова (Испания и Португалия). — Прим. авт.
(обратно)
36
Пролив Ла-Манш. — Прим. авт.
(обратно)
37
Гибралтар. — Прим. авт.
(обратно)
38
Африка. — Прим. авт.
(обратно)
39
Кадис. — Прим. авт.
(обратно)
40
Фатимиды — династия халифов, правившая на Ближнем Востоке и в 969 г. завоевавшая Египет.
(обратно)
41
Каир. — Прим. авт.
(обратно)
42
Локи — в скандинавской мифологии был бог из числа асов, олицетворение огня в его разрушительном действии, воплощение хитрости и коварства.
(обратно)
43
Розеттский камень — базальтовая плита с идентичными надписями на древнеегипетском языке, начертанными иероглифами и демотическим письмом, и на древнегреческом языке, обнаруженная в 1799 г. в Египте при сооружении форта Сен-Жюльен (близ Розетты на западном рукаве дельты Нила), находится в Британском музее (Лондон). Тексты Розеттского камня, высеченные в 196 г. до н. э., представляют собой благодарственную надпись египетских жрецов Птолемею V Епифану (правил в 204–180 гг. до н. э.). Иероглифический текст Розеттского камня был дешифрован в 1822 г. Ф. Шампольоном; это положило начало изучению египетской иероглифической письменности.
(обратно)
44
Ленсман — исполнительный полицейский чин в сельской местности.
(обратно)
45
Откуда вы? (англ.).
(обратно)
46
Издалека (англ.).
(обратно)
47
Society of International Sciences — Общество международных наук (англ.).
(обратно)
48
Скиния — по библейскому преданию, переносной храм в шатре, который был у древних евреев до постройки храма в Иерусалиме.
(обратно)
49
«Зимний дворец» (англ.).
(обратно)
50
Горная дорога у Нила (фр.).
(обратно)
51
Гений места (лат.).
(обратно)
52
Норвежская миля равна 10 км.
(обратно)
53
«Нубийские ночи» (англ.).
(обратно)
54
Минутку, минутку (ит.).
(обратно)
55
Посторонним вход воспрещен (ит.).
(обратно)
56
Вот это да! (ит.).
(обратно)
57
Марко Поло (ок. 1254–1324) — итальянский путешественник и писатель, вошел в историю как первый европейский исследователь, подробно описавший Азию и Китай. Христофор Колумб (1451–1509) — испанский мореплаватель и открыватель новых земель, наиболее известен своим открытием Америки в 1492 г. Васко да Гама (1460 или 1469–1524) — португальский мореплаватель, известен как первый европеец, совершивший морское путешествие в Индию. Генри Гудзон (ок. 1550–1611) — английский мореплаватель и первопроходец, исследователь Арктики и Северной Америки. Фритьоф Нансен (1861–1930) — легендарный полярный исследователь и общественный деятель. Организатор и участник первого перехода через льды Гренландии, руководитель знаменитой экспедиции, которая попыталась достичь Северного полюса вместе с дрейфующими льдами. Руаль Амундсен (1872–1928) — норвежский полярный путешественник и исследователь. Первым прошел Северо-Западным проходом на судне «Йоа» от Гренландии к Аляске, первым достиг Южного полюса. Тур Хейердал (1914–2002) — известнейший норвежский историк, археолог, путешественник и писатель. В 50-х гг. XX в. заново открыл миру остров Пасхи, в 1953 г. открыл остатки поселений доинкского периода на Галапагосских островах.
(обратно)
58
Меркатор Герард (1512–1594) — фламандский картограф и географ. В его огромной карте мира, сделанной в 1569 г., использована система проекций, называемая сегодня его именем.
(обратно)
59
Винланд — название территории Северной Америки, данное исландским викингом Лейвом Эйрикссоном в 986 г. В 1960 г. в местечке Л'Анс-о-Медоуз на острове Ньюфаундленд было обнаружено археологическое свидетельство раннего поселения викингов.
(обратно)
60
Друг мой (ит.).
(обратно)
61
Конгрегация — центральный орган Римской курии; совет из кардиналов при папе римском во главе с назначенным им префектом.
(обратно)
62
Купеческая Гавань — первоначальное название Копенгагена.
(обратно)
63
В Древнем Риме с этой скалы сбрасывали преступников, приговоренных к смерти.
(обратно)
64
Конечно (ит.).
(обратно)
65
Сеиримы — волосатые демоны. Шедимы — в ветхозаветных преданиях злые духи, демоны, бесы, которым приносили в жертву животных и даже своих детей. На их зооморфный облик указывает название «косматые», в синодальном переводе передается как «лешие» (Исх. 34, 14). Позднейшие предания считают, что у шедимов птичьи лапы.
(обратно)
66
Имеется в виду мюзикл Клода-Мишеля Шонберга и Алана Бублиля по одноименному роману Виктора Гюго.
(обратно)
67
Да, сеньоры? (ит.).
(обратно)
68
Быстро! (англ.).
(обратно)
69
Воды. Пожалуйста. (англ.).
(обратно)
70
Пожалуйста! Хочу пить! (англ.).
(обратно)
71
Заткнись! (англ.).
(обратно)
72
Фал — трос для крепления космонавта к космическому кораблю при выходе в открытый космос.
(обратно)
73
Заткнись! Да заткнись же ты! (англ.).
(обратно)
74
Даны — древнее германское племя, в основном населявшее нынешнюю Швецию и Данию.
(обратно)
75
Заложник! Дорогу! Врача! Немедленно! (ит.).
(обратно)
76
Национальный географический канал (англ.).
(обратно)
77
Имеется в виду стальная корпорация Левински.
(обратно)
78
Джеймс Медисон (1751–1836) — четвертый президент США.
(обратно)
79
Томас Джефферсон (1743–1826) — третий президент США, автор Декларации независимости (1776).
(обратно)
80
Итак, добро пожаловать в Вашингтон (англ.).
(обратно)
81
Протокол — здесь: первый лист, приклеенный к свитку манускрипта.
(обратно)
82
Палеотип — условное название европейских печатных книг, изданных с 1 января 1501-го до 1 января 1551 г.
(обратно)
83
Норумбега — у географов XVI–XVII вв. название области в Северной Америке, приблизительно в районе Новой Англии.
(обратно)
84
Абрахам Ортелий (1527–1598) — фламандский картограф.
(обратно)
85
Джованни да Веррацано (1485–1528) — итальянский мореплаватель на французской службе, первым из европейцев проплыл вдоль восточного побережья Северной Америки вплоть до Нью-Йоркской бухты и залива Наррагансетт.
(обратно)
86
О боже! (англ.).
(обратно)
87
Скрелинги — древнескандинавское название аборигенов Гренландии и Северной Америки, т. е. эскимосов и индейцев.
(обратно)
88
Рагнарок — в германо-скандинавской мифологии гибель богов и всего мира, следующая за последней битвой между богами и хтоническими чудовищами.
(обратно)
89
Миллионер, герой одноименного романа Ф. С. Фицджеральда.
(обратно)
90
Вот это да! Счастливчик! Хотела бы я там оказаться! (англ.).
(обратно)
91
Закуски (фр.).
(обратно)
92
Мик Джаггер — лидер американской рок-группы «Rolling Stones».
(обратно)
93
Джордж Митчелл (р. 1933) — американский политик, член демократической партии.
(обратно)
94
Лето любви. ЛСД. Цветы жизни (англ.).
(обратно)
95
Новый век (англ.) — философское движение 1970-х гг.
(обратно)
96
«Grateful Dead» и «Jefferson Airplane» — две влиятельные американские рок-группы, основанные в 1965 г. в Сан-Франциско.
(обратно)
97
Гностики — приверженцы гностицизма, религиозно-философского течения, выступившего одной из форм связи оформляющегося христианства с мифофилософским эллинистическим фоном и вероучениями иудаизма и зороастризма.
(обратно)
98
Катары — приверженцы ереси XI–XIII вв., получившей распространение в Западной Европе. Осуждение всего земного, плотского вело к крайнему аскетизму. Катары отвергали брак, запрещали употребление животной пищи, допускали самоубийство. Катары не признавали церковных таинств, поклонения святым, индульгенций. Католическая церковь вела против катар ожесточенную борьбу.
(обратно)
99
Пятая книга Моисея, 34, 5–7.
(обратно)
100
Четвертая книга Моисея, 12, 3.
(обратно)
101
Первая книга Моисея, 1, 1–2.
(обратно)
102
Первая книга Моисея, 2, 4–7.
(обратно)
103
«Северные хранители», «Священные тексты» (исп.).
(обратно)
104
«Приключения рыцарей» (исп.).
(обратно)
105
«История Барда». Но почему? (исп.).
(обратно)
106
Прошу прощения, сеньор Родригес (исп.).
(обратно)
107
Хорошо! (исп.).
(обратно)
108
Вторая книга Моисея, 1, 11.
(обратно)
109
Добрый день! (исп.).
(обратно)
110
Вторая книга Моисея, 2, 3—10.
(обратно)
111
Вторая книга Моисея, 1, 12.
(обратно)
112
Да, да, да! Хорошо, Карлос. Спокойной ночи (исп.).
(обратно)
113
Что случилось? (исп.).
(обратно)
114
Шурф — небольшой участок (не более 16 м2), вскрытый на археологическом памятнике с разведывательными целями, позднее может быть расширен в раскоп.
(обратно)
115
Нивелир — геодезический прибор для определения разности высот точек земной поверхности. Теодолит — геодезический угломерный инструмент.
(обратно)
116
Туринская плащаница — христианская реликвия, четырехметровое льняное полотно, в которое, по преданию, Иосиф из Арилафеи завернул тело Иисуса Христа после его смерти на кресте (Мф. 27, 59–60). В настоящее время хранится в соборе Иоанна Крестителя в Турине.
(обратно)
117
Иоанниты (госпитальеры) — члены военного монашеского католического ордена, созданного в Палестине в начале XII века крестоносцами.
(обратно)
118
То есть 200 гектаров. Один декар равен 1000 м2.
(обратно)
119
Снорри Стурлусон (1178–1241) — древнеисландский историк и поэт, автор книги «Круг земной», рассказывающей об истории Норвегии.
(обратно)
120
Победившая в Норвегии в результате Реформации Протестантская церковь упразднила монастыри.
(обратно)
121
В 1904 году был обнаружен хорошо сохранившийся корабль викингов длиной 21 метр.
(обратно)
122
Мантия Земли — часть Земли (геосфера), расположенная непосредственно под корой и выше ядра.
(обратно)
123
Это. Мать. Вашу. Невероятно! (англ.)
(обратно)
124
Предосторожности (англ.)
(обратно)
125
17 мая — национальный праздник, День Конституции Норвегии.
(обратно)
126
Каир, Египет (англ.)
(обратно)
127
Конец (ит., англ.)
(обратно)
128
Гербициды — химические вещества, применяемые для уничтожения растительности.
(обратно)
129
Фаунтлерой — герой одноименного романа (1886) американской писательницы Фрэнсис Ходжсон Бернет.
(обратно)
130
Хавдинг — в Исландии и Норвегии в Средние века предводитель, глава рода.
(обратно)
131
Society of International Sciences (СИС) — Общество международных наук (англ.)
(обратно)
132
Абсолютно уверен (англ.)
(обратно)
133
Братья Харди (Фрэнк и Джо) — главные действующие лица серии детских детективов, написанных различными литературными призраками под псевдонимом Франклин У. Диксон.
(обратно)
134
Октагон — восьмигранное сооружение, увенчанное восьмигранным же шатровым покрытием.
(обратно)
135
Меровинги — первая династия франкских королей в истории Франции.
(обратно)
136
«Бьорн» по-норвежски «медведь», «Малыш Бьорн» — «медвежонок».
(обратно)
137
О да, малыш! (англ.)
(обратно)
138
Гокстадский корабль — корабль викингов IX века (драккар), использованный в качестве погребального корабля и обнаруженный в 1880 году в кургане на берегу норвежского Сандефьорда.
(обратно)
139
Ориген (ок. 185–254) — греческий христианский теолог, философ, ученый.
(обратно)
140
Нет, сэр! (англ.)
(обратно)
141
Гипофиз — нижний мозговой придаток, железа внутренней секреции, играющая у всех позвоночных животных и у человека ведущую роль в гормональной регуляции.
(обратно)
142
Я тоже рад (англ.)
(обратно)
143
Кааре Эсполин Йонсон (1907–1994) — норвежский художник и иллюстратор.
(обратно)
144
Стортинг — парламент Норвегии.
(обратно)
145
Звучание норвежского слова «корова» схоже с названием буквы Q.
(обратно)
146
«Metallica» — американская метал-группа, образованная в 1981 году.
(обратно)
147
Волюта — архитектурный мотив, представляющий собой спиралевидный завиток с кружком («глазком») в центре. Является составной частью ионической капители.
(обратно)
148
Эхин — часть капители колонны, являющаяся переходом от ствола колонны к квадратной верхней ленте капители абаку. В дорическом ордере эхин лишен декора и имеет выпуклую форму; в ионическом ордере он имеет фигурный профиль.
(обратно)
149
Тур Хейердал (1914–2002) — известнейший норвежский историк, археолог, путешественник и писатель.
(обратно)
150
Английские слова «Норвегия» и «ниоткуда» схожи по звучанию.
(обратно)
151
Норвегия! Я — археолог! (англ.)
(обратно)
152
М-ру Балтоу, номер 432. Пожалста, позвоните м-с Грет Линдвайен ни-медлинно! Линда/Портье/Четверг 14:12 (англ. с ошибками)
(обратно)
153
«Старски и Хатч» — знаменитый детективный американский сериал (1975–1979).
(обратно)
154
Армстронг Нил (р. 1930) — американский астронавт, первый человек, ступивший на Луну (21 июля 1969 г.) в рамках лунной экспедиции корабля «Аполлон-11».
(обратно)
155
Archaeological Satellite Survey Spectro-Analysis Available (англ.)
(обратно)
156
Приятного аппетита (фр.)
(обратно)
157
Больница Святого Иоанна в Вэрне (лат.)
(обратно)
158
Возлюбленные (англ.)
(обратно)
159
«Chicago» — американская рок-группа, образованная в 1967 году в Чикаго.
(обратно)
160
«Отель „Калифорния“» — знаменитая песня американской рок-группы «Eagles».
(обратно)
161
На темной пустынной дороге… Холодный ветер в моих волосах… Жаркий порыв… проносится по воздуху… (англ.)
(обратно)
162
В словах «Белтэ из Норвегии» охранник слышит созвучные английские слова «колокольчик» и «ниоткуда».
(обратно)
163
Шерпы — народность, живущая в Восточном Непале, в районе горы Джомолунгма, а также в Индии.
(обратно)
164
Анорак — легкая ветрозащитная куртка с капюшоном, надеваемая через голову.
(обратно)
165
Перемотка назад (англ.)
(обратно)
166
«Свитки Мертвого моря». Туринская плащаница (англ.)
(обратно)
167
Глиссер — легкое быстроходное судно.
(обратно)
168
Политура — спиртовой лак с прибавлением смолистых веществ, употребляемый при полировке.
(обратно)
169
Европейская организация ядерных исследований (фр.)
(обратно)
170
«Дуновение ветра» (англ.) — песня американского автора-исполнителя, поэта и киноактера Боба Дилана.
(обратно)
171
Имя: Бьорн Белтэ
Должность: ассистент-исследователь/археолог
Откуда прибыл (город/страна): Осло, Норвегия
Научное учреждение: университет Осло
Область науки: археология
Цель визита: исследования (англ.)
(обратно)
172
Вода жизни (фр.) — термин коньячный: так производители напитка называют виноградный спирт, полученный в результате двойной перегонки и которому предстоит стать коньяком.
(обратно)
173
Мирного путешествия, Грета! Вечно твой МММ (англ.)
(обратно)
174
«Усадьбы и рода в Рюгге» и «История строительства в Рюгге до 1800 г.» (норв.)
(обратно)
175
Майкл Бейджент, Ричард Ли, Генри Линкольн «Священная кровь и Священный Грааль» (англ.)
(обратно)
176
Якоб Йервеллс «Исторический Иисус» (норв.)
(обратно)
177
Дэн как? (англ.)
(обратно)
178
«Священная кровь и Священный Грааль» (англ.) — см. раздел «Литература».
(обратно)
179
В вавилоно-аккадском мифологическом эпосе о Сотворении мира «Энума элиш», написанном клинописью на аккадском языке на семи глиняных табличках примерно в 1200 г. до P. X., месопотамский бог Мардук превращается в самого могущественного и главного из всех богов. В Моисеевых книгах, которые начали записывать примерно 250 лет спустя, происходит такое же превращение аврамитского бога Элохима/Яхве в единственно истинного всемогущего Бога иудаизма (позже христианства). — Здесь и далее прим. ред.
(обратно)
180
Имя Бьорн по-норвежски значит «медведь».
(обратно)
181
Перед началом резни христиан-катаров во французском городе Безье 21 июля 1209 г. посланцу папы Арно Амальрику один крестоносец задал вопрос: как отличать катаров от католиков? По словам историка ордена цистерцианцев Цезаря Хейстербахского, Амальрик ответил ему: «Убивайте всех! Господь узнает своих». В отчете, направленном папе, Амальрик похвастался, что уничтожил 20 000 человек — молодых и старых, мужчин и женщин, детей, катаров, язычников и заодно католиков. Несколько лет спустя Арно Амальрик был назначен архиепископом в Нарбонне.
(обратно)
182
Палеография — историко-филологическая дисциплина, изучающая памятники древней письменности. Устанавливает место и время их создания; определяет материалы и орудия письма, прослеживает изменения графической формы письменных знаков, изучает системы сокращений и тайнописи, украшение и оформление рукописей и книг.
(обратно)
183
Езиды — этноконфессиональная группа курдов, исповедующих синкретическую религию, сочетающую элементы древних иранских (манихейских) верований, иудаизма, несторианства и ислама. Живут в основном в Ираке и Турции. Езиды признают Верховное Существо, создателя мира, и почитают «духа отрицания» Малак-Тавуса — впавшего в немилость ангела, который со временем будет прощен. Они избегают произносить его имя в разговорах и изображают в виде павлина. Вместе с тем езиды почитают солнце и четыре стихии: землю (мать всего живущего), воду, воздух и огонь (самая священная стихия). Все это дает повод отыскивать начало езидизма в зороастризме.
(обратно)
184
Магнууссон Аурни (1663–1730) — исландский ученый, историк, филолог, экономист, собиратель древнеисландских рукописей.
(обратно)
185
Кеплавик и Гардемуен — аэропорты Рейкьявика и Осло.
(обратно)
186
В самом конце (фр.)
(обратно)
187
Хрунгнир — в скандинавской мифологии один из великанов, противник богов-асов, которого убивает своим молотом Тор. У Хрунгнира было каменное треугольное сердце, с тремя выступами, ставшее прообразом руны «Сердце Хрунгнира». Этот знак обладает огромной магической силой. Наиболее распространенное из толкований знака утверждает, что он символизирует переплетение «трех миров» и поэтому соотносится с верховным богом скандинавской мифологии Одином.
(обратно)
188
Харальд Хардроде (также Харальд Сигурдссон Суровый, 1015–1066) — король Норвегии в 1046–1066 гг.
(обратно)
189
Примипил — самый высокий по рангу центурион легиона, стоявший во главе цервой центурии первой когорты.
(обратно)
190
Легат — в Древнем Риме назначаемый сенатом посол или уполномоченный, выполнявший политическое поручение. В эпоху поздней республики легатами назывались помощники полководцев и наместников в провинциях. При Цезаре легатам стали поручать командование легионами. Легион — основная организационная единица в армии Древнего Рима. Легион состоял из 5–6 тыс. (в более поздние периоды — до 8 тыс.) пехотинцев и нескольких сотен всадников.
(обратно)
191
Господин! (лат.)
(обратно)
192
Декурия — в Древнем Риме отряд из 10 человек, десятая часть центурии.
(обратно)
193
Хвала Сатане! (лат.)
(обратно)
194
Лилит — в иудейской демонологии злой дух, обычно женского пола. Согласно преданию, первая жена Адама, созданная одновременно с ним. Расставшись с Адамом, стала злым демоном. Сюжет не вошел в канонический текст Библии.
(обратно)
195
Да? Мари? (фр.)
(обратно)
196
Пожалуйста, попросите Мари-Элизу Монье (фр.)
(обратно)
197
Я сожалею! (фр.)
(обратно)
198
Извините. Вы говорите по-английски? (англ.)
(обратно)
199
Нет. Ладно. Может быть, говорю. Немного. Кто вы? (англ.)
(обратно)
200
Фрейд Зигмунд (1856–1939) — австрийский психолог, психиатр и невролог, основатель психоаналитической школы. Юнг Карл Густав (1875–1961) — швейцарский психиатр, основоположник одного из направлений глубинной психологии, аналитической психологии. Кафка Франц (1883–1924) — австрийский писатель, один из основных немецкоязычных писателей XX в. Клер Рене (1898–1981) — один из самых значительных французских кинорежиссеров 1920—1930-х гг., создатель жанра музыкального фильма, писатель, актер. Вундт Вильгельм Макс (1832–1920) — немецкий физиолог, психолог, философ и языковед. Вертгеймер Макс (1880–1943) — один из основателей гештальтпсихологии.
(обратно)
201
Пользователь неизвестен (англ.)
(href=#r201>обратно)
202
Афанасий Великий Александрийский (ок. 295–373) — отец Церкви, защитник православия в эпоху арианского кризиса.
(обратно)
203
Элифас Леви — литературный псевдоним Альфонса-Луи Констана (1810–1875), французского оккультиста.
(обратно)
204
Телема (от греч. Thelema — «воля») — религиозно-философское учение, придуманное Алистером Кроули. Основными постулатами Телемы являются: «Делай что желаешь» и «Любовь есть закон». Основная магическая формула — Абракадабра!
(обратно)
205
Кроули Алистер (1875–1947) — один из наиболее известных оккультистов XIX–XX вв., основатель учения Телемы, автор множества оккультных произведений, в том числе «Книги закона», главного священного текста Телемы. При жизни Кроули был участником нескольких оккультных организаций, включая орден Золотой зари, «Серебряную звезду» и орден Храма Востока.
(обратно)
206
Гностики — приверженцы гностицизма. Гностицизм (от др. — греч. Gnostikos — «познающий») — общее обозначение ряда позднеантичных религиозных течений, использовавших мотивы восточной мифологии, и ряда раннехристианских учений и сект.
(обратно)
207
Катары — приверженцы ереси XI–XIII вв., получившей распространение в Западной Европе. Осуждение всего земного, плотского вело к крайнему аскетизму. Катары отвергали брак, запрещали употребление животной пищи, допускали самоубийство. Катары не признавали церковных таинств, поклонения святым, индульгенций. Католическая церковь вела против катаров ожесточенную борьбу.
(обратно)
208
Манихеи — последователи манихейства — религиозного учения, возникшего на Ближнем Востоке в III в. и представлявшего собой синтез халдейско-вавилонских, персидских (зороастризм, маздеизм, парсизм) и христианских мифов и ритуалов. Название учения происходит от имени его основателя — полулегендарного Мани (ок. 216–273/276). Основное содержание манихейства составило пессимистическое учение об изначальности зла. Полемизируя с христианством, манихейство учит, что зло — начало столь же самостоятельное, как и добро. В манихействе царство тьмы как равное противостоит царству света.
(обратно)
209
Л’Акуила — главный город в центральной итальянской провинции Абруццо.
(обратно)
210
Боттичелли Сандро (наст. имя Алессандро Филиппепи, 1445–1510) — итальянский живописец, представитель Раннего Возрождения.
(обратно)
211
Слово demon, со своей стороны, происходит от греческого daimon (лат. daemon), что значит «дух» или «божество».
(обратно)
212
Согласно иудейской, христианской и исламской традиции, царь Соломон имел кольцо — кольцо Соломона, которое давало ему власть над демонами. На кольце изображены магические символы, такие как гексаграмма и пентаграмма или аналогичные фигуры.
(обратно)
213
«Эпос о Гильгамеше» (или поэма «О все видавшем») — одно из старейших сохранившихся литературных произведений в мире, созданное в XXII в. до н. э. в Древнем Шумере. «Энума элиш» — вавилоно-аккадский эпос о Сотворении мира.
(обратно)
214
Шестидневная война — война на Ближнем Востоке между Израилем, с одной стороны, и Египтом, Сирией, Иорданией, Ираком и Алжиром — с другой, продолжавшаяся с 5 по 10 июня 1967 г.
(обратно)
215
«Ветряные мельницы твоего сознания» (англ.) — песня из кинофильма «Афера Томаса Крауна».
(обратно)
216
«Вульгата» (лат. Vulgata versio — «общепринятая версия», «общедоступная») — латинский перевод Священного Писания, восходящий к трудам блаженного Иеронима (ок. 345–420).
(обратно)
217
Лэйард Остин Генри (1817–1894) — знаменитый английский археолог. Находки Лэйарда существенно продвинули изучение Месопотамии.
(обратно)
218
«Торговцам вход воспрещен. Уходите!» (нидерл.)
(обратно)
219
Добрый день! (нидерл.)
(обратно)
220
Хорошо! (нидерл.)
(обратно)
221
Женщина! (нидерл.)
(обратно)
222
Конечно! (нидерл.)
(обратно)
223
Манускрипта? (нидерл.)
(обратно)
224
Спасибо! (нидерл.)
(обратно)
225
Ла-Вей Антон Шандор (1930–1997) — основатель и Верховный жрец церкви Сатаны, автор «Сатанинской Библии», сформулировавший положения философии, известной как сатанизм Ла-Вея.
(обратно)
226
Дорогой мой! (нидерл.)
(обратно)
227
Ириией Лионский (ок. 130 — ок. 200) — святой, один из первых Отцов Церкви, ведущий богослов II в.
(обратно)
228
Флавий Иосиф (ок. 37 — ок. 100) — знаменитый древнееврейский историк и военачальник.
(обратно)
229
Манетон (ок. III в. до н. э.) — первосвященник и секретарь египетских храмов во время Птолемеев I и II. С его именем соединяется представление о начале культа Сераписа. Ему приписываются философские, богословские и исторические, большей частью потерянные сочинения.
(обратно)
230
Иоанн Златоуст (ок. 347–407) — архиепископ Константинопольский, богослов, почитается как один из трех Вселенских святителей и учителей вместе со святителями Василием Великим и Григорием Богословом.
(обратно)
231
Нет-нет (нидерл.)
(обратно)
232
Именно так! (нидерл.)
(обратно)
233
Армагеддон — в авраамических религиях место последней битвы добра со злом в конце времен.
(обратно)
234
Ариане — последователи учения пресвитера Александрийского Ария (ум. в 336). Арий в 318 г. начал полемику с Александром, епископом Александрийским. По мысли Ария, Бог Сын не вечен, не существовал до своего рождения, не может полагаться безначальным. Ариане предлагали признать Бога Сына «частью Единосущего».
(обратно)
235
О «Ларце Святых Тайн» говорится в романе Тома Эгеланна «Разорванный круг».
(обратно)
236
История обнаружения Олафом Святым мумии египетского наследного принца рассказана в книге Тома Эгеланна «Хранители Завета».
(обратно)
237
Спокойной ночи! (нидерл.)
(обратно)
238
Да (фр.)
(обратно)
239
Да. Да. Понимаю. Вижу (англ.), (фр.)
(обратно)
240
Malleus Maleficarum («Молот ведьм») — известнейший трактат по демонологии, написанный двумя германскими монахами, доминиканскими инквизиторами Генрихом Крамером (латинизированный вариант имени — Генрикус Инститорис) и Яковом Шпренгером, и опубликованный в городе Шпайере в 1486 г.
(обратно)
241
Зороастризм — одна из древнейших религий, берущая начало в откровении пророка Спитамы Заратустры, полученном им от Бога — Ахура-Мазды. В основе учения Заратустры — свободный нравственный выбор человеком благих мыслей, благих слов и благих деяний.
(обратно)
242
Книга пророка Исаии, гл. 14, ст. 9—12. — Прим. авт.
(обратно)
243
Откровение Иоанна Богослова, гл. 12, ст. 7–9. — Прим. авт.
(обратно)
244
Апокалипсис — здесь: открытие, откровение, раскрытие сокровенной тайны.
(обратно)
245
Clavicula Salomonis («Ключи Соломона») — книга, составление которой приписывалось царю Соломону. Представляет собой сборник заклинаний, молитв и магических формул, содержит описание талисманов, пентаклей и других атрибутов магии. Предисловием служит текст апокрифического «Завещания царя Соломона своему сыну Ровоаму». Самое раннее из известных изданий — немецкое 1686 г.
(обратно)
246
Это произведение известно также под названием Lemegeton. Были высказаны предположения (явно ошибочные), что и Clavicula Salomonis, и Clavis Salomonis созданы библейским царем Соломоном.
(обратно)
247
В переводе это название означает «Ключ Соломона», в то время как «Clavicula Salomonis» часто именуется «Малым ключом Соломона».
(обратно)
248
Pseudomonarchia Daemonum («Иерархия демонов») — подробная классификация демонов, с описанием каждого из них и инструкциями по вызову и отзыву, написана Иоганном Бейером (1515–1588) в 1563 г.
(обратно)
249
Вейер указывает на свой источник под названием «Liber officiorum spirituum, seu Liber dictus Empto. Salomonis, de principibus et regibus daemoniorum».
(обратно)
250
Демоны Вассаго, Сеере, Данталион и Адромалиус исключены.
(обратно)
251
Гримуар — книга, описывающая магические процедуры и заклинания для вызова духов (демонов) или содержащая еще какие-либо колдовские рецепты.
(обратно)
252
Одним из переводчиков тех версий, которые бытуют в наше время, стал британский оккультист Алистер Кроули (1875–1947). К самым влиятельным книгам каббалы и иудейской мистики принадлежит также книга «Зохар», которая в своих теологических, теософских, мифологических, мистических и космологических комментариях к Книгам Моисеевым обсуждает такие темы, как природа Бога, сущность души, происхождение вселенной, грех, спасение и теодицея. Из иудейской традиции следует назвать такие произведения, как Талмуд (включая Гемару и Мишну), Halakha, Haggada shel pesakh, Tosefta, More Nevukhim, Pirke Avot, Shulchan Arukh, Tanya.
(обратно)
253
«Сага о Ньяле» — самая большая из «саг об исландцах», самая знаменитая из исландских саг вообще и одно из величайших прозаических произведений мировой литературы. Считается, что сага была написана в конце XIII в.
(обратно)
254
Нибиру — мифологическая странствующая планета в Солнечной системе, упоминающаяся в вавилонском сказании о Сотворении мира «Энума элиш», связанном с богом Мардуком. В научной литературе название Нибиру считается вавилонским названием планеты Юпитер. Научных работ в области астрономии, подтверждающих существование Нибиру, нет. Идею Нибиру выдвинула в 1995 г. Нэнси Лидер, заявляющая, что она имела контакты с инопланетянами, которые сделали ей в мозгу имплантат, позволяющий получать непосредственно от них информацию. Писатель и исследователь палеоконтактов Захария Ситчип утверждает, что Нибиру описана в шумерских текстах как двенадцатая планета. Шумеры упоминали о том, что на этой планете обитают высокоразвитые разумные существа (Ануннаки — Эплиль, Нимлиль, Энки — шумерские и аккадские божества, известные по самым древним письменным источникам). Эта планета якобы движется по вытянутой орбите и появляется между Марсом и Юпитером раз в 3600 лет. При каждом таком пересечении и приближении Нибиру к нашей планете представители этой цивилизации якобы спускались на Землю и контактировали с первобытными людьми.
(обратно)
255
Созомен (Эрмий Созомен Саламанский, ок. 400–450) — византийский адвокат, раннехристианский писатель-историк, автор «Церковной истории».
(обратно)
256
Откровение Иоанна Богослова, гл. 13, ст. 18.— Прим. авт.
(обратно)
257
Вавилонский плен — период в истории еврейского народа с 598 по 539 г. до н. э. Собирательное название серии насильственных переселений в Вавилонию значительной части еврейского населения Иудейского царства во времена правления Навуходоносора II. Эти изгнания происходили на протяжении 16 лет (598–582 гг. до н. э.) и были карательными мерами в ответ на антивавилонские восстания в Иудее. Этот период завершился с возвращением части евреев в Иудею после завоевания Вавилонии персидским царем Киром Великим.
(обратно)
258
Роман Тома Эгеланна написан и опубликован в 2009 г.
(обратно)
259
Из «Вопросов Варфоломея». Фрагмент из утраченных текстов существует на греческом и латинском языках, воспроизводятся беседы Иисуса с учениками. — Прим. авт.
(обратно)
260
О Жертва искупления, врата небес открывшая… (лат.) — Здесь и далее на этой странице цитируется католический гимн «О Жертва искупления», слова которого принадлежат святому Фоме Аквинскому (1225–1274).
(обратно)
261
…Теснят нас силы вражие, дай помощь нам и мужество… (лат.)
(обратно)
262
…Господь Единый в Троице да примет славу вечную. Он дарит нам бессмертие… (лат.)
(обратно)
263
…В Божественном отечестве (лат.)
(обратно)
264
Слушай, милостивый Властитель, нашу молитву со слезами… (лат.) — католический гимн, автором которого считается Григорий I Великий (540–604).
(обратно)
265
Во имя великого господина нашего Сатаны (лат.)
(обратно)
266
Хейердал Тур (1914–2002) — знаменитый норвежский путешественник и ученый-антрополог.
(обратно)
267
Добрый вечер (ит.)
(обратно)
268
Гобинд Сингх (1666–1708) — десятый и последний сикхский гуру. Гобинд Сингх был великим воином, талантливым поэтом и лидером народных масс. Гобинд Сингх считается философом теории справедливой войны.
(обратно)
269
Добровольческий корпус (Corpo Truppe Volontarie) — экспедиционный танковый корпус, сформированный в 1939 г. для помощи генералу Франко, устанавливающему фашистский режим в Испании.
(обратно)
270
«Космическая одиссея 2001 года» — научно-фантастический фильм американского режиссера Стэнли Кубрика (1968), ставший вехой в развитии кинофантастики и мирового кинематографа в целом.
(обратно)
271
Армстронг Нил (р. 1930) — американский астронавт, первый человек, ступивший на Луну (21 июля 1969 г.) в рамках лунной экспедиции корабля «Аполлон-11».
(обратно)
272
Codex Sinaiticus («Синайский кодекс») — список Библии на греческом языке, с неполным текстом Ветхого Завета и полным текстом Нового Завета. Наряду с другими древнейшими рукописями «Синайский кодекс» используется текстологами для конструктивной или сводной критики в целях восстановления первоначального греческого текста Библии. «Кодекс» был обнаружен немецким ученым Константином фон Тишендорфом в 1844 г. в Синайском монастыре.
(обратно)
273
Жизнеописания (лат.)
(обратно)
274
Откровение Иоанна Богослова называют также Апокалипсисом, потому что в нем говорится о конце времен и гибели мира. По традиции авторство приписывается евангелисту Иоанну (по-видимому, одному из двенадцати апостолов Иисуса). Между тем кто в действительности написал Откровение Иоанна Богослова, не установлено. Датировка колеблется от 68 до 96 г. — Прим. авт.
(обратно)
275
Шоковая, или оглушающая, граната — представляет собой компактный одноразовый генератор силового поля, настроенного на резонансные частоты нервной системы. Выпускает сферическую электромагнитную волну радиусом около 10 м. Живые существа в этом радиусе временно парализуются или теряют сознание.
(обратно)
276
Хорошие парни? (англ.)
(обратно)
277
Второй Иерусалимский храм (516 до н. э. — 70 н. э.) — храм, начало восстановления которого было положено в правление Кира Великого, реконструированный Иродом Великим и разрушенный после штурма Иерусалима в ходе Первой иудейской войны римской армией во главе с Титом. В отличие от Первого храма (Храма Соломона), который просуществовал 364 года (950–586 до н. э.), Второй храм простоял 586 лет.
(обратно)
278
Коптский язык был доминирующим письменным и устным языком в Египте со II по XIII в. — Прим. авт.
(обратно)
279
Город Никея в современной Турции носит название Изник. — Прим. авт.
(обратно)
280
Арианство утверждает, что Иисус создан Богом и не может быть таким же Божественным, как Отец. Вселенский собор в Никее отклонил эту точку зрения и заложил основы доктрины Святой Троицы. Император Константин поддерживал арианство, но победили его противники. — Прим. авт.
(обратно)
281
Символ веры — система основополагающих догматов вероучения («Я верую в единого Бога, Всемогущего Отца, который создал Небеса и Землю» и т. д.). — Прим. авт.
(обратно)
282
Пасха выпадает на первое воскресенье после первого полнолуния, следующего за днем равноденствия. Это определение было необходимо, чтобы отделить христианскую Пасху от иудейского праздника Песах. — Прим. авт.
(обратно)
283
Апостольский собор, или церковный собор в Иерусалиме в 50 г., не считается столь же репрезентативным. — Прим. авт.
(обратно)
284
Евсевий Кесарийский (ок. 263–340) — епископ, которого часто называют отцом церковной истории. — Прим. авт.
(обратно)
285
Коптская церковь в Египте относится к самым старым организованным церковным общинам. Церковь была создана евангелистом Марком в 42 г., через несколько лет после распятия Иисуса. — Прим. авт.
(обратно)
286
Папа Александрийский (313–326) — возглавлял коптскую ортодоксальную церковь и был преемником апостола Марка, подобно тому как католический папа был преемником апостола Петра. — Прим. авт.
(обратно)
287
Город получил в 330 г. название Константинополь в честь императора Константина, который за пять лет до этого созвал Вселенский собор в Никее, а также перенес в Константинополь столицу Римской империи. Современное название Стамбул город получил в 1930 г. — Прим. авт.
(обратно)
288
Имеется в виду епископ Реймсский Никасий (ум. в 407 или 450), священномученик.
(обратно)
289
Франции. — Прим. авт.
(обратно)
290
Харольд Хардроде (1015–1066) — король Норвегии с 1046 по 1066 г., когда он пал в битве под Стамфорд-Бриджен, сводный брат короля, который ввел в Норвегии христианство, Олава Святого Харальдссона (995—1030). — Прим. авт.
(обратно)
291
Древнескандинавское понятие Гардарики включало русский город Новгород и украинский город Киев. — Прим. авт.
(обратно)
292
Константинополь/Стамбул. — Прим. авт.
(обратно)
293
Гвардия варягов. Эта практика была столь распространенной, что солдаты у себя в странах стали называться варягами. — Прим. авт.
(обратно)
294
В соответствии с византийским обычаем, гвардейцы могли брать себе богатства дворца, когда умирал император. За время службы Харальда умерло ни много ни мало три императора. — Прим. авт.
(обратно)
295
Ярослав, по прозвищу Мудрый (978—1054), был великим князем Киевского государства в 1019–1054 гг. — Прим. авт.
(обратно)
296
Елизавета Киевская (1025–1067) — позже королева Эллисив. Замужем за Харальдом Хардроде в 1043–1066 гг. — Прим. авт.
(обратно)
297
Друзы — приверженцы мусульманской религиозной секты; одно из ответвлений исмаилизма. Секта друзов возникла в начале XI в. под влиянием проповеди миссионера Дарази (названа по его имени) среди исмаилитов Египта и Южного Ливана. Друзы совмещают принцип единобожия с признанием последнего воплощения божества в фатимидском халифе Хакиме (правил в 996—1021) и ожиданием его второго пришествия. Разделяют учение о переселении душ своих единоверцев.
(обратно)
298
Eberhard Karls Universitat Tubingen, 1974. — Прим. авт. [Кровь и святость: Антропология и Метафизика. Университет Эберхарда Карла, Тюбинген, 1974 (нем.).]
(обратно)
299
Имеется в виду вино, символизирующее кровь Христову, используемое в таинстве причащения.
(обратно)
300
Хризма, или хрисмон (Хи-Ро) — монограмма имени Христа, которая состоит из двух начальных греческих букв имени (греч. ΧΡΙΣΤΟΣ) — X (хи) и Р (ро), скрещенных между собой.
(обратно)
301
Теодорих Великий (451 — 30 августа 526) — король остготов, правил в 470–526 гг., из рода Амалов.
(обратно)
302
Во имя великого господина нашего Сатаны… (лат.)
(обратно)
303
Григорий I Великий, называемый в православной традиции Григорий Двоеслов (ок. 540–604) — папа римский с 590 по 604 г.
(обратно)
304
Ад — в религиозных представлениях традиционных христианских конфессий, зороастризма, ислама посмертное место наказания грешников. Как правило, противопоставляется раю и ассоциируется с состоянием мучительного страдания. Слово «ад» происходит от др. — греч, Αδηζ — Гадес или Аид, слово, используемое в Септуагинте (собрание переводов Ветхого Завета на древнегреческий язык, выполненных в III–II вв. до н. э.) для передачи еврейского слова Шеол и усвоенное Новым Заветом.
(обратно)
305
Аид — здесь: в древнегреческой мифологии подземное царство мертвых.
(обратно)
306
Геенна — долина к юго-западу от Иерусалима и символ Судного дня в иудаизме.
(обратно)
307
Шеол — в иудаизме место наказания грешных душ, преисподняя. Шеол отличает от ада кратковременность пребывания (до земного года) грешников там и очистительный, «воспитующий» характер.
(обратно)
308
Иркалла — в шумеро-аккадской мифологии «нижний мир», подземное царство, из которого нет возврата. Управляют Иркаллой богиня Эрешкигаль («великая подземная госпожа») и ее супруг, бог Нергал («владыка обширного жилища»).
(обратно)
309
Коллен де Планси Жак Огюст (1794–1881) — французский писатель, автор сочинений по оккультизму и демонологии.
(обратно)
310
Вторая книга Царств (17, 30) называет Нергала по имени. — Прим. авт.
(обратно)
311
«Ребенок Розмари», «Изгоняющий дьявола», «Предзнаменование» — американские фильмы-триллеры 1960—1970-х гг.
(обратно)
312
Рагнарок — в германо-скандинавской мифологии гибель богов и всего мира, следующая за последней битвой между богами и хтоническими чудовищами.
(обратно)
313
Завтра? (исп.)
(обратно)
314
«Купол над скалой» — мечеть в Иерусалиме.
(обратно)
315
Суперкубок — игра за звание чемпиона Национальной футбольной лиги, самое популярное телевизионное зрелище за год в США.
(обратно)
316
«Грязная бомба» — основная идея этого вида оружия заключается в распылении в воздухе большого количества радиоактивного вещества. Взрыв «грязной бомбы» не вызывает таких больших разрушений, как ядерное оружие. Использованием «грязной бомбы» достигается заражение максимальной площади густонаселенной территории противника радиоактивными веществами.
(обратно)
317
Фамилия переводится с английского как «камень».
(обратно)
318
Священной войны (лат.)
(обратно)
319
Квазар — особо мощное и далекое активное ядро галактики. Квазары являются одними из самых ярких объектов во Вселенной — их мощность излучения иногда в десятки и сотни раз превышает суммарную мощность всех звезд таких галактик, как наша.
(обратно)
320
Поиск внеземного разума (англ.)
(обратно)
321
Нет проблем, у нас много времени в запасе (англ.)
(обратно)
322
Я очень извиняюсь (англ.)
(обратно)
323
Имеется в виду громкое убийство 35-го президента США Джона Кеннеди (1917–1963) 22 ноября 1963 г.
(обратно)
324
Комета Шумахера — Леви была открыта Евгением и Кэролин Шумахерами и Дэвидом Леви в 1993 г. В июле 1994 г. комета Шумахера — Леви столкнулась с Юпитером.
(обратно)
325
«Война и мир» — роман Л. Н. Толстого (1828–1910).
(обратно)
326
«Моби Дик, или Белый кит» — роман Германа Мелвилла (1819–1891), одно из важнейших произведений американского романтизма.
(обратно)
327
Рабин Ицхак (1922–1995) — израильский политический и военный деятель. 6-й и 11-й премьер-министр Израиля. Лауреат Нобелевской премии мира (1994). 4 ноября 1995 г. был убит ультраправым экстремистом Игалем Амиром.
(обратно)
328
The Bible Code. Глава 1: Письмо Майкла Дроснина Ицхаку Рабину, датированное 1 сентября 1994 г. — Прим. авт.
(обратно)
329
Откровение Иоанна Богослова, гл. 5, ст. 1–4. — Прим. авт.
(обратно)
330
Книга пророка Даниила, гл. 12, ст. 4. — Прим. авт.
(обратно)
331
Форт-Нокс — военная база США, на территории которой расположено хранилище золотых запасов страны, где находится 4176 тонн золота в слитках (147,4 млн. тройских унций). Оно занимает второе место в Соединенных Штатах, уступая лишь Федеральному резервному банку Нью-Йорка.
(обратно)
332
Пришел конец (нидерл.)
(обратно)
333
Картер Говард (1874–1939) — знаменитый английский археолог и египтолог, совершивший в 1922 г. в Долине царей, близ Луксора, открытие гробницы Тутанхамона, признанное одним из решающих и наиболее известных событий в египтологии.
(обратно)
334
Зиккурат — многоступенчатое культовое сооружение в древнем Междуречье, типичное для шумерской, ассирийской и вавилонской архитектуры.
(обратно)
335
Нимрод (Немрод, Немврод) — в Пятикнижии и легендах Ближнего Востока — герой, воитель-охотник и царь. В соответствии с книгой Бытия, сын Куша и внук Хама.
(обратно)
336
Аль-Хилла — город в центральной части Ирака, расположенный на берегу реки Евфрат.
(обратно)
337
Первая книга Моисеева, гл. 11, ст. 4–9. — Прим. авт.
(обратно)
338
Во имя великого господина нашего Сатаны. Придите к другому господину, умершие. Слава Сатане! (лат.)
(обратно)
339
Теодолит — геодезический инструмент для определения направлений и измерения горизонтальных и вертикальных углов при геодезических работах.
(обратно)
340
Навуходоносор I — царь Вавилонии, правил приблизительно в 1125–1103 гг. до н. э. Навуходоносор II — царь Нововавилонского царства, правил в 605–562 гг. до н. э.
(обратно)
341
Уэллс Герберт (1866–1946) — английский писатель, один из основоположников социально-философской фантастики.
(обратно)
342
Верн Жюль (1828–1905) — французский писатель, классик приключенческой литературы, один из основоположников научной фантастики.
(обратно)
343
Вуду — общее название религиозных верований, появившихся среди потомков чернокожих рабов, вывезенных из Африки в Южную и Центральную Америку.
(обратно)
344
Муссолини Бенито (1883–1945) — итальянский политический деятель, литератор, лидер фашистской партии, диктатор.
(обратно)
345
Нефилимы. — Прим. авт.
(обратно)
346
Первая Моисеева книга, гл. 6, ст. 1–2 и 4. — Прим. авт.
(обратно)
347
Пятая Моисеева книга, гл. 3, ст. 11. — Прим. авт.
(обратно)
348
Четвертая Моисеева книга, гл. 13, ст. 33. — Прим. авт.
(обратно)
349
Книга Еноха — один из наиболее значимых апокрифов Ветхого Завета.
(обратно)
350
Нефилимы. — Прим. авт.
(обратно)
351
Книга Еноха, кн. 1, гл. 7, ст. 1–6. — Прим. авт.
(обратно)
352
Это маленький шаг для (одного) человека, гигантский скачок для человечества (англ.)
(обратно)
353
Ессеи — общественно-религиозное течение в Иудее во второй половине II в. до P. X. — I в., считаются одними из главных предшественников христианства.
(обратно)
354
Единица «талант» могла обозначать от 20 до 60 кг, в зависимости от того, что взвешивали. — Прим. авт.
(обратно)
355
Перевод английской версии оригинального текста на древнееврейском языке. — Прим. авт.
(обратно)
356
Синяя книга (англ.)
(обратно)
357
Лэйард Остин Генри (1817–1894) — знаменитый английский археолог, дипломат, писатель и искусствовед.
(обратно)
358
«Энума элиш», пятая глиняная табличка, клинопись, ст. 127–129. — Прим. авт.
(обратно)
359
Большой взрыв — космологическая теория начала расширения Вселенной.
(обратно)
360
Великовски Иммануил (1895–1939) — врач и психоаналитик, создатель неконвекционных теорий в области истории, геологии и астрономии.
(обратно)
361
Ситчин Захария (1920–2010) — американский писатель. Приверженец и популяризатор теории о палеоконтактах и инопланетном происхождении человека.
(обратно)
362
Айк Дэвид (р. 1952) — английский писатель.
(обратно)
363
Елизавета II (р. 1926) — царствующая королева и глава государства Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии.
(обратно)
364
Буш Джордж Уокер — американский политик-республиканец. 43-й президент США.
(обратно)
365
Кристофферсон Крис (р. 1936) — американский актер, поэт-бард.
(обратно)
366
Эрих фон Дэникен (р. 1935) — швейцарский писатель и кинорежиссер, уфолог.
(обратно)
367
Пророк Иезекииль, гл. 1, ст. 4—27 (сокращенно). — Прим. авт.
(обратно)
368
Американские научно-фантастические сериалы.
(обратно)
369
Нострадамус (Мишель де Нострдам, 1503–1566) — французский астролог, врач, фармацевт, алхимик, знаменитый своими пророчествами.
(обратно)
370
«Извечность» (англ.)
(обратно)
371
Пациент — от лат. patiens (patienis) — страдающий; в испанском языке второе значение слова paciente — терпеливый, выносливый.
(обратно)
372
Берберечос — вид съедобных ракушек.
(обратно)
373
Менестра — тушеное мясо с овощами.
(обратно)
374
Пирулета —леденец на палочке.
(обратно)
375
Чурро — крендель, жаренный в масле.
(обратно)
376
«Европейская гравюра восемнадцатого века» (англ.).
(обратно)
377
Этьенн-Луи Булле (1728 — 1799), Клод Никола Леду (1736 — 1806) — французские архитекторы.
(обратно)
378
Джованни Баттиста Пиранези (1720 — 1778) — итальянский гравер и архитектор.
(обратно)
379
Братья Альварес Кинтеро: Серафин (1871 —1938) и Хоакин(1873 — 1944) — известные испанские драматурги.
(обратно)
380
«… когда он умер, меня к понтифику Сцеволе» (лат).
(обратно)
381
«Топографическая загадка, или покрытая мраком тайна и точное описание града Нового Вавилона» (лат.).
(обратно)
382
«Об истории растений» (лат.).
(обратно)
383
Сильвия Таунсенд Уорнер (1893 — 1978) популярная английская писательница.
(обратно)
384
Имеется в виду Иберо-американская выставка, которая в 1929 г. проводилась в Севилье.
(обратно)
385
«Сначала мы берем Манхэттен» (англ.).
(обратно)
386
«Обозрение восемнадцатого века» (фр.).
(обратно)
387
Алессандро Джусти (1715—1799)—итальянский скульптор, в 1747 г. приехал в Португалию, возглавил скульптурную школу Мафры.
(обратно)
388
«Башня песни» (англ.).
(обратно)
389
«…они приговорили меня к двадцати годам скуки» (англ.).
(обратно)
390
Мария де Лурд Вильерс Фэрроу (р. 1945) — американская актриса; скорее всего имеется в виду история ее драматических отношений с Вуди Алленом, во многих фильмах которого она снималась.
(обратно)
391
Себастьян Жозе де Карвальо Мелу граф де Оэйраша, маркиз де Помбал (1699—1783) — с 1756 г. практический правитель Португалии, подчинивший себе безвольного монарха Жозе I; активно проводил реформы, при этом много внимания уделял искусству; руководил восстановлением Лиссабона после землетрясения 1755 г.
(обратно)
392
Эдуард Торндайк (1874—1949) — американский психолог
(обратно)
393
Абу-Симбел — местность на западном берегу Нила, два скальных древнеегипетских храма 1-й половины XIII в. до н.э. На фасаде главного храма — три сидящих колосса Рамсеса II.
(обратно)
394
«Химическое исследование» (лат.).
(обратно)
395
Франсиско Суарес (1548—1617) —испанский философ и теолог: система его взглядов известна под названием суаризм.
(обратно)
396
Амброзио Катарино (1484—1553)—итальянский теолог, архиепископ Понцы, его учение получило название катаринизм.
(обратно)
397
«Дьявольская лжемонархия» (лат.).
(обратно)
398
«Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию…» (лат.)
(обратно)
399
«…И был так дивен, как теперь ужасен…» Песнь тридцать четвертая. Перев. М. Лозинского
(обратно)
400
Жиль де Лаваль барон де Ре (1404—1440) — маршал Франции, за многочисленные преступления был повешен, а затем сожжен. Есть версия, что он послужил прототипом Синей Бороды
(обратно)
401
Марсилио Фичино (1433–1499) — итальянский гуманист, философ и астролог, основатель и глава флорентийской Платоновской академии. Один из ведущих мыслителей раннего Возрождения, наиболее значительный представитель флорентийского платонизма — направления, связанного с возобновлением интереса к философии Платона и направленного против схоластики, в особенности против схоластизированного учения Аристотеля.
(обратно)
402
Bastardo (ит.) — внебрачный, незаконнорожденный.
(обратно)
403
Церковь Санта Мария Новелла построена в готическом стиле. Начало строительства — 1246 год, окончание — 1360-й. Принадлежит ордену доминиканцев.
(обратно)
404
Ingenio (ит.) — разум, интеллект.
(обратно)
405
Вид настольной игры, распространенной в Испании, появилсяна Ближнем Востоке, считается одним из предшественников игры в шашки.
(обратно)
406
Старый рынок (ит.).
(обратно)
407
Старый мост (ит.).
(обратно)
408
Фьезоле — город-община в итальянской области Тоскана, недалеко от Флоренции.
(обратно)
409
Санта Мария дель Фьоре — главный собор во Флоренции, построенный в XIII–XIV вв. Недалеко от собора находится колокольня Джотто.
(обратно)
410
Коленная виола (ит.).
(обратно)
411
Главное помещение в доме.
(обратно)
412
Сад Святого Михаила (ит.).
(обратно)
413
Мост Святой Троицы (ит).
(обратно)
414
Церковь Святого Распятия (ит.).
(обратно)
415
Катехизис — книга, излагающая основы христианского вероучения в форме вопросов и ответов.
(обратно)
416
Чимабуэ (настоящее имя Ченни ди Пепо; около 1240 — около 1302) — знаменитый флорентийский художник, мастер алтарной живописи.
(обратно)
417
Проезжий мост (ит.).
(обратно)
418
Поперечный неф или несколько нефов, пересекающих продольный объем в крестообразных по плану зданиях.
(обратно)
419
Базилика Санта Кроче — францисканская церковь. Здесь похоронены Микеланджело, Галилео Галилей, отсюда вывезли в Равенну прах Данте. На надгробных плитах упомянуты около 200 знаменитых фамилий. Среди музейных экспонатов можно увидеть фрески Джотто, братьев Гадди, оригиналы старинных церковных книг, уменьшенную копию Санта Кроче, скульптуры и бронзовые барельефы.
(обратно)
420
Окропи меня иссопом, Господи, и буду чист; омой меня, и буду белее снега. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей (Псалом 50:3, 9).
(обратно)
421
Приветствую! (ит.)
(обратно)
422
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу! И ныне, и присно, и во веки веков! (Из величальной песни Марии, Евангелие от Луки, 1, 46–55.)
(обратно)
423
Эти росписи Джотто в Капелле дель Арена в Падуе (начало XIV в.) посвящены жизни Богоматери и Христа и связаны друг с другом как сцены одного рассказа.
(обратно)
424
Мост прощения (ит.).
(обратно)
425
Церковь Святого Благополучия.
(обратно)
426
Законы, регулирующие расходы, диктовали, помимо прочего, какую одежду и какого цвета полагается шить и носить тем или иным слоям населения. Благодаря этому было легко определить положение человека в обществе и его привилегии. Как правило, эти законы вводили по причине социального расслоения (зачастую для того, чтобы неаристократы не могли выдавать себя за аристократов, иногда затем, чтобы особым образом пометить не пользующиеся благосклонностью властей классы).
(обратно)
427
Дворец капитана народа (ит.). Капитан народа — должность, учрежденная во Флоренции в 1250 году для ограничения судебных властей.
(обратно)
428
Данте. Божественная комедия. Рай. Песнь тринадцатая. Перевод М. Лозинского.
(обратно)
429
Цвет зеленого луга (ит.).
(обратно)
430
Арнольфо ди Камбио (около 1245 — до 1310) — итальянский скульптор и архитектор, представитель Проторенессанса.
(обратно)
431
Фома Аквинский (1225/26-1274) — первый схоластический учитель церкви, «princeps philosophorum» («князь философии»); с 1879 года признан официальным католическим религиозным философом, который связал христианское вероучение (в частности, идеи Августина Блаженного) с философией Аристотеля. Выбранные из его философии (метафизики и натурфилософии) 24 тезиса были определены церковью как истинное учение Фомы Аквинского.
(обратно)
432
Церковь Всех Святых (ит.).
(обратно)
433
Прошу прощения, синьор (ит.).
(обратно)
434
Крылатое латинское выражение, означающее, что на суде должны быть выслушаны и истец, и ответчик.
(обратно)
435
Августин Блаженный (полное имя Августин Аврелий) (354–430) — философ, влиятельнейший проповедник и политик католической церкви. Один из Отцов Церкви, основатель августинизма. Оказал огромное влияние на западную философию и теологию.
(обратно)
436
В XIV веке по Европе прошлась страшная эпидемия «черной смерти», занесенная из Восточного Китая. В 1334 году от нее погибло почти пять миллионов человек, что составляло четверть всего населения Европы.
(обратно)
437
Braccio (ит.) — старинная мера длины, локоть.
(обратно)
438
Монастырский замок (ит.).
(обратно)
439
Becchini — могильщики (ит.).
(обратно)
440
Имеется в виду Джироламо Савонарола — см. далее.
(обратно)
441
Gentile — язычник (ит.).
(обратно)
442
Длинный жилет, камзол.
(обратно)
443
Правда (ивр.).
(обратно)
444
Раши (аббр. от Рабейну Шломо Ицхаки — наш учитель Шломо сын Ицхака; 1040–1105) — раввин, крупнейший комментатор Танаха и Талмуда, общественный деятель.
(обратно)
445
Киддуш (от евр. «кадош» — «святой», «священный») — еврейская молитва освящения субботы и праздников. Произносится в синагоге над чашей вина (исключая первые два вечера еврейской Пасхи, Песаха) и дома перед ужином накануне субботы и праздников. При отсутствии вина его обычно заменяют хлебом. Киддуш выражает благодарность Богу за освящение Израиля заповедями и за установление субботы и праздников.
(обратно)
446
Цитата из Джалаледдина Руми, персоязычного поэта-суфия. (Перев. В. Иванова.)
(обратно)
447
Миньян — кворум из десяти взрослых мужчин (старше 13 лет), необходимый для общественного богослужения и для ряда религиозных церемоний. Мудрецы Талмуда придавали миньяну большое значение. Реформизм в иудаизме допускает включение в миньян и женщин.
(обратно)
448
Рыжий, мальчишка! (ит.)
(обратно)
449
Бернардо Дадди (1280–1348) — итальянский художник раннего Возрождения, ученик Джотто.
(обратно)
450
Безделушка (ит.).
(обратно)
451
Изображение Богоматери, оплакивающей Христа (ит.).
(обратно)
452
Алхимик назвался именем известного мусульманского ученого Абу Мусы Хабира ибн Хайяна (721–815), которого в Европе называли Гебером. Этого выдающегося алхимика, фармацевта, философа, астронома и физика европейцы называли «отцом арабской химии». Кто он был по национальности, точно не известно. Большинство источников считает его арабом, некоторые — персом. Псевдо-Гебером современные специалисты называют неизвестного ученого XIV века, который написал несколько книг по алхимии и металлургии на латыни, подписавшись именем Гебера.
(обратно)
453
Алхимия появилась у греков, арабов и византийцев. Главная греческая школа герметического искусства была основана в Александрии примерно в начале IV века н. э. Зосимом Панаполитанским. До наших дней дошло несколько его сочинений, в частности «Трактат о печах», где стеклянные сосуды для дистилляции описываются задолго до того, как о них заговорили арабские ученые. Мария Еврейка жила в то же время. Она изобрела керотакис, закрытый сосуд, в котором подвергаются воздействию пара тончайшие пластинки различных металлов.
(обратно)
454
Доска (ит.).
(обратно)
455
Отделение благородных металлов от свинца путем окислительного плавления.
(обратно)
456
Процесс извлечения металлов из растворов химическим восстановлением более электроотрицательными металлами.
(обратно)
457
Соединительная оболочка, покрывающая органы, сосуды, нервы и образующая футляры для мышц у позвоночных животных и человека.
(обратно)
458
Человекоподобное существо, искусственно созданное в лаборатории алхимика.
(обратно)
459
Счет (ит.).
(обратно)
460
«Высота совершенствования» (или «Summa Perfectionis Magisterii» (лат.) — «Высота совершенствования мастерства»).
(обратно)
461
Простой люд (ит.).
(обратно)
462
Общественные гонфалоньеры (ит.).
(обратно)
463
От popolo — народ (ит.).
(обратно)
464
Род, семья (ит.).
(обратно)
465
Эйн Соф (ивр. «бесконечность») — в традиции каббалистического иудаизма — имя Бога, отражающее его мистичность и непознаваемость. Термин Эйн Соф тесно связан с каббалистическим учением о десяти Сфирах (Сефирот), которые являются эманацией Бога.
(обратно)
466
Имеется в виду миньян. См. примечание 47.
(обратно)
467
Лангедок — область во Франции, часть Окситании.
(обратно)
468
Гермес Трисмегист (Трижды Величайший) — легендарный ученый, оккультист, алхимик и астролог.
(обратно)
469
Panta rhei — «Все течет, все изменяется» — слова древнегреческого философа Гераклита.
(обратно)
470
Совершенный человек в учении каббалы.
(обратно)
471
Милый (ит.).
(обратно)
472
Horologium (лат.) — часы.
(обратно)
473
Трикстер (англ.) — плут, озорник. Термин для обозначения отрицательного двойника героя.
(обратно)
474
Первичная материя (лат.) — согласно Аристотелю и алхимикам, примитивная бесформенная основа всей материи.
(обратно)
475
Аббатиса одного из немецких монастырей, жившая в XI веке и писавшая трактаты по медицине.
(обратно)
476
Consolamentum (лат.) — успокоение. Дар исцеления, который считается основополагающим принципом учения катаров (религиозное движение в Западной Европе, возникшее из манихейства и не признававшее никаких церковных символов и канонов). Люди, получившие успокоение, назывались «совершенными». «Совершенные» постоянно стремились к чистоте души, занимались проповедничеством и врачеванием, также они были обязаны воздерживаться от мяса, птицы, яиц и сохранять целомудрие. Обычные верующие получали успокоение лишь на пороге смерти.
(обратно)
477
Смилуйся! (ит.)
(обратно)
478
Имеется в виду фреска Чимабуэ «Мадонна на троне», XIII в.
(обратно)
479
Humor (лат.) — жидкость.
(обратно)
480
Клавдий Гален (ок. 130 — ок. 200 до н. э.) — великий ученый эпохи Древнего Рима, собрал разносторонние сведения о человеке и окружающей его природе, его блестящие труды послужили основой для развития естествознания и врачебной науки.
(обратно)
481
Альберт Великий (1193–1280) — философ, теолог, ученый. Видный представитель средневековой схоластики.
(обратно)
482
Арнольд из Виллановы (1235–1311) — испанский врач и алхимик, стоял у колыбели медицинской алхимии.
(обратно)
483
Пьетро д'Абано (1250–1316), итальянский врач, философ и астролог. Считается основателем Падуанской школы в философии. Предан по обвинению в колдовстве в руки инквизиции и умер в тюрьме до вынесения приговора. Основной труд д'Абано — трактат «Согласование противоречий между медициной и философией».
(обратно)
484
Хунейн ибн Ицхак (809–873) — врач, теолог, перевел много трактатов Галена и учеников его школы на сирийский и арабский. Благодаря ему многие труды Галена избежали уничтожения. В поздних средневековых источниках он упоминается под латинизированным именем Йоханнит.
(обратно)
485
Али ибн Аббас аль-Маджуси, также известный как Магиан, — известный персидский врач, в свое время считался одним из трех величайших врачей в Восточном Халифате.
(обратно)
486
Разес, или Аль-Рази (865–925) — разносторонне образованный персидский врач, философ и ученый, опубликовал более 184 книг и статей по медицине, алхимии и философии.
(обратно)
487
Моисей Маймонид (1135–1204) — еврейский раввин, врач и философ, живший в Средние века в Испании и Египте, повлиял и на нееврейский мир, сегодня его взгляды считаются краеугольным камнем ортодоксальной еврейской мысли и учения. Многие его работы подписаны монограммой Рамбам (Раввин Моше бен Маймон, что в переводе с древнееврейского означает «Моше, сын Маймона»).
(обратно)
488
День отдохновения, суббота (у евреев).
(обратно)
489
Под таким названием (в переводе с ит. означает «сборники стихотворений») был издан сборник лучших сонетов Петрарки, принесший ему бессмертие. Иногда это привычное название русифицируют — «Книга Песен».
(обратно)
490
Эта красивейшая южнофранцузская провинция сыграла в жизни Петрарки примерно ту же роль, что Болдино в жизни Пушкина.
(обратно)
491
В 1341 году Петрарку короновали лавровым венком в Риме на Капитолии. Он стал признанной главой литературного мира в Италии, а его известность вышла за пределы страны.
(обратно)
492
Эдуард Вудсток, принц Уэльский (1330–1376), больше известный как Черный принц, был старшим сыном английского короля Эдуарда III и отцом Ричарда II. Сам никогда не занимал престол, так как рано умер. Имеется в виду военная кампания на стороне Педро Кастильского 1367 года, которая окончательно подорвала здоровье и финансовое положение Эдуарда и заставила бросить управление Аквитанией и вернуться в Англию. Происхождение прозвища «черный» точно не известно, и стало оно упоминаться только через 200 лет после его смерти. Вероятно, Эдуард носил черные доспехи или черную накидку.
(обратно)
493
Марко Поло (1254–1324) — венецианский купец и путешественник, один из первых европейцев, который отправился по так называемому Шелковому пути в Китай, а также посетил правителя Монгольской империи хана Хубилая. Свои путешествия Марко Поло описал в сочинении «Книга о разнообразии мира».
(обратно)
494
Последние 15 лет жизни Боккаччо посвятил филологическим исследованиям и создал большой труд, посвященный Данте, перед которым преклонялся. В 1373 году по поручению Флорентийской коммуны Боккаччо читал лекции о Данте в церкви Сан Стефано, из которых составил комментарий к первым семнадцати песням «Божественной комедии».
(обратно)
495
Антипапа — термин, которым в католической церкви принято именовать человека, ложно присвоившего себе звание Папы. Обычно вопрос о том, кто из претендентов, одновременно оспаривавших папский сан, являлся законным Папой, а кто антипапой, решался уже после исторической «победы» приверженцев одного из них. Наиболее серьезный раскол церкви, когда одновременно правили признаваемые разными странами два Папы (а затем и три — в Риме, Авиньоне и Пизе), — это Великая схизма конца XIV — начала XV века.
(обратно)
496
Нашей верховной владычице (ит.).
(обратно)
497
«Сефир Бахир» (др. — евр. «Книга просветления»). Впервые опубликована в XII веке на юге Франции. Историки предполагают, что ее написал раввин Ицхак Сагги Нехор, также известный как Исаак Слепой. Ранний труд по эзотерическому иудейскому мистицизму, который в конечном итоге стал называться каббалой.
(обратно)
498
В еврейском фольклоре глиняная фигура, наделяемая жизнью с помощью магической процедуры.
(обратно)
499
Андрея Пизано (около 1270–1350) — итальянский архитектор и скульптор.
(обратно)
500
В XV веке, когда итальянская скульптура переживала расцвет, художественные конкурсы приобретали характер широких общественных мероприятий. Конкурс на изготовление из бронзы вторых дверей Баптистерия открыл новый период в развитии ренессансной скульптуры. Блестящий рисовальщик Лоренцо Гиберти победил в этом конкурсе, обойдя Филиппо Брунеллески. Гиберти был одним из самых образованных людей своего времени, первым историком итальянского искусства.
(обратно)
501
Микеланджело действительно назвал двери флорентийского баптистерия работы Гиберти «Вратами рая».
(обратно)
502
Булла (от лат. bulla — «печать», букв. — «пузырек») — основной средневековый папский документ со свинцовой (при особых случаях — золотой) печатью, после XV века издавался реже. На печати, прикреплявшейся к булле красной и желтой шелковой нитью, ставилась латинская монограмма «SPSP» в честь святых Петра и Павла с именем Папы на обороте.
(обратно)
503
Кровавый соус (ит.).
(обратно)
504
Сер — принятое в Италии почтительное обращение к юристу. Отец Леонардо был нотариусом.
(обратно)
505
Микелоццо ди Бартоломео (1396–1472) — итальянский архитектор и скульптор, представитель раннего Возрождения. Был придворным архитектором семьи Медичи.
(обратно)
506
Фра Анджелико (буквально «ангельский брат», 1400–1455) — итальянский художник. Имя, данное при рождении, — Гвидо ди Пьетро. Монашеское имя — Джованни да Фьезоле (Фьезоле — пригород Флоренции, где находился его монастырь). Вазари назвал художника «Ангельским»; благодаря ему художник стал известен под именем Фра (брат, монах) Анджелико. Очень рано его стали называть Beato Angelico, то есть Блаженный Анджелико, но Ватикан официально причислил его к лику блаженных только в 1984 году.
(обратно)
507
Фра Филиппо Липпи (1406–1469) — флорентийский живописец, один из виднейших мастеров раннего итальянского Возрождения. Как художник развился под влиянием Мазолино и Мазаччо; на его художественное образование также повлиял Фра Анджелико Фьезольский. Бросив в 1431 году монастырскую жизнь, Липпи продолжал, однако, носить иноческую одежду.
(обратно)
508
Отдельное помещение для собраний при соборе, часто большой круглый зал.
(обратно)
509
Дедушка (ит.).
(обратно)
510
Кальчо — игра, напоминающая современный футбол.
(обратно)
511
Главный мастер (ит.).
(обратно)
512
Филиппо Брунеллески (1377–1446) — итальянский архитектор раннего Возрождения, один из создателей теории перспективы (возводил постройки на основе точных математических подсчетов).
(обратно)
513
Плиний (23 или 24–79) — римский писатель, ученый, автор «Естественной истории», энциклопедии естественно научных знаний античности.
(обратно)
514
Дож — титул главы государства в некоторых итальянских республиках. Титул существовал в Венеции на протяжении более чем десяти веков, с VIII по XVIII век. Предположительно первые дожи выполняли функции наместников Византийской империи. Власть дожа строго ограничивалась различного рода предписаниями. Он не имел права появляться на публике в одиночку, не мог в одиночку встречаться с иностранными государями или посланниками, не мог один вскрывать официальную корреспонденцию. У дожа не могло быть собственности на территории других государств. Он не мог покидать территорию Дворца дожей и базилики Сан Марко.
(обратно)
515
Паоло Уччелло (1397–1475) — итальянский живописец, представитель раннего Возрождения; один из создателей научной теории перспективы. Увлечение перспективой отразилось в первом произведении Уччелло — написанном им в 1436 году портрете английского кондотьера Джона Хоквуда, известного итальянцам как Джованни Акуто. Эта огромная монохромная фреска изображает не живого человека, а его конную статую, на которую зритель смотрит снизу вверх.
(обратно)
516
Одноцветная зеленая земля (ит.).
(обратно)
517
Непотизм — раздача римскими папами ради укрепления собственной власти доходных должностей, высших церковных званий и земель родственникам.
(обратно)
518
Курия — совокупность учреждений, посредством которых Папа Римский осуществляет управление католической церковью и государством Ватикан.
(обратно)
519
Андреа дель Вероккьо (1435–1488) — итальянский скульптор, живописец, гравер, представитель раннего Возрождения.
(обратно)
520
Бельэтаж (ит.).
(обратно)
521
Инталия — глубоко вырезанное изображение на отшлифованном камне или металле.
(обратно)
522
В картине Вероккьо «Крещение Христа» фигура одухотворенного белокурого ангела принадлежит кисти молодого Леонардо.
(обратно)
523
В будущем так на самом деле и случилось. Джованни Медичи еще в 13 лет был назначен кардиналом. После подавления восстания Савонаролы власть во Флоренции снова оказалась в руках Медичи, и кардинал Джованни правил республикой вместе со своим братом. Годом позднее он был избран Папой в результате почти единодушного голосования кардиналов и получил имя Лев X.
(обратно)
524
Крез (595–546 до н. э.) — легендарный последний царь Лидии. Богатство Креза вошло в поговорку, о нем сложилось много легенд. Крез был эллинофилом; посылал щедрые дары в греческие храмы и стремился приобщить Лидию к греческой культуре.
(обратно)
525
lté, missa est (лат., «идите, собрание распущено») — слова, которыми заканчивается католическая месса.
(обратно)
526
Джиневра де Бенчи — аристократка, жившая в XV веке во Флоренции. Современники восхищались ее выдающимся умом и исключительной проницательностью. Сегодня ее помнят любители искусства во всем мире благодаря тому, что она изображена на одной из 17 дошедших до нас картин, которые приписывают Леонардо да Винчи. Споры о картине шли несколько десятилетий, и не было точных доказательств того, что ее автором является Леонардо. К несчастью, ценителям искусства никогда не увидеть портрет Джиневры полностью, потому что нижняя часть картины с изображением рук Джиневры когда-то была оторвана.
(обратно)
527
Луллий Раймунд (ок. 1235 — ок. 1315) — поэт, философ и богослов. Проповедовал среди мусульман в Тунисе. «Ars Magna» — «Великое искусство» является его основным произведением.
(обратно)
528
«Высота совершенствования» («Высота совершенствования мастерства») — труд по алхимии, написанный европейским ученым XIV века, который подписывал свои трактаты именем древнего исламского алхимика Гебера.
(обратно)
529
Джованни Пико делла Мирандола (1463–1494), итальянский мыслитель эпохи Возрождения, представитель раннего гуманизма. Под угрозой преследования со стороны инквизиции в 1488 году Пико бежал во Францию, но там был схвачен и заточен в одну из башен Венсенского замка. Его спасло заступничество высоких покровителей, и прежде всего фактического правителя Флоренции Лоренцо Медичи. В 1488 году по просьбе Медичи папские власти разрешили ученому поселиться близ Флоренции. Дух и среда флорентийской Платоновской академии оказались весьма благотворными для творческих планов и религиозно-философских устремлений Пико.
(обратно)
530
Патриархи — по Библии, это Авраам, Исаак и его сын Иаков, вместе их называют старейшинами иудаизма. Многие племена, жившие на Ближнем Востоке в период между Авраамом и Христом, имеют генеалогическую связь с патриархами и их потомками.
(обратно)
531
Мелкий люд (ит.). (Дословно: «тощий народ».)
(обратно)
532
Джироламо Савонарола — знаменитый итальянский проповедник и общественный реформатор. Светская жизнь и религиозно-нравственное падение Италии сильно возмущали Савонаролу. Некоторые из его ранних стансов посвящены печальному состоянию церкви, порче нравов и разрушению добрых отношений между людьми. Он утверждал, что, подобно ветхозаветным пророкам, передает лишь веления Божии, угрожал проклятием тому, кто не верит в его пророческое призвание, обличал испорченность нравов флорентийцев, не стесняясь в выборе выражений. В своих вдохновенных проповедях Савонарола часто смешивал свои мысли с текстами Св. Писания, говоря в свое оправдание, что «слова эти недавно сошли с небес». Влияние его, ставшее огромным, усилилось благодаря исполнению некоторых его предсказаний — смерти Папы Иннокентия, нашествию французского короля и др.
(обратно)
533
Воля Божья (лат.).
(обратно)
534
Не смей приближаться, о нечистый (лат.)
(обратно)
535
Риджент Парк — аристократический район Лондона.
(обратно)
536
Greengage — Грингэйдж — слива-ренклод (англ.).
(обратно)
537
Sotto voce — вполголоса, приглушенно (ит.).
(обратно)
538
Jolly — джолли — веселый, радостный (англ.).
(обратно)
539
Мисс Пим имеет в виду отношение жителей Клондайка к остальной Америке (ср.: «материк» в разговоре жителей Камчатки о России).
(обратно)
540
Beaux — Бо — красивый, прекрасный (франц.). В сочетании с фамилией «Бо Нэш» прозвище девушки напоминает об изящном распорядителе танцев XVIII столетия на модном английском курорте Бате.
(обратно)
541
Летний семестр в английском колледже обычно длится два месяца — июнь и июль.
(обратно)
542
Tortis colli — ревматическая боль в шейных мускулах (лат.).
(обратно)
543
Ольстер — шесть североирландских провинций, входящих в состав Великобритании.
(обратно)
544
En masse — весь, целиком (франц.).
(обратно)
545
Nut Tart — Нат Тарт — ореховое пирожное (англ.) и Tart — «женщина легкого поведения» (совр. сленг).
(обратно)
546
Metier — профессия, ремесло (франц.).
(обратно)
547
Кланы Кэмпбеллов и Стюартов в Шотландии враждуют со времен средневековья. Здесь, по-видимому, намек на попытки реставрации Стюартов на троне в XVIII веке.
(обратно)
548
Евангелисты: Матфей, Марк, Лука, Иоанн.
(обратно)
549
Скелет из шкафа (skeleton-in-the-cupboard) — фамильные тайны, секрет, о котором нельзя рассказывать посторонним (англ.).
(обратно)
550
En masse — все вместе (франц.).
(обратно)
551
Rue de la Paix (Рю де ля Пэ) — улица в Париже, где расположены фешенебельные магазины.
(обратно)
552
Rond des jambes — пируэт (франц.).
(обратно)
553
Menagerie — хозяйство (франц.).
(обратно)
554
Роман известного писателя Джона Уэйна (1965) о визите советских студентов в Англию.
(обратно)
555
Nature's Abhorrence — то, чего не терпит природа (англ.).
(обратно)
556
1 стоун = 14 англ, фунтов = 6.34 килограмма (английская мера веса).
(обратно)
557
Nonsense — вздор, чепуха (франц.).
(обратно)
558
Bitte? — Простите? (нем.)
(обратно)
559
Мисс Пим считает сочетание слов «кофе» и «чайник» нелогичным, называя фразу «ирландской», т. е. с ее точки зрения — непоследовательной. Этой сугубо английской фразы не понимает Детерро.
(обратно)
560
Яков Первый Стюарт — английский король (1603–1625).
(обратно)
561
G. Р. - General Practioner — участковый, районный врач (англ.).
(обратно)
562
Au revoir — до свидания (франц.).
(обратно)
563
Три Р (Three R's) — выражение для определения чтения, письма, арифметики (reading, 'riting, 'rithmetic), считающихся основами образования.
(обратно)
564
С. Л. Г. — Совет Лондонского Графства.
(обратно)
565
Betise — глупость (франц.).
(обратно)
566
Passe — в прошлом; здесь — постарел (франц.).
(обратно)
567
Manque — неудачный, плохой (франц.).
(обратно)
568
Фотерингей — замок, где казнили Марию Стюарт.
(обратно)
569
Coupe — двухместная машина (франц.).
(обратно)
570
Имя Гиллеспи (Диззи Гиллеспи) принадлежит одному из выдающихся джазовых музыкантов США.
(обратно)
571
Macedoine — блюдо, представляющее собой смесь из овощей и фруктов (франц.).
(обратно)
572
Canaille — негодяйка (франц.).
(обратно)
573
Espece de… — эта… (франц.).
(обратно)
574
Pere — отец; mere — мать (франц.).
(обратно)
575
Ad nauseam — до тошноты (лат.).
(обратно)
576
En route — по пути (франц.).
(обратно)
577
Йоханнисбергер — вино из смородины (нем.).
(обратно)
578
Belle laide — красавица-дурнушка (франц.).
(обратно)
579
Tete-a-tete — наедине (франц.).
(обратно)
580
Reveille — пробуждение; здесь — побудка (франц.).
(обратно)
581
Crise de nerfs — нервный срыв (франц.).
(обратно)
582
Уильям Блейк (1757 — 1827) — выдающийся английский писатель-романтик. Здесь приведена цитата из его стихотворения «Иерусалим», ставшего впоследствии религиозным гимном (в переводе С. Я. Маршака).
(обратно)
583
Matinee — утренний спектакль (франц.).
(обратно)
584
Семейство Борджиа в средневековой Италии прославилось своими преступлениями.
(обратно)
585
Deus ex machina — «бог из машины» (лат.). В античном театре появление с помощью механизма на сцене бога, который своим вмешательством приводит пьесу к развязке.
(обратно)
586
Parti — выгодная партия (франц.).
(обратно)
587
D. В. Е. - Dame Commander of the British Empire — женщина-кавалер ордена Британской империи 2-й степени.
(обратно)
588
Pied-a-terre — квартира, жилище, носящее временный характер, на всякий случай (франц.).
(обратно)
589
Manque — несостоявшийся (франц.).
(обратно)
590
Bonhomie — добродушие (франц.).
(обратно)
591
Outre — экстравагантная выходка (франц.).
(обратно)
592
Король Яков I — 1603–1625 гг.
(обратно)
593
Trimmings — зд. излишняя разукрашенность (англ.).
(обратно)
594
Non sequitur — положение, не вытекающее из предыдущего (лат.).
(обратно)
595
Theatre Arts Monthly — ежемесячник театрального искусства (англ.).
(обратно)
596
Raison d'etre — зд. смысл существования (франц.).
(обратно)
597
Bounder (сленг) — невоспитанный, шумливый человек (англ.).
(обратно)
598
Con amore — с любовью (ит.).
(обратно)
599
Tete-a-tete — свидание наедине (франц.).
(обратно)
600
Ассоциации с романом Ч. Диккенса «Большие надежды».
(обратно)
601
В английском языке глаголы may и can означают «мочь». Глагол may в отрицательной форме имеет строго запретительный оттенок.
(обратно)
602
М. П. - Member of Parliament — член парламента (англ.).
(обратно)
603
М.О.П.В. (W. R. I. - War Resistance International) — Международное общество противников войны.
(обратно)
604
Ла-Манш
(обратно)
605
Canaille — негодяй, каналья (франц.).
(обратно)
606
Let the sleeping dog lie — «He буди спящую собаку» (от греха подальше) — англ, поговорка. В англ, языке игра слов: «sleeping companion» — номинальный компаньон, не принимающий активного участия в делах; «sleeping dog» — спящая собака.
(обратно)
607
Holly Pavement — Падубная аллея (англ.).
(обратно)
608
«Короли и капуста» — название романа О. Генри. В переносном смысле — «обо всем на свете».
(обратно)
609
G.P. - General Practioner — районный, участковый врач (англ.).
(обратно)
610
Ассоциация с Зевсом, который явился Данае в виде золотого дождя.
(обратно)
611
Panache — двухцветная (франц.).
(обратно)
612
A l'Anglaise — по-английски (франц.).
(обратно)
613
Camaraderie — товарищеское отношение (франц.).
(обратно)
614
Бенедикт — персонаж из комедии В. Шекспира «Много шума из ничего», убежденный холостяк, наконец-то женившийся.
(обратно)
615
Burberry — непромокаемый плащ из особой ткани (англ.).
(обратно)
616
177,5 см.
(обратно)
617
«Пастухи в Аркадии».
(обратно)
618
Metropolitan Transit Authority — Нью-Йоркское транспортное управление.
(обратно)
619
Emergency medical technician — работник «скорой помощи».
(обратно)
620
New York Police Department — Нью-Йоркское полицейское управление.
(обратно)
621
Маюскул — пропись заглавными буквами.
(обратно)
622
Круглые сутки и без выходных.
(обратно)
623
Societas Jesu (лат.) — орден иезуитов.
(обратно)
624
Мф. 24:30.
(обратно)
625
Скандальная хроника (фр.).
(обратно)
626
Унциальное письмо — каллиграфический вариант обычного письма. Употреблялся в IV–IX вв., преимущественно в рукописных книгах.
(обратно)
627
Quad-band — вид электронной памяти.
(обратно)
628
Чрезвычайно шикарный (фр.).
(обратно)
629
Смесь (фр.).
(обратно)
630
JFK — аэропорт имени Кеннеди в Нью-Йорке.
(обратно)
631
«Яростный Кейджин» (Ragin' Cajun), 1991 г., — боевик Уильяма Байрона Хилмана с Дэвидом Хэвенером в главной роли.
(обратно)
632
«Тэйзер» (Taser) — электрошоковый пистолет.
(обратно)
633
«Тайные досье» (фр.).
(обратно)
634
Болезнь Тея-Сакса (Tay-Sachs) — ранняя детская амавротическая идиотия.
(обратно)
635
Каджуны — франкоговорящие жители американского штата Луизиана, выходцы из Европы.
(обратно)
636
Любимец, фаворит (нем.).
(обратно)
637
Здесь: городская уборка улиц.
(обратно)
638
«Поместье аббата Соньера» (фр.).
(обратно)
639
«Билетная касса» (фр.).
(обратно)
640
«Гипотезы» (фр.).
(обратно)
641
«Документы» (фр.).
(обратно)
642
Рисунок в мелкую ломаную клетку.
(обратно)
643
Превосходный (фр.).
(обратно)
644
Говядина, цыпленок.
(обратно)
645
Y2K (Year 2000) — общее название класса ошибок в компьютерных программах, связанных с проблемой датирования.
(обратно)
646
Шницель по-венски (нем.).
(обратно)
647
Лк. 1:28.
(обратно)
648
19 апреля 1993 г. сотрудники ФБР совместно со спецподразделением «Дельта» после 51-дневной осады уничтожили ранчо Маунт Кармел в городке Уэйко, штат Техас. Ранчо принадлежало предводителю секты «Ветвь Давида» Дэвиду Корешу. Перед этим в пламени погибли 75 сектантов, в том числе сам Кореш. Сектанты сами подожгли здание, совершив массовое самоубийство.
(обратно)
649
Бретёр (фр. bretteur) — заядлый дуэлянт, задира, скандалист.
(обратно)
650
Здесь — военный юрист, следователь (примеч. пер.).
(обратно)
651
Палаш — рубящее и колющее ручное оружие с длинным прямым клинком (примеч. ред.).
(обратно)
652
Дурной вкус (фр.).
(обратно)
653
Неважно, что неправда, зато здорово придумано (ит.).
(обратно)
654
Радость жизни (фр.).
(обратно)
655
Шнитцлер, Артур (1862–1931), австрийский писатель (примеч. пер.).
(обратно)
656
Grace — грация (англ.).
(обратно)
657
Перевод С. Я. Маршака.
(обратно)
658
О, боже, коровы! Настоящие коровы! (франц.)
(обратно)
Оглавление
ТОМ ЭГЕЛАНН
ХРАНИТЕЛИ ЗАВЕТА
ПРОЛОГ
ЕГИПЕТ
ДРЕВНЕИСЛАНДСКИЙ ПЕРГАМЕНТ
НОРВЕГИЯ
РУНИЧЕСКАЯ НАДПИСЬ
ВАТИКАН
НАДПИСЬ НА МОГИЛЕ
ИСЛАНДИЯ
РУНИЧЕСКАЯ НАДПИСЬ
ВАТИКАН
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
МАНУСКРИПТ
УБИЙСТВО СВЯЩЕННИКА
НАЧАЛО
ГОЛОС ИЗ МОГИЛЫ
ТИНГВЕДЛИР
РУНИЧЕСКИЙ КОД
ПЕНТАГРАММА
ГРОБНИЦА
ИНТЕРЛЮДИЯ
ИСТОРИЯ БАРДА (I)
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
СПРЯТАННАЯ ПОДСКАЗКА
РУНИЧЕСКИЙ КАМЕНЬ
ДЕРЕВЯННЫЕ ЦЕРКВИ
ЗАДАНИЕ
ОПУСТИВШИЙСЯ УЧЕНЫЙ
ЗАБЫТАЯ ДЕРЕВНЯ
АНТИКВАР
«БИБЛИЯ САТАНЫ»
ПАЦИЕНТ (I)
ИНТЕРЛЮДИЯ
ИСТОРИЯ БАРДА (II)
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
ПУТЬ В ВИНЛАНД
ПАЦИЕНТ (II)
ОСТРОВ МОНАХОВ
ГРОТ
КОЛЛЕКЦИЯ ФОН ЛЕВИНСКИ
ПОГОНЯ
ИНТЕРЛЮДИЯ
ИСТОРИЯ БАРДА (III)
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ПОСЛЕДНИЙ ХРАНИТЕЛЬ
ДВОРЕЦ МЬЕРКОЛЕС
ИСТОРИЯ ХРАНИТЕЛЕЙ
БЕАТРИС
СВЯЩЕННАЯ БИБЛИОТЕКА
ШЕСТАЯ КНИГА МОИСЕЯ
ТРЕТИЙ ХРАНИТЕЛЬ
МАВЗОЛЕЙ
ТЮРЬМА
МОИСЕЙ
ОБЕЩАНИЯ
НАСЛЕДНЫЙ ПРИНЦ
ШЕЙХ
ХАССАН
ПЛАН
ХРАНИЛИЩЕ
ВЫСТРЕЛ
БЕГСТВО
«ДЕСИДЕРИА»
ЭПИЛОГ
Том Эгеланн
Разорванный круг
ПРОЛОГ
Часть первая
АРХЕОЛОГ
I
ЗАГАДКА
II
СВЯТОЙ ЛАРЕЦ
III
ЛЮБОВНИК
Часть вторая
СЫН
IV
УМОЛЧАНИЯ, ОБМАНЫ, ВОСПОМИНАНИЯ
V
ПУСТЫНЯ
VI
ПАЦИЕНТ
РАЗОРВАННЫЙ КРУГ
От автора
Послесловие
«РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» И «КОД ДА ВИНЧИ» — ИСТОЧНИКИ И ИГРА МЫСЛЕЙ
Том Эгеланн
«Евангелие Люцифера»
ПРОЛОГ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ПРИСЛУЖНИКИ САТАНЫ
I
МУМИЯ
II
КВАРТИРА
III
РИТУАЛЬНОЕ УБИЙСТВО (1)
IV
КЛЮЧЕВОЙ СВИДЕТЕЛЬ
V
ПРЕСЛЕДОВАНИЕ
VI
ЖЕРТВЕННОЕ ЖИВОТНОЕ
VII
НЕСУЩИЙ СВЕТ
VIII
ЛИЛИТ
IX
РИТУАЛЬНОЕ УБИЙСТВО (2)
X
РИТУАЛЬНОЕ УБИЙСТВО (3)
XI
ДИРК И МОНИК
XII
ПАУК
XIII
МОНЬЕ (1)
XIV
ПИСЬМО (1)
XV
МОНЬЕ (2)
XVI
СМЕРТЬ В ЧАСОВНЕ
XVII
САТАНА
XVIII
ПРЕСЛЕДОВАТЕЛИ
XIX
СЫН САТАНЫ
XX
МОНАХИ
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
СЕМЬ ПЕЧАТЕЙ
I
К. К.
II
ОТЧЕТ
III
ARCHIVUM SECRETUM
IV
МОНАХИ В КАМЕРАХ-ОДИНОЧКАХ
V
КАТАКОМБЫ
VI
ОРИОН
VII
МОЛИТВА В КРОВИ
VIII
СУДНЫЙ ДЕНЬ
IX
АРМАГЕДДОН
X
КОД БИБЛИИ
XI
МОЛЬБА
XII
ВОРОТА БОГА
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
СЫНОВЬЯ БОГА
I
ВАВИЛОН-II
II
ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ
III
ПОДОЗРЕНИЕ
IV
РИТУАЛЬНОЕ УБИЙСТВО (4)
V
ТРЕУГОЛЬНИК
VI
ГАЗ
VII
АД
VIII
СКЕЛЕТ
IX
НЕФИЛИМЫ
X
«МЕДНЫЙ СВИТОК»
XI
ОУЭХ
XII
НЕВЕРОЯТНО!
XIII
НЕВЕДОМОЕ
XIV
ПРИШЕЛЬЦЫ
XV
МОНИК
XVI
ПИСЬМО (2)
XVII
СОН
ЭПИЛОГ
Луис Мануэль Руис
Только одной вещи не найти на свете.
* * *
1
Визиты к Маме Луисе
2
Ветер зловеще вился
3
Она ждала его, сидя за мраморным столиком
4
Ветер нежно гладил ее лоб и щеки
5
Полиция отнеслась с недоверием
6
Замок был сбит
7
На ступеньке сидел инспектор Гальвес
8
Тут она и вправду заглянула в колодец
9
Что-то в нем с благодарностью откликнулось на новую встречу
10
Улица Шау-да-Фейра
11
Она вернулась домой за полночь
Трейси Слэттон
«Бессмертный»
ГЛАВА 1
ГЛАВА 2
ГЛАВА 3
ГЛАВА 4
ГЛАВА 5
ГЛАВА 6
ГЛАВА 7
ГЛАВА 8
ГЛАВА 9
ГЛАВА 10
ГЛАВА 11
ГЛАВА 12
ГЛАВА 13
ГЛАВА 14
ГЛАВА 15
ГЛАВА 16
ГЛАВА 17
ГЛАВА 18
ГЛАВА 19
ГЛАВА 20
ГЛАВА 21
ГЛАВА 22
ГЛАВА 23
Джозефина Тэй
Человек из очереди
Человек из очереди
Глава первая
УБИЙСТВО
Глава вторая
ИНСПЕКТОР ГРАНТ
Глава третья
ДЕННИ МИЛЛЕР
Глава четвертая
РАУЛЬ ЛЕГАР
Глава пятая
И СНОВА ДЕННИ
Глава шестая
ДАГО
Глава седьмая
ДЕЛА ПРОДВИГАЮТСЯ
Глава восьмая
МИССИС ЭВЕРЕТ
Глава девятая
ИНСПЕКТОР ГРАНТ ПОЛУЧАЕТ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ, ЧЕМ РАССЧИТЫВАЛ
Глава десятая
БРОСОК НА СЕВЕР
Глава одиннадцатая
КАРНИННИШ
Глава двенадцатая
ЗАДЕРЖАНИЕ
Глава тринадцатая
ВЫЖИДАНИЕ
Глаза четырнадцатая ПОКАЗАНИЯ ЛАМОНТА
Глава пятнадцатая
БРОШЬ
Глава шестнадцатая
МИСС ДИНМОНТ ПРИХОДИТ НА ВЫРУЧКУ
Глава семнадцатая
РАЗРЕШЕНИЕ ЗАГАДКИ
Глава восемнадцатая
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мисс Пим расставляет точки
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
Джозефина Тэй
Шиллинг на свечи. Исчезновение
ШИЛЛИНГ НА СВЕЧИ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
ИСЧЕЗНОВЕНИЕ
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5
Глава 6
Глава 7
Глава 8
Глава 9
Глава 10
Глава 11
Глава 12
Глава 13
Глава 14
Глава 15
Глава 16
Глава 17
Глава 18
Глава 19
Дэвид Л. Уилсон
«Нечестивый Грааль»
ПРОЛОГ
Часть первая
ВСТРЕЧА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Часть вторая
ПОИСКИ
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
Мария Фагиаш
«Лейтенант и его судья»
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Финней Патрисия
Роковой бал
Февраль,
Тринадцатый день,
год от Рождества Христова
1569
Февраль,
Четырнадцатый день,
год от Рождества Христова
1569
Февраль,
Пятнадцатый день,
год от Рождества Христова
1569
Февраль,
Шестнадцатый день,
год от Рождества Христова
1569
Февраль,
Семнадцатый день,
год от Рождества Христова
1569
Февраль,
Восемнадцатый день,
год от Рождества Христова
1569
Толковый словарик
Примечания автора
Елизавета и ее время
Комментарии к русскому изданию
Об авторе
*** Примечания ***






 Избранником являешься ты, охраняющий тайну ценой своей чести и жизни. Твои божественные покровители Осирис,[3] Один[4] и Христос наблюдают за каждым твоим шагом. Слава тебе, Амон![5]
Избранником являешься ты, охраняющий тайну ценой своей чести и жизни. Твои божественные покровители Осирис,[3] Один[4] и Христос наблюдают за каждым твоим шагом. Слава тебе, Амон![5]

 ИЗ «КОДЕКСА СНОРРИ»
1240 год
ИЗ «КОДЕКСА СНОРРИ»
1240 год
 Я долго смотрю на текст и пытаюсь найти смысл. Но даже тогда, когда я знак за знаком продираюсь через текст, он остается непонятным. Нечитаемым. Не имеющим смыла.
Надпись руническими знаками зашифрована.
Возможно, он опасался чего-то. И потому оставил сообщение для меня у друзей, которым доверял. От этой мысли мурашки побежали у меня по телу. По-видимому, преподобный Магнус чувствовал, что ему угрожает смертельная опасность.
Что же он такое знал, чего никому не выдал?
Читая текст, я чувствую в нем наличие некой схемы. Совершенно очевидно, что преподобный Магнус сделал в своем послании сдвиг знаков по системе Цезаря, но на сколько знаков и в каком направлении?
Из своего гостиничного номера я звоню моему волшебнику-шифровальщику и диктую ему рунический текст.
— G88C3, — бормочет он. — Это и есть, очевидно, ключ к коду.
У меня в голове мелькает светлая мысль.
— G88! Это официальное обозначение Кюльверского камня! — кричу я.
Кюльверский камень был найден у могильника около усадьбы Кюльвер на шведском острове Готланд в 1903 году. Известняковая плита содержала алфавит старших рун.[26] Заменяем рунические знаки на буквы латинского алфавита и получаем следующий текст:
Я долго смотрю на текст и пытаюсь найти смысл. Но даже тогда, когда я знак за знаком продираюсь через текст, он остается непонятным. Нечитаемым. Не имеющим смыла.
Надпись руническими знаками зашифрована.
Возможно, он опасался чего-то. И потому оставил сообщение для меня у друзей, которым доверял. От этой мысли мурашки побежали у меня по телу. По-видимому, преподобный Магнус чувствовал, что ему угрожает смертельная опасность.
Что же он такое знал, чего никому не выдал?
Читая текст, я чувствую в нем наличие некой схемы. Совершенно очевидно, что преподобный Магнус сделал в своем послании сдвиг знаков по системе Цезаря, но на сколько знаков и в каком направлении?
Из своего гостиничного номера я звоню моему волшебнику-шифровальщику и диктую ему рунический текст.
— G88C3, — бормочет он. — Это и есть, очевидно, ключ к коду.
У меня в голове мелькает светлая мысль.
— G88! Это официальное обозначение Кюльверского камня! — кричу я.
Кюльверский камень был найден у могильника около усадьбы Кюльвер на шведском острове Готланд в 1903 году. Известняковая плита содержала алфавит старших рун.[26] Заменяем рунические знаки на буквы латинского алфавита и получаем следующий текст:
 — Ты нашел на карте пентаграмму?
Я смотрю на нее, потом опускаю взгляд на карту.
— Пентаграмма и карта составляют единое целое, — объясняет она. — В качестве исходной точки надо взять священные города того времени. Нидарос, ныне Тронхейм. Бьёргвин, ныне Берген. Хамар. Тёнсберг.
Говоря это, она ставит на карте по маленькой точке у каждого из названных мест. Проводит линию от Бергена до Тронхейма. И от Бергена до Хамара, где Николас Брейкспир, ставший позже папой римским под именем Адриан IV, основал епископат примерно в 1150 году. Затем от Тронхейма до Тёнсберга, самого старого города Норвегии и политического центра в Средние века.
— Если бы тут было еще две линии, — говорит она, — то была бы пентаграмма.
— Но мне кажется, что на северо-западе нет никакого религиозного центра. — Я показываю на недостающую точку координат, которая находится где-то наверху.
— Не скажи. В этом районе находится немало мистических мест. Например, грот Доллстейн. Мой коллега, исследователь Харальд Соммерфельдт Бёлке, изучил связанные с ним легенды. Грот обращен к океану на высоте шестидесяти метров в скале на западной стороне острова Саннс-эй в провинции Мёре-ог-Румсдал. Если верить легенде, на этом острове король Артур возвел летнюю резиденцию. Так вот, как говорят, в гроте спрятано сокровище. Фактически там целых пять залов, или гротов, соединенных узкими туннелями. Длина пещер — сто восемьдесят метров, а в старину люди думали, что от пещеры есть ход под дном моря вплоть до самой Шотландии. Крестоносец Рагнвальд, ярл Оркнейский, который взял имя воспитанника Олафа Святого, Рагнвальда Племянника с Оркнейских островов, побывал в пещере в 1127 году в поисках сокровища, которое, как тогда считали, было спрятано в пещере.
Адельхейд проводит две последние линии. Сердце громко стучит. Как по волшебству, на карте Норвегии появляется пентаграмма.
— Ты нашел на карте пентаграмму?
Я смотрю на нее, потом опускаю взгляд на карту.
— Пентаграмма и карта составляют единое целое, — объясняет она. — В качестве исходной точки надо взять священные города того времени. Нидарос, ныне Тронхейм. Бьёргвин, ныне Берген. Хамар. Тёнсберг.
Говоря это, она ставит на карте по маленькой точке у каждого из названных мест. Проводит линию от Бергена до Тронхейма. И от Бергена до Хамара, где Николас Брейкспир, ставший позже папой римским под именем Адриан IV, основал епископат примерно в 1150 году. Затем от Тронхейма до Тёнсберга, самого старого города Норвегии и политического центра в Средние века.
— Если бы тут было еще две линии, — говорит она, — то была бы пентаграмма.
— Но мне кажется, что на северо-западе нет никакого религиозного центра. — Я показываю на недостающую точку координат, которая находится где-то наверху.
— Не скажи. В этом районе находится немало мистических мест. Например, грот Доллстейн. Мой коллега, исследователь Харальд Соммерфельдт Бёлке, изучил связанные с ним легенды. Грот обращен к океану на высоте шестидесяти метров в скале на западной стороне острова Саннс-эй в провинции Мёре-ог-Румсдал. Если верить легенде, на этом острове король Артур возвел летнюю резиденцию. Так вот, как говорят, в гроте спрятано сокровище. Фактически там целых пять залов, или гротов, соединенных узкими туннелями. Длина пещер — сто восемьдесят метров, а в старину люди думали, что от пещеры есть ход под дном моря вплоть до самой Шотландии. Крестоносец Рагнвальд, ярл Оркнейский, который взял имя воспитанника Олафа Святого, Рагнвальда Племянника с Оркнейских островов, побывал в пещере в 1127 году в поисках сокровища, которое, как тогда считали, было спрятано в пещере.
Адельхейд проводит две последние линии. Сердце громко стучит. Как по волшебству, на карте Норвегии появляется пентаграмма.
 Получается, что в строжайшей тайне кто-то, имевший познания о магии цифр, географии и геометрии, заложил в XII веке соборы в Нидаросе и в Хамаре, замок Тёнсберг и Бергенский собор.
— Лишь немногие сегодня знают, что значительное количество святых мест Скандинавии размещено в соответствии со строгими законами математики и геометрии, — говорит Адельхейд.
Она подходит к книжным полкам, вынимает один том и раскрывает на странице со сделанной с самолета фотографии погребальных курганов Старой Упсалы в Швеции.
— Видишь, курганы и находящиеся рядом церкви и замки, имеющие в своей основе круг, расположены относительно друг друга под определенным углом? — Она показывает на изображения ярко-красным ногтем.
В другой книге она открывает карту Борнхольма, датского острова в Балтийском море.
— Если наложить на остров пентаграмму, можно увидеть, что церкви, замки и все святыни тамплиеров располагаются на вершинах и линиях пентаграммы. — Она вынимает еще одну книгу. — Исландцы Эйнар Паульссон и Эйнар Биргиссон документально доказали, что большие усадьбы, церкви и важные поселения, начиная со времени создания «Книги о занятии земли» в 1688 году, строились в соответствии со священными геометрическими принципами. Представь себе колесо, символизирующее горизонт и созвездия зодиака на небе. Спицы в этом колесе стали именовать, исходя из движения солнца, а все вместе представляет собой космическую карту, которая показывает, что исландцы, совершенно очевидно, имели обширные познания в египетской космологии.
Я пригубил травяной чай, он почти остыл.
Адельхейд нашла на полке еще несколько книг:
— Такие же образцы и загадки ты найдешь и здесь, в Норвегии. Исследования Бодвара Шеллерупа и Харальда Соммерфельдта Бёлке, которые описали свои находки в увлекательных книгах, подтверждают, сколь распространенной была священная геометрия в Норвегии в прошлом. Не забудь, что викинги далеко не только кровожадные насильники. Они были глубоко верующими и ищущими людьми. И они высоко ценили симметрию и гармонию в жизни. Посмотри только на форму прекрасных судов викингов. Посмотри на рунические знаки. Когда викинги хотели построить на местности какие-либо важные сооружения, они соблюдали геометрию священных линий и форм.
— Но ведь в конечном счете это всего лишь какой-то сумбур из черточек и координат, — говорю я и показываю на карту.
— Думаю, более точное указание места прячется в тексте. Возможно, в зашифрованном виде.
В полной растерянности я смотрю на текст. Я его просматривал столько раз, что не могу даже вообразить, будто в нем есть скрытые коды, которые я еще не обнаружил.
Получается, что в строжайшей тайне кто-то, имевший познания о магии цифр, географии и геометрии, заложил в XII веке соборы в Нидаросе и в Хамаре, замок Тёнсберг и Бергенский собор.
— Лишь немногие сегодня знают, что значительное количество святых мест Скандинавии размещено в соответствии со строгими законами математики и геометрии, — говорит Адельхейд.
Она подходит к книжным полкам, вынимает один том и раскрывает на странице со сделанной с самолета фотографии погребальных курганов Старой Упсалы в Швеции.
— Видишь, курганы и находящиеся рядом церкви и замки, имеющие в своей основе круг, расположены относительно друг друга под определенным углом? — Она показывает на изображения ярко-красным ногтем.
В другой книге она открывает карту Борнхольма, датского острова в Балтийском море.
— Если наложить на остров пентаграмму, можно увидеть, что церкви, замки и все святыни тамплиеров располагаются на вершинах и линиях пентаграммы. — Она вынимает еще одну книгу. — Исландцы Эйнар Паульссон и Эйнар Биргиссон документально доказали, что большие усадьбы, церкви и важные поселения, начиная со времени создания «Книги о занятии земли» в 1688 году, строились в соответствии со священными геометрическими принципами. Представь себе колесо, символизирующее горизонт и созвездия зодиака на небе. Спицы в этом колесе стали именовать, исходя из движения солнца, а все вместе представляет собой космическую карту, которая показывает, что исландцы, совершенно очевидно, имели обширные познания в египетской космологии.
Я пригубил травяной чай, он почти остыл.
Адельхейд нашла на полке еще несколько книг:
— Такие же образцы и загадки ты найдешь и здесь, в Норвегии. Исследования Бодвара Шеллерупа и Харальда Соммерфельдта Бёлке, которые описали свои находки в увлекательных книгах, подтверждают, сколь распространенной была священная геометрия в Норвегии в прошлом. Не забудь, что викинги далеко не только кровожадные насильники. Они были глубоко верующими и ищущими людьми. И они высоко ценили симметрию и гармонию в жизни. Посмотри только на форму прекрасных судов викингов. Посмотри на рунические знаки. Когда викинги хотели построить на местности какие-либо важные сооружения, они соблюдали геометрию священных линий и форм.
— Но ведь в конечном счете это всего лишь какой-то сумбур из черточек и координат, — говорю я и показываю на карту.
— Думаю, более точное указание места прячется в тексте. Возможно, в зашифрованном виде.
В полной растерянности я смотрю на текст. Я его просматривал столько раз, что не могу даже вообразить, будто в нем есть скрытые коды, которые я еще не обнаружил.
 Под знаком Α крайние левые буквы каждой строчки образуют слово DØSO — ДЁСО и следующее за ним слово KORS — КРЕСТ.
Точно так же я прочитываю название RØYKENES — РЁЙКЕНЕС, составленное из последних букв каждой строчки над знаком Ω.
В энциклопедии я тут же нахожу, что Дёсо — населенный пункт рядом с городком Ос в Хордаланне, в трех милях к югу от Бергена. Название произошло от слова dys — могильник, связанного, в свою очередь, с древними каменными курганами-могильниками, которым вот уже полторы тысячи лет. Они до сих пор сохранились в этих местах. Я нахожу карту. Рёйкенес — название места, где кончалась монашеская дорога в нескольких километрах от Дёсо.
Монашеская дорога?
Напряженно смотрю на карту.
Ставлю точку на Дёсо, другую — на Рёйкенесе и провожу вертикальную черту.
Крест.
Неужели Снорри хочет сказать, что теперь, используя получившуюся линию, надо дорисовать крест?
Я провожу горизонтальную линию креста. Правый конец оказывается в лесу.
Левый попадает… в монастырь Люсе!
Под знаком Α крайние левые буквы каждой строчки образуют слово DØSO — ДЁСО и следующее за ним слово KORS — КРЕСТ.
Точно так же я прочитываю название RØYKENES — РЁЙКЕНЕС, составленное из последних букв каждой строчки над знаком Ω.
В энциклопедии я тут же нахожу, что Дёсо — населенный пункт рядом с городком Ос в Хордаланне, в трех милях к югу от Бергена. Название произошло от слова dys — могильник, связанного, в свою очередь, с древними каменными курганами-могильниками, которым вот уже полторы тысячи лет. Они до сих пор сохранились в этих местах. Я нахожу карту. Рёйкенес — название места, где кончалась монашеская дорога в нескольких километрах от Дёсо.
Монашеская дорога?
Напряженно смотрю на карту.
Ставлю точку на Дёсо, другую — на Рёйкенесе и провожу вертикальную черту.
Крест.
Неужели Снорри хочет сказать, что теперь, используя получившуюся линию, надо дорисовать крест?
Я провожу горизонтальную линию креста. Правый конец оказывается в лесу.
Левый попадает… в монастырь Люсе!
 Этот старинный монастырь цистерцианцев, о котором ходит много легенд, прекратил свое существование в 1536 году. Но существующий до сих пор парк с руинами монастыря пользуется популярностью у туристов. А когда-то монахи в тишине и трудах наслаждались здесь чистейшей ключевой водой.
Монастырь Люсе…
Ну конечно!
Вдохновленный открытием, я продолжаю разбираться в лабиринте знаков. Теперь работа идет быстрее. Некоторые буквы написаны жирнее других, и это выделение упрощает обнаружение новых слов, спрятанных среди других слов и предложений. Так, например, в строке, если ее передать на современном норвежском языке:
Этот старинный монастырь цистерцианцев, о котором ходит много легенд, прекратил свое существование в 1536 году. Но существующий до сих пор парк с руинами монастыря пользуется популярностью у туристов. А когда-то монахи в тишине и трудах наслаждались здесь чистейшей ключевой водой.
Монастырь Люсе…
Ну конечно!
Вдохновленный открытием, я продолжаю разбираться в лабиринте знаков. Теперь работа идет быстрее. Некоторые буквы написаны жирнее других, и это выделение упрощает обнаружение новых слов, спрятанных среди других слов и предложений. Так, например, в строке, если ее передать на современном норвежском языке:
 Я смотрю на мелькающие буквы и слова. Конечно, я могу предположить, что Снорри здесь всего лишь развлекался. Но ведь можно также — чисто теоретически — предположить, что я нашел указание на местонахождение утраченной могилы Олафа Святого.
Я смотрю на мелькающие буквы и слова. Конечно, я могу предположить, что Снорри здесь всего лишь развлекался. Но ведь можно также — чисто теоретически — предположить, что я нашел указание на местонахождение утраченной могилы Олафа Святого.
 Одной из подсказок в замысловатом кроссворде Снорри было выражение: «Восток встречает север». Мне приходит в голову, что это, возможно, описание того, где встречаются идущие на восток и на север линии пентаграммы. Но только указание это весьма расплывчатое, потому что местом встречи востока и севера может быть несколько точек. Поэтому нам придется пройтись по всем линиям пентаграммы и посмотреть, не прояснится ли что-нибудь на местности.
Одной из подсказок в замысловатом кроссворде Снорри было выражение: «Восток встречает север». Мне приходит в голову, что это, возможно, описание того, где встречаются идущие на восток и на север линии пентаграммы. Но только указание это весьма расплывчатое, потому что местом встречи востока и севера может быть несколько точек. Поэтому нам придется пройтись по всем линиям пентаграммы и посмотреть, не прояснится ли что-нибудь на местности.
 «Здесь покоится преподобный Рудольф», — перевожу я мысленно.
Ниже на крышке написано:
«Здесь покоится преподобный Рудольф», — перевожу я мысленно.
Ниже на крышке написано:
 — Епископ Рудольф, — шепчу я, словно все еще хочу показать уважение к тишине и покою, которые сам же давно нарушил. — Один из епископов, которые сопровождали Олафа во время его возвращения из Англии в Норвегию перед христианизацией страны.
— Так это не Олаф Святой?
— Нет.
Открытие и великолепное зрелище слишком сильно действуют на меня, чтобы я мог почувствовать разочарование. Хотя мне хотелось бы, чтобы мы увидели на возвышении раку Олафа, а не каменный саркофаг.
Мы с Эйвином беремся каждый за свой край гроба и осторожно отодвигаем в сторону.
На скелете красная мантия епископа со сгнившим горностаевым воротником. Кости пальцев обхватили епископский жезл. Череп в продолговатой и острой епископской шапочке лежит боком внутри митры.
Епископ Рудольф…
Неожиданно для меня самого на глаза наворачиваются слезы.
— Бьорн? — Эйвин дергает меня за рукав.
Светом фонаря на голове он указывает мне на что-то слева от нас. Сначала я вижу только отблески света. Потом обнаруживаю четыре керамических кувшина.
— О боже! — говорит Эйвин.
Каждый кувшин наполнен драгоценностями и египетскими статуэтками из золота и алебастра. Кошки, амулеты, жуки-скарабеи, бог-шакал Анубис, сказочные животные, кобры… Лучи фонарей блестят на темно-красных драгоценных камнях. Эйвин хватает фигурку бога Хоруса с птичьей головой.
— Оставь ее, — говорю я. — Мы должны сохранить как можно больше вещей нетронутыми, чтобы наши коллеги смогли изучить их.
— И это говоришь ты? — смеется он.
Пыль на стенах скрывает надписи, сделанные рунами и египетскими иероглифами. Надгробная надпись украшена орнаментом из скандинавских и древних египетских значков. Мы долго ходим по темному залу и рассматриваем надписи на стенах. Под пылью видны значки и рисунки.
Внизу на возвышении обнаруживается мраморная пластина, покрытая сотнями значков.
Руническая надпись.
С помощью ножа я вырываю камень из объятий пьедестала и счищаю пыль. Осторожно кладу на пол. По краям камня — драгоценные камни.
Сверху три символа.
— Анх, тюр и крест, — бормочет Эйвин.
Своим фонарем я освещаю знаки и перевожу с древненорвежского языка:
— Епископ Рудольф, — шепчу я, словно все еще хочу показать уважение к тишине и покою, которые сам же давно нарушил. — Один из епископов, которые сопровождали Олафа во время его возвращения из Англии в Норвегию перед христианизацией страны.
— Так это не Олаф Святой?
— Нет.
Открытие и великолепное зрелище слишком сильно действуют на меня, чтобы я мог почувствовать разочарование. Хотя мне хотелось бы, чтобы мы увидели на возвышении раку Олафа, а не каменный саркофаг.
Мы с Эйвином беремся каждый за свой край гроба и осторожно отодвигаем в сторону.
На скелете красная мантия епископа со сгнившим горностаевым воротником. Кости пальцев обхватили епископский жезл. Череп в продолговатой и острой епископской шапочке лежит боком внутри митры.
Епископ Рудольф…
Неожиданно для меня самого на глаза наворачиваются слезы.
— Бьорн? — Эйвин дергает меня за рукав.
Светом фонаря на голове он указывает мне на что-то слева от нас. Сначала я вижу только отблески света. Потом обнаруживаю четыре керамических кувшина.
— О боже! — говорит Эйвин.
Каждый кувшин наполнен драгоценностями и египетскими статуэтками из золота и алебастра. Кошки, амулеты, жуки-скарабеи, бог-шакал Анубис, сказочные животные, кобры… Лучи фонарей блестят на темно-красных драгоценных камнях. Эйвин хватает фигурку бога Хоруса с птичьей головой.
— Оставь ее, — говорю я. — Мы должны сохранить как можно больше вещей нетронутыми, чтобы наши коллеги смогли изучить их.
— И это говоришь ты? — смеется он.
Пыль на стенах скрывает надписи, сделанные рунами и египетскими иероглифами. Надгробная надпись украшена орнаментом из скандинавских и древних египетских значков. Мы долго ходим по темному залу и рассматриваем надписи на стенах. Под пылью видны значки и рисунки.
Внизу на возвышении обнаруживается мраморная пластина, покрытая сотнями значков.
Руническая надпись.
С помощью ножа я вырываю камень из объятий пьедестала и счищаю пыль. Осторожно кладу на пол. По краям камня — драгоценные камни.
Сверху три символа.
— Анх, тюр и крест, — бормочет Эйвин.
Своим фонарем я освещаю знаки и перевожу с древненорвежского языка:
 Три строки, или три «семьи», получили нумерацию снизу вверх, чтобы как можно больше запутать желающих ее понять. Каждая руна входила в одну из трех «семей» и имела номер в своей «семье», то есть в горизонтальном ряду.
В соответствии с этой системой руна А имела обозначение 24, то есть была во второй «семье» четвертой, а руна В соответственно 12, то есть в первой «семье» второй.
Затем цифровое обозначение передавалось «руной-веткой». Руна А, то есть 24, передается двумя ветками (обозначающими номер «семьи») слева и четырьмя справа от ствола:
Три строки, или три «семьи», получили нумерацию снизу вверх, чтобы как можно больше запутать желающих ее понять. Каждая руна входила в одну из трех «семей» и имела номер в своей «семье», то есть в горизонтальном ряду.
В соответствии с этой системой руна А имела обозначение 24, то есть была во второй «семье» четвертой, а руна В соответственно 12, то есть в первой «семье» второй.
Затем цифровое обозначение передавалось «руной-веткой». Руна А, то есть 24, передается двумя ветками (обозначающими номер «семьи») слева и четырьмя справа от ствола:
 По этой же системе руна F передается деревом с тремя ветками справа и одной веткой слева от ствола, a Y — с одной веткой слева и пятью справа.
У меня отношение к цифрам то же, что и к женщинам: ни тех ни других я не способен понять до конца. И хотя в принципе я понял систему тайных рун, все вместе выше моего понимания. Придется обратиться к Терье Лённу Эриксену.
Уговаривать его не надо. Вооружившись моими записями и фотографиями церковного колокола, он набрасывается на значки, как Шампольон — на Розеттский камень.[43]
Сначала он разделяет текст на части таким способом, который ни за что не пришел бы в голову ни Эйвину, ни мне. Потом начинает анализировать структуру слов. Благодаря этому он обнаруживает, что текст состоит из двух элементов, которые повторяются трижды, и еще пяти отдельных слов, которые используются по одному разу.
Мастер рун комбинировал обычные руны и «руны-ветки» в тексте, который был написан справа налево.
— Я попробовал выяснить, не поможет ли нам руническое колесо, — говорит Терье, у которого есть фотография колеса с рунической надписью, находящегося в Бергенском музее.
Это колесо представляет собой механизм, который очаровывал и удивлял ученых с того момента, как был найден в деревянной церкви Гол, разобранной и перенесенной в 1882 году в Народный музей в Осло. Этот примитивный шифровальный механизм, предшественник знаменитого криптографического устройства Уитстоуна, состоит из трех деревянных пластин с двумя вложенными круглыми дисками разного диаметра, с нанесенными на дисках рунами как старшего, так и младшего рунического алфавита. При вращении дисков получались сочетания знаков в различных комбинациях.
И все же, вопреки всем стараниям Терье, и руническое колесо не помогло нам расшифровать текст.
Мы попытались применить метод Цезарь-8 с чтением справа налево на обычных рунах. Однако Терье обнаруживает смысл в этом тексте только после того, как был удален каждый второй знак:
По этой же системе руна F передается деревом с тремя ветками справа и одной веткой слева от ствола, a Y — с одной веткой слева и пятью справа.
У меня отношение к цифрам то же, что и к женщинам: ни тех ни других я не способен понять до конца. И хотя в принципе я понял систему тайных рун, все вместе выше моего понимания. Придется обратиться к Терье Лённу Эриксену.
Уговаривать его не надо. Вооружившись моими записями и фотографиями церковного колокола, он набрасывается на значки, как Шампольон — на Розеттский камень.[43]
Сначала он разделяет текст на части таким способом, который ни за что не пришел бы в голову ни Эйвину, ни мне. Потом начинает анализировать структуру слов. Благодаря этому он обнаруживает, что текст состоит из двух элементов, которые повторяются трижды, и еще пяти отдельных слов, которые используются по одному разу.
Мастер рун комбинировал обычные руны и «руны-ветки» в тексте, который был написан справа налево.
— Я попробовал выяснить, не поможет ли нам руническое колесо, — говорит Терье, у которого есть фотография колеса с рунической надписью, находящегося в Бергенском музее.
Это колесо представляет собой механизм, который очаровывал и удивлял ученых с того момента, как был найден в деревянной церкви Гол, разобранной и перенесенной в 1882 году в Народный музей в Осло. Этот примитивный шифровальный механизм, предшественник знаменитого криптографического устройства Уитстоуна, состоит из трех деревянных пластин с двумя вложенными круглыми дисками разного диаметра, с нанесенными на дисках рунами как старшего, так и младшего рунического алфавита. При вращении дисков получались сочетания знаков в различных комбинациях.
И все же, вопреки всем стараниям Терье, и руническое колесо не помогло нам расшифровать текст.
Мы попытались применить метод Цезарь-8 с чтением справа налево на обычных рунах. Однако Терье обнаруживает смысл в этом тексте только после того, как был удален каждый второй знак:


 — Хм? — только и могу я произнести.
Я не знаю, имеет ли «хм» то же самое значение по-итальянски, что и по-норвежски, но, если судить по появившимся на их лицах улыбкам, я понял, что их веселит мое изумление.
— Так ты говоришь, что это написал брат Христофора Колумба?
Марчелло Кастильоне торжественно кивает.
— Непостижимо! — восклицает Стюарт. — Это нечто совершенно новое! Бартоломео Колумб! Почему он нарисовал эти символы?
— Никто не знает, — отвечает Луиджи. — Он называет эту комбинацию знаков «Печать Хранителей».
— Бартоломео Колумб упоминает в дневнике присланное с этой печатью письмо, которое его просили привезти в Европу, — говорит Марчелло Кастильоне. — Он не пишет ни слова о том, кто из живших на одном из недавно открытых островов в Карибском море просил его привезти это письмо. Но он пишет, кому оно адресовано. — Он специально делает паузу. — Архиепископу Нидаросскому Эрику Валькендорфу в Королевстве Норвегия.
Я с трудом подавляю восклицание.
— Из других источников мы знаем, — говорит Луиджи, — что Колумб добросовестно выполнил просьбу и привез письмо в Европу, сначала в Лиссабон и Вальпараисо в Португалии, потом в Испанию. Он отдал письмо одному испанскому епископу, который не захотел играть роль почтальона. Даже ради коллеги в Норвегии. Подозрительный епископ, вероятно, взломал печать, вскрыл письмо и, испугавшись содержания, передал его представителю испанской инквизиции, которая подчинялась испанскому королю, а не Ватикану. И все же это письмо упоминается в картотеке ватиканского архива в 1503 году, это было при папе Юлии Втором. Спустя пятьдесят лет папская инквизиция ученых священников, которая носила название «Верховная священная конгрегация римской и вселенской инквизиции», назвала это письмо магическим тайным документом, колдовскими письменами, а это значило, что автор был еретиком.
— Между прочим, инквизиция в более мягкой и милосердной форме существует и по сей день, — добавляет Томасо. — Сегодня она носит название «Конгрегация доктрины веры» и входит в состав центрального управления Католической церкви.
— И вот мы спрашиваем себя, — говорит Марчелло Кастильоне, — что было в письме, которое настолько испугало епископа, что он не только не отправил письмо адресату, но и передал его в инквизицию.
— Письмо существует?
— Да. Не знаю. То есть может быть. Но где оно хранится — неизвестно, — признает Луиджи.
— Судя по всему, оно было украдено из ватиканского архива между 1820-м и 1825 годом, — объясняет Марчелло Кастильоне.
— Подозрение пало на видного иудейского теолога, жителя Праги, — продолжает Луиджи. — Он посвятил свою жизнь собиранию старых религиозных документов и особенно увлекался материалами о Сатане. Мы считаем, что он подкупил какого-то мелкого служащего ватиканского архива и тот похитил документ. Однако это не объясняет, почему практически не поддающийся прочтению документ XVI века с Карибского моря, адресованный норвежскому епископу, заинтересовал коллекционера, который специализировался на манускриптах и документах Среднего Востока.
— А что стало с его коллекцией?
— Он умер в 1842 году, перед смертью завещал все 4600 писем, документов и манускриптов фонду, которым стал руководить его сын Якоб. В 1934 году коллекция была конфискована и передана известному германскому магнату и нацисту Максимилиану фон Левински. Никто не знает, что случилось с коллекцией потом. Многие опасаются, что она исчезла во время бомбардировок Дрездена в феврале 1945 года, когда резиденция фон Левински была разрушена.
— А «Библия Сатаны»? — негромко спрашиваю я, все еще не улавливая связи.
Марчелло Кастильоне встает в позу, как будто пришел на собрание сомневающихся, которых сейчас будет обращать в свою веру.
— Разные конфессии имеют различное представление о Сатане. Слово «сатана» значит на иврите «противник» или «обвинитель». Сатана был высоко ценимым Богом архангелом, которого Бог затем низверг с Небес, — это падший ангел Люцифер.
— Он является орудием Бога, — говорит Луиджи, — так же как Иуда был орудием Иисуса. Кто-то воспринимает дьявола как символ зла. Для других он имеет физический облик зверя с рогами и копытами.
— Кто-то, как, например, иудеи, думает, что он окружен сонмом демонов, — говорит Марчелло Кастильоне. Голос и несколько умоляющий тон делают его похожим на проповедника в сельской часовне. — У иудеев есть два класса демонов, одни — похожие на сатиров сеиримы, другие — шедимы.[65] В христианской традиции демоны не так физически выражены. Здесь они, скорее, злые духи. В XVI веке Иоганн Вейер, создатель подробной классификации демонов Pseudo-monarchia Daemonum («Иерархия демонов»), сосчитал, что в аду 7 405 926 демонов, распределенных по 1111 легионам с 6666 членами в каждом из них.
Затем слово снова берет Луиджи:
— Глава всей этой нечисти Сатана был все годы фигурой неоднозначной. Кто он, собственно? Воплощение зла? Являются ли Сатана, Ангел смерти и Змей-искуситель одним и тем же персонажем? Сатана не занимает в Библии центрального места. Вопреки этому мормоны в своей священной книге «Драгоценная жемчужина» воспроизводят сцену встречи между Моисеем, Богом и Сатаной. Мормоны утверждают, что данная глава раньше входила в Библию.
— И в Ветхом Завете, и в Новом Завете Сатана был орудием Господа, который послал его испытать человека, — говорит Марчелло Кастильоне.
— Неизвестные ранее версии Первой и Второй книг Моисея появились в 1947 году в «Свитках Мертвого моря». В них теологи прочитали: «В день, когда Господь создает свет, Он создает также светлых и темных ангелов», — говорит Луиджи.
— Понимаешь? — спрашивает Марчелло Кастильоне. — Бог сам создал ангелов зла. Можно с удивлением спросить: почему?
— Наше представление о Сатане менялось вместе с представлением о Боге. В Ветхом Завете иудеев Бог был строгим и карающим, — говорит Луиджи. — Постепенно к моменту рождения Христа эта картина изменилась. Бог стал милосердным. Многие люди считают, что в Новом Завете Бог другой, более мягкий. Прощение и терпение заняли больше места.
— Одновременно менялось и представление людей о Сатане, — продолжает Марчелло Кастильоне. — Он стал антиподом, прямой противоположностью Бога.
— Но даже и теперь Сатана не властвует в каком-то царстве, — говорит Луиджи. — Сатана не царствует в Аду. В Библии написано, что Сатана и его ангелы были посланы в это море огня, когда их низвергли с Небес. Это значит, что Ад существовал до Сатаны. И только позже люди стали думать, что Сатана господствует в Аду.
— Образ Сатаны, наполовину человека, наполовину зверя с рогами и копытами, создан не Библией, — говорит Марчелло Кастильоне. — Он возник в Средние века.
— Зачем?
— А потому, что его никто не боялся! — Марчелло Кастильоне рассмеялся. — Сатана никого не пугал. И Церкви потребовался жестокий дьявол, чтобы подчинять массы. Им нужен был ужасный тролль.
— Одним из создателей этого образа был монах Сен-Жерменского монастыря в Оксере, во Франции, — говорит Луиджи. — В XI веке Родульфус Глабер изобразил Сатану в образе невысокого человека с измученным лицом, изуродованным ртом, с бородой, как у козла, и торчащими волосатыми ушами. Зубы у него были как клыки у собаки, голова заостренная, а сам он горбатый.
— Позднее Сатана стал все больше походить на зверя и все меньше на человека, — рассказывает Марчелло Кастильоне. — У него появились рога, копыта и крылья. Кстати говоря, ты знаешь, почему появились крылья у ангелов? Художники стали пририсовывать крылья, чтобы объяснить простому человеку, каким образом они спускаются с неба на землю.
— Подумай только, — мечтательно говорит Луиджи, — если бы на самом деле нашли «Библию Сатаны»! Представь себе, что рассказ о Люцифере покажет истинное лицо дьявола. Архангел, который осмелился спросить Бога, почему тот издевается над людьми. Ангел, который пошел против Бога.
— А почему вы думаете, что мы нашли в Исландии именно эту «Библию»?
— Дедукция, — говорит Марчелло Кастильоне. — Намеки. Предположения.
— И математический знак, — добавляет Луиджи.
— Математический?
— Размещение Колумбом трех знаков — анха, тюр и креста — в системе девяти знаков в совокупности не было случайным.
На листе бумаги Марчелло Кастильоне выписывает:
— Хм? — только и могу я произнести.
Я не знаю, имеет ли «хм» то же самое значение по-итальянски, что и по-норвежски, но, если судить по появившимся на их лицах улыбкам, я понял, что их веселит мое изумление.
— Так ты говоришь, что это написал брат Христофора Колумба?
Марчелло Кастильоне торжественно кивает.
— Непостижимо! — восклицает Стюарт. — Это нечто совершенно новое! Бартоломео Колумб! Почему он нарисовал эти символы?
— Никто не знает, — отвечает Луиджи. — Он называет эту комбинацию знаков «Печать Хранителей».
— Бартоломео Колумб упоминает в дневнике присланное с этой печатью письмо, которое его просили привезти в Европу, — говорит Марчелло Кастильоне. — Он не пишет ни слова о том, кто из живших на одном из недавно открытых островов в Карибском море просил его привезти это письмо. Но он пишет, кому оно адресовано. — Он специально делает паузу. — Архиепископу Нидаросскому Эрику Валькендорфу в Королевстве Норвегия.
Я с трудом подавляю восклицание.
— Из других источников мы знаем, — говорит Луиджи, — что Колумб добросовестно выполнил просьбу и привез письмо в Европу, сначала в Лиссабон и Вальпараисо в Португалии, потом в Испанию. Он отдал письмо одному испанскому епископу, который не захотел играть роль почтальона. Даже ради коллеги в Норвегии. Подозрительный епископ, вероятно, взломал печать, вскрыл письмо и, испугавшись содержания, передал его представителю испанской инквизиции, которая подчинялась испанскому королю, а не Ватикану. И все же это письмо упоминается в картотеке ватиканского архива в 1503 году, это было при папе Юлии Втором. Спустя пятьдесят лет папская инквизиция ученых священников, которая носила название «Верховная священная конгрегация римской и вселенской инквизиции», назвала это письмо магическим тайным документом, колдовскими письменами, а это значило, что автор был еретиком.
— Между прочим, инквизиция в более мягкой и милосердной форме существует и по сей день, — добавляет Томасо. — Сегодня она носит название «Конгрегация доктрины веры» и входит в состав центрального управления Католической церкви.
— И вот мы спрашиваем себя, — говорит Марчелло Кастильоне, — что было в письме, которое настолько испугало епископа, что он не только не отправил письмо адресату, но и передал его в инквизицию.
— Письмо существует?
— Да. Не знаю. То есть может быть. Но где оно хранится — неизвестно, — признает Луиджи.
— Судя по всему, оно было украдено из ватиканского архива между 1820-м и 1825 годом, — объясняет Марчелло Кастильоне.
— Подозрение пало на видного иудейского теолога, жителя Праги, — продолжает Луиджи. — Он посвятил свою жизнь собиранию старых религиозных документов и особенно увлекался материалами о Сатане. Мы считаем, что он подкупил какого-то мелкого служащего ватиканского архива и тот похитил документ. Однако это не объясняет, почему практически не поддающийся прочтению документ XVI века с Карибского моря, адресованный норвежскому епископу, заинтересовал коллекционера, который специализировался на манускриптах и документах Среднего Востока.
— А что стало с его коллекцией?
— Он умер в 1842 году, перед смертью завещал все 4600 писем, документов и манускриптов фонду, которым стал руководить его сын Якоб. В 1934 году коллекция была конфискована и передана известному германскому магнату и нацисту Максимилиану фон Левински. Никто не знает, что случилось с коллекцией потом. Многие опасаются, что она исчезла во время бомбардировок Дрездена в феврале 1945 года, когда резиденция фон Левински была разрушена.
— А «Библия Сатаны»? — негромко спрашиваю я, все еще не улавливая связи.
Марчелло Кастильоне встает в позу, как будто пришел на собрание сомневающихся, которых сейчас будет обращать в свою веру.
— Разные конфессии имеют различное представление о Сатане. Слово «сатана» значит на иврите «противник» или «обвинитель». Сатана был высоко ценимым Богом архангелом, которого Бог затем низверг с Небес, — это падший ангел Люцифер.
— Он является орудием Бога, — говорит Луиджи, — так же как Иуда был орудием Иисуса. Кто-то воспринимает дьявола как символ зла. Для других он имеет физический облик зверя с рогами и копытами.
— Кто-то, как, например, иудеи, думает, что он окружен сонмом демонов, — говорит Марчелло Кастильоне. Голос и несколько умоляющий тон делают его похожим на проповедника в сельской часовне. — У иудеев есть два класса демонов, одни — похожие на сатиров сеиримы, другие — шедимы.[65] В христианской традиции демоны не так физически выражены. Здесь они, скорее, злые духи. В XVI веке Иоганн Вейер, создатель подробной классификации демонов Pseudo-monarchia Daemonum («Иерархия демонов»), сосчитал, что в аду 7 405 926 демонов, распределенных по 1111 легионам с 6666 членами в каждом из них.
Затем слово снова берет Луиджи:
— Глава всей этой нечисти Сатана был все годы фигурой неоднозначной. Кто он, собственно? Воплощение зла? Являются ли Сатана, Ангел смерти и Змей-искуситель одним и тем же персонажем? Сатана не занимает в Библии центрального места. Вопреки этому мормоны в своей священной книге «Драгоценная жемчужина» воспроизводят сцену встречи между Моисеем, Богом и Сатаной. Мормоны утверждают, что данная глава раньше входила в Библию.
— И в Ветхом Завете, и в Новом Завете Сатана был орудием Господа, который послал его испытать человека, — говорит Марчелло Кастильоне.
— Неизвестные ранее версии Первой и Второй книг Моисея появились в 1947 году в «Свитках Мертвого моря». В них теологи прочитали: «В день, когда Господь создает свет, Он создает также светлых и темных ангелов», — говорит Луиджи.
— Понимаешь? — спрашивает Марчелло Кастильоне. — Бог сам создал ангелов зла. Можно с удивлением спросить: почему?
— Наше представление о Сатане менялось вместе с представлением о Боге. В Ветхом Завете иудеев Бог был строгим и карающим, — говорит Луиджи. — Постепенно к моменту рождения Христа эта картина изменилась. Бог стал милосердным. Многие люди считают, что в Новом Завете Бог другой, более мягкий. Прощение и терпение заняли больше места.
— Одновременно менялось и представление людей о Сатане, — продолжает Марчелло Кастильоне. — Он стал антиподом, прямой противоположностью Бога.
— Но даже и теперь Сатана не властвует в каком-то царстве, — говорит Луиджи. — Сатана не царствует в Аду. В Библии написано, что Сатана и его ангелы были посланы в это море огня, когда их низвергли с Небес. Это значит, что Ад существовал до Сатаны. И только позже люди стали думать, что Сатана господствует в Аду.
— Образ Сатаны, наполовину человека, наполовину зверя с рогами и копытами, создан не Библией, — говорит Марчелло Кастильоне. — Он возник в Средние века.
— Зачем?
— А потому, что его никто не боялся! — Марчелло Кастильоне рассмеялся. — Сатана никого не пугал. И Церкви потребовался жестокий дьявол, чтобы подчинять массы. Им нужен был ужасный тролль.
— Одним из создателей этого образа был монах Сен-Жерменского монастыря в Оксере, во Франции, — говорит Луиджи. — В XI веке Родульфус Глабер изобразил Сатану в образе невысокого человека с измученным лицом, изуродованным ртом, с бородой, как у козла, и торчащими волосатыми ушами. Зубы у него были как клыки у собаки, голова заостренная, а сам он горбатый.
— Позднее Сатана стал все больше походить на зверя и все меньше на человека, — рассказывает Марчелло Кастильоне. — У него появились рога, копыта и крылья. Кстати говоря, ты знаешь, почему появились крылья у ангелов? Художники стали пририсовывать крылья, чтобы объяснить простому человеку, каким образом они спускаются с неба на землю.
— Подумай только, — мечтательно говорит Луиджи, — если бы на самом деле нашли «Библию Сатаны»! Представь себе, что рассказ о Люцифере покажет истинное лицо дьявола. Архангел, который осмелился спросить Бога, почему тот издевается над людьми. Ангел, который пошел против Бога.
— А почему вы думаете, что мы нашли в Исландии именно эту «Библию»?
— Дедукция, — говорит Марчелло Кастильоне. — Намеки. Предположения.
— И математический знак, — добавляет Луиджи.
— Математический?
— Размещение Колумбом трех знаков — анха, тюр и креста — в системе девяти знаков в совокупности не было случайным.
На листе бумаги Марчелло Кастильоне выписывает:
 — 666! — восклицаю я.
— И по горизонтали, и по вертикали, — говорит Марчелло Кастильоне.
— Даже будучи написанным римскими цифрами, число 666 является магическим, — говорит Луиджи и пишет на ладони:
— 666! — восклицаю я.
— И по горизонтали, и по вертикали, — говорит Марчелло Кастильоне.
— Даже будучи написанным римскими цифрами, число 666 является магическим, — говорит Луиджи и пишет на ладони:

 Грот на острове Селье некоторое время пустовал. Но около 1250 года сокровища были частично возвращены туда. Последняя путеводная нить — уловка с двумя фигурами святого Лаврентия в Рингебу и Боргунне — была завершением норвежской части операции прикрытия. Мумия и тексты — самое важное среди сокровищ — больше не были под контролем норвежцев.
— Не очень легко следить за всеми этими поворотами.
— Как раз чрезвычайная сложность операции прикрытия и привела к тому, что сокровища не попали в руки Ватикана.
— А потом мумию перевезли из Исландии в Гренландию, когда в Норвегию пришла чума.
— Совершенно правильно. Спустя сто лет пребывания святыни в Гренландии Ватикан снова напал на ее след. В 1447 году в южную часть острова прибыла папская экспедиция, хранители были предупреждены, пятьдесят мужчин и женщин на двух кораблях пустились в бегство. Остальная часть гренландской колонии была форменным образом уничтожена.
— Хранители поплыли в Винланд?
— На протяжении следующих пятидесяти лет колония скандинавских хранителей основала в Винланде пять поселений. Они двигались все дальше и дальше на юг. После них оставались камни с руническими надписями, длинные дома и каменные башни.
— А почему же они не вернулись в Норвегию или Исландию?
— Потому что приняли решение отвезти мумию назад в Египет. Со времен походов викингов они знали о ветрах, которые могли бы привести их на восток из тех мест, которые мы сегодня знаем как Флориду и Карибский бассейн, через Азорские острова в Европу и в Средиземное море. Поэтому они передвигались все дальше на юг в ожидании ветров, которые доставят их домой. Добравшись до Карибского моря, они вступили в контакт с аборигенами, поведавшими им о белых мореплавателях, которые появились на южных островах. Хранители, чьи корабли были такими старыми и ветхими, что вряд ли смогли бы выдержать плавание по Атлантике в штормовую погоду, понадеялись, что теперь вернутся в Европу с европейцами. Как раз здесь, в Санто-Доминго, они встретились с Бартоломео Колумбом. Отсюда они послали зашифрованное сообщение архиепископу Нидаросскому. Есть информация, будто вы нашли это письмо в Вашингтоне.
Я не отвечаю, и Эстебан продолжает:
— Архиепископ Эрик Валькендорф сам был хранителем в ордене, который к этому моменту стал малочисленным, и не очень хорошо понимал, что же такое он охраняет. Однако Валькендорф установил, что прошло ровно пятьсот лет после событий в Египте и оставалось ровно пятьсот лет до исполнения пророчества Асима — воскрешения мумии. И снова магия цифр. — Эстебан засмеялся. — Мои коллеги по мужскому клубу любят преувеличивать. Из чисел всегда можно сделать то, что тебе надо. Я думаю, что Бартоломео просто развлекался, копируя три знака в случайной последовательности. Даже если существует «Библия Сатаны», она ничего общего не имеет со всем этим.
— Что произошло с хранителями после встречи с открывателями Америки? Они вернулись в Европу?
— Кое-кто вернулся. Другие остались и занялись поисками сокровищ в Центральной Америке. Они наткнулись на невероятные богатства, золото и все такое, что было использовано для строительства дворца Мьерколес, а также заложило основу благосостояния моего рода.
— А мумия?
Он качает головой:
— Грустная история. Она исчезла в конце XVII века. Строго говоря, она рассыпалась. В это время уже никто особенно не хранил верность заветам Асима. Хранители привольно жили здесь во дворце.
— Мумия рассыпалась?
— Сохранились лишь фрагменты мумии да пыль в кувшине. Это все.
От разочарования глаза мои становятся влажными.
— Совершенно очевидно, что повлияли климатические условия. Из сухого жаркого климата в Египте попасть в холодный влажный воздух Норвегии. Море. Соленый воздух. Перевозки. Мумия не выдержала всего этого.
— А папирусные манускрипты?
— Некоторые из них до сих пор в нашем распоряжении. Несколько штук были преподнесены в дар Ватикану. Остальные в нашей библиотеке. Но в них нет ничего особенного. Они интересны только для исследователей. Фрагменты копий Библии, сделанных в V и VI веках, описания жизни в Египте, молитвы. Всякое такое. Я еще раз задам вам все тот же вопрос. Вы отдадите мне исландский манускрипт?
Я молчу.
— Он должен храниться здесь, во дворце. Вместе с другими документами.
— У меня его нет.
— А у кого он?
— Этот манускрипт — исторический артефакт, — говорю я уклончиво. — Отдавать его — преступление.
— Но манускрипт… — начинает он и обрывает себя. — Вы мне не доверяете? Вы не хотите завершить проект Асима?
— Проект Асима состоял в охране мумии. Мумии больше нет.
— Может быть, физически нет…
— Хранители не справились со своей задачей, — обрываю я его.
— Вы это знаете, ведь так, — говорит он немного погодя, — что вы могли бы стать одним из нас. Хранителем! В вас есть для этого данные! Именно таких людей, как вы, Асим, король Олаф и Бард собирали вокруг себя. Настойчивых. Бесстрашных. Преданных своим идеалам.
— Так он еще существует? Это вы хотите сказать? Орден хранителей существует и по сей день?
Его взгляд обращен внутрь, ко всему, что было когда-то.
— Теперь мы охраняем только воспоминания и тени прошлого.
Грот на острове Селье некоторое время пустовал. Но около 1250 года сокровища были частично возвращены туда. Последняя путеводная нить — уловка с двумя фигурами святого Лаврентия в Рингебу и Боргунне — была завершением норвежской части операции прикрытия. Мумия и тексты — самое важное среди сокровищ — больше не были под контролем норвежцев.
— Не очень легко следить за всеми этими поворотами.
— Как раз чрезвычайная сложность операции прикрытия и привела к тому, что сокровища не попали в руки Ватикана.
— А потом мумию перевезли из Исландии в Гренландию, когда в Норвегию пришла чума.
— Совершенно правильно. Спустя сто лет пребывания святыни в Гренландии Ватикан снова напал на ее след. В 1447 году в южную часть острова прибыла папская экспедиция, хранители были предупреждены, пятьдесят мужчин и женщин на двух кораблях пустились в бегство. Остальная часть гренландской колонии была форменным образом уничтожена.
— Хранители поплыли в Винланд?
— На протяжении следующих пятидесяти лет колония скандинавских хранителей основала в Винланде пять поселений. Они двигались все дальше и дальше на юг. После них оставались камни с руническими надписями, длинные дома и каменные башни.
— А почему же они не вернулись в Норвегию или Исландию?
— Потому что приняли решение отвезти мумию назад в Египет. Со времен походов викингов они знали о ветрах, которые могли бы привести их на восток из тех мест, которые мы сегодня знаем как Флориду и Карибский бассейн, через Азорские острова в Европу и в Средиземное море. Поэтому они передвигались все дальше на юг в ожидании ветров, которые доставят их домой. Добравшись до Карибского моря, они вступили в контакт с аборигенами, поведавшими им о белых мореплавателях, которые появились на южных островах. Хранители, чьи корабли были такими старыми и ветхими, что вряд ли смогли бы выдержать плавание по Атлантике в штормовую погоду, понадеялись, что теперь вернутся в Европу с европейцами. Как раз здесь, в Санто-Доминго, они встретились с Бартоломео Колумбом. Отсюда они послали зашифрованное сообщение архиепископу Нидаросскому. Есть информация, будто вы нашли это письмо в Вашингтоне.
Я не отвечаю, и Эстебан продолжает:
— Архиепископ Эрик Валькендорф сам был хранителем в ордене, который к этому моменту стал малочисленным, и не очень хорошо понимал, что же такое он охраняет. Однако Валькендорф установил, что прошло ровно пятьсот лет после событий в Египте и оставалось ровно пятьсот лет до исполнения пророчества Асима — воскрешения мумии. И снова магия цифр. — Эстебан засмеялся. — Мои коллеги по мужскому клубу любят преувеличивать. Из чисел всегда можно сделать то, что тебе надо. Я думаю, что Бартоломео просто развлекался, копируя три знака в случайной последовательности. Даже если существует «Библия Сатаны», она ничего общего не имеет со всем этим.
— Что произошло с хранителями после встречи с открывателями Америки? Они вернулись в Европу?
— Кое-кто вернулся. Другие остались и занялись поисками сокровищ в Центральной Америке. Они наткнулись на невероятные богатства, золото и все такое, что было использовано для строительства дворца Мьерколес, а также заложило основу благосостояния моего рода.
— А мумия?
Он качает головой:
— Грустная история. Она исчезла в конце XVII века. Строго говоря, она рассыпалась. В это время уже никто особенно не хранил верность заветам Асима. Хранители привольно жили здесь во дворце.
— Мумия рассыпалась?
— Сохранились лишь фрагменты мумии да пыль в кувшине. Это все.
От разочарования глаза мои становятся влажными.
— Совершенно очевидно, что повлияли климатические условия. Из сухого жаркого климата в Египте попасть в холодный влажный воздух Норвегии. Море. Соленый воздух. Перевозки. Мумия не выдержала всего этого.
— А папирусные манускрипты?
— Некоторые из них до сих пор в нашем распоряжении. Несколько штук были преподнесены в дар Ватикану. Остальные в нашей библиотеке. Но в них нет ничего особенного. Они интересны только для исследователей. Фрагменты копий Библии, сделанных в V и VI веках, описания жизни в Египте, молитвы. Всякое такое. Я еще раз задам вам все тот же вопрос. Вы отдадите мне исландский манускрипт?
Я молчу.
— Он должен храниться здесь, во дворце. Вместе с другими документами.
— У меня его нет.
— А у кого он?
— Этот манускрипт — исторический артефакт, — говорю я уклончиво. — Отдавать его — преступление.
— Но манускрипт… — начинает он и обрывает себя. — Вы мне не доверяете? Вы не хотите завершить проект Асима?
— Проект Асима состоял в охране мумии. Мумии больше нет.
— Может быть, физически нет…
— Хранители не справились со своей задачей, — обрываю я его.
— Вы это знаете, ведь так, — говорит он немного погодя, — что вы могли бы стать одним из нас. Хранителем! В вас есть для этого данные! Именно таких людей, как вы, Асим, король Олаф и Бард собирали вокруг себя. Настойчивых. Бесстрашных. Преданных своим идеалам.
— Так он еще существует? Это вы хотите сказать? Орден хранителей существует и по сей день?
Его взгляд обращен внутрь, ко всему, что было когда-то.
— Теперь мы охраняем только воспоминания и тени прошлого.



 Ближе к вечеру того дня, когда умирала Грета, пошел дождь.
Сквозь струйки дождя за голыми ветками кустарника я едва вижу фьорд, блестящий и холодный, скорее похожий на большую реку. Уже не один час я сижу здесь и смотрю на капли, текущие по оконному стеклу. Я думаю. И пишу. От порывов ветра на запотевшем стекле появляются изменчивые разводы.
Письменный стол я придвинул поближе к окну. Теперь можно писать, бросая взгляд на улицу. Во фьорде плавают комки гниющих водорослей. Волны лениво плещутся о прибрежные скалы. Слышны робкие покрикивания уставшей от жизни морской крачки.
Черные намокшие ветки дуба, растущего рядом с домом, торчат во все стороны. Кое-где видны редкие листочки, которые еще не поняли, что наступающая осень скоро приберет и их.
Когда папа умер, было лето. Ему исполнилось тридцать лет четыре месяца две недели и три дня. Я слышал, как он закричал.
Почти все считают, что это был несчастный случай.
В первое время после его смерти мама пряталась от мира за оболочкой тихой скорби. А после внезапной метаморфозы, которую я до сих пор не могу забыть, начала пить и перестала обращать на меня внимание. О ней стали судачить. В магазине я встречал сочувственные взгляды взрослых. Дети же распевали о ней безобразные куплеты. На асфальте школьного двора появлялись похабные рисунки с ее изображением.
Некоторые воспоминания остаются с вами навсегда.
Ближе к вечеру того дня, когда умирала Грета, пошел дождь.
Сквозь струйки дождя за голыми ветками кустарника я едва вижу фьорд, блестящий и холодный, скорее похожий на большую реку. Уже не один час я сижу здесь и смотрю на капли, текущие по оконному стеклу. Я думаю. И пишу. От порывов ветра на запотевшем стекле появляются изменчивые разводы.
Письменный стол я придвинул поближе к окну. Теперь можно писать, бросая взгляд на улицу. Во фьорде плавают комки гниющих водорослей. Волны лениво плещутся о прибрежные скалы. Слышны робкие покрикивания уставшей от жизни морской крачки.
Черные намокшие ветки дуба, растущего рядом с домом, торчат во все стороны. Кое-где видны редкие листочки, которые еще не поняли, что наступающая осень скоро приберет и их.
Когда папа умер, было лето. Ему исполнилось тридцать лет четыре месяца две недели и три дня. Я слышал, как он закричал.
Почти все считают, что это был несчастный случай.
В первое время после его смерти мама пряталась от мира за оболочкой тихой скорби. А после внезапной метаморфозы, которую я до сих пор не могу забыть, начала пить и перестала обращать на меня внимание. О ней стали судачить. В магазине я встречал сочувственные взгляды взрослых. Дети же распевали о ней безобразные куплеты. На асфальте школьного двора появлялись похабные рисунки с ее изображением.
Некоторые воспоминания остаются с вами навсегда.



Иудеи во время вавилонского плена[257] прочитали число неправильно. Они понимали, что три значка клинописи обозначали бога вавилонян, врагов иудеев, но истолковали его как число 666. Они не знали вавилонскую математику и при этом еще и перепутали числа со значками иврита. Таким образом написанное клинописью число 3661 прочитали как 666. Но клинописное число значит вовсе не 666. Поскольку месопотамская математика была шестидесятеричной (базирующейся на числе 60), а разделение разрядов происходило с помощью запятой, сочетание 1, 1, 1 нужно было читать как 3661. Первый клинописный знак в этой системе представлял число 3600, следующий знак — число 60, последний знак — 1. Вот таким образом тайный код, обозначавший вавилонского бога Мардука, — 3601 — был превращен в знак зверя в Откровении Иоанна Богослова — 666. А продвинутая математика вавилонян оказала влияние на иудейскую и христианскую мифологию.


 В слабом свете карманного фонаря указательный палец Карла Коллинза отбрасывал длинную тень, которая медленно — слово за словом, строчка за строчкой — ползла по стене с поблекшей надписью между трикветром и хризмой, когда-то давно бывшими ярко-красными.
Голос тихий, скорее шепот, когда он переводил старый текст. Он выпрямился и стукнулся головой о потолок.
— Эти катакомбы начали копать во втором веке после Рождества Христова. Но надпись датируется концом четвертого века, — объяснил К. К. — Как видишь, текст содержит явный намек на Откровение Иоанна Богослова, на христианские догмы и на слова монаха-дракулианца.
В колоссальной сети катакомб с туннелями и низкими ходами воздух был прохладный и влажный. Почти незаметный ветерок приносил слабый запах гниения.
Здесь, за пределами старых городских стен Рима, — тысячи умерших римлян и христианских мучеников. В пещерах, нишах и запечатанных надгробиях их отправляли на покой во власть веков. Узкие крутые лестницы вели все глубже в подземелье. В некоторых ходах катакомб все еще лежали тысячи черепов и фрагменты скелетов, к болезненной радости туристов, которые каждый день толпами бродили по этим коридорам.
— Текст и символы не дают логического объяснения, — продолжил К. К. и провел рукой по волосам. — Почему трикветр? Почему хризма, символизирующая Иисуса Христа? И обрати внимание на формулировку «вниз с небес». Более естественным было бы написать «вверх из ада», правда? Ни в одном библейском тексте не написано, что Сатана сходит «вниз с небес» — если не считать того несчастного эпизода, когда Люцифера вместе с его последователями выгнали оттуда. Далее писавший играет игру с Откровением Иоанна Богослова: «похожий на многоголовое чудовище с большим количеством рогов» — и уж чистое издевательство, когда «единородный», как он называет его, сын Сатаны помещается «по левую руку» от отца. Harga-me-giddo-dom означает «Судный день». Это не христианский текст, это святотатство!
Игра теней на лице К. К. делала его похожим на того дьявола, о котором он с таким увлечением говорил. От далекого звука — похожего на коллективный стон душ, нашедших упокоение в катакомбах — я вздрогнул. К. К., кажется, ничего не услышал. Он тщательно рассматривал надпись, которую перевел, глаза были обращены в сторону стены с текстом.
— Ты слышал? — спросил я.
— Слышал что?
— Звук.
— Нет.
— Как стон.
— Боишься, Бьорн?
Я и в самом деле испугался. Не говоря уже о моей клаустрофобии. Как бы то ни было, мы находились у погребений под землей, которая могла в любой момент обрушиться. Хотя катакомбы и простояли без изменений почти две тысячи лет.
— Я слышал звук.
В мелькании карманного фонаря я увидел, что К. К. рассмеялся.
Шофер, который нас привез, ожидал на площади перед базиликой Святого Себастьяна, построенной над самыми старыми римскими захоронениями.
На обратном пути к Виа Венето мы с К. К. задремали в машине.
В слабом свете карманного фонаря указательный палец Карла Коллинза отбрасывал длинную тень, которая медленно — слово за словом, строчка за строчкой — ползла по стене с поблекшей надписью между трикветром и хризмой, когда-то давно бывшими ярко-красными.
Голос тихий, скорее шепот, когда он переводил старый текст. Он выпрямился и стукнулся головой о потолок.
— Эти катакомбы начали копать во втором веке после Рождества Христова. Но надпись датируется концом четвертого века, — объяснил К. К. — Как видишь, текст содержит явный намек на Откровение Иоанна Богослова, на христианские догмы и на слова монаха-дракулианца.
В колоссальной сети катакомб с туннелями и низкими ходами воздух был прохладный и влажный. Почти незаметный ветерок приносил слабый запах гниения.
Здесь, за пределами старых городских стен Рима, — тысячи умерших римлян и христианских мучеников. В пещерах, нишах и запечатанных надгробиях их отправляли на покой во власть веков. Узкие крутые лестницы вели все глубже в подземелье. В некоторых ходах катакомб все еще лежали тысячи черепов и фрагменты скелетов, к болезненной радости туристов, которые каждый день толпами бродили по этим коридорам.
— Текст и символы не дают логического объяснения, — продолжил К. К. и провел рукой по волосам. — Почему трикветр? Почему хризма, символизирующая Иисуса Христа? И обрати внимание на формулировку «вниз с небес». Более естественным было бы написать «вверх из ада», правда? Ни в одном библейском тексте не написано, что Сатана сходит «вниз с небес» — если не считать того несчастного эпизода, когда Люцифера вместе с его последователями выгнали оттуда. Далее писавший играет игру с Откровением Иоанна Богослова: «похожий на многоголовое чудовище с большим количеством рогов» — и уж чистое издевательство, когда «единородный», как он называет его, сын Сатаны помещается «по левую руку» от отца. Harga-me-giddo-dom означает «Судный день». Это не христианский текст, это святотатство!
Игра теней на лице К. К. делала его похожим на того дьявола, о котором он с таким увлечением говорил. От далекого звука — похожего на коллективный стон душ, нашедших упокоение в катакомбах — я вздрогнул. К. К., кажется, ничего не услышал. Он тщательно рассматривал надпись, которую перевел, глаза были обращены в сторону стены с текстом.
— Ты слышал? — спросил я.
— Слышал что?
— Звук.
— Нет.
— Как стон.
— Боишься, Бьорн?
Я и в самом деле испугался. Не говоря уже о моей клаустрофобии. Как бы то ни было, мы находились у погребений под землей, которая могла в любой момент обрушиться. Хотя катакомбы и простояли без изменений почти две тысячи лет.
— Я слышал звук.
В мелькании карманного фонаря я увидел, что К. К. рассмеялся.
Шофер, который нас привез, ожидал на площади перед базиликой Святого Себастьяна, построенной над самыми старыми римскими захоронениями.
На обратном пути к Виа Венето мы с К. К. задремали в машине.
 Я почувствовал ужас и отвращение.
Кто написал его? Монах перед смертью? Убийца?
— Подобные слова написаны во всех камерах, — сказал Марк.
— Что написано в других камерах?
— Не знаю. Разные слова.
— Что это значит?
— Мы еще не знаем. Сначала надо перевести. Мы думаем, что это по-румынски. Монахи написали какое-то сообщение своей кровью и умерли.
— Зачем?
— Для всех дракулианцев написанное кровью имеет сакральное значение. Кровь священна. Если написать сообщение кровью многих умирающих, то это придаст особую силу молитве. Точно так же у христиан молитва всей собравшейся общины, по-видимому, имеет особый вес у Бога. Идем!
Во второй камере монах лежал лицом к двери, как будто ему больше всего хотелось увидеть реакцию тех, кто войдет. На лице жуткая гримаса: глаза широко раскрыты, губы оттянуты назад, зубы обнажены. На стене он написал:
Я почувствовал ужас и отвращение.
Кто написал его? Монах перед смертью? Убийца?
— Подобные слова написаны во всех камерах, — сказал Марк.
— Что написано в других камерах?
— Не знаю. Разные слова.
— Что это значит?
— Мы еще не знаем. Сначала надо перевести. Мы думаем, что это по-румынски. Монахи написали какое-то сообщение своей кровью и умерли.
— Зачем?
— Для всех дракулианцев написанное кровью имеет сакральное значение. Кровь священна. Если написать сообщение кровью многих умирающих, то это придаст особую силу молитве. Точно так же у христиан молитва всей собравшейся общины, по-видимому, имеет особый вес у Бога. Идем!
Во второй камере монах лежал лицом к двери, как будто ему больше всего хотелось увидеть реакцию тех, кто войдет. На лице жуткая гримаса: глаза широко раскрыты, губы оттянуты назад, зубы обнажены. На стене он написал:
 Под буквами и трикветром стекавшая кровь застыла темно-красными полосами.
— Ужасно, правда? — прошептал Марк.
— Сначала sfant. Теперь sange. Их монастырь называется Sfant sange.
— Так оно и есть. По-румынски это значит примерно «святая кровь».
Только камера Примипила была недоступна, там работали техники. Марк и я записали разные слова, переходя из камеры в камеру. В конце концов мы получили такой список слов:
Под буквами и трикветром стекавшая кровь застыла темно-красными полосами.
— Ужасно, правда? — прошептал Марк.
— Сначала sfant. Теперь sange. Их монастырь называется Sfant sange.
— Так оно и есть. По-румынски это значит примерно «святая кровь».
Только камера Примипила была недоступна, там работали техники. Марк и я записали разные слова, переходя из камеры в камеру. В конце концов мы получили такой список слов:






 Вообще-то в этой книжице я должна записывать молитвы и свои прегрешения. Во всяком случае, именно так заявила миссис Чемперноун, вручая мне ее в качестве новогоднего подарка. И еще она сказала, что раз я так люблю вышивать, можно сделать красивую вышивку на обложку.
Я не против, но зачем это мне сидеть, надувшись как мышь на крупу, и размышлять над какими-то там прегрешениями? Вот тоска-то!
Кстати, у меня и прегрешений почти нет, если не считать того случая, когда я спрыгнула с бревна и испортила платье. Да, и того, что я вечно теряю вещи!
Вот и подарок мисс Чемперноун случайно завалился под кровать, поэтому я в нем ничего еще и не записала. Но раз я его нашла, то буду записывать здесь все-все-все! Это будет книга обо мне, леди Грейс Кавендиш, фрейлине Ее Величества королевы Елизаветы. И обо всем, что я люблю. А почему бы и нет?
Больше всех на свете (после мамы, которая умерла, упокой Господь ее душу) я люблю Ее Величество королеву. Она уже немножко пожилая, но вы лучше этого не говорите, или она запустит в вас туфлей.
Ей целых тридцать пять! Для того чтобы выйти замуж, как любая другая знатная дама, и завести детей, она «старовата», как сокрушается миссис Чемперноун, думая, что ее никто не слышит.
Лично мне кажется, что у миссис Чемперноун не все в порядке с головой: с какой стати королеве выходить замуж? Чтобы заполучить мужа, которого придется слушаться? И зачем вообще выходить замуж, если ты не обязан?
К сожалению, я-то как раз обязана. Так говорит королева.
Так что завтра — решающий день моей жизни. Ее Величество устраивает бал в честь дня Святого Валентина, и на нем я должна буду выбрать одного из трех претендентов на свою руку, которых она отобрала лично. Как только адвокаты уладят все формальности, будет помолвка, а когда мне исполнится шестнадцать, я выйду замуж. Все три моих жениха уже при Дворе и готовятся к завтрашнему вечеру.
Как же я не хочу выходить замуж! Я чувствую себя еще такой юной! Но я наследница, а поэтому должна, хотя будь я незнатного происхождения, я бы подождала с этим лет этак до двадцати пяти!
Вошла Мэри Шелтон и жалуется на леди Сару, которая не хочет идти гулять с собаками, хотя сегодня ее очередь. Это отличная возможность! Надо бежать!
Вообще-то в этой книжице я должна записывать молитвы и свои прегрешения. Во всяком случае, именно так заявила миссис Чемперноун, вручая мне ее в качестве новогоднего подарка. И еще она сказала, что раз я так люблю вышивать, можно сделать красивую вышивку на обложку.
Я не против, но зачем это мне сидеть, надувшись как мышь на крупу, и размышлять над какими-то там прегрешениями? Вот тоска-то!
Кстати, у меня и прегрешений почти нет, если не считать того случая, когда я спрыгнула с бревна и испортила платье. Да, и того, что я вечно теряю вещи!
Вот и подарок мисс Чемперноун случайно завалился под кровать, поэтому я в нем ничего еще и не записала. Но раз я его нашла, то буду записывать здесь все-все-все! Это будет книга обо мне, леди Грейс Кавендиш, фрейлине Ее Величества королевы Елизаветы. И обо всем, что я люблю. А почему бы и нет?
Больше всех на свете (после мамы, которая умерла, упокой Господь ее душу) я люблю Ее Величество королеву. Она уже немножко пожилая, но вы лучше этого не говорите, или она запустит в вас туфлей.
Ей целых тридцать пять! Для того чтобы выйти замуж, как любая другая знатная дама, и завести детей, она «старовата», как сокрушается миссис Чемперноун, думая, что ее никто не слышит.
Лично мне кажется, что у миссис Чемперноун не все в порядке с головой: с какой стати королеве выходить замуж? Чтобы заполучить мужа, которого придется слушаться? И зачем вообще выходить замуж, если ты не обязан?
К сожалению, я-то как раз обязана. Так говорит королева.
Так что завтра — решающий день моей жизни. Ее Величество устраивает бал в честь дня Святого Валентина, и на нем я должна буду выбрать одного из трех претендентов на свою руку, которых она отобрала лично. Как только адвокаты уладят все формальности, будет помолвка, а когда мне исполнится шестнадцать, я выйду замуж. Все три моих жениха уже при Дворе и готовятся к завтрашнему вечеру.
Как же я не хочу выходить замуж! Я чувствую себя еще такой юной! Но я наследница, а поэтому должна, хотя будь я незнатного происхождения, я бы подождала с этим лет этак до двадцати пяти!
Вошла Мэри Шелтон и жалуется на леди Сару, которая не хочет идти гулять с собаками, хотя сегодня ее очередь. Это отличная возможность! Надо бежать!

 Едва я пристроила одну ногу спереди, а другой умудрилась попасть в стремя и взяла в руки хлыст, как сэр Чарльз, отдуваясь, взобрался на свою лошадь. И тотчас же превратился в совсем другого человека: решительного, полного достоинства и уверенности в себе. Могу поклясться, что именно так он выглядел во времена юного короля Эдварда, когда славился своими победами в турнирах.
— «За что, за что, моя любовь, за что меня сгубила ты…», — распевал мой наставник, пуская свою лошадь рысью, в то время как я, стараясь не нервничать и сохранять равновесие, пыталась двигаться в такт со своей.
Пока мы так прогуливались, разогревая лошадей, сэр Чарльз рассказывал мне о разных вещах. Он всегда так делает, чтобы я перестала думать о том, что вот-вот свалюсь.
Сегодня он сообщил мне очень печальную новость: его брат-близнец недавно погиб в религиозной войне во Франции.
— Я вчера получил письмо, — хмуро сказал сэр Чарльз. — В нем было только известие о его смерти, ничего больше. Увы, мы с Гектором не поладили, когда он уезжал, и теперь я об этом очень сожалею. Правду сказать, он всегда был паршивом овцой и частенько строил против меня козни, но все же он был моим братом!
— Мне очень жаль. Он сражался на стороне протестантов? — осторожно поинтересовалась я.
— Ну да, против этих грязных католиков Гизов, — мрачно ответил сэр Чарльз.
Услышав о Гизах, я нахмурилась. Я тоже их ненавидела, и у меня были на то свои причины: моя мама погибла в результате одного из их гнусных заговоров. Гизы только и мечтали убить нашу королеву-протестантку, и вместо нее возвести на английский трон монарха-католика.
Тут сэр Чарльз стал показывать мне, как правильно посылать лошадь в галоп, и отвлек от мрачных мыслей. Мы потренировались, потом я попробовала пустить Ласточку из рыси в медленный галоп сама.
Это ощущение очень напоминало езду на деревянной лошадке, и мне ни чуточки не было страшно. Я промчалась вокруг Арены, а потом вдоль изгороди и обратно. Я очень гордилась собой, ведь я впервые проскакала галопом и не свалилась!
При виде моего раскрасневшегося лица сэр Чарльз рассмеялся.
— «Я ваш, пока душа жива, Зеленые рукава!» — пропел он и поцеловал меня в лоб, помогая спешиться. — Отлично получилось, миледи! Вы еще научитесь ездить лучше самой королевы!
— Хорошо, что она вас не слышит! — сказала я и не могла не улыбнуться, заметив, как сэр Чарльз изобразил притворный испуг.
— Но ведь вы ей не расскажете? — воскликнул он. — Ради Бога, только не это! Хотите, я попрошу вас об этом на коленях?
Я изо всей силы старалась не рассмеяться.
— Ну что вы, пожалейте свои бедные колени!
Сэр Чарльз поднял на меня лукавый взгляд.
— А вы правы, миледи, колени стоит приберечь! Вы, наверное, ждете не дождетесь завтрашнего дня?
— Нет, — просто ответила я: мне было лень лгать и прикидываться вежливой. — Мне кажется, я еще не готова к замужеству!
— И я вас понимаю, — согласился сэр Чарльз. — Но не все дамы могут позволить себе поступать так, как Ее Величество! Если завтра вы выберете меня, дорогая Грейс, леди Кавендиш, клянусь, я стану относиться к вам так же, как и сейчас, пока вы не вырастете и не станете настоящей женщиной!
Я вздохнула. Сэр Чарльз мне очень симпатичен, но хотя королева и отобрала его мне в женихи среди прочих, я совершенно не хочу за него замуж!
Едва я пристроила одну ногу спереди, а другой умудрилась попасть в стремя и взяла в руки хлыст, как сэр Чарльз, отдуваясь, взобрался на свою лошадь. И тотчас же превратился в совсем другого человека: решительного, полного достоинства и уверенности в себе. Могу поклясться, что именно так он выглядел во времена юного короля Эдварда, когда славился своими победами в турнирах.
— «За что, за что, моя любовь, за что меня сгубила ты…», — распевал мой наставник, пуская свою лошадь рысью, в то время как я, стараясь не нервничать и сохранять равновесие, пыталась двигаться в такт со своей.
Пока мы так прогуливались, разогревая лошадей, сэр Чарльз рассказывал мне о разных вещах. Он всегда так делает, чтобы я перестала думать о том, что вот-вот свалюсь.
Сегодня он сообщил мне очень печальную новость: его брат-близнец недавно погиб в религиозной войне во Франции.
— Я вчера получил письмо, — хмуро сказал сэр Чарльз. — В нем было только известие о его смерти, ничего больше. Увы, мы с Гектором не поладили, когда он уезжал, и теперь я об этом очень сожалею. Правду сказать, он всегда был паршивом овцой и частенько строил против меня козни, но все же он был моим братом!
— Мне очень жаль. Он сражался на стороне протестантов? — осторожно поинтересовалась я.
— Ну да, против этих грязных католиков Гизов, — мрачно ответил сэр Чарльз.
Услышав о Гизах, я нахмурилась. Я тоже их ненавидела, и у меня были на то свои причины: моя мама погибла в результате одного из их гнусных заговоров. Гизы только и мечтали убить нашу королеву-протестантку, и вместо нее возвести на английский трон монарха-католика.
Тут сэр Чарльз стал показывать мне, как правильно посылать лошадь в галоп, и отвлек от мрачных мыслей. Мы потренировались, потом я попробовала пустить Ласточку из рыси в медленный галоп сама.
Это ощущение очень напоминало езду на деревянной лошадке, и мне ни чуточки не было страшно. Я промчалась вокруг Арены, а потом вдоль изгороди и обратно. Я очень гордилась собой, ведь я впервые проскакала галопом и не свалилась!
При виде моего раскрасневшегося лица сэр Чарльз рассмеялся.
— «Я ваш, пока душа жива, Зеленые рукава!» — пропел он и поцеловал меня в лоб, помогая спешиться. — Отлично получилось, миледи! Вы еще научитесь ездить лучше самой королевы!
— Хорошо, что она вас не слышит! — сказала я и не могла не улыбнуться, заметив, как сэр Чарльз изобразил притворный испуг.
— Но ведь вы ей не расскажете? — воскликнул он. — Ради Бога, только не это! Хотите, я попрошу вас об этом на коленях?
Я изо всей силы старалась не рассмеяться.
— Ну что вы, пожалейте свои бедные колени!
Сэр Чарльз поднял на меня лукавый взгляд.
— А вы правы, миледи, колени стоит приберечь! Вы, наверное, ждете не дождетесь завтрашнего дня?
— Нет, — просто ответила я: мне было лень лгать и прикидываться вежливой. — Мне кажется, я еще не готова к замужеству!
— И я вас понимаю, — согласился сэр Чарльз. — Но не все дамы могут позволить себе поступать так, как Ее Величество! Если завтра вы выберете меня, дорогая Грейс, леди Кавендиш, клянусь, я стану относиться к вам так же, как и сейчас, пока вы не вырастете и не станете настоящей женщиной!
Я вздохнула. Сэр Чарльз мне очень симпатичен, но хотя королева и отобрала его мне в женихи среди прочих, я совершенно не хочу за него замуж!
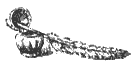


 Из него на меня взглянула высокая статная дама.
Фрэн надела мне на шею маленький плоёный воротник.
Я сделала реверанс — дама тоже. Я, конечно, знала, что это мое собственное отражение, но как-то не верилось.
— Смотрите, какая красивая фрейлина Ее Величества! — миссис Чемперноун удовлетворенно вздохнула.
— Вы правда так думаете? — Мне казалось, что незнакомка в зеркале гораздо красивее меня.
— Да любой мужчина должен считать себя счастливцем, заполучив вас в супруги! — заявила миссис Чемперноун. — И конечно, сэр Джеральд накупит вам столько нарядов, сколько захотите!
Я мысленно улыбнулась. Видно, лорд Уорси уже заручился поддержкой для своего племянника.
— А сэр Чарльз? — спросила я, по большей части затем, чтобы отвлечь ее внимание от милорда Роберта, который, если честно, нравился мне больше других.
Миссис Чемперноун фыркнула:
— Сэр Чарльз скорее накупит вам лошадей! А что до этого юнца, лорда Роберта, так я надеюсь, вы себя ставите выше! Тут на днях вышла у них размолвка с сэром Джеральдом, и лорд Роберт только и мог, что промычать в ответ.
Это правда, язык у лорда Роберта подвешен так себе, но он хотя бы не старик! Ему всего двадцать. Интересно, что они не поделили с сэром Джеральдом? Не буду спрашивать, а то миссис Чемперноун только этого и ждет! И больше не хочу слышать, какой сэр Джеральд замечательный!
— Теперь можете идти. И не вздумайте испачкаться, леди Грейс, не то я вас высеку, ей-богу, высеку и на Ее Величество не посмотрю! Идите же, время одеваться королеве!
Я вздохнула, сунула ноги в бальных туфлях в специальные шлепанцы на толстой кожаной подошве, чтобы не испачкать подол, и прошлепала к двери.
Едва я оказалась в коридоре, как из-за угла черной лестницы выглянули Мазу и Элли.
Элли захлопала в ладоши.
— Да вы красавица, миледи, — восхищенно заявила она. — Как Бог свят, красавица!
— Да ладно, — отмахнулась я. — В таком наряде кто угодно станет красавицей!
Элли покачала головой. Лицо у нее все в веснушках, на носу горбинка, а руки красные от постоянной стирки.
— В нем так неудобно! — добавила я. — Слишком жмет в талии, руки толком не согнешь, а от воротника шея немеет — ни вздохнуть, ни почесаться!
Мазу изящно поклонился, подошел поближе и мазнул краской из маленькой баночки мне по векам. Было щекотно, я испугалась, что мой наряд помнется, но Мазу сделал все очень быстро и аккуратно.
Я глянула на себя в блестящий серебряный кувшин, стоявший на сундуке возле окна — глаза у меня стали более… таинственным, что ли. Сам Мазу уже был загримирован для представления.
— На тебе нет ожерелья, — заметил он.
Он был прав, ожерелья на мне не было.
— К чему бы это? — Мазу снова поклонился, улыбаясь, и я поняла: это и есть ключ к загадке, о которой я спрашивала.
И они с Элли убежали — перед балом у них было еще много дел.
Из него на меня взглянула высокая статная дама.
Фрэн надела мне на шею маленький плоёный воротник.
Я сделала реверанс — дама тоже. Я, конечно, знала, что это мое собственное отражение, но как-то не верилось.
— Смотрите, какая красивая фрейлина Ее Величества! — миссис Чемперноун удовлетворенно вздохнула.
— Вы правда так думаете? — Мне казалось, что незнакомка в зеркале гораздо красивее меня.
— Да любой мужчина должен считать себя счастливцем, заполучив вас в супруги! — заявила миссис Чемперноун. — И конечно, сэр Джеральд накупит вам столько нарядов, сколько захотите!
Я мысленно улыбнулась. Видно, лорд Уорси уже заручился поддержкой для своего племянника.
— А сэр Чарльз? — спросила я, по большей части затем, чтобы отвлечь ее внимание от милорда Роберта, который, если честно, нравился мне больше других.
Миссис Чемперноун фыркнула:
— Сэр Чарльз скорее накупит вам лошадей! А что до этого юнца, лорда Роберта, так я надеюсь, вы себя ставите выше! Тут на днях вышла у них размолвка с сэром Джеральдом, и лорд Роберт только и мог, что промычать в ответ.
Это правда, язык у лорда Роберта подвешен так себе, но он хотя бы не старик! Ему всего двадцать. Интересно, что они не поделили с сэром Джеральдом? Не буду спрашивать, а то миссис Чемперноун только этого и ждет! И больше не хочу слышать, какой сэр Джеральд замечательный!
— Теперь можете идти. И не вздумайте испачкаться, леди Грейс, не то я вас высеку, ей-богу, высеку и на Ее Величество не посмотрю! Идите же, время одеваться королеве!
Я вздохнула, сунула ноги в бальных туфлях в специальные шлепанцы на толстой кожаной подошве, чтобы не испачкать подол, и прошлепала к двери.
Едва я оказалась в коридоре, как из-за угла черной лестницы выглянули Мазу и Элли.
Элли захлопала в ладоши.
— Да вы красавица, миледи, — восхищенно заявила она. — Как Бог свят, красавица!
— Да ладно, — отмахнулась я. — В таком наряде кто угодно станет красавицей!
Элли покачала головой. Лицо у нее все в веснушках, на носу горбинка, а руки красные от постоянной стирки.
— В нем так неудобно! — добавила я. — Слишком жмет в талии, руки толком не согнешь, а от воротника шея немеет — ни вздохнуть, ни почесаться!
Мазу изящно поклонился, подошел поближе и мазнул краской из маленькой баночки мне по векам. Было щекотно, я испугалась, что мой наряд помнется, но Мазу сделал все очень быстро и аккуратно.
Я глянула на себя в блестящий серебряный кувшин, стоявший на сундуке возле окна — глаза у меня стали более… таинственным, что ли. Сам Мазу уже был загримирован для представления.
— На тебе нет ожерелья, — заметил он.
Он был прав, ожерелья на мне не было.
— К чему бы это? — Мазу снова поклонился, улыбаясь, и я поняла: это и есть ключ к загадке, о которой я спрашивала.
И они с Элли убежали — перед балом у них было еще много дел.

 Когда королева отошла, я подумала о том, какая она умная женщина! Собственноручно вручив бокал лорда Роберта сэру Джеральду, она предотвратила ссору, а может, и дуэль!
— Разве могу я отвергнуть дар из столь милостивых и справедливых рук? — торжественно произнес лорд Джеральд, осушая бокал лорда Роберта одним глотком.
Он попытался еще раз поклониться, но потерял равновесие и упал носом в пол.
Я засмеялась, королева тоже, да и все присутствующие, особенно лорд Роберт. Только лорд Уорси не засмеялся. Он бросился к сэру Джеральду, поднял его на ноги и что-то шепнул племяннику на ухо.
Сэр Джеральд снова поклонился, на этот раз более уверенно.
— Ваше Величество, с вашего позволения, я отправился бы в постель, — пробормотал он.
— Думаю, это верное решение, сэр Джеральд. — многозначительно заметила королева. — Бокал вина не излечит разбитого сердца, но сон — хороший лекарь! Утро вечера мудренее.
По моему мнению, королева была слишком добра к сэру Джеральду. Обычно она гораздо суровее к тем, кто едва держится на ногах. И честно говоря, я была очень удивлена, что сэр Джеральд так набрался оттого, что я ему отказала!
— Благодарю вас, Ваше Величество, — сказал сэр Джеральд.
Лорд Уорси направился было к двери вместе с ним, но королева его окликнула.
— Останьтесь, старый мой друг, — попросила она. — Графа Лестера сегодня нет, а мне нужен партнер. Идемте танцевать!
Отказаться лорд Уорси не мог. Но, судя по выражению его лица, и не был особенно счастлив, когда, поклонившись, поцеловал руку королевы и повел ее танцевать французскую фарандолу.
Мне стало так жарко в розовом бархате, что я поняла: надо охладиться, или я растаю! Я сунула ноги в бальных туфлях в специальные пробковые подошвы-подставки и вышла из банкетного павильона в личный сад королевы. Там было холодно и сыро. Почти под каждым кустом шептались парочки, а под одним даже лежал и пел, любуясь звездами, молодой человек. Я быстро прошла вдоль лабиринта к кухням и чулану.
Элли была там вместе с Пипом, слугой сэра Джеральда.
Пип говорил, возбужденно размахивая руками:
— Я только хотел его вычистить! Вычистить, отряхнуть от розовой пудры, а потом проветрить, чтобы хозяин еще раз мог появиться в нем при Дворе. Но он был в такой ярости, ну просто не в себе…
Элли нахмурилась и полезла в чулан за ведром.
— Так где, говоришь, его вырвало?
— На угол ковра, — ответил Пип. — Да что ты, я сам уберу!
— Да уж нс беспокойся, я что ни бал, за ними убираю! — презрительно заметила Элли.
Тут она заметила меня и просияла, закатив глаза. Элли была в переднике, с закатанными рукавами.
— … так что оборки на штанах теперь будут мятые, а воротник весь перегнется. А завтра он проснется, увидит, что я его не раздел — и все шишки на меня, ты ж понимаешь! Нечего удивляться, если он меня вышвырнет…
Бедный Пип стиснул руки.
Я еще сильнее порадовалась, что не выбрала нож — по тому, как человек обращается со слугами, многое можно понять! Вон как Пип боится сэра Джеральда — это дурной признак!
— Он в покоях лорда Уорси? — спросила Элли. — Так я постучусь, войду, да начну там мыть, а если он не проснется, так, верно, и ты его не разбудишь! Войдешь потихоньку да снимешь с него что надо!
Пип просиял от чувства признательности.
— Сходишь? Нет, правда, сходишь? Только будь осторожна, он прямо бешеный становится, когда пьян!
— Да ну уж! — фыркнула Элли. — Коли я не увернусь от пинка пьянчуги, так поделом мне и синяк на заднице! Ты не волнуйся. Пип, я пойду и посмотрю.
Она подмигнула мне и убежала с ведром щелока и тряпкой в сторону персональных апартаментов придворных.
Я развернулась и пошла назад к банкетному павильону, где пламя горящих свечей, проникая сквозь холст, отбрасывало на траву силуэты Венеры и Адониса.
Я стояла и смотрела на них, пока не озябла.
Кто-то подошел и взял меня за руку.
— Кто это? — спросила я.
— Роберт, — последовал ответ.
Я улыбнулась, успокоившись и позволив держать себя за руку. В темноте я различала только его тень.
— М-можно м-мне п-поцеловать вас в г-губы, леди Г-грейс?
Еще одна длинная фраза! Наверное, когда никто не видит, лорду Роберту легче говорить.
— Только в следующем месяце, после обручения, — ответила я чопорно. Но разрешила лорду Роберту поцеловать мне руку. Это так романтично!
— Уже м-много в-времени прошло. П-пойдемте, п-потанцуем?
— Ну конечно, милорд! — сказала я вполне благосклонно.
Я позволила ему проводить меня в зал, где мы присоединились к танцующим фарандолу — со стороны лорда Роберта это было весьма смелым поступком, если учесть, сколько раз я наступила ему на ногу во время вольты!
Мы станцевали еще несколько танцев. Потом вошел сэр Чарльз — вид у него был по-прежнему угрюмый.
Он пожал лорду Роберту руку, что было очень мило с его стороны, и все время пристально на меня смотрел. Мне это не понравилось. Потом я заметила Пипа, который разговаривал с лордом Уорси. Тот держал веер королевы, а Ее Величество пристально наблюдала за сэром Кристофером Хэттоном, одним из своих фаворитов, который демонстрировал ей новые па вольты.
Лорд Уорси разговаривал с Пипом довольно резко. Похоже, он беспокоился о здоровье сэра Джеральда, а Пип объяснял, что тому очень плохо. Пару раз лорд Уорси взглянул на нас с лордом Робертом.
Наконец Ее Величество решила, что натанцевалась, и, естественно, все ее фрейлины и придворные дамы тоже. Мы выстроились в ряд, правда, не такой аккуратный, как по прибытии, и чинно удалились под музыку. А кавалеры стали разбиваться на группы, обсуждая, не нанять ли им лодку, чтобы поехать в Парижский Сад еще поразвлечься.
Когда я пришла помочь королеве раздеться, она отослала меня.
— Нет, дорогая, возьми Фрэн и иди спать. Ты, должно быть, очень устала!
И тут я вдруг почувствовала, что ноги у меня горят, а желудок накрепко стиснут корсетом. Я встала на колени и поцеловала королеве руку.
— Ну что, понравился тебе бал в честь дня Святого Валентина? — улыбнулась она.
— О да, Ваше Величество! Я отлично провела время, — ответила я. И это была правда. Во всяком случае, задачку с подарками я решила!
Когда я уходила, Ее Величество добавила:
— Грейс, у себя на подушке ты кое-что найдешь…
Я присела в реверансе, сгорая от желания узнать, что именно, и поспешила к себе.
Фрэн быстро расцепила все крючки, расшнуровала рукава, сияла с меня верхнюю бархатную юбку, лиф и вставку. Потом настала очередь второй юбки, фарзингейла, нижней юбки и металлического каркаса. За ними последовала еще одна юбка, и, наконец, Фрэн расшнуровала мне корсет.
Я сказала: «Уф-ф!»
Приятно сознавать, надев корсет, какая тонкая у тебя стала талии, но еще приятнее — снять его и расслабиться! Тогда все внутренние органы немедленно начинают работать, и хочется поскорее остаться одной.
Фрэн это знала. Улыбнувшись, она поцеловала меня в щеку.
— Вы были так прекрасны нынче вечером, леди Грейс! Вы всех превзошли!
Сейчас-то я знаю, что это неправда — ни одной девушке с волосами мышиного цвета не превзойти леди Сару Бартелми-Рыжие Кудряшки, но слышать эти слова было приятно, и я поцеловала Фрэн.
Она ушла, прихватив с собой мои юбку, лиф и французский корсет, чтобы почистить их и проветрить.
Я сняла ожерелье лорда Роберта, положив его возле кровати, потом переоделась в ночную сорочку и воспользовалась стульчаком с крышкой.
Фрэн налила мне в чашку немного свежей розовой воды, так что я умылась и почистила зубы новой зубной тряпочкой с миндальной пастой и солью, а потом сполоснула рот укропной водой.
Ну вот. В камине горит огонь. Мне не холодно. Надев ночную рубашку, я сижу в своем любимом углу и пишу.
Наверное, с небес мама может заглянуть в мои дневник и прочесть все, что я написала. Так что я пишу как будто для нее. Я знаю, ей бы очень поправилось, как я танцевала на балу. Интересно, что бы она сказала о моем выборе? Наверное, одобрила бы. Сэр Джеральд ей вряд ли понравился бы, и еще она бы согласилась, что сэр Чарльз для меня слишком стар.
Что-то глаза слипаются. Пора спать.
Когда королева отошла, я подумала о том, какая она умная женщина! Собственноручно вручив бокал лорда Роберта сэру Джеральду, она предотвратила ссору, а может, и дуэль!
— Разве могу я отвергнуть дар из столь милостивых и справедливых рук? — торжественно произнес лорд Джеральд, осушая бокал лорда Роберта одним глотком.
Он попытался еще раз поклониться, но потерял равновесие и упал носом в пол.
Я засмеялась, королева тоже, да и все присутствующие, особенно лорд Роберт. Только лорд Уорси не засмеялся. Он бросился к сэру Джеральду, поднял его на ноги и что-то шепнул племяннику на ухо.
Сэр Джеральд снова поклонился, на этот раз более уверенно.
— Ваше Величество, с вашего позволения, я отправился бы в постель, — пробормотал он.
— Думаю, это верное решение, сэр Джеральд. — многозначительно заметила королева. — Бокал вина не излечит разбитого сердца, но сон — хороший лекарь! Утро вечера мудренее.
По моему мнению, королева была слишком добра к сэру Джеральду. Обычно она гораздо суровее к тем, кто едва держится на ногах. И честно говоря, я была очень удивлена, что сэр Джеральд так набрался оттого, что я ему отказала!
— Благодарю вас, Ваше Величество, — сказал сэр Джеральд.
Лорд Уорси направился было к двери вместе с ним, но королева его окликнула.
— Останьтесь, старый мой друг, — попросила она. — Графа Лестера сегодня нет, а мне нужен партнер. Идемте танцевать!
Отказаться лорд Уорси не мог. Но, судя по выражению его лица, и не был особенно счастлив, когда, поклонившись, поцеловал руку королевы и повел ее танцевать французскую фарандолу.
Мне стало так жарко в розовом бархате, что я поняла: надо охладиться, или я растаю! Я сунула ноги в бальных туфлях в специальные пробковые подошвы-подставки и вышла из банкетного павильона в личный сад королевы. Там было холодно и сыро. Почти под каждым кустом шептались парочки, а под одним даже лежал и пел, любуясь звездами, молодой человек. Я быстро прошла вдоль лабиринта к кухням и чулану.
Элли была там вместе с Пипом, слугой сэра Джеральда.
Пип говорил, возбужденно размахивая руками:
— Я только хотел его вычистить! Вычистить, отряхнуть от розовой пудры, а потом проветрить, чтобы хозяин еще раз мог появиться в нем при Дворе. Но он был в такой ярости, ну просто не в себе…
Элли нахмурилась и полезла в чулан за ведром.
— Так где, говоришь, его вырвало?
— На угол ковра, — ответил Пип. — Да что ты, я сам уберу!
— Да уж нс беспокойся, я что ни бал, за ними убираю! — презрительно заметила Элли.
Тут она заметила меня и просияла, закатив глаза. Элли была в переднике, с закатанными рукавами.
— … так что оборки на штанах теперь будут мятые, а воротник весь перегнется. А завтра он проснется, увидит, что я его не раздел — и все шишки на меня, ты ж понимаешь! Нечего удивляться, если он меня вышвырнет…
Бедный Пип стиснул руки.
Я еще сильнее порадовалась, что не выбрала нож — по тому, как человек обращается со слугами, многое можно понять! Вон как Пип боится сэра Джеральда — это дурной признак!
— Он в покоях лорда Уорси? — спросила Элли. — Так я постучусь, войду, да начну там мыть, а если он не проснется, так, верно, и ты его не разбудишь! Войдешь потихоньку да снимешь с него что надо!
Пип просиял от чувства признательности.
— Сходишь? Нет, правда, сходишь? Только будь осторожна, он прямо бешеный становится, когда пьян!
— Да ну уж! — фыркнула Элли. — Коли я не увернусь от пинка пьянчуги, так поделом мне и синяк на заднице! Ты не волнуйся. Пип, я пойду и посмотрю.
Она подмигнула мне и убежала с ведром щелока и тряпкой в сторону персональных апартаментов придворных.
Я развернулась и пошла назад к банкетному павильону, где пламя горящих свечей, проникая сквозь холст, отбрасывало на траву силуэты Венеры и Адониса.
Я стояла и смотрела на них, пока не озябла.
Кто-то подошел и взял меня за руку.
— Кто это? — спросила я.
— Роберт, — последовал ответ.
Я улыбнулась, успокоившись и позволив держать себя за руку. В темноте я различала только его тень.
— М-можно м-мне п-поцеловать вас в г-губы, леди Г-грейс?
Еще одна длинная фраза! Наверное, когда никто не видит, лорду Роберту легче говорить.
— Только в следующем месяце, после обручения, — ответила я чопорно. Но разрешила лорду Роберту поцеловать мне руку. Это так романтично!
— Уже м-много в-времени прошло. П-пойдемте, п-потанцуем?
— Ну конечно, милорд! — сказала я вполне благосклонно.
Я позволила ему проводить меня в зал, где мы присоединились к танцующим фарандолу — со стороны лорда Роберта это было весьма смелым поступком, если учесть, сколько раз я наступила ему на ногу во время вольты!
Мы станцевали еще несколько танцев. Потом вошел сэр Чарльз — вид у него был по-прежнему угрюмый.
Он пожал лорду Роберту руку, что было очень мило с его стороны, и все время пристально на меня смотрел. Мне это не понравилось. Потом я заметила Пипа, который разговаривал с лордом Уорси. Тот держал веер королевы, а Ее Величество пристально наблюдала за сэром Кристофером Хэттоном, одним из своих фаворитов, который демонстрировал ей новые па вольты.
Лорд Уорси разговаривал с Пипом довольно резко. Похоже, он беспокоился о здоровье сэра Джеральда, а Пип объяснял, что тому очень плохо. Пару раз лорд Уорси взглянул на нас с лордом Робертом.
Наконец Ее Величество решила, что натанцевалась, и, естественно, все ее фрейлины и придворные дамы тоже. Мы выстроились в ряд, правда, не такой аккуратный, как по прибытии, и чинно удалились под музыку. А кавалеры стали разбиваться на группы, обсуждая, не нанять ли им лодку, чтобы поехать в Парижский Сад еще поразвлечься.
Когда я пришла помочь королеве раздеться, она отослала меня.
— Нет, дорогая, возьми Фрэн и иди спать. Ты, должно быть, очень устала!
И тут я вдруг почувствовала, что ноги у меня горят, а желудок накрепко стиснут корсетом. Я встала на колени и поцеловала королеве руку.
— Ну что, понравился тебе бал в честь дня Святого Валентина? — улыбнулась она.
— О да, Ваше Величество! Я отлично провела время, — ответила я. И это была правда. Во всяком случае, задачку с подарками я решила!
Когда я уходила, Ее Величество добавила:
— Грейс, у себя на подушке ты кое-что найдешь…
Я присела в реверансе, сгорая от желания узнать, что именно, и поспешила к себе.
Фрэн быстро расцепила все крючки, расшнуровала рукава, сияла с меня верхнюю бархатную юбку, лиф и вставку. Потом настала очередь второй юбки, фарзингейла, нижней юбки и металлического каркаса. За ними последовала еще одна юбка, и, наконец, Фрэн расшнуровала мне корсет.
Я сказала: «Уф-ф!»
Приятно сознавать, надев корсет, какая тонкая у тебя стала талии, но еще приятнее — снять его и расслабиться! Тогда все внутренние органы немедленно начинают работать, и хочется поскорее остаться одной.
Фрэн это знала. Улыбнувшись, она поцеловала меня в щеку.
— Вы были так прекрасны нынче вечером, леди Грейс! Вы всех превзошли!
Сейчас-то я знаю, что это неправда — ни одной девушке с волосами мышиного цвета не превзойти леди Сару Бартелми-Рыжие Кудряшки, но слышать эти слова было приятно, и я поцеловала Фрэн.
Она ушла, прихватив с собой мои юбку, лиф и французский корсет, чтобы почистить их и проветрить.
Я сняла ожерелье лорда Роберта, положив его возле кровати, потом переоделась в ночную сорочку и воспользовалась стульчаком с крышкой.
Фрэн налила мне в чашку немного свежей розовой воды, так что я умылась и почистила зубы новой зубной тряпочкой с миндальной пастой и солью, а потом сполоснула рот укропной водой.
Ну вот. В камине горит огонь. Мне не холодно. Надев ночную рубашку, я сижу в своем любимом углу и пишу.
Наверное, с небес мама может заглянуть в мои дневник и прочесть все, что я написала. Так что я пишу как будто для нее. Я знаю, ей бы очень поправилось, как я танцевала на балу. Интересно, что бы она сказала о моем выборе? Наверное, одобрила бы. Сэр Джеральд ей вряд ли понравился бы, и еще она бы согласилась, что сэр Чарльз для меня слишком стар.
Что-то глаза слипаются. Пора спать.


 Конечно, он доктор, ему лучше знать, но я помню: когда я взяла мамину руку, чтобы поцеловать, я почувствовала, как она сжала мои пальцы на прощание. Я поцеловала ее в лоб.
Королева встала рядом со мной на колени, обняла, а я все плакала, так что даже лиф ее платья намок. Потом она начала меня тихонько укачивать, и я поняла, что Ее Величество тоже плачет.
Мама умерла вскоре после полуночи, в день Святого Валентина, 14 февраля 1568 года, и это был худший день в моей жизни. Я была совсем маленькой, когда на королевской службе во Франции умер мой папа, так что я его почти не помню. Но мама… Я не поэт и не знаю слов, чтобы описать это чувство. Просто мир раскололся.
Весь прошедший год все были ко мне очень добры, особенно королева. Она утешала меня, когда становилось особенно тяжело, и пообещала, что никогда не отошлет на воспитание в чужую семью.
Лорд Уорси вызвался быть моим опекуном и заботиться о моем наследстве, пока я не выйду замуж, и этим не займется мой муж.
Дяде Кавендишу было не до меня, он плохо себя чувствовал, по крайней мере, мне так говорили. Я-то думаю, что все это время он беспробудно пил. Дядя всегда очень любил маму, и его подкосило то, что он не смог ей помочь.
Да, они нашли отравителя. Преступника наняли эти гнусные католики Гизы, которые вечно что-то замышляют против королевы. Он пытался скрыться, но в схватке был убит одним из королевских стражников.
Королева была в ярости, а мне было все равно. Даже если б его казнили, как полагается, мне бы от этого легче не стало!
Мама выпила отравленное вино и этим спасла не только королеву, но и Англию от кошмаров гражданской войны. Поэтому ее похоронили в часовне Уайтхолла.
А теперь надо собраться с силами и открыть сверток.
Конечно, он доктор, ему лучше знать, но я помню: когда я взяла мамину руку, чтобы поцеловать, я почувствовала, как она сжала мои пальцы на прощание. Я поцеловала ее в лоб.
Королева встала рядом со мной на колени, обняла, а я все плакала, так что даже лиф ее платья намок. Потом она начала меня тихонько укачивать, и я поняла, что Ее Величество тоже плачет.
Мама умерла вскоре после полуночи, в день Святого Валентина, 14 февраля 1568 года, и это был худший день в моей жизни. Я была совсем маленькой, когда на королевской службе во Франции умер мой папа, так что я его почти не помню. Но мама… Я не поэт и не знаю слов, чтобы описать это чувство. Просто мир раскололся.
Весь прошедший год все были ко мне очень добры, особенно королева. Она утешала меня, когда становилось особенно тяжело, и пообещала, что никогда не отошлет на воспитание в чужую семью.
Лорд Уорси вызвался быть моим опекуном и заботиться о моем наследстве, пока я не выйду замуж, и этим не займется мой муж.
Дяде Кавендишу было не до меня, он плохо себя чувствовал, по крайней мере, мне так говорили. Я-то думаю, что все это время он беспробудно пил. Дядя всегда очень любил маму, и его подкосило то, что он не смог ей помочь.
Да, они нашли отравителя. Преступника наняли эти гнусные католики Гизы, которые вечно что-то замышляют против королевы. Он пытался скрыться, но в схватке был убит одним из королевских стражников.
Королева была в ярости, а мне было все равно. Даже если б его казнили, как полагается, мне бы от этого легче не стало!
Мама выпила отравленное вино и этим спасла не только королеву, но и Англию от кошмаров гражданской войны. Поэтому ее похоронили в часовне Уайтхолла.
А теперь надо собраться с силами и открыть сверток.
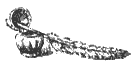


 Тот самый нож, который он собирался мне подарить. Я не могла отвести глаз от этого ужасного зрелища, хотя ничего отвратительного в нем не было, во всяком случае, нигде не было ни капли крови. Сердце у меня билось, как французский барабан: бам-да-да-бам!
Не знаю, сколько я так простояла, прежде чем заметила в комнате сэра Чарльза и прислонившегося к стене полуодетого лорда Роберта. Он был бледен до зелени.
Сквозь толпу протиснулся лорд Уорси с четырьмя слугами — и застыл, уставившись на кровать. Лицо его, обычно серое и невыразительное, стало белым, как перья того противного лебедя, которого мы ели на балу.
Пип рухнул на колени.
— Сэр, я п-принес сэру Дже-же-ральду за-завтрак и увидел… — он сбился и безнадежно махнул рукой.
Лорд Уорси, кажется, не слышал, уставившись на нож, торчавший из спины племянника. Потом он огляделся, собираясь с мыслями, точно эти мысли кто-то раскидал по всей комнате, и теперь надо было собрать их по одной. Целую вечность спустя он заговорил:
— Удвойте стражу у спальни Ее Величества. Когда королева проснется, сообщите ей о случившемся. За доктором Кавендишем послали?
— Он уже идет, милорд, — сказал один из офицеров личной стражи королевы. — Поскольку преступление совершено во дворце, надо срочно созвать Гофмаршальский Совет.
Лорд Уорси поморщился и схватился за стойку кровати.
Мне стало его жаль, и я коснулась его руки.
Лорд Уорси поднял голову, но, кажется, меня не увидел. Волосы у него торчали в разные стороны, а вид был утомленный и весьма неряшливый. Он даже не переоделся: вышитый перед рубашки был залит вином, а манжеты запачканы чем-то зеленым.
Лорд Уорси часто-часто поморгал, потом покачал годовой и повернулся к собравшимся.
— Кто-нибудь заметил что-нибудь подозрительное после того, как мой племянник ушел с бала?
Пип начал рассказывать, как снял с хозяина камзол, а штаны и чулки оставил, потому что хотел, чтобы тот проспался как следует, как утром он пришел с пивом и хлебом…
О том, что Элли убирала за сэром Джеральдом, Пип не упомянул. Я открыла рот, чтобы добавить такую важную подробность, но вовремя поняла: лучше не впутывать Элли в эту жуткую историю! Уж наверняка не она воткнула нож в сэра Джеральда, а вот тот, кто это действительно сделал, будет только рад свалить вину на беззащитную прачку!
Слегка покачиваясь, вошел мой дядя, доктор Кавендиш, в парчовом, отделанном куницей камзоле. Лицо у него было опухшее, глаза налиты кровью. Казалось, он мечтал только о том, чтобы голова у него и вовсе отвалилась. Щурясь на пламя свечи, он начал осматривать сэра Джеральда.
И вдруг сэр Чарльз указал на маленькую серебряную вещицу на подушке сэра Джеральда.
— Что это? — мрачно спросил он.
Доктор Кавендиш поднес вещицу к свече.
— Пуговица. Даже с ниткой. Гм-м… И с гербом.
— Это не хозяина, — заметил Пип, тоже разглядывая пуговиц. — Это герб Рэдклиффов.
— Что? — словно очнулся сэр Уорси, и все повернулись в сторону лорда Роберта.
Тот покраснел и как обычно безуспешно попытался что-то сказать.
— Клянусь Богом, вы, верно, обронили ее, когда пырнули ножом сэра Джеральда! — воскликнул сэр Чарльз. — Доказательство налицо!
— Н-но, — в отчаянии выдавил из себя лорд Роберт.
— Не лгите, сэр, — потребовал сэр Чарльз. — Как иначе здесь оказалась ваша пуговица? Видно, вы приревновали свою даму к сэру Джеральду, приревновали настолько, что убили своего соперника, пока тот спал!
— Я…
Лорд Роберт пошарил рукой по боку, ища рукоять шпаги, но поскольку к ночной рубашке шпаги не полагается, поиски успехом не увенчались.
Тут же к нему шагнул один из стражников лорда Уорси.
— А! — сказал сэр Чарльз, подойдя к лорду Роберту почти вплотную и грозя тому пальцем. — Угрожаете? Может, завтра вы придете и зарежете в моей постели меня?
Это уж совсем никуда не годилось! Надо было срочно вмешаться, в конце концов, лорд Роберт мой жених!
— Господа, — сказала я, — может быть, убийца нарочно подбросил пуговицу лорда Роберта, чтобы подозрение пало именно на него?
Они меня даже не услышали, продолжая кричать. Конечно, ни сэру Чарльзу, ни лорду Уорси не по душе лорд Роберт.
Оба они будут рады обвинить его в убийстве и предъявить королеве качестве преступника, как только Ее Величество узнает о происшествии. И абсолютно ясно, что никого не интересует мнение несовершеннолетней фрейлины в мятой ночной рубашке!
Я с тоской наблюдала, как люди лорда Уорси заломили лорду Роберту руки, а потом ему было официально объявлено, что он подозревается в коварнейшем убийстве спящего сэра Джеральда.
Побледневший лорд Роберт потерянно озирался по сторонам. Хорошо, что у него хватало ума молчать! Возникло секундное замешательство, так как лорд Уорси не знал, куда заточить лорда Роберта.
В Уайтхолле нет тюремных застенков — все комнаты, даже самые маленькие, занимает кто-нибудь из придворных. Ближайшая к нам тюрьма — Тауэр. В конце концов было решено закрыть лорда Роберта в чулане с зарешеченными окнами, в одной из дворцовых башен.
Когда его уводили, лорд Роберт не проронил ни слова. Лорд Уорси и доктор Кавендиш обсуждали детали расследования. Решено было не проводить вскрытия тела сэра Джеральда, так как причина его смерти была совершенно ясна. Вряд ли кто останется жив, если ему воткнут в спину нож, даже с такой изящной рукояткой!
Неожиданно мне пришло в голову, что выбери я сэра Джеральда, этот нож принадлежал бы мне. И что, тогда в убийстве обвинили бы меня? От этой мысли мне стало так дурно, что я развернулась и бросилась в наши покои.
Когда я вошла, Мэри Шелтон, сидевшая на кровати с папильотками в волосах, взглянула на меня с нескрываемым любопытством:
— А чего это ты не спишь, Грейс?
— Случилось нечто ужасное! — сообщила я. — При дворе произошло убийство!
Мэри вскрикнула, а леди Сара проворчала, просыпаясь:
— И из-за этого ты подняла такой шум? Я же сплю!
— Сара, дорогая, — выдохнула Мэри, — ты не понимаешь, о чем говоришь! Произошло убийство! И Грейс уже все разузнала.
Сара тут же подскочила:
— Господь с нами! Убийство? Некоролевы?
— Нет, нет, — успокоила я ее, надевая через голову корсет. — Просто кто-то воткнул нож в спину сэру Джеральду!
— Ужас какой! — Леди Сара была в замешательстве. — Он такой миленький и так славно танцует! Надеюсь, он выздоровеет?
— Вряд ли! Он мертв. И это очень темная история. Они обвиняют лорда Роберта, но мне кажется, что убийца не он…
Но мои соседки уже не слушали. Никогда в жизни Сара и Мэри так быстро не одевались! Выскочив в коридор, Мэри, кажется, даже не заметила, что у нее папильотки в волосах!
Бедный сэр Джеральд! До сих пор не верится, что он мертв. Только что кружил меня в вольте — и вот на тебе!
Что касается милорда Роберта, то и подумать жутко, как он там, в чулане. Если настоящего убийцу не найдут, королева отправит его в Тауэр. Мне его так жаль! Он меньше всех похож на убийцу. Да и зачем ему было убивать сэра Джеральда? Вот если бы сэр Джеральд зарезал лорда Роберта за то, что я выбрала его, я бы еще поняла…
Надо быстро одеться и идти прислуживать королеве. Пожалуй, писать дневник полезно — это проясняет голову, ведь прежде чем что-то записать, надо сначала подумать! Королева говорила мне об этом и была права. Она вообще очень умная! А, вот я и придумала! Я поговорю с ней о лорде Роберте. Во всяком случае, она-то никогда не посоветует мне не забивать себе этим голову!
Тот самый нож, который он собирался мне подарить. Я не могла отвести глаз от этого ужасного зрелища, хотя ничего отвратительного в нем не было, во всяком случае, нигде не было ни капли крови. Сердце у меня билось, как французский барабан: бам-да-да-бам!
Не знаю, сколько я так простояла, прежде чем заметила в комнате сэра Чарльза и прислонившегося к стене полуодетого лорда Роберта. Он был бледен до зелени.
Сквозь толпу протиснулся лорд Уорси с четырьмя слугами — и застыл, уставившись на кровать. Лицо его, обычно серое и невыразительное, стало белым, как перья того противного лебедя, которого мы ели на балу.
Пип рухнул на колени.
— Сэр, я п-принес сэру Дже-же-ральду за-завтрак и увидел… — он сбился и безнадежно махнул рукой.
Лорд Уорси, кажется, не слышал, уставившись на нож, торчавший из спины племянника. Потом он огляделся, собираясь с мыслями, точно эти мысли кто-то раскидал по всей комнате, и теперь надо было собрать их по одной. Целую вечность спустя он заговорил:
— Удвойте стражу у спальни Ее Величества. Когда королева проснется, сообщите ей о случившемся. За доктором Кавендишем послали?
— Он уже идет, милорд, — сказал один из офицеров личной стражи королевы. — Поскольку преступление совершено во дворце, надо срочно созвать Гофмаршальский Совет.
Лорд Уорси поморщился и схватился за стойку кровати.
Мне стало его жаль, и я коснулась его руки.
Лорд Уорси поднял голову, но, кажется, меня не увидел. Волосы у него торчали в разные стороны, а вид был утомленный и весьма неряшливый. Он даже не переоделся: вышитый перед рубашки был залит вином, а манжеты запачканы чем-то зеленым.
Лорд Уорси часто-часто поморгал, потом покачал годовой и повернулся к собравшимся.
— Кто-нибудь заметил что-нибудь подозрительное после того, как мой племянник ушел с бала?
Пип начал рассказывать, как снял с хозяина камзол, а штаны и чулки оставил, потому что хотел, чтобы тот проспался как следует, как утром он пришел с пивом и хлебом…
О том, что Элли убирала за сэром Джеральдом, Пип не упомянул. Я открыла рот, чтобы добавить такую важную подробность, но вовремя поняла: лучше не впутывать Элли в эту жуткую историю! Уж наверняка не она воткнула нож в сэра Джеральда, а вот тот, кто это действительно сделал, будет только рад свалить вину на беззащитную прачку!
Слегка покачиваясь, вошел мой дядя, доктор Кавендиш, в парчовом, отделанном куницей камзоле. Лицо у него было опухшее, глаза налиты кровью. Казалось, он мечтал только о том, чтобы голова у него и вовсе отвалилась. Щурясь на пламя свечи, он начал осматривать сэра Джеральда.
И вдруг сэр Чарльз указал на маленькую серебряную вещицу на подушке сэра Джеральда.
— Что это? — мрачно спросил он.
Доктор Кавендиш поднес вещицу к свече.
— Пуговица. Даже с ниткой. Гм-м… И с гербом.
— Это не хозяина, — заметил Пип, тоже разглядывая пуговиц. — Это герб Рэдклиффов.
— Что? — словно очнулся сэр Уорси, и все повернулись в сторону лорда Роберта.
Тот покраснел и как обычно безуспешно попытался что-то сказать.
— Клянусь Богом, вы, верно, обронили ее, когда пырнули ножом сэра Джеральда! — воскликнул сэр Чарльз. — Доказательство налицо!
— Н-но, — в отчаянии выдавил из себя лорд Роберт.
— Не лгите, сэр, — потребовал сэр Чарльз. — Как иначе здесь оказалась ваша пуговица? Видно, вы приревновали свою даму к сэру Джеральду, приревновали настолько, что убили своего соперника, пока тот спал!
— Я…
Лорд Роберт пошарил рукой по боку, ища рукоять шпаги, но поскольку к ночной рубашке шпаги не полагается, поиски успехом не увенчались.
Тут же к нему шагнул один из стражников лорда Уорси.
— А! — сказал сэр Чарльз, подойдя к лорду Роберту почти вплотную и грозя тому пальцем. — Угрожаете? Может, завтра вы придете и зарежете в моей постели меня?
Это уж совсем никуда не годилось! Надо было срочно вмешаться, в конце концов, лорд Роберт мой жених!
— Господа, — сказала я, — может быть, убийца нарочно подбросил пуговицу лорда Роберта, чтобы подозрение пало именно на него?
Они меня даже не услышали, продолжая кричать. Конечно, ни сэру Чарльзу, ни лорду Уорси не по душе лорд Роберт.
Оба они будут рады обвинить его в убийстве и предъявить королеве качестве преступника, как только Ее Величество узнает о происшествии. И абсолютно ясно, что никого не интересует мнение несовершеннолетней фрейлины в мятой ночной рубашке!
Я с тоской наблюдала, как люди лорда Уорси заломили лорду Роберту руки, а потом ему было официально объявлено, что он подозревается в коварнейшем убийстве спящего сэра Джеральда.
Побледневший лорд Роберт потерянно озирался по сторонам. Хорошо, что у него хватало ума молчать! Возникло секундное замешательство, так как лорд Уорси не знал, куда заточить лорда Роберта.
В Уайтхолле нет тюремных застенков — все комнаты, даже самые маленькие, занимает кто-нибудь из придворных. Ближайшая к нам тюрьма — Тауэр. В конце концов было решено закрыть лорда Роберта в чулане с зарешеченными окнами, в одной из дворцовых башен.
Когда его уводили, лорд Роберт не проронил ни слова. Лорд Уорси и доктор Кавендиш обсуждали детали расследования. Решено было не проводить вскрытия тела сэра Джеральда, так как причина его смерти была совершенно ясна. Вряд ли кто останется жив, если ему воткнут в спину нож, даже с такой изящной рукояткой!
Неожиданно мне пришло в голову, что выбери я сэра Джеральда, этот нож принадлежал бы мне. И что, тогда в убийстве обвинили бы меня? От этой мысли мне стало так дурно, что я развернулась и бросилась в наши покои.
Когда я вошла, Мэри Шелтон, сидевшая на кровати с папильотками в волосах, взглянула на меня с нескрываемым любопытством:
— А чего это ты не спишь, Грейс?
— Случилось нечто ужасное! — сообщила я. — При дворе произошло убийство!
Мэри вскрикнула, а леди Сара проворчала, просыпаясь:
— И из-за этого ты подняла такой шум? Я же сплю!
— Сара, дорогая, — выдохнула Мэри, — ты не понимаешь, о чем говоришь! Произошло убийство! И Грейс уже все разузнала.
Сара тут же подскочила:
— Господь с нами! Убийство? Некоролевы?
— Нет, нет, — успокоила я ее, надевая через голову корсет. — Просто кто-то воткнул нож в спину сэру Джеральду!
— Ужас какой! — Леди Сара была в замешательстве. — Он такой миленький и так славно танцует! Надеюсь, он выздоровеет?
— Вряд ли! Он мертв. И это очень темная история. Они обвиняют лорда Роберта, но мне кажется, что убийца не он…
Но мои соседки уже не слушали. Никогда в жизни Сара и Мэри так быстро не одевались! Выскочив в коридор, Мэри, кажется, даже не заметила, что у нее папильотки в волосах!
Бедный сэр Джеральд! До сих пор не верится, что он мертв. Только что кружил меня в вольте — и вот на тебе!
Что касается милорда Роберта, то и подумать жутко, как он там, в чулане. Если настоящего убийцу не найдут, королева отправит его в Тауэр. Мне его так жаль! Он меньше всех похож на убийцу. Да и зачем ему было убивать сэра Джеральда? Вот если бы сэр Джеральд зарезал лорда Роберта за то, что я выбрала его, я бы еще поняла…
Надо быстро одеться и идти прислуживать королеве. Пожалуй, писать дневник полезно — это проясняет голову, ведь прежде чем что-то записать, надо сначала подумать! Королева говорила мне об этом и была права. Она вообще очень умная! А, вот я и придумала! Я поговорю с ней о лорде Роберте. Во всяком случае, она-то никогда не посоветует мне не забивать себе этим голову!

 Обойдя лабиринт с другой стороны, я скользнула в калитку, отпустила собак и залезла на свое любимое вишневое дерево — подумать. Там есть отличное местечко для размышления — развилка между двух толстых ветвей. На ветках вишни уже появились почки, но распускаться они не спешили — было слишком сыро и холодно.
В голове у меня один за другим зрели планы. Я точно знала, как найти убийцу: от дяди Кавендиша я слышала, что мертвое тело может рассказать очень о многом.
Например, если посветить трупу в глаза, можно увидеть в них отражение убийцы. А если принести с собой оружие, которым человек был убит, его рана снова начнет кровоточить. Что ж, значит, необходимо увидеть тело сэра Джеральда еще раз!
Я слезла с дерева и направилась к мусорной куче. Элли и Мазу были уже там, возились с чем-то.
Эрик прыгал на задних лапах и скулил, стараясь это что-то схватить, но Элли держала непонятный предмет высоко, так, чтобы пес не достал.
— Элли, зачем тебе полуободранный кролик? — спросила я, разглядев, что у нее в руках.
— Поджарим и съедим, — ответил Мазу так, словно это подразумевалось само собой.
— А шкурку я растяну, выскоблю и сделаю себе муфту на зиму! — добавила Элли.
Я привязала псов и присела на корточки, ожидая, пока Элли закончит с кроликом. Работала она быстро и аккуратно, ловко снимая с зверька шкурку, точно раздевая его. Нигде не было ни капли крови, очевидно, кролик был уже вычищен и выпотрошен.
И тут меня осенило: когда я увидела сэра Джеральда с ножом в спине, на его одежде тоже не было ни капли крови! И это очень странно, потому что не кровоточат только мертвые тела, а когда сэра Джеральда закололи, он наверняка был жив!
Это была еще одна тайна. Совершенно необходимо взглянуть на тело сэра Джеральда еще раз!
— Кухонные псы поймали его и загрызли, а я их добычу отобрала, — рассказывала Элли, — правда, отдала потроха. Ну, вот и готово, — она протянула кролика Мазу.
Тот взял длинный прут, продел его сквозь кролика и подвесил над костром. Элли посыпала кролика хлебными крошками, и мы приступили к обсуждению убийства.
Элли и Мазу пересказали мне множество дворовых сплетен и догадок: например, что во дворец ворвались шотландцы и закололи сэра Джеральда по ошибке, вместо королевы.
Я сообщила им, что случилось на самом деле, и что вряд ли стоит подозревать сэра Роберта. Если честно, на мгновение я в нем тоже усомнилась, припомнив, как на балу он сжал рукоять своей шпаги. Но потом я поняла, что это глупо — лорд Роберт никогда не напал бы на человека со спины, в этом я уверена!
— Бедняжка, — мрачно усмехнулась Элли, — тогда его повесят ни за что!
— Не повесят. Я не позволю повесить моего будущего мужа прежде, чем я выйду за него замуж! Это было бы глупо! — ответила я.
— А что, после свадьбы пусть вешают? — издевательски поинтересовался Мазу.
— Ну, тогда я хотя бы останусь добропорядочной вдовой, — фыркнула я.
— А я пойду смотреть казнь, и буду бросать на эшафот лаванду и руту, — мечтательно протянула Элли. — И расскажу ему, как ты печалишься — это его утешит! А потом мы попросим придворного стихотворца сочинить о вас балладу, напечатать ее и…
— Элли, его не повесят, потому что я собираюсь выяснить правду! — оборвала я ее романтические размышления.
Мазу насмешливо мне поклонился, перевернув кролика над огнем.
— Вы так мудры, миледи! А скажите, каким образом вы собираетесь это сделать?
Я легонько шлепнула его по руке.
— Для начала мне надо взглянуть на тело сэра Джеральда! Он, кажется, лежит в часовне Святой Маргариты.
— А зачем? — удивилась Элли.
— Затем, что на теле сэра Джеральда не было крови! — заявила я многозначительно.
— И что? — нахмурился Мазу.
— Если человека пырнуть ножом, пойдет кровь. А если зарезать до смерти, крови будет ого-го как много! А там крови совсем не было! Я же помню, как дядя рассказывал: со смертью человека кровотечение прекращается!
— Ах, вот оно что… — задумчиво пробормотал Мазу.
— Так что я просто обязана взглянуть на тело сэра Джеральда еще раз! К тому же, — я понизила голос, потому что от самой этой мысли становилось жутко, — в глазах покойника можно увидеть истинного убийцу!
— А что же доктор ничего не заметил? — справедливо поинтересовалась Элли, разгрызая ручку марципановой Венеры, которую Мазу выудил из рукава.
— Дядя был расстроен. И он слишком много пьет с тех пор, как… Ну, вы знаете!
Они оба кивнули.
— Но я уверена, что узнала от него достаточно, чтобы заметить что-либо достойное внимания! — заявила я.
Мазу расхохотался.
— Значит, всего делов-то — проскользнуть в часовню, когда все заснут, как убитые…
— Когда все крепко заснут, — поправила я. — Давайте сходим туда в полночь! Посмотрим на труп, посветим ему в глаза и все узнаем!
— Все так просто, что даже странно, что никто другой не догадался это сделать! — ухмыльнулся Мазу.
Я сердито глянула на него:
— Другие просто не захотели забивать этим голову! Лорд Роберт мало с кем дружил, кроме того, он многим должен, и всех устроит, если убийцей окажется именно он.
— Ну, только не тех, кому он должен! — вставила Элли.
— А что делать с людьми лорда Уорси, которые охраняют часовню? — спохватился Мазу.
Об этом я не подумала.
— Тогда не ходите со мной. Я не хочу, чтобы у нас были неприятности. Я сама найду часовню святой Маргариты!
— Щас! — возмутилась Элли. — Я и так твоя должница! Ты ведь не проболталась, что я убирала за сэром Джеральдом!
Она обижено вздохнула.
— И ни пенса мне не заплатили, а уж как там воняло!
— А я, — включился Мазу, — ничего не боюсь, к тому же я лучший акробат труппы мистера Соммерса. Вряд ли меня выгонят за такие мелочи, а если и выгонят, им же хуже — подамся в театр или поступлю в Парижский Сад!
— Надо купить у аптекаря сонного порошка, авось он как-нибудь попадет стражникам в пиво, — подмигнула мне Элли.
Я поцеловала их обоих (Мазу тут же старательно утерся), вручила Элли несколько монеток на снотворное и припустилась бежать, чтобы передать псов груму, который должен был расчесать им шерсть.
Беседуя с грумом возле конюшни, я заметила сэра Чарльза, который как обычно зашел проведать лошадей.
— О, леди Грейс, — поприветствовал он меня.
— Сегодня у нас урок? — спросила я, чувствуя угрызения совести — я ведь совсем об этом забыла!
Он смутился:
— Нет, думаю, нет! После всего, что случилось…
— Тогда пойдемте хотя бы поздороваемся с Ласточкой, — предложила я. — Если не по мне, так по вам она наверняка соскучилась!
— Э-э… — протянул он.
Напорное, сэру Чарльзу опять было неловко, так что пришлось мне самой подвести его к стойлу.
Ласточка вытянула свою очаровательную морду (пожалуй, есть в ней что-то от уэльсского пони!), и потянулась ко мне. Я потрепала ее по бархатному носу, и она фыркнула.
Сэр Чарльз резко протянул руку, чтобы тоже погладить лошадь, но Ласточка неожиданно отпрянула назад и оскалилась. Сэр Чарльз попятился:
— Эй, ты что, рехнулась?
Я очень удивилась. Ни разу во время наших многочисленных (и очень скучных) уроков сэр Чарльз не разговаривал с лошадью таким тоном, а она не реагировала на него подобным образом. Это было очень странно!
Я уже собиралась спросить, что это с ним, ведь он сам учил меня подходить к лошади осторожно, не делая резких движений, но тут появился грум с аккуратно расчесанными собачками королевы.
— Миледи, — сказал он, запыхавшись, — Ее Величество приказала привести псов!
Видно, королеву здорово утомили на Тайном Совете. Если она хочет поиграть с собаками, значит, настроение у нее ужасное.
Я взяла поводки, торопливо попрощалась с сэром Чарльзом и побежала обратно, чтобы, передав собак, переодеться перед визитом к королеве.
Перед лестницей на Верхнюю галерею я вдруг вспомнила замечание королевы. Я снова сняла башмаки (чертовски трудно соответствовать требованиям Ее Величества, выглядя одновременно умно и прилично!), подхватила юбки и заспешила наверх но ступеням.
Но едва я достигла верхней площадки, как, словно черт из табакерки, появилась миссис Чемперноун.
— Что вы делаете, леди Грейс?!
— Собираюсь переодеться, чтобы предстать перед Ее Величеством в достойном виде, — отрапортовала я.
— Но ваши чулки! Дитя мое, взгляните на ваши чулки!
Все еще придерживая юбки, я глянула вниз. И что такого? Отличная пара белых шелковых чулок, только подошвы у них уже не совсем белые, то есть совсем не белые…и на пальце дырка… а на коленке другая…
— Ох! — сказала я, быстро опуская подол, чтобы скрыть компрометирующие подробности. — Я старалась не стучать башмаками, миссис Чемперноун, и вести себя, как вы мне говорили, и…
Миссис Чемперноун на секунду закрыла глаза, а потом возвела их к потолку.
— Леди Грейс, башмаки предназначены для… Надо носить туфли, когда вы… О, ради бога, дайте скорее сюда эти чулки и ступайте наденьте шерстяные. Не хватало еще явиться к королеве в рваных чулках!
Миссис Чемперноун, казалось, была готова лопнуть от возмущения, поэтому я быстренько выскользнула из чулок, отдала ей их вместе с подвязками и босиком побежала в свои покои переодеваться. Шерстяные чулки! Они же кусаются! А почему нельзя пойти совсем без чулок? Ну кто под всем этими юбками разглядит мои ноги? У Элли вообще нет ни одной пары чулок, и она без них прекрасно обходится!
Королева действительно была в ужасном настроении. Я села рядом с нею, принявшись за вышивание, а Ее Величество стала играть с собаками, бросая им мячик. И вдруг на Мэри Шелтон что-то нашло — когда Генри подпрыгнул и лизнул ее в щеку, она сердито его шлепнула.
— Прочь! — взревела королева. — Как ты смеешь бить мою собаку? Ах ты, дрянь, будь ты проклята со всеми своими…
Я, пожалуй, опущу, что еще она говорила, а то будет уж совсем неприлично!
Над головой Мэри пронеслись щетка для волос и баночка с блеском для губ, и она тут же исчезла за дверью.
Я шепотом предложила леди Бедфорд позвать акробатов, полагая, что это развлечет Ее Величество. Так и случилось. Да и мы все получили удовольствие, глядя, как Мазу с главным силачом и маленьким, похожим на гнома человечком делают сальто, ходят на руках и жонглируют предметами при помощи ног. Мазу нарочно все время ронял свои палки и мячи, а потом ловил их ногами, коленями или зубами. Королева даже заулыбалась.
Жалея бедного лорда Уорси, Ее Величество предложила ему отужинать с ней и велела мне к ним присоединиться. Мне не хотелось есть — я слишком нервничала, думая о предстоящем походе. Тут уж не до фазанов, солонины и пирожков с олениной. Но выбора у меня не было.
Лорд Уорси пришел поздно, помятый, расстроенный, и все в той же рубашке. В другой день королева швырнула бы в него за это туфлей, но сегодня она была очень терпима, видно, из уважения к его горю.
Лорд Уорси разговаривал только с королевой и только об ужасно скучных вещах — шотландской и французской политике, Гизах и Максвеллах, и так далее, и тому подобное. Поразительно, как столько всего помешается у него в голове! Впрочем, мне было все равно. Я думала о том, удастся ли нам пробраться в часовню, и что мне надеть, и смогла ли Элли купить снотворное. Правда, за столом я изо всех сил изображала интерес к разговору и старалась не зевать. Хорошо еще, что подали мои любимые апельсиновые карамельки!
Наконец лорд Уорси замолчал.
Королева коснулась его руки.
— Милорд, отныне состояние сэра Джеральда принадлежит вам, и вы можете распоряжаться им так же, как своим и леди Грейс.
Лорд Уорси поднял на королеву тоскливый взгляд.
— У меня хороший управляющий, Ваше Величество. Мы справимся.
— Безусловно, — согласилась королева. — Как ваше самочувствие? — поинтересовалась она ласковым голосом. — Я знаю, вы высоко ценили своего племянника.
— Да, Ваше Величество. Он был славным юношей, хотя ему и были свойственны пороки юности. Порою он бывал вспыльчив, склонен к сарказму, даже высокомерен, но думаю, время исправило бы все эти недостатки!
— Через пару дней лорд Роберт предстанет перед судом, — сказала королева, на мгновение прикрыв глаза, — так грустен был голос лорда Уорси.
Тот печально кивнул, неотрывно глядя на пламя свечи.
Я с интересом наблюдала за ним. Мне вдруг пришло в голову, что он также опечален смертью своего племянника, как я — смертью мамы. Глаза защипало, словно от лука.
Видно, пытаясь отвлечь лорда Уорси от грустных мыслей, королева взяла стоявший в углу вёрджинел, сняла с него крышку и начала настраивать. Потом заиграла нежную итальянскую мелодию, и мне сразу стало веселее.
Я очень люблю слушать, как Ее Величество музицирует. Это даже послам нравится: как только королева садится за инструмент, они начинают улыбаться и расслабляются, потому что в такие минуты могут одновременно и делать комплименты, и говорить правду.
Мне показалось, что лорд Уорси хочет поговорить с королевой наедине. Когда произведение закончилось, я сделала реверанс и попросила разрешения удалиться. Королева пожелала мне спокойной ночи, и я медленно побрела к себе, с грустью думая о лорде Уорси.
Соседок моих еще не было — они играли в карты, зато на кровати с хитрющим видом сидела Элли.
— Ну как? — с порога поинтересовалась я. — Купила?
— Купила! Ты дала столько денег, что хватило на целую бутылку опийной настойки! — Элли протянула мне зеленую бутылочку. — Я завернулась в полосатый плащ и сбегала к аптекарю в Вестминстер!
— А где ты взяла полосатый плащ? (Такие плащи носят проститутки — это у них вроде униформы. Отцы города специально так распорядились.).
— Да был у нас заказ со стороны! — небрежно сообщила моя подруга-прачка. — Одна из этих девиц отдала свой плащ в стирку, а сама завела новый, а старый так и остался у нас. И гляди, пригодился!
Я кивнула.
— Вот сдача, — Элли ссыпала монетки на кровать. — И смотри, не бери вина с буфета — я туда тоже опия накапала, чтобы твои вертихвостки спали без задних ног!
Элли терпеть не может других фрейлин. И это не удивительно, если вспомнить, как они грубят, когда она забирает их грязное белье!
— Мы с Мазу подождем тебя у кухни, — продолжала она. — И если луна поднимется, а ты так и не прибежишь, мы сами пойдем взглянем на сэра Джеральда. Он уже у Святого Мартина, в часовне, да, думаю, вряд ли его зароют прежде, чем расследование закончится!
Элли вскочила с кровати, схватила с пола пару смятых ночных сорочек, засунула их к себе в сумку и бросилась в коридор. Я почистила зубы, переоделась в зеленый лиф и юбку для верховой езды и натянула поверх всего этого ночную рубашку. В коридоре послышались голоса леди Сары и Мэри.
Скоро начнутся мои ночные приключения! А сейчас притворюсь-ка я спящей!
Обойдя лабиринт с другой стороны, я скользнула в калитку, отпустила собак и залезла на свое любимое вишневое дерево — подумать. Там есть отличное местечко для размышления — развилка между двух толстых ветвей. На ветках вишни уже появились почки, но распускаться они не спешили — было слишком сыро и холодно.
В голове у меня один за другим зрели планы. Я точно знала, как найти убийцу: от дяди Кавендиша я слышала, что мертвое тело может рассказать очень о многом.
Например, если посветить трупу в глаза, можно увидеть в них отражение убийцы. А если принести с собой оружие, которым человек был убит, его рана снова начнет кровоточить. Что ж, значит, необходимо увидеть тело сэра Джеральда еще раз!
Я слезла с дерева и направилась к мусорной куче. Элли и Мазу были уже там, возились с чем-то.
Эрик прыгал на задних лапах и скулил, стараясь это что-то схватить, но Элли держала непонятный предмет высоко, так, чтобы пес не достал.
— Элли, зачем тебе полуободранный кролик? — спросила я, разглядев, что у нее в руках.
— Поджарим и съедим, — ответил Мазу так, словно это подразумевалось само собой.
— А шкурку я растяну, выскоблю и сделаю себе муфту на зиму! — добавила Элли.
Я привязала псов и присела на корточки, ожидая, пока Элли закончит с кроликом. Работала она быстро и аккуратно, ловко снимая с зверька шкурку, точно раздевая его. Нигде не было ни капли крови, очевидно, кролик был уже вычищен и выпотрошен.
И тут меня осенило: когда я увидела сэра Джеральда с ножом в спине, на его одежде тоже не было ни капли крови! И это очень странно, потому что не кровоточат только мертвые тела, а когда сэра Джеральда закололи, он наверняка был жив!
Это была еще одна тайна. Совершенно необходимо взглянуть на тело сэра Джеральда еще раз!
— Кухонные псы поймали его и загрызли, а я их добычу отобрала, — рассказывала Элли, — правда, отдала потроха. Ну, вот и готово, — она протянула кролика Мазу.
Тот взял длинный прут, продел его сквозь кролика и подвесил над костром. Элли посыпала кролика хлебными крошками, и мы приступили к обсуждению убийства.
Элли и Мазу пересказали мне множество дворовых сплетен и догадок: например, что во дворец ворвались шотландцы и закололи сэра Джеральда по ошибке, вместо королевы.
Я сообщила им, что случилось на самом деле, и что вряд ли стоит подозревать сэра Роберта. Если честно, на мгновение я в нем тоже усомнилась, припомнив, как на балу он сжал рукоять своей шпаги. Но потом я поняла, что это глупо — лорд Роберт никогда не напал бы на человека со спины, в этом я уверена!
— Бедняжка, — мрачно усмехнулась Элли, — тогда его повесят ни за что!
— Не повесят. Я не позволю повесить моего будущего мужа прежде, чем я выйду за него замуж! Это было бы глупо! — ответила я.
— А что, после свадьбы пусть вешают? — издевательски поинтересовался Мазу.
— Ну, тогда я хотя бы останусь добропорядочной вдовой, — фыркнула я.
— А я пойду смотреть казнь, и буду бросать на эшафот лаванду и руту, — мечтательно протянула Элли. — И расскажу ему, как ты печалишься — это его утешит! А потом мы попросим придворного стихотворца сочинить о вас балладу, напечатать ее и…
— Элли, его не повесят, потому что я собираюсь выяснить правду! — оборвала я ее романтические размышления.
Мазу насмешливо мне поклонился, перевернув кролика над огнем.
— Вы так мудры, миледи! А скажите, каким образом вы собираетесь это сделать?
Я легонько шлепнула его по руке.
— Для начала мне надо взглянуть на тело сэра Джеральда! Он, кажется, лежит в часовне Святой Маргариты.
— А зачем? — удивилась Элли.
— Затем, что на теле сэра Джеральда не было крови! — заявила я многозначительно.
— И что? — нахмурился Мазу.
— Если человека пырнуть ножом, пойдет кровь. А если зарезать до смерти, крови будет ого-го как много! А там крови совсем не было! Я же помню, как дядя рассказывал: со смертью человека кровотечение прекращается!
— Ах, вот оно что… — задумчиво пробормотал Мазу.
— Так что я просто обязана взглянуть на тело сэра Джеральда еще раз! К тому же, — я понизила голос, потому что от самой этой мысли становилось жутко, — в глазах покойника можно увидеть истинного убийцу!
— А что же доктор ничего не заметил? — справедливо поинтересовалась Элли, разгрызая ручку марципановой Венеры, которую Мазу выудил из рукава.
— Дядя был расстроен. И он слишком много пьет с тех пор, как… Ну, вы знаете!
Они оба кивнули.
— Но я уверена, что узнала от него достаточно, чтобы заметить что-либо достойное внимания! — заявила я.
Мазу расхохотался.
— Значит, всего делов-то — проскользнуть в часовню, когда все заснут, как убитые…
— Когда все крепко заснут, — поправила я. — Давайте сходим туда в полночь! Посмотрим на труп, посветим ему в глаза и все узнаем!
— Все так просто, что даже странно, что никто другой не догадался это сделать! — ухмыльнулся Мазу.
Я сердито глянула на него:
— Другие просто не захотели забивать этим голову! Лорд Роберт мало с кем дружил, кроме того, он многим должен, и всех устроит, если убийцей окажется именно он.
— Ну, только не тех, кому он должен! — вставила Элли.
— А что делать с людьми лорда Уорси, которые охраняют часовню? — спохватился Мазу.
Об этом я не подумала.
— Тогда не ходите со мной. Я не хочу, чтобы у нас были неприятности. Я сама найду часовню святой Маргариты!
— Щас! — возмутилась Элли. — Я и так твоя должница! Ты ведь не проболталась, что я убирала за сэром Джеральдом!
Она обижено вздохнула.
— И ни пенса мне не заплатили, а уж как там воняло!
— А я, — включился Мазу, — ничего не боюсь, к тому же я лучший акробат труппы мистера Соммерса. Вряд ли меня выгонят за такие мелочи, а если и выгонят, им же хуже — подамся в театр или поступлю в Парижский Сад!
— Надо купить у аптекаря сонного порошка, авось он как-нибудь попадет стражникам в пиво, — подмигнула мне Элли.
Я поцеловала их обоих (Мазу тут же старательно утерся), вручила Элли несколько монеток на снотворное и припустилась бежать, чтобы передать псов груму, который должен был расчесать им шерсть.
Беседуя с грумом возле конюшни, я заметила сэра Чарльза, который как обычно зашел проведать лошадей.
— О, леди Грейс, — поприветствовал он меня.
— Сегодня у нас урок? — спросила я, чувствуя угрызения совести — я ведь совсем об этом забыла!
Он смутился:
— Нет, думаю, нет! После всего, что случилось…
— Тогда пойдемте хотя бы поздороваемся с Ласточкой, — предложила я. — Если не по мне, так по вам она наверняка соскучилась!
— Э-э… — протянул он.
Напорное, сэру Чарльзу опять было неловко, так что пришлось мне самой подвести его к стойлу.
Ласточка вытянула свою очаровательную морду (пожалуй, есть в ней что-то от уэльсского пони!), и потянулась ко мне. Я потрепала ее по бархатному носу, и она фыркнула.
Сэр Чарльз резко протянул руку, чтобы тоже погладить лошадь, но Ласточка неожиданно отпрянула назад и оскалилась. Сэр Чарльз попятился:
— Эй, ты что, рехнулась?
Я очень удивилась. Ни разу во время наших многочисленных (и очень скучных) уроков сэр Чарльз не разговаривал с лошадью таким тоном, а она не реагировала на него подобным образом. Это было очень странно!
Я уже собиралась спросить, что это с ним, ведь он сам учил меня подходить к лошади осторожно, не делая резких движений, но тут появился грум с аккуратно расчесанными собачками королевы.
— Миледи, — сказал он, запыхавшись, — Ее Величество приказала привести псов!
Видно, королеву здорово утомили на Тайном Совете. Если она хочет поиграть с собаками, значит, настроение у нее ужасное.
Я взяла поводки, торопливо попрощалась с сэром Чарльзом и побежала обратно, чтобы, передав собак, переодеться перед визитом к королеве.
Перед лестницей на Верхнюю галерею я вдруг вспомнила замечание королевы. Я снова сняла башмаки (чертовски трудно соответствовать требованиям Ее Величества, выглядя одновременно умно и прилично!), подхватила юбки и заспешила наверх но ступеням.
Но едва я достигла верхней площадки, как, словно черт из табакерки, появилась миссис Чемперноун.
— Что вы делаете, леди Грейс?!
— Собираюсь переодеться, чтобы предстать перед Ее Величеством в достойном виде, — отрапортовала я.
— Но ваши чулки! Дитя мое, взгляните на ваши чулки!
Все еще придерживая юбки, я глянула вниз. И что такого? Отличная пара белых шелковых чулок, только подошвы у них уже не совсем белые, то есть совсем не белые…и на пальце дырка… а на коленке другая…
— Ох! — сказала я, быстро опуская подол, чтобы скрыть компрометирующие подробности. — Я старалась не стучать башмаками, миссис Чемперноун, и вести себя, как вы мне говорили, и…
Миссис Чемперноун на секунду закрыла глаза, а потом возвела их к потолку.
— Леди Грейс, башмаки предназначены для… Надо носить туфли, когда вы… О, ради бога, дайте скорее сюда эти чулки и ступайте наденьте шерстяные. Не хватало еще явиться к королеве в рваных чулках!
Миссис Чемперноун, казалось, была готова лопнуть от возмущения, поэтому я быстренько выскользнула из чулок, отдала ей их вместе с подвязками и босиком побежала в свои покои переодеваться. Шерстяные чулки! Они же кусаются! А почему нельзя пойти совсем без чулок? Ну кто под всем этими юбками разглядит мои ноги? У Элли вообще нет ни одной пары чулок, и она без них прекрасно обходится!
Королева действительно была в ужасном настроении. Я села рядом с нею, принявшись за вышивание, а Ее Величество стала играть с собаками, бросая им мячик. И вдруг на Мэри Шелтон что-то нашло — когда Генри подпрыгнул и лизнул ее в щеку, она сердито его шлепнула.
— Прочь! — взревела королева. — Как ты смеешь бить мою собаку? Ах ты, дрянь, будь ты проклята со всеми своими…
Я, пожалуй, опущу, что еще она говорила, а то будет уж совсем неприлично!
Над головой Мэри пронеслись щетка для волос и баночка с блеском для губ, и она тут же исчезла за дверью.
Я шепотом предложила леди Бедфорд позвать акробатов, полагая, что это развлечет Ее Величество. Так и случилось. Да и мы все получили удовольствие, глядя, как Мазу с главным силачом и маленьким, похожим на гнома человечком делают сальто, ходят на руках и жонглируют предметами при помощи ног. Мазу нарочно все время ронял свои палки и мячи, а потом ловил их ногами, коленями или зубами. Королева даже заулыбалась.
Жалея бедного лорда Уорси, Ее Величество предложила ему отужинать с ней и велела мне к ним присоединиться. Мне не хотелось есть — я слишком нервничала, думая о предстоящем походе. Тут уж не до фазанов, солонины и пирожков с олениной. Но выбора у меня не было.
Лорд Уорси пришел поздно, помятый, расстроенный, и все в той же рубашке. В другой день королева швырнула бы в него за это туфлей, но сегодня она была очень терпима, видно, из уважения к его горю.
Лорд Уорси разговаривал только с королевой и только об ужасно скучных вещах — шотландской и французской политике, Гизах и Максвеллах, и так далее, и тому подобное. Поразительно, как столько всего помешается у него в голове! Впрочем, мне было все равно. Я думала о том, удастся ли нам пробраться в часовню, и что мне надеть, и смогла ли Элли купить снотворное. Правда, за столом я изо всех сил изображала интерес к разговору и старалась не зевать. Хорошо еще, что подали мои любимые апельсиновые карамельки!
Наконец лорд Уорси замолчал.
Королева коснулась его руки.
— Милорд, отныне состояние сэра Джеральда принадлежит вам, и вы можете распоряжаться им так же, как своим и леди Грейс.
Лорд Уорси поднял на королеву тоскливый взгляд.
— У меня хороший управляющий, Ваше Величество. Мы справимся.
— Безусловно, — согласилась королева. — Как ваше самочувствие? — поинтересовалась она ласковым голосом. — Я знаю, вы высоко ценили своего племянника.
— Да, Ваше Величество. Он был славным юношей, хотя ему и были свойственны пороки юности. Порою он бывал вспыльчив, склонен к сарказму, даже высокомерен, но думаю, время исправило бы все эти недостатки!
— Через пару дней лорд Роберт предстанет перед судом, — сказала королева, на мгновение прикрыв глаза, — так грустен был голос лорда Уорси.
Тот печально кивнул, неотрывно глядя на пламя свечи.
Я с интересом наблюдала за ним. Мне вдруг пришло в голову, что он также опечален смертью своего племянника, как я — смертью мамы. Глаза защипало, словно от лука.
Видно, пытаясь отвлечь лорда Уорси от грустных мыслей, королева взяла стоявший в углу вёрджинел, сняла с него крышку и начала настраивать. Потом заиграла нежную итальянскую мелодию, и мне сразу стало веселее.
Я очень люблю слушать, как Ее Величество музицирует. Это даже послам нравится: как только королева садится за инструмент, они начинают улыбаться и расслабляются, потому что в такие минуты могут одновременно и делать комплименты, и говорить правду.
Мне показалось, что лорд Уорси хочет поговорить с королевой наедине. Когда произведение закончилось, я сделала реверанс и попросила разрешения удалиться. Королева пожелала мне спокойной ночи, и я медленно побрела к себе, с грустью думая о лорде Уорси.
Соседок моих еще не было — они играли в карты, зато на кровати с хитрющим видом сидела Элли.
— Ну как? — с порога поинтересовалась я. — Купила?
— Купила! Ты дала столько денег, что хватило на целую бутылку опийной настойки! — Элли протянула мне зеленую бутылочку. — Я завернулась в полосатый плащ и сбегала к аптекарю в Вестминстер!
— А где ты взяла полосатый плащ? (Такие плащи носят проститутки — это у них вроде униформы. Отцы города специально так распорядились.).
— Да был у нас заказ со стороны! — небрежно сообщила моя подруга-прачка. — Одна из этих девиц отдала свой плащ в стирку, а сама завела новый, а старый так и остался у нас. И гляди, пригодился!
Я кивнула.
— Вот сдача, — Элли ссыпала монетки на кровать. — И смотри, не бери вина с буфета — я туда тоже опия накапала, чтобы твои вертихвостки спали без задних ног!
Элли терпеть не может других фрейлин. И это не удивительно, если вспомнить, как они грубят, когда она забирает их грязное белье!
— Мы с Мазу подождем тебя у кухни, — продолжала она. — И если луна поднимется, а ты так и не прибежишь, мы сами пойдем взглянем на сэра Джеральда. Он уже у Святого Мартина, в часовне, да, думаю, вряд ли его зароют прежде, чем расследование закончится!
Элли вскочила с кровати, схватила с пола пару смятых ночных сорочек, засунула их к себе в сумку и бросилась в коридор. Я почистила зубы, переоделась в зеленый лиф и юбку для верховой езды и натянула поверх всего этого ночную рубашку. В коридоре послышались голоса леди Сары и Мэри.
Скоро начнутся мои ночные приключения! А сейчас притворюсь-ка я спящей!


 Мы перебрались через мусорные кучи, через обвитые сухими стеблями старые подпорки для бобов, и нашли в стене выбоины, но которым было удобно забираться наверх.
Мазу перекинул через стену веревку, и мы оказались по другую сторону Большого сада.
Двор по эту сторону стены окружали дома, в которых жили юные придворные джентльмены. В кустах ежевики валялись пивные бутылки, сломанные роговые кружки, трубки, столы, разбитая лютня, полдюжины стульев, видимо, поучаствовавших в драке, на гвозде, торчавшем из стены, болтался клок чьей-то нижней юбки.
Мы пробрались через мусор и, продравшись сквозь заросли (Мазу что-то сердито бормотал на своем языке, цепляясь за колючки), оказались на аллее, которая вела к нависавшей в темноте мрачной громаде Вестминстерского Аббатства. Потом, скользнув в калитку, направились к часовне Святой Маргариты, где лежало тело сэра Джеральда.
Мазу бесшумно побежал вперед выяснить, спят ли стражники лорда Уорси.
— Да наверняка! — прошептала шедшая вслед за мной Элли. — Они как раз поджидали лорда Уорси с ужина, когда я предложила сбегать в погреб, наполнить их фляжки. Бренди с опиумом — ну не славный ли напиток?
Элли хихикнула.
Появился Мазу, сверкнув зубами в темноте.
— Спят, как дети!
Мы осторожно пробрались мимо стражников — они так мило прикорнули на скамейке, прислонившись друг к другу, — и открыли тяжелую деревянную дверь в часовню.
Рядом с телом, завернутым в саван, горело шесть толстых черных свечей. Стол был накрыт дорогим полотном. Несомненно, ожидался и искусно сделанный гроб, но пока его не было.
Было очень холодно и страшно. Через старинные витражные окна светила луна, отбрасывая на саван голубые и желтые тени. В часовне стоял ужасный запах.
Элли вздрогнула и перекрестилась, а Мазу стиснул амулет, который он всегда носит на шее, и что-то пробормотал на своем языке.
Я сглотнула, шагнула вперед и с бьющимся сердцем приблизилась к трупу. Вонь и впрямь была ужасная, хуже, чем от ночного горшка. И к ней примешивался еще один запах — неприятный и горький, который бил прямо в ноздри. Странно, но от этого запаха мне захотелось плакать, хотя я не могла понять, почему. Конечно, это грустно, когда кто-нибудь умирает, но нельзя сказать, чтобы я уж очень любила сэра Джеральда!
Он лежал на спине — нож они, конечно, вынули. Я задержала дыхание и откинула саван с его лица.
На веках сэра Джеральда лежали монетки. Я убрала их. Глаза у него были наполовину открыты и напоминали желе. Я поднесла свечу поближе, но никакого отражения убийцы в них не увидела. Надо было еще взглянуть на рану, но мне совершенно не хотелось трогать тело, чтобы не навлечь на себя проклятья.
С одной стороны, дух сэра Джеральда должен бы быть доволен, что мы ищем его убийцу, но с другом — сэр Джеральд и при жизни не был большим добряком, так чего ожидать от привидения? И тут в углах его рта я заметила легкий желтый налет.
Я удивленно заморгала, а сердце мое забилось часто-часто. Такой же желтый налет был на губах у мамы, когда она умерла. Теперь я вспомнила и этот горький запах — так пахло у ее гроба. Это был горетрав.
Я застыла на мгновение, пытаясь разобраться. Безумие, конечно, но что, если сэр Джеральд уже был отравлен горетравом, когда его пырнули ножом? Это вполне объясняет отсутствие крови, не так ли? Рана не кровоточила, потому что он был уже мертв!
Вдруг снаружи послышались шаги и голоса. Мы застыли, уставившись друг на друга. Крыльцо заскрипело, потом раздался чей-то сердитый голос. Дверь распахнулась. Кто-то вошел в часовню.
Меня так затошнило, что чуть не вырвало, а ноги подогнулись, как у тряпичной куклы. Элли прижала руки ко рту. Мазу посерел.
Их здорово выпорют, если обнаружат здесь, особенно Мазу. Господи всемилостивый, да они их обоих запорют до смерти! И уволят с королевской службы! И тогда им придется голодать, что бы там Мазу и не говорил о Парижском Саде. А вот если здесь застанут меня…
— Прячьтесь, — прошептала я. — Я все улажу!
Ребята секунду помешкали, потом шустро скользнули под скамейку. Было слышно, как они там устраивались.
Я осталась там, где и стояла, — рядом с телом сэра Джеральда — и начала хныкать. Обычно мне трудно заплакать (не то, что леди Саре и Мэри, они вечно ревут, когда им что-то нужно!), но как только я представила, что всех нас выпорют, а королева отошлет меня от Двора (что еще хуже), слезы появились сами собой. Я им помогала, шмыгая носом, всхлипывая и больно прищипывая кожу над переносицей.
В часовню вошли стражники во главе с лордом Уорси. Вид у них был очень суровый. Но, как я и надеялась, при виде меня, ревущей над телом сэра Джеральда, они застыли в проходе как вкопанные.
Лорд Уорси приблизился, взволнованно и чуточку недоверчиво бормоча:
— Ну, ну, миледи… Отчего же вы не попросили разрешения попрощаться? И зачем пришли сюда ночью? Было бы более разумно появиться днем, в сопровождении… как вам подобает…
— Я… Я хотела побыть с ним наедине, — я сглотнула, стараясь вложить в эту сцену весь свой актерский талант. — Не хотела, чтобы другие указывали на меня своими носовыми платками…
— Но как вы сюда попали? Вам кто-то помог? — голос лорда Уорси прозвучал недовольно.
— Нет, нет! — воскликнула я, замирая при мысли, что он велит осмотреть часовню. — Я пришла сама, хотя и было очень страшно…
Уставившись на тело сэра Джеральда, лорд Уорси молчал. Я стояла рядом, думая, что он мог бы быть со мной и помягче. Он же мой опекун, в конце концов!
— Идемте, миледи, — сказал он, наконец. — Все это очень неподобающе. Без свиты… Так никуда не годится. Я сам провожу вас во Дворец и препоручу заботам миссис Чемперноун.
«О, нет!» — подумала я, опустила голову и заревела — уже по-настоящему.
— Ну, хватит, хватит! — Лорд Уорси крепко взял меня за руку и повел к противоположному выходу часовни. За ним последовали все его люди, таращась на меня так, точно я вдруг превратилась в медведя. Они, верно, не знали, что и думать!
Мы прошли через церковный двор в ворота, выходившие на Кинг-стрит. Потом через ворота Кинг-стрит вошли на территорию Дворца и направились к Верхней галерее.
Там лорд Уорси что-то сказал одному из стражников, и тот ушел, посмеиваясь.
Мы стояли и ждали. Лорд Уорси теребил в кармане носовой платок, а я переминалась с ноги на ногу. На сердце у меня было ох как нехорошо! Я очень надеялась, что Мазу и Элли удалось скрыться из часовни незамеченными. Мне показалось, когда мы шли через двор, сзади кралась какая-то тень, но уверена я не была.
Кажется, прошла целая вечность, и наконец в дверях появилась миссис Чемперноун, в ночной рубашке и с папильотками в волосах. На ее лице одновременно читались недоумение и возмущение. Возможно, если бы эти эмоции относились к кому-нибудь другому, мне бы стадо смешно…
— Что это значит, леди Грейс? — рявкнула она.
Пробормотав нечто нечленораздельное, я уставилась в землю.
— Почему в такое время вы не в постели? Вас застукали с молодым джентльменом? — миссис Чемперноун бросила взгляд на лорда Уорси.
— Нет! — воскликнула я. — Я просто ходила попрощаться…
— Довольно! — отрезала миссис Чемперноун. — Если я захочу послушать, как вы лжете, я сама вас об этом попрошу!
— Миссис Чемперноун, я лично могу подтвердить, что никакого молодого джентльмена не было! — заявил лорд Уорси. — В часовне была только она!
— Странно, — протянула миссис Чемперноун. Потом повернулась к лорду Уорси:
— Благодарю вас, милорд, за спасение нашей леди Грейс от ее неблагоразумия, — при этих словах миссис Чемперноун презрительно улыбнулась.
Я вздохнула.
Лорд Уорси поклонился и в сопровождении своих людей направился в апартаменты, где жил. Миссис Чемперноун присела перед ним в легком реверансе, а когда он удалился, больно схватила меня за руку и потащила наверх.
— Ну, если только я узнаю, что там был джентльмен… — прошипела она.
— Тогда можете собственноручно меня выпороть! — возмущенно воскликнула я, вне себя от того, что меня приравняли к другим вертихвосткам. — Вы что, считаете меня такой же дурочкой, как леди Сара?
— Леди Сару не приводили из часовни Святой Маргариты в три часа ночи! — мрачно заметила миссис Чемперноун.
— Пока не приводили, — пробормотала я, но к счастью, она меня не услышала. — Может это и глупо, но я хотела… попрощаться с сэром Джеральдом, чтобы рядом не шушукались разные дураки. Я сама перелезла через стену, уверяю вас, и в часовне была одна, никаких молодых джентльменов там не было…(не считая Мазу, но он ведь не джентльмен, так что это абсолютная правда!) —…и я не сделала ничего дурного!
— Вы были не в постели, как положено, а там, где вам быть совершенно не положено! — отрезала миссис Чемперноун, как мне показалось, все же слегка смутившись. — Как вы посмели обмануть доверие королевы, как вы могли шляться, как…
Миссис Чемперноун глубоко вздохнула и, видимо, взяла себя в руки.
— Ну, ладно, хватит кричать, как на базаре!
«Поздно, — злорадно подумала я. — Ты уже весь двор перебудила своими воплями, дракониха старая!»
На площадке Верхней галереи миссис Чемперноун вдруг решила, что отправлять меня спать уже поздно, а вести к королеве еще рано, и закрыла в своей гардеробной комнате.
Там было темно и душно, пахло миссис Чемперноун, розовой и лавандовой водой и очень дорогим жасминовым маслом, которое ей привозят с востока, — от него и гардеробной совершенно нечем было дышать. Наверное, миссис Чемперноун надеялась, что я вся изведусь, ожидая утра. Но я так устала, что уселась на коврик, прислонила голову к стене и уснула.
Вот черт, чернила кончились! Надо пойти взять еще.
Мы перебрались через мусорные кучи, через обвитые сухими стеблями старые подпорки для бобов, и нашли в стене выбоины, но которым было удобно забираться наверх.
Мазу перекинул через стену веревку, и мы оказались по другую сторону Большого сада.
Двор по эту сторону стены окружали дома, в которых жили юные придворные джентльмены. В кустах ежевики валялись пивные бутылки, сломанные роговые кружки, трубки, столы, разбитая лютня, полдюжины стульев, видимо, поучаствовавших в драке, на гвозде, торчавшем из стены, болтался клок чьей-то нижней юбки.
Мы пробрались через мусор и, продравшись сквозь заросли (Мазу что-то сердито бормотал на своем языке, цепляясь за колючки), оказались на аллее, которая вела к нависавшей в темноте мрачной громаде Вестминстерского Аббатства. Потом, скользнув в калитку, направились к часовне Святой Маргариты, где лежало тело сэра Джеральда.
Мазу бесшумно побежал вперед выяснить, спят ли стражники лорда Уорси.
— Да наверняка! — прошептала шедшая вслед за мной Элли. — Они как раз поджидали лорда Уорси с ужина, когда я предложила сбегать в погреб, наполнить их фляжки. Бренди с опиумом — ну не славный ли напиток?
Элли хихикнула.
Появился Мазу, сверкнув зубами в темноте.
— Спят, как дети!
Мы осторожно пробрались мимо стражников — они так мило прикорнули на скамейке, прислонившись друг к другу, — и открыли тяжелую деревянную дверь в часовню.
Рядом с телом, завернутым в саван, горело шесть толстых черных свечей. Стол был накрыт дорогим полотном. Несомненно, ожидался и искусно сделанный гроб, но пока его не было.
Было очень холодно и страшно. Через старинные витражные окна светила луна, отбрасывая на саван голубые и желтые тени. В часовне стоял ужасный запах.
Элли вздрогнула и перекрестилась, а Мазу стиснул амулет, который он всегда носит на шее, и что-то пробормотал на своем языке.
Я сглотнула, шагнула вперед и с бьющимся сердцем приблизилась к трупу. Вонь и впрямь была ужасная, хуже, чем от ночного горшка. И к ней примешивался еще один запах — неприятный и горький, который бил прямо в ноздри. Странно, но от этого запаха мне захотелось плакать, хотя я не могла понять, почему. Конечно, это грустно, когда кто-нибудь умирает, но нельзя сказать, чтобы я уж очень любила сэра Джеральда!
Он лежал на спине — нож они, конечно, вынули. Я задержала дыхание и откинула саван с его лица.
На веках сэра Джеральда лежали монетки. Я убрала их. Глаза у него были наполовину открыты и напоминали желе. Я поднесла свечу поближе, но никакого отражения убийцы в них не увидела. Надо было еще взглянуть на рану, но мне совершенно не хотелось трогать тело, чтобы не навлечь на себя проклятья.
С одной стороны, дух сэра Джеральда должен бы быть доволен, что мы ищем его убийцу, но с другом — сэр Джеральд и при жизни не был большим добряком, так чего ожидать от привидения? И тут в углах его рта я заметила легкий желтый налет.
Я удивленно заморгала, а сердце мое забилось часто-часто. Такой же желтый налет был на губах у мамы, когда она умерла. Теперь я вспомнила и этот горький запах — так пахло у ее гроба. Это был горетрав.
Я застыла на мгновение, пытаясь разобраться. Безумие, конечно, но что, если сэр Джеральд уже был отравлен горетравом, когда его пырнули ножом? Это вполне объясняет отсутствие крови, не так ли? Рана не кровоточила, потому что он был уже мертв!
Вдруг снаружи послышались шаги и голоса. Мы застыли, уставившись друг на друга. Крыльцо заскрипело, потом раздался чей-то сердитый голос. Дверь распахнулась. Кто-то вошел в часовню.
Меня так затошнило, что чуть не вырвало, а ноги подогнулись, как у тряпичной куклы. Элли прижала руки ко рту. Мазу посерел.
Их здорово выпорют, если обнаружат здесь, особенно Мазу. Господи всемилостивый, да они их обоих запорют до смерти! И уволят с королевской службы! И тогда им придется голодать, что бы там Мазу и не говорил о Парижском Саде. А вот если здесь застанут меня…
— Прячьтесь, — прошептала я. — Я все улажу!
Ребята секунду помешкали, потом шустро скользнули под скамейку. Было слышно, как они там устраивались.
Я осталась там, где и стояла, — рядом с телом сэра Джеральда — и начала хныкать. Обычно мне трудно заплакать (не то, что леди Саре и Мэри, они вечно ревут, когда им что-то нужно!), но как только я представила, что всех нас выпорют, а королева отошлет меня от Двора (что еще хуже), слезы появились сами собой. Я им помогала, шмыгая носом, всхлипывая и больно прищипывая кожу над переносицей.
В часовню вошли стражники во главе с лордом Уорси. Вид у них был очень суровый. Но, как я и надеялась, при виде меня, ревущей над телом сэра Джеральда, они застыли в проходе как вкопанные.
Лорд Уорси приблизился, взволнованно и чуточку недоверчиво бормоча:
— Ну, ну, миледи… Отчего же вы не попросили разрешения попрощаться? И зачем пришли сюда ночью? Было бы более разумно появиться днем, в сопровождении… как вам подобает…
— Я… Я хотела побыть с ним наедине, — я сглотнула, стараясь вложить в эту сцену весь свой актерский талант. — Не хотела, чтобы другие указывали на меня своими носовыми платками…
— Но как вы сюда попали? Вам кто-то помог? — голос лорда Уорси прозвучал недовольно.
— Нет, нет! — воскликнула я, замирая при мысли, что он велит осмотреть часовню. — Я пришла сама, хотя и было очень страшно…
Уставившись на тело сэра Джеральда, лорд Уорси молчал. Я стояла рядом, думая, что он мог бы быть со мной и помягче. Он же мой опекун, в конце концов!
— Идемте, миледи, — сказал он, наконец. — Все это очень неподобающе. Без свиты… Так никуда не годится. Я сам провожу вас во Дворец и препоручу заботам миссис Чемперноун.
«О, нет!» — подумала я, опустила голову и заревела — уже по-настоящему.
— Ну, хватит, хватит! — Лорд Уорси крепко взял меня за руку и повел к противоположному выходу часовни. За ним последовали все его люди, таращась на меня так, точно я вдруг превратилась в медведя. Они, верно, не знали, что и думать!
Мы прошли через церковный двор в ворота, выходившие на Кинг-стрит. Потом через ворота Кинг-стрит вошли на территорию Дворца и направились к Верхней галерее.
Там лорд Уорси что-то сказал одному из стражников, и тот ушел, посмеиваясь.
Мы стояли и ждали. Лорд Уорси теребил в кармане носовой платок, а я переминалась с ноги на ногу. На сердце у меня было ох как нехорошо! Я очень надеялась, что Мазу и Элли удалось скрыться из часовни незамеченными. Мне показалось, когда мы шли через двор, сзади кралась какая-то тень, но уверена я не была.
Кажется, прошла целая вечность, и наконец в дверях появилась миссис Чемперноун, в ночной рубашке и с папильотками в волосах. На ее лице одновременно читались недоумение и возмущение. Возможно, если бы эти эмоции относились к кому-нибудь другому, мне бы стадо смешно…
— Что это значит, леди Грейс? — рявкнула она.
Пробормотав нечто нечленораздельное, я уставилась в землю.
— Почему в такое время вы не в постели? Вас застукали с молодым джентльменом? — миссис Чемперноун бросила взгляд на лорда Уорси.
— Нет! — воскликнула я. — Я просто ходила попрощаться…
— Довольно! — отрезала миссис Чемперноун. — Если я захочу послушать, как вы лжете, я сама вас об этом попрошу!
— Миссис Чемперноун, я лично могу подтвердить, что никакого молодого джентльмена не было! — заявил лорд Уорси. — В часовне была только она!
— Странно, — протянула миссис Чемперноун. Потом повернулась к лорду Уорси:
— Благодарю вас, милорд, за спасение нашей леди Грейс от ее неблагоразумия, — при этих словах миссис Чемперноун презрительно улыбнулась.
Я вздохнула.
Лорд Уорси поклонился и в сопровождении своих людей направился в апартаменты, где жил. Миссис Чемперноун присела перед ним в легком реверансе, а когда он удалился, больно схватила меня за руку и потащила наверх.
— Ну, если только я узнаю, что там был джентльмен… — прошипела она.
— Тогда можете собственноручно меня выпороть! — возмущенно воскликнула я, вне себя от того, что меня приравняли к другим вертихвосткам. — Вы что, считаете меня такой же дурочкой, как леди Сара?
— Леди Сару не приводили из часовни Святой Маргариты в три часа ночи! — мрачно заметила миссис Чемперноун.
— Пока не приводили, — пробормотала я, но к счастью, она меня не услышала. — Может это и глупо, но я хотела… попрощаться с сэром Джеральдом, чтобы рядом не шушукались разные дураки. Я сама перелезла через стену, уверяю вас, и в часовне была одна, никаких молодых джентльменов там не было…(не считая Мазу, но он ведь не джентльмен, так что это абсолютная правда!) —…и я не сделала ничего дурного!
— Вы были не в постели, как положено, а там, где вам быть совершенно не положено! — отрезала миссис Чемперноун, как мне показалось, все же слегка смутившись. — Как вы посмели обмануть доверие королевы, как вы могли шляться, как…
Миссис Чемперноун глубоко вздохнула и, видимо, взяла себя в руки.
— Ну, ладно, хватит кричать, как на базаре!
«Поздно, — злорадно подумала я. — Ты уже весь двор перебудила своими воплями, дракониха старая!»
На площадке Верхней галереи миссис Чемперноун вдруг решила, что отправлять меня спать уже поздно, а вести к королеве еще рано, и закрыла в своей гардеробной комнате.
Там было темно и душно, пахло миссис Чемперноун, розовой и лавандовой водой и очень дорогим жасминовым маслом, которое ей привозят с востока, — от него и гардеробной совершенно нечем было дышать. Наверное, миссис Чемперноун надеялась, что я вся изведусь, ожидая утра. Но я так устала, что уселась на коврик, прислонила голову к стене и уснула.
Вот черт, чернила кончились! Надо пойти взять еще.
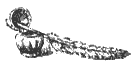



 Я очень тороплюсь, потому что за ужином должна прислуживать Ее Величеству. День сегодня был просто безумный! Мы узнали такое! Не могу поверить, хотя слышала все своими собственными ушами! Этот секрет уж точно надо было записать апельсиновым соком, но все апельсины опять перевели на мармелад.
Мне нужны чернила и новое перо — старое исписалось так, что его больше не заточить!
Вернувшись вечером, леди Сара и Мэри Шелтон немедленно принялись бурчать по поводу разбитых баночек и оторванного полога кровати.
А что мне было делать? Я скучала-скучала, а потом подумала: а нельзя ли пройти по комнате, совсем не спускаясь на пол? Ну и во время эксперимента нечаянно разбила пару леди-Сариных баночек и немножко оторвала полог на кровати Мэри!
Утром за мной прислала королева, чтобы сообщить мне лично, что должна отправить лорда Роберта в тюрьму Флит. Это лучше, чем Тауэр, так что я надеюсь, ему там будет не очень плохо. Еще королева добавила, что я могу покинуть свои покои и продолжить расследование, а вечером она просит меня присутствовать на ужине.
Успокоенная, я вернулась к себе и переоделась в зеленый лиф и юбку для верховой езды, а потом отправилась искать Элли — я припрятала для нее пирожок со свининой от своего обеда.
Миссис Твист, смотрительница прачечной Двора, отправила Элли на задний двор чистить большие кипятильные котлы. Когда я ее нашла, она уже заканчивала.
— А потом у меня будет еще одно дело, — сказала Элли, в один присест прикончив мои пирожок, и высыпая крошки в рот. Утро было морозное, щеки и нос у нее раскраснелись.
— Надо отнести простыни к миссис Твинхоу. Пойдешь со мной?
Официально миссис Твинхоу замужем за главным кастеляном Двора, который отвечает за все столовое и постельное белье. Но вообще-то она повивальная бабка и очень умная женщина. Мне всегда хотелось с нейпоговорить.
— А она, правда, ведьма? — заинтересовано спросила я.
— Какая она ведьма! — усмехнулась Элли. — Она славная и все на свете знает про травы и лекарства. Давай ее спросим, где можно купить горетрав.
А все-таки жаль, что мисс Твинхоу не ведьма — мне всегда хотелось знать, правда ли, что ведьмы умеют летать. Но все равно было интересно с ней познакомиться, так что я отправилась вместе с Элли.
Пожалуй, поначалу миссис Твинхоу меня разочаровала: у нее даже не было бородавок! Обыкновенная кругленькая женщина с улыбчивым лицом, седыми кудряшками под чепцом и с руками, как у моряка.
Она легко взяла у нас корзины с чистым бельем и поставила их на длинные деревянные цилиндры для глажки.
— Миссис Твист велела мне помочь вам, — сказала Элли, кланяясь.
Миссис Твинхоу просияла.
— Помоги, милочка, помоги! Да называй меня миссис Беа. Твинхоу такое неловкое имя, я его и сама с трудом выговариваю. Погладь вот эти простыми, я займусь отпариванием, а подружка твоя пусть сядет да подрубит пару простыней, я их только что перелицевала!
Она вручила мне иголку, наперсток, моток ниток и огромную льняную простыню, обколотую булавками.
Потом они с Элли стали растягивать простыни между цилиндрами и гладить их горячими, прямо с жаровни, утюгами.
Это была тяжелая работа, но Элли справлялась с ней на удивление ловко. Воздух в комнате стал горячим и плотным.
Я сидела у окна и подрубала простыню, стараясь делать это как можно аккуратнее. Вот интересно, как миссис Беа догадалась дать мне именно эту работу? Может, она видела меня у королевы, вот только я ее не помню…
Элли болтала с миссис Беа о травах, а я внимательно слушала.
— Весь мыльник в кухонном садике поела какая-то мошка, — рассказывала Элли. — И теперь придется покупать его в огороде лорда Уорси на Стрэнде!
— Вот незадача, — покачала головой миссис Беа. — Его посадили вместе с чесноком и морковью?
Элли отрицательно покачала головой.
— Нет, новый садовник все сажает рядами и квадратами и никогда не смешивает разные растения на одной грядке!
— Ну и глупо, — пожала плечами миссис Беа. — Чеснок — отличная защита от мошки!
— Миссис Беа, — Элли перешла к самому главному, — леди Грейс хочет спросить вас про горетрав.
Добродушное лицо миссис Беа мгновенно посерьезнело.
— Дрянная это трава, милочка. Горетрав еще никому добра не принес!
Глаза у миссис Беа стали как у королевы — темные, пронзительные, проникающие прямо в душу.
— А почему вас интересует горетрав?
Но тут, видно, она вспомнила про мою маму:
— О, простите, дорогая…
— Миссис Беа, у меня есть причина подозревать, что сэр Джеральд Уорси был им отравлен.
Миссис Беа перестала гладить:
— Вы уверены?
— Да. Я узнала желтый налет на губах и такой горький запах, — ответила я.
— Гм… — Миссис Беа внимательно взглянула на меня, потом на Элли, потом сняла с цилиндров свежевыглаженную простыню, потом вместе с Элли стала аккуратно складывать ее, продолжив:
— Горетрав — трава из того же семейства, что паслен и белладонна, только встречается реже. Высушенный и измельченный, он превращается в безвкусный ядовитый порошок, а если его смешать, например, с вином, желтеет.
— А где его можно достать? — поинтересовалась я.
Задумавшись, миссис Беа налила в кружку эля из стоявшего на столике у двери кувшина и предложила его нам. Элли никогда не отказывается от еды или питья, и я не отказалась, потому что в комнате было очень жарко, и мне захотелось пить.
Эль был хороший, лучше, чем я ожидала, с лимонной цедрой.
— Значит так, — сказала миссис Беа, присаживаясь и разглаживая свой передник. — Я знаю в Лондоне четыре аптеки, где его продают. Он, кстати, очень дорогой, не меньше десяти шиллингов за скрупул!
— А какие это аптеки? — спросила я.
Миссис Беа усмехнулась.
— Не собираетесь же вы разгуливать по лондонским аптекам и расспрашивать хозяев, не покупал ли кто горетрав в последнее время? Не надо, милочка, хотя бы ради вашего будущего мужа!
Я кивнула, соглашаясь.
— Но что же тогда делать?
— Я сама обо всем расспрошу. Мне они скорее расскажут, поскольку знают меня. А потом я сообщу вам.
Она была так добра, что я решилась:
— А еще, миссис Беа, нам очень нужно обойти все персональные апартаменты придворных, не поднимая лишнего шума и посмотреть, нет ли там…
— Горетрава? — Миссис Беа взглянула на меня изучающе. — Гм… А как там простыня?
— Что? Ах, да! Я почти закончила. Это ведь просто!
Миссис Беа взяла простыню, критически оглядела ее и одобрительно кивнула.
— Ну что ж, пока отдохните, а я скажу миссис Твист, что послала вас собирать наволочки и простыни!
Она покопалась в ящике.
— Возьмите-ка, — она протянула мне передник и чепец. — Так-то лучше будет, дорогая.
Элли улыбнулась и сделала реверанс, и я тоже сделала реверанс, потому что миссис Беа была очень добра, а ведь она вовсе не обязана нам помогать, разве не так?
Мы взяли холщовый мешок и побежали вниз по коридору. Я была рада, что надела чепец, скрывавший мое лицо — а вдруг встретится кто из знакомых?
Элли объяснила, что всегда собирает грязное белье с кем-нибудь в паре: отчасти, чтобы в покоях ничего не пропало, а отчасти, чтобы никто ее не обидел. Миссис Беа и мистер Твист не очень-то доверяли джентльменам!
Я очень тороплюсь, потому что за ужином должна прислуживать Ее Величеству. День сегодня был просто безумный! Мы узнали такое! Не могу поверить, хотя слышала все своими собственными ушами! Этот секрет уж точно надо было записать апельсиновым соком, но все апельсины опять перевели на мармелад.
Мне нужны чернила и новое перо — старое исписалось так, что его больше не заточить!
Вернувшись вечером, леди Сара и Мэри Шелтон немедленно принялись бурчать по поводу разбитых баночек и оторванного полога кровати.
А что мне было делать? Я скучала-скучала, а потом подумала: а нельзя ли пройти по комнате, совсем не спускаясь на пол? Ну и во время эксперимента нечаянно разбила пару леди-Сариных баночек и немножко оторвала полог на кровати Мэри!
Утром за мной прислала королева, чтобы сообщить мне лично, что должна отправить лорда Роберта в тюрьму Флит. Это лучше, чем Тауэр, так что я надеюсь, ему там будет не очень плохо. Еще королева добавила, что я могу покинуть свои покои и продолжить расследование, а вечером она просит меня присутствовать на ужине.
Успокоенная, я вернулась к себе и переоделась в зеленый лиф и юбку для верховой езды, а потом отправилась искать Элли — я припрятала для нее пирожок со свининой от своего обеда.
Миссис Твист, смотрительница прачечной Двора, отправила Элли на задний двор чистить большие кипятильные котлы. Когда я ее нашла, она уже заканчивала.
— А потом у меня будет еще одно дело, — сказала Элли, в один присест прикончив мои пирожок, и высыпая крошки в рот. Утро было морозное, щеки и нос у нее раскраснелись.
— Надо отнести простыни к миссис Твинхоу. Пойдешь со мной?
Официально миссис Твинхоу замужем за главным кастеляном Двора, который отвечает за все столовое и постельное белье. Но вообще-то она повивальная бабка и очень умная женщина. Мне всегда хотелось с нейпоговорить.
— А она, правда, ведьма? — заинтересовано спросила я.
— Какая она ведьма! — усмехнулась Элли. — Она славная и все на свете знает про травы и лекарства. Давай ее спросим, где можно купить горетрав.
А все-таки жаль, что мисс Твинхоу не ведьма — мне всегда хотелось знать, правда ли, что ведьмы умеют летать. Но все равно было интересно с ней познакомиться, так что я отправилась вместе с Элли.
Пожалуй, поначалу миссис Твинхоу меня разочаровала: у нее даже не было бородавок! Обыкновенная кругленькая женщина с улыбчивым лицом, седыми кудряшками под чепцом и с руками, как у моряка.
Она легко взяла у нас корзины с чистым бельем и поставила их на длинные деревянные цилиндры для глажки.
— Миссис Твист велела мне помочь вам, — сказала Элли, кланяясь.
Миссис Твинхоу просияла.
— Помоги, милочка, помоги! Да называй меня миссис Беа. Твинхоу такое неловкое имя, я его и сама с трудом выговариваю. Погладь вот эти простыми, я займусь отпариванием, а подружка твоя пусть сядет да подрубит пару простыней, я их только что перелицевала!
Она вручила мне иголку, наперсток, моток ниток и огромную льняную простыню, обколотую булавками.
Потом они с Элли стали растягивать простыни между цилиндрами и гладить их горячими, прямо с жаровни, утюгами.
Это была тяжелая работа, но Элли справлялась с ней на удивление ловко. Воздух в комнате стал горячим и плотным.
Я сидела у окна и подрубала простыню, стараясь делать это как можно аккуратнее. Вот интересно, как миссис Беа догадалась дать мне именно эту работу? Может, она видела меня у королевы, вот только я ее не помню…
Элли болтала с миссис Беа о травах, а я внимательно слушала.
— Весь мыльник в кухонном садике поела какая-то мошка, — рассказывала Элли. — И теперь придется покупать его в огороде лорда Уорси на Стрэнде!
— Вот незадача, — покачала головой миссис Беа. — Его посадили вместе с чесноком и морковью?
Элли отрицательно покачала головой.
— Нет, новый садовник все сажает рядами и квадратами и никогда не смешивает разные растения на одной грядке!
— Ну и глупо, — пожала плечами миссис Беа. — Чеснок — отличная защита от мошки!
— Миссис Беа, — Элли перешла к самому главному, — леди Грейс хочет спросить вас про горетрав.
Добродушное лицо миссис Беа мгновенно посерьезнело.
— Дрянная это трава, милочка. Горетрав еще никому добра не принес!
Глаза у миссис Беа стали как у королевы — темные, пронзительные, проникающие прямо в душу.
— А почему вас интересует горетрав?
Но тут, видно, она вспомнила про мою маму:
— О, простите, дорогая…
— Миссис Беа, у меня есть причина подозревать, что сэр Джеральд Уорси был им отравлен.
Миссис Беа перестала гладить:
— Вы уверены?
— Да. Я узнала желтый налет на губах и такой горький запах, — ответила я.
— Гм… — Миссис Беа внимательно взглянула на меня, потом на Элли, потом сняла с цилиндров свежевыглаженную простыню, потом вместе с Элли стала аккуратно складывать ее, продолжив:
— Горетрав — трава из того же семейства, что паслен и белладонна, только встречается реже. Высушенный и измельченный, он превращается в безвкусный ядовитый порошок, а если его смешать, например, с вином, желтеет.
— А где его можно достать? — поинтересовалась я.
Задумавшись, миссис Беа налила в кружку эля из стоявшего на столике у двери кувшина и предложила его нам. Элли никогда не отказывается от еды или питья, и я не отказалась, потому что в комнате было очень жарко, и мне захотелось пить.
Эль был хороший, лучше, чем я ожидала, с лимонной цедрой.
— Значит так, — сказала миссис Беа, присаживаясь и разглаживая свой передник. — Я знаю в Лондоне четыре аптеки, где его продают. Он, кстати, очень дорогой, не меньше десяти шиллингов за скрупул!
— А какие это аптеки? — спросила я.
Миссис Беа усмехнулась.
— Не собираетесь же вы разгуливать по лондонским аптекам и расспрашивать хозяев, не покупал ли кто горетрав в последнее время? Не надо, милочка, хотя бы ради вашего будущего мужа!
Я кивнула, соглашаясь.
— Но что же тогда делать?
— Я сама обо всем расспрошу. Мне они скорее расскажут, поскольку знают меня. А потом я сообщу вам.
Она была так добра, что я решилась:
— А еще, миссис Беа, нам очень нужно обойти все персональные апартаменты придворных, не поднимая лишнего шума и посмотреть, нет ли там…
— Горетрава? — Миссис Беа взглянула на меня изучающе. — Гм… А как там простыня?
— Что? Ах, да! Я почти закончила. Это ведь просто!
Миссис Беа взяла простыню, критически оглядела ее и одобрительно кивнула.
— Ну что ж, пока отдохните, а я скажу миссис Твист, что послала вас собирать наволочки и простыни!
Она покопалась в ящике.
— Возьмите-ка, — она протянула мне передник и чепец. — Так-то лучше будет, дорогая.
Элли улыбнулась и сделала реверанс, и я тоже сделала реверанс, потому что миссис Беа была очень добра, а ведь она вовсе не обязана нам помогать, разве не так?
Мы взяли холщовый мешок и побежали вниз по коридору. Я была рада, что надела чепец, скрывавший мое лицо — а вдруг встретится кто из знакомых?
Элли объяснила, что всегда собирает грязное белье с кем-нибудь в паре: отчасти, чтобы в покоях ничего не пропало, а отчасти, чтобы никто ее не обидел. Миссис Беа и мистер Твист не очень-то доверяли джентльменам!
 Он присел на кровать и с помощью Стивенса переобулся в сапоги для верховой езды.
— Но для начала надо сходить на конюшню, а то кто-нибудь решит, что мой помешанный на лошадях брат забыл про своих чудовищ. А потом я навещу его… и поговорю… Так ему и передай!
— Да, сэр, — Стивенс уже был возле двери. — А могу я… поторопить его… так, совсем немножко?
— Пожалуй. Но не наноси ему серьезных повреждений, — тем же отвратительным холодным голосом ответил Гектор Эймсбери.
— Конечно, сэр!
Все еще прижимая руку ко рту, чтобы не закашляться, я молилась, чтобы Гектор поскорее ушел, и можно было выбраться из этих проклятых чулок! На Элли запах, похоже, не действовал, но ее всю трясло.
Ничего себе брат этот Гектор Эймсбери! Держит сэра Чарльза в заточении и морит его голодом! Ужасно! Особенно учитывая то, как сэр Чарльз любит поесть…
Как только за мошенниками закрылась дверь, я вынырнула из-под кровати. Элли последовала за мной, все еще дрожа.
— Господи, помоги нам! — воскликнула я. — Наверное, этот тип и убил сэра Джеральда!
— Уж наверняка! Если он этакое творит со своим родным братом… — Элли покачала головой. — А бедный сэр Чарльз так любит покушать!
— Вот поэтому Гектор и не понравился Ласточке, — задумчиво произнесла я. — Ласточка — умное животное, она сразу поняла, что это не сэр Чарльз. Потому-то он не смог спеть на балу «Зеленые рукава»! Но зачем же ему так поступать с собственным братом?
Мы побежали обратно в Длинную галерею, чтобы все рассказать Мазу. Он все так же кувыркался с рук на ноги и обратно, успевая при этом делать сальто в воздухе.
Правда, выслушав нашу историю, Мазу кувыркаться перестал.
— Мы должны спасти сэра Чарльза! — заявила я решительно.
Ребята уставились на меня:
— Но как? — спросила Элли.
— Ясно, как! Найти, где его прячут, и освободить! — сказала я. — Надо проследить за Гектором Эймсбери и выяснить, куда он ходит!
Мазу взглянул на нас, потом словно в какой-то пьесе обвел взглядом зал и ткнул себя пальцем в грудь.
Я нежно ему улыбнулась и кивнула.
Мазу надел туфли, засунул ноги в деревянные кломпы и направился к двери.
— Он сейчас в конюшне, — уточнила я. — А потом собирается навестить брата.
Мазу кивнул и сбежал вниз по лестнице. Потом вдруг вернулся и спросил:
— А если он возьмет лодку?
Я покопалась в кармане юбки и протянула Мазу несколько пенсов.
— А если он тебя заметит, сделай вид, что идешь за ним, потому что ищешь работу, — предложила я.
Мазу ухмыльнулся и побежал вниз.
Мы с Элли вернулись в апартаменты сэра Чарльза и обследовали их как положено, от угла до угла. И ничего не обнаружили. Ни крошки порошка какого бы то ни было цвета, не говоря уж о желтом, и ни пятнышка.
Элли подобрала две грязные рубашки, и мы побрели к миссис Беа, которая забрала все наши трофеи, осмотрела их и велела Элли вернуться к своей работе в прачечной.
Потом миссис Беа внимательно взглянула на меня:
— Ну, что, нашли что-нибудь интересное? — спросила она.
Я хотела было рассказать ей про сэра Чарльза и Гектора, но не решилась, опасаясь, что она всё передаст миссис Чемперноун. Стараясь не показать, что нервничаю, я отрицательно покачала головой.
— Горетрава нигде не было, — объявила я, изобразив разочарование (и кажется, мне это удалось!).
— Гм-м… Зайдите-ка ко мне завтра, дорогая. Может, я сообщу вам, кто из аптекарей недавно его продавал. Хотя имейте в виду, они могут запамятовать, а могут и нарочно промолчать, если за молчание было заплачено! Но для вас я постараюсь. Да и жаль будет, если лорд Роберт расстанется с головой ни за что, ни про что!
— А его разве не повесят? — спросила стоявшая в дверях Элли (Ну и кошмарный вопрос! Уж чего-чего, а сплетню она никогда не пропустит!) — А я думала, убийц вешают!
— Верно, но лорд Роберт благородного рода, так что он может просить о снисхождении, то есть чтобы ему отрубили голову, — объяснила миссис Беа.
«Ну и снисхождение! — подумала я. — Но до чего милая эта миссис Беа, что нам помогает!» Видно, я произнесла это вслух, потому что миссис Беа так расхохоталась, что даже щеки у нее затряслись.
— Господь с вами, леди Грейс, — сказала она, — неужто я буду желать смерти тому, кто должен мне столько денег!?
— Так он и вам должен?
— А как же! За три пузырька мази от бородавок, да за заговор от заикания, да еще за один — на удачу в картах, но за этот я денег не возьму, он, похоже, не действует!
— Лорд Роберт, кажется, должен всем, — вздохнула я. — Вот поэтому он и хотел на мне жениться…
— Ну конечно же, милочка, а ты что же, думала, что он в тебя влюблен? Ты сама-то, надеюсь, в него не влюбилась?
— Да нет, — я отрицательно покачала головой. — Он ничего такого не сделал, за что я могла его полюбить, он и двух слов связать не может! А потом, влюбляться — это недостойно, это занятие только для мужчин!
Миссис Беа хихикнула.
— Это верно! Такой благородной леди, как вы, не пристало влюбляться, и я очень рада слышать, что голова у вас крепко сидит на плечах!
— Не то, что у лорда Роберта! — вставила Элли и тоже хихикнула.
Вернув миссис Беа ее чепец и передник, я направилась к себе.
Перед дверью в наши покои для меня был оставлен ужин: белые хлебцы, солонина, тушеные овощи и твердый сыр с протертыми корнями синеголовника, предохраняющими от цинги. Я с аппетитом проглотила все, что мне принесли, и теперь сижу и пишу дневник. Но кто-то подошел к двери…
Он присел на кровать и с помощью Стивенса переобулся в сапоги для верховой езды.
— Но для начала надо сходить на конюшню, а то кто-нибудь решит, что мой помешанный на лошадях брат забыл про своих чудовищ. А потом я навещу его… и поговорю… Так ему и передай!
— Да, сэр, — Стивенс уже был возле двери. — А могу я… поторопить его… так, совсем немножко?
— Пожалуй. Но не наноси ему серьезных повреждений, — тем же отвратительным холодным голосом ответил Гектор Эймсбери.
— Конечно, сэр!
Все еще прижимая руку ко рту, чтобы не закашляться, я молилась, чтобы Гектор поскорее ушел, и можно было выбраться из этих проклятых чулок! На Элли запах, похоже, не действовал, но ее всю трясло.
Ничего себе брат этот Гектор Эймсбери! Держит сэра Чарльза в заточении и морит его голодом! Ужасно! Особенно учитывая то, как сэр Чарльз любит поесть…
Как только за мошенниками закрылась дверь, я вынырнула из-под кровати. Элли последовала за мной, все еще дрожа.
— Господи, помоги нам! — воскликнула я. — Наверное, этот тип и убил сэра Джеральда!
— Уж наверняка! Если он этакое творит со своим родным братом… — Элли покачала головой. — А бедный сэр Чарльз так любит покушать!
— Вот поэтому Гектор и не понравился Ласточке, — задумчиво произнесла я. — Ласточка — умное животное, она сразу поняла, что это не сэр Чарльз. Потому-то он не смог спеть на балу «Зеленые рукава»! Но зачем же ему так поступать с собственным братом?
Мы побежали обратно в Длинную галерею, чтобы все рассказать Мазу. Он все так же кувыркался с рук на ноги и обратно, успевая при этом делать сальто в воздухе.
Правда, выслушав нашу историю, Мазу кувыркаться перестал.
— Мы должны спасти сэра Чарльза! — заявила я решительно.
Ребята уставились на меня:
— Но как? — спросила Элли.
— Ясно, как! Найти, где его прячут, и освободить! — сказала я. — Надо проследить за Гектором Эймсбери и выяснить, куда он ходит!
Мазу взглянул на нас, потом словно в какой-то пьесе обвел взглядом зал и ткнул себя пальцем в грудь.
Я нежно ему улыбнулась и кивнула.
Мазу надел туфли, засунул ноги в деревянные кломпы и направился к двери.
— Он сейчас в конюшне, — уточнила я. — А потом собирается навестить брата.
Мазу кивнул и сбежал вниз по лестнице. Потом вдруг вернулся и спросил:
— А если он возьмет лодку?
Я покопалась в кармане юбки и протянула Мазу несколько пенсов.
— А если он тебя заметит, сделай вид, что идешь за ним, потому что ищешь работу, — предложила я.
Мазу ухмыльнулся и побежал вниз.
Мы с Элли вернулись в апартаменты сэра Чарльза и обследовали их как положено, от угла до угла. И ничего не обнаружили. Ни крошки порошка какого бы то ни было цвета, не говоря уж о желтом, и ни пятнышка.
Элли подобрала две грязные рубашки, и мы побрели к миссис Беа, которая забрала все наши трофеи, осмотрела их и велела Элли вернуться к своей работе в прачечной.
Потом миссис Беа внимательно взглянула на меня:
— Ну, что, нашли что-нибудь интересное? — спросила она.
Я хотела было рассказать ей про сэра Чарльза и Гектора, но не решилась, опасаясь, что она всё передаст миссис Чемперноун. Стараясь не показать, что нервничаю, я отрицательно покачала головой.
— Горетрава нигде не было, — объявила я, изобразив разочарование (и кажется, мне это удалось!).
— Гм-м… Зайдите-ка ко мне завтра, дорогая. Может, я сообщу вам, кто из аптекарей недавно его продавал. Хотя имейте в виду, они могут запамятовать, а могут и нарочно промолчать, если за молчание было заплачено! Но для вас я постараюсь. Да и жаль будет, если лорд Роберт расстанется с головой ни за что, ни про что!
— А его разве не повесят? — спросила стоявшая в дверях Элли (Ну и кошмарный вопрос! Уж чего-чего, а сплетню она никогда не пропустит!) — А я думала, убийц вешают!
— Верно, но лорд Роберт благородного рода, так что он может просить о снисхождении, то есть чтобы ему отрубили голову, — объяснила миссис Беа.
«Ну и снисхождение! — подумала я. — Но до чего милая эта миссис Беа, что нам помогает!» Видно, я произнесла это вслух, потому что миссис Беа так расхохоталась, что даже щеки у нее затряслись.
— Господь с вами, леди Грейс, — сказала она, — неужто я буду желать смерти тому, кто должен мне столько денег!?
— Так он и вам должен?
— А как же! За три пузырька мази от бородавок, да за заговор от заикания, да еще за один — на удачу в картах, но за этот я денег не возьму, он, похоже, не действует!
— Лорд Роберт, кажется, должен всем, — вздохнула я. — Вот поэтому он и хотел на мне жениться…
— Ну конечно же, милочка, а ты что же, думала, что он в тебя влюблен? Ты сама-то, надеюсь, в него не влюбилась?
— Да нет, — я отрицательно покачала головой. — Он ничего такого не сделал, за что я могла его полюбить, он и двух слов связать не может! А потом, влюбляться — это недостойно, это занятие только для мужчин!
Миссис Беа хихикнула.
— Это верно! Такой благородной леди, как вы, не пристало влюбляться, и я очень рада слышать, что голова у вас крепко сидит на плечах!
— Не то, что у лорда Роберта! — вставила Элли и тоже хихикнула.
Вернув миссис Беа ее чепец и передник, я направилась к себе.
Перед дверью в наши покои для меня был оставлен ужин: белые хлебцы, солонина, тушеные овощи и твердый сыр с протертыми корнями синеголовника, предохраняющими от цинги. Я с аппетитом проглотила все, что мне принесли, и теперь сижу и пишу дневник. Но кто-то подошел к двери…


 — Лезьте сюда, леди Грейс, — негромко сказал он, глядя на меня сверху вниз.
Я совершенно не знала, как это делается! Тогда Мазу велел мне обмотать веревку вокруг талии и подтягиваться на руках, упираясь пальцами ног в уступы на стене.
Эта стена была такая скользкая! Дважды я чуть не свалилась в воду, но все-таки умудрилась влезть на выступ и сгруппироваться там. Сердце у меня билось бам-та-да-бам! — как барабан во время танцев.
Мазу перекинул веревку в комнату и спрыгнул вниз, я за ним. Внутри стоял отвратительный запах сырости и неопорожненного ночного горшка, а на соломе в самом углу, лежал, завернувшись в плащ, крупный мужчина.
Я подошла и тронула его за плечо. Он дернулся и вскочил, выставив кулаки. Я попятилась.
— Кто? Что? — прорычал он.
— Сэр Чарльз? — неуверенно спросила я.
Мазу в это время возился с огнивом. Когда он зажег свечу, у меня не осталось и сомнений — это действительно был сэр Чарльз, хотя выглядел он ужасно! Борода свалялась, волосы торчат в разные стороны. Он был без камзола, кутался в плащ, и вдобавок под глазом у него был синяк.
— О небо, леди Грейс! Господи всемилостивый! — воскликнул настоящий сэр Чарльз. И вдруг он недоверчиво сузил глаза. — Вас привел мой брат?
— Нет, нет! — я даже обиделась. — Я не знаю, что он за брат, но мы пробрались сюда, чтобы вас спасти!
Я объяснила ему, что мы разузнали и как здесь оказались. Сэр Чарльз, не веря своим ушам, только качал головой.
Мазу в это время сиял и разворачивал то, что было у него на спине. Потом поклонился сэру Чарльзу.
— Сэр, боюсь, окно для вас будет узковато, но у меня есть вот что! — Он вручил сэру Чарльзу острый стилет.
Сэр Чарльз схватил его, попробовал лезвие, затем отрицательно покачал головой.
— Я не смогу. Вот, — он приподнял ногу, и мы увидели у него на щиколотке кольцо, цепь от которого была вмурована в стену.
Мазу снова улыбнулся и достал небольшой футляр. Внутри были разные крючки и напильники. Он принялся что-то делать с кольцом на ноге сэра Чарльзе, а я в это время стояла у двери и прислушивалась, не идет ли стражник. Несколько царапающих звуков, скрежет напильника, щелчок — и сэр Чарльз вскочил на ноги со стилетом в руке. Несмотря на свою полноту и возраст, выглядел ом решительно и грозно.
— Теперь молитесь и полезайте обратно, — приказал он нам.
— Но сэр Чарльз, мы же можем вам помочь… — начала я.
— Леди Грейс, это зрелище не для вас! Встретимся у сходней, — решительно повторил сэр Чарльз.
Мазу почтительно поклонился ему, держа веревку, чтобы я могла подняться и спуститься — это было еще труднее, чем в прошлый раз, потому что ладони у меня горели.
Мы спрыгнули в лодку и стали ждать.
Вдруг до нас донесся звук глухих ударов в дверь и крик сэра Чарльза:
— На помощь! Помогите! Я задыхаюсь…
И хотя прозвучало это не очень правдоподобно, мы услышали звук открываемой двери и голос Стивенса:
— Тебе что, мало? Ах ты…
Последовал удар, какая-то возня, отвратительный хруст, короткий вскрик — и тишина. Через несколько минут мы услышали, как сэр Чарльз, тяжело дыша, спускается по сходням и увидели его мощный силуэт.
Он осторожно влез в лодку, которая осела почти по самые борта, и сполоснул в воде стилет и руки. Потом протянул оружие Мазу, но тот покачал головой. Все это происходило в полной тишине. Правду сказать, меня слегка подташнивало.
Керси медленно повел лодку назад, к Уайтхоллу, по поскольку теперь мы плыли против течения, путь должен был занять больше времени.
— Что с вами случилось, сэр Чарльз? — спросила я, чтобы не думать о своем бунтующем желудке и темной воде, подступавшей к самому борту лодки.
Сэр Чарльз повернулся ко мне.
— Миледи, все, что я помню — в день Святого Валентина после нашей прогулки я лег вздремнуть, а очнулся в этом отвратительном месте с кольцом на щиколотке. Я едва мог поверить в реальность происходящего, когда появился мой брат-близнец и стал выпытывать у меня, где я храню бумаги на дом и как веду свои дела на Королевской бирже.
Сэр Чарльз стер пот со лба: несмотря на холод и сырость, его трясло, как в лихорадке.
— Мой брат-близнец Гектор всегда ненавидел меня, хотя я никогда не отказывал ему в деньгах, сколько бы он ни попросил. Я думал, он во Франции сражается с папистами. Потом я получил известие о его смерти, помните, я вам рассказывал. И вдруг он здесь, угрожает мне голодом и даже хуже, если я не выполню его требований. Конечно, я не пошел на это — узнав все, что нужно, он тут же убил бы меня, это ясно как день! И тогда он прислал своего прихвостня избивать меня и запугивать…
— Что вы сделали со Стивенсом? — спросила я.
Сэр Чарльз отвел глаза.
— Я воздал за нанесенные мне побои и унижение, как того требуют правила мести. Он мертв.
— О Боже! — вот и все, что я смогла сказать.
Трудно было представить, что кругленький, добродушный сэр Чарльз, который учил меня ездить верхом, распевая «Зеленые рукава», убил кого-то своими собственными руками. Даже если на то была веская причина.
— Правильно, — сказала Элли. — Так ему и надо!
Я подняла голову к небу и увидела, что уже светает. Сердце у меня ушло в пятки. Сэра Чарльза мы спасли, но — ох, что теперь будет!
Сэр Чарльз заметил выражение моего лица и сказал очень мягко:
— Не бойтесь, леди Грейс. Ее Величество будет вами довольна. Я поговорю с ней и всё улажу.
И лицо его снова закаменело.
Больше никто из нас не проронил ни слова до самого Уайтхолла.
Когда мы поднялись по ступеням пристани, нас встретило крайне изумленное лицо дворцового стражника. Он преградил нам дорогу.
Керси, высадив нас на берег, быстро погреб к тому причалу, что у кухни.
Я узнала стражника, иногда сопровождавшего королеву.
— Доброе утро, Митчелл, — сказала я. — Не пошлешь ли ты к Ее Величеству сказать, что я спасла из заточения сэра Чарльза Эймсбери, похищенного его собственным братом, и привезла сюда?
Я очень старалась, чтобы моя просьба прозвучала так же властно и убедительно, как у королевы, хотя мой старый и грязный наряд вряд ли тому способствовал!
Вот что значит «не буди лиха, пока оно тихо»! Поднялась жуткая суматоха.
Королеву разбудили, и ей пришлось готовиться к аудиенции. Через какое-то время нас всех проводили в приемный зал, где на троне сидела совершенно разъяренная королева, а рядом с ней стоял лорд Уорси.
Из-за возвышения за троном выглядывали леди Сара и Мэри, и видно было, что они сгорают от любопытства. Наверно, их вызвали подержать шлейф Ее Величества, а потом они притворились, что очень заняты вышиванием!
Королева даже не взглянула на меня. Я надеялась только, что ее ярость показная, для соблюдения приличий. Если она и в самом деле устала от моих похождений — ох, и худо мне придется!
Сэр Чарльз выступил вперед, опустился перед королевой на колени и рассказал Ее Величеству все то, что рассказывал нам в лодке. Королева слушала молча. Потом она послала за человеком, называвшим себя его именем.
Вошел Гектор Эймсбери, нервно покусывая ус.
Сэр Чарльз шагнул к нему, положив руку на стилет. На первый взгляд братья были похожи как две капли воды, но когда они встали рядом, я заметила, что Гектор выше на пару дюймов, кроме того, сэр Чарльз был полуодет и неприбран.
— Я вижу, мой бедный безумный братец сбежал, — презрительно заметил поддельный сэр Чарльз. — Бедняга думает, что он и в самом деле я! А он убедителен, клянусь!
— Как ты мог, Гектор? — мрачно спросил настоящий сэр Чарльз. — Я давал тебе деньги, я помог тебе отправиться во Францию, и как ты отплатил мне?
Гектор пожал плечами:
— Он не в себе, Ваше Величество, это ясно как день! Неудивительно, что ему удалось одурачить эту юную фрейлину, леди Грейс.
Королева перевела взгляд с одного сэра Чарльза на другого, потом нахмурилась.
— Ну и как же тут разобраться, господа? — спросила она.
Я так разволновалась, что даже забыла встать на колени.
— Ваши Величество! Я знаю, как!
После моих слов в зале повисла нехорошая тишина.
— Ну? — осведомилась королева, не очень-то ободряюще.
— Надо спросить у лучшего друга сэра Чарльза.
— Лезьте сюда, леди Грейс, — негромко сказал он, глядя на меня сверху вниз.
Я совершенно не знала, как это делается! Тогда Мазу велел мне обмотать веревку вокруг талии и подтягиваться на руках, упираясь пальцами ног в уступы на стене.
Эта стена была такая скользкая! Дважды я чуть не свалилась в воду, но все-таки умудрилась влезть на выступ и сгруппироваться там. Сердце у меня билось бам-та-да-бам! — как барабан во время танцев.
Мазу перекинул веревку в комнату и спрыгнул вниз, я за ним. Внутри стоял отвратительный запах сырости и неопорожненного ночного горшка, а на соломе в самом углу, лежал, завернувшись в плащ, крупный мужчина.
Я подошла и тронула его за плечо. Он дернулся и вскочил, выставив кулаки. Я попятилась.
— Кто? Что? — прорычал он.
— Сэр Чарльз? — неуверенно спросила я.
Мазу в это время возился с огнивом. Когда он зажег свечу, у меня не осталось и сомнений — это действительно был сэр Чарльз, хотя выглядел он ужасно! Борода свалялась, волосы торчат в разные стороны. Он был без камзола, кутался в плащ, и вдобавок под глазом у него был синяк.
— О небо, леди Грейс! Господи всемилостивый! — воскликнул настоящий сэр Чарльз. И вдруг он недоверчиво сузил глаза. — Вас привел мой брат?
— Нет, нет! — я даже обиделась. — Я не знаю, что он за брат, но мы пробрались сюда, чтобы вас спасти!
Я объяснила ему, что мы разузнали и как здесь оказались. Сэр Чарльз, не веря своим ушам, только качал головой.
Мазу в это время сиял и разворачивал то, что было у него на спине. Потом поклонился сэру Чарльзу.
— Сэр, боюсь, окно для вас будет узковато, но у меня есть вот что! — Он вручил сэру Чарльзу острый стилет.
Сэр Чарльз схватил его, попробовал лезвие, затем отрицательно покачал головой.
— Я не смогу. Вот, — он приподнял ногу, и мы увидели у него на щиколотке кольцо, цепь от которого была вмурована в стену.
Мазу снова улыбнулся и достал небольшой футляр. Внутри были разные крючки и напильники. Он принялся что-то делать с кольцом на ноге сэра Чарльзе, а я в это время стояла у двери и прислушивалась, не идет ли стражник. Несколько царапающих звуков, скрежет напильника, щелчок — и сэр Чарльз вскочил на ноги со стилетом в руке. Несмотря на свою полноту и возраст, выглядел ом решительно и грозно.
— Теперь молитесь и полезайте обратно, — приказал он нам.
— Но сэр Чарльз, мы же можем вам помочь… — начала я.
— Леди Грейс, это зрелище не для вас! Встретимся у сходней, — решительно повторил сэр Чарльз.
Мазу почтительно поклонился ему, держа веревку, чтобы я могла подняться и спуститься — это было еще труднее, чем в прошлый раз, потому что ладони у меня горели.
Мы спрыгнули в лодку и стали ждать.
Вдруг до нас донесся звук глухих ударов в дверь и крик сэра Чарльза:
— На помощь! Помогите! Я задыхаюсь…
И хотя прозвучало это не очень правдоподобно, мы услышали звук открываемой двери и голос Стивенса:
— Тебе что, мало? Ах ты…
Последовал удар, какая-то возня, отвратительный хруст, короткий вскрик — и тишина. Через несколько минут мы услышали, как сэр Чарльз, тяжело дыша, спускается по сходням и увидели его мощный силуэт.
Он осторожно влез в лодку, которая осела почти по самые борта, и сполоснул в воде стилет и руки. Потом протянул оружие Мазу, но тот покачал головой. Все это происходило в полной тишине. Правду сказать, меня слегка подташнивало.
Керси медленно повел лодку назад, к Уайтхоллу, по поскольку теперь мы плыли против течения, путь должен был занять больше времени.
— Что с вами случилось, сэр Чарльз? — спросила я, чтобы не думать о своем бунтующем желудке и темной воде, подступавшей к самому борту лодки.
Сэр Чарльз повернулся ко мне.
— Миледи, все, что я помню — в день Святого Валентина после нашей прогулки я лег вздремнуть, а очнулся в этом отвратительном месте с кольцом на щиколотке. Я едва мог поверить в реальность происходящего, когда появился мой брат-близнец и стал выпытывать у меня, где я храню бумаги на дом и как веду свои дела на Королевской бирже.
Сэр Чарльз стер пот со лба: несмотря на холод и сырость, его трясло, как в лихорадке.
— Мой брат-близнец Гектор всегда ненавидел меня, хотя я никогда не отказывал ему в деньгах, сколько бы он ни попросил. Я думал, он во Франции сражается с папистами. Потом я получил известие о его смерти, помните, я вам рассказывал. И вдруг он здесь, угрожает мне голодом и даже хуже, если я не выполню его требований. Конечно, я не пошел на это — узнав все, что нужно, он тут же убил бы меня, это ясно как день! И тогда он прислал своего прихвостня избивать меня и запугивать…
— Что вы сделали со Стивенсом? — спросила я.
Сэр Чарльз отвел глаза.
— Я воздал за нанесенные мне побои и унижение, как того требуют правила мести. Он мертв.
— О Боже! — вот и все, что я смогла сказать.
Трудно было представить, что кругленький, добродушный сэр Чарльз, который учил меня ездить верхом, распевая «Зеленые рукава», убил кого-то своими собственными руками. Даже если на то была веская причина.
— Правильно, — сказала Элли. — Так ему и надо!
Я подняла голову к небу и увидела, что уже светает. Сердце у меня ушло в пятки. Сэра Чарльза мы спасли, но — ох, что теперь будет!
Сэр Чарльз заметил выражение моего лица и сказал очень мягко:
— Не бойтесь, леди Грейс. Ее Величество будет вами довольна. Я поговорю с ней и всё улажу.
И лицо его снова закаменело.
Больше никто из нас не проронил ни слова до самого Уайтхолла.
Когда мы поднялись по ступеням пристани, нас встретило крайне изумленное лицо дворцового стражника. Он преградил нам дорогу.
Керси, высадив нас на берег, быстро погреб к тому причалу, что у кухни.
Я узнала стражника, иногда сопровождавшего королеву.
— Доброе утро, Митчелл, — сказала я. — Не пошлешь ли ты к Ее Величеству сказать, что я спасла из заточения сэра Чарльза Эймсбери, похищенного его собственным братом, и привезла сюда?
Я очень старалась, чтобы моя просьба прозвучала так же властно и убедительно, как у королевы, хотя мой старый и грязный наряд вряд ли тому способствовал!
Вот что значит «не буди лиха, пока оно тихо»! Поднялась жуткая суматоха.
Королеву разбудили, и ей пришлось готовиться к аудиенции. Через какое-то время нас всех проводили в приемный зал, где на троне сидела совершенно разъяренная королева, а рядом с ней стоял лорд Уорси.
Из-за возвышения за троном выглядывали леди Сара и Мэри, и видно было, что они сгорают от любопытства. Наверно, их вызвали подержать шлейф Ее Величества, а потом они притворились, что очень заняты вышиванием!
Королева даже не взглянула на меня. Я надеялась только, что ее ярость показная, для соблюдения приличий. Если она и в самом деле устала от моих похождений — ох, и худо мне придется!
Сэр Чарльз выступил вперед, опустился перед королевой на колени и рассказал Ее Величеству все то, что рассказывал нам в лодке. Королева слушала молча. Потом она послала за человеком, называвшим себя его именем.
Вошел Гектор Эймсбери, нервно покусывая ус.
Сэр Чарльз шагнул к нему, положив руку на стилет. На первый взгляд братья были похожи как две капли воды, но когда они встали рядом, я заметила, что Гектор выше на пару дюймов, кроме того, сэр Чарльз был полуодет и неприбран.
— Я вижу, мой бедный безумный братец сбежал, — презрительно заметил поддельный сэр Чарльз. — Бедняга думает, что он и в самом деле я! А он убедителен, клянусь!
— Как ты мог, Гектор? — мрачно спросил настоящий сэр Чарльз. — Я давал тебе деньги, я помог тебе отправиться во Францию, и как ты отплатил мне?
Гектор пожал плечами:
— Он не в себе, Ваше Величество, это ясно как день! Неудивительно, что ему удалось одурачить эту юную фрейлину, леди Грейс.
Королева перевела взгляд с одного сэра Чарльза на другого, потом нахмурилась.
— Ну и как же тут разобраться, господа? — спросила она.
Я так разволновалась, что даже забыла встать на колени.
— Ваши Величество! Я знаю, как!
После моих слов в зале повисла нехорошая тишина.
— Ну? — осведомилась королева, не очень-то ободряюще.
— Надо спросить у лучшего друга сэра Чарльза.
 Лорд Уорси взглянул на королеву, и тут словно что-то сломалось у него внутри. Он опустился на колени и уронил голову. В тишине мы услышали его шепот:
— Да, это был горетрав…
Я не могла вздохнуть. Неужели он… Неужели…
— Для вашего собственного племянника, лорд Уорси? — уточнила королева.
Нет! — воскликнул лорд Уорси. — Я не собирался… — Он вздохнул, потом продолжил ровным и невыразительным голосом:
— Горетрав предназначался лорду Роберту. А подозрение должно было пасть на сэра Чарльза… Было ясно, что леди Грейс предпочитает лорда Роберта, к тому же она часто проводила время с сэром Чарльзом. Я не мог позволить ей выйти замуж за кого-либо, кроме моего племянника. И я подсыпал горетрав в бокал лорда Роберта, а остатки яда собирался подложить сэру Чарльзу. И все бы шло по плану…
Лорд Уорси закрыл лицо руками.
— Но на балу Джеральду вздумалось выставить себя дураком, и вы предложили ему выпить из бокала лорда Роберта. Я был в ужасе, но не мог же я приказать ему ослушаться вашего повеления?
Лорд Уорси рассмеялся — ужасным, пустым и горьким смехом.
— Представьте себе мое состояние, когда выяснилось, что мой бедным Джеральд зарезан, а не отравлен, нет, и более того, что подозрение пало на лорда Роберта!
Он повернулся ко мне, глаза его сверкали.
— Конечно, после того, как разнеслась весть о смерти Джеральда от кинжала, а не от яда, я отказался от мысли подложить горетрав сэру Чарльзу…
Мне стало очень грустно, и я опустила глаза.
— Но лорд Уорси, — сказала королева, — почему было так необходимо, чтобы леди Грейс вышла за вашего племянника?
— Так ни она, ни кто-либо другой не узнал бы… — еле слышно прошептал лорд Уорси.
— Не узнал чего? — голос королевы был холоден, как сталь. Думаю, она уже знала, что последует дальше, хотя я — нет.
— Что у леди Грейс нет ни состояния, ни земель.
Мне показалось, что меня саму пырнули ножом. Я не могла даже вдохнуть! Мой опекун, лорд Уорси, который считался моим другом и хранителем!
— Объяснитесь! — процедила королева.
— Когда год назад я принял опекунство над леди Грейс, я был в долгах, — начал лорд Уорси, — и решил поправить свое финансовое положение и заложить земли леди Грейс, однако это не изменило состояние моих дел. Через месяц просрочки кредиторы отказали мне в праве их выкупа, и земли леди Грейс были потеряны. Поэтому нельзя было допустить ни малейшей возможности, чтобы леди Грейс вышла за лорда Роберта или сэра Чарльза, и все обнаружилось. Только Джеральду я мог довериться, зная, что он меня не выдаст… — Лорд Уорси глубоко вздохнул.
Меня тошнило, живот бурлил. Лорд Уорси украл наследство, которое оставили мне родители, а потом попытался женить на мне своего племянника, чтобы скрыть это? Я не могла поверить! И Мэри с леди Сарой не могли. Они обе уставились на меня, а в глазах Мэри стояли слезы сочувствия. И вдруг лица их закружились передо мной, как колеса кареты…
Миссис Беа взяла меня за руку:
— Сядьте, дорогая!
Я плюхнулась на скамью, а она пригнула мне голову. Кружение в животе стало потише. Я что, чуть не упала в обморок? Ужас как неприлично, точно леди Сара! Я дважды сглотнула и отпила вина, которое подала мне миссис Беа.
— Прошу вас, Ваше Величество, умоляю… Я был вынужден так поступить! Я не мог позволить, чтобы обнаружилось… — голос лорда Уорси звучал душераздирающе жалобно.
— Вы были вынуждены отравить лорда Роберта, чтобы скрыть, что обокрали леди Грейс? — возмутилась королева. — Вот, значит, как, милорд, вынуждены!
— Я…
— Никто вас не вынуждал, — Ее Величество покачала головой. — Вы могли прийти ко мне сразу, как только запутались в долгах, и я бы вам помогла. Вы получили бы деньги честно и открыто. И при Дворе не случилось бы нового убийства!
— Пожалуйста, Ваше Величество…
— Мистер Хэттон, позовите стражу! Пусть лорда Уорси доставят в Тауэр по обвинению в убийстве, растрате, лжи и подверганию угрозе жизни королевы!
Озадаченный гвардеец увел лорда Уорси.
А я все сидела на скамье, ожидая, пока моя голова перестанет кружиться. И вдруг начала плакать, что было очень досадно и неприлично. Я не хотела, но просто не могла больше сдерживаться! Все было так ужасно!
Подбежала Элли и обняла меня. Мэри Шелтон тоже подошла и вложила мне в руку чистый платок, чтобы я высморкалась.
А я осознала еще одну ужасную вещь, и желудок у меня свернулся в комок.
— Ваша Милость, теперь, когда у меня больше ничего нет, я должна буду покинуть Вас? — спросила я королеву, думая, что сердце у меня вот-вот разорвется.
Королева подошла, шурша дамастом, и притянула меня к себе, так что драгоценные камни на ее лифе слегка царапнули мне щеку.
— Что ты, Грейс, конечно же, нет! Ты моя самая любимая крестница и фрейлина! Ты можешь оставаться при дворе столько, сколько захочешь!
— По крайне мере, теперь ты сможешь выйти замуж за лорда Роберта, — весело сказала миссис Беа, видно, стараясь меня утешить.
— Ни за что! — возмутилась я. — Ему были нужны только мои деньги! К тому же я поняла, что он просто идиот!
— Абсолютно с тобой согласна, — улыбнулась королева.
Это меня так обрадовало, что я приподнялась и поцеловала Ее Величество в щеку:
— Значит, теперь мне можно не выходить замуж?
— Можно, Грейс, можно, — ответила королева. — Во всяком случае, не сейчас. Хотя со временем, может быть, ты и захочешь…
Во всей этой суматохе Мазу тоже проскользнул в комнату.
— Зато теперь наверняка к вам будут свататься по любви, а не из-за денег! — заявил он. — Так что может, оно и к лучшему, что вы больше не богаты, леди Грейс?
— Совершенно верно, — улыбнувшись, согласилась королева. — Отлично сказано, Мазу!
Правду говорят, что ее улыбка — волшебная. Сразу чувствуешь себя в тепле и безопасности!
Королева взяла мои руки в свои.
— Леди Грейс, я несказанно благодарна за все, что ты сделала за эти несколько дней. Ты — простая фрейлина, к тому же совсем юная, с помощью своих друзей спасла жизнь сэру Чарльзу, разоблачила козни его брата и нашла убийцу сэра Джеральда. Не всякому мужчине из моего окружения это под силу! Так что будь уверена, я не оставлю тебя, награжу по заслугам и найду более достойного хранителя твоему состоянию!
Я кивнула и шепнула ей на ухо:
— И я могу Вам помочь, Ваше Величество, раскрывать тайны Двора!
Королева засмеялась и тоже прошептала:
— Ты будешь моим тайным осведомителем! Берегитесь, злодеи!
Я была в восторге! Ведь осведомитель — это тот, кто выслеживает врагов государства и королевы, разоблачает шпионов и убийц. Это так интересно!
— Но будь осторожна, Грейс, — предупредила меня королева, слегка нахмурившись. — Я все-таки считаю, что моя фрейлина должна вести себя так, как подобает ей по рождению. Больше никаких ночных путешествий по реке… без крайней необходимости….
— Хорошо, Ваше Величество, — покорно ответила я.
Тогда королева снова улыбнулась, прижала меня к себе, а потом отослала в наши покои, а миссис Беа сделала мне горячий поссет, чтобы я крепче уснула (который я до сих пор не выпила, и он, наверное, остыл!). Его мне принесла Мэри Шелтон и даже поделилась своим замечательным миндальным печеньем. А я и не знала, что она такая добрая! И даже леди Сара была ничего себе… Я чувствую себя так странно, вдруг перестав быть богатой, но…
Лорд Уорси взглянул на королеву, и тут словно что-то сломалось у него внутри. Он опустился на колени и уронил голову. В тишине мы услышали его шепот:
— Да, это был горетрав…
Я не могла вздохнуть. Неужели он… Неужели…
— Для вашего собственного племянника, лорд Уорси? — уточнила королева.
Нет! — воскликнул лорд Уорси. — Я не собирался… — Он вздохнул, потом продолжил ровным и невыразительным голосом:
— Горетрав предназначался лорду Роберту. А подозрение должно было пасть на сэра Чарльза… Было ясно, что леди Грейс предпочитает лорда Роберта, к тому же она часто проводила время с сэром Чарльзом. Я не мог позволить ей выйти замуж за кого-либо, кроме моего племянника. И я подсыпал горетрав в бокал лорда Роберта, а остатки яда собирался подложить сэру Чарльзу. И все бы шло по плану…
Лорд Уорси закрыл лицо руками.
— Но на балу Джеральду вздумалось выставить себя дураком, и вы предложили ему выпить из бокала лорда Роберта. Я был в ужасе, но не мог же я приказать ему ослушаться вашего повеления?
Лорд Уорси рассмеялся — ужасным, пустым и горьким смехом.
— Представьте себе мое состояние, когда выяснилось, что мой бедным Джеральд зарезан, а не отравлен, нет, и более того, что подозрение пало на лорда Роберта!
Он повернулся ко мне, глаза его сверкали.
— Конечно, после того, как разнеслась весть о смерти Джеральда от кинжала, а не от яда, я отказался от мысли подложить горетрав сэру Чарльзу…
Мне стало очень грустно, и я опустила глаза.
— Но лорд Уорси, — сказала королева, — почему было так необходимо, чтобы леди Грейс вышла за вашего племянника?
— Так ни она, ни кто-либо другой не узнал бы… — еле слышно прошептал лорд Уорси.
— Не узнал чего? — голос королевы был холоден, как сталь. Думаю, она уже знала, что последует дальше, хотя я — нет.
— Что у леди Грейс нет ни состояния, ни земель.
Мне показалось, что меня саму пырнули ножом. Я не могла даже вдохнуть! Мой опекун, лорд Уорси, который считался моим другом и хранителем!
— Объяснитесь! — процедила королева.
— Когда год назад я принял опекунство над леди Грейс, я был в долгах, — начал лорд Уорси, — и решил поправить свое финансовое положение и заложить земли леди Грейс, однако это не изменило состояние моих дел. Через месяц просрочки кредиторы отказали мне в праве их выкупа, и земли леди Грейс были потеряны. Поэтому нельзя было допустить ни малейшей возможности, чтобы леди Грейс вышла за лорда Роберта или сэра Чарльза, и все обнаружилось. Только Джеральду я мог довериться, зная, что он меня не выдаст… — Лорд Уорси глубоко вздохнул.
Меня тошнило, живот бурлил. Лорд Уорси украл наследство, которое оставили мне родители, а потом попытался женить на мне своего племянника, чтобы скрыть это? Я не могла поверить! И Мэри с леди Сарой не могли. Они обе уставились на меня, а в глазах Мэри стояли слезы сочувствия. И вдруг лица их закружились передо мной, как колеса кареты…
Миссис Беа взяла меня за руку:
— Сядьте, дорогая!
Я плюхнулась на скамью, а она пригнула мне голову. Кружение в животе стало потише. Я что, чуть не упала в обморок? Ужас как неприлично, точно леди Сара! Я дважды сглотнула и отпила вина, которое подала мне миссис Беа.
— Прошу вас, Ваше Величество, умоляю… Я был вынужден так поступить! Я не мог позволить, чтобы обнаружилось… — голос лорда Уорси звучал душераздирающе жалобно.
— Вы были вынуждены отравить лорда Роберта, чтобы скрыть, что обокрали леди Грейс? — возмутилась королева. — Вот, значит, как, милорд, вынуждены!
— Я…
— Никто вас не вынуждал, — Ее Величество покачала головой. — Вы могли прийти ко мне сразу, как только запутались в долгах, и я бы вам помогла. Вы получили бы деньги честно и открыто. И при Дворе не случилось бы нового убийства!
— Пожалуйста, Ваше Величество…
— Мистер Хэттон, позовите стражу! Пусть лорда Уорси доставят в Тауэр по обвинению в убийстве, растрате, лжи и подверганию угрозе жизни королевы!
Озадаченный гвардеец увел лорда Уорси.
А я все сидела на скамье, ожидая, пока моя голова перестанет кружиться. И вдруг начала плакать, что было очень досадно и неприлично. Я не хотела, но просто не могла больше сдерживаться! Все было так ужасно!
Подбежала Элли и обняла меня. Мэри Шелтон тоже подошла и вложила мне в руку чистый платок, чтобы я высморкалась.
А я осознала еще одну ужасную вещь, и желудок у меня свернулся в комок.
— Ваша Милость, теперь, когда у меня больше ничего нет, я должна буду покинуть Вас? — спросила я королеву, думая, что сердце у меня вот-вот разорвется.
Королева подошла, шурша дамастом, и притянула меня к себе, так что драгоценные камни на ее лифе слегка царапнули мне щеку.
— Что ты, Грейс, конечно же, нет! Ты моя самая любимая крестница и фрейлина! Ты можешь оставаться при дворе столько, сколько захочешь!
— По крайне мере, теперь ты сможешь выйти замуж за лорда Роберта, — весело сказала миссис Беа, видно, стараясь меня утешить.
— Ни за что! — возмутилась я. — Ему были нужны только мои деньги! К тому же я поняла, что он просто идиот!
— Абсолютно с тобой согласна, — улыбнулась королева.
Это меня так обрадовало, что я приподнялась и поцеловала Ее Величество в щеку:
— Значит, теперь мне можно не выходить замуж?
— Можно, Грейс, можно, — ответила королева. — Во всяком случае, не сейчас. Хотя со временем, может быть, ты и захочешь…
Во всей этой суматохе Мазу тоже проскользнул в комнату.
— Зато теперь наверняка к вам будут свататься по любви, а не из-за денег! — заявил он. — Так что может, оно и к лучшему, что вы больше не богаты, леди Грейс?
— Совершенно верно, — улыбнувшись, согласилась королева. — Отлично сказано, Мазу!
Правду говорят, что ее улыбка — волшебная. Сразу чувствуешь себя в тепле и безопасности!
Королева взяла мои руки в свои.
— Леди Грейс, я несказанно благодарна за все, что ты сделала за эти несколько дней. Ты — простая фрейлина, к тому же совсем юная, с помощью своих друзей спасла жизнь сэру Чарльзу, разоблачила козни его брата и нашла убийцу сэра Джеральда. Не всякому мужчине из моего окружения это под силу! Так что будь уверена, я не оставлю тебя, награжу по заслугам и найду более достойного хранителя твоему состоянию!
Я кивнула и шепнула ей на ухо:
— И я могу Вам помочь, Ваше Величество, раскрывать тайны Двора!
Королева засмеялась и тоже прошептала:
— Ты будешь моим тайным осведомителем! Берегитесь, злодеи!
Я была в восторге! Ведь осведомитель — это тот, кто выслеживает врагов государства и королевы, разоблачает шпионов и убийц. Это так интересно!
— Но будь осторожна, Грейс, — предупредила меня королева, слегка нахмурившись. — Я все-таки считаю, что моя фрейлина должна вести себя так, как подобает ей по рождению. Больше никаких ночных путешествий по реке… без крайней необходимости….
— Хорошо, Ваше Величество, — покорно ответила я.
Тогда королева снова улыбнулась, прижала меня к себе, а потом отослала в наши покои, а миссис Беа сделала мне горячий поссет, чтобы я крепче уснула (который я до сих пор не выпила, и он, наверное, остыл!). Его мне принесла Мэри Шелтон и даже поделилась своим замечательным миндальным печеньем. А я и не знала, что она такая добрая! И даже леди Сара была ничего себе… Я чувствую себя так странно, вдруг перестав быть богатой, но…



